Олег Слободчиков Первопроходцы Трилогия
По прозвищу Пенда
1. Ермаковы поприща[1]
Клонился к земле иссохший ковыль, стелился по степи золотистыми стеблями, сырой ветер нес запах снега. Устало прядали ушами кони, зябко горбились в седлах казаки, потрепанные боями со шведами и царским разбором. Хопровская станица возвращалась к родным куреням. Пантелей Пенда в полусне-полуяви мотался в седле и тыкался лбом в конскую гриву. Ему уже хотелось одного: припасть к сырой земле и отдаться глубокому сну — пусть даже непробудному. Но лезла в голову казака всякая нелепица, бередила душу. Он заставлял себя мысленно читать молитвы, однако то и дело сбивался, а навязчивая память опять втягивала в рассуждения о пережитых обидах.
Новый царь-государь, Михейка, сын тушинского казачьего патриарха Филарета, хоть и был посажен на престол казаками да татарами, но едва вошел в силу — повесил атаманов, перепорол есаулов с пятидесятниками, а после смилостивился, отпустил хопровцев из-под Москвы на Дон и хлебом в дорогу пожаловал за былые верные службы.
Не помнили старики, чтобы казаки кому-то кланялись, а вот ведь поклонились ныне царствующему Михаилу Федоровичу и зловредным боярам его, тем самым, что залили Русь кровью, призвав на Москву ляхов, рейтаров да всякий латинянский сброд, чтобы защититься от своего же народа. Царскими кнутами обласканные, свесив чубатые головы промеж широких плеч, обещали они Михейке и боярам его впредь против Кремля не бунтовать и вести свою станицу к верховому Дону, на устье Хопра. Не научившись на своем веку просить, попросили позволения возвращаться сытым волжским путем, а не разграбленной стороной через Тулу.
После той царской милости и напал на Пенду неодолимый сон. Едва станичники пускали коней на выпас, он ложился на шею гнедого и спал. В ночь на таборе, пожевав что дали, бросил на землю потник, седло, упал на них в тяжелой кожаной рубахе, обшитой по груди и животу железными пластинами — бахтерцами, укрылся жупаном[2].
— Да когда ж ты выспишься, Пентюх? — удивленно чертыхнулся старый казак Васька Рябой, досадливо попихал его в бок гнутым носком сапога.
Глухо звякнули бахтерцы, Пантелей нехотя приподнялся на локте, раскрыл красные, будто ошкуренные глаза. Лохматый, нечесаный, что-то буркнул в густую смятую бороду и опять стал моститься ко сну.
Шумно всхрапывая чуткими ноздрями, ему в плечо ткнулся мордой гнедой. И конь не давал покоя, не понимал, почему хозяин не ведет к ручью, не поит, не чешет гриву. Рассерженный казак снова откинул полу жупана, сощурился на не закатившееся еще солнце и, устыдившись вдруг, виновато взглянул на гнедого, печально и ласково погладил жесткий ворс под крутой конской скулой. На глаза ему попался юнец в драном долгополом охабне[3] с истрепанными рукавами и полами, волочившимися по земле.
— Угрюмка! — позвал его Пенда осипшим голосом и приказал: — Напои коня! — А сам, тяжко вздохнув, свернулся на войлочном потнике, опять укрылся с головой, и вновь замельтешили в голове непутевые мысли.
Память заново унесла его в другую, будто приснившуюся жизнь: то малолетком шел он на Москву с войском царевича Дмитрия для мщения обасурманившимся боярам за попранную русскую правду, то бился с рейтарами под стенами Кремля, то лежал на плахе под кнутами…
— Пендюх! Мать твою! Опять спишь? — дядька Рябой вернулся от костра и раскричался, как ворона на падали. — Для разговора зовут!
— Я пенный[4], — буркнул казак из-под жупана.
— Чего мелешь-то? Это когда было? — у Рябого от услышанной нелепицы бороденка взъерошилась, как загривок у драчливого пса. — Вставай, не то отхлещу! — постучал кнутовищем по луке седла, положенного Пантелеем под голову.
Пенда, рыкнув, сбросил жупан, сел. Тлевшими угольями глаз бодливо уставился на посеченное морщинами, изрытое оспой лицо казака. Старик был скромно, но опрятно одет. После днища пути в седле уже умылся к ужину и вечерней молитве. Из-под островерхого малинового колпака с вышарканным бархатным отворотом по впалым щекам свисали влажные седые пряди волос.
— Сходи к ручью, глянь-ка на себя! — сказал он тише и ласковей, но брезгливо скривил тонкие, дряблые губы.
Пенда смущенно опустил глаза, почесал полусогнутыми пальцами растрепанный чуб, смятую бороду, пошарив под жупаном, вытащил колпак с золоченой кистью, натянул его до ушей, как московит, подхватив саблю в замшевых ножнах, поднялся с мрачным видом.
— О чем говорить? — заворчал, зевая и воротя лицо в сторону.
— О том, как дальше жить, — по-стариковски въедливо стал поучать Рябой. — Царского хлеба до Святок не хватит. На Дону нас голодных не ждут. — И добавил мягче, подталкивая молодого казака к ручью: — Опять зовут под атамана Ивашку Заруцкого. Сказывают, он ушел под Астрахань. С ним и с паном Лисовским нынче гуляют и донцы, и черкасы[5].
— Все одно вернемся на Дон, — подавил зевок Пантелей. — Больше некуда! — Потянулся до хруста в затекших костях. — Бояре — и те, что с нами были, и те, что против нас, — все теперь возле царя. Они меж собой помирятся, а нам обид не простят, — выдал назойливые мысли, опоясался и безнадежно добавил: — Было бы за кого воевать!
— Не за Ивашку же Заруцкого с паном Лисовским! — сверкнул задиристыми глазами старый казак. Тряхнул плечом, придержал правой рукой левую, обмотанную окровавленными пеленами.
В годы молодости Рябого Шадра отец Пантелея Пенды был уже старым казаком. Они вместе ходили на ногайцев: Шадра в свой последний, а Рябой в свой первый набег. Старик добыл там на саблю девку-ясырку[6] из плененных казачек и стал жить с ней наперекор станице, считавшей женатого казака пропащим и пенным — провинившимся. В яме, крытой камышом, они прижили сына.
С малолетства Пантелейка чудил: то был не в меру горяч и говорлив, то спал на ходу и умолкал на недели. Погодки на лету схватывали житейские навыки, а он, если начинал спрашивать-переспрашивать, — тихого доводил до брани, горячий за плеть хватался.
Пенного Шадру на казачьи круги не звали. Грозили по обычаю забить до смерти и ограбить, если станет, как мужик, пахать и сеять. Делали вид, будто не замечают тайных огородов, терпели за былые заслуги, раны и старость. Зато Пантелейке от самого рождения достались даром отцовская слава и его честь — он был свой, станичный, родовой казак.
Сам неграмотный, больше всего желал старый Шадра, чтобы сын стал писарем. Не было, по его разумению, в казачестве доли завидней. Атаманы, есаулы — только в походах власть, после снова голь, как все. Иных, бывало, подначальные люди и повесят после неудачного набега. А писарь — он всегда писарь и всегда в почете.
Едва научившись слагать буквы, Пантелейка вдруг заявил, что восчувствовал призвание к монастырской жизни. К нему уже в те годы пристало прозвище Пендус — старое топкое болото со всякой нечистью. Отец порол сына под горячую руку, хотя знал, что только распаляет его непомерное упрямство. Как умел, лечил от сглаза: думал, приворожили отрока калики-странники, проходившие станичными юртами.
Пантелейка же в отместку стал ходить к попу в острог учиться грамоте. Чем он попу не приглянулся, о том в станице говорили по-разному, но и драл тот его лозой, к злорадству старого Шадры, и гнал со двора. Христом Богом молил и отца, и самого отрока от него, темного постриженника, отвязаться. Но принудил-таки Пантелейка благочинного обучить себя грамоте. А притом всем на диво выучил Святые Благовесты и Жития святых. И когда поп, поражаясь успехам настырного ученика, стал звать его в дьяконы, заявил, что в монахи идти раздумал, а к белому поповству призвания не имеет.
Еще юнцом, в казачьих малолетках, Пантелей с таким рвением служил царевичу Дмитрию в кремлевской охране, что попал в его ближайшее окружение. Станичникам стало неловко звать его Пендусом или Пентюхом — стали называть Пендой. И когда чужаки удивлялись непонятному прозвищу, плутовато посмеивались: чтобы все понять, надо было знать и Пенду, и Шадру, и все хопровское отродье.
Прочили старые казаки — быть Пенде наказным атаманом в Раздорах[7]. Но судьба молодому и ревностному казаку была писана рукой трясучей, завязана пальцами корявыми. При царском венчании в Кремле, когда бок о бок усадили на трон малорослых царя Дмитрия с царицей-паписткой, все видели, что они ногами не достают до коврового половика, всем было смешно, но бес дернул за язык одного лишь Пендуса, и он вслух обозвал царя с царицей карлами. Вместо наказного атаманства молодого станичника секли кнутом. Били усердно, но головы с плеч почему-то не сняли. В тот раз он удивил хопровцев не столько своей бесноватостью, сколько Божьей к нему милостью.
После мнимой, подлинной ли гибели царя Дмитрия, мнимому или подлинному служил ему Пантелей под Тушином. Наученный кнутом, от дворни и бояр держался подальше. И в те годы собрал он вокруг себя разных малолеток из беглых холопов и посадских детей, которые своей удалью удивляли даже старых казаков.
Под Калугой, когда атаман Ивашка Заруцкий велел станице целовать крест царенку Ивану Дмитриевичу[8], Пенда, уже в пятидесятниках, в казачьей старшинке, орал на круге поносные речи, обзывая того Маринкиным выблядком. Боясь мести не раз предававшего станицу атамана, хопровцы решили укоротить пятидесятнику язык. И волокли уже его на плаху. Но станичная молодежь, подстрекаемая прибранной голью — Третьяком да Ивашкой Похабой, — отбила Пенду. Старшинку молодые удальцы бесчестили, станичному атаману его же булавой голову пробили.
Смута, судьба да Божья воля всех помирили. Ивашка Заруцкий с малым окружением вскоре бежал из земского войска. Воровского царенка повесили. Станичники перед Пендой повинились, атаман свою пробитую голову ему простил, а нынешним летом засучил ногами на царской виселице. К этому времени от двух сотен хопровцев осталась треть израненных, износившихся казаков…
Возле костра, куда Рябой привел Пенду, тесным кружком сидели полтора десятка воровских литвинов[9]. Были они по обычаю их страны при длинных усах и выстриженных бородах, в белых колпаках да в разной драной одежонке. Иные обуты в лапти и чуни[10]. Пробирались литвины из подмосковных лесов к Ивашке Заруцкому. Они не прочь были соединиться к зиме и с паном Лисовским. С жадностью доедая данный станичниками хлеб, рассказывали, что избранный на царство Романов со дня на день будет сброшен прощенными им боярами — известна верность жидов крещеных да врагов прощеных. И король Жигимонт грозит Московское царство предать огню за сына, которому на Руси крест целовали, а после отреклись.
Слушая их, старые казаки да поротая царем старшинка качали кручинными головами: другой уж год как Михейка Романов сидит на престоле, а отец его, Филарет, в патриаршем клобуке нынче един на всю Русь. Раз до поздней осени дожили, до лета теперь продержатся.
Еще сказывал один из литвинов, будто видел Ивашку Похабу, входившего в круг хопровской станицы. Пенда поднял голову, насторожился, сбил на ухо островерхий колпак, бросил быстрый взгляд на брательника[11] его, Угрюмку, жавшегося к старому казаку Кривоносу. В ветхом охабне с широкого чужого плеча, юнец походил на взъерошенного, испуганного воробья с переломанными крыльями.
— Жив Похаба! — отвечал литвин на оживленные расспросы. Рад был, что принес приятную весть. — Божьей милостью сидит в темнице Троицкого монастыря с попами, беглыми холопами и казаками. — Расправляя казанками пальцев пышные усы, литвин благостно закладывал кусочки хлеба за губу, жевал и говорил: — Богатый муж, которому Ивашка когда-то, в юнцах еще, дал на себя кабалу от голода, требовал его в свой дом на вечное холопство. Но царь не выдал Похабу за службы в земщине и после кнутов приговорил отправить его в Сибирь, в Сургутский острог через Пермь и Верхотурье…
Принесли литвины и весть о царских милостях Донскому войску: будто догоняют станицу государевы послы с жалованным всем донским казакам войсковым знаменем за помощь в спасении Русского государства, «чтобы было с чем против недругов стоять и на них ходить».
Третьяк, малорослый товарищ Пенды, как услышал про Похабу, так и впился пытливыми глазами в заспанное лицо пятидесятника. Это был чудной казак — за двадцать с лишним годков не вышел ни ростом, ни дородностью, ни бородой, а потому смотрел на всех пристально и строго, будто пытал, нет ли в ком насмешки над его видом. А расшалится, бывает, с юнцами — и не отличишь его от недоросля. Пенда, поймав на себе взгляд Третьяка, недовольно хмыкнул в бороду, мотнул чубатой головой и опустил долу изверившиеся глаза.
Станичники стали шумно обсуждать весть о царской награде, об обозах с хлебом, высланных Дикому полю[12] в придачу к знамени. Казаки повеселели и готовы были принять их как пеню[13] за кремлевский разбор. Станичный круг решил ни к Ивашке Заруцкому, ни к другим воровским атаманам не приставать, против православного мира не идти, но выждать и посмотреть, как Москва станет ладить с казаками.
Утром, расставшись с литвинами, станичники двинулись дальше. Вскоре замела по степи поземка. К Михайлову дню отряд повернул к знакомым верховьям Хопра. Коней казаки берегли, подолгу выпасали, где моталась на ветру высохшая трава. К острогу на устье не спешили и вестовых вперед не высылали — не было надобности встречать их, порубленных и нищих.
На крутобокой кобылке, стремя в стремя с Пендой, рысил по ноябрьской степи его товарищ Третьяк. И все буравил, все пытал пятидесятника немигающими глазами, пока тот не вспылил, оторвавшись от гривы конька:
— Ну чего тебе?
— Похабу спасать надо! — придерживая поводья, прошепелявил Третьяк выстывшими на ветру безусыми губами.
— Может, и надо, — неохотно согласился Пенда. — А может — не надо! Ивашку не спросишь.
Угрюмка, чужак в станице, недоверчиво поглядывал на невзрачного казачка. Голь, верстанная из таких же, как сам он, сирот-бродяг, Третьяк подговаривал казаков соединиться в отряд вольных гулебщиков и отбить Ивашку на пути в Сибирь. Казалось Угрюмке — куражится тщедушный казачок. По себе знал: голь на выдумки хитра и сильно догадлива, как прокормиться и выгоды извлечь. При скупости с камня лыко дерет, шилом горох хлебает — и то отряхивает. А в станице давали хлеб каждый день.
Не вступая в станичные споры, он держался возле старого Кривоноса, опекавшего его, как прежде опекал брата Ивашку. Опасался, что озлобленный казачий круг может повесить не только Третьяка, бунтовавшего с Ивашкой против станичной старшинки, но под горячую руку вздернет и его, Угрюмку, за былой грех брата и за сговор.
На Хопре, на походном стане, по старому казачьему обычаю Третьяк вышел на круг, бросил колпак под ноги и призвал добровольцев постоять за товарища. То, что откликнулся Ивашкин дядька Кривонос, Угрюмку ничуть не обрадовало. Старый казак Васька Рябой да бывший удалец Пантелей Пенда бросили свои колпаки рядом с колпаком Третьяка. Вот и все доброхоты.
Станичный круг решил против царя не идти, но гулебщикам, если они захотят порадеть за товарища на свой страх и риск, — не отказывать. Отряд двинулся дальше своим путем, а четыре казака да Угрюмка, за спиной Кривоноса на крупе его коня, повернули в другую сторону, на Волгу и Каму, к Перми.
Угрюмка боялся затеянного Третьяком дела, не верил, что брата можно отбить у самого царя. Но в станице прилепиться на зиму было не к кому, и ему ничего другого не оставалось, как довериться своей безысходной сиротской судьбе.
В Пермь-город, не разоренный Великой русской смутой, они прибыли в середине апреля. К радости местных жителей, в тот день с треском разорвало лед, по которому шла талая вода. Река вскрылась. У зимовавших здесь казаков станичники вызнали, что царский обоз со ссыльными ушел на Чусовую-реку по зимнику и где-то там застрял из-за распутицы.
— Ну вот! — то ли обиженно, то ли облегченно всхлипнул Угрюмка.
Рябой же беспечально ответил:
— Захотел на Марью кислых щей! Догоним! Сказывали наши люди, будто видели Похабу при сабле, а не в колодках.
Казаки продали отощавших лошадок и, к Угрюмкиной затаенной обиде, загуляли, ожидая конца половодья. Здесь застала их весть, что нынешней зимой лихой атаман и тушинский боярин Ивашка Заруцкий под Астраханью отдал Богу душу на добром и остром колу.
— Эх! Эх! — вздохнул Кривонос, крестясь и кивая на закат. — Прогневили Господа! Не будет там ни мира по старине, ни правды по Писанию, пока не станем за свой народ радеть, как Господь радел за единокровных по плоти.
Пенда хмуро помалкивал и пил вино, печалясь по своему гнедому. Навязчиво вспоминалось ему, как конь, проданный богатому мужику, удивленно задрал бесхитростную морду и с укором заржал, глядя на бывшего хозяина. От того конского взгляда стонал казак, уронив голову на кабацкий стол. А как услышал слова Кривоноса, так взбеленился.
— Где он, наш народ? — закричал, стряхивая кручину с глаз. — Забыл, как вы куренного Петруху хотели за царя выдать и на царство посадить? Не успел он ложно объявить себя — запил, загулял, захотел друзьям головы рубить за обидные слова… Тьфу! — плюнул под ноги, на тесовый пол: — Поганая кровь! — И выругался так, что, услышь его Богородица на небесах — заткнула бы ладонями свои Пречистые уши и лишила бы казаков благодати. Слава Богу, кабацкий люд Она ни видеть, ни слышать не желает.
— Ты Бога-то не гневи! — соскочив с лавки, завопил тощий как пес Рябой. — Прежде не укоротили язык — сейчас вырежем! — пригрозил, крестясь и тыча перстом в молодецкую грудь Пенды. — Сам Господь — не царям с боярами чета — с рождения от единокровников претерпевал гонения. Знал наперед, что предадут и распнут, но на казнь пошел за ту кровь, что текла в Его земных жилах, — вдруг через покаяние народ и спасется! Так то Бог! А ты кто, чтобы хулить данную Им тебе кровь?
Глаза Рябого пылали, шрамы оспинок налились кровью, бороденка дергалась. Пантелей побагровел, взглянул с бешенством на дядьку, но не нашелся, что ответить. Рот его стал подергиваться, кривиться, пальцы беспокойно сжались в кулаки. Он опустил лохматую голову. Не поднимая гневных глаз, допил из кружки, упал на лавку и вскоре захрапел.
Шел год одна тысяча шестьсот пятнадцатый от Рождества Христова: третья весна шаткого воцарения юного боярина Михаила Романова. Той порой на пути к Перми случайно сошлись две ватажки — устюжских и холмогорских торгово-промышленных людей. И бились они заодно на дорогах с разбойниками, и вместе откупались от властей. По вскрытии же рек пришли в Пермь-город.
Протрезвевший Рябой на шумном весеннем базаре покрутился возле холмогорцев в добротных кафтанах заморского сукна и вскоре вошел к ним в доверие. Через них он сошелся с устюжанами в московских штанах, в которых казаку ни сплясать, ни ногу задрать. Вызнав нужды торговых людей, Рябой привел к устюжанам и холмогорцам своих товарищей. В посадском храме казаки и Угрюмка целовали им крест — бурлачить и обозничать до Верхотурья-города без платы, за один только прокорм в пути.
На Василия-землепара, отстояв литургию в том же храме и отдав обетное число поклонов, обозники двинулись в Сибирь по Чусовой-реке, тем самым путем, по которому хаживал Ермак Тимофеевич — славный донской казак.
Вечерело. На отмелях разбитой волоками речки скрежетали днищами струги. Хрипели измотанные переходом бурлаки. Возницы стегали уставших лошадей и все одинаково чутко ждали конца дня. Еще не подал знак передовщик, а гулящим казакам почудилось, будто ветер прошелестел в ветвях могучих кедров: «Слава Тебе, Господи!»
Обоз подтянулся к стану с тремя ветхими шалашами вокруг выстывшего кострища. Остатки дров были заботливо покрыты берестой. К востоку в двадцати шагах от разбитого вязкого ручья стоял крытый черный крест.
Хмурые вогульские[14] ямщики распрягли тощих лошадок и попадали на войлочные потники. Холмогорские и устюжские промышленные люди обступили крест, скинули шапки, запели, крестясь и кланяясь, «Отче Егорий, моли Бога о нас…». В тот час по монастырям да по церквям на Руси служилась вечеря на весеннее поминовение великомученика Георгия Победоносца.
Донцы тоже побросали бурлацкие постромки там, где стояли, упали на сухую хвою под ближайшим деревом, стали стаскивать с себя мокрые, раскисшие бахилы. Легкая выворотная обувь с высокими мягкими голенищами, пропитанными дегтем, удобна по воде бродить и по лесу ходить, но к концу дня, осклизлая, она висла на ногах огромными разбухшими пузырями. Сбрасывая ее и поскуливая, Угрюмка кутал остуженные ноги в мокрые полы ветхого охабня. Рябой, едва разулся, стал ломать сухие ветки над головой. Прислушиваясь к пению промышленных, просипел простуженным горлом:
— А ведь завтра наш, казачий, Егорий!.. Голодный!
— Мы привыкшие! — с кряхтеньем развязал скользкие узлы и сбросил бахилы Кривонос. — Что на Егория у волка в зубах — и тому рады!
Третьяк резво вскочил на босые ноги, приплясывая, тоже принялся с треском ломать сухие сучья и бросать их Рябому.
— Купцы — скупцы! — насмешливо скривил безусые губы. — Складники[15] не лучше. Холмогорцы и вовсе жадны. Но на Егория хлеба дадут. Побоятся Бога!
Сивобородый Кривонос, не поднимаясь, пожал плечами, постучал кремнем по железному кольцу на ножнах и стал раздувать трут, вытягивая шрамленые губы. Вскоре под сосной у ручья задымил костерок.
Вот и скатилось солнышко красное на закат дня, ушло в истерзанный западный край, где выжженная земля была обильно полита христианской кровью, засеяна костьми. Заря-зорюшка, темная да вечерняя — девица, швея-мастерица, с блюда серебряного взяла иглу булатную, вдела нитку шелковую, рудожелтую, стала зашивать небесные раны кровавые. Наступили сумерки.
Вогульские ямщики, стреножив коней, так и лежали, не разводя огня, ждали обозного харча. Устюжские и холмогорские складники до сумерек готовили дрова, чинили ветхие шалаши. Уже в потемках они развели большой костер, стали готовить ужин и печь хлеб. От запахов, доносившихся с табора, обсохший Угрюмка то и дело сглатывал слюну.
По своему обычаю казаки съели полученный вчера хлеб за один присест и весь день постились. Угрюмка тоже съел все, что дали, хоть расперло от того живот. Он знал наперед: оставь на другой день краюху — придется делить ее на всех; надери с молодых сосенок заболони, навари — казаки съедят, а сами не пошевелятся, чтобы подкормиться. Приглядываясь к промышленным людям, у которых жизнь была устроена по чину, юнец с досадой думал, что его товарищи неправильные.
Щуплый Третьяк в зипуне с длинными до колен рукавами сходил к ватажному костру, взял казацкий пай толокна — сиротской овсяной муки — и хлебного кваса. Рябой, Кривонос и Угрюмка стали заваривать толокно кипятком. Третьяк с Пантелеем Пендой съели его сухим, запили квасом и легли у костра, согревая то один бок, то другой.
Пенда щурился на угли и молчал, как молчал с утра до вечера всю дорогу. Рябой, присматривая за ним, пояснял, что его призорила дочка Иродова — тоской-кручиной сушит кости молодца, недугами мучит. Он знал старый заговор, от которого у той девки глаза бы сквозь затылок вылезли. Пенда его шептаньям не противился, но и на веру их не принимал. Рябой еще и себя лечил — свою то и дело открывавшуюся сабельную рану.
Кривонос зевнул, крестя рот, блеснул глазами, перевернулся набок. Из сивых спутанных с бородой волос выглядывала плешина лица, перечеркнутая глубоким рубцом со вздыбившейся пипкой ноздрей. При свете костра да без шапки — таким только нечисть пугать.
— Угрюмка! — прокашлявшись, позвал ласковым голосом. — Сходи послушай баюна, после мне расскажешь!
— Угу! — послушно кивнул юнец, зябко придвигая к огню черные потрескавшиеся пятки: бахилы не просохли, а по холодной весенней земле идти босиком ему не хотелось.
Но вот они с Третьяком накинули на плечи подсохшую одежду и растворились во тьме. Нехотя поднялся Пенда, подхватил саблю. За ним, босым как все, неслышным шагом ушел Рябой. Кривонос отодвинул от разгоревшегося огня дубеющую от высыхания обувь, поворочался с боку на бок, но не уснул и тоже пошел следом за всеми.
Возле большого ватажного костра кружком сидели устюжане и холмогорцы. Одни в московских валяных шапках горшком-кашником, другие в новгородских — высоких и прямых с отворотом. Кольями торчали казачьи колпаки, на Угрюмке был шлычок непонятного вида: худая головная покрышка.
Все слушали белого как лунь старца. Баюн кормился сказками. Где-то на Каме-реке его подобрали холмогорцы. Нищих Бог любит — за то, что те Бога любят и почитают истинно. Убожья рука — счастливая. Желая милости Божьей и удач своему делу, они уговорили старца идти за ними в Сибирь за прокорм, одежду и православное погребение.
Кривонос приблизился к большому костру, когда старик закончил сказ о Егории Храбром, родившемся на святой земле православной от матери Софии, честно мужней вдовы. Теперь, посапывая, он отдыхал, а промышленные люди тихо переговаривались, прислушивались к звукам черного леса, поглядывали на звездное небо. Вредный устюжанин Нехорошко, редко выходивший из всегдашнего злобного раздражения, не удержался и напомнил дремавшему старцу:
— Неделя уже как идем Ермаковыми поприщами, а ты все только сулишь попеть о сибирском любимце богов! — Голос устюжанина проскрипел немазаным тележным колесом. Старичок со сморщенным лицом, с длинными, ниже ключиц, седыми прядями, с белой бороденкой клином вздрогнул и открыл тусклые глаза.
— У меня память хлестка! — похвастал дрожащим голоском. — Про богатырей и про людей Божьих пою. Народ хвалит… Вроде «Сон Богородицы» просили? Нет? Могу про Ермака! — Расправил седые усы, помолчал, что-то припоминая, поднял глаза к звездному небу: — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!.. — перекрестился. — Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича Поволжского, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим достойную хвалу!
— Помяни, Господи! — хором подхватили ватажные.
Торопливо пробормотав молитву, перед началом всякого дела читаемую, и щурясь на пылавшие угли, старичок заговорил нараспев:
— Вспомним, как Господь Ермака Тимофеевича с товарищами прославил и многими чудесами превознес. Как отреклись воины Христовы от суетного мира и недолговечного своего житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа, желая только ему угодить да царю-государю послужить, да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за православную веру христианскую. И в том уверившись, ожесточили сердца свои непоколебимо: оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать…
Старец заунывно замычал, выводя носом и горлом мелодию, запел, растягивая слова, сначала тихо, потом громче и громче. Он умолкал, чтобы набрать в грудь воздуха, и снова, носом и горлом, выводил ту же песнь. Казалось, будто звучало два голоса: один сказывал, другой изображал вой ветра, шум и рокот рек, шелест листвы.
А пел он о том, как после крещенских морозов, на день памяти святых чудотворцев Кира и Иоанна, пришли к Строгановым с Волги казаки-атаманы и Ермак Поволжский, чтобы люд православный да мирных татар оборонить супротив разбойных басурман, грабивших окраины сибирские. И прожили те атаманы с казаками в строгановских острожках два года и два месяца.
А после на память преподобного отца нашего Симеона Столпника, двинулись в Сибирь против воровского сибирского султана, московского данника и клятвопреступника Кучума.
А как ушли они, случилась беда: напал на строгановские и ближние татарские земли пелымский князь с войском, селения разорил, Чердынь-город осадил и едва не взял его на саблю, села, деревни, посады пожег, многих жителей пленил. А как узнал, что русские ратные люди ушли в Сибирь, испугался за дом свой и бежал с позором, бросив награбленное добро и пленников.
А в те поры Ермак, по неведению, да по ложному ли научению, повернул по реке Сылве и шел по ней с казаками, пока не наступила зима. Люди его поставили острожек по-промышленному, зимовали, воевали с вогулами и брали богатую добычу, за которую благодарили Бога, срубив часовню во имя Святителя Николы.
И была казакам во всем удача. Но страшила она, легкая, атамана. Велел Ермак есаулам следить строго, чтобы блудом да греховными делами сотоварищи на всех на них не навлекли гнева Божьего. Кто нарушал закон казачий, того всенародно ковали в железа на три дня; кто в грехах упорствовал да пытался вспять бежать, тому сыпали песок за пазуху и бросали в воду. И было казненных в ту зиму двадцать человек.
Жили казаки привольно и сытно. Но томила их кручина, что славы им так вовек не добыть, за дело богоугодное, за Русь святую не порадеть и грехов за прежние свои вины не отмолить. Не хлебом единым живы — собрались на круг и решили начать все заново, вернувшись с войском своим к Строгановым…
Начальными словами о Ермаке Тимофеевиче так пронял старик Пантелея Пенду, что у того зачесался шрам под бородой. Рядом с ним засопел перерубленной переносицей Кривонос, за спиной покрякивал Рябой — старым казакам тоже стало не по себе.
А на весеннем небе ясно и радостно вызвездило. Тишина вокруг да благодать. Вот месяц золотые рожки выскользнул из-под свода. С верховий ручья дохнул свежий ветерок с запахом талой земли. Кутаясь в зипуны и кафтаны, холмогорцы с устюжанами придвинулись к огню. Кто-то из молодых промышленных подкинул на угли хвороста. Пламя взметнулось к небу, народ, кряхтя и морщась, раздвинулся, заслоняя рукавами лица от жара и дыма.
— Если вернулись, за что ж тогда двадцать товарищей своих утопили? — звонким юношеским голосом задорно спросил Федотка Попов.
Это был пятнадцатилетний баловень, младший брат-заскребыш[16]холмогорского пайщика и ватажного передовщика Бажена Алексеева Попова. Поповских родственников в обозе было много, и Федотке как младшему дозволялись шалости, за которые его погодков наказывали.
Холмогорцы, радетели и блюстители древнего новгородского благочестия, приглушенно заворчали: юнец перебивал старца! Сивобородый передовщик пригрозил братцу пальцем. Устюжане осуждающе промолчали. Среди них были Федоткины одногодки. Им так не потакали.
Тишина стала томить. У костра решили, что старик задремал. Но тот, клюнув носом, встрепенулся, поднял сморщенное лицо с вислыми белыми прядями по щекам, поискал запавшими глазами Федотку.
— За то казнили, что тайно бежали, братскую клятву порушив, а войско вернулось по общему решению! — ответил подрагивавшим голосом.
— Что мир породил, то сам Бог решил! — поддержали сказителя складники.
Казаки — Пенда, Рябой и Кривонос — одобрительно хмыкнули в бороды. Третьяк прищурился, метнув быстрый, пристальный взгляд на старца.
Угрюмка шмыгал носом и водил глазами, наблюдая за собравшимися. Думал с тоской: «Еды всем хватало, добра было много, часовню в острожке поставили — чего не жилось?» Знал, не любят казаки запаса: крест на шее, оружие да носильное, что на плечах, а все иное — обуза. С ними наголодаешься.
Передохнув, старик повеселел, как крылья, откинул за острые плечи белые волосы, шевельнул вислой бороденкой, снова запел сипловатым голосом — о том, как после пелымского разорения были Строгановы к казакам ласковы, потому что не стало порядка в соседней земле Сибирской — в вотчине московского царя. Там хан Кучум, порушив свои и Едигеровы клятвы, подстрекал подвластные ему народы к разбою.
На этот раз не пожалели Строгановы для казаков ничего, в чем у тех была нужда, лишь бы проучить мятежного хана. Дали они им три пушки, а на каждых сто воинов — знамя, украшенное образами, в доспехи всех облачили, послали с ними попа и людей, вызволенных из татарского плена: литву, татар, русичей и немцев, чтобы ратным подвигом окупили свою свободу. И набралось полтысячи казаков да полсотни бывших пленников.
Атаманы с казаками да с наемными людьми приняли от Строгановых прощение Христа ради, отдали друг другу последнее целование и пошли к стругам, обещая, если Божьей волей возвратятся благополучно и с хорошей добычей, не только возместят добро, но и отблагодарят сверх того. А если выпадет доля горькая — клялись помянуть на том свете, перед светлыми очами самого Господа, благодетелей своих, Семена да Максима Строгановых.
По Чусовой-реке до устья Серебряного ключа, на котором затаборился обоз промышленных людей, дошли ермаковские сотни только к холодам…
— Что так мало шли? — прошептал Федотка на ухо брату, да так громко, что получил затрещину от кого-то из родственников.
— Здесь приказал Ермак рубить избы и крепить их стоячим тыном. Развалины его зимовья поныне, сказывают, целы, — пропел старец и продолжил о том, как пленники указали Ермаку речку Баранчу, что была в десяти верстах от него на сибирской стороне. И впадала она в Тагил. Атаман хотел перетащить туда волоком свои большие струги, чтобы не строить новых, но среди вековых деревьев и скал это сталось его людям не по силам. И бросили они свои большие суда…
Старик будто задумался, свесив голову, и вдруг тихонько всхрапнул.
Приглушенно загалдели люди, стали неспешно расходиться по шалашам и стругам. Кто-то мостился на ночлег у костра. Поднялся и Угрюмка. Зевая, пошел следом за казаками.
Еще на Каме-реке бывальцы пугали ватажных складников трудным волоком из Чусовой в Туру. Но говорилось это людьми, ищущими выгоды от промышленного обоза. С хитрыми пермяками в черных шлычках соглашался старый ермаковский казак Гаврила Иванов: оглаживал серебряную бороду, что-то старался припомнить и уклончиво ворчал — где, дескать, легко было? С большим почетом и подарками его приняли в обоз попутчиком на ватажный харч. Но ермаковец на Чусовой и на Тагиле реках бывал лет тому тридцать назад, а в Москву ходил через Лозьву и Чердынь[17], где нынче вольный торг был запрещен, а соболь выбит. Теперь он возвращался в Тюменский острог. Хвалился, что, подарив воеводе добытого в бою коня, ездил с ясачной казной на Русь просить у нового царя за долгие и верные службы атаманскую должность.
Когда обоз подошел к устью Серебряного ключа, обнаружилось то, о чем, предупреждали пермяки: здесь была прорублена дорога, мощенная гатями, и ямское подворье, содержавшееся вогулами. Складники же с чужих слов думали, что дорога та — не дорога, а конная тропа, а кони у вогульских ямщиков — полуживые одры.
Как ни плохи были кони, да и сами вогульские ямщики, державшие ям по принуждению, но обозу, ждавшему на Серебряном ключе больших трудов и расходов, было облегчение. Тут и открылось складникам, что можно было обойтись без донцов, нанятых в Перми. По крестоцелованию они продолжали давать им харч, но всем своим видом выказывали недовольство. Долгогривого, длиннобородого Пантелея иначе как пендюхом — то есть болваном, спать да брюхо чесать, — меж собой не называли. А нынче у костра, слушая баюна, делали вид, будто не замечают казаков.
— Ишь как разбирает ярыжников! — мостясь у раздутого огня, насмешливо прогнусавил Кривонос, скрюченными пальцами затолкал бороду под войлочную рубаху, до дыр стертую кольчугами и латами. — Прямо позеленели от злости, глядят, будто извести хотят. — Он сипло хохотнул и улегся.
Рябой, кряхтя и охая, снимал кафтан. Порубленная и натруженная рука ныла к ночи. Когда в Перми он убедил складников взять казаков бурлаками, сытые, не разоренные лихолетьем пермяки, искавшие заработка у проходящих караванов, от досады плевались, обзывая пришлых донцов голодранцами и ушкуйниками.
Пантелей Пенда полулежа, как дикий зверь, смотрел на угли, жевал сухую соломину крепкими зубами. Не стриженные после московского разбора[18] волосы рассыпались по молодецким плечам. По его хмурому лицу метался отсвет костра. То темнели, то высветлялись его глаза.
Рябой своим знахарским глазом видел, как билась в груди молодца тоска, корчила изнутри душу. Распеленав свою кровоточившую рану, он пошептал над ней заговоры, прочел молитву Пречистой Богородице, пробормотал напоследок: «Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань…» Приложил к ране сухие травы, стянул ее туго и улегся.
— Зверьми зыркают, — опять пробормотал Кривонос недосказанное. — Дай волю — сожрали бы… За грош с чертом породнились.
— На то и купцы! — вытягиваясь на спине, прокряхтел Третьяк. С саблей под головой он лежал на зипуне в одной холщовой рубахе и смотрел в небо.
— Новгородцы — народишко скандальный, на злое слово скорый. Я сам из них, знаю, — перевернулся другим боком к огню Кривонос, как девку, прижимая к груди кривую ордынскую саблю.
— У голодных брань на шее не виснет, — раздраженно зевнул Третьяк. Ему не хотелось слушать пустопорожнюю болтовню, мешавшую мысленно прочесть молитву на сон грядущий.
Во тьме хрустели сухой прошлогодней травой уставшие кони. За деревьями тявкала лиса. Сонные потревоженные рыбы плескались в ручье. Ветер ли пробежал по верхушкам деревьев, леший ли, потряхивая ветвями, прислушивался к разговорам.
Смущенно покашливая, появился из тьмы старый тюменский казак Гаврила, который с Ермаком русскому царю на саблю Сибирь брал и в ней служил до сносу. Был старик бел как лунь и прям как оглобля. В казачьей суконной шапке, на сибирский манер обшитой куницами, в бухарском цветном халате под суконной киреей[19], он присел у костра, вытянув ладони к огню. На груди ермаковца поверх халата на толстой цепи висел полуаршинный кедровый крест. Глаза старика поглядывали молодцевато и весело. Кабы не морщинистая шея да не вислая кожа на запястьях, кто бы поверил, что он лет на двадцать старше старых уже Рябого и Кривоноса.
Третьяк с Пендой встали и поклонились. Угрюмка неловко подскочил и затоптался, не зная, как приветить старика. Кривонос с Рябым отодвинулись, уступая ему место возле огня и берестяную подстилку.
— Умудрил Господь старца! — удивленно покачал головой ермаковец, вспоминая сказителя. — Воистину, сердечное умиление! Здесь ведь все и началось! Тут каждый судьбу принял! — говорил, взволнованно озираясь, будто только что закончилась песнь. — Одни назад побежали и бесславно головы сложили, другие вручили жизнь Господу да атаману, и вышло кому как на роду писано… Мне-то куда было бежать? Десять лет с Ермаком казаковал. Вроде вас, нагрешил против Господа, против людей православных — в монастыре не отмолиться.
Ермаковец ласково взглянул на Угрюмку, перевел взгляд на иссеченные шрамами пальцы Кривоноса, на его лицо и вздохнул с укоризной:
— Мы Сибирь строили, вы — Русь разоряли! Нынче иной дорогой едешь — одни пустоши. Вроде вся земля беглецкая! — Он помолчал и добавил: — Туда шел с казной, чуть не каждый день от шишей[20] отбивался. За что про что у вас брат на брата так озлобился? Ничего не пойму.
— Не уживаются вместе, когда один на другого похож и оба к одному руки тянут! — процедил сквозь зубы Пенда, выдавая сокровенные мысли.
— Ты откуда родом-то? — хмуро спросил Кривонос ермаковца.
— С Поля, — браво улыбнулся старик щербатым ртом. — Где родина у казака, как не в Диком поле?!
— А я из новгородских вольных крестьян, — заговорил сердитым звонким голосом, без обычной гнусавости. — Много деды мои зол претерпели от московского холопья. С тех пор как Захарьин-Юрьев — родич нынешнего царя, опричнину на Новгород привел — не поднялись уже. Черносошные и те в Дикое поле уходить стали. И я на земле маялся нуждой, старался одолеть ее трудом, да только озлился. Думал уж, грешным делом, хоть бы сдохнуть скорей. Потом бросил все и ушел в Поле. А вскоре новый царь объявился. Мы его на Москву привели: при мне старая царица, мать-монахиня Марфа, целовала, сыном звала, бояре узнавали, Святой крест ему целовали. А после отреклись: подложный-де был — монах беглый… Это бояре на Москве испоганились! Бориску отравили, сына его удавили. Дмитрия-царя извели, царенка его на воротах повесили. Ваську Шуйского в монастырь заперли. Патриарха прежнего умучали. Вот и наказал Господь!
— Довоевались! — вздохнул Рябой, сердито зыркая на разговорившегося товарища. — По самые локти в крови христианской… А здесь — Пермь сыта! Вторую неделю идем — никто пограбить не пробовал… Чудно! — хмыкнул и поскоблил впалую щеку под редкой бородой.
— Без греха не прожить! — смиренно согласился ермаковец. — И мы не из корысти кровь проливали: все за правду, за обиды. После Бог вразумил! — Старик перекрестился со светлой печалью в глазах. — Молитесь! Спешите покаяться и отслужить, пока живы. Не старые еще. Но жизнь — она быстро летит, а Бог — Он все видит!
Пантелей вскинул голову, дернулся, будто искра залетела под бороду. Рябой метнул на него настороженный взгляд и закашлял: не понравилось ему лицо казака. А тот, сдерживая занявшуюся ярость, стал спрашивать подрагивающим голосом, будто каменья из-за щеки выплевывал:
— Зачем тебе, казаку, наказное атаманство из царских рук? В Диком поле все равны от сотворения. А в Сибири, значит, уж и старые казаки почитают за честь поделить меж собой власть, как придворные царские холопы в боярских шапках!
Старик удивленно посмотрел на длинноволосого, долгобородого молодца, притаенно улыбнулся, качнул головой, будто прощал острое словцо и возникавшую неловкость, стал обстоятельно рассказывать, как хорошо быть атаманом в немощные лета: и жалованье вдвое, чем у казака, и муки, круп так же.
— А на печи кто тебе даст лежать? — усмехнулся в бороду. — Сибирь — она и есть Сибирь. Здесь новорожденному повитуха сперва саблю покажет, после материнскую титьку да родного отца. Тем и живы: сабля вострая в руке да Господь милостивый на небе. А больше на кого надеяться? — Старик задумался, снова пускаясь в воспоминания, и вдруг осекся: — Я к вам по делу, казаки. У меня в шапке грамота Сибирского приказа. А в той грамоте царев указ — заковать буяна, сына боярского[21] Ваську Сараева с атаманом Евстратом. Посланы они были для служб, но, в Сибирь второй год едучи, в вотчине боярина Митрия Годунова крестьян били и грабили, одного из пищали убили, коров, свиней постреляли, многим ямщикам прогоны не платили… До Перми, по указу, я во всех селах за грабеж сыскивал и пытал расспросами: знаю, кто из атаманов, казаков и детей боярских в чем повинен… Своей властью могу любой обоз остановить, — горделиво приосанился старик, — и всех, кто при оружии, отправить на поимку буянов. И вас, гулящих, принудить к тому власть имею. Но какой в ней прок? — взглянул ласковей. — Купцы только за свое добро будут радеть. Поведу — пойдут, будто в штаны наложивши. У промышленных тоже радения к цареву слову нет. А вы, казаки, мне по душе. И купцы, вижу, вам не рады.
Старик опять благодушно взглянул на Угрюмку, примеряя его стать к своей молодости, и добавил:
— Надеюсь на вас, детушки!
Угрюмка сверкнул глазами, сжался в комок и уставился на угли, то и дело потряхивая плечами в сползавшем с них охабне. Казаки и ухом не повели на слова старого ермаковца.
— Послушаешь сказы — ваши-то дрались один против полусотни, — недоверчиво просипел Кривонос, поглядывая на ермаковца из-под нависших волос. — То ли брешут люди, то ли Бог так уж явно помогал?
Гаврила опустил голову в красной шапке, задумался и вдруг, всхлипнув, смахнул старческую слезу:
— Уходили за добычей и отмщением. От Строгановых, от церкви и от самого царя было благословение. А как помирилась Москва с ногайцами, так от нас отреклись: предали, как Христа… Отступить — татаровье умучит, на Русь вернуться — свои казнят. Бог рассудит! — сказал с жесткой хрипотцой и поднялся. — И на этом свете правда есть! Атамана Ермака Господь призвал на Преображение и дал ему погибель геройскую, а царя на другой год в муках и корчах, как ведьмака, прибрал на Дарью-грязнуху… Так-то вот! — С ожесточением погрозил кулаком во тьму.
Едва он скрылся, Угрюмка зашептал возбужденно:
— Сказывали, обоз братнин рядом!
— То мы не знаем! — раздраженно проворчал Пенда и перекрестился: — Бог ли помогает, бес ли прельщает? — Глянул на черневшие купеческие струги, мотнул головой вслед ушедшему казаку: — Без него тошно было, теперь и вовсе — будто камень на грудь положил.
— И мне душу разбередил, — проворчал Кривонос. — Обереги, Господи! Запоститься, что ли?
— Тишь-то какая, — бесстрастно зевнул Рябой. — Благодать! Ни порохом, ни падалью не пахнет — токмо прелой травой и листом. — Шумно, с сипением втянул в себя воздух. — Оно и легче, как этот Гаврила! Служи да служи в Сибири. Издали вроде и царь как царь, и бояре — люди. Коли других нет, этих почитать можно… Устал, прости, Господи! — шепнул со стоном, зябко кутаясь в зипун. — Ну да нам с Кривоносом, слава Богу, немного уж терпеть, а вам, коли не зарубят, не повесят да на кол не посадят, — еще грешить да грешить.
Едко дымил истлевающий костер. К утру на звездном небе опрокинулся черпак Медведицы. Устюжане с холмогорцами дружно кликнули святого Егория, разбудив всех работных. Рябой поднял голову, взглянул на ясные звезды, закряхтел, закашлял, пошарил рукой за изголовьем, подбросил сухих веток на кострище и стал раздувать огонь.
Проснулись Кривонос с Пендой, зазевали, крестя рты. Рябой поднес ладонь к носу, пробормотал:
— Егорий росу отпустил! Юрьева роса от сглазу и от семи недугов. Хвори снимает… Ну вот и дожили! Егорий на порог весну приволок, землю отпер, на теплое лето отпустил.
На таборе уже полыхал ватажный костер. Зашевелились Третьяк с Угрюмко, зябко поглядывали, как раздеваются казаки. Вывалявшись в росе, кряхтя от стужи, у огня присел Пенда, обтерся полой жупана, накинул его на голые плечи, стал сушиться. Крестясь, вышли на свет озябшие Рябой с Кривоносом, начали поторапливать молодых к купанию, пока роса не обсохла.
Серое утро неспешно наплывало из-за гор. Дремавшие в лапах кедрача птицы робко и сонно стали подавать голоса. Промышленные на таборе нестройно запели утренние молитвы. Громче заголосили пташки в лесу, призывая солнце. Заалел восток, разгоралась заря-зарница, полуночница.
«На Егория коням — отдых, казакам — веселье». Как ни спешили складники, но не взяли греха на душу: объявили дневку и отдых. Пополудни, подкрепив душу молитвой, тело едой и питьем, на таборе стали петь и плясать. Устюжане завели песнь про Божьего человека Алексия, как он, никем не узнаваемый, жил у отца на задворьях, как
…злы были у князя рабы его: Ничего к нему яствы не доносили, Блюдья-посуду обмывали, Помои на келью возливали.К казачьему костру опять подошел Гаврила-ермаковец. Его белая борода топорщилась помелом. Приняв приветствие, он сел, скинул колпак, размашисто перекрестился:
— Прости, Господи! И конца-то нет их заунывной песне. Уши вянут, и тоска кручинная сердце гложет, — раздраженно сверкнул глазами. — Споем-ка свою былину про подвиги благочестивых людей!
— Знаем и про матерого казака Илью Муромца, про волокиту Алешу Поповича, — подсказал Рябой. — Про то, как донские да волжские казаки дотла разорили ногайский город Сарайчик.
С радостью Олексий нужду принимает, Сам Господа Бога прославляет. Трудится он, Господу молится Тридцать лет да все и четыре… —доносилось с табора.
Старик сердито натянул колпак, тряхнул бородой и запел сильным голосом, стараясь заглушить чужую песнь:
Жалобу творит красна девица На заезжего добра молодца, Что сманил он красну девицу, Что от батюшки и от матушки.Третьяк в кафтане с длинными, связанными за спиной рукавами, с вырезами в них до самых плеч выхватил саблю, со свистом покрутил над головой и, притопывая, стал подпевать зычным голосом:
И завез он красну девицу На чужу дальнюю сторону.Заложив израненную левую руку за спину, тоже с саблей, стал приплясывать вокруг Третьяка Рябой, примеряясь скрестить с ним клинки.
В минуту затишья послышалась другая песня. Это холмогорцы, не претерпев до конца московских слез на византийской позолоте, завели песнь про удалого новгородца Ваську Буслаева. Как тот Васенька, на спор да играючи, в этих самых местах решил Урал-камень перепрыгнуть. Как груды белых черепов пророчили ему погибель. Не поверил им удалец, туда прыгнул, обратно скакнул, задел белой ножкой за хребет горный и оженился с белым горючим камнем, приложившись к нему с маху буйной головушкой.
Примолкли казаки, вслушиваясь в слова песни. А как закончили петь холмогорцы, Пенда усмехнулся зло и тряхнул долгогривой головой:
— Ни людям на пользу, ни врагу во вред, ни Богу в умиление. Расшиб башку нечисти на посмешище!.. Вот и мы так! — с вызовом, остро и сердито взглянул на Гаврилу, отвечая на вчерашний его вопрос.
К казачьему костру подступили устюжские юнцы: конопатый Семейка Шелковников, смешливый Ивашка Москвитин да Федотка Попов из холмогорцев. Они присели в стороне, зазывая Угрюмку с Третьяком сходить вверх по ручью, где, по сказам, стояли брошенные ермаковские струги.
— Знатно ваши поют! — взглянув на Федотку, похвалил ермаковец новгородцев.
Юный холмогорец скривил губы:
— Любят застолья. Наедятся, напьются допьяна, начнут хвастать, кто деньгами, кто сапогами, совсем дурак — женой. Потом подерутся, как водится. Пойдем уж лучше старые струги посмотрим.
Нахмурились казаки, не понравилось им, как юнец говорит о родне, но промолчали — не их человек, не им поучать. Сами грешны.
Ватажная молодежь и Третьяк с Угрюмкой убежали вверх по ручью. Устюжане, подобрев к вечеру, прислали казакам праздничной еды, рукобитьем не оговоренной. Московский люд хлебосолен.
В сумерках вернулся один Третьяк. Он бежал всю дорогу и теперь вытирал лоб шапкой.
— Завалило всех в пещере! Спасать надо! — одышливо крикнул готовившимся к ночлегу ватажным.
Бажен Попов трясущимися руками стал натягивать сапоги. Иные из холмогорцев начали срамословить казака, не понимая, как молодежь могла оказаться в пещере. Третьяк резко отвечал, не опуская пристального, немигающего взгляда. Остро щурились его влажные, обжигаемые соленым потом глаза.
— Спрашивал!.. Все живы, — неприязненно оправдывался перед наседавшими на него устюжанами и холмогорцами. — Не разобрать было завал одному — камни большие.
Вмиг собралось с десяток ватажных, готовых идти в ночь спасать родню. От казаков с ними пошел Пенда. С факелами отряд двинулся к верховьям ручья.
— Неспроста так встречает Сибирь! — сказал Рябой, задумчиво глядя в чернеющее небо. — Знак какой-то!
— Чего в пещеру-то полезли? — лениво зевнул Кривонос, лежавший у костра.
— Да клад ермаковский хотели сыскать! Еще чего ради под землю лезть! — ответил Рябой и пробормотал сонно: — Так и Сибирь — завлечет, заманит богатством всяким, а обратно не выпустит.
Ватажные со спасенными вернулись за полночь и разошлись по своим местам без обычного галдежа. Взбодрившийся, повеселевший Пенда молча лег у костра. Пламя высветило усталые лица Третьяка и Угрюмки. Рябой с Кривоносом сонно взглянули на них, плотней укрылись и ничего не стали спрашивать.
Разгоревшийся огонь обнажил во тьме тени обтянутых кожами купеческих судов. Угрюмка то и дело оглядывался на них, боязливо шмыгал носом. Вспоминались ему полусгнившие ермаковские струги, очевидцы и свидетели былинных лет. Они походили на огромных дремлющих зверей, терпеливо ждущих исцеления или кончины, еще издали пугали приближавшуюся молодежь. И тишина в пади была жутковатой. Ни сами струги, ни остатки стен Ермакова городка проходящие люди не трогали, хотя сухие дрова для костров приходилось таскать издали. И набожные русские, и заносчивые инородцы боялись прогневить воинственный дух любимца богов, знатного атамана.
Молодые залазили в струги, трогали деревянные уключины. Сквозь щели в днищах проросли трава и кустарник. Новые деревья обступали суда, подпирали потрескавшиеся борта. Иные березы, пропоров днище, парусили на ветру ветвями.
Тут и шепнул бес Угрюмке поискать ермаковский клад в пещерах среди скал. Расхрабрившись, он первым протиснулся в сырую темень подземелья. Слышал за спиной дыхание Федотки, перешептывание Семейки с Ивашкой. Вдруг перед ним замерцало во тьме лицо мужика с косматой бородой. Пытливые глаза пронизали сироту до самых кишок. Урюмка вскрикнул, отпрянув, сбил с ног Федотку. Хотел обернуться — не почудилась ли тень? Неожиданно тусклый свет в подземелье померк, раздался грохот. Пыль набилась в глаза и ноздри.
Юнцы на карачках бросились к выходу и остановились у вывалившихся глыб. По ту сторону в свете дня ясно виделось обеспокоенное лицо Третьяка. К нему можно было просунуть руку, но нельзя пролезть.
Долго бы искали здесь обозные свою молодежь, кабы у Третьяка не хватило ума остаться снаружи.
На другой день Рябой раз и другой выспросил подробности обвала в пещере, вдумчиво выслушал взволнованные рассказы Угрюмки. Помолчал, покачивая головой, почмокал впалыми губами.
— Неспроста зовет сибирский атаман! Приглядывается к вам, к молодым. Поди, в свои, сибирские, казаки примеряет на геройство! — изрек, скрывая плутоватую насмешку в редкой бороде и затаенно зыркая на побелевшего юнца.
Тот от страха разевал рот, водил по сторонам ошалелыми глазами, выискивая поддержку у спутников. Но казаки слушали Рябого спокойно и рассеянно, будто тот прочил их молодому спутнику долгие годы и богатство.
— Не моя доля! — испуганно закрестился Угрюмка. — Чур меня!
— Зря! — подначивал кичижник. — За правое дело в молодые годы живот положить — Богу угодить! Безгрешным вернешься к Отцу Небесному!
— Не меня! Не меня! — заверещал юнец, вконец смутившись. — Уж я погрешу, прости, Господи!
— Не бреши на ветер, черт старый! Не пугай мальца! — не выдержал Кривонос.
На мученика Савву Стратилата, перед голодным месяцем маем, расцветала рябина к доброму урожаю овса. На восходе румянилась заря утренняя, алая, выпуская красное солнце на синее небо. Едва прострелил первый луч в разоренную западную сторону, обоз тронулся по топкой разбитой колее.
Где волоком, где на покатах кони и люди тянули груженые струги. Поскрипывали тележные оси, распугивая ворон. Хрипели кони, покрикивали возницы. Заложив руки за спину, за обозом налегке шагал Гаврила-ермаковец. Полуаршинный кедровый крест похлопывал его по опоясанному животу, тяжелая сабля оттягивала плечо.
Старец-сказитель, взявшись рукой за борт струга, переставлял непослушные ноги в стоптанных, мешками обвисавших чунях. Белые пряди волос шевелились на усталой, согбенной спине. Старик подслеповато щурился, радуясь ясному утреннему солнцу.
Купцы своей выгоды не упускали. Хоть знали про государев запрет на торговлю от Перми до Верхотурья и все их товары были описаны людьми пермского воеводы, но в пути то и дело начинался тайный торг со встречными вогулами и татарами. Ермаковец, примечая хитрость барышников, начальственно хмурился. Купцы старались его уважить и задобрить, однако он не пил ни вина, ни пива, жалуясь на немощи и хвори. Его воздержанность в питье не сулила ничего хорошего. Ругать же ермаковца, даже за глаза, складники боялись и отводили душу на гулящих казаках, нанятых в Перми. Будто по их винам и ватажную молодежь едва не задавило в пещере.
Все-то в казаках сердило их, хотя работали донцы не хуже вогулов и сверх договора ничего не требовали. Жили они особняком, о чем думали, о чем говорили, зачем шли в Верхотурье — никто не знал. Одеждой изветшались: кафтанишки да зипунишки драные, обутка худая, у иных одни только бахилы — а им и заботы нет.
Еще под Пермью, на Чусовой-реке, стал накапывать холодный дождь, просекаясь блестками снежинок. Обозные взялись строить балаган. Казаки же сидели у огня, бездельничая. Думали промышленные, что те полезут ночевать в груженые струги. Но те высмотрели яму под вывороченным корневищем, набросали в нее кедровых веток, легли, прижались друг к другу, укрылись одеждой да берестой — и провели ночь. Наутро, как ни в чем не бывало, отдохнувшие, они были готовы к новым работам. Обозные же насквозь промокли, пока ставили балаган. Потом чуть не до утра сушились у костров и отсыпались до полудня.
Складники раз и другой велели дать казакам хлеба, после сказали, чтобы или сами себе пекли, или в черед, на всех. Печь для всех они отказались, всякий сам по себе распоряжался паевым харчем. Длинноволосый печальник в бахтерцах заливал муку холодной водой, размешивал, выпивал и ложился спать. Старые и молодые съедали сырьем не только муку, но и немолотую рожь. Иногда они пекли на прутках тесто.
На Марка-ключника обоз поднялся на сухую возвышенность, где чьим-то добрым помыслом был поставлен березовый крест с иконкой Николы Чудотворца. Вдали виднелось озеро с ручьями, стекавшими в Туру. В дымке высились горные вершины.
— Вот она, тайбола[22], — волнуясь, вглядывался в даль Гаврила-ермаковец.
Небо было пасмурным, в воздухе пахло дождем — мужикам на рожь, бурлакам на вошь. Обозные велели ямщикам распрячь и отпустить на выпас лошадок, а сами долго молились. Ямские вогулы кучкой сидели в стороне и с безразличным видом поглядывали на долину Туры. Угрюмка вымороженными глазами бросал пугливые взгляды то в одну, то в другую сторону. Он был наслышан о сибирской тайболе. Жутко вспоминался лик Ермака в пещере. Ни на закат, ни на восход не виделось ему вольного и счастливого пути. Куда поведут — туда иди, хоть бы и на кончину лютую.
Молитвы читал холмогорский передовщик с окладистой, как помело, бородой. Ему вторил устюжский пайщик с хитрющими глазами и оттопыренными ушами. Голова его с затылка походила на мышиную. Рябой наметанным глазом давно определил в длинноухом устюжанине знахаря и доку. Певшим купцам, как попам, прислуживал за дьякона и красивым, зычным голосом подпевал Третьяк, имевший большую охоту ко всяким церковным службам.
— Дьячишь важно! — хвалил его в перерывах Бажен Попов. — Голосом в хорошего попа!
На обнаженные головы ватажных закапал дождь, но, не успев намочить волос, прекратился. И засияла впереди радуга семи цветов. Люди запели громче и радостней, веруя: Бог Вседержитель дает знак, что не гневается на них, входящих в Сибирь. Вогулы же, глядя на радугу, стали еще угрюмей. По их приметам, обратный путь им предстоял по дождям.
Молясь, Бажен-передовщик то и дело обращался к ермаковцу Гавриле как к иерею за благословением. Тот важно кивал, крестясь и поглядывая вдаль.
После молитвы и полдника пасшихся коней опять загужевали в оглобли телег и в постромки стругов. Взялись за бечевы промышленные и работные. Все разом навалились, и обоз двинулся под уклон. К притоку Туры по заболоченной равнине была проложена узкая дорога, местами мощенная гатью. Храпели кони, чавкала вытаявшая болотина, кричали люди, подбадривая друг друга и лошадей.
Угрюмка бросил охабень в струг, в драной рубахе без рукавов тянул бечеву наравне с казаками. К ним подошел ермаковец. Пошагал налегке рядом с оборванцем, указал в сторону возвышенности:
— А мы туда переваливали, в Тагил. Ближе, но трудней. А вогулы да татары справно здесь жили… Не голодали.
— Кто не голодал? — не ослабляя постромку, переспросил Угрюмка.
— А никто не голодал! — уклончиво ответил ермаковец.
К вечеру обоз прибыл к обустроенному табору, где еще не выстыла зола в кострищах. Посреди просторной поляны стоял добротный балаган, крытый берестой. За ним, тускло серебрясь, выгибалась излучина речки. На берегу высился крест.
Едва обозные распрягли лошадей, разбрелись устраивать ужин и ночлег, на тропе показались двое верховых с луками за спиной и с вогульскими пиками поперек седел. Вскоре стало видно, что это казаки. Подъехав, они начали по-хозяйски осматривать поклажу, спрашивать обступивших складников про табак.
Передовщик не знал, как вести себя со здешними служилыми, и велел позвать ермаковца. Тот, прилегший было в балагане, выполз в одних холщовых штанах, но с саблей. Увидев его, казаки смутились, сошли с коней, стали кланяться и хотели ехать дальше. Но Гаврила задержал их к неудовольствию купцов. День был приятный: волок пройден, прощай пешая ходьба, поденная плата ямщикам. Радоваться бы да Господа хвалить, однако Гаврила объявил, что ему нужно в ночь и весь следующий день держать при себе шесть лошадей да пятерых помощников с оружием.
То, что старый казак принуждал обоз к дневке, — полбеды: все равно ватажные собирались валить лес и строить плоты. Но вогульских ямщиков они хотели отпустить с утра, а теперь надо было держать их еще день. Пришлых казаков угостить — тоже не прибыль. Рассчитывали обозные на помощь гулящих донцов, но ермаковец забирал их вместе с вогульскими лошадьми.
Передовщик про себя и чертыхался, и крепким умом смекал, что если дело важное, то все окупится: верхотурскому воеводе и таможенному голове подарков можно будет не давать, а досмотр товаров по пермской описи вдруг случится нестрогим. Тучный Бажен Алексеев поскреб седеющие виски и сказал Гавриле, чтобы брал что нужно, а уж они-то, купцы да промышленные люди, за государево дело потерпят.
Шалая весенняя речка уже входила в берега, унося мутные, взбаламученные воды на восток. Оседал по заводям сор половодья, покрываясь песком и илом. Сохли по берегам тина и плесень. Угрюмка хотел зачерпнуть чистой воды. Подошел к реке ниже табора, склонился над омутом и увидел сквозь редеющую муть конский остов. Перекрестившись, юнец поднялся против течения и наполнил котел из чистого родничка, стекавшего тонкой хрустальной струйкой в реку.
Казаки подкрепились в дорогу. Купец-передовщик выдал им три лука и две пищали. Они опоясались саблями. Угрюмка сунул за кушак топор, засапожный нож — за крепко связанную бечевой, густо смазанную дегтем голяшку бахила, затем сел на утомленную дневным переходом лошадь.
Послушание обозных и гулящих людей тронуло Гаврилу. Почтительно придерживаемый под локти служилыми сибирцами, он вскарабкался на спину кобыле. Старик молодецки приосанился, поддал в бока изработанной лошадки запятниками добротных сапог — и отряд отправился к ямской слободе, где гуляли сын боярский Васька Сараев и атаман Евстрат.
— Их там более двух десятков сабель, — опасливо сообщали верхотурские казаки.
— А нас восемь удальцов! — бесстрашно отвечал ермаковец, расправляя седую бороду по груди. — У меня грамота с указом. Да люди сказывают, атаман с сыном боярским передрались и казаки меж собой в ссоре.
Покатилось солнце ясное на закат дня, туда, где звенел булат и смрадные пороховые тучи ползли по выжженной земле. Пролитой кровью наливалась темная вечерняя заря. Будто приснилась донцам мирная весна: опять привычно рысили они в ночи, чтобы отбить товарища. И снова ныло сердце от тайных помыслов, от лихого коварства и неизбежной измены честному ермаковцу. А он, не давая отдыха лошадям, торопился поспеть в слободу к полуночи.
Остывал западный свод неба, будто омытый чистой ключевой водой и весенними дождями. Тусклая, словно мукой присыпанная, появилась на нем первая звезда. Вскоре и вовсе стемнело. Чертям на радость вышла полная луна. Длинные тени деревьев вытянулись на полянах. Леший то и дело подсовывал под копыта корни и сучки. Уставшие лошадки спотыкались и шумно вздыхали.
Старость и попу не в радость. Отвыкший от верховой езды, старый казак стал придерживать кобылку, хвататься за поясницу. По совету верхотурцев пробовал лечь на круп. Ему стало еще хуже. Тут Рябой вкрадчивым и ласковым голосом предложил спарить лошадей носилками и положить в них старика. А поскольку спаренные лошади пойдут медленней — их, донцов, отправить вперед.
Ермаковцу совет показался разумным. Хитрости в словах кичижника он не учуял, а лиц донцов впотьмах не увидел.
— Туру бродом не переезжайте, ручья держитесь… Начнут буяны обороняться — поднимайте слобожан и бейте их смертным боем. Перед воеводой и перед Господом я отвечу. С Богом!
Донцы подстегнули коней и зарысили торным путем. Но там, где им было указано, не свернули, а перебрели Туру и двинулись по мощенной гатью дороге.
У всех встречавшихся прежде людей Кривонос с Рябым осторожно выспрашивали о царевом обозе со ссыльными. Верхотурские казаки, не заподозрив тайного умысла, указали, где он остановился.
Казенный обоз ночевал возле Туры-реки. Белым пеплом подернулись угли костров, на сереющем небе гасли звезды, наплывал рассвет, первые пташки подавали голоса, призывая утреннюю зорьку. Караульный из пленных черкасов спал, уронив на колени голову в бараньей шапке. Татары и вогулы в здешних местах были мирными. Сказывали жители деревень, что пошаливала голытьба, возвращавшаяся на Русь. Мелкие промышленные и купеческие обозы они могли пограбить, но отряды служилых и ссыльных людей такие ватажки обходили стороной.
Старшим в обозе был плененный под Москвой лютеранин или папист, с его слов полковник, Иоган Ермес — долгоносый, тощий, в коротком шведском сюртуке и польской четырехугольной шляпе с обломанным пером он походил на стоячее коромысло. Под его начало были отданы пленные литвины, ссыльные черкасы и два монаха под надзором двух молодых стрельцов. Всех их царским указом отправляли в Сургутский острог. Туда же, к месту службы, с жалованьем пешего казака, после разбора и наказания следовал молодой кремлевский бунтарь.
За год, проведенный в застенках Троицкого монастыря, Иван Похабов повидал немало узников, лишившихся разума после кнута, колодок и полумрака подземелий. Он же благодарил Бога за неволю, попав в келью, набитую белыми попами, монахами и мирянами. В беседах с ними от тюремного безделья выучился читать и окреп духом. Иные умирали от тоски, а Ивашка, через двух иноков, пришел к пониманию своей прежней беспутной жизни и к покаянию.
Один иосифлянин, другой ниловец[23], те иноки не всегда уважительно и бесстрастно спорили между собой, а потом каялись друг перед другом и выясняли, где их вели жажда истины, а где — бес тщеславия.
Спорили они о Руси, о народе и его власти, о канонах и обрядах, во что Ивашка не мог и не хотел вникать по своему чину. Но одну истину он все же понял и принял всей душой: «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет».
Сколько помнил себя — раздиралась Русь. Сосед завидовал соседу, если у того дом просторней, а амбары полней, город — городу, если у того церкви выше. Еще дед Ивашки не любил ни опричников, ни бояр, ни милостивейшего царя Бориса. И когда в годы его власти зачастили мор, голод, неурожаи да всякие напасти, дед не только вздыхал, туже затягивая опояску, но и злорадствовал: «Вот оно, грядет наказанье Божье — за грехи наши!»
Проснулся ссыльный казак в сумерках, привычно прислушался, глубоко вдохнул запахи леса, погасших костров. Хотел уж перекреститься, поблагодарить Господа, что встречает новый день не в заточении, но услышал приглушенный топот, затем ржание. Стреноженные обозные кони откликнулись из леса. Звуки и запахи табора ничуть не удивили Ивашку, а вот ржание, отрывистое, оборванное ударом плети или кулака по конской морде, слегка насторожило. Скорей по привычке, чем из опаски он придвинул к себе саблю и снова закрыл глаза, собираясь доспать утренние часы.
Вдруг раздались топот, свист и знакомое казачье гиканье. Ивашка выкатился из шалаша с обнаженной саблей, к нему подскочил караульный черкас в широких штанах, встал за спиной, стараясь разглядеть, кто потревожил ночлег казенного обоза. Краем глаза ссыльный казак увидел, как упряжной дугой из шатра выскочил Ермес и, прижимая к животу кафтан и сапоги, побежал к лесу. Следом за ним неспешно отступили литвины. Они волочили за собой пики и пищали.
Всадников было всего-то пятеро. Четверо в казачьих колпаках, один в шлычке. В полусотне шагов от табора они рассыпалась лавой, размахивая саблями, свистя и гикая. Ивашка, привычный ко всяким разбоям, вертел головой, готовясь обороняться. Черкасс перекинул с руки на руку пищаль без фитиля. Молодые стрельцы встали сбоку плечом к плечу. Один метнул бердыш под ноги коню. Тот споткнулся, упав на бок, всадник в худом охабне соскользнул с конской спины без седла и, пробороздив носом по земле, подкатился к Ивашкиным ногам. Когда он поднял голову и смахнул грязь с лица, тот ахнул, узнав брата.
— Этакую рань шумите, православные! Нехорошо! Нехорошо! Утро-то какое! Дар Божий! А вы его скверните! — крестясь и зевая, одергивая подрясник, из шатра вылез босой инок Герасим. Глаза его насмешливо блестели, курчавилась растрепанная бородка. Следом, в холщовой рубахе, выполз другой инок, откинул волосы с плеч, надел скуфью на нечесаную голову, ласково спросил разинувшего рот Кривоноса:
— Кого вам надобно?
Кривонос и Пантелей Пенда, смутившись от встречи с монахами, скинули колпаки, спрятали сабли.
— Дак, — прошепелявил Угрюмка, отплевываясь горьким дерном, — эта, ехали мимо…
— А перепутали мы вас с другим обозом, — бойко залопотал Рябой с хитрецой в глазах. — Тут где-то казаки гуляют: атаман Евстрат да сын боярский Васька Сараев… У нас грамота — остановить их велено и связать.
— Слышали про них, — пожал плечами инок. — Давно пора остепенить буянов. Но они, по слухам, в ямской слободе.
— Мы ночью верхами ехали, места незнакомые, видать, заплутали или леший вкруг лесом обошел. Вы уж не серчайте!
— Грех на вас сердиться! А вот неудобств вы нам наделали: войско наше разбежалось, передовщик опять в бега подался. Беда с ним. Помогайте теперь сыскать. Нам без него никак нельзя в Верхотурье явиться: воеводу прогневим.
Пантелей понял — выпало самое подходящее время, чтобы увезти Ивашку. Угрюмка ни глазам, ни ушам не верил и все крестился, боясь, что это только сон.
— Найдем! — дернув узду шатнувшейся от усталости лошади, сказал Пенда и строго кивнул Ивашке, будто они не были знакомы: — Пойдешь с нами!
Тот уже понял, ради чего объявились станичники. Глаза его блестели, по щекам разливался густой румянец. Накинув зипунишко и колпак, с обнаженной саблей в руке он понуро пошел за всадниками к лесу.
Едва скрылся из виду табор, казаки спешились, стали обнимать повзрослевшего Ивашку со щеками покрытыми редкой, кучерявящейся бородкой.
— Слава Тебе, Господи! Не зря упование возлагали… Помогла сила небесная, — крестились смеясь. — До Перми путь знаем, там по Каме, на Волгу и на Дон. А с Дона выдачи нет.
Ивашка, счастливый от встречи со станичниками, с братом, то смеялся и всхлипывал, то затихал, мрачнея, прятал смущенные глаза. На лице его выступили красные пятна. Он тряхнул головой и заговорил, прерывисто вздыхая и путаясь:
— Простите, братцы, не одной царской неволей иду в Сибирь, но Божьим Промыслом. Не сам себе судьбу ковал, такую Бог дал. Известно, судьба придет — ноги сведет и руки свяжет…
— Бог не без милости, казак не без счастья! — ободрил мнущегося дружка Пенда. — Если ты про крест, что царю Михейке целовали, так он казакам наперед его целовал, но обманул и предал.
— Его милости моя спина хорошо знает, — скривился Ивашка, пламенея от стыда и глядя в сторону.
— Ни с Речью Посполитой, ни со шведами, ни с казаками мира у Москвы нет, — неуверенно пробубнил Кривонос, любуясь повзрослевшим воспитанником и затаенно ощупывая его глазами. — Сегодня в Москве Романовы, кто будет завтра — неведомо.
— Кому быть царем — Бог решит. Кому вынется, тому сбудется, не минуется. Об этом благочинные вам сказать могут, не я, грешный. Они тоже царев хлеб да кнут отведали. Простите, братцы! — со слезой озирая собравшихся, виновато вскрикнул Ивашка, низко кланяясь. — Век заботы и любви вашей не забыть, и молиться за вас буду, покуда жив… Но вернуться не могу. Простите!.. Сказано: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И мне так!
— Я с тобой, — плаксиво пробормотал Угрюмка, как птичка склонил голову на плечо, печальными глазами вытаращился на брата, а сердце его сжималось от жалости к себе самому.
У Ивашки ручьями потекли слезы по щекам, заблестели на редкой бородке. Свесил голову и старый казак Кривонос. Пенда, опустив глаза, теребил пальцами кожаный повод узды.
— Спаси тебя Господь, Пантелей Демидыч, — поклонился ему Ивашка, судорожно сглатывая воздух серыми кривящимися губами.
Тот смахнул колпак с лохматой головы, перекрестился на заалевший восток и ответил:
— Сочлись! Ты меня с плахи отбил. Я тебе волю дать хотел. Коли не нужна, что уж тут, — развел руками.
— Да не так все! — вскрикнул Ивашка в отчаянии от бессилия высказать, что было на душе.
Голодные кони торопливо щипали траву. Первые лучи солнца золотили верхушки деревьев. Набежавший порыв ветра прошелестел ветвями. Казаки вспомнили брошенного ермаковца и устыдились пуще прежнего.
— Согрешили против Гаврилы! — смущенно просипел Рябой.
— Надо возвращаться! — напомнил Третьяк. Достойно претерпев разочарование от встречи, он обнял дружка и отошел в сторону, не выказывая ни радости, ни печали.
— Прости! — слезно поклонился ему Ивашка.
— Не тебя, свою душу спасал перед Господом! — ответил тот с улыбкой на безусых губах. — Грех да беда не по лесу ходят — все по народу! — Вскинул светлые глаза: — Иной раз помянешь в молитвах — и ладно!
— Путь долгий, наговоримся в Верхотурье, — мотнул головой Пантелей, все чаще и опасливей поглядывая на небо и откидывая за плечо длинную прядь. — Жизнь грешная! Один грех искупая, другой на душу взяли! — Развернул лошадь со злой усмешкой.
Смутившись новым напоминанием об обманутом старике, донцы стали торопливо прощаться.
Литвины вернулись на табор, как только за верховыми побрел в лес Ивашка. Они пришли своей волей, хотя, убегая, прихватили оружие. Кое у кого в просторных карманах шаровар оказался припас сухарей.
Ссыльный Похабов солгал стрельцам, что казаки его бросили и уехали по своим срочным делам. Обозные недосчитались одного только передовщика — пленного еретика Иогана Ермеса.
— Опять к Печоре подался, — подозрительно оглядел вернувшихся молодой стрелец. — Я за ним давно надзираю: где ни остановится, с кем ни заговорит, окаянный, — все про путь к Пустозерскому острогу выспрашивает. Понятно — туда немцы на торговых кораблях ходят.
Оставив Ивашку старшим, стрельцы взяли сухарей, вскочили на отдохнувших за ночь лошадей и, пустив их рысцой, отправились искать своего беглого начальника. Вернулись они к полудню вместе с передовщиком. Ермес не вырывался, не оправдывался, смотрел на обозных налитыми презрительной тоской глазами да равнодушно хлопал белыми, как у поросенка, ресницами.
С благословения иноков беглеца выпороли и вновь передали ему власть. Поскуливая и полаивая на чужих языках, Ермес приказал на ломаном русском отдыхать, чтобы наутро идти к Верхотурью.
Пятерка донцов добралась до ямской слободы почти к полудню, когда с буянами было покончено. Гаврила под горячую руку огрел батогом Кривоноса и Пенду. Те смиренно промолчали, не уворачиваясь от ударов и по обычаю московских холопов отвесили по три земных поклона, а не один, как принято у казаков.
— Ну хоть солгите что! — гневно потребовал ермаковец с красными пятнами на лице. Он был в недоумении: не пьяны, голодны, без всякой воровской поклажи — заявились с выражением покорности и вины.
— Что врать? — смиренно поднял усталые глаза Пантелей. — Ошиблись дорогой, проехали мимо, на чужой обоз чуть не напали.
— Как проехали, если там брод? Я же говорил! — закричал старик, топая ногами.
— Среди ночи заплутали, не разобрались — где брод, где торная дорога с гатью. Да и не один там брод, а много…
— Известное дело, — торопливо закивал Рябой. — Леший обойдет лесом — глаза залепит. Бывает, меж трех сосен блуждают неделями.
Старик из сбивчивых объяснений донцов ничего не понял, но был рад уже и тому, что пропавшие вернулись. С двумя верхотурскими казаками он въезжал в слободу, уверенный, что донцы все сделали и ему останется только предъявить грамоту. На въезде их встретили караульные слобожане и, узнав, с чем приехали, мигом собрали народ. Добрая половина казаков, следовавших в Сибирь с атаманом и боярским сыном, тут же перешла на их сторону. Натерпевшись обид в пути, они со злорадством связали и побили буянов. Кнута и батогов Гаврила давать не велел, обещая, что тех выпорют по винам в Верхотурье на гостином дворе.
Остывая от негодования, он насмешливо спросил Пенду:
— Что волосищи-то поповские отпустил, печальник? В монастырь собираешься или вдовеешь?
— И вдовею, и сиротею, и в печали великой — и родину, и станицу, и жену потерял! — смиренно ответил тот. — А верного коня предал! — скрипнул зубами, разглядывая свои руки, пытаясь найти место беспокойным пальцам.
Старика такой ответ тронул и умилостивил.
— Прощаю вам вины ваши, — заявил великодушно, — ради правого дела, которое, с Божьей помощью, сделано. — Он кивнул на связанных и велел собираться в путь.
К вечеру отряд прибыл на табор. Передовщик Бажен, сын Попов, сперва ужаснулся множеству людей, но узнав, что у пленных и сопровождавших свой провиант, повеселел.
Был он ласков не только с ермаковцем, но и с донцами. От здешних людей узнал, что коней в Верхотурье не дадут. Строить суда придется самим. Поскольку плотников в городе мало, все они в почете у воеводы и определены на казенные работы. Теперь купчина благодарил Бога, что нанял пятерых работных в Перми, и надеялся задержать их против прежнего договора на строительство судов. Зимовать в здешних местах, обедневших соболем, ему не хотелось.
Лошади были возвращены вогулам. Среди оставленных на таборе казаки недосчитались одной, самой немощной. Вскоре Угрюмка увидел ее круп в мутной воде речки, стал показывать на него вогулам и промышленным. Те смущенно воротили глаза, но не интересовались пропажей. Угрюмку остепенил Рябой.
— Купили лошадь в складчину и поднесли дедушке водяному, чтобы жаловал ватагу! — прошепелявил, потряхивая редким клином бедняцкой бороды.
— Утопили коня! — проворчал Кривонос и тихо выругался.
На дереве с ободранной коновязью корой уже безбоязненно сидели вороны, почесывали лапами острые клювы и терпеливо ждали, когда обоз снимется с места.
Слободской ямщик, похлебав жидкой каши из обозного полдника, впряг дюжего коня в фуру, на которой привез старого ермаковца с пропившимися буянами. К новой радости передовщика, он не потребовал прогонов. Донцы же вместе с ватажными людьми начали строить плоты и к изумлению складников оказались искусными плотниками.
Работали не все. Дремал, греясь на солнышке, старик-сказитель, ермаковец Гаврила важно похаживал по табору и давал советы, пленные сидели в балагане под охраной бывших своих, обиженных ими казаков. Им работать было недосуг — нужно было думать о словах оправдания перед верхотурским воеводой.
Наутро днюющих путников навестил слободской приказчик Артемий Бабинов, человек, известный от самой Перми до Туринска. Это он открыл дорогу, по которой шел обоз и потом, по царскому указу, строил ее и все здешние мосты. Теперь Артемий встречал каждый идущий обоз с надеждой о царской грамоте с наградами за свои труды.
После ужина и молитв ватажные подкинули хвороста в большой костер, расселись и разлеглись возле огня. Пока сказитель собирался с мыслями, причмокивал да высасывал кашу, застрявшую меж старых зубов, устюжане запели про падение Адама, про плач его у ворот рая:
Как расплачется Адам, Перед раем стоячи…— Ай, раю мой, раю, — дружно подхватили холмогорцы, — прекрасный мой раю!
Услышав знакомый напев, Угрюмка заерзал, завертелся юлой. Невмочь как захотелось ему заткнуть уши и бежать без оглядки. Песнь навязчиво напомнила зиму, когда, побираясь по деревням, шел он со слепцами к сытому Нижнему Новгороду. Даже плечо заныло, будто до сих пор его сжимала цепкая рука убогого старца.
Не велел Господь нам жить в прекрасном раю. Сослал нас Господь Бог на трудную землю.— Ай, раю, мой раю, прекрасный мой раю! — снова во весь голос подпели холмогорцы.
Поскрипывая зубами, со слезами на глазах Угрюмка убежал за балаган, хотел спрятаться, забиться куда-нибудь, но не мог никуда деться от страшной песни. И бежать было некуда. С одной стороны река с заиленными конскими костями, со злющим водяным, с другой — тайбола, лес со зверьем, лешими да всякой нечистью. Да и поздно было бежать: колючей занозой сидела в голове жуткая песня, вызывая бессильную ненависть к своей доле и к прошлому. Познал он в жизни выходы из нужды и себя научился беречь, а спасаться от нестерпимых воспоминаний, связанных со стыдом, не умел. Так и сидел, весь выстывший, подрагивающий изнутри. Время от времени облизывал шершавые обветренные губы.
Лишь когда старец запел про атамана Ермака и про славную дружину его, стало легче. Успокаиваясь, Угрюмка поглядывал на ермаковца. Тот был весь в морщинах, а не сутулится, и взгляд у него ясный. Старый казак слушал песни про Ермака, хмыкал в бороду или недовольно кряхтел, иногда вместе со всеми дивился делам своей молодости, преданиям нынешних дней.
Баюн сидел так близко к огню, что зипун на нем едва не затлел. Старик заерзал, доброхоты отодвинули его от пылавшего костра, скинули одежду. Задралась давно не стиранная исподняя рубаха. Дряблая кожа, под которой виднелись кости, была исполосована сабельными шрамами.
Зипун остудили и снова надели. Старик же сбился со сказа и долго не мог вспомнить, на чем остановился и о чем пел. Холмогорцы загалдели о своем, насущном. Гаврила, придвинувшись к сказителю, стал выспрашивать, с кем тот воевал и где. Но старец ничего вразумительного ответить не мог. Стариковская память чудна.
— Как же ты былины помнишь, коли молодость забыл? — удивился казак.
— Какую ни есть старину раз услышу говором, вдругорядь песней — вовек не забуду, — стал хвастать старец. — Будто гвоздем кто приколотит. Мне бы только начало вспомнить. А после в нутре дух какой-то подымется — и ходит-ходит! Я одни слова пропою — он другие подает… Лют я петь. Запою — ничего больше не вижу!
Удивленно качал седой головой Гаврила. Промышленные нетерпеливо подсказывали, на чем старец сбился. Наконец он собрался с мыслями, поднял прояснившиеся глаза к небу. Галдеж стих.
Как старый боевой конь, почуявший запах пороха и сабельный звон, начинает перебирать больными копытами и задирать свисающую к земле морду, так ободренный вниманием старец нараспев заговорил ровным голосом все громче и уверенней. Он замычал носом, засипел горлом, запел о том, как по вскрытии рек двинулся атаман Ермак с верными есаулами и с войском своим в дальний путь, молясь Всемилостивейшему Спасу.
На Туре-реке, где нынче Туринский острог, жил татарский князец Епанча. Ему подвластны были тамошние вогулы. И услышал он про Ермаково войско, собрал людей своих и напал на казаков возле большой излучины.
И не было удачи тому князцу — получил он отпор кровавый, потеряв людей множество. Но не испугался казаков — двинулся сушей напрямик к другому концу излучины. Там укараулил плывущих и снова напал.
И решили казаки наказать Епанчу — другим народам для острастки. Высадились они возле его юрт, разграбили их, сожгли и поплыли дальше с боями, разоряя по пути селенья.
На Ильин день подошли они к городку, где нынешняя Тюмень, и завладели им. Вскоре вились к ним вогулы с самоедами[24], принесли дань и предложили править ими, как прежде правили татары.
И зимовали там казаки, у самых переделов Кучумовых. Через плененных и гостевавших мурз вызнавали о хане, передавали ему приветы, уверяя, что воевать с ним не будут. А тот хан Кучум прогневил богов, зарезав родственника своего и добровольного московского данника — прежнего хана Едигера, не по праву захватил престол и владел Сибирью.
Зимовали казаки в тепле и сытости. Тамошние народы на них не нападали, а войско убывало: строгановские люди то и дело бежали тайно на Русь, и оставались с Ермаком только верные ему казаки да есаулы.
Видели и они, что их силы тают, а татарские только собираются со всех концов земли. Понимали — скоро каждому надобно будет биться с десятью, а то и с двадцатью врагами. Иные волжские да яицкие казаки тоже стали подумывать — не вернуться ли на Русь? Атаманы же говорили, что бежать некуда, а победить или умереть со славой — можно…
К своему костру Третьяк с Угрюмкой вернулись затемно, когда огонек едва попыхивал на тлеющих углях. Чуть позже пришел и Пантелей Пенда. Они подкинули дров. Закряхтел, закашлял Рябой, приподнялся на локте. Перевернулся на другой бок Кривонос.
— Что сказывали? — спросил приглушенно.
— Все про Ермака, — так же тихо ответил Третьяк, наслаждаясь благодатной тишиной.
— Про народы из дальних полночных стран приказчик Бабинов говорил! — с жаром прошептал Угрюмка, боясь нарушить настороженный покой ночной тайболы.
— Брешет! — присел на корточки Третьяк. На лице его с кривой неловкой улыбкой мельтешили тени костра. Глаза были печальны.
— Что брешет-то? — поинтересовался Рябой.
— Сказывал, будто возле ледового моря живут люди, которые в холода спят там, где их застанет мороз. Идет, говорит, промышленный, вдруг — под деревом в лесу сидит замерзший человек, из носу сосулька до земли висит. А сам живой. Настанет тепло, оттает и пойдет, будто зимы не помня! Сказывал, если соплю застывшую сломить — уже не оттает, а подохнет.
— А еще, — с жаром зашептал Угрюмка, — будто возле ледового моря живут люди без голов, с одним глазом заместо шеи. А на спине, меж плеч, у них рот. Бросит рыбину через плечо — хрум-хрум — съел, дальше пошел.
— Брешет? — неуверенно зачесался Рябой. Не поднимая головы, хмыкнул: — Сам приказчик видел или от других слышал?
Угрюмка молчал, раздумывая.
— Тот приказчик дальше Тюмени не ходил! — усмехнулся Третьяк. — Лет уж двадцать в здешних местах живет.
* * *
После встречи с братом и со станичниками все валилось из рук Ивашки Похабы: стал коня запрягать — поставил в оглобли без хомута. Монахи удивленно переглядывались, но ни о чем не спрашивали. А Ивашке вспоминалось детство. Не любил он прошлой жизни — думал, что зря те годы в злобе потерял. До заточения, едва подступались всякие воспоминания, старался напиться вином или рвался в бой. Нынче молился и работал с остервенением, пока не обвисали руки. А прошлое исподтишка, крадучись, подступалось, нашептывало о себе…
Дед Ивашки, сорванный опричниками с родной земли, так и не смог заново пустить корни. Бобылем[25] мотался по городам и острогам, теряя родню и оставляя по посадам подраставших детей. Бродничал так с редеющей семьей, пока в преклонные уже годы не пристал с последним, младшим сыном к городу Серпухову. Там, в посаде, дали ему пустовавший дом с посильным тяглом да с наказом: при осаде города дом тот и другие дома поджечь.
Здесь вырос последний дедов сын — Ивашкин отец, прозванный за безудержное буйство Похабой. Здесь он женился на такой же крикливой и нахальной девке без роду без племени. За горячность и вспыльчивость Похабу часто бивали посадские и горожане. Дед, похоронив бабку, прилепился к непутевой сыновьей семье, терпеливо снося брань и попреки.
Сколько помнил себя Ивашка, родители или дрались, или ругались. Мать то и дело подстрекала детей против отца, ожидая, когда они подрастут и станут вместе с ней колотить его.
Всю-то Ивашкину жизнь были моры, засухи, голод и поветрия, косившие людей сотнями. И в умах у всех была смута. Вчера еще казавшиеся добропорядочными, соседи вдруг без всякой причины бросали тягло, начинали бродяжничать, юродствовать и пророчествовать; смиренные попы вдруг срывались в богохульство, оставляли приходы и с кистенем под рясой чинили разбой, одни из горожан за грош душу бесу закладывали, другие бескорыстно раздавали все, что нажито.
И пронесся по Московской Руси слух, будто объявился в Литве чудом спасшийся царевич Дмитрий. Втайне радовался русский народ, ожидая избавителя и искупителя грехов своих. И вот, случилось! С хохлатыми ляхами и с черкасами в огромных бараньих шапках, с бородатыми донцами в островерхих колпаках царевич подступил к городу. Бывшие там московские дворяне, воевода да городской сход решили ему не присягать, так как подлинного царевича никто не видел, а ждать указа из Москвы.
Черкасы с ляхами и донцы обложили город. Посад пришлось выжечь, а посадским людям запереться за городскими стенами в чужих домах, в тесноте великой. Едва в городе начался голод, Ивашкины родители, будучи захребетниками на чужом подворье, передрались до полусмерти. Мать отлежалась и, не простившись с детьми, бежала к ляхам. Вскоре Похаба увидел свою жену под стенами города гарцующей на добром коне за спиной бравого усатого молодца.
Над опозоренным мужем смеялись не только враги, но и горожане. В глазах у Похабы потемнело, он выстрелил в прелюбодеев из лука, но стрела упала на землю, не долетев до них. Хохот по обе стороны стал еще громче. В слепой ярости Похаба скинул портки и показал черкасам голый зад. И покарал Господь гнев его — вражья стрела на излете воткнулась в ягодицу. Тут уж затряслись стены города от дружного хохота осажденных и их врагов. Один Ивашка смотрел на родительский позор, вытирая слезы.
Отцов умишко и вовсе помутился: вырвал он стрелу из ягодицы, замотал кушак поверх поддернутых штанов и с топором да засапожным ножом прыгнул с двухсаженной стены в ров, а выбравшись, с такой яростью кинулся на всадников, что те, смеясь и отбиваясь, отступили. Исхитрясь той заминкой, осажденные распахнули ворота, сделали вылазку и изрубили приставленные к стене лестницы.
Ивашка же видел только то, как усатый удалец с матерью на крупе скакуна подлетел к отцу. Лихо сверкнула над его головой сабля, и осел он набок, выронив топор. Конь молодца развернулся, снова проносясь мимо порубленного. Мать, вцепившись в жупан всадника, на скаку склонилась и плюнула в умирающего мужа. Сын закрыл глаза, ожидая, что небо разверзнется и ударит молния. Но этого не случилось.
Дед умирал в чулане у городского дьякона, постанывая и прислушиваясь к звукам битвы. Младший шестилетний внук Егорка беззаботно играл старой мышеловкой. Сгибаясь в проеме низкой двери, в чулан вошел дородный дьякон в куцем, обгоревшем подряснике. Тяжело дыша, скинул с потной головы шлем, перекрестился на образок в головах старика, поправил кистень за кушаком и спросил раскатистым баском:
— Живой еще?
— Живой! — виновато просипел старик, оправдываясь, что никак не сподобится умереть и обременяет добрых людей. — Отпетых схоронили ли? — спросил жалобно.
— Похоронили возле церкви! — обыденно ответил дьякон, зачерпнул воды из бочонка, жадно и неловко напился, обильно намочив бороду и грудь. Бросил ковш на лавку, добавил, отдуваясь: — Без домовин, в одной яме, но в добром месте!
— В тесноте, да не в обиде, — простонал старик. — Бог простит! Ивашка-то живой? — скосил глаза на воина в подряснике.
— Который? — глядя в сторону, пророкотал дьякон, стал рассеянно вытирать рукавом мокрые усы, и старик почувствовал неладное.
— Да меньшой, — сказал дрогнувшим голосом.
— Меньшой на стене. Живой был, когда сюда шел.
— А старший как? — обмирая, пролепетал старик.
— Бешеный-то? — Дьяк помолчал, что-то выискивая в углу чулана. — Зарубили его днесь пополудни! — выпалил, тряхнув лохматой головой, взглянул на Егорку, снова перекрестился. — Бешеный он и есть бешеный: один бросился со стены на все войско. Легко отдал Богу душу… Ты, дед, помирай себе не торопясь: вместе с Похабой и отпоем.
Дьякон потрепал Егоркины не стриженные еще волосенки и вышел. Старик с трудом перекрестился, волоча руку по немощной груди, всхлипнул и слезливым голосом стал вспоминать былое, счастливое и чинное крестьянское житье в деревне из трех черносошных семей. Егорка слушал его вполуха. Что отца зарубили, воспринимал, как что-то давнее, не свое. И тут в чулан ворвался Ивашка.
За стенами избы слышались лязганье сабель, крики и звуки равномерных тупых ударов. Егорка насторожился, со страхом поглядывая на брата.
— Ворота ломают, — поднял бессильные глаза дед.
— Черкасы! — крикнул Ивашка и упал на колени: — Дед, благослови!
Старик торопливо и немощно перекрестил его голову, бормоча: «Благословен Господь наш ныне и присно, и во веки веков…» Затем благословил Егорку и поторопил:
— Прячьтесь, Христа ради! Спаси Бог попасть под горячую руку…
Ивашка схватил брата за локоть, поволок из дома, хотел бежать в церковь, но увидел, что туда толпой валят горожане, а усталые стрельцы в малиновых шапках неуверенно сдерживают натиск казаков. И он потянул брата в другую сторону, на выстывшее пожарище с черными трубами.
Подскочив к черной, обгоревшей печи, раскидал головешки и подтолкнул Егорку. Тот юркнул под просторный печной свод. Ногами вперед к нему влез чумазый Ивашка, заложил щель выстывшими головешками.
Сильно пахло золой. Егорка чихнул. Брат шикнул на него и больно ткнул локтем. Тот беззвучно затрясся всем телом. Младший брат всегда был обузой для старшего. Из-за него ему часто попадало за недогляд от скорых на расправу родителей. Эта неделя на стенах города, этот день, когда на его глазах был осмеян, а потом зарублен отец, и мать, весело гарцующая с врагами, — все казалось сном. Только здесь, в печной темноте и прохладе, он стал понимать, что все это не приснилось, а подрагивающий от страха брат с худыми, острыми плечиками — настоящий и единственный. Впервые Ивашка почувствовал, как тот ему дорог. Понял и то, что каждый миг их могут разлучить навсегда. Ему стало страшно не смерти, на которую он насмотрелся, а разлуки с братом.
Слышалась стрельба. Ивашка забылся, прижав к себе меньшого, и привиделось ему, будто живут они в своем доме, о котором рассказывал дед, отец с матерью ласковые и радостные, а Егорка совсем мал — едва говорить научился, и все мешает, все лезет, сердя его, Ивашку. Вдруг хватился — нет брата. Выскочил на улицу и увидел свой посад: речку за огородом, болотце, через него мостки на высоких сваях. Со страхом побежал к болоту, высматривая брата. Не было его там. Задрал Ивашка голову — и увидел меньшого, бегущего по мосткам над болотом. Забраться на них снизу было не по силам, вернуться к речке, откуда начинаются мостки, — уж некогда: потеряет из виду брата, не найдет потом. И побежал Ивашка по грязи, спотыкаясь о кочки, зная, что впереди топь, и стал кричать братцу, леденея от ужаса: «Угрюмка! Мамка пряники из города принесла!» Про пряники врал, лишь бы остановить брата. Тот оглянулся, шаловливо смеясь, но не остановился, продолжая резво бежать по гулкому настилу… Ивашка очнулся в слезах, обрадовался, что это только сон, прижал к себе брата.
Где-то истошно кричала баба, слышались пьяные песни и беспорядочная стрельба: резкие, сухие выстрелы без эха. Проснувшись, Егорка громко, в голос, зевнул. Ивашка шикнул было на него — и услышал:
— Кто пищит?
— Под печкой! Пальни картечью.
— Фитиль уже защипнул, — хмуро ответил тот, кому предлагали стрелять. — Ткни саблей!
Егорка, услышав разговор, сжался в комочек. У Ивашки гулко застучало в ушах сердце. Он торопливо перекрестился и вдруг со всей ясностью понял, что одному надо вылезть. Кто догадается, что их двое? Иначе брата не спасти. И как только он решился — страх прошел, сердце забилось ровно, почудилось — рядом запели ангелы.
Ивашка смиренно выполз из укрытия, встал в полный рост. Была темень. Во мраке виднелись два человека в больших лохматых шапках. Один с пищалью стоял возле пожарища, второй, с саблей в руке, пробирался по головешкам к печи.
— Юнец! — разочарованно зевнул казак с саблей. Другой, с пищалью, проворчал со свирепой пьяной злостью:
— Такой смолу и говно со стен лил, кошевого камнем зашиб до смерти.
Пьяный казак споткнулся, неловко махнув саблей, выругался, грозно приказал: «Иди сюда!» И пополз на четвереньках в обратную сторону. Ивашка покорно сделал шаг, другой, почувствовал под ногами утоптанную землю. Казак с пищалью поймал его за рукав, но рука, скользнув, сорвалась. Тут Ивашка и сиганул во тьму.
Ему знаком был каждый переулок. Блики пламени отражались на куполах церкви. Дом дьякона, где остался дед, догорал, высвечивая часть городской стены. Ивашка бросился было к воротам, подождал немного и, услышав за спиной топот, повернул в другую сторону, к угловой башне. Навстречу ему кто-то бежал. Он нырнул под мосток. Остро пахнуло в лицо нечистотами. Топот, хриплое дыхание и бряцанье оружия отдалились. Ивашка высунулся из укрытия, резко и воровато, как хорек, осмотрелся — возле башни никого не было.
В разбитые подошвенные бойницы даже тощему мужику было не пролезть. Ивашка всунул в щель голову и руки, выдохнул из груди воздух и протиснулся в полузасыпанный ров. Одним духом он проскочил выжженный посад и, озираясь во тьме, побежал к лесу по стылой весенней дороге. Душа ликовала, что ушел от преследователей и увел их от брата. Но радость была недолгой. В темном лесу, в безопасности, вспомнил он о Егорке и заплакал.
Бывальцы из горожан говорили — в захваченном городе надо исхитриться не попасть под горячую руку. На другой день враги отгуляются, устыдятся пролитой крови и подобреют. А на рассвете Егорка вылезет из укрытия, пойдет искать знакомых. Чужаки мальца не обидят: какие ни есть злодеи, но христиане. Соседи и знакомые сироту не бросят. От того, что Ивашка убежал, всем только лучше. Но душа обливалась кровью, а в ушах звучал приснившийся отчаянный крик: «Мамка пряники из города принесла!»
Так прошел день Егория вешнего, голодного. Выдал святой Георгий казакам гонимых гневом Божьим защитников города, как ни молили его с утра о помощи. Казаки ему родней. Но несмышленого мальца, крещенного его именем и прозванного домашними Угрюмкой, не мог не защитить.
Прошло семь лет. Серпухов служил двум самозванцам, а третьему отказал в крестном целовании. Стены были подновлены и укреплены, а на месте выжженного посада появились землянки. Увидев со смотровой башни сотню бородатых донских казаков в высоких колпаках, в городе ударили в колокола. Из убогого недостроенного посада выбежали бабы с детьми.
Сотня остановилась в полуверсте от стен. На вороном коне перед атаманом прогарцевал молодой казак. Был он бос, но в шитом золотом и жемчугами кафтане. Отделившись от своих, молодец поскакал к воротам. Посадские опасливо остановились. Донец поравнялся с ними, что-то сказал, и они стали возвращаться к землянкам.
Казак подъехал к воротам, его впустили. Был он очень молод и долговяз. Сидел в седле подбоченясь. Над верхней губой золотились усики. В том, как он соскочил с коня, поклонился воеводе, приказчику и двум сынам боярским, горожане узнали своего, здешнего жителя и возбужденно загалдели. Сам казак кого-то высматривал острым глазом.
— Не посадского ли Похабы пропащий сын? — спросили громко из толпы. На лице казака мелькнула улыбка, он пристально огляделся, выискивая говорившего. Вперед вышла пожилая печальница во вдовьей поневе, и казак узнал дьяконицу. Та всплеснула руками и, зарыдав, бросилась ему на шею.
Ивашка смахнул слезы и взволнованно спросил:
— Братец жив ли?
Дьяконица зарыдала так громко, что ее подхватили под руки и отвели в сторону. Казак, побледнев, откланялся горожанам, вынул из-за пазухи грамоту с висячей печатью и с поклоном передал воеводе. Тот, осмотрев печать, развернул грамоту, пробежал по ней глазами, подал одному из детей боярских и, крестясь на купола церкви, объявил:
— Казаки примеряют на царство или молодого сына Филаретова, патриарха Тушинского, или калужского воренка, сына царицы Маринки.
В толпе закрестились, одни — с радостью, другие — с опаской. Кто-то спросил:
— А как Владислав-лях?
— Еретик окаянный! Перекреститься не желает и на Русь не едет. Донские казаки, нижегородские и казанские люди — за русского царя! — сказал воевода и добавил: — От горожан, дворян и посадских зовут выборных в Москву. — Кивнул сыну боярскому и приказал: — Читай!
Тот поднял развернутую грамоту и стал громко читать ее.
Ивашка подошел к дьяконице, глядевшей на него умиленными глазами. Она зашептала:
— Чудо-то, Господи! Сотворил Господь преславное чудо! Вчера только вернулся в город брат твой. Тощий, изголодавшийся. Спит, бедненький, не ведает, радость-то какая. Как ты пропал, у меня он жил — мать-то, бесстыжая, в городе не показывалась. После сам ушел, — рассказывала дьяконица, то и дело вытирая слезы сморщенными пальцами.
Ивашка обмирал от нетерпения увидеть брата и верил, и не верил счастью.
— Хлебнул лиха… Да что же я! Пойдем. — Дьяконица потащила его за собой, причитая и смеясь: — Радость-то какая!
В тощем тринадцатилетнем отроке Ивашка долго не узнавал брата. И тот, со сна, со страхом посматривал на молодого казака, не веря, что он и есть беглый Ивашка. Смущенно и недоверчиво братья обнялись на глазах плачущей дьяконицы.
Поклонившись могилам, набрав земли в ладанки, они отстояли молебен в церкви, где были когда-то крещены. Походили по пустырю на месте их сгоревшего дома. Тому и другому все казалось новым, чужим. И люди были не те: ни прежних соседей, ни прежнего житья, что снились и вспоминались.
Ивашка оставил дьяконице золоченый кафтан и ускакал к Москве в стареньком зипуне, но с братом.
* * *
Поблуждав среди дремучих лесов, посеченных неглубокими оврагами, среди болот и выветрившихся скал, казенный обоз под началом Ермеса выехал к Туре-реке. На левом берегу, на высоком взгорье, за редкой вырубленной рощей завиднелся город с тремя башнями и с золочеными куполами церквей. Здесь заканчивалась старая Бабиновская дорога.
Город Верхотурье был построен через пятнадцать лет после Ермаковой гибели воеводой Головиным и письменным головой Воейковым неподалеку от бывшего вогульского городища. Первые насельники из казаков и стрельцов прибыли сюда из срытого и разобранного города Лозвы, через который в прежние годы купеческие караваны шли на Иртыш.
Вскоре после постройки Верхотурья сюда были присланы на постоянное жительство вологодцы и вятичи. Так московские князья выдирали ненавистные им новгородские корни. Но семена, подхваченные буйными ветрами, давали всходы на Сибирской земле.
Никогда не осаждались неприятелем крепкие стены этого города, даже в опасности от врагов не были. Но ни в каком другом сибирском городе не случались так часто пожары, как в Верхотурье.
Ямщики казенного обоза, смахнув шапки с голов, стали креститься на купола городской Троицкой и слободской Вознесенской церквей. Кони рысцой перебрели каменистую речку и, напрягаясь, потянули скрипучие телеги в гору к огороженной тыном ямской слободе и гостиному двору. Перед тыном слободы без всякого порядка торчали крыши врытых в гору землянок, лачуг и наспех срубленных изб.
Ямщики, правившие конями, были злы: им, пашенным людям, наделенным землей и освобожденным от всех иных податей, кроме ямской, платы с обозных не полагалось. Вымучить что-либо со ссыльных волокитой и отлыниванием — было дело безнадежное: им, подневольным, спешить некуда, а для ямщиков, оторванных от земли в самую горячую пору, каждый потерянный день был дорог. Поглядывая вокруг, они переговаривались, жалели здешних крестьян, которым среди лесов и буераков пашня давалась большим трудом. Но рожь росла обильно.
Возле первых изб обоз обступила шумная толпа ярыжников, разодетых кто во что горазд. Наперебой они стали спрашивать про вино и табак, шагали рядом с возками, заглядывали в поклажу, щупали ее вороватыми руками. Вместе с толпой обоз въехал в раскрытые ворота слободы. Не отстали здешние бездельники и возле яма, где обозные сложили свой груз и поставили охрану.
Едва Ивашка присел в тени, к нему подскочил ярыжник в высоком бухарском колпаке, протянул два зажатых кулака и, плутовато ухмыляясь, спросил, в каком денежка. Ивашка пожал плечами, кивнул на правую руку.
Ярыжник разжал пустой кулак и потребовал со ссыльного пятак.
— За что? — удивился Ивашка.
— Проиграл! — стал напирать ярыжник. Его обступали горластые дружки. Кто-то схватил колпак казака, чьи-то руки тянули к себе саблю.
Ивашка лягнул в живот самого наглого. Толпа гулящих взревела, кидаясь на помощь побитому. Похаба выхватил саблю из ножен, со свистом покрутил над головой и стал рассыпать удары плашмя. Еще миг — и дело дошло бы до крови: трое из гулящих выхватили длинные ножи. Но толпа вдруг притихла и поредела.
Расталкивая собравшихся прикладами пищалей, к казаку пробились обозные стрельцы. С ними был слободской приказчик. Заметив в волнующейся толпе малиновые шапки, на шум прибежали трое верхотурских стрельцов. Пинками и тычками они выгнали возмущенных бездельников за тын и заперли ворота. Вытирая разбитое лицо, ярыжник что-то кричал про долговой пятак и грозил жаловаться воеводе.
Приказчик был в красном стрелецком кафтане, обшитом по полам, обшлагам и вороту черными соболями. Сытое, одутловатое лицо его пучками прикрывала редкая бороденка клином. Он спросил, кто старший, и, насмешливо оглядев едва говорившего по-русски немца в шляпе с обломанным пером, потребовал проездные грамоты и описи. Затем с удобством присел на истертую до блеска коновязь, вслух по слогам стал читать бумаги. Кудахчущие куры настойчиво подбирались к его новым смазанным дегтем сапогам. Он попугивал их, болтая ногой.
Наметанным глазом слободской правитель определил, что в казенном обозе запрещенных товаров нет и таможенный досмотр не нужен. Дорожный провиант, по указу, даст воевода в городе. А вот куда отправить обозных на ночлег и временное жительство — решать ему. Почтительно поглядывая на монахов, он бегло осмотрел казенное имущество, сверил по описи котлы, ножи, ружья, сабли, топоры, запас пороха и свинца — все, чем торговать запрещалось. Потом, плутовато щурясь, спросил про вино, которого у обозных не было, и, почесывая затылок, пощипывая пучки бороды, стал раздраженно бормотать, что гостиный двор — для купцов за плату, татарское подворье — для инородцев. С них же, со ссыльных, что взять? Подумав, решил разместить их по избам слободы, у крестьян.
— За добром смотрите, — наказал строго. — Гулящих возле города больше, чем здешних жителей, — их гнус из лесов выгнал. Народ вороватый, ленивый. Зимой всякий змеем изгибается, за прокорм и ночлег, любой работе рад, а летом за работы берут дорого.
— И сколько, по вашим местам, дорого? — улыбаясь, полюбопытствовал инок Герасим.
— У пашенных в работниках, при хозяйских-то харчах, меньше чем за четыре рубля не нанимаются.
— Ну и бродники! — удивился Ивашка, остывший после драки. — Нам обещали за службы два целковых в год.
— Вам казна, а им купцы да черносошные платят, — усмехнулся приказчик. — Царь — вона где, — кивнул на закат, смахнул пыль с шитого соболями обшлага и добавил: — В Сибири никто на одно жалованное не живет.
Иноки, попрощавшись со спутниками, решили пойти к слободскому священнику.
— У него и ночуйте! — крикнул вслед приказчик. — А вы, — взглянул на обозных, — по трое разберитесь — отведу по дворам. С папистом что делать? — кивнул на Ермеса. — Казаки и крестьяне в свои дома не пустят… Придется на татарское подворье вести. Все одно — нерусь.
Приказчик велел снести весь обозный груз в амбар, запер его и приставил сторожем у дверей седенького старичка-инвалида из выслуживших тягло казаков.
Ивашка при сабле, стрельцы с пищалями и бердышами на плечах, которых никому не доверяли, пошли за приказчиком по узкой улочке. Из-под высоких заплотов уже лезла сочная крапива. Ленивые свиньи грелись на припекавшем солнце. Деловито кудахтали куры, разрывая отопревшую землю.
Высокие тесовые ворота рубленого дома — с подклетом, с глухой стеной на улочку — были заперты. Приказчик налег на них спиной и принялся колотить в ворота каблуками. Скрипнул закладной брус, распахнулась калитка, показался высокий сухощавый мужик с густой русой бородой, в длинной, до колен, бухарской рубахе и стоптанных чирках, неприветливо взглянул на приказчика, на служилых.
— Давно у тебя захребетников не было, кум, поди, работы накопилось? — с нетерпеливым вызовом вскрикнул приказчик, наливаясь краской. — Ты брось-ка им соломки в сенцах или еще куда, возьми добрых людей на ночлег. Да бабе скажи, чтобы кормила справно: парни молодые. Пока сыны вернутся с прогонов, они тебе и тес распустят, и крышу накроют.
— Войдите, Христа ради! — хмурый хозяин впустил троих в чистый двор, выстеленный плахами.
— Спаси тебя Господь! — крестясь, вошли молодцы.
Слободской житель неприязненно распрощался с приказчиком, запер ворота и повел гостей по высокому крутому крыльцу в сенцы. Из сеней, согнувшись вдвое в низкой, но широкой двери, гости вошли в чистенькую избу, перекрестились на образа в красном углу, возле оконца, прорубленного во двор. По теплу оно ничем не было закрыто.
Из-за тесовой загородки, отделявшей выстывшую печь от светелки, колобком выкатилась приземистая, полная, румяная женщина, охнула, всплеснула руками. Не спрашивая, как зовут гостей и откуда они, накрошила в миску ржаного хлеба, залила молоком и поставила на стол:
— Ешьте с дороженьки во славу Божью!
Служилые поклонились, поставили пищали и бердыши в угол, сели.
— Ой да какие красавцы, — любуясь гостями, заворковала хозяйка. Тучка набежала на ее моложавое лицо. Она всхлипнула, вспомнив о сыновьях, которые другой уж день были в ямском извозе, смахнула набежавшую слезу и снова радостно захлопотала.
Хозяин, рассмотрев молодцов, подобрел и стал рассказывать, поглядывая на кафтаны стрельцов, что пахотные в слободе живут справно и вольно: над ними один злыдень — приказчик. А в городе над служилым людом всякого начальствующего сброда не счесть — и все что-то требуют.
Ивашка, чтобы поддержать разговор и рассеять мрачные думы хозяина, спросил, не свояки ли они с приказчиком. Хозяин ответил — кумовья. Он перед пахотой снял подтекавшую крышу, и тут приказчик отправил сыновей в прогоны. Одному крыть не с руки, девок брать в помощницы — слобода засмеет: тем пора уж женихов высматривать.
— Мы поможем, — весело поднялись из-за стола постояльцы.
Но тут рассердилась и стала ворчать на мужа хозяйка-толстушка. Дескать, толком не накормив, не напоив, гостей на работу гонит — добры люди засмеют.
Она позвала дочерей и пошла во двор, к не остывшей еще летней печи. Из-за тесовой перегородки, смущаясь, выглянули две простоволосые отроковицы: одна лет тринадцати, другая — меньше. Прикрывая лица рукавами, с любопытством и озорством взглянули на проезжих молодцов, выскочили из избы следом за матерью.
— Невесты! — вздохнул повеселевший хозяин. — Год-другой, а там поманят такие же… И сбегут, дурехи, без родительского благословения на край света, на златокипящую чужбину. Уж все разговоры про богатых да удалых женихов.
Теплым вечером молодые стрельцы и казак помогали хозяину накрыть разобранную крышу. Работалось спокойно и радостно. Ивашка то и дело ловил себя на мысли, будто все ему чудится: тихая сытая жизнь, спокойный зажиточный народ, запах леса и трав. Казалось, вот прервется сон — и проснется он в сыром каземате, провонявшем потом и мышами. Того хуже — в землянке, с духом крови и трупным смрадом.
Они закончили работу на закате. На западе полыхало багровое зарево. Глядя на него, примолкли постояльцы. Угадав Ивашкину тоску, стрелец сказал вдруг:
— Там пожары и кровь — здесь тишь да благодать. Вот ведь. И на все воля Божья!
На Еремея-запрягальника, когда мужики на Руси с песнями выезжают из деревень пахать землю, на плотах и стругах обоз холмогорского купца плыл вдоль скалистых крутых берегов мелководной Туры.
Встречи со здешними народами начались задолго до подъезда к городу. В укромных местах здешние жители на лодках приставали к купеческому каравану, выспрашивали, какой товар те везут и где собираются торговать, при том они склоняли к запрещенным торгу и мене на пути к городу, рассказывая всякие истории о дальних купеческих походах, из которых, де, сами вернулись нищими.
Передовщик, кивая на арестованных и сопровождавших их казаков, разводил руками. Старый казак Гаврила грозил мосластым кулаком.
Уж видны были ворота Сибири — город Верхотурье. Каков он и где стоит, обозные знали от бывальцев. Но увидев почти отвесную скальную стену в двенадцать саженей, три шатровые башни над рекой, удивлялись, задирали головы, придерживая шапки.
На утесе стоял неприступный с реки город. Над стенами, окружавшими его с трех сторон, высился купол церкви с золоченым крестом. Чуть ниже города, у Жилецкой слободы, к скалистому берегу прилепилась узкая пристань. Крутой взъезд поднимался от нее к проездной башне.
— С реки такой город не взять! — поохал Рябой, задирая бороденку на скалу.
— Можно! — поперечно прогнусавил Кривонос. — На яру вместо тына — избенки… Вон там, — указал за реку, — пушки поставить да бить непрестанно. А по той расселине без лестниц послать полсотни удальцов… Но круто!
— Я бы с посада брал! — неожиданно подал повеселевший голос Пенда и стал расчесывать бороду пальцами. — Стены не высоки, и избы зря дозволили так близко к тыну рубить. — Спохватился, крестясь: — Прости, Господи! Опять безлепицу молвил. Живут же люди без крови и злобы. Милует Бог. Отчего ж там, — указал на запад помутневшим взглядом, — одни беды?
Обоз с почетом встречали у пристани два боярских сына, таможенный целовальник, казаки и стрельцы. На крутой лестнице и у воды толпилось до полусотни гулящих, посадских и горожан.
Лодка с купцами-пайщиками, одетыми в цветные кафтаны с высокими воротами и длинными, собранными в складки рукавами, разрезанными от самых плеч, пристала к причалу. В середине встречавших стоял седой и сгорбленный ермаковский казак. Был он полуслеп, глух и поддерживался под руки детьми боярскими. Тяжелая бухарская сабля, висевшая на костлявом плече, волочилась по тесовому настилу.
Толпившиеся горожане приняли пеньковый трос. Рядом причалил тяжелый плот с арестованными и сопровождавшими их казаками. Остальные лодки и плоты обоза поплыли к главной пристани у села Меркушино.
Ермаковец Гаврила в шелковом бухарском халате, по чину поддерживаемый под локти молодыми устюжанами, первым ступил на сходни. То ли положены они были небрежной рукой, то ли сила бесовская тешилась пополудни: сходни опрокинулись, Гаврила и поддерживавшие его молодые промышленные с шумом и плеском попадали в студеную воду.
Старый казак, сердито отплевываясь, поймал на плаву и накинул на голову мокрый колпак, схватился жилистыми руками за верхний венец причала. Горожане подхватили и выволокли его на сухой настил. Гаврила раздраженно оттолкнул помощников, хмуро отжал бороду. Высокий, седой, суровый и страшный в своей мимолетной ярости, он с хриплым рычанием шагнул к увечному старичку — поликоваться с ним трижды, крест-накрест, со щеки на щеку. Едва обнял товарища, тот, подслеповато щурясь, стал брезгливо отстраняться и удивленно просипел срывающимся петушиным голоском:
— Ты ли это, Гаврила?
— Я! — пророкотал ермаковец. — Прибыл с Москвы! Царя не видел, а боярам твой поклон передал.
— А что ты мокрый и склизкий, как налим? — натужно прокричал старичок, вытягивая шею и придвигая к губам ермаковца ухо, торчавшее из вислых седин.
— Старый дурак — глупей молодого… От Туры плыву на брюхе! — прохрипел казак Гаврила с остывающей злостью.
— Молодость не грех, старость не смех! Здоров ты еще! — осклабил беззубые десны старичок. — А я вот совсем немощен. Буду проситься у воеводы в монастырь. Не берет Бог за грехи наши. Ночами бесы кости выворачивают, как на дыбе… А ты поживи. Молодых учить надо.
Дети боярские, целовальник и приказчик уважительно помалкивали, терпеливо ждали, когда старики поговорят, и только после стали расспрашивать Гаврилу об арестованных и об обозе.
Купцы-пайщики степенно сошли на причал, сотворили перед иконами по семь поклонов. И клали-то они на себя крест по-писаному, поклоны вели по благочестивой старине. Затем, кланяясь собравшемуся народу и служилым людям, стали одаривать целовальника с приказчиком аглицкими сукнами. Опять крестясь и кланяясь на московский лад — троекратно, предъявили сынам боярским проездные грамоты. А те, смущенные присутствием возвращавшегося из Москвы казака-ермаковца с конвоем и арестованными, вели себя не по чину скромно. Мельком осмотрев грамоты и пермские описи товаров, один из них спустился в лодку, застеленную медвежьими шкурами. С ним сел таможенный целовальник. Они поплыли по течению за караваном к пристани — для сверки грузов с описями. Другой сын боярский повел Гаврилу-ермаковца сушиться, приказчик — гостей к воеводе и подьячему в город. За ними последовал конвой с арестованными.
На высоком крыльце Троицкой церкви купцов и складников встречал верхотурский воевода князь Дмитрий Петрович Пожарский в собольей шапке и бобровой шубе поверх кафтана, шитого жемчугами по вороту. При нем был подьячий Калина Страхов в бобровых портах и сафьяновых, как у воеводы, сапогах.
Не удостоив взглядом арестованных, воевода стал расспрашивать переодетого Гаврилу о пройденном пути и о новостях из Москвы. Затем заговорил с купцами о делах в Устюге Великом и Холмогорах, о дальнейшем пути, о привезенных товарах и о том, чем собираются они торговать в Верхотурье, что покупать.
Гостям воевода строго наказывал, чтобы к остякам и вогулам в юрты и по речкам не ездили, а торговали, съезжаясь на гостиный двор. Подьячий, дождавшись паузы в его речи, пригрозил: если начнут-де купцы торговать в других местах, то будут ловить их и пеню чинить по указу.
— По зимнику были у нас торговые гости из Нижнего Новгорода — уж хитрющи, как бесы, — напомнил ухмыляясь. Покосился на попа, перекрестился на икону над коваными дверьми в церковный притвор. Глаза его строго блеснули, щеки зардели от властного негодования. — Хотели государя-царя объегорить, но убытки великие претерпели. — Пристально взглянул на прибывших, строго добавил: — А жить вам, купцам, на гостином дворе, а работным вашим — где примут.
Купцы с поклонами одарили воеводу и подьячего, передали священнику дар и пожертвование для церкви. Верхотурцы стали приветливей, начали расспрашивать о трудностях пути и о ценах в Перми.
Вскоре подошли сын боярский с целовальником, ведавшие делами гостиного двора. С поклоном они доложили воеводе, что запрещенных товаров и товаров сверх описи у обозных не обнаружено. Гостям же, с милостивого дозволения воеводы, объявили, что, оценив таможенную и приворотную пошлины, всякий вещевой и меновый товар, да пудовую пошлину, и с амбара оброк, и с изб тепловую пошлину, определена им плата, которую надобно внести в царскую казну деньгами или салом и медом.
Денежная сумма была названа меньше той, на которую рассчитывали купцы. Они тут же внесли ее. Подьячий записал принятую пошлину в приходную книгу, сын боярский с целовальником при всех собравшихся положили деньги в деревянный ларец, на створки которого поп накапал воска с горящей свечи, а воевода приложил к нему свою печать.
Дело было сделано. Целовальник с подьячим вытерли взопревшие лбы собольими шапками и отступились от купцов. Помышляя о делах дня, воевода поднял светлые глаза на гостей и сказал задумчиво:
— Стоит у нас в слободе обоз с государевыми ссыльными: с казаками и монахами, следуют они до Сургута-города. Взять бы вам тех людишек к себе и вместе дойти бы до Тобольска или дальше. А то ведь судов свободных у меня нет.
Приземистый, кряжистый передовщик Бажен Алексеев сын Попов и купец Никифор Москвитин с мягким, румяным лицом, оба — с услужливыми взглядами, стояли перед лучшими людьми города. Задолго до Верхотурья они знали, что судов здесь нет, но услышав об этом из уст воеводы, прикинули стоимость розданных в поминки подарков и стали распрямлять почтительно изогнутые поясницы. Сминая в ладонях шапку, передовщик удивленно шевельнул бровями и взмолился:
— Батюшка государь и заступник, смилуйся! Не поспеть нам в Мангазею на плотах да на стругах. Потеряем товары и себе, и казне в убыток. Дай нам хоть плохонькую барку, а мы государево тягло на себя возьмем.
Устюжский купец, будто бы робея, хитроумно помалкивал, водил невинными и одновременно нахальными глазами с воеводы на подьячего, настораживал уши, запоминая всякое оброненное слово. А как примолк Бажен, разобиженно вздернул нос, слезливо запричитал посиневшими губами:
— Разорение нам великое… Долги неоплатные!
— Кочей нет до самого Обдорска. Хотите не хотите, а строить дешевле у нас, — сказал подьячий таким тоном, что лица купцов мигом посуровели да поумнели, поясницы распрямились, глаза стали смотреть прямо и спокойно.
— Дам вам корабельного теса сушеного и верфь, а вы, соединясь с обозными государевыми людьми, и мне коч построите, да на своих судах казенный обоз до Тобольского города доставите. А люди те на нашем коште будут. А наемным плотникам сами заплатите, и прокорм их — ваш, — изрек воевода таким голосом, что у купцов-пайщиков прошла всякая охота рядиться. Коли на всем пути не купить судов, уже то, что в городе давали тес, да еще сухой, — было счастьем.
— А построите казне коч — будет вам от меня всякая милость! — мягче добавил воевода и обвел строгим взглядом сынов боярских. Слова его были не только лаской гостям, но и приказом для служилых — во всем прямить прибывшим. А это много значило для купцов, спешивших в полночные страны.
Пятеро донцов, нанятых до Верхотурья, сидели на берегу и с интересом поглядывали на сибирский люд, не знавший ни бед, ни нужд новгородских, московских и северских городов. Угрюмка с Третьяком помалкивали, внимательно слушая старших. Пантелей Пенда беззвучно перемалывал нескончаемые свои думы, не удостаивая собравшихся ни взглядом, ни словом. Кривонос и Рябой неспешно перебрасывались словами с местными жителями и посмеивались, удивляясь здешним порядкам и нравам.
Сибиряки охотно рассказывали о житье, жаловались на бедность, на высокие цены и немирные туринские народы, хотя на город, успевший подгнить и местами разрушиться, ни разу никто не нападал. Спрос на работных был здесь непомерно велик — при том, что бездельников поблизости бродило множество.
Все помыслы этих вольных и служилых людей были в дальних краях, где богатство само за человеком гоняется, и на Руси, где, по их понятиям, были порядок и справедливость от власти. Себя же, оторвавшихся от отчих селений на Руси и не дошедших до благодатной земли, они почитали за несчастных.
Гулящие казаки с грустью и снисхождением слушали присевших у их огонька людей как малых и неразумных детей. Скажи им, что ляхов, шведов и рейтаров, обобравших до нитки добрую половину Руси и саму царскую казну, зазвали в Кремль сидевшие там и воевавшие против своего же народа русские бояре, что это они погубили под стенами Москвы тысячи невинных душ, а теперь окружают молодого царя и шлют указы от его имени, скажи, что сам молодой царь был кремлевским сидельцем и вместе со своим дядей Иваном Романовым предавал Русь на растерзание европейскому сброду, — за такую правду здешние люди если не забьют камнями до смерти, то объявят «государево слово и дело».
Осторожно и неохотно отвечали казаки на вопросы сибирцев, удивляясь их вольной, спокойной и благополучной жизни во времена, когда на Руси идет война — и не видно конца кровопролитию.
Вдруг с гиканьем вскочил Пенда. Глаза его дико сверкали, лицо пламенело, но не яростью, а решимостью и удалью. Он поддал ногой по пылавшей головешке. Та полетела в реку, вычерчивая огненную дугу, шлепнулась, поплыла по течению, шипя, дымя и потрескивая угольками. А Пенда поклонился Рябому и заговорил с жаром:
— Правду ты сказал про Спасителя! Не радели мы за народ, как Он. Меня на плаху волокли — знал, товарищи отобьют. Его на крест вели — ни ученики, ни родственники, ни исцеленные Им не вступились. Забыли Вседержителя! — вскрикнул весело. — И мы бежим, гонимые гневом Божьим, — погрозил кулаком на закат. И плюхнулся у костра так же резко, как вскочил. — Прости, Христа ради, если сердился на слова твои строгие, — взглянул ясными глазами на Рябого.
Ни верхотурцы, ни гулящие не поняли странной выходки лохматого молодца. И так как казаки оживленно заговорили между собой о непонятном для них, стали расходиться.
Покатилось солнце красное на закат дня, к верховьям Туры. Окрасилась багрянцем река. Поблескивая чешуей, плавилась рыба. То семеня мелкими, мышиными шажками, то замирая и прислушиваясь, к казакам подошел устюжский купец Никифор. Его длинные уши торчали из-под шапки, глаза щурились в принужденной почтительной улыбке.
Он подсел к огоньку на каменистом берегу, спросил любезным голосом, довольны ли донцы отработанным рукобитьем. Казаки настороженно примолкли. Рябой с кривой леденящей улыбкой безмолвно пучил на купца усталые, с красными прожилками глаза, пристально всматривался в его лицо, пытаясь понять скрытый смысл спрошенного. Никифор, не дождавшись ответа, стал прельщать казаков дальнейшими выгодами. Рябой засопел, следя за каждым его жестом, оберегаясь чарования. А тот без намеков и расспросов предложил новое рукобитье по совести и справедливости. Он понимал, что в вольной Сибири обманом и хитростью никого не удержишь.
— Вы люди не тяглые, время еще раннее: лето впереди, — рассуждал, водя пытливыми глазами. — Помогите нам построить два коча и коломенку — мы заплатим как здешним работным. А надумаете — идите с нами в Мангазею для вольных промыслов. Мы к вам присмотрелись. Вы наши порядки уразумели.
— Куда тебе два коча и коломенка? — гнусаво пролепетал Кривонос шрамлеными губами изуродованного лица. — Еще и струги волокли от самой Перми?
— Воевода приказал один коч казне построить, — охотно ответил купец. — Сухой лес дал, верфь и жилье при ней… Нам одного только ржаного припаса надо взять с собой до тысячи пудов: там, куда идем, места не хлебные. А еще до Тобольска велено везти ссыльных и служилых с казенного обоза. Они тоже плотничать будут. Даст Бог, в три недели управимся — по полтине на работника заплатим. Пойдете на промыслы покрученниками[26] — дадим содержание, кошт и треть с добытой рухляди. Подумайте, казачки, и послушайте, что здесь сказывают про Мангазею и Енисею. Там, бывает, в собольих онучах с промыслов выходят. — Ласковая улыбка на румяном лице покривилась, а в рыбьих глазах мелькнуло что-то хитрое и торжествующее, будто купец уже прельстил казаков своими посулами.
Краснобай и дольше бы говорил сладкие речи, заманивая на промыслы, а значит, на дармовые работы в пути, но уловил, как что-то переменилось у костра: юнец в драном охабне заерзал, тощий и малорослый казачок, с безразличным видом глядевший в сумеречное небо, вдруг уставился на него немигающими глазами, да и седобородые будто обратились в один пристальный взгляд, а долгогривый Пентюх с таким вниманием стал разглядывать темляк сабли, будто собирался ее продать. Устюжанин в недоумении умолк. Рябой вскинул на него цепкие глаза, спросил резко:
— Какой казенный обоз? Не тот ли, где носатый немец в передовщиках?
— Тот самый! — кивнул купец и почувствовал, как облегченно расслабились казаки. Спросил удивленно: — Повздорили?
— Было давеча… Ничего, помиримся! А над словами твоими подумаем! — сказал Рябой.
Купец даже смутился от этакого равнодушия. Глаза его сверкнули. Говорить стало не о чем. Он принужденно пошутил о кабаках, которых в городе было несколько, дескать, хошь пляши, хошь скоромные песни пой — если есть на что веселиться, и ушел по своим делам.
Рябой, чтобы не попасть под его чарование, стал что-то нашептывать, посыпал золой следы и то место, где сидел гость. После сбросил зипун, осмотрел обложенную травами рану. Довольный стянувшимся рубцом, пробормотал:
— Вон как роса егорьевская помогла!
Ни Рябой, ни Кривонос не заговаривали о предложении ватажных. Поднялся Пенда, разминая ноги, подбросил плавника в костер. Пригревшийся у огня Угрюмка задремал. Сквозь сон он слышал, как приглушенно рассмеялся Третьяк и сказал:
— Будто у нас хлеб на утро есть… Не на верфь — так на паперть: вам про падение Адама петь, мне на клиросе — что велят.
У костра раздался тихий общий смех. Это Кривонос пошутил:
— Мне-то, красавцу писаному, и на паперти подадут! А вам… Не знаю!
Четверо снова приглушенно рассмеялись. А Угрюмка как-то чудно, боком, скатился к самой воде. Вдруг стало казаться ему, что рассвело. В реке на аршин завиднелся каждый камушек. И разглядел он в глубине красный сафьяновый сапог с загнутым острым носком, высоким каблуком и отворотом на голяшке. Вскочил на ноги, обернулся к костру — никого. Ясный день дышал в лицо прохладой и прелью соснового бора. Схватил Угрюмка жердину с рогулькой и стал вытаскивать добрую обутку. Аж под сердцем захолодело, как увидел и другой, парный сапог. Предвкушал — если окажутся велики, набью соломки и сношу, а если малы — поменяю.
Вот уж он схватился руками за каблук и за гнутый носок, потянул — и увидел, что вытаскивает из воды утопленника с косматой головой, в блещущем шишаке. Глянул на его синюшную рожу и обмер от страха, с ужасом узнав казака, что явил себя в пещере. Отпрянул Угрюмка со вскриком. А топляк вдруг жутко шевельнулся, сел, раскрыл влажные, сердито мерцавшие глаза и пронзительно захохотал.
— А-а-а! — заорал Угрюмка с бешено колотившимся сердцем. И очухался в ночи, у костра. Мигали звезды. Рябой с Кривоносом полулежа удивленно глядели на него. Пенда с Третьяком еще не ложились.
— Утопленник привиделся? — смеясь, спросил Третьяк. Угрюмка, подвывая и поскуливая, боязливо закивал. — Это мы про погибель Ермакову, прости, Господи, к ночи вспоминали.
Юнец зябко придвинулся к самому жару. Подрагивая и крестясь, распахнул охабень, выжигая причудившийся смрадный холодок, повеявший от мертвеца.
— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — повторял дрожащими губами. — Спаси и сохрани!
— До полуночи сны дурные, ложные! — насмешливо зевнул Рябой. — Что видел-то?
— Ермака утопшего! — с обидой вскрикнул Угрюмка. — Ой-е-ей! — С пытливой надеждой взглянул на кичижника. — Из реки его выволок. А он — хохотать! Страшно-то как, Господи, помилуй!
— Знать, приглянулся ты атаману! В свои, сибирские казаки зовет!
— Нет-нет-нет! Не пойду! — со слезами визгнул юнец, отчаянно мотая головой.
— Зря! — подоткнул под бок зипун Рябой. — Атаманы, цари, известные бояре — к счастью снятся. А вот поп или кто из причта… Как ни увижу — так ранят!
— Бог через них знак посылает, чтобы берегся! — вступился за церковный чин Третьяк. — Не потому ранят, что попа видел, а поп снится к тому, что ранить могут.
— Берегись не берегись — от судьбы не уйдешь! — посапывая, пробормотал Кривонос.
— Все равно не пойду в сибирские казаки! — шмыгнул носом Угрюмка, суетливо сбрасывая затлевший охабень. Перепуганными глазами зыркал во тьму на черную реку.
— Бог призовет — не спросит! — рассмеялся Пенда.
— Может, спросил бы и смилостивился, — мягко возразил Третьяк. — Да только крестьянствовать с малолетства учатся, торговле — от родителей. А нам, сиротам, или в служилых, или в работных быть. Иной доли добиться трудно! — вздохнул затаенно.
В темноте к костру казаков пришел Федотка, брат передовщика Бажена Попова, посидел у огонька, перебросился словами с Угрюмкой и Третьяком, потом, поглядывая то на Рябого, то на Кривоноса, передал наказ ватаги: если казаки согласны строить суда — пусть идут на верфь в Меркушино. Там приказчик даст кров. Если нет — пусть устраиваются как знают.
— Что скажем, братья-казаки? — обвел друзей бравым взглядом Пантелей и сам же ответил: — Надо помочь! С Ивашкой свидеться или заработать на вольные харчи.
— Не пропадать же с голоду! — степенно согласился Кривонос.
В Меркушино, побродив среди ветхих землянок, подгнивших амбаров и кровельных навесов, под которыми сушился корабельный лес, пришел в себя после забытья и морока удалой казак Пантелей Пенда. Ранним утром он ворвался в тесную землянку, где отдыхали товарищи, и стал ругать здешних плотников — откуда, мол, руки растут. Глядя на него, повеселели Кривонос с Рябым. Зевали, посмеивались в бороды, поддакивали.
Не дожидаясь пайщиков, Пенда высмотрел удобные места близ воды, где можно заложить кочи и коломенку, приглядел лес что получше и взялся за работу, всех поучая, хватаясь за одно да за другое.
Устюжане и холмогорцы сперва зыркали на него с недоверием, но подчинились, потому что сами слонялись по верфи, не зная, с чего начать. По случаю они были рады и такому приказчику, а вскоре поняли, что Пендюх, как звали Пантелея меж собой, — человек мастеровой, хоть и казак. Холмогорцы стали величать его Пантелеем Демидычем, похваляясь, что Великому Новгороду для величания царского указа не надобно[27].
Складники перестали наделять казаков харчем, теперь ужинали все вместе. На завтрак и полдник хлеб они получали выпеченным.
После долгих переговоров с купцами и меркушинским приказчиком вернулся Пантелей в землянку затемно и сразу лег. Наутро он поднялся первым, товарищи в сумерках выпучили сонные глаза, глядя на него. Рябой как раскрыл рот для зевка, так и обмер.
— Чего уставились? — пожал плечами Пантелей, надевая колпак.
Рябой с Кривоносом были так поражены, что не сразу заговорили.
— Чевой-то, думаю, у Пендюхи морда — сикось-накось? — неприязненно постанывая, запричитал Рябой.
Скинул Пантелей колпак — волосы были обрезаны в кружок, выстриженная борода что кочерыжка и только родовой чуб свисал на щеку.
— Ирод! Что с собой сделал! — загундосил Кривонос. — Ладно бы патлы поповские остриг — бороду почто испоганил, как папист?
— В смоле вывозил! За пазуху прятал — не уберег! — беспечально ответил Пантелей. — Ничего, другая вырастет, даст Бог.
Здесь же, на верфи, изогнувшись коромыслом, крутился долгоносый еретик с казенного обоза. Он все у всех выспрашивал, поучал, путая слова, горячо спорил из-за всякой мелочи. При этом пытливо вперивался в работных пристальным взглядом начальствующего человека. Сердясь, плотники хотели поставить его распускать плахи нижним пильщиком. Но еретик черновой работы чурался. Пошлявшись без дела, всюду гоним, заперся в курной избе, и по верфи прошел слух — читает колдовские заговоры о вредительстве. Обоз ные стрельцы и промышленные прибежали к ссыльным монахам, варившим смолу, стали просить их освятить избу, где заперся еретик, а самого его окропить святой водой, чтобы не нес тарабарщины.
Вскоре Ермес стал работать ни с кем не споря и оказался неплохим мастеровым: покорно распускал лес, тесал плахи. Обозные решили, что его вразумили монашеские молитвы и святая вода. Но приказчик сообщил за соборным ужином, что окаянный подал воеводе чертежи новой верфи и быстроходных судов, а о себе велел сказать, будто учился в навигационной школе в Риме.
К Николину дню воевода учинил обход города, слободы и верфи. В окружении сынов боярских и приказчиков он въехал на верфь на гнедом жеребце. Возле часовенки Николы Чудотворца, покровителя всех православных сибирцев, всех плавающих, странствующих и в дальний путь собирающихся, сыны боярские сняли воеводу с седла.
Помолясь с обступившим его работным людом, он сел в сколоченное наспех кресло, покрытое медвежьей шкурой. Ему вложили в руки саблю в ножнах и ларец с царскими грамотами. Князь-воевода был немало удивлен, что за короткий срок на верфи появились остовы судов, и велел привести к себе строителей.
С благословения купцов и монахов устюжане с холмогорцами подвели к воеводе пред его светлые очи Пантелея Пенду с остриженной головой и бородой, едва скрывавшей щеки.
— Чей ты будешь, детинушка? — пристально разглядывал его князь. — Под чьими знаменами воевал? А ведь мы с тобой встречались. Не припомню где, но помню, что не дружески!
— Не прогневись, князь, виделись мы в Москве, в доме Пожарских на Сретенке. Брал я с казаками на саблю дом брата твоего, Дмитрия, да тын сломал, когда тот стал хвалить шведского королевича на Московский трон, — безбоязненно отвечал Пантелей, глядя на князя прямо и спокойно. — И вы, Пожарские, теперь в царской милости, и меня государь простил, что радел за него, как за Господа. Ради него и двор ваш ломал.
У воеводы болезненно сузились глаза и зардели щеки.
— Не меня — князя Дмитрия Михайловича, благодетеля вашего, бесчестили, — резко и досадливо укорил казаков за прошлое.
— Все не без греха! — усмехнулся Пенда с нетерпеливым вызовом в глазах. — Когда брат твой служил стольником царю Дмитрию, я при палатах в карауле стоял, — покривил губы воспоминаниями. — После венчания царя с Маринкой усадили их на трон, а они ногами до пола не достают. Я вроде и в угол отвернулся, и прыснул-то со смеху тихонько. А брат твой с другого конца залы услышал и спину мне кнутом распустил… А когда я его, порубленного, отбивал да тащил в монастырь, он повинился: дескать, в зале той из одного угла в другом всякий шепот слышен. Не высеки он меня тогда — с обоих бы головы сняли… — Печальная насмешка над прошлым не долго печалила лицо казака. — А после царского развода я гулящий! — добавил, мотнув головой и вскинув прояснившиеся глаза. — Пришел в Верхотурье из Перми с купеческим обозом.
Купцы со складниками прислушивались к разговору воеводы с Пендой и холодели от страха. Они уже лихорадочно соображали, как откреститься и отречься от работного, если случится княжеский гнев.
Задумался князь, нахмурив лоб, изогнул дугой черную бровь. Ветер, пахнувший с реки, шевельнул мягкий черный ворс собольей шапки, играючи, обнажил голубой подпушек. Ласковое майское солнце заблистало в каменьях перстней на его пальцах. Опечалился и он воспоминаниями. Кашлянув, не стал прилюдно говорить о прошлом, но предложил:
— Оставайся на моей верфи приказчиком! Положу жалованье как конному казаку и будешь в моей милости.
У дородного холмогорского передовщика да у купца-устюжанина, стоявших перед воеводой без шапок, только что испуганные лица стали печальными, как перед новым побором. Они уже оценили радение и мастерство Пенды. Бажен Попов от досады сморщился так, что кабы не красный облупившийся нос, его лохматые брови спутались бы с бородой. При таком соблазне и при таком покровительстве удержать этого самого казака, напоминая о рукобитье, мог только Господь Всемогущий. Уводили работного высокой милостью, с которой не им, купчишкам, тягаться.
Вдруг, к удивлению обозных, Пантелей сказал с поклоном:
— Благодарю, князь, за честь, связан я словом с устюжанами и холмогорцами, иду с ними промышлять в полночные страны.
Передовщик ушам не поверил, но обветренное лицо его разгладилось, лохматые брови поднялись высоко. Воевода же подумал, что на душе казака черным камнем речным лежит непрощенная обида, и сказал с укором:
— Твоя воля! А то, что было — быльем поросло. Видишь сам — ни ваша, казацкая, правда не взяла, ни наша, княжеская. А Божьей правды нам, грешным, не понять.
Пантелей опустил глаза. Откланялся. Не так, как принято на Дону, а ниже. По московским же понятиям — едва кивнул, к неудовольствию и опаске купцов. И отошел он в сторону, снова перебарывая печаль пережитого, которую, казалось, уже сбросил с груди.
К князю подвели Ермеса в таком коротком заморском кафтанишке, будто ему собаки полы отгрызли. Тот откланялся на фряжский манер, помахав шляпой со сломанным пером, поскакав на цыпочках, как черт на копытцах, переломился в поясном поклоне, увидел, что из дыры в носке сапога вылезла солома, стал пальцем всовывать ее обратно. Среди сынов боярских пронесся ропот. Им показалось, что еретик насмехается над собравшимися честными христианами. Но князь развеселился, глядя на пленного. Рассмеялись и они, угодливо сменив гнев на милость.
— Ознакомились мы с твоими челобитными, — приветливо кивнул ему воевода. — Сколько времени надобно тебе, чтобы перестроить верфь?
— Месяц! — на латыни коротко ответил ссыльный и добавил с важным видом: — Мои корабли будут ходить быстро — в три, четыре раза быстрей здешних.
— Сколько денег просишь на те работы? — тоже на латинском языке протараторил князь.
— Тысячу талеров!
— Он берется строить большегрузные суда. Но как их до Иртыша вести по мелководью? — спросил по-русски князь, обернувшись к приказчику.
— Надумал канал рыть! — насмешливо ответил тот. — Или сплавлять на надутых бычьих кожах.
Воевода махнул рукой, и сын боярский отпихнул заморского мастера в толпу. Тут воевода приметил среди работных инока в подряснике. Указав на него пальцем со сверкнувшим перстнем, тихо спросил приказчика:
— Кто это?
— Ссыльный, Герасим, — сказал тот, учтиво склонившись. — Следует до Тобольска. Тамошние церковные власти решат, куда его определить на духовную службу.
Подведенный к воеводе монах взглянул на него, сверкнув светлыми, как драгоценные камушки, глазами, и поклонился по-монашески низко, пальцами двух рук касаясь земли.
Передав саблю и ларец с грамотами сынам боярским, князь встал из кресла, поглядывая на монаха удивленно и опасливо:
— Не ошибся! А ведь столько народу прошло перед глазами с тех пор! Думал, грешный, что тебя умучили. Помню, сильно прогневил ты государя, храни его Господь. Патриарха — и того более.
Ни у того, ни у другого не повернулся язык напомнить о винах инока, обличившего патриарха Филарета, что получил волю и митрополичий посох из рук одного царя, им же обозванного самозванцем, патриаршество — от другого самозванца. Благодетеля своего, царя Шуйского, предал, паписту-ляху крест целовал…
— Простили и сослали! — просто ответил монах, не зная, можно ли прилюдно напоминать князю о том, где они виделись.
Воевода земского ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский под Калугой сделался болен и передал князю Дмитрию Петровичу власть над войском. Но подначальная ему рать из черемисов и татар перед боем разбежалась. Молодой царь и его двор, ненавидевшие Пожарских, так разгневались, что князь стал узником в Троицком монастыре и содержался в одной келье с монахами.
Не посмел и верхотурский воевода вспоминать о былом заточении при подручных людях, но и не отвернулся от знакомого, за милость к которому мог и нынче поплатиться. Движением руки подозвал стоявшего у кресла сына боярского и велел передать монаху добротную однорядку, стоившую дороже хорошего коня. Но не сейчас, а на Николин день.
Удивляясь великой княжеской милости, дети боярские стали обносить работных медом, поднесли чарку и Ивашке Похабе.
— Благодарю, князь, спаси тебя Господь и брата твоего Дмитрия Михайловича, — сказал он, принимая чарку. Выпив, кивнул инокам, Герасиму с Ермогеном: — Не узнал! Ну и ладно — без того велика честь.
Он не мог не сказать доброго слова о сроднике воеводы князе Дмитрии Михайловиче и о земском предводителе, купце Минине. Это их хлопотами была дана от царя воля холопам и кабальным, бившимся в земском ополчении. Их заботой шел Ивашка в Сургут-город, а не к богатому мужику на холопскую казнь.
Ссыльный Ивашка Похабов жил в одной землянке с казаками. Была она тесна. Из очажка дым по-черному поднимался сквозь решетку из прутьев, на которую бросали мокрую обувь и одежду, клубился по низкому потолку и выходил через дверь.
Вечерами передовщик бил в клепало[28], висевшее у часовни. На верфи затихал перестук топоров. Умывшись, работные собирались у ватажного костра. Из котлов шел дух каш и мяса, хлеба и кваса. Приварки раскладывали парящую еду по чуничным котлам. Кто-нибудь из иноков по знаку пайщиков читал молитву Господню. Пели все, а Третьяк громче всех, притом закатывал глаза, любуясь своим голосом.
Получив благословение, работные садились по чину и братски переламывали хлеб. Ели неспешно и благостно, по пятеро-шестеро, черпая ложками из котлов и отщипывая хлеб от караваев. Утолив голод обильной едой и питьем, ждали, когда доедят другие. Торопливость за соборным столом осуждалась. Поднявшись разом и помолясь, сытый народ расходился по землянкам и избам для отдыха, молитв и веселья. Многие из работных, ополоснув ложки и котлы, устраивались возле ватажного костра, поджидая, когда отдохнет и наберется сил старик-сказитель.
С рассветом все начиналось заново. Работали купцы-пайщики, промышленные складники и покрученники, работные, стрельцы и ссыльные монахи. Кашеварил сам передовщик, не доверяя другим или имея такое призвание. Он властно, со знанием дела приказывал, что в какой котел класть, и снимал пробу. Баюн, пленный Ермес и две меркушинские старухи были у него в приварках.
Ермес то и дело тыкал себя пальцем в грудь и лопотал, что он учился в поварской школе в Стокгольме, служил кулинаром у полковника Гносевского. Все, что ни готовил Бажен, казалось ему пресным. Ермес доваривал и досаливал свой котел, из которого ели еще и литвины с бритыми лицами, но каждый из своей чашки. Окаянный пробовал угощать из своего котла русских работных и убедился: что для европейца изысканно, для русича — отвратно.
Паписту не верили, строго следили, чтобы при варке над котлом не наклонялся, слов непонятных не шептал и сам бы в варево ничего не клал, не подсыпал. Старец, бывало, всхрапывал возле очага, но стоило Ермесу приблизиться — тут же открывал выцветшие глаза.
Пантелей носился по верфи, поспевая сразу в нескольких местах. Кривонос, Рябой и Третьяк называли его Пендой, обозные да работные верфи величали Демидычем. Пермяки звали Пентерей[29]. И так радел он за строившиеся кочи, что не всегда приходил ночевать к казакам.
Кривонос с Рябым были в большом почете у приказчика. Тот приставил к ним молодых учеников из города. Третьяк на всяких работах старался держаться поближе к монахам, услужить им и послушать их, часто уходил с ними на всенощные молитвы. Угрюмка и работал, и спал рядом с братом. Но, оставшись с ним вдвоем, скучал. Ивашка или наставлял его на ум, или пускался в рассуждения о правде жизни, наслушавшись монашеских разговоров.
Угрюмка с затаенной горестью поглядывал на него из угла. Все казалось ему: вот-вот придут на ум нужные слова, он их скажет и облегчит душу. Но вместо этого, раз за разом что-то перебарывая в себе, кусал губы.
И раз, и два наказывал Ивашка своему братцу меньшому здороваться со старшими первым, а не ждать, когда те его заметят. Но опять пожаловались работные: стоит, дескать, юнец, пучит на них глаза, а не кивнет даже.
Как ни сдерживал себя старший брат, как ни старался быть ласковым и спокойным, однажды вспылил, крикнув резко:
— Ты что же казаков позоришь!
Угрюмка втянул голову в плечи, опасливо взглянул на него зверьком с кривящейся улыбкой на посиневших губах, и обиделся втайне, больше чем на слепцов, много издевавшихся над ним.
— Ты объясни! — сдерживая себя, хрипел Ивашка. — Почему перед купцами хвостом метешь, а от честного люда морду воротишь?!
Не знал младший брат, что ответить, лишь краснел, бледнел и отмалчивался. Может быть, ждал, что старший обнимет и попросит прощения за все его поганое детство. Работным он стал кивать и кланяться при каждой встрече, будто невестке в отместку. Те только вздыхали, поглядывая на него жалостливо: «Сирота!»
По вечерам Угрюмка делал вид, что слушает брата. И все как-то молчаливо улыбался ему, кривя уголки губ, и заставлял себя думать, что брата доброго дал ему Господь. Только тот вспыхивает, как береста, да трещит, как хворост. А так ничего. Чаще он молчал, зевал, ложился спать рано, а уснуть не мог. Потом стал убегать к обозной молодежи для шалостей и веселья, оставляя брата наедине с мыслями.
Ивашке становилось страшно за них за обоих. Вспоминались непутевые родители, жуткий сон под выстывшей печью на обгорелом подворье. И от бессилия хотелось ему задрать по-волчьи голову и завыть.
Здесь, в Меркушино, у ворот Сибири, станичники почувствовали, как без споров и страстей пролег между ними дружеский, ласковый разлад: дружба, родство — дело святое, торги да промыслы — дело иное. Рябой, поглядывая на товарищей, старчески шевелил впалыми щеками, кряхтел, постанывал от былых ран. Кривонос мучился душой: болела она у старого казака за братьев. Это он когда-то отбил у озверевших мужиков тощего юнца, напомнившего ему свое сиротство. Избитого и заморенного Ивашку везли на казнь за то, что, спасаясь от голодной смерти, продал себя в холопство, а отъевшись, бежал.
Отбил его Кривонос не по правде — из неприязни к тамошнему народишку. Но случилось, что стал ему юнец вроде сына. Перебарывая себя и смиряясь перед неизбежным, он и начал разговор, которого все ждали и смущались.
— С Хопра-притока шли мы тебя спасать, — напомнил Ивашке, глядя на него налитыми тоской глазами. — Не леший завел — душами заплутали. Теперь уж каждый сам по себе. И я, грешный, думаю: коли не пойдешь ты назад, мне-то зачем на Дон возвращаться? Останусь здесь, на верфи. Вдовицу найду, даст Бог, или при церкви доживу в тишине и покое.
— Меня на Дону никто не ждет! — вспыхнул было, огрызнулся Ивашка и спохватился: — Прости, Христа ради! За добро твое не отслужил, старость твою не могу поддержать. Здесь неволей своей остаться с тобой не могу. В бега, на Дон — не хочу. И не могу. Позвал бы за собой — не пойдешь.
Понимали казаки, что оказались на распутье. Каждый выбирал свой путь, а куда он приведет — ведомо лишь Господу. Одно было ясно: помолясь друг за друга, отдав крестное целование, идти им дальше врозь. Свидятся ли еще на этом свете — неизвестно. Но там, на милостивом Суде Божьем, все равно встретятся и поведают друг другу о прожитом.
Набрался духу Ивашка, понимая, что товарищи ждут его слова, потому что ради него оказались здесь, стал говорить — то досадливо, то высокопарно, то приниженно, — что царским указом и Божьим промыслом дойдет с ватажными до Оби-реки, а после, при каком-нибудь казенном обозе, — к месту службы в Сургутский острог. И другого пути ему нет.
— Кто со мной пойдет — буду молить воевод о вас. Возьмут. В Сибири служилых мало, — говорил, не надеясь, что товарищи откликнутся. Иначе на добро их добром ответить он мог только молитвами.
Все молчали, опустив глаза. Это не удивляло Ивашку. Но молчал и Угрюмка: сидел насупившись, не поднимая глаз, терпеливо пережидал тягостный разговор.
— На Тихом Дону Ивановиче у меня родни не счесть! — вздохнул Рябой, старательно ополаскивая ложку. — Бог дал родиться казаком, им я и предстану на Суд. Господь не любит, когда о других пекутся, своих забывая… Да и степь снится. Здесь такого синего и ясного неба никогда не бывает. Соловьев, сверчков услышать хочу… Говорят, царь опять пожаловал донцов дарами и знаками отличия. Куда ему без нас!
Как ни трудна была сиротская судьба на Руси, не сравнить ее с униженной долей незаконнорожденного. Третьяк родился в семье торгового человека, уехавшего по делам на полтора года. Мать тайно жила с посадским вдовцом и прижила от него третьего сына. Когда вернулся муж, она оставила семью и ушла с младенцем в посад. Не скоро и не дешево удалось найти попа, который окрестил Илейку. На том родной отец посчитал свой долг исполненным и вскоре умер, а мать, бросив сына в его семье, постриглась в монастырь и там вскоре тоже умерла.
И остался Третьяк без приюта, без роду и племени, унижаем чужими и родными хуже холопского сына. Едва смог себя кормить — стал ходить по наймам. У нижегородского человека продавал яблоки и горшки. Ездил сидельцем в Москву, служил в кормовых казачках у разных хозяев. На судах плавал по Волге от Нижнего до Астрахани.
Житье бурлацкое ему быстро надоело. Очутившись в Казани, он нанялся вместо племянника стрелецкого пятидесятника и ходил в поход против турок. Военное житье ему нравилось — не нравилась зависимость. Жизнь научила надеяться на чужую помощь и искать ее. И пристал Третьяк к вольным казакам: подружился с двумя потомственными станичниками и через них вошел в казацкий круг.
Когда он вспоминал свое житье, даже бывальцы не верили — нипочем, дескать, в его годы всего, о чем говорил, не поспеть пережить. Все что мог Третьяк — это достойно нести в себе свое страдание, от позора рождения до телесного уродства. Ничего другого Господь ему не дал, взыскивая за грехи родителей.
Увидев Сибирь, он не думал о возвращении. Почем хлеб служилого человека — знал. С интересом слушал всякие небылицы о дальних странах, но не они прельщали. Втайне от казаков манила его судьба, для которой по малорослости и неказистости своей он меньше всего подходил: хотелось пахать землю, называться мужиком, жить в крестьянстве крепким домом и большой семьей, где он, Третьяк, был бы и кормильцем, и милостивым государем. И каждый год мечталось радоваться великому чуду, как мать сыра земля рождает росток от брошенного человеческой рукой семени. В многогрешной военной жизни не открылось Третьяку никакой иной правды, кроме крестьянской: матери-земли, рождающей хлеб, и матери-жены — рожающей землепашцев. И смутно блазнилось сироте, что где-то там, за урманом, вдруг отыщется такая доля и ему.
Угрюмка с завистью поглядывал на старшего брата и думал, что тот в своей жизни и погулять успел, и по палатам кремлевским походить, и в застенках царских посидеть. А что Бог дал ему, кроме нужды и унижений? А ничего! Без Ивашки он и в станице — нищий бродник, которого всякий может захолопить, и здесь, на сибирской украине, не находится возможности зацепиться за сытое и надежное место. И несет сироту бурным течением неизвестно куда из-под самого Серпухова. Но там он был хотя бы своим, посадским сиротой.
Вспоминая, на какую долю увез его брат со двора горожанки-дьяконицы, Угрюмка так озлоблялся, что даже лицо его кривилось. «Не пойду в Сургут нахлебником при ссыльных!» — решил твердо. Знал наверняка: сперва стань богат, а после уже, безбедным, в славе, с миром в душе, служи царю или Господу. Нет пакостней и продажней людей, чем люди голодные. Так думал он, почтительно слушая казаков, ни словом, ни взглядом не выдавая сокровенных мыслей: до Тобола-города было далеко. А хотелось сказать со светлыми слезами: «Не брани ты меня, милый братушка. Отпусти ты меня в путь-дороженьку. Видно, так на роду мне написано, видно, так на судьбе мне завязано — плыть далече, в страну полночную».
Пенда тряхнул родовым чубом, поднялся, заговорил обдуманно, с лицом спокойным и уверенным в своей правоте.
— Там, — кивнул на закат, — нас победили! Хоть и воюют до сих пор, а конец уж ясен. Не ляхи с литвинами, не рейтары, а хитроумные бояре с их помощью победили свой народ. Теперь они станут требовать себе шляхетских вольностей, как в Речи Посполитой, а нам — холопства навек. — Он обернулся с печальной усмешкой к Рябому: — Ласкает, говоришь, царь донцов? Привязанного быка хозяин так ласкает, занося нож, чтоб не дергался. А казаку Бог жизнь дает, чтобы правде послужить, честь и славу добыть! Какая честь в войне со своим же народом? За счастье почел бы я голову сложить за Русь, за святые наши церкви. Да как? Не сами же бояре будут за свои вольности сабельками махать — нас и пошлют против своих же. Дураки хитрыми и лживыми не бывают. Куда нам с ними тягаться — все равно обманут! В Сибири служить? — обернулся к Ивашке. — Тем же боярам через воевод и приказчиков покоряться. Своей кровью их победе славу воздавать! Нет! Поищу-ка я чести на новых, неведомых землях, как атаман Ермак. Так оно верней!
За всю дорогу от Москвы не говорил он дольше и складней, чем теперь. И вот сбил на ухо колпак, поклонился и, не дождавшись, что скажут казаки на его слова, вышел из землянки. Дел было много.
От зари до зари не утихала верфь. Кривонос работал в окружении посадских учеников, наслаждаясь почтением, поучая плотницкому делу и жизни. А как затухала заря темная, вечерняя, работные люди зазывали его к себе на ужин, а то и на ночлег, который у здешних жителей был обустроен лучше и удобней, чем у ватажных. Третьяк уходил к монахам. В землянке оставались Рябой, Угрюмка да Ивашка. Душевных разговоров у них не получалось, и была одна радость после трудного дня — послушать сказы баюна.
Старичок, исполняя возложенное на него тягло, устраивался у костра, поднимал подслеповатые глаза к черному небу, где молодой месяц средь чистых звезд показывал золотые рожки или луна укрывалась темным облаком, потом он крестился непослушной рукой и продолжал песнь про честного атамана Ермака Тимофеевича, про удалую дружину русских воинов, которые шли в Сибирь пограбить да устрашить местные народы, приносившие много вреда восточной стороне Руси, а добыли здесь славу великую.
Слушали промышленные и работные люди, как безбедно зимовало в Тюмени Ермаково войско. Но не склонились казаки ко греху от сытости и продолжали отмаливать пред Господом свои вины. Ермак же Тимофеевич молился непрестанно и пуще других чувствовал свои прежние согрешения: только и думал — как избыть Божий гнев.
И не оставил его милосердный Господь, в Святой Троице славимый Бог наш сведал сокровенные мысли и смилостивился, вложив в сердца атамана, есаулов и казаков добрые помыслы — идти без страха против басурманского царя Кучума, который православным христианам много горя принес.
И услышав глас свыше, Ермак с товарищами воздал хвалу Господу, и Божьим соизволением оставили они сытый город, поплыли стругами вниз по Туре-реке, во владения Кучумовы, хоть и слышали они, что собрал хан огромное войско. Ермак же в пути поддерживал ратный дух товарищей, говоря: «Не множеством полков победа дается, а помощью свыше».
И там, где впадает Тура в реку Тобол, в укромном месте подстерегали казаков шесть татарских мурз с войсками. И напали они на струги казацкие. И вступили казаки в бой без страха, и бились несколько дней, и взяли такую добычу, что не смогли везти ее с собой и зарыли богатства в землю. Сказывают, до сих пор ищут тот клад христиане и басурмане, а найти не могут.
Поплыли казаки дальше по Тоболу и дошли до устья реки Тавды, что впадает в Тобол по левому берегу. Но тамошние народы не дали им плыть вольно: возле Бабасанского юрта[30] встретило казаков войско ханского сына, царевича Маметкула.
Ертаульный[31], передовой отряд без страха вступил в бой и бился дерзко, пока не подошла казацкая рать. Ермак же бросился в сражение с такой отвагой, что кровь полилась рекой, и поле покрылось горами тел, и вражьи кони не могли пробиться сквозь них.
Когда руки казаков обвисали от усталости и не могли уже поднимать сабли, являлся им святитель Никола и ободрял, и прибывала сила в плечах. И шла непрерывная сеча пять дней. На шестой — басурмане дрогнули, гонимые гневом Божьим, побежали вместе с царевичем.
Миловал Бог воинов Ермака, но на мученика Афиногена[32], когда и пташки Божьи вспоминают о зиме, снова призадумались они: от земли Русской ушли далеко, войско казацкое поредело, а сила Кучумова только собирается со всех концов земли Сибирской.
Там, где остановились они для отдыха и подкрепления, начиналась старая дорога на Русь через Югорский камень. Идти дальше в глубь Сибири — путь никому не ведом. Стоять на месте — быть в беспрерывной осаде. Собрались казаки на круг, стали думать и спорить меж собой: те, что хотели испытать судьбу в Сибири, говорили одно, те, что хотели вернуться, — другое.
Дольше всех думал храбрый атаман Ермак Тимофеевич и, выслушав товарищей, поклонился Честному Кресту, Спасу, братьям по оружию. Боевая труба вострубила, и сказал он: «Ой вы, братья, атаманы и казаки — донские, волжские и терские! Примите решение здравым умом, чтоб нам не выбрать себе доли горькой и бесславной: на Волге нам жить — разбойниками слыть, на Дону нам жить — опальными быть, и здесь, в Сибири, ни покой, ни покорность народов не обещаны. Не шуточное дело мы содеяли, как разбили лодку-коломенку и разграбили казну государеву да из мушкета немецкого пулькой свинцовой убили посла царского. И теперь, как вернемся на Русь без победы, государь на нас разгневается. Разгневается и велит всех нас перехватать — по городам разослать да по тюрьмам. А меня, Ермака, велит повесить, потому как великому мужу и честь велика. А ежели мы государю нашему повинную принесем с землицей Сибирской, царь над нами смилуется и простит нам вину великую».
Выслушали атамана казаки и решили единодушно — Честной Крест друг другу целовать, чтобы о возврате на Русь не думать, на врага идти без страха, умереть друг за друга, но добыть славу великую…
Сморил сон старца, и работные стали расходиться для ночлега. Пантелей Пенда с Ивашкой Похабой долго еще сидели у ватажного костра, глядя незрячими глазами на затухающие угли.
— Вот ведь, — вздохнул Пантелей, — тоже грешны были. А Бог помиловал, наградил и прославил.
— И я говорю! — встрепенулся Ивашка. — Хватит отчину разорять. Служить ей надо. Цари меняются — народ и земля остаются!
— Самой земле только крестьянин служит, другие — через воевод, через бояр и царя, — вдумчиво возразил Пенда. — Разве мы Дмитрию или Михейке неверно служили? И не заметим, как царь да бояре бесам предадутся. Через них и сами станем антихристу служить.
Уставился Ивашка на товарища мутными глазами, не нашелся что сказать. Вскочил на ноги и закричал с негодованием:
— Да не так все! Ты у монахов спроси! Они умные. Они скажут!
Пенда не дрогнул, не шевельнулся, задумчиво глядя снизу вверх на товарища:
— Ответ-то перед Господом самому за себя держать! — проговорил тихо и внятно. — На монахов не сошлешься!
В конце мая, на святого Василиска, когда на Руси начинают петь соловьи, суда были готовы к спуску. Слободской и городской священники освятили их, работные с молитвами спустили на воду. Устюжские и холмогорские купцы, как принято от века, накрыли столы для всех работавших, выставили брагу и мед, угощали кашей и рыбой.
Прибывший на освящение судов воевода князь Пожарский осмотрел новые кочи, белой ручкой, унизанной перстнями, поколупал смоленые борта, каблуками сафьяновых сапог потопал по палубам. Затем повеселевший воевода спустился на берег, сел в приготовленное кресло, сказал, что доволен работным людом, и пригласил всех желающих под свою милостивую руку для работ при городе Верхотурье, в слободы и посад.
Старые казаки Рябой с Кривоносом встали из-за стола и поклонились ему. С завистью глядел на них Угрюмка, но сам не посмел подняться, холодея от мысли встретиться взглядом с Ивашкой. А сердце его опять сжималось от жалости к самому себе, слезы готовы были покатиться из глаз.
Князь отпил меду из одной братины и послал ее начальным да работным с верфи, отпил из другой — послал купцам-пайщикам да своим приказчикам.
Работные же подняли чаши за здоровье милостивого князя, справедливого воеводы, за его пособников — приказчиков, детей боярских и всех верхотурских людей.
Вот и пришла пора расставаться. Отстояв литургию, Ивашка слезно поклонился Кривоносу, обещая всю оставшуюся жизнь молиться за него, а доведется первым предстать перед Господом, то замолвить слово за благодетеля.
И Кривонос смахнул благодарные слезы с посветлевшего лица, на котором разгладился даже сабельный рубец, благословил воспитанника благословением родительским, отпуская в дальние края и в суровую жизнь. Зазвучали слова, которых Кривонос никогда прежде не произносил, и показалось Ивашке, что напутствует его не казак, а родной дед — почудился вдруг его полузабытый голос.
— Будь ты моим словом крепким укрыт в ночи и в полуночи, в часе и получасье, в пути и дороженьке, во сне и въяве — сокрыт от силы вражьей, от нечистых духов сбережен, от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, в огне от сгорания. А придет час твой смертный, ты вспомяни, мое дитятко, про любовь родительскую, про хлеб-соль, обернись на родину славную, ударь ей челом семерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.
Откланялись казаки своим старикам, Рябому с Кривоносом. Ватажные с молитвами оттолкнули от берега груженые плоты, струги, коч и коломенку, осторожно вышли на проходимые глубины реки. А как прошли они мелководье, купеческие товары и ржаной припас, купленный в Верхотурье, перегрузили с плотов на коч, догрузили коломенку. Вскоре увидели они за кормой черный дым до самого неба. Это горел город Верхотурье.
Холмогорцы с устюжанами налегли на весла, помогая течению нести суда, втайне радовались, что миловал Бог вовремя убраться с верфи. После пожара всех бывших в городе купцов ждали большие поборы в пользу погорельцев. Чтобы не отвернулась от ватаги удача за радость греховную и не оставил Бог милостью, купцы велели монахам наложить на всех десятидневный пост и следить, чтобы пустыми разговорами народ себя не тешил, а только молился.
К кочу то и дело подходили на лодках местные жители и вели мену. Они рассказывали, что Туринск возник благодаря ямщикам — как ям между Верхотурьем и Тюменью. Здесь, на месте юрта мурзы Епанчи, сначала была устроена ямская слобода, позже поселились казаки и пашенные крестьяне.
Крестясь на купола городской Борисоглебской церкви, поминая в молитвах первых русских святых князей Бориса и Глеба, которые и при явной угрозе для своей земной жизни не подняли мечей на единокровного брата, холмогорцы, устюжане, промышленные, ссыльные да служилые неспешно плыли по реке и с печалью вспоминали свою вздорную, скорую на распри родню.
Мелкая своенравная Тура несла караван к полноводному Тоболу. Один из стругов шел впереди, промеривая глубины, за ним осторожно двигался тяжелый коч. По знаку передовщика люди на коче с криками носились с борта на борт, отталкиваясь шестами то от одного берега, то от другого.
За кормой коча шла тяжелая барка-коломенка с ржаным припасом. На ней плыли казаки. И не было здесь ни криков, ни суеты. На корме сидел Пантелей Пенда, на носу — Ивашка Похабов, по бортам — Третьяк с Угрюмкой да ссыльные усатые черкасы. Все они лениво и неспешно поглядывали по сторонам, прислушиваясь к плеску воды на перекатах. Время от времени кормщик указывал рукой в ту или иную сторону. Казаки упирались шестами в дно или налегали на весла. Выйдя на стрежень, двое подгребали, удерживали судно от разворота, остальные ложились на мешки с рожью и подремывали.
Вот и прибыли в самый старый из русских город Сибири — Тюмень. Закончив дальний путь, здесь сошел на берег тюменский казак-ермаковец Гаврила. Как с родственником, простились с ним ватажные и обещали, если будут возвращаться тем же путем, навестить — живого или мертвого, а до той поры молиться за него.
Обнял старик Угрюмку да Третьяка, наложив на них крестное знамение рукой, рубившейся за атамана Ермака. Он уже знал, какую долю выбрали молодые, проворчал тому и другому на ухо:
— Не дело гоняться за богатством. Служить надо — остальное тебя само найдет!
Обнял седого ермаковца Пантелей. Поклонился ему по-казацки, не снимая шапки, и простился. Не было у него мыслей о возвращении.
Купцы не стали торговать в Тюмени, поспешая в полуночные страны: высадили на берег старого казака, предъявили грамоты тюменским целовальникам да сынам боярским и продолжили путь.
Дородный Бажен Алексеев сидел на корме коча и обиженно хмурил нависавшие на глаза брови. Купцы-пайщики переругались между собой. Поповская родня перегрызлась с москвитинской — и все из-за неумелого кормщика. Уже к полудню сплава по Туре сам передовщик был чуть жив от усталости, холмогорцы с устюжанами валились с ног, и все же по нескольку раз в день им приходилось сниматься с мели.
Кормщиком на коч избрали Никифора Москвитина, длинноухого, с редкой бедняцкой бороденкой устюжского купца-пайщика. Всегда настороженный, он внушил раздосадованным промышленным уверенность, что будучи кормщиком, на мель коч не посадит.
И правда, едва Никифор начал править гребцами, отмели стали встречаться реже. Ватажные даже подняли парус, но ветра не было, и парусина полоскалась на мачте. Гребцы сонно гладили веслами воду, слушали плеск волны, редкий скрип уключин, отдаленное пение птиц. Наслаждаясь летним солнцем и прохладой реки, они то и дело впадали в такое блаженное состояние безвременья, что не хотели уже ничего другого, только бы сидеть так в полудремотном забытьи до скончания века.
Но юный Федотка Попов, сколько на него ни шикали земляки, сперва тихо и ненавязчиво, потом громче стал приставать к посапывавшему сказителю:
— Дед! Не здесь ли Кучум цепи натягивал, чтобы не пустить Ермака? Вроде яр? Только невысокий?
Старичок, дремавший на солнце, встрепенулся, задрал голову, помигал подслеповатыми глазами, спросил, который день плывут от Туринска и не дошли ли до Иртыша. А выслушав ответ, зевая и постанывая, стал моститься, чтобы снова лечь.
— Дед, мы, наверное, на устье Туры. А может быть, в Тоболе: впереди вода до края, другой берег далеко.
— Пологий берег-то? — спросил старик.
— Пологий! — отвечал Федотка.
— Тобольск не скоро! — старичок снова сел. Нахохлившись рассерженным воробышком, поежился, пошмыгал носом в белой бороде и стал выискивать в голове слова былины про эти места. Гребцы бросали на юнца рассерженные взгляды, с сожалением стряхивали с глаз блаженную дрему.
— Чего пристал? — проворчал кто-то из холмогорских родственников. — Будет вечер — будут сказы! Надо было прошлый раз слушать.
Но старик, путавшийся во времени, уже услышал в себе вещий голос и заговорил нараспев о том, как на святого преподобного Макария[33] вышли струги казацкие на устье Туры-реки, что впадает в Тобол с правой стороны. И встретилось им главное ханское войско, где крутой, высокий, длинный яр.
Увидел на том яру Ермак силы несметные, и дрогнуло его сердце. Взмолился он ко Господу, и была его молитва услышана: знамя с образом Спаса само собой поднялось с места и пошло левым берегом по течению реки. Увидев чудо, воспряли духом казаки, двинулись за знаменем без страха. Бесчисленные стрелы летели в них и не причиняли вреда. А как миновали они опасный Долгий яр, так знамя снова встало на свое место в струге.
Увидел хан Кучум, что силой казаков не одолеть. Стал думать хитрость. У Караульного яра, где Тобол узок, а берег крут, велел протянуть через реку цепь железную и поставил при ней большой отряд. Сказывают, будто Ермак, узнав о засаде и ханской хитрости, оставил в стругах по одному только кормщику, а вместо казаков рассадил чучела из хвороста. Сам же с остальными сошел на берег и напал на врага с суши.
А татары в то время видели, как над плывущими стругами засверкало облако. И в том облаке, в сиянии чудном, появился царь, престол которого несли на плечах крылатые воины. И держал тот царь в руке обнаженный меч и грозил им. И если кто в видение стрелял — отнимались руки, а на луках рвалась тетива. И напал на басурман великий страх. И побежали они.
Ермак же с казаками дошел до Иртыша. Здесь, возле устья Тобола-реки, жил знатный татарин Карача. На первый Спас, на святую Авдотью-малиновку, напали казаки на его улус и добыли еды вдоволь и богатство всякое. Захватили они много золота, серебра и драгоценных камней, хлеба, скота и меда. И, благодаря Господа за победу, решили легкий Успенский пост держать сорок дней, чтобы вымолить у Бога другие удачи и помощь.
На Покров Пресвятой Богородицы хан Кучум вышел на битву с новым войском. Ермак с казаками, помолившись, двинулся навстречу без страха. И долго бились они, а устав, отступили друг от друга без победы. И так стояли войска одно против другого три недели. Сделался вскоре лютый холод, и казаки, чтобы не замерзнуть, решили напасть на врага — победить или погибнуть.
Крикнув «С нами Бог!», бросились они на войско Кучумово и, потеряв в бою сто семь товарищей, разгромили его. Были в том бою у хана Кучума пушки. Но казаки словами заповедными заговорили их, и пушки стрелять перестали. Сказывают, хан в ярости сбросил их с высокого берега в Иртыш. Спасая жизни, бежали с поля боя хан Кучум с царевичем Маметкулом.
Заперся хан в своем городе Искере. И было ему видение, будто окружили его крылатые воины и убеждали покинуть страну, которой правил не по праву. Собрал хан драгоценности и на другую ночь бежал с близкими людьми и мурзами.
Казаки же на святого Дмитра, когда воробей и тот под кустом варит пиво да поминает всех павших в битвах за Русь, подошли к ханской столице, чтобы взять ее боем. Но Божьей волей она была пуста.
Так славный казак Ермак Тимофеевич со своими атаманами и есаулами сел в Искере, стал править землями сибирскими и многими народами. И послал он к русскому царю есаула Ивана Кольцо с казаками. Те отправились в зиму на лыжах и нартах по Волчьему пути, через Тавду и Чердынь…
Запал у старца заканчивался, последние слова он напевал, позевывая и шамкая. Белая голова мотнулась, свесилась на грудь. Но настырный юнец, с любопытством поглядывая по сторонам, не отставал:
— А после на том месте Тобольск срубили?
Главный пайщик разлепил сомкнутые веки, раздраженно пошевелил бровями и ответил братцу:
— Тобольск-город на Иртыше строил письменный голова Данила Чулков. Это на двенадцать верст ниже татарского Искера.
Бажен бывал в Сибири и был наслышан о Тобольске. Он посмотрел на берег, потянулся, расправил по груди густую бороду.
— А что старый Искер и здешний народ? — теперь стал приставать к брату Федотка.
— Искер — не старый был город, а татары — пришлые, — Бажен повел дородными плечами, потер затекшие руки. — Прежде тут жили чудские народы и другие — неведомого имени. Сказывают, ушли в землю бесследно.
Старик-баюн посапывал, приткнувшись головой к мешку с душистыми сухарями. Гребцы бодро поглядывали вокруг, веселей двигали веслами. К Федотке с любопытством придвинулся конопатый устюжанин Семейка Шелковников. Кто-то из холмогорцев на носу коча хотел уже запеть, но оборвал песню на полуслове, кашлянул и притих. Поддержанный вниманием ватажных, Федотка спросил брата:
— Как уходят в землю? Она же твердая?
— А как казаки норы роют, прячутся и живут в них? — усмехнулся в бороду Бажен. — Залезли в погреба да в ямы, стали копать, а кровлю над собой подожгли, чтобы других следом не пустить. Так, наверное.
— Зачем? — опять спросил Федотка.
— Может, Бога прогневили, — пожал плечами брат. — А может, хотели переждать лихие века. Придет срок — объявятся.
Караван плыл мимо пологих берегов с заливными лугами. Пройдя мелководный перекат, коч и коломенка вышли на глубокую воду. По знаку кормщиков гребцы придерживались стрежня, не давая течению развернуть судно поперек реки.
Удалившийся далеко вперед ертаульный струг вдруг встал на якорь. Караван неторопливо приблизился к нему. Плывшие на судах люди увидели на правом берегу при впадении Тобола в Иртыш множество суетящегося народа. На песчаной отмели, покрытой редким корявым тальником, сохли длинные лодки с задранными носами и кормами.
Взглядам обозных открылось странное зрелище. В разноцветных пестрых халатах, в чалмах и в высоких колпаках вокруг лодок бегали, махали руками торговые бухарцы. Один, по пояс голый, с обритой головой, высунув синий язык, висел в короткой удавке на сучке корявой лесины. Ноги его были поджаты, колени касались земли. В стороне, у курящихся костров, собралось до полусотни русских людей. Неподалеку от них паслись стреноженные кони.
Увидев торговый караван, русские и бухарцы стали махать руками, зазывать к берегу. Устюжские и холмогорские люди велели всем промышленным и служилым приготовить ружья, сами опоясались саблями и повели малые суда к берегу. Коч и коломенку они оставили на стрежне, бросив на дно каменные якоря.
Как выяснилось вскоре, русские люди стояли здесь табором со вчерашнего вечера. Они шли из Тобольска в калмыцкие степи искать золото в старых курганах. Бухарцы в этом же месте пристали нынешним утром по великой нужде: два их судна повредили днища на перекате. Курганщики, увидев терпящих бедствие, бросили веревки и вытащили лодки на берег.
Много бухарского товара было испорчено. На солнце сох листовой табак, который последние годы высоко ценился не только среди ясачных народов, но и среди русского населения. Сохли ткани и фрукты. Нанятый бухарцами вож-лоцман повесился, едва выбрался на сушу.
Осмотрев на берегу суда, бухарцы обнаружили, что тонули они не по его вине. В верховьях Иртыша китайцы продали им сгнившие лодки, обклеенные смоленой бумагой и кожами. Сделано это было так искусно, что подделка обнаружилась только здесь.
Обозные купцы ходили среди разложенных для просушки товаров, цепким взглядом высматривали выгоду в чужой беде. А выгода могла быть не малой. Если вольная торговля винами запрещалась, то за табак сами бухарцы на гостиных дворах рядились до двухсот рублей за пуд.
Ивашка с Угрюмкой равнодушно осмотрели восточные сладости и ткани, крестясь, прошли мимо удавленника и направились к русским кострам с не убранными еще после ночлега седлами и потниками. Тоболяки толпились возле приставших судов, предлагая стрельцам и промышленным в обмен на запрещенные к торгу порох и свинец золотые безделушки из курганов.
К костру, возле которого присели братья, подошли гулящие в рубахах из крашеной холстины без всяких оберегов и вышивок. Одежда курганщиков удивила Похабовых. Они хотели отойти к другому костру, но рыжий детина с хитрющими глазами кивнул им как близким.
— Высоко цените свои спины! — усмехнулся с укором и добавил разобиженным голосом: — Велика беда — воевода выпорет! В Тобольске на золотник девяносто копеек товарами дают. Чем вам продавать — сподручней из могильного хлама пули лить… — Рыжий рассеянно взглянул на Ивашку, потом еще раз — пристальней. Лукавые искорки в его глазах погасли, губы стали подрагивать. Он силилось выглядеть веселым, но лицо его удивленно вытягивалось. Детина долго буравил молодого казака пристальным взглядом, потом сбил шапку на затылок и с недоумением спросил: — Где я тебя видел прошлым летом?
— На Москве, в гостях у царя! — ответил Ивашка насмешливо и небрежно. — Прямо оттуда следую до Сургута.
— Бреши! — с досадой перебил рыжий. Рот его, опушенный кучерявой бородой, как-то чудно перекосило. Он желчно осклабился: — По курганам твоя морда знакома. Ты прошлый год калмыцкий скот угонял? У меня глаз верный. Помню, какому-то нехристю голову отрубил…
— Видел удальцов, — раздраженно хмыкнул Ивашка, — но тех, что покойников грабят, впервой! Пусть и калмыцких!
— Это не калмыцкие могилы, — обиженно возразил другой гулящий в опояске с крестами. — У них морды плоские, да и не закапывают они своих покойников. Это золото принадлежало нашему народу, что в землю ушел и города свои бросил: черепки у покойников наши — остромордые… Свое у своих берем!
Рыжий вдруг хлестнул себя ладонью по лбу, отступил на шаг и несколько мгновений не мог выговорить ни слова, а только разевал рот. Затем он кинулся к другому костру, приволок оттуда под руку мужика в крестьянской рубахе и шапке, отороченной горностаем.
— Вспомнил! — указал пальцем на Ивашку и перекрестился. Глаза его сверкали, на щеках алели пятна. — Вот чудо! Покажи-ка морды! — приказал мужику.
Пахотный, взглянув на Ивашку, отпрянул, икнул, выпучил глаза и, боязливо отмахиваясь левой, правой рукой троекратно перекрестился. Удерживаемый рыжим детиной, он дрожащими руками достал из кожаной сумы две золотые бляхи, смыкавшиеся между собой хитроумным сцепом. На одной из них была искусно отлита или выкована голова в островерхом казачьем колпаке, похожая лицом на Ивашкину, но с пышной бородой. На другой — круглая, с пухлыми щеками, голова степняка: то ли мертвая, то ли со смеющимися, смеженными в щелку глазницами, большая, крепкая рука держала ее за косу и соединялась с ней выемкой.
Угрюмка, взглянув на поблескивавшее золото, тоже перекрестился. Сходство было сильным. Только подлинный брат был моложе казака на бляхе. Ивашка же долго рассматривал безделушки, не понимая, отчего рядом с ним испуганно перешептываются. Он несколько раз соединил и разъединил бляхи, разглядывая, как устроен разъем. И ему вдруг так захотелось иметь эту безделицу, что готов был снять с себя все, кроме сабли, и отдать курганщику. Ивашка поднял глаза и спросил, что пашенный хочет за бляхи. Но тот под его взглядом только мычал отступая и мотал головой. Затем он и вовсе убежал седлать коня.
Рыжий, притащивший пашенного к братьям, тоже был в растерянности. Вокруг них собиралась толпа курганщиков. Все они, поглядывая на бляхи и на Ивашку, испуганно расспрашивали, какого тот роду-племени и где жил прежде. Услышав, что ссыльный царским указом водворяется в Сургутский острог из монастырских застенков, курганщики заволновались, стали переругиваться между собой, обвиняя кого-то в чем-то.
Пенда с Третьяком увидели, что вокруг дружков едва не дерутся, придерживая сабли, побежали на подмогу. Но курганщики уже не обращали внимания ни на казаков, ни на Ивашку с золотыми бляхами. Они собрались в круг и, о чем-то переговорив, споро стали седлать и запрягать коней. Рыжий опасливо подскочил к костру, возле которого стояли казаки, схватил седло с переметной сумой, заступ и убежал, ни слова не говоря.
— Эй! — шагнул следом Ивашка. — Зипун дам!
С ним никто не торговался. Косясь на золото, курганщики разбегались. Вскоре, погоняя коней, они двинулись в сторону Тобольска, откуда совсем недавно выехали в калмыцкую степь.
А на берегу среди разложенных на солнце товаров шел тайный торг. Бухарцы и купцы азартно рядились. Несколько раз они сходились, чтобы ударить по рукам, и опять все расстраивалось из-за какого-нибудь пустяка. Из-под сухого дерева, почти не дававшего тени, поджав ноги, высунув язык, на них щурился удавленник.
Подмокший табак купцы выменяли за два крепких смоленых струга. Все равно они не были пригодны для плавания по морю, а глубины стрежня позволяли догрузить коч и коломенку. Китайские и бухарские ткани были выторгованы за пушнину, тайно наменянную в пути от Камы до Верхотурья.
Бухарцы остались сушить товар и хоронить покойника. Их путь лежал в Тюмень, где с давних пор они торговали беспошлинно. Ватажные переправили грузы на коч и коломенку, сами перебрались в них. Здесь сразу стало людно и тесно. Подняв каменные якоря, отталкиваясь шестами, люди развернули коч и коломенку по течению, вывели их на стрежень и поплыли вниз по полноводному Иртышу.
Догорала заря темная, вечерняя. Розовела и блекла рана небесная, зашитая иглой булатной, ниткой шелковой, рудожелтой, стянутая пеленами вечными. Караван пристал к берегу. Люди стали высаживаться на сушу.
Продуваемый ветром, пологий песчаный берег вытянулся на полверсты. Вдали виднелись безлесые холмы. Задрав тупой смоленый нос с восьмиконечным крестом, в тихой заводи встал коч. Стрельцы и казаки с уханьем вытаскивали на песок груженую коломенку. Неподалеку от воды, на открытом месте, обозная молодежь раздувала костер.
Теплым вечером радостно плескалась рыба, пуская круги по воде, клином расходились волны от острых щучьих спин.
— И где мы? — озирался старичок, в сумерках сведенный по сходням с коча.
— Под Тобольском! — ответил устюжский складник Лука Москвитин. — Недалеко уж!
Места были ему знакомы. И двух лет не прожил Лука в Устюге Великом, вернувшись на Иртыш, где торговал и промышлял несколько лет. На отчине он начал после возвращения латать дом, но бросил: тот так обветшал без хозяина, что легче было срубить новый. Отдала Богу душу хворая жена. Старшие дети отделились и жили крепко. Все переменилось на родине, и Лука никак не мог найти себе кормовое место по душе. Брат его Гюргий, тоже бившийся всю жизнь в нуждах на разных промыслах и на мелкой торговле, много расспрашивал о Сибири. От услышанного загорелся отправиться на дальние промыслы и стал подговаривать к возвращению Луку. Тот не противился, только удивлялся сам себе: простился с Сибирью беспечально, да, видать, она его присушила.
— Проспал Ермакову могилу, дед, и я, грешный, запамятовал! — весело прокричал он на ухо старику.
Да и не до того было, чтобы оглядывать берега, случился день суетный. Долго простояли с бухарцами, а после еще коч с мели снимали. Радуясь и благодаря Господа, что не застряли посреди реки на ночь, проплыли мимо Епанчина юрта.
Ночь была тихой. Прохлада и ровно веющий речной ветерок угомонили гнус. Жарко горел костер, дым и пламя поднимались к звездному небу.
— Дела и заботы наши! — виновато вздыхал кормщик Никифор. Ему было стыдно, что ругал Бажена, а сам на большой иртышской воде недосмотрел отмель. — Надо было побывать на Ермаковой могиле, — лепетал услужливо и суетливо. — Помолиться да земельки взять. Путь далек. Один Бог знает, что впереди. — Устюжанин виновато поглядывал на холмогорского купца и старался задобрить его.
В котлах подходила каша. На углях допекался свежий хлеб. Бажен, с раскрасневшимся лицом и опаленными бровями, снимал пробу: долго дул на ложку, ворчал на приварков. Пошевеливая бородой, задумался, смежил веки. Но вот расправил усы и, довольный пробой, кивнул, велев раскладывать еду по котлам.
Когда парящую кашу разнесли, разложили хлебы, разлили квас по кружкам, ватажные и служилые поднялись на соборную молитву. Потом сели, каждый возле своего котла, и братски преломили хлеб. Насытившись питьем и едой, придвинулись к огню. Трудный, но благоприятный день, тихий вечер, звездное небо и тепло костра объединяли всех тихой радостью. И только монахи незаметно удалились для ночных молитв.
Старичок, отоспавшись днем, к вечеру ожил и повеселел. Когда пришел его черед, прокашлялся, поправил растрепавшуюся белую бороду и подрагивавшим голосом запел о Ермаковой погибели:
— Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим им достойную хвалу. Вспомним, как их Господь Бог прославил да многими чудесами превознес. Как отреклись они от суетного мира и недолговечного своего земного житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа и желали только ему угодить, царю-государю послужить да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за веру православную. И в том уверившись, ожесточили они сердца свои непоколебимо, чтобы оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать.
Не прерывая мелодии, выводимой носом и горлом, старец отдышался и запел о том, что у хана был слуга, за прежние вины приговоренный к смерти, но до поры гулявший на воле. И принес он ханским воеводам весть, будто на лошади переплыл на остров среди Иртыша и видел там казаков спящими.
Хан не поверил повинному, пообещав удавить его утром. Тогда он снова пробрался в казацкий табор и принес три русские пищали да три ладанки.
На этот раз хан отправил на остров лучших мурз с войском. Воины прокрались к казакам и многих передушили, перерезали спящими. А тем, кто Божьим промыслом проснулся и вступил в бой, крикнул Ермак Тимофеевич громовым голосом, чтобы прорубались к стругам. Сам же отступал последним, заслоняя товарищей своих, и бился как разъяренный лев.
Просеклись его друзья-товарищи к стругу, оттолкнулись от берега. Пробился к ним и Ермак Тимофеевич. И отбился уже от наседавших врагов. Осталось только прыгнуть в струг — и спасся бы атаман. Но было на нем два панциря. Бесовским умыслом и Божьим попущением он оступился в потемках, рухнул в воду и утонул.
Так закончилась земная жизнь атамана, которую долго не могли отнять враги. И было это в ночь на Преображение Господа Бога и Спаса нашего.
Мертвое тело отыскалось на Отдание Преображения Господня у татарского селения. Внук татарского князца ловил рыбу и увидел человечьи ноги в воде. Он захлестнул их петлей, вытянул тело на берег. По панцирям тамошние жители догадались, какого утопленника принесла река.
Мурза хотел снять с мертвого Ермака панцири — но из тела носом и горлом полилась кровь. Татары удивились нетленности плоти и стали думать, нельзя ли как-то отомстить атаману за свои обиды.
Собрались на берегу басурмане, положили раздетое тело на помост, и каждый пускал в него стрелу, а из ран текла и текла свежая кровь. Прискакал к ним хан Кучум со знатными мурзами, с остяцкими и вогульскими князцами. Мстя за обиды, сам колол Ермака саблей, пока не устала рука.
И так лежало тело атамана шесть недель. И дивились татары, что ни одна птица не села на него. В то время многим из них во сне были видения, что тело надо похоронить. Из-за тех видений некоторые тамошние насельники лишились ума. И стали они раскаиваться, что плохо обошлись с мертвым. Стали жалеть, что при жизни не избрали атамана, которому так щедро помогали боги, своим ханом.
И похоронили они Ермака Тимофеевича по татарскому обычаю на своем кладбище, на правом берегу Иртыша. Зарыли тело под сос ной, устроили тризну, на которой съели тридцать быков и десять баранов.
Один панцирь атамана был дан остяцкому князцу Алаче, другой взял мурза Кайдаул, живший там, где отыскалось тело. Его родственник Сейдяк взял кафтан, а сабля досталась мурзе Караче.
И обнаружилось вскоре, что те вещи исцеляют больных, помогают при родах, на охоте и на войне. Мусульманские муллы запрещали говорить об этом, наказывали не прикасаться к Ермаковому оружию и к его одежде, запрещали указывать место, где погребен славный воин. Но каждую субботу над могилой мерцал свет, как от свечи, а в родительские субботы появлялись столбы пламени до неба…
Долго молчали у затухающего костра ватажные люди. Слушали, как потрескивают угли, смотрели на пламя, на звезды, и каждый думал о своей доле. Старец-баюн поклевывал носом. Кто-то из устюжан приглушенно всхрапнул и стыдливо осекся.
— Вот и нам, — с печалью напомнил холмогорец Бажен сын Алексеев Попов, — не забыть бы, что удача балует до поры. После за нее Бог взыщет.
Угрюмка же с ужасом поглядывал на черную реку, в которой поблескивали звезды, и все мерещился ему хохотавший утопленник, все казалось, что веет от воды жутким запахом тлена. Он долго не мог уснуть, и так и эдак укладываясь у костра. Ляжет спиной к реке — чудится, будто ему в спину смотрит бородатый муж в шишаке. Ляжет лицом — в каждом плеске волны блазнился скользкий утопленник, выползающий на берег.
И вот после долгого пути завиднелся в небесной дымке город на горе. Издалека различались его высокие рубленые стены, купола церквей и теремов. И над всеми ними высоко вздымалась восьмигранная сторожевая Спасская башня. Выше туч подняла она над Сибирским краем православный крест.
В трех верстах от Тобольска караван пристал к пологому песчаному берегу неподалеку от обнесенной валом пашенной слободы. Из распахнутых ворот, придерживая сабли, вышли три казака. Один из поднявшихся на борт представился слободским приказчиком. Не требуя с купцов ни проезжих грамот, ни подарков, предупредил, что в окрестностях Тобольска нельзя торговать оружием, панцирями, шлемами, копьями, саблями, ножами, топорами, железом и вином. Другой казак, осанистой наружности, лукаво ухмылялся:
— В городе сплошь старые ермаковцы. Они друг перед другом куражатся, кто праведней службы несет, а меж собой все спорят, кто подлинный ермаковский, кто с Болховским, Глуховым да с другими князьями в Сибирь пришел. Спуску от них вам не будет. А потому вы бы нам заповедные товары продали да и плыли бы со спокойной душой.
— Родимые! — сочтя себя обиженным, запричитал холмогорец, зыркая из-под косматых бровей. — Все, что по недосмотру в Перми дозволили провести, в Верхотурье да в Тюмени отняли. В тамошних городах мы припас хлеба купили — и тот с песком. В Мангазею уж не для торга следуем — на промыслы, чтобы босыми не вернуться по домам. — Губы купца вздрагивали, руки не могли найти места. Длинноухий Никифор в подмогу холмогорцу закатывал глаза и отчаянно крестился.
Уверения купцов в несчастьях ничуть не тронули казаков, они только досадливо отмахивались — дескать, из полночных стран нищими возвращаются только дураки и пропойцы. Правда, таких много повсюду.
Справившись о слободских ценах на хлеб, купцы стали искренне сокрушаться, что купили припас в Верхотурье. Они зазвали приказчика с казаками на коч, угостили их, расспросили о городе, его людях и порядках.
К тобольской пристани караван подошел после полудня. Отсюда город на горе и крест на башне казались вознесенными под самое небо. Как ни трудно было удивить граждан Великого Устюга и Холмогор искусными деревянными стенами и храмами, но и они охали, оглядывая Спасскую башню в двадцать пять саженей высотой.
От пристани к базару тянулся долгий взвоз с ярусной лестницей в две с половиной сотни ступенек. По ней неспешно спускались тобольские небожители в дорогих одеждах. Шли они встречать гостей и узнать новости из дальних западных стран.
Купцы-пайщики, устюжане и холмогорцы принарядились, суда украсили зелеными ветками и цветами. Казаков, которые не имели другой одежды, кроме той, что была на них, просили скрыться с глаз.
В первом ряду прибывших встречали тобольские казаки и дети боярские в меховых шапках с суконными верхами. За ними толпились барышники и гулящие, для которых каждый караван был и поживой, и вестью с родины.
Не увидев среди встречавших подручных людей воеводы и письменного головы, о которых много было выспрошено у слободских казаков, Бажен Алексеев разгладил по груди бороду, крестясь на купола церквей и на чудотворный образ, висевший над пристанью, ступил на свежие плахи настила. Вперед себя он пустил только ссыльных монахов. Тут все они сотворили семипоклонный начал по писаному, по ученому да по благочестивой старине.
— Всему честному народу православному! — кланяясь на три стороны, приговаривал степенно Бажен сын Алексеев Попов. — Верхотурские казаки и тюменский Гаврила Иванов — Ивану Грозе, Гавриле Ильину, Пинаю и всем ермаковским служилым велели первым поклоном кланяться.
По сведениям, собранным в пути, в Тобольске служили бывшие ермаковские соратники со своими родственниками, казаки письменного головы Чулкова и первостроители, числом до пяти сотен. Атаманом старой ермаковской сотни был Гаврила Ильин, лет с двадцать гулявший с Ермаком да после него служивший в Сибири три десятка лет. Конными казаками правил престарелый ермаковский есаул Иван Гроза.
Среди встречавших в первом ряду стоял увечный и слепой атаман Пинай, строивший Верхотурье, Туринск, Тюмень, другие города. В молодые годы он прибыл в Сибирь с пятью сотнями стрельцов под началом князя Болховского — на помощь Ермаку. С приходом этого отряда начались несчастья, голод, мор, которых боялся и ждал Ермак, как предвестника своей гибели.
Пинай в числе немногих выживших в Сибири стрельцов после гибели атамана ушел на Русь, но вскоре вернулся с другим отрядом и теперь, в немощной старости желал одного — сделать вклад в Чудов монастырь в память об убиенных товарищах да с миром отойти за ними.
Купцы, складники, служилые, монахи и Ермес-передовщик ушли в крепость на поклон к воеводе и письменному голове. Покрученники, обозная молодежь да Ивашка Похабов со ссыльными остались при судах. Тобольские дети боярские и целовальник наложили восковые печати на купеческие товары и поджидали таможенного голову. Возле судов крутились местные ярыжники и гулящие, заводя разговоры.
Донцы при саблях сидели на борту коча у пеньковых тросов и поглядывали, чтобы чужаки не лезли на суда. А те, за разговорами будто забываясь, то и дело старались сойти с причала. Двух особенно пронырливых и настырных Пенда с Похабой скинули в воду под хохот собравшихся. Литвины с черкасами на коломенке тоже не церемонились с нагловатым людом. Но к ним, ссыльным по иноземному списку, не так охотно подступали с разговорами.
Сквозь толпу, собравшуюся на причале, уверенно протиснулись странного вида гулящие. На голове одного была лихо заломленная соболья шапка, на плечах висела короткая кожаная рубаха, замшевые, до дыр вытертые штаны были заправлены в стоптанные ичиги. За ним шел дружок или родственник в шубном кафтане, надетом на голые плечи.
— Здорово ночевали, казаки! — Детина в собольей шапке подступил к Пантелею Пенде, но на борт не полез, назвался: — Я Васька Ермолин по прозвищу Бугор! Это мой брат Илейка, — кивнул на кряжистого и мордастого парня в шубе. — Не слыхал?
— Не слыхал! — сдержанно ответил Пантелей, — А говор у тебя знакомый. Где жил, где гулял?
— Я везде гуляю, — неопределенно ответил верзила, смахнул шапку на ухо, сел на край причала, свесив ноги к воде. Брат его тоже присел напротив донцов. Васька спросил: — Куда путь держим?
— На Березов! — ответил Пантелей. Ему понравилось, что гулящие не переступили черты, хотя шли как на приступ, а теперь сидели с таким видом, будто предстоял долгий разговор.
— А далее? — насмешливо оскалился Бугор, поблескивая белыми зубами в бороде.
— А дальше — как Бог даст, — ожидая, что нужно гостям, ответил Пантелей. Сияющее лицо Бугра, молчаливая приветливость его брата успокоили казаков. — Думаем, в Мангазею, промышлять! — добавил нехотя.
Гулящие рассмеялись. По толпе на причале тоже прокатился сдержанный смех. На недоуменные взгляды казаков Бугор весело ответил:
— Пока за Камнем услышат, где соболь, — там его уж нет. Повыбили возле Мангазеи, нынче за Турухан ходят. — Белозубая улыбка опять сверкнула в усах под облупившимся красным носом, глаза смотрели испытующе. — Бывали мы в Мангазее прошлый год, — кивнул на брата. — Путь знаем: и лыжный, и Обью через губу. Кому — златокипящая Мангазея, кому — горсть сухарей за головного соболя. Выйти бы до холодов на Турухан. В Енисее-стране богатства невиданные: соболя, сказывают, как мышей, по зимовьям давят. Но вам туда к зиме не поспеть. Съедите припас в Мангазее и вернетесь голью.
Васька намеренно помолчал, разглядывая груз на палубе, не дождавшись расспросов, приглушенно, так, чтобы не слышали на причале, добавил:
— Я в Енисею другой путь знаю. Сведи меня с хозяевами — ничего не утаю. Поверите: сколько вывезем рухляди — вся будет наша, а добыть там — и ленивый свое возьмет.
— Свести-то можно, — неохотно отвечал Пенда. — Да только от Перми много людишек похвалялись, что знают, где богатые промыслы, а сами рубахи не имеют, — насмешливо окинул взглядом остяцкую шубейку, обмотанные бечевой лавтаки на ногах Илейки.
К вечеру, когда вернулись купцы-пайщики, а Ермес остался ночевать у кого-то из служилых папистов, Васька Бугор с братом сидели на палубе коча, по-свойски прихлебывали травяной отвар и хрустели ржаными сухарями. Вокруг них собрались устюжская, холмогорская молодежь, казаки и стрельцы — все слушали рассказы о Мангазее, о жизни промышленных.
Не оказывая большой чести купцам, гости стали повторять сказанное. И говорили так складно, что обозная молодежь сверкала глазами, готовая сорваться по первому зову в неведомые страны. Все ватажные были наслышаны в пути про Великий тес — тайную тропу промышленных встреч солнца по самым диким и непроходимым местам. Говорили, что начинается Великий тес от Тобольска. Васька с Илейкой первыми объявили, что знают ту тропу и хаживали по ней. Но — недалеко…
Васька стал вдруг торопливо оправдываться:
— На нее только выйди. После, по затесям, иди и иди. — Пристально оглядел собравшихся.
Пенда впился в него немигающими глазами и, перебив кого-то из складников, спросил:
— Ну и куда тот тес ведет? Где кончается?
Васька язвительно рассмеялся, угрюмо примолк, вперившись в казака немигающим, многозначительным взглядом, важно пошевелил усами:
— Про то и на дыбе никто не скажет! — заявил, давая понять, что знает больше, чем говорит.
На гостей посыпались другие каверзные вопросы, на которые они отвечали только тупыми улыбками. Но внезапно расспросы прекратились. Гостям стало неловко от наступившей тишины. Упоение властью над слушателями как-то разом сошло с их лиц, снисходительные улыбки покривились, и Бугор с братом вдруг рассердились. Васька задергался, заерзал, глаза его злобно сузились.
Бажен потеребил окладистую бороду и проговорил рассудительно:
— Оно все, может быть, и так. Только как же нам вверх по Оби идти, если немирная Пегая Орда бунтует? Воевода тобольский не может сыскать управы на те народы, куда уж нам?
Васька стал отвечать резко, что все ордынские мурзы — его кунаки, а от пегих людей он знает заветные слова, слышанные от Супоньки Васильева, который ходил в Енисею через Нарым. Наконец совсем запутался, смутился и в отчаянии вскрикнул:
— Не хотите идти прямым путем! И ладно! Дайте нам припас в зиму! Вернемся — половину добытого отдадим и за припас расплатимся. — Поскольку купцы молчали, раздумывая над его словами, он торопливо добавил: — Согласны и под кабалу.
Чувствуя, что им перестали верить даже те, кто еще недавно слушал раскрыв рот, Васька Бугор взял себя в руки и с прежней улыбкой стал грозить:
— Не вы — другие поверят. После мы посмеемся. Сулили вам богатство даром — отнекивались. Другой год, может, мы будем пайщиками, а вы у нас покрученниками. В Сибири всякое бывает… Нам бы только припас собрать. — Васька хлопнул собольей шапкой по сношенному ичигу. — Где и как на Великий тес выйти — не скажу: старые промышленные убьют. Но чтобы не думали худого, укажу путь по рекам: от устья Иртыша Обью вверх мимо Сургута-острога до третьего многоводного устья по левую руку. По той реке идти до истока встреч солнца. Из верховий волок на Енисею-реку. Сплыть по ней до Усть-Таморы по правую руку. Там утес стоит, а на вершине — вечный, неугасающий огонь. И на берегах тех рек — каменные города и высокие дворцы, но в безлюдье и запустении, иные обрушились, а какие народы их строили — никто не знает.
— А ты бывал? — спросил Ивашка Похабов, щупая золотые бляхи на шебалташе[34].
— От оленекских тунгусов слыхал, что из той Тунгуски-реки можно попасть в великую реку, — голос Васьки Бугра перешел в сиплый шепот, — где живут наши люди, ходят в одежде русской.
Помолчав с таким видом, будто страшно раскаивается в сказанном, Васька вскинул печальные глаза, а сердито помалкивавший Илейка спросил в упор:
— Что решите? Неужто век будете с товарами по Сибири таскаться да каждому служилому кланяться, когда богатства несметные наших рук ждут?
Купцы долго советовались со складниками, вспоминая главного сибирского удальца — атамана Ермака и дружину его. Те люди тоже были первыми, а много ли нажили? Богатство досталось тому, кто шел следом. После соборного ужина, обильно накормив гостей, они сказали, опечалив не только Бугра с братом, но и многих ватажных:
— Против Пегой Орды не пойдем, даже если воевода даст согласие и подмогу. А если за вас верные люди поручатся, в покруту возьмем.
— Эх, срамословы устюжские, моржееды холмогорские! — разочарованно замотал головой Васька Бугор. — Купецкую сметку имеете, а ума Бог не дал! — Он не стал ни убеждать, ни уговаривать: нахлобучив шапку, сошел на причал. Обернувшись, бросил: — Вдруг надумаете — найдите нас в городе, на Никольской улице, у пешего казака Глотова.
— Надо бы одарить! — подсказал устюжанин Никифор холмогорскому купцу.
— Постойте! — окликнул их Бажен. — За все сказанное — спаси вас Господь, и примите дар!
Бугор с братом вернулись, с любопытством поблескивая глазами. Купец порылся в товарах, вытащил на свет и тряхнул напоказ две льняные нательные рубахи, ценившиеся в здешних местах, где даже простой люд ходил в белье бухарского шелка.
Илейка рассмеялся. Скинул шубный кафтан и натянул рубаху на голые плечи. Кто-то тихо пробубнил в коче:
— Пожалеем еще!
И только Федотка Попов — родич главного пайщика, спросил будто сам себя:
— Отчего на горе огонь не гаснет? Ведь снег зимой, а летом дождь?
Купцы не спешили расстаться с товарами в столице Сибири, вызнавали о ценах и о спросе в низовых обских селениях, где торг был выгодней. Промышленные и служилые ради любопытства бродили по городу и примечали, что все здешние порядки были связаны с жизнью и службами оставшихся в живых ермаковских казаков, которых в городе было больше сотни.
Сказывали горожане, что воевода за какие-то провинности или за старческую немощь решил с почетом заменить старого атамана ермаковской сотни сыном боярским Богданом Аршинским. Ермаковцы возмутились самоуправству и отправили челобитную царю, по которой Гаврила Ильин был восстановлен в атаманстве, а головой конных казаков, несмотря на преклонные лета, оставался Иван Гроза. От него пошли многие тобольские служилые Грознины.
Ивашка Похабов с братом Угрюмкой тоже гуляли по богатому городу, разглядывая стрельчатые окна с искусно вставленной слюдой, кованые железные запоры. Всякий горожанин, увидев проезжих зевак, почитал за долг рассказать о строении, возле которого те остановились. Едва подошли братья к Спасской башне, из ворот вышел стрелец с бердышом и улыбаясь пояснил:
— По всей Сибири нет города краше, а башни выше. Стоишь под шатром, в караульне — вся земля под тобой. А как засвищет ветер — башня скрипит и качается. Иной новик от страха делается там ни жив ни мертв[35].
У Казачьих ворот, где в пяти дворах жили иноземцы, Угрюмка с Ивашкой сыны Похабовы нос к носу столкнулись с Ермесом, выходившим из дома здешнего немчины Саввы Француженнина. Ивашка заговорил с ним об обозных делах. Ермес, кивнув на добротный дом, из которого вышел, с гордостью признался на корявом языке, что ходил к своему человеку поболтать по-латыни.
Он говорил с братьями весело и приветливо, хотя из-за них был унижен под Верхотурьем по диким российским нравам. Впервые Ермес не думал о бегстве. Он посмотрел, как обжились здесь его единоверцы, — и будущее уже не представлялось ему таким беспросветным и безрадостным, как прежде.
От избытка добрых чувств Ермес сообщил, что с помощью друзей добивается у воеводы разрешения остаться на поселении в Тобольске. Он хотел удивить ссыльного казака и дать ему понять, что где бы они не находились, между ними всегда будет разница. Но Ивашка слушал его равнодушно и насмешливо.
Здешние новости так и сыпались из обозного еретика. Он тут же рассказал, что ватага курганщиков, собиравшаяся на все лето в степь зорить древние могилы, вернулась через день, встретив на пути чудского мужика с казацкой саблей. Это событие взволновало город больше позапрошлого года, когда две сотни курганщиков вернулись из обских степей, отбиваясь от калмыков.
Слободской порядок не прижился в столице Сибири: на улице от Казачьих ворот до тюрьмы стояло двадцать дворов, из них пять принадлежало иноземцам и казакам «литовского списка», пять — русским пешим казакам, два — посадским, три — вдовам, два — тюремным сторожам. Двор вдовы Дарьи Кочатихи Ермес осматривал с особым вниманием. От единоверцев он уже знал, сколько пшеницы, сколько соли лежит в ее амбарах, и полагал, что вскоре все это будет принадлежать ему.
В центре города, возле церкви, к братьям привязались злющие собаки. Защищая брата, Ивашка отбивался от них саблей в ножнах, но после того как зловредный пес порвал на нем холщовые штаны, в сердцах разрубил яростному зачинщику мохнатую башку. Стая разбежалась, но из подворотни выползла седая горбатая старуха и прошамкала: «Где собаку убьют — там и человеку убитым быть! Псы — как люди: чем трусливей, тем мстительней. Берегись теперь, служилый!»
В Тобольске обоз задержали до Аграфены-купальницы. В ночь, едва отгудели колокола после вечери и стала потухать поздняя заря, купцы-пайщики засуетились, забегали. Оказалось вдруг, что наутро ни в одну из бань в посаде близ причала не попасть. Греть бани стали с вечера, и дымы несло вниз по Иртышу. Холмогорцам и устюжанам так хотелось на утренней зорьке попариться, что Никифор-ведун все-таки прельстил какой-то захудалый дом хорошей платой, и хозяева обещали истопить к утру баню для промышленных гостей.
Казаки же по своему обычаю в потемках, до зари-полуночницы, ушли на высмотренный травянистый берег, чтобы для оздоровления тела выкупаться в росе. Факелов с собой они не взяли, надеясь на молодые глаза и негустую темень. Но месяц, золотые рожки, насмешливо посияв, скрылся в ту ночь за тучей. То гасли, то вспыхивали далекие звезды за набегавшими облаками. И накрыла донцов такая кромешная тьма, что даже под ногами ничего не стало видно. Такой темноты в Сибири никто из них не видывал. Слышалось лишь, как поплескивает сбоку река.
Вытягивая руки, они стали подниматься от воды на пологий берег, раздвигали зеленые ветки кустарников, берегли глаза. Вдруг Пантелей остановился на полушаге, прислушиваясь. Ивашка, Угрюмка да Третьяк тоже замерли: то ли русалки-моргуньи охали, то ли выпущенные в ночное коровы вздыхали среди кустов. Коров казаки сильно опасались: срамно было среди ночи вывозиться в свежих лепехах так, что после ни отмыться, ни отстираться.
Неожиданно зашуршала трава, раздалось приглушенное хихиканье. «Русалки!» — Пенда осенил себя крестным знамением, поправил на груди кедровый крест и, позвякивая бахтерцами, бесстрашно скинул кожаную рубаху. За ним все другие разделись, сложили в кучу одежду и, распластавшись по мокрой траве нагими телами, стали кататься по ней, растираться росой.
Угрюмка, захлебываясь от полуночной стужи и сырости, нашептывал: «С гуся — вода, с лебедя — вода, с сиротки Егория — худоба!» Вдруг руки его коснулись обнаженного тела. Подумав, что это Третьяк, он покатился в другую сторону, но и там столкнулся с кем-то. Стыдливо с брезгливостью отпрянул, думая, что коснулся носом чьей-то ягодицы. Вдруг то место, где полагалось быть пояснице, звонко хохотнуло. Вынырнул из-за облака проказник-месяц, и Угрюмка увидел голую русалочью грудь, девичье лицо со спутанными мокрыми волосами. Руку протяни — оттененное округлостями, перед ним таинственно мерцало девичье тело. От него шел жаркий, дурманящий дух. Гулко застучала кровь в голове, сердце загрохотало так, что юнцу показалось, будто сырая земля затряслась, заходила ходуном. Он вскрикнул пугливо и сладостно, как зверь. Зачурался.
Завизжали девки, подскочив на человеческих ногах. С воплями и смехом их повыскакивало из травы до полудюжины. Казаки кинулись к одежде. Из темных кустов раздался дружный девичий хохот.
Похватав во тьме что нашарили, донцы выбежали к воде и стали торопливо одеваться. Блестела черная гладь, возле реки уже различались силуэты людей.
— То ли девки в росе купались, то ли мигуньи шалят? — крестясь бормотал Пантелей.
Угрюмка стучал зубами от страха и сырости, похихикивал от чарования, стоял сам не свой от шалых глаз, от мокрых спутанных волос, от ощущения близости женщины. Обмирала душа, признавалась с тоской: позови, помани только та мокрая и обнаженная — не устоять ему, рабу Божьему Егорию, не воспротивиться.
Ивашка одел зачарованного брата, подтолкнул в сторону пристани. Угрюмка послушно зашагал и не заметил, что уходит в воду. Ивашка схватил его за руку, повел за собой. Тот переставлял ноги, ничего не понимая. Так и дотащился до коча. Лег на палубу, укрывшись шубным кафтаном, смотрел на черную воду, на серое небо с блиставшими звездами, а видел литые тела девок на мокрой от росы траве, ощущал тепло и аромат ночной шалуньи. Пенда с Ивашкой и Третьяком переговаривались посмеиваясь. Он же в мечтах своих лелеял томное видение, сладостно отдавался чарованию блестящих глаз, а в ушах звенел и звенел девичий смех.
На рассвете Угрюмку окатили водой. Испуганного, замороченного, с хохотом бросили за борт. Это вернулись из бани ватажные. Казаки, попавшие им под руку, тоже были облиты. Весь город обливался и купался, очищаясь от душевной и телесной скверны.
К пристани то и дело подходили горожане, посадские и гулящие, предлагали банные веники, а также коренья, которые ищутся только в ночь на Аграфену. Пополудни устюжская родня выменяла на табак одолень-траву, спасающую в пути от бед и напастей. К вечеру выяснилось, что это корень шиповника причудливого вида. Отвели глаза и ведуну Никифору и ввели его в траты. Лихого же человека, так чудно рассказывавшего о находке одолень-травы, след простыл.
Угрюмка весь день говорил невпопад, и ложка из рук вываливалась, и спал на ходу. Похаба с Пендой не в шутку беспокоились, что ему и праздник не в праздник, и предстоящая разлука не разлука. В том, что ночью столкнулись со здешними девками и молодыми бабами, уж не было сомнений. О том и посадским было известно. Да и сам Пантелей вспомнил — как вышел месяц, увидел он голый бабий зад и ноги, но не хвост. Знающие люди уверяли, что русалки кинулись бы к воде, а те побежали к селению.
Угрюмка слушал товарищей и брата, кивал: дескать, все правильно, а на душе билась рыбиной, убивалась щемящая тоска.
В ночь на Купалин день, отстояв в посадской церкви вечерю, ватажные вернулись на суда. Из казенного же обоза пришел только Ивашка Похабов. Монахи остались на берегу при церкви, Ермес заночевал у папистов, а черкасы, литвины и стрельцы — в городе.
Холмогорцы и устюжане развели костер рядом с пристанью и тихо переговаривались. Все их разговоры были о русалках да о нечисти, которые веселятся этой ночью, про клады, что открываются в ночь на Иванов день. Будто в полночь земля разверзается — клады просушиваются, и можно увидеть в ямах котлы, бочки с серебром и золотом.
Про русалок старые промышленные говорили с опаской, попугивали молодых, дескать, моргуньи выставляют из воды наружу только человечью часть тела и поют, и манят неопытных юношей чарующими песнями. Они же, не умея противостоять страстному наитию, бросаются в воду и тонут.
Угрюмка лежал на коче в одиночестве, не желая ни с кем разговаривать, слышал голос холмогорского пайщика Бажена, ясно представлял, как тот хмурит косматые брови, наставляет:
— Редко кому удается добыть клад. И за то следует расплата — погибель, слепота или беспамятство. Про деда моего сказывали: чтобы знать тайное и скрытое, в юности сторожил он папоротников цвет…
Что говорил купец дальше, Угрюмка не слышал. За бортом послышался плеск, будто огромная рыбина ударила хвостом по воде. Затем влажные ладошки звонко шлепнули, схватились за верхнюю обшивку коча. Он поднял голову и нос к носу столкнулся с мокрым девичьим лицом. Темные волосы липли по щекам, глаза весело поблескивали в ночи.
Угрюмка отпрянул, крестясь. Девка с приглушенным смехом опять бултыхнулась в черную воду и поплыла за корму. А он дурень дурнем сидел на палубе, накладывал на грудь крест за крестом, всхлипывал и ругал себя за то, что не хватило ума или духу броситься следом и плыть за ней.
— …Кто то золото из клада возьмет — будет кружить по лесу, пока не положит на место! — Это уже говорил устюжский купец Никифор. — Без тяжкой кабалы клад в руки не дастся. Только стукнет заступ по крышке — коли не провалишься в преисподнюю, то услышишь хохот нечистой силы. И тень хозяина будет ходить, в самые очи заглядывать…
Старик-баюн не был востребован в ту ночь. О нем забыли, думая, что спит. Но старец бодрствовал. Угрюмка услышал его сиплый голос и грубоватую хрипотцу брата. Они разговаривали между собой.
Старик никогда прежде ни о чем никого не просил, но, увидев золотую безделушку из кургана, даже надоел Ивашке с просьбами. Наверное, он чувствовал, что скоро расстанется со ссыльным, клянчил еще и еще раз посмотреть чудскую бляху. И щупал ее, и к глазам подносил, и дряблой седобородой щекой терся, кряхтел и тужился от какой-то нутряной надсады. Угрюмка слышал, как Ивашка нетерпеливо вспылил:
— Сколько щупать будешь? На дню по десять раз даю! Еще и ночью!
Старик всхлипнул, прошамкал, оправдываясь:
— Ни спать, ни исть — все стоит перед глазами потеха бесовская. Все чудится, будто вижу город каменный, стены высокие. И городу тысячи лет. Народишка там лицом вроде русский, одеждой — чужой. И попы чудно одеты, а кресты наши — издревле русские.
И будто весь город меж собой в ссоре. Плосколицый круглоголовый степняк сидит рядом с князем, глаза щурит, насмехается. Он вернул городу какие-то святые лики, что были утеряны давным-давно, а в награду требует, чтобы князец взял в жены его племянницу.
А этот, остроголовый, что на бляхе, будто воевода. И голова у него что затесанная острожина. И много в городе таких остроумов. Но только этот кричит, что всех прельщает сатана, а Бог попускает: забыли-де заветы предков — погибнет город, если им будут править кровосмешенцы, и потомство проклянет ныне живущих.
А народишка злится, бунтует и кричит, будто круглоголовый вернул священных рыб, — впредь город и его семя будут вечно счастливы.
Тогда остроум твой и говорит, что по законам благочестивой старины будет биться с круглоголовым смертным боем. И если единый Бог даст ему победу — не случится преступного брака.
Попы посоветовались меж собой и приговорили: если остроголовый победит, то браку не быть, но победитель будет принесен в жертву богу для заступничества за город.
— Бес морочит! — жалостливо вздохнул подобревший Ивашка. — И меня, бывает, так проймет — едва отмолишься. — Он ощупал знакомые выпуклости золотых блях на шебалташе. Снова вздохнул: — Монахи пристают, чтобы выбросил безделушку. Уж руку заносил, хотел бросить в воду — будто кто отводил и удерживал. Далее-то что виделось, не помнишь? — спросил старика. — Отрубил ли голову?
— Как не помнить? — простонал баюн. — У меня память хлесткая. Хочу забыть — не могу. А дух подымается из нутра, подымается. Я и Бога благодарю, что дал мне этот дух, и сам ему, бывает, не рад. Мучит он.
— Отрубил? — нетерпеливо спросил Ивашка.
— Отрубил! — крестясь ответил старичок. — А попы того воеводу тут же удавили и обоих на одном костре сожгли.
Глядел на ясные звезды Угрюмка, и виделись ему каменный город, о котором рассказывал старец, русалка с мокрыми волосами. Она насмешливо глядела на споривших жителей, на непримиримого, буйного брата Ивашку.
За бортом опять так громко бултыхнулась вода, будто вспучилась и забурлила. Мокрые ладони с гулким плеском уцепились за коч прямо возле изголовья Угрюмки. «Ухвачу и обниму! А там — будь что будет!» — вскинулся он, холодея от жуткого восторга, и нос к носу столкнулся с бородатым мужиком.
Бухарского шелка рубаха облипла по выпиравшим булыжниками жилам на плечах и на груди. Вода с шумом стекала с густых волос, с бороды. Глаза горели угольями, как у убийцы с занесенным ножом.
Угрюмка отпрянул, вскочил и заорал крестясь:
— Чур меня, чур!.. Не пойду в твое войско!
Мужик захохотал так громко и раскатисто, что его услышали ватажные на берегу. Блеснув глазами, он резко оттолкнулся от борта, с шумным плеском бросился в черную воду, зафыркал, уплывая в непроглядную темень. К вопящему от страха брату подскочил Ивашка, обхватил его сзади. Угрюмка махал руками, брезгливо стирая с лица брызги, отплевывался, лягался, вырывался и визжал:
— Не хочу в Сургут! Не пойду в казаки!
2. Полночная страна
Деды дедов русских людей, а тем их деды сказывали, что на Иванов день солнце-коло о трех резвых золотых конях мчится встреч мужу — ясному месяцу. А тот, истосковавшись по любимой, ждет не дождется встречи. Недолго милуются вздорные супруги после тягостной разлуки, как встретятся — так и поссорятся. И снова небесная печальница, птица-лебедь, накроет белый свет черными крыльями-обидами. Рассорятся между собой день и ночь — брат с сестрой, начнут препираться, как два супостата. По ночам черти станут биться на кулачках, а люди помышлять друг на друга зло. И только утренняя зорька, девица красная, глядя на вечный раздор, прольет печальные слезы — целительную росу.
Отплытие из Тобольска пайщики назначили на утро после поминовения Петра и Февронии — святой благоверной княжеской четы, прожившей долгую, счастливую жизнь и умершей в один день. Супруги завещали родственникам похоронить их в одном гробу, но те, смущенные причудой стариков, положили тела для отпевания раздельно. К утру же — Божьей милостью и чудом Господним — покойных нашли в одном гробу в супружеских объятиях, разъединить которые никто не смог. Так и похоронили.
Стоял Угрюмка в посадской церкви, ревностно клал поклон за поклоном, а службы не слышал. Не разлукой с братом — блудными помыслами была полна голова. Представлялась ему его суженая не нищей бродяжкой, а красавицей с насмешливыми глазами ночной пловчихи, с волнующей выпуклостью груди, верной и умной, как княгиня Феврония.
На Иванов день Ивашка Похаба сильно рассердился на меньшого братца. Но после церкви, послушав о житии благоверных Петра и Февронии, смирился, подумал покаянно, вправе ли он тянуть Угрюмку за собой, вдруг у того судьба милостивей служилой сибирской доли? И все щупал золотую пряжку, будто она могла что-то подсказать, старался понять и смиренно принять волю Божью о судьбах рода Похабовых. Вечером, перед расставанием, вздыхая и кручинясь, он благословил меньшого на дальние промыслы, пробормотал, отводя глаза:
— Ну вот, опять врозь! Судьба, видать, такая!
За братским застольем собрались все бывшие обозные: купцы, промышленные, стрельцы и ссыльные. Один только Ермес-еретик остался на берегу у единоверцев. Пуская по кругу братину с медом и пивом, купцы благодарили всех за помощь в пути, желали ссыльным доброго здравия и приятных служб. Каждый промышленный, ссыльный ли, поднимая братину в свой черед, кланялся на три стороны, говорил слова добрые и прощальные, обещая помнить друзей до смертного часа.
Еще не расставшись с обозными передовщика Ермеса, купцы уже за братским столом заговорили о будущих торгах и промыслах, о том, как им сберечь и приумножить товар, складников с полуженниками[36]да покрученников не обидеть.
Исполнив волю верхотурского воеводы, они доставили в Тобольск казенный обоз. Главный сибирский воевода князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский благодарил их за это и обещал свою милость. Но милостью его оказался наказ вместо ссыльных взять на борт нового мангазейского воеводу Андрея Палицына с его людьми и сообща, без всякого промедления, следовать через Березов и Обдорск в Мангазею-город.
Холмогорцы и устюжане вызнали через близких людей, что новый мангазейский воевода на прежних местах служб мзды и подарков не брал, во всем прямил молодому царю верой и правдой. Из того следовало, что до самой Мангазеи им нельзя будет ничего: ни купить, ни продать. Про тайные Обдорские торги надо было и думать забыть.
Пантелей Пенда, узнав, кто назначен новым воеводой в Мангазею, язвительно хмыкнул, кивнул Третьяку. Прежняя горечь скривила его губы в отрастающей бороде:
— Троицкого келаря Авраамия Палицына помнишь? Радел с казаками за Михейку Романова, против игумена, против воли митрополичьей шел с нами заодно. Не забыл его государь — родич в воеводы вышел. И сам он нынче при царе.
— Этот Палицын, сказывают, под Торопцом уж воеводой был, — кивнул в сторону города Третьяк, насмешливо глядя на товарища. — Бог милостив! На все Его воля!.. А ты будто сердишься?
Пантелей Пенда смущенно пожал широкими плечами:
— Понять хочу! К нам ли милостив?
Едва заалела заря ранняя, роняя росу на травы тучные, на лист окрепший, ссыльные и служилые простились с ватажными, а на судно поднялся воевода Палицын, одетый скромней иного сибирского казака. И скарба при нем было мало, и сопровождавших — всего два сына боярских из Березова-города, юный сын тамошнего атамана и два березовских казака.
Люди воеводы, много раз ходившие из Тобольска в Березов, не стали поучать ватажных, где и как плыть, устав от тобольских дел и сборов, они улеглись на судне в удобных местах и спали почти до полудня. Воевода бодрствовал, осматривал казенный груз, сверял записи по грамотам и книгам. Складники стали робко обращаться к нему с расспросами, им надо было вызнать его склонности и слабости. Палицын отвечал ласково и обстоятельно. Это настораживало устюжан и холмогорцев: они не могли обнаружить в нем ни самодурства раба, вырвавшегося из-под царской власти, ни алчности холопа к подаркам и почестям.
В последний раз блеснули на солнце купола тобольских башен и пропали за яром, дремучий черновой лес подступил к самому берегу. После очередного разговора, почесывая затылки и бороды, купцы тихо спорили: то ли глуп, то ли слишком умен этот воевода, то ли простодушен, то ли хитер? Известно, быка надо бояться спереди, жеребца — сзади, а неведомого зверя — со всех сторон. И ломали они головы — что за тайные мысли были у воеводы, когда говорил: «Этот год остяки не пожелали давать ясак в Мангазею, а отправили его вместе с жалобой в Тобольск»?
Как стала потухать заря вечерняя, купцы и вовсе обессилели от догадок. Хмуря косматые, вислые брови, ссылаясь на убытки, Бажен Попов покаялся воеводе, что из милосердия скупил у бухарцев моченый табак, а теперь и бросить жаль, и с собой везти накладно.
Палицын ответил прямо, без хитростей, что в последней челобитной просил царя запретить торг табаком. Сибирские нехристи и русские люди повадились мешать толченые листья с водой и пропивались с того пойла хуже, чем с вина. Но пока от царя не было никакого наказа, и он своей властью изымать табак не станет, если, конечно, не увидит явного вреда воеводству. Сказал — как озолотил. Многие заботы купцам облегчил.
Многоводная река да попутный ветер несли в полуночную сторону коч со стругом и коломенку. Через неделю караван подошел к тому месту, где Иртыш сливался с мутными водами Оби. На диво донцам, не бывавшим севернее Великого Новгорода, ночи стали неслыханно короткими. Едва наступали сумерки, суда приставали к берегу. Не успевали люди поужинать и помолиться к ночи, солнце снова выходило на небо.
Вскоре прояснились и те редкие сумерки с едва различимыми звездами, встретились на небе сестрички ласковые: заря вечерняя, темная, с зарею утренней, красной. И свет поборол тьму. Черти с визгом ринулись в подземные убежища, запирая ворота меднокаменные до других времен. Отдыхая от ратных трудов, могучий старец Илья Пророк вложил огненный меч в ножны, и расправились седые брови на его суровом лице.
Две реки, соединившись, растекались по равнине, образуя сотни проток и стариц. Ватажные кормщики стали плутать среди них, выспрашивая березовских людей, куда вести караван. Те, по наставлению воеводы, сами взялись править судами. Места были им знакомы.
Не доходя двадцати верст до устья Сосьвы, выше которого стоял непашенный город Березов, коч со стругом и коломенкой повернули в узкую протоку. Вода в ней была стоячей, как в озере. Промышленные с песнями налегали на весла и когда заметили за бортами судов течение, воеводские люди объявили, что это уже не Обь, а Сосьва. Дальше можно было идти самосплавом до Березова-города.
Холмогорец Бажен Попов в том городе бывал и вел торг, но по прошествии лет многое забыл о пути среди проток и островов. На расспросы устюжан и холмогорцев березовские казаки степенно отвечали, что в здешних краях, на Оби, нет мест, удобных для поселений. Сосьва в низовьях течет почти в одном направлении с Обью. Между реками много низких мест, заливаемых весенним половодьем. И только северный берег Сосьвы благодаря высоте сухой.
Караван приближался к старинному городу, поставленному промышленными, пермяками-зырянами да новгородцами задолго до Ермака. Звонко шлепая себя по щекам, люди отбивались от наседавшего гнуса. Федотка Попов спрашивал подремывавшего баюна:
— Дед, здешние люди говорят, будто город этот старый, а Сибирь молода. Сколь Березову лет?
— Сто! — не задумываясь ответил старец и поправился: — А то и больше. Сказывают, еще у деда Грозного царя служил воевода Курбский. И в те еще годы ходил он с войском за Югорский камень, тогда еще застал здесь город, заселенный мезенцами и зырянами. Отряды Ермака, что бежали на Русь после гибели атамана, тоже добирались до этих мест…
— Белогорье! Красота-то какая! — глядя на восток, на холмы в дымке, радовался погодок Угрюмки с Федоткой Ивашка Галкин — поздний сын березовского атамана-ермаковца. В сопровождении двух казаков он ходил с таможенной казной в Тобольск к главному сибирскому воеводе и теперь возвращался домой, исполнив поручение отца-атамана. Казачок важничал среди ровесников, до их шалостей не снисходил. С обозными разговаривал степенно, часто хмурил рыжие брови и напрягал горло, выговаривая слова сиплым баском. Только в конце пути, увидев родные места, Ивашка разволновался.
Угрюмка не понимал его восторгов: невыспавшийся, поеденный гнусом, он оглядывал поросшую лесом, сырую, заболоченную равнину, приземистые холмы, с тоской вспоминал подмосковные леса, привольные северские степи. Молодые устюжане Семейка Шелковников с Ивашкой Москвитиным тоже с тоскливыми лицами оглядывали окрестности. Атаманскому сыну показалось, что они чего-то недопонимают, и он с пылом стал указывать шапкой на завидневшиеся купола церкви, на башни города.
— Вон-на, Калтокожские юрты, — защебетал звонким голосом, — а там, к полночи от Белогорья, — мольбище. У вогулов и остяков есть своя богородица. Сказывают, сидит с сыном на блюде, вся из золота. Дикие воду на них льют и с того блюда пьют, чтобы здоровье укрепить.
Угрюмка вспомнил курганщиков и рассказы стариков на Иванову ночь о всяких кладах. Федотка стал насмешливо выспрашивать:
— Поди, здешний люд про золотую бабу только и думает? Сибирцы все про золото говорят да про меха.
— Не-е! — замотал головой атаманский сын. — Нам ворованного даром не надо… Сказывают старики, трое лихих людей нашли ту бабу. Двое сразу померли, третьего отыскали в болотах остолбеневшего. Принесли его в город, батюшка ему язык отпустил, он и рассказал, что видел с товарищами и что они замыслили.
У диких заговор есть, — зашептал крестясь, — кто ту бабу увидит и захочет украсть — там и помирает… Они много чего по тайге прячут. У них своя Святая Троица есть, святой гусь — и все из золота… Как-то идем с казаками через болото, видим — островок. Вышли посушиться — берестяная юрта, по сторонам от входа в вогульской одежде из рыбьих кож две бабы деревянные. Мы, помолясь, в юрту-то глянули — шайтан… Деревянный.
— А кабы золотой? — вспомнил Угрюмка чудскую бляху.
— Спаси, Господи! — сморщив нос, боязливо перекрестился казачок. — По нашему ли догляду случайному, по другой ли причине в тот год бунт остяцкий был. Мы в крепости отсиживались. А прошлый год пожар случился. — Он вдруг смутился своей невольной горячности, надел отороченную куницами шапку, поправил длинную саблю на боку и прежним сипловатым баском стал наставлять попутчиков: — Не-е! На чужих богов пялиться — беда неминучая!
Восьмиконечный крест на носу коча стал нацеливаться на черные сваи пристани. Судно медленно разворачивалось. Распахнулись тесовые ворота города. Встречать караван вышло едва ли не все население Березова. На берегу собралось до сотни человек. Радостно звонили колокола Вознесенской церкви, со стены палили крепостные пищали. Воевода Палицын велел приветствовать березовцев холостыми выстрелами. Казаки и дети боярские подсыпали пороху на запалы пищалей, раздули фитили и дали нестройный ответный залп.
Семисаженный плоскодонный коч неуклюже пристал к причалу. Ниже к вязкому берегу приткнулась коломенка. На пристани, крытой почерневшим тесом, прибывших встречал березовский воевода в собольей шубе, накинутой поверх парчового кафтана с высоким воротом. По одну сторону от него стоял письменный голова в собольих штанах, заправленных в сафьяновые сапоги, по другую — седобородый атаман в собольей шапке, в кафтане, отороченном собольими лоскутами. В руках он держал древко хоругви. В первых рядах с иконами Михаила Архангела и Николы Чудотворца стояли поп с дьяконом, приказчик, два сына боярских в красных шапках. За ними толпились лучшие люди города с детьми и женами.
С берега были поданы широкие сходни. Воевода Андрей Палицын, крестясь и кланяясь на три стороны, ступил на них красными сапожками. С двух сторон его поддерживали под руки сыны боярские. За воеводой неспешно двинулись березовские казаки с атаманским сыном. После всех сошли купцы. Крестясь, они приложились к иконам, откланялись березовскому воеводе, письменному голове, атаману и всему честному люду, собравшемуся на берегу.
Угрюмка с завистью глядел, как атаманский сын, на голову ниже сопровождавших его казаков, сошел следом за мангазейским воеводой, степенно откланялся горожанам, березовскому воеводе, письменному голове, атаману. Срывающимся баском стал докладывать об исполненном поручении. Всем своим видом он показывал старшинство по чину и роду.
Тень великого Ермака через подвиги отца падала на него. Как тяжкий, но спасающий крест, с ранних лет он нес отблеск славы, которую не смел запятнать. И слава отца предопределяла его поступки. Это были другие судьбы — не те, что у Похабовых: без роду и племени, то посадских, то беглых, то казаков, то гулящих — и везде только наполовину своих.
Промышленные прибывшей ватажки отстояли вечерю в Воскресенском соборе перед иконами, которые были принесены в Сибирь дружиной Ермака. После службы и исповеди Ивашка Галкин повел донцов в соборную избу городовой казачьей сотни. Время было позднее, но северный день не думал кончаться. В одних домах давно спали, возле других сидели на лавках городские девки, с любопытством поглядывали на гостей, перешептывались и приглушенно прыскали от смеха. Угрюмка в ветхом охабне с чужого плеча, в шлычке да в чунях из невыделанной кожи стыдливо опускал глаза. Ему казалось — смеются над ним.
В прошлом году город горел. Стены были подновлены, но за ними еще чернели погорелые дворы, кособочились пропахшие сырой золой времянки. Угрюмке это неприятно напомнило что-то из детства. И если бы не Пантелей Пенда, рвавшийся смотреть Ермаково знамя, он бы вернулся на коч.
Город засыпал. Притихли даже собаки и петухи, хотя солнце только склонилось к лесу, пламенея в одночасье зарей вечерней и утренней. Караульные позевывали на стенах, уныло поглядывали в прозрачную, ясную даль.
На крыльце соборной избы, завернувшись в собачью нагольную шубу, полулежа похрапывал белобородый старик. Одной рукой он обнимал тяжелую саблю в сафьяновых ножнах, другую подложил под седую голову.
— Дед Полено! — громко крикнул атаманский сын. — Саблю украли.
Старик открыл глаза, скосился на темляк, опутанный бородой, неспешно сел и, покряхтывая, приветливо взглянул на Ивашку.
— Кого привел? Купцов ли, промышленных?
— Своих не узнаешь? Казаки с Дона! — крикнул Ивашка. Видно, старик был туговат на ухо. — Покажи Ермаково знамя, шибко хотят видеть.
Сильно приволакивая левую ногу и припадая на нее, старик отпер дверь, пропустил всех в избу, с гордостью указал на знамя, расправленное по стене. Угрюмка отметил про себя, что холст от ветхости выцвел, а кожаные латки ссохлись.
Пантелей Пенда, смахивая слезы рукавом жупана, попросил разрешения приложиться к полотну. Караульный казак по прозванью Полено величаво и снисходительно кивнул:
— Иных от хвори исцеляет!.. А мне милости не-ет! — Зевнул, крестя бороду. — В церкви не согнуться — спину ломит… И нога… — Старик похлопал ладонью по приволакивавшейся левой, пошамкал: — Грешен! С атаманом Брязгой много немирных перевешали за ноги. Не всегда по вине: бывало — для острастки.
Ватажные отдыхали, парились в бане, стирали одежду. Те, что томились в пути грехами, уже причастились Святых Тайн, иные только готовились к исповеди. Третьяк, устав от вынужденного безделья в пути, прилежно ходил в церковь, пел на клиросе и читал святые книги с тамошним причтом. Купцы лениво приторговывали дозволенным товаром и выспрашивали бывальцев о дальнейшем пути в Мангазею через Обдорск-город.
По сказам, окрестности Обдорска были местом самых злостных воровских ярмарок и торгов. Стоило служилым разорить один такой торг — на каком-нибудь из островов появлялся другой. И не было конца ухищрениям торговых и служилых.
Светлым ясным вечером, когда горожане закрывали ставни и читали молитвы ко сну, к судам прибежали запыхавшиеся купцы-пайщики. Хитроумный Никифор в распахнутом кафтане и в съехавшем на затылок кашнике одной рукой прижимал к животу отчаянно бившегося гуся, другой держал его за клюв. Бажен, отдуваясь и обмахиваясь шапкой, велел сталкивать суда на воду. На удивленные вопросы промышленных задыхавшиеся купцы поспешно отвечали:
— Всякий Еремей про себя разумей!
На память мученика Еремея светлой ночью ватага стала торопливо собираться в плаванье. Караульные на городских стенах ничуть не были этим обеспокоены и даже махали на прощанье шапками. А на судах был ропот: одни громко ворчали, не успев причаститься, другие зевали до слез, запутавшись во времени, ругали купцов и березовских петухов, которые еще не пели. Ночной, воровской уход из города ничего доброго не сулил.
Купцы, отдышавшись, стали торопливо объяснять, что нежданно ватаге выпало счастье плыть на Обдорск без надзора и догляда. Пока воеводы своего решения не переменили — надо было поскорей отойти от города.
Страсти и шум стихли, гребцы налегли на весла. Когда суда вышли на стрежень Сосьвы-реки, купцы стали обстоятельно рассказывать, как в воеводской избе, где их принимали лучшие люди города, заспорили между собой новый мангазейский воевода и березовский атаман — кому везти в Мангазею казну с жалованьем для березовских казаков. Воевода Андрей Палицын хотел везти ее сам и выдать тамошним казакам для верности их. Атаман Алексей Галкин говорил, что целовал ермаковские иконы, отправляя казаков в Мангазею, обещал им царское жалованье доставлять в срок — и сам, не перекладывая на проезжих, особенно на торговых.
Заспорили они так, что даже березовский воевода не мог сказать, кто прав. И решили плыть вместе перед заговеньем на Успенский пост. Обозным же дозволили идти в Мангазею через Обдорск, нигде не останавливаясь для воровского торга.
Благодаря воеводе Палицыну березовские приказчики не сверяли купеческие товары с тобольской описью. С грамотой березовского воеводы их отпустили дальше к северу, где была учреждена строгая таможня.
Зачастили туманы. Густые, как козье молоко, они залепляли глаза так, что с кормы не видно было креста на носу судна. Коч со стругом под бортом и коломенка иногда останавливались там, где были застигнуты ими и пережидали непогоду, иногда плыли дальше, полагаясь на чутье кормщиков.
— Тьфу тебе в харю рогатую! — выругался Бажен. Он правил кочем и старался хоть что-то разглядеть в тумане, для этого подался вперед дородным телом, озирался, но не видел ни креста на носу, ни даже воды за бортом.
— На коломенке? — крикнул зычно, приложив ладони к бороде.
Чуть ли не возле уха раздался спокойный голос Пенды:
— Рядом!
Вскоре коломенка мягко ткнулась в борт коча, Угрюмка в драном охабне выскочил из тумана как бес из преисподней. В его зубах был зажат пеньковый трос. Отплевываясь, он потянул его двумя руками. Из пелены, прямо против колен кормщика, вынырнул острый колпак Пенды. Глаза его смотрели снизу пристально и насмешливо.
— Куда плыть? — вскрикнул Бажен и развел руками. Голос прозвучал гулко, справа отозвалось эхо. Холмогорец прислушался к нему и сипло зашептал, шевеля бородой:
— Ишь! Нечисть передразнивает! — Пугливо оглянулся.
— Уж это как водится! — громко и бесшабашно согласился казак, прислушиваясь к своему вернувшемуся голосу. — Откуда отзывается — там и суша! — указал рукой в сторону невидимого берега, скомандовал: — Угрюмка — в коломенку! Третьяк — на нос. Смотри — у тебя глаз верный, и шестом глубины мерь.
Он легко перескочил через борт. На густо смазанных дегтем бахилах висели тусклые капли влаги. Казак встал у руля, потеснив передовщика, повертел носом по сторонам и указал рукой, куда надо править.
— Ты чуешь, ты и веди, — с радостью уступил место Бажен. — А я помолюсь!
— Можно и помолиться! — весело вскрикнул Пенда, сбив колпак на ухо. Прислушался к отозвавшемуся голосу. — Весла на воду! — скомандовал унылым гребцам. — И песнь удалую! Чтоб чертям тошно стало… Моржееды! Ну-ка про Ваську Буслаева, как он весь Великий Новгород на спор звал!
Едва видимые в тумане гребцы закашляли, сипло засмеялись. В такт песне налегли на весла. Эхо отзывалось на их голоса.
— Легче! — осадил казак. — Не то врежемся в берег… Третьяк?
— Полторы сажени… Мельчает! — отозвался зычный голос товарища.
— Гладим воду веслами, что девку или любимого коня! — прервал крепнущий напев Пенда и снова закрутил головой, прислушиваясь.
— Два аршина! — крикнул Третьяк.
Пенда поднял руку. Песня оборвалась.
— Носовые, подгребай! Остальным сушить весла!
Вскоре под килем коча зашуршала трава, тяжелый нос мягко ткнулся в берег.
— Слава Тебе, Господи! — облегченно перекрестился Бажен.
Отыскивая тайную ярмарку перед Обдорском, ватага наткнулась на таможенную заставу. Как ни отговаривались складники, что заплутали и оказались в тамошних местах случайно, пришлось отдать обдорским казакам струг: слишком уж явно они свернули протоками в сторону от Обдорска.
Устюжский купец Никифор Москвитин с негодованием обвинил во всех убытках холмогорского кормщика Бажена Попова. Устюжане своего пайщика поддержали, обругав заодно все новгородское отродье, как это водится от века.
Бажен разобиделся и опять сложил с себя власть, добровольно передав правление ватагой и судами Никифору. Осерчавший, он стал кашеварить и всячески показывал, что не желает ничего знать ни о пути, ни о насущных торговых делах.
Не прошло и двух дней, как у другого тайного торжка коч и коломенка вновь были захвачены теми же казаками. Остальные бывшие там торговые суда и остяки с вогулами сумели скрыться. Никифор же бегал по кочу, крестился, охал и даже не посмел приказать оттолкнуться от берега, но только смотрел разинув рот, как знакомый струг обошел островок и оказался под бортом. При этом холмогорцы наблюдали за ним и за устюжанами с мстительными усмешками и не пошевелились, чтобы спасти свое же добро.
К счастью ватажных, со здешних народов уже взят был ясак. Казаки смилостивились, хваля быстроходный струг, и не увели коч с коломенкой в Обдорск к таможенному голове, но немалую мзду табаком все же взяли. Едва они со смехом отошли от коча, Бажен, позеленев от злобы, разразился громким, зычным хохотом. Сутулый холмогорец по кличке Тугарин с длинными руками, похожими на рассохшиеся грабли, с оскорбленным видом поднялся с места и разорался, напирая на отступавшего Никифора:
— Путние-то ярыжники вона где еще казаков приметили и ушли! Велел бы рубить концы, и мы бы скрылись! А ты носился, что потоптанный петух, и орал несуразицу.
— Да куда же на наших тяжелых судах уйти от струга? — смущенно и досадливо оправдывался Никифор, озираясь по сторонам и бросая взгляды то жалобные и приниженные, то злобные и высокомерные.
— Кабы ваш боров, — закивал Лука Москвитин на Бажена, — не отдал бы струг, так и сейчас бы с нас мзды не взяли.
Возмущенный Тугарин, презрительно усмехаясь, заявил, что устюжане — вечные московские холопы, издревле только новгородские деревни зорить горазды, а увидели казаков — и в штаны наложили!
Задыхаясь от гнева, устюжанин Нехорошко так озлобился на слова холмогорца, что острый кадык задергался под реденькой бородой.
— Ни одной распри наши деды не начали! — закричал, подстрекая устюжан к отпору. — Все ваши злом пыхали. Новгородцы — вечные зачинщики и срамословы!
Как два старых петуха, Нехорошко с Тугарином подступали друг к другу, ругались и размахивали руками. Тут дьявол, ненавидящий всякое добро, мир и любовь, посеял между купцами Баженом и Никифором такую вражду, вложил в их сердца такую ненависть, что они друг друга в лицо не желали видеть и оба отказались править кочем. Если один спускался под палубу в жилую часть, то другой в злобном нетерпении оттуда выскакивал пулей и укрывался в нежилой половине, где хранились ватажные припасы и купеческие товары.
Видя такую распрю, холмогорские и устюжские промышленные опечалились и притихли, стали просить купцов помириться. Но те и слушать их не хотели. Ватажные пайщики и вовсе обеспокоились. Сдерживая неприязнь, не показывая обид, они собрались на совет без купцов. А те сидели один на носу, другой на корме, спинами друг к другу.
Время шло, съестной припас убывал, а коч с коломенкой стояли на месте. Помолившись, староватажные выбрали кормщиком Пантелея Пенду, человека стороннего, ни с холмогорцами, ни с устюжанами родством и землячеством не связанного. При продолжавшемся молчании купцов ватага отправилась в Обдорск-город, который нельзя было ни обойти, ни проплыть стороной.
Первое русское укрепление на этом месте появилось еще при отце Грозного царя и было поставлено московским воеводой князем Курбским. Войско его ушло, острог обветшал. Лет через десять после гибели атамана Ермака здесь снова был срублен государев острог, огороженный стоячим тыном в две с половиной сажени высотой, с двумя сторожевыми башнями и крытыми воротами. В нем были срублены Васильевская церковь, четыре двора, аманатская и съезжая избы. Возле тына ютились до двух десятков остяцких юрт.
Коч и коломенка причалили к берегу. Никто не встречал прибывших. Обдорцы знали, что ни купцы, ни промышленные мимо проплыть не посмеют и придут сами. Ворота в острог были распахнуты.
Бажен и Никифор наотрез отказались идти на поклон к воеводе и таможенному голове. Тут распря захватила всех холмогорцев и устюжан с новой силой. Одни винили других, а те, верные родству и землячеству, защищали своих. И кончилось бы все трудной, убыточной зимовкой под стенами острога, если бы юнец Федотка Попов да сивобородый устюжанин Лука Москвитин, старый да малый, поборов в себе обиды, не взяли тобольских грамот и описей, скрепленных березовскими печатями, да не пошли бы на поклон к обдорцам.
Но и это не помирило повздоривших. Судили складники, что старый да малый все сделали не так и пошлины заплатили вдвое. После досмотра и получения новых описей, на Преображенье Господне, ватага была отпущена в плаванье к Мангазее.
Попа в остроге не было: прежний помер, нового не прислали. Из старожилов никто служб не знал. Почитать молитвы и пропеть все, что пристало для второго Спаса, взялся Третьяк. На соборные молитвы в осиротевшей церкви собрались обдорские жители и гости. Пришли и Бажен с Никифором, стояли, не глядя друг на друга, в разных сторонах от алтаря: один — выставляя вперед брюхо и хмуря косматые брови, другой — сутулясь, будто готовился к прыжку или нападению.
С укором поглядывая на них, Третьяк, как поп, попробовал вразумить спорщиков, зычным голосом проповедовал:
— Не врагам, не побежденным, но близким и родственникам сказано: любите друг друга! «Не противься злому. Но кто ударит в правую щеку твою, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». — Он замолчал, вытягиваясь на цыпочках возле алтаря и выглядывая из-за придвинувшихся обдорцев Бажена с Никифором. Те слушали вполуха со смурными лицами — что, дескать, разумного может сказать этот недоросток из покрученников?
Третьяк опечаленно качнул головой и добавил со вздохом:
— «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
Угрюмка поймал на себе рассеянный взгляд казака, насупился, на его лице стали выступать красные пятна: показалось вдруг, Третьяк укоряет, что он не пошел с братом в сургутскую ссылку.
После церкви Угрюмка пуще прежнего почувствовал себя одиноким и несчастным сиротой. Третьяка обдорцы брали под руки, просили остаться в городе, его же никто не замечал. И несло сироту сибирскими реками уже в океан-море, в полуночные страны, и негде, не за что было зацепиться. Неумолимо втягивал в себя этот бесприютный мир, суля то богатства и славу, то нищету и гибель.
С печальными мыслями Угрюмка вышел на топкий берег, поросший тальником, услышал жалобное мяуканье запутавшегося в траве котенка. Он отыскал его, подобрал, почуяв в кошачьей свою долю, погладил по грязной шерстке, пожалел и спрятал под охабень. Третьяк тоже пощекотал котенка пальцем по загривку и посоветовал, будто ножом по сердцу провел:
— Сирота! Коли без кошки вырос — сколь ни учи, будет пакостить. Бросил бы ты его, где взял.
Нечаянным своим советом он только распалил Угрюмкину тоску и обиду.
Перед отплытием не было братского застолья: холмогорцы ели на корме, устюжане — на носу коча. Все тихо переговаривались только со своими. Пантелей Пенда, презрительно поглядывая на тех и на других, плюнул, выругался и громким голосом велел Третьяку с Угрюмкой есть на коломенке, чтобы не дразнить гусей.
Он раз и другой хмуро наказал, чтобы юнец не заносил котенка на коч. Угрюмка помалкивал, не возражал, но когда котенок притих, а казак забыл про него, — тайком пронес на судно, грел его за пазухой, кормил жеваным хлебом и рыбой.
В ночь на память святого мученика Евпла по северским да рязанским землям честные христиане прислушиваются к звукам с кладбищ: к посвисту и к старинным песням, доносящимся оттуда. И молятся люди добрые за всех воинов, в смутные годы за Отечество павших, и высматривают, не видно ли огней на старых могилах, не бродят ли среди них белые кони, выискивая погибших всадников.
В ту ночь Угрюмка лежал в сырой подпалубной жилухе и чувствовал, что устюжане на нарах — по одному борту и холмогорцы — по другому не спят, ожидая друг от друга подлости и нападения. Они уже не ругались, но молча и злобно наблюдали одни за другими.
Чуть покачивала коч морская зыбь. Ватага вышла в Обскую губу и ждала попутного ветра для дальнего перехода. Последние два дня прошли в тягостном ожидании неизбежного поединка. Препятствием к нему были только донцы, державшиеся особняком. Еще третьего дня, улучив, когда Пенда остался на палубе один, к нему прокрался Бажен и шепотом стал склонять к холмогорцам, обещая полную ужину, если они отобьют у устюжан коч.
Краем глаза Пантелей заметил, как высунулся из жилухи и скрылся, таясь, Нехорошко. Уже то, что казак наедине разговаривал с холмогорцем, могло обернуться бедой.
— Кому мы крест целовали? — спросил он, хмуря брови. От неожиданно громкого голоса дородный купец едва не присел и воровато оглянулся. — Кому? — в упор переспросил казак, раздраженно перебирая пальцами темляк: — Устюжанам или холмогорцам?
Бажен, вздыхая и охая, отступился, виновато разводил руками: мол, сам видишь, как все обернулось. Вскоре Пантелей заметил Никифора и Третьяка. Покачивая длинноухой головой, купец со слащавой улыбкой прельщал молодого казака и все ближе клонил к нему свою тощую бороду. Третьяк стоял спиной к товарищу. Знакомым движением рука его потянулась за спину вытащить из-за кушака боевую, по тыльной стороне обшитую бронями рукавицу. Корчиться бы устюжанину у ног малорослого казачка, не подоспей Пантелей схватить его за локти. Никифор, уразумев, отчего недоросток щурит глаза и сжимает в нитку губы, мышью шмыгнул в жилуху, под палубу.
— Зачем? — строго спросил товарища Пенда, выпуская его локти. — Дашь в ухо дураку — озлишь одних, ободришь других. И так уж, кабы не мы с тобой, давно вышли бы они на берег и бились до смерти по обычаю старых промышленных.
— Купить меня хотел, пес! — скривил тонкие губы Третьяк.
— Что с них взять? Барышники! — сплюнул за борт Пантелей. — По себе о других судят… Не показывай ни приязни, ни неприязни. Пусть сами мирятся.
Это было днем. Нынешней же сырой августовской ночи, казалось, и конца не будет. Едва тлел чувал, жилуха выстыла. Холмогорец Тугарин откинул тулуп, повертел головой, к чему-то принюхиваясь, потом брезгливо взглянул на устюжанина Нехорошку, лежавшего против него, на нарах по другому борту.
— Московский дух! — язвительно прогнусавил и шмыгнул носом.
Нехорошко резко приподнялся на локте, ударившись головой о верхние нары, но даже не поморщился от боли. Его смятая борода топорщилась возле уха.
— Это моржееды-то холмогорские про срамной дух говорят? — просипел, захлебываясь. — Да у вас там падалью и в постные дни не брезгуют!
Пантелей почувствовал, как под одеялами и под шубами подобрались, приготовились к схватке враждовавшие стороны. Приглушенно громыхали брони, загодя надетые под кафтаны и зипуны. «Ну, вот и началось! — подумал с тоской. — Те и другие были одинаково заносчивы на буйные речи, неуступчивы в делах».
И тут из-под тулупчика, которым укрывался Угрюмка, выполз подобранный им возле Обдорска котенок, сладко зевнул, потянулся, устроился на вышарканном рукаве, изогнул спину дугой, задрал хвост. «Чвырк-чвырк!» — прозвучало в напряженной тишине.
— Вон кто дух портит! — завопил Тугарин, бросая на Нехорошку виноватые взгляды, а на казаков — рассерженные, и скрюченным пальцем стал тыкать в сторону Угрюмкиных нар.
— Под святыми-то ликами! — охнул Нехорошко, разевая рот и не находя слов, но уже заодно с Тугарином.
— Все казаки! — просипел кто-то из-под одеяла. — Сроду — ни кола ни двора… В дерьме, по балаганам да по норам!
Заворчали, завозмущались со всех сторон, будто и распря случилась по казачьим винам. Пенда рывком соскочил с нар, одной рукой схватил за шкирку котенка, другой — обгаженный тулуп. Махом вылетел на палубу, распахнув лбом створчатые двери. За ними уж светлело. Послышался тупой удар. Котенок надрывно мякнул и упал где-то за бортом.
Шлепая босыми ногами, казак спустился в жилуху, закрыл створки и улегся на прежнем месте. Угрюмка свернулся калачом и лежал в охабне — ни жив ни мертв от страха и обиды. Притихли и складники, еще миг назад готовые броситься друг на друга.
Похлюпав сырым носом, Тугарин боязливо укорил казака:
— Коли в воду бросил обосранного — дедушку можем обидеть!
— На сушу — лешего рассердим! — пробормотал Нехорошко и стал растирать ушибленную голову.
— Вам не угодишь! — рыкнул Пантелей, укрываясь. — С котами или с казаками… Все одно перережетесь, — буркнул под одеяло.
В наступившей тишине кто-то из ватажных злобно прошипел:
— А покрученники того только и ждут. И припас, и товары заберут!
Угрюмка сжался в комок, стараясь унять подступавшую дрожь. Но не выдержал, встал. При свете лампадки раздул чувал, подбросил дров. В сырой подпалубной жилухе потеплело. Зашевелились промышленные, распахивая шубы и одеяла. Согревшись у огня, юнец распахнул створчатую дверь, робко поднялся на палубу. Сколько хватало глаз, виднелись льды, припорошенные первым снегом. От той белизны привиделся рассвет.
Тускло светила утренняя звезда. Сонно покачивалось, приглушенно скрежетало ледовое покрывало на воде. Чуть приметные снежинки выбелили палубу. На берегу чернел труп котенка со свернутой набок головой. Угрюмка зябко передернул плечами, подтянул кушак, поднял тулупчик, стал счищать с него еще не застывшее кошачье дерьмо. Он спустился в жилуху, постукивая зубами от ночной стужи, припал к пылавшему чувалу, всхлипнул подрагивая:
— Льды принесло! Видать, тут и околеем.
Зевая и крестя рот, из-под шубейки, шитой из волчьих лоскутов, высунулся Бажен. Борода его была смята, глаза опухли. При дородности и корабельной тесноте на узкие нары главный пайщик втискивался боком. Сидеть можно было только за узким столом посередине жилухи. По-промышленному, два десятка человек на семисаженном коче, хоть бы и с товарами, которые занимали половину судна, — это просторно. После оставшихся в Березове людей несколько нар даже пустовало.
Лежа перекрестившись на лик Николы летнего, без митры, который купили в Верхотурье при освящении коча, холмогорский купец пробурчал:
— Наносные, видать, льды! — И закряхтел, выбираясь из-под шубы, с нар. — Сказывали обдорцы, здесь снег и лед на Успенье — в обычай. — Он сел за стол и стал расправлять смятую бороду.
Это были едва ли не первые слова купца от самого Обдорска.
— А еще говорят, — язвительно пробубнил под одеялом Пантелей Пенда, — что никто из промышленных по берегу губы не зимует. Здешние воровские народы всех терпящих бедствие убивают и товар забирают.
Закряхтели, закашляли, зашевелились холмогорцы и устюжане. За переборкой, где хранились товары и всякий припас, захлопал крыльями, загоготал потревоженный гусь.
— Ети его! — купец Никифор высунул нос из-под шубы. — Хорошая нетель таких куч не навалила бы. Все мешки обложил.
В жиле раздался осторожный приглушенный смешок, и вроде потеплело без прогорающего чувала. Угрюмка лег на место. Укрылся с головой, обиженно прислушиваясь к гоготанью. Котенок им помешал, а гуся, который съестной припас портит, терпят.
Тугарин свесился по пояс с нар, подбросил дров из плавника. Огонь высветил лица проснувшихся промышленных.
— Сколь кормить его? — зевнул Лука Москвитин. — Пора дедушку потешить. Много добра нам сделал.
— Раскормили гуся — едва зад таскает! — хмыкнул кто-то из холмогорцев, не напрямую — вокруг да около — вступая в разговор с устюжанами. За последние два дня это было в диковинку.
Ободренный потеплением, Пенда сбросил одеяло, потянулся до хруста в костях:
— Вы как хотите, а я околевать здесь не желаю. Даст Бог полуденник[37] — уйду со льдами. Пора!
Зашумели, поднимаясь и крестясь, промышленные. И с одного борта, и с другого вставали, как в доброе старое время. Стали выходить на берег, припорошенный первым снежком и прихваченный гладким ледком по сырым местам.
Рассветало. По берегу опала, побелела поникшая трава. Шарами бугрился обмороженный лист. И только мох пышно вздымался, беззаботно зеленел и серебрился, не пугаясь стужи.
Никифор в шубе сошел по сходням с отчаянно кричавшим гусем в руках. Разбуженная молодежь свела на сушу старца. Устюжане, посмеиваясь, привязывали к шее гуся камень, связывали крылья и лапы. Холмогорцы участливо наблюдали и давали советы. Бажен еще хмурил косматые брови, но уже поглядывал в сторону Никифора и качал головой от желания дать дельный совет.
Шестами и веслами промышленные раздвинули льды, сделав полынью в стылой черной воде. Бажен вылил на воду корец подсолнечного масла, Никифор неловко бросил связанного гуся. Тот, держа на плаву жирную белую гузку, задергал связанными лапами и крыльями. Круги пошли по воде. «Вот тебе, дедушка, гостинец! — пропели хором промышленные, беспечально наблюдая за муками птицы. — Люби и жалуй нашу ватажку!»
Связанный гусь перестал биться. Кончик его хвоста торчал над водой. Видно, здесь было мелковато. Полынья быстро затягивалась покачивающимся льдом, и гусиная гузка вскоре пропала из виду. «Знать, прибрал дедушка гостинец», — решили ватажные.
Умывшись солоноватой водой, ежась от пронизывающего ветра, они стали подниматься на коч. Купцы-пайщики всходили по сходням последними. Никифор, опустив глаза долу, пропустил Бажена как старшего по возрасту.
В жилухе в красном углу под образом Николы Святителя ватажные подлили масла в лампадку, зажгли припасенные свечи, напряглись и замерли, ожидая, кто начнет молитвы утренние. Бывший главный пайщик Бажен, в длинной, до пят, шубе, постоял, задумчиво глядя на лики, перекрестился и сиплым голосом запел: «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа…» «Боже, милостив буди нам, грешным!» — радостно и громко запели промышленные. Крестились и кланялись с чувством, со слезами, винясь за сделки с водяной нечистью, за распри и раздоры. После утренних молитв разошлись благостно, стараясь услужить друг другу, не поминая зла.
Едва закончилась братская трапеза, со Щучьей реки верхами на оленях приехали для торга с десяток самоедов неведомо какого рода. Осмотрев привезенную ими мягкую рухлядь, Бажен с Никифором поняли, что те — люди торговые, ездят не по нуждам, но для перепродаж русских товаров дальним стойбищам. Им купцы и всучили больше половины плесневеющего табака в обмен на соболей и лисиц, которые, все вместе, по тобольским ценам, стоили не меньше двухсот рублей. С большой выгодой был продан и другой ходовой товар, особенно запрещенные к торгу железные топоры, которые купцам приходилось прятать от описи с самой Перми.
Никифор, посмеиваясь, туго смял пять собольих головок и попытался всунуть в проушину топора. Одного соболя пришлось отложить в сторону. Четыре шкурки были с трудом продернуты через отверстие, но не испорчены. Таким образом по стародавнему обычаю в здешних местах оценивались топоры.
Угрюмка, Федотка с Сенькой Шелковниковым да Ивашка Москвитин похаживали возле мужиков с косами, заплетенными наподобие рогов, в парках из оленьих шкур, в сапогах из оленьих кож, высматривали — по две ли руки у них, по две ли ноги, настоящие ли? Среди самоедов один только старик с седым пучком волос на подбородке был хром. А губы у него — как у людей, под носом.
Приняв угощение от купцов, гости ели ртом, не скидывая парок, и все посмеивались над русской молодежью.
Был бы день радостным, но самоедский князец, разглядывая купленный товар, сказал по-русски, что табак плох, а вот топоры хороши. Будь их побольше, они с такими топорами забрали бы назад и свою рухлядь, и весь русский товар.
— Это уж как Бог даст! — жестко сощурился Никифор. Из редкой бороды его задиристо торчал раскрасневшийся влажный нос, немигающие глаза смотрели стыло и насмешливо.
— Что нам не продали, то ненэчэ[38] возьмут! — усмехнулся князец тонким безбородым ртом. Черные зрачки поблескивали из щелочек глаз хищно и злобно.
— Даст Бог — все возьмете! — пробасил Бажен. — Не даст… — сделал выразительный жест, будто сажал дикого на кол.
Самоеды поднялись и стали завьючивать оленей.
* * *
То не гуси загоготали, не лебеди крылами заплескали — то на память пророка Михея загудел ветер, раскачивая коч и коломенку под бортом, заскрежетал лед на тяжелой пологой волне, грозя раздавить суда. На палубе всю ночь менялись караулы. Наутро Пенда, стоявший в дозоре, шумно спустился в жилуху, припал к теплому чувалу и весело гаркнул:
— Зорька потянула! Михей-тиховей льды уносит!
— Уж и тиховей?! — проворчал Бажен, оглаживая бороду, зевая и крестя рот. — Будто на качели коч кидает… Низовик или верховик?
— Низовик! — покрякивал от тепла Пенда.
— К дождю или к снегу, — сонно пробурчал под шубой Никифор.
— Зато попутный! — гоготнул Пантелей. — Льды уж за версту унесло. На заре поднимем парус.
Зарозовела зорька утренняя. Блеснуло солнце красное, ватажные с иконами вышли на берег и отслужили соборный молебен. После неторопливого братского застолья по обычаю старых мореходов купцы-пайщики вылили за борт по корцу масла и меда. Величая водяного дедушкой, попросили — если волнения моря, то несильного, а течений попутных. Затем коч и груженую коломенку оттолкнули шестами от берега.
Налегая на весла, промышленные запели во всю свою мощь, чтобы нечистая сила, заткнув уши, бежала вон, а силы небесные радовались. А как вышли на чистую воду, подняли парус, попутный ветер натянул его, зажурчала под днищем вода. Сила небесная подхватила суда и повлекла на полночь. Коломенка волоклась на привязи за кормой. На ней девять удальцов подгребали веслами, помогая парусу. И не боялись устюжане, что холмогорцы бросят их в море: кормщиком на коче был Пенда, Третьяк с Угрюмкой сидели на гребях в коломенке.
Пантелей стоял на руле. Свежий ветер трепал отросшую бороду, шевелил волосы, ниспадавшие из-под островерхого казачьего колпака. Обдорские мореходы, на которых рассчитывали складники, заломили непомерные цены за то, что возвращаться из Мангазеи им придется на лыжах. Федотка с Лукой рядиться не умели, а Никифор с Баженом тогда были в ссоре по научению бесовскому. Теперь лучшего морехода, чем Пенда-казак, не было.
Островки кончились, к видимым дальним берегам расширявшейся губы подступили безлесые горы. На носу коча стоял холмогорский промышленный с шестом и промерял глубины. Вскоре он крикнул, что лот дна не достает. Коч приметно качало. Время от времени судно зарывалось в пологую волну, и вода катилась по палубе.
К вечеру впереди показался лед, унесенный ночью. Вскоре льды перекрыли все пути к северу. Высмотрев полыньи, Пантелей Пенда хотел пройти сквозь них. Но промышленные, собравшись на круг, решили к берегу не приставать и далеко в полыньи не заходить, а держаться края льдов. По совету обдорских казаков перед выходом в ледовую губу смоленый нос коча был укреплен вязанками прутьев.
Ветер совсем стих. Отдерные льды сменились прижимными и незаметно обступили суда со всех сторон. Поскольку берег был недалеко, промышленные решили пробиваться к нему на веслах, отталкивая льдины шестами.
А как стала потухать заря темная, вечерняя, снова миловал Бог, а водяной не пакостил: в потемках вошли в устье речки, свободное ото льда. Там остановились на ночлег и ждали разводий, простояв все Успенье Пресвятой Богородицы, молясь и постничая. На третий, ореховый Спас льды разнесло. Птичьи стаи одна за другой тянулись на полдень.
С молитвами ватажные вышли на чистую воду, подняли парус и пошли по ветру к другому, дальнему берегу губы, забирая, сколько можно, на полночь. К вечеру подошли к суше на версту и снова увидели вдали льды. И опять стояли и постничали, молясь. На память святых мучеников Флора и Лавра — лошадников подняли парус с раннего утра.
Казак без коня — кругом сирота. Разве на коче да на струге — пасынок. Промышленные с молитвами кропили суда святой водой, смотрели за борт, гадая, будет ли осень тихая, а зима без вьюг. И тиха была вода, и колыхалась от близости моря. Зима уже обживалась в полуночной стороне. Вечером люди на судах с песнями провожали солнце, встречая осень, зиму ли сразу после лета. В этих краях, похоже, осени не было. Всего-то за несколько дней пожелтели берега и выпал снег.
Вскоре коч и коломенка опять натолкнулись на льды. Попробовали идти разводьями, не теряя из виду берег. Вот уж защищенный прутьями нос коча застрял среди паковых льдов. К нему сбоку приткнулась коломенка. Вскоре сгонные ветры понесли суда вместе со льдами в море. А на Агафона-огуменника, когда лешие выходят из лесу, по всем приметам выходило, что повздорили они с водяным — и вновь засвистел ветер, заскрежетали льды. Из-за моря выползли тучи черные, легли на плещущие волны. Звери по лесам разбежались, птицы по небу разлетелись, рыбы по морю разметались — и поднялась буря великая.
И носила она коч по морю восемь суток. Сперва пропал из виду мыс, за которым был сворот в Тазовскую губу. Потом и берег исчез: со всех сторон плывущих обступили льды. Они не раздавили коч, но повредили его. В трюме обнаружилась течь. Коломенку же пришлось бросить.
А как завиднелась полоска матерой земли — два дня в ледовом плену люди на коче просекались к суше и пробились к ней, укрывшись в протоке за островами.
Обогревшись плавником, ватажные запаслись дровами, проконопатили и засмолили днище. Ко дню Семена-летопроводца, когда честные христиане на Руси пекут пироги, зазывают друг друга в гости, море очистилось от льдов, и пособный ветер надул парус. Коч пошел на полдень: обратно ли в устье Оби, к устью ли Таза-реки — никто этого не знал, но всем было ясно, что дальше к северу во льдах их ждет только гибель.
Шли они так, пока тусклое солнце не стало склоняться к западу. Вдали опять показались льды, у их кромки темнело черное пятно. К рассвету ветер пригнал судно к тем льдам, а пятно, к которому люди приглядывались в сумерках, оказалось кочем. Когда ватажные подошли ближе, то узнали на палубе встреченного судна воеводу Палицына и седобородого атамана Галкина с сыном.
Пайщики Бажен с Никифором, считавшие, что ватага гибнет по их винам, пали на колени и залились радостными слезами. Плутая во льдах, каясь, молясь, постничая, угождая всячески разбушевавшемуся водяному дедушке, они уже не чаяли спасения жизни. О товарах думать забыли. Встреча с березовскими служилыми, не раз ходившими в Мангазею, была для них чудом Господним.
Воевода с атаманом отправились следом за ватагой тремя неделями позже, но оказались удачливей. Переночевав на воде у кромки льдов, два коча объединились и просеклись на чистую прибрежную воду. Но только вышли они из льдов — стих попутный ветер. Промышленные и казаки взялись за весла, пошли вдоль низкого тундрового берега. Едва рассвело, они увидели впереди другой коч, одиноко плывущий навстречу. Атаман велел дать залп и стал махать плывущим шапкой. Коч и без того взял курс на встречные суда. Когда соединились все три судна борт к борту, атаман, придерживая саблю, переступил на встречный коч и беседовал с промышленными.
— Смута в Мангазее! — сказал вернувшись.
За ним перелез на воеводский коч мангазейский промышленный. Поверх серого сермяжного зипуна на нем был белый лузан — надетый через вырез для головы кусок сукна без рукавов, закрывавший плечи, грудь и спину. По низу лузан был оторочен кожей и через петли крепился опояской. На голове мангазейца был сермяжный малахай, подбитый мехом. На поясе висел короткий нож с лезвием в две ладони. Кожаные штаны были заправлены в ичиги.
Мангазеец поклонился воеводе, пристально разглядывая на нем мухояровую, полушерстяную, на ветхих куницах шубу, затем весело окинул взглядом собравшихся людей и крикнул:
— Мезенские есть?
— Устюжские, холмогорские, — скромно ответил Бажен, опасливо поглядывая на воеводу.
— Все одно — земляки! — радостно сказал мезенец и только тут молодецки обратился к Палицыну: — Атаман сказывал, ты — наш новый воевода на место Гришки Кокорева. Так слушай! Меня, — важно подбоченясь, мангазеец ударил себя в грудь, закрытую лузаном, — Табаньку Куяпина, Гришка склонял к измене государю. Обещал мне и промышленным прежнюю волю по старине и города по Сибири без воевод и приказчиков. А желает он, чтобы промышленные, казаки да посадские люди посадили бы его на Сибирское царство… Мотька Кириллов — его воровской называтель — пошел на коче к морю, сговариваться с немцами, да, сказывают, не смог просечься сквозь льды и вернулся.
Я, Табанька, сперва, грешным делом, подумал: Бог высоко, Москва далеко и не понять, кто там нынче сидит. Гришка так Гришка. После отцу Евстафию Арзамасу, нашему посадскому батюшке, на исповеди покаялся. И надоумил он меня, глупого: под папистов Гришка подвести всех хочет, чтоб нам, с петлей на шее, поганый их крест целовать…
И весь посад мангазейский приговорил, пока смута не разгорелась, послать нас, вестовых, в Обдорск, потому как если Гришка прельстит промышленных людей, посаду против них не устоять. Думай, воевода, — возвращаться ли за подмогой, сразу ли идти на изменника. Он тебя ждет не раньше, как весной… Я все сказал, — важно поклонился Табанька на казачий манер, не снимая сермяжного малахая. Ничего не ответил воевода. Слушая промышленного, хмурил одну бровь, другую заламывал коромыслом. А как закончил наказную речь Табанька — пригласил мезенца с атаманом под палубу для долгого разговора. Едва они скрылись с глаз, люди с трех счаленных кочей начали тайный торг под носом у самого воеводы и грозного ермаковского атамана.
Не скоро трое вышли на палубу. Оглядев собравшихся людей, воевода приказал идти всем им к устью Таза, в Мангазею. И пошли три коча на полдень неподалеку один от другого, лишь бы не заслонять ветра. И плыли беспрепятственно всю Семеновскую неделю месяца ревуна[39].
Но на Рождество Пресвятой Богородицы, уже в виду устья Таза, похолодало так, что проснувшиеся на рассвете люди сперва удивились неподвижности судов, а после робко спустились за борт и ступили на вершковый лед, покрывший всю видимую поверхность губы. Лед трещал, когда в одном месте собиралось до трех человек. Имея до четырех десятков людей, промышленные и казаки пробовали просечься и протолкнуть кочи к берегу. Но к полудню они продвинулись всего на полверсты и решили бросить бесполезное дело: так добраться до суши смогли бы только через неделю.
Следующей ночью лед стал крепче и толще. Купцы и складники решили не рисковать товаром, перенести его в просторное зимовье на устье Таза-реки. Атаман с воеводой тоже наказали своим людям доставить казну на берег, а если лед окрепнет, то выморозить кочи и тросами волочь их к суше.
Вереница людей с грузами растянулась на восемь верст. При кочах оставались старик-баюн да трое-четверо казаков или промышленных, то и дело рубивших лед возле бортов.
Радостные дни проходят быстро, несчастья переживаются не скоро. На память святой Федоры — замочи хвосты с берега задуло теплом и прелью. Ветер усиливался, тянуть груз против него становилось все трудней: люди скользили по гладкому льду, падали и катились обратно. Воевода с атаманом, казаками и мангазейскими промышленными перенесли на берег почти всю казну и, опасаясь за остатки, заставили ватажных помимо своего груза взять каждому из идущих по четверти пуда. У тех товар и съестной припас были уже вынесены на сушу, но на кочах оставалось самое ценное — скупленная в пути рухлядь.
Возле трех вмерзших судов оставались Ивашка Москвитин и Пантелей Пенда со своими товарищами. В жилухе под шубами отсыпался старик-баюн. В это время лед гулко треснул, а ветер задул с такой силой, что отправившийся было к берегу Федотка Попов с пудом пороха и с пятью сороками соболей в волокуше, высоко выбрасывая ноги, следом за грузом понесся в обратную сторону.
Пенда что-то кричал и размахивал руками. Слов его никто не слышал от гудевшего ветра. Он понял, что Федотку пронесет мимо и, зарубаясь в лед острием засапожного ножа, пополз навстречу. Вдвоем, на карачках, они приползли сами и вытащили на коч волокушу с грузом. Тут все заметили, что между берегом и судами появилась полынья. Она на глазах расширялась, а берег удалялся. Люди, оставшиеся на береговой стороне, испуганно озирались и карабкались против ветра, чтобы не остаться на оторванных льдинах.
Березовские казаки, мангазейские промышленные да поредевшая ватага встречали Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня на устье Таза-реки, в зимовье с подгнившим стоячим тыном[40]. Народ заполнил избу и амбар. Товар и казна были сложены кучами под открытым небом.
Торчавшие из берега черные венцовые бревна, старая часовенка без окон и дверей с завалившейся крышей, ряд черных крестов среди осевших и покрывшихся мхом могил жалостливо напоминали о том, что посреди этой унылой тундровой равнины когда-то жили русские люди.
На что только не простираются произволения Божьи за грехи наши! Со слезами на глазах кланялся купец Никифор печальному Бажену:
— Прости, Христа ради. Не прогневись!
— Христос с тобой, за что мне на тебя гневаться? — кланялся в ответ дородный холмогорец. И, обнявшись, оба заливались слезами.
Холмогорцы горевали о пропаже Федотки Попова, устюжане — об Ивашке Москвитине. Отец Ивашки, старый Гюргий Москвитин, смиренно молчал, никого не видя и не слыша, лицом же был сер. Побелевшие губы его то и дело шептали:
— О Боже, Боже Великий, Боже Истинный, Боже Благий, Бог Милосердный!
Дядя Ивашки, Лука, молясь беспрестанно, во всем утруждал свое тело и иссушал плоть, чистоту душевную и телесную без скверны соблюдал.
О донцах-покрученнниках тоже вспоминали в молитвах, ужасаясь, что в такой день всех их движет по морю чья-то непреклонная воля. Ивашку с Федоткой за грехи родичей, а покрученников-казаков да старца — не за чужие ли?
Возле жаркого очага в зимовье только и разговоров было о внезапном ветре да об отрыве льда. Мангазейские промышленные и березовские люди, которым мытарства ватаги казались вполне удачливым плаваньем, рассказывали такие истории о скитаниях, что у ватажных под шапками волосы становились дыбом.
В то самое время три счаленных коча, окруженные белым полем крепкого льда, уносились все дальше и дальше от суши. И уже не видно было с них ничего, кроме открытой черной воды и льда. Впятером просечься к воде и протащить к ней хотя бы один коч нечего было и думать. Терпящие бедствие собрались в выстывшей жилухе на ватажном судне, где на нарах спокойно посапывал старец. Пенда развел огонь, стало жарко. Взопревший старик, кряхтя, вылез из-под шуб и свесил ноги в чунях.
— Ну вот, дед, — поскрипывая зубами, ругнулся про себя казак. — Плывем на Воздвиженье к чертям на праздник, прости, Господи, — перекрестился резко и косо.
Старичок залупал подслеповатыми глазами, пытаясь понять, о чем речь.
Третьяк прокричал звонким голосом:
— Только мы, шестеро, остались на судах. Остальные на берегу. И несет нас невесть куда!
Старик покачал головой, прислушиваясь к свисту ветра. Ни страха, ни печали не отразилось на морщинистом лице. Он что-то пробормотал и сладко зевнул, собираясь снова лечь.
— Ты, дед, поискал бы что-нибудь в старой башке! — так же громко пророкотал Пенда. — Мы-то пожили да нагрешили, а юнцам рано помирать. Что делать?
Старик, задумавшись, снова сел, свесив ноги, тряхнул головой раз, другой, о чем-то соображая. Пантелей, глядя на огонь, щерился, как перед боем. Хмыкнул:
— Под кнут тащили, знал — надо принять казнь достойно… Заруцкий предал и напал с тыла — знал: надо собрать своих и пробиться. Товарищи на казнь волокли — знал: надо ругать их громче, пока язык не вырвали. Царь посаженный предал — Похабу спасать надо было… Что сейчас делать, — удивленно пожал плечами, — не знаю!
— Перво-наперво помыться, — внятно прошамкал старик. — После, загасив всякий огонь, добыть огонь живой, им запалить лампады и очаг. После помолиться, коли Воздвиженье. Нынче Бог милостив.
— Воды много! — весело вскрикнул Третьяк. — Зря, что ли, кочи выдалбливали?
Повеселели Угрюмка с Федоткой да Ивашка Москвитин, жавшиеся к чувалу, как озябшие воробьи. Третьяк в зипуне нараспашку подхватил пешню и полез на палубу, намереваясь очистить полынью у борта и умыться. Ветер ворвался в распахнутые створки, дымом и искрами пахнул из горящего чувала. Юнцы с шутками потянулись за Третьяком. Пенда, приняв совет старика, стал гасить головешки. Тлевшие и чадящие побросал на лед.
Казаки и промышленные умылись студеной водой. Принесли в ведре старику — тот, поплескав в бороду, протер мокрыми ладошками впалую грудь да под мышками, велел снести ведро на другой коч, на лед не выливать.
Пенда смастерил тетиву, подобрал сухие палочки и стал добывать трением чистый огонь. Старик забрался на нары с ногами, укутался шубой так, что торчал только покрасневший нос. Обычно он пел, заунывно растягивая слова, выводя песню горлом и носом, а прерывался, чтобы отдышаться и набрать в грудь воздуха. Теперь заговорил внятно, что-то припоминая.
— Спаси Господи на Воздвиженье ночевать в лесу в балагане или на тропе. Нынче лешие, что ваши атаманы, сгоняют зверье и устраивают смотры к зиме. А злющи на всех людей: случись встретиться — побьют, а то и прибьют до смерти. — Старичок помолчал, разглядывая, как трется дерево и струится дымок. Молодые старательно дули, подсовывая тонкие стружки. Прислушался старец к вою ветра за бортом, скинул шубейку с серебряной головы, пробормотал настороженно: — Или береговые лешие с водяными режутся в зернь и кто-то проигрался? Или водяные, обской с тазовским, меж собой дерутся? Маслом не унять — куда уж!..
— Нет ни масла, ни сухарей — все на берег выволокли! — тяжело дыша над тетивой, просипел Пенда.
— Оно, конечно, коли Господь Вседержитель цыкнет — вся нечисть присмиреет. Нагрешили — вот и попускает, на нас сердясь. Молиться надо. На Воздвиженье Он добр!
Наконец затлел и разгорелся живой огонь. Крестясь и кланяясь образам, Третьяк запалил лампадку, а Пантелей стал раздувать чувал. Живое пламя жадно охватило сухой плавник, попыхивало дымком от порывов ветра, жилуха наполнялась теплом. Терпящие бедствие встали на молитву. Кряхтя, поднялся старик, поправив кривыми пальцами серебряные пряди.
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, — начал Третьяк зычным голосом, ни у кого не прося благословения.
— Боже, милостив буди нам, грешным, — подпели скитальцы, не слыша воя ветра…
— Намолили. Кажись, стих! — прислушался Пенда. Высунулся из створок. Смеркалось. Тлела на западе заря вечерняя, темная и кровавая. Большой диск солнца уходил то ли за дальние невидимые горы, то ли за плотные облака, лежавшие на льдах. Пантелей замер, приглядываясь, как западает круглый бок светила, и подумал вдруг, что в прежние годы солнце ходило по небу не так быстро. Он спустился в жилуху, присел у огня: — Завтра, даст Бог, будет ясно!.. Дед, а рассказал бы ты про полночные страны. Много, поди, слышал чудного? И дар у тебя!
Согревшийся старичок повеселел, глядя на огонь.
— Дал Бог мне духа, — прихвастнул. — Вот уж подымается в груди и свербит — страсть как. Мне бы начальные слова вспомнить. После он подскажет. — И, чуть раскачиваясь, заговорил вдруг не заученной песней, а вспомнившейся стариной:
— В тот год как молодого царя Федора со старой царицей удавили, пробирался в Пинегу сибирский человек. Был он совсем старым и сказывал, что при погроме новгородцев опричниками ушли на кочах встреч солнца с семьями и родами вятичи, усольцы, мезенцы, белозерцы, холмогорцы, пинежане, новгородцы, чердынцы — много всех… И шли они полночной стороной год за годом, зимуя на островах. А после, похоронив до половины беглецов, пришли в безлюдную землю, обильную зверем, птицей и рыбой. Там зимовали безбедно. А к лету разделились: одни захотели остаться навсегда, другие поплыли далее встреч солнца, в Ирию благодатную и беловодную, где всегда тепло, где хлеб сам по себе растет, не переводится, и среди кисельных берегов текут молочные реки.
Сибирец, что это сказывал, был с теми, кто остался. Срубили они дома крепкие, стали Бога молить да детишек рожать — и живут поныне счастливо, по благочестивой старине, без царя и без бояр. А сибирца того к старости умучили, присушили накрепко тоска горючая да кручина горемычная по родной сторонушке. И пошел он к Пинеге поклониться родным местам, могилам дедовым, а даст Бог — самому в отечестве предстать пред Господом.
И сказывал тот сибирец, что там в самых трудных, неблагодатных местах есть чандалы — старый сибирский народ. Живут они только летом, а зимой спят. Тех чандалов мало осталось на свете. Было-де у них в давние годы много оленей, и стали они над ними издеваться — сдирали с живых шкуры и отпускали для потехи. Олени и отмстили — ушли стадами, не поймать. Чандалы без оленины повымерли.
А еще сказывал о сендушных людях. Те, что наши лешие, сильно в карты и зернь играть любят и бражку пьют, а креста боятся. Если в тех краях кто заблудится и пропадет без вести, знают люди — сендушный взял в работники и ни за что не отдаст выкупом. Сендушный — хороший охотник, часто промышленным зверя в ловушки загоняет. Сам здоровый, сильный и ездит на нарте. Если христианин след его увидит и перекрестит — у него нарта сломается и сендушный вернется. А человек по снегу кругом очертится, заговорит черту молитвой — и сендушный ни за что не переступит к нему. Спросит только: «Ты зачем мне нарту сломал?» А человек: «Зачем мою сестру забрал? Верни!» Или говорит: «Плати песцами!» «Отдам! Уплачу», — скажет сендушный. «Ну, черт с тобой, езжай тогда, твоя нарта исправна». И правда — сестра вернется или в ловушках много добычи. Только тот, кто с сендушным знается, помирает плохо.
Старичок зазевал, и Федотка стал его выспрашивать, чтобы не уснул:
— А что еще говорил сибирец?
— Сказывал, в том краю медведь — зверь страстный. Никогда женщину не тронет, если она скинет одежу и покажет ему титьки. Сендушный, хоть и человек, а от медведя родился. За что-то Бог наказал его — крадет девок, рыбу и мясо. А если сендушного застрелить — тело не найти: или в воду бросится, или свои уволокут. А кто его добудет — тот несчастным будет до смерти.
Ветер стих. Подледная волна громче и громче била, стучала, как в бубен, в днище судна. К утру кочи закачались среди колотых льдин. Осмотревшись, Пенда спустился в жилуху и весело сказал:
— Молить будем Николу о попутном ветре. Кабы старик с голоду не помер, а нам неделю попоститься постом истинным — только на пользу.
Воеводе нельзя подолгу печалиться о житейском: посочувствовал горюющим, покачал головой, перекрестился и занялся государевыми делами. С устья Таза-реки он отправил в Мангазею-город посыльных, которые должны были известить Григория Кокорева о его прибытии. Раньше чем через две недели те вернуться не могли.
Невесть от кого услышав о прибытии нового воеводы, в зимовье приехал на оленях остяцкий[41] князец в собольей шубе, которую преподнес воеводе в поминки и заявил, что многие роды недовольны Гришкой за его жадность: четыре раза в год устраивает именины и требует подарков.
Андрей Палицын зачитал князцу государев указ о том, что поминочные приношения надо записывать в отдельные книги как подарки царю, а не воеводам с приказчиками. Свои же именины он обещал не справлять вовсе и щедро одарил остяка ответными подарками.
Едва скрылись из виду олени гостивших остяков, погода стала портиться: дым ложился на землю, из чувала вырывались снопы искр. Прислушиваясь к ветру, путники тесно сидели вокруг пылающего очага, смотрели на огонь и вспоминали пропавшего баюна. На возвращение Пантелея с четырьмя юнцами еще надеялись, на возвращение старика — нет. А ветер все дул и дул, тренькая драньем крыш, завывая в трубе. Трещал лед в заливе.
На память священномученика Фоки, дающего помощь утопающим, дозорные растолкали купцов с радостной вестью: лед в губе разбило и частью выбросило на берег. Среди торосов, неподалеку от суши, ими были замечены три коча.
Все население зимовья тут же вывалило на берег. Ежась в кафтанах, зипунах и шубейках, люди разглядели среди колышущихся льдов два коча и третий, лежавший на боку. Путники радостно закричали, но с кочей им никто не отозвался. Казаки подсыпали пороху на полки пищалей, кто-то сбегал за головешкой. Дали холостой залп. Ветер унес дым и грохот вверх по Тазу, в противную сторону. Бажен Алексеев заохал, закрестился. Лука и Гюргий Москвитины запричитали в голос.
К полудню, едва стал стихать ветер, удальцы по шатким льдинам пробрались к кочам. Все они дали течь, были притоплены, но целы и только один проломлен льдами. Это был ватажном коч. На нем недоставало палубных досок, в трюме валялись стружки, а товара, мехов, пороха не было. На беду, люди с него явно ушли, забрав с собой все добро.
По случаю возвращения судов был отслужен молебен. Затем казаки, промышленные и купцы просекли льды и вывели кочи на чистую воду устья Таза. Разбитое и перевернутое судно выволокли на сушу в стороне от зимовья.
К полудню, в самый разгар работ, люди заметили вдали пятерых путников. Они медленно продвигались вдоль кромки льдов, иногда выходили на наледь заберега, сгибались и волокли за собой груз. Москвитинская и поповская родова, боясь преждевременно радоваться, побежала им навстречу.
Уже по тому, как вдали соединялись и разъединялись фигурки людей, как пришедшие на помощь потянули груз, Бажен с Никифором поняли, что это их люди. Глаза купцов заблестели, они обнялись и со слезами радости стали читать благодарственные молитвы. Когда пропавшие родственники с посланными на их поиски людьми подходили к зимовью, купцы бросились им навстречу.
В двух нартах, сделанных из палубных досок, были в целости доставлены ценный груз и живой старик-баюн, который на радостные приветствия отвечал вяло, чесался и все спрашивал, есть ли в зимовье баня. Ему же живому радовались больше других, чудом спасенных.
К вечеру ватажные, промышленные и казаки собрались у пылавшего чувала. А когда подкрепились сытной пищей и питьем, помолились и стали отдыхать у огня, вновь вспомнили о спасенном старце. И тот, с честью исполняя возложенное на него тягло, сел в теплом месте, укутался одеялом, закрыл глаза, засипел носом, загудел горлом и, помычав, запел о прежних временах на здешней земле.
И была его песнь-былина о том, как задолго до прихода в Сибирь Ермака Тимофеевича, еще при дедовьях Грозного царя, при великом князе Иване Васильевиче, московские воеводы ходили в эти самые места и встречали здесь русских людей. Те жили в мире и ласке с местными народами, промышляли пушного зверя, торговали, имели многие остроги и города по дальним землям, втайне от царя принимали на себя присягу от здешних жителей и брали воровской ясак.
После славной Ермаковой гибели Грозный царь послал в этот край своих воевод: князя Мирона Шаховского и Данилу Хрипунова с отрядом в сто казаков. В те годы казаки еще не знали, как ходить на реку Таз Обской губой и пошли сушей, взяв оленей у самоедов. Промышленные же люди о путях и землях, которые были им ведомы, в те годы помалкивали накрепко.
И дан был воеводам царский наказ: вызнать, сколько в этом краю зимует русских людей, пустозерских жителей, зырянских и других народов, каким товаром они торгуют, с кого царским именем собирают дань, какими дорогами ходят в Мангазею. И велел царь своим воеводам отбирать у них товары запрещенные к торгу: оружие, панцири, шлемы, копья, сабли, ножи, топоры, железо и вина, а с мягкой рухляди брать десятину на него, на государя. А еще приказал вызнавать, имеются ли где неведомые Сибирскому приказу русские зимовья и остроги, а на пути к ним построить город в таком месте, чтобы никак нельзя было обойти его стороной.
Промышленные люди поняли, что Москва пошла войной на давние их вольности. Воевать с Богоданной властью они не решились, но научили непокорности самоедов. Те встретили воевод в дне пути от Пура-реки, убили тридцать казаков и разграбили груз. Оставшиеся в живых бежали к селениям промышленных и торговых людей, просили у них защиты. И не смогли русские люди отказать единоверцам в убежище и помощи.
Отбившись от самоедов, воеводы Мирон Шаховский и Данила Хрипунов отправили десять казаков в Березов-город за подмогой, остальные нашли подходящее место на высоком мысу, где впадают в Таз речка Осетровка да речка Ратилиха, и между ними построили острожек, огороженный частоколом. А ходу до него от устья Таза-реки девять дней, а вниз по весеннему половодью — три.
Когда был поставлен острог, на помощь первым воеводам пришел царский отряд князя Василия Мосальского-Рубца и Савлука Пушкина. На том кончилась вольная жизнь торговых и промышленных людей. Служилые принудили их по царскому указу платить с мягкой рухляди десятую шкуру лучшими мехами, со съестных припасов также отдавать десятую часть. С инородцев пошлин сначала не брали, но привечали их всякой лаской: в острог придут — одевались в цветное платье, говорили жалованное государево слово, что прежде к ним приходили люди торговых городов и дань вымогали воровством. Царь же здешние народы бережет, чтобы они торговали в остроге вольно и при всяких обидах жаловались бы воеводам.
Недолго радовались новой власти здешние племена и роды, вскоре царь велел служилым и с них брать ясак отборными мехами, их лучших людей ловить в аманаты-заложники, держать их в остроге, кормить и поить вдоволь, расспрашивать о других городках и народах. А как стали сибирцы уклоняться от ясака и неволи, велел воевать их и наказывать, в тюрьму сажать до тех пор, пока не дадут ясак, запросятся заложники к женам и детям — вместо них брать родственников: братьев, детей, племянников, кому можно верить. И не стало прежней воли ни русским и зырянским, ни здешним народам. Оставили промышленные люди обжитые дедами места и пошли в дальнюю страну Енисею, где ни воевод, ни казаков не было.
Мангазея же расстраивалась, заселялась пришлым народом и служилыми людьми, которые добились от царя указа, по которому нельзя уже было, как встарь, ходить по вольной земле свободно, но каждая ватага должна была объявлять, куда она отправляется.
Вот что слышал старец о здешних местах по ту сторону Каменных гор, на Руси Великой.
Воевода с атаманом сочли недостойным для себя явиться в Мангазею на нартах. На память первомученицы Феклы-заревницы при противном ветре со снегом они вместе с промышленными людьми отправились вверх по Тазу-реке на коче. Мангазейцы спешили на промыслы, а Палицыну дожидаться почетной встречи и послов от прежнего воеводы показалось делом безнадежным.
В пути от Тобольска много было разговоров о златокипящей Мангазее. Но и вблизи от нее все еще расстилалось унылое однообразие болот с мелкими озерами, пышный мох с редкими низкорослыми лиственницами, с приземистым березовым кустарником. Правда, здесь, вдали от губы, забитой наносными льдами, было еще тепло. По ночам берега реки прихватывало наледью, к полудню же так припекало солнце, что оживала мошка.
Здесь, в не защищенной тыном избенке, воеводу встречали посыльные от мангазейских посадских и промышленных людей во главе все с тем же Табанькой Куяпиным. На этот раз на рукавах его зипуна были нашиты наружу мехом волчьи накочетники. Так в здешних местах одевались к зиме промышленные, чтобы снег не сыпался в рукавицы. Своим видом Табанька показывал, что невольно вовлечен в мангазейскую смуту и думает только о зимних промыслах.
Отдав Палицыну подобающие почести, мангазейские люди ввели его в зимовье. Табанька от их имени доложил, что как только посад узнал от него о том, что прибыл новый воевода, а прежний, Гришка Кокорев, получив известие, не собирается его встречать, все поднялись против Гришки.
Дверь зимовья была распахнута, посередине пылал непомерно большой очаг, обложенный черным прокопченным дерном. Дым выходил за крышу через отверстие, обмазанное толстым слоем обожженной глины. Вокруг очага шипели жиром развешанные куски оленины. Двое мангазейцев с раскрасневшимися лицами поворачивали мясо к огню то одним, то другим боком.
Воевода, оглядевшись, скинул шапку, перекрестился и откланялся на закопченные образа с тлевшей лампадкой. За его спиной набожно закрестились промышленные и казаки. Приварки, сунув под мышки длинные ножи, изобразили на своих разбойных рожах благостное смирение, а как закончилась молитва, еще быстрей забегали вокруг очага. От запаха печеного мяса прибывшие давились слюной.
Андрей Палицын сел в красный угол, под образа, гордо приосанился, готовясь выслушать все, с чем пришли посыльные от посада. Не нравился ему такой прием, но он ни взглядом, ни словом не выдал истинных чувств и подозрения, что посадские втягивают его в свои смуты. Однако от Кокорева послов все еще не было, а в здешнем краю, кроме как на них, опереться было не на кого.
Выслушав всех, воевода посоветовался с уважаемым в Мангазее атаманом Галкиным, со своими детьми боярскими и принял угощение за соборным столом. Притом он не оказывал встретившим его людям ни ласки, ни пренебрежения. Посадские быстро поняли, как вести себя с новым воеводой, и не стали досаждать ему просьбами и жалобами. На расспросы атамана о службах березовских казаков они отвечали неохотно и уклончиво: дескать, там, на месте, сам все увидишь.
Андрей Палицын со своими людьми переночевал в зимовье и еще один день простоял под видом сборов. Он все еще надеялся дождаться послов воеводы. Посадские люди и к этому отнеслись с пониманием. Другое дело — промышленные: они то и дело заводили разговор о том, что посадским ремесленникам что зима, что осень — все едино, а промышленного человека каждый нынешний день кормит: всякая мелочь для зимовки в тайге, которую он сейчас изготовил бы своими руками, потом теми же посадскими будет продана ему втридорога. И они, промышленные, не за свои кровные интересы радеют, а, по завету отцов и по своему произволению, — за правду. Что мир породил, то сам Бог рассудил!
Новый воевода со своими людьми прибыл к Мангазее-городу до Покрова. Послы от Григория Кокорева не встретили его и здесь.
Таз еще не встал, плыла шуга, клубился над водой густой пар. Разбив баграми лед у заберега, путники пристали к причалу под яром, напротив крытой двухъярусной стены города между двух глухих башен. Три купола Троицкой церкви возвышались над ней. С полуденной же стороны к искусно срубленной террасной стене притулилась посадская церквушка. За ней, напротив проездной Спасской башни, курились трубы многолюдного посада, ремесленных мастерских. От пристани к гостиному двору поднималась широкая резная лестница.
Здешние посадские люди, хвалясь достатком, жили в избах в два и в три этажа, со связью, на высоких подклетах, с резьбой и живописью, со слюдяными оконцами. Чистая улица посада была мощена лиственными плахами. Как ни наслышаны были новоприбывшие о богатстве Мангазеи, никто их них не ждал среди диких лесов и болот встретить рукотворную красоту, под стать Тобольску.
Дул пронизывающий ветер. К причалу стал сходиться посадский люд, зазвонил колокол на Успенской церкви. Но брусчатые въездные ворота Спасской башни не растворялись. Молчали колокола городского Троицкого собора, а на городских дозорных башнях не было видно ни души.
Встретив такой прием, воевода Андрей Палицын по-другому взглянул на подданных — промышленный и посадский народ, терпеливо ждавший от него правды и справедливости.
Увидев нового воеводу и знакомого березовского атамана, собравшиеся на берегу восторженно закричали, стали кидать в воздух шапки. Андрей Палицын обвел пытливым взглядом четыре десятка сопровождавших его людей, толпу встречавших и громко сказал:
— А ведь и вправду не ждут здесь государева воеводу, не радеют делу царскому! Придется нам, братья, самим напомнить о себе да постоять за дело государево.
— Постоим! — радостно закричали на причале.
Дети боярские подхватили воеводу под руки и свели на берег. За ним с почестями был встречен атаман-ермаковец. Атаманский сын Ивашка в полукафтане и при длинной сабле напоказ всем нес суму с царской казной и казачьим жалованьем. Трое березовских казаков выносили сукна и соль в мешках.
Новый воевода в мухояровой шубе, подбитой ветхими куницами, по-хозяйски поднялся по резной лестнице к гостиному двору и направился оттуда не к Спасской проездной башне с закрытыми воротами, а к посадской Успенской церкви, возле которой собирался народ.
Со всеми почестями встреченный здешними посадскими людьми, верными атаману березовскими казаками и посадским попом Евстафием Арзамасом — тощим постником с горящими глазами, воевода взошел на крыльцо церкви. Казну, сукна, соль, жалованную казакам за службы, унесли в амбар.
Андрей Палицын прилюдно отправил своих сынов боярских в город с поклоном от себя, с грамотами тобольского воеводы и Сибирского приказа. Грамоту царя с вислой печатью он показал всем собравшимся, объявив, что вручит ее прежнему воеводе сам.
В сопровождении возбужденных посадских людей послы подошли к брусчатым воротам и стали колотить в них каблуками сапог. Из бойницы верхнего боя под кровлей башни чуть не до пояса высунулся опухший от сна и пьянства приказчик. Хмуро спросил, что надо.
Стараясь сохранить важность, сыны боярские вынуждены были отступить от ворот следом за отхлынувшей толпой и задрать головы. Придерживая шапки, они помахали грамотами и велели провести к воеводе.
За их спинами посмеивались посадские, отпуская шуточки насчет спитой морды приказчика. При этом ухарски толкали один другого, будто раззадоривались да разогревались перед дракой и громко величали друг друга молодцами-удальцами.
Приказчик хмуро сказал, что доложит о прибывших. Такое небрежение к послам пуще прежнего возмутило сопровождавших посадских людей. Послы тоже были смущены, не зная, как соблюсти важность и достоинство пославшего их воеводы. Посоветовавшись, они решили подождать.
Едва приказчик скрылся, среди мангазейских ремесленников стали раздаваться возмущенные крики. Несколько брошенных камней ударили в стену башни, с которой выглянул было березовский казак. Его стали громко ругать изменником.
Ворот города так и не открыли — ни внутренних, ни внешних. Из бойницы снова высунулся приказчик и, не снимая шапки, сказал, что князь, правитель Мангазеи и Енисеи, сегодня никого не ждет и никого не жалует. В другой раз вдруг и смилуется!
Тобольские сыны боярские затоптались на месте с красными, оскорбленными лицами. Разъяренная толпа стала колотить во внешние ворота пятками, выкрикивать угрозы. Из бойницы высунулось длинное дуло крепостной пищали, раздался холостой выстрел. Толпа отхлынула, грозя стрелявшим, и побежала в посад. Сыны боярские едва поспевали за ней, но перейти на рысцу не смели, чтобы не уронить достоинства пославшего их воеводы.
Толпа вернулась к церкви, где на крыльце, застеленном медвежьими шкурами, восседал Андрей Палицын. Пройдя сквозь расступившийся люд, послы с поклоном доложили, что Гришка Кокорев заперся и не желает никого впускать.
— Который день пирует с приближенными! — выкрикнул кто-то из толпы.
К воеводе склонился атаман-ермаковец и сказал вполголоса:
— Казаки доносят: мезенец Мотька заявлял, будто их, пирующих, жалует царь Григорий Иванович.
У воеводы и у его детей боярских от такого сообщения поднялись брови под опушки шапок. Уже этого хватало, чтобы объявить «государево слово и дело». Но атаман подтолкнул вперед своего казака, служившего в Мангазее, и тот, дородный увалень, переминаясь с ноги на ногу, стал смущенно рассказывать, что при нем, нарочито, пьяный сын боярский Никита Мотовилов целовал руку мангазейскому воеводе, приветствуя его вступление «на Сибирский царский престол».
— Не убоимся, братья, врагов Божьих, но станем с оружием твердо против них! — сиплым, срывающимся голосом возопил разъяренный поп Евстафий. И, сверкая глазами, как дедовский меч-кладенец, поднял над головой восьмиконечный крест.
От его слов даже нератные люди стали храбры, не ведавшие обычаев воинских, исполнились силой и решимостью. Толпа яростно закричала, требуя правды.
Андрей Палицын принял благословение от священника, снова показал собравшимся царскую грамоту с печатью и объявил прежнего воеводу Григория Кокорева изменником.
Поп Евстафий, водя по сторонам задиристыми глазами, благословил собравшихся на правое дело и крикнул срывающимся от волнения голосом:
— Избави нас, Боже, от врагов наших, и от восстающих на нас освободи, и сокрой от сонма нечестивых и от множества творящих беззаконие! Да будет путь их темен и скользок.
Посадские восторженно завопили. Некоторые были уже с бердышами и пищалями. Кто-то вскрикнул, призывая к расправе над Гришкой-кровососом.
Воевода поднял руку, ожидая тишины.
— Велика честь вору принять погибель из ваших рук! Пусть государю ответит за свои дела. Московские заплечные мастера убавят спеси. Живым он мне нужен… Вот вам, детушки, воин-ермаковец многоопытный в штурме крепостей, его слушайте, — указал на атамана Галкина, опоясанного саблей, в поблескивавшей наборной кольчуге под полукафтаном. — Люб ли вам атаман? — спросил громко.
Потрясая бердышами, саблями и пищалями, посадские люди радостно закричали, что люб им товарищ атамана Ермака Тимофеевича.
Тот поклонился на три стороны.
— Кто хочет пострадать за Божьи церкви, за веру православную — пусть пойдет со мной! — выкрикнул и сошел с крыльца. Его с шумом окружили посадские.
Пантелей Пенда, широко расставив ноги, придерживая саблю левой рукой, стоял среди холмогорцев и устюжан. Своим видом и осанкой он выделялся среди ватажных. Красный казачий колпак был заломлен набок, затертый, со многими заплатами, когда-то голубой жупан перепоясан накрепко. Глаза казака горели, ноздри раздувались. По правую руку от него, как юнец, стоял Третьяк, тоже опоясанный саблей. Он глядел на толпу спокойно и пристально. В отличие от посадских, донцы не выдавали нетерпения и ждали, как ими распорядится атаман.
— Перед Богом, царем и тобольским воеводой за все наши дела я, грешный, буду ответ держать. На том перед всем народом Честной Крест целую! — степенно и важно поклонился всем собравшимся воевода.
Отец Евстафий, отслужив молебен, обнес собравшихся Животворящим Крестом Господним для крестного целования в верности новому воеводе. Тот же клялся в верности мангазейским промышленным, посадским людям, государю своему и вере православной.
Дозорные с городских стен видели, как посад, суетившийся разворошенным ульем, вдруг успокоился. Разбившись на десятки, люди стали готовить лестницы и тараны. Холмогорцы с устюжанами остались при посадской богато разукрашенной резьбой избе, в которой остановился сам воевода.
Горожане первыми не выдержали тягостного ожидания. Со стен громыхнуло несколько пушечных выстрелов. Одно из чугунных ядер снесло крышу соседней избы. Посадских и самого хозяина порушенного жилья это ничуть не опечалило. Они выволокли из подклета медную пушку, набили зелейник порохом, но ответных выстрелов не делали: атаман не велел. Работы по подготовке к штурму шли с прежним упорством.
Среди казаков и посадских людей носился тощий поп в развевавшейся суконной рясе с горящими, как уголья, глазами. Он благословлял направо и налево, ободрял сиплым, срывавшимся голосом:
— Чудно, воистину, видеть милость Божью к нашему воинству. Заступничество и помощь против врагов по молитвам великих чудотворцев!
На другой день осады из крепости сбежали два березовских казака. Каясь перед народом и атаманом, они сообщили, что в городе много припасов и воевода с приближенными гуляет, надеясь на крепкие стены и на то, что промышленные со дня на день разойдутся по промыслам. А без них с осажденными не справиться. Посадские же, как известно, никогда никем подолгу довольны не бывают: вскоре невзлюбят и нового воеводу.
Из слов перебежчиков Андрей Палицын с атаманом Алексеем Галкиным поняли, что городовой люд, издавна не ладивший с посадским, не вполне понимает, во что втянут Гришкой Кокоревым и его приближенными: о заговоре и об измене государю догадываются немногие.
Посад нетерпеливо ждал начала штурма, то и дело задирал горожан. Среди зачинщиков всюду мелькала поповская черная шапка.
— Сотвори, Господи, преславное чудо, исполинской силой перепояшь люди Твоя! — слышался неугомонный голос попа.
Андрей Палицын велел готовить подметные письма, чтобы вразумить осажденных. Но под утро город и посад разбудили громоподобные вопли. Едва рассвело, любопытные увидели знакомую фигуру дородного иерея Троицкого собора на шатровой маковке правого придела городской церкви, куда пьяный поп невесть как влез среди ночи.
До рассвета он орал «слово и дело» на Гришку Кокорева. Затем, протрезвев и обхватив руками крест, выл, со страхом глядя вниз и не зная, как спуститься.
— Троицкого попа спасать надо! — раздался клич среди посадских. Атаман с сыном были разбужены ворвавшейся толпой. Казаки повскакивали с лавок и по лицам людей поняли, что штурм крепости уже не остановить.
Пенда по наказу атамана побежал к посадской церкви. За ним нехотя последовали хмурые ватажные холмогорцы и устюжане, вооруженные нарочитыми пищалями и тесаками.
Дул свежий ветер с полудня, просекаясь белой крупкой. Мела поземка. В избах топили печи, дымки тянуло на городскую стену, за которой на куполе церкви стучал зубами от стылого ветра, вопил и бранился вытрезвившийся поп. Он то сипло ругал Гришку с дружками, то взывал к небу о правде и справедливости.
Седобородый атаман, в кольчужке на войлочной рубахе, в заломленной на ухо красной шапке, велел Пенде с промышленными укрыться за избами посада, запалить фитили и по его знаку стрелять по стенам. Посадские приготовили лестницы, таран и нетерпеливо ждали сигнала к наступлению.
Наконец Ивашка Галкин, выглядывая из-за дома, свистнул, махнул саблей и первым побежал к воротам. За ним с лестницами, с тяжелым бревном на пеньковых веревках с ревом и посвистом понеслись посадские и промышленные.
На стенах загрохотали пушки и пищали. Но правду говорил посадский поп: победа в бою и поражение совершаются по Божьему промыслу — ядра и пули пролетали мимо, не задевая никого. Пальба не нанесла урона осаждающим, но в щепки разнесла два посадских дома. Пенда с Третьяком открыли частую стрельбу по стенам, не давая осажденным отталкивать приставленные лестницы.
Посадские уже били тараном по крепким воротам проездной башни. На кровлю двухъярусной стены вскарабкались атаманский сын и березовские казаки, стали разбирать дранье крыши. Бывшие там защитники города нехотя отмахивались бердышами, виновато отругивались и оправдывались, не желая кровопролития. Вскоре они побросали оружие и сдались, огрызаясь на пинки и тычки.
Еще не разбиты были внешние ворота, а в стрельбе уж не стало надобности. Пенда выскочил из укрытия, призывая промышленных на штурм. Мельком взглянул на знакомые лица и понял, что никто, кроме Третьяка, за ним не побежит. Его это ничуть не смутило: привычно увлеченный боем, он кинулся к воротам на пару с товарищем.
Посадские, чуть передохнув, с новыми силами принялись бить тараном, хотя в проезде, распахнув изнутри внутренние ворота, уже кричали свои, чтобы дали им выдернуть закладной брус.
Пенда с Третьяком подбежали в тот самый миг, когда брус был сброшен. Посадские, давя друг друга, наваливались. Ворота не отворялись только потому, что были разбиты.
— Расступись! — громовым голосом гаркнул Пенда, расталкивая толпу локтями. Разгоряченные штурмом люди послушно посторонились.
— Вы, трое! — указал. — Тяни створ на себя. А вы снизу подоприте.
Створчатые ворота подались. Щель между ними расширилась настолько, что по одному можно было втиснуться в проездной свод башни. Несколько человек ринулись было в этот проем, но Пантелей опять закричал:
— Расступись!
Ему снова подчинились. Он велел растворить ворота шире и среди первых ворвался в город. За его спиной кто-то беззлобно поругивался:
— Луженая глотка! Влез-таки!
Краем глаза Пенда увидел бегущего за ними посадского попа с литым крестом, услышал его победный крик:
— Гонимые гневом Божьим, побежали!
На выходе из подбашенного проезда в одной исподней рубахе и в шапке пьяный мангазейский сын боярский размахивал оглоблей, рычал и срамословил. Посадские отпрянули, прижимаясь к рубленым стенам. Третьяк с саблей в руке оказался впереди всех. Он насмешливо увернулся от тяжелого и неверного удара, очутился лицом к лицу с сыном боярским, ударил его лбом в подбородок. Перекинул саблю из правой руки в кольчужной рукавице, в левую, коротким ударом ткнул пьяного под ребра. Тот, выпучив глаза, засипел и согнулся в земном поклоне.
— Не гневи Господа! — пнул его в зад пробегавший поп.
Проносившиеся мимо посадские непременно награждали хмельного сына боярского, доставлявшего им в прошлом много вреда, пинками и тычками.
Возле воеводских покоев Пенда столкнулся с атаманом и его сыном. Их люди вязали пьяную охрану, не оказывавшую сопротивления. Дом был заперт. Посадские выворотили бревно из навесных летних сеней и легко выбили створчатую дверь. Атаман, его сын и Пантелей ворвались в воеводские покои, чтобы вязать изменника. Пройдя светлицей, они распахнули дверь. Пенда опять протиснулся вперед, но учуяв носом запах тлеющего фитиля, отпрянул к стене.
Что изволил Бог, тому не миновать. Седобородый атаман рванулся напрямик. Из-за печи раздался выстрел, и старый ермаковец, споткнувшись, осел на руки подхвативших его людей. Ивашка Галкин с воплем кинулся на стрелявшего, сбил его с ног, рассек щеку и с подоспевшими березовскими казаками стал вязать руки бывшему воеводе.
Горожане и посадские, еще ругаясь между собой, уже вместе толпились возле церкви и думали, как снять с шатрового купола притихшего и посиневшего на ветру попа. Мангазейцы говорили, что он, который день пьянствуя с прежним воеводой, нынешней ночью взбунтовался, объявив «государево слово и дело». Ясырь прежнего воеводы, с синяком под глазом и без сабли в болтавшихся ножнах, медленно подбирая русские слова, рассказывал, что хозяин предложил троицкому попу венчать его на Сибирское царство. Тот, понимая, что запутался в воеводских интригах, решил вознестись с церковного креста, но русский Бог не принял его во хмелю.
Удивляясь, как эдакий высоченный и дородный детина смог влезть на купол, березовский казак, строивший этот придел, поднялся на него, разобрал изнутри часть кровли и с подручными едва отодрал от креста полуоколевшего попа.
До позднего вечера посадские и промышленные люди гуляли в городе, задирая прятавшихся горожан. Разграбить казну Палицын не позволил, поставив везде свой караул, но часть казенного вина из воеводских погребов выдал. Сам же с детьми боярскими долго ходил по городу и размышлял, какой потребуется ремонт. Потом он сел в воеводской избе со сломанными дверьми, со стонущим за изразцовой печкой раненым атаманом и велел привести к себе Гришку Кокорева с его приближенными для передачи дел города.
Уже на другой день, к неудовольствию и обидам разгулявшихся промышленных и посадских людей, воевода приказал чинить городские ворота и выбитые двери, наказал всем миром поставить разбитые стрельбой посадские дворы. Одарив отличившихся промышленных, он отпустил их на промыслы, обещая собирать государеву десятину по справедливости, судить их споры самому, не перекладывая на тиунов-приказчиков.
Отогретый и отпаренный в бане поп служил в Троицкой церкви литургию и молебен. Он был на голову выше самых высоких из прихожан, а в просторных ризах казался чуть не вдвое шире плечами.
— Господи! Дай же князю нашему силу Самсонову, хитрость Александра, разум Иосифа, мудрость Соломона, хитрость Давида и умножь, Господи, всех людей под властью его, — величал нового воеводу Андрея Палицына. — Богу нашему Слава и ныне и присно и во веки веков. Аминь! — пел зычным раскатистым голосом.
Благостно слушали его посадские и горожане. Восхищались чудным, густым басом, восторженно кивали. Уж одного только пения им достало, чтобы простить троицкому попу все его грехи и попойки с изменником.
Обидчиво подергивал плечами в ризах и печально мигал возмущенными глазами отец Евстафий, Он прислуживал троицкому попу в городском храме и удивлялся людской неблагодарности. По лицу постника видны были его печальные мысли о том, что Господь наш Иисус Христос и не такое претерпевал от неблагодарных единокровников.
На Покров и у воробья пиво. В эти времена еще все были сыты: и город, живший привозным хлебом, и посад со всеми не ушедшими на промыслы гулящими людьми. Никифор с Баженом начали торг на гостином дворе, принудив нового воеводу не брать десятины со съестного припаса за их заслуги в усмирении мангазейской смуты и из-за порчи многих товаров в море. С купли же и продаж они обещали платить по указу. Но подступала уже тревога о предстоящей зиме.
Купцы-пайщики и складники торопливо вызнавали у здешних промышленных, где какие ватаги ведут соболий промысел и когда отправляются на него. Беспокоились они не напрасно: бывалые люди уже ушли на стругах вверх по рекам, строили зимовья, делали нарты и лыжи, готовили мясной и рыбный припасы к холодам. Судя по рассказам бывальцев, в здешних местах собирались на промыслы не так, как в Устюге и на Печоре, и одевались иначе.
На каждого промышленного здесь надобно было никак не меньше двадцати пудов ржаного запаса в год, а прожиточные люди брали по тридцать, да соли по пуду, да круп по четверти. В шубах по тайге ходить тяжко — в зиму ходили промышлять в кафтанах и в зипунах, поверх которых надевали через голову суконные наплечники-лузаны, сшитые без рукавов с воротом по-рубашечьи. Лузан закрывал спину до пояса, а через отороченный кожей передок продевался ремень, протягивавшийся под брюхо. А нужен лузан в здешнем краю, чтобы снег за ворот не сыпался. Кроме того, надобно было иметь с собой налокотники — овчинные нарукавники под кафтан, начетники — опушки на рукава, да сермяжные малахаи вместо шапок, да уледи — промышленную обутку с крючьями на носках, с подошвой из кожи, да две пары ичиг или сапог. А еще каждому промышленному нужна была в пути бурня — двудонный берестяной бочонок. В него клалась гуща для выпечки хлеба. Да квашня с собой бралась. Сверх того — топор, огненное ружье, лук со стрелами и одеяло…
Как ни вызнавали ватажные у здешних людей, как ни задабривали их угощениями и посулами, выходило, что нет им доступных промысловых мест нигде, кроме верховьев Таза. Туда никто из бывалых промышленных не рвался, поскольку места давно обеднели соболем. Народец там, при озерах, жил спокойный. Но время от времени и он бунтовал, подстрекаемый мятежными пелымскими князцами.
Ватажные стали спешно готовить одежду и нарты, которые здесь делали до двух саженей длиной. Посадские ремесленники, видя нужду, бойко торговали снаряжением, заламывая цены за всякую нужную на промыслах мелочь.
На соборных советах о будущих промыслах москвитинские и поповские родственники снова переругались. Одни побаивались идти в пределы пегих людей, другие разумно понимали, что в места дальние и кормовые уже не поспеть. Самые вздорные предлагали объявить себя гулящими, с тем чтобы купцы-пайщики выплатили за них подать, и зимовать в посаде на подсобных работах за прокорм. Большинство же рвались на промыслы, какими их Бог даст: не для богатства — так для опыта.
Холмогорцы и устюжане никак не могли выбрать среди себя передовщика, которому бы те и другие одинаково доверяли. Рьяные спорщики устали доказывать свое, уже только перепирались да поругивались, а соборного решения все не было. По всему выходило, что лучше Пантелея по прозванию Пенда передовщика им не сыскать.
Покрученник — голь перекатная из донских казаков. Воевода приближал к себе его и Третьяка, звал в сибирский казачий чин. Но те от службы уклонялись. Не стесняясь их присутствия, купцы и промышленные стали припоминать все хорошие и плохие дела донцов в пути от Перми. Вспомнили и брошенного в ночи старого ермаковца, и то, как донцы в Тобольске чуть не сбежали с проходимцем Васькой Бугром, прельстившись его посулами.
Угрюмка с Пендой ерзали на лавке от смущения, Третьяк водил немигающими глазами с одного говорившего на другого и только круче подбоченивался — дескать, знать не знал о себе такого вздора.
Когда промышленные и купцы спросили, желает ли сам Пенда быть передовщиком за полный пай, он, поднявшись, сказал сухо:
— Передовщиком в эту зиму не пойду — прежде на промыслах не был. Слышал, что Табанька Куяпин рассорился со своей ватажкой и просил воеводу поверстать его в конные казаки. Коли он согласится пойти к нам — вдруг и будет польза: сказывал про себя, будто язык пегих людей знает и со здешними князцами в дружбе.
Как-то вдруг и сразу всем стало ясно, что передовщиком Пантелей быть не может, как не может им быть и никто другой из ватажных. О чем спорили полдня? Собравшиеся заговорили о Табаньке — говорит, что по рождению мезенский человек, но не научен ни слова молвить благопристойно, ни поклониться достойно — обычный срамослов, и только. Но даже те, кому Табанька был противен, вынуждены были признать, что лучше передовщика им уже не сыскать.
Поговорив, ватажные решили отправить к нему Бажена Попова и Никифора Москвитина и дали им такой наказ: пусть вызнают, к чему Табанька склонен, сможет ли быть передовщиком и какой пай желает получать. Да советовали торговаться с ним о вознаграждении, а после уже звать править ватагой — по правде и по закону устюжан и холмогорцев.
На другой день Табанька явился на сход вместе с купцами. По его лицу с задранным носом видно было, что он и без крестоцелования считает себя передовщиком. Как потом рассказали купцы, мезенец заламывал по себе цену непомерную. Никифор с Баженом рядились за свой интерес, зная, что все ватаги разошлись по промысловым местам, а у Табаньки своего припаса в зиму нет. Они не хотели давать ему больше ужины[42]. Жалуясь на убытки и бедность, хитроумно предлагали неслыханно малую и оскорбительную для передовщика плату простого покрученника — треть добытого. И вдруг Табанька согласился идти на их промыслы полуженником, за полпая, чем нимало озадачил купцов.
Тут же выпросив задаток на сапоги, он побывал в гостиной бане с сусленками[43], на кружечном дворе и явился в старых, но подлатанных ичигах. Веселый после бани, кваса и сусла[44], сразу стал похваляться, будто бывал в Енисее-стране, где соболишек палками бьют возле зимовий.
— Спасу от них нет! — говорил, важно оглядывая промышленных. Те рассматривали его, как коня на торгу, — только что не щупали. — Собакам в корыто мясо вывалишь, а они то варево выхватывают и жрут. Тут их и давишь чем попадя… Здесь другое дело — за каждым юрким[45] бегать надо. То обметом, то кулемой… Ничо, даст Бог, свое возьмем: долговое отработаем, на гульбу да на припас для нового промысла добудем. Те, что с Руси приедут, — сперва не много хотят, бывает, довольны и тем, что за посадом добывают.
Как ни хмурились ватажные, сердито поглядывая на Табаньку, как ни прикидывали, смогут ли ладить с этаким говоруном, — вынуждены были смириться. Уже оделась зимником река Таз, бывалые люди давно были на промыслах. На другой неделе, по окрепшему льду надо было спешно выходить из города. Иначе, проев зимой хлебный запас, пришлось бы по весне выбираться на Русь Христа ради. Таких людишек, обиженных судьбой и Сибирью, устюжане и холмогорцы встречали на своем пути, и никому не хотелось их доли.
По старому обычаю промышленные задавали передовщику-Табаньке каверзные вопросы, стараясь тем самым смутить говоруна. Но он, ничуть не совестясь, отвечал что в голову приходило. Спросил его и Угрюмка о чем думал:
— Отчего здешняя Орда Пегой зовется?
— А людишки в ней такие! — как о не стоящем разговора ответил Табанька и добавил: — У часельского князца куначил позапрошлый год — так у него на брюхе два пятна, будто котлы ставил, а у бабы на титьке — будто кедровая шишка. Оттого пегими прозывают.
Сеньке Шелковникову невтерпеж было спросить про лесных людей, у которых рот на спине.
— Сам не видел, — признался Табанька. — Самоеды в Енисее, те все эдак вот, боком ходят, — Табанька повел неширокими плечами под лузаном, — и все что-то жуют. Но рот, сказывают, на морде. У стариков, бывает, без зубов…
На другой день в Успенской церкви, где хранилась купеческая казна, после литургии и причастия посадский поп Евстафий Арзамас принял крестоцелование Табаньки купцам-пайщикам, остававшимся зимовать в Мангазее, и промышленным, уходившим на промыслы. Промышленные же целовали крест купцам и передовщику.
Упредив всех от раздоров, священник окропил их святой водой и благословил на удачу. Промышленные же и купцы-пайщики обещали двух первых добытых соболишек дать Успенской церкви, а после Михайлова дня добытого — строящейся в посаде церкви Святого Макария, а после Рождества — городской Троицкой.
* * *
Вот и приморозило, да так, что на ветру в зипунишке или кафтанишке даже привычным к стуже казакам стало не по себе. «Ничо! В холод всякий молод!.. Что мужику деется — бежит да греется».
— Это не Устюг Великий и не Холмогоры! — шутили ватажные, считавшие прежде, что зима в здешних местах приходит, как и у них на отчине.
Доброе начало — половина успеха. Обоз двигался на полдень по окрепшему льду реки. Впереди налегке шагал Табанька Куяпин в зипунишке, крытом лузаном, и в сермяжном малахае. Лыпой — посохом в полсажени с насаженным на конец коровьим рогом — прощупывал лед, отходя то к одному берегу, то к другому. По его следу промышленные тянули шесть больших двухсаженных нарт, сделанных по сибирскому обычаю узкими — в семь вершков.
Промышленная ватага разделилась на пять чуниц[46] во главе с выборными чуничными атаманами. Самая малая чуница у донцов: Угрюмка с Третьяком да их передовщик Пантелей Пенда. Нарты у них были самыми легкими, и те они не всегда могли сдвинуть с места без сторонней помощи. Если бы не уледи — подошвы с шипами, да лыпы, и вовсе не сорвать бы их с места после стоянки.
Скрылись за спиной башни города и кресты церквей. От разгоряченных людей шел пар. Пантелей Пенда скинул суконную шапку, распахнул жупан под лузаном. По совету бывальцев кожаную рубаху с бахтерцами он оставил на хранение в чулане Успенской церкви вместе с шапками промышленных людей. Все оделись в одинаковые малахаи — и перестали отличаться по виду холмогорцы от устюжан.
Табанька шагал впереди с таким видом, будто в руке его была не лыпа, а держава. Вот он поднял посох — и стих скрип нарт, умолкли сипение, кашель, хрипение. Обоз остановился. Опираясь на посохи, бывалые промышленные перешибленно согнулись в поясницах, давая быстрый отдых натруженным жилам. Хотелось пить. Угрюмка пошел к берегу, высматривая полынью. Кто-то долбил лыпой лед. Табанька велел подойти к нему чуничным атаманам и строго объявил:
— В пути воды не пить: от нее сила уходит и кишки горят! А можно выпить по чарке квасу!
Люди Луки Москвитина ослабили ремни-поворы, которыми был стянут груз на нарте. Спереди на ней крепился котел с квасом и с черпаком. Лука стал наливать подходившим каждому в его кружку по чарке — на три-четыре глотка — только язык смочить. Больше ватажный передовщик пить не велел, и с ним пока не спорили. Лука напился последним, крякнул от удовольствия, вытер рукавом обледеневшую бороду. Затягивая передок нарты, надсадно пошутил, что она стала легче.
Ничто уже вокруг не говорило о близости города, лишь редкие затесы на низкорослых лиственницах напоминали о том, что здесь бывали люди. А росли они редко в перелесках между голыми болотами, за несколько верст одна от другой.
Через неделю провонявшие дымом и потом промышленные люди все еще тянули бечевы своих нарт. Как всегда, все ждали вечера, отдыха, костра и ужина. Вот уже в полдник они съели последний хлеб и думали остановиться на ночлег пораньше, чтобы выпечь свежий.
Смеркалось, а Табанька все шел и шел, время от времени останавливаясь и с умным видом выглядывая какие-то ему одному известные метки, затем снова шел, то ли что-то искал, то ли не мог выбрать место для ночлега. Промышленные устало поругивали его и с нетерпением ждали, когда он воткнет в мерзлую землю лыпу, выстывшими губами под смерзшейся бородой станет шепеляво читать молитву.
Уж завечерело. Путники с тоской и злостью думали, что теперь им придется до полуночи жечь костры и греть землю. Хорошо, сухостой был рядом. Но передовщик не остановился и возле сухостойного леска отыскал заметенное устье речки и торопливо зашагал по ней, подавая знак следовать дальше.
Ропот чуничных перешел в ругань, но Табанька без остановок и раздумий, налегке, убежал далеко вперед. Промышленные готовы уже были кричать вслед. Здешние места казались им хуже и неудобней для ночлега, чем недавно пройденные.
Но вот Табанька остановился, что-то разглядывая по левому берегу ручья, за излучиной, скрытой унылым березовым колком. Вдруг он стал креститься и кланяться на полдень, вызывая недоумение у идущих по следу. Когда промышленные подтянулись ближе, то увидели в полутьме зимовье, огороженное полуторасаженным тыном.
Ворота были распахнуты. По углам тына стояли изба и баня, срубленные наспех из неошкуренного леса. Между ними — просевший навес, крытый берестой. Над воротами чернел крест. В огороженном дворе в пояс торчала сухая трава, присыпанная снегом, показывая, что здесь давно не жили люди.
Бросив постромки нарт, путники стали истово креститься на почерневший крест. Каким бы заброшенным и ветхим ни было зимовье, ночлег в нем представлялся радостней, чем под небом.
— Слава Тебе, Господи! Глазам не верю, — бормотал Табанька, искренне удивляясь и поглядывая вокруг. — Целехонькое. Два года пустовало. Утуева рода князец бывал здесь, а не спалил… Друг! Кунак! Вдруг жив — встретимся, даст Бог!
Уставшие люди запели благодарственные молитвы. Табанька подпевал, на ходу раздвигая лыпой сухую траву. По-хозяйски прошел к избе, заглянул в распахнутую дверь, перекрестился, махнул, приглашая за собой. Пока не стемнело и не выстыла сырая одежда, промышленные стали таскать в зимовье дрова.
Изба с чувалом изрядно отсырела и прогнила. Но едва развели огонь и заткнули лавтаком окно, в ней появился желанный дух жилухи. К радости путников, передовщик объявил, что сюда их и вел, да не знал, цело ли зимовье. Дал Бог облегчение: подлатать, проконопатить, запастись мясом, рыбой — и можно начинать промыслы.
— Смотрите друг за другом крепко, не нагрешил бы кто, не лишил бы нас помощи святых угодников, не спугнул бы удачи, — наставлял Табанька, греясь у очага. И его почтительно слушали.
Изба быстро наполнялась теплом.
— Ни одного образка не оставили, — проворчал отогревшийся Лука Москвитин, укоряя последних насельников зимовья в том, что те забрали с собой все иконы. — Наверное, и домового увели?
— Спаси Бог, если бросили! — испуганно замахал руками передовщик. — Если дедушку не позвать в новую избу — он в старой проказить будет!
— А бывает, с лешими спутается и уйдет! — просипел Гюргий Москвитин, снимая сосульки с усов. — Давненько, видать, здесь никто не жил.
— Домовой лешему — враг лютый! — поправил брата Лука. — Хотя с полевыми иногда знается! А те и с домовыми, и с лешими бывают в дружбе.
— Нет здесь ни полей, ни лесов — болота и те мерзлые! — устало всхлипнул кто-то из промышленных.
— Потому и лешие в тайболе особые, — стал наставлять Табанька. — Тайгунами зовутся. А непролазная, заколдобленная чащоба — тайгой… Ночью все узнаем! — оттаяв ремни, стал скидывать лузан. — Коли здесь домовой, то он, истосковавшись по людям, ночью станет шалить: теплой и мохнатой рукой погладит по лицу — к добру, голой и холодной — к худу. А кого душить будет — спрашивай: к добру али к худу? И примечай — легко станет или тяжко.
Промышленные молчали. Про повадки домовых знали даже юнцы. Лука, выдирая из седеющей бороды последние сосульки, громко пожаловался:
— Жаль, баюна в посаде бросили. Он бы все сказал.
Старца, чудом довезенного до Мангазеи, купцы оставили при себе. Слишком уж явным показался Никифору с Баженом грех, если бы они отправили его с ватажными на холодные ночлеги в снегу.
По всем приметам, домового в зимовье не было. Поднявшись за полночь, Лука Москвитин достал из пожиток маленький резной сундучок, в который им был зазван домовой из брошенного отчего дома в Устюге. С иконой в одной руке, с присоленным ломтем хлеба в другой старый сибирец пробормотал:
— Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой: ни черен, ни зелен, а таким, каков я; я принес тебе красно яичко!
Пылал очаг, изба была освещена. Многие промышленные уже спали. Лука огляделся по углам — не увидел никого, тогда раскрыл сундучок и проговорил ласково:
— Дедушка домовой! Прошу твою милость к нам на новожитье; прими наши хлеб-соль, мы тебе рады, только мы пойдем дорогой, а ты стороной.
Тени угасающего пламени метались по рубленым стенам, как ведьмы на шабаше. Погасла и ярко вспыхнула сердитая головешка. Гюргий Москвитин, крестя рот в зевке, сонно пробормотал:
— Эвон, за чувал заскочил! Приживется, даст Бог! Хозяин!
Сын его, Ивашка, из-под мехового одеяла пялил сонные глаза, куда указывал отец, и ничего не видел. А спать хотелось — не до переспросов.
Сменяясь в дозоре, избу топили всю ночь. На другой день, отоспавшись вдоволь, ватажные вырубили на речке льдину и вставили в окно, законопатив края мокрым снегом. По наказу передовщика поповские чуницы спешно подновляли зимовье и баню, москвитинская да шелковниковская родня таскали из лесу припас дров. Донцам же Табанька велел изготовить пять нарт в полторы сажени длиной и двадцать пять пар лыж.
Угрюмку с Третьяком такой наказ испугал. Казалось, прорву лыж да еще нарты не сделать и за зиму. Они с удивлением взглянули на Пантелея Пенду, тот не спешил спорить, раздумывая.
Сам Табанька с выбранными им людьми решил заняться охотой на дикого оленя, добычей птицы и рыбы, чтобы не заботиться о припасе в промысловое время. Стреляли зверей из луков и ружей, если удавалось подкрасться на выстрел. Лосей, маралов, оленей мангазейцы ловили ямами: рыли их в вечной мерзлоте и делали от них огороды, чтобы зверю не было другого пути. Табанька теребил бороду, вспоминал и не мог вспомнить о прежних огородах.
Родившись в Диком поле среди неприхотливого полукочевого народа, сколько помнил себя Пантелей, его восхищали всякая добротная вещь, всякое приспособление, сделанное человеческими руками: будь то мышеловка, конская упряжь или ткацкий стан. Украшений он не замечал и не обращал на них внимания. Даже дорогое, изукрашенное оружие никогда не рассматривал сметливым глазом мастера, зато мог подолгу наблюдать за плотниками, строившими дом, амбар, судно или шлифовавшими березовое топорище. Так, вприглядку, и научился ремеслам. Еще в Мангазее, посмотрев, как разумно устроены здешние нарты, он побывал у посадских ремесленников, посмотрел, как они делаются, как собираются, и удивлялся сметливой простоте работ. По его понятиям, лыжи покупали только бездельники, разленившиеся на привольных сибирских промыслах.
Наутро после соборной молитвы и завтрака донцы с топорами, заткнутыми за кушаки, отправились в видневшийся из зимовья березовый колок. По строгому наказу Табаньки положили в нарты пищаль — для защиты и сигнала при опасности, прихватили с собой три лука на случай мясного промысла.
Зайцев возле зимовья было множество. Они были наглы и неосторожны. Пока Угрюмка волок нарты, Третьяк с Пендой набили их из луков десятка полтора. За время своих скитаний Угрюмка освоился в степи, среди лесов и тесных падей. Но, войдя в продуваемый березовый лесок с облетевшей листвой, почувствовал вдруг глупый страх. Утешал себя: день мученика Ерофея прошел. Это когда зима шубу надевает, а лешие по лесам бесятся — кричат лихоматом, ломают деревья, гоняют зверье перед тем как провалиться сквозь землю. Чего теперь бояться? Нынче вся нечисть под землей спит мертвецким сном за воротами меднокаменными. Ни следочка вокруг колка. А вот ведь кажется, будто из-за деревьев пялятся сотни глаз и тишина стенящая шепчет о беде неминучей.
Перекрестившись, поправил Угрюмка на груди кедровый крест. Пенда, поскрипывая смерзшимся мхом, прошел к скрученным ветрами березам. И тут загрохотало, заохало. Путники схватились кто за лук, кто за топор. Почти из-под их ног с громким фурканьем встала на крыло стая куропаток. В глубине леса кто-то загоготал, затрещал сушняком.
Блеклая, седая луна дремала на небе. Из зимовья доносился стук топоров. Сплевывая на невольный страх, Угрюмка жался к Пантелею, а тот уже присматривался к березам, годным на полозья и лыжи.
— Дедушка, дай нам лесу маленько! А мы тя привечать будем! — пропел красивым звонким голосом Третьяк, вынул из кармана сухарь, обдул его и положил на валежину.
— Сказывают, нечисть спит? — взглянул на него Угрюмка.
— Хуже не будет! — улыбнулся Третьяк, ничуть не смущаясь.
Запутали, заморочили устюжане с холмогорцами казаков да бродников, у которых и домов-то своих никогда не было. И показалось им, что по притихшему лесу прокатился вздох: дескать, ладно уж, берите, что с вас взять. Почудилось — перестал лес вглядываться в пришельцев, ожил, приняв их: зашевелились на неслышном ветерке голые ветви, где-то суетливо затрещала сорока.
Нарубив полные нарты березовых хлыстов, донцы к полудню вернулись в зимовье. Дальнейшая работа предстояла здесь, за тыном. Нехорошко с Тугарином, встретив их у ворот, как увидели в нарте кучу набитых зайцев, так и завопили на всю округу, что зверек это нечистый, с когтями и под крестом, что над воротами, везти его никак нельзя. Пенда и Третьяк спорить не стали, сбросили зайцев за воротами, провезли под крестом нарту с хлыстами, а потом перекидали тушки через частокол.
— Мяса нет — хоть зайчатиной отъесться! — ворчал Пантелей, обдирая зайцев. — У них не пост, так голод. Нам, грешным, Бог простит такие пустяки.
Через пару дней Угрюмка с Третьяком поняли, что наказ передовщика можно сделать раньше назначенного срока. Тем временем устюжане с холмогорцами укрепили тын, подновили стены и кровлю избы, в которой сразу стало теплей, перебрали баню.
Передовщик с опытными добытчиками ходил загоном на оленей, но оленины не добыл, зато набил много птицы. На устье ручья, подо льдом, ловили рыбу. Табанька азартно давил зайцев плашками, складывал их, замерзшими, как поленницу. Устюжане с холмогорцами, глядя на такой промысел, плеваться перестали, но велели, чтобы при них и в общих котлах зайчатину не варили: мол, у зайца глаз кос и лапа походит на копыто.
Съестные припасы складывали в лабаз. На частоколе, прельщенные рыбным духом, не к добру рассаживались и кричали вороны или трещали сороки, выискивая воровские щели.
Замело, запуржило на святую Параскеву Пятницу, девичью да бабью заступницу в грехах и в терпении. И обмолвился Табанька, поглядывая на потемневшую льдину в окне, что это здешние тайгуны дразнят старуху Хаг — полуночную лютую пургу. Не ровен час — заметет, и надолго. Промышленные обеспокоились и стали торопить передовщика, чтобы не откладывал промыслы из-за насущных дел.
Убрав со стола остатки еды, помолившись да призвав в помощь Духа Святого со всеми святыми, промышленные расселись по чину: с правой руки от главного ватажного передовщика — передовщики чуничные, слева — складники, покрученники — по кутному да сиротскому углам[47]. И стал главный передовщик рассылать чуницы по местам промыслов, стал их напутствовать:
— Луке с чуницей идти вверх по Тазу день или два до устья Часельки-реки, до удобного места и рубить там станы во имя Параскевы Пятницы, Христовым страстям причастницы, да во имя Николы зимнего и всех своих святых покровителей. А в пути сечь не меньше тридцати кулем в день и ставить их в удобных местах так, чтобы от одной другую видно было. Рубить же вам станов не меньше десяти. Между ними по падям и по ручьям по два-три ухожья кулемами обставлять. А полное ухожье — восемьдесят кулем.
А идти вам, взяв припаса на две недели. После двоих-троих людей своих передовщик пусть отправляет в зимовье за заводом, чтобы пополнить припас. Взяв здесь муки, мяса и рыбы, заводчики пусть передовщика догоняют, останавливаются по станам и осматривают кулемы. Если их снегом заметет — пусть обметают. Где юрких возьмут — обдирать только при передовщике. Коли промерзнет добыча — таять ее, положив себе под одеяло.
При шкурении всем сидеть молча и смотреть накрепко, чтобы в ту пору ничего на спицах не висело. А по снятии шкур тушки положить на сухое прутье, окурить их, обнося огнем вокруг три раза. Прутье сжечь, а тушки зарыть в снег или в землю.
В святые дни делать остановки, молиться и отдыхать всем, кроме тех, кто на завод и на размет посланы.
Передовщикам и всем идущим впереди смотреть, нет ли на пути остяцких болванов. А как будут, так, помолясь, возвращаться до стана и дальше не ходить ни за соболем, ни за каким другим зверем, чтобы с остяками здешними зимовать в мире.
Затем передовщик благословил чуницу молодого холмогорца Федотки Попова на Тольку-реку с таким же наказом, еще две чуницы отправил на другие притоки Таза. Когда же дошел черед до донцов, оказалось, что он задумал держать их близ себя — для охраны зимовья и ватажного припаса. А промышлять им велел поблизости, обставлять кулемами округу.
— Зайчатину нечистую жрать будут! — проворчал Нехорошко, возмущенно дергая клином бороденки.
Передовщик же степенно продолжил наказы:
— Чтобы добытого и черных соболей от товарищей своих не скрывать, а все отдавать передовщику. А кто скроет или украдет — на того я гневаться буду и наказывать по законам стародавним. Чуничным атаманам — самим никого не наказывать, а доносить обо всех мне. Промышленным — смотреть накрепко за своими атаманами, не гневаться на них, не спорить, а обо всем мне докладывать.
Соболь — зверь умный, услышит о себе разговор, как его по имени назовут, — уйдет в другие страны или станет из кулемы приманку вытаскивать, над промышленными потешаться. А потому с нынешней ночи соболем его не звать, но юрким или еще как. А про баб не вспоминать в разговорах и бабу бабой не звать и девку девкой, чтобы не накликать оборотней да лешачьих жен. А звать их сисястыми и глазастыми. И хлеб хлебом не звать, чтобы не переводился. И медведя — медведем, чтобы шатуны не одолели…
Любил Табанька поговорить так, чтобы его одного слушали. Об этом все промышленные уже знали и терпели сколько хватало сил, когда же становилось невмочь — начинали зевать, вскакивать с мест и огрызаться. Передовщик обиженно умолкал.
Угрюмка с Третьяком подбросили в выстывший очаг сухих дров. Загудело пламя. Едва передовщик поднялся, промышленные, торопливо крестясь и кланяясь на образа, стали готовиться к ночлегу. В ночной дозор заступали донцы. Остальным была воля отдыхать.
Холодало. День в полуночном краю стал таким коротким, что вставали промышленные и расходились на работы при свете звезд, при звездном небе заканчивали дела. После ужина Пантелей Пенда стал собираться в ночной дозор. Он подсушил фитиль на пищали, по привычке опоясался саблей, без которой ему было не по себе в ночи, накинул тулуп и вышел в огороженный частоколом дворик зимовья. Низкие яркие звезды, каких не бывает в степи, висели над землей.
Путаясь в длинных овчинных полах, на крышу он не полез, а вскарабкался на помост у тына, взглянул в одну сторону, в другую. Вокруг зимовья на выстрел не было ни деревца. Ровным матовым светом сияла луна. Блестел снег на мхах. Такой ночью ни человеку, ни зверю невозможно подойти незамеченными.
Особо опасаться было некого. Где-то неподалеку пасли оленей, промышляли мясо и рыбу мирные мангазейские ясачники князца Хыбы, давнего приятеля Табаньки. Русские люди на эти обедневшие соболем места не зарились. Но пока проходим был снежный покров на волоках, пропившаяся воровская ватага, вызнав о заселенном зимовье, могла тайно явиться с любой стороны и ради припаса перерезать всех сонными. Мятежные нарымские роды воровскими посулами и угрозами могли смутить мирных мангазейских ясачников. Грешно и неразумно было жить без опаски.
Чуницы разошлись по местам промыслов, зимовье опустело. Табанька с Третьяком отправились вверх по ручью с легкой нар той и малым припасом. Пенда с Угрюмкой, получив наставления, остались в зимовье одни, карауля ватажное добро и отъедаясь тушеной зайчатиной. Вскоре к ним пришли двое устюжан от Луки Москвитина. Поставив стан и срубив кулемники, они вернулись за припасом.
В тот же день к зимовью подъехали на оленях лесные люди. По внешнему виду это были здешние остяки рода князца Хыбы, о которых Табанька предупреждал, что они мирные и исправно платят ясак. Лет семь назад их едва не перерезали самоеды, отбиться им тогда помогли мангазейские промышленные. Потом, опять же мангазейцы, защищали их в войне с остяками другого рода. Хыба считался верным ясачником, его даже не аманатили[48].
В карауле стоял Пантелей Пенда. Он первым увидел гостей и пронзительно свистнул. Угрюмка выскочил из избы в заячьей рубахе, все понял: оделся, сунул за кушак топор, схватил в охапку три заряженные пищали и, громыхая стволами, побежал к бане, где парились устюжане.
— Гости! — крикнул в клубы пара и прислонил к банной стене два ружья, с третьим полез на крышу.
Пантелей одобрительно кивнул ему и указал на караван. Сам не спеша высек огонь, раздул трут, окинул Угрюмку насмешливыми глазами, сказал весело:
— Малогрешных Бог любит! Молись, чтобы другой раз увидеть, пегие они или рябые. — И добавил рассудительно: — Мало нас, а припас в зимовье изрядный.
Устюжане с красными распаренными лицами и мокрыми бородами выглянули из-за частокола. Из-под их шубных кафтанов клубился пар. Дикие придержали оленей в четверти версты от зимовья, помахав руками, медленно приблизились еще на сотню шагов. Затем слезли с оленей и стали их развьючивать.
— Показались — и ладно! — отпустил устюжан Пенда. — Допаривайтесь с Богом. Но слушайте. При стрельбе чтобы были возле ворот.
Вьючные олени сбились в кучу. Остяки сбросили с себя через головы долгополые шубы, оставшись в парках, стали искать хворост для костра, всем своим видом уверяя в мирных намерениях. Затем двое не спеша заковыляли к воротам зимовья.
Пенда передал пищаль Угрюмке, поправил топор за спиной, саблю на поясе, сунув малахай за пазуху, надел казачий колпак и пошел за ворота встречать гостей.
Один из остяков был стариком с глубокими морщинами на умном лице, с толстыми косами по плечам, с десятком седых волосков на подбородке. Другой, молодой, с черными косами — не то баба, не то мужик с гладким лицом, — глядел на казака с важным видом, полным достоинства. Старик что-то залопотал. Казак различил только «баска-баска», пожал плечами и помотал головой. Тогда дикий высунул язык и указал на него пальцем. Пенда сообразил, что гость спрашивает толмача.
— Завтра прибудут и передовщик, и толмач! — Едва заметная ухмылка мелькнула в глазах молодого, остяки его поняли.
Старый с молодым обернулись друг к другу, о чем-то посоветовались. На их лицах отразилась досада. Не рассчитывая на гостеприимство «немых», пожилой указал рукой на курившийся дымок, и гости ушли. Вскоре вокруг огня они поставили остов чума и стали покрывать его шкурами.
— Будут ждать толмача? — спросил Угрюмка, закрывая ворота. — Или зазимуют?
— Табанька вернется — разберется, — закладывая брус, бросил Пенда. — Он знает здешние порядки. А нам придется глаз не смыкать и трут не гасить.
Помолчав, Пантелей твердо добавил, глядя в светлые сумерки полярной ночи:
— Передай устюжанам: пока наши не вернутся, пусть будут здесь, в караулах.
Табанька с Третьяком пришли на другие сутки, ясным звездным вечером. Они срубили стан во имя святого Дмитра и обставили два ухожья кулемами. Передовщик издали завидел остяков, бросил нарту на Третьяка и, не заходя в зимовье, отправился к стану. Он пробыл там долго. В зимовье уже начали зевать, когда Табанька вернулся и сказал, что назавтра пригласил гостей.
Поздним утром, когда блекли звезды, остяки подошли к воротам: тот же старик и Тальма, племянник князца. Табанька встретил их весело и беспечно. Он туркал под бок хмурого гостя, что-то лопотал. Пенда вскоре заметил, что передовщик повторяет с полдюжины одинаковых слов, а остяки его не понимают.
По наказу Табаньки промышленные стали варить принесенную гостями сохатину. Из лабаза достали две мороженые щуки на порсу: блюдо, без которого остяки ничего не едят. Стол был убран. У очага Табанька выставил на подстилку из хвои мороженую клюкву в туеске, положил соленую и сушеную рыбу, в гостевые кружки из бересты налил отвара из листьев брусники. Он сам накрывал стол и делал это с явным удовольствием, как хороший хозяин.
Квас, без которого русичи не жили ни дня, остяки пить не стали, только понюхали, морщась, и навалились на рыбные блюда. Пенда не столько ел, сколько все подмечал и прислушивался. Он уже знал наверняка, что Табанька не понимает гостей, только корявит язык и скоморошничает. Молодой остяк Тальма, увидев, что от такого толмача проку нет, неохотно стал показывать, что понимает по-русски. Табанька хитро подмигнул Пенде, намекая, что вынудил гостей заговорить, и стал поддакивать, то и дело восклицая: «Шинда-мында». Промышленным же он громко и суетливо рассказывал, что со стариком, братом князца Хыбы, встречался четыре года назад на этом самом месте, когда промышлял с ватажкой тоболяков. Всех мужиков у князца было восемь человек да двое лысых ясырей-рабов. Теперь уж трое умерли. Гости пришли к зимовью, догадавшись по следам, что оно заселено.
Поев рыбы, потом мяса и снова рыбы, остяки повеселели. Молодой, вытирая руки о хвою, сносно сказал по-русски:
— Сколько чего ни ешь, без рыбы все равно голодный!
Как вскоре выяснилось, он был заложником-аманатом в Мангазее и там выучился русскому языку.
Старик, срыгнув воздух из кишок, сделал лицо печальным и молча уставился на огонь. Табанька стал расспрашивать его о жизни и делах. Повздыхав, тот рассказал через племянника о бедах, выпавших на род, в котором мюты-коком — маленьким родовым князцом — был его брат Хыба. Чем-то они рассердили лесных людей — менквов, и те по тайной тропе на капище[49] его рода выгнали медведя.
Медведь оказался глупым или пугливым — споткнулся о растяжку самострела и получил тяжелую рану. К зиме он не залег в берлогу, а ходил поблизости, двух оленей задавил, потом упал в яму, в которой по сей день сидит.
Остякам убить медведя нельзя — в нем живет душа кого-то из умерших родственников. По характеру зверя никто понять не может, чья.
Старик терпеливо дослушал, когда племянник перескажет его речь по-русски, и поднял слезящиеся глаза на Табаньку:
— Русским промышленным не грех убить медведя! Ваши люди даже едят его.
Передовщик понял, что гости пришли с просьбой, стал сдержанней, помолчал для пущей важности, уверил остяков, что из его людей никто медведя не ест, и обещал посоветоваться с помощниками: можно ли помочь роду кунака по долгу добрососедства.
Другой бедой прибывших остяков была давняя ссора со сватами с больших озер. Осенью опять произошла стычка на границе родовых угодий. Князец Хыба с братьями боялся их мести и просил, в случае нужды, защиты под стенами зимовья. На это Табанька тут же дал согласие.
Старик, показывая свое расположение, решительно отпил из берестяной кружки русского кваса, поморщился, крякнув от терпкой кислоты. Вскоре у него громко заурчал живот и гость выскочил из избы с задранной на ходу паркой.
— Эдак они нам все зимовье загадят! — зароптали устюжане. Угрюмка же опечалился больше всех, понимая, кому придется убирать.
На другой день пришли за мукой заводчики из поповской чуницы. Табанька еще раз пригласил гостей в зимовье показать, что защитников в нем много, объявил им, что его люди согласны помочь остякам, и велел Пантелею Пенде собираться к остякам. Они взяли запас хлеба и кваса на четыре дня, топоры, пищаль, лук со стрелами при трехгранных железных наконечниках. Сложив все в нарту, ранним утром двое пошли из зимовья к остяцкому стану. Добить раненого медведя в яме для Пенды не представляло труда, а вот увидеть, как живут остяки, было интересно.
Хмурое небо обложили тучи, мела крупка, угрожая перейти в снегопад. Неподалеку от стана паслись три оленя с рогатками на шеях. Остальное стадо держалось на краю редколесья, у замерзшего ручья. Остяков погода не смущала. Они сидели возле костра на месте разобранного чума и неторопливо попивали кипяток, заваренный листьями брусники. При двух знакомых, приходивших в зимовье, был черноволосый дородный мужик со сросшимися на переносице бровями.
— Мата! — предупредительно кивнул в его сторону племянник князца. Мужик взглянул на промышленных равнодушными непроницаемыми глазами и достал из туеска две берестяные чашки, пересыпанные древесной трухой.
Табанька замахал руками, отказываясь от чаепития, и похлопал себя по животу:
— Шинда-мында, с десяток чарок испил!
На лице Маты не дрогнула ни одна жилка, он понял промышленного и аккуратно уложил чашки обратно в туесок. Напившись отвара, бровастый мужик отошел от костра в сторону вольно пасшимся животным, задрал подол и начал отливать влагу. Олени стремглав бросились к нему, да так прытко, что остяк стал лягаться, уклоняясь от рогов и морд, лезущих ему под парку. Тальма с дядей ловко захлестнули их арканами, навьючили разобранный чум, четырех оленей заседлали, двух запрягли в нарты. Быстро и ловко справившись с привычной работой, они снова присели у догоравшего костра, думая о предстоящем пути и о богах-покровителях.
Тальма предложил одному из гостей сесть на оленя, другому на нарты. Табанька вызвался ехать верхом. Пенда спорить не стал. Он вырос при лошадях, но верховая езда на олене его не привлекала: опытный взгляд всадника отметил, что кургузое седельце положено почти на шею животного и непременно должно спадать, едва тот наклонит голову или резко остановится. Стремян при седле не было. Завьюченные и запряженные олени шаловливо косили на людей выпуклыми, плутоватыми глазами, будто готовились весело провести этот пасмурный день.
В руки казаку вложили длинный шест, показав, что им надо время от времени покалывать в зад заленившихся животных, и караван двинулся к западу вдоль ручья. Запряженные в шлею олени без видимого усилия побежали по прежнему следу. Пенда в шубном кафтане поверх жупана, в ичигах, надетых на меховые чулки, развалился на узкой нарте. Табанька за его спиной верхами замыкал караван.
Выбравшись в долину Таза, остяки и промышленные люди до полудня двигались к верховьям реки, потом свернули к западу по одному из притоков вдоль приземистой гривы, густо поросшей лиственницами. С другой стороны лежало болото с высокими кочками. По краю оно заросло кривым березняком. Кое-где виднелись проталины с полыньями.
Чем дальше путники удалялись от реки, тем гуще и мрачнее становился лес. Чаща была иногда такой, что казалось, — человеку и протиснуться сквозь нее невозможно, а в глубине леса виднелись завалы из упавших деревьев.
Остяки ехали молча, не оглядывались. Время от времени они ловко стреляли из огромных луков по тетеревам, сидевшим на вершинах деревьев. Притом стреляли с таким расчетом, чтобы добыча падала неподалеку от тропы. И только один раз у них вышла заминка: Тальма не смог найти пущенную стрелу с костяным наконечником.
— Запали-ка трут, — вдруг проскулил Табанька. Глаза его бегали по чаще леса, лицо под обледеневшей бородой было перекошено.
Пенда взглянул на него удивленно: совсем недавно передовщик ни словом, ни взглядом не обнаруживал подозрений и держался с бесшабашной удалью. Окинув цепким взглядом лес, казак пожал плечами и спросил:
— Какой прок от огненного боя в таком месте?
— Запали! — жалобно всхлипнул Табанька. — Хоть на душе станет легче.
Спорить Пантелей не стал. Зажал между колен огниво, постучал оправленным медью кремешком по ребристой, окованной кольцами сабельной рукояти. Едва задержалась одна из искр в огниве, осторожно раздул ее. Про себя же отметил, что полагаться на Табанькин опыт и доверять ему нельзя. Оставалось надеяться только на себя самого и на молитву.
— Ты рожу-то испуганную не кажи! — обернувшись, приглушенно прошипел передовщику. Тот, увидев его холодные прищуренные глаза, стал еще печальнее: — Этак ты их до греха доведешь и нас погубишь! — тихо добавил Пенда.
Табанька стыдливо дернулся, задрав бороду, поднял глаза к далекому, укрытому кружившимся снегом небу, торопливо перекрестился, бормоча:
— За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, раба своего…
— Бог ленивым и глупым не помогает! — язвительно прервал его Пенда.
— Всяко бывает! — озираясь по сторонам, просипел Табанька. — Сказывали служилые, что вдесятером ехали за ясаком к верхотазовским самоедам. В таком же вот месте задремали, а те следы за собой замели, обошли их, едущих, спрятались, дождались — и с двух сторон стали посыпать стрелами. А те что? Огнива запаленного — и того не было. Тесаки вставили в самопалы, а самоеды в ближний бой не лезли: стреляли и стреляли из луков. Служилые махали прикладами, отбивая стрелы, пока их всех не перебили. Один только фитиль запалил, стрелял и ранил дикого в руку.
— Зачем сейчас об этом говорить? О том надо было в зимовье думать, — жестко обругал его казак. — А теперь слушай меня: будешь страх нагонять — я тебя застрелю, — сверкнул голубыми ледышками выстывших глаз. — И дикие доставят меня в Мангазею живым и невредимым, чтобы оправдаться перед воеводой.
Табанька разинул рот от казачьего хитроумия: только нехристь мог додуматься до такого спасения. Но угроза подействовала. Передовщик выпрямился в седельце, до того пораженный словами спутника, что долго еще не мог вымолвить ни слова и только разевал рот с кривящимися губами. Так и не сообразив, что ответить, он выдохнул дрожащим шепотком:
— Дернул черт связаться с убивцами! — и весь оставшийся путь до ночлега хмуро молчал.
Пенда понял, что ему самому придется управлять предприятием, в которое втянут неразумным передовщиком. Мысленно перекрестившись, помолясь Господу Вседержителю, Пречистой Богородице, Николе Чудотворцу и своему святому покровителю, он принял на себя бремя власти. Перемена в отношениях между промышленными не осталась незамеченной наблюдательными остяками.
К ночи гуще закружили снежинки. Караван остановился возле вынырнувших из сумерек тесаных болванов. На них были надеты узкие, непомерно длинные медные шлемы и старые брони, а в растопыренные руки вложены ржавые мечи, круглые, с облупившейся кожей щиты.
Остяки спешились, осторожно подошли к капищу. Почтительно топчась возле болванов, бросили им старинный медный наконечник. Табанька же мешком свалился в снег с остановившегося оленя и неловко попытался подняться, но затекшие ноги подгибались и не держали его.
Пенда мотнул головой, указывая ему на нарту, сам подошел к оленю, скосившему на казака хитрый, выпуклый глаз, потрогал седельце. Не только оно, но и живая шкура под ним так болтались, что Пантелею стало любопытно, как Табанька продержался в седле весь день. Придерживая оленя за рог, он сгреб пятерней его гладкий и жесткий ворс. Кожа легко подалась, отставая от туловища. Казалось, с брюха животного ее можно натянуть ему на спину. Пенда осторожно сел в седельце, свесив ноги без стремян. Плутовато косясь на нового всадника, олень попытался задним копытом почесать ухо. Пантелей крепче заломил ему рога, и тот своим видом согласился, что лучше с казаком не шутить.
Между тем остяки закончили моления, и караван продолжил путь по их родовым угодьям, где чужакам находиться и промышлять не дозволялось. Здесь остяки могли убить всякого случайного и нежданого гостя.
После капища ехали они недолго и спешились на поляне. Видно было, что люди часто останавливаются здесь на ночлег. Распряженные олени тут же разбежались, стали с жадностью копытить мох и искать мороженые грибы. Остяки разожгли костер, начали устанавливать чум. Промышленные, как почетные гости, некоторое время сидели на нарте, потом, покряхтев, Табанька поднялся и стал таскать хворост, оттаивать хлеб и греть квас.
Уже по тому, как он держал пищаль, едучи в нарте, Пенда с удивлением понял, что передовщик и стрелять-то не умеет. В тяжелом шубном кафтане, накинутом на плечи, с тлеющим огнивом под рукой, теперь он сам сидел на нарте и зорко поглядывал по сторонам. Его занимала одна мысль: отчего Табанька не оставил в зимовье заложника? Судя по всему, остяки не рассчитывали на такую доверчивость, и явные меры предосторожности чужаков их ничуть не смущали. Они были понятны казаку. Передовщик — нет.
— Тьфу! — сплюнул он оттаявшую сосульку с усов и пробормотал вслух: — То ли дурак, то ли блаженный!
Ужинали в чуме у огня — гости в нательных рубахах, остяки голыми до пояса. Грудь припекало, спину примораживало. И в еде, и на теле — повсюду был жесткий олений ворс. Казалось, он носился даже над костром, отчего пахло жженой шерстью.
После обильного ужина из брусники с рыбьим жиром, печеных тетеревов и вяленой рыбы остяки не спешили влезать в свои меховые мешки — радовались отдыху и неторопливо беседовали между собой.
Время от времени Тальма оборачивался к промышленным, задерживал взгляд на приунывшем Табаньке и переводил разговор дядьев. Те говорили о лесных девах и об остяцких лесных духах — менквах, вредящих людям. О том, что менквы нападают на охотников и съедают их. Табанька вдруг оживился и ляпнул:
— Медной пулей в грудь и менква убить можно!
Остяки подозрительно примолкли. Почуяв, что сказал не то, Табанька виновато спросил:
— Отчего у вас все духи злые? — И опять стал вставлять, где надо и не надо, тарабарское присловье.
— Мис-хум и мис-не — добрые духи! — осторожно возразил Тальма.
Табанька же, хихикая и заикаясь, стал рассказывать, как три года назад в двух днях пути от зимовья, где нынче стояла ватага, встретил в лесу девку. Теперь спрашивал, не утуева ли она рода, что случайно забрела на русское ухожье.
— Тока, шинда, стал звать на стан, хотел потчевать хлебом и порсой, девка, не понявши ни шинда ни мында, убежала.
Выслушав от племянника переведенные Табанькины слова, старик помолчал насупившись. Его родственник с черными бровями на переносице что-то буркнул. И старик сказал, что та девка — не остячка и не самоедка, а лесная чертовка. Чирки у нее должны быть белыми, и собака при ней черная.
— Раз дала тебе на себя посмотреть — хотела, чтобы замуж взял… Надо было брать, — качнул косатой головой. — Счастливым был бы. В ее кулемах соболь не выводится черный-черный. Ты бы только сидел у огня и обдирал его.
Старик снова помолчал, уставив щелки глаз на огонь. Шевельнул желваками на впалых щеках, добавил теплей и душевней:
— Есть у лесной девки хитрость — ее надо знать. Станешь с ней первый раз спать ложиться, она скажет: «Постели мою шубу!» А стелить нельзя. Она под шубой капкан насторожит и убьет. Надо поднять шубу и, если под ней капкан, сказать: «Зачем обманываешь? Я тебя замуж беру, а ты меня убить хочешь». Она скажет: «Я посмеялась!» Тогда стели свою шубу и спи с ней. Весь век будешь счастливым. И дети твои будут удачливыми охотниками.
Ночлег под кровом из кож был теплым, хотя костер вскоре погас. Спал Пенда настороженно, но глубоко, часто просыпался, прислушивался и снова погружался в глубины странного, причудливого сна. Были в нем и картины, но в первую очередь снилось и давила грудь тоска, с которой уходил с разоренной Руси. Вместо бахтерцев на кожаной казачьей рубахе видел на себе наборную кольчугу тонкой работы, вместо сабли — узкий, длинный палаш, а на голове вместо привычного шлема или колпака — высокий, заостренный шишак потомственного воина-остроума. Будто шел он по глубоким снегам на север с людьми, одетыми, как менквы на остяцком капище. Все они уходили от единокровного, но чужого народа, который ради сытости и благополучия отрекся от своих богов, от законов, оставленных предками, в неведомую сторону уносили в сердцах верность старине.
Пантелей просыпался в ночи, бросал взгляд на тлеющие угли, прижимал к груди саблю и снова засыпал, так и не разобравшись, где и в каком из миров находится. Опять шел по снегам и дебрям, и думал во сне, что теперь, в дремучих лесах, среди духов-тайгунов, ему уже не нужны ни кольчуга, ни палаш, что надо бы их переплавить и перековать на рогатину, от которой здесь больше пользы. И страшно становилось от мысли расстаться с привычным оружием.
Он снова просыпался, с облегчением нащупывал саблю, засыпал и опять брел куда-то с такими же отверженными своим народом воинами, тягостно размышлял о том, что исполнил свой долг перед духами предков, перед единым Богом. И теперь надо ждать решения или дозволения пославшего их на землю Бога Отца — вернуться туда, где прародина всех сильных духом и верных клятвам.
К утру не смерзлись борода и усы, как это бывает при зимних ночевках у костра. Над головой на оленьей коже не было куржака. На этот раз Пенда проснулся от дикого вопля, вскочил, сбросив с клинка ножны. В дымоходном отверстии над головой светил месяц — казачье солнышко, при его сиянии в чуме видны были все три отдыхавших остяка. Не было только Табаньки.
Откинув полог, Пантелей увидел и его. Олени валяли мезенца в снегу, тыкались мордами в живот и пах. Сабельным боем клацали костяные рога. Табанька орал. Мата первым выскочил из чума, схватил жердь из дровяного припаса и стал охаживать оленей по рогам и спинам. Ему на помощь подоспел племянник. Вдвоем они отбили Табаньку. Мата, стряхнув снег с голых ступней, вполз в чум и стал раздувать огонь. Следом за ним вернулись Тальма с Табанькой.
— Шинда-мында! — опасливо зыркая на Пенду, скулил передовщик, выцарапывая снег из бороды, выскребая его из-за пазухи. — Сбили с ног… Туда-сюда смотрел — не было ни одного. Только портки спустил — вот они!
Казак молчал с багровым лицом, метал глазами искры и щурился как кот. Едва выполз из чума Тальма, понимавший русский язык, приглушенно прошипел:
— Или ты — дурак, или бес тебя ведет, чтобы нас посадить на кол на их капище.
— Оглянулся ведь — никого! — оправдывался Табанька.
Летом можно было пройти мимо топким берегом, не заметив зимнего дома князца Хыбы, или проплыть по заболоченной речке среди высоких кочек. В пологом склоне холма с чахлыми березами была врыта просторная изба с длинной прихожей, укрепленной бревенчатым срубом. Низкая, потайная дверь выходила к зарослям на берегу замерзшей теперь речки, другая — и дверь, и окно — была сделана в кровле жилья.
Наверное, летом на лодке можно было подойти к самой землянке, скрытой от людских глаз. Возле нее остроголовый болван, вырубленный из чурбака, восседал на убогой кляче, вырезанной из кривого березового ствола. Короткие ноги болвана были растопырены, как у неумелого ездока. Должно быть, остяки никогда не видели коня, но в струганом чучеле он узнавался. Вид его вызвал у казака щемящую тоску об умных и ласковых лошадях, об их запахе и летней степи.
Прибывших родственников и гостей встречали мужики с черными косичками на плечах. Услышав хорканье оленей, из землянки гурьбой вывалили женщины и дети. Никакой радости они не показывали, молча и равнодушно смотрели, как сородичи распрягают оленей, тайком бросали взгляды на бородатых людей.
Мужик из встречавших, наверное князец, подошел к старику, ездившему в зимовье и, опустив голову, стал что-то печально лопотать. Мата с Тальмой — перестали заниматься упряжью, подошли к ним и начали вставлять взволнованные слова.
По тону разговора Пенда догадался, что в их отсутствие в доме произошло что-то важное. Привычным взглядом воина он окинул местность и понял, что уйти можно только по своему следу. Нарта еще не была выпряжена, два верховых оленя терпеливо ждали, когда их отпустят на волю.
— Сядь в нарту и запали фитиль! — одними губами приказал он Табаньке. — Как я свистну — стреляй в князца и гони. — Перекинул за плечо сайдак со стрелами, подошел к верховым оленям, косившимся на него, укрылся за ними от вероятного нападения, взяв в руки два ременных повода.
Вскоре беспокойный остяцкий разговор стих. Тальма подошел к промышленным и сказал с печалью:
— Зря везли вас. Дедушка умер от ран.
— Какой такой дедушка? — недоверчиво вскрикнул Табанька.
— Медведь, который был ранен, — терпеливо ответил остяк. — Зря ездили. Мир-сусне-хум помог! — почтительно кивнул на болвана-всадника, к опояске которого была привязана иссохшая на ветру птица, похожая на белого гуся.
— И вам легче, и нам греха меньше, — перекрестился Пенда, не выпуская из рук упряжь. — Нынче время промыслов, каждый день дорог. Везите-ка нас обратно.
Толмач переговорил со старшими. Женщины принесли корзину, плетенную из кедрового корня и наполненную мороженой рыбой, поставили ее на нарту. Князец, не поднимая глаз на гостей, положил сверху двух черных соболей.
Табанька, увидев шкурки с проседью по хребту, бросил пищаль, схватил рухлядь и стал рассматривать ее со всех сторон, потряхивая и любуясь. Довольный подарком, он сунул руку в мешок с припасом и достал горсть корольков[50], которые были дешевы в Ярославле и Перми, но высоко ценились в Мангазее.
Князец и его братья, громко лопоча о своих делах, куда-то ушли. Остяцкие подростки привели с болот четырех свежих оленей и стали запрягать двух в нарту, двух под верховую езду. Вскоре, не прощаясь, как принято на Руси, в сопровождении толмача Тальмы Табанька с Пантелеем двинулись в обратный путь. К ночи они прибыли на место прежнего ночлега.
Ватажные развели большой костер по-промышленному, стали греть землю. Натаскав сухостоя, испекли на рожнах оттаявшую рыбу, отогрели смерзшийся хлеб. После еды, ожидая, когда прогорит костер и придет пора сдвигать огонь, Табанька засопел, уткнувшись головой в колени, а Пенда стал расспрашивать Тальму про остяцких богов.
Почувствовав интерес длинноволосого русича к их верованиям, тот сбивчиво заговорил о добром боге Мир-сусне-хуме, который на белом безрогом коне с нераздвоенными копытами каждый день объезжает землю. А рядом с ним летит белая птица — рейтарнануйрищ, предвещая песнями смену дня и ночи. Мир-сусне-хум узнает в пути нужды и заботы людей, исполняет их желания, исцеляет от болезней, продляет жизнь. Тех, кто живет правильно, — вразумляет и наставляет; воров, лжецов, обманщиков и скряг — карает.
— Еще помогают умершие предки — косатые богатыри, — толмач почтительно посмотрел на длинные, прихваченные куржаком волосы Пантелея. — Среди русских людей мало богатырей, — сказал с усмешкой. — У вас только попы с длинными волосами да некоторые из промышленных. Остальные, как паршивые лысые ясыри, стригут свою прекрасную, радужно отливающую головную кожу, лишая себя силы.
Пантелею хотелось объяснить, что на Руси все не так. Но любопытство было сильней, и донец, сделав вид, что не понял непочтительных слов о своем народе, стал выспрашивать.
— Ну а земля откуда появилась, по-вашему? — окинул взглядом темнеющий лес.
— Это всем известно! — самоуверенно ответил остяк. — По приказу первородного бога Корс-торума гагара ныряла в океан и доставала ее со дна. И та земля стала расти так быстро, что уже на третий день птицы могли облететь ее только за три дня. На ней разрастались леса, и она становилась тяжелой. Сын Корс-торума Нуми-торум — отец Мирсусне-хума, жалея ее, стал посылать пожары, чтобы облегчить. Тогда же появились древние богатыри. Они так жестоко стали воевать друг с другом, что даже боги не могли остановить кровопролития. И тогда, разгневанные, они спустились на землю и подожгли ее.
Уцелевшие богатыри стали строить землянки в лесу, ловить рыбу в реках. Но не перестали враждовать и убивать друг друга. Тогда Нумиторум наслал на землю потоп, и все погибли. Осталось только семь сыновей бога. После потопа они сделали из лиственничных бревен новых людей — менквов. Но и менквы не смогли стать хорошими людьми. Тогда бог сплел из тальника скелеты, обмазал их глиной, дунул — и они ожили, положив начало нынешнему человеческому роду.
— Чудно! — искренне удивился Пантелей. — Наши попы да старики почти так же сказывают… А зачем у вас мужики носят косы? Один наш промышленный, который давно живет здесь, говорил — чтобы лесные черти-тайгуны вас за своих принимали.
— Он ничего не понимает, — презрительно ответил остяк. — В волосах, растущих из радужно отливающей головной кожи, живет душа. Длинные волосы — большая душа, короткие — маленькая душа. Волосы отрезают рабам.
Давным-давно бились между собой два косатых богатыря. И один, победив другого, отсек тому голову. Он хотел отдохнуть после боя и не схватил голову за косы. Тогда она покатилась, нырнула в речку и поплыла. А когда очутилась у другого берега, где уже не догнать, захохотала над простаком: «Ты не снял моих волос вместе с радужно отливающей головной кожей, значит — не отнял моей жизни».
— Шинда-мында, — поднял голову Табанька. — Скоромное ел во сне. — Зевнул, крестя рот, покачал тяжелой головой.
Костер прогорал, на черном небе ярче вызвездило. Путники сдвинули угли. Они зашипели на стылой земле. Промышленные положили на них несколько сухих елей с обрубленными сучьями и раздули новый костер. На прогретую же землю накидали хвои, сверху бросили свои постели. Тальма вывернул рукава малицы внутрь и завернулся в остяцкую долгополую шубу, шитую заодно с шапкой.
Холод пощипывал нос, колко входил в грудь. Жарко грела земля из-под еловой подстилки, потрескивал костер. Трое глядели в звездное небо. Кому-то виделись в нем глаза ангелов, кому-то — зажженные ими лампадки для молитв об оставляемых во тьме. Кто-то видел глаза древнейшего тысячеглазого бога.
Прислушиваясь к звукам леса, Пантелей подумал: «Не похоже, чтобы нас решили убить!» Сабля под боком придавала ему уверенности и спокойствия.
Черное бескрайнее небо в чужом полуночном краю вызывало холодные рассудочные мысли. Уж день не день — сумерки. И тьма вот-вот поборет его. Не выводит на небо своих золотых коней заря — девка красная. Могучий старец Илья Пророк из последних сил рубится с чертями. От усталости выпадает меч из его рук, закрываются глаза под седыми бровями.
Казаку была знакома та усталость боя, когда руки обвисают плетьми, надо напрягаться для каждого удара, а враги все наседают. И шепчет бес из-за плеча — отдохни, опусти саблю и сладостно упади где стоишь. Мертвым легче.
Еще хуже, когда, вольно или невольно, бросают товарищи. Биться нет уж сил, и так греховно не хочется жить. Хуже того, когда предают. В сонной голове казака замельтешили лики друзей-товарищей, обезображенные бесовскими страстями. Вспомнилось, как он крутился, окруженный станичниками, размахивал саблями, не подпуская к себе, и слышал: «На плаху его!.. Язык рвать!» Тычки тупых концов пик в спину, в ноги, падение и отчаяние…
«Где ты, зорька красная! — устало звучал в голове старинный заговор. — Вынь ты, девица, отеческий меч-кладенец, достань панцирь дедовский, шлем богатырский, отопри коня вороного, выйди в чистое поле, где наседает на обессилевшего Илью Пророка рать несметная. Закрой ты, девица, усталого воина от силы вражьей фатой своей, обмахни крылом орлиным».
Ударить бы в колокола по всей земле — бежала бы рать нечистая, ведь больше всего черти боятся света и звона, бегут в пекло, запирать ворота… Но нет ни церквей, ни кузниц по здешней тайге.
Сморил казака сон. И почудилось ему, будто Илья Пророк выронил меч. Визгом и хохотом торжествовала победу тьма.
Тальма проводил промышленных до устья ручья, на котором стояло зимовье. По каким-то признакам он ждал ухудшения погоды и спешил вернуться к своему жилью. Прощаясь возле костерка, сказал с печалью, что умерший от ран медведь оказался его дедом — умным, смелым охотником. Зачем ходил вокруг жилья и давил оленей — никто понять не может. Как зацепился за растяжку самострела, который сам ставил? Тальма думал об этом всю дорогу.
— Как знаешь, что это твой дед? — участливо спросил Пантелей.
— Лапу медведю отрубят и подбрасывают, называя имена умерших родственников, шинда-мында, — встрял в разговор Табанька. — На кого кверху когтями упадет — тот и есть.
Остяк гневно сверкнул черными глазами, молча принялся перепрягать оленей кожаной веревкой. Те послушно стояли на заметенном льду Таза, почесывали оттопыренные уши голенями задних ног и весело ожидали возвращения. По их мордам видно было, что они-то давно все поняли.
Едва они с Тальмой отдалилась на сотню шагов, Табанька повернулся лицом к востоку и со вздохами облегчения стал молиться, как после многотрудного и опасного дела. Пантелей перекрестился раз и другой, бросил на спутника презрительный взгляд: был какой-то лукавый умысел в его молитве не ко времени и не к месту. Казак привязал к копыльям нарты шлею, пошел вверх по ручью своим, уже слегка заметенным следом. В виду зимовья он услышал за спиной сопение и дыхание. Налегке его догонял Табанька.
— Одно скажи! — обернулся донец с кривой леденящей усмешкой. — За что тебя в прежние промысловые ватаги брали? Разве старое пиво допивать, молодое затирать? Две зимы подряд, говоришь, с одними промышлял? — Он остановился и пристально впился взглядом в повеселевшие глаза Табаньки, силясь как-то растолковать себе его поступки.
— Знаешь, кто такой Табанька Куяпин? — вскрикнул спутник, с небрежным вызовом подпирая бока руками. — Я удачу приношу. В зимовье, бывает, сижу, а зверь так и лезет в ватажные клепцы. А пойдут без меня — и пусто.
Пантелей сплюнул под ноги и поволок нарту к воротам зимовья.
Угрюмка с Третьяком три дня сряду посменно несли караулы. Путая беспросветные дни со светлыми ночами, зевали до боли в скулах и, едва не околев от стужи и тоски, дождались-таки заводчиков с Тольки-реки.
С молодым чуничным передовщиком Федоткой Поповым пришел его родственник по прозвищу Тугарин — сутуловатый, нескладный мужик с длинными руками и всегда мокрым, хлюпающим носом. Они привезли в нарте устюжанина Нехорошку — вечного спорщика и задиралу. Тот в одиночку выбирался к зимовью с больной спиной и был подобран ими в пути.
Отпарив поясницу пихтовыми вениками, Нехорошко распрямился, но возвращаться на промыслы опасался. Табанька, после возвращения от остяков, принял большое участие в его немочи: тер ему поясницу осиновой скалкой, брызгал наговорной водой с золой. С Пендой он не разговаривал, делая вид, что не замечает донца, хмурился, кидал на него косые взгляды и рассуждал вслух, что отправлять Нехорошку больным на станы не по-христиански.
Он долго и с упоением расспрашивал заводчиков о промыслах. Особенно его интересовала случайная встреча устюжан с тунгусами. Вызнав, как те были одеты и что говорили, стал давать наставления. По лицу желчного и вздорного Нехорошки, глядевшего на передовщика то с недоумением, то с удивлением, то с насмешкой. По разговору нетрудно было догадаться, что и в тех местах Табанька не был. Похоже, что не был нигде дальше зимовья и угодий князца.
Зато после Михайлова дня Табанька увлеченно и с подлинным знанием дела начал затирать пиво к Николе зимнему. По его наказу Угрюмка с Третьяком вскоре ушли в ближайший из срубленных зимовейщиками станов. Отправились они туда налегке, без пищали, с двумя луками при тупых стрелах да с сетью для обмета.
По припорошенной лыжне первым шел Третьяк с лыпой в руке, за ним, с нартой на шлее, — Угрюмка. Холод не давал им присесть в пути, а заиндевевшие деревья предвещали, что станет еще холодней. К полудню где-то у горизонта чуть засветились облака. Но не сходила с неба выбеленная морозом луна. Вскоре вызвездило, и она заблистела ярче.
Время от времени Третьяк указывал лыпой в сторону от лыжни. Там виднелись заметенные снегом следы и щепа от натесанных кулем. Даже в сумерках северной ночи видно было, что они настороженные, подходить ближе не было надобности.
Но вот в колке, где вымороженный мох свисал с веток, возле лыжни показался след. Третьяк, высоко задирая гнутые носки лыж, побежал к кулеме и радостно вскрикнул. Сбросив шлею, Угрюмка кинулся следом. Из-под плашки торчал дергающийся хвост, когтистые лапы скребли чурку.
Живого оглушенного зверька промышленные с радостной молитвой удавили. Это был небольшой желтовато-коричневый соболь, мех которого ценился невысоко. Но первая добыча вдохновила и обрадовала охотников. Осматривая настороженные ловушки, они веселей побежали к стану, Мороз все крепчал, дул в лица встречный ветер. Путники укрывали щеки суконными отворотами шапок, дышали под лузан. Сукно смерзалось от их дыхания и деревенело, как короб.
Судя по звездам, к шалашу они подошли едва ли не к полуночи. Другой добычи, кроме первой, Бог не дал. Видели свежий след соболя, которого можно было гнать, пока не подпустит на выстрел или не спрячется. Тогда уж обметать сетью и ждать. Бывает, что промышленные люди сидят так на одном месте до трех суток и все ради одной шкурки. Но Третьяка с Угрюмкой слишком явно не жаловала ухудшающаяся погода, опасаясь ночевать в снегу, они спешили на стан.
Третьяк по-свойски отодвинул навесную дверь балагана. В лица пахнуло выстывшей золой и гарью. Закоченевшими, негнущимися пальцами Угрюмка высек огонь. В очаге, обложенном дерном, лежала растопка, рядом — сухие дрова. Едкий, сладостный дымок потянулся по коньку к отверстию над дверью.
Посидев возле огня, оттаяв смерзшиеся с наплечниками шапки, промышленные выползли из-под крова, закидали снегом стены снаружи и опять влезли в отогревшееся уже жилье. Нижняя одежда просохла на теле. Шапки, рукавицы, наплечники, налокотники были заброшены на решетку под сводом. Там, в дыму, все быстро сохло. Хлеб и квас оттаяли, рыба испеклась и ароматно шипела возле огня.
Они вернулись в зимовье через пять дней с одним добытым соболем, но по наказу передовщика срубили еще один стан и насекли кулемники по ухожьям. Табанька и тем был доволен. Он принял закоченевшего зверька, оттаял и умело ободрал при общем торжественном молчании.
Нехорошко решил остаться в зимовье. Как его ни мяли, как ни парили, поясница то отпускала, то снова болела. Но притом устюжанин управлялся с хозяйскими работами: топил баню и кашеварил. Вместо него к устюжанам ушел Третьяк. Пантелея же, передовщика, отправил подальше, к холмогорцам на Тольку-реку.
К Николе зимнему сумеречный день и тот пропал. Не стало ни дня, ни ночи, только студеная хмарь. Воздух шелестел от дыхания и льдинками осыпался к ногам. Угрюмка оставил на дворе топор, поутру ударил им по лиственной чурке — железо рассыпалось, как ледышка.
По всем приметам, злополучные черти побили святую рать, уморили могучего старца Илью и праздновали победу. Сказывали старики, что в это время, веселясь и пируя, они дерутся между собой, катают яйца на перекрестках троп и тем самым вызывают такую стужу, что и самим становится от нее невмочь. Полезет всякая нечисть под землю, а там тесно. От того, как водится, начнутся распри. Передерется, перегрызется рать нечистая, деля власть тьмы. Станут ей чары не в чары, морочанье не в морочанье, всякое вредительство не в радость, только злоба и междоусобица. И попрет она из-под земли на белый свет, забегает по полям. Пуще прежнего затрещит мороз, и пешие путники, по снегу или по лыжне идущие, будут слышать за своими спинами ее шаги.
Больше всего Табанька переживал о том, что к Николе не удалось добыть ни лося, ни оленя-«микольца». Пиво он выдержал на славу: крепкое да резкое. По старой русской традиции на Николу надо было разговеться посередине рождественского поста, но никакого другого мяса, кроме зайчатины, в зимовье не было. Нехорошко же, хваля пиво, про зайчатину и слышать не хотел. За новым заводом никто из чуниц не приходил, и трое зимовейщиков в праздник жались к очагу, попивая пиво, закусывали сиротской кашей и вспоминали промышленных, пережидавших стужу в ветхих шалашах.
Из-за холодов заводчиков не было до самого Рождества, и они решили под Великий день наслать проклятье на мороз. Для этого наварили овсяного киселя, Нехорошко просунул голову в трубу и, покидав через нее ложкой варева по всем сторонам, стал приговаривать:
Мороз, мороз! Приходи кисель есть. Мороз, мороз! Не бей наш овес, Лен да конопли в землю вколоти.И помог заговор: потеплело чуть ли не на другой день. Разлетелись укрывавшиеся под крышей и возле зимовья птицы, перестало трещать в лесу. Перед Крещением Илья Пророк стряхнул с глаз немочь и поднял свой меч. Плечом к плечу встал рядом с ним предводитель небесного воинства Михаил Архангел и бесстрашный Егорий облекся в дедовскую броню. Возопила нечистая рать, да поздно. Уже вывела на небо белых коней заря — девица красная. На самом его краю блеснул солнечный луч, и побита была тьма.
После Крещения над болотами показалось солнце, да такое ослепительно-яркое, что слезились глаза. От стужи еще потрескивали деревья, а птицы уже начинали весенний галдеж, призывая лето.
Пантелей Пенда промышлял с чуницей Федотки Попова. В зимовье за припасом он не ходил, но с интересом присматривался, как охотятся холмогорцы. После памяти святой Евдокии-свистуньи по новгородскому обычаю промыслы стали прекращать, а клепцы забивать. Хоть и не началась еще линька у зверей — промышленные боялись прогневить весенней добычей святых покровителей и навлечь на себя отмщение тайгунов, спугнув и ту сиротскую удачу, которая была.
Холмогорская чуница сошлась на дальнем стане, стала готовиться к весеннему празднику и отдыху. В студеный край среди холодов и буранов уж летели сорок грачей, несли на крыльях весну. От здешней зимы все устали и с нетерпением ждали тепла.
Холмогорцы собрали вокруг стана ошкуренные собольи и лисьи тушки, сожгли их, натопили мыльню — яму, крытую валежником и мхом. Камней в округе не было, и они вынуждены были обходиться без бани и пара. Когда в мыльной яме стало жарко и нагрелась вода — потели, терлись щелоком из золы и кваса, обмывались горячей водой.
Под началом молодого передовщика холмогорцы навели порядок и встали на молитву по принятому у них закону. А молились они так, как казаки не молились и перед смертью. Пантелей уже устал отбивать поклоны, а холмогорцы только-только входили в раж, решив прочесть всю пятисотицу.
Сказывали баюны, что ермаковцы молились и постились усердно, но те старики, которых Пенда встречал на пути в Мангазею, особой набожностью не отличались. «Это не саблей махать!» — с уважением думал он о набожных холмогорцах. Усталый, присаживался у очага, подбрасывал дров в огонь, вставая и кланяясь, когда читали молитву Господню да Богородичные молитвы, да Символ Веры, да другое, где православному человеку не встать и не поклониться никак нельзя.
Доев блины и хлебное печенье, Федотка дал наказ своим людям утром идти на другой стан, навести и там порядок, а затем возвращаться в зимовье. Сам же с Пантелеем Пендой решил сходить к здешнему остяцкому князцу с поклоном и благодарностью за промыслы на его земле. Для этого он выбрал из добытой рухляди трех соболей средней стоимости, взял с собой бисера да табачных листьев, которые остяки спрашивали у всех торгующих.
Поднявшись поутру, подкрепившись едой и питьем, Федотка с Пантелеем откланялись товарищам и двинулись в верховья речки. Светило морозное солнце, от стужи горели щеки. Но пар, выходя изо рта и носа, уже не шелестел и не падал льдинками к ногам.
С одной нартой на двоих Пенда и Федотка поднялись по заснеженному руслу к одному из верховых притоков Тольки-реки. Здесь идти по люду стало невозможно из-за пропарин и хрупких наледей, под которыми хлюпала вода. К вечеру промышленные выбрались на гриву и увязли там в снегу. Пришлось вырыть яму и переночевать, раздумывая: стоит ли идти к князцу.
Любопытство оказалось сильней, и утром, сменяя друг друга, они потащили нарту по берегу, заметенному глубокими сугробами. Шли так три дня. Постились постом истинным: в среду и пятницу варили заболонь, в остальные дни питались сухарями с квасом.
Менялась тайга. Здесь, в верхнем течении Тольки, лес был гуще и выше. После полудня третьего дня лед кончился: под снегом оказалась земля. Вскоре путники вышли к озеру, покрытому обдутым ветрами гладким льдом. На берегу его одиноко высились иссохшие окаменевшие лиственницы, когда-то заморенные под водой. В стороне от них возле городьбы и кровли из бересты стояли в ряд три струганых истукана. Одно из заморенных деревьев, самое кривое и корявое, было обвешано беличьими и горностаевыми шкурками. Здесь же висела истлевшая русская рубаха, шитая по подолу новгородскими оберегами. Возле истуканов виднелись лунки человеческих и оленьих следов. Свежий переметенный след нарты уходил в сторону от озера.
Федотка почитал молитвы от осквернения. Пенда, перекрестившись, вынул из сайдака стрелу с тупым костяным наконечником, бросил ее к ногам менквов.
— След — это хорошо, — сказал, настороженно осматриваясь и отплевываясь содранными с усов сосульками. — Только ночевать негде. На льду — замерзнем. Здесь, — кивнул на истуканов, — убьют как непрошеных гостей.
Посоветовавшись, промышленные решили вернуться своим следом в ельник и там устроиться на ночь. Вдруг почудился им какой-то звук. Пенда сбросил сермяжный малахай, откинул пряди волос за спину, оглянулся и увидел тройку оленей, резво бегущих в упряжке. Упершись ногами в торбазах в копылья, на ней меховым пузырем сидел остяк в долгополой шубе, называемой здесь гусем, и погонял оленей длинным шестом-хореем. Сзади к нарте были привязаны еще два оленя.
Тройка резко остановилась рядом с промышленными. Из-за меховой опушки шапки, шитой заодно с шубой, с любопытством и озорством на них взглянули круглые черные глаза. Пенда поднял руку и произнес остяцкое приветствие. Остяк не ответил. Казак поправил смерзшиеся усы и отчетливей повторил сказанное.
Федотка с любопытством потянулся к пристяжному оленю, хотел погладить мохнатую шею. Олень вдруг встал на дыбы и ударил его передними копытами так, что промышленный повалился. А пристяжной, с обидой на плутоватой морде, лег на снег, будто сам был безвинно побит.
Остяк тонким женским голосом выругался, да так срамно, что у Федотки зардели щеки, а Пенда от удивления хмыкнул в смерзшуюся бороду. Воткнув хорей между полозьев, остячка легко вскочила, схватила оленя за задние ноги и задрала их так, что тот зарылся мордой в снег. Чтобы не задохнуться, он вынужден был подняться на передние.
Еще раз обругав оленя острей иного новгородского срамослова, резвая бабенка обернулась к промышленным и на сносном русском языке спросила:
— Куда идете?
— К толькинскому князцу! — пролопотал Пенда и, еще не придя в себя от удивления, спросил, часто мигая стылыми глазами: — Ты кто? Девка?
— Баба я! — ответила остячка и добавила грубо: — За русом была замужем.
— И где он, твой муж? — оправившись от смущения, спросил Пенда.
— А… накрылся! Тунгусы убили, однако, или сбежал, — она махнула рукой на закат. — К старой русской жене.
Судя по русскому выговору, пропавший муж был новгородцем. Остячка ловко впрягла в нарту промышленных двух своих пристяжных оленей и привязала их к своей упряжке. Ни слова не говоря, она колобком упала на прежнее место и, выдернув хорей из снега, ткнула им в зад коренника.
Промышленные бежали рядом с упряжкой, пока не согрелись. Первым сел в нарту Пантелей, потом его сменил Федотка. За истуканами начиналась наезженная колея. Олени, напрягаясь, затрусили быстрей. Чтобы не околеть в суконной одежде, промышленные попеременно бежали рядом с нартой.
Когда они спустились на озеро, ветер с таким остервенением задул в лица, что при сильных порывах олени останавливались, нарты сбивало, хорей вырывало из рук отчаянно ругавшейся бабенки. На середине озера их накрыла холодной колючей шубой злая старуха Хад — хозяйка зимней тундры, северная пурга. Все слилось в белой мгле. След исчезал сразу за катящейся нартой. Но вот промелькнул тальник, за ним — березки и лиственницы. Упряжь явно вышла на берег.
Остро запахло дымом. Олени остановились, радостно мотая рогами, почесывая голенями уши. Сквозь метель завиднелся чум. Из него выскочили полуголые лохматые подростки. Увидев чужаков, они стыдливо скрылись за пологом, а оттуда появился раздетый до пояса мужик с распущенными по плечам волосами. Он перекинулся словами с остячкой, распрягавшей оленей. После того из жилья неприветливо выполз дородный косатый остяк в малице.
Пенда, как при встрече с бабенкой, поднял руку, пробубнил приветствие сквозь смерзшуюся бороду. Косатый что-то буркнул в ответ. Остячка сказала по-русски:
— Он — толькинский мюты-кок. — И, полопотав с косатым, добавила: — Мюты-кок зовет вас к своему очагу!
Косатый, переваливаясь с боку на бок, степенно направился к чуму, стоявшему в стороне, откинул полог и встал, пропуская вперед гостей. В их лица пахнуло запахом варившегося мяса. Пенда сунул за кушак топор, подхватил с нарты пищаль, Федотка — лук и мешок с подарками.
Согнувшись, донец протиснулся к жарко пылавшему очагу, возле которого сидела старуха с морщинистой вислой грудью. Следом влез Федотка. Старуха, будто не замечая гостей, пошарила за спиной, подбросила под большой черный котел пару сухих хворостин. Промышленные склонились к огню, оттаивая узлы на одежде. У Пенды вместо бороды на лице была сосулька с дыркой против рта. Растопив ее, он стал разоблачаться.
С кряхтеньем в чум влез князец. Хмуро сел напротив гостей, не снимая малицы и не поднимая глаз. Затем шумно вкатилась та самая остячка, что привезла их. Она сбросила малицу и осталась в пыжиковой жилетке. Нос и глаза — пуговками, широкое лицо — лопатой: молодая, веселая. Глядя на нее, легко было понять прельстившегося новгородца. А что она думала о всех русичах из-за своего беглого муженька, об этом Пенда с Федоткой только гадали, поглядывая на хозяев чума.
Едва все расселись, старуха вытащила деревянное корытце и стала выкладывать парящее мясо. У Пенды, не евшего свеженины с самой сырной недели, от запахов закружилась голова. Федотку так замутило, что он, ткнувшись носом в шапку, долго боролся с тошнотой и привыкал к скоромному духу. Затем, пересилив себя, обсохнув и согревшись, развязал кожаный мешок, вынул узелок с бисером и положил возле ног князца, достал припасенную горсточку корольков — подарил ее молодой остячке. Старуху он тоже не обошел вниманием, достав из-за обшлага стальную трехгранную иглу. Только после этого выложил соболей и придвинул их князцу.
Обращаясь к остячке, Федотка просил сказать, что его чуница промышляла на Тольке и он пришел поблагодарить князца. Бабенка залопотала, глядя на косатого. Тот стал еще смурней, разглядывая черный котел над очагом. Одна только старуха выглядела довольной подарком и явно радовалась, поглядывая на иглу. Она поставила корытце с мясом на вышарканную оленью шкуру, сюда же — плошку с рыбьими головами и блюдо с клюквой. Федотка выложил мерзлую краюху хлеба, хранимую на черный день.
Князец взял рыбью голову, стал ее неторопливо обсасывать. Старуха с остячкой последовали его примеру. Чтобы не обижать хозяев, Пенда мысленно перекрестился, помянул своего станичного попа, не считавшего большим грехом нарушение поста в походах, и с удовольствием налег на рыбу. Федотка же посасывал клюкву и отщипывал кусочки оттаявшего хлеба.
После еды князец повеселел, вытер руки о шкуру, достал снизку собольей рухляди, связанную бечевой за отверстия глаз, и стал с пристальным лукавством вглядываться в лица промышленных. Они его разочаровали. Снова посмурнев, он отбросил соболей и пробормотал сердито, а остяцкая бабенка сказала по-русски:
— Мюты-кок хочет подарить вам много соболей. Ваши люди так любят их, что почти всех переловили. Скоро ни одного не останется.
Намек на подарки насторожил промышленных. Как предупреждали бывальцы, за этим должна последовать несопоставимая просьба.
— Мы пришли к вам с подарками и с благодарностью. От вас никаких подарков взять не можем — царь не велит! — сказал Федотка.
— Сарь! Сарь! — раздраженно проворчал князец и с такой тоской взглянул на пищаль, что желания его стали понятны. Он вдруг заговорил с важным видом, да так быстро, что остячка едва успевала переводить: — Хотите много соболя — далеко идти надо, к тунгусам, за большую реку. Там мясо оставить нельзя — соболь найдет и съест. Тунгусы будут вам рады, им без соболя жить лучше.
— У вас есть ясырь из тунгусов? — спросил Пенда, вспомнив лохматого, почему-то неостриженого мужика с распущенными волосами.
— Есть ясырь! — охотно ответил князец. — Дорого купили, за соболей не отдадим — только за железо.
Ясырь говорит, за большой рекой другая река. Там живут длиннобородые люди, ездят на конях, как Мир-сусне-хум. У них много железа. Зря нам железо не продаете. Придут те конные люди с восхода и будут железо продавать дешево. — Князец помолчал, ожидая просьб и торга, но их не последовало. Раздраженно посопев, он обронил несколько слов.
Остячка поднялась и сказала по-русски:
— Пойду разведу в чуме огонь для гостей!
Промышленных отправили в берестяную юрту с земляным полом. Стены для тепла были забросаны снегом.
— Не жалует хозяин! — усмехнулся Пенда, едва ушла остячка. Он был сыт, одежда просохла. Федотка тоже с облегчением покинул жилье князца. Вдвоем они натаскали хвороста, которого поблизости было много, втащили под кров нарту и сносно провели ночь: один спал, другой дремал, поддерживая огонь.
Утром, подкрепившись сухарями и квасом, казак с холмогорцем ушли к зимовью с чувством исполненного долга.
* * *
К Благовещению, оставив обжитые станы, все промышленные люди собрались в зимовье. Устюжане и холмогорцы радовались встрече друг с другом как самые близкие родственники. Вернувшихся ждал радушный прием тех, кто пришел раньше.
Баня не успевала выстывать. Чуть не каждый день из ее низкой двери коромыслом валил дым. Вернувшиеся отбивали заповедные поклоны о молитвах услышанных, о просьбах исполненных, сбрасывали провонявшую кострами и потом одежду, шли в баню. Парились они долго, неспешно хлеща себя пихтовыми вениками, за которыми Угрюмка с Третьяком ходили далеко, сползали с полка чуть живые, отлеживаясь на холодке или в снегу, потом снова принимались хлестать свои жилистые тела. Нехорошко с Табанькой подносили им квас в корцах.
Как братья, встретили Пантелея Пенду Угрюмка с Третьяком. Чуница с Тольки-реки добыла соболей больше других. Молодой Федотка Попов был скромен, лишь озорные и улыбчивые глаза задорно поблескивали. Но его люди поглядывали на ватажных горделиво.
Среди устюжан погиб добрый и благонравный ровесник Пенды, зять главного пайщика Никифора. Попустил Господь несчастью родных и близких за грехи их. Устюжанин набрел на остяцкий самострел, и толстая стрела, настороженная на лося, навылет пробила молодецкую грудь. Две девки незрячие, Доля с Недолей, вязали узелок на пряже, да оборвали под неловкими пальцами нить.
За праздничным застольем промышленные обсуждали пережитую зиму. Передовщик Табанька, сидя под образами в красном углу на полупустом сундуке, велел сложить перед ним все добытые меха и доносить жалобы.
Вставали чуничные атаманы, развязывали кожаные мешки, хвастливо трясли увязанными в сорока собольими, беличьими и горностаевыми мехами, выставляли напоказ самых черных и дорогих соболишек, но никто ни на кого не жаловался.
Табанька понимал, что делается это неспроста, и ерзал в красном углу. Как подросший петушок дуется, распушает шею, чтобы просипеть первый, сдавленный призыв к солнцу, так и он, то подбочениваясь, то кособочась и помигивая истончавшими птичьими веками, повелевал:
— Желаю слушать чуничных атаманов о вверенных им мной людях: не грешили ли, не скрывали ли добычи, не нарушали мои наказы?
Веселый шумок прокатился по избе, и Лука Москвитин, не вставая в кутном углу, не прося слова, не крестясь, не кланяясь, пророкотал:
— Мы люди свои! Промеж себя сами все порешили миром… И холмогорские так же. Коли Федотка о Пенде что скажет или Пенда о холмогорцах — послушаем… Или ты нам о своих сидельцах расскажи.
Вроде бы говорил Лука тихо, приветливо и ласково, но в его словах передовщику послышались бесчестье и насмешка. Он обиженно умолк, пробормотал, пыжась соблюсти достоинство:
— У нас все жили праведно, с молитвой и с миром…
— Сорока соболишек не добыли! — хохотнул кто-то из поповской родни.
Другие стыдливо примолкли, опуская насмешливые глаза долу, но на сказавшего никто не шикнул. Молчание стало неловким. Тогда поднялся молодой Федотка Попов. Перекрестившись да поклонившись на образа Святой Троицы, Спаса, Богородицы и Николы Чудотворца — всем странствующим по Сибири, всем промышляющим и торгующим заступника, спросил у старших и у передовщика разрешения молвить слово, заговорил разумно:
— Не впервой меня сводит судьба с Пантелеем Демидычем — ничего плохого о нем сказать не могу, а хороших дел за ним много, и они всем известны.
Федотка сел. Табанька пробормотал было под нос, дескать, знаем овечек с волчьими клыками да при саблях! Но высказать свое недовольство в голос он не посмел. Промышленные загалдели. Одни хвалились добытым, другие оправдывались и показывали своих лучших головных соболей. Самыми неудачливыми были зимовейщики, и Нехорошко отбрехивался, как пришлый пес, зажатый стаей, то против своих, то против Табаньки.
Самые сметливые уже прикинули, во что обойдутся десятина, подати, поклоны и подарки, подсчитали, что по мангазейским ценам заработано по кругу. Третьяк водил немигающими глазами, внимательно глядя на говоривших. Светлые волосы сосульками свисали с его головы на юношеские плечи. С беззаботной усмешкой на безбородом лице он кивнул Пенде с Угрюмкой:
— Выходит, Рябой с Кривоносом, если остались в Верхотурье на зиму, заработали больше. И ночевали на печи, и зимовали сытно.
— Пригрелись, однако, возле вдовушек! — тоскливо взглянул на него Пантелей Пенда. — Поминают нас в молитвах и жизнь нашу прежнюю, грешную отмаливают… Дай им Бог всякой милости, — перекрестился.
Опять длинные волосы лежали у него по плечам, густая, почтенная борода закрывала грудь.
— И пегих людей не увидели, и богатства не нажили! — посмеивался Третьяк над загрустившим Угрюмкой.
— Неужто так и не выберемся из нужды? — жалостливо поглядывал он на казаков. — Что велел передовщик, то я и делал, — стал было оправдываться.
За зиму Угрюмка заметно вырос и раздался вширь. Ветхий охабень с чужого плеча уж не болтался на его плечах. Волосы Угрюмка стриг на московский лад, подрезая челку над бровями.
Третьяк же беспечально утешил его:
— Как говорил Соломон: «Ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи; если буду богат — возгоржусь, если буду убог — задумаю воровство и разбой, а жена — распутство».
Не понял молодой покрученник, то ли смеется товарищ, то ли одобряет прожитую зиму.
Дозорные оглядывали заснеженные равнины, холмы, заросли жимолости и малинника, проклюнувшиеся из-под осевшего снега. Солнце слепило так, что впору было надевать березовые очки с прорезями. При безветрии в полдень с крыши избы вдруг и сбегало несколько капель, смерзаясь в сосульки, и они по-весеннему искрились на дранье. Птицы щебетали громко и радостно — не как зимой. И каждый вечер люди в зимовье говорили о знаках приближавшегося лета.
Стали думать промышленные, как дальше жить. Табанька предлагал возвращаться в город, пока не растаяли болота и полая вода не пошла по льду. Для многих велик был соблазн очутиться на Святую Пасху в Мангазее. Складники, привыкшие считать прибыли и убытки, выслушали Табаньку с почтением, но, к великому его удивлению, не поддержали.
Ответили они ему степенно и рассудительно:
— Здесь крыша над головой, очаг и баня, какой-никакой, а съестной припас — до Троицы прожить можно.
— Самое время мясо добывать — олень и лось на север идут. Скоро щука хвостом лед побьет — рыба ловиться станет… В Мангазее же к лету, сказывают, посадские и в бани на ночлег Христа ради не пустят. За кров — плати, за дрова — плати, к весне ржаной припас вдвое дороже, а дичины возле города не добыть.
— Нехристи, что ли? — вспылил Табанька, удивленно оглядывая исхудавших, в обветшавшей одежде людей. — На Святую Пасху с медведями плясать?
— И здесь помолимся! — возражал поперечный Нехорошко. — Дождемся большой воды, по ней поплывем в город. А там, глядишь, из Обдорска прибудут купцы с хлебом, подешевеет ржаной припас.
— Да здесь и на Петра-солнцеворота бывает лед по рекам, — распалялся Табанька. — Сколько ж без дела сидеть? От такой жизни и медведь с тоски помрет… Там бани, пиво, церкви, гуляние!
Не понимали Табаньку устюжане с холмогорцами, а донцы-покрученники в спор не вмешивались.
— Вызнав нужду, купцы такие цены на хлеб заломят — никакие промыслы не спасут, последний кафтанишко заложить придется, — рассудительно заметил старый сибирец Лука Москвитин.
— Сами хотите бездельничать и нас принуждаете, — яростней заспорил Табанька, кивая на донцов, как на опору. — В городе, — ударил себя в грудь, — плотники да каменщики — полезны будем и людям, и Богу.
Все обернулись к Пантелею, в чью сторону так уверенно кивал Табанька. Тот расправил по груди молодецкую бороду, поднялся крестясь.
— С тоски не закручинимся, — сказал. — На суда в Мангазее цены высоки, вместо стружков-однодневок[51] или плотов построим струги, а то и шитик[52]. Сосна есть. По большой воде князьями сплывем. А после суда продадим.
Табанька и вовсе скис, косо и боязливо поглядывая на казака: на его мерку, он был упрям, как поморец, хитроумен, как холмогорец, а по нраву — московит!
Запечалился передовщик, глядя на ватажных. Что с того, что крест ему целовали и сажали властвовать? Как исполнивший назначение трутень в пчелином улье упирается, не понимая, отчего его, недавно всеми почитаемого, выталкивают вон на верную погибель, так и Табанька безнадежно противился, но идти против всех не отваживался. Только ворчал: и мяса, дескать, не добыть, и рыбы, мол, не наловить.
— Чтобы оленя промышлять, места иметь надо. Остяки весной собираются большими родами и промышляют все, кто может лук в руках держать. А как нагрянут к зимовью и станут здесь табором? — наговаривал смутные угрозы. — Они нам уступают только пушнину, а за корма и рыбу могут мир порушить, и воевода их оправдает, ради мира с ясачниками все вины на нас свалит.
Промышленные, выслушав всех, кто желал что-то сказать, решили: с мясным и рыбным промыслом да с охотой на птицу быть как Бог даст. Заложить шитик под началом Пантелея Пенды и каждому для этого срубить и приволочь по две сосны да распустить на доски, как он укажет. Передовщику же Табаньке, сыну Куяпину, заботиться о пополнении мясного и рыбного припаса и брать для этого людей, сколько надобно, и промышлять не в ущерб строительству.
А если кто нарушит соборное решение и побежит в Мангазею на Святую Пасху — тем уйти воля, но ужину из ватажной добычи не выделять до общего возвращения.
Вскоре, проваливаясь в прихваченный ночной стужей наст, мимо зимовья прошел лось. Табанька, Угрюмка и Третьяк, взяв нарту, пошли по следу. Наст держал людей на лыжах, а лось то и дело проваливался. День был пасмурный. К вечеру промышленные догнали бы изнуренного зверя и добыли его. Но возле березняка, в котором хотел укрыться и отдохнуть лось, его забили тазовские остяки, тоже промышлявшие мясной припас на двенадцати оленях.
Обескураженных русских людей они встретили приветливо, хотя среди них не было толмача. Знаками пригласили к стану, напоили брусничным отваром, предлагали свежую, испеченную на углях печень и порсу, но было время строгого поста.
Табанька что-то пытался лопотать. Поняли его или не поняли остяки, но отрезали тяжелую лосиную лопатку с копытом, а за это потребовали поделить добытое мясо среди остяцких семей, чтобы у тех не было обид на родственников.
Промышленные вернулись не совсем пустыми, но и не с той добычей, на которую рассчитывали. На другой неделе по следу прошедшего зверя пошли пятеро и добыли его.
На устье ручья, при впадении в Таз-реку ловилась рыба в прорубях. Место это считалось бедным. Остяков оно не привлекало, но кое-какой припас щуки, окуня, сороги, язя и нелядки зимовщикам удавалось наморозить и засолить.
Пантелей Пенда выбрал место для верфи вдали от берега и заложил остов шитика. Указав, что кому делать, он стал трудиться с утра до вечера: и доски тесал, и остов судна ставил.
Одни из промышленных плотничали, другие копали корни, курили смолу, плели канаты и делали бечевы. У кого не лежала душа к плотницким работам — уходили от зимовья все дальше и дальше в поисках мясной добычи, а возвращались они не изнуренные постом.
— У кого к Чистому понедельнику скоромное в зубах навязнет, тот чертей во сне видит! — ворчал Лука Москвитин, укоряя охотников в Страстную неделю.
Те смущенно оправдывались, говоря, что, кроме сосновой заболони ничего не ели. А то, что во сне кричат, — то нечисть на Страстную неделю в доме лютует.
— Ты бы помело или кочергу зажал меж ног да обскакал бы зимовье! — предлагали Луке, чтобы очистить жилье от нечистой силы. Тот, указывая на холмогорцев, на Тугарина, не мог не съязвить, что им, блюстителям старины, это больше пристало, чем ему, устюжанину, «порченному законом татарским да обычаем византийским».
На верфи работали молча, боясь проронить пустое слово, то и дело читали вслух молитвы, чтобы не пускать безлепицу в мысли. Вечерами пели «Сон Богородицы», про Лазаря и Алексея человека Божья. Третьяк подпевал складникам красивым голосом, а то и сам начинал песни печальные.
В ночь на Великий четверг, как принято на Руси со времен стародавних, все жгли старую одежду, выжигали в очаге соль, купались в проруби задолго до зари, пока ворон не выкупал своих воронят, мазали на дверях и воротах кресты очищенной четверговой смолой, ходили в лес бить в котлы и в сковороды.
Рассыпалась старая одежка на окрепших Угрюмкиных плечах. Сколько ни штопал, ни чинил — на другой день опять дыра. Оглядел он со всех сторон сношенный охабень, повздыхал — да и сжег его в надежде на будущую обнову. А до тех пор решил походить в рубахе да душегрее из шкур.
На Страстную субботу не промышляли и не работали, только молились в вычищенном зимовье, готовили скоромную праздничную снедь. Отстояв всенощную, наутро, в Велик день, зимовейщики преломили обетный хлеб. Вместо облупленного яйца стали разговляться вареной печенью, присыпанной четверговой солью.
К полудню они уже пели и плясали у костров так, что чертям было тошно, качались на качелях, вызывая у нечисти головокружение и тошноту, верили, что радуются на небесах святые заступники, видя их веселье и благополучие.
Попивая крепкое мартовское пиво, передовщик, все еще печалясь об упущенном развлечении, качал головой и рассказывал, как весело выходят из тайги первые, ранние ватаги, как встречают их по острогам воеводы да приказчики, какое веселье бывает в Мангазее в эти дни.
После трудной зимовки и здесь было хорошо. Верили промышленные люди, что от Святой Пасхи до Вознесения им дарована одна только радость, потому что ходит по земле Сам Спаситель, а сатана же лежит в аду ничком — не шелохнется.
Весна была затяжной. Уже оттаяли болота, а река все тужилась, не в силах взломать оковы. Только в конце мая треснул ноздреватый лед и тронулся вниз по течению. Вскоре стала подниматься вода. К тому времени шитик в пять саженей длиной был сшит и просмолен. Плотники решали, крыть ли его палубой, но половодье положило конец работам.
Ночью выл ветер, громыхая драньем на крыше, трещали деревья, ревел вздувшийся ручей, плескалась вода в реке. Прислушиваясь к шумам, зимовщики строили догадки, что очнувшиеся от зимней спячки водяной и леший опять дерутся, вспомнив былые обиды. Нехорошко рассказывал, как на прошлой неделе набрел на медведя. Он сидел напротив чувала, подбрасывая дрова на угли. Мечущееся пламя высвечивало нечесаную бороду, покрывавшую впалые щеки. Тень его носилась и металась по срубу стен.
— Сидит и на меня пялится! А глазки маленькие, злющие. «Чего, — говорю, — таращишся? Стрелю вот трехгранным наконечником». А он — кожа да кости, шерсть клочьями. Я глядь, возле его лап будто пень, а мохнатый — не леший ли, думаю? Бражки опился, спит, а хозяин караулит. Двое, да пьяные — заломают… Надо поскорей ноги уносить: хоть по-русски кричи, хоть по-остяцки им во хмелю-то все одно.
— Медведь с лешим — первые друзья. Друг за друга горой! — позевывал, крестя рот, Лука Москвитин. Он лежал на нарах, задрав бороду, глядел на мельтешившие тени, прислушивался к завыванию ветра, радовался теплу и сытости.
На Василиску уже и утки стали гнездиться, а вода все прибывала. Вскоре она поднялась так, что шитик сам собой сошел с покатов и закачался на плаву. Пришлось его чалить к подтопленным деревьям. Ручей тоже взбеленился: вода подбиралась к воротам зимовья, разлившись на десятки верст, затопив болота, лесные колки и сам ручей.
Быть бы затопленной и могиле погибшего промышленного. Но перед тем под самое утро он приснился Луке мокрым и укорял его своим видом. Услышав про сон, устюжане откопали колоду с убитым, положили тело в стружек-однодневку и решили вести покойного в Мангазею-город. Никто из ватаги перечить им не смел.
Как принято со времен стародавних, собрались промышленные в зимовье под образами и, помолившись Всемилостивейшему Господу, во Святой Троице просиявшему, Пречистой своей Заступнице перед Его светлыми очами да Николе Чудотворцу и всем святым заступникам, надумали они на Иванов день грузиться в судно и плыть по разлившемуся морю к Мангазее, а стружек с покойным устюжанином привязать к корме.
Когда все было готово к отплытию, казаки с Табанькой-передовщиком взошли на шитик. Устюжане с холмогорцами еще молились в оставляемом зимовье. После молитв Лука, попугивая домового потопом, заманил его в сундучок: не оставил хозяина на мытарства в пустом жилье. Перекрестившись в последний раз под кровом, старый промышленный со спокойной душой закрыл ворота, к которым подбиралась вода.
На шитике каждый занял свое место. Угрюмка с Третьяком отвязали концы. По знаку Пантелея Пенды гребцы налегли на весла — и пошли по бескрайнему морю среди торчавших верхушек деревьев, среди островков, поросших малинником и жимолостью, поплыли на полночь, куда указывали полуденные тени.
Дул попутный ветер, нес запахи распустившейся листвы и зеленеющих трав. Вскоре он сменился на свежий, боковой. Свободные от гребли закутались в меховые одеяла и легли между гребцами. Едва ветер стих, пригрело ясное солнце, и тут, будто ласкаясь и винясь за прошлогоднее зло, начали попискивать комары.
А как начала затухать заря вечерняя, отражаясь в спокойной воде, вокруг судна заплавали стаями утки, оставляя за собой серебристые полосы. При приближении они ныряли и не скоро появлялись на поверхности. Над водой носились летучие мыши. Пролетела сова, и чайки поднялись откуда-то с тревожным криком. Впереди по курсу захлопала крыльями большая утка-хохотунья. Она долго кружила над шитиком, оглашая окрестности гулкими, громкими криками.
В сумерках люди стали пристально высматривать, где бы остановиться на ночлег, — слишком далеко виднелась суша. Уж засверкал золотыми рожками молодой месяц и вызвездило небо, когда они пристали к небольшому острову, спугнув уток. Гнезд с яйцами было там, в траве, так много, что и ступить некуда, но не нашлось сухого места. Промышленные привязали шитик к корням кустарника, легли спать на судне, и долго слышался в ночи тревожный птичий крик. Но успокоились и утки, сев на гнезда при нежелательном соседстве. Ночная стужа прибила комаров. Пролетел козодой, и летучая мышь прошуршала крыльями над головами отдыхавших. Ночь прошла спокойно и благополучно. На рассвете шитик поплыл дальше, отдавшись воле течения, которое простым глазом трудно было различить.
К полудню и в эти студеные края въехало лето на пегой кобыле. Отдыхать бы да отсыпаться впрок, пока судно носила Божья воля, но ветер стих, и сделалась такая жара, что впору было сбросить одежду. Комары же, войдя в силу, облепили людей и судно так, что все стало серым. На том мирный отдых кончился. Нахлобучив шапки, надев кожаные рукавицы, промышленные разобрали весла и поплыли на полночь. Пантелей Пенда поглядывал в даль с кормы. Он и увидел первым крест Троицкой церкви. Затем показались ее купола и город на коренном берегу с Успенской церковью в посаде. Все было целехоньким, не затопленным.
Горожане издали приметили шитик и долго гадали, кто бы мог возвращаться по большой воде. Сын боярский и два стрельца в малиновых шапках спустились к причалу. За ними вывалила толпа посадских мужиков и баб, томимых любопытством. Вышли на берег и купцы Бажен Попов с Никифором Москвитиным. Они давно поджидали ватагу с промыслов.
Встречавшие размахивали руками, отбиваясь от гнуса. Издали, с реки, казалось, что на причале идет молебен. Узнав своих людей на судне, купцы-пайщики пробились в первые ряды. Они радостно крестились, кланялись, при этом мотали головами и хлестали ладонями себя по щекам.
По чину, исстари заведенному, первым с шитика сошел передовщик Табанька. Степенно поклонившись крестам на церквах, купцам, служивым и всему честному люду, он отступил в сторону, дозволяя подойти к купцам их братьям и родственникам. Узнавая прибывших, посадские выкрикивали их имена и прозвища.
Спустились на причал приказчик с подьячим и таможенный целовальник. Промышленные снесли с шитика кожаные мешки с пушниной. Их тут же надо было опечатать. Взыскивалась государева десятина неспешно, в таможенной избе с растворенными окнами и непременно при низком солнце. Только так можно было увидеть подлинную цену меха.
Но толпа азартно требовала показать, что добыла ватага под началом Табаньки. Уже само количество мешков не вызвало восторга встречавших. По здешним понятиям, не стоило мерзнуть и страдать из-за такой добычи. Но в местах промысла ватаги несколько лет добывали еще меньше. Толпа стала хвалить ватажных.
— Кабы не Табанька — и того бы не взяли! — послышались возгласы мангазейцев.
Подьячий с таможенным целовальником наспех осмотрели меха, показывая их толпе, внесли запись в государеву книгу и опечатали мешки казенной печатью. Затем они велели нести всю добытую рухлядь в церковь.
Купцы послали за посадским попом Евстафием, и тот вскоре был приведен под руки. Все такой же возбужденный и взъерошенный, будто так и не остыл после осеннего бунта, он прямо на причале начал благодарственный молебен.
После того на берег был вытянут стружек с колодой, в которой покоилось тело промышленного. Зарыдал, обнимая ее, Никифор-купец, завсхлипывали промышленные и встречавшие их, приглушенно заголосили посадские бабы.
— Горе мне, бедному! — вскрикнул Никифор. — Как не выпадут глаза мои со слезами вместе! Как не разорвется сердце от горькой печали! Отца человек может забыть, а доброго зятя забыть не может, с ним бы живым мне в гроб и лечь! Моя зла судьбинушка была молодцу написана, написана, да так уж завязана. Нитка судеб сучится Макошью, узелки вяжут Доля с Недолею — девки слепые, незрячие. Господь же Милостивый не оставит несчастного во Царствие своем, в Отечестве нашем Небесном.
Люди теснились, желая приступить к честному одру с телом. И были плач и стон. И утешали мангазейцы с холмогорцами несчастных родственников.
Следом за добытой рухлядью со всеми почестями отнесено было к церкви честное тело. Возле нее, месяца мая в двадцать девятый день, на память святой мученицы Феодосьи-колосницы, с псалмами и песнопением, славя Отца и Сына, Святого Духа и Святую Троицу, промышленные предали прах земле.
День этот исстари почитался за несчастный, стоящий всех понедельников в году.
Здесь узнали вернувшиеся с промыслов, что старик-баюн не дождался их возвращения и с миром скончался на память святого апостола Филиппа. Поняв, что настало время отойти к Богу, матери — сырой земле отдать в долг взятое у нее тело, а дух желанному Господу предать, призвал он купцов и напомнил про уговор.
Те, верные слову, отпели его по обычаю, нарядили в холщовый саван без единого узелка, отрыли в вечной мерзлоте могилу в сажень, где лежать старцу целехоньким до Великого Суда. Теперь по соседству был положен погибший устюжанин. Вдвоем и на чужбине веселей.
«Чужбина ли?» — оглядывались на горожан и на посадский люд холмогорцы: многое в здешних людях напоминало им о родной старине и о былом благочестии, унесенных злыми ветрами далеко от разоренного Великого Новгорода.
Купцы-пайщики, отправив своих людей на промыслы, не бесприбыльно торговали в Мангазее. Помня, во что обошелся осенью постой по посадским дворам, они поставили летник на продувном месте, за посадом: дом не дом, но кров плетеный из прутьев тальника, обмазанный глиной. В нем можно было укрыться от непогоды и гнуса. Строение обошлось им недорого. Поставить его было проще простого, так как с ранней весны в город прибывали промышленные и гулящие — оголодавшие, отбившиеся от ватаг или изгнанные из них за провинности. Все добытое они быстро прожили и согласны были на любые работы ради скудного пропитания.
Мазанка, по примеру степных южнорусских хат, была длиной в три сажени, шириной в полторы. В ней был устроен очаг с вытяжной дырой. Внутри жилья было дымно и темно. Ватажные бросили там постели и пожитки. Холмогорцы поменяли суконные малахаи на свои высокие, как чурки, головные покрышки. Устюжане надели кашники, похожие на горшки. Пенда и Третьяк ходили в казачьих колпаках. Угрюмка смущался своего шлычка. Разыскивать его среди оставленных в городе пожитков он не стал и ходил в сермяжном малахае.
Веселой гурьбой промышленные отправились в гостевую баню с квасами и суслом. Купцы все мирские дела взяли на себя, велев работным приготовить для отдыха летник и накрыть возле него столы. Тем временем мангазейские служилые с таможенным целовальником взяли с ватаги государеву десятину лучшей, отборной пушниной. Оставшиеся меха клеймили и вернули для дележа. Купцы получили на руки описи с печатью, что налог с добычи взят.
После бань и отдыха ватажные люди разложили оставшуюся пушнину на два десятка ужин. Устюжане с холмогорцами долго спорили, какая из них хуже, какая лучше и дороже. И только устав перекладывать меха из кучи в кучу, согласились, что доли почти равные.
Помолившись, промышленные заставили Табаньку стать спиной к разложенным мехам. Бажен Попов перекрестился, положил руку на одну из куч рухляди и спросил: «Чья?» И ответил Табанька: «Моя!» Из его доли купцы, по уговору и крестоцелованию, взяли половину, оставшуюся пушнину забрал он сам. Указав на другую ужину, Бажен спросил: «Чья?» Бывший передовщик назвал Нехорошку Москвитина.
Рухлядь поделили. И когда Угрюмка получил на руки свою треть ужины, оказалась она еще меньше, чем он предполагал, — пятнадцать соболей да всякая мелочь. По мангазейским понятиям, это был убыточный промысел.
Купцы тут же предложили покрученникам по тридцать пять копеек за соболька без перекупной десятинной пошлины. Цена была ни низкой, ни высокой. Но при торге на гостином дворе надо было оплатить десятину тому, кто продавал, да десятину покупавшему. Пенда с Третьяком не торгуясь отдали своих соболей, лис, белок и горностаев. Подумав, продал все и Угрюмка.
Табанька сказал, что продаст дороже, сложил свой полупай в мешок и не выпускал его из рук, пока сидел за столом. Едва стала гаснуть заря темная, поздняя да тут же заалела заря утренняя, он побежал со своим мешком в посад, по слухам и намекам — к жене.
Угрюмка поднялся рано, как только зашумели торговцы на гостином дворе — убежал туда и вернулся писаным красавцем: в зипуне, московской шапке кашником, в поскрипывавших сапогах, которых от роду не имел. Всю-то жизнь проходил сирота в чунях да бахилах, в иные времена носил чирки, чужие и драные.
После бань, угощений, похорон и поминок ватажные, помня свои зимние зароки, пошли толпой в посадскую церковь. Стояли они там особо от других, каждый день прибывавших в Мангазею. Исповедавшиеся на вечере со скромными лицами ждали причастия, смиренно молились, теснясь у правого придела.
К неудовольствию причта, церковь пополнялась запоздавшими даже после литургии верных, когда отперли двери храма. Первые ряды теснились людьми, напиравшими от притвора, добропорядочных прихожан подталкивали к алтарю.
Запах свечей и ладана перебивался сивушным духом. Отец Евстафий бросал дерзкие взгляды на недостойных. Его длинная и редкая бороденка на остром подбородке то и дело задиралась от негодования. Не прерывая молитв, он толкал наседавших то плечом, то локтем, а свободной рукой грозил явно веселым.
Пантелей Пенда был все в том же старом замызганном жупане, но в красных сапогах. Сдавленный со всех сторон, он с отрешенным видом крестился и кланялся, насколько это было возможно в тесноте, то и дело поправлял длинные волосы, при поклонах закрывавшие лицо. Казак старался думать о грехах тяжких и о Милостивом Господе, который три десятка лет терпеливо возился с ним, обуянным пороками и страстями. Но мысли его то и дело убегали далеко, а глаза сами собой косили на другую половину храма.
В первых рядах от алтаря стояли зажиточно одетые посадские, за ними промышленные: одни в кафтанах, обшитых собольими пупками, другие в кожаных рубахах на голом теле. Слева от них молились заносчивые и кичливые посадские бабы. При них едва виделись перевязанные лентами головки малолеток.
«Посадские в девках не засиживаются!» — с тоской думал Пантелей. Он невольно повел головой в сторону и чуть не ахнул: возле большой иконы Пречистой спиной к нему и эдак чуть боком стояла девка лет двадцати, а то и старше, явно перезревая в своем девичестве. Гладко стянутые волосы были покрыты повязкой[53], набранной из поблескивающих дешевых корольков. На плече, покрытом простенькой душегреей, лежала толстая русая коса. Рукава льняной рубахи свисали до колен, из разреза при каждом крестном знамении почти до локтя обнажалась белая бабья рука.
Пенду не привлекали сибирские невесты — тощие, нескладные подростки, которым не давали задерживаться в отцовских домах. И вот — настоящая дева… И где? Кабы не храм, он бы принял это томительное видение за прелестное наваждение, перекрестившись, ожесточил бы сердце: плюнул через левое плечо в харю нечистому, прельщающему истомившегося молодца. Но здесь, крестясь и кланяясь с заколотившимся сердцем, он сколько мог вглядывался в суровые лики и ругал себя мысленно.
«Неужто во святом храме призорился?» — думал не то с тоской, не то с радостью. Опять оглянулся и снова увидел округлое плечо, ухо и овал щеки. Когда она чуть оборачивалась, обращаясь взглядом к алтарю, видел румянец, уголок глаза, тонкий изгиб краешка губ. И колотилось, трепетало сердце. Казалось, если девка совсем обернется — он увидит лицо своей пропавшей жены. Почему здесь и почему в девках? Об этом думать не хотелось. Прельщал нечистый, вызнав тайные скорби молодца.
Почувствовав на себе пристальный взгляд, девка чуть обернулась. Пантелей увидел кончик носа — другого, незнакомого. Но это его не остудило, и он стал настойчиво протискиваться вперед, время от времени оборачиваясь в ее сторону. Возле Николы зимнего, в митре, увидел, что девка не одна такая в храме: неподалеку от нее стояли еще четыре перестарки с волосами, заплетенными в одну девичью косу. По сравнению с посадскими бабами они были скромно одеты, с виду робки и набожны.
Та, которую высмотрел казак, беспокойно завертела головой, скользнув по толпе рассеянным взглядом. Глаза ее ни на миг не задержались на казаке с пышной бородой помелом, с рассыпавшимися по плечам длинными волосами вдовца и печальника. Пантелей невольно поправил саблю, взглянул на вышарканное плечо сношенного жупана, откинул волосы за плечи и подумал с грустью: «Накрой скуфьей — приняла бы за монаха… На таких девки не глазеют!»
Угрюмка и Третьяк за его спиной тоже стали озираться, не понимая, отчего вертит головой товарищ. А у того и вовсе разум помутился. Подходя к аналою, к целованию Честного Креста, и здесь ловил ее случайный взгляд, будто ласку, по которой так истосковалась душа. Выходя из церкви, видел только белую шею, затылок, стянутый косой, прямую, крепкую спину и полнеющие плечи под душегреей. Русая коса свисала чуть не до колен. А под простеньким сарафаном среди складок очерчивались крепкие, широкие бедра. И казалось казаку, обними такую, созревшую, — лопнет в руках или ускользнет, как видение.
Нахлобучив колпак и придерживая саблю, он торопливо обогнал других девок, державшихся возле московского купца с редкой седой бородкой клином, встал на их пути, жадно разглядывая лица. И девки, и купец окинули его плутоватыми, ободряющими глазами. Все были дурнушки, одна даже хромала, и только та, которую высмотрел Пантелей, опять потрясла.
Он увидел ее глаза — голубые, как небо, добрые, ласковые, лучащиеся изнутри дивным светом. Лица ее не разглядел, как в омут, окунувшись во взгляд, и высмотрел в нем тоску, которой томился сам. Ему показалось вдруг, что она тоже поняла его печаль и пожалела, отчего под сердцем казака стала таять давняя ледышка.
Едва он оторвал глаза от девки, московский купец в упор посмотрел на него оценивающим взглядом.
Ватага отправилась к соборному застолью, вновь устроенному купцами. Но Пенда пропал еще возле церкви и появился лишь в самый разгар веселья, когда братина уже несколько раз прошла по кругу. Его не узнали. Холмогорцы чуть было не поднялись, чтобы выставить чужака, севшего не по чину, рядом с лучшими людьми.
Было дело, в Верхотурье Пенда стриг волосы и бороду. Но тогда его узнавали. Теперь он заявился — острижен коротко, как татарин: из-под колпака смешно торчали уши, борода, что свиная щетина, едва покрывала щеки, и только чуб русой волной спускался по щеке к плечу. Глаза казака сияли цветными каменьями и чудно светились. Он был возбужден и весел: шутил и хохотал по пустякам так, что можно было подумать, будто он опился за другим столом.
Угрюмка, надев новый зипун, освободился от чар тобольских пловчих и русалок. Теперь он похаживал с гордым видом, без смущения посматривал на девок и молодых баб. И те глядели на него приязненно. Вот только не знал он, с какой стороны подступиться, чтобы заговорить, и от того незнания хмурил брови, напускал на себя важный вид.
На память святого мученика Устина на Святой Руси рожь говорит: «Колошусь!», мужик: «Не нагляжусь!» В бесхлебном же краю люди глядели на гостей, веселились и радовались. В тот день город с посадом встречали ясачных остяков. Появился на людях и воевода. За зиму он потучнел, стал дородней и строже.
Ворота в город были распахнуты. В новой красной шубе Андрей Палицын сидел на крыльце съезжей избы. Наряженные в кафтаны и собольи шапки, рядом с ним стояли приказчик с подьячим, дети боярские, целовальники от торговых, таможенных и промышленных людей, здесь же были аманаты в цветном платье. В почетном карауле вытянулись березовские казаки с обнаженными саблями.
При подходе гостей со стен города стали палить пушки. Остяцкие и вогульские князцы были подведены под руки к воеводе. И тот поднялся им навстречу.
Каждый из князцов становился ногами на медвежью шкуру, чтобы не таить зла и быть искренним. Подручные вытащили из мешков и вложили им в руки связки соболей. Среди знавших толк в рухляди горожан прокатился одобрительный ропот.
— Примите! — сказал воевода своим людям.
Подьячий с приказчиком приняли меха, прилюдно пересчитали их и, раскрыв книгу, внесли записи на ясачные роды.
Князцы, дождавшись, когда подьячий закроет книгу, выложили еще с десяток черных соболей в поминки воеводе. Снова поднялся Андрей Палицын и объявил громко, что не велено милостивым государем, чтобы воеводы и приказчики брали поминки, но одаривать царя можно, и о том надобно вносить запись в книгу, чтобы милостивому государю было ведомо, какие роды ему верны.
Подьячий снова открыл прошнурованную ясачную книгу и внес в запись о поминочной рухляди. Тогда князцы, переговорив между собой, достали еще с полдюжины шкур да собольих лоскутов и одарили воеводу с приказчиком и подьячим — в почесть. Указа не брать подарков в почесть еще не было, и воевода их принял, щедро одарив гостей хрустальными бусами, бисером, кусками олова.
Остяков и вогулов повели в съезжую избу, где для них были накрыты столы. Народ повалил на торговую площадь. Там начинались гуляния: уже били бубны, литавры, гремели домры, гнусаво выводили песни рожки. Самые лихие и удалые из горожан да подгулявшие промышленные люди выскакивали на круг, зазывая других плясать.
Горожане и посадские, промышленные и торговые, гулящие и весь таежный люд, выбравшийся из полночных дебрей для веселья и радостей, вскоре запели, заплясали с такой удалью, будто желали добить старую или напоказ разбить новую свою обувь и уличить торговцев в плохом товаре.
Когда народное гуляние захватило всех, из застолья в съезжей избе вышли полупьяные остяцкие и вогульские аманаты. Глядя на пляшущих, они невольно задергали руками и головами в такт музыке. Молодой остяк в добротной летней малице из пыжика, с черными косами по плечам вдруг пронзительно завопил и стал скакать. Он прыгал все выше и выше. В крике его зазвучали и ярость, и остервенение, глаза полезли из орбит, а на губах выступила пена. Казаки, заметив, что дикого корчит бес, схватили его под руки и едва успокоили.
В сопровождении московских гостей на площади появились пять девок. Пенда узнал высмотренную в церкви, и показалась она ему еще краше. Будто ослеп казак, невзвидел света белого и никого вокруг, даже саму девку не видел, а только ее глаза.
Узнала ли? Мелькнуло в ее взгляде озорство и пропало, опять появилась печаль: будто винилась за что-то, не отводя грустных и ласковых глаз. Потом они стали настороженны, начали зазывать и что-то выпытывать.
Пенда сдвинул на ухо колпак, протиснулся к ней и стал выбивать дробь высокими каблуками красных сапог. Между ними кто-то скакал и прыгал, размахивал руками. Она, глядя на казака, уже тряхнула округлыми плечами, повела широкими бедрами и мелким шажком устремилась к нему.
Сколько они плясали, он не помнил. Кто-то толкал его в бок. Московский купец хлопал по плечу и что-то говорил. Кто-то пытался оттеснить. Пантелей властно и нетерпеливо отстранял всех, боясь оторваться от ее глаз. А если терял их вдруг — начинал метаться с беспокойством. Отыскав, понимал с радостью, что она этого ждала.
Он заметил только, что народу стало меньше. Потом девка всхлипнула, охнула и по-свойски повисла у него на плече:
— Уморил. Задохлась!
Он услышал ее голос, который показался чудным.
— Донец, удалой молодец, сабля востра! — снова похлопал его по плечу купец.
— Чего тебе? — досадливо спросил Пенда, не оборачиваясь.
— Приглянулась? — громко спросил тот и вдруг беспокойно обронил: — Ты что? Зелья опился?
— Чего тебе? — снова спросил Пантелей.
— Ладно! — отмахнулся купец, сдаваясь. — Растолкуй-ка молодцу все сама, Маланья.
Стала потухать заря вечерняя, поздняя полуночница. Заря утренняя, ранняя и ясная, уж заалела в той же стороне. Защемило под сердцем. Ту, что потерял под Калугой, тоже звали Малашей. Ему показалось, что эта зябко льнет к нему. Он осторожно коснулся ее руки. Она не вздрогнула стыдливо, не отпрянула. Осмелев, Пенда взял ее за руку, сладостно ощутив тепло ладони. Снова очнулся и понял, что уводит ее от торговой площади к реке. Маланья мотала головой и свободной рукой, отгоняя комаров и роящуюся мошку.
«К реке нельзя!» — лихорадочно подумал казак и понял вдруг, что идти некуда. Он повернул обратно, к гостиному двору, где еще сонно попискивали гудки и, будто зевая, звенели струны. Маланья послушно шла за ним.
— Ты чья? — спросил наконец.
— А посадская с Ярославля! — охотно ответила она и бойко заговорила: — Дед помер, отца убили, брат где-то воюет. Нас трое сестер с матерью жили у дяди. А у него своих две девки. От нас одни убытки. Женихов перебили. На каждого увечного — десяток перестарок. А царь дозволил увозить девок в жены сибирским казакам. Купец московский и взялся отвезти в Сибирь, выдать замуж за хорошего человека. Вот и поехала! Дому облегчение.
— А как встретишь суженого, к кому свататься? На Ярославль ехать? — спросил Пенда подрагивавшим голосом.
— Зачем на Ярославль! — Маланья весело толкнула его локтем в бок, показывая свое расположение. — К купцу! Он все расходы на себя взял. Еще и дому оставил полтину откупа.
— Так ты — кабальная? — со страхом спросил он и больно сжал ее ладонь.
— Нет! — ответила она, морщась, не вырывая руки. — Кабалы на себя я не давала. Но чтобы выйти за того, кто приглянется, по добру, надо отдать купцу семь рублей. Он меня второй год содержит.
Удалая казачья головушка лихорадочно заработала — где взять столько денег? Его покрутная доля была выкуплена за пять рублей. Часть денег потрачена. Какая-то копейка перепадет после продажи шитика.
— А я тебе люб? — спросил, вскидывая глаза, в которых еще блистали судороги вдохновения и восторга.
Маланья зарделась, опустила голову и ничего не ответила.
— Люб? — настойчивей спросил он и жадно впился глазами в ее подрагивавшие губы. Она стыдливо прикрыла их рукавом и подняла сияющие глаза. Рукав медленно опустился к подбородку. Как изможденный жаждой — к роднику, Пантелей осторожно прильнул к ее губам своими обветренными, выстриженными и почувствовал, как она по-бабьи страстно застонала, как ненароком прильнула к нему грудью. «Найду деньги! — подумал. — Моя будет!»
Едва он оторвался от полюбовной своей девицы, она положила голову ему на плечо и, чуть всхлипывая, тихонько запела:
Уж я со вьюном хожу, с золотым хожу. Я не знаю, куда вьюн положить! Положу я вьюн на правое плечо! Я ко молодцу, ко молодцу иду. Поцелую да и прочь уйду!Он ласково прижался к ее голове щекой и подпел:
Целуй, Дрема, целуй, Дрема, Целуй, Дрема, по любви!Они тихо рассмеялись, поцеловавшись весело и радостно.
Припомнилось казаку, что и прошлый раз, когда его присушила девка, ставшая женой, удалая жизнь, в которой он не задумывался о деньгах и доходах, вдруг превратилась в нескончаемую нужду и суету.
Он забыл думать, что никто не видел его венчанной жены мертвой. Доброхоты злословили, что бежала с богатым ляхом пана Ржевского. «Пока втолкуешь здешнему попу… — подумал с раздражением о новых нуждах в деньгах. — Тоже не даром».
Что дозволено воину, не дозволено пахарю. Он опять сжал девичью руку. Маланья приглушенно охнула. Пенда опомнился, повел ее к посаду, к Успенской церкви.
— Люба ты мне, — сказал. — Ой как люба! Увидел и обомлел. Все бы отдал за тебя, — сорвалось с языка. Он удивился невольно сказанным словам, скосил глаза на левое плечо, рассудочно добавил — не для девки, но для подначившего беса: — Кроме воли и сабли!.. Только… Была у меня жена венчанная. Три года — ни слуху ни духу… Если люб я тебе, пойдем к батюшке, спросим, согласится ли венчать.
Она не вырвала руки, не убежала, не зарделась стыдливо, взглянула насмешливо, как на ребенка, вздохнула и пробормотала нараспев:
— Сваталась Маланья на Масленице, а того не ведала, что Масленица тока напоказ ставит красавцев.
— Я с ней недолго пожил… То ли сманили, то ли убили — кругом измена, кровь! — по-своему понял насмешку Пенда.
— Будто я лучше, — хохотнула Маланья. — Рада бы под венец — да зад в дегте! У меня тоже жених был, молодец — полюбовный удалец… А к Евстафию не пойду: он на исповеди епитрахилью накроет и рукой за пазухой шарит… После покаемся у кого-нибудь. Ты сперва купцу заплати, чтобы силком за кого не отдал. От Обдорска черствым куском попрекает — ворчит, пора, мол, козу на торг вести.
«Хорош соболек, да смят!» — беспечально подумал Пантелей, вслух же пропел:
— Не пил бы, не ел, все на милую глядел! — Подумав, добавил: — У моря горе, у любви вдвое!
— Ты заплати! Людям скажешь, что сестра сродная. Разбогатеем, покаемся.
Казак обнял Маланью. Она с готовностью прильнула к нему, положила подбородок на крепкое плечо, вздохнула с бабьей тоской. Вспомнились обоим оттаявшие весенние поля, обнажившие сотни скрюченных тел, окрашенные кровью зори в родимой западной сторонушке. Почуяла девка сердцем, какие мысли нахлынули на молодца, закрыла ему глаза теплыми ладонями, прошептала строго:
— Как вечерняя и утренняя заря станут потухать, так бы у моего друга милого всем бы скорбям потухать!
Убрала с глаз ладони, и увидел он ее лицо не таким, как представлялось. Она же со стоном ткнулась лбом в его плечо, всхлипнула:
— А ведь ты не служилый, не казак! Гулящий, поди?
Розовела заря утренняя. Приятная прохлада веяла с реки.
— Как не казак, — приосанился Пенда. — Настоящий, родовой казак с Дона-батюшки, и по отцу, и по деду, и по матери казак.
Маланья терлась лбом о его плечо и постанывала. Оторвалась, пересилив себя, вздохнула:
— Судила Маланья на Юрьев день, на ком справлять протори. — Зевнула, крестя рот. — Однако надо возвращаться к купцу. А то и в сени не пустит.
Тих был город светлым полуночным утром. Встретились на небе супруги вздорные — месяц ясный с солнцем красным. Миловались ласковые, не успев рассориться. Блистал меч в руке могучего старца Ильи Пророка. Страшась его жгущих глаз, пряталась нечисть, запираясь под землей за воротами меднокаменными.
Угрюмка с Третьяком мирно спали в летнике. Пенда растолкал их, стараясь не разбудить других, зашептал:
— Займите-ка что у вас осталось из денег.
Вместо того чтобы по казачьему обычаю братской взаимопомощи отдать все, что нажито, Угрюмка, краснея и позевывая, сказал, что денег нет — все потратил. Третьяк стал выспрашивать, не на девку ли нужны деньги, на которую глазел на гостином дворе? Бодро поднялся с нар, крестясь. В городской церкви зазвонили, да он на литургию ходил прилежно, святые книги читал, чистоту душевную и телесную без скверны соблюдал.
— Хоть бы и на девку! — огрызнулся товарищ. — Ее московский купец примучил[54].
— Ты сперва выспись и помолись! — шепотом стал поучать Третьяк. — Девок полсотни везли. Эти — высевки: даже в Обдорске никому не понадобились… Четыре — убогие, а твоя — пава!
— И что? — обиженно уставился на него Пенда. — Сколько у тебя осталось?
— Рубль с полтиной! — ответил Третьяк, глядя на товарища немигающими глазами. — На новый храм отдал. Забери рубль. Только подумай прежде, отчего твоей зазнобе в Обдорске жениха не нашлось?
— Отчего? — повеселев, спросил Пенда.
— Если дарует Бог жену добрую, это лучше камня драгоценного; она из выгоды всегда устроит мужу своему хорошую жизнь. Хорошая жена — награда тем, кто боится Бога, — занудно стал поучать.
— Разве я Бога не боюсь? — пересчитывая деньги, рассеянно спросил Пенда.
— Тебе-то жена зачем? — в голос воскликнул Третьяк. — К тому же твоя с купцом живет! — выпалил, пристально глядя на товарища.
— Брешут! — Мотнул головой Пантелей, не желая обсуждать достоинства Маланьи. Про то, зачем она ему нужна, не вспомнил, побежал к купцам на гостиный двор.
— Вот уж верно, — с тоской взглянул ему вслед Третьяк. — Глупых не сеют и не пашут, в житницу не собирают — сами родятся… В церковь пойдешь? — спросил Угрюмку.
Тот потянулся, поморщился досадливо, зевнул и укрылся новым зипуном.
Было ясное безветренное утро. Купцы открывали лавки, громко переговаривались друг с другом. Раз и другой рассказал Пенда Никифору о своей нужде, что ему надобно семь рублей, а имеет только четыре, выгреб из кожаного кошеля за кушаком все, что было.
Устюжанин с удовольствием пересчитал деньги и ссыпал их обратно. Ласковые морщинки лучились от уголков умных, ясных глаз. Посмеиваясь, он стал рассуждать, что три рубля — не те деньги, чтобы кабалу просить, а так давать — накладно.
— Ни сват, ни брат — человек вольный, гулящий, возьмешь деньги — и поминай как звали.
— Саблю и волю не закладываю! — резко отрезал казак. Понимал, что-то вымогает устюжанин, но рядиться не умел.
— Из-за женщины прадед наш Адам из рая изгнан был, из-за женщины, — перекрестившись, многозначительно поднял перст Никифор, — Иосиф Прекрасный в темнице затворен был, из-за женщины Даниила Пророка в ров бросили, и львы ему ноги лизали, — поучал, набожно крестясь и возводя глаза к небу.
Пенда озлобленно натянул колпак до самых ушей и, не прощаясь, вышел из лавки.
С Баженом Поповым разговор у него получился душевней. Тот не отговаривал, не стыдил, хоть дотошно выспросил о нужде. При том думал, вздыхал, хмурил косматые брови. После сказал:
— Тебе и десяти рублей мало! Венчание — батюшке поклон, поклоны воеводе и письменному голове, как здесь принято. А каждый поклон — соболишко. Да свадьба, да на промыслы уходя — не бросишь ведь жену на чужом дворе?
Только из купеческих слов понял Пантелей, какая прорва денег ему нужна. И верилось отчего-то, что Бог не оставит, только бы выкупить девку.
— Я-то насмотрелся за зиму на здешние нравы, прости, Господи! — ворчал Бажен, хмурясь. — Иной непрожиточный промышленный, по бесовскому научению, свяжет себя браком, а после идет на промыслы кабальным. А то жену продаст служилым. Те и сами не лучше.
— Как продать вольную? — вскинул обиженные глаза казак.
— А будто прислугой или стряпухой наймется к холостому и живет с ним, как с мужем, с согласия своего венчанного… Табанька наш гуляет который день. Жена знает, что он здесь, но не ищет. Хорошо пригрелась в чужом доме.
Казак побагровел, опустил глаза и пробормотал:
— Это сестра моя сродная! Встретились вот…
Бажен метнул колкий, недоверчивый взгляд из-под нависших бровей:
— Так-то оно проще и дешевле. Только смотри, купишь девку недешево, вернешься с промыслов, а она замужем. Не возьмешь ведь с нее закладную или кабальную.
Пенда взглянул на купца рассерженно, спросил резко и раздраженно:
— Ты скажи, дашь ли денег? С остальным разберусь.
— Я сам девку выкуплю. Тебе дешевле будет. А ты, нынче гулящий, помоги мне в противозаконном деле. — Заметив беспокойство во взгляде казака, добавил: — Здесь все живут против государевых законов. Служилым торговать запрет — на одно жалованье жить. Воеводе все подарки в казну вносить. По закону торговать — без порток останешься: кругом поборы, — проворчал крестясь. — Ты не болтлив, не хвастлив, не любопытен до чужого, не завистлив, слава Богу… Вижу, до девок слаб. Ну, да все мы… Сказано — кто без греха?.. Слава Богу, только до девок, не до зелья…
— Говори, что за дело, — дернул плечом Пенда.
— Сплывешь по реке к устью и там наш кочишко наладишь. К Иванову дню придем мы к тебе с товаром на шитике или на стругах, и куда я укажу — поплывем. После вернемся, станем готовиться к новым промыслам… Если тебя воевода к себе не переманит.
— Опять тайный торг? — скривил губы казак.
— Он самый! Твое дело — судно вести да саблей махать, если понадобится. А попустит Бог да бес попутает — ответ держать поровну.
Купец — он и есть купец! Денег на руки не дал. Но, забрав все, что было у казака, сам пошел торговаться. О чем он говорил с московским торговым гостем, на чем сторговался — этого никто не узнал. Пенда же с нетерпением ждал возле московской лавки и не находил себе места. А разговор тянулся долго. Едва ли не к полудню Бажен с московским седобородым купцом направились в посадский дом. Оттуда они вышли быстро. Следом, с узлом на локте, покачивая бедрами, появилась Маланья.
Белобородый московский купец перекрестил ее, передавая из рук в руки. Вдруг Маланья со слезами повисла на его шее. Купец похлопал ее по плечу, как кобылу по загривку, и ласково отстранился.
И пошла она за Баженом будто сама не своя: кручина да печаль девичьи свесили головушку промеж плеч. Зажала руки вкруг сердечка, ясные очи утопила в сырую землю. И так жалко стало казаку ее, несчастную, — он тут же и простил, что висла на шее у купца московского. Не успел подумать, отчего закололо в груди, как услышал:
— Доброму молодцу — красавицу-девицу!
Бажен подтолкнул к нему, заробевшую вдруг, девку. Она взглянула на казака виновато и радостно, прильнула к нему, всхлипнув, и отстранилась, как подлинная сестра, разглядывая его с любопытством. И он взглянул на нее будто со стороны. Прежде видел глаза, брови, плечи, бедра, а тут рассмотрел всю. И приметил, что одна половина лица чуть иная, один глаз вроде ниже другого или с косинкой. «Оттого-то вспоминалось то так, то эдак», — подумал. Но эти глаза светились такой синевой, такой любовью и благодарностью, что разом забылось все ненароком подсмотренное. Полногрудая, статная девка с русой косой на плече стоила трудов.
Отступив на шаг, она чинно поклонилась казаку, а затем Бажену:
— Спаси вас Господи! Ангела вам доброго…
Пенда тоже кивнул-поклонился купцу, не снимая колпака.
— Храни вас Господь! — сказал тот с печалью и перекрестился: — В плотницком деле, в бою и в промысле ты — дока… Где жить-то будете? — спросил и тут же съязвил: — Доке честь и доке слава, коль дока денежку берет.
— Бог не оставит! — беззаботно взглянул на Маланью казак.
— Бог — Богом, люди — людьми! — с хитрецой в глазах посмеялся Бажен. — Берите-ка припас да на стружке сегодня, завтра ли отправляйтесь на устье реки. Там, в зимовье, гнуса больше, а глаз меньше. Скоро и мы туда придем на рыбный лов, как уговаривались!
В последних словах купца был намек на противозаконное дело.
Ни на шаг не отпуская от себя Маланью, невнятно огрызаясь на расспросы любопытных, казак сходил за своим одеялом и за котлом, просмолил, проконопатил стружек, на котором привез тело погибшего устюжанина, сбегал в церковь за святой водой и окропил суденышко после покойника. Наконец, к ночи город затих, опустели его окрестности и отпала надобность поспешного бегства. Ясной белой ночью они с Маланьей улеглись под стругом. Сквозь гул роящегося гнуса слышался плеск реки. Стоило высунуться из-под одеяла, комары облепляли тело.
Пантелей не ждал от Маланьи девичьей робости. Да и ни к чему это было ему, истосковавшемуся по женщине. Однако встретить страстную многоопытную бабу в девичьей повязке — он не чаял. И таял лед под сердцем от ее ласк, и отступалась тоска — дочь Иродова, грозя прутом ивовым. Ни гнус, ни бездомье, ни долги, ни покаянные мысли не донимали. «Бог не без милости, казак не без счастья! — думал, подремывая. — Знать, выстрадал свое, пора и утешиться!»
Они проснулись от зноя. Днище перевернутого струга нагрелось под солнцем: утром полюбовные молодец с девицей так крепко уснули, что проспали колокольный звон. Пенда, отдуваясь от жары, выполз из-под лодки, окунулся в студеную воду реки, быстро оделся, отмахиваясь от гнуса, перевернул и столкнул на воду стружек, торопливо сложил в него припас. Из-под одеяла выглянула Маланья, улыбнулась одними глазами в цвет неба. Он подхватил ее на руки, укутанную, положил в лодку.
— Поспи еще! — сказал ласково. — Я от города отойду, от людских глаз.
Она обвила его шею мягкой рукой. Прошептала:
— Любый! — и опять боязливо спряталась в одеяло.
Пантелей воровато оглянулся на пристань — не видел ли кто? Сел за весла и отогнал стружек на середину реки. Здесь веял ветерок и гнуса было меньше. Таз входил в свои берега, оставляя сотни озер с гнездящимися на них птицами. Едва скрылся за поворотом реки город, Пантелей высмотрел сухое место и пристал к берегу, вытащил лодку на сушу. Поднялась Маланья, стыдливо оглянулась по сторонам, скинула одеяло и с визгом бросилась в студеную воду. Он раздул дымокур, раздевшись, поплыл навстречу ей, неспешно выходившей из реки. Осторожно ступая по илистому дну босыми ногами, склонив голову набок, она распускала мокрую косу. Под ясным солнцем капельки воды бисером сверкали на полной груди. Он обнял холодную, мокрую, как русалка, женщину и почувствовал, что забыл не только нынешние, но и прошлые, неотмоленные грехи. Ни о чем не жалел казак, как пташка, радовался дню, не думая ни о чем ином.
Следующую светлую ночь они провели у костра по-промышленному. Легли рано, валялись, лаская друг друга, глядели в ясное небо без звезд. Мчались по нему тучки — белые кони дня. Ясный месяц с красным солнышком — супруги вздорные, все еще миловались, не рассорившись.
— После как-нибудь к батюшке на исповедь сходим! — сказал он, крепче обнимая льнувшую к нему Маланью.
— Сходишь! — тихо рассмеялась она. — Я не пойду. Что посадские, что городские попы — кобели! Узнают про нас, пуще приставать станут.
Пантелей вспомнил рассказы Бажена о мангазейских нравах.
— Насмотрелась на сибирцев, — угадав его мысли, вздохнула Маланья. — Что служилые, что ваш брат… Только и зыркают, как чего тайком и даром, — вырвался язвительный смешок. Испугавшись сказанного, она прижалась: — Любый мой, красный мой! — пропела шепотком.
— А московский купец? — с доброй насмешкой спросил Пантелей.
— И он был люб! — ничуть не смутилась Маланья. Добавила шаловливо: — И Первушка!
— А это кто? — спросил, зевая.
— Жених! Пропал где-то. Может, убили… Я такая грешная, — всхлипнула, то ли искренне каясь, то ли ожидая его гнева. Но Пенда молчал, продолжая поглаживать ее плечо крепкой мозолистой ладонью.
— А ты со своей долго жил? — спросила осторожно.
— Месяца вместе не были. Она в Калуге с матерью-вдовицей голодала. Родня перемерла. Увидел, как тебя, — обомлел. Дал теще золотой — на другой день обвенчали. Потом со станицей ходил на Рязань. А как вернулся — теща сказала, что померла. А люди говорили, что с ляхами видели, веселой. После те ляхи с нами в земщине служили. Спрашивал про нее. Не помнили… или скрыли.
— Бедный мой! — прижалась Маланья, всхлипывая. — Добрый мой!
В зимовье на устье Таза жили два верстанных казака Их послали из Мангазеи сразу после ледохода для надзора за провозимым товаром. Наварив сусла из государева хлебного жалованья, они были всегда пьяны, не голодали, но и не ели — закусывая одной печеной рыбой. А ее на устье реки было много.
Казаки оказались знакомыми по прошлогодней мангазейской смуте. Хоть и были они людьми безвредными, но, глядя на их хмельное житье, оставаться с ними под одной крышей Пантелею с Маланьей не хотелось. Донец с тоской осмотрел знакомое зимовье, где хотел поселиться, и погнал лодку дальше вдоль берега к ватажному кочу, стоявшему на покатах на сухом месте. Пришлось им вместе с Маланьей таскать припас и пожитки туда.
Чтобы до Иванова дня спустить судно на воду, надо было усерд но поработать. Но это не пугало Пантелея — вокруг было много плавника, не так далеко рос низкорослый березняк, корни которого требовались для крепления обшивки. Были руки, топоры, долота, смола, переданные главным пайщиком через подручных людей.
К светлой полуночи Пантелей законопатил щели в просторной жилой половине коча, растопил чувал, устроил дымокур. Маланья, кашляя и хлюпая носом от едкого дыма, размахивала лавтаком, выгоняя из-под палубы комаров и мошку. Она уже приготовила ужин на костре и напекла хлеба.
Наконец они остались в желанном уединении, укрытые стенами судна. Пьяные мангазейцы, может быть, и желали наведаться на коч, но идти по болоту им было не по силам. Двое зажили на судне спокойно и радостно. Они часто купались в студеной воде и мылись по-промышленному в яме рядом с кочем.
Все-то спорилось в руках у Маланьи. Она была смешлива, но не насмешлива, любила песенки и прибаутки, складные поговорки, с утра до вечера все пела. Даже засыпая на плече казака, что-то мурлыкала о своем бабьем счастье. Бывало, весь день поет одну и ту же песню, забудет — примется за другую. Замечая то аккуратно залатанный жупан, то заштопанную рубаху, всегда накормленный, с удивлением открывал для себя Пантелей, что с женщиной жить не только радостней, но и легче, чем одному или с боевыми и промышленными товарищами. «Ну и привалило счастье!» — удивлялся, поглядывая на Маланью. Он и не слыхивал про таких покладистых баб.
На память Аграфены-купальницы они увидели шитик на реке. Суда из Мангазеи проходили часто. Но шитик, построенный своими руками, Пантелей узнал издали. Оставив Маланью, он пошел к зимовью, мимо которого судно пройти не могло. На устье Таза шитик развернулся поперек течения и направился к берегу с выступавшими из воды полусгнившими сваями. Чуть выше торчали черные венцы бревен, напоминая о бывшем здесь когда-то вольном промышленном городе.
С губы дул прохладный ветер, он прибил и угнал тучи гнуса. Пантелей, сбросив красные сапоги, торопливо пробирался вязким берегом к зимовью и вскоре был замечен ватажными. Ему замахали шапками. В то же время из зимовья показался служилый с дряблым, спитым лицом, походившим на рыбье брюхо. Запинаясь о болтавшуюся саблю, он кое-как влез на приткнувшийся к причалу шитик. Его дружок едва выполз из зимовья без шапки и повис на воротах. Качнувшегося было на сходнях мангазейца ватажные подхватили под руки, чтобы не упал в воду и не вытрезвел.
— Гостю дорогому величание! — смешливо поклонился ему дородный Бажен Попов. Под нависшими бровями блестели плутоватые глаза, холеная борода мягко лежала на выпиравшем из-под распахнутого кафтана брюхе. — И чарочку, как должно!
Федотка Попов в высокой новгородской шапке с важным видом поднес плоское блюдо, на котором стояла глиняная кружка, до краев наполненная хлебным вином. Верстанный мангазеец шевельнул синюшным, в рытвинах носом, принял кружку трясущимися руками, припал к ней губастым ртом. А когда оторвался, отпив на треть, в умилении перевел дух и благостно поднял глаза к небу, прислушиваясь, как растекается хмель в груди и брюхе. Отдышавшись, он кивнул за спину:
— Ему тоже!
В это самое время Пантелей поднялся по сходням. Его окружили знакомые. Устюжан на шитике не было. Нос опохмелившегося служилого зарозовел, красные рыбьи глаза засветились. Он тоже кивнул казаку, про которого забыл в заботах служб. Неверной рукой поправил съехавшую на брови шапку. Ему захотелось поговорить, покуражиться, но хмель брал свое: вино готовилось не для веселья, а для откупов.
— Там что? — топнул было ногой по палубе и так качнулся, что едва не расплескал кружку. — Вот ведь! — пробормотал испуганно. Снова припал к вину и отпил до половины. Перевел дух. Ему тут же долили и под руки свели на берег.
— Даст Бог, не подохнут до нашего возвращения! — жестко усмехнулся вслед Бажен и, довольный собой, расправил бороду на груди. Пожалев болтавшегося на воротах или опасаясь, как бы тот не затаил зла, приказал Федотке: — Сбегай, налей-ка и ему!
Там, — кивнул в сторону города, — шныряли да щупали малиновые шапки. Все выспрашивали, с чего бы это с Иванова дня честной люд — в церковь, а купцы — на рыбный промысел? Не по немчуре ли соскучились?
Говорил им: коли мы вас кормить не станем — с голоду околеете!.. Кроме, как мзду брать, ничего не могут.
Шестами и веслами шитик оттолкнули от берега. Далеко обходя мели, причалили против залатанного и просмоленного коча. Вода была высока, но холмогорцы провозились допоздна, стаскивая его с берега, потом перегружали товар и припас.
Давно уж Маланья приготовила ужин и зазывала промышленных к котлам. Долго всем им было недосуг, зевали от усталости, а день все никак не кончался. Свежий ветерок отгонял гнус, невысокая волна плескалась о низкий берег, утки и гуси свистели крыльями над головами людей, над навешанным парусом.
Едва холмогорцы покончили со сборами, бес снова стал подстрекать к раздору. Бажен исчесал редеющий затылок, думая: взять девку на борт — водяной может взбелениться да невесть что устроить на море. Бросить девку в зимовье с пьяными мангазейцами — на позор оставить. И не пойдет Пенда в море без девки: упрям, хуже самих холмогорцев.
Пока старшие складники ломали над этим головы, молодой да сметливый Федотка Попов сказал:
— В Мангазею же она приплыла! И ничего. Лучше нашего пропустил дедушка!
Будто открылось холмогорцам — столько мук они приняли в море, хоть не было ни одной бабы на борту, а московский барышник пятерых вез — и хоть бы что ему.
Подумав, объявили Пантелею:
— Глазастую твою берем. Но пусть на берегу платье скинет, тайком наденет кафтан и штаны. А после, ни слова не проронив, поднимется на коч и спрячется. И сидеть ей тихо средь товара, пока от берега не отойдем. Коли осерчает дедушка, мы ему скажем — не приметили девки, как от берега отходили, видать, враги твои, тайгуны, лешие да полевые, пакость учинили!
Отдохнув и помолившись на покосившуюся часовенку без окон и дверей, на ряд черных крестов среди осевших и подернувшихся мхом могил, холмогорцы оставили на суше шитик и пошли кочем, на веслах, вдоль правого берега губы, не теряя его из виду.
Сменился ветер. То и дело зарываясь носом в пологую волну, коч три дня шел под парусом. Куда указывал купец, туда и правил Пенда, стоя на корме. Ночи не было — сутками светило солнце. Судно двигалось не останавливаясь, на руле Пантелея менял сам Бажен — холмогорский купец и передовщик.
Как-то казак проснулся на нежилой половине судна, где они с Маланьей, уединяясь, спали среди товаров, и почувствовал, что коч стоит у берега. По палубе забегали. Застучали весла и шесты, стали натягивать пеньковые канаты. Подход к берегу был явно не случайным. Донец удивился, что его не разбудили, перевернулся на другой бок, но не уснул.
Проснулась и Маланья, потянулась зевая:
— Хорошо-то как! — пропела сонно.
— Хорошо, — прошептал Пенда. Ждал, что позовут. Не звали.
Поворочавшись сбоку набок, он поднялся, оделся, вышел наверх. Коч стоял у острова. Неподалеку был причален чужой шитик. Вдали торчали сломанные мачты двух потрепанных корветов. На борту, свесив ноги к воде, сидел Федотка.
— Куда народ делся? — спросил Пантелей.
Молодой промышленный весело оглянулся:
— А торговаться ушли! Еретики окаянные приплыли тайно из Архангельска, с немецкой слободы. Земляки наши, — усмехнулся. — Привезли, сказывают, нашу же соль из Соломбалы, порох и рожь — вятские, свинец, топоры, бусы, бисер — ярославские, да вологодские — коровье масло и мед. Товар ходовой, и покупную десятину давать не надо.
По двое-трое холмогорские складники ходили на иностранные суда, смотрели товары. Потом бритые гости подходили к кочу и к другим судам, разглядывали, дотошно ощупывали меха. Такой красы в сороках Пантелей прежде не видел: один к одному черные головные соболя, лисы.
— Откуда? — удивился.
На лице Федотки, обметанном темнеющим пухом будущей бороды, мелькнула не по годам хитроумная усмешка. Сузив глаза, он коротко ответил:
— Наменяли в пути да в городе, пока мы промышляли на Тольке-реке. В здешних местах такие соболя давно выбиты.
Торг шел своим чередом с вежливым недоверием и предосторожностями. Еретики отбирали приглянувшуюся им рухлядь в свои мешки, опечатывали их своими печатями. Мешки те оставлялись на суше близ русских судов под присмотром их людей. Затем русские купцы шли на корветы, со спорами и с торгом выбирали товар в обмен на меха и тоже складывали его неподалеку от кораблей при досмотре.
Тугарин вернулся с торга злющим, с клочковатой бородой торчком. Он размахивал костяным гребешком и громко возмущался:
— Мой гребень! Я по полтине за сотню брал, отдавая торговцам. Они мне мое — по алтыну считают…
— Купцу без прибыли нельзя! — посмеивался Бажен.
Сутулый длиннорукий Тугарин водил по сторонам ошалевшими глазами и все не мог понять, отчего, будучи резчиком по кости, в Холмогорах он не выбивался из нужды. Немецкой же слободе государь дозволил быть, чтобы возила товары из дальних стран, а не торговала скупленным возле Архангельска.
Между тем, обменявшись товаром, русские и бритые купцы сошлись для застолья и дружеской беседы, где договорились о следующих встречах и о торге.
Загрузившись хлебом, медом, маслом, котлами, топорами, свинцом и порохом, бусами, иглами, холмогорцы поспешно ушли с тайной ярмарки. По безветрию на веслах коч вернулся на устье Таза-реки. Бросив здесь каменный якорь, люди с судна стали ловить рыбу, для чего якобы и уходили из Мангазеи.
Пантелей Пенда и хотел не думать о чужих прибылях, да не мог остановить мысли в удалой своей головушке. Уж он и отмаливался, и ругал себя: зависти не имел, а бес не давал покоя, заставляя думать, что принятый товар никак не равен отданным за него мехам. Казак едва не позеленел от своего непонимания. Моль ест одежду, а навязчивые мысли — человеческую душу: про Маланью стал забывать, лежа рядом. Напрочь обессилев от домыслов, не удержался, пожаловался Федотке, с которым был в дружбе:
— Скажи ты мне, Христа ради… Или я совсем глуп, или чего-то не понимаю. Товара-то должно быть вчетверо, впятеро больше?
— Да поболее, — доверчиво рассмеялся Федотка и тихо добавил, оглянувшись для верности: — Это так, прокорм, — кивнул на трюм, набитый грузом. — Главный товар — талеры, которые у нас зовутся ефимками или корабликами. Золото.
3. Где никого допрежь…
В конце июля запахло ранней северной осенью. Редкий еще желтый лист стал уже слетать с приземистых берез, в просторах стало светло и дымчато. В один из таких деньков, на святого Афиногена, холмогорцы вернулись в Мангазею, под строгим надзором служилых выгрузили на причал большой припас соленой и вяленой рыбы, хлеба и меда, коровьего масла, не скупясь, отделили государеву десятину со всего привезенного, кроме ржи, которая налогом не облагалась. Бажен оправдывался, что со своими людьми случайно встретил в губе торговых тоболяков, терпящих бедствие, оттого, мол, случился торг без надзора.
Устюжане же к тому времени сходили с мангазейскими казаками к немирным самоедам в Енисею, помогли служилым привести бунтовавших к новой присяге и взять ясак. Сами они там торговали, узнавали про новые промысловые земли и вернулись с прибылью. Когда вновь собралась вся бывшая ватага в летнике, они рассказывали о пушных богатствах Енисеи, сами же с печальными лицами слушали вести с родины, выведанные холмогорцами на тайном торге.
Перед Великой смутой царь Борис обманом закрепостил безземельных бобылей там, где они работали по найму. Нынешний новый царь раздавал своим любимцам и боярам земли с черносошными людьми, и вчерашние вольные крестьяне объявлялись крепостными — как прежде безземельные. Иные не мирились с царским бесчинством: побивали дворян и бояр, пришедших владеть ими. На северных, не разоренных Смутой землях, в Вологде и в окрестностях, были народные бунты и разбои.
Жигимонт, король ляшский, не смирился с отказом на престол сыну Владиславу, с войском подходил к Москве и владел разоренным Смоленском. Пан Лисовский с черкасами грабил волжские города. С ним было много донских, волжских, терских казаков и беглых холопов.
Пригорюнились от таких новостей устюжане и холмогорцы: что доведется услышать через год — одному Господу было ведомо. Не станут ли их загородные деревни поместьями бояр? Новая власть алкала вольностей шляхетских и рабства народного.
Опечалились и Пенда с Третьяком, свесили свои кручинные головы.
— Сколько крови христианской пролили — и все зря! — взглянули друг на друга с горючей тоской в глазах. — Видно, по грехам, отказано русскому народу в добром царе и в заботливых боярах.
— Вам-то, казакам, что за печаль? — злобно вмешался в их тихий разговор устюжанин Нехорошко. — Великий Дон царь унижать боится… Пока. Это к нам беда подступает, на горло ступить целится: от Великого Устюга до Вологды — рукой подать.
— А там и Холмогоры недалече, — всхлипнул Тугарин, крестясь на образок в красном углу. — Суди, Господи, и рассуди распрю нашу: от бояр велеречивых избавь и помоги, Господи, как помог ты в древности Моисею победить Амалика, а Ярославу — окаянного Святополка.
— Всю надежду на Бога и Пречистую Богородицу возлагаем и великого чудотворца Николу на помощь призываем, — поднялись на молитву устюжане с холмогорцами.
По слухам выходило, что царской волей да попущением Господним Великий Дон пока своих вольностей не терял. Но отчего-то иначе, чем прежде, стал вспоминаться Пантелею его враг и злыдень, удалой атаман Ивашка Заруцкий, севший на кол под Астраханью. Прежде казалось — за гулящую бабу-царицу, при которой выслужил боярский чин, а тут подумалось, вдруг, не за ее ли сына — народного казацкого царя, с копья вскормленного?
— На Дону жить — воевать! — словно угадав его мысли, проговорил Третьяк. — А чтобы воевать, надо знать — за что? Казак не тать, чтобы проливать кровь ради брюха.
Попечалившись каждый о своем, купцы сказали то, что у всех было на уме:
— Барышей, о которых помышляли, мы не получили, а потому год-другой промышлять придется. Надо искать кормовые места, где допрежь промышленных людей не было: перебираться с припасом в Туруханское зимовье, а оттуда на вольную Енисею.
Вернувшись на коч, где жил с Маланьей, Пантелей сказал ей о решении схода. Новость эта не сильно смутила полюбовную девицу, она, конечно, всхлипнула, припала к его груди, потом отстранилась, с глазами, полными тоски, спросила жалостливо:
— В служилые не пойдешь? А то зажили бы своим домом. Я была бы тебе хорошей женой. Детей родила бы. — Снова припала к нему, подвывая: — Уж молюсь и молюсь нынче, грешная, Петру и Павлу, чтобы спасли от зачатия.
— Брюхата, что ли? — беспокойно буркнул Пантелей.
— Нет! — отвернулась, смахивая слезы. — Помогают святые апостолы. Прости, Господи! Не судьба, видать, — прерывисто вздохнула всей грудью, глубоко и безнадежно. — Видно, так уж мне силой небесной положено, так по роду завязано… Другому быть мне мужем, тебе лишь полюбовником.
Когда утихали страсти и отпускало буйство плоти, на ум казаку приходили тоскливые помыслы о государевом жалованье, о службе нынешнему воеводе. От того муторно и безрадостно становилось на душе. Все не мог представить себе родовой вольный казак, как он, не старый еще, не увечный, не выслужив Господу воинского подвига, заживет домом и семьей? Живые и убитые ровесники, узнав, посмеются, ангел-хранитель плюнет в глаза и отвернется.
— Никак нельзя мне остаться! — забормотал, оправдываясь и жалея Маланью. — Перед Господом своего не выслужил!
Понимала и она, что со дня на день названый муженек все равно уйдет на дальние промыслы, а оставить ей содержание ему не по силам. Уж тем, что выкупил у купца, — изрядно удивил. Ни плакала, ни корила, прильнула щекой к его груди, запела тихонечко:
А заговариваю я, раба божья Маланья, полюбовного своего молодца, раба Божья Пантелемония, о сбережении в пути-дороженьке: крепко-накрепко, на весь его век, на всю его жизнь. А кто мое слово превозможет, заговор да мой расторгнет. Кто из злых людей его обзорочит и обпризорочит, Околдует, очарует да испортит, у них бы изо лба глаза в затылок выворотило. А моему полюбовному молодцу Пантелемонию — путь-дороженька да доброе здоровьице на разлуке моей.— Ты меня и присушить можешь? — насмешливо спросил Пантелей. — Буду возле твоего подола псом крутиться, ни на шаг не отойду или в пути стану сохнуть.
Прислушиваясь к стуку сердца в его груди, она вздохнула в ответ:
— Насильно мил не будешь. Чем такой заговор обернется — один Господь знает… Да этот еще… Не к ночи будь помянут.
У Пантелея учащенно забилось сердце, будто пойман был на непристойном. Он повернулся на бок — так, что ее голова соскользнула ему на руку, взглянул в полуприкрытые глаза, пытаясь понять, не читает ли она мыслей. Втайне он чувствовал, что устает от такой жизни, иногда даже начинал раздражаться, как конь со съехавшей переметной сумой. Жаль было добрую, ласковую девку. С такой женой иной пахотный или служилый был бы счастливым всю жизнь. Но остаться ради нее в городе — все равно что предать всю прежнюю жизнь, отца и дедов. Можно ли не пойти, когда призывает Господь?
Не отвернулась она от него, вымещая невысказанную обиду, была ласкова и шаловлива, чем окончательно сбила с толку бывалого казака.
На другой день, едва ударили к обедне, к пристани прибежал Угрюмка, постучал в борт коча наборным каблуком нового сапога. Когда из жилухи высунулся Пантелей, сказал, что после обедни воевода с атаманским сыном зовут ватажных для беседы и разговора.
«Зовут так зовут!» — кивнул казак. Но Угрюмка не уходил, поторапливая, дескать, разговор важный, их уже ждут. Пантелей перетянулся кушаком, повесил саблю, заломил на ухо колпак и пошел за посыльным.
В съезжей избе сидели Бажен Попов, Никифор Москвитин да атаманский сын Ивашка Галкин, подросший и возмужавший за зиму. Вскоре вошел таможенный целовальник, встал сбоку от кресла, застеленного медвежьей шкурой. Показался воевода, одетый в летнюю шубу, шитую золотой нитью, в соболью шапку, в сафьяновые сапоги. Под руки его поддерживали два сына боярских в малиновых стрелецких кафтанах. За ними, расправляя огромной пятерней бороду, следовал дородный троицкий поп в суконной рясе и скуфье.
Как принято на Руси со времен стародавних, все ожидавшие воеводу поднялись, откланялись священнику и ему. Поп благословил собравшихся Честным Крестом, зычно прокашлялся и сотворил молитву, перед началом всякого дела читаемую.
Отдав поясные поклоны Отцу, Сыну и Святому Духу, нераздельной Святой Троице и Пречистой Богородице, воевода сел под образами в красном углу. Приглашенные расселись по чину на лавки вдоль стен: одни справа, другие слева. От сынов боярских воевода принял в одну руку саблю, в другую ларец с печатью и, важно хмуря бровь, начал речь:
— А позвал я вас, люди торговые да промышленные, не для веселья и не для назиданий, но для совета по государевому делу. Знаю, что и вы корысти не чужды: меня, воеводу, с целовальником и с государевыми людьми обманываете — рухлядь и товары от десятины утаиваете, но ваша ватага да купцы ваши не так бесчестны, как другие.
Слышал, что собираетесь промышлять в Енисее, оставив здешние кормовые места. От тех енисейских да туруханских людишек у меня, у воеводы, бывает, и голова болит. Не первый год промышляет на устье реки Тунгуски ватага промышленного человека Семена Горохова. И, сказывают, торг ведут тамошние люди с тунгусами так: сядут у частокола по разные стороны и бросают — одни рухлядь, другие товар. А народы там кочевые, и мне, с моими людьми, не понять — где какой род ходит, сколько в них мужиков и кто — лучшие люди.
Туруханские сидельцы[55] доносили, что ловят в аманаты мужиков в богатых шубах, а за них никто выкуп не дает. Бывает, возьмут старика в драной парке — за него несколько родов ясак вносят. Нет в том краю закона, а войско содержать там казне накладно.
Вот бы вам, с гороховской ватагой соединясь или соседствуя, вести промыслы дальние, где допрежь никто из людей православных не был. И вызнать бы вам, и донести мне, воеводе, где какой род кочует, и какому племени принадлежит, и кто у них исправные лучшие люди. Вызнать бы вам, какой товар тамошним народам надобен и как с ним торговать прибыльно.
И будет вам, купцам и промышленным, за помощь в государевом деле от меня всякая милость, как была и прежде, — воевода обвел взглядом сидящих по левую руку, давая понять, что не забывал о помощи при осаде города. Затем остановил взгляд на купцах Москвитине и Попове. Те потупили взоры, склоняя головы перед многими воеводскими милостями и снисхождением в их делах.
По приказу воеводы сын боярский привел в съезжую избу тунгусского князца в холщовой рубахе и замшевых штанах, заправленных в ичиги. Его блестящие черные волосы были расчесаны на пробор и лежали на плечах, свисая на спину. Черные глаза смотрели пристально. По виду аманата понятно было, что он привык повелевать людьми, а не подчиняться.
Следом за князцом вошел толмач из крещеных остяков, в лисьей шубейке, накинутой поверх бухарского халата. Волосы его были стрижены в кружок и непокорно топорщились из-под песцовой шапки. На гладком лице, по уголкам рта и на подбородке, чернели пучки волос, глаза воровато бегали по сторонам.
Он снял шапку, перекрестился, поклонившись на образа как-то не по-русски: вихляясь и кособочась, будто скоморошничал. Короткие и жесткие волосы на непокрытой голове ощетинились, поднявшись дыбом.
Длинноволосый аманат с любопытством оглядел ватажных. Его заинтересовали купцы и складники в кафтанах с высокими воротами и длинными, собранными в складки рукавами. Он насмешливо разглядывал их холеные бороды и одеяния.
— Прислали из Туруханского зимовья аманата, — кивнул на тунгуса воевода. — Тамошнее имя ему — Илтик. Доха на нем была соболья. И по виду, и по одежде — из лучших людей, а сородичи выкуп не везли. Отчего? Никто понять не может.
Сказав так купцам и промышленным, воевода обратился к тунгусу через толмача. Илтик залопотал без страха и с ленцой в голосе. Видно, в который уж раз говорил о том, какого он рода и где кочует. Толмач, сбиваясь, мыча и мотая головой, стал переводить названия незнакомых рек и озер.
Едва зашел разговор о верховьях Нижней Тунгуски, Илтик оживился, глаза его мстительно заблестели. Он стал говорить, что слышал от сородичей из других родов, что дальше к восходу есть большая река и живут на ней сильные народы, побившие когда-то тунгусов и расселившиеся на их землях. У тех народов будто мохнатые лица. А еще по той реке ходят большие лодки с колоколами, как на здешних церквях, и с пушками, как на городских стенах.
На этот раз словам тунгуса Илтика удивился и сам воевода. У Пантелея Пенды от услышанного зазудился шрам под бородой и чаще забилось сердце в груди.
Ласково поговорив с князцом, одарив его сукном и бисером, воевода отпустил аманата в сопровождении сына боярского. Сам же продолжил разговор с ватажными:
— Ведомо мне стало, что живут по Тунгуске-реке народы кочевые, сильные, немирные. Семен Горохов выше устья подниматься боится. Сказывают, его людей тунгусы то и дело побивают да втягивают в свои распри и войны. Другие, туруханские послухи[56], доносят, что гороховские люди государевым именем берут на себя ясак и оттого будто тамошние народы нам платить отказываются.
Пошлю я с вами в Туруханское зимовье приказного с двумя казаками на смену тамошним служилым. А больше послать некого. В устье Тунгуски-реки, если будет польза, соединитесь с гороховской ватагой. А нет — так промышляйте рядом и смотрите строго, чтобы от царского имени никто ясак и поминки не брал. И сами опасайтесь моего гнева. А служилым людям прямите и помогайте. За то вам будут от меня милость и всякие послабления.
Закончив наставления, воевода пригласил гостей к столу. Помолившись, все расселись по чину. Дородный троицкий поп сел по правую руку от воеводы и даже на лавке возвышался над всеми, как иной стоявший.
Когда наполнили братину вином, он повздыхал, зная свою греховную слабость, и, винясь перед гостями, некогда снимавшими его с купола, стал рассказывать притчу, как оправдался пьяница перед Господом и святыми его апостолами тем, что первую чашу всегда пил во славу Божью, а подняв братину[57], напомнил о ветхозаветном пророке Илье, взятом на небо живым и о рукоположенном им верном пророке Елисее, который теперь покровительствует Енисее-стране.
— Так бы и вам, промышленным, быть верными своему мангазейскому воеводе, во всем ему прямить и своей корысти от него не иметь, — закончил священник и вложил братину в воеводские руки.
Угостив собравшихся, воевода отпустил всех с миром, при себе же велел остаться Пантелею Пенде и Третьяку, которые в съезжей избе сидели молча, запоминая все сказанное, а слушая троицкого попа, с волненьем думали о своей доле в Енисее-стране, куда отправлялись милостью Божьей.
Оставшись с казаками при целовальнике, попе и сыне боярском, воевода стал говорить им:
— Давно присматриваюсь к вам и от купцов слышал много хорошего: руки золотые, головы светлые, в трудный час можете взять на себя бремя власти… Шли бы служить мне на жалованье конных казаков. И отправились бы на Тунгуску-реку с той же ватагой, но не покрученниками, а служилыми. А за службы государь вас наградит и от меня будете в милости.
Тебя еще осенью приметил, — взглянул на Третьяка. — Несмотря на молодые годы, в науке воинской изрядные познания имеешь и многих старых здешних воинов в том превосходишь.
На миг лишь задумался Пантелей, борясь с соблазном. Третьяк же ответил воеводе звонким голосом:
— Спасибо за честь, князь! Во все времена с прилежанием молился я Богу, еще в юности имея желание об ангельском образе иноческом, но не сподобился из-за грехов.
Он с надеждой взглянул на троицкого попа, и тот добродушно поддержал его, пророкотав:
— Не печалься, казак. Милостивый Бог жизни наши строит, он не оставит в унижении!
Пантелей, как всегда, не властвуя над своим языком, сдерзил:
— Царями я уж был обласкан! Нынешнему прямил под Москвой верой и правдой. Город на саблю брал у тех самых ляхов и бояр, что сейчас при нем первые люди… А после с драной спиной еле ноги унес от его милости.
Нахмурил воевода брови, грозно сверкнул глазами. Целовальник с сыном боярским посмурнели. Не с добром качнул головой дородный троицкий поп. Не было сказано про царя дурного слова, но и сказанное было нехорошо.
— Служить надо праведно — и будут милости, — насупясь, сказал воевода.
— Я всем служил на совесть! — пожал плечами Пантелей. — Видать, судьба такая…
Не стал больше говорить с ним воевода и, показывая свою немилость, отпустил без благословения.
Маланья, завидев сборы, ни о чем Пантелея не спрашивала, и только когда он обмолвился, что на другой день уходит, — не вскрикнула, не ойкнула, как принято от века, даже не спросила, где ей искать кров на следующую ночь.
— Придется идти в город! — вздохнула, что-то напевая. Стала рассуждать вслух, будто спрашивала совета: — Целовальник звал стряпухой. У него дом теплый, но жена злющая и здоровенная. Задирать будет. Приказчик с дикаркой живет, тоже звал, но он часто пьян. Бить будет.
Зная мангазейские нравы, они понимали, что услужение и стряпня в сытом теплом доме — это не только работа. Пантелею вспоминался летний вечер, белые ночи, Маланьины глаза и ласки. Он обнимал ее с благодарностью, отдал рубль, взятый задатком под будущий пай, больше ничем помочь не мог.
— Хочешь, заговорю на удачные промыслы, на поход, на путь-дороженьку, от ножа булатного, от пуль свинцовых, медных, каменных, от пищали и стрел?
— Заговори!
— А хочешь, заговорю от полюбовной тоски?.. И от остуды? Чтобы только меня помнил?
Пантелей задумался, и Маланья тряхнула головой:
— Нет! Это плохой заговор. В нем с чертищем сговариваться надо, плевать на землю или кровью клясться. Такой сговор добром не кончается. Иди уж так. Вспомнишь — спаси Бог, не вспомнишь — кто тебе судья? Я была счастлива с тобой — ангела тебе доброго!
И она тихонечко запела, отвечая на его ласки. А утром поднялась на заре, проводила в дальний путь до ступенек на взвоз. Обнял ее Пантелей — и двумя колотыми ранами припечатались к нему ее глаза с болью и тоской.
Цены на хлеб в Туруханском зимовье, бывало, разнились с мангазейскими в полтора раза. Купцы загрузились им чуть не вдвое против нужного, и ватага пошла на Енисейский волок. Своеуженники ругали тундровые болота, гнус, свою лихую долю, всегда сырую обутку. Покрученники костерили купцов.
Среди них шел и отчаянней всех ругался Табанька. К середине лета он обносился и оголодал. Другие ватаги на промыслы его не приняли. Устюжане же с холмогорцами пожурили за прошлые грехи, за леность, но, зная Табаньку как облупленного, взяли простым покрученником. Гулящий человек перед новой зимовкой и тому был рад: поклонился на четыре стороны собравшимся и обещал радеть за дела.
Ватажный сход без спора и ругани избрал Пантелея Пенду передовщиком. Купцы дали ему полную ужину в промысле. Угрюмка все лето работал у купцов и сумел сберечь заработанные деньги. Теперь он шел на промыслы не только в новом зипуне, но и полуженником.
Третьяк был в покруте, но это его ничуть не печалило. В Мангазее он пел на клиросе, жил при посадской церкви и учился у звонаря бить в колокола. Слегка оглохший, теперь беззаботно шел в Енисею и ждал отдыха у Николы Чудотворца — возле церкви, при Туруханском зимовье. О той церкви и чудотворной иконе в ней среди промышленных ходили добрые слухи.
Под раскисшими бахилами чавкала и хлюпала болотная жижа. Стоило ступить на пышный мох, ноги тонули в нем — и выступала вода: ни присесть, ни обсушиться. Если не гудели комары, то темным, бесшумным облаком идущих облепляла мошка. Хрипели люди. Волочили один струг, возвращались за другим. Двум десяткам промышленных не по силам было переволочь в Турухан всю поклажу на пяти стругах. Купцы-пайщики наняли самоедов с оленями. И те гужом[58] помогали тянуть обоз по топкому болотистому ручью и долгому сухому волоку.
На Турухане-реке, текущей к полудню, гнуса было не меньше. Одежда промышленных заскорузла, они злобно чесались, но впереди было великое облегчение: дальнейший путь предстоял сплавом.
У истоков Турухана купцы отпустили самоедов, положившись на Божью волю. На сухом месте устроили табор и баню-потельню. Промышленные люди помылись, постирали одежду, и гнус набросился на них, чистых, с такой яростью, что невозможно было отойти от дымокуров. Отдых и тот стал в тягость: на ходу терпеть комаров и мошку было легче.
Наконец-то струги закачались на долгожданной реке и пошли сперва на полдень, потом вместе с руслом повернули встреч солнца. Приходилось и на весла налегать, и шестами проталкиваться, или, сходя в воду, протаскивать суда по перекатам, но по сравнению с сухим волоком это был отдых.
Табаньку Пантелей взял в свой ертаульный струг и спуску ему не давал, заставляя работать наравне с другими. Тот покорно греб и тянул шлею. Не смея ругать самого передовщика, все рассказывал, как путние сибирцы, у которых умишко есть, продают жен в кортому[59]за десять, а хорошую-то бабу и за двадцать рублей. Это же полный завод справить можно и уйти на промыслы своеуженником.
Все понимали, чье скудоумие не дает Табаньке покоя. Понимал и Пантелей, отчего промышленный, чья венчанная жена открыто сожительствует со служилым, все охает и вздыхает, рассуждая про сибирских баб. Догадок своих он не высказывал, только погонял ленивого мангазейца, а тот в отместку все рассуждал о прелюбодеянии, которым все бабы погрешают, едва муж за порог, да о страсти блудной: только одни грешат за свой счет, другие — за мужнин. И раз уж так им Бог попускает — хоть бы выгоду приносили.
На первый, медовый Спас рядом со стругом поплыли распластавшиеся на воде желтые листья, подступала осень. И шли ватажные люди водой до середины августа, до Авдотьи-сеногнойки, а на другой день увидели на протоке часовню Николы Чудотворца с желтым крестом на куполе. Вскоре показалось Туруханское зимовье в четыре избы, срубленные вокруг церкви и обнесенные частоколом. Острожек был окружен землянками и шалашами, возле которых дымили костры и дымокуры.
Струги причалили к берегу, не заходя в протоку, по которой можно было подойти к зимовью. Люди вышли на сушу и стали истово молиться, радуясь близкому отдыху. Приказчик, шедший с ними из Мангазеи, и купцы отправились в зимовье к тамошним служилым. Ватажные стали обустраивать табор на берегу Турухана. Гостеприимство в здешних перенаселенных избах обходилось дорого. Лес поблизости был вырублен, и все же за дровами приходилось ходить не так далеко, как живущим под стенами зимовья…
Не дожидаясь, когда прибывшие поставят табор, к ним вышли трое промышленных. Их лица были закрыты черными конскими сетками, руки смазаны дегтем.
— Вологодские, пустозерские есть? — спросил старший по виду. Гости присели, стали ждать, когда ватага устроится.
Разгорелись костры. Промышленные стали готовить еду. Гости придвинулись ближе к огню, пожелав всем мира и Божьей помощи, подняли конские сетки с лиц. Двое из них были молоды, лет по двадцати пяти. Третий, кряжистый и заматеревший бородач с проседью, посматривал на прибывших высокомерно, то и дело щурился, чтобы скрыть насмешку. Он без расспросов догадывался, когда кто ушел с Руси и сколько времени промышляет.
По одежде туруханцев не понять было, какого они роду-племени и откуда явились в Сибирь. Все были в кожаных штанах, в коротких замшевых рубахах с глухим воротом. На молодых — беличьи шапки, отороченные горностаем. На старшем — шапка из лоскутов серого недоброго соболя. Он назвался вологодцем, ушедшим в Сибирь еще при невинно убиенном царе Федоре Борисовиче[60]. Служил в Березове-городе, ремесленничал в Мангазее, много лет был на вольных промыслах. Молодые назвались пустозерскими посадскими детьми, с малолетства они жили в Сибири.
От туруханцев ватажные узнали, что у Николы Чудотворца остаются на зиму только две ватаги. Они промышляют здесь по левому берегу Ивандезеи[61], вверх и вниз по течению, и по Турухану. А зимы здесь хуже, чем в Мангазее. Задует пурга — от дома не отойти даже на десять шагов: мгла становится такая, что обратного пути без веревки не найти. Много дурашливых новиков замерзает в непогодь.
В зимовье же нынче человек до трехсот: одни приходят, другие уходят. В избах спят вповалку — ступить негде. Кто не терпит храпа и вони — живут за частоколом в землянках, балаганах и под стругами.
— Здешние казаки построили торговые бани и со всех проходящих берут плату, — с обидой проворчал молодой пустозерец. — А при банях пивной брагой торгуют. Нет бы пива наварить да медом подсластить. Они рожь да ячмень на солод пускают да овсяную бражку ставят. Старое допивают — иное на дрожжи наливают. А кому платить нечем — тех с похмелья поправляют черенками от метел да вымогают немощных и больных работать даром. — Он шмыгнул носом, сипевшим от едкого дыма, и умолк, не заметив понимания в лицах ватаги.
— Не пей! Кто заставляет! — насмешливо взглянул на пустозерца вологжанин. Тот в ответ метнул обидчивый взгляд, опустил глаза и засопел.
Бывалые люди быстро сходятся и легко понимают один другого даже без слов. Сивобородый вологжанин и передовщик Пантелей Пенда обменялись мимолетными взглядами и больше, кажется, не смотрели друг на друга, словом не перекинулись, но подмечали один у другого всякую тень в лицах, всякую заминку и волнение в голосе.
— Одна ватага вчера ушла на Курейку-приток, — продолжил сивобородый. — Другая со дня на день уйдет к зимовью на Хантейке, что построили казаки лет пять тому назад. А еще большая ватага — до двадцати промышленных — уходит к устью Ивандезеи искать новые промысловые места, где допрежь никто не был… Здесь, в зимовье, на подсобных работах кормятся до полусотни гулящих. Иные из пропившихся за прокорм готовы идти на край света, да никто не берет. У них при себе добра — портки, ложка да плошка.
— Ничо, монастырские не дадут с голоду помереть! — сказал все тот же молодой любитель дармового пива, не поднимая разобиженных глаз и скрытно продолжая давний разговор с вологжанином. Ровесник его, хоть и был одет не лучше дружка, все молчал, слушая внимательно, да поглядывал на говоривших настороженными, коварно-молчаливыми глазами.
— Здесь и монастырь есть? — оживился Третьяк, придвигаясь к гостям.
— Монастырь не монастырь, но скит на другом берегу, на устье Тунгуски есть. Еще до зимовья был поставлен, — обстоятельно ответил вологжанин, разглаживая пятерней кудлатую бороду. — Сперва прибыли два монаха, огородничали, рыбачили. Теперь при них, бывает, зимуют гулящие — до десятка и больше. Иные по хозяйству управляются, другие промышляют за прокорм. Скит расстраивается и богатеет год от года.
Про ватагу, идущую вниз по реке для поиска новых промысловых мест, устюжане с холмогорцами слышали еще в Мангазее. В той стороне соболь добрый, а народ мирный и кочует малыми семьями. Здешние же, туруханские тунгусы — вздорные, злобные и воинственные. Некоторые ватажные складники тоже подумывали отправиться в ту сторону. Оттуда можно было вернуться с большим богатством или просидеть всю зиму во льдах и не увидеть даже вороны. Это как Бог даст.
На Тунгуске же реке, по слухам, соболь непуганый, а народишка — немирный. Отбиться от него можно только при сильной ватажке. По слухам, некоторые тамошние роды, меж собой ссорясь, не раз уже шертовали[62] русскому царю через промышленных.
Неторопливо попивая квас, гости осторожно выспрашивали, куда следует ватага, где прежде промышляла. Шила в мешке не утаишь, и устюжане с холмогорцами отвечали, что идут по наказу мангазейского воеводы на Тунгуску-реку. Передовщик, Пантелей Пенда, помалкивал, сидя у костра в казачьем колпаке, то и дело ловил на себе настороженные взгляды туруханцев. Угрюмка с Третьяком были в суконных малахаях: Угрюмка не считал себя казаком, да и не был им, а Третьяк вышел из казацкого круга так же легко, как и вошел в него: сирота и перекати-поле, он уже и по виду походил на бывалых промышленных.
Услышав, что ватага идет на Тунгуску, пустозерские молодцы еще раз настороженно зыркнули на казака, злобно хмыкнули. Недобрая усмешка мелькнула в бороде вологжанина. Глаза его сузились, обметавшись паутинками морщин.
— На устье Сенька Горохов с ватагой. Он с тамошними родами куначит, а все равно выше устья подняться не может и вас в свои кормовые места не пустит! — сказал холодно и язвительно.
К табору вернулись купцы, лица их были румяны, бороды влажны. Прислушиваясь к разговорам, они присели у костра, с удовольствием попили квасу.
— Не своей волей — воеводской, — ласково взглянул на гостей Бажен, равнодушно пожал плечами и повернулся к передовщику. — По его наказу, если понадобится, соединимся с гороховскими или дальше пойдем.
— Пробовала одна тобольская ватажка уйти дальше — два года ни слуху ни духу, — со скрытой угрозой усмехнулся пустозерец, тот, что жаловался на казаков.
А бородач-вологжанин добавил:
— Кто говорит, что их тунгусы порешили, кто на гороховских промышленных думает. А куда делись? Един Господь Бог и Спас наш Вседержитель ведает. — Размашисто перекрестился, наклоняясь к огню.
Гости вдруг смутились и замолчали, понимая, что дали лишнюю волю чувствам. Ватажные тоже молчали, глядя на пламя костра. Возле него, при нестерпимом зное, отставали гудящие тучи комаров, кружившие над головами, они сгорали и оседали поверх варева в котлах.
— Нас не десяток, — будто не заметив угроз, обронил Никифор, до этого водивший большими ушами, торчавшими из-под кашника. Глаза его блеснули ледышками: — Отобьемся, даст Бог!
— Отобьемся! — жестко поддакнул Пантелей. И по тону его все поняли — пора заканчивать смутный разговор.
— Ступайте-ка в баню. Все оплачено и оговорено. Ждут вас! — весело предложил Бажен и посмеялся в бороду: — Завтра великий праздник. Чтоб к литургии все были чисты и трезвы.
Разговор с гостями был закончен. Обозная молодежь с нетерпением ждала, когда можно будет и им о чем-то спросить. Ватажные загалдели, стали подниматься с мест. Федотка Попов вскрикнул, обращаясь к гостям, пока те не ушли:
— А есть ли на Тунгуске гора с неугасающим огнем?
Пустозерцы вскинули на него удивленные глаза. Тот, что молчал, подернул плечами и ответил сиплым, надорванным голосом:
— Разве где в верховьях!
— Сам-то бывал на Тунгуске? — тут же спросил его Никифор, вкрадчиво улыбаясь и пристально глядя в глаза обронившему нечаянное слово. Все промышленные обернулись к гостям, ожидая ответа. Пустозерец смутился, понимая, что сказал лишнее, пробормотал, что много где приходилось бывать: и на Хантейке, и у Горохова, но больше слышал от бывальцев.
Торговыми банями на Турухане называли две землянки, в которые больше чем втроем не влезть. Топились они по-черному. Служилые годовальщики брали плату со всех желавших попариться, и была она немалой. За пивную брагу тоже заламывали цену выше мангазейской.
Ватажные в очередь парились, плескались в ручье, другие сидели под дверьми, ожидая захода. Недовольные ворчали:
— У нас в зимовье, на Тазе, баня была лучше.
Гулящий в ичигах, суконной шапке и кафтане с короткими рукавами таскал воду из реки. Раз и два он прошел мимо донцов, взглянув на Пантелея приветливо и пристально. Потом поставил на землю березовые ведра, поклонился. Передовщик ответил на поклон улыбчивого работника. Гулящий спросил вдруг:
— Не служил ли царевичу под Калугой, казак?
— Я под Калугой многим служил, — ответил донец, вглядываясь в незнакомое лицо.
— При царе Борисе? Тогда еще царевичу Дмитрию?
— И ему служил! — неохотно сказал Пантелей.
— А Вахромейку Свиста из беглых боевых холопов не помнишь? — улыбнулся гулящий, блеснув невинными глазами.
Много всего, что было в тот год, хотелось забыть, да не забывалось, но ни имени, ни лица говорившего Пантелей не помнил.
— Мы от ярославского дворянина Кривого к царскому сыну на службы бежали. Ваши нас встретили под городом и донага раздели… Чуть не заморозили до смерти. А ты мне ветхий тулупишко дал. Не помнишь? — приветливая улыбка ничуть не покривилась от воспоминаний о былых обидах, будто разговор шел о веселых шалостях юности.
Заметив, как помрачнел донец, работный и вовсе рассмеялся, не скрывая своих младенчески ясных и нагловатых глаз, будто считал казака уже вполне обманутым простаком:
— Не убили под горячую руку, спаси, Господи, а после и пожитки вернули! — проговорил торопливо, как бы оправдываясь за беспричинный смех.
Пантелей с мрачным видом пожал плечами.
— Какой станицы казаки грабили? — переспросил неприязненно. — Может, чего путаешь… Под Калугой донских много было.
— А не помню! — смешливо и беззаботно тряхнул головой гулящий, подхватив за дужки ведра.
Тут и баня освободилась. Отдуваясь, из нее вышли красные и распаренные Шелковниковы. Семейка скакал на одной ноге, запутавшись в гаче. Пантелей с Третьяком и Угрюмкой стали раздеваться.
Парился передовщик долго, несколько раз окунался в студеную реку. И всякий раз, выскочив из бани, встречался глазами с Вахромейкой Свистом. Тот будто поджидал его и все кивал, как близкому, все над чем-то посмеивался. Напарившись, Пантелей спросил квасу. Вахромейка принес корчажку, присел рядом, сказал, что у здешних казаков есть пивная брага по деньге за кружку.
— Неси! — приказал Пенда и дал ему денежку.
Тот принес полную кружку и достал из-за пазухи свою чарку из березового капа. Пантелей разлил на четверых. Угрюмка бросал на гулящего опасливые и ревнивые взгляды. Третьяк пробормотал молитву. Все четверо, перекрестившись, перекрестили чарки, выпили.
— Сказывают, ты — передовщик, ведешь ватагу на Тунгуску? — заговорил словоохотливый Вахромейка. — Возьми меня полуженником? Я мало-мало с тунгусами говорю. Хорошего толмача меньше чем за полную ужину нынче не найти. — Он глядел на передовщика так вкрадчиво улыбаясь, что тому стало неловко.
— Я не пайщик, — отвечал. Угрюмка же с Третьяком помалкивали. — Кого брать, кого не брать — решают складники… А ты давно в Сибири?
— А как Степка Кривой царевичу в Москве крест целовал и тот простил его прежние вины, так я бежал. Кривой меня бы умучил, — его взгляд в рассеянности соскользнул с передовщика.
— Это ж когда было? — удивился Пантелей, внимательней приглядываясь к гулящему. Тот был услужлив, пил брагу без жадности, даже нехотя, больше подливал им, желая легкого пара и здоровья. Былым грехом не корил.
— Давно! — согласился Вахромейка. — Я в Енисее уже пять лет.
В отличие от здешних хвастливых и говорливых голодранцев, о своей сибирской жизни гулящий говорил неохотно.
Ватага отдыхала табором на устье Никольского протока. Промышленные ходили в зимовье, искали земляков, подолгу беседовали со встречными. На таборе стирали одежду, готовились к великому празднику Преображения Господня.
Из зимовья то и дело приходили любопытные или услышавшие о знакомых и земляках. Среди них были устюжане, холмогорцы, вагинцы, имевшие общих знакомых на родине.
Дольше всех пропадали в зимовье купцы. Прибывший с ними приказчик принимал дела у здешних казаков, а они вели переговоры с туруханскими служилыми и гулящими людьми. Их дело барышное — на Тунгуску-реку сами купцы не шли, собираясь вести дела здесь и в Мангазее.
Они вернулись на табор к вечеру и собрали сход. В костер были брошены сырые ветви лиственницы и мох. Над темным, багровым пламенем тучей поднялся густой дым, отогнавший мошку. Сбившись к огню, вытирая слезы, сопя носами, ватага думала и решала, как жить дальше, слушала неторопливые рассуждения купцов-пайщиков. Те предлагали взять десяток покрученников из туруханских гулящих. Среди здешнего люда нашлись четверо, которые были знакомы или известны устюжанам с холмогорцами, и те гулящие согласны были подобрать надежных людей, поручиться за них и отвечать своим промысловым паем.
Иные из ватажных обиженно зароптали.
— Здешним бездельникам в покруте хлеб даром достанется, а мы едва жилы не порвали на Енисейском волоке! — с уязвленным сердцем просипел Нехорошко, задиристо озирая сидевших. Но и он понимал свою выгоду от покрученников.
Жаркого спора не случилось. То, что лучше идти на Тунгуску-реку ватагой в три десятка человек, понимали все: на Турухане подтвердились слухи о здешних тунгусах, которые сильны и дерзки, промышлять на их землях с малыми силами — только Бога искушать. Гороховские люди, по слухам, давно собирались идти к верховьям Тунгуски, но боялись.
Хитроумные купцы надумали до холодов еще раз сходить в Мангазею и доставить на Турухан другой обоз. Возле зимовья силами гулящих людей они хотели поставить свою избу с амбаром. Бажен Попов оставался на Турухане надзирать за строительством, Никифор Москвитин с работными собирался в Мангазею за хлебом и товарами.
Складники и пайщики стали обсуждать, кого из здешних знакомых людей взять в покруту чуничными атаманами. Сошлись на устюжанине и на разорившемся в Сибири архангельском купце, которым доверили подобрать надежных людей.
Передовщик не вмешивался в ватажный разговор, но когда и его попросили сказать слово, предложил взять покрученником Вахромейку Свиста.
— Сказывает, толмачить может!
— Уж подходил, просился, — покачал головой пайщик Никифор. — Темный человечишко — «леший»![63] Сказывают, один пробовал промышлять, ни с кем подолгу не водился, приставал только к малым ватажкам. Но тех, кто с ним промышлял, здесь нет. Служилые ничего про него не знают: ни хорошее, ни плохое. Найдется верный поручник — можно взять.
Решили пайщики и складники принять десять покрученников из здешних гулящих людей, чтобы было их не больше половины староватажных. И пусть они своему поручнику и всей старой ватаге крест целуют на верность, а если случится с ними в пути разлад, то устюжанам, холмогорцам и донцам стоять заодно. А передовщику судить всех по справедливости, не разбирая — свой ли, устюжанин, холмогорец или покрученный. И всех людей одинаково беречь и за выгоды пайщиков и складников радеть.
На медовый Спас ватажные поднялись до рассвета. Но даже после восхода солнца клепало[64] у Николы Чудотворца не призывало честных христиан к молитве. На Преображенье ждали иеромонаха из монастырского Троицкого зимовья. Он обещал служить на антиминсе в здешнем Николе. Складники, молясь и постничая, сокрушались, что не о грехах своих думают перед литургией, а о делах, о том, чтобы просить черного попа принять крестоцелование от покрученников, заверить записи их и ручавшихся за них поручников.
Утренний холодок прибил гнус. На реке лежал туман. Золотя его, поднималось солнце. Издали послышались удары клепала на Николе. Ватажные гурьбой направились к часовне. На таборе остались караульные из молодых устюжан: Ивашка Москвитин с Сенькой Шелковниковым. Проводив близких, они тут же укрылись одеялами, поспешая доспать, пока не отошел гнус.
Когда ватажные подошли к Николе Чудотворцу, вокруг часовни стояло человек до ста. Прибывшим сказали, что лодка из монастырского Троицкого зимовья еще вчера переправилась через реку, доброхоты тянули ее к Никольскому протоку шлеей.
Поджидая монаха, туруханские общинники бойко собирали деньги на просфоры, испеченные в большом количестве, и жертву на храм. Свечи были раскуплены. За столом, устроенном на пне, сидел здешний промышленный из устюжан. Часто обмакивая в берестяной туесок гусиное перо, строчил по мездре беличьих, горностаевых и собольих шкурок записи на молебны за здравие и за упокой.
Когда наконец монах в окружении добровольцев, ходивших встречать его, показался на тропе, все радостно заволновались. Люди, толпившиеся возле часовенки, скинули шапки, стали кланяться. Передовщик здешней туруханской ватаги, перекрестившись, снова забил в клепало.
Малорослый и сухощавый, как юнец, Третьяк в числе первых протиснулся к молодому монаху с пышной русой бородой, в волчьей жилетке поверх кожаной рясы. Отталкиваясь локтями от возмущенных туруханцев, он испросил у него благословения и сказал, что в Мангазее пел на клиросе в Успенской и Троицкой церквях.
Молодой монах, сверкнув ясными глазами, взял его под руку и ввел в часовню. Следом по-хозяйски вошли трое туруханцев, всегда помогавших вести здесь службы. За ними — строители часовни.
Видя так много народу, устюжане с холмогорцами приуныли: с исповедью и причастием литургия могла так затянуться, что для клятв и крестного целования могло не остаться времени.
Но монах, облачась в черную ризу, вышел на крыльцо и объявил, что причащать будет только тех, кто постился. Промышленные возмущенно зароптали, но очередь на исповедь уменьшилась наполовину. Из часовенки донесся распев, и началась служба.
После литургии, причастия и молебна народ стал неспешно расходиться. Иные еще толпились у часовни, чего-то ожидая. Разоблачась, монах вышел на крыльцо в подряснике. К нему со всех сторон стали подступать за благословением. Бажен Попов, грозно пошевеливая кудлатой бородой, раздвигал толпу брюхом и дородными плечами, как таран, пробивался к священнику. За его широкой спиной привольно прошел Никифор Москвитин и еще двое или трое устюжан. Ватажные обступили-таки монаха со всех сторон.
Тот выслушал их, насмешливо поблескивая доверчивыми синими глазами, кивнул. Купцы замахали руками, призывая промышленных и гулящих. На пне, где недавно еще строчил пером промышленный, были положены Святое Евангелие и Честной Крест.
С самого утра Вахромейка назойливо донимал Пантелея, упрашивая поручиться за него, и заронил-таки боль в душу. В уязвленном сердце закровоточила новая печаль, бес стал нашептывать о зле, неумышленно сделанном христианам, подстрекал помочь просящему, хоть и не мог Пантелей вспомнить беглых боевых холопов: мало ли сдирал кафтанов, отбирал еду и пожитки? Все меньше чудилось ему в глубине ясных глаз гулящего скрытое коварство. Хотя, слыхано ли? Пять лет прожил возле Туруханского зимовья в Енисее, а никто ничего о нем не знал. Или не хотел говорить.
Смятение души передовщика не ускользнуло от глаз Вахромейки, и он тенью ходил за ним следом, молча стоял за спиной. Куда тот ни глядел — всюду натыкался на просящие и будто печальные глаза.
Почитав молитвы, напомнив о грехе клятвопреступления, троицкий монах стал принимать клятвы на верность сперва от поручников, затем от тех, за кого они ручались. Вахромейка все пялился на передовщика, и тот решился, замолвил за него слово перед купцами и складниками. На душе казака стало легче, но рука немела, когда, перекрестившись, ставил подпись по мягкой замше чернилами из сажи на рыбном клею.
Ему, передовщику, целовали крест все покрученники и радостный Вахромейка. На том троицкий монах устало всех благословил и отпустил с миром. Бывшие туруханские гулящие, собрав свои нехитрые пожитки, пошли следом за устюжанами и холмогорцами на их табор для братского застолья.
Отдохнув, подкрепившись едой и питьем, к утру все стали собираться в путь. Главный передовщик, Пантелей Пенда, похаживал среди работающих, указывал, кому с кем в лодки садиться и кому за кем плыть. В ертаульном струге он отправил молодых промышленных Ивашку и Семейку с их отцами и чуничным атаманом Лукой Москвитиным. Угрюмку посадил к ним.
Приняв от купцов благословение и отдав им последнее целование, промышленные сели по местам, разобрали весла. Один за другим струги поплыли к устью Турухана. В последнем, замыкающем, сидел сам главный передовщик с Третьяком да с покрученниками. При нем находился и Вахромейка Свист.
День был хмурый, ветреный и холодный. Порывы ветра налетали с восточной стороны, срывали воду с весел и шестов, брызгали в лица гребцов. Черные тяжелые быки неслись по небу, то и дело начинал накапывать дождь.
Старые промышленные, крестясь, говорили, что Бог дает знаки для начала дела хорошие. Когда остался виден один только крест на Николе Чудотворце, промышленные скинули шапки и запели, крестясь: «Отче Никола, моли Бога о нас!»
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник», — громким голосом пропел Третьяк.
— «К чудному заступлению твоему притекаем, — подхватили в стругах. — Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий… Радуйся, преславный в бедах заступник, радуйся, превеликий в напастях защитник…»
Распевая так, ватажные повели свои струги и к полудню добрались до многоводной реки, называемой тунгусами Иоандэзи, которую за крутой, небабий, нрав иные сибирцы величали Енисеем. Среди других шла лодка троицкого монаха, он возвращался в свое зимовье. Примета была не из лучших, зато честь велика.
Многоводная река подхватила выплывшие из устья Турухана суда, закачала их на пологой волне. Но промышленные стали грести к берегу по правому борту своих лодок. Здесь, выше устья, они потянули струги бечевой и шестами против течения.
Доброхоты из особо грешных впряглись в шлею монашеской лодки. Самому же черному попу ватажные не позволили даже отталкиваться шестом.
Другой берег с черной тайгой, жмущейся к воде, был чуть виден в тумане. На середине реки гуляла высокая волна. Надо было подняться так, чтобы при переправе течение снесло струги к устью Тунгуски-реки. Бог миловал. Монашескими молитвами к концу долгого дня все они подошли к дальнему берегу.
Монастырское зимовье виднелось с реки. Четырехугольная часовня была со всех сторон окружена приземистыми избами с глухими стенами. Тесовые ворота смотрели на воду. Вокруг зимовья бугрились несколько ветхих землянок и шалашей. Зато поля и огороды раздольно тянулись по склону берега. На них росли капуста и репа, сохла в скирдах рожь, напоминая устюжанам о родине.
Завздыхали, закрестились люди в стругах. К вечеру небо разъяснилось, на лопастях весело засверкали солнечные лучи и стало видно, как вдоль поля, взявшись за руки, неторопливо возвращаются в зимовье баба с мужиком. Он нес пару вил на плече, придерживая их свободной рукой. Не оборачиваясь к реке, не замечая приставших к берегу, эти двое не могли знать, сколько душ обливалось слезами, сколько глаз любовалось их счастьем. Так они и скрылись за крепкими воротами.
Безродный горожанин, Третьяк глядел на берег с изумленным лицом. Щеки его пламенели, он был в потрясении, будто видел знаменье Божье.
— Кто это? — просипел, скрывая навернувшиеся слезы от сидевшего рядом монаха.
— Наши, монастырские пашенные из промышленных! — ответил тот, бросив радостный взгляд вслед скрывшимся. — Устали маяться в миру, прошлый год пришли, венчались. Живут. Баба уж брюхата, слава Богу.
* * *
Гороховское зимовье стояло на холме: две избы с нагороднями, баня и лабаз обнесены сырым, не ошкуренным частоколом. Ни монахи, ни монастырские работные ничего плохого о соседях не говорили, но от разговора о них уклонялись, и только тамошний иеродьякон в латаной-перелатаной рясе, провожая ватагу, обронил:
— Мы — вечные! Они — перекати-поле. Трудно нам соседиться.
Вокруг зимовья лес был вырублен. Мох, который в здешнем лесу растет вместо травы, у реки был взрыт и вытоптан. Над саженной высоты крытыми тесовыми воротами возвышался черный крест в полтора аршина. На створках ворот также было по кресту.
Бурлаки подтянули к берегу все пять стругов, ввели их в удобную заводь, углубленную и укрепленную венцовой крепью. Ватажные стали креститься и кланяться на кресты зимовья, всем своим видом показывая приязнь к гороховским промышленным. Наметанный глаз мимоходом отмечал, что строилось зимовье в расчете на год-другой, а стоит лет пять или больше. Частокол кое-где покосился, вокруг него кучи отслоившейся коры, которая уже затягивалась мхом.
Над одной из изб курился дымок. Он стелился по берегу, призывая хмарь и дождь, дразня и прельщая путников отдыхом. На нагороднях никто не показывался, ворота оставались закрытыми, будто прибывших не замечали.
Ватажные, тянувшие бечевой струги вдоль берега, были мокры. Одни раздраженно переминались с ноги на ногу, не желая присаживаться в липких и холодных штанах, другие отжимали одежду, выливали воду из сапог и бахил.
Передовщик встал на корме струга, поправил колпак и по-казацки пронзительно свистнул. В другой раз по его взмаху свистнуло полватаги, да так громко, что в далеком лесу картаво заголосили вороны.
Ворота медленно и неохотно приотворились. В узкий проем протиснулись двое промышленных в замшевых рубахах с коротким подолом и в кожаных штанах, спущенных поверх чуней. У одного из-за кушака торчал черенок топора, у другого за опояску был заткнут семивершковый нож. Оба неспешно подошли к пристани, хмуро обменялись с гостями поклонами.
Вахромейка сидел на корме струга спиной к зимовейщикам, не поднимая конской сетки с лица, и неторопливо стягивал с ног мокрые бахилы.
— Кто нерадиво встречает братьев-христиан, тот государя с воеводой не почитает! — с оскалом в бороде укорил подошедших Пантелей. Глаза же его поблескивали холодными льдинками. — Велел нам воевода с вами дружить. А как пожалуемся? — сказал то ли с угрозой, то ли со смехом.
— У нас один государь — лес дремуч да ведмень — воевода! — хмуро, с шепелявинкой проворчал сутуловатый промышленный с густой бородой и спутанными волосами, рассыпавшимися по плечам. На нем была простая суконная шапка. Длинные жилистые руки несуразно перебирали складки кожаной рубахи.
Другой, моложавый, стриженный в кружок, был в шапке, искусно сшитой из рысьих брюшек. Он водил глазами, хмурил брови, морщил переносицу, будто хотел отпугнуть ватажных взглядом.
— Отчего не встречаете? — раздраженно спросил казак, положив левую руку на рукоять сабли.
— А некому! — хмуро отвечал шепелявый. — Одни за припасом ушли к Николе, другие лося промышляют да рыбу ловят. Мы, немощные, зимовье караулим по наказу, к нехристям не выходим, чужих не впускаем.
В сказанном был намек, чтобы гости на отдых не рассчитывали. Припекало полуденное солнце, лютовала мошка, останавливаться на полудневку никто не собирался, соединяться с гороховской ватагой не думали. И все же, мокрые и злые, промышленные рассерженно загалдели: на Спас добрые люди гостей так не встречают. Передовщик покраснел от досады, но лишь снисходительно рассмеялся: дюжина гороховских промышленных против трех десятков удальцов только и могла что огрызаться.
— Зря Бога гневите! — сказал важно, выдавая себя за служилого. — Мы вам нужней, чем вы нам. А промышлять будем рядом. Не раз еще поклонитесь.
— Волка сколь ни корми — хвостом вилять не будет! — пробурчал в бороду старший. Моложавый спутник еще грозней нахмурился. — Много здесь промышлять ладились.
— А вот об этом мы пришли поговорить не своей, но волей воеводы, пославшего нас и гневающегося. Велел передать, чтобы впредь никто из промышленных людей именем государя ясак не брал. — Пантелей сошел на берег и велел Третьяку налить зимовейщикам по чарке хлебного вина ради яблочного Спаса. Вахромейка, не оборачиваясь, развесил по борту мокрые бахилы и штаны, прикрыл от мошки голые ноги шубным кафтаном.
Зимовейщики чужой посудой скверниться не стали, но от вина не отказались. Сняв с опоясок берестяные чарки, подставили их под флягу, выпили благостно, во славу Божью. Подобрели.
— Велел нам воевода узнать, — куда делась ватага тобольских промышленных, что ушли вверх по Тунгуске три года назад, — стал подступаться к разговору Пантелей.
Угрюмка положил в сырые бахилы новые стельки из сухого мха, натянул отжатые и мокрые штаны. Брести с бечевой плохо — на месте стоять в сырых штанах, отмахиваться в две руки от гнуса и того хуже.
Передовщик же присел на борт струга, указывая гороховским присесть напротив. Те сели, нахлобучив шапки. Старший заговорил, растягивая слова, по ходу обдумывая сказанное. Второй, с помутившимися от хмеля глазами, засопел облупившимся носом.
— Были такие! Мы звали их промышлять одной ватагой, упреждали не ходить к тунгусам при их малолюдстве: в тот год дикие не мирно с нами жили. Тоболяки же хотели воли. И пропали… Наши станы и ухожья по обоим берегам Тунгуски — до второго притока с полуночи. За тем притоком есть взгорок с чудной скалой. На нем, сказывают, тунгусское капище. Не доходя того места — урыкит[65], тунгусский летний табор. В тот год как они уходили, там стоял мирный род. Мы с теми людьми говорили, и они сказывали, что промышленных не убивали, куда те делись — не знали. Дальше пошли, наверное. Тунгусы говорят, до истока реки за год не дойти.
— Сидячие роды здесь есть? — спросил Пантелей, потряхивая флягой.
— Их не понять! — подал голос второй промышленный. Рассеивалась хмельная муть в его взгляде, глаза с жадностью смотрели на флягу. Прежней хмурости в них уже не было, но на лице появлялась горемычная тоска недопития. — Сегодня гарагиры живут, завтра — молчаги или хангаи. Тунгусы подолгу на одном месте не сидят…
— Воевода велел вызнать, где какие роды кочуют и кто в них главные люди. Вы со здешними людишками встречаетесь. Сказывают, торгуете.
— Кунаков уж завели, — насмешливо встрял в разговор Табанька, вытирая сухим мхом мокрые ступни со вздувшимися жилами. — Столь лет на одном месте не промышляют…
Гороховцы настороженно зыркнули в сторону разговорившегося промышленного. Глаза Табаньки с горючей тоской постреливали на флягу. И эту его тоску гороховцы поняли, заговорили теплей. Старший стал обстоятельно рассказывать:
— Прошлый год на устье приходили четверо мужиков тектеева рода, сентеевых — семеро. Двое когойцев возле зимовья ночевали, а за ворота не пошли. Гарагиров было девять мужиков, и лиргилов пятерых наши встречали… Этот год гарагиры опять были на урыките. Вдруг и сейчас там стоят. Один сентей был — оленей потерял. Молчаги — двое были… Гарагиры с молчагами чаще на устье живут. Больше сказать о тунгусах нечего.
— Если их так мало, что же боитесь дальше капища ходить? — допытывался Пантелей.
Снова заговорил промышленный в рысьей шапке:
— Их мало, пока у нас мир. Как не мир — так сотня соберется с большими клееными луками, из-за острожин голов высунуть не дадут.
— Стреляют метко! — хмыкнул в сивую бороду другой и добавил: — Стрелы у них — лося насквозь пробивают, им наши брони не брони. — Он помолчал и продолжил: — У нас с ними уговор — до урыкита промышляем, дальше не ходим. Тут они наши кулемники не портят и самострелов не ставят. Без них им никак нельзя. С осени понаставят этих самострелов — шагу не ступить!
— Станете аманатить — врагов наживете! — прогнусавил второй. — Без тунгуса в тайгу пойдете — под их самострелы попадете… Толмач-то у вас есть?
— Есть и толмач! — браво ответил передовщик и обернулся к Вахромейке, тихонечко сидевшему на корме. И показалось вдруг Пантелею, что у того опустились плечи, опасливо ссутулилась спина от взглядов и внимания. Свист едва обернулся и неохотно кивнул. Зимовейщики же смутились или невольное удивление на миг отразилось в их глазах.
Передовщик все это отметил про себя, но был занят другими мыслями и задал сидельцам коварный вопрос:
— Если договорились о мире, то с кем-то договаривались: с какими-то родами, с их главными мужиками?
Длиннобородый растерялся, но тут же выкрутился:
— Оттого и стоим, что каждый год с поклоном ходим то к одним, то к другим… С кем ни договоришься из гарагиров или молчагов, о том другие роды знают. А все равно: то кулемники забьют, то станы спалят… Всяко бывает.
Как ни исхитрялся Пантелей расспрашивать о родах и местах их кочевий, о главных мужиках, гороховские промышленные отвечали путано. Они и сами не понимали, какие роды с каким племенем связаны и кто в них князцы. По их понятиям, тунгусы жили вольно, не почитая никакой власти, даже богов своих не очень-то уважали, поклоняясь скалам, рекам, причудливым деревьям, им творили требы[66].
0 том, с кем гороховцы в хороших отношениях, они также отвечали уклончиво. Что до воровского ясака, так над обвинениями воеводы смеялись — дескать, сами одаривают тунгусов каждый год, чтобы жить в мире. Вскоре разговор сам собой прекратился. Ватажные, едва подсохшие на неярком осеннем солнце, раздраженно задвигались, собираясь продолжить поход. Комары вились над стругами черной гудящей тучей. Гороховский промышленный, тот, что больше помалкивал и сопел, напомнил сиплым обиженным голосом:
— Пора бы и по второй чарке налить!
— А вторую нальем, когда вы к нам придете! — язвительно посмеялся передовщик. Это была его месть за негостеприимство. — И в бане попарим, и накормим, и спать уложим! У нас все по-людски, по-христиански!
Гороховец в рысьей шапке угрюмо сверкнул глазами и засопел громче прежнего.
Крутые берега реки порой сжимали русло так, что нельзя было пройти возле берега и приходилось проталкиваться против сильного течения шестами. Если река разливалась, вырвавшись из теснин, добрая половина ватаги была мокрой по самую грудь: то прижимы, называемые щеками, обходили по пояс в воде, то нависшую над водой непролазную чащобу. Едва начинало припекать солнце, мошка набрасывалась на идущих, заходило за тучи или за увалы — из сырого леса вылетали комары.
Промышленные привычно ругали бурлацкую долю. Те, что на бечеве, и те, что в стругах, одинаково остервенело отбивались от гнуса. На коротких привалах все злорадно мечтали о морозе, который прибьет всю гудящую, кровососущую рать.
Не прошло и недели, как прежний плес и пережитые труды люди вспоминали добрым словом. Стало еще хуже. Даже передовщик намокал так, что с шапки текло. Самые сварливые из промышленных, Тугарин и Нехорошко с Табанькой, побаиваясь ругать здешнюю страну Енисею, чтобы не накликать худшего, вспоминали сплав по Тазу да по Турухану как милость Божью.
Бывало, и ертаульная молодежь едва держалась на ногах от усталости. Старики же к вечеру брели по холодной воде из последних сил. Но молодежь она и есть молодежь, конопатый юнец Семейка Шелковников вскарабкается бывало на валун, вывалившийся из берега, присвистнет, гикнет и давай плясать.
— Чему радуешься, недоумок? — заворчат бурлаки, едва не до слез огорченные новым препятствием. Но, поглядывая на молодых, лицами посветлеют, вроде и сил прибавится.
Место для табора было самым неподходящим: берег крут, течение сильное, но передовщик приказал становиться на ночлег. Пришлось ватажным разложить костры на косогоре, в ямах от вывернутых корней.
Чуницы стали готовиться к ужину и ночлегу. Вдруг закричали с верховий табора, залязгали топорами и котлами — это к кострам выскочил медведь. Он подошел к огню так близко, что кто-то из туруханских покрученников, как вспоминали после, подпалил его головешкой. Вахромейка Свист, сушившийся у костра, вскочил босой, визгливо закричал по-русски, размахивая руками:
— Что пришел? Иди себе своей дорогой! Тебе же совсем в другую сторону надо!
Чудно, но здешний медведь его понял и послушал, направился к другому костру. Там кто-то вставлял тесак в ствол пищали, кто-то зажигал фитиль, размахивал пылавшей головешкой. Полуголый Табанька, подвывая от страха, не вовремя взялся натягивать мокрые штаны, запутался в них, упал едва не к самым медвежьим лапам и так засрамословил, дрыгая голыми ногами, что зверь, смутившись, отошел от табора, не наделав вреда.
Туруханские покрученники уверяли потом, что здешние медведи сговорчивы, но понимают только по-тунгусски. Вахромейка признался, что от страха забыл здешний язык. Табанька, придя в себя, стал похваляться: медведь — зверь стыдливый, срамословия не терпит, а орал-де он не от страха, а с умыслом.
Все произошло так быстро, что никто не успел выстрелить из пищали или лука.
— Похоже, нам на роду писано только с такими бабами спать в обнимку, — передовщик защипнул фитиль, погладил ствол пищали и вздохнул, вспомнив Маланью. Он велел двоим караульным держать ружья наготове, другим вставить в стволы тесаки и всем посматривать вокруг.
Туруханские покрученники, посмеиваясь над Табанькой, уверяли, что здешние медведи по-русски даже срамословия не понимают. Старый Лука Москвитин окликнул молодежь к ужину. Те на склоне выше табора валили сухостой на костры. Сенька с Угрюмкой уже подходили, волоча лесину. Федотка с Ивашкой стучали топорами, обрубая сучья. Возле костров опять закричали и зазвенели котлами, гулко ухнула пищаль.
Смеркалось, с горы уже не видно было, что там на таборе. По шуму молодые догадались, что к кострам опять пожаловал медведь. Зверя в этих местах видели так часто, что промышленным казалось, будто тут одни медведи и живут. Сенька с Угрюмкой дождались товарищей и вышли к кострам вместе.
Передовщик распорядился поставить по склону теперь уже четверых промышленных с огненным боем и сторожить подходы к табору. Светлячками тлели в ночи фитили на их пищалях. Молодых позвали к самому большому и жаркому костру. Они сбросили сырую одежду и стали сушиться. Присесть было негде, от усталости ныли натруженные ноги. Топорами и ножами промышленные откапывали углубления в склоне, чтобы прилечь. Под мхом земли было на поларшина, затем железо скоблило по камням или по льду.
Подкрепившись едой и питьем, просушившись, люди стали устраиваться на ночлег: кто навалился на поваленный ствол дерева, кто привязывал себя к коряге кушаком. До половины ватажных ушли ночевать в струги.
В монотонном гуле реки что-то менялось. Передовщик лежал под иссохшим деревом недалеко от попыхивавшего костра, прислушивался к звукам ночи. Низкие тучи ползали по небу, гася тусклый свет звезд. Явно послышался треск стволов и хруст веток, но караульные молчали. Перекрестившись, Пантелей придвинул пищаль со вставленным в ствол тесаком, нащупал саблю. Впервые, верная и привычная с юных лет, она показалась ему бесполезной.
Снизу раздались хруст и скрежет. Это рядом со стругом проплыл комель лиственницы. Затем топляк хлестнул ветками по смоленому борту. Другой струг тряхнуло от удара. Где-то закричали. Один из стругов накренило и стало выдавливать на крутой берег.
Похватав из костров головешки, наспех вырубив жерди, люди, в чем были застигнуты, высыпали к воде. Кто-то, оступившись, уже бултыхался в реке. Отталкивая жердями плывущие деревья, ватажные громко ругали здешнего водяного дедушку.
Вскоре лес пронесло. Снова все затихло, только слышно было, как плещет и клокочет волна на перекатах у камней. Постояв без дела, настороженно высвечивая факелами берег, кто-то облегченно вздохнул:
— Слава Богу! Отбились!
— Вроде все целы и все добро на месте!
Еще две лесины проплыли вдали от берега. Дальше сколько виделось в сумеречной ночи и при свете костров была гладь.
— Поспим, пока гнус не поднимет, — громко зевнул Лука Москвитин.
Тут все заметили, что в ночи похолодало, да так, что пар шел изо рта и комаров не слышно. На таборе опять запылали костры. Иные снова сушились. Кому повезло остаться сухим — укладывались, зевая и крестясь.
— Ведмедей бы леший не привел! — ворчали сонно.
Непогодой не пахло. Но среди ночи погасли последние звезды, а на рассвете над табором закружился снег. Вот и кончилось здешнее лето.
Снег пошел гуще. Из-под коряги, где устроился передовщик, укрывшись шубным кафтаном, струйкой курился пар. Услышав возню у костра, Пантелей высунул голову. На него в упор смотрел Лука Москвитин. Он раздул костер, зябко кутался в кафтан и хрипло посмеивался:
— Воровское отродье: ни холод, ни голод, ни гнус — все вам, казакам, нипочем.
Передовщик почувствовал себя отдохнувшим. Под корягой, где он устроился, было сухо.
Подкрепившись, ватажные разобрали шесты и бечевы, отвязали струги. Кружился снег, тошно и зябко было лезть в стылую черную воду.
— «Отче Никола, моли Бога о нас!» — пропел звонким голосом Третьяк. Ертаулы повеселели и потянули струг против течения.
— «К чудному заступлению твоему притекаем. — Зашлепали густо смазанные дегтем бахилы по самому краю у воды. — Радуйся, плавающих посреде пучин добрый кормчий».
Скорый в бедах заступник путешествующим и плавающим не бросил молящихся. Через некоторое время снег прекратился, засияло солнце. Мох быстро впитал в себя остатки влаги, душно запарил. От одежды тоже пошел пар. И вот уж появился мельтешащий рой, послышался первый гулкий шлепок по щеке:
— Объявились, кровососы!
Ранняя северная осень и свежий снег в тенистых местах напугали даже привычных к здешней погоде туруханских покрученников. Добрая половина ватаги требовала идти к промысловым местам не останавливаясь, другие робко настаивали, чтобы на Успенье Пресвятой Богородицы дневать и молиться. Передовщик внимательно выслушал всех и объявил, что дневки не будет, а грех он примет на себя.
На Успенье прошли мимо большого притока с левого берега. По словам гороховцев, здесь кончались их промысловые угодья. Дымов и чумов на берегу не было. Передовщик послал вперед Вахромейку Свиста, Луку Москвитина да Алексу Шелковникова с сыном посмотреть, нет ли поблизости тунгусских станов. Те обошли пологий берег и вернулись, никого не встретив, но скрытое кострище и примятый чумом мох они все же обнаружили. Тунгусы ушли с этих мест до прихода промышленных.
Дальше простирались земли немирных народов, где, по слухам, бесследно пропала тобольская ватага. Низкое осеннее солнце, едва поднявшись над рекой, уже клонилось к западу. Оно не слепило глаз, не грело и отбрасывало тени до самого стрежня реки. Гулко и печально вскрикивая, из-за гор, из тундры, черными стаями пролетели птицы в теплые полуденные края. На восточной стороне, среди увалов, покрытых тайгой, завиднелся и обрадовал глаз чистый плес. Берег вдали выглядел ровным, манил к себе и поторапливал бурлаков поскорей пройти трудный участок. Им казалось, что там можно тянуть струги не замочив ног: смилостивилась Божья Матерь, Заступница всех русичей, дает им на свой праздник чудо облегчения.
Передовщик объявил привал. Пока ватажные отдыхали, Семейка Шелковников подался вперед, поглядеть, правда ли там сухой берег. Он отошел всего-то шагов на пятьдесят и вдруг, у всех на виду, испуганно завопил, замахал руками, указывая в какой-то распадок. Первыми к нему подбежали молодые, глядя на них, заскакавших на месте, к ним из любопытства потянулись и ватажные. Там, куда указывала молодежь, из глины и окатыша торчал остов рогатой бычьей головы. Самый большой из виденных на Руси быков по сравнению с этой башкой выглядел новорожденным теленочком: между рогами черепа был аршин, а каждый рог в десять обычных.
Кто крестился, кто бросал укоризненные взгляды на передовщика: вот те, дескать, расплата за грех трудов на Успенье. Тугарин, глядя на череп, испуганно крестился, удивленно и приглушенно срамословил:
— Такого только пушкой валить… Куда с нашими-то пищалишками.
Снова вскрикнул Федотка. В двадцати шагах он нашел другое торчавшее из яра страшилище, у которого одна только башка была с доброго быка, а зубы в пол-аршина.
— Уй! — заскулил Табанька. — Куда нас тайгун ведет?
Туруханцы вяло и неуверенно заговорили, что в здешних местах много костей древних зверей, которых живыми никто не видел и тунгусы про них не сказывали. Нехорошко трясущимися руками почесывал бороденку, водил по сторонам ошалелыми глазами и бормотал:
— Оп-тыть! Вот жа… Оп-тыть!
Передовщик внимательно осмотрел кости и заявил, что они древние.
— Где же — древние? — вскрикнул Нехорошко, указывая пальцем на зубатое чудище. — Вона шерсть и кожа! — Кадык по его тощей шее дергался вверх-вниз.
Пантелей принес горящий сук от костра. Сколько ни жег рог, запаха паленых костей не было. Шерсть же пованивала как обычно. Передовщик слегка успокоил, но не убедил испуганных ватажных. Вернувшись к стругам, они стали думать, что делать, но останавливаться для молитв или ночевать возле костей не хотел никто.
— Не возвращаться же! — крестился озираясь Лука Москвитин.
Табанька, поскуливая, стал напоминать, что воевода велел вместе с гороховскими промышлять. Его не услышали.
Соборно помолясь Господу Вседержителю, да Пречистой Его Матери, да Николе Чудотворцу, да всем святым своим заступникам, люди разобрали бечевы с шестами и двинулись дальше.
И пошли они вперед, распевая псалмы и богородичные молитвы. Тишина казалась манящей. Оттого, что впереди расстилались неведомые земли, дышалось привольней. И жутковато было входить в тот мир, хоть бы и под покровом Заступницы за русский народ. Настороженно озирались бурлаки и шестовые, оружие держали под рукой.
Ватага поднималась по реке до самых сумерек. К вечеру люди едва плелись от усталости, но радовались и благодарили Пречистую Матерь Бога за помощь явную: ни один любопытный медведь не подступил к ним за целый день пути. Наконец, вышли они на пологий берег, где можно было с удобством поставить табор и заночевать.
Ертаульный струг остановился, приткнувшись носом к суше. Бурлаки присели на сухой мох, на вросшую в землю лесину. Лука Москвитин обернулся к передовщику. Тот пронзительно свистнул и махнул рукой. Ертаулы стали вытаскивать струг на берег. Пантелей сошел на берег с ликом Богородицы и обнес им будущий ночлег.
— «Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых», — пропели усталые промышленные люди и стали крепить суда. Передовщик указывал, кому готовить дрова для костров, кому драть кору и хвою на постели.
На другой день до полудня они вышли к луке реки, огибавшей скалистый холм, на нем торчали старые, скрученные ветрами, иссохшие на корню деревья. Не было на них ни одной живой ветки, но издали виднелись на сучках полощущиеся на ветру лоскуты шкурок, которыми было обвешано самое толстое и причудливое дерево, похожее на великого горбуна.
— Капище! — шестом указал передовщику Лука Москвитин. Тот дал знак остановиться против холма и обернулся к Вахромейке, волочившему последний струг. Толмач опасливо взглянул на иссохший лес, огляделся по сторонам, почесал зад под мокрыми, липкими кожаными штанами и пожал плечами: капище — оно и есть капище.
Вскоре в одном месте собралась вся ватага. Промышленные заспорили — пройти ли мимо, прочитав молитвы от осквернения, или заглянуть. Всегда неунывающий и неусердный в вере Вахромейка вдруг стал корить их ересью и богохульством, начал запугивать тунгусами, которые не простят самовольного посещения капища, и, предостерегая спутников, с чего-то так озлобился, что его всегда гладкое и улыбчивое лицо покривилось.
— Отслужим молебен и пройдем мимо! — удивленно зароптали набожные устюжане с холмогорцами. Молодежь помалкивала. Помалкивал и сибирский бывалец Лука Москвитин.
— Надо хоть издали осмотреть! — говорили туруханские покрученники, знавшие тунгусские нравы. — Бросим болванам по рыбине да лоскут какой — здешние тайгуны будут нас миловать. А где самострелы стоят — разберемся… Вдруг и найдем след пропавшей тобольской ватаги.
Передовщик думал долго, строго поглядывая то на одних, то на других: и скверниться не хотел, и гневить здешнюю нечисть побаивался, и о выгоде купцов со складниками радел, и воеводское наставление должен был исполнить — вызнать все о здешних народах. Но больше всего не понравился ему Вахромейка: прежде он был ленив и равнодушен до всяких споров, а тут вдруг разъярился. Пристально всматривался в его лицо Пантелей Пенда, стараясь как-то растолковать себе вздорную горячность и незамеченную прежде набожность. Толмач почувствовал что-то и уже приветливо помалкивал с кривящейся, неловкой улыбкой.
И велел передовщик назваться трем добровольцам из туруханских покрученников. Назвались трое туруханских бывальцев, много лет промышлявших возле тунгусов, среди них разорившийся архангельский купец. С ними вызвался идти Третьяк.
Пантелей дал им две пищали, добрый боевой лук, наставил: крадучись, с опаской великой, чтобы не попасть ни под самострел, ни в ловчую яму, сходить к болванам, высмотреть, какие они из себя и какому племени могут принадлежать.
Староватажные добровольцев благословили, вынесли на берег все лики, складни и обещали молиться за них непрерывно. Передовщик велел запалить фитили пищалей, разобрать луки и занять круговую оборону, укрывшись за стругами и деревьями.
Доброхоты ушли. Ватажные, молясь и поглядывая вокруг, прислушивались, готовые в любой миг идти на помощь. Вернулись посланные скоро. Третьяк с двумя пищалями и луком шел впереди в полный рост. Двое туруханцев волокли под руки архангельца, мотавшего вислой головой. Тяжелый медный крест на его груди был смят боевой тунгусской стрелой. Грудь под крестом посинела. Крови не было, но нутро болезному отбило.
Все вернувшиеся были без шапок. Положив архангельца в струг, они трижды перекрестились на лики, сели на борта и сказали обступившим их ватажным:
— Там распяты остовы семи тел. На них ржавые латы и куяки, в руки вложены копья и мечи. Иные покойники сильно погнили, но по бородам да по волосам видать наших… Не тобольская ли ватага приняла здесь кончину?
Нежданно-негаданно затянулась стоянка возле тунгусского капища. Промышленные собрались в круг и стали думать: оставить ли мощи православные поруганными или прибрать их, отпев по-христиански? Бога ли прогневить или со здешними народами быть в ссоре?
По обычаю стародавнему помолясь Милостивому, в Святой Троице восславляемому Спасу, да Пречистой Матери Его, да Николе Чудотворцу, передовщик каждого промышленного спрашивал, не давая никому отмолчаться.
И решили ватажные, что нельзя пройти мимо оскверненных мощей, надумали с предосторожностями от возможных нападений еще раз сходить на капище, тела оттуда вынести, чтобы, отпев их по обычаю русскому, предать земле.
На этот раз даже Вахромейка Свист, призывавший не ходить на капище, побоялся неразумным словом Господа опечалить и стал со всеми заодно.
Уже солнце скользило по правому берегу реки, бросая на воду длинные тени деревьев. Наказал передовщик холмогорцам готовить ночлег и караулить струги с добром, остальных людей поделил на два отряда. Одним приказал с оружием оборонять капище на подходах, другим — разведанной тропой пройти к телам, снять их и вынести на берег.
Шагая след в след, обойдя все самострелы и ловчие ямы, добровольцы прошли среди причудливых деревьев, похожих на уродливых зверей. На открывшейся поляне стоял шалаш, крытый берестой. У входа в него сидели три болвана с медными, позеленевшими от сырости личинами. Возле них лежала куча рыбьих и лосиных костей. А на подступах были привязаны к кольям и оструганным стволам людские тела с надетыми на них ржавыми кольчугами. В кости рук были вложены длинные медные мечи, неведомыми народами в неведомые времена выкованные. На истлевших, безгубых головах крепились высокие кованые шлемы.
Узкие длинные мечи были непригодны для нынешнего боя. В тайге от них и вовсе не было пользы. О таком оружии много рассказывали сибирские насельники. Его обломки находили по всей Сибири и выкапывали из древних могил.
Чтобы не гневить здешних народов и их божков, ватажные оставили болванам богатые дары: на дерево, увешанное шкурками, повесили снизки бисера и одекуя[67].
С молитвами они сняли останки с кольев, освободили их от чужих лат, развесив ржавые брони в том же порядке на тех же местах. Русские кости вынесли с капища к табору, а за собой замели следы и даже заново насторожили самострел, стрела которого контузила покрученника.
Ночью возле прибранных останков поочередно сидели по трое ватажных из устюжан и холмогорцев, читали Псалтырь и молитвы по умершим. Другие люди грели землю кострами и рыли могилу в мерзлоте. После утренних молитв на восходе солнца кости были преданы земле. Помянув погибших едой с питьем, промышленные прилегли отдохнуть перед дорогой. Но недолог был их сон.
Дозорные донесли передовщику, что на излучине закурились дымы. Подумав, Пантелей решил не встречаться со здешними народами, а сделать вид, будто ватага их не заметила. После полудня промышленные поклонились кедровому кресту на братской могиле и с облегченными душами продолжили путь.
И шли они так с редкими дневками до самого Воздвиженья. И дошли до благодатного места с пологим берегом, ровным плесом реки и густым лесом: становись и живи, воздвигнув добротный дом. И рыбы в реке было множество, и утки с гусями садились в заводях бесчисленными стаями.
Опала багровая хвоя с лиственниц. Последние желтые листья висели на черных березах. Тихие заводи и старицы реки были затянуты льдом. После полудня на таборе мылись и чистились. В ночь молились долго и благостно, надеясь здесь и зазимовать.
Едва блеснул на небе первый робкий холодный луч осеннего солнца, люди хозяйским глазом оглядели окрестности. Место понравилось им пуще прежнего. И начали они праздничный день молитвами. Сначала их читали Третьяк с Лукой Москвитиным, потом каждый что знал и умел. Затем, подкрепившись едой и питьем, развели они костер повыше, запели, заплясали, веселя силы небесные и всех святых, помогавших в пути.
Наутро передовщик разослал во все стороны дозорных. Вскоре они вернулись и доложили, что рядом, за поворотом реки, по другому берегу видны дымы костров, слышны собаки. Подумал передовщик, посокрушался, но велел впрягаться в бечевы и двигаться дальше против течения замерзающей реки.
Большинство промышленных согласились, что надо уходить. Покрученники отмолчались. Но самые вздорные из складников стали роптать, подсказывая передовщику, что можно и с тунгусами жить мирно по разным берегам реки, если их мясные и рыбные угодья не занимать. Громче всех возмущался Нехорошко Москвитин. Другие либо ворчали, либо помалкивали. А этот вошел в раж, понося и реку, и кочующие здесь народы. Да так разъярился, что стал и самого передовщика обличать во всяких злых умыслах.
Пантелей сколько мог терпел горластого устюжанина, потом молча схватил его за плечи и так тряхнул, что у Нехорошки головенка на кадыкастой шее мотнулась по-петушиному. Он сипло пискнул, не поддержанный ни своими земляками, ни покрученниками, и обиженно умолк.
Пришлось промышленным людям по студеной воде подниматься еще с неделю. На Феклу-заревницу, еще до полудня, ертаулы увидели холм, отделенный от реки живописным заливом старого русла. Старица была скована хрустким гнущимся льдом, под которым ходили сонные непуганые рыбины.
Люди остановились, любуясь местом. Ивашка Москвитин, Угрюмка да Федотка Попов не сговариваясь вышли на берег и стали сбивать лед со штанин и зипунов. Шедший следом струг холмогорцев тоже ткнулся носом в берег.
Передовщик издали увидел, как два судна пристали к берегу. Никаких знаков опасности не было. Едва с его струга стали видны холм и старица, он вытянулся на корме, упершись шестом в каменистое дно, окинул взглядом лица ватажных, зачарованно смотревших на берег, и сказал:
— К добру ли, к худу ли, но пора и зимовье ставить.
По-осеннему зябко светило солнце. В дымке невысоко над берегом катилось к закату дня, и принимала его на ночь заря темная, вечерняя. Через неделю-другую подходила пора промышлять, обустраивать станы, сечь кулемники. По всем приметам, надо было готовиться к зиме, запасаться мясным и рыбным припасом.
Как принято на Святой Руси со времен стародавних, стали промышленные в круг и, помолясь Господу Вседержителю, да Святой Троице, да Пречистой Богородице, да Николе Чудотворцу и всем святым, единогласно решили тут и зимовать.
Передовщик взошел на холм и осмотрел окрестности взором воина. Сняв колпак, поднял над головой нагрудный кедровый крест в треть аршина, обошел вершину холма, где быть стенам зимовья. Призывая в помощь Духа Святого на доброе дело, промышленные запели:
— «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…»
* * *
Ертаулы ходили в разные стороны, следов здешних кочевых народов не заметили, и все равно зимовье ватажные строили с опаской: среди бела дня выставляли секреты, хотя не хватало рабочих рук. А день стал короток: поздно гасли на небе звезды, едва не до полудня занималась над урманом заря, и ненадолго являло себя людям тусклое солнце. Работать начинали затемно, затемно расходились для отдыха, будто праздника, ждали очереди в дневной караул или на рыбный промысел, на добычу зверя и птицы, там и отдыхали от трудов.
Бывальцы из туруханских покрученников уверяли, что такие предосторожности напрасны: пока не закрыты снегами грибы — олени разбегаются по тайге и тунгусы живут оседло там, где их застает осень. Пантелей советы выслушивал со вниманием, оглаживал отросшую бороду, но людей в дневные секреты посылал. Никто не видел даже следов чудных зверей, чьи кости то и дело находили у реки, однако передовщик держал наготове крепостное ружьецо, в зелейник которого набивалось пороху, как в добрую пушку.
То и дело выпадал снег, но долго на мхах не держался. К Покрову ватажные успели срубить и накрыть драньем избу с баней, и тут снег повалил густо, покрывая прошлые грехи и страсти. Чтобы поставить частокол, пришлось уже разгребать сугробы. Потом засвистел ветер, замела пурга, и пришла в здешние места ранняя зима — хозяйка полуночных стран.
Между избой, баней и лабазом промышленные поставили частокол с бойницами и крытый берестой навес, чтобы всегда иметь под рукой запас сухих дров. Печи сложили из речного камня, обмазав их глиной, трубу вывели по-промышленному. Закрыв проемы дверей кожами, наконец-то все разом втиснулись в сырую избу, пропели молитвы на вхождение в новый дом, на освящение его, трижды окропили углы и все отверстия святой водой, затопили печь, и потянулся из трубы дымок, сырой сруб стал наполняться теплом и запахом жилья.
Вечером в жарко натопленной избе Лука Москвитин с наговором выпустил из ларца засидевшегося домового. Тот стал осваиваться, наводя свой порядок: потрескивал венцами стен, перебирал дранье на кровле.
Молодой месяц народился рогами вверх — к снегам, но притом только пуще приморозило. По всем приметам нечисти после Покрова сделалось под землей тесней, чем промышленным в избе. Полезла она наружу, завыла, закружилась вихрями, мороз заскакал по ельникам, по березникам да по сырым борам. Холод не любит голод. А мужику что деется — бежит да греется. Припадет к горячей печи, пожует скоромного да жирного — и снова за дело.
Дичи поблизости было множество, рыбы в реке и того больше. За малый срок промышленные набили рыбный и мясной припас, наморозили его корзинами. Сидя возле огня, радовались крову и достатку, думали, жизнь вскоре станет легче и будет время отдохнуть.
Едва утихла пурга и окреп снег, передовщик послал две туруханские чуницы разведать места промыслов на два дня пути вверх и вниз по реке и по притокам. Притом строго наказал: с тунгусами не ссориться и аманатов не брать, чтобы здешние народы не гневить. А еще велел, идучи по льду, высматривать полыньи и где надобно выходить на сушу, по берегу же идти с опаской, чтобы не попасть под тунгусский самострел.
Покрученники ушли с панягами[68] за спинами. К ним были приторочены кожаные мешки с четырехдневным хлебным и квасным припасом. Они взяли с собой тяжелые пищали, топоры, свинец и порох.
Зимовейщикам же передовщик велел готовить лыжи и нарты, указывал, кому распускать еловые и осиновые чурки на дранье, кому парить и гнуть концы. Сам же он с Угрюмкой и Третьяком собирал двухкопыльные нарты, крепил их клеем, сваренным из рыбьих костей.
Туруханцы вернулись на пятый день, когда в зимовье и двери были навешаны, и нары с полатями выстелены сухим мхом. Они попарились в бане, отдохнули и доложили собравшимся, что поблизости от зимовья тунгусы не промышляют. Из прошлых лет им известно было, что здешние мужики считают для себя достойным делом только охоту на крупного зверя. Пушнину у них добывают дети да девки с собаками и луками. Всякие ловушки здешними народами презираются. Они видели диких только в дне пути ниже по реке и без всякой вражды махали друг другу руками с разных берегов.
Туруханцы принесли в зимовье пару белок и пару соболей, добытых в разных местах. Промышленные осмотрели их и решили, что пушной зверь уже вылинял: пора рубить станы, тропить ухожья и сечь кулемники.
Сход проходил шумно, с незлобивыми спорами. Вверх по ручью, впадавшему в реку возле зимовья, желали промышлять сразу три чуницы. Передовщик велел спорившим атаманам бросить жребий. Все сошлись на том, что места промыслов поделены справедливо.
Холмогорцы взяли в свою чуницу Третьяка. Ни одна из чуниц не приняла Вахромейку Свиста, туруханского «лешего», хотя ничего плохого о нем никто сказать не мог. Ручавшийся за него передовщик вынужден был оставить толмача при себе.
Угрюмка тоже остался в зимовье. Никто не звал к себе его и Табаньку. Они и сами не хотели идти в чуницы, с радостью хозяйничая по избе: кашеварили, замешивали квашню и пекли хлеб. Табанька ко всему тому еще со знанием дела и со страстью проращивал солод на пиво. Так сама собой сложилась чуница зимовейщиков.
Но выйти в намеченный срок на обустройство станов ни одной из чуниц не удалось. Во время последних сборов в тесовые ворота зимовья на вершок воткнулась длинная стрела, исчерченная причудливыми знаками. На ней был железный наконечник, кованный для войны и человекоубийства. Пускалась стрела с дальнего расстояния из большого тунгусского лука, склеенного рыбным клеем из разных пластин[69]. Такие луки высоко ценились среди промышленных. Они били дальше пищалей и пробивали легкие брони.
Передовщик осмотрел принесенную стрелу и передал ее другим. Вахромейка Свист, непонятно над чем посмеиваясь, сказал:
— В самый раз для тунгусов война. Олени из тайги вернулись. На мясного зверя идти рано, а дружные роды уже собираются для промыслов.
— Навел Бог за грехи наши! — крестились устюжане с холмогорцами.
С холма, на котором было поставлено зимовье, видны были скрывавшиеся за деревьями люди, вооруженные боевыми луками в рост человека и пальмами[70]. Их было человек до ста.
Когда об этом донесли передовщику, он, стряхнув с жупана налипшие стружки, бросил на нары суконную шапку, надел войлочный колпак и, сбив его на ухо, сразу исполнился ратного духа. Перепоясавшись саблей, Пантелей даже помолодел с виду, как боевой конь, вдыхающий запах пороховой гари. Во дворе он стал весело похаживать вдоль частокола, высматривая воинские приготовления в противном лагере, приказал, чтобы промышленные зарядили все пищали и длинноствольное крепостное ружье, велел держать под рукой тлеющий трут. Едкий дымок — предвестник боя и крови — заклубился под кровлей навеса.
— Откуда их столько разом? До снега больше пятерых не доводилось видеть, — опасливо выглядывая из-за частокола, ругался Нехорошко.
— Время такое! — с глупым смешком подсказал Вахромейка. Он был рассеян, бестолково суетился и часто отвечал невпопад.
— И долго так простоять могут?
— С месяц на рыбном корме простоят! Сейчас подледный лов хорош. Дольше не выдержат, разбредутся по промыслам, иначе к морозам без мясного припаса останутся и начнут красть оленей друг у друга, меж собой воевать.
— Можно и отсидеться! — молодецки взглянул на притихших промышленных передовщик. — А можно и удивление здешним землям устроить, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! — рассмеялся, скаля белые зубы в заиндевелой бороде. — Мы не на обиды рождены!
Не голодал, не изнурял себя казак в нынешней промысловой жизни, а вот пьянящего возбуждения перед боем ему часто не хватало.
— Можно! — повторил, оглядывая тунгусский табор. — Да нам ведь и промышлять надо.
Его бодрый голос, удаль передались приунывшим людям. Устюжские и холмогорские складники, повеселев, стали тоже посмеиваться и пошучивать:
— Запремся в осаде, отоспимся впрок.
— Некогда отсыпаться! — сверкнул глазами передовщик. — Что ж! Может, так и лучше: не мы первыми мир нарушили — за нами право наладить его, как умеем.
Еще несколько стрел, гулко задребезжав, воткнулись в стены избы и частокол.
— Попугивают! — усмехнулся передовщик, цепким взглядом высматривая, что делается в лесу. — На приступ пойдут! Но не сейчас. Ночью!
За деревьями гулко звучал бубен. Над лесом поднялись дымы костров. Тунгусы начали камлание, призывая в помощь духов. Передовщику удалось высмотреть шамана, который был строен, как удалой стрелец, и на голову выше всех своих сородичей. Одет он был в оленную парку, обвешанную какими-то побрякушками. Длинные черные волосы лежали по его плечам. По тому, как толпились возле него сородичи, как кидались на помощь, нетрудно было догадаться, что шаман был не из простых и почитался среди многих родов.
— Вон того, с камом, — указал на шамана Третьяку, — надо зааманатить. Выбери верных помощников, кого знаешь, и с Богом. — Кивнув за плечо, пробормотал тише: — Возьми-ка с собой и Угрюмку.
— До аманатов ли? — слезливо простонал суетившийся Табанька. — Живыми бы уйти!
— После всех мытарств вернуться с голым задом к жене и христарадничать… Спаси, Господи! — прошипел Нехорошко, вытягивая тонкую кадыкастую шею.
Как и предполагал передовщик, ночью тунгусы подкрались к стенам зимовья. Как только они начали раздувать принесенный огонь, чтобы поджечь пучки сухой травы, смоченные в жире, из-за частокола прогремел залп. Душное облако порохового дыма рассеялось, на снегу корчились и уползали ранеными до десятка нападавших, остальные бежали к лесу. Добивать раненых передовщик не велел и не препятствовал сородичам подобрать их.
— Это вам игрушка первая, не последняя! — захохотал, до пояса высунувшись из-за частокола. — Это мы только ружья почистили. Иным вас попотчевать нечем. Дело наше осадное!
На повторную ночную вылазку тунгусы не решились.
Небо было чистым. День обещал быть ясным. Едва забрезжил рассвет, промышленные по наказу Пантелея поставили на нарту щит из полубревен и, скрываясь за ним, скатились по снегу к самому табору тунгусов. Из-за своей многочисленности они даже не выставили караула и были застигнуты врасплох.
Третьяк с саблей в руке, с полуаршинным кедровым крестом во всю грудь распоряжался вылазкой. Он взял в пособники молодого Семейку Шелковникова, Луку и Ивашку Москвитиных, Федотку Попова да чуницу туруханских покрученников. Рядом с ним был и Угрюмка.
С пронзительными воплями и разудалым посвистом промышленные выскочили из-за щита в нескольких шагах от островерхих чумов и тлеющих костров. Размахивая топорами, кинулись на сонных тунгусов. Те, побросав громоздкие луки, схватились за рогатины. Раздались лязг железа, хруст черенков, крики и ругань.
Третьяк с молодыми промышленными в общей сече не участвовал. Под прикрытием туруханцев он прорвался в середину табора к балагану шамана, возле которого стояла пальма, пышно украшенная перьями. Что произошло потом, сами молодые промышленные вспоминали с трудом, расспрашивая видевших все со стороны.
Из-под полога выскочил шаман. Он не схватился за оружие, не бросился в лес, а вытянулся, как тарбаган у норки, и стал пристально глядеть на окруживших врагов большими черными глазами. Угрюмка под его взглядом, спокойным и строгим, почувствовал вдруг, что ноги подгибаются, как во сне, а руки, обессилев, с трудом удерживают виснущий топор. Он заставлял себя бежать, но едва шевелился.
Оцепенение прошло так же неожиданно, как и наступило. Словно проснувшись, он резво кинулся к шаманскому балагану, чтобы перехватить пальму. Шаман же, не сгибая колен, упал навзничь. «Убили!» — испугался Угрюмка, помня строгий наказ передовщика. Он отбил топором чью-то рогатину, огрел по спине обухом тунгуса в собольей шубе, подскочил к шаману. Тот лежал на снегу, вращая дурными глазами. Федотка с Третьяком вязали ему руки.
Едва они подхватили под руки знатного пленника, раздался залп. Передовщик, размахивая саблей на частоколе, кричал, чтобы все возвращались. Промышленные укрылись за щитом на нарте и поволокли ее в гору, к зимовью. Из-за частокола раздался новый залп.
— А это вам игрушка вторая! — с посвистом и гиканьем крикнул обескураженным тунгусам Пантелей и с такой яростью закрутил саблей, что отбил несколько пущенных в него стрел.
Ворота распахнулись, впустив своих, и затворились, накрепко заложенные березовым брусом. На таборе же началась суматоха. Убитых промышленных не было. Двое были ранены, но могли ходить. Среди них опять оказался разорившийся архангельский купец. Шаман пришел в себя уже за воротами. Кроме него были взяты в плен еще два тунгуса. Табор, потрясенный дерзкой вылазкой, стал осыпать зимовье стрелами.
Возбужденные боем, промышленные смеялись и громко рассказывали о пережитом, не обращая внимания на стоны раненых. Угрюмка ошалело таращил глаза, мотал головой, пытаясь понять, что же с ним было.
— Я к шаману — вот он! — весело лопотал кому-то Ивашка Москвитин. — Зенки вылупил — чую, чарует, ведьмак. Я за крест… Слышу, Третьяк в голос — «Отче наш…» Я — ну подпевать! И Федотка с нами. Прибыло сил в руках. А шаман — брык оземь.
— У меня ноги будто в болоте вязли, — удивляясь, выкрикивал Федотка. — И расслабление…
Третьяк и туруханские бывальцы, посмеиваясь над молодежью, обстоятельно поучали: «Узнаешь в бою чародея, саблей не маши — пустое дело, читай „Отче наш…“, „Троицу“ — колдунишек молитва Господня с ног валит».
Пленные с безразличными лицами сидели возле бани. Им развязали руки, заперли и поставили караульного. Побитым туруханцам помогли раздеться, очистили кровоточившие раны, приложили к ним целебные травы, посыпали золой и перевязали.
Передовщик сделал что хотел — взял заложников. Теперь нужно было выждать и узнать, стоят ли пленники того, чтобы их кормить и охранять. Аманатских цепей было только две. Держать третьего в колодках опасались — вдруг помрет?! Это были новые, нежелательные заботы вместо насущных промыслов.
К вечеру опечаленный тунгусский табор оживился. Из него вышли трое послов. В сотне шагов от зимовья они воткнули в землю рогатины и смело направились к воротам.
Встречать их ватажный сход отправил Луку Москвитина с Вахромейкой Свистом. Третьим пошел Федотка Попов, брат главного холмогорского пайщика. Оружия они не взяли, зная, что находятся под прикрытием своих пищалей.
Остановившись в пяти шагах друг от друга, послы начали переговоры. Трое гостей предложили себя аманатами вместо шамана и дарили в знак примирения соболью шубу. О двух других плененных они не упоминали.
Из того, как говорил с послами Вахромейка, Луке с Федоткой стало ясно, что толмач он плохонький, понимает послов с пятого на десятое не лучше иных туруханцев. Но Вахромейка никогда не похвалялся, будто он хороший толмач. По туруханским обычаям, хорошего толмача меньше чем за полную ужину не нанять, а этот пошел покрученником.
Восчувствовав себя послом, Лука Москвитин встал фертом, подражая голосу и манерам пославшего его передовщика, выдержал паузу, заломил бровь и пригласил послов в зимовье. Вахромейка и Федотка, каждый по-своему, повторили приглашение.
Тунгусы безбоязненно пошли за ними, не выказывая недоверия. У ворот зимовья их обыскали и провели в избу. Сюда же были приведены из бани пленники. Всех усадили за стол и выставили щедрое угощение.
Поев вареного мяса и порсы, попробовав хлеб, послы снова заталдычили о своем без толмача понятном деле. Вахромейка и туруханские бывальцы, знавшие по нескольку тунгусских слов, стали переводить. Шаман сидел молча, с гордым видом и не прикасался к еде.
К расспросам приступил сам передовщик, Пантелей Пенда. На вопрос, зачем тунгусы напали на промышленных, те ответили, что они уже платили ясак царю, чтобы тот их защищал. Некоторые роды сверх того давали подарки промышленным, жившим в низовьях.
— Несправедливо! Два раза платить ясак они не желают! — чисто перевел туруханский бывалец.
— Вона! — раздался возмущенный крик Нехорошки. — Гороховские берут на себя, а на нас наводят смуту.
Подумав, передовщик сказал ласково:
— Добрый русский царь два раза ясак с подданных не берет. Только один раз в год. — И показал перст. — Всех дающих ему ясак защищает от врагов, справедливо судит и награждает подарками.
По возмущенному гулу в избе тунгусы поняли, что лучи[71] с низовьев их обманули.
Вахромейка чесал бороду, мотал головой, подолгу раздумывая и вспоминая слова, делал знаки руками. Ему подсказывали туруханцы. Когда же он закончил переводить, то утомленно взглянул на передовщика.
— Скажи, как умеешь, что мы хотим с ними жить в мире. Не будут нападать на нас — отпустим аманатов. Но сейчас не можем верить им из-за семи убитых.
Вахромейка вздохнул, метнул колючий взгляд куда-то в угол, выругался, не находя нужных слов, вытер лоб рукавом и стал думать. Ему опять начали подсказывать. Похоже, всем вместе удалось объяснить, чего они хотят. Послы и пленные возмущенно загалдели, перебивая друг друга. Даже шаман что-то отрывисто пророкотал.
— Говорят, наши сами себя убили!
То, что двое наткнулись на настороженные самострелы, понял и Пантелей. Туруханцы подсказали, что пятеро были зарублены русским оружием, тунгусы только прибрали их тела по своему обычаю.
— Гороховские, поди, порешили! — опять зашумели устюжане с холмогорцами. — Не хотят никого пускать на Тунгуску. Жили без закона и дольше хотят так!
Передовщик взмахом руки заставил своих людей замолчать. По тону перепалки тунгусы почувствовали поддержку, развалились вольготней, иные слезли с лавок и разлеглись на полу.
Передовщик посоветовался с ватажными и важно изрек, расправляя усы и бороду:
— Шамана мы оставим в почетных аманатах, чтобы впредь не нападали.
Одарив послов и двух пленников бисером, промышленные с миром отпустили их за ворота зимовья. Пятеро ушли в ночь к мерцавшим кострам сородичей. Лупоглазый шаман был препровожден в протопленную баню и посажен на цепь.
Наутро тунгусское войско снялось и ушло. Туруханцы сказали, что теперь до весны они не смогут собраться: наступает время, когда все сильные мужчины идут на промысел сохатого и дикого оленя, как в русских деревнях весной мужики идут пахать.
Ватаге давно пора было промышлять. Передовщик отправил ертаульные отряды в разные стороны. Разведка вернулась и доложила, что на местах будущих промыслов тунгусов нет. За большим Камнем, на зимнике, стояли три чума. Их насельники не показывали ни вражды, ни страха перед ватажными.
Получив наказы от передовщика, чуницы с ржаным и рыбным припасом разошлись по местам промыслов. В зимовье остались Пантелей Пенда, Угрюмка, Вахромейка Свист, прошлогодний передовщик Табанька да двое раненых туруханцев.
На память мученика Лонгина, римского сотника — целителя глаз, который участвовал в казни Христа, но из сострадания поверил в Его святость, день выдался солнечный, что редко бывает поздней осенью. Пантелей столярничал в избе и мысленно примерял свои воинские грехи к святому мученику.
Шаман в бане стал стучать цепью в стену. Задремавший было караульный, зевая, поплелся к нему. Это был несчастливый архангелец, раненный на капище самострелом в грудь и при вылазке стрелой в лоб. Он открыл низкую банную дверь, подслеповато щурясь, заглянул в прокопченный сруб. Шаман полулежал на полке, прикованный цепью к стене. Архангелец выслушал его, снова закрыл банную дверь, подпер ее жердью и неторопливо направился в избу. Возле очага передовщик тесал запасные полозья к нартам, Вахромейка парил их и гнул, Табанька месил тесто в квашне.
— Тунгус требует, чтобы пустили на двор. Ему надо камлать чистому небу — иначе никак нельзя, — доложил караульный. И добавил помявшись: — Грозит помереть, если не пустим!
— Раз так — отпусти! — разрешил Пантелей. — Угрюмке скажи, пусть тоже смотрит за ним.
Караульный ушел. Следом за ним, отряхивая стружки со штанин, вышел Вахромейка. Передовщик с удивлением подумал про разорившегося архангельского купца: «Прежде вроде не понимал тунгусов, а тут уж и с шаманом разговорился». Он продолжал работу, изредка прислушиваясь к звону цепи. Звуки ему показались странными — резкие хлесткие удары железа по железу. Но в это же время Табаньку угораздило застучать по кадке.
Передовщик остановил его знаком, прислушался и снова удивился: «Если кто из зимовейщиков перековывает цепь, то удары уж больно ловкие». Холмогорский кузнец ушел на промыслы, и Пантелей решил, что кует Вахромейка.
Все звуки за стеной стихли. Передовщик прислушался еще и еще. Тишина во дворе насторожила его. Он отложил поделку, вышел из избы, увидел двух туруханцев и Угрюмку. Они кружком сидели на снегу и, задрав головы, глазели в небо. Архангелец обнимал пищаль, припав к ней щекой. Под навесом валялась раскованная цепь. Шамана не было. От нужника, поправляя на ходу кушак, шел Вахромейка, на его лице была все та же улыбка, что в Туруханском зимовье при банях.
— Аманат где? — не веря глазам, спросил передовщик и судорожно сглотнул воздух.
Караульный вздрогнул, обернулся, поднялся на ноги и другой раненый туруханец. Угрюмка, словно вина опившись, указал рукой в небо, пролепетал, хлюпнув слюной на губах:
— Кажись, вон… Возле облака!
Караульный покраснел вдруг, стал смущенно ощупывать пищаль.
— Где аманат? — закричал передовщик, побагровев от гнева.
Угрюмка закрыл разинутый рот, взглянул на него удивленно.
— Улетел! — с недоумением пожал плечами архангелец. Перекрестился, понимая, что говорит глупость. — Или глаза, ведьмак, отвел. Заморочил! — Лицо его покрылось багровыми пятнами.
— Вам что было велено, нехристи паскудные? — затопал ногами передовщик. — «Отче наш…» да Богородичные читать, пока шаман камлает. А вы зенки пялили на его пляски?
Тут он со стыдом вспомнил, что и сам, увлекшись работой, не додумался спросить караульного, как тот понял желание шамана камлать. От досады Пантелей плюнул через левое плечо в харю нечистому, злобно взглянул на улыбавшегося Вахромейку. И показалось ему, что у того настороженно бегают коварно-прищуренные глаза, будто что-то выпытывают по лицам промышленных.
— Если беглец завтра приведет с собой полсотни удальцов — зимовье не удержать! — прохрипел передовщик, перебарывая ярость.
Промышленные, ругаясь и крестясь, бросились осматривать следы. Они показали, что на глазах карауливших его людей шаман подошел к кузне, срубил оковы и бежал через ворота, откинув закладной брус. За частоколом его след уходил в лес, а там тунгуса, как волка, искать — только время терять.
— Молите Господа о помощи, — сменив гнев на печаль, со стоном вздохнул Пантелей. — Все грешны, всем и ответ держать перед ватагой. Караулы нести денно и ночно, ночами будем все стоять, днем — по одному.
И опять ему не понравился Вахромейка. Один из всех невиновный, он напоказ поправлял штаны.
— А ты что скалишься? Мог бы углядеть с нужника! — снова вспыхнул передовщик.
— Так — куда? — заскоморошничал «леший», хлопая себя по животу. — Сел — так что по сторонам-то…
Туруханцы виновато хохотнули, Пантелей опять мысленно укорил себя за то, что в Туруханском зимовье чего-то недоглядел, как другие. Отвел «лешак» глаза, напомнив о грехах. «Хитер! — подумал зло. — Да встречались ли мы?»
Помыв руки щелоком и снегом, Вахромейка вернулся в избу и продолжил свою работу. Он жил среди других сам по себе, оставаясь одиночкой: от работ не отлынивал, но своей волей помогать не вызывался, если парился в бане, то дольше всех, если ел — то не только для того, чтобы насытиться, но старался восчувствовать каждый кусок. И постель в углу была у него самой мягкой.
К вечеру передовщик расставил всех зимовейщиков на караулы при огненном оружии. Вахромейку посадил у бойницы под навесом, здесь не дул ветер. Остыв от гнева, он устыдился своих подозрений и дал покрученнику лучшее место возле тяжелого крепостного ружья с кремневым колесцовым запалом. При нем не нужен фитиль: видишь врага — накручивай и спускай колесцо, стреляй первым. Ружье это с зарядом как у доброй пушки, цеплялось железным крюком за бревно, иначе стрелявшего могло зашибить отдачей. В случае нападения передовщик велел делать как можно больше шума, чтобы тунгусы думали, будто промышленные со станов вернулись в зимовье.
Всю ночь зимовейщики просидели на стенах и в сенях, вглядывались в темень, прислушивались, кутались в шубные кафтаны, а холод пробирал до костей. По одному они ходили в избу, поддерживали огонь в очаге, отогревались. И было на небе много звезд — к пущим холодам. С него, с Божьего терема, в распахнутые окна — звезды — печально смотрели на землю ангелы, прислушивались к молитвам людей и думали, не порхнуть ли вниз кому на помощь.
После полуночи на подмогу караульным вышла поздняя луна, освещая подступы к зимовью. Фитили на ружьях не были запалены, зато под рукой каждого стрелка тлел трут из сухого березового гриба-нароста.
Вот уже стали гаснуть звезды, бесшумно закрывались ангельские окна, серело небо. Продрогшие караульные зевали до слез и с вожделением ждали дневного отдыха. Наступавший день обещал быть ясным. И тут, ни с того ни с сего, под частоколом громыхнуло крепостное ружье. Сон, одолевавший караульных, как рукой сняло.
Пантелей метнулся вдоль частокола к навесу. В полутьме он не увидел возле бойницы ни покрученника, ни ружья. Но вот из-под рассыпавшейся поленницы раздался стон. Передовщик шагнул на звук с вытянутыми руками, споткнулся о ружье, затем нащупал тело стонущего, сбегал в избу и вернулся с пылавшей головешкой. Огонь высветил Вахромейку. Он лежал на боку, елозя почему-то босой ногой.
Пантелей окликнул ближайшего караульного. Тот прибежал, на его пищали тлел фитиль. Он огляделся, плюнув на пальцы, защипнул его и положил ружье в сторону. Двое раскидали дрова и вытащили охающего Вахромейку.
— Как больно! — сипел тот. — Никогда так больно не было… Легче помереть.
— Живи еще! — поскрипывая зубами, ругнулся передовщик. — Стрелял-то зачем?
— Не знаю! — охая и корчась, сипел Вахромейка. — Само стрелило… Как даст!
— Зачем колесцо спустил?
— Не помню. Само! — охая, твердил контуженый.
Рассвело. Передовщик осмотрел бойницу и не нашел даже царапины от ружейного крюка. Видимо, Свист накрутил колесцо со скуки или от страха, а после уснул и во сне спустил его. Подсыпка на полке вспыхнула, ружье, лежавшее на боку, выстрелило, отбросив стрелка к поленнице.
Едва эту пищаль почистили да зарядили, насыпав натруску, из-за заметенной старицы раздался выстрел. Похоже, кто-то возвращался и был озабочен стрельбой.
Забыв про стонущего, все, кто был в зимовье, поднялись на нагородни. Со стороны леса показались двое промышленных, волочивших по рыхлому снегу тяжело груженную нарту. Они махали руками, ожидая сигнал — свободен ли путь, и просили помощи. Вглядываясь в размытые сумерками очертания, Угрюмка пробормотал, постукивая зубами от холода и кутаясь в шубный кафтан:
— Вроде Ивашка с Третьяком. И нарта наша, с высокими копыльями… Не болен ли кто? Спаси, Господи! — Он перекрестил грудь, не снимая рукавицы, взглянул на передовщика, вышел за ворота и побежал, скользя по склону.
Пантелей удивленно хмыкнул в бороду, разглядывая, как тот запрыгал возле нарты. «Какого-то диковинного зверя добыли», — подумал. Видно было, как Угрюмка схватился за постромку и резво потянул груз один. Уставшие промышленные едва поспевали следом.
Перед прибывшими со скрипом и скрежетом распахнули ворота, нарту заволокли во двор. Заводчиков обступили зимовейщики. Заботливо укрытый шубным кафтаном, в нарте лежал и от лютой злобы щурил черные глаза бежавший шаман.
— Как? — радостно вскрикнул передовщик.
— А так! — азартно посмеиваясь, ответил Угрюмка. Он всю ночь молил Николу Чудотворца вернуть беглеца и считал пленение шамана своей заслугой. — Скор на помощь Святой!
Прибывшим затопили баню, напоили их квасом, стали спрашивать о пути и промыслах. На расспросы Третьяк степенно отвечал, что они срубили два стана — во имя святого Николы зимнего и Егория храброго. От одного стана насекли два полных ухожья, по восемь десятков клепцов, от другого — четыре, по полусотне. Срубили и третий стан. Чуничные, обустраивая его, отправили Ивашку с Третьяком за припасом да проверить, не опасен ли обратный путь.
Те вышли налегке и побежали по своей же лыжне. Ни тунгусов, ни следов их заводчики не видели. Они проверили ухожья, не очень-то надеясь на удачу, и почти из каждого второго клепца вытащили по юркому. То, что на Тазе-реке чуница добыла за зиму, здесь было добыто за неделю.
На подходе к старице, верст за десять от зимовья, промышленные решили заночевать, чтобы не пугать зимовейщиков ночным возвращением. Они развели костер, нарубили дров и лапника. Вдруг из леса выскочил простоволосый тунгус и стал пялить на отдыхавших бесовские глаза. Третьяк узнал шамана, и схватились они с Ивашкой не за топоры, не за засапожные ножи, но за кресты, висевшие поверх шубных кафтанов. У Третьяка крест с мощаницей[72]. И стали читать молитвы, какие знали, да охаживать ведьмака крестными знамениями. Тунгус, с помогавшими ему духами, не устоял, упал и стал корчиться, пузыри изо рта пустил. Промышленные его связали, уложили в нарту. Немного отогрев пленного, решили не ждать утра, а при свете луны по лыжне выбираться к зимовью: все равно бы всю ночь не сомкнули глаз из-за шамана.
Угрюмка, слушая друзей, все кивал и посмеивался себе на уме, верил, что это он вернул бежавшего аманата. Шамана не корили за побег, своего недовольства не показывали. Хотели заковать, как прежде, но тот настойчивыми знаками просил разрешения ковать свою цепь самому. Передовщик подумал и согласился, а потом, несколько раз перекрестившись и почитав молитвы, сам проверил и Третьяку велел перепроверить ковку. Работа была сделана рукой хорошего кузнеца. Ценный был аманат, за такого мангазейский воевода наградил бы со всей щедростью.
Через день Ивашка с Третьяком нагрузили нарту и собрались в свои угодья, но к зимовью опять подступили тунгусы на оленях. На этот раз они не обстреливали стен, только разложили костры на краю леса и поставили три островерхих чума. Два дня гости ели и отдыхали.
«Измором хотят взять!» — решил передовщик. Он собрал зимовейщиков и стал думать, как быть. Пока у тунгусов есть съестной припас и поблизости не съеден, не перекопычен оленями мох, те могли простоять и неделю, нанося ватаге большие убытки.
Вахромейка уже похаживал по двору. После контузии левая рука его висела плетью, грудь была синей, но пальцы на руке уже шевелились. Сколько ни думали промышленные, ничего не могли придумать, кроме как терпеть, молиться да поднять над зимовьем условный знак осады для всех возвращавшихся. Пока шаман был в заложниках, тунгусы не должны были решиться на убийство промышленных, но навредить промыслам могли.
К вечеру из тунгусского табора вышли трое. Когда они прошли половину пути до зимовья, поднимаясь на холм, стало видно, что один из них — одетый в тунгусскую парку, но безоружный, с непокрытой плешивой головой был при длинной густой бороде, каких не бывает у тунгусских мужиков.
Почетные послы воткнули в снег черенки рогатин и стали махать руками, вызывая на переговоры. Передав Третьяку власть, Пантелей взял с собой раненых покрученников. Трое вышли из ворот, и чем ближе они подходили к тунгусам, тем очевидней было, что плешивый мужик — свой, русский.
Едва сошлись, он запричитал горячо и быстро, всхлипывая и крестясь:
— Господи! Царица Небесная!.. Братцы! Счастье-то… Господи!
Один из тунгусских послов хмуро ткнул его локтем в бок, и пленник послушно умолк, только топтался на месте и смахивал с глаз слезы. Немолодое серое лицо его было посечено усталыми морщинами, красной паутинкой тлела в глазах давняя безысходная горесть. Глубоко и грустно собрались вокруг них складки. Коротко и неровно была острижена выпачканная золой голова.
Один из послов что-то буркнул. Пленник радостно кивнул, торопливо, захлебываясь словами, перевел:
— Не убивали они, братцы, тобольских промышленных, я тому свидетель — сам из них, последний живой. Меж собой мы передрались, поддавшись бесу, забыв Бога. На нас, на раненых, изнуренных, Господь навел гороховских промышленных, и те не оказали нам христианской помощи, но забрали припас, думая, что мы погибнем. — Он всхлипнул, простонал, не успевая выговаривать теснившие его мысли и чувства. — Передовщик наш ушел с ними. Из раненых я один спасся. Едва живого подобрали меня тунгусы и выходили. Третий год у них… Не оставьте, братцы, не бросьте бедствующего… Не берите греха на души…
Послы по тону поняли, что пленник опять говорит не то, что велено, снова ткнули его в бок и что-то сердито забурчали.
— Братцы! Они вам предлагают поменять меня на шамана. Я — толмач хороший… В покруту пойду, кабалу на себя выдам… Не оставьте…
Передовщик нахмурился, внимательно взглянул на послов и сказал строго:
— Надо подумать! Дело непростое. Как солнцу взойти — сообщим решение. Пальнем из пищалей два раза — согласны! Один раз — нет!
— На что вам шаман, братцы? Он не здешний. Пришлый он, с озер. Я обычаи, язык их знаю.
Передовщик, смущенный унижениями тоболяка, пробормотал скороговоркой:
— Не бросим!
Тунгусский раб вскинул на него изверившиеся глаза, опять всхлипнул, с трудом удерживаясь от новых просьб, смахнул плечом слезы. Но пора было расходиться.
Послы вернулись в зимовье, где их с нетерпением ждали. Едва закрылись ворота, их обступили промышленные с пищалями в руках, на некоторых еще тлели фитили. Но передовщик уклонился от спешного разговора, а туруханцы задумчиво молчали. Оставив на нагороднях караульного, Пантелей велел всем собраться в избе для беседы и совета.
Здесь он вдумчиво поведал о встрече и разговоре. Большинство зимовейщиков сходилось на том, что бросать своего, православного, среди чужаков, да еще под родительскую субботу — грех неотмолимый. И только контуженый Свист упорствовал, доказывая: если поменять шамана на русича, то тунгусы станут их, промышленных, аманатить, промышлять не дадут.
* * *
На Дмитриевскую родительскую субботу метель унялась, но не зарозовела заря на восходе, не блеснуло солнце: тяжелые облака волоклись по руслу реки, цепляясь подбрюшьем за черный лиственный лес. Набиралась сил и мощи, темнела от злобы северная пурга — старуха Хаг.
На тунгусском таборе бывший тоболяк Истомка, кутаясь в ветхую парку, раньше всех выполз из шалаша. Ночью он не сомкнул глаз от терзавших мыслей, затемно раздул костер и сидел, склоняясь над пламенем, мысленно молился, повторяя тропарь всем умершим: «Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя… Никто же не безгрешен, только Ты…»
Слезы текли по его щекам, и он их не смахивал, только постанывал и поскрипывал зубами. Но не о покойных родителях, не о павших товарищах были мысли: Истомка ждал решения зимовейщиков. Тунгусы в этот день не донимали его ни работами, ни расспросами: понимали, как тяжко на душе у чибары[73].
Ухнул залп. Стреляли чуть ли не из полудюжины стволов. Эхо отозвалось от серых обледеневших скал. Истомка, сжав зубы, ниже и ниже склонял выстриженную голову к пылавшим углям. И когда, едва не потеряв надежду, хотел уже ткнуться лицом в костер и завыть — прогрохотал второй залп. Облако пороховой гари докатилось до тунгусского табора. Когда-то этот дух казался Истомке зловонным. Нынче пахнуло в лицо не тухлятиной серы, а милым запахом родины.
Обмен пленными нельзя было провести без подарков и дружеских пиров. Это больше всего пугало передовщика: запускать тунгусов в зимовье при нынешнем малолюдстве — все равно что подстрекать к новому нападению. Забрав тоболяка и отпустив шамана, он взял двух заложников из тунгусских послов и отправил к тунгусам с подарками Вахромейку с Угрюмкой.
Свист был немало удивлен такой честью и настороженно зазыркал на передовщика, додумываясь до подлинного смысла его решения, неуверенно кивнул на отбитый, посиневший бок. Но Пантелей, усмехаясь в бороду, сказал жестко:
— Не боком жрать — зубами. Хоть какая-то будет польза от тебя. — И опять поймал себя на тайном злорадстве, хотя ничего плохого про него сказать не мог. Ну не лез он к людям со своей помощью, но и вреда не делал, отлынивал от трудностей, но наказы исполнял.
Едва закрылись за Истомкой ворота зимовья, он упал на колени и стал истово молиться, ложась на снег грудью в земных поклонах. Вскочив, стал суетливо благодарить всякого зимовейщика за свое спасение, всем кланялся в пояс, обещая впредь поминать в молитвах утренних и вечерних. С него содрали завшивевшую одежду и втолкнули в баню. Парился тоболяк до изнеможения.
Плешину ему выстригали тунгусы, чтобы родственники не путали пленника со свободным. По его просьбе передовщик обрил ему голову концом сабли. Потом, пока вымораживалась и выпаривалась одежда, приодетый в чистое с чужого плеча, Истомка клевал носом, не в силах жевать хлеб, по которому истосковался: только отдувался, вытирая выступавший пот, и пил пиво, которое на родительский день и у воробья припасено. Добродушно посмеиваясь над освобожденным, туруханцы увели его под руки на свободное место и дали одеяло.
Почетные заложники от бани отказались. Их разместили под кровлей дровяника, разложив во дворе большой костер. Кормили рыбой и мясом, подливали свежего пива. Захмелевшие и довольные приемом, тунгусы развалились на постилке из хвои, угощались порсой и брусникой, ждали, когда сварится в чугунном котле сохатина. Притом они опасливо поглядывали, как красный, исходящий на морозе жарким паром Истомка полуживым вываливался из бани, падал в снег и снова, без принуждения, полз в жаркую избенку. Им казалось, что бывший чибара истязает себя не по своей воле, но очищается от позорного рабства.
Вахромейка с Угрюмкой вернулись с пира в потемках. Тунгусов, сопровождавших Истомку, одарили и выпустили за ворота зимовья. Взаимное уважение было соблюдено.
Вахромейка был весел и доволен проведенным днем, Угрюмка — озабочен. День был постный, и он ел рыбу, выбирая куски пожирней, к мясу не прикасался. Под конец пира его стали настойчиво спрашивать, отчего он ест не со всех блюд. Вдруг посреди стола появился ржаной каравай, которого Угрюмка прежде не замечал. Он обрадовался, отломил краюху, начал жевать, но вместо хлеба учуял во рту вареную печень. Шаман пристально буравил его взглядом, в его больших черных глазах поблескивали озорные искорки.
Сплюнуть жеванину за гостевым столом Угрюмка не посмел, виду не подал, что догадался о шаманском чаровании, осторожно отложил недоеденный кусок и досидел на пиру с кислым видом. Привычный к сибирским нравам Вахромейка только посмеивался над ним, вытирал жирные пальцы сухим мхом и подбадривал:
— Не своей волей: по принуждению, за други своя души скверним… Бог простит.
Умишком-то Угрюмка все понимал. В голодные дни, бывало, и сам не думал, что можно, чего нельзя — лишь бы брюхо набить. Не иначе как от сытости стал брезглив и разборчив в еде.
Среди глухой ночи в выстывшей избе Третьяк первым поднялся на утреннюю молитву. Истомка тут же соскочил с нар, принялся угодливо раздувать печь, повесил котел на огонь. Промышленные, зевая и потягиваясь, стали собираться в путь. Похрустев суставами, свесил ноги с нар и передовщик, ему надо было дать наказы и проводить чуничных. Сырые венцы избы потрескивали от стужи. От ветра тренькало дранье на крыше. Оконце с вмороженной в него льдиной было черно. Третьяк с Ивашкой нагрузили нарты, бечевой и ремнями увязали поклажу, пропахшие свежестью ночной стужи вернулись к очагу для завтрака.
Ярко горела смоленая лучина, освещая избу. Вахромейка скинул одеяло, зевнул, крестя рот в бороде, сел. Известное дело, если с вечера мяса объелся, с утра еще пуще есть хочется. Истомка с обритой головой, на которой мерцали отблески горящей лучины, так и впился в него взглядом. Глаза его вдруг засверкали, лицо исказилось бешенством, и он завопил, размахивая березовой рогулькой, которой помешивал в котле:
— Это же Свист!
— Ну, Свист! Покрученник, — настороженно взглянул на одного и на другого передовщик.
Истомка крутанул рогулькой, как саблей, и с воплем бросился на покрученника. Бывший боевой холоп не растерялся, увернулся от удара, и тоболяк ткнулся лбом в стену так, что она дрогнула.
«Ну вот, — с неприязнью подумал Пантелей. — На знатного аманата выменяли еще одного смутьяна и крикуна».
Но взглянув на Вахромейку, он содрогнулся. У того тревожно метались злобные глазки, рот был перекошен, из-под усов виднелись острые зубы, отчего он походил на загнанную в угол крысу. Оборотень — показалось передовщику.
Мотая головой и прикладывая ладонь к взбухающей шишке, Истомка замычал:
— Он же был в нашей ватаге… Обобрал раненых. Припас пограбил…
Шестеро промышленных людей пытливо уставились на Вахромейку. Покрученник с блуждающими, затравленными глазами резко вскочил на лавку.
— Говори! — пристально наблюдая за ним, приказал передовщик.
— Что говорить? — вскрикнул Вахромейка кривящимися и дрожащими от страха губами.
— Что недосказал, когда я за тебя ручался.
— От самой Ивандезеи сколь переговорено о пропавшей тобольской ватажке, — хрипло пророкотал туруханский покрученник. — А он слушал, лыбился и помалкивал.
— Меня никто не спрашивал! — огрызнулся Вахромейка, усмехнувшись презрительно и высокомерно. Во взгляде его мелькнуло что-то хитрое.
— Теперь спрашиваем! — сказал Пантелей, сдерживая ярость. — А станешь таиться, на дыбе пытать будем, огоньком язык развяжем.
— Что говорить-то, — вскрикнул Вахромейка крепнущим голосом и облизнул губы. — Эти, — язвительно кивнул на Истомку, — перерезались, передрались смертным боем. Все в зернь играли. Доигрались. Двое гонялись друг за другом и залезли на тунгусское капище. А этот, Истомка-своеуженник, был заводчик всем склокам… Я с передовщиком пытался их образумить. Куда там! Четверых земле предали…
— Мхом забросали да кол воткнули! — морщась простонал Истомка. — Предаст он земле…
— Этот и еще двое уж на ладан дышали, — не обращая на него внимания, продолжал Вахромейка. — Пошли мы с передовщиком в зимовье к Сеньке Горохову, по пути его людей встретили. Вернулись — еще один помер, у этого, — кивнул на Истомку, — кишки наружу торчат — куда его волочь?.. Сидеть ждать, когда помрет или когда тунгусы придут и всех перебьют? Взяли с собой что было на прокорм в пути и ушли в зимовье за подмогой. Вернулись через неделю — ни покойников, ни раненых, ни промыслового припаса… Вот и все, что знаю! Я в покруте был, с меня что взять? Однако жив. А стал бы языком молоть — в колодки и к воеводе на дознание, на дыбу, под кнут. Потому и не говорил, пока не спрашивали.
— И пострадал бы за правду! — укорил его разорившийся архангельский купец. — Но не пожелал принять мученический венец.
Вахромейка глазом не повел в его сторону, только порозовевшие губы чуть приметно дрогнули. Теперь уже насмешливо поглядывая на промышленных, он продолжал торжествующим голосом:
— Их передовщик в Тобольске кабалу на себя выдал, за всех Крест целовал и был в ответе. Он также скрывался у Горохова, хотел сперва богатства добыть, а после явиться с повинной. Но прошлый год, сказывают, помер. А я той же весной ушел в Туруханское зимовье. Другой год, как говорил уже, с вагинской ватагой промышлял.
— А ты что скажешь? — передовщик строго обернулся к Истомке.
Бывший ясырь сидел, сжав бритую голову руками, раскачивался и стонал. Вахромейка взглянул на него презрительно, проговорил с обычной беспечностью:
— Хлебнем еще лиха с этим смутьяном! Я его знаю.
— Лучшего толмача нам не сыскать! — сказал передовщик, поигрывая темляком сабли. Подумав, добавил: — Пока не вернется с промыслов вся ватага, будете жить в мире. После рассудим.
С рассветом впряглись в нарту и отправились к своим станам Третьяк с Ивашкой Москвитиным. Тунгусы снялись с табора и мирно ушли от зимовья. Еще через два дня по своим чуницам разошлись поправившиеся туруханские покрученники. В зимовье остались четверо. Пора было и им добывать соболишек.
Задолго до позднего рассвета Пантелей поднялся и умылся студеной водой. По обычаю промышленному, стародавнему, перекрестившись, вышел в сенцы, взглянул на светлый месяц, на частые звезды. Мороз жалил и пощипывал щеки, зябко пробирался под ветхий жупан. Передовщик встал лицом к востоку, спиной к западу, трижды поклонился в ту сторону, где алеть бы заре ясной, где всходить бы солнцу красному, поклонился на черный лес и стал читать заговор на удачную ловлю зверей.
Едва разъяснилось на небе, он на пару с Вахромейкой отправился тропить свой путик, рубить станы, сечь кулемники, обставлять ухожья. Проходив до ранних сумерек, они до полуночи рубили шалаш, обустраивали стан, и все равно ночевать пришлось у костра, по-промышленному. Наутро Пантелей отправил Вахромейку сечь кулемы, а сам принялся за обустройство.
К вечеру усталый Свист вернулся в готовое жилье и сказал, что работы ему здесь дня на три. Он предлагал вытропить и обставить от стана три ухожья в разные стороны.
Переночевав в шалаше, промышленные решили, что одному надо отправляться дальше, рубить другой стан. Низкие тяжелые тучи и прежде то наползали на темный лес, то пропадали где-то в дальней стороне, а тут так обложили округу, что был сумрак. С часу на час могла завыть, запуржить северная пурга, но могли и развеяться тяжелые облака.
Подумав, погадав, передовщик не стал тратить время попусту. На случай непогоды он взял с собой хлебного припаса на два дня, шубный кафтан, котел и одеяло, затем со шлеей на плече и лыпой в руке отправился на лыжах в полуденную сторону. Вахромейка налегке, с топором за опояской побежал по лыжне на полночь.
Прогадал передовщик. Лучше бы сек кулемы поблизости от стана. К полудню так замело, что не стало видно и деревьев в десяти шагах. Пантелей повернул было обратно по своему следу. Вскоре сбился — след был заметен. «Ну, отче Никола, выручай!» — пробормотал в смерзшуюся бороду, перекрестился скрюченной рукой в рукавице.
Завыла, зашвырялась снегом, неистово заплясала старуха Хаг, поучая камлать здешних шаманов. Борода Пантелея схватилась коркой льда, выбившиеся из-под шапки брови и волосы покрылись куржаком. Студеный ветер колко вымораживал глаза.
Пантелей отворачивал голову, принимая ветер плечом и боком. Некоторое время он чувствовал, в какой стороне стан и зимовье. Потом все пропало в темной сумеречной круговерти: и кровавый запад, и манящий восток, и чудной полдень — юг. Грешный мир оставил его: среди всей этой свистопляски не было уже ни людей, ни зверей — одна лютая стужа да сострадающий Господь. Снег был не так глубок, чтобы можно было зарыться в него и переждать пургу. Из тьмы выплывали приземистые лиственницы с толстыми промерзшими комлями, от которых со звоном отскакивал топор. Ни дров нарубить, ни костер разжечь. Ничего не оставалось, кроме как идти: спокойно, без надсады передвигать ноги, лишь бы не стоять на месте, и Пантелей повернулся спиной к ветру — все равно не знал, куда держать путь.
Легко заскользили лыжи по плотному насту. Нарта, подталкиваемая пургой, то и дело тыкалась под колени, и он придерживал ее лыпой. Иногда лыжи зарывались в сугробы, и нарту приходилось волочить с усилием. И все же идти стало легче.
Одежда от такой ходьбы начала подсыхать изнутри, а снаружи заледенела. Перестали слезиться глаза. Едва начинало знобить, передовщик двигался быстрей и согревался. Вот только ноги тяжелели, наливаясь неподъемным свинцом. Про себя он уже прочел молитвы — все, которые знал. Начал повторять их, но пурга и не думала униматься.
Стало совсем темно. Ему показалось, что впереди, в пяти-шести шагах, смутно проглядывается какой-то склон. То ли падь ручья, то ли яма. В лицо сладостно пахнул запах дымка. Почудилось ли? Пантелей остановился. Боясь быть снесенным под уклон, скинул лыжи, сделал по насту шаг, другой, прощупывая снег лыпой. Вдруг посох ушел в сугроб по самую рукавицу. Промышленный удивленно замер, озадаченно распрямился, вытягивая лыпу, и в следующий миг провалился с головой. Стало тихо и тихо.
«Помер, что ли?» — подумал. Приоткрыл глаз. В темноте мерцал отблеск костра. Едко пахло дымом. В просвете откинутого полога на четвереньках стояла полуголая девка. На ее худеньких плечиках веревками висели черные косы. Полог распахнулся шире, высветив просторную полость или отрытые в снегу сенцы, в которых сидел Пантелей. А там, возле костра, положив морду на лапы, зевала собака.
Девка что-то затараторила боязливо и возмущенно. Потом залилась звонким смехом — будто серебряный колокольчик зазвенел под дугой удалой тройки.
Полог закрылся. Опять стало темно и стыло. Смахивая смерзшейся рукавицей снег с лица, передовщик удивленно думал: «Вот те раз! Неужто в тунгусский рай попал? Не бросил ли Господь?» Задеревеневшими губами он начал было читать Господню молитву, но полог снова распахнулся. Высунулась все та же девка, но уже в парке. Опять колокольчиком зазвенел ее смех.
Тунгуска ловко вскарабкалась на кучу хвороста и дров, на которой сидел Пантелей, высунулась в проем обрушившегося сугроба, ловко развязала узлы на нарте и покидала вниз поклажу. Саму же нарту она перевернула, накрыв провал. Под нее подсунула лыжи. Все было сделано так быстро, что Пантелей еще не успел понять — жив ли.
Девка, посмеиваясь, подтолкнула его к пологу. В скрежещущей, задубевшей одежде он тяжело опустился на карачки, просунулся в просторный балаган, крытый берестой. Пылал костер. На рожнах пеклась ощипанная птица. От духа, исходившего от нее, млели две собаки, лежавшие возле наклонных стен.
Над входом, завешанным лавтаком, был выжжен крест. Это ободрило Пантелея. «Никак попал на стан своей же чуницы», — подумал. Заледеневшей рукавицей он потрогал кедровый крест на груди, склонился над огнем, чтобы оттаять бороду и узлы на лузане. Затем скинул рукавицы и отодрал от волос обледеневшую шапку.
Девка побросала в балаган его одеяло и шубный кафтан, мешок с хлебом и рыбой. Котел она внимательно осмотрела, повертев в руках. Он ей явно нравился. Снимая сосульки, обсасывая усы и отплевываясь, Пантелей пристально поглядывал на тунгуску — малорослую и щуплую. «Куда как до Маланьи-то, — вспомнил с тоской и перекрестился. — Едва жив, кобель смердячий, — опять за свое!» — подумал с сердечной болью.
Тунгуска снова юркнула в сени, отбросила обрушенные комья снега, ногами в высоких камусовых сапогах утоптала их, кинула к очагу несколько поленьев, затем вползла сама, подбросила хвороста в огонь, перевернула шипящую жиром тушку птицы. Глаза ее смешливо блеснули, разглядев обледеневшую бороду гостя, маленький приплюснутый носик сморщился, и она опять звонко, как колокольчик, рассмеялась.
Отодрав последние сосульки и оттаяв узлы, Пантелей принялся разоблачаться: скинул через голову лузан, затем снял налокотники, скинул и повесил сушиться кафтан, сбросил жилет, оставшись в холщовой рубахе. Тело впитывало в себя жар огня, и проходила усталость.
Тунгуску так развеселило раздевание промышленного, обмотанного тряпьем и мехом во много слоев, что она откинулась на спину и звонко захохотала. Глядя на нее, Пантелею тоже показалось смешным его одеяние со множеством узлов, он хрипло хохотнул, скинул рубаху, стал ее сушить, поворачивая к огню то одним, то другим краем.
Шалаш был явно свой, промышленный, недавно поставленный. Чьей чуницы? Где? Этого передовщик понять не мог. Тунгуска почтительно взглянула на рубец, пересекавший грудь.
— Сонинг![74] — восторженно провела пальцем по сабельному шраму.
— Не вовремя да сильно уж сладко спалось! — по-своему понял ее Пантелей, — Чуть без головы не остался, — проговорил тихо и приглушенно. — Но Бог миловал.
— Нюрюмня?[75] — спросила она, морща носик. Тихонько засмеялась и ткнула его пальцами в грудь.
— Пантелей! — назвался он и тут же подумал, что тунгуске его имя не выговорить. — Пенда! — назвал себя по-сибирски и хлопнул ладонью в грудь. — А ты? — кивнул. — Лесная дева?..
— Дяви-дяви![76] — она шаловливо захлопала ладошками по животу. — Пянда? — указала на промышленного и, когда он кивнул, вовсе зашлась от хохота, даже ногами засучила. Устав смеяться, по-свойски придвинулась, подергала передовщика за бороду, бормоча на разные лады — «Пянда… Пенда»[77], потрепала загривок молчаливо лежавшего пса.
Спохватившись, она склонилась со строгим видом над пекущейся птицей, стала выщипывать обгоревшие перья. Пантелей с любопытством поглядывал на нее и вспоминал рассказы остяков о лесных девах. Черного, как уголь, пса не было, и обутка не белая. Пуще всего вспоминались слова: «Раз дала на себя посмотреть — хотела, чтобы замуж взял».
Дивился передовщик всему происходящему, силился проснуться или увериться, что не спит, сбиваясь, читал про себя заговоры от обаяния и чарования. Между тем подтянул мешок с едой, попутно заглянул под волчью шкуру — нет ли там капкана и какого-нибудь оружия. Достал смерзшийся хлеб, отрубил топором половину каравая и положил так, чтобы хлеб таял, не подгорая, и собаки бы его не достали. Но те делали вид, что равнодушны к еде, как и к незнакомцу, поглядывали лишь на мясо, с вожделением подергивая усами и водя острыми ушами.
Птица испеклась. На двоих ее было мало. Тунгуска, обжигаясь и потирая ладошки, разорвала тушку с помощью костяного ножа и большую часть протянула гостю. Собаки страстно зашевелили усами, заводили ушами, но с места не сдвинулись. Оттаял хлеб, слегка подгорев по краю, промышленный преломил его на несколько частей и подал тунгуске.
Едва они закончили ужин, собаки, сорвавшись с мест, мигом проглотили брошенные кости и снова улеглись в стороне от огня. Тунгуска взяла котел промышленного, набила его снегом и поставила на огонь. Напившись кипяченой воды, она зазевала, вывернула внутрь рукава парки и стала моститься у огня на волчьей шкуре.
Пантелей надел просохшую рубаху, жупан, постелил рядом с тунгуской шубный кафтан, укрылся сам и ее укрыл краем своего мехового одеяла. Девка, сонно зевнув, послушно придвинулась к нему и сладостно вытянулась. Перекрестившись, промышленный запустил руку под ее парку, скользнув ладонью по гладкому животу. Она лягнула его в колено, сердито вскрикнула. Зарычали собаки, приподняв головы, показывая волчьи клыки.
Пантелей отдернул руку и, обхватив тунгуску поверх парки, прижал к себе. Она тому не противилась: вдвоем под меховым одеялом, на шубе можно было ночевать и без огня. Девка была совсем не прочь поспать в его объятиях, но только для тепла.
Промышленный проснулся от вкрадчивых звуков. Он почувствовал, что спал долго и сладко. «Уж день, наверное!» — подумал, зевая и крестя рот, нащупал нательный крест на груди. В шалаше была темень, девки под боком не было. Из снежных сеней доносились возня и хруст веток. Послышалось, как откинулся полог, тунгуска тихонько протолкнула хворост и втиснулась сама.
Порывшись в затухшем очаге, она нашла тлеющий уголек и стала дуть на него, подкладывая растопку. Постепенно высвечивались ее маленький носик пипкой с приплощенной переносицей, вздувавшиеся и опадавшие щеки. Заплясал в очаге робкий язычок пламени. Их глаза встретились. В полутьме Пантелей увидел, как сморщился маленький носик и залучились блестящие глаза.
— У-у-у! — показала она рукой на кровлю шалаша. И он понял, что пурга не стихает, потянулся, зарылся в одеяло, и захотелось ему вдруг, чтобы ни пурга, ни эта ночь не кончались никогда. Неприхотливая, ласковая певунья, память о которой томила сердце, никак не подходила для этой студеной ночи с камлающей старухой Хаг наверху.
Пурга бесчинствовала три дня. Весь припас был съеден за два. Но это ничуть не беспокоило ни Пантелея, ни шаловливую деву, дочь Минчака. За время, проведенное с ней, промышленный выучился здешнему языку лучше, чем его знал Вахромейка. Он больше не распускал рук, и тунгуска стала доверчивей, вела себя с ним, как с родственником: ласкалась, шалила, смеялась, но не давала повода для мужской страсти.
Он уже знал, что она с отцом и двумя братьями живет на урыките, который ватажные видели осенью. Три зимы назад был большой голод. Многие тунгусы съели своих ездовых оленей. На кочевавшую семью Минчака, хангаева рода, напали чужаки — хырыколь тэголь[78]. Ей с младшим братом удалось убежать и спрятаться. Отец же с двумя сыновьями бился с врагами. Старшего сына убили, его жену и всех оленей забрали.
Родственники помогли в беде, дали им новых оленей. Но прошлой зимой опять был голод, подаренных оленей пришлось умертвить и съесть. Мать умерла. Больше оленей никто не даст. Минчак с двумя сыновьями и дочерью живет на одном месте. Они ловят рыбу, бьют птицу, тем и питаются. Она добывает соболей. Вдруг их удастся выменять на новую упряжку.
На четвертый день пурга стихла. Передовщик выбрался из шалаша. Был сумеречный северный день. До полудня висел на небе белый месяц, низко над лесом мерцала утренняя звезда.
Тунгуска с собаками убежала добыть еду. Промышленный, взявшись за топор, стал пополнять израсходованный запас дров для чуницы, промышлявшей в этих местах. Ждать, когда свои навестят стан и выведут его к зимовью, было стыдно. В какой стороне зимовье — заплутавший передовщик не представлял.
Дочь Минчака, как называла себя тунгуска, вернулась к ночи, когда запас дров был с лихвой пополнен. К стану выскочила знакомая собака, затем другая, потом показалась тунгуска на лыжах. Смеясь, она вывалила из мешка, привязанного к паняге, с десяток куропаток и тетеревов. Попутно добыла доброго головного соболя, который и по мангазейским ценам стоил не меньше двух рублей.
Девка скинула парку и стала проворно готовить ужин, то и дело с озорством посматривая на промышленного. Пантелей же, глядя на нее, втайне любовался ловкими движениями, черными косами, лежавшими по неразвитым плечикам.
Наутро они поднялись рано, подкрепились остатками ужина, попили брусничного отвара. Пантелей нагрузил нарту, стянув груз бечевой. Тунгуска связала свои пожитки и приторочила их к широкой лыжине-волокуше. На вопросы, где ее урыкит и зимовье лучи, она уверенно указывала рукой в одну и ту же сторону. Промышленный доверился ей и пустил ее впереди себя.
Лыжи не проваливались в зализанный, уплотненный ветрами снег, нарта волоклась легко. Мест, по которым шел в пурге, Пантелей не узнавал, пока не добрался до среднего течения ручья. Здесь они с Вахромейкой прокладывали путик. Тут в его голове все встало на свои места: где зимовье и куда в пургу вынесли ноги по ветру.
Лыжного следа к зимовью не было. Передовщик решил, что Вахромейка ищет его. Нужно было идти к стану, и он знаками предложил дочери Минчака повернуть к нему, но она отказалась, указывая в сторону реки. Тогда Пантелей знаками и запомнившимися словами растолковал, что придет в гости к Минчаку. Тунгуска поняла. В ее черных глазах мелькнули недолгая девичья грусть и смущение, она рассмеялась выстывшими губами и, не оборачиваясь, заскользила своим путем.
Передовщик подошел к стану в темноте, издали почуяв дымок. Из отверстия в островерхой крыше шалаша вылетали веселые искры. Пантелей не стал подходить к жилью прямиком, но, бросив нарту, обошел его и обнаружил, что Вахромейка все это время дальше, чем на полсотни шагов, от стана не отходил: ни ухожье не проверял, ни нового не сек, ни связчика[79] не искал. Теперь понятней было, что имели в виду туруханские покрученники, когда называли его «лешим», и почему никто не брал в свои чуницы.
Неприязнь опять вскипела было под сердцем, но Пантелей взял себя в руки, укоряя, дескать, а сам-то не провалялся ли с девкой четыре дня. У входа в шалаш были сложены десятка два новых кулем, сделанных на днях. Мало. За четыре дня мог бы и сотню нарубить. А что лучше? Таскать их по ухожьям или сечь на месте? Вроде и корить было не за что.
Передовщик стал хмуро разгружать нарту. Вышел Вахромейка, кутаясь в шубный кафтан, весело оскалился.
— Срубил стан? — спросил вместо приветствия.
— Нет! — сдержанно ответил Пантелей. — В пургу попал… А ты, поди, весь припас съел?
— Дня на два еще хлеба, — как ни в чем не бывало ответил Свист. — Напек. Всю рожь перевел. Все равно, думаю, вернешься. А я — куда? — зыркнул настороженно, улавливая недоброе настроение связчика. — Следы замело. Где искать?
Поскрипывая зубами, передовщик молчал. Все правильно говорил Вахромейка, только Третьяк или другой кто на его месте вели бы себя по-другому.
На обратном пути они обставили ухожья по притокам ручья, обмели снег с занесенных ловушек. Из тех, что срубили до пурги, сняли полдюжины промерзших соболей, среди них два добрых, черных, головных.
В зимовье кроме Угрюмки, Табаньки и Истомки были двое устюжан. По их виду передовщик понял, что случилась беда. Шедших за припасом с двумя сороками собольих шкур угораздило встретить в пути оленных тунгусов неведомо какого рода. Встретились мирно, те угостили промышленных мясом и брусникой. И тогда Нехорошке приспичило похвастаться удачным промыслом, показать добычу. Увидев рухлядь, тунгусы избили обоих устюжан, отобрали соболей, топоры с котлом. Чего ради бросили живых? Разве потому, что оба немолодые? Или Бог укрыл их и спас от смерти.
— У них что молодой, что старый, что князец, что бедняк — почтенья ни к кому нет! — выговаривал Истомка. — Есть уважаемые, почитаемые, как шаман Газейко. Бывают знаменитые охотники, проворные бегуны, которых многие знают. Был такой Йеха, харагирова рода, нынче сказывают про Нургауля. Тунгусы в него стреляют из луков — попасть не могут: он от всех стрел увертывается.
— Ты скажи, как рухлядь вернуть да наказать грабителей? — сердито оборвал разговорившегося толмача передовщик. Убыток был немалым.
— А никак не вернешь, — развел руками Истомка. — Ни рода, ни племени не знаем, а тайга велика. Где ж их сыщешь?
И все равно промыслы были удачными даже по понятиям старых туруханцев, не первый год промышлявших в Енисее-стране. Вскоре пришли от чуниц посыльные с мешками мерзлых соболей. Они тоже опасались держать при себе много рухляди. На промыслах им часто встречались злые и вороватые тунгусы.
Стал передовщик думать, как беды избыть, когда в зимовье уже скопилось много рухляди, а сидельцев, бывает, остается всего двое, хоть и при огненном оружии. И все стояла перед его глазами дочь Минчака. Знакомая сухота морила душу, свербила в костях и суставах, не давая жить, как прежде.
И молился Пантелей, умоляя Господа исцелить от сухоты, от навета ли, постился и сам себя целил дедовскими заговорами. Ничто не помогало. Вспоминалась веселая тунгусская девка — и все тут. Никогда прежде не прельщали его неразвившиеся отроковицы, к тому же предпочесть своим единокровным иноплеменницу — грех великий. Но проняло грешного, своих-то все равно на сотни поприщ не было. И нашептывал бес мысли вроде бы мудрые: «Пусть обеднел дом Минчака, но он может помочь договориться с единоплеменниками о добрососедстве, может помочь нанять оленей». И тогда по застывшей реке можно вывезти скопившуюся рухлядь, чтобы не сидеть на богатстве с вечной опаской. Можно по зимнику завезти хлебный припас к следующей зиме. Это не на себе стругами волочь.
В том, что купцы захотят промышлять еще одну зиму, никто не сомневался. Пантелей и сам не хотел думать о возвращении, пока не дойдет до истоков реки и не увидит, что за ней.
Новая сухота заслоняла былую тоску: являлась в снах ласковая, желанная Маланья, а лицо было иным. Забывался ее облик.
На Михайлов день пришел Третьяк с устюжским складником. Они привезли пять сороков рухляди ладной, головной, да еще мешок с морожеными, неошкуренными соболями. Радостно встретив товарища, передовщик стал делиться с ним своими мыслями и опасениями.
Остывая после бани возле очага, Третьяк попивал квас и внимательно слушал Пантелея. Соглашался: да, опасно держать в зимовье скопившееся богатство, в чуницах об этом много говорили и думали. Вывезти бы рухлядь в укрепленное Туруханское зимовье, сдать купцам-пайщикам — всем было бы спокойней.
— Кабы договориться с тунгусами, чтобы за хорошую плату дали нам оленей, да по зимнику отправить рухлядь на Турухан, — поглядывая на него, рассуждал передовщик. — Обратно ржаной припас привезти бы, — наводил Третьяка на свои сокровенные мысли и все метал на него быстрые, нетерпеливые взгляды.
— Хорошо бы! Да как с ними договоришься? — неторопливо отвечал тот. — Больно уж злы на нас после осеннего набега.
— Возьмем аманатов — еще больше озлим. Без них слыханное ли дело такое богатство отправлять, — вкрадчиво подсказывал Пантелей, и рвалось с его языка давно приготовленное слово. Третьяк же задумчиво помалкивал, попивая квас, а передовщику казалось, будто тот наперед давно все понял и терпеливо выжидает искреннего признания.
— На том берегу на урыките зимует безоленный род Минчака, — принужденно позевывая, обронил Пантелей, смущенно опустил раздраженные глаза, пожевал ус. — Бедняки — по здешним понятиям, но имеют сильную родню хангаева племени, могут помочь нанять оленей. У Минчака два сына и дочь. Одного бы сына с собой в обоз взять, не аманатом, а возницей… — Пантелей помолчал и, решительно вскинув глаза, выпалил: — А девку — к нам в зимовье.
Он без нужды подбросил полено в очаг, помедлил, повздыхал, покачал головой. Третьяк же все еще отдувался, вытирал рукавом выступивший на лбу пот.
— Ну что ты пялишь на меня свои змеиные зенки? — вспылил вдруг передовщик. — Если обзавестись среди тунгусов родней, так их и аманатить не надо.
— Как это? — Третьяк икнул и уставился на него немигающими глазами.
— В пургу встретил я на нашем стане девку хангаева рода или племени, — смелей и жестче заговорил передовщик. — Ничего девка: маленькая да тощая, но промышлять мастерица. А что, если мне посвататься по тунгусскому обычаю?
Третьяк закашлял, подавившись вдруг квасом.
— С некрещеной, во грехе? — просипел, натужно выпучивая глаза. — Обпризорила, что ли?
— Будто с крещеной грех меньше, — нетерпеливо отмахнулся Пантелей. — Я уж на сто раз сглаженный, чарованный, призоренный… Не силком же — добром, коли сама пойдет и родные отдадут.
— Может, Маланья по ветру чары пустила? — прокашлявшись, посочувствовал Третьяк.
Передовщик опустил глаза, грустно улыбнулся, качнул головой, добром вспомнив полюбовную девицу. На сердце потеплело.
— Нет! Она меня благословила на путь и волю. Хорошая девка. Ей бы мужа доброго, не как я, — всю бы жизнь был счастливым… А другой девки нет, чтобы зло против меня умыслила.
— Значит, тунгуска! — решил Третьяк. — Дикие с нечистой силой знаются без стыда.
Но подумав, он похмыкал носом и согласился, что всем от того была бы польза. Вот только ватажные не позволят держать в зимовье собак и некрещеную бабу. Все они знали много сказов о промысловых походах, о ватагах, передравшихся из-за женщин.
Пантелей пожал плечами и сказал то, о чем много думал последние дни:
— Так то из-за русских баб. А тунгуску пусть окрестят! Это мой грех. С нее-то какой спрос? А кто позавидует — пусть и себе дикарку сыщет.
Третьяк молчал, не зная, что возразить от имени ватажных. Пантелей же признался:
— Тоска прибила сердце, кровь, ум, разум, волю и хотение… Коли можешь отговорить — отговори своим словом, заговором и приговором, молитвами Божьими. Сам рубаху сожгу на Благовещение и забуду[80]. Только рухлядь все равно надо увозить. И без тунгусов нам никак не обойтись.
Боевые товарищи сидели молча, каждый думал о своем и об общем деле.
— Тебе хорошо, — покорно вздохнул Пантелей. — Тебя бесы не мучают блудными помыслами. А я — сколь ни крестись, ни бей поклоны — все одно…
— Почему не мучают? — передернул юношескими плечами Третьяк. — Еще как мучают. Только ты им потакаешь, а я держу за горло, как саблю в бою. Дай волю — пуще твоего будут смущать.
Утром Третьяк пообещал товарищу поговорить со всеми ватажными, дать знать ближайшим чуницам, и если будет передовщику дозволение взять тунгуску — пусть берет и договаривается о зимнем обозе на Турухан.
На Николу принесли в зимовье соболей заводчики от туруханской и холмогорской чуниц. К тому времени сундук с казной, на котором восседал передовщик в красном углу, так распирало мехами, что зимовейщики вынуждены были поставить посреди двора крепкий лабаз для рухляди. Запирался он аманатской цепью с замком, а ключ хранил у себя передовщик.
Туруханцы, не показывая недовольства, с одного только намека дозволили ему взять в зимовье тунгуску с тем, чтобы порадеть за общее дело. Устюжане с холмогорцами обругали Пенду и смердячим кобелем, и безбожным распутником, но, общей бедой томимые, вынуждены были дать согласие на блуд в зимовье. При этом они надавали таких наставлений, исполняя которые в точности передовщику с девкой пришлось бы спать врозь.
На память преподобного Феодора Студита, когда звезды гасли, а день так и не наставал, в сумерках северной ночи Пантелей Пенда с Угрюмкой и толмачом Истомкой отправились к меноэну[81] по застывшей и заметенной снегом реке. Стужа, от которой трещали деревья, слегка отпустила, ветра не было. Недвижный, морозный туман лежал на безмолвной реке. Хруст снега под лыжами слышался и отдавался далеко за спиной, будто крались по следу нечисть с нежитью.
Передовщик с Истомкой попеременно волочили двухсаженную нарту, груженную одеялами, подарками и хлебным припасом. Угрюмка то и дело оглядывался, ожидая увидеть за спиной если не громадное чудище, чьи кости находили до снегов, то корчащего рожи мохнатого черта. Но в тумане не видно было ни птиц, ни зверя, лишь бесшумно поникнув кронами, стыли белые, покрытые куржаком деревья.
Сначала в холодном, сумеречном воздухе путникам почудился запах дыма, потом послышалось приглушенное тявканье собак — и открылся вид на меноэн с тремя островерхими чумами, называемыми у тунгусов «дю». Два из них курились дымками, маня теплом и уютом.
Подпираясь палкой, из чума выполз сутуловатый старик в долгополой шубе. Он обернулся лицом к гостям, без страха и без суеты стал поджидать их. Из-под снега выскочило до полудюжины собак. Они без лая бросились к путникам, окружили их, стали нюхать одежду и нарту. Самый рослый кобель задрал лапу, чтобы поставить на нее метку. Истомка по-свойски огрел его лыпой. Кобель отскочил без визга и молча, по-волчьи, показал клыки.
Из другого чума вылезли два длинноволосых мужика с непокрытыми головами, встали рядом со стариком и, переминаясь с ноги на ногу, без неприязни разглядывали гостей, окруженных собаками.
Истомка вышел вперед, громко и важно поприветствовал жителей, сам становясь похожим на тунгуса:
— Буэмэм![82]
Тунгусы внимательно посмотрели на его длинную, ухоженную бороду, на короткие, отраставшие волосы, видневшиеся из-под шапки. На их смуглых лицах насмешливо заблестели глаза, чуть покривились безбородые рты. Узнав бывшего чибару, молодые кивнули не ему, а промышленным: Пантелею с Угрюмкой. Старик же просто смотрел на пришедших, не выказывая ни неприязни, ни радости.
Тоболяк стал говорить с пущей важностью, бросая на тунгусов косые, надменные взгляды. Видимо, как это принято у них, спрашивал о здоровье родственников, об улове рыбы и о промыслах, потому что говорил долго и с упоением. Старик сухо и коротко отвечал на пространные речи.
Гостям указали на вход в чум, крытый шкурами. Он был самым просторным на стойбище. Едва Пантелей влез в него — встретился глазами со смешливым взглядом знакомой тунгуски, но вместо приветствия она спряталась за полог.
Возле пылавшего очага на кожах были выставлены берестяные блюда с брусникой и печеной рыбой, посередине стояла вареная целиком лосиная голова с обломленными рогами. Здесь явно ждали гостей и подготовились к их приходу. Пантелей фыркнул в обледеневшую бороду, подумав, не накамлала ли девка его сухоту и нынешнее сватовство? Но эта догадка не слишком-то обеспокоила передовщика. Перед выходом он пытал Истомку об обычаях сватовства у тунгусов, о чарах и о найме оленей. Толмач, долго живший среди диких, уверял, что у тунгусов не принято чаровать да узорочить[83] женихов и невест: их берут подарками или войной.
Следом за передовщиком под полог влезли Угрюмка с Истомкой. За ними втиснулись два молодых тунгусских мужика. Последним, покряхтев, вполз старик. Молодые тунгусы скинули парки, под которыми до пояса никакой одежды не было, смахнули с себя ладонями налипший колючий и жесткий ворс. Полуголые, с длинными волосами, распущенными по плечам, они расселись у огня. Тот, что постарше, приветливо заговорил с Истомкой, бросая приязненные взгляды на гостей. Другой, младший, тоскливо помалкивал, отодвинувшись в сторону. На его гладком лице, как болезнь, лежала безысходная печаль. Тонкий рот подковой был сжат к подбородку, брови скатывались со лба к щекам, будто тунгус претерпевал привычную боль.
В чуме сразу стало тесно. Женщин возле Минчаковского очага не было, угощать гостей было некому, а молодая тунгуска не показывалась. Неприветливый младший сын старика нерусским грубо кованым ножом стал строгать мороженую щуку. Сам же старик, с посеченным морщинами лицом, с длинными седыми волосками на подбородке, был задумчив и печален.
Истомка, развалившись у очага, голосом и манерами так подражал тунгусам, что походил на них больше самих хозяев. Он стал выспрашивать о печалях старика. Тот неторопливо поведал, что зажиточные тунгусские роды, имевшие оленей, запаслись мясом и теперь отдыхают на зимних стойбищах. Его же семья, лишившись оленей, уже год стоит на одном месте. Даже лучших гостей он редко может угостить мясом, а сам питается только рыбой.
Пантелей развязал кожаный мешок и стал раздавать подарки. Дрогнул меховой полог за его спиной, оттуда с любопытством высунулась тунгуска. Получив в подарок железную иглу, она юркнула на прежнее место. Из-за шкур послышался ее приглушенный смех.
— Моя дочь хорошая рукодельница и добытчица, — сказал старик. — Жалко расставаться с ней, но пора уже девке замуж. Как посватается хороший мужчина — придется отдать. — Так, прежде чем говорить о добрососедстве и мире, он начал намекать на сватовство, чем немало удивил не только передовщика с Угрюмкой, но и Истомку, знавшего обычаи народа.
В зимовье, узнав, что задумал передовщик, толмач пытался образумить его:
— Тунгусы и с тэго[84] не роднятся. С булэшэл[85], нерюмня[86] — только после долгих войн: если мирятся, бывает, отдают своих девок в жены одни другим. Но обычно берут жен из родов ибдери[87], минниль[88]. Лучше за троюродного брата выдадут, чем за своего чужака-нерюмню, но чтобы за чужака другой крови, другого языка девку отдать — неслыханное дело. Бывает, по плену и попадают к ним иные женщины, но не доброй волей…
Здесь же, в чуме, разговор получался иным. Угрюмка вскинул глаза на Пантелея. Тот лежал на боку и глядел в сторону полога тупыми, мутными глазами. По его лицу не так уж трудно было понять о цели приезда.
Младший сын Минчака, Синеуль, ожидая других подарков, с печальным лицом быстрей заскоблил железным ножом промерзший щучий бок. Старший, Укда, заерзал на месте, достал туесок[89] с брусникой, подсыпал ягод на плоское деревянное блюдо.
Опомнившись, Пантелей вручил по горсти бисера мужчинам, а старику сверх того отдал свой маленький, в полторы ладони, широкий и острый нож для шкурения и разделки мяса. За такой подарок воевода мог его наказать.
Поев брусники и печеной рыбы, гости и хозяева стали отщипывать мясо с лосиной головы. Укда, весело перебрасываясь словами с Истомкой, задорно поглядывал на Угрюмку, на Пантелея, предлагал им губы и щеки с головы, указывая ножом, где мясо вкусней.
Передовщик некоторое время был в задумчивости. Он собирался завести разговор о найме оленей, о поездке на Турухан-реку и только после этого осторожно вызнать о сватовстве. Судя по встрече, надо было заходить с другого конца.
С помощью Истомки он пожаловался старику, что здешние тунгусы не хотят давать аманатов, чтобы жить в мире и доверии с ватагой. Его слова и рассуждения о том, как спокойно и мирно можно жить под властью русского царя, выдав заложников, явно не заинтересовали жителей стойбища.
Тогда Пантелей заговорил о своей нужде в оленях. Тут оживился даже младший сын старика Синеуль, до тех пор сидевший молча: шевельнулся уголок его рта, будто подкова распрямилась одним концом, брови приподнялись, словно на миг отпустила юнца мучавшая боль. У старика заблестели глаза. Если прежде он говорил, глядя мимо толмача, не замечая бывшего чибару, то теперь стал обращаться и к нему.
Истомка выяснил, что в нынешнее время, до лютых холодов, многие роды уже отзверовали и стоят с мясным припасом на зимних стойбищах — меноэнах. У богатых семей взять оленей с проводниками за хорошую плату нетрудно. Рыбу зимой ловят одни старики, рухлядь и боровую дичь промышляют дети и девки. Сильным мужчинам сейчас делать нечего.
Истомка, польщенный вниманием хозяев, привольно развалился на шкурах, стал икать и цыкать сквозь зубы. А когда Укда подал ему вареный язык — вовсе задрал нос и важно смежил глаза. Пантелей же велел ему узнать цены на оленей.
Минчак поведал без всякой скрытности, что у одигонов[90] олени стоят дешевле, чем у здешних илэл[91]. У туруханских тэго[92] олени и вовсе дешевы: те имеют большие стада и даже едят оленину. От себя же Истомка добавил, поясняя передовщику, что у здешних тунгусов не принято есть оленину, равно как человечину, но по крайней нужде — случается.
Когда пошел разговор о том, что нужно доставить груз в Туруханское зимовье и привезти ржаной припас, старик со старшим сыном тут же выразили готовность помочь в этом деле. Увидев, как они обрадовались такому случаю, даже Угрюмка подумал, что удачное сватовство могло бы обезопасить и караван, и зимовье.
Почесав бритую голову, Истомка многозначительно пробормотал скороговоркой, кивая передовщику:
— Коли тебя встречают как жениха — надумали что-то: или нужда великая заставляет продать девку, или сдают ее в прокорм за оленей по своему обычаю. У них так бывает.
Тунгусы молча прислушивались к русской беседе, вылавливая знакомые тунгусские слова. Передовщик кивнул толмачу и сказал решительно:
— Узнай у старика, что хочет за дочь?
— Понятно, что оленей. Тунгусы другого выкупа не берут, — огрызнулся Истомка, выколупывая рыбью кость из зубов. Он не стал переводить слова передовщика, но намекнул Минчаку, что передовщик не прочь взять в жены его дочь. Зять в русском зимовье всегда может оказать помощь минчаковской родне и защитить, если надо.
Старик, задрав нос, резко бросил пару отрывистых слов, от которых Истомка поперхнулся и закашлял. А когда прочистил горло, то с красным, натужным лицом хрипло заспорил, вразумляя его. Но старик не произнес ни слова, стоя на своем.
— Шесть оленей за дочку требует! — возмущенно сказал толмач по-русски. — По здешним обычаям — три хорошо. Шесть за тощую и щуплую — неслыханно. Да где ты возьмешь столько?
— Скажи, семь дам, но не сразу, — нетерпеливо оборвал его передовщик. — Сам выберет их у туруханских тунгусов и пригонит с обозом!
Старик с сыновьями впились в него глазами, по тону стараясь понять ответ.
— Ты знаешь, сколько стоят семь оленей, хоть бы и на Турухане? — заспорил было Истомка.
— Скажи — семь! — невозмутимо повторил передовщик. Истомка с недовольным лицом, хмыкая и подергивая плечами, перевел сказанное.
Будто растаял лед между хозяевами жилья и гостями. Старик стал ласков и улыбчив, старший сын взглянул на Пантелея весело, по-свойски толкнул русского передовщика в плечо и назвал ибде — зятем. Синеуль — и тот на какое-то время будто забыл про свою боль: уголки его печальных губ приподнялись в улыбке. Угрюмка, наблюдавший за торгом, так и не понял, чему больше обрадовались тунгусы: возможности получить оленей или сорваться с постылого места и кочевать. «Бог ли помогает, бес ли прельщает?» — подумал с недоумением. Получалось, если мужчины пойдут с обозом, а девка станет жить в зимовье, то весь Минчаков род будет зааманачен.
От таких мыслей Угрюмка с сожалением посмотрел на передовщика, понимая, что пай его или большая его часть уйдет на оплату сватовства. Казаку же и горя нет от вечной нужды, у него деньги подолгу не водятся, так уж на роду писано.
Старик, конечно, заломил выкуп за дочь сверх всякой меры, рассчитывая хотя бы на половину после торга и споров. Получив же сверх того еще одного обещанного оленя, он с радостью соглашался подождать выкуп до возвращения каравана, но если с тем случится в пути несчастье, заберет дочь обратно.
Его слова для Пантелея тоже оказались радостной неожиданностью. Сперва он подумал, что не понял толмача или толмач недопонял старика. Разобравшись, что волен забрать невесту хоть сейчас, передовщик так повеселел, что обнял новоявленного тестя, шуряков и велел Угрюмке отдать им ватажный походный котел с нарты.
За пологом раздался знакомый смех, отозвавшийся в ушах передовщика перезвоном серебра. Считая вопрос решенным, из укрытия высунулась смущенная невеста. Он привлек ее к себе — легкую, худенькую, и она не противилась.
Пантелей заспешил с возвращением в зимовье. Тунгусы шумно и обеспокоенно запротестовали. Толмач перевел, что уходить на ночь нельзя. Пантелея с невестой оставляли здесь. Старик с сыновьями решили ночевать в другом чуме.
— Говорят, Угрюмка, если хочет, пусть идет с ними, хочет — остается здесь, — обиженно пробубнил Истомка. — А меня предлагают отправить в берестяной балаган или к собакам.
— Оставайся! — не поняв его обиды, разрешил передовщик.
Довольные проведенным временем и состоявшимся разговором, тунгусы накинули верхнюю одежду и вылезли из чума. Из-за полога пахнуло стужей ночи. Тунгуска по-хозяйски стала прибирать после застолья и готовиться к ночлегу.
Пантелей, оторвав от нее зачарованные глаза, надел шапку, накинул жупан, вылез на холод. Собаки, сдержанно рыча друг на друга, грызли в темноте брошенные кости. Звезд не было. Тьма небесная высвечивалась неясными сполохами. Такую погоду лучше пережидать у очага, хоть путь до зимовья и был помечен лыжней. Щурясь от жгучей стужи, передовщик вглядывался во тьму и думал, что давно на душе у него не было так покойно и радостно: пожалуй, с той самой ночи, как, перекрестив и благословив, отпустила его Маланья.
* * *
По Сибирскому пути много было сказов про удачливые промыслы: говорилось и о покрученниках, выходивших из тайги с великим богатством, и о заплутавших в урмане ватажках, выбиравшихся к острогам в собольих онучах. Но мало кто хвастал своей удачей: рассказывали о слышанном от других, об увиденном чужом счастье. А тут везли и везли в зимовье добытого соболя со станов. Табанька с раннего утра до позднего вечера шкурил и шкурил добычу, постанывая, потягиваясь от болей в спине. Он и сам уже стал проситься на промыслы — так опостылело ему некогда любимое занятие.
Передовщик не мог нарадоваться ни на богатую добычу, ни на жену: и ласкова, и послушна, и еду приготовит, и постель, и одежду починит, и зверя промышлять мастерица, и рыбу бить. Безнадежно оглядев со всех сторон его ветхий жупан, она стала шить мужу парку из выделанных шкур. Не беда, что не могли они друг с другом свободно разговаривать: с полувзгляда все понимали.
Смущаясь ватажных, Пантелей старался почаще уходить со своей тунгуской на промыслы. Они на пару добывали много соболя и белки. Передовщик срубил несколько новых станов, насек кулем по ухожьям. Так бы и промышлял он до Рождества, но ватажные стали роптать, что его подолгу не бывает в зимовье.
Сколько промышленные ни пытали девку, как ее называть, она отвечала через толмача, чтобы звали женой Пенды. И когда ночевала в зимовье, никому из сидельцев не мешая, то и дело слышался ее веселый смех, вызывавший среди огрубевших от одиночества людей радость и память о доме.
Пенда называл тунгуску Аськой[93]. Он невольно сравнивал ее с другими, со своими и чужими женами, и находил, что она много лучше. На что неприхотлива была Маланья, но, ночуя по снежным ямам да по шалашам, питаясь одним печеным мясом, она завыла бы от бездолья. А эта всегда была весела и радостна.
Перед Рождеством Христовым, по уговору, вернулся со станов Третьяк с рухлядью. Он напарился, отдохнул перед всенощными молениями, читать которые был горазд. К празднику стали подтягиваться и другие чуницы. Баня не выстывала. В зимовье стало тесно. Охотиться, убивать зверя-птицу от Рождества до Крещения — чревато бедами и почиталось за великий грех. На Сочельник молились, жгли большие костры, приглашая покойных родителей и друзей погреться. Холмогорцы с туруханцами плясали, окликая мороз, величая его Васильевичем.
— Ой, Мороз-Мороз Васильевич! — шел вприсядь вокруг костра долговязый и длиннорукий Тугарин. — Заходи-ка на кутью.
— А вот летом не бывай, — подпевали и приплясывали зимовейщики вокруг костров, попугивая разгулявшийся рождественский холод. — Цепом темя проломлю, метлой очи высеку!
Во всем ватажные ждали обновы с Рождества, только нынешнюю промысловую удачу желали сохранить надолго. Передовщик напоказ бросил в костер свой ветхий жупан, прощаясь с прежней, непутевой жизнью, а наутро надел сшитую Аськой парку.
На Рождество в разгар веселья к зимовью подошли пять тунгусских упряжек — вместо трех по уговору. Значит, предложение сходить обозом на Турухан заинтересовало многих тунгусов хангаевых родов, пережидавших морозы на зимних стойбищах.
Из-за двух осенних осад кормов для оленей поблизости от зимовья не было. Хангаи стали поторапливать разгулявшихся промышленных со сборами, хотя и сами были не прочь повеселиться у их костров. Все бывшие в зимовье стали грузить нарты, перетягивать ремнями груз. Иные угощали гостей, величая их по-здешнему «мата»[94], готовили угощение для отъезжавших и объясняли возницам, что на Рождество нельзя отправляться в путь.
Аська привечала у костров отца с братьями, родственников: пекла им мясо, готовила порсу и своим видом показывала, что вполне довольна замужеством.
С обозом передовщик отправил Третьяка. Ему в помощь он дал Угрюмку и Табаньку. Табанька рвался в Туруханское зимовье. Угрюмка же ни напрашивался, ни отнекивался, наказы исполнял без усердия, переживая очередную зиму. Передовщик дал им ружья огненного боя, свинца и пороху по нужде. В обозе были оба брата тунгуски — Укда и Синеуль. С ними уходил и старый Минчак, который при сородичах с гордостью называл передовщика ибде.
В каждую нарту были запряжены по три оленя. Еще по паре заводных привязывались сзади. Ездовые животные плутовато поглядывали на суетящихся людей, мотали заиндевелыми мордами, почесывали длинные уши, будто поторапливали.
После спешного и сытного застолья, устроенного у костра, передовщик перекрестил и обнял промышленных, отдавая последние наставления. Тунгусы в тяжелых долгополых шубах навалились на стянутые бечевой мешки, выдернули из снега хореи. Ватажные перекрестились и поклонились на сумеречный восток, пропели, обращаясь к покровителю сибирцев, к Николе Чудотворцу: «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник… К чудному заступлению твоему притекаем. Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий…»
Обоз двинулся на запад по укрытому снегом льду реки. Притопывая да попрыгивая с ноги на ногу от жгучей стужи, Истомка ухмыльнулся и спросил передовщика:
— Думаешь, отчего тунгусы стали ласковы? — И, поскольку тот молчал, глядя на исчезавшие в сумерках упряжки, ответил сам: — Собираются воевать с шамагирами, пограбившими их три года назад. На наши пищали рассчитывают. Так-то, ибде, — кивнул насмешливо. — Втянут нас в свои распри — не выпутаемся.
На другой уже день, на «Бабьи каши», Пантелей подумывал, как бы уйти с Аськой на станы — народу в зимовье было много. Чуничные отдыхали, зимовейщики — Истомка с Вахромейкой — в разных углах избы шкурили мерзлых соболей, добытых еще в декабре.
Лишь после Рождества смог выйти из тайги сам Лука Москвитин с братом и с повзрослевшим племянником. Ивашка как-то вдруг и сразу заматерел, стал на полголовы выше отца и оброс шелковистой бородой. Они привезли пару мешков мороженого соболя да три сорока мехов.
Истомка с Вахромейкой с радостью бросили опостылевшее шкурение, затопили для прибывших баню, стали угощать их пивной брагой и квасом. Вдруг оба они исчезли. Пока Пантелей расспрашивал устюжан о промыслах, Вахромейка снова объявился в избе и, язвительно улыбаясь, громко окликнул передовщика.
— Хочешь знать, как баня топится? Подойди тихонько да посмотри, чем твой толмач занимается. Еще наплачетесь с ним, — рассмеялся, торжествуя.
Пантелей бодуче взглянул на него исподлобья, но встал, прервав расспросы, и молча вышел. Стужа привычно обожгла лицо, но не достала под паркой. Он тихо подошел к бане, из дверей которой валил дым. Истомка лежал на боку у каменки и на отточенной кубиком кости выжигал знаки. Заметив ноги стоявшего за дверьми, вздрогнул, спрятал кость за пазуху.
— Иди-ка сюда, — поманил передовщик. Тот поднялся. Лицо его скрылось в клубах дыма. — Полено прихвати!
Истомка послушно нагнулся, взял полено, выйдя из бани, понуро подал его передовщику и подставил спину, виновато опустив плечи. Пантелей, без зла и страсти, трижды огрел его тем самым поленом. Толмач не дергался, не уворачивался от ударов.
— Все понял? — спросил.
— Спаси тебя Господь, Пантелей Демидыч. Вразумил! — пролепетал Истомка. — Бес попутал… Так, думаю, для забавы себе самому смастерю.
— Смастерил. А теперь сожги и больше не делай.
— Не буду. Ангела тебе доброго.
Какие-то слова еще рвались из груди передовщика, но тронутый покаянием, он потоптался перед кланявшимся толмачом, хрипло прокашлялся и вернулся в зимовье. Вахромейка, глядя нахально и насмешливо, спросил:
— Видел?
Передовщик взглянул на него строго, неприязненно и ничего не ответил.
На Святое Крещение Господа Бога и Спаса нашего к полудню отворилось небо и заалел восток. Стряхнул с глаз тягостный сон Илья Пророк, дрогнул в его руке обоюдоострый меч, с воем ринулась на него поганая рать — постоять за свое нечистое дело. От мороза трещали деревья и падали птицы. Но трещи не трещи — минули водокрещи.
Известно издревле: о чем бы в это время ни помолился открытому небу — все сбудется. К полудню среди студеного марева и ледяного тумана показался краешек солнца. Блеснул снег, заискрился куржак на деревьях, нахохлившиеся, выбеленные стужей вороны покрикивали вслед бежавшей тьме.
После Крещения передовщику с девкой пришлось остаться в зимовье с Истомкой и Вахромейкой. Рад был уйти на промыслы, да не посмел оставить враждовавших людей охранять зимовье. Пришлось отправить их на станы, чтобы не томились бездельем. Пантелей призвал толмача и сидельца, посадил их напротив и стал давать наставления, как вести себя в ухожьях, как терпеть друг друга, когда терпеть невмочь. И обещал: если те передерутся в пути, то по их возвращении он спустит шкуру со спин обоим, не разбираясь, кто виноват.
Ушли промышленные, зимовье опустело. Мыши в нем бесчинствовали. Передовщик колотил их черенком от метлы, давил плашками, пробовал заговаривать — не помогало. Не иначе, как сам домовой приваживал их для веселья.
Аська, глядя на его старания, предлагала запустить в избу ее собак. Как не грешно было впускать псов под образа, да еще перед Сретеньем Господним, — вынудили пакостные твари. Пришлось пожить, как диким, с собаками. Через пару дней мышей в избе не стало.
Аська принялась чинить одежду. Она зашила дыры на прохудившихся ичигах мужа, залатала его шубный кафтан. Потом стала чинить все, что подворачивалось под руку. А подвернулось Вахромейкино одеяло. И в нем под криво наложенной заплатой был зашит черный с проседью по хребту головной соболь, какому за Камнем и цены нет, поскольку таких забирали в государеву десятину. Рассмеялась дочь Минчака и простодушно показала находку мужу.
По стародавним законам по окончании промыслов собирались ватаги в круг и люди объявляли вины друг друга. Передовщик с чуничными атаманами судили провинившихся, круг утверждал или отменял их приговоры. Кого к столбу ставили, кого приговаривали всякому промышленному кланяться и просить прощения. Иных преступивших законы ватаги кормили одной только квасной гущей. Исстари самым тяжким преступлением считалось воровство. За него если не убивали, не выгоняли, не бросали посреди тайги, то жестоко били, лишали доли в промыслах и отбирали все вещи.
Заплата с Вахромейкиного одеяла была сорвана. Пришить заново, положив на место ворованное, — заметит и отопрется, ведь свидетелей нет. Кто станет всерьез пытать тунгусскую девку, едва понимающую по-русски?
Пантелей повесил было ворованного соболя над Вахромейкиной постелью. Но походил, подумал и бросил его в тесаный ватажный сундук к другой рухляди.
К Сретенью вернулись живыми, небитыми Истомка с Вахромейкой и приволокли в нарте мешок мороженых соболей. На другой день явились заводчики с низовьев реки, из туруханских чуниц. Сбросив тяжелые одежды, они грелись у очага, попивали квас, отвечали на расспросы. По словам ватажных выходило, что промыслы беднеют и нет уж той добычи, что была до Рождества.
Ни словом, ни намеком не выдавал Пантелей Вахромейке, что знает о его воровстве. Пристально наблюдал за ним и диву давался: случается, рождаются на свет Божий уроды без рук, без ног — этот уродился без совести. Оттого, наверное, и жил легко. Едва сел на свою мягкую, в несколько слоев уложенную мхом постель, заметил аккуратно нашитую заплату на одеяле. Блеснули было крысиной алчностью глаза — и снова заблестели беззаботным весельем.
Передовщик же мысленно поблагодарил Господа и ангела-хранителя за то, что вразумили не устраивать дознания. Коли нет у человека совести — вины не докажешь, только опозоришься.
Прошел февраль. На память преподобного Василия-капельника так ярко светило солнце, что без очков из березовой коры с узкими прорезями промышленные по снегам не ходили: боялись ослепнуть. Задула Евдокия-свистунья, весну снаряжая: вроде как мартовским пивом запахло. Стали возвращаться в зимовье чуницы с последней добычей. И все жаловались, что после Рождества прежних богатых промыслов не было. Верь не верь хвастливому Табаньке, а как оставил он зимовье, так и соболишко стал уходить в другие края.
На Герасима-грачевника на закате дня показался обоз. Золотились на солнце ветвистые рога оленей, доносились окрики возниц. На всякий случай в зимовье приняли меры предосторожности, но с нетерпением ждали приближения упряжек. Насчитали же их семь.
Вскоре Пантелей узнал Третьяка. Обоз подошел к частоколу, распахнулись ворота зимовья, и все бывшие в нем вышли встречать долгожданных друзей-товарищей.
Первыми к передовщику подошли и откланялись Третьяк с Угрюмкой. Следом — все такой же печальный Синеуль в русской сермяжной шапке и в суконных штанах, заправленных в высокие меховые тунгусские сапоги — сары. На груди его поверх малицы висел кедровый восьмиконечный крест в треть аршина, что удивило зимовейщиков.
— Далова! — приветствовал свояка Укда, скалясь и посмеиваясь. Этот тунгус, как и его отец, был весел, ничем не выдавая усталости от долгого пути.
Табаньки не было, но с обозом прибыли новые, незнакомые люди.
— Не признаешь? — усмехнулся в сивую бороду кряжистый сибирец в добротном шубном кафтане, и передовщик вспомнил не совсем дружелюбную встречу на стане возле Туруханского зимовья. Сивобородый, кажется, вологодский, двое молодых — пустозерцы. Ненадолго открыли они тогда свои лица под сетками, но запомнились речами.
— Купцы прислали гороховских, — подсказал Третьяк.
В зимовье затопили баню, на огонь поставили котлы, чтобы готовить угощение для прибывших. Возницы распрягали оленей. Все бывшие в зимовье стали развязывать ремни на нартах и таскать в лабаз мешки с ржаным и другим припасом. А когда отмылись, отпарились путники, подкрепились обильно едой и питьем, передовщик одарил возниц-хангаев и отпустил их. Им подходило время промышлять мясного зверя, потянувшегося на север за отступавшими холодами.
Укде и Минчаку не терпелось показать родственникам свои новые упряжки: выкуп за сестру и дочь. Из тунгусов в зимовье остались только Синеуль, готовый поститься вместе с русичами, и его сестра. Тунгус разлегся на полу, Аська забралась на полати. Передовщик, сидя в красном углу на сундуке с мехами, стал расспрашивать Третьяка с Угрюмкой о Туруханском зимовье и о наказах купцов. Спрашивал он и о том, кого довелось встретить на дальнем пути.
Из рассказов прибывших ватажные узнали, что гороховское зимовье брошено. Давно уже тамошние промышленные были недовольны передовщиком Семейкой Гороховым. По всему выходило, что одигоны, уйдя от пендинского зимовья осенью, напали на гороховское. Промышленные отсиделись за тыном, но после осады общим решением сбросили передовщика.
Семен не стерпел обиды и ушел зимовать к монахам, внеся залог в строящийся монастырь. Новоизбранный передовщик правил ватагой с неделю, не успев отправить чуницы на промыслы, загулял с дружками. Промышленные соборно скинули его, и тут началась распря, от которой разбрелись все: кто пристал к иной ватаге в покруту, кто к монахам зимовать, кто при Туруханском зимовье христарадничал да перебивался случайными заработками.
Купцы же, Бажен Попов и Никифор Москвитин, построили там избу и амбар. Когда ушла на промыслы их ватага, они успели до холодов сделать две ходки в Мангазею и теперь живут на Турухане при богатом припасе. Встретив своих ватажных с рухлядью — радовались и хвалили Господа, что могут тот припас отправить на Тунгуску, потому что на Турухане собралось много гулящих, непрожиточных, злых до чужого добра. Кроме кабалы на себя, дать им за прокорм нечего, а хлеб требуют.
И велели купцы кланяться всем ватажным за удачные промыслы, за великие прибыли, благословляли и передавали пожелание: пока есть силы и Бог милует — не оставлять промыслов и подолгу, как гороховцы, на одном месте не задерживаться, а идти туда, где допрежь промышленных людей не было, где зверь не пуган, и зверовать там с усердием, по правде, против Господа и друзей своих не погрешая. Они же, купцы, пай каждого промышленного человека сохранят и приумножат.
Как-то странно и смущенно поглядывал Третьяк на товарища, важно восседавшего под ликами Спаса, Богородицы и Николы Чудотворца, и все будто порывался сказать что-то важное. Порой казалось передовщику, что начинал уже и вдруг обрывал, пересказывая прежнее. На иные вопросы Пантелея отвечал тупой улыбкой, не замечая даже, что его спрашивают. А рассказать ему хотелось о многом. Не зная же, как подступиться к главному, он бормотал о пустячном:
— Табанька загулял. Обратно ехать — сыскать не могли, по избам и землянкам прятался. Так и ушли…
Когда разлеглись по нарам, по полатям промышленные и стал позевывать передовщик, крестя рот, Третьяк все еще сидел напротив, вспоминая подробности пути. Наконец вскинул внимательные глаза:
— От Маланьи тебе поклон. В Туруханском зимовье она, у Бажена с Никифором в стряпухах.
— Что так? — удивился Пантелей. — Вроде в Мангазее собиралась зимовать.
— Сказывала, пошла в услужение к целовальнику, а у того жена злющая — не только из дома, из города выжила. Никифор за ржаным припасом ходил, подобрал ее чуть ли не с паперти.
Застонал Пантелей, сжав ладонями лохматую голову:
— Ну за что ей судьба такая горькая? Ведь девка-то хорошая, ласковая. Дал бы Бог ей мужа доброго, — перекрестился с лютой тоской в глазах, с болью под сердцем.
Третьяк вдруг смущенно вспыхнул, тряхнул головой, пристально глядя в глаза товарища:
— Уже дал! Я с ней венчался.
Пантелей соскочил с сундука, сгреб его в охапку:
— Спаси тя Господи! Не пожалеешь! Дай вам Бог счастья. Камень ты с моей груди снял.
— Ну и ладно тогда, — повеселев, высвободился из объятий Третьяк. — Мне тоже тяжко было. Все думал — как сказать? Поймешь ли?
Угрюмка с полатей тайком посматривал на казаков, все ждал, как сладится этот разговор. Он был на венчании Третьяка и знал много больше, чем было сказано между дружками.
Встретили они Маланью подурневшую, с пятнами на лице — видно было, что девка брюхата. Бажен, оправдываясь перед промышленными, чтобы не было кривотолков среди устюжан и холмогорцев, рассказал, что целовальник, не имевший детей, обещал девке, если понесет от него, — жениться, а жену свою в монастырь отправить. Маланья и прельстилась.
Целовальничиха в монастырь идти не захотела, выгнала полюбовную девку из дома, мужу выдрала полбороды, а после где та, бедная, ни приютится, заявлялась и орала поносные речи, пока хозяева не уставали и не гнали беженку. Пожалел ее устюжский купец Никифор, помня о прошлом.
Угрюмка рассказывал Маланье о промыслах, о Пантелее, о тунгуске же помалкивал. С грустной улыбкой она вспоминала веселые летние денечки и казака — полюбовного молодца. Вздыхала: «Хороша была бы волюшка, кабы не злая долюшка!»
Жалея ее, Угрюмка предлагал все передать передовщику, тот не оставит, поможет, а как сам вернется, вдруг и сладится что…
— На кой я ему такая? — всхлипывала она, оглаживая живот. — Ладно бы — от него понесла. А то от злыдня мангазейского не убереглась. — Вытирала набегавшие слезы: — Упрашивал ведь дитя ему родить, а как жена меня гнала — отмолчался. И поделом грешной. Господь воздал — на чужое счастье позарилась.
Невольно их разговор услышал Третьяк, да так взглянул на Маланью, что, как призналась потом, у нее, у гулящей девки, мороз прошел по спине. Была она на полголовы выше его и дородней, понимала, что казачок не юнец, хоть и безбородый, но мужчины в нем не разглядела.
А тот день и другой ходил сам не свой, будто в лихорадке: то беспричинно смеялся, то никого не видел и не слышал и говорил невпопад. Несчастная Маланья занимала его мысли, а еще больше — будущий младенец. Ему-то была уготована судьба горче, чем выпала самому Третьяку.
Поглядывал он на суетящуюся у печи стряпуху: и в доме-то было чисто ее стараниями, и сама опрятна, и люди накормлены. И все думал Третьяк, думал.
На другой день со своими думами он залежался на печи так, что о нем забыли. Маланья гремела посудой, в доме, кроме них, никого не было. Распахнулась дверь, вошел Никифор-купец, скинул шубу на лавку, бочком-бочком придвинулся к девке и притиснул ее. Она отстранилась резко. Купец обиделся.
— Не я ли тебя подобрал? — спросил с укором. — Могла бы быть поласковей…
— Ну побойся же ты Бога! — вскричала Маланья со слезами. — Какая из меня блудница-прелюбодейка?
Купец раздраженно накинул шубейку и выскочил из избы. Маланья же, всхлипывая и подвывая, гремела посудой. Вдруг услышала она скок, будто кот с печи прыгнул. Оглянулась. То ли домовой, как кот, таращится на нее, то ли человек? Сразу и не разглядела сквозь слезы. Вытерла глаза, перекрестилась и ахнула, схватившись за сердечко. Едва не выскочило оно из груди от страха.
Распрямился казачок, буравя ее немигающим взглядом, шагнул к ней вкрадчиво. Маланья и вовсе обмерла. Похолодело все, будто утроба в снег вывалилась. Подумалось отчего-то: не убьет, так надругается. И почувствовала она вдруг в Третьяке мужицкую силу и несокрушимую волю.
Он же остановился в полушаге от застывшей в ужасе женщины и заговорил резко:
— Слушай меня и не перебивай. Будет твое согласие — обвенчаешься со мной на днях. А после я уеду на промыслы, и ты будешь меня ждать здесь до лета мужней женой, на моем промысловом содержании. А как вернусь — переберемся к монахам от греха подальше. Дом срублю. Будем землю пахать, Бога славить да детишек растить. И твоего нагулянного я приму как родного, попрека за былое от меня не услышишь. Я все решил. Теперь за тобой слово.
Едва у Маланьи перестали трястись ноги и прошел страх, глаза от изумления вылезли на лоб. Она разинула рот, чтобы закричать, да не смогла, закрыла лицо ладонями и вдруг заголосила, завыла, рухнула на колени, обнимая ноги промышленного.
Третьяк стал смущенно поднимать ее, и она почувствовала, как сильны его тонкие руки, как крепки невидимые жилы. Захлебываясь слезами, просипела:
— Я буду доброй, послушной и верной женой… Спаси тебя Господи!
Тут распахнулась дверь. Белые клубы стужи покатились по тесовому полу. Взглянув на них сквозь заиндевелые ресницы, Бажен Попов прошепелявил смерзшимися губами:
— У стряпухи, кажись, доля сладилась?!
Сбросив с усов и бороды сосульки, холмогорец чище проговорил Третьяку:
— Она девка добрая, работящая, бесхитростна до глупости — оттого и судьба к ней неласкова. Из таких бывают жены хороши.
Угрюмка с купцами повезли молодых к монахам через реку. Холмогорец и устюжанин не скупились на подарки черному попу и причту[95], признавшись Угрюмке с Третьяком, что, каждый на свой лад, мыслили прельстить Маланью и склонить к сожительству. Но Бог не попустил.
Скромно, без размаха, в обыденных одеждах справил Третьяк свадьбу в зимовье, накормив голодный гулящий люд саламатой[96]и хлебом. Табанька же веселился и разносил по Турухану сказки о богатых промыслах на Тунгуске-реке, о том, что он, Табанька, приносит удачу в промыслах, даже если его держать за печкой и из зимовья не выпускать.
Купцам-пайщикам накладно было задерживать обоз. Через своих людей они быстро сторговались с туруханскими тунгусами, за ходовой товар с прибылью выменяли семь оленей да наняли троих гороховцев сопровождать груз, так и не сыскав Табаньку. И было от них передано пожелание — с верными поручниками прислать к зиме еще десяток покрученников из гороховской ватаги.
На Благовещение Пресвятой Богородицы даже в полночном краю весна зиму поборола. Морозы еще стояли крепкие, снега не убавилось, но ярко светило солнце и по-весеннему устраивали галдеж пташки. К славному празднику, когда даже грешников в аду не мучают, промышленные стали чистить зимовье и одежду, жечь изношенные вещи, сено и мох из прежних постелей, притом беспрестанно молились и постничали. К этому времени из-за тесноты в зимовье и недовольства ватажных Пантелей с Синеулем поставили берестяной чум под стеной.
Промыслы были закончены, на станах наведен порядок, клепцы забиты, чтобы ненароком не угодил в них какой зверь. Настала пора ватажного круга, суда и разговора о дальнейшей жизни.
На память Матрены-наставницы ясным ранним утром, помолившись да подкрепившись постной пищей, промышленные расселись в зимовье вдоль стен. Передовщик же сел на свое место в красный угол под образами, на сундук с лучшей рухлядью. По обычаю стародавнему стал он рассказывать, какая чуница сколько чего добыла и какой ценности добыча. Когда передовщик закончил об этом под одобрительный гул собравшихся, то начал пытать ватажных: не было ли между ними на промыслах какой злобы или распри.
Лука Москвитин за всех устюжан сказал, что своими людьми он доволен, а кто погрешал, те уж сами повинились, между собой помирились, помня главную заповедь Спаса нашего, в Святой Троице восславляемого. Так же и передовщик Федотка Попов — не стал жаловаться на родственников, а те не ругали его перед всеми собравшимися.
Туруханские же чуницы долго препирались, допытываясь правды от передовщика и всех промышленных. Выслушав их внимательно, Пантелей Пенда велел одному из туруханских чуничных атаманов виниться перед связчиками и по решению их быть наказанным. В другой чунице он присудил пойманному на тайноедении три дня поститься постом истинным и есть только квасную гущу. Ватага суд передовщика приняла и утвердила.
И тогда, наконец-то дождавшись своего часа, поднялся толмач Истомка-тоболяк. Подрагивавшим голосом он просил молвить слово против Вахромейки Свиста. И снова, теперь уже спокойно и вдумчиво, поведал всем, как тот с передовщиком бросил умиравших, а после, вернувшись с гороховцами, забрал весь припас. И требовал Истомка для преступника суда сурового.
Ватажные выслушали и насмешливые речи Вахромейки, его уверения, что не бросили они умиравших, но не могли им оказать помощь. На этот раз Свист говорил и складней прежнего, и веселей, но поддержки себе не нашел. Никто не хохотнул, не посмеялся над непутевым Истомкой. Молча выслушали промышленные и неискреннее его покаяние в том, что скрыл свою покруту у Семейки Горохова.
Потом ватажные пытали гороховских промышленных, знавших Вахромейку. Те отвечали по-разному, но никто не выгораживал Свиста из своей к нему приязни.
Дело было не простое. Если бы ватага возвращалась с промыслов, промышленные передали бы обоих воеводе для его суда, но им всем предстояло оставаться в тайге. Истомка — толмач хороший, он ватаге нужен и полезен. Вахромейка Свист — что есть, что его нет — не велика потеря. А кто из них прав, то един Господь ведает.
Долго думали ватажные вместе с передовщиком и, помолившись, приговорили: раз уж рассудить врагов по правде не могут, а те не желают примирения, пусть судит их Господь по обычаю издревле русскому: биться им на топорах до смерти. У кого топор длинней — тот и прав. Кто победит — с тем Бог.
И решили промышленные люди, что для поединка лучший день следующий — день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Бывает, в ту пору домовые бесятся, своих в доме не узнавая, но они поединку не помеха. На преподобного Иоанна на Святой Руси хозяйки пекут из теста лестницы, моля Господа дать их людям для вхождения на небо, в будущую жизнь вечную. И правого, и неправого, и поединщиков грешных на Иоанна Лествичника Господь простит, а судивших помилует.
На том все сошлись. Истомка с радостью поклонился на четыре стороны, и Вахромейка нехотя согласился, что суд справедлив.
Доброхоты долго выбирали место и время для поединка, чтобы было оно ровным, чтобы солнце не слепило глаз и ангелы сверху могли видеть спорящих.
На другой день после молитв все вышли из зимовья на поляну с обдутым ветрами, смерзшимся мхом. Доброхоты проверили топоры, засапожные ножи поединщиков и благословили их на бой за правду.
Воздев руки к небу, Истомка яростно вскрикнул:
— Суди, Господи, и рассуди распрю мою: от беса велеречивого избавь меня и помоги мне, Господи, как помог ты в древности Моисею победить Амалика, а князю Ярославу — окаянного Святополка.
Слишком долго он терпел насмешки и издевки, слишком много накопилось в душе обид, слишком сильна была его вера в свою правду и в помощь Божью. Сбросил Истомка парку, оставшись в замшевой рубахе, и стал нетерпеливо ждать начала боя. Вахромейка же предусмотрительно натянул до глаз лисью шапку, поднял высокий ворот кафтана, молча приготовился к поединку.
Истомка кинулся на обидчика, осыпая его ударами, и Пантелей, взглянув на Третьяка, печально покачал головой. Боевой холоп раз и другой отступил, спокойно отбивая удары, вскоре понял, что противник малоопытен в бою, и стал куражиться: то на ногу ему наступал, то бил обухом. Промышленные, видя неравный бой, с недовольством загалдели.
Вахромейка почувствовал это осуждение и резко ударил острием топора между плечом и шеей толмача, под ворот рубахи. Кровь хлынула ключом, Истомка с разинутым ртом рухнул на колени, на стылую землю, из последних сил откинулся на спину и живыми еще глазами глядел на светлых ангелов, летевших с синего неба, чтобы принять его высвобождавшуюся душу. И расправился лоб бывшего толмача, будто он понял что-то важное, чего не мог уразуметь в прежней, грешной жизни. И покатилась по щеке слеза.
Вахромейка не успел даже устать от боя, хотя грудь его вздымалась и опускалась от дыхания. Он снял шапку, постоял, без сожаления глядя на поверженного противника, метнул дерзкий взгляд на обступивших его людей и, поклонившись, крикнул:
— Согласны ли вы, братцы, что Господь праведный рассудил нас, а не бес лукавый?
Промышленные недовольно молчали. Вахромейка обвел их взглядом и дрогнул, встретившись глазами с передовщиком.
— Я не согласен! — сказал Пантелей и стал снимать саблю.
Скосил на него глаза истекавший кровью Истомка, улыбнулся, да так, с улыбкой, и отдал Богу душу. Ангелы подхватили ее и понесли на суд милостивый.
— Отчего же не согласен? — боязливо спросил Вахромейка и облизнул ссохшиеся губы. И снова, как зимой, блеснули в бороде острые крысиные зубы.
— Оттого, что ты не только обманщик, но вор! — И, оборачиваясь ко всем ватажным, сказал громко: — Головного соболя под заплату в одеяло зашивал… За воровство на Руси исстари казнят смертью!
— Не доказано воровство, — злым, колючим взглядом зыркнул по сторонам Вахромейка Свист. — Кто видел того соболя?
— Потому и выхожу на Божий суд, что не доказано, — спокойно проговорил передовщик, принимая из чьих-то рук топор.
— Ведь Господь наш, сказавший «не кради», сказал «не убий!», — затравленно вскрикнул Вахромейка. — Я кровь пролил не своей волей, а по вашему приговору.
Круг молчал, а Пантелей Пенда потряхивал топором, проверяя, крепко ли держится обух на топорище, вертел его в руке, приручая ладонь к шершавому изгибу березовой рукояти.
— Не переиначивай самого Господа и Спаса нашего, не глумись, — проурчал в бороду и вкрадчивым, кошачьим шагом стал заходить сбоку, держа топор на отлете руки. — А писано святыми Его апостолами так: «Вы слышали, что сказано древними: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду“. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…» Древними же сказано, — продолжал Пантелей, пристально наблюдая за противником, — «проклят, кто тайно убивает ближнего своего».
Вахромейка побледнел, лицо его напряглось, плечи приподнялись, и дрогнул топор в руке, готовившейся к обороне. Сошлись два воина, кружа друг против друга, выжидая промашки и оплошности противника.
Достала передовщика острая сталь, скользнув по плечу. Распорола рукав парки, чиркнула по коже. Вахромейка не заметил, что ранил передовщика, но когда кровавая капля скатилась по запястью, окрасив березовое топорище, лишь на мгновение скосил глаз на красное пятно, и в тот же миг усмотрел передовщик открывшийся висок между шапкой и воротом кафтана. Острая сталь проломила тонкую кость. По бороде хлынула кровь, и Вахромейка Свист, выпучив глаза, рухнул лицом вниз.
Постояв над ним со вздымавшейся грудью, передовщик снял шапку, перекрестился, вытер топор о мерзлый мох. Устюжане и холмогорцы, крестясь, подхватили оба тела и понесли их к проруби — обмыть перед отпеванием. Тут же вызвались охотники из туруханцев и гороховцев копать могилы в стылой тунгусской земле. Третьяк подозвал Угрюмку, им предстояло сечь вековые деревья на гробы-домовины.
А когда все разошлись по делам дня, к Пантелею подошла тунгуска. Глаза ее блестели, не было на ее лице ни страха, ни растерянности, тонкие ноздри горделиво раздувались.
— Мэнми бэе[97], — проворковала она, поглаживая смуглыми пальцами распоротый и слегка окровавленный рукав парки. — Аяма[98]. Сонинг[99].
— Аська ты моя, Аська, — вздохнул Пантелей, прижав к груди голову женщины, погладил шершавой ладонью по черным жестким волосам. Ее дыхание отозвалось где-то под сердцем — пустым и печальным после смертоубийства.
Отпев тела по обряду христианскому, на третий день положили их в долбленые колоды. Добрые получились гробы: в самый раз по вытянувшимся покойникам. С пением принесли их к могилам, вырубленным в вечной мерзлоте, где лежать убитым целехонькими до Великого Суда.
Простив земные слабости бывшим товарищам, промышленные отдали им последнее лобызание. И когда Пантелей Пенда коснулся губами выстывшего лба Вахромейки, не выступила черная кровь на обмытой ране, веки покойного закрылись плотно. Ватажные решили, что тот не уносил зла в иную жизнь, простив передовщика за правду, которой не понимал в этой грешной жизни.
И предали промышленные русских людей чужой земле, по которой давно не ступала нога светлоглазого человека. Крестясь и рассуждая о том, что для Всемилостивейшего Господа и Спаса нашего всякая земля свята, пошли они в избу для поминальной тризны.
Помянув покойных хлебом и квасом да кашей, приправленной медом, принужденно пытались ватажные вспоминать хорошие дела убиенных. Но всякий раз, заговаривая о былом, сбивались на дела дня. И засиделись они так до поздних северных сумерек.
Мало кто хотел оставаться на лето в этих местах и промышлять здесь еще год. После Крещения соболя заметно убыло. Одни считали, что он ушел из мест, где его много добыли, другие, посмеиваясь, вспоминали Табаньку. Верь не верь его похвальбе, но едва он остался в Туруханском зимовье — промыслы обеднели.
Осторожные холмогорцы предлагали разобрать зимовье, а бревна сложить, чтобы не гнили — вдруг придется вернуться. Гороховские люди говорили, что здешние тунгусы хоть и мирные, но непременно спалят и зимовье, и бревна, чтобы другие пришлые люди не появились в их кочевьях.
Переговариваясь о будущих промыслах, ватажные ни о чем не спрашивали передовщика и явно томились его присутствием на тризне. Пантелей поерзал на сундуке в красном углу и ускользнул к своей аси в берестяной чум.
Было светло. Морозец пощипывал лицо, и свежий, сладкий воздух, какого не бывает в западном и полуденном краях, приятно холодил грудь. Из вытяжного отверстия курился дымок. Откинув полог, передовщик вполз в теплое, уютное жило, прибранное женскими руками.
— Биэмэм![100] — шутливо пробормотал тунгусское приветствие.
Женщина тихонько рассмеялась, сказала:
— Дорова! — Скинула парку, оставшись в одних штанах и в чукульмах[101], подбросила хворост в очаг. Огонь взметнулся, обдавая жаром. Не спеша Пантелей тоже стал раздеваться. Аська, посмеиваясь, помогала ему высвободиться из одежды.
Синеуль с несчастным лицом и прежним отрешенным видом лежал на спине, укрытый одеялом до самого подбородка.
— Амэдемги?[102] — спросила она, шаловливо кивая на полог, завешанный медвежьей шкурой.
— Эми![103] — ответил по-тунгусски Пантелей, привлек к себе полуобнаженную женщину и поправился: — Сэктедеми[104].
Посмеиваясь над корявым языком мужа, Аська скрылась за пологом, зашуршала меховыми одеялами. Пантелей забылся, глядя на огонь и отдаваясь навязчивым мыслям. Очнулся он от какой-то странной тишины. Обернулся. Женщина пристально глядела на него, и глаза, и лицо ее показались вдруг Пантелею незнакомыми.
— Ты чего? — спросил он по-русски.
Аська смущенно улыбнулась, поглаживая живот, и попыталась что-то сказать. У нее получалось только «я… эта…».
— Би доче![105] — пролепетала.
Пантелей не понял, раз и другой переспросил, напрягая память.
— Брюхата, что ли? — и сделал руками жест, будто оглаживал большой живот.
Она смущенно кивнула, в ее черных глазах блеснула скрытая обида. Пантелей растерянно почесал бороду. Мысль о потомстве никогда не приходила ему в голову. Аська же смотрела на него выжидающе, он понимал, что должен что-то сказать, но не знал — что. Вместо слов сгреб тунгуску сильными руками. Тихонечко зазвучал серебряный колокольчик, но не так, как прежде.
Выскальзывая из его рук, она морщила гладкий лоб и все силилась сказать что-то очень важное, что важней жившего в ней нового человека. Пантелей подсказывал, путаясь в тунгусских словах и русских понятиях. А она все мотала досадливо головой, шепча то «эми», то «нет». И слезы готовы были навернуться на ее глаза. Наконец лицо женщины просветлело, и она почти на чистом русском языке выговорила:
— Ты — великий воин, твои дети будут сонингами!
Сказав так, женщина облегченно вздохнула, улыбнулась и прильнула к бородатому мужу с прежним, беззаботным смехом.
4. К истокам
У северной весны, как у юной блудницы, век короток: зашалит, загуляет, растревожит степенные сердца и пропадет, кинув миру прижитый плод.
Еще на прошлой неделе ватажные люди поднимались в ночи, чтобы подбросить дров в затухающий очаг, а тут сама по себе вывалилась из окна растаявшая льдина, звонко раскололась о лавку и робко прогудела первая, дурная после холодов, муха. В тени деревьев, по падям веяло прохладой пережитых холодов, а в укрытых от ветра местах зеленел мох и оживал гнус. На святого Максима, сразу после холодов, стало так жарко, что молодые промышленные скинули парки, кафтаны и зипуны.
К весне все готовились с самого Благовещения: одни курили смолу, другие драли из мерзлой земли березовые корни, вываривали их для обшивки судов. Напротив ворот зимовья люди тесали доски на струг, на котором предполагали отправить в Туруханское зимовье всю добытую рухлядь.
О насущном уже не думали: капало с крыши над красным углом — отодвинули образа, а кров чинить не стали, сорвалась с петель створка ворот — прислонили к тыну и подперли жердью. Бородатые удальцы, как дети, будто забыли о прошлогодних тяготах и жили разговорами да помыслами о дальних краях, о неведомых землях.
Все они много говорили между собой о бородатых землепашцах и скотоводах, живущих в деревянных домах по берегам неведомой реки. Тунгусы называли их «йохами» и заклятыми врагами, рассказывали, что те бородачи пришли на тунгусские земли не так давно после многих войн с их предками. Из тех неприязненных рассказов узнавали ватажные в йохах то потомков прежней благочестивой Новгородской Руси, разоренной грозными московскими князьями, то старых промышленных, ушедших от царских воевод по Великому тесу.
Туруханцы и гороховцы, распаляя страсти, рассказывали по вечерам невесть от кого слышанные предания о богатой стране на краю белого света, о праведном народе, живущем у самых ворот рая. Устюжане, ссылаясь на дедов и прадедов, тоже вспоминали, что во времена старозаветные их предки пришли с восхода, из страны, которой справедливо правят двенадцать старцев, достигших святости при земной жизни. Будто нет в той стране ни царей, ни князей, а бояре — всего лишь думающие воины. Что нет там ни бедных, ни богатых: все равны от рождения до кончины, потому нет и зависти с распрями. Не равны же люди только в чести и славе по делам своим и подвигам.
Известно, обманный месяц май и старого, и юного заморочит, в дальний край сманит, не холодом, так голодом обманет. Почернела река, зажурчали по пористому льду звонкие ручьи. Возле родников из пропарин рыба лезла на лед. Черпали ее туесами и ведрами, сушили впрок, толкли на муку. Лоси и дикие олени шли на север. Добывали их, загоняя по насту. А хлеб берегли, ели его только по постным дням, в скоромные же жили тем, что Бог дает.
На святого Еремея-запрягальника, в середине мая, гулко загрохотала река и сдвинулась на аршин прорубь возле берега. В ночи же послышался гул, будто Илья-громовик на небе раскатывал свою новую колесницу. На другой день около полудня по черному льду хлынула стылая вода и стала прибывать, заливая берега. Вскоре, теснясь и скрежеща, вставая на дыбы, поплыли по реке льдины.
Промышленные зачарованно смотрели на ледоход, вдыхали запахи вскрывшейся реки. Хворавший в те поры Нехорошко попросил принести вешней водицы, пошептал над ковшом, бросил угольков из очага, посыпал четверговой соли, попил и стал поправляться.
По вскрытии реки не прошло и недели — к зимовью прибыли на оленях тунгусы. Их в зимовье хорошо знали и беспрепятственно пропустили за ворота. Когда вернулся из леса передовщик, Минчак с сыном Укдой лежали в его берестяном чуме, попивали брусничный отвар и ели печеную рыбу. Аська угощала родственников, и лицо ее сияло радостью. Собаки, вечные спутники тунгусов, лежали возле откинутого полога и настороженно следили за каждым движением людей.
Пантелей бросил топор у входа и весело поприветствовал Минчака с сыном на тунгусский манер.
— Вот я и пришел! — сказал, по-хозяйски располагаясь возле очага.
Прибывшим понравилось, что зять в своем дю здоровается с гостями на их языке.
— Дорова! — улыбаясь, кивнул Укда. Он насмешливо поглядывал на младшего брата, жившего среди русских промышленных. Синеуль, нахохлившись, как околевающая пташка, сидел в сермяжном малахае. Он был стрижен в кружок на московский манер и, с тех пор как побывал в Туруханском зимовье, не снимал с шеи струганый крест. У Пантелея же за зиму так отросли волосы, что густыми волнами рассыпались по плечам, как это принято у здешних тунгусов.
Старый Минчак, с тех пор как обзавелся оленями, стал выглядеть важней и надменней. Несмотря на бытовавшую среди тунгусов неприязнь к чужакам, родство с русским передовщиком, видимо, прибавило ему чести среди родни.
Пантелей, пожив с тунгуской, стал без толмача понимать ее родственников, если они говорили медленно и внятно. Аська же стеснялась говорить по-русски, но в быту понимала все. Синеулька, хоть и был молчалив, быстро освоил язык и мог уже служить толмачом. А потому беседовать с гостями было легко.
После обычных расспросов о здоровье и о промыслах старый Минчак спросил, далеко ли собирается кочевать ватага. Узнав, что промышленные идут к верховьям реки, он стал обстоятельно объяснять, какие роды каких племен могут встретиться на пути.
Назвав род момолеев, старик сделался печальным. Глубокие морщины избороздили его лицо вдоль и поперек, как иссохший прошлогодний лист. Он ниже опустил голову, и седые волосы скрыли впалые щеки. Укда тоже нахмурился, будто речь зашла о покойнике, как-то странно напряглась Аська, сверкнув глазами: стала отчужденной и нелюдимой. Синеулька-печальник, вечно замкнутый и отстраненный, вовсе сник, будто с новой силой взъярилась в нем, скрутила тело привычная боль: губы изогнулись подковой, брови опустились на глаза.
— У момолеев есть сонинг Ульбимчо — очень сильный воин. Он не даст луча пройти к бири[106] Лимпэ.
Пантелей понял, что от него ждут вопросов, и стал спрашивать, кто такие момолеи и их сонинг?
Морщины на лице Минчака немного расправились, хоть головы он не поднял, оставляя лицо закрытым седыми волосами. Старик с печалью поведал о момолеях, съевших его оленей, о сонинге Ульбимчо, убившем брата и старшего сына, забравшем молодую сноху.
Погрустив о былом, он поднял голову и веселей рассказал о хороших илэл сентеева, еличагирова, чопогирова родов, которые били лосей и рыбу в верховьях бири — реки. И так он расхваливал свояков, что Пантелей почувствовал в его словах особый умысел. Из намеков понял: если ватага пойдет вверх по реке, то войны с момолеями ей не избежать. Тунгусские же роды, кочующие в нижнем течении реки, и сам Минчак с сыновьями готовы помочь в той войне.
Подумав, Пантелей стал говорить, что справедливый русский царь не велит своим людям воевать между собой и ввязываться в войны без его разрешения. Сам себе удивляясь, стал расхваливать достоинства русского царя, его ум и дальновидность. Здесь, в дальней дали от Москвы, царь и впрямь представлялся посредником между людьми и Богом, справедливым заступником, а не вероломным боярином, нарушившим свои клятвы казакам. Как иконы, писанные руками смертных, напоминают о Господе и всех его святых, херувимах, ангелах и архангелах, так и царское имя в полуночном краю обязывало к справедливости и порядку.
Но тунгусы ждали прямого ответа.
— Если пойдете, все равно будете воевать с Ульбимчо-сонингом! — твердо произнес старик и добавил: — Все роды одигонов[107] и сильный шаман Газейко — помогут вам!
Передовщик в сомнении пожал плечами, покачал головой. Отказываться от помощи было глупо: неизвестно, как еще сложатся отношения с дальними народами?
— Благодарю! — сказал Пантелей с важным видом. Но, поскольку гости терпеливо молчали, ожидая ясного ответа, вынужден был добавить на их языке: «ээ-а!» (да!).
Тунгусы, чувствовавшие себя привольно под кровом зятя, по-свойски развалились у чадящего очага.
— Возьми Синеуля, — кивнул старик на младшего сына с таким видом, словно возражений быть не могло, усмехнулся, с ожесточением взглянув на его стриженые волосы. — Он хочет научиться говорить, как лучи, и служить русскому царю… Кто не может стать сонингом у своего народа, тот может стать хорошим чибарой у царя.
Последние слова старика не понравились передовщику. Издевка над сыном, названным холопом, указывала на нерешенный семейный спор. Пантелей с неопределенным вздохом сверкнул глазами.
— Толмач в ватаге — второй человек после передовщика! — кивнул на Синеуля. — Русский царь жалует за службы всех одинаково: для него что луча, что илэл, что воевода — все холопы. У нашего же Господа все мы одинаковые, и царь тоже, а значит — все равны. — Перекрестился, не потому, что помянул имя Божье, а потому, что покрывал им вынужденную ложь, не считая себя ни верным подданным, ни Михейкиным холопом.
Старик с сыном не поняли сказанного. Синеулька, насупившись, промолчал. Гости взглянули на Аську. Она осторожно переводила черные глаза с одного говорившего на другого, вместо ответа придвинулась к мужу и стала расчесывать гребнем его густые длинные волосы.
Вечером в тесном зимовье собралась вся ватага. После вечерних молитв стали ужинать. Сел на свое место и передовщик, хотя поел в чуме. После ужина он просил дать ему слово и начал рассказывать, для чего приходили тунгусы. Умолчал только о том, что от имени ватажных дал ни к чему не обязывающее согласие участвовать в межродовой тунгусской распре.
Промышленные люди оживились, заговорили о предстоящем пути. Одни считали предложение гостей за удачу, другие видели в нем проявление коварства лесного народа.
— Заманят в дебри и ограбят… Казачьи родственнички. А то и жизни лишат! — Оживший после хвори Нехорошко с мрачным видом ткнул кривым пальцем в красный угол, медленно поднялся с места, раззадоривая сам себя. Говорил бы долго, но его нетерпеливо оборвали на полуслове свои же, устюжские.
После споров просил слова Федотка Попов. Передовщику бросилось в глаза, как вырос и возмужал юнец. Его погодки тоже входили в мужскую силу. Откланявшись степенно, молодой холмогорец стал рассуждать вслух:
— Задумали бы здешние народы коварство — не стали бы предлагать помощь, а пошли бы следом, тайно, и выждали бы слабость нашу…
Кафтанишко, в котором Федотка уходил на промыслы, стал ему короток: из-под него торчали острые коленки в суконных штанах. Голова была покрыта все той же заношенной новгородской шапкой торчком, с распушенным ворсом, хотя он был своеуженником, имел в ватажной добыче свои паи вместе с братом и не был скуп. Незаметно, умно и мягко Федотка правил всеми холмогорцами, иные из которых были вдвое старше его.
Устюжане не нашлись, что возразить ему. И только Нехорошко, не желая признавать себя неправым, что-то ворчал об известном коварстве здешних лесных бродников.
Поговорив, сход решил от помощи не отказываться, но за тунгусов в войну не ввязываться, а блюсти свою промысловую выгоду. Передовщику же ватажные наказали следить за прижившимися у него тунгусами и если заметит признаки измены — без промедления доносить им, чтобы после, всем сообща, решить, что с ними делать.
— Окрестить на Николу! — просипел Тугарин, и Нехорошко, снова подскочив, скандально заголосил:
— Тунгусенок давно с крестом ходит и по-нашему говорит… И девку пора крестить. Грех с нехристями под одной крышей жить.
— Выжили из-под одной! — огрызнулся передовщик.
— Мы не паписты — силком не крестим, — ласково взглянул на него Лука Москвитин. — Но если дикие согласны, можно и окрестить.
— Я крестить не буду! — решительно заявил молчавший Третьяк. — Не рукоположен.
— Я окрещу уж как смогу, — покладисто предложил Лука. — Бог простит.
К поздним северным сумеркам льда на реке стало меньше, но вода прибыла на два аршина. Глядя на берег, гороховцы уверяли, что иной раз река поднимается на пару саженей.
Наказав караульным следить за разливом, ватажные стали готовиться ко сну. Затемно вполз в свой чум Пантелей. У выстывшего очага, свернувшись клубком, под одеялом из шкур посапывал Синеуль. За пологом, не смыкая глаз, ждала мужа Аська. Она согрела постель своим телом.
Наложив на грудь крестное знамение, торопливо и бесчувственно каясь в грехах, передовщик лег рядом. Все зимовейщики устали за день и радовались отдыху, но ни к кому из них короткая весенняя ночь не была так ласкова, как к Пантелею.
— Грехи наши! — зевая, крестил он рот в бороде.
«Святителю отче Никола, моли Бога о нас!» — послышалось из избы в сумерках следующего дня. Пантелей встал, оделся, вышел из чума, возле бани разбил утренний лед в бочке, поплескал водой в лицо, вошел в избу и встал позади всех у двери, на молитву.
На Николу вешнего разлив стал спадать. Струги были просмолены, а люди готовы отправиться в путь. Ранним утром, после молебна, с образами и крестами ватажные вышли из зимовья, обошли его с пением и направились к реке — святить воду. После водосвятия некоторые из них купались в вешней воде, отогреваясь потом возле жаркого костра. Глядя на общее веселье, решили креститься Синеулька и Аська.
Аська до этого дня сомневалась, а больше всего боялась, что мужчины увидят ее голые ноги. Пантелей уверил женщину, что внесет ее в реку и окунет сам. Что до голых ног, то предлагал сшить из кож поневу до пяток.
Синеуль стойко перенес окунание в студеную воду, хотя после третьего погружения глаза его стали круглыми и дурными, как у напуганного оленя, губы распрямились в собачьем оскале. Нареченный Николой, не издав ни звука, он пулей выскочил из воды и кинулся к костру.
Глядя на брата, Аська обмотала бедра сшитыми кожами, потоптавшись на месте, сбросила под них штаны и чукульмы, скинула легкую пыжицу[108]. Лука монотонно почитал молитвы. По его знаку Пантелей подхватил на руки тунгуску, вошел по пояс в студеную реку и присел, окунувшись с головой. Аська дико завыла, резво выскочила из намокшей, тяжелой поневы и попыталась вскарабкаться на голову передовщика. Тот еще дважды окунул визжавшую девку и выскочил с ней, обнаженной, вцепившейся ему в волосы. Ватажные громко хохотали.
Аська, нареченная Таисией, быстро пришла в себя, согрелась и оделась. Она посмеивалась над собой вместе со всеми и жеваными березовыми почками плевала в царапины на лице Пантелея, залепляла их смолой.
После полудня промышленные устроили пир с песнями. К вечеру на берегу опять развели костры, пели и плясали — всякий так, как заведено у него на родине. Новокресты, глядя на русское веселье, тоже пели и плясали под хлопанье в ладоши и под напев гудков.
На другой день ватажные отправляли на Турухан добытую рухлядь с Третьяком и пустозерцами. Ныла кручинная печаль в груди передовщика, не хотелось ему расставаться с боевым товарищем. И все не мог понять Пантелей, ради чего тот бросает богатые промыслы, отказывается идти к восходу путем, которым допрежь никто не ходил, ведь Бог давал им великое дело, через которое можно старому помолодеть, а молодому чести добыть.
— Брат! — уговаривал товарища. — И без тебя гороховцы доставят рухлядь купцам. Пойдем, — кивал на восход, — добудем жизнью славу, устроим землям удивление, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Не к тому ли стремились там? — кивал на закат. — А дело верное. Людей своих испытаем, себя добром покажем, за землю Русскую, за веру христианскую постоим.
Говорил Пантелей сокровенное, выношенное под сердцем от самого Дона. Третьяк понимал его, но своей доли терять не хотел: душу за друга положить мог, чуждой судьбой жить — врагу не желал.
Лишь ко Святой Троице спала вода и открылся путь по реке. После Духова дня, когда мать — сыра земля именинница и грех ее пахать, бороздить, тревожить, даже сапогами мять, ватага двинулась вдоль топкого берега, толкая суда шестами против течения. Третьяк с пустозерцами на новом струге с высокими толстыми бортами поплыл с рухлядью вниз по течению, в другую сторону. Те и другие пели одну песнь о том, что у каждого русича первая мать — Мать Небесная, Богородица, а вторая — мать — сыра земля, третья мать — что в родах мучилась. И далеко по воде разносились напевные молитвы, пугая отощавших медведей и всех лесных зверей.
Припекало яркое северное солнце. Попискивали комары и мельтешила мошка, примеряясь к русской крови. Вдоль берегов таяли застрявшие льдины. От них веяло сыростью и осенью. Под деревьями истлевал снег и черными языками сползал по тенистым падям к самой воде.
Через неделю солнце палило так, что у иных ватажных на обгоревших лицах кожа висела лохмотьями. Тунгусы почернели до синевы. К полудню было так жарко, что даже мошка искала тени, зато злобными сворами на солнцепеки вылетали оводы, облепляли лица и руки, влезали в рукава. Не спасали от них ни деготь, ни льняные рубахи, а только кожаные, под которыми в жару ручьями льется пот.
В конце июня, как раз на святую Акулину — вздери хвосты, когда даже в западной стороне измученный гнусом зверь ищет спасения в воде или на ветру, жара выдалась нестерпимая. Случилась же она после ливневых дождей, а потому мошки и комаров так прибыло, что стоило приподнять сетку с лица — гнус забивал рот и нос, лез в глаза и уши. Под сеткой же в жару дышать было невмочь и пот выедал глаза.
Угрюмка на бечеве поскользнулся и упал всем телом в мягкий, пышный мох, зарылся открытым лицом в его прохладную глубину, вдыхая запах мерзлой земли. И захотелось ему лежать так до последнего вздоха: пусть бьют, пусть бросят — лишь бы не подниматься. Поеденный гнусом, утром он не мог раскрыть глаз и разодрал опухшие веки пальцами. Только так и увидел белый свет.
— Вставай! — легонько ткнул его в бок посохом Федотка Попов.
— Не встану! — пробурчал Угрюмка, глубже зарываясь в мох.
— Сгрызут же нас! — завизжал Ивашка Москвитин, извиваясь всем телом и шлепая кожаными рукавицами по щекам. Синеулька, без сетки, держал струг против течения и не мог бросить упертый в дно шест. Он кряхтел от натуги, мотал головой, облепленной оводами. Угрюмка, чуть повернув голову вбок, взглянул на него вполглаза. «Ему в обычай», — подумал со злостью.
И то правда: тунгусов гнус не ел так, как русичей, они и не опухали от укусов. Семейка Шелковников, бросив бечеву, подошел к Угрюмке, не укорил, не обругал, только обхватил под мышки и поставил на ноги. Силен стал молодой устюжанин. С каждым годом становясь все дородней, он все больше походил на медведя. С ним уже никто не боролся.
Угрюмка поплескал в лицо мутной, солоноватой водой реки. Пальцы и щеки тут же облепили оводы. С визгом и рыком он придавил их с десяток разом, злорадно взглянул, как, растопырив крылья, злыдни поплыли по воде, перекинул через плечо бечеву и молча потянул струг, шевеля губами: «О Боже, Боже Великий, Боже Истинный, Боже Благий, Бог Милосердный!»
Вот уж истинно: кто мук не терпел, кто рядом со смертушкой не хаживал, тот Богу не маливался. Поглядывал Угрюмка на друзей, будто впервые видел этих людей: лица вздутые, вместо глаз — щелки. И долго шел он не оглядываясь: стыдился своей слабости, думал с озлоблением: «Чего им всем от меня надо? Отчего не дадут лечь и помереть по своей воле?»
Хрустел под ногами иссохший от жары мох. Деревья от зноя склонялись к земле. Молчали птицы или издавали звуки чужие, жалостливые. И все казалось путникам: вот-вот выскочит из чащи громадный невиданный зверь, подобный тем, чьи страшные кости то и дело торчали из берегов.
А время будто остановилось. Ночи стали короткими: едва начинала потухать заря вечерняя, темная — уж заря утренняя, красная гнала на небо распаленных коней, чтобы раньше разгорался нестерпимый день, чтобы позже на смену ему приходила прохладная ночь. От знойного духа тех коней-дней казалось — вот-вот вспыхнет иссохший лес. Чертыхались уставшие люди, не сумерки заставляли становиться на отдых — изнеможение.
В июле, по завершении петровского поста на апостолов Петра и Павла, приятно похолодало. Примета была плохой, она предвещала голодный год. Но идти стало легче. Отлютовав, пропали, сгинули куда-то оводы, и палящее солнце стало дольше задерживаться за урманом. Петр и Павел — час убавил, Илья пророк — два уволок.
Бечевой и шестами промышленные шли и шли вдоль пологого берега. Путь им преградила упавшая в воду лиственница. Подгнившее или поваленное ветром дерево в здешних местах не редкость, но у этого виднелся подрубленный комель.
Пантелей был в ертаульном струге и первым насторожился. На расстоянии в полет стрелы он свистнул, дал знак остановиться и спросил Синеуля, что бы это значило? Тот присмотрелся к упавшему дереву и пустил в него стрелу из своего тяжелого лука. Из-за ветвей выскочили двое в кожаных рубахах, бросились в лес.
Не первый день промышленные люди чувствовали тайный надзор за собой, внимательно осматривали всякое дерево, всякий камень и бугорок, за которыми можно укрыться. Передовщик спрашивал Синеуля, не его ли сородичи сопровождают ватагу, идут по следу? Тот приглядывался к опасным местам, ноздри его приплюснутого носа раздувались, глаза блестели, будто на миг унималась в них непрестанная боль, отвечал зятю по-тунгусски коротко:
— Эми (нет)!
По ночам новокрест спал меньше всех, прислушивался к звукам леса. Мучили Синеульку злые духи, не давая забыть пережитое в малолетстве. Все чудилось ему, что сидит на дереве рядом с сестрой, смотрит, как гибнут сородичи, как Ульбимчо-сонинг убивает брата и дядю, как момолеи режут и едят их оленей, а у него колотится сердце и не поднимаются руки, чтобы пустить стрелу во врага.
В тот год, пока собиралась по лесам родня Минчака, Ульбимчосонинг с момолеями ушел далеко. До низовий реки докатывались потом таежные слухи, что в верховьях биры они тоже пытались воевать, но там их побили. Родственники Синеуля решили, что в ближайшие годы они не смогут догнать обидчиков и отомстить. Минчаку же дали по оленю от каждой семьи. Следующей зимой случился голод для всех. А Минчак без лучших мужчин и без старшего сына вовсе не добыл мяса, река промерзла до дна — не было ни рыбы, ни птицы. Люди многих родов так оголодали, что стали смотреть на собак и на оленей как на мясо. Чтобы спастись от голодной смерти, Минчак вынужден был заколоть и собак, и оленей. Родственники ушли в кочевья, а его семья осталась возле реки, не смея мечтать о мщении.
Измученная дневным переходом ватага в укромном месте пристала к берегу. Люди стали разводить костер, устраивать ночлег. Холмогорцы, почитав заговоры и молитвы рыбаку — Петру апостолу, опустили в омут плетеные корчажки, взялись ловить рыбу, которая шла на уду легко и охотно.
Насытившись едой и питьем, промышленные легли отдыхать на постели из хвои и листьев. Им было не до разговоров. Иные вскоре засопели. Кто-то всхрапнул. Лишь Нехорошко, зевая и охая, все бормотал, вспоминая, как на Святой Руси народ в эту ночь не спит, а возле родников караулит солнце. Молодежь всю ночь поет и пляшет у костров. Старики, глядя на веселье, подремывают и ждут утренней зари. Русалки этой ночью горазды на шалости, и бабы возле рек сторожат их, не пускают в села и починки.
И так захотелось старому устюжанину встретить старость на родине, вдыхая запахи дома, построенного еще дедом, что, всхлипнув, он сглотнул слезу и уснул с мерцавшей на переносице каплей.
Передовщик выставил караулы. Вышел черед не спать Угрюмке.
— Может, завтра? — проскулил тот, глядя на казака просительно и жалобно. — Нынче русалки, сказывают, злы. — Намекал, что был призорен иртышскими моргуньями.
— У малодушных всегда за плечами кожа чешется, и ночью им не спится! — жестко оборвал просьбу Пантелей. Но пожалел насупившегося молодца и пошутил: — На реку смотри неотрывно. Как какая девка ползком ли, шагом ли к табору двинется — чарам не поддавайся, но, осенив себя крестным знамением, читай молитву Господнюю. А нечисть речную крестом охаживай, чтобы неповадно было смущать нас, умученных суровой долей.
По наказу передовщика Угрюмка залег в секрете вдали от костра так, чтобы можно было просматривать подходы к табору с реки. Укрылся и сам Пантелей. Едва стемнело, Угрюмка стал подремывать, голова его то и дело падала на грудь. Он вздрагивал всем телом, с удивлением вспоминал промелькнувший перед глазами сон, снова таращил глаза на тихую, темную реку, на звезды, которые будто застыли на небе, не двигаясь по великому кругу.
Как на грех, похолодало так, что стал куриться от дыхания пар. Прибило гнус. На стане похрапывали сладко и привольно. Опять мысли Угрюмки стали путаться со снами. Вдруг он испуганно вскинул голову. В яви, в нави ли увидел, как вдоль берега, от дерева к дереву, в короткой перебежке промелькнула тень с длинными, полощущими за спиной волосами. Гулко заколотилось сердце. Угрюмка стряхнул сон, беззвучно читая молитву. Глаза его пристально вглядывались в дерево, за которым скрылась шалунья.
Осенив ее нагрудным крестом, он осторожно запалил фитиль от тлевшего трута и, скрывая огонек полой зипуна, увидел, как три тени с луками в руках метнулись от другого дерева. Тут уж Угрюмка поднял пищаль, заряженную картечью, и, прежде чем вспыхнула затравка на полке, услышал пение тетивы в той стороне, где укрылся передовщик. Ухнула пищаль, высветила снопом огня табор и берег — и тут же все затянулось непроглядным пороховым дымом. Но на таборе уже прогрохотали один за другим два выстрела.
В наступившей тишине Угрюмка торопливо почистил ствол пищали и забил в него новый заряд. Откуда-то сбоку пронзительно, по-казачьи, свистнул передовщик, подзывая караульного. Пригибаясь, волоча за собой ружье, Угрюмка кинулся на условный свист.
Проснувшиеся люди закидали мхом тлевший костер и залегли в круговой обороне. В редевшей ночи светлячками мерцали тлеющие фитили.
— Держи! — одышливо кряхтя, приказал передовщик. Под ним беззвучно корчился связанный тунгус.
Со стороны реки и со стороны леса было пущено несколько стрел. Пантелей бесшумно метнулся к табору. На том ночной бой прекратился. Рассветало.
Неволей или Божьей милостью, как и принято на Руси от старого века, ватажные люди встречали солнце на Петра и Павла. И едва встала на крыло птица заревая да рассветная — Алконост, едва заалел, заиграл, заблистал разными цветами краешек солнца — так, что стало слепить глаза, полетел на запад первый зрелый луч, дружно крикнула ватага апостолам. Гулкое эхо прокатилось по руслу реки.
Осмотрев следы и примятый мох, передовщик велел пострелять картечью по опасным местам, затем позволил всем выкупаться для здоровья и бодрости. Пока одна половина ватаги с оружием в руках следила за лесом, другая бултыхалась в воде.
Купание сняло сон и усталость людей. Холмогорцы вытащили корчаги, набитые рыбой, раздули костры. Пока готовился завтрак, посланные в разные стороны ертаулы вернулись с донесением, что табор окружен. Угрюмка, о котором забыли, обозлился и приволок пленного к костру. Тот, связанный по рукам и ногам, с насмешливым любопытством водил глазами, разглядывая промышленных.
— С ним-то что делать?
— Погоди, — озабоченно отмахнулся Пантелей, отдавая распоряжения.
Отбитые при ночном нападении тунгусы подтянулись к стану и постреливали из-за деревьев. Передовщик наказал двум чуницам валить лес и делать засеку, остальным завтракать.
Еще до полудня берег реки с дымящими кострами превратился в крепость. Наваленные одно на другое деревья защищали как от стрел, так и неожиданных нападений.
Расставив караулы и отдуваясь после спешной работы, передовщик наконец-то вспомнил о пленном. Угрюмка со скучающим видом сидел под кромкой берега и держал в руке конец бечевы, которой был связан тунгус. Неподалеку за вывернутым корневищем укрылась Аська, оберегая руками большой живот. Она старалась не мешать мужчинам в их делах и не быть обузой. Те же заботы виделись на мордах ее собак, тихо лежавших рядом.
По зову передовщика явился Синеуль, рубивший засеку. Когда он увидев пленного, глаза его блеснули, лицо напряглось, и распрямились губы. Толмач спросил, какого тот роду-племени, выслушал ответ, и на голых щеках вздулись желваки.
— Нюрюмня[109], — презрительно бросила Аська.
Неприязненно разглядывая плененного, она очень походила на брата.
— Спроси, зачем напали? — велел передовщик, устало отмахиваясь от наседавших комаров. Как ни плохо он знал тунгусскую речь, но понял, что Синеуль допытывается, есть ли среди нападавших момолеи и сонинг Ульбимчо.
Пленный что-то презрительно ответил. Брюхатая Аська резво выскочила из укрытия и вцепилась обгрызенными ногтями в его длинные волосы. Синеуль впился пальцами в глотку врага. Передовщик, удивляясь их ярости, освободил полузадушенного тунгуса, вращавшего испуганными глазами.
У того из-под замшевой рубахи вывалилось серебряное блюдо, которое он носил на груди на кожаной тесемке, как иные русские люди носят складни[110]. Пленному блюдо служило панцирем, защищавшим грудь от стрел и колющего оружия. Посередине его с редким мастерством был изображен невиданный в здешних местах конь со всадником, в шапке, похожей на старокняжеский венец. В руке его был длинный палаш, которыми обычно вооружались остяцкие менквы.
Пожурив свояков за горячность, Пантелей снова велел толмачу спросить, зачем на них напали сородичи пленного. Тунгус, испуганно поглядывая на Синеуля и Аську, залопотал, что ватажные люди каждый вечер выдирают из земли траву. Пантелей прищурил глаз, поскреб рубец под бородой, вопросительно взглянул на толмача. Тот пояснил:
— Трава — волосы Земли, их резать надо. Если драть — Земле больно, и она мстит всем.
Сбив колпак на лоб, Пантелей рассмеялся.
— И то правда! Выдираем! — согласился. — А что прежде не сказал? — кивнул толмачу.
Тот вместо ответа пнул связанного и просипел:
— Чужое добро грабить хотели! Травы мы совсем мало драли!
Пленный был в каком-то непонятном для русичей родстве с момолеями, что сильно злило Аську с братом. На вопросы, кто у них сонинги и шаманы, он называл имена, которые ни о чем не говорили ни сибирцам, ни Синеулю.
Передовщик уже с досадой подумывал, что делать с тем пленником: ни убивать его не хотелось, ни караулить. Синеулька продолжал пытать тунгуса о своих врагах. Пленный назвал биру Илэунэ и живущий там народ йохо, среди которого будто скрывался Ульбимчо.
Пантелей снова стал задавать вопросы, на которые тунгус отвечал с явной охотой. У промышленных, разглядывавших серебряное блюдо, горели глаза. Пленник рассказал, что у верховий этой реки, за горой, течет на полночь другая полноводная река. По берегам ее живут бородатые, не лесные народы, которые держат много скота, пашут землю, покупают соболей и торгуют железом. Тунгусы хоть и считают их заклятыми врагами, но ездят к ним для торга и меняют соболей на железо, скот и всякие украшения.
— Это у них взяли? — спросил передовщик, указывая на серебряное блюдо.
— Ээ-э (да)! — ответил ободренный вниманием пленник.
За спиной передовщика прокатился удивленный гул. Блюдо пошло по рукам, изумляя промышленных. Уже никто не спорил, что беглецкая, промышленная ли, или древняя Русь где-то близко. И только Федотка Попов, разглядывая серебро, бормотал:
— Не Индия ли рядом? Там, сказывают, дороги золотом мощены.
— А мужик-то наш, — вскрикнул Нехорошко, ткнув пальцем в чеканный рисунок. — Кольчуга наборная до колен. Так в давнюю старину носили. — Присмотревшись, проворчал: — Всадник отчего-то лупоглазый — не грек ли?
— Без сапог, в поножах? — удивленно поскреб затылок Федотка.
Передовщик раздраженно отобрал блюдо, впился взглядом в чеканный рисунок. Собравшиеся загалдели:
— В поножах или в сапогах… Ты на кедрине свою рожу вытеши — еще посмотрим, лупоглазой, узкоглазой ли выйдет личина… А тут серебро, тонкая работа…
Пантелею не хотелось слушать спорщиков, нутром чуял — рядом исконная прадедовская Русь: не вся передралась и осквернилась предательством.
Федотка Попов ласково спросил пленного, сколько хода до йохов. Тот отвечал, что за лето на хороших оленях их люди доходят до бикитов. Поспрашивав у Аськи и Синеуля, что такое «бикиты», он к бурной радости собравшихся получил ответ, что бикиты — деревянные дома, как у лучи.
— Бикиты — хорошо! — вздохнул кряжистый сивобородый гороховец, напоминая о делах дня. — А то, что мы в осаде, — плохо. Так ведь и до холодов продержат.
— Господь не выдаст, — перекрестился передовщик и, возвращаясь к заботам, велел приковать пленного к дереву аманатской цепью да собирать на сход всех свободных от караулов. Промышленные пригласили на круг и Синеуля.
Помолившись да откланявшись на восход солнца, Пантелей стал говорить зычным голосом:
— Куда ни посланы были ертаулы — везде натыкались на засады тунгусов с луками и рогатинами. Сил их мы не знаем, напасть на них не можем. За ними по лесам гоняться — только время терять и головы: завлекут и перебьют поодиночке. На открытое место для боя они не выйдут… Подумайте, братья, как быть? — спросил и сел под дерево, ожидая советов.
— На другой берег переплыть, — сказал Лука Москвитин. — Пока они с оленями да со скрабом переправятся, мы далеко уйдем.
— Скорей, и там нас караулят, — недослушав, нетерпеливо оборвал его Пантелей. — Отчалим — стрелять станут. К тому берегу пристанем — опять стрельба. Новую засеку к ночи рубить придется.
— Плыть по реке обратно! — неуверенно пробурчал Нехорошко, дергая головой, а сам воротил в сторону виноватые глаза. — Столько волоклись… И все зря, — добавил хмуро.
— Оставались бы в зимовье, вторую бы зиму промышляли с Божьей помощью, — прогнусавил Тугарин, непонятно кого укоряя. — Эка невидаль — соболишко ушел. Придет! Вдруг — и зимовье цело…
Зашикали, загудели люди, недовольные словами холмогорца.
Попросил слова Сивобород — покрученник из распавшейся гороховской ватаги, снял шапку, перекрестился, сказал, вдумчиво оглядывая лица собравшихся:
— Если дружные нам низовые тунгусы-одигоны пошли войной на здешних, а мы вернемся, они нас пожгут: без нас победят — пожгут от презрения, вернутся побитые — пожгут за бесчестье. Станут грабить по нужде и по ненависти и промышлять на прежних местах не дадут. Надо или возвращаться в Туруханское зимовье, или идти вперед, как Бог вразумит.
Передовщик стал пытать Синеуля, можно ли вернуться в старое зимовье. Тот, будто забыв русский язык, поднимал к небу печальные глаза, топтался на месте, невнятно бормотал:
— Эми (нет)!.. Эру (плохо)! — Зачем-то твердил, что надо ждать три дня.
Не зная, что предпринять, передовщик объявил три дня отдыха.
Менялись дозорные, постреливая в места, откуда вылетали стрелы. Праздник и в осаде праздник. По окончании петровского поста в засеке устроили баню по-промышленному. Недоспавшие да те, кому идти в караул, отсыпались перед короткой северной ночью, которую для счастья и удачи надо было провести с песнями и плясками.
Милостью святых апостолов к вечеру показались на воде ветвистые рога лося. Под крики и возгласы промышленных двое холмогорцев на берестяной ветке[111] быстро догнали плывшего зверя и застрелили боевой стрелой из тунгусского лука. Пока лось не утонул, они накинули петлю на его рога и стали подгребать к берегу. Ветку сносило много ниже засеки.
Осаждавшие явно наблюдали за рекой, но стрельбы из леса не было. Отряд с заряженными пищалями со всеми предосторожностями двинулся берегом. Промышленные пробирались тайком, скрываясь от вражеских стрел. И, как оказалось, не напрасно.
Ветку со зверем снесло на четверть версты. Едва холмогорцы выскочили из нее на песчаную отмель, к берегу выбежали десятка полтора тунгусов в коротких кожаных рубахах, пустили стрелы в добытчиков. Те залегли за тушей зверя, застрявшей на косе, пустили по боевой стреле в ответ. Тут и подоспели промышленные, залпом из пищалей отогнали нападавших.
Лось оказался большим и тяжелым. Уволочь его по воде против течения не хватало сил. Холмогорцы наспех расчленили тушу, сложили мясо в ветку, просевшую до самых краев, и с помощниками бечевой дотащили ее до засеки.
Никто не был ранен, но все мокры с головы до ног. Ходившим на вылазку тут же дали лучшие места у огня, напоили горячим отваром из трав. Все свободные от караулов стали разделывать мясо и отделять его от шкуры.
Синеуль с сестрой со знанием дела очистили голову лося, вынули язык и отделили рога. Аська стала азартно перебирать внутренности, откладывая лакомые куски. Ей заметно мешал выросший живот. Промышленные беззлобно пошучивали над ней и передовщиком. Но брюхатую девку их насмешки ничуть не смущали. Она с гордостью выпячивала живот, показывая, что скоро станет настоящей женщиной. Серебряным колокольчиком звенел на стане ее смех. Осада Аську не пугала, бесконечный путь не страшил, она была вполне довольна жизнью.
Вскоре на углях зашипела печень, стали печься почки и грудинка. Ватажные, выкопав яму и выложив ее камнями, развели огромный костер. Они собирались испечь сразу все мясо.
Два дня ватага пировала и веселилась на зависть врагам. На третий ертаулы донесли, что осаждавшие ушли: то ли коварство задумали, то ли нужда заставила отступить. Передовщик какое-то время не решался продолжать путь, посылал в разные стороны ертаулов, но те возвращались, никого не встретив.
После полудня Пантелей снова собирался отправить людей на вылазку, но к засеке верхами подъехали тунгусы с поднятыми луками. В них ватажные узнали старого Минчака с сыном Укдой. Лица гостей сияли, старик даже помолодел. Печальник Синеуль, глядя на них, пытался улыбаться, распрямляя губы.
Поговорив с передовщиком и родственниками, гости объявили, что пришли не одни, а со многими родами: напали на давних своих врагов и победили их. Встречены были гости радостно и ласково, обильно угощены мясом и рыбой. Их звали ночевать, но они спешили к своим станам, где делилась захваченная добыча. К вечеру, забрав пленного тунгуса, Минчак с сыном уехали в глубь леса. Путь на восход был свободен.
Передовщик, поглядывая на шуряка, вспоминал, как оживилось его лицо, когда пытали пленного, и удивлялся, что встреча с родственниками не развеяла печали. Заметил он и то, что Минчак с Укдой смотрели на Синеуля с жалостью, как на пропащего и безнадежного.
За время, проведенное в ватаге, тунгус выучился говорить по-русски, к Пантелею относился по-родственному, называя его зятем — ибде, по-своему любил сестру и ждал, когда придет ей срок разрешиться от бремени. По обычаю многих сибирских народов, дядья любили и почитали племянников больше, чем собственных детей.
Не раз подступался Пантелей к Аське с разговором о младшем брате. Жалея его, она пыталась объяснить, что из Синеуля ушел другой Синеуль, которого не видно. Не умея растолковать мужу причину скорбного вида брата, она сердилась и оттого яростно чесалась.
— Со страха душа отлетела? — выспрашивал он, желая помочь найти нужные слова.
Аська смотрела на мужа пристально, грустно качала головой, то соглашалась, то не соглашалась, шумно выдыхала воздух, указывая под нос.
— Юла[112], — бормотала, цокала языком и говорила, мотая головой: — Синеуль здесь, а кут[113] Синеуль — там, — указывала рукой то на землю, то на небо или в полуночную сторону. — Кут могут обидеть, сделать больным, взять в плен, и тогда Синеуль из мяса и костей умрет.
Коротко сибирское лето. На первый Спас обильно поплыл по воде желтый лист. Еще вчера казавшаяся сочной, зелень берегов поблекла. В считанные дни пожелтели, стали осыпаться лиственницы. Разом началась короткая и яркая северная осень.
По подсчетам ватажных людей, они прошли по неведомой реке больше сорока поприщ, но она оставалась так широка и глубока, что не было никакой надежды добраться до истока к зиме. По берегам ее люди примечали много зверя и птицы, непуганая белка шишковала едва ли не на каждом дереве.
К третьему Спасу, в середине августа, увидели они скалистую сопку с крутым, срывающимся к воде берегом. Осмотрев ее со всех сторон и лес поблизости, решили здесь зимовать, устраиваясь надежно и неторопливо — не как в прошлый раз. Люди выгрузили поклажу из стругов, наспех навалили засеку, сделали шалаши и балаганы, постояв день и другой на одном месте, разведали окрестности. Признаков опасности не было, урыкитов поблизости не нашли, по всем приметам можно было надеяться на добрые промыслы и спокойную зимовку.
На Успенье Пресвятой Богородицы с крестами и образами промышленные обошли место, где решили поставить зимовье. Затем, наложив на себя трехдневный пост без хлеба и кваса — на ягодах, орехе, корнях и сосновой заболони, принялись за строительство.
Целую неделю они занимались самой трудной работой: валили лес, расчищали поляну под зимовье. Вдруг крикнул, замахал руками дозорный, указывая на реку. Передовщик взошел на скалу и увидел два струга, которые по-русски, бечевой, тянули бурлаки. Весной через Третьяка ватажные передали купцам свое согласие принять до десятка бывших гороховских промышленных. О них уже и думать забыли, считая, что в лучшем случае те могли занять их прежнее, пустовавшее зимовье. В то, что гороховцы нагонят ватагу к осени, не мог поверить даже Сивобород.
Побросав топоры, промышленные побежали встречать гостей. Передовщик опоясал кожаную рубаху, надел казачий колпак, повесил на бок саблю и с чуничными атаманами за спиной спустился к реке.
— Здорово живете, православные! — радостно закричали прибывшие. — А мы вам ржи приволокли да соли и круп.
— Что в старом-то не зимовали? — обнимая знакомых, расспрашивал Сивобород.
— Одни головешки застали! — шепелявя, выступил вперед тот самый гороховец, что прошлым летом неласково встречал ватажных на устье реки. Он заметно постарел за прошедший год.
— Недопил из нашей фляги на Спас? — пошутил передовщик, глядя на него приветливо.
— Недопил! — согласился тот, шамкая впалыми губами. Зубов у него стало еще меньше. — Если нальешь другую — выпью за твое здоровье. А зовут меня Михейка, по прозванью Скорбут[114].
— Нет бы неделей раньше прийти! — пожурил ватажку передовщик. — Мы уж лес навалили.
— Так поможем зимовье поставить.
— А как добром вас звали промышлять заодно! — не удержался Нехорошко, чтобы не припомнить зла.
— Отслужим былой грех! — смущенно выкрикнули со стругов и стали выгружать мешки на берег.
— Слава тебе, Господи, догнали! Не в одиночку зимовать.
— Кабы сразу была ватажка в сорок удальцов — и нам бы легче! — кивал передовщик. — Отдыхайте. Завтра вам лес валить еще на одну избу.
В середине сентября, на Никиту-гусятника, зимовье было поставлено. За крепким лиственным тыном укрылись две избы с нагороднями, баня и лабаз. Промышленные неспешно достраивали сени, передовщик с подручными сушил еловое дранье на лыжи и нарты.
Пока рубили зимовье — рыба и мясо не переводились. На берегу застрелили двух медведей. Гороховцы и туруханцы сочли это хорошей приметой перед промыслами. Давно уже смирились, не воротили нос от медвежатины привередливые в еде устюжане, только медвежьи головы не позволяли заносить в зимовье.
Выпал снег, покрыв землю вершка на два. Передовщик разослал во все стороны ертаулов смотреть следы. Те вскоре вернулись. Соболя они видели множество, загоняли его на деревья, легко добывали стрелой. Был здешний зверек рыжеват, но не пуган. А мех до холодов еще не вылинял. Но не было радости в глазах вернувшихся людей: вниз и вверх по реке появились тунгусы, в лесу они нашли настороженные самострелы.
Как здешние кондагиры поведут себя, когда вернутся из леса их олени: уйдут ли ко времени промыслов или станут мстить за обиды — об этом гадали и спорили. По приметам и следам выходило, что побежденные не смирились с поражением, но собрали много сородичей, чтобы воевать с низовыми тунгусами, а значит, и с промысловой ватагой.
* * *
На Святой Руси Покров не лето, Сретенье не зима. В полуночном же краю и лешему не разобрать, какая погода будет на следующий день. До бабьего лета два раза падал снег, но таял. И всякий раз после заморозков отходила мошка и лютовала едва ли не по-летнему. На преподобного Сергия[115] зимовье на пол-аршина завалило снегом, на другой день пошел дождь, а среди ночи ударил мороз и сковал растаявшую слякоть.
Ранним утром Угрюмка по нужде выскочил из избы, сделал шаг, другой и заплясал между баней и сенями. Притом он так лихо махал руками, так бойко выбрасывал ноги, что ватажные диву давались, высовываясь из распахнутых дверей. И только когда молодец шлепнулся на четвереньки и пополз к избе на карачках, все поняли, что пляска была невольной.
Ивашка Москвитин, посмеиваясь над дружком, с гиканьем скакнул с порога в бахилах, подшитых лосиной кожей, покатился, не доехав с сажень до бани, тоже замахал руками, стал извиваться, как змей на сковороде, и так же, на четвереньках, пополз к отхожему месту.
Смех в избах стих. Из прируба высунулся передовщик, зевнул, поскребывая пятерней грудь, поводил босой ногой по наледи. Вытянув шею, взглянул на нагородни, крикнул караульному:
— Если везде так — иди грейся!
Он еще раз зевнул, крестя бороду, мотнул нечесаной головой, поглядел на небо, на распахнутые двери изб. Над трубой его прируба закурился дымок.
Старики стали посыпать двор золой из очага. Кто за дровами, кто в лабаз, люди начали ходить, придерживаясь за стены. Задымили трубы в избах, начался непутевый предпраздничный день. Перед Покровом передовщик приказал всем ватажным чистить избы, конопатить дыры, менять постели, топить баню, париться и мыться.
Запас мха был в дровянике, там же лежали кучи чурок и щепок, оставшихся после строительства. За водой, за ветками для свежих постелей, за льдинами в окна надо было как-то спускаться к реке, идти в лес. Из-за бывшей оттепели прежние льдины растаяли и вывалились, в избах было темно от заткнутых окон.
Кто выворачивал чуни мехом наружу, кто плел лапти. Так и ходили к лесу и к реке. Весь день только и было разговоров: если лед покроется снегом — быть голодной зиме; не будет снега на Покров — не быть счастью и удачам. И так плохо и эдак не лучше. И не понять Промысел Божий: где гнев, а где Его милость.
К вечеру, набившись в одну избу, промышленные стали молиться истово, пели громко. Их голоса уносились в распахнутую дверь по долине реки, к высоким, ясным, холодным звездам.
— «Царица Небесная… покрой нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
И услышаны были молитвы. В день Покрова к полудню лед растаял, расправился и зазеленел по-весеннему мох, а к вечеру пошел снег.
Теребили бороды кичижники, размышляя, какой зимы ждать при таких чудных приметах. Ржаного припаса было мало: впроголодь до осени не растянуть, толокна да круп и того меньше, масла постного да меда — до Рождества только. Ни погоды к промыслам, ни покоя — немирные тунгусы кругом.
На другой день после Покрова, на мучеников Киприана и Устинью, помощников и заступников от бесовских чар и соблазнов, с западной стороны показались люди с навьюченными оленями. И было их так много для обычной охоты или для родовой перекочевки, что караульный тревожно засвистел, призывая к оружию.
Передовщик с саблей в руке вскочил на нагородни, глянул на закат и велел готовиться к бою. Ватажные заняли места к обороне, опоясались тесаками, заткнули топоры за кушаки. Уже была подсыпана натруска на полки ружей, дымили принесенные из избы головешки, а тунгусы беззаботно приближались и приближались. Одних только завьюченных и ездовых оленей было до полусотни. На иных сидели старики, женщины и дети. С полсотни тунгусов с луками и рогатинами шли пешими. Едва они подошли к краю леса, передовщик велел запалить фитили и тут же отменил наказ.
— Здешние тунгусы скорей сами под пули полезут, чем подставят своих оленей! — пробурчал в бороду.
Неспешно на нагородни поднялся Синеулька. Пенда, обругав его за медлительность, кивнул на подступавших.
Щуря на ветру зоркие глаза, толмач сказал с обычной мрачностью:
— Свои, одигоны! — и указал рукой на двух отделившихся от стана.
Гости уже остановились у кромки леса на просеке, где ватажные валили деревья для зимовья, а из сучков сложили поленницы. Там тунгусы стали распрягать оленей. Присмотревшись к ним, Пантелей узнал Минчака с Укдой. Он обернулся, свистнул, махнул рукой, успокаивая всех стоявших с пищалями и луками. Распорядился:
— Угрюмка с Сенькой — к воротам! Холмогорцы с устюжанами — встречать гостей. Гороховским и туруханским быть в дозоре.
— А тебе с толмачом родню потчевать! — язвительно усмехнулся поперечный Нехорошко, влезший на нагородни безоружным. Его лицо было распалено жаром очага. Усы и бороденка блестели от жира, редкие волосы на темени шевелились от устойчивого ветра. Он готовил обед.
— Глаза-то протер бы! — неприязненно взглянул на него передовщик. — Да рыбы напек бы по-устюжски, чтобы было чем хвалиться перед послами.
Польщенный Нехорошко, поворчав для острастки, крикнул во двор:
— Семейка! Сними с лабаза щук ладных с полдюжины! — И стал спускаться с нагородней по лестнице, лицом к избе. — Да налимов мелких… Да брусники, — распорядился, ступив на землю. — Да дверь лабаза закрой плотно. Не как прошлый раз!
Среди разбивавших стан тунгусов Пантелей разглядел долговязого шамана Газейку. На голову выше всех, он был в простой короткой парке, с длинными в пояс волосами, откинутыми за спину. С двумя помогавшими ему женщинами шаман ставил чум — дю.
— Пошли к родне! — Пенда весело кивнул Синеулю и спрыгнул с нагородней. Поймав на себе насмешливые взгляды, прикрикнул властно: — Почетных послов встречают за воротами! — Иди! — толкнул толмача. — Ивашка, Федотка — сопроводите!
Угрюмка вытащил из паза закладной брус, распахнул ворота. Навстречу гостям вышли передовщик с толмачом. За ними следовали Ивашка Москвитин и Федотка Попов с тесаками на поясе. Тонкие губы толмача печальной подковой гнулись к подбородку. Но чем ближе подходили родственники, тем больше они распрямлялись: с духом, без духа ли в теле, толмач тоже радовался встрече.
От имени своего народа послы приветствовали промышленных важно и степенно. Они были богато одеты: старик в песцовой парке, сын — в рысьей. Минчак своим видом показывал, что не желает путать родство с делом. При этом так старался, подражая шаману Газейке, что со стороны казалось, будто передразнивал его.
Послов ввели в избу, по русским понятиям — битком набитую людьми. Горел очаг, шипели котлы, Нехорошко покрикивал на молодых приварков, требуя то дров, то подручной помощи. Гостей усадили за стол. Под образами, в красном углу воссел на сундук передовщик. По правую руку от него — Лука Москвитин, по левую — Федотка Попов и толмач. Дальше расселись по чину чуничные атаманы, своеуженники и старые промышленные.
Когда послы утолили первый голод, передовщик стал расспрашивать их о кочевье и делах, об оленях и здоровье людей племени. Синеуль бойко переводил ответы отца, Пантелей самодовольно замечал, что и сам понимает Минчака. Иногда даже точней толмача переводил его ответы.
Выяснилось, что одигоны удачно воевали с тэго кондагирами[116]. В войне они добыли много добра, оленей и ясырей. Теперь и у Укды, и у Минчака есть жены. Хотя найти момолеев и сонинга Ульбимчо им не удалось, одигоны с лихвой воздали за былые обиды их родственникам. О момолеях старик говорил спокойно и даже с грустью: он считал себя отомщенным. У Синеуля от его слов глаза смеживались в две щелки, рот сжимался в птичью гузку, а на лице выступали красные пятна. Думая о своем, толмач сбивался, мычал, переспрашивал отца, то и дело забывая его ответы.
— Духи подолгу не любят помогать одним народам! — с грустью изрек Минчак и заерзал на непривычной для его тела скамье. Заскоблил длинные, седые, рассыпавшиеся по плечам волосы, почесал грудь под паркой. В избе было душно и жарко, но лучи сидели в рубахах и кафтанах.
Передовщик насторожился, понимая, что начинается важный разговор, ради которого пришли тунгусы. Он глядел на Минчака пристально, обратившись в один неподвижный взгляд, и тот продолжил докучливым голосом:
— Кондагиры собрали родственников, и теперь они сильней низовых тунгусов. Случился гололед — олени разбежались от голода. Те, которых нашли и запрягли, — разбегутся, как только их выпрягут.
— Вы пришли спасаться от врагов? — резко спросил передовщик.
Вместо прямого ответа старик стал обстоятельно рассказывать о реке за горами в стороне полуденного солнца, которая течет так же, как здешняя, и впадает в великую бири Иоандэзи. Промышленные оживились, стали выспрашивать о той реке, и старик охотно отвечал им. По его ответам можно было понять, что попасть туда можно только из верховий Тунгуски, которая уже повернула на полдень.
Пантелей Пенда раз и другой досадливо задал Минчаку все тот же прямой вопрос. На него зашикали своеуженники и лучшие люди: чего, дескать, пристаешь к старику — и так понятно, что тунгусы пришли за защитой. Иные из промышленных встали с мест, обступив гостей, и выспрашивали о народах, живущих в верховьях. Передовщик с Синеулем сидели понуро, думая каждый о своем.
Неслучайно заподозрил Пантелей Минчака в тайных помыслах. Едва утихли возбужденные расспросы о неведомой реке, он снова стал пытать старика. И тот, отдуваясь, признался, что сородичи надумали породниться с бывшими врагами. При этом он с важным видом обвел ватажных многозначительным взглядом.
— Так-то вот! — передовщик с кривой, леденящей усмешкой в бороде укорил разговорившихся промышленных. — А вам все «бири» да «тагауны»[117] …Вот породнятся они — да на нас все вместе войной пойдут? — Пристально взглянул на толмача, сидевшего с окаменевшим лицом струганого болвана, и спросил его резко: — Могут?
— Так и сделают! — внятно и жестко ответил Синеуль, сверкнув щелками глаз.
В наступившей тишине, при насторожившихся взглядах русских людей, тунгусские послы подумали, что неправильно поняты. Минчак стал оправдываться, приглашая почетных лучи на волхование.
— Завтра на шэвэнчэдэк[118] шаман будет спрашивать духов леса, неба и земли, можно ли родниться со старыми врагами. Не одигоны и хангаи решают такие дела, а духи.
Аську передовщик в избу не приглашал. Закончив разговор с послами, он повел их в свой прируб — теперь уже как свояков. Аська сидела на корточках возле чувала и смотрела на огонь. На нарах была постелена шкура, на ней в деревянных плашках стыли рыба и мясо.
Она сильно переменилась. Уже не слышался ее смех, на ласки и шутки Пянды, как звала мужа, часто отвечала неприязненно. Все свободное время сидела, обхватив руками живот, тихонько пела для своего еще не рожденного ребенка и часто всхлипывала, будто жалела его. В том, что родит сына, а не дочь, она не сомневалась.
С неделю назад Пантелей проснулся, услышав ее голос, открыл глаза. Аська сидела у раздутого очага, тихонечко пела.
— О чем песня? — спросил он шепотом. Хотел приласкать ее и развеселить. На земляном полу, на лапнике крепко спал Синеуль.
— Об олененке, который впервые вышел на берег реки, — ответила она тихо. — С ним была мать-олениха, — всхлипнула, и слезы покатились по щекам.
— Плакать-то зачем? — попытался привлечь ее к себе Пантелей. Аська оттолкнула его руку и вскрикнула:
— У сына Пянды нет оленихи. Он совсем один!
Ничего не понял Пантелей. Старые промышленные, посмеиваясь, поучали, что и русские бабы на сносях вредны и заносчивы: редко какая с брюхом бывает весела и ласкова. Такой жене цены нет.
С сердечной тоской вспоминалась ему певунья Маланья, и греховно ныла душа от той памяти, будто не отпустила ее бывшая полюбовная девица.
На этот раз Аська заждалась родственников, она так обрадовалась отцу и брату, что счастливым видом напомнила передовщику времена их знакомства и первых месяцев жизни. Женщина усадила всех на шкуры, стала угощать. Родственники, отдуваясь после съеденного в избе, с облегчением сбросили парки, почувствовали себя свободней.
Аська со скрытыми слезами в голосе стала им что-то говорить, да так быстро, что Пантелей не мог уловить смысла. Синеуль, слушая сестру, все ниже и ниже опускал скорбное лицо. Опять его губы печальным полумесяцем гнулись к безволосому подбородку.
Старик, слушая дочь, пятерней расчесывал длинные волосы, расправляя и раскладывая их по сухим плечам. Он заговорил вдумчиво, старательно выговаривая каждое слово, как для ребенка. Пантелей стал понимать, что Аська жалуется, но не на мужа, а на то, что у Пяндиного сына нет какого-то «умая».
Передовщик вертел головой, бросая взгляды на Синеуля. Тот, будто и не слушал родичей, думая о своем. Минчак же предлагал дочери на другой день приехать на шэвэнчэдэк и просить шамана, чтобы тот зазвал «умай» Пяндиному сыну.
— Экун умай?[119] — спросил передовщик, поглядывая на Аську и ее родственников.
Она силилась что-то сказать и не могла. Синеуль попробовал объяснить, Пантелей и его не понял.
— Душа, что ли? — Постучал кулаком в грудь. — Кут? Который от тебя сбежал?
Тунгусы беспомощно запереглядывались. У Аськи ручьями потекли слезы по щекам.
— Большой илэ[120], старый илэ — кут! — Всхлипывая и вытирая слезы, она, как и Пантелей, постучала себя в грудь. — Маленький илэ, — погладила свой живот. — Умай. Нет умай, кто защитит маленького илэ? Кто с ним играть и говорить?
Наконец-то Пантелей понял, что все Аськины страхи и слезы оттого, что, по ее понятиям, у ее ребенка нет берегини, или ангела-хранителя. Когда-то мысль, что новорожденный останется без ангела, беспокоила и самого передовщика. Но Лука Москвитин, как смог, окрестил Аську и обещал крестить младенца.
— Скажи, — кивнул Синеулю, — окрестим сына и будет у него умай.
Из избы доносились песни и смех. Ватажные веселились, полагаясь на милость Господа и мудрость передовщика. Пантелей завидовал их беззаботности. Взглянув на скорбных свояков, он чертыхнулся и хотел уже схватиться за шапку — молчать да печалиться могут без него. Но Аська так жалостливо взглянула на мужа, что он сел. Похоже, от него ждали ответа — позволит ли жене с младенцем принять берегиню от шамана.
Пантелей пожал плечами: отчего бы не поволховать, вдруг поможет. Грех, конечно, но грех отмолимый. Глядишь, и повеселеет бабенка. Без того забот полон двор: одни тунгусы, с которыми едва успели замириться, втянули в распри с другими.
— Пусть шаманит! — разрешил.
Аська вспыхнула и повеселела. Минчак заговорил привольней, Укда рассмеялся, поглаживая племянника через живот сестры. И только Синеуль со скорбным лицом претерпевал свою безысходную печаль.
Судя по разговору с Минчаком, шаману было заплачено за все разом. Завтра он попробует вернуть бежавший от Синеуля кут, блуждающий где-то среди таких же беглецов, злых и добрых духов.
— Я видела во сне твоего сына, которого не видно! — ласковей пояснила Аська, все еще в чем-то оправдываясь. — Он плакал, что у него, у маленького, нет умай-ене.
Минчак, лениво обгладывая кость, стал объяснять зятю, что у илэл берегиня попадает в чрево матери вместе с зародышем и до того, как ребенок начнет говорить, бережет его, разговаривает с ним, поет ему песни. Оттого-то младенец смеется и плачет во сне. А когда ребенок начинает говорить, в него входит кут. Кут и умай не живут вместе: умай навсегда уходит, прощаясь с повзрослевшим ребенком, как олениха навсегда прощается с подросшим олененком. А кут живет в плоти до самой смерти. Он растет и умнеет вместе с человеком, а после выходит из умирающего тела.
— И у нас так же! — пожимал плечами Пантелей. — Бог дает младенцу душу и судьбу. Крещение — ангела-хранителя.
Но Аська упорно не хотела называть кут душой, а умай — ангелом-хранителем. «Ну и ладно! — думал передовщик. — Что с них, с диких, взять?» Ему стало легко, будто камень с души сняли. «Не позволить страдающей роженице идти к шаману, что же в том праведного?»
Со святого мученика Ерофея[121] зима шубу надевает. Ватажные, сидя по избам, заканчивали последние приготовления к промыслам, опасливо поглядывали на лес и рассказывали чудные истории. Старые сибирцы, туруханцы и гороховцы за свой век насмотрелись всякого. Народ лихой и бесшабашный, однако уверяли, что в этот день доброй волей их в лес не заманишь ни мартовским пивом, ни крепленой бражкой: лешие, или тайгуны, переломают кости хуже медведя. Кому приходилось быть в лесу в одиночку, те слышали крики, свист, треск и грохот деревьев, хохот и улюлюканье нечисти, видели перепуганное зверье.
Промышленные чинили обувь, латали шубные кафтаны. Сивобородый гороховец, подслеповато щурясь, насаживал тупые наконечники на стрелы и вспоминал, как сбился в счислении и оказался в этот день один в верховьях Таза-реки. Он неторопливо рассказывал, а каждую приготовленную им новую стрелу пускал из лука Ивашка Москвитин.
Стрелял молодой по кожаной подушке, набитой шерстью, ее положили на мох в полусотне шагов от зимовья. При этом Ивашка терпеливо отмалчивался, слушая азартные советы и насмешки трех десятков учителей. Ни одна стрела не уходила мимо подушки. Через равные промежутки времени слышался гулкий шлепок. Затем с другого берега реки отзывалось эхо. Но в намазанный сажей круг, обозначавший соболью голову, стрелы все никак не попадали.
— Видать, глаз крив! — ругал молодого родственника Нехорошко.
— Зачам жилы рвешь? — брызгая слюной, шепеляво поучал Михейка Скорбут. — Поймал пятно — и пущай! Если боишься промахнуться — ни за что не попадешь!
«Уп!» — ударяла по подушке стрела. «Уп!» — отзывалось с другого берега. Красные пятна выступали на Ивашкином лице. Вкладывая зарубку на тетиву, он метал на поучавших его стариков разъяренные взгляды. Пантелей насмешливо ждал, когда острый на язык молодец или бросит лук, или станет дерзить. Хотелось и ему дослушать Сивоборода, хоть тот, плутовато ухмыляясь в бороду, лгал явно. Но солнце поднялось уже на две ладони, и настала пора идти на стан к тунгусам. Передовщик окликнул Федотку Попова. Синеулька с Аськой, уже собравшиеся в путь, ждали в прирубе.
День был ясный, но с восточной стороны наползали тучи. Четверо вышли из зимовья. Ворота за собой передовщик велел заложить брусом.
— Гляди накрепко! — задрав голову, приказал караульному на нагороднях. — Вдруг дам знак — всем идти на выручку. Луку почитать как старшего и во всем слушать.
Дозорный кивнул, не отрывая глаз от подушки с шерстью. «Уп!» — ударила по ней стрела.
— По ушам! — крикнул он с нагородней, имея в виду намазанную сажей соболью голову.
На краю просеки в двухстах шагах от частокола были поставлены полтора десятка островерхих чумов, крытых шкурами и кожами. Посередине стоял высокий балаган. Возле него на жердине висела шкура лося с копытами и с рогатой головой. По бокам от нее стояли тесаные болваны из свежих пней. На кол был надет огромный бычий череп с длинными гнутыми рогами — из тех, что вымывала река.
На стане горел большой костер. Возле огня суетились женщины. Над стойбищем висел праздничный дух паленой шерсти и пекущегося мяса. Навстречу гостям вышли Минчак с Укдой. Аська, повеселев, присоединилась к женщинам и весело захлопотала среди своих. Серебряным колокольчиком, приглушенным переживаниями последних дней, зазвучал ее смех. Мужчины сели на нарты друг против друга. Их обступили тунгусские собаки. Самый большой кобель, вожак, не обращая внимания на Пантелея, внимательно вынюхал Федоткины колени.
Укда пнул кобеля под зад и обозвал его «иргичи» — волком.
«А меня за своего принял, — смущенно подумал передовщик. — Пропах тунгусами. Чужого духа набрался». Прислушиваясь к смеху Аськи, он поглядывал на нее со стороны и печалился.
Вскоре гостей повели к шаманскому балагану, поставленному не для жилья, а для волхования. Внутри него вдоль ветхих стен молча сидели длинноволосые тунгусы в парках. Они сжимали меж колен луки со стрелами или рогатины.
Посередине балагана едва горел костер, на его углях тлели благовонные травы. Дым клубился у свода, возле вытяжной дыры. Порывы ветра врывались в нее и загибали пахучие клубы к земле, бросали их в лица сидевших людей, вновь поднимались к островерхой кровле.
Из-за полога вышел долговязый шаман Газейко. Тунгусы перестали кашлять и сопеть, молча уставились на него. Шаман был одет в кожаную рубаху, обшитую зубами и когтями зверей, медными бляшками и колокольчиками. С рубахи свисали лисьи и собольи хвосты. Вместо шапки на нем была шкурка сокола с иссохшей головой. Болтавшиеся крылья птицы свисали на плечи, длинные, в пояс, волосы с проседью были распущены поверх рубахи.
Шаман сел возле огня, достал из кожаного мешка бубен, приложился к нему ухом и долго прислушивался. Тунгусы с пониманием глядели, стараясь запомнить каждое движение. Они понимали, что дух шамана отделяется от тела и готовится в дальний путь. Даже кашель или сопение могли помешать им разделиться, поэтому все затихли, взглядами и жестами обещая шаману оберегать его беззащитное тело от злых духов.
Забряцали костяшки на рубахе, зазвенели бубенцы и бляхи. Постукивая в натянутую кожу колотушкой, обернутой заячьей шкурой, шаман мягкими шагами прошелся по кругу, заглядывал в глаза каждому из сидевших. Газейка что-то отрывисто гыркнул — Синеуль спрятал нагрудный крест за пазуху, жестом указал Пантелею с Федоткой, чтобы убрали кресты с глаз.
«Не грех, — подумал Пантелей. — Животворящий Крест и сквозь одежду, и сквозь каменную стену защитит». Он запахнул ворот шитой Аськой парки, легкой и теплой, сел удобней, щуря глаза, стал мысленно читать молитву от осквернения, мысленно же накладывал на себя крест за крестом, как со времен стародавних принято было у почетных русских послов среди иноверцев, чтобы тех не оскорбить и себя не осквернить.
Шаман все быстрей носился по кругу, время от времени как птица крыльями взмахивал руками с бубном и колотушкой, а крылья соколиной шапки хлопали его по плечам. Вот он прикрылся бубном, как щитом, словно саблей замахал колотушкой.
Засопели, сдавленно захрипели тунгусы, страстно потрясая луками и рогатинами: в другом мире на дух шамана напали враги, и родственники мысленно помогали ему отбиться. Тот отбился. Как в лодку, сел в свой бубен и поплыл через реку, оставив побитых врагов на другом берегу. Тунгусы облегченно вздохнули. Дух шамана уходил в страну мертвых. Поблуждав там, узнав, что нужно, замахал крыльями, полетел к небу, в самый труднодоступный мир.
Шаман плясал все быстрей и быстрей. Рубаха звякала, гудел бубен. Осоловевшие сородичи мысленно носились с ним в заоблачных и подземных далях, где одиноко блуждала беженка-душа Синеуля, где мирно пасли оленей души умерших предков. И пора уже было возвращаться на землю, в средний мир. Покружив в нерешительности, шаман замер, окончательно решаясь на что-то. И в следующий миг с отчаянным лицом ринулся в видимую только ему бездну: завертелся волчком, превратившись в вихрь. Длинные волосы обвили лицо пушистым шаром, и шаман упал возле костра. Приземлился. Сжавшись в комок, прижал бубен к уху. Вслушался, поднял голову с мутными, усталыми глазами и пробормотал внятно:
— Ээ-э (да)!
Пантелей с Федоткой и без Синеуля поняли, что духи велели передать его народу, чтобы он породнился с кондагирами. Минчак виновато взглянул на передовщика и смущенно зачесался.
Пришедший в себя шаман раз и другой махнул рукой, будто загонял в бубен вырывавшуюся оттуда муху. Резко вскочил, бросился к Синеулю, покорно опустившему перед ним голову, прижал бубен к его правому уху, снова замахал руками, подпрыгивая, перескакивая с места на место. Все поняли, что Синеулькин кут вырвался и улетает, а шаману не удается схватить его на лету.
Минчак вздохнул, раздраженно пробурчал сыну, что надо было снять крест перед волхованием. Скорбное лицо Синеуля побелело, уголки губ опустились ниже. Он промолчал, глядя под ноги, а Пантелей с Федоткой поняли, что шаман так и не вернул их толмачу кут. Значит, тот останется в зимовье.
Один за другим тунгусы поднимались и выходили из балагана. Волхование было закончено, хотя шаман еще не снял наряд и не спрятал бубен. Облачное небо хмурилось и опускалось на вершины деревьев, в воздухе искрились снежинки, по вытаявшей земле мела поземка, оставляя белые усы за пнями и чумами. Дым костров стелился в сторону восхода. Две женщины выгнали из леса оленей. Они подошли к костру, с любопытством уставились на еду, будто высматривали, что бы стянуть с расстеленных шкур. Лежавшие вдалеке от костра собаки ревниво поглядывали на них и сладострастно вдыхали запахи печеного мяса.
— Неужто ваши тайгуны нынче не дерутся? — спросил Федотка Синеуля. Тот рассеянно кивнул и промолчал, размышляя о своей заплутавшей душе на свой тунгусский манер.
Едва гости разлеглись вокруг костра, две женщины в долгополых парках, в расшитых бисером чукульмах, взяли под руки побледневшую Аську и повели в балаган. С блуждающим взором она, как чужая, прошла мимо мужа, и он, чтобы чего не нарушить в чужих обычаях, промолчал.
Вскоре из балагана опять послышались удары бубна. Тунгуски весело расставляли на шкуры парящую рыбу, мясо и печень в деревянных блюдах, бруснику и клюкву в берестяных корытцах. Собаки, глухо рыча друг на друга, ползком придвигались к еде, ожидая объедков.
Пантелей с Федоткой, в отличие от возлегших тунгусов, подкатили к костру колоду и сели. На низком, набухшем небе вдруг прорвало узкую полосу синевы, блеснуло невидимое солнце, заискрились просекающие воздух снежинки. Укда, улыбаясь, указал ввысь:
— Сонна![122]
— Золотая нитка с неба, — перевел его слова Синеуль, кивая, куда указывал брат. — Умай твоему сыну.
Ни луча, ни нити передовщик не разглядел: над шаманским балаганом курился дымок очага, на выглянувшем солнце искрились снежинки. Но чутким ухом он различил знакомый стон.
Бубен затих, стон повторился громче. Из-за полога две женщины вывели под руки Аську.
— Сейчас родит! — как о пустячном сказал Синеуль.
— Ака![123] — весело ударил себя кулаком в грудь Укда и по-свойски хлопнул по плечу Пантелея: — Ама![124]… Этыркэн![125] — шаловливо взглянул на задумавшегося отца.
— Этыркэн! — морщинисто улыбнулся тот.
«Слава Богу! — мысленно перекрестился Пантелей. — Не одна рожает. Чем могли помочь ей ватажные, хоть и седобородые?» Он побаивался думать о родах в зимовье, полагаясь на милость Божью и на Его Великую волю.
Из балагана вышел шаман в простой поношенной волчьей парке. Как обычный тунгус, он по-хозяйски бросил хворост в костер, сел среди раздвинувшихся мужчин. Все стали угощаться, а старый Минчак торжественно сообщил промышленным, что по наказу духов-покровителей и духов-предков хангаи дадут кондагирам в жены своих женщин и породнятся с ними, чтобы иметь мир. Момолеям и сонингу Ульбимчо они мстить не будут, их накажут отомщенные родственники. Ватажные могут идти со всеми одигонами в их кочевья или остаться здесь до весны, а после кочевать в верховья, к шамагирам, которые приходятся родственниками низовым тунгусам. По уверениям Минчака, кондагиры обещали до лета не нападать на лучи. В сказанном был намек, что мириться с русичами здешние тунгусы не собирались. И если те не уйдут весной — станут воевать.
Умными глазами шаман взглянул на передовщика, сидевшего напротив, и что-то сказал.
Синеуль с готовностью перевел:
— Шаман говорит — вы вернетесь к женам живыми и богатыми. Так ему сказали духи.
За едой и весельем никто не услышал, как разродилась Аська. В сумерках к Минчаку подошла седая старуха и сообщила радостную весть. Ни дед, ни дядья не бросились поздравлять роженицу, смотреть внука и племянника. Не сдвинулся с места и Пантелей, боясь уронить достоинство посла и нарушить тунгусский обычай, которого не знал. Мысленно он перекрестился и сдержанно возблагодарил Всемилостивейшего Господа за милости. «Вот ведь, — подумал с досадой, — прямо на Ерофеев день уродился. Всю-то жизнь нечисть морочить будет».
Минчак звал гостей ночевать. Но совсем рядом из труб зимовья валил густой дым, да и приглашение делалось для чести. Оставив Синеуля с сородичами, одарив шамана, Минчака и знакомых тунгусов, передовщик и Федотка вернулись в зимовье. Аську с младенцем Пантелей решил забрать, когда она окрепнет после родов.
Он долго не мог уснуть, впервые беспокоясь о судьбе сына. И чудно было думать, что он у него есть. Ворочаясь в выстывшем прирубе, Пантелей решил просить своему младенцу святого покровителя сильного: апостола Фому. Как говорится на Руси, били Фому за Еремину вину. Били, да не убили!
На другой день до полудня на пару с Угрюмкой он вернулся к тунгусскому стану за женой. Они приволокли за собой полуторасаженную нарту, чтобы привезти роженицу и ребенка. В зимовье Пантелей договорился с Лукой Москвитиным, чтобы тот на промыслы не уходил до Фомы и окрестил бы младенца.
На тунгусском стане опять пахло паленой шерстью и печеным мясом. Лесные народы все еще пировали, встречая женихов-кондагиров, и собирались кочевать в низовья реки. Голодные олени съели мох в округе и теперь слонялись среди чумов. Возбужденные сборами собаки носились среди нарт и кострищ. До русских промышленных людей никому не было дела, кроме свояков-дялви.
К ним вышли Минчак с Укдой да Синеуль с крестом поверх парки. Старик неуверенно позвал гостей к себе. Пантелей с Угрюмкой, поблагодарив, отказались от приглашения. Старик не настаивал. Синеуль присел на нарту рядом с ватажными, наблюдавшими за суетой стана, Минчак вернулся к своему чуму, склонился над лавтаком, закрывавшим вход, позвал дочь. Из-за полога показалась Аська в рысьей дохе, с ребенком за пазухой. Пантелей впился глазами в ее лицо, и показалось ему, будто Аська сильно переменилась.
— Что у тебя за пазухой? — громко спросил Минчак.
Женщина распрямилась, рассеянно улыбнулась, взглянув на мужа и отца, ответила смущенно:
— Хилукта![126]
— Брось кобелю! — приказал старик.
Аська обернулась, вскрикнула — нур![127] К ней с голодными глазами подскочил тот самый пес, что вчера пытался поставить метку на Федоткином сапоге. Она что-то вынула из-под полы, бросила. Кобель на лету поймал и проглотил подачку. Аська осторожными шажками подошла к нарте, робко и утомленно взглянула на мужа.
На Руси в домах, где часто умирали младенцы после родов, так же отводили от новорожденных нечисть. И прозвища им, бывало, давали посрамней, чем Кишка. Все это понимал Пантелей. До другого не мог додуматься: почему в глазах отчаянной девки, в одиночку промышлявшей вдали от становищ, не пропадает страх. Он ее не бил, был ласков, старался показывать, что рад беременности. Кабы она родила урода — Синеуль уже сказал бы.
До зимовья было две сотни шагов. Передовщик хотел везти Аську бечевой, как принято у промышленных, но Минчак поймал двух оленей и впряг их в нарту, чтобы не уронить достоинства дочери.
Теряясь в догадках, хмурясь от дум, Пантелей довез Аську до зимовья, распряг и отпустил к стану оленей, ввел женщину в натопленный и прибранный прируб. Она скинула доху. На груди, на бечеве, украшенной когтями и зубами зверей, висела берестяная коробка с младенцем.
— Здоров ли сын? — спросил Пантелей по-русски, присаживаясь рядом. Она положила берестяную люльку на колени. В ней, присыпанный древесной трухой, называемой у тунгусов «кучу», преспокойно посапывал чернявый младенец. Ничего похожего ни на себя, ни на Аську Пантелей в нем не увидел. Вдруг младенец резко вздохнул и, захлебнувшись слюной, кашлянул, не в силах сделать вдох. Пенда со страхом подумал: «Сейчас задохнется и помрет». Но младенец разумно задержал дыхание, сделал долгий и трудный вдох, откашлялся и снова преспокойно засопел.
— Ишь, какой умный! — удивленно пробормотал отец и хотел дотронуться до ребенка пальцем.
Аська вдруг вскрикнула и закрыла люльку телом. Ее брови сдвинулись к переносице, рот был сжат. Это была тунгуска, которую Пантелей не знал. Глядя на разъяренную женщину, он с тоской почувствовал, что больше не будет серебряным колокольчиком звенеть ее смех. Начиналась иная, непонятная ему жизнь.
Аська смущенно приткнула младенца к набухшей груди. Тот ловко поймал губами сосок, приоткрыл голубые глаза. Не показывая подлинных чувств, казак мирно пробормотал:
— Проголодался, звереныш! А глаза-то наши!
— У всех новорожденных глаза такие, — печально сказал Синеуль. — И у собак! — Скобка его губ чуть распрямилась. Он улыбался, с нежностью глядя на племянника, и находил в нем знакомые черты рода.
— Окрестить бы надо на Фому, — вкрадчиво взглянул на Аську передовщик. — Фома ваших предков на востоке крестил, здесь проповедовал. Всем святым святой… На всю жизнь пособник.
Накормив младенца, Аська забралась на нары и, покачивая берестяную люльку, запела про олененка, который впервые вышел на берег реки вместе с матерью. Отчего и на этот раз она пела грустно, изредка всхлипывая, опять не мог понять Пантелей.
Ночью он проснулся. При свете тлевших углей увидел, как Аська одевается. Подумал — на ветер, снова уснул. Когда в другой раз открыл глаза, ни женщины, ни младенца не было. На полу на лапнике посапывал Синеуль.
Ничего не понимая, Пантелей раздул огонь, подбросил дров и увидел, что Аськиного одеяла тоже нет. Он накинул парку, вышел из прируба. Мерцали тусклые звезды, серело небо к утру. Дозорный в тулупе ходил вдоль частокола, то и дело заглядывал за него.
Передовщик окликнул:
— Куда моя баба делась?
— А ушла к тунгусам! — весело ответил дозорный. Ему, уставшему от ожидания и одиночества, было в радость всякое слово. — Сбежала или так? — притопывая, подошел к прирубу. — Попросилась, я и открыл ворота. Ты не наказывал не выпускать…
Пантелей захлопнул дверь перед носом дозорного, готового говорить до рассвета. Из избы послышался стук, это поднялся Нехорошко, загремел дровами и котлом. Слышно было, как зевают и потягиваются люди. Одевшись, передовщик вошел в избу, сел в кутной угол. Помолившись соборно с промышленными, вернулся в свой прируб.
Синеулька уже не спал, сидел у очага и молча глядел на огонь, по своему обычаю, не поднимая глаз. Дозорный крикнул с нагородней, что тунгусы собираются уходить всем станом. Передовщик, хлопнув дверью, опять вышел, поднялся на нагородни. Чумы были разобраны, олени навьючены, люди сидели возле дымивших костров.
Злобно почесав зазудившийся рубец на щеке, Пантелей зарычал как медведь и саданул кулаком по верхнему венцу нагородней.
— И пусть! — прохрипел, презрительно и обидчиво скалясь.
— Чего? — переспросил дозорный. Но передовщик повернулся к нему спиной, соскочил с нагородней, гулко хлопнув дверью, скрылся в избе.
Подкрепившись едой и питьем за соборным столом, он стал благословлять и наставлять ватажных на промыслы. Велел им рубить станы и сечь кулемники по ухожьям. Чуницы в эту зиму были крупными — до десятка промышленных в каждой.
Устюжане Луки Москвитина ждали особого решения передовщика. Между собой они поторапливали старого Луку, но Пенду ни о чем не спрашивали. До лютых холодов каждый день был дорог.
Раздав наказы, Пантелей опять вернулся в свой прируб. У чувала все так же сидел Синеуль, он тоже ждал наказа.
— Где сестра?
— Ушла! — ответил хмуро. — Совсем ушла. Если бы не совсем, сказала бы. Узнай, что ей надо? — резко, но без зла и обиды в голосе приказал передовщик.
Синеуль послушно поднялся, натянул через голову парку. «Не вернется! — как о решенном подумал Пантелей. — Если они боятся жить с нами — кондагиры будут воевать».
Синеуль не взял с собой любимый многослойный лук, который высоко ценился среди тунгусов и промышленных людей. «Выкуп за сестру оставил», — усмехнулся передовщик.
К полудню от собранных и частью ушедших на закат низовых тунгусов отделилась упряжка с двумя оленями в поводу и с двумя пристяжными. На нарте сидели двое. Упряжка подлетела к воротам. Дозорный впустил в зимовье Минчака с Синеулем.
Передовщик приказал привести их в избу и собраться в ней всем бывшим в зимовье, сам сел в красном углу в казачьем колпаке, обшитом по краю беличьими спинками. Нужно было показать тунгусам, что защитников много. Но дело, по которому они прибыли, оказалось таким, что Пантелей краснел и потел, выслушивая речи старика при всех ватажных.
Минчак винился, что не может заставить дочь вернуться, и предлагал обратный выкуп — трех оленей. Ватажные, сидевшие по правую и по левую руку от передовщика, стали насмешливо торговаться, встревая в разговор бывших свояков. Не понимая шуток, старик упрямо рядился до трех.
Пантелей ударил кулаком по столу. Ватажные замолчали. Он не мог понять, чем обидел Аську, а старик не мог объяснить пустяк, понятный всякому илэ: у дочери родился мальчик, не похожий на лучи: станет жить среди лучи, боги дадут ему русскую душу. И будет маяться всю жизнь тело илэл — с душой лучи. И станет сын ругать мать, не будет почитать отца и предков.
— Наш Господь Вседержитель, — размашисто перекрестился передовщик, — душу дает сразу, а покровителя — после крещения! — В его тоне Минчак уловил укор.
Старик с досадой покачал головой. А Пантелей подумал: «Бог милосерд и все видит. Прежней Аське уже не быть… Кто знает, что ждет ватагу? А у них своя, понятная им жизнь. Вот уже и накликали судьбу младенцу!»
Свесив голову, он вдруг сразу остыл и смирился, стало жалко оправдывавшегося старика.
— Придем к йохам, найдешь невесту белую! — щурясь, посмеялся Лука Москвитин. — И мне какую-нибудь вдовицу.
— Пусть так! — передовщик решительно встал, перекрестился на образа. — Видать, судьба! Она выбирает родню, я — ватагу! — Он тряхнул гривастой головой и добавил милостиво: — Оленей, что ты привел, дарю твоей дочери и твоему внуку. Синеуль — как знает: волен уйти или остаться.
Когда старику растолковали слова бывшего зятя, он часто замигал запавшими в морщины глазами:
— Когда вырастет твой сын и спросит, кто его отец, — я скажу!
Синеуль остался в зимовье, а старик уехал с последними завьюченными оленями. Пантелей наказал дозорному, если вдруг вернется Аська, то ее впустить. Но ушли последние упряжки, стан опустел, чернея пятнами кострищ и кругами чумов. Только тесаные божки, бычий череп на колу да лосиная шкура остались от лесных людей, ушедших своим вековым путем.
То, что мох в округе был съеден, промышленные сочли за удачу: вряд ли кондагиры решатся подступиться к зимовью в ближайшее время. Чуница устюжан в тот же день ушла на промыслы. Передовщик оставил при зимовье Угрюмку, Нехорошку, Сивоборода-гороховца и двоих туруханцев. Остался и Синеуль, хотя ему, как всякому тунгусу, жизнь на одном месте была тягостна. Но в чуницы его не брали, отпускать на промыслы одного — боялись.
Через неделю вернулись холмогорцы. В пути они едва отбились от напавших тунгусов: то ли место для стана выбрали близко к кондагирским зимникам-меноэнам, то ли случайно столкнулись с с их людьми, промышлявшими зверя. Федотка советовал: меньше чем по трое не ходить, далеко друг от друга не быть и чтобы всегда при огненном оружии идти на помощь осажденным.
По уговору через две недели вернулись заводчики Луки Москвитина. Устюжан на станах Бог миловал. С кондагирами они столкнулись неподалеку от зимовья, залегли за нартой, начали стрельбу. Их услышали зимовейщики, пришли на помощь и разогнали нападавших.
Как ни богаты были промыслы, но, с опаской да с осторожностью на каждом шагу, того, что могли добыть в краю непуганого зверя, ватажные не добывали. А морозы все крепчали. К ноябрю в избах среди ночи промерзала вода в котлах. Снега по лесам было мало, кормов соболю хватало, и он носился мимо клепцов, не интересуясь приманкой. Кондагиры ходили за чуницами по пятам: ломали ловушки, пугали собаками зверя, могли поджидать за каждым деревом, чтобы напасть и исчезнуть.
Промышленные молились о снеге. И намололи его сверх всякой меры. Перед Михайловым днем потеплело, повалил снег, и падал он до самого Гурия.
На Руси к этому дню приезжает зима на пегой кобыле, слезает с седла, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам ледяные мосты, сыплет из правого рукава снег, из левого — иней. Но кобыла у зимы на Гурия пегая — от того то морозы трещат, то оттепель дышит…
Скучая, ватажные бездельничали в зимовье и по станам, сбрасывали снег с крыш, чтобы не раздавило изб и строений, каялись, что зарубки на деревьях, где поставлены клепцы, сделаны низко и они уже под снегом, — найдутся ли теперь?
Но нет худа без добра. Глубокие снега укрыли мох от оленей. Чтобы не погубить их бескормицей, кондагиры бросили свои зимники и подались в тундру, где среди редколесья ветер выдувает снега.
Снегопал прекратился так же неожиданно, как и начался. Вскоре приморозило, да так, что зашелестело, запело дыхание людей, леденея на лету, захрустело за спинами при ходьбе, будто дух ходил по пятам. А вскоре легла на землю полночная туманная мгла. В такую стужу сидеть бы в зимовье, слушая сказы старых промышленных, но надо было промышлять упущенное с осени. И чуницы без прежней опаски разошлись по привольным местам, рубили новые станы, тропили и насекали кулемники по ухожьям, отыскивали старые, заваленные снегами промысловые путики.
И промышляли они так до начала марта. А после, боясь гнева тайгунов и леших, стали забивать ловушки и возвращаться в зимовье для поста и молитв. К тому времени пообносились даже устюжане и холмогорцы, уходившие с отчины в добротных кафтанах и зипунах. Уже и они вынуждены были одеться в шкуры, только по праздникам покрываясь высокими холмогорскими и устюжскими шапками горшком-кашником.
Перед Святой Пасхой, когда складники сосчитали все добытое, сметливые устюжане с холмогорцами вычли доли без десятинных поборов, вкладов и поклонов, оказалось, что даже гороховцы в низовьях реки так много не добывали.
Нехорошко, потряхивая сороками головных соболей, швырнул оземь сношенный, выгоревший кашник.
— Пора и по домам! — крикнул, сверкая глазами.
И оказалось вдруг, что не все спешили на Турухан: одни считали решенным делом, что после нынешних, удачных, промыслов ватага сядет в струги и поплывет по реке с песнями, славя Господа, другие о возвращении не думали. Особенно противились ему туруханские и гороховские покрученники. Их пай был небедным, но втрое, вчетверо меньше, чем у своеуженников. И это за одну только зиму.
По напрягающейся тишине Нехорошко понял, что не всем его слова любы, блеснул глазами, задиристо дернул кадыком и вскрикнул:
— Убейте — дальше не пойду!
— На куски режьте — вниз не поплыву! — хмуро проворчал Сивобород. — Лучше один останусь.
Старый Гюргий Шелковников стал вразумлять, говоря, как мало у них хлеба: не хватит даже на то, чтобы безбедно сплыть к Туруханскому зимовью. Сберегая его, и в Великий пост рыбой сквернились — дальше будет хуже.
— У йохов ржи купим, — отвечал Лука Москвитин. — Коли они ее сеют, то возьмем дешевле, чем на Енисее.
Туруханские покрученники заработали на безбедную зимовку, на сапоги и зипуны. Прежде мучились они бедностью, так теперь — чтобы одеться, и погулять, и уйти на другие промыслы своеуженниками — не складывалось. Вернуться на Турухан они могли только к осени, когда все справные ватаги уйдут. По всему, выпадала им судьба пропить и проесть добытое, зимуя в острожке гулящими людьми, а на следующие промыслы опять проситься в покруту.
Гороховским же, промышлявшим всего лишь одну зиму, и того не предвиделось. Вернутся, погуляют — и будут зимовать на поденщине, претерпевая зиму. Но погулять они могли с размахом.
Михейка Скорбут, слушая споры, переводил тревожные глаза с одних на других говоривших, пристально всматриваясь в их лица.
— Ничо не пойму, — вскрикивал в злобном нетерпении. — Когда в Мангазею-то?
— Другим годом! — хохотнул Сивобород. — Все равно ко «Всем Святым» не поспеем.
— Там к Покрову уже и сусла нет! — вспылил Михейка, не понимая, о чем так яростно спорят ватажные. — Промышлять надо где-то!
— О том и говорим, башка тесаная, что там, кроме как у монахов, зимовать негде!
— Не-е, у них и квасу вволю не бывает, а с полночи будят на утреннюю молитву.
Галдели устюжане и холмогорцы, которым только сейчас открылось, что большая часть ватаги возвращаться не желает. Других возмущало, что помалкивает передовщик. Молчал и Федотка Попов — самый богатый из складников. Когда споры утихли, он попросил слова и, откланявшись на образа да на три стороны лучшим людям, сказал:
— Ни зверей диковинных, ни людей не видели. С тунгусами подрались — невелика заслуга. Вернемся — рассказать-то нечего. Только и будем добытой рухлядью хвастать.
— До страны йохов идти надо, — наперекор отцу пробубнил конопатый Семейка Шелковников.
— И возвращаться другим путем, — продолжил Федотка. — Чтобы, как на Тунгуске, промышлять первыми, места вызнать да прийти с богатством — вдвое. Тогда и покрученники, у кого умишко есть, смогут вернуться на родину, зажить в тепле, в сытости.
Нехорошко был так поражен спором, что некоторое время молчал, как рыба, разевая рот, и вяло помахивал рукой. Потом взбеленился, озлобясь до забвения, закричал с разобиженным лицом, топая ногами, дескать, кто желает вернуться, тот по вешней воде сплавится и без ватаги. Его не поддержали даже устюжские своеуженники, многие понимали: раз хангаи помирились с кондагирами, то уже рассказали всем тунгусам, какие богатства видели у лучи. Сплавляться малой ватажкой — Бога искушать.
Устюжане поругивали упрямых холмогорцев, вечных зачинщиков спора, холмогорцы корили устюжан, что те своим умом сроду не жили и жить не могут, но говорилось это без злого умысла и выслушивалось без зла. Промышленные потребовали слова от молчавшего передовщика — зря, мол, что ли, даем ему полную ужину?
— Честь нам от него одна, — остывая, пробубнил поперечный Нехорошко. — На всю спину равна, уж кожа с плеч сползает.
Все разом умолкли, обернувшись к Пантелею, а тот спросил Синеуля, на которого спорщики не обращали внимания:
— Скажи, дадут им твои сородичи сплыть к устью?
Синеуль долго молчал, его смуглое, обветренное лицо наливалось краской.
— Мы тебя с собой возьмем, наделим полной ужиной и волей, — ласково, как капризному младенцу, посулил награду Нехорошко. — Захочешь — к своим вернешься, захочешь — в Туруханском будешь служить толмачом, станешь самым богатым тунгусом.
На Синеульку с надеждой глядели и Тугарин, и старый Шелковников, и другие. Но тот, нехотя разлепив сжатые губы, заявил:
— Побьют! Узнают, что плывете, много родов соберутся вместе. Луки у них хорошие. С разных берегов стрелять станут, пока всех не перебьют.
Нехорошко выпучил было разъяренные глаза, но вместо того чтобы разразиться бранью, икнул, дернув морщинистым кадыком. Тугарин шмыгнул длинным, всегда мокрым носом. Иные просто молчали, качая головами. Всем вдруг стало ясно, что по-другому и быть не может.
И решили ватажные больше не спорить, а быть заодно и стоять друг за друга крепко, а понадобится — душу положить за други своя. Возвращаться же всем вместе — как Бог даст.
* * *
— Неужто реке этой и конца нет? — всхлипывал Угрюмка, растирая мошку по опухшему лицу. — Третий год волочимся!
Передовщик насмешливо поглядывал на поскуливавшего молодца, брательника своего боевого товарища спуску ему не давал: не позволял хитрить в ущерб ватаге, но и не изнурял другим в науку.
Его незримую поддержку Угрюмка все же чувствовал и порой позволял себе маленькие капризы как родственник. Он яростно отмахивался от гнуса, больше для виду налегал на бечеву, скользил раскисшими, сползшими к щиколоткам бахилами по топкому берегу. Впереди, сжав зубы, с окаменевшей спиной, терпеливым быком тянул свою шлею Семейка Шелковников. Лицо его от солнца и от натуги побагровело так, что пропали конопушки-рябинки. Передовщик хотел прикрикнуть на Угрюмку, подстегнуть, но опять пожалел молодца.
— Куда как мельче стала, — буркнул в бороду, раздраженно мотнув головой. — И не так уж широка. Даст Бог, к холодам дойдем до истока.
Река действительно мельчала. Чтобы пройти через иные перекаты, промышленным приходилось разбирать камни и завалы. После полудня струги подошли к залому из леса-топляка. Пенился и шумел перепад воды в аршин высотой. Пока просекались и перетаскивались через него — вымокли все. Передовщику даже казачий колпак отжимать пришлось. Едва ватага поднялась по реке еще на версту — снова наткнулась на плотину из топляка и плывуна. Пробиваться через нее уже не было сил.
Пока половина промышленных обустраивала табор, готовила ужин, молодежь, подсушив штаны, с топорами вернулась к завалу. Он был давний, многолетний. Кора на деревьях сопрела. Осклизлые стволы дурманили пряным винным духом, от которого обвисали руки.
Перебарывая усталость, Ивашка с Федоткой ловко попрыгали с лесины на лесину через бурлящие потоки и высмотрели, где легче просечь проход. К ним пробрались Семейка Шелковников и Угрюмка. Поддерживая друг друга за кушаки, молодые стали прорубаться среди гниющих стволов и ветвей.
Поработали они на славу. Поглядывая на них с табора, ватажные радовались, что утром, даст Бог, не придется мокнуть. Молодцы заткнули топоры за кушаки, оглядели прорубленный проход, через который с шумом рвалась река, и заскакали по топлякам к берегу. В это время на таборе привычно воевали с наглым медведем, которого убивать не было никакой нужды, а прогнать не удавалось.
Наконец, кидая злые подслеповатые взгляды и оглядываясь на табор, непрошеный гость, с подпалинами на шерсти, отступил. Ватажные устало расселись где кому удобно, стали тоскливо жевать приевшуюся рыбу. Соль берегли и брали только по щепотке — язык осолонить.
— Я-то до соли охотчив, — обсасывая рыбью голову, жаловался Тугарин. — Бывало, мне без нее и хлеб — трава. Рыбу да мясо без соли и не ставь рядом. Пресный дух за версту чуял. А нынче — спрячь мешок с солью, завяжи глаза — носом отыщу.
Темнело. Утихал табор, шумела вода в реке, слышался гул под плотиной. Показалось на миг, что гул и плеск стихли. Кто-то настороженно поднял голову:
— Чего это?
— Поди, плотину прорывает! — равнодушно, если не с радостью, зевнул Нехорошко.
Передовщик же подскочил и закричал во всю глотку:
— Спасай струги!
И тут зачертыхались люди, натягивая непросохшие сапоги и бахилы. Осенило вдруг, какой бедой может обернуться прорыв залома. Пантелей подхватил пылавший сук из костра, побежал к воде, где, привязанные накрепко к берегу, стояли груженые суда. В них под кожами спали свободные от караулов промышленные. Молодые, уже на несколько рядов обруганные за радение, понуро стояли у воды с шестами.
— Что попусту малолеток костерите? — прикрикнул на ярившихся передовщик. — Без них затор мог прорваться.
— Завтра не прорубаться, не мокнуть! — оправдываясь, басил Семейка и отталкивал шестом надвигавшееся на струг дерево. По другому борту звонко проскрежетали ветви топляка. Вроде бы утихла река, уплыл лес с плотины. Ватажные разошлись по выстывшим местам ночлега и снова стали моститься ко сну.
Пантелей едва ли не по-волчьи свернулся на корме струга и тут же уснул. Под утро он несколько раз просыпался, привычно прислушивался, не открывая глаз, и все удивлялся сквозь сон, отчего так холодно и гнуса не слышно? Когда же разлепил изъеденные мошкой глаза — кругом белым-бело, парка, шитая Аськой, на полвершка запорошена снегом. Передовщик сел отряхиваясь. Суда как-то странно покачивались на воде, будто их не вытаскивали на сушу.
— Братцы! Река поднимается! — крикнул он подремывавшим дозорным.
Те, растирая лица, стали всматриваться в очертания берега. Тут только заметили, что воды прибыло. Уплывший лес где-то снова перегородил русло.
Плотины, перед которой встали вечером, не было. Сотворив утренние молитвы, подкрепив тело едой, промышленные залили костры, ополоснули котлы и подобрали одеяла, блюдя заведенное в пути благочинье, разобрали шесты и бечевы.
Передовщик махнул рукой, благословляя идти в прежнем порядке. Одни налегли на посохи, другие на шесты — и первый струг двинулся против течения.
Скоро плывущая пена и отдаленный шум подсказали о приближении переката. Вот уж он заскреб камнями по днищам. Левый берег лесистыми холмами подступал к самой реке и полого уходил в воду. У правого, возле самых скал, дно так круто уходило в глубь, что бурлакам, не намокнув по грудь, невозможно было пройти. А холодная к осени вода до судорог сводила ноги.
Угрюмка заскулил, кидая жалостливые взгляды на передовщика. Чуял, что ему придется мокнуть, обносить скалу бечевой. Пантелей взглянул на приунывших ертаулов и велел разбирать камни, углублять дно. Река шла в высоких, покрытых тайгой берегах. Иногда хребты отступали, вдоль них тянулись моховые болота и гари.
За очередным поворотом течение так усилилось, что каждая сотня шагов давалась большим трудом. Берега стали еще круче, перекаты и камни следовали одни за другими, а впереди виднелись только буруны.
Возле притока, впадавшего с полуденной стороны, послышался шум порога. И здесь почти всю реку перегородил затор из плавника. Прорубившись сквозь него, ватага подошла к другому залому. Угрюмка непритворно кряхтел, едва не срываясь в рев и в слезы.
День был тихим и холодным. Не лютовала вездесущая мошка, пар шел изо рта. Бурлаков знобило. Вдруг заметил передовщик, как побелел и состарился Лука Москвитин — бодрый, бывалый устюжанин. Морщины избороздили его лицо, обвис на плечах кафтанишко, и сами плечи задрались, как крылья раненой птицы.
Он вздохнул и перевел взгляд на хребты-яны[128], припоминая пройденное устье притока справа. И вдруг все слышанное, на много раз выспрошенное у встречавшихся тунгусов соединилось в его голове. И показалось Пантелею, что он узнал это, никогда не виданное им прежде, место.
— Братцы! — сказал, удивленно оглядываясь. — Братцы! А ведь мы дошли! — Он скинул колпак и стал креститься, восторженно вглядываясь в неширокий изгиб реки, в приметную седловину. Ватажные вертели головами, не понимая, о чем бормочет передовщик с таким видом, будто сподобился узреть ангела.
— Дошли! — засвистел Пантелей, подбрасывая казачий колпак.
Удивленно озираясь, промышленные стали признавать приметы волока к той самой реке, о которой много лет слышали пересказы разных людей и народов, к той стране, куда вел Великий тайный сибирский тес. И проклятые пороги с каменными щеками, и высокая мачтовая сосна по берегам, даже серое небо — все вокруг повеселело. Полуденное солнце, прорвав облачность, прыснуло лучами прямо в лица.
Куда делась усталость! Струги вытащили на берег подальше от воды, разожгли костры, вместо долгожданного отдыха наспех перекусили.
— Хоть бы глянуть, что там! — шмыгнул мокрым носом Тугарин, кивнув на восход.
— Такой же холм! — проворчал Нехорошко. Задрав бороденку, взглянул на седловину, почесал обломанными ногтями под скулами. — Однако до вечера-то можно успеть, — согласился с холмогорцем.
— Половина ватаги — у стругов, остальные — со мной, — торопливо отплевываясь рыбьими костями, прошепелявил передовщик.
— По жребию! — вспылил Ивашка Москвитин. — Чуть что — молодые в дозор, хоть у иных молодых бороды не хуже.
— Кто хочет остаться? — вскинул голову Пантелей. Глаза его насмешливо блестели. — Никто? Кому весной не терпелось вернуться по домам — те и останутся. Алекса Шелковник — за старшего. Разбить табор на дневку, наловить рыбы, ну и все остальное… Как всегда, — приказал весело.
Поскольку весной было много сомневавшихся, они стали препираться между собой, и Пантелей сам назначил из них десяток дозорных. Впереди толпы в три десятка вооруженных людей он пошел к седловине.
И вот уже стояли обожженные солнцем, изъеденные до язв гнусом люди и смотрели на далекую полноводную реку. Тунгуска была рядом, река же, к которой шли три лета, пролегала в глубокой впадине. Глаза передовщика привычно оценивали волок по ручьям, стекавшим в долину, взволнованно стучало сердце.
Втайне все ждали большего: надеялись увидеть рубленые стены города, равнины возделанных полей, избы деревень или хотя бы острожек, из которого выйдут былинной красоты люди да благочестивые, мудрые старцы.
Никаких признаков жилья по берегам не было. По ним, сколько охватывал глаз, тянулась черновая тайга. Утки и гуси сбивались в стаи для дальнего перелета, кружили в небе ястребы, высматривая хилых, увечных, отбившихся одиночек.
— Низина-то! — сняв шапку, вытирал вспотевший лоб Сивобород. Он тяжело дышал после ходьбы. — Будто из пекла река течет.
— Это мы в горы влезли! — ответил за всех Федотка. — Три лета волоклись.
Сивобород не удостоил молодых ни взглядом, ни спором. Его плешину с расходившимися от нее редкими, вислыми, влажными от пота волосами облепила мошка. Гороховец наотмашь хлестнул по ней мозолистой ладонью, торопливо перекрестился и покрыл голову шапкой.
Федотка, постояв в задумчивости, перекинул на другое плечо пищаль с чеканным серебряным узором на зелейнике.
— Водицы бы той испить, — вздохнул. — Да не успеем к ночи. — Так как передовщик молчал, очарованно вглядываясь в даль, спросил: — Где зимовать будем?
Загалдели промышленные, глядя то в одну, то в другую сторону: на подволок и спуск, сметливым взглядом строителей и воинов осматривали склоны, лес, ручьи.
— Подумаем! — запоздало ответил Пантелей. — Завтра сходим, — мотнул головой в сторону реки, — посмотрим вблизи. — Оглядевшись по сторонам, добавил: — Пожалуй, струги надо будет сразу на этот склон переволочь. Да и зимовье где-то здесь ставить, крепкое да ладное. Какие народы вокруг, далеко ли и сколько их — не знаем!
— Что томить-то бездельем? — возмущались дозорные, когда узнали от вернувшихся про реку, про то, что до нее не дошли. — Или уже здесь зимовье рубить, или волочься в гору.
Ватага сидела вокруг большого костра, рассуждая о насущных делах. Передовщик, много молчавший после возвращения с седловины, попросил слова.
— Я ли призывал когда-нибудь к возвращению по Тунгуске-реке? — спросил, оглядывая ватажных. — И все вы перед Святой Пасхой решили возвращаться иным путем. Но судьбы своей мы знать не можем, а земли и народы вокруг неведомые. Как перезимуем — один Господь ведает. Если кому-то выпадет возвращаться побитыми и хворыми, то с этого места только струг на воду столкни — и понесет река к Троицкому монастырю. А куда принесет та, что за горой, — того никто не знает.
Если решим твердо идти вперед, ожесточим сердца свои и мысли отступные прогоним — надо волочиться за гору и там ставить зимовье крепкое да разведать реку. А если с опаской да со страхом начнем на закат оглядываться — лучше здесь оставаться. А по весне — как Бог даст: волочься ли за гору или по реке плыть обратным путем.
Сказал он так и свесил голову в ветхом казачьем колпаке. Холмогорцы задумались, покачивая высокими шапками, устюжане в натянутых до бровей кашниках примолкли, туруханцы да гороховцы в сибирских меховых шапках почесывали затылки.
Вдруг вскочил на ноги, бросил свой кашник на землю скандальный Нехорошко и рассерженно воскликнул:
— Коли по весне меня не послушались и обратно не поплыли, теперь ли о том думать? Кто ходил на гору, пусть с утра волокут на нее струги, а мы посмотрим великую реку. Хочу первым воды ее испить!
Бросил к его кашнику свой торчок Тугарин-холмогорец.
— По жребию! — вскрикнул Ивашка Москвитин. Ему, как и всем молодым, тоже хотелось идти к реке.
И решил сход: всем, кто оставался в этот день при стругах, — утром идти. По жребию отправить с ними десяток ертаулов и передовщика. Остальным не спеша проведать ручьи и начать волок.
На другой день с рассветом люди отправились за гору. Молодые убежали вперед. Передовщик не стал их окликать, он повернул к пади, в которой начинался ручей. Напрямик со склона струги к реке не спустить: слишком густ и крепок был здешний лес. Наметанным глазом оглядывая ручьи и речки, он думал, что волок по ним не так уж труден.
Гюргий Москвитин, отец Ивашки, указал стволом пищали на круглую, как полушарие, сопку, густо поросшую лесом.
— Для зимовья гора хороша! — подсказал передовщику. Тот оглядел ручей и склон, пожал плечами — до реки далековато. — Ни сверху не подойти, ни снизу, — цокал языком старый Гюргий.
Вдвоем они поднялись к сопке, увидели, как молодые подбегают к реке. За ними, припадая на ногу, гнался Нехорошко.
— Ругает, поди, молодцов почем зря! — усмехнулся старый Москвитин. — Ивашка-то мой шибко груб стал. В мужицкую пору входит. Ты его степени, не жалей.
— Ты — отец! — огрызнулся передовщик.
— Тебя лучше послушает, — смутился промышленный. — Меня почитает, а делает по-своему.
Пантелей осмотрелся по сторонам.
— А что? — притопнул весело. — Доброе место. И струги рядом с зимовьем можно ставить, не бояться, что сожгут или изрубят. А по большой воде к реке их спустить — на день хлопот.
Когда передовщик с Гюргием вышли на берег, там уже горел костер и пахло печеной птицей. Чавкая мокрыми бахилами, с реки на яр поднялся Семейка Шелковников. Под жабры он нес две рыбины, волочившие хвостами по земле. Рассевшись вокруг огня, промышленные как-то умиленно, без споров, поглядывали на реку, а она чаровала блистающей гладью русла, зелеными травами по берегам, где кормились и хлопали крыльями тысячи птиц. От воды пахло рыбой.
— Не дали первому испить? — насмешливо спросил Нехорошку Пантелей. Тот смущенно улыбнулся, приветливо кивнул. — Как вода-то? Сладкая?
— Медовая! — посмеиваясь, бросил рыбин в стороне от костра Семейка. — Сколь лет солоноватую из Тунгуски хлебали.
— И теплая! — У Ивашки Москвитина и Угрюмки головы были мокрыми, не к добру купались после Ильина дня. Печеные утки да гуси в Успенский пост — опять же грех.
— Глубока да быстра! — удивленно пробормотал Нехорошко без обычного раздражения. — А гнуса — так же, — посмеиваясь, шлепнул ладонью по морщинистой шее.
Гюргий с передовщиком сошли к воде. Крестясь, поминая Богородицу, опустились на колени. Пили долго, мелкими глотками, то и дело отрываясь. Их намокшие бороды шевелились под водой, как рыбьи спины.
— Дошли, слава Богу! — распрямился, отжимая бороду, старый Москвитин и положил поясной поклон за реку.
— Синеулька! — стал подзадоривать толмача Ивашка Москвитин. — Все у вас «бира» да «бира» — вся Сибира из одних бира, а эту реку как тунгусы зовут?
— Илэлэунэ! — ответил тот, не отрывая глаз от огня.
— То бишь тунгусская река, — ухмыльнулся устюжанин. — У них все реки тунгусские! — Ивашка попробовал повторить сказанное толмачом: — «Елеуна?» Поди, водяной дедушка не обидится за наши языки костлявые. Мы его одарим.
— Что мелешь, ботало устюжское? — суеверно окликнул ватажного холмогорец Тугарин. — Где подарки?
— Завтра гуся добудем! — ничуть не смутился Ивашка. — Вон их сколько, — кивнул на реку.
Возле противного берега, поросшего зеленой осокой, плавали стаей очень крупные гуси. Добыть таких красавцев живьем было непросто. Птицы радовались прожитому дню, то и дело задирали головы, хлопали оперившимися крыльями.
В середине августа, к Успенью, промышленные люди вытащили свои струги к Юрьевой горе, которую высмотрел старый Гюргий Москвитин. Лучшего места для зимовья они не нашли.
Давно закончился ржаной припас, остатки соли берегли на праздники. В округе было много ягоды, птицы и зверя, река кишела рыбой, но без хлеба лица людей осунулись, глаза стали усталыми и злыми. «Моржееды»-холмогорцы хоть и похвалялись, что поморам бесхлебье в обычай, на самом деле еле ноги таскали. Устюжанам было и того хуже.
Припасом были обеспокоены все. То, что к йохам надо плыть и поскорей, говорилось каждый день. Но где они? Ертаулы на днище поднимались вверх по реке, а признаков оседлых людей не видели. По тунгусским сказам, надо было плыть к полуночи, а сколько плыть — о том толковалось по-разному.
Сплавляться к зиме всей ватагой промышленные не решились. Известно, что йохи добывали соболя. Если бы они и встретили пришлых как родню, нельзя было тем злоупотребить: жить поблизости, промышлять в чужих угодьях.
И надумали люди Пантелея Пенды отправить по реке двенадцать своих товарищей при двух стругах: по трое от устюжан и холмогорцев, четверых от туруханцев и гороховцев да передовщика с толмачом. Для мены они дали ертаулам десять сороков соболей и наказали, чтобы если даже те встретят среди йохов своих пропавших родственников — за каждого соболя торговаться для выгоды всей ватаги, ни дня ради безделья и любопытства не задерживаться, а спешить с хлебом обратно.
Туруханцы с гороховцами кинули жребий и без споров назвали своих посыльных, холмогорцы смогли договориться между собой, устюжане заспорили. Среди них выпало плыть Нехорошке, Ивашке Москвитину и Семейке Шелковникову. Отец молодого промышленного стал уговаривать вздорного земляка, чтобы ему не разлучаться с сыном, но Нехорошко не уступил своего жребия, приговаривая, что если Бог решил, то не им, грешным, переиначивать. И только сказал так, над его головой села на сук ворона, птица умная и зло вредная, почесала лапой клюв, каркнула и дриснула прямо на шапку беспокойного устюжанина. Тот испуганно закрестился, опечалился, стер помет пучком мха, но плыть с ертаулами не отказался.
Ивашка Москвитин вытянул жребий по своей молитве и благодарил за это судьбу, Угрюмка обиделся на передовщика: о том, чтобы ему плыть или жребий бросать, — даже и разговора не было.
Не откладывая нового дела на другой день, промышленные спустились с Юрьевой горы, выбрали под ней два струга покрепче и полегче, с приговорами поволокли их вниз. Был день святых мучеников Флора и Лавра, когда коням дают отдых, работать на них — грех, а людям можно себя не жалеть: глядишь, умилостивятся святые, дадут им овса на кашу.
Верст с шесть промышленные волокли струги по ручью, пока те не пошли сами, войдя в широкий приток. Здесь ертаулы простились с ватагой и поплыли вниз.
При впадении притока в реку течение было быстрым, глубина большой. Ертаулы приткнулись к берегу и заночевали. В лесу ревели дикие олени, начинались бои рогачей. К ночи похолодало так, что прибило гнус. Кутаясь в парку, тоскливо ворчал Нехорошко:
— Хвалились бабы бабьим летом, а того не ведали, что подходит сентябрь! — Говорил — и парок клубился над его бородой.
Утром пал туман — будто глаза залепил. Передовщик не решился плыть в неведомое, не видя концы своих весел, и велел дожидаться светлого дня. Ертаулы сидели у костра, прислушиваясь к звукам большой реки, пекли рыбу, пили ягодные отвары. Нехорошко то и дело впадал в забытье, глядя на угли костра. Непривычно и неловко было видеть его таким отстраненным от забот.
— Отчего в печали? — спросил передовщик.
Тот поднял тоскливые глаза:
— Ночесь крепко спалось, во сне недоброе привиделось.
И пока думал Пантелей, как утешить устюжанина, тот сердито затряс бороденкой и зловредно просипел простуженным голосом:
— Надо дедушку одарить! Еще прошлый раз обещали. — Укорил молодых: — Сходили бы за гусем вдоль берега по самой кромке!
Синеуль, томившийся ожиданием, с готовностью взял свой лук, подергал тетиву, выбрал из колчана три стрелы с тупыми наконечниками. Федотка с Семейкой тоже стали собираться. Ивашка Москвитин не пожелал остаться на стане и торопливо перебирал стрелы, выискивая лучшие.
— В воду не лезть и от воды не уходить! — наказал передовщик. — А станет крутить леший — кричите!
Молодые ушли, будто растворились в белом дыме, и долго еще слышался стук камней под их ногами. С реки доносились крики птиц, хлопанье крыльев, казалось людям, что, попугивая их, русалки хлопали в ладоши, тайгуны-лешие голосили в лесу, передразнивали птиц. К отплытию все было готово, оставалось только ждать.
Тугарин, глубоко вздохнув, мосластыми руками содрал с плеч заячью парку, дубленную баданом, достал иглу, моток сухих жил, стал накладывать заплату и стягивать расползавшиеся швы.
— В путь-дорогу не шил бы! — укорил его Нехорошко.
— Мы всякий день в пути! — огрызнулся холмогорец, прокалывая иглой мягкую кожу.
Глядя на него, и другие взялись за мелкий ремонт одежды.
Туман редел. Вскоре на востоке золотистым пятном заблистало солнце. Почти рядом послышались человеческие голоса, крики и смех.
— Балуют! — прислушиваясь, перекрестился Нехорошко.
Тугарин смахнул за плечо длинную вислую прядь седеющих волос, насторожил облупившееся, коричневое от загара ухо.
— Наши балуют! — узнал голоса. — Уж в бородах, а все юнцы. — Холмогорец вздохнул. — Возмужали среди леших, бедные.
— Может, так и лучше! — проворчал поперечный устюжанин, вспомнив что-то свое, давнее, взглянул на передовщика, вздохнул, жалея то ли ватажную молодежь, то ли себя самого: — Хотя — как знать! — усомнился и добавил: — Кому как писано, тому так и сбудется!
С реки донесся надрывный крик.
— Бык ревет?
— Гусь! — прислушался Тугарин. — Добыли для дедушки.
Развеяло туман над рекой, но другого берега не было видно. Молодые вернулись к стругам. Они смеялись, удерживая раненого гуся, который и клевался, и вырывался из рук. Нехорошко вскочил на ноги, умело обвязал бечевой ноги и крылья птицы.
Одарив водяного, промышленные покидали в струги нехитрый скарб, залили костер и, столкнув суда на воду, разобрали весла. Течение реки подхватило их и понесло вдоль берега. По знаку передовщика струги развернулись носами к полуночи, гребцы налегли на весла.
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник», — сняв шапку, запел передовщик сиплым голосом.
С придыханием наваливаясь на весла, гребцы стали подпевать:
— «К чудному заступлению твоему притекаем… Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий…»
Струги выходили на безопасный стрежень. Песнь гребцов разносилась по реке, пугая уток и гусей, которые то и дело с шумом снимались с воды. Высоко в небе, курлыча, пролетели к югу журавли. Березы свесили к воде желтые листья. Багряным цветом зари налился осиновый лист.
К вечеру река повернула к восходу. Ертаулы выгребли к высокому яру правого берега и увидели за ним устье притока — почти такого же широкого, как сама река. Против яра сливались воедино два многоводных русла, роднились, вскипая крутыми волнами, и уносились к полуночи могучим степенным потоком.
Передовщик высмотрел ниже устья пологий остров, покрытый двадцатисаженными соснами в два обхвата. Он уже прикидывал, где переправиться через волнующийся слив, но с другого струга окликнули, указывая на яр, возле которого держались суда. Там среди деревьев висел дым.
Встречи со здешними тунгусами для разговора о йохах передовщик ждал с нетерпением и велел причалить к песчаной отмели. Двое посыльных взобрались на яр, замахали руками, показывая, что разглядели за деревьями островерхие тунгусские чумы.
По указу передовщика ертаулы вытащили струги на сушу, чтобы ночевать у воды. Оставив возле них людей, Пантелей опоясался саблей. Федотка с Синеулем перетянулись кушаками и навесили тесаки, один — с неразлучным луком, другой — с пищалью, следом за передовщиком отправились в посольство.
Тунгусские собаки, не приученные лаять на людей, повернули морды в сторону идущих, вожак принужденно тявкнул. Но из чумов никто не показался, будто они были пустыми, хотя над одним из них мельтешил горячий воздух очага. Наконец из леса вышла женщина с отесанной жердью. Ее длинные черные волосы были распущены по плечам, как у ведьм и русалок, большие черные глаза смотрели на гостей пристально и настороженно. К ней, как к хозяйке, безбоязненно подошли два оленя.
Она что-то пробормотала в ответ на приветствие Синеуля и впилась в него глазами. Из чума, над которым курился призрачный дымок, выполз старик с двумя седыми косами по плечам. Из-за полога выглянула сморщенная беззубая старуха. Из другого чума смущенно выскочили трое смуглых ребятишек в длинных кожаных рубахах и прижались к женщине, как утята к утке. Она, что-то буркнув, подтолкнула их к лесу. Робкой стайкой детишки скрылись за кустарником.
Не ускользнуло от взора передовщика и слегка удивило его, что Синеуль, глядя на женщину, напрягся, захрипел, топчась на одном месте, при этом чрезмерно старался быть приветливым, только вместо улыбки у него получался оскал. Пантелей сам спросил про йохов. Женщина молчала, все так же неотрывно вглядываясь в лицо Синеуля, ее руки судорожно перебирали тяжелую жердину, будто она собиралась защищаться от нападения. Толмач же будто оглох. Вскоре, словно спохватившись, что-то быстро проговорил.
Ответил ему хмурый старик, что-то пролепетав впалыми губами. Ни насмешки, ни укора в его речи Пантелей не услышал, но у Синеульки сверкнули глаза, а на лице выступили багровые пятна. Заметив перемену в госте, старик со старухой, все так же выглядывавшей из-за полога чума, удивленно переглянулись.
Ничто не ускользало от цепких глаз казака, но того, что происходило, он не мог ни понять, ни растолковать себе. Удивлялся только, приметив, как разгораются и дичают вечно печальные глаза толмача.
— Спроси про йохов, сидячие или кочуют? — подсказал ему Федотка, снял с плеча пищаль и прислонил ее к дереву.
Пантелей же разобрал в скороговорке Синеуля, что тот говорит о момолеях и Ульбимчо-сонинге. Старик, глядя на него сквозь нависшие морщины глазниц, печально отвечал короткими односложными фразами.
Вдруг Синеуль заулыбался, став очень похожим на свою сестру. Глаза его заблистали, и он запел, изумляя Пантелея с Федоткой. Не прерывая напевной речи, толмач скинул с плеча лук, шагнул к чуму, оттолкнул старуху и протиснулся внутрь. Его песня зазвучала громче. Старуха вдруг завыла, а старик кинулся к пологу на больных, подгибавшихся ногах. Передовщик, почуяв неладное, бросился туда же, на помощь старухе, скребущей ногтями порог.
Когда он откинул полог, было поздно. Синеуль обернулся с сияющими глазами. Такого лица у него никто из ватажных не видел. Рука толмача сжимала черенок чужой рогатины, острое лезвие которой было обагрено. На шкурах возле очага хрипел перерезанным горлом косатый тунгусский мужик.
Передовщик схватил толмача за ворот парки и вышвырнул из чума вместе с окровавленной рогатиной. Старуха, хрипло набрав воздуха в грудь, завыла с новой силой, а старик сжался в комок, не смея взглянуть за полог, опустился на землю и, ритмично причитая, начал раскачиваться на четвереньках.
Пантелей разглядел, что зарезанный был подран медведем. Грудь и живот его походили на сплошную коросту, обложенную листьями и травами. По коросте лениво ползали жирные мухи. Старуха, подвывая, отгоняла их морщинистой рукой.
Передовщик выскочил из чума, схватил за плечо смеющегося толмача. Тот глядел мимо него незрячими глазами и громко говорил по-тунгусски:
— Я — Синеуль, сын Минчака, хангаева рода! Я разыскал своего врага Ульбимчо-сонинга и убил его!
Пантелей понял, что вразумлять толмача бесполезно.
— Отыскал-таки! — прохрипел, скрипнув зубами, и толкнул очарованного тунгуса Федотке. Тот обхватил его одной рукой, накинув на плечо его лук, подхватил пищаль, стал отступать к стругам. Передовщик обернулся к обмершей женщине с каменным, бесстрастным лицом, виновато развел руками.
На берегу горел костер, пахло пекущейся рыбой. Увидев возвращавшихся послов, промышленные с недоумением поднялись с мест. Пенда и Федотка волокли под руки толмача, поторапливая его тычками, тот невпопад переставлял ноги, улыбался и горланил тунгусскую песню. Пантелей с Федоткой бросили его у костра. Высвободившись из их рук, он опустился на корточки, хихикая и что-то бормоча.
— Опоили новокреста? — стали выспрашивать промышленные.
Ивашка Москвитин похлопал толмача по плечу:
— Загулял, андаги?[129]
— Встретил обидчика Ульбимчо и зарезал! — неприязненно буркнул Федотка.
Пантелей с досадой взглянул на багровый закат, на дальний берег и плещущие волны на сливе рек, присел с хмурым, озабоченным лицом.
— Ночевать здесь будем! — приказал сердито. — В дозоре стоять по двое. И чтобы не дремать. — Помолчав, добавил, непонятно кому угрожая: — Кожу с плеч спущу!
На миг все притихли. Слышно было, как шипит пекущаяся рыба и потрескивают угли костра. Затем выругался и сплюнул в сердцах Нехорошко:
— Был мир с шаманскими тунгусами — да кончился. Опять воевать и таиться!
Толмач, все еще посмеиваясь, обернулся, сказал внятно и весело:
— Момолеи — не шамагиры! Шамагиры нам мстить не станут.
— Дай-то Бог! — качая головой, вздохнул Федотка. Холмогорец и так, и эдак смотрел на толмача и не узнавал прежнего молчаливого и печального Синеуля.
— Так не мстят! — вскрикнул Пантелей, заталкивая под парку длинную бороду. — Убивец!.. Зарезал умиравшего от ран… Грех на душу взял и нас опозорил.
От таких слов толмач слегка пришел в умишко, перестал хихикать, вскинул проясняющиеся глаза на передовщика и возразил, мешая русские слова с тунгусскими:
— По крепкой родовой крови так было предназначено: врага убить и душу вернуть… — Он помолчал, глядя на огонь-дедушку, и торопливо пропел по-тунгусски: «Гиро-гиро — гироканин!»[130]. — Снова вскинул глаза на передовщика: — Я сказал ему: «Если ты меня спросишь, кто я по роду-крови, то я тот, кому завещали в среднем мире своему племени быть защитой. Аи-Минчак мой отец… Храбрый Укда-мата — мой старший брат. Асикта — имя моей красавицы-сестры. Ты, Ульбимчо-сонинг, долго скрывался от нас. Ты съел наших оленей живыми, даже не прервав их дыхания, ты загрыз моего дядю и моего старшего брата, украл его жену и сделал ее своей женой. За обиды я твою становую жилу вырву указательным пальцем. По твоей жидкой крови играючи поброжу, из длинных твоих костей играючи остов дю поставлю»… Так я ему сказал, — с гордым видом толмач обвел взглядом всех ватажных. — А потом не стал долго с ним говорить, даже не дал рассмотреть себя.
«Берегись, приготовься, Ульбимчо-сонинг! На меня не обижайся, на себя обижайся! Не говори, что я напал на храброго человека, его не известив, не говори, что я убил сильного человека, его не предупредив… До каких пор мне ждать? Теперь я со всей силой нападу на тебя. Ты сам говорил: „Только победивший останется!“ — И я победил, а ты пропал!»
Оружием, прервавшим дыхание моего брата, я открыл его кровь и сказал: «Пока еще дышишь, скажи свое завещание, попрощайся на долгие годы со светлым днем, с родной землей!»
Синеуль замолчал, мечтательно смеживая щелки глаз. Промышленные сердито молчали, думая, чем все это может обернуться для ватаги. Передовщик хмыкнул в бороду, потирая ладонью зачесавшийся шрам, дернул головой:
— Кого там! Кабы четверть того сказал, мы бы с Федоткой все поняли и удержали. Пробормотал что-то себе под нос — чирк рогатиной по горлу хворого, лежачего…
— А душа-то вернулась! — посочувствовал Тугарин.
— Скажи лучше, что делать? — процедил сквозь зубы Пантелей.
— Что теперь? — поскреб затылок старый холмогорец. — Момолея не оживишь. Подарки надо дать… — Кивнул на толмача: — А этого стыдить — какой прок. С крестом, без креста ли на шее, тунгус — он и есть тунгус. — Обернувшись к толмачу, спросил строго: — Еще кому мстить будешь?
— Нет! — улыбнулся Синеуль. — Другой[131] вернулся.
На западе, за высоким хребтом, густо заросшим лесами, догорала вечерняя заря. Она играла багровыми бликами на порозовевшем стрежне реки. Пуская круги по воде, у берега плавилась рыба. Кричали утки, задержавшиеся с отлетом. Вскоре на сереющем небе замерцала первая звезда.
— Утро вечера мудренее! — прервал тягостное молчание Нехорошко. Зевая и крестясь, стал моститься на лапнике у костра. Его лицо в сумерках казалось помолодевшим. И был в тот вечер поперечный устюжанин удивительно покладист, набожен и тих.
Наползла из таежных дебрей темень, накрыла землю черной ночью. Выставил дозоры и улегся передовщик, читая про себя молитву, винясь, что не упредил ненужное убийство.
— Утром пойдем каяться и откупаться! — сказал, зевая. — А наши наказывали торопиться, плыть без остановок и возвращаться без задержек… Грехи…
Под утро снова пал туман, густой, как скисшее молоко. Кто-то, проснувшись, подбросил дров в костер, и он мерцал в сумеречной белизне, едва высвечивая тех, что лежали по другую сторону. Кутаясь в шубные кафтаны и одеяла, промышленные отсыпались впрок. Гнус не донимал, кому-то сладко спалось под утро, кому-то радостно лежалось. Даже дозорные к утру сомлели, то и дело встряхивая головами. Где-то под берегом хлопали крыльями утки, в лесу граяли какие-то птицы или нежить с нечистью радовались утренней пелене.
Едва завиднелась в пяти шагах от костра куча хвороста, зевая и охая, поднялся Нехорошко. Крестясь и кутаясь в парку, он подбросил дров в костер, звякнул котлом, расправил свалявшуюся бороду, надел шапку и пошел к воде. Пламя взметнулось, набирая силу. Спавшие стали отодвигаться от жара. Приоткрыл глаза передовщик, парка на его боку едва не тлела. Он отодвинулся, ругнув устюжанина, бросил сонный взгляд ему вслед. Нехорошко нагнулся, зачерпнул воды, распрямился — и с плеском повалился в реку.
Пантелей приподнялся на локте, думая, что тот оступился. Но Нехорошко, раскинув руки, медленно поплыл вниз лицом. И тут передовщик разглядел торчавшую из его спины стрелу. Федотка схватил пищаль. Синеуль с воплем пустил стрелу к яру — туда, откуда прилетела вражья.
Вскочили промышленные, запалили фитили на лежавших под боком пищалях, рассыпались и залегли кто за комлем, кто за камнем. В тумане с высокого берега раздался хохот, заверещали, захлопали в ладоши русалки, утробно булькнул водяной. Передовщик не спешил открывать стрельбу: помнил детишек, испуганно уходивших от матери в лес. Обернулся к реке.
— Тугарин! — кивнул на плывущее тело, уже едва видимое в тумане.
Холмогорец, защипнув фитиль пищали, босыми ногами прошлепал по воде, выволок Нехорошку на берег, перевернул набок. Взглянув в лицо спорщика, перекрестился, безнадежно махнул рукой, показывая ватажным, что тому уже не поможешь, вернулся к пищали, снова запалил фитиль от уголька.
Никто не стрелял. Никаких человеческих криков не было. Пантелей решил, что в таком густом тумане искать врага — только себе вредить, и наказал пятерым подняться на яр, оглядываться по сторонам и стрелять картечью во всякую приближающуюся тень. Шестеро промышленных подошли к телу, склонились над ним.
— Чуял кончину! — всхлипнул Семейка Шелковников. — И отцу доли своей не дал, как тот ни просил его.
— От судьбы неминучей никто не уйдет! — снимая казачий колпак, сказал передовщик. — Не здесь, так в другом месте принял бы стрелу в сердце. Значит, так ему на роду написано, так на судьбе завязано. — Он хотел перекреститься и спохватился, что не помнит крестного имени Нехорошки.
— Никола! — смахнул слезу Ивашка Москвитин.
Сивобород обидчиво процедил сквозь зубы:
— Судьба судьбой, а кабы толмач не зарезал тунгуса, Нехорошко не получил бы стрелы в спину! — В словах гороховца был намек на грех передовщика, роднившегося с Синеулем.
— Ну накажи его, как знаешь! — отрезал Пантелей и, подумав, поправился: — Как чуница позволит. А сам толмачить будешь.
Пятеро с ружьями в руках хмуро посмотрели на Синеульку. Тот своим видом показывал, что опечален убийством, но лицо его было не тем, к которому все привыкли.
— Ожил! — приглушенно выругался Сивобород. — Волка поститься не приучишь!
Под яром гулко ухнула пищаль, за ней прогрохотала другая. Эхо прокатилось по невидимому руслу реки. Пороховой дым повис над табором.
— Послышался хруст! — вернулся к костру туруханец. — Вдруг и показалось. — Неуверенно пожал плечами, сел, зажал между колен пищаль и молча стал чистить ствол от нагара, перезаряжать ружье. Утихли крики в тумане, бежала испуганная выстрелами нечисть, чуть приметное движение ветра колыхнуло пламя костра.
Привычным рывком Пантелей выдернул стрелу из тела, Нехорошко дернулся, как живой, из рваного отверстия хлынула темная кровь.
— Судьба! — повторил, показывая окровавленной стрелой на спину покойного: — Ни лопатку не задела, ни ребер — прямо в сердце, будто бес целил! — Обернувшись к скорбным устюжанам, приказал: — Обмойте да нарядите… Николу. Пока не застыл… Кто намок — сушись у костра!
Вскоре туман рассеялся и на востоке на радость живым заблестело красное солнце. Оставив возле покойного его земляков, передовщик повел ватажку к урыкиту.
Два чума стояли на том же месте. Среди сосен и берез был поставлен новый шалаш, крытый берестой. Из него торчали ноги покойного в лэкэмэ[132]. Рядом с безучастными лицами сидели старик со старухой. Ни вчерашней чертовки с распущенными волосами, ни детей в чумах не было. Не было и оленей. Старики не оборачивались к ватажным и не отвечали на вопросы Синеуля, будто оглохли и ослепли.
Промышленные обшарили всю округу и обнаружили, что находятся на большом острове, отделенном от матерой земли широкой протокой. Баба с детьми и с оленями явно переправилась через нее и ушла в черновой лес, где тунгусов искать — только время терять. Никаких других следов на острове не было.
Они вернулись к старикам, рассуждая, кто мог пустить стрелу с такой силой, что та чуть ли не навылет пробила спину устюжанина. Синеуль бесцеремонно ощупал плечи старика и, помотав головой, сказал, что натянуть тетиву тот бы не смог.
— Чертовка лупоглазая! — выругался передовщик, уважительно подумав о женщине. — Шаманка, наверное! — Вспомнив, как она глазела на Синеуля, спросил: — Не жена ли твоего убитого брата?
— Да! — мимоходом ответил толмач по-русски и принялся пытать стариков.
Но те на его угрозы презрительно отвечали, что старые, бояться им нечего: предки в нижнем мире уже заждались их.
Синеуль перевел ответ, взглядом спрашивая передовщика: что делать? Пантелей приказал оставить стариков и возвращаться. Закинув на плечи луки и пищали, промышленные безбоязненно пошли к берегу.
На стане Ивашка с Семейкой обмыли покойного. Они просушили и распороли его одежду, чтобы не было узлов, и неумело мучились, обряжая задеревеневшее тело.
— Покойные боли не чуют! — глядя на их старания, усмехнулся передовщик, прислонил пищаль к борту струга, уперся коленом в грудь покойного так, что у того из глотки вырвался хрип, и заломил окоченевшие руки, крестообразно складывая их на груди.
Устюжане боязливо отпрянули, услышав хрип, смутились, крестясь. Оказалось вдруг, что обмытого, посветлевшего лицом Нехорошку некому отпеть по полному чину. Среди ертаулов одни были молоды, другие одичали в урманных лесах. Пожилой долговязый Тугарин, несуразно размахивая длинными руками, прочел над покойным короткую, складную и тихую молитву, смущенно признался, что может только подпевать тем, кто знает полный обряд.
Пока копали могилу, передовщик хоть с запозданием, но прочел по памяти молитву на исход души да по Псалтырю, что знал и помнил. Долбить колоду и отпевать по чину три дня ватажка не могла. Уже плыл по воде последний лист и утренние заморозки прибивали гнус. На Юрьевой горе изголодавшаяся ватага ждала хлеба.
Вытряхнув труху из коры старой сгнившей березы, тело обернули берестой и с честью предали земле в тот же день, как отошла душа Николы Нехорошки. На яру поставили тесаный крест в полторы сажени, видимый всем плывущим по реке, крестясь и кланяясь, обошли могилу три раза. Затем столкнули струги на воду, поплыли, поминая покойного в молитвах и в мыслях. Едва они начинали отвлекаться на дела дня, передовщик запевал громким голосом:
— …Упокой, Господи, душу раба твоего…
— …На Тя бо упование возложи, Творца и Зиждителя и Бога нашего, — подхватывали гребцы. Их скорбные голоса неслись по воде, пугая зверей и птиц.
— …Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная, — пел Пантелей во всю силу голоса, до кашля, до хрипа, и все казалось ему среди просторов, что голос едва слышен товарищам на стругах.
— Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа, слава Тебе, Боже, — подхватывали, налегая на весла, промышленные. И чудилось им, что ворчливый Нехорошко, присев на борт, мотает головой на длинной шее, сердится, требует петь громче, душевней.
Позже молодые устюжане признались, что даже запах его чувствовали рядом с собой. Погрешили, схоронив тело не по чину, а по-другому не могли: зима и стужа наступали на пятки, погоняли белым помелом инея.
Синеуль, сидя на среднем весле, оглядывался к берегу, на лице его играл румянец, в глазах не было ни вины, ни скорби. Это сердило ватажных, но никто не попрекал тунгуса. Через кого вершится воля Божья — не им, грешным, судить. Толмач, поправляя на груди кедровый крест, тоже пробовал подпевать. Под крестом висели обереги из оленьего меха.
* * *
На третий день ертаулы помянули Нехорошку рыбой, утятиной, ягодой, еще через два дня они увидели тунгусский урыкит и пристали к берегу. Передовщик отсыпал из казны пару горстей бисера, приказал Федотке с Семейкой при пищалях следовать за ним и не спускать глаз с толмача. Синеуль искренне клялся тунгусскими духами и русскими святыми, что врагов у него больше нет и он никого убивать не будет.
На сухой поляне на краю старого леса со свисавшими с елей бородами мха стояли пять чумов, покрытых берестой и дублеными кожами. Тунгусские собаки с волчьими брылами и короткими висячими хвостами бросились к чужакам, без лая, но с угрожающим рыком обнюхали их на подходе и сопроводили до самого урыкита.
Здесь стоял многочисленный род шамагирского племени: семеро мужиков, не считая стариков и подростков. Тунгусы без страха вышли к путникам, стали презрительно рассматривать их мохнатые лица, притом охотно отвечали на расспросы Синеуля. Больше других их заинтересовал Пенда с длинной бородой, с густыми волосами до плеч.
Узнав, что гости никогда не были у йохов, шамагиры стали доверчивей, заговорили с ними, не показывая насмешек. То, что русичей перепутали с йохами, передовщик принял за добрый знак.
По словам лесных людей, йохи жили оседло ниже по реке в одном дневном переходе. Они засевали поля, держали много скота и были вечными врагами лесного народа, но нужда заставляла тунгусов вести с ними мену и торг. Шамагиры расстались с йохами четыре дня назад, выменяли у них на меха мешок крупы и быка, которого уже съели.
Услышав о зерне, Пантелей загорелся желанием посмотреть товар. Тунгусы охотно выволокли из берестяного чума кожаный мешок, щедро отсыпали гостям едва ли не половину бывшего в нем проса, ничего не требуя взамен и не торгуясь. Передовщик с благодарностью принял подарок, одарил хозяев бисером и даже отдал им свою иглу. Ответные подарки не удивили тунгусов и не вызвали у них какого-нибудь оживления. Пересыпая из ладони в ладонь зерно, Пантелей как-то резко опечалился, потом кивнул толмачу:
— Спроси еще раз, похожи ли йохи на нас? — А когда услышал в ответ, что те бородаты, волосы у мужиков не длинные, то переспросил: — На кого из моих людей они больше походят?
Выслушав толмача, тунгусы не задумываясь указали на дородного Семейку Шелковникова. Припозднившаяся борода молодца едва курчавилась по широким скулам, волосы были стрижены на московский манер кружком с подрезанной над бровями челкой.
Пантелей взглянул на Семейку, на его открытое, конопатое лицо, на почерневший кедровый крест поверх льняной рубахи, спросил, нет ли у йохов таких же крестов. По лицам тунгусов он понял, что озадачил их. Поспорив меж собой, они сказали, что видели у йохов кресты на деревянных домах. И стали указывать руками вверх, дескать, высоко.
— Церкви! — азартно блеснул глазами Федотка. Он слушал толмача, не пропуская ни слова, и уже не сомневался, что йохи — беглецы с Руси: или новгородцы, или промышленные люди. А передовщик все еще занудливо выспрашивал и задавал всякие каверзные вопросы.
По ответам выходило, что лесные народы ходят за железом вверх по реке, к «пыратам». Те тоже похожи на лучи, дают за соболей больше крупы и скота, чем йохи, а железо продают дешевле. Пыраты носят железные рубахи и железные шапки. Летом их большие лодки плавают вверх и вниз по реке, но редко останавливаются для мены с шамагирами.
Слушая новые рассказы тунгусов, Федотка от удивления разинул было рот, но вскоре, догадавшись о чем-то, просиял лицом, задергался от радостного нетерпения. Ясная догадка осенила его, и хотелось молодому холмогорцу крикнуть недогадливому передовщику, что пыраты, о которых смутно упоминали верховые тунгусы, — это русские братья.
Пантелей же занудно выспрашивал, есть ли среди шамагирского рода мужики, знающие язык йохов, а после тыкал пальцем в свою бороду и велел тунгусскому толмачу сказать, как они ее называют.
Тунгус с черными косами по плечам, плутовато поблескивая глазами, несколько раз сряду повторил: «Киэгэл». Передовщик стал указывать на просо, на кости съеденного быка, погрызенные собаками, на свои волосы. Лицо Семейки слегка опечалилось. Пантелей оглянулся на него, на смущенного Федотку, усмехнулся и обнадежил:
— И на Дону многие слова с московскими разнятся!
Федотка вытащил из-за пазухи серебряное блюдо, отнятое позапрошлым летом у кондагира. Рассматривая его, тунгусы опять загалдели, уверяя, что такой посудой торгуют народы с верховий реки, йохи такой посуды не делают. Передовщик, напрочь замороченный, запутавшийся, тоскливо опустил глаза и поскоблил рубец под бородой. До встречи с шамагирами ему было понятней, к какому народу он ведет своих ертаулов.
— Да браты же это, браты! — приглушенно пролепетал Федотка и понял вдруг, что плыть-то все равно придется к йохам, иначе зимы не пережить.
Передовщик не повел ухом в его сторону и стал настырно уговаривать тунгусов выдать им вожа. Те наотрез отказывались идти в обратную сторону. Чтобы как-то прельстить их, Пантелей показал остро отточенный топор, которым в один мах срубил березку в два вершка толщиной. Он нарушал наказ мангазейского воеводы и брал грех на душу по крестоцелованию.
Упросив шамагирского толмача сопроводить свои струги, русичи-лучи в тот же день успели спуститься по течению реки верст на десять. Вечерело. Красное солнце уходило за западный хребет. Струги подошли к причудливой скале, на которую то и дело указывал шамагир. Высадившись на берег, ватажные увидели жертвенник, сложенный из плотно подогнанных камней, и гладкую скалу, исписанную древними знаками. Шамагир почтительно называл имя Улуу Ажарай — хозяина этой горы и реки.
Через Синеуля ертаулы стали расспрашивать тунгуса, что за народ исписал скалу. Шамагир отвечал, что царапает камни дух, который живет в горе. Так он дает людям всякие предсказания. Сюда приходят разные люди с низовий, и все они, проплывая мимо, почитают Ажарая — хозяина реки и горы, приносят ему жертвы.
На родовое капище это место никак не походило. Неподалеку от скалы виднелись следы костров и долгого пребывания людей. На западе уже разгоралась заря темная, вечерняя, и передовщик, окинув местность осторожным воинским глазом, велел готовиться к ночлегу.
Струги были вытащены на сушу и перевернуты вверх дном. Путники стали таскать дрова к костру, стелить лапник и траву для отдыха.
— Знаем их жертвы, — ворчал Сивобород, высекая огонь. Затлела искорка, он начал раздувать трут. Лицо его было красным от натуги, глаза слезились. Покашливая, он сварливо ругнулся: — Сожрут лося, шкуру на кол повесят — вся жертва.
— Значит, такой с них спрос у Бога! — рассеянно обронил Пантелей, разглядывая скалу. При скрывшемся солнце среди едва различимых, выбитых на ней знаков объявлялись другие. То ли эти наскальные рисунки, то ли навязчивые мысли о йохах и братах тревожили его душу: передовщик снова и снова вспоминал все слышанное о народах, живущих к восходу.
Синеуль подошел к нему, тоже засмотрелся на скалу в лучах заходящего солнца, кивком головы указал на шамагира:
— Говорит, что Улуу — предок всех ворон и воронов, через его сына люди получили огонь, а его потомки рождаются среди людей с вороньими головами.
Ватажные были веселы, с нетерпением дожидались ужина. Сивобород и Тугарин варили кашу в двух котлах. Не всякий поп с дьяконом священнодействовали в алтаре с таким вдохновенным видом, как они. Любое их слово, любой жест или пожелание на лету улавливались и радостно исполнялись. Синеуль с вожем переговаривались между собой и пекли на рожнах жирные куски осетрины. Глядя, как капает с рыбы жир, как шипит и попыхивает на углях, Сивобород мимоходом спросил у своих:
— Заправим кашу?
Гребцы возмущенно загалдели. Тугарин позеленел лицом, бросая на гороховца колючие взгляды и хлюпая сырым носом.
— Чего удумал! Ждали-ждали людской еды, сквернили душу: глаза бы не смотрели на те хвосты… А тут возьми да испорть просо.
— Ни соли, ни масла, — препирался Сивобород.
Когда напрела и чуть остыла каша в котлах, на небе вызвездило. Тунгусы, довольные сытным ужином, уже посапывали. Промышленные, помолившись, принялись за кашу. Ели они молча и неторопливо, с благостными лицами. И только передовщик равнодушно черпал ложкой из котла, думая о делах, при этом постоянно оборачивался, поглядывая на черную скалу.
Привиделся ему в ночи чудный сон, в котором он восчувствовал себя другим человеком: достойным и правильным — не чета себе нынешнему. И казалось ему, будто он знал эту реку всю прежнюю жизнь, будто прожил в этих местах долгие, благополучные годы. Его народ хорошо понимал повадки зверей и рыб, а он в годы молодости среди своего рода был лучшим добытчиком.
Но в преклонные же лета не было ему покоя. Готовясь уйти в другой мир, чтобы потом вернуться молодым, полным сил и радости, он боялся забыть все, что узнал в этой жизни, не хотел заново искать водопои, переправы и кочевые пути лосей.
И тогда с каменными долотами старик полез на скалу, чтобы сделать памятку для своей будущей жизни: где держатся лоси, как их добывать загоном и куда следовать за ними весной…
Чудной был сон. Пантелей открыл глаза в утренних сумерках и перекрестился. Предстала перед взором знакомая по сну, темная еще скала. Глаза отыскивали расселины, по которым он не раз поднимался, выступы, на которых стоял, выбивая знаки. И казалось ему, будто в носу еще свербит от запаха тесаного камня и пыли, что мозолистые руки помнят шероховатую округлость каменного долота и молота.
«К чему бы?» — думал, зевая и крестя рот. Вспомнилось, что во сне у него была длинная борода и парка из оленьей шкуры без единого шва, надевалась она через голову.
Заворочались, закашляли, засопели Сивобород с Тугарином. Как Нехорошко при здешней жизни вставал раньше всех, так они теперь просыпались, будто их будил погибший товарищ.
Гороховец накидал веток на чадившие угли, придвинулся к костру вместе с одеялом и стал раздувать огонь, заслоняя ладонью бороду. Стоявший в дозоре Ивашка Москвитин, ни слова не говоря, влез в середину спавших и укрылся. У него перед отплытием был часок для сна.
Пантелей поднялся, позевывая надел просохшие бахилы, туго подвязал их задубевшей бечевой, густо смазал дегтем и направился к скале. Розовел восток, мигала последняя звезда, сонно высматривая сумеречную землю. Утренняя заря выводила на небо отдохнувших коней. Блеснул первый солнечный луч — заревой да рассветный, стрелой полетел на запад, к Руси.
Передовщик подошел к скале. Ему хотелось разглядеть лосей, которых выбивал во сне. Но каменная стена была темна, не виделось даже знаков, высмотренных вечером. Пантелей походил под скалой, попинал мягким носком бахила опутанные сухой травой камни. Скол одного из них показался ему знакомым. Он нагнулся и поднял его. Пальцы знакомо обхватили шершавое, сбитое долото.
«К чему бы?» — снова подумал казак, крестясь и кланяясь на разгоравшийся восток. Вскинул глаза на заалевшую скалу и увидел темные очертания знакомых лосей и загонщиков. Едва поднялся над лесом краешек солнца, снова пропали лоси, но выступили другие знаки, которым поклонялись здешние шаманы.
Подкрепившись остатками разогретой каши, ертаулы столкнули струги на воду, разобрали весла, каждый занял свое место и замер, глядя на кормщика, на отдалявшийся берег. Пантелей, торжественно помедлив, махнул рукой, и струги пошли на стрежень. Шамагирский толмач указал рукой на дальнюю вершину сопки, за которой, по его словам, были бикиты йохов.
— А вдруг — ваши? — смущенно улыбаясь, Ивашка Москвитин обернулся к Федотке. — Вдруг до сих пор помнят обиды Москвы? Старики сказывают, деды нынешнего царя, Захарьевы-Юрьевы, Великий Новгород дотла разорили, много крови христианской пролили. Лучше бы здешним-то и не знать, кто нынче царь.
— Придем — а они нас, устюжан, не примут? — обидчиво взглянул на холмогорца Семейка.
Загребной холмогорец, слушавший разговор, со смехом посочувствовал:
— Шапки спрячьте и рот не раскрывайте, по одежке не узнают. А спросят — скажем, из сибирцев.
Такой ответ на некоторое время успокоил Ивашку, но рассердил Семейку. Посопев, он обернулся к говорившему:
— Коли при ваших дедах их деды ушли с Руси — вдруг здесь и поумнели. Сказывают: что ни смута — все новгородцы заводчики.
— И двух царевичей удавили, двух царей отравили? Народа завистливей и склочней московских бояр по всей Руси не сыскать, — ругнулся было Тугарин.
Заметив признаки раздора, передовщик строго прикрикнул:
— Угомонись! — Ударил кулаком по борту, грозно взглянул на старого холмогорца. Тот шмыгнул носом, отвернулся, налегая на весло, вымещая на нем застарелую обиду.
— Давно это было! — мирно заметил Федотка, щурясь на полуденное осеннее солнце. — Быльем поросло.
Скалы и хребты, сжимавшие реку, отступили, сменившись прибрежными долинами. За излучиной открылся низкий пологий берег, покрытый ровной желтеющей травой. Судя по виду, он часто подтапливался разливами, а по весне покрывался буйным разнотравьем. С берега доносился запах скота.
Гребцы, оглядываясь по сторонам, стали веселей налегать на весла. Луга сменялись другими лугами, и вот вдали показался табун. Глаза передовщика впились в темные пятна, которые можно было принять за медведей, если бы их не было так много в одном месте. А струги неслись по реке, приближаясь к селению. Уже все видели, что это лошади — низкорослые и лохматые.
— Знаю лошадок у степняков, но не таких, — почесал шрамленую щеку передовщик, невтерпеж зазудилась старая отметина. Глаза его восторженно следили за лошадьми, ноздри раздувались, вдыхая запах коней. Холмогорцев и устюжан восхищали береговые луга. Они первыми заметили выкошенные злаковые поля. Поросший кустарником холм у воды разделял их.
Едва струги стали обходить его, шамагирский толмач, скалясь, указал на берег. Пантелей как ни вглядывался, не нашел, на чем остановить глаз. Вож ткнул пальцем в крест на груди Синеуля и снова — в даль. Глаза ертаулов не отыскали ничего похожего на купол церкви.
— Эвон! Шест с крестовиной! — понял тунгуса Сивобород.
Все разочарованно уставились на конец шеста, показавшегося из-за горы, вскоре увидели стадо коров, потом вдали от воды показались большие, высокие юрты, возле которых был поставлен этот самый шест с перекладиной.
— Бикит! — выкрикнул шамагир, удивленно разглядывая печальные лица промышленных.
— Как чуял! — криво усмехаясь, мотнул головой Пантелей и неторопливо поправил выгоревший на солнце колпак.
Холмогорцы и устюжане отметили, что коровы, лениво глядевшие на плывущих, не раздоены и кормятся на мясо.
Обогнув мыс, струги вошли в заводь и ткнулись носами в берег.
— Все! Суши весла! — встал на корме Пантелей.
Загребные выскочили на сушу, за ними, по порядку, вышли гребцы. По команде передовщика они вытащили струги так, чтобы при нужде можно было легко и быстро столкнуть их на воду.
— Бикит! — снова указал рукой шамагир, недоумевая, отчего не радуются лучи. Синеуль что-то буркнул, и тот с равнодушным лицом присел на корточки.
Юрты на берегу не были кочевыми: они строились из бревен, поставленных стоя с наклоном кверху вместо крыш. Снаружи стены были обложены дерном. И было юрт около десятка. Некоторые по две, по три соединялись между собой утепленными переходами. Распахнутые двери были вытесаны из распущенных плах. Крепились они навесами и были наклонены, как и стены, оттого держались либо распахнутыми настежь, либо закрытыми наглухо. Возле жилья горел костер, до реки доносился запах паленой шерсти. На шестах, украшенных цветными лентами, сидело множество непуганых ворон.
— Похоже, на праздник угодили! — поморщился передовщик.
Синеуль спросил шамагира, и тот коротко ответил:
— Ысыах!
— Йохи нынче молятся верхним творцам!
— Три года спешили на восход, чтобы соборно помолиться с родственниками! — проворчал Пантелей, глядя на воронье и шевелившиеся на ветру ленты.
Босоногая толпа чернявых детишек в кожаных рубахах заметила прибывших и бросилась в одну из юрт. Оттуда кто-то выглянул, заслонив глаза от солнца.
— Мирно живут, без страха и дозоров! — отметил передовщик, опоясываясь саблей, которую в струге держал под рукой.
Из селения, стоявшего на пригорке вдали от реки, вышли три мужика в камчатых[133] рубахах и островерхих шапках с двумя козырьками. Из-под них свисали белые, коротко подрезанные волосы. Издали лица их казались черными и лоснились от солнца. Ясно виделись короткие, тоже белые, бороды. Шли они явно не по-русски: переваливаясь сбоку набок и тяжело передвигая ноги. Вместо посохов в руках их были широко раскованные рогатины с короткими черенками. Эти люди не спустились к реке, где толпились гребцы, а подошли к коновязи и остановились, явно поджидая гостей.
Федотка бросил тоскливый взгляд на шамагира и приглушенно проворчал:
— Выспрашивали ведь про волосы: черные или русые?
Передовщик жестом приказал ему и тунгусам следовать за ним. Сам же заломил казачий колпак на ухо, расправил усы, распушил помелом бороду. Шамагир разложил черные косы по плечам и задрал нос, сделав лицо непроницаемым. Синеуль пригладил длинные, распущенные волосы, поправил крест на груди. Пантелей окинул их строгим взглядом, размашисто перекрестился и двинулся к коновязи. За ними последовали и Федотка с толмачами.
Гости остановились в пяти шагах от стариков, с любопытством разглядывая их лица и одежды. Задрав приплюснутый нос, шамагир шагнул вперед передовщика и загыркал приветствие. Старики закивали большими головами, поглядывая на приплывших путников с ленивым любопытством. Шамагир говорил долго, Синеуль же передавал его слова кратко. Потом добавил:
— От их Белого светлого господа, творца Вселенной, поздравляет с праздниками, желает увеличить табуны белых лошадей, которых у того бога не счесть… Про здоровье родственников и скота спрашивает, — пояснил. Помолчав, вопросительно вскинул глаза на передовщика: — Есть зовут!
— Можно и поесть, раз зовут! — согласился Пантелей. Синеуль перевел сказанное шамагиру, тот — йохам.
Седые, дородные и крепкие старики, потоптавшись на месте, направились в обратную сторону. Послы двинулись за ними. Следом шли тунгусы-толмачи.
Встречавшие ввели гостей в самую большую юрту, стоявшую посередине селения. Под ее вытяжным отверстием тлел кизяк в очаге. Просторное жилье было завешано изнутри коврами из шкур и шелковыми тканями с причудливыми рисунками. От двери до двери — по кругу, как в русских избах от кутного угла до сиротского, — были положены нары, застеленные шитыми из оленьих шкур коврами. Освещалась юрта через окна, затянутые бычьими пузырями.
У очага, со всех сторон обложенный подушками, сидел не старый еще князец в золоченой островерхой шапке. Он глядел на гостей с достоинством и для пущей важности раздувал лоснившиеся щеки.
Пантелей поклонился по-казачьи. Стараясь подражать голосу и манерам воеводы Палицына, поприветствовал князца и весь его народ. Слова передовщика тихо перевел Синеуль для шамагира, а тот громко загыркал, неприязненно глядя на князца.
Князец с важностью повел взглядом, принимая приветствие, неспешно ответил на него и велел гостям садиться напротив. Ходившие почетными послами старики сели по обе стороны от него. В юрту то и дело входили люди, одетые победней и попроще стариков. Они с любопытством глядели на прибывших и степенно рассаживались на нары. У одних жесткие волосы на головах висели, как трава на кочке, у других торчали дыбом.
Передовщик одарил князца головными соболями, дал по соболю старикам и велел Федотке одарить всех собравшихся бисером, горностаями и белками. Сам же он сел, по-татарски поджав под себя ноги в бахилах, и положил саблю на колени. Оглядывая собравшихся, передовщик все никак не мог понять, почему тунгусы так упорно путали этот народ с русичами.
Князец принял дар с довольным видом, потряхивая соболей, полюбовался черным ворсом и голубым подпушком. Сунув пушнину за спину, спросил, от каких родителей и в какой земле они родились, кто в той земле известные тойоны и ханы?
Пантелей стал рассказывать о Великой Руси, что лежит на западной стороне в трех годах пути от здешней реки, о могущественном и справедливом государе, которому платят дань многие народы. А государь защищает их всех от разбоя, оберегает и жалеет. Рассказал он и о себе: о сыне и внуке воина, о широкой степи между морями, где живут одни воины.
Говорил передовщик искренне. В то же время чувствовал, как бес посмеивался над его правильными словами. И мысленно он оправдывался перед ним: не рассказывать же этим людям о боярских кознях и нескончаемой междоусобной войне.
Слушая казака через толмачей-тунгусов, князец все ниже и ниже опускал голову. Одна его бровь нарождавшимся месяцем наползала на круглую щеку, другая выгнулась дугой, из-под нее сердито поблескивал черный глаз. Едва Пантелей умолк, он, шумно вздохнув, уставился на него в оба глаза и сказал, что в прошлый раз тот говорил, будто из одного конца владений его хана в другой — ехать на хорошем коне три месяца.
Пантелей ничего не понял, кроме того, что уличен во лжи. Переспросил толмача. Пока тунгусы сговаривались и уточняли сказанное, он и князец буравили друг друга пристальными, горделивыми взглядами. Но торопливо залопотал Синеуль, загыркал шамагир — и взгляд князца смущенно обмяк.
— Сильно похожие на вас приезжали прошлый год! — сконфуженно прокряхтел он. И стал говорить без бахвальства, что его народ никому ясак не платит и ни с кого не берет: им всем хватает своего богатства. Даже с тунгусами живут они мирно, а вот с родственниками мира нет. — Покачал тяжелой головой.
— У всех так! — посочувствовал передовщик. — Наш Бог говорит: «Не бойся-де врага: он может всего лишь убить или ограбить. А единокровники, случается, предают». И велит наш Бог своих терпеть и прощать, потому что сам от них по плоти претерпел обид больше всякого смертного.
Выслушав шамагира, князец задумался, покачивая головой. Понравился ему такой Бог. В самую печенку вошли слова гостя о родне. И стал он расспрашивать про русского Бога, удивляясь услышанному и приговаривая:
— Справедливый Бог! Правильный! Наверное, близкий родственник нашему Великому тойону, который судит богатырей-олонхо и простых людей. — Возвел глаза к вытяжному отверстию юрты.
По правую руку от него сидел муж в дохе из шкуры белого жеребенка. К спине был пришит повод с бубенцами, шапкой ему служила шкура коня, снятая с головы: с торчащими ушами и с гривой, ниспадавшей на шею. По виду это был шаман, но бубна у него не было. Мотая головой, как конь, он стал что-то напевать. Все йохи, слушая его, почтительно опустили головы, и можно было понять, что поющий жрец восхваляет Творца Вселенной.
Синеуль зашептал ватажным, узнав от шамагира, что белые жрецы не покидают своих тел, не уходят в другие миры, не имеют духов-помощников — они только славят богов, заклинают их и приносят им жертвы.
Едва закончилось пение, молодые женщины в длинных шелковых рубахах, с волосами, прибранными в косы, стали стелить красные кожи вокруг очага. На них выставляли парящее мясо — жеребятину с желтыми, подрагивавшими гроздьями жира, телятину в деревянных корытцах. На блюде старого черного серебра подали душистые овсяные лепешки, в берестяных туесках — желтое коровье масло.
Серебро и лепешки очень заинтересовали русских гостей. Федотка, до того молчавший с умным видом, незаметно ткнул локтем передовщика, кивнул на блюдо. Тот и сам подумывал, как бы осторожно спросить о серебре. Похвалив еду и красивую посуду, стал расспрашивать, не сами ли йохи добывают и чеканят серебро.
Князец с важностью ответил, что у него есть свои кузнецы, но товары из серебра и шелка он получает от народов, живущих в верховьях реки. С теми народами и спутал, дескать, гостей. Думал, опять приплыли для мены.
Федотка заерзал на оленьей шкуре, вслушиваясь в сбивчивые пересказы шамагира и Синеуля. Князец короткими, толстыми пальцами взял из корытца большой жирный кусок жеребятины. За ним потянулись к мясу лежавшие и сидевшие старики.
Взял нежирный кусок телятины и Пантелей. Принялись за еду толмачи. Федотка придвинул к себе чашку с молоком. Было оно жирным и густым, как сливки. Раз и другой отхлебнув, молодой промышленный вспомнил родной дом, где в скоромные дни молока пили досыта. И так вдруг захотелось ему молока, без которого жил эти годы, что он едва сдерживался, чтобы не выпить все разом. Девка с черными косами приметила его страсть, сразу же долила в чашку из кувшина и придвинула ее к холмогорцу.
Насытившись, йохи стали отдуваться, икать и подремывать. Белый жрец запел богатырские былины. Один из стариков приложил к губам плоскую костяшку. Раздался печальный и торжественный звук. Прислушиваясь к протяжной горловой песне, Пантелей свесил голову: встала перед его глазами нагретая солнцем вечерняя степь с трескотней сверчков. Запах лошадей напомнил о запахе ковыли и всего того, что было оставлено смолоду в вечной смуте и нескончаемой войне.
Федотка же вдруг побагровел, схватившись за живот, испуганно заводил глазами, раз и другой вытер пот со лба, в утробе у него заурчало. Холмогорец беспокойно задергался, бросая тоскливые и виноватые взгляды на передовщика, вдруг резко подскочил и убежал к реке.
Стряхивая навеянные песней чары, Пантелей посмотрел ему вслед посоловевшими глазами и стал ждать удобного случая, чтобы начать разговор о мене. Вскоре в юрту вошел Ивашка Москвитин и молча сел рядом с ним. Йохи, судя по их лицам, не заметили, что ушел один, а вернулся другой.
Песня прервалась. Князец что-то одобрительно буркнул. Шамагир сказал Синеулю, а тот передовщику, что йохи хотят слышать песню гостей. Пантелей с пониманием кивнул, раздумывая, чем удивить здешний люд: напевными ли богатырскими былинами, жалостливыми ли божественными песнями?
Разбуженная тоска по степи билась в его груди, душа просила удалой казачьей песни. Он вскинул голову, свистнул так пронзительно, что все подремывавшие вздрогнули и вытянули шеи. И запел казак во весь голос про вороного коня и вострую саблю, про удалую волю, про лихую долю воина.
Глядя на лица йохов, он понял — восчувствовали казачью песню и радуются, что гость может повеселить их богов. Иные из них стали подергивать руками, притопывать ногами. Вид слушателей пуще раззадорил казака. Не в силах усидеть на месте, он опять свистнул, гикнул, вскочил, приплясывая скакнул через порог на вытоптанную землю и, выхватив саблю, завертелся чертом, будто бился, окруженный рейтарами под стенами Москвы. Ухая и повизгивая, заскакал рядом с ним Ивашка. Толмачи замахали руками, как птицы, запрыгали, как оленята, увидевшие синее небо.
Из юрты, толкаясь в двери, стали вываливаться засидевшиеся йохи, вокруг пляшущих собирались дети и женщины. Ивашка на московский манер прошелся присядью, выбрасывая ноги в высоких сапогах. Пантелей промчался по кругу, размахивая саблей, скакнул и перевернулся через голову. Его молодецкая борода спуталась с длинными волосами, блеснули сквозь них глаза. Тяжело дыша, он со звонким клацаньем вложил саблю в ножны и замер.
В тишине послышалось курлыканье. Все собравшиеся задрали головы и увидели клин летевших к югу журавлей. По поверью йохов, небожители, выражая благорасположение, посылали посредников в образах лебедей или стерхов.
Вокруг плясунов восторженно завопили. Резко забил бубен. Мужики в островерхих шапках схватились за руки и заскакали хороводом, быстро перебирая ногами. Они кружили в одну сторону и кричали «Ека!», кружили в другую — и кричали «Охгок!»
Догорала на небе заря вечерняя, темная, уводила уставших коней с неба синего. Костер возле юрт разгорелся еще жарче. Женщины весело свежевали очередного забитого бычка. Его белая шкура с пятнами крови висела возле загона.
Йохи отнесли к реке вареные головы и мясо. Все промышленные были приглашены на праздник и с разрешения передовщика стали собираться. У стругов оставались караульные и Федотка. Сивобород и Тугарин отпаивали холмогорца отваром брусничного листа и корня шиповника. Он же с печальным лицом упреждал идущих на праздник, чтобы те пили молоко с осторожностью.
Пировали и пели на стане дотемна. Несколько раз хозяева наполняли блюдо свежими овсяными лепешками, называемыми на Руси сиротскими. Промышленные весело смалывали зубами крупнодробленое, склеившееся в лепешку зерно. Последняя лепешка оставалась лежать и зазывала пополнение.
На другой день все промышленные люди поднялись, по обычаю, рано, йохи же не показывали признаков жизни до полудня. Томясь непривычным бездельем, ертаулы шатались по берегу, ловили и пытались объезжать диких лошадок, которые, при малом росте, оказались сильными и злыми. Передовщик сделал недоуздок из бечевы, тоже вскочил на конька. Он один сумел удержаться на нем, проскакав по лугу и даже развернул его, заставив бежать обратно, но не смог остановить и спрыгнул со спины, кувыркнувшись на мягкой земле.
Возвращаясь к стану, Пантелей почувствовал боль в отвыкших от верховой езды ногах, вспомнил, как отец сажал его на коня перед первой стрижкой волос. И казался тот конь высоким, что соборная изба, с него далеко виделась степь. Помнилось, как под копытами сливалась земля и свистел в ушах ветер. Была Троица. Станица гуляла и веселилась.
Заметив, что гости объезжают коней, к ним неспешно спустился один из почтенных стариков. Через шамагира он похвалил передовщика, назвав его олонхо, но при этом сказал, что нынче ездить на конях нельзя, дух — покровитель коневодства и тойон — громовержец могут рассердиться.
После полудня в котлах йохов опять сварилось мясо, запахло кашей для гостей. От юрт снова пришли посыльные, пригласили передовщика с лучшими людьми для разговора о мене.
От одной мысли, что придется целый день сидеть и есть, Пантелею стало не по себе, а в верховьях реки ждали товарищи. Они, как о чуде, думали о сиротских лепешках и вылизывали остатки соли, которая у йохов присыпалась скоту.
Пантелей позвал Федотку. С двумя толмачами они вновь пошли к юртам. В тот день князец расспрашивал о товарах и все удивлялся, что с верховий реки привезли соболей.
Посоветовавшись, йохи показали гостям излишки проса и овса. Передовщик с Федоткой сторговали все предложенное за рухлядь, а также наменяли коровьего масла пуда с три да грязной, смешанной с землей соли пудов с десять. По наказу передовщика Ивашка Москвитин тайком взял в струг один из конских черепов, валявшихся на берегу. По казачьим, да и по московским поверьям, конские кости защищали дом от нечисти.
На другой день ватага поднялась в сумерках. Студеной ночью забереги прихватило коркой хрусткого льда, мелкие заливы и вовсе промерзли. Помолившись на первые лучи солнца, ертаулы привычно разобрали шесты и бечевы, с тихой песней повлекли струги вверх по выстывающей реке. К полудню солнце стало припекать и ожила мошка.
Медленно двигались против течения груженые струги: за день не проходили трети того, что налегке сплывали по течению на веслах. Шамагир от нетерпения и медленной ходьбы бурлаков извелся. Его отпустили, щедро наградив за труды.
Когда ватажные проходили мимо прежней стоянки его рода, там уже почти не осталось следов пребывания людей. Тунгусы ушли за своим вечно ускользающим лесным счастьем, оставив после себя примятую траву, обглоданный оленями мох да присыпанное землей, спрятанное от глаз кострище. Ертаулы хотели ночевать на том же месте, но Синеуль воспротивился, объясняя, что всякий род, кочуя с места на место, убегает от злых духов и сбивает их со следа. Духи мечутся по оставленному урыкиту и могут наброситься на путников, если те по неосторожности остановятся на чужом месте.
Ватажные выслушали толмача и решили не дразнить здешнюю нечисть. Взявшись за шесты и бечевы, они шли дотемна, пока не отыскали поляны, удобной для ночлега.
Холодало. В пасмурные дни с неба сыпала крупка. Следом за птичьими стаями, с севера, настырно ползли Велесовы быки — серые тучи. Дул студеный ветер. Струги то и дело обрастали льдом. Местами приходилось просекаться сквозь застывшие заводи, зато прибило гнус и не мочило дождями.
Ертаулы были уже неподалеку от слива двух рек и острова, на котором похоронили Нехорошку. Вечером, едва они развели костер, в воздухе закружились крупные снежинки, ложась на желтую траву и черную воду реки. Снег становился все гуще и гуще, все плотней укрывал землю. Путникам пришлось спешно сооружать возле костра навес из веток и коры. Под ним они и просушились. Наутро снег поредел, но не прекратился. Подкрепившись едой и питьем, промышленные не стали ждать ясной погоды, а пошли по заметенному берегу, чтобы их не застала в пути зима.
К следующей ночи снегопад кончился, вызвездило небо и похолодало так, что пришлось разводить большие костры, греть землю и ночевать на лапнике. Когда подходили к Николину острову, мимо стругов то и дело проплывали отдерные льдины. День был ясный. Таял снег. На берегу, где схоронили Нехорошку, не было видно креста.
Струги пристали к злополучному месту. Передовщик выставил дозорных. Остальные, разобрав ружья и луки, с предосторожностями поднялись на яр. Здесь они увидели крест брошенным на землю возле вскрытой могилы. Рядом валялась береста, в которую заворачивали тело. С дерева сорвалась и шарахнулась в лес зловещая ночная птица. Сивобород спрыгнул в могилу, пошарил в рыхлой земле тесаком.
— Нету! — сказал, задрав бороду и глядя на товарищей со скорбным лицом.
Чертыхнувшись в сторону Синеуля, невинно смотревшего на вскрытую яму, передовщик спросил его:
— Зачем момолеям тело Нехорошки?
Помявшись, толмач сказал, что те, наверное, пожалели убитого:
— Илэл закапывают в землю самых плохих и подлых покойников, чтобы их дух не выбирался к живым людям.
Он махнул рукой в ту сторону, где стояли чумы, направился туда с луком на плече и с берестяным колчаном за спиной. Пантелей отправил за ним холмогорцев, а сам с туруханцами и гороховцами пошел вдоль берега осмотреть следы.
Вскоре холмогорцы закричали, призывая всех к себе. Передовщик с людьми повернул к месту покинутого урыкита. На поляне все так же стоял низкий шалаш, крытый берестой. Из-под кровли торчали ноги убитого момолея, а возле него, прислоненное спиной к комлю дерева, сидело почерневшее тело Нехорошки. В руку ему вложили рогатину со сломанным лезвием. Для верности ладонь покойного привязали к черенку бечевой. Лицо его было поклевано и погрызено, длинные желтые зубы язвительно скалились.
Почитав над покойным молитвы от осквернения, промышленные подняли с земли останки и понесли их на прежнее место. Искать осквернивших захоронение тунгусов никто не призывал, никто не произнес дурного слова о них, живущих по своим законам.
Синеуль с жаром оправдывал врагов: хотели, дескать, как лучше, — душу высвободить из земли, дать ей занятие — караулить Ульбимчо-сонинга, чтобы не вредила ни своим, ни чужим. Вдвоем веселей.
Переночевав на прежнем месте, на берегу, утром ертаулы увидели множество плывущих льдин и поспешили переправиться на другой берег, пока лед не пошел сплошной стеной. И снова волоклись они против течения, то и дело просекаясь, отталкивая плывущие льды шестами. Сивоборода с Тугарином налегке отправили в зимовье за помощью.
Два десятка подоспевших зимовейщиков подвели струги к обледеневшему устью притока под Юрьевой горой. Едва промышленные выгрузили на берег припас зерна, масла и соли — заскрежетала, загрохотала река, одеваясь белой шубой шуги, а вскоре заторосилась и встала, паря черными, непокрытыми полыньями.
Поминая убитого овсяной кашей, Сивобород с Тугарином степенно рассуждали, что выпала устюжанину доля не самая худшая: смерть напрасная, но легкая, непостыдная и безболезненная — многие грехи за нее простятся. А если даст Бог устюжанам вернуться по домам — семья его получит Нехорошкин пай.
Об этом больше всех говорил Сивобород и печалился о своей неминучей доле. Не за горами была его старческая немочь. Вдруг не даст Господь, по грехам, кончины лихой и своевременной? Родню по свету растерял, богатств не нажил. «Грехи наши! Как-то нам еще сбудется?» — думал.
До Михайлова дня по промысловым станам и в зимовье овес и лепешки из рассыпчатого неободранного проса ели вволю даже по скоромным дням. К Михайле, оставив чуничные станы, промышленные вышли к зимовью для торжества и соборных молитв. Накануне праздника они собрались у большого костра, вспоминали дедовы сказы, как Михайла жезлом своим спихнул с небес дьявола и слуг его и те попадали на землю. Какой пал на избу — стал домовым, какой в воду — водяным, в лес — лешим. И теперь приходится живущим людям как-то с ними ладить и уживаться. Сам же сатана провалился сквозь землю — там его место.
Перед Михайловым днем ватажные посмеивались над собой: едва-де не ржем от овса, не кукарекаем от проса. Но теперь, осмотрев зерновой припас в зимовье, призадумались. При прежнем расточительстве его нельзя было растянуть и до Рождества Господня. А впереди — Филиппов пост.
Передовщик на святого покровителя русского воинства отмаливал прошлые грехи, каялся в нынешних. Промышленные же упрекали его за казачью безоглядность и расточительность. Сами винились, что не думали про припас, который надо было беречь и раздавать строго, а не так — бери кому сколько надо.
После молитв с иконами и с пением ватажные устроили крестный ход вокруг зимовья, потом сели за стол, заваленный мясом, рыбой, ягодой, грибами, стали есть и веселиться во славу сил бесплотных.
Заводилами в песнопениях были Лука да Гюргий Москвитины, оба уже с седыми, будто мукой присыпанными, бородами. Лука, жалея насмерть запуганного домового, бросил шубу за печь да овсяной кашки подкинул, чтобы тому Михайлов день пережить. Поминая подвиги архистратига, устюжане запели «Про падение Адама», о горьком плаче его у закрытых ворот рая. Иные плакали, свесив головы, вспоминая беспечную жизнь на отчине, нужды и страдания, которые пришлось пережить в Сибири. Угрюмка, не смея выскочить из зимовья, ниже опускал голову и не подпевал. Не будила в нем эта песня ничего, кроме памяти об обидах. Вопреки ее словам он верил в свое смутное, неведомое счастье. «Уж для меня-то дверь когда-нибудь откроется», — думал.
Поднял кручинную голову передовщик, вздохнул и приказал развеять грусть-печаль, разогнать тоску, завести старины и былины про подвиги благочестивых людей, про дела давно минувших веков. Такие песни всем им были в радость.
На следующий день, расходясь на промыслы, решили ватажные до поста зернового припаса не касаться, а после Рождества три дня в неделю питаться рыбой, грибами, ягодой и заболонью сосновой. При строгой бережливости остатков зернового припаса могло хватить до Маслены.
В другой раз они вышли из тайги перед Рождеством. Трещали морозы, от стужи стоял по падям густой туман и шелестел воздух от дыхания. Нахохленные птицы безбоязненно облепляли крыши балаганов, если в них отдыхали люди. Тихо было в тайге, только вороны орали возле станов сатанинскими голосами, призывая беды и несчастья. Пусть ненадолго, но в здешнем краю каждый день приходил рассвет.
Отмывшись в бане, молясь и постничая, стали промышленные люди готовиться к Рождеству: шили новые рубахи из кож, сары, рукавицы, чтобы хоть как-то обновиться, приобщаясь к Господу.
Припас мяса, птицы и рыбы не пополнялся с Михайлова дня, а теперь боровая дичь пропала, мясного зверя след простыл, одни только зайцы носились по лесу, чтобы не околеть от стужи. Туруханцы с гороховцами да зимовщики под началом передовщика наловили и наморозили их, сложив поленницами. Опасаясь голода, подняли из берлог и добыли двух медведей. Надвигавшийся голод примирил споривших прежде о богопротивном мясе.
Угрюмка умел себя беречь, с малолетства познав разные греховные выходы из нужды. Он мог поддакнуть воздыханиям богобоязненных людей, но притом старался набить живот свой впрок. Пантелей, познавший истинный голод под Новгородом, когда в брошенном боярами войске конскую падаль почитали за яство, ко всем брезгливым капризам устюжан относился с насмешкой. Быть бы сыту, думал. Оскоромиться — грех, запоститься до смерти — втрое хуже.
— К Рождеству рубаха хоть сурова, да нова! — хвастался своими руками сшитой одежкой из отмятых заячьих шкур, с гордостью показывал ее всем и готовился надеть на светлый праздник.
На сочельник передовщик выставил на стол распаренное просо, а на Рождество жирную медвежатину, остатки сухой козлятины, да зайцев, бруснику, клюкву, квас, пиво, морсы. Нашлось чем порадовать промышленных и всех святых, помогавших им в промыслах. Наполнял Пантелей братину, пускал ее по кругу, призывая товарищей к веселью и песням. Зашумели они, стали говорить заздравные речи, хваля передовщика и чуничных атаманов. А те, принимая братину, кланялись на четыре стороны, говорили добрые слова подначальным людям.
Укрепив дух молитвой, а тело едой и питьем, запели промышленные, веселя Господа и Пречистую Матерь Его, что Спаса людям родила. А как душа развеселилась, пустились в пляс. Тесно стало в зимовье. Выходили они во двор и за частокол, разводили костры, чтобы возле них и родители на том свете погрелись.
«Эх, пошла коляда из Новагорода!» — пустились в пляс холмогорцы. За ними устюжане. А там и хмурые, замшелые сибирцы запритопывали, заприпрыгивали.
Застрекотал по-птичьи Синеуль, утробно затрубил по-оленьи, заревел по-медвежьи, замахал руками, засеменил ногами в сарах. Угрюмка в медвежьем тулупе стоял на нагороднях, его брови, выбившиеся из-под шапки волосы и кучерявившуюся бородку обметал куржак. На стволе пищали серебрилась изморозь. И он, глядя на веселившихся, полураздетых, притопывал ногами под тяжелым тулупом, грелся, ожидая, когда его сменят.
В ночь на мученицу Маланью снилась передовщику его мангазейская полюбовная девица. Да такой ласковой пришла она к нему во сне, что заныла душа. И вскочил он в ночи с тревожно бьющимся сердцем. «Судила Маланья на Юрьев день, на ком справлять протори». Подкинул дров в очаг, стал молиться перед темными, мигавшими в отблесках пламени образами, чтобы не взыскал Господь за его грех с жены товарища, а только с него, с грешного Пантелемона Пенды, сына Демида Шадры. А душа ныла и стенала, вспоминая ее жаркие ласки. И как ни корил себя передовщик перед ликом Божьим — не унималась она, скверная.
«Не отпустила-таки, как обещала?» — думал Пантелей, глядя на огонь, и не мог укорить бывшую полюбовную девицу: слишком мало в его жизни было таких счастливых дней, какие провел возле Мангазеи. «Охала Маланья, что уехал Ананья. Охнет и дед, что денег нет».
После Крещения заметно потеплело, чуницы разошлись по станам и ухожьям без припаса, надеясь на милость Божью да на лес — авось прокормит. Одни постились постом истинным, выживая как могли, но промыслов не бросали, другие, каясь, сквернили душу мясом и рыбой.
Соболь же шел в клепцы одурью, его не успевали шкурить на станах и в зимовье. И был он в здешних местах разный: головной попадался редко, но много было рыжего, за который по мангазейским ценам больше шести рублей за сорок не давали.
А как начались звериные свадьбы, промысловые чуницы стали выходить к зимовью, чтобы всей ватагой дожить до летних дней. Припозднились одни холмогорцы. Они вышли после Евдокеи-свистуньи, в начале марта, с большим грузом добытой рухляди, но без Тугарина.
На расспросы передовщика Федотка Попов стал рассказывать, что чуница собиралась выходить к зимовью и сошлась уже на своем стане, срубленном во имя святых апостолов Петра и Павла — пособников в промыслах. Отощавший Тугарин перед тем все молчал да молился в одиночку. И вдруг на стане, отказавшись есть заболонь, потребовал квасу.
— Я, грешным делом, посмеялся — где ж его взять? — оправдывался Федотка. — А он хихикнул, подмигнул да и говорит: «Спустись-ка в погреб, под лестницей большая бочка. Оттуда отлей с ведро!»
Глянули чуничные на старого промышленного — кто насмешливо, кто удивленно, а он давай орать: «Квасу подайте!» Всех бывших рядом будто холодом обдало. Не успели они подумать, не отнял ли Господь умишко у грешного, Тугарин накинул шубный кафтан — и был таков.
Холмогорцы думали, что на холодке он придет в себя. Но тот не вернулся ни к ночи, ни на другой день. Стали его искать по брошенным станам и нашли свежие следы. Может быть, и догнали бы, да началась метель, пришлось вернуться. Пережидая непогоду, товарищи гадали на беглеца на воске и на печени — ничего понять не могли. А как утих ветер, да потеплело, пошли они к дальнему стану и видели там Тугарина без шапки. Он прятался от своих, выглядывал из-за деревьев и убегал так резво, что догнать его не смогли. С тем и вернулись совет держать.
Синеулька, выслушав рассказ, стал говорить, что Тугарина сманил тайгун. У лесных людей это бывает. Шаманить надо или молиться. Силой же его не вернуть, а вот тайгуна рассердить можно.
* * *
Третья весна в дальней стороне случилась ранняя. Просел снег, утренние зори, студеные и ясные, дразнили возбужденных птиц. В середине марта даже вороны стали пробовать голос на песни и щебет. В иные времена да в другом краю люди сочли бы такие знаки к беде и к мору, нынче же только посмеивались. И запачканного птицами частокола не было жаль: перезимовали среди мирных народов без войн и осад.
На Федота-ветроноса одна половина ватаги гонялась по насту за лосями и дикими оленями, другая молилась, постничала и наводила порядок после зимовки. С утра мороз обжигал обветренные лица. С полудня слепило яркое солнце и веяло запахами весны.
Лука Москвитин походил вокруг избы со строгим лицом, остановился против входа, взял в руки стертую метлу с березовым помелом, обмахнув ей порог, крикнул в распахнутую дверь:
— Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома!
Срубленное из сырого леса, зимовье всю зиму щелкало и трещало венцами. Зимними ночами кому-то чудился по углам обеспокоенный домовой, кому-то — пришлая из лесу кикимора.
— Поздно уж избу чистить! — посмеивались гороховские промышленные. — Нам скоро уходить… Пущай уж живут кто прижился.
Не отвечая на шутки, Лука вымел сор, прикрыл дверь. Кто-то, глядя на него, вздохнул, вспомнив отчий дом. Но сияло солнце, искрился снег, желтели по склонам проталины, дурманили запахами весны и предчувствием чуда.
Холодными ночами промерзший до дна ручей «кипел», покрываясь водой. Передовщик приказал всем бывшим в зимовье людям спустить по нему струги поближе к реке. Зашумели ватажные, подхватили за борта высохшие на морозах суда, с криками поволокли под гору. Под их бахилами, густо смазанными дегтем, хлюпал рыхлый лед. Пантелей Пенда шел берегом по хрусткому снежному насту, похлопывал себя по бокам рукавицами, ободрял:
— Удальцы-молодцы!
Щебетали птицы, ожидая Благовещенья, поторапливали летнее солнце. В глубокой впадине под очистившимся от снега льдом бесшумно струилась черная вода реки. Ее извилистые берега снова манили в путь: обещая одним благополучное возвращение домой, других прельщали неведомыми, счастливыми странами.
— Дружно — кликнем весну! — велел Лука Москвитин, приложил ладони к седой бороде, закричал в сторону реки: — Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите! Зима надоела — весь хлеб поела!
Слова про зловредную зиму и бесхлебье тронули ватажных, и закричали они во всю силу, прислушиваясь к откликам эха из долины. Довольный их криком, Лука глубоко вздохнул и попросил:
— Отпустите-ка меня, братцы, проведать Нехорошку. Завтра, на Василиска, как раз поминовение усопших. Снился он мне, хоть в молитвах не забываю. Помянуть-то нечем.
— Иди! — позволил передовщик. — Племянника возьми, — кивнул на Ивашку. — Вдвоем веселей.
— Нет! Один хочу побыть. Подумаю, помолюсь! — тихо, но твердо отказался от провожатого Лука.
— Иди! — повторил Пантелей и добавил: — Вернешься раньше — жди на стане. После Благовещенья мы придем смолить и конопатить струги.
— Пора уж перебираться! — загудели ватажные. — В зимовье тесно…
— Месяц марток — наденет пять порток! — заспорили холмогорцы. — Как задует…
Лука не стал слушать пустопорожние разговоры. Кое-какой припас рыбы и мяса на стане был. Нахлобучив до бровей сношенную московскую шапку, похожую на горшок, он принял из рук племянника слоеный тунгусский лук со стрелами в берестяном колчане, поправил топор за кушаком и зашагал берегом к слиянию рек.
Вернулся он поздним вечером на Герасима-грачевника. К тому времени половина зимовщиков уже перебралась на стан у реки, против Юрьевой горы. В балагане жарко горел очаг. Идущего по льду Луку дозорные заметили издали. Низкая дверь открылась. Сгибаясь, под кров протиснулся Лука. От его зипуна пахнуло выстывшей золой костров. Промышленный бросил лук с колчаном и топор в угол, кушак и шапку закинул на решетку над очагом, трижды перекрестился, скинул зипун и присел у огня.
Передовщик уступил ему лучшее место, Семейка подал котел с брусничным отваром, остатки печеной рыбы с ватажного ужина. Лука расправил усы, неторопливо напился. От него ждали рассказа, он же устало сипел остуженной грудью и молчал.
И снова бросилось в глаза Пантелею, как сильно постарел бывалый промышленный. Лицо его было посечено усталыми морщинами. Под глазами набухли мешки, схваченные красной паутиной.
— Что там Нехорошко? — не удержался он. — Могила не разорена?
— Цела! — неохотно разодрал губы Лука и добавил рассеянно: — А тунгуса звери обглодали, кости растащили. — Помолчав, обронил: — Тугарин там!
— Вон-на куда принесло — на чужие ухожья! — ахнули холмогорцы.
— Самого-то видел? — всхлипнул Федотка.
Лука посопел торчавшим из бороды носом. Его набухшие веки то и дело закрывались, по лицу метались отсветы огня, в полуприкрытых глазах то высветлялась, то пропадала горючая кручина. Наконец он ответил, опять с трудом разлепив обветренные губы:
— Всю ночь рядом крутился… Сам, тайгун ли в его личине. — Неловко перекрестился негнущейся рукой. — В лохмотьях, без шапки. Выглянет из-за лесины — курлы-мурлы. Пропадет. После опять… Так всю ночь.
— Оборотень! — ахнул Гюргий Москвитин.
— Тайгун душу забрал, — непонятно чему улыбаясь, блеснул зубами Синеулька.
— Очертил я круг заветный, наложил заговор старинный. Так и просидел у огня, молясь. С одной стороны река, могила с крестом, с другой — тунгус поеденный. Да Тугарин вокруг бегает… Пора, однако, возвращаться! — Вздохнул тяжко, глубоко. В груди его засвистела давняя хворь. — На Руси хочу помереть. Среди своих родных, в своей земле лежать, а не здесь, со зверьем и с тунгусами.
— А говорил, насовсем уходишь в Сибирь, — насмешливо взглянул на него Пантелей, накручивая клок бороды на палец. — А по мне, где бы ни помирать — лишь бы достойно!
— Казакам этого не понять! — сонно уронил голову на грудь Лука. — Устал!
И непонятно было — от бессонных ли ночей или скитаться по Сибири устал? Федотка вздохнул, жалея старого устюжанина:
— Кабы река текла до самой Мангазеи или до Великого Устюга!
Ладно бы устюжане и холмогорцы — крепкие хозяева с не разоренных Смутой земель, но и Михейка Скорбут — сибирец без роду без племени, к сорока годам потерявший половину зубов, удивляя передовщика, прошамкал впалыми губами:
— Пора уж! Коли Господь убережет — сделаю вклад в Троицкий монастырь, останусь в причетниках. В Тобольск уже не выбраться. Пропьюсь! — безнадежно мотнул головой.
Пантелей настороженно оглядел лица ватажных. «Было бы вволю хлеба да квасу, — подумал боязливо, — повеселели бы».
— Ничего! — со смешливой улыбкой обернулся к молодым: — Выберемся к людям с верховий реки, кто бы они ни были, наменяем ржи — будет и хлеб, и квас.
— По иным рекам, сказывают, в одно лето можно сплыть к Турухану! — непослушными губами пролепетал Лука Москвитин.
— Хорошо бы! — ободрился Скорбут, помышляя то ли о хлебе, то ли о возвращении. — Спаси-то Бог, как Тугарин, последний умишко потерять.
— Да что вы, братцы! — удивленно озирая промышленных, вскрикнул передовщик. — Дошли ведь, где допрежь нас явно никто не был. — Глаза его то блестели вдохновенным восторгом, то болезненно щурились, примечая смуту в душах. — Великим тесом, может быть, и дальше ходят, но таясь — не как мы. — Он с беспокойством почувствовал, что слова его никого не ободрили, и заговорил торопливо, лихорадочно: — Возвращаться старым путем — сами отказались! — пристально вглядывался в печальные лица. — К йохам опять сплыть за просом? Не дадут! Все нам продали. Дальше на полночь плыть без припаса, чтобы увидеть ублюдков без голов, без рук, с вороньими головами да там и околеть? Сами не захотите.
— На полдень подниматься надо до братских народов! — тихо, но настойчиво сказал за всех Федотка. — Там волок к закату искать.
— Хорошо бы переволочься в такую реку, чтобы плыть без трудов до самого Турухана, — мечтательно потянулся Семейка Шелковников, ни словом, ни взглядом не вспомнив про братские народы, о которых говорили всю зиму. Он невольно раздвинул сидевших, и сразу стало тесно. На него зашумели. Не переставая улыбаться, Семейка съежился, сложив широкие плечи, как птица крылья, зевнул, крестя рот: — Эх! Хорошо!
Старый Алекса, пригрозив ему пальцем, как маленькому, заворчал:
— А мошка-то как станет жрать поедом, а теснотища в стругах — не отмахнуться. Только терпеть.
— А мы — дымокур раздуем! — бесшабашно рассмеялся Семейка.
И посветлели лица. Пошел тихий разговор о делах дня: о смолокурне, о стругах, о рухляди, которую надо бы еще раз отмять и просушить.
Лед еще не стронулся, хоть и чернел на глазах, становясь рыхлым и хрупким, а от комаров уж в две руки не отмашешься — примета к дождливой весне. Угрюмка, ругаясь, вытянул из проруби и бросил под ноги плетенную из прутьев корчажку. Она была полна бьющейся серебристой рыбы. Высвободив руки, промышленный злорадно зашлепал ладонями по щекам, в это время лед под ногами провалился. Хорошо, что это случилось на отмели и он оказался всего лишь по пояс в воде. Обожгла она ноги, перехватила дух. Угрюмка выбросил подальше от себя улов. Подбежал Ивашка Москвитин и помог ему выбраться. Хлюпая сползшими к пяткам бахилами, злословя сам на себя и налетевший гнус, он побрел сушиться.
После полудня сдвинулся покров реки. Сначала гулко ухнуло, потом заскрежетало. Ватажные кинулись вытаскивать снасти из прорубей, пока их не унесло льдами. Старые Москвитины да Алекса Шелковников с Сивобородом скинули шапки, стали кланяться на восток, оживающей реке, приговаривая и крестясь:
— Батюшка Илья, ты напои мать сыру землю студеной росой! Дай нам пропитание от рек и обереги от всякой речной нечисти.
В сумерках хлынула по льду вешняя вода. Затем с хрустом и скрежетом, теснясь и сталкиваясь, стали продвигаться льдины. На них напирали другие, из верховий. Наутро с шумом пошел ледоход, но как-то уж очень быстро очистилось русло.
Самые нетерпеливые из промышленных стали подстрекать к раннему выходу. Дескать, места здешние не те, что в низовьях Тунгуски, — теплей. Старики осторожничали, и передовщик, чего-то опасаясь, все смотрел на реку и чесал отметину под густой бородой.
Самые нетерпеливые из ватажных уж сталкивали струги к реке. После полудня вода вдруг стала убывать, что удивило даже стариков. Передовщик же, глядя на мокрую полосу берега, вдруг скакнул на месте и закричал:
— Вытягивай струги! Крепи бечевой!
Тут все поняли, отчего убывает вода. Как насмешка водяного, вскоре послышался гул, дрогнула земля, закачали верхушками вековые сосны, с криками взлетели птицы над лесом. Люди бросились к стругам. Затаскивать суда на яр не пробовали — к двум, что поспешили спустить к воде, торопливо привязали бечеву подлинней, чтобы удержать их. Сами, спасаясь от надвигавшегося вала, полезли на высокий берег.
— Батюшка Илья! Помогай нам! — вскрикнули те, что стояли на яру. Они первыми увидели, как из-за излучины вышла скрежещущая ледовая стена. Лед прополз у самых ног людей, толкнул один из стругов, оставленных на высоком берегу, и отбросил его, как щепку. Два других, бывших у воды, он подхватил, словно былинки. Один накрыл льдом, другой вышвырнул на берег, выдирая кустарник из стылой земли.
Жалостливо, как гибнущий зверь, мелькнул бок подмятого струга на гребне вала и пропал в пучине.
— Сердится дедушка! — отдуваясь, пробормотал Лука, сматывая оборванный конец бечевы. — Поди, возле Николы выбросит?!
Устюжане вспомнили, что их сварливый родственник Нехорошко прежде ходил именно на том струге, который унесло льдами.
— Ну и ладно! — беззаботно улыбнулся Ивашка. — Легче волочься. Все одно — хлеба нет.
— Поменяли бы на хлеб! — с укором вздохнул старый Шелковников.
Лука, смотав бечеву ровными кольцами, вдруг бросил ее под ноги и выругался.
Вода спадала, оставляя на берегу множество льдин. В лесу, неподалеку от стана токовали глухари. Их добывали и пекли к ужину каждый день, а вот порадовать дедушку-водяного перед дальней дорогой забыли.
Чтобы не гневить силы небесные, старые промышленные поднялись в потемках и тихонько утопили большого глухаря с перебитым крылом да со связанными сильными ногами. Ночь была тихая и светлая. Слышался шелест ветра в черных верхушках вековых сосен. Мигали частые звезды. Катилась по небу полная, яркая луна.
— Эх-эх! — тоскливо позевывал и оглядывался Сивобород. — Заря темная, вечерняя, ключи потеряла, месяц пошел — не нашел, солнце ясное взойдет — не найдет!
Угадал старый сибирец. Не было росы поутру, и вскоре пал туман. Опасаясь морока, ватажные похаживали возле готовых к отплытию стругов. Русло реки очистилось, только изредка проплывали льдины, оторвавшись где-то от берега. Гулко ухал в лесу филин, рассыпал дробь дятел, невидимые птицы хлопали крыльями.
Вот туман поредел. С восточной стороны над лесными увалами заблистало солнце. Как принято на Руси со времен стародавних — ватажные помянули Всемилостивейшего Господа, во Святой Троице просиявшего, добрую Заступницу — Пречистую Его Матерь, архангелов с ангелами, Николу Чудотворца с Ильей Пророком да всех святых своих заступников. И, помолившись им усердно, спустили струги на воду. Закачались суда на холодной речной волне.
Передовщик, заломив островерхий колпак, встал на корме в полный рост, уперся шестом в речное дно, свистнул, призывая двигаться, и запел по весь голос:
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник»… К чудному заступлению твоему притекаем.
— «Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий», — хором отозвались ватажные, всем телом налегая кто на бечеву, кто на шест. И пошли струги против течения вдоль берега — к полуденной стороне, к неведомым ее истокам. Кланялись ватажные по левую руку, встреч солнца, винились: не дал Бог Духа, а своего недостало, чтобы и дальше идти на восход.
Через полторы недели подоспели деньки добрые. В это самое время в Сибирские города и остроги выходили из урмана промысловые ватаги, а там их поджидали воеводы и приказчики, да бочки с суслом, пивом, винами, да купцы с товарами, да служилые люди с поборами… Вспоминая о гуляньях и веселье, на Всех Святых ватага Пантелея Пенды подошла к устью неведомой реки, впадавшей с левого берега.
Перед тем притоком был долгий высокий яр, и вот открылась широкая, привольная долина. Были здесь и ровные поля, и заливные луга, о каких рядом с Устюгом да с Холмогорами и богатые люди не мечтали. Среди шелковистой травы стояли тунгусские чумы, крытые берестой и лавтаками. У леса паслись олени. Завидев людей на берегу, завыли собаки, вечные спутники лесных народов.
Передовщик приказал вытащить струги на сушу и готовить посольство. Мокрому Синеулю, шедшему на бечеве, велел сушиться, Федотке с Лукой Москвитиным — надеть кафтаны. Сам же за неимением красной одежды надел заячью рубаху, обмотался кушаком, повесил саблю на бок.
Когда посольство двинулось к урыкиту, из лесу вышли с десяток тунгусских мужиков с черными косами по плечам, с рогатинами и луками в руках. Они настороженно подошли к послам, сдержанно ответили на приветствия и, как ни улыбался им Синеуль, разговаривали неохотно.
Это был род шамагирского племени. Их князец не выделялся ни одеждой, ни ростом, но держался уверенней других и отвечал за всех. Синеуль назвал его Кинегой.
Кинега не стал приглашать гостей в свои чумы, а усадил их под небом, у костра, отгонявшего гнус. К нему безбоязненно подходили олени, совали длинноухие морды в клубы дыма, большими выпуклыми глазами разглядывали гостей из-за спин тунгусов.
Сухощавый и подвижный князец заговорил охотней, когда понял, что ватажные ищут обратный путь на Енисей. С ответами и вопросами он обращался только к Пантелею и Луке Москвитину. Когда говорил Синеуль, настораживал слух, но к толмачу не оборачивался, на него не глядел. Толмач, весело скалясь, раз и другой задал шамагирам вопросы от себя — для знакомства и близости, те делали вид, что не понимают и не слышат его.
Передовщик вынул из глубокого кармана горсть бисера, раскрыв ладонь, подал князцу. Тот равнодушно взглянул на украшение и руки к нему не протянул. Пантелей ссыпал бисер на колоду, где сидел, и велел возвращаться к стругам. Синеуль поплелся следом за послами, на лице толмача не было прежней беззаботной улыбки, будто вновь рвалась из его тела беглянка-душа.
— Не признали? — посочувствовал передовщик.
Тряхнув головой с длинными, распущенными по плечам волосами, Синеуль принужденно рассмеялся, показывая острые белые зубы:
— Чужаки — тэго! — сплюнул под ноги, поправил на груди почерневший от сажи крест, снял шапку и возвращался, похлопывая ею по колену.
Послов обступили свои ватажные люди, стали расспрашивать о встрече с тунгусами, о том, что узнали от них. Передовщик в середине круга стал рассказывать, что, по словам шамагиров, путь к притоку Енисея был долгим, а волок в него — трудным. Все понимали, что лесному народу Бог большой хитрости не дал, если князец и лукавил, не желая, чтобы русичи поднимались по притоку, на котором стояли его чумы, то не настолько, чтобы ему не верить.
Промышленные люди подумали, потеребили бороды и решили идти вверх по реке до следующего притока.
— Здесь бы деревеньку поставить! — весело оглядывал долину Семейка. — Да зажить бы на воле.
— Невест нет! — осадил сына отец, Алекса. — Вот возвратимся, даст Бог, на родину, найдем тебе конопатую — вернешься сюда и срубишь дом, — ревниво посмотрел на заматеревшего парня: тот выдал тайные и безнадежные помыслы отца о такой же землице возле Великого Устюга. — Какие твои годы? — тряхнул бородой. — Нас с дядькой похоронишь — и с Богом!
Обронив насмешливые слова, отец всмотрелся в глаза сына, и что-то дрогнуло в его груди, будто судьбу накликал. Вздохнул, перекрестился, винясь про себя, потупил взор, чувствуя непонятное смущение.
Запылала, налилась темной кровью заря вечерняя, и решили путники ночевать, а утром двигаться дальше. Федотка Попов, постившийся в честь святого Федота-овсяника, к вечеру напился речной воды и лег раньше дружков, тихо переговаривавшихся возле костра. Ему после полуночи выпадало стоять в дозоре.
И шла ватага еще две недели, не встречая проходимых притоков с левого берега. Только затем раздвоилось русло: основное повернуло к востоку, а малое все так же убегало на полдень. Без споров и сомнений вошли в малое и здесь, на устье, остановились для отдыха и пополнения припасов.
Погода портилась. Огненным жезлом гнал по небу черные тучи грозный старец Илья Пророк, слышался отдаленный рокот грозы. Могучие небесные быки брели к закату, закрывали и солнце, и вечернюю зарю. В воздухе пахло сыростью дождя.
Не отдаляясь от берега, ватажные натаскали сухостоя, развели костры, перевернули струги, укрыли под ними мешки с рухлядью и устроили себе постели из лапника. Кому не хватило мест под лодками — легли между ними, положив жерди, накрытые лавтаками и берестой.
Роился гнус. Горел костер. И думы, и разговоры были об одном — не слишком ли далеко поднялись к истоку. Передовщику то и дело приходилось огрызаться на упреки, что не заставил своих людей идти притоком возле князца Кинеги. Раз и другой претерпев незаслуженные укоры, Пантелей ушел под струг к молодым промышленным. Те потеснились, уступая ему место. Уважительно примолкли, но ненадолго. Струг лежал так, что виделась только река, на которой мерцали отблески костра, закрытого другим бортом. Угрюмка то шепотом, то в голос рассказывал про тайгуна, которого будто бы видел прошлой ночью в дозоре. И непонятно было, смеется ли он над дружками или впрямь удивляется тому, что чудилось. «Спал!» — отметил про себя передовщик.
— Нос — во! — приложил растопыренную ладонь к губе. — Глаз во лбу — горит, рта нет или не приметил. Высовывается из-под куста… Цок-цок, на копытцах… А у меня пищаль. Стрелю, думаю, — всех разбужу. Нечисть скроется, а передовщик кожу со спины спустит, — скосил глаза на Пантелея. — Кладу я на лук тупую стрелу с костяным наконечником. Целю в глаз…
— Брешешь! — смешливо пробурчал Федотка. — Не было у тебя лука. Своего не имеешь, а я не давал!
Угрюмка ненадолго умолк, ничуть не смущаясь, скучно зевнул, ухмыльнулся и стал рассказывать про зайцев, которые водят дружбу с лешими, тайгунами и часто потешаются над людьми.
Передовщик слушать его не стал, вывернул внутрь рукава заячьей рубахи, укрылся паркой, стал подремывать. Когда он открыл глаза — рассветало. Ни неба, ни другого берега реки не было видно. Серые облака, переваливаясь с боку на бок, висели над водой. Моросивший в ночи и притихший к утру дождь снова стал сеять и трусить, покрывая речную гладь рябящей шероховатостью. «Дождь на Устина — к добру!» — подумал Пантелей, зевая, и заметил на стрежне, пониже устья, движущийся крест.
Серое сырое утро наползало брюхатыми облаками на стан. Изумленный передовщик на локтях торопливо выполз из-под струга, задрал голову и ясно увидел коч с крестом на носу. Пока он протирал глаза, читал молитву от морока, из слоящегося тумана показался другой коч.
Пантелей вскрикнул, лягнул пяткой кого-то из молодых, вскочил на босые ноги и закричал, размахивая руками. Из стелющегося облака выплыл третий крест, а первый уже пропал. Корма другого коча едва виднелась сквозь утренний морок.
К передовщику подскочил дозорный с пищалью. Зевая, из-под струга выглянул Угрюмка, за ним показался заспанный Семейка. Глаза на его рябом, изъеденном гнусом лице были припухшими.
— Что орешь-то? — спросил озираясь.
— Пали в воздух! — приказал Пантелей Федотке.
Пока дозорный вернулся к костру, чтобы запалить фитиль, кочи пропали.
Ухнула пищаль. Эхо не скоро отозвалось с другого берега, запахло горелым порохом. Повыскакивали из-под стругов ватажные, кто с луком, кто с топором, иные вставляли тесаки в стволы пищалей.
— А-э-э! — завопил Семейка, выбравшись из-под струга. Передовщик пронзительно свистнул и прислушался, вытянув шею.
С разных сторон откликнулось эхо. Захлопали крыльями невидимые птицы. Табор бестолково засуетился. Кто-то занимал оборону, кто-то раздраженно спрашивал, отчего все кричат. Клубились ползучие облака на воде, разделяясь и сливаясь вместе. Невидимые брызги дождя висели в воздухе.
Босой, с растрепанными волосами и всклоченной бородой, Пантелей поспешно вернулся к стругу. Глаза его горели. Пошлепав босыми пятками, он снова замер, подняв руку. Все затихли, вслушиваясь в тишину и тая дыхание. Но не было выстрелу и крикам отклика.
— Наши кочи, русские! — ударил кулаком по смоленому днищу. — Не догнать в тумане.
— И не найти! — присел на корточки Федотка.
— Ты видел? — вскинул радостные глаза передовщик.
Холмогорец неуверенно пожал плечами.
— Наши! К йохам плывут! — вскрикнул Пантелей, с нетерпеливым вызовом озирая лица ватажных. Сел, натянул непросохшие бахилы, торопливо обвязал их бечевой. — Верный знак! Там сибирская Русь! — махнул в сторону основного русла. Глаза его блестели, лицо светилось от упоения своей правотой. — Туда идти надо!
Ватажные притихли и насупились. Не понимая, отчего на их лицах нет радости, Пантелей притопнул ногами в бахилах, взглянул на обступивших его людей весело и восторженно.
— Сколько волочься? — хмуро спросил вдруг старый Шелковников, перебирая в натруженных руках ствол пищали.
— Не век же, как жиду, Христом проклятому! — отводя глаза, поддакнул Михейка Скорбут.
— Так рядом уже! — удивленно уставился на них передовщик. — Нутром чую, дошли!.. Добрались, братцы! — растерялся, удивленно озираясь.
Туман и морок замутили глаза промышленных, выдавая их опресневшие от бесхлебья мысли.
— Соли которую неделю нет! — проворчал Лука.
— Свое добыли, домой пора! — настойчивей проворчал Алекса Шелковников.
Кривящаяся улыбка застыла на лице Пантелея Пенды — все были против него: даже туруханцы, и гороховцы. Скрипнув зубами, он натянул колпак до ушей, обернулся к молодым.
— Вы-то видели? — вскрикнул резко и зло.
Синеуль беззаботно скалился и делал вид, что ему, новокресту, русские споры не понять. Другие, потупясь, смотрели в стороны. Смущенно набычился Семейка, пожимал плечами Федотка.
— То ли кочи, то ли деревья?
— Ты же вызнавал путь в Индию? — с жаром упрекнул передовщик, вразумляя рассудительного холмогорца.
Тот, глядя на него с пониманием, признался:
— Этот год надо вернуться на Турухан. Братан ждет!
И тогда по старозаветному казачьему обычаю Пантелей Пенда вышел на песчаную отмель, сорвал с головы колпак, бросил его под ноги, с вызовом взглянул на удалого весельчака Ивашку Москвитина, на дородного силача Семейку Шелковникова — выросших и возмужавших в урмане, иной жизни не помнивших. Те повели глазами на родителей, нельзя, мол, поперек них. «Эх, городское да посадское отродие, по старине связанное сотнями родовых уз…» — ругнулся про себя передовщик.
Федотка развел руками — он уже сказал свое слово. Гороховцы и туруханцы помалкивали, строптиво воротя лица. Взглянул Пантелей на Угрюмку. Из затравленного сиротинушки, из воришки и побирушки он вырос в молодца, похожего на верного боевого товарища Ивашку Похабу.
Напряглось, побелело обветренное лицо бывшего юнца, упрямо окаменело и стало розоветь. В кривящейся улыбке мелькнуло что-то хитрое. Не раз приходилось видеть Пантелею, как против правды проступает на челе иудина печать. Синеуль — и тот лупал глазами, переминался с ноги на ногу, прикидываясь тупым, ничего не понимающим.
Безнадежно махнул рукой передовщик, подобрал с земли свой одинокий колпак, а когда надел его на голову, промышленные поняли — пойдет один.
— Ты нам крест целовал! — пристально глядя на него, напомнил Лука Москвитин. — Грех против всех идти. Смирись!
На глаза Пантелею попалась жердина, обкатанная и выброшенная на берег течением. Он схватил ее, черную, скользкую, ударил середкой о камень. Жердь оказалась крепкой, не переломилась, но отсушила ладони.
Поредел туман, зазолотилось на востоке солнце. Свесив голову, передовщик вернулся к костру. Промышленные понуро потянулись к лесу, за дровами, разошлись кто куда, не навязывая разговоров.
Едва скрылись они в рассеивающемся тумане, на сыпучий яр старого русла выскочил всадник и резко осадил коня на самом краю. Конек под ним был низкорослый, татарский, седло высокое, степное. Пантелей Пенда успел заметить, что зипун на всаднике хоть и засаленный, да шелковый. За спиной из-за одного плеча торчал лук, из-за другого — колчан со стрелами. Поперек седла лежала дубина из сухого комля.
Всадник острым взглядом степняка окинул ватажных бывших у стругов. Передовщик свистнул, поднявшись ему навстречу, махнул рукой. Но тот, зыркнув по сторонам запавшими глазами, развернул коня и показал длинную косу меж лопаток. Конек с места взял галоп и скрылся.
— Глухой, что ли? — ругнулся Угрюмка, оправляясь от смущения, затоптался возле передовщика, не зная, что сказать.
— Ертаул! — с остывающей злостью в голосе прохрипел Пантелей. — Скоро другие придут. Поговорим!
— Татарин — не татарин? — удивленно разводил руками Алекса Шелковников и хмыкал в бороду. — Синеулька? Кто это?
Тунгус сморщил приплюснутый нос, замотал головой: не знал.
— Татарин! — желчно усмехнулся передовщик. — Коли русичи близко — должны быть и татары. Одни без других не живут.
— Так зачем туда волочься? — с жаром, оправдываясь, указал на основное русло Сивобород. — И здесь кого Бог даст встретим.
Пантелей безнадежно отмахнулся, не желая затевать новый спор.
— Струги на воду! — приказал скорбным голосом с мрачным и хмурым лицом. — Грузись! По двое с шестами, остальные бечевой…
— Туда или сюда? — смущенно спросил Лука.
— Сюда! — резко, но беззлобно вскрикнул передовщик и стал помогать молодым переворачивать струг на днище.
Чадящее кострище, островки примятого лапника, вытоптанная трава, куча приготовленного, но не сожженного хвороста остались на берегу. И снова ватага потянула свои суда вдоль берега. Пищали и луки лежали под рукой промышленных людей. Передовщик был опоясан саблей, шестовые — тесаками.
К полудню на очистившемся небе так ярко засияло солнце, что заколыхалось марево над сохнущей землей. Берег, возле которого шли струги, был пологим, покрытым песком и галечником. В сотне шагов от воды возвышался старый, невысокий, подмытый половодьями яр. После полудня, едва солнце покатилось на закат, за ним послышался конский топот и поднялось облачко пыли.
Вскоре на полном скаку на яр выскочили всадники и загарцевали у самого его края, горячась, поднимая на дыбы лошадей. Их было десятка с три, одетых в высокие шапки, в халаты, с луками и колчанами за спинами. Ползущее следом облако пыли стало накрывать конных людей. Они походили на ногайцев, с которыми донцы то воевали, то объединялись для набегов.
Двое из всадников сверкали блестящими бронями и островерхими шлемами. Встречи с воинскими людьми Пантелей Пенда ждал с утра, но опасался не нападения, а коварства и засады. Услышав топот, его люди без суеты заняли оборону за стругами. Старые промышленные, вставив тесаки в стволы пищалей, сбились в первый ряд. За их спинами с заряженными ружьями и тлеющими фитилями выстроились те, кто моложе. Пантелей, поигрывая темляком сабли, велел Синеулю крикнуть по-тунгусски, что идут они от йохов в свою землю с добром.
К дородному князцу в блестящем панцире и островерхом шишаке подъехал невзрачный всадник с пикой, что-то проговорил. Тот, не глядя на него, шевельнул редкими черными усами. Толмач с косой меж плеч закричал по-тунгусски срывавшимся голосом.
— Этот утром и был! — узнал его Сивобород.
— Какой у нас товар для мены, спрашивает, — обернулся к передовщику Синеуль.
— Скажи — соболя, горностаи, лисы… Спроси, что им нужно?
— Андаги[134], бэюн[135] — бой, иргичи[136]! — закричал толмач, приветливо щурясь против солнца.
Князец в сияющем доспехе шевельнул широкими плечами. С коней соскочили два проворных молодца, подхватили его под руки, сняли из седла, поставили на землю. Затем, поддерживая с двух сторон, помогли ему спуститься с яра. Тяжело переваливаясь с боку на бок, с ноги на ногу, князец двинулся к промышленным людям. За ним почтительно шли два молодца в халатах из блестящего шелка, в островерхих, обшитых серебром шапках. У обоих из-за одного плеча торчал лук, из-за другого — колчан со стрелами. Последним ковылял толмач.
Пантелей сбил на ухо колпак, окликнул Федотку, Ивашку и Синеуля, велел им идти за ним.
— Шапку брошу — дашь залп по конным, — приказал Луке Москвитину, оставляя его за себя.
Послы сошлись в тридцати шагах от берега. На князце был добротный камчатый халат, на груди висела чеканная серебряная пластина, замшевые черные штаны были заправлены в сапоги из рыбьей кожи. Островерхий серебряный шлем с насечкой, с круглым шлифованным камнем во лбу был надет поверх шапки из черного соболя. По широкой спине князца свисала толстая черная коса.
Оглядев передовщика в кожаной рубахе и мокрых бахилах, Федотку в поношенном суконном кафтане в подпалинах, он усмехнулся, отчего пухлые, как подушки, щеки весело дрогнули, а маленькие глаза заблестели.
Князец присел на корточки, приглашая к долгому разговору, и Пантелей тоже опустился на окатыш, по-татарски подвернув ноги и положив саблю на колени, сел так, что дородный князец на голову возвышался над промышленными, подставляя лоб под прицелы пищалей.
— Если ты, удалец, сын широкой земли, — спросил через толмачей, — где ты родился-появился? На берегу какого моря? У подножья какой горы?
— Родился я в дальней стороне! — ответил Пантелей. — На закате дня, на берегах двух морей и широкой реки Дон. На хорошем скакуне туда можно добраться за три года. А родители мои были храбрыми воинами. При крещении получил я имя Пантелемон, друзья же зовут Пендой.
Показывая удивление, один глаз князца закрылся бровью, другой стал круглым, как срез ствола.
— Я родился в восточной стороне, у подножья пяти гор, у истоков лесного родника, — в свою очередь поведал он. — Скот и панцирь получил от достойных родителей племени булагат, с известным своим именем, с громкой своей славой, — перевел его слова на тунгусский язык бывший при нем толмач, а после Синеуль. — А зовут меня Баяр-баатар!
Переспросив, откуда и куда идет ватага и долго ли находится в пути, он в изумлении покачал тяжелой головой, посаженной меж широких плеч без шеи, и сказал:
— Для человека, рожденного сильным, земля — для того чтобы по ней разъезжать. Для человека, рожденного слабым, земля — для того чтобы сиднем сидеть!
После этого он почтительней стал выспрашивать, велика ли страна, откуда прибыли промышленные, кто у них хан и сколько у него ясачных народов?
Передовщик отвечал, что царь у них милостивый и всесильный, подданных у него без счету, а землю вокруг никто еще не объезжал.
Говоря о своем царе, Пантелей встал и поклонился на закат. Князец, думая, что толмач оговорился, раз и другой переспросил — три года или три месяца? Удивился, услышав настойчивый ответ, тяжело поднявшись, поклонился на запад, сказал, что его хан тоже всесильный и владеет многими народами, а пути к нему три месяца. После этого он поклонился на восток.
Передовщик, выслушав толмача, тоже поклонился на восток. И стали они с князцом друг у друга спрашивать через толмачей о здоровье царей и о здоровье их родственников, воинов и скота. Поговорив о царских делах, снова присели и приступили к заботам дня.
Пантелей пояснил, что они идут от йохов, ищут похожих на себя людей, а йохи указали, что такие люди живут где-то в верховьях реки. И даже называли их братами.
Глубоко вздохнув, князец покачал тяжелой головой:
— Они указали тебе землю, где ты не найдешь счастья, но узнаешь много бед. Людей с бородами до пупа наши данники недавно видели к закату на Мурэн[137] и Илэл-реке.
Передовщик стал выспрашивать, а князец охотно рассказал, что в полудне пути отсюда есть исток реки и течет она то на север, то на закат. В низовьях той реки есть люди с большими бородами и круглыми глазами. Пантелей стал спрашивать, какого цвета у тех людей волосы и бороды. Князец пошарил рукой в траве, отыскал прошлогодние желтые стебли и насмешливо приставил к подбородку, где курчавились редкие черные волоски.
Довольный обстоятельным ответом, передовщик стал выспрашивать про хлеб и про волок. Много ли возьмут за труды здешние народы, чтобы перетащить струги в реку Илэл? Князец предусмотрительно объявил, что надо смотреть рухлядь. Его интересовали соболя и лисы.
Передовщик приказал стоявшему рядом Ивашке, а тот крикнул ватажным у стругов:
— Семейка, принеси-ка нынешних соболей и лис!
Видя, что разговор идет мирно, многие из всадников спешились или разлеглись на крупах коней и отпустили поводья, давая им щипать траву, ватажные присели на борта стругов. Оружие держали все в руках и фитилей не гасили. Молодой устюжанин вытащил кожаный мешок, вынул из него соболий сорок. С тесаком на боку, с топором за спиной подошел к послам, подал меха.
Пантелей потряс примявшихся соболишек. От него не укрылось, как загорелись глаза князца и его спутников. А соболя были не лучшие, рыжеватые, по мангазейским ценам рублей по шесть за сорок. Сняв со снизки лучшую рухлядь, он одарил князца с послами тремя соболями и красной лисой.
— Если добро человеку сделаешь — не забудется до окончания века, — сказал князец, тяжело вставая. — Если зло сделаешь — до конца жизни запомнится!
Хорошие, умные слова говорил Баяр-баатар, но прибыльных торговых дел в одиночку и торопливо не решал. Он пригласил промышленных на свой стан. Стороны разошлись, довольные друг другом. Восемь всадников спустились верхами к воде, бросили бурлакам концы волосяных арканов. Те связали их со своими бечевами и пошли берегом налегке с пищалями и луками. Остальные всадники при князце поддали под бока застоявшимся лошадям и умчались галопом, подняв клубы пыли с просохшей земли.
Струги гужом пошли против течения. Ватажные на шестах едва успевали отталкивать их от берега.
— Фитили гасить! — приказал передовщик. — Пищали — при себе, трут держать под рукой. Друг от друга не отставать.
— Не обидим ли недоверием? — с сомнением покачал головой Лука.
— Лучше обидеть, — буркнул передовщик, — чем, показав слабость и доверчивость, соблазнить к нападению.
Старый Лука пожал плечами, дескать, тебе видней — ты перед нами и перед Богом в ответе.
Вдали от берега реки, которую тунгусы называли Елеуной, а булагаты Зулхэ, показалась обширная, вытоптанная до черной земли поляна. На ней стояли пять просторных приземистых юрт, крытых кошмой, несколько круглых деревянных домов, рубленных в шесть стен, загоны, лабазы. На берегу против селения был сложен из камня жертвенник. Синеуль, без устали болтавший с толмачом, сказал, что балаганцы называют его «бариса», а их шаманы зовутся «боо». Здесь они приносят жертвы Ажарай-бухэ, по русским понятиям — и водяному дедушке, и казачьему Егорию разом.
На плотно уложенной куче камней лежали ленты и шкурки белок. Ватажные, к удовольствию всадников, бросили на нее пару горностаев. Передовщик внимательно осмотрел селение и его окрестности. Всадники, смотав волосяные арканы, ускакали к большой белой юрте на пригорке и там спешились. Возле юрт и загонов оседланными не было и половины из тех коней, на которых ватажные видели воинских людей.
— Не один, видать, стан у них! — щурясь против солнца, оглядел селение Лука. — Могли и за подмогой разъехаться.
— Могли! — согласился передовщик. — Бог не без милости, степняк не без коварства.
Хотя вокруг по хребтам гор были дремучие леса, но всеми манерами, видом и жизнью встреченный народ походил на кочевых жителей степей.
— Торопливых бесед здесь, видать, не любят, — кривя губы от былой обиды, Пантелей обернулся к столпившейся у стругов ватаге. — Просторных хором для нас нет. А дело к вечеру! — прищурился на катившееся к закату солнце. — Спустимся-ка мы к лесу, что перед мысом, — указал на густой сосновый колок с выщипанной до самой земли травой. — Срубим засеку и заночуем.
Едва ватажные высадились на берег и стали рубить деревья, к ним из селения прискакали два всадника. Погарцевав возле табора, они сошли с коней, передовщик отправил к ним для разговора Луку с Синеулем.
С почтением поглядывая на сивую бороду старого промышленного, посыльные сообщили слова баатара и его брата, что нынче время позднее, солнце закатывается, сумерки наступают. А завтра, как только поднимется на небо круглое красное солнце, Баяр-баатар и его народ будут ждать гостей на пир, чтобы поговорить о делах и силу рук своих испытать.
Всадники отвязали от седел по свежему телячьему стегну и передали путникам на ужин. Лука с Синеулем вернулись к табору, сгибаясь под тяжестью мяса. Ватажные, разглядывая его, большой радости не проявляли: полпуда проса или овса были для них желанней.
Передовщик раз и другой переспросил Синеуля о словах посыльных людей. Его интересовали многие мелочи, которым толмач не придал значения. Несколько раз он переспрашивал, как называет себя этот народ. И удивлялся, что зовут себя здешние люди то «балагат», то «быраат». Интересовало передовщика и то, как их толмач и посыльный называли их, русских ватажных. Цепкая память Синеуля запомнила слово «мангад».
В сумерках промышленные навалили деревьев верхушками в разные стороны от стана, заострили сучья, защищающие от налета всадников. Струги были на виду. С одной стороны к засеке примыкали песчаный мыс и река, с двух других сторон подходы просматривались на выстрел. И только с запада, лесом, можно было подкрасться к стану шагов на тридцать.
Не напоминая об утренней распре, передовщик сухо распоряжался, кому разводить костры, кому нести дрова, кому готовиться в ночной дозор и где стоять. Он поглядывал на братский стан и все думал, какой тайный умысел мог быть в словах посла, приглашавшего на пир и состязание, а потому то и дело переспрашивал Синеуля, которому надоело говорить одно и то же.
— Не знали, что нас так много, — советовался с Лукой Москвитиным, Федоткой и Сивобородом, — хотели напасть и пограбить. Явно… Увидели силу, зазвали к себе. Кабы хотели перерезать ночью, стали бы сейчас угощать и расселять по разным местам. Про состязание не обмолвились бы. Или, по-вашему, не так?
Думали ватажные, но не смогли ничего прояснить для казака. Темнело. Из засеки видно было, что на стане готовятся к празднику: возле костров метались тени, пахло паленой шерстью, при свете огня женщины в просторных халатах и белых тюрбанах перебирали внутренности забитых животных.
— Морда у князца будто знакомая! — морщил лоб, пытался что-то вспомнить Лука. — Где-то я видел его! А где?
— И мне так сперва почудилось! — вскинул удивленные глаза передовщик. — В ополчении, под Нижним, татар, черемисов много было. Думал, вдруг там встречал кого похожего.
— Каши бы! — проворчал Сивобород, длинным ножом срезая с костей дареное мясо.
— Масло коровье у них есть! — шепеляво укорял ходивших в посольство Михейка Скорбут. — Нет бы сказать, чтоб прислали.
— Сказывали нам деды, — тихо говорил Лука Москвитин, глядя в звездное небо, — а они от своих дедов слышали, что во времена стародавние Русь, Дикое Поле и ногайская степь жили одним законом и одними царями. Сдается мне, браты те законы помнят. — Помолчав, хмыкнул: — Ну где я мог видеть князца или его близкого родственника?
Вдруг приподнялся на локте Угрюмка, скинул одеяло, сел, восторженно озираясь по сторонам.
— Вспомнил! — вскрикнул радостно. — Вспомнил — где! На золотой бляхе, что у Ивашки!
Удивляя туруханских и гороховских покрученников, загалдели холмогорцы и устюжане. Кто крестился, кто к ночи поминал нечистого. Передовщик с облегчением тоже вспомнил золотую голову с вислыми щеками и вольготней вытянулся у костра.
— Неспроста знак! — зевнул, глядя в небо. Помолчал и приказал: — При братах о том помалкивать.
— Хорошо бы про золото да про серебро попытать, — пошевеливая угли веткой, сказал Федотка. — Сами ли добывают и чеканят? У князца серебряный пояс видели?
— Сам и спросишь! — снова зевнул передовщик. — Завтра с Семейкой и с Ивашкой оденетесь во все лучшее и пойдете на пир. Синеульке у их толмача выспросить с опаской — что такое «мангад».
На синем небе заалела утренняя заря, а когда над рекой поднялось солнце, к засеке на вороном коне подъехал всадник в высоком блещущем шлеме. На его наборном серебряном поясе висела кривая ордынская сабля. Стройный и сухощавый, как тунгус, при первой встрече с промышленными он тенью держался за плечом дородного князца, теперь же приближался к ним с важностью начального человека. Чуть позади за его спиной рысили два всадника с пиками.
Передовщик перетянулся кушаком поверх тунгусской кожаной рубахи, надел стоптанные красные сапоги, взял саблю, поправил казачий островерхий колпак. Лучше приодеться было не во что. Синеуль, стоявший в дозоре с середины ночи, успел немного поспать. Он протер глаза и был готов идти на пир. Тунгусу собраться — и подпоясываться не надо.
Всадники спешились у засеки. Передовщик и Синеуль вышли к ним. Обменявшись приветствиями, Пантелей провел их на стан, с почетом усадил у костра. От рыбы и печеной утятины гости брезгливо отказались, без удовольствия попробовали печеного мяса. Уходить они не собирались, показывая, что намерены остаться почетными заложниками.
О том, требовать ли аманатов, Пантелей много думал и теперь, мысленно поблагодарив Господа, удивлялся, что браты знают законы и этикет Дикого поля, хотя между ними и Волгой-рекой путь не мерян.
Он решил взять с собой на пир молодых устюжан и Федотку Попова. Будто вспомнив о чем-то, окинул оценивающим взглядом Угрюмку в добротном зипуне и сбереженных сапогах, но позвал Луку Москвитина. Наказав развлекать и угощать знатного гостя, почетные послы вышли из засеки.
Захрапел, злобно кося глазом, вороной жеребец, забил копытами. На миг остановился возле него передовщик, залюбовался конем, гордо задравшим голову на длинной шее, жадно втянул в себя его запах и, не оборачиваясь, зашагал к юртам. За ним спешили седобородый Лука, толмач да молодые промышленные. День обещал быть жарким. В выщипанной траве весело стрекотали кузнечики. На решетчатых стенах юрт был задран войлок. В тени благодушно ждали пира жители стана.
Перед белой юртой, слева и справа от ее входа, в двух кострах горел кизяк. С обеих сторон у войлочной двери стояли по пять молодых воинов в цветных шелковых халатах с саблями в руках. У коновязи всхрапывали, били копытами оседланные кони.
Пройдя между почетных шеренг и костров, передовщик напомнил:
— На порог не ступайте!
Промышленные учтиво вошли в прохладную, богато убранную юрту. На шелковых подушках сидел князец Баяр-баатар без доспехов, с кривым кинжалом, заткнутым за серебряный пояс. На голове его была шитая золотой нитью островерхая шапка с блестевшим камнем, оправленным в серебро. Без боевых доспехов лицо баатара еще больше походило на голову степняка с золотой бляхи, чудным образом доставшейся Ивашке Похабе под Тобольском.
Рядом с князцом важно восседали родственники, малолетние сыновья с племянниками. За их спинами возлегал на подушках шаман с бубном. Он заметно отличался от тунгусских шаманов и жрецов-йохов, хотя и по лицу видно было, что братский боо[138] не здешнего грешного мира воин.
Пантелей через Синеуля, а тот через братского толмача стали спрашивать о здоровье князца, его семьи и народа. Не показывая недоумения, промышленные то и дело воротили глаза на серебряный крест, висевший в юрте со стороны заката. Князец заметил любопытство пришельцев и сам смешливо разглядывал стертые деревянные кресты на их шеях. Его полные щеки подрагивали, глаза лукаво блестели.
Когда закончились ритуальные расспросы, в юрту вошли женщины в шелковых халатах и белых тюрбанах. Они стелили крашеные кожи между сидевшими, на них выставляли деревянные и серебряные блюда с мясом, с ягодой, с вареным овсом, множество молочных яств.
От духа каш и вида соли в плошках у молодых промышленных кружились головы. Лука с Пантелеем делали вид, что равнодушны к пище. Лица их были строгими и сосредоточенными, они мысленно читали молитвы.
Передовщик отметил про себя, что тунгусский язык понимали многие из собравшихся. Поглядывая на лица людей в юрте, он неспешно рассказывал про промыслы и про народы, с которыми встречался в пути. Синеуль передавал его слова по-своему, братский человек переводил для князца. Его то и дело поправляли сидевшие вокруг родственники, а своего толмача поправлял Пантелей Пенда.
Поглядывая на серебряный крест, висевший на войлочной стене, Пантелей наконец начал разговор о том, что много слышал в пути о народе со светлыми глазами и волосами, который живет в здешней стороне, где-то возле реки Елеуны-Зулхэ. Братские люди стали переговариваться между собой. Синеуль крутил головой, постреливал глазами, стараясь понять спор без их толмача.
За всех споривших с важностью ответил князец, что таких людей знали в старые времена, а теперь они перевелись: одни ушли встреч солнца, других, с бородами до пупа, как он уже говорил, видели весной в низовьях больших рек. Они там дрались с желтыми шаманами.
— С желтыми боо[139] сильно спорят, — опечаленно подтвердил слова князца сидевший за его спиной шаман в кожаной рубахе, обшитой беличьими и горностаевыми хвостами.
Указывая глазами на деревянные кресты на шеях промышленных и на серебряный крест, к которому гости проявили интерес, князец добавил:
— Этот крест перешел в мой дом от предков матери из племен кэрэитов[140]. У них была белая вера в смертного человека, ставшего бессмертным богом.
Опять ничего не понимая, Пантелей опустил голову. Заметив удивление на его лице, князец что-то досадливо прорычал себе под нос и громко чихнул, дернув пухлыми, лоснящимися щеками.
— Черные, желтые, белые… Уй! Надоели все! — перевел его слова Синеуль, скорчил такое же лицо и так же тряхнул лохматой головой. В юрте приглушенно рассмеялись. Улыбнулся и баатар, удостоив толмача насмешливого взгляда.
За едой промышленные узнали много полезного о народах, живущих к полудню и к восходу, узнали и самое важное на нынешний день: хозяева кочевого стана имели запас проса и овса.
После еды, поблескивая насмешливыми щелками глаз, князец с важным видом стал рассуждать:
— Мужчина хорош в молодости; козлятина хороша свежесваренная. Мужчина добьется задуманного; женщина сошьет скроенное! — Он дал гостям подумать над сказанным, и Пантелей понял, что сейчас будет сделано какое-то важное предложение. Князец качнул головой на крепкой, как пень, шее: — Пора испытать силу наших рук!
Родственники весело загудели и стали выходить из юрты. Они ободряли широкоплечего молодца в коротком халате, туго перепоясанном кушаком. Передовщик понял, что князец выставляет против него борца.
— Не обожрался? — строго спросил Семейку Шелковникова. — Натощак легче бороться.
— Ничо! — примериваясь взглядом к дородному поединщику, пробубнил тот. Не было в лице молодого устюжанина ни робости, ни насмешки над противником.
— Наше дело гостевое! — напомнил Пантелей. — И зашибить нельзя, и слабость показать опасно. Надо примучить, сил лишить. А мы уж помолимся!
Под восторженные возгласы борцы сошлись. Они долго топтались друг возле друга. Наконец, балаганец схватил Семейку за рукав льняной рубахи и оторвал его. Сопрела рубаха на теле за годы промыслов.
Поймал и Семейка противника за одежду. Бросить на землю дородного молодца не смог, но халат содрал и обнаружил под ним скользкое, смазанное жиром тело. Вскоре он сам остался без рубахи, с лохмотьями, висящими на поясе.
Лука, Ивашка и Федотка сначала тихо, потом в голос стали намаливать: «Помогай, Господи!» Пели они все громче, укрепляя дух Семейки, все распевней, так, что русский борец стал приплясывать.
По другую сторону от поединщиков сел шаман с бубном, застучал пальцами по натянутой коже. Ватажные стали открыто креститься и кланяться на восток. Молодой балаганец разъярился, его черные волосы встали дыбом, зубы заскрежетали. Потный и багровый от ярости, он взревел, как раненый бык, с мутными от гнева глазами.
Князец поднял руку, и борцов растащили.
— Силой наших рук нам друг друга не одолеть, — заявил он и оправдался: — Черному боо[141] духи не помогают — бубен оживлять надо. Желтый боо подвески сломал. Наш кузнец помер, за другим послали — не приехал. — Баатар важно повел бровью и объявил: — А теперь мы испытаем скорость наших стрел, меткость больших пальцев!
Ивашке дали оседланного коня, он галопом съездил в засеку за луками и стрелами. Степняки отмерили расстояние в пятьдесят своих длинных, почти в рост человека, луков. Каждый стрелок положил на землю или повесил на кольях по два кожаных мешочка с шерстью.
Первыми выстрелами все стрелки попали в цель: кто в край, кто в середину. Для тех, кто стрелял точней — цель приблизили на тридцать луков. Когда на расстоянии в десять луков повесили мешочки величиной с кулак, среди стрелков остались князец с поющей стрелой[142] и передовщик Пенда — с боевой.
Заклиная стрелу, баатар долго бормотал над зарубкой и наконечником, потом резко вскинул лук, натянув тетиву до плеча, прижался к ней плоским носом, раздвоив его пополам. Пропела стрела и попала точно в середину цели.
Перекрестившись, вскинул лук передовщик, прицелился и, спуская тетиву, понял, что в середину не попадет — не так уж часто, как в прошлом, стрелял он в Сибири, а лук этого не любит. Стрела пронзила цель по нижнему краю.
Хозяева радостно зашумели и весело повели гостей в ту же белую юрту, где заново были выставлены кушанья. Борцам и стрелкам женщины подкладывали подбрюшный и подгривный жир, Пантелею с Лукой налили молочной водки — архи, молодым — заквашенного молока. Князец весело поднял заздравную чашу.
— Пусть у твоей коровы-трехлетки размножится скот на три загона. Пусть у твоего сына-трехлетки родится тридцать удальцов с колчанами! — пожелал гостю.
Поклонившись на три стороны, передовщик пожелал всему роду Баяр-баатара здравствовать и процветать, выпил — будто пылавший уголь проглотил, но не подал виду, что в горле пожар.
Вторую заздравную чашу назвали арзой[143]. Посмотрел Пантелей, как опрокинул ее князец, как от выпитого один его глаз накрылся бровью, другой стал круглым как у быка.
— Шамай-ханай![144] — просипел он, морщась и мотая головой.
Передовщик перекрестил грудь, перекрестил чарку, степенно выпил, и, когда выдыхал воздух, показалось ему, будто из ноздрей рвется пламя. Лука же Москвитин, закатив глаза, сидел с таким видом, будто готовился помереть.
Самодовольно крякнув, князец объявил, что по их закону заставлять пить арху с арзой — большой грех, и если он предложит гостям выпить по третьей чарке, все его осудят. Но если они сами захотят, то он тоже выпьет.
Сытые и опьяневшие люди стали задумчивы и вялы. Шаман-боо прилег на почетное место, поставил рядом с собой кувшин с водой, задумчиво закрыл глаза, запел протяжно и вдохновенно про подвиги молодого Аламжи-мергена, ставшего великим ханом, о богатыре, который родился хозяином богатой земли и на горе из чистого серебра построил серебряный дворец.
С закатом вечернего солнца все пировавшие стали расходиться. Уходя в засеку, Пантелей велел сказать Синеулю для боо — черного шамана, что среди ватажных есть кузнецы и они помогут сковать что надо.
На другой день боо сам прискакал к засеке на добром коне и привел двух коней в поводу. Передовщик с Лукой Москвитиным уехали на братский стан. Выковав нужные шаману подвески и фигурки людей, промышленные изрядно удивили всех бывших на стане. Оказалось, что здешние жители почитали кузнецов наравне с шаманами.
В тот же день передовщик договорился с князцом купить соль, просо, коровье масло и сушеный творог, чем явно обрадовал его родственников. Еще он просил за плату дать ватаге лошадей и вожа, чтобы осмотреть волок в реку Илэл.
Луку с Пантелеем привели под навес из жердей и показали им мешки с зерном, которое погрызли мыши. И было того зерна пудов с тридцать. Его тут же сторговали на соболей, погрузили на коней и доставили в засеку.
На другое утро два косатых молодца прискакали верхами и привели трех оседланных коней. Пантелей, Федотка и Синеуль уехали смотреть волок, а ватажные устроили на берегу баню по-промышленному, парились, мылись, стирали, отдыхали и веселились, отъедаясь кашей с коровьим маслом.
* * *
На Федора Стратилата Божьей милостью да братской помощью ватага волоклась к верховьям реки Илэл. Провожали ее сам Баяр-баатар со своим сухощавым братом, похожим на тунгуса и боо черной веры при ожившем бубне.
— Пусть удача с вами пребудет в той земле, куда вы направляетесь! — напутствовал князец, сидя в седле жеребца, шаловливо перебиравшего копытами под всадником. — Пусть счастье вам сопутствует в той земле, где вы окажетесь! — Баатар чуть дернул узду, и жеребец нетерпеливо крутнулся на месте, повернув хозяина к гостям толстой косой на широкой спине. За ним, как тень, ускакал к реке брат в блещущем панцире.
Лето вышло на самую жару и на овода, а солнце уже покатилось на мороз и зиму. Дул теплый, летний ветер — полуденник, гнал комаров и мошку. Споро шли коренастые братские лошадки, струги скрежетали днищами по камням и корням. После соленой каши из проса с коровьим маслом легко передвигались ноги ватажных. Вспоминая непростые отношения казаков со степняками, Пантелей дивился здешнему народу, тому, что так и не дождался от него коварства и обмана.
— Дай Бог такого соседства и промышленным, и пахотным! — кивал на сопровождавших ватагу молодцов.
Толмача среди них не было, но всадники понимали Синеуля и промышленных, с пятого на десятое говоривших по-тунгусски. Чего люди не могли сказать — объясняли знаками.
— Спрашивал я, как они нас зовут! — ухмыльнулся толмач, кривя безволосые губы. — «Мангад» у них — враг и чужеземец.
— Чужеземец — всегда враг? — приглядывая за скрежещущими по земле стругами, переспросил его Пантелей.
Синеуль уже изрядно говорил по-русски, но не все мог объяснить. Посмеиваясь и бросая на передовщика насмешливые взгляды, добавил:
— Нет! Мангад — вечный враг всех времен. Мангадхай — зверь в шесть сотен голов, что жерди…
Услышав знакомые слова, возницы обернулись, заулыбались безбородыми лицами.
— У-у-у! — весело подвыл один, выставляя над головой растопыренные пальцы. — Мангадхай!
Катилось по небу солнце, пели птицы, радуясь теплу и обильному корму, храпели, мотали гривастыми головами лошадки, упираясь на подъеме. Под их гладкими шкурами буграми вспучивались мощные жилы.
— Диво дивное! — перебрасывались шутками ватажные. — Столько лет на себе струги волокли, а тут ползут в гору, милые, да еще впереди нас. Едва поспеваем следом…
Караван перевалил через хребет и скатился к лесу. Здесь в чащобе и буреломе петлял ручей, стекавший к реке. Разбитая конная тропа уходила по хребту в полуночную сторону. Чтобы спуститься со стругами в падь, надо было прорубаться сквозь лес. Передовщик не стал задерживать при себе лошадей: одарил и отпустил возниц. Довольные друг другом и нечаянной встречей, они расстались.
Осматривая долину реки, уходящей за край неба, ватажные крестились и радовались:
— Нам бы только до большой воды добраться. Вдруг этот ручеек и приведет к Туруханскому зимовью.
— Струги переворачивай! — кивнув им, приказал Пантелей.
— И то правда! — засуетился Лука, стал помогать выкидывать поклажу из лодок. — Каждый камень на горе будто по сердцу скреб, — пожаловался, осматривая днища судов после волока.
Передовщик поколупал пальцем смоленые щели, попинал пяткой борта:
— Вроде Бог милует пока! Но смолить придется заново.
И по длине, и по ширине струги были непомерно велики для ручья, терявшегося в кустарнике, камнях и мхах. Гороховцы с топорами пошли очищать волок к ручью. Туруханцев с луками и пищалями Пантелей послал смотреть русло до мест, явно проходимых. На обратном пути велел им чистить ручей от камней и бурелома, старикам-складникам — Луке с Гюргием Москвитиным да Алексе Шелковникову наказал курить смолу и готовить ночлег. Сам же, бросив саблю в струг, начал тесать зарубки, указывать, какие деревья валить, где корни подрубать, где кустарник выдирать.
Как ни долог был летний день, но и он кончался. Стала разгораться заря вечерняя, длинные тени легли на восход, зароились не сильно донимавшие на хребте вездесущие комары. С гор потянуло ночной свежестью. В сумерках люди потянулись к костру, разведенному стариками. Они успели очистить ручей шагов на сто. На пологом склоне, с берегов, суженных вывалами, поставили плотину из бурелома и дерна. Стала скапливаться возле нее вода.
К ночи, уже в темноте, вернулись гороховцы. К передовщику подошел Сивобород с черным, как уголь, лицом. По обычаю старых сибирцев он вымазался дегтем, чтобы не донимал гнус. Он сказал, что ходу до чистой воды — поприще. Издали ертаулы видели проходимую реку, излучину и урыкит. Сивобород послал к тунгусам Синеуля, и пока его люди чистили ручей, толмач бегал к сородичам, но толком ничего от них не узнал и вернулся без креста на шее.
— Где крест? — строго спросил его передовщик.
— Повесил на сучок, когда ходил к тунгусам, и забыл, — неохотно ответил толмач. Он был хмурым и усталым.
— Отчего крест с шеи снял? — загалдели старики, суеверно крестясь. — А если Господь за твой грех со всех взыщет?
Пантелей отмахнулся от них, стал расспрашивать про свое, насущное:
— Что за народы там живут и кочуют? — кивнул в сторону урыкита.
— Булэшэл-враги! — презрительно цикнул сквозь зубы толмач.
— Кто такие?
— Икогиры[145].
— Ты же говорил, они ваши ибдери? Что от родни-то воротишь плоский нос?
Синеуль метнул на передовщика гневный взгляд. На миг обозначилась на его лице прежняя скорбная личина, с которой когда-то пришел в ватагу, но тут же растянулись в усмешке губы, сверкнули острые зубы.
— Они от меня свои плоские носы воротят! — сплюнул и выругался по-казацки.
Ватажные рассмеялись. Поддержанный, Синеуль вскрикнул:
— Совсем тупые у них головы. Говорят со мной, как с чужаком. Я им не чибара.
— Какой же ты ясырь? — ободрил толмача Пантелей. — Не аманат даже. Сказал бы, что толмач — первый человек после передовщика и пайщиков.
Неволить Синеульку промышленные не стали: что бы ни было впереди, а назад им уже не повернуть. Где пойдет река — там и придется плыть. С неделю люди прорубались сквозь лес, поднимали в ручье воду плотинами и, наконец, поплыли по течению.
Струги прошли мимо урыкита, куда Синеуль наотрез отказался идти. Крест свой он не нашел. При встречах икогиры не показывали враждебности, приветливо махали руками и зазывали для мены. Гребцы радовались, что пришел конец великим трудам! Течение несло струги от переката к перекату, и только на них да на отмелях людям приходилось мокнуть, протаскивая суда на глубину.
По девять человек в каждом струге — тесно. С поклажей, с мешками рухляди и припаса — иногда нестерпимо тесно. Где можно было угнаться за плывущими, свободные от гребли бежали берегом.
Степенно несла свои воды река. Ватажные стали привыкать к безделью и тесноте. Шестеро на веслах, по кормщику да по паре захребетников, теснящихся кто на корме, кто на носу — и так в каждом струге. Где позволяли глубины, гребцы, сменяя друг друга, налегали на весла, спешили к Енисею.
На просторных лугах кочевые народы выпасали скот и оленей. Можно было расспросить их, куда течет река, что за люди живут в ее низовьях, но Синеуль, как кот, цеплялся за весло или за борта, он соглашался лишиться пая, а на берег не шел. Правда, и принуждать его к тому большой надобности не было: самые недоверчивые из промышленных видели, что плывут они на закат и не той рекой, по которой поднимались.
Смутное беспокойство стало одолевать стариков, им казалось, что слишком уж легко проходит день — а это не к добру. Перед всякими бедами Бог попускает людям, будто забывает про них, а нечисть завлекает. Беда и грех один без другого не живут, а грехов-то на них на всех было много.
Старики беспрестанно молились, пели псалмы. Когда они уставали, молодые заводили песни про славного атамана Ермака. Ночами ватажные ловили рыбу, которой в реке было множество: осетра, сига, щуки, вечерами и по утрам копали съедобные корни, драли заболонь, приберегая остатки проса на постные дни.
С большими предосторожностями струги прошли мимо ревущего порога и попали в полноводную реку, бегущую между высоких гор. Она была очень широкой, на стрежне гуляла шалая волна, а борта тяжелогруженых стругов лишь на ладонь поднимались над водой. И снова откуда-то доносились гул и рокот. Струги шли с опаской, прижимаясь к берегу. Вскоре гул стал отдаляться.
И так плыли они несколько дней. Однажды. глазастый Ивашка Москвитин, сидевший захребетником на носу, вскрикнул, указывая вдаль, на высокий яр:
— А это что там?
Задрав весла, гребцы обернулись. Кормщики выискивали глазами, на что указывал молодой устюжанин. Угрюмка с другого струга тоже что-то увидел на яру.
— Кол торчит! — подсказал дружку.
— А что шевелится? — заспорил Ивашка и встал на колени, приложил ладонь ко лбу.
— И правда — шевелится! — чертыхнулся Пантелей, тоже разглядев что-то непонятное. — Может, тунгус рукой машет?
— Наверное, девка с распущенными волосами! — крикнул Ивашка. — Стало быть, тунгуска Синеульку зазывает.
Гюргий Москвитин смотрел-смотрел, щурясь, да и спросил с сомнением:
— Не поп ли там стоит?
И умолк смех, гребцы налегли на весла так, что жилы буграми заходили по спинам. Волна стала захлестывать низкие просевшие от тяжести борта. Передовщику пришлось прикрикнуть, чтобы гребли полегче. Захребетники ерзали от нетерпения, вглядываясь в приближающийся яр.
Когда у них и у кормщиков, сидевших лицами вперед, не стало сомнений, что на яру стоит бородатый, длинноволосый мужик в скуфье, тот махнул рукой и пропал с глаз. Приметив расселину с тропинкой к воде, передовщик велел пристать к берегу. Один за другим струги ткнулись в мелкий окатыш, захрустевший под днищем.
С яра никто не спускался, на нем никто не показывался. Промышленные вышли на сушу, бренча галечником, разминали затекшие ноги, задирали головы. Потревоженные стрижи высыпали из множества норок в высоком яру, тревожно взвизгивая, носились над головами ватажных.
Долгое безлюдье стало всех удивлять. Пантелей приказал вдруг:
— Высечь огонь. Раздуть трут! Разобрать пищали, тесаки, луки! — И добавил мягче: — Вдруг коварство?
— Да поп же… — заспорили было холмогорцы. — И князец говорил про бородатых…
— Сколь вас Москва ни разоряла, ума-то не прибыло! — обидно упрекнул новгородцев передовщик. — А как попа поймали да принудили к яру подойти… А теперь ждут, что мы побежим за благословением безоружны, как бараны на бойню?
Смутили холмогорцев жестокие слова. Удивлялись они, рассуждая между собой: крепко татары научили казаков всякому коварству. Люди не спеша высекли огонь, раздули трут, подсыпали затравки на пороховые полки пищалей, окружили передовщика.
— Не встречают! — с леденящей улыбкой он задрал бороду к яру. — Придется самим идти! Устюжане — со мной наверх, холмогорцы и покрученники — струги караулить. — Взглянул на Угрюмку с Синеулем: — И вы со мной!
Вдруг послышались шаги и приглушенный говор. Еще не разобрать было слов, но, словно перезвон ручейка, улавливалась в нем напевная русская речь. На тропинке показались два долгобородых, долгогривых попа. Оба были одеты в подрясники из кож, головы их покрывали черные скуфьи. Они осторожно ступали друг за другом и несли в руках длинную, плетенную из зеленых прутьев корчагу. Остановились, увидев промышленных. Видно было по их лицам — не ждали встречи, но и не удивились, что перед ними свои, русские люди.
— Так это же наши Герасим с Ермогеном! — вскрикнул Угрюмка. — Те, что с Ивашкой в обозе шли.
Загалдели устюжане с холмогорцами, признав своих давних знакомцев, живших с ними бок о бок на кочах, когда плыли от Верхотурья до Тобольска. Низко поклонились им, скинув шапки. И монахи, бросив корчагу, весело поклонились ватаге, касаясь руками земли.
Сивобород же, выпучив изумленные глаза, онемев и оглохнув, постоял с разинутым ртом и рухнул ниц, хрястнув лбом по зашуршавшему галечнику. Следом за ним попадали гороховцы. Когда устюжане с холмогорцами стали радостно обнимать монахов, все они оправились от нечаянного испуга, начали смущенно подниматься и отряхиваться.
— Уф! — отдувался Сивобород. — Гляжу, спускаются с неба благочинные. Все, думаю! Послал Бог по мою грешную душу. Ну, батюшки, напугали, — посмеиваясь над собой, подошел за благословением.
Ермоген торопливо накладывал руки на склоненные головы, благословлял направо и налево. Герасим обнимал подходивших к нему за благословением промышленных и весело оправдывался: «Я дьякон, хоть и черный».
— Вы-то откуда появились? — спрашивал.
Были у монахов обветренные, объеденные гнусом, обожженные солнцем лица. Лесная одежда из кож висела на них неряшливей, чем на старых сибирцах, руки были мозолистыми, и только глаза сияли светом, какого не бывает у промышленных людей.
— Сколько же с вами народу? — получив благословение, спросил Лука Москвитин.
— А двое мы! И вся небесная рать! — весело ответил иеродьякон Герасим. Глаза его сверкнули. — Вы-то откуда?.. От Енисейского зимовья идете на промыслы? — переспросил удивленно. — Вроде недавно смотрел на реку. Никого…
Ватажные поняли вдруг, что монахи не знают, откуда они и куда плывут.
— С верховий! — часто закрестился Лука, будто отмахивался от назойливого комара. — От Туруханского по Тунгуске-реке поднимались три лета.
— По Елеуне сплывали и волоклись.
— Теперь с верховий здешней Илэл-реки плывем. С добычей! — наперебой говорили обступившие знакомцев складники.
Монахи удивленно переглянулись.
— Сколько ни пытали промышленных — никто не признался, что доходил до верховий Тунгуски, — смущенно пожал плечами Ермоген.
— Послухи сказывали, что где-то здесь, поблизости, есть старый сибирский тес, по которому исстари, тайком от служилых, наши люди ходят встреч солнца. Но те, что так говорили, только по ближайшим притокам промышляют, вот и думали мы, грешные, — может, первыми идем! А тут вы!
За те годы, что устюжане с холмогорцами и Пантелей с Угрюмкой не виделись со своими бывшими попутчиками, они стали походить друг на друга больше, чем братья по плоти. И если начинал говорить один, подхватывал и продолжал его мысль другой.
— Ну и встреча! — поглядывал иеромонах на незнакомых, оттесненных туруханцев и гороховцев. Улыбнулся, ободряя их. — Теперь разговоров на весь день. — И попросил обступивших его людей: — Поставим корчажку да пойдем к нашему костру, что ли?
— Правда, кроме котла и топора, у нас нет ничего, — признался Герасим.
Ватажные решили приветить дорогих людей возле стругов, развели костры, стали варить кашу, неторопливо расспрашивали о пути до Енисея. Монахи рассказали, как жили в Сургутском, потом в Нарымском острогах. Поведали, как шли через Пегую Орду с отрядом казаков и стрельцов, как поднимались по Кети-реке. Прошлый год осенью в ее верховьях их осадили немирные роды. И ставили они с казаками Маковское зимовье с частоколом, оборонялись всю зиму.
Весной по наказу томского воеводы казаки со стрельцами вышли на Енисей. На старом тайном волоке, неподалеку от скита старца Тимофея, по государеву указу начали ставить острог. Им из Сургута был прислан белый поп, а монахам — разрешение: проповедовать слово Божье дальше к востоку. Ермоген же с Герасимом по льду перешли реку и поднимались левым берегом Верхней Тунгуски. Подолгу среди здешних народов не жили: те дольше недели на одном месте не стоят.
— А народы добрые, на Божье слово отзывчивые! — сверкнул выпуклыми глазами чернобровый иеромонах.
— Так вы только с этой весны идете? — удивился передовщик. — А мы про вас аж там, — кивнул на закат, — на Елеуне-Зулхэ слышали. Тамошние люди сказывали — богохульников побиваете!
Ватажные, весело поглядывая на монахов, стали посмеиваться.
— Весной еще одолели было желтые бурханисты, — смущенно потупился иеромонах.
Иеродьякон добавил:
— Бродят среди мирных родов, шаманов убивают, бубны ломают. — Был грех. Как-то пришлось повоевать!
Угрюмка, слушая разговоры, таращил глаза на черных попов и все ждал, когда те его заметят. Сам же не знал, как к ним подступиться, как слово молвить. Едва рот раскрывал — кто-нибудь уже говорил с ними. Наконец передовщик спросил про Ивашку Похабу.
— С нами шел от Тобольска! — ответил иеромонах. — И в Сургутском недолго был, и в Нарымском служил, по Кети шел. Маковское зимовье ставил, весной с нами к Енисее вышел государев острог ставить на старом, вольном промышленном стане. Там, наверное, и сейчас топором машет.
— Служит! Но горяч, — со вздохом укорил иеродьякон. — Иной раз забуянит — не унять.
— Стрельцы да казаки одни других не лучше. Как говорят: «Новоторы — воры, да и осташи хороши, и свято место, где тихвинцев нет».
— Вот и встретились! — вздохнул передовщик. — Хоть возвращайся с вами. — Кивнул Луке с укором: — Говорил — к полудню идти надо было. Где-то там живет народ православный. И крест неспроста у князца в юрте висел. — Подразнивая ватажных, попросил: — Батюшки, освободите от крестного целования, я с вами пойду. Они отсюда и без меня до Турухана доберутся!
Холмогорцы с устюжанами загалдели, дескать, не дают они на то согласия. Гороховец Михейка Скорбут напористо прошамкал, брызгая слюной:
— Прогуляешь пай в Туруханском — иди, куда глаза глядят. Вдруг и я с тобой пойду.
— Может, и нет там наших людей? — виновато заспорил с передовщиком Лука Москвитин. — Я тот крест близко смотрел. Не наш он. Спаситель на нем с косой и в штанах. Так всю жизнь можно пробродничать — и все попусту.
Не знал Пантелей, как ответить спутникам, только качал лохматой головой да кряхтел, поглядывая на них. Черный дьякон вдруг облегчил его душу, сказав:
— Уж лучше обмануться, чем потерять веру в свои вековечные помыслы!
— Вот! — с волнением вскрикнул передовщик и взмолился: — Освободите, с вами пойду!
Иеродьякон с грустной улыбкой опустил глаза, а Ермоген развел руками и признался:
— Не имеем такой власти!
После каши с остатками прогорклого масла ватажные стали просить монахов отпеть по уставу и по обычаю своих пропавших в пути друзей и родственников. Они достали из мешков лучших, головных соболей. Федотка стал писать углем на мездре крестильные имена Нехорошки, Тугарина, Вахромейки… Истомкино крестное имя никто не помнил. Чибара — тоболяк.
Монахи повели их на яр, на намоленное место к выстывшему кострищу. Там была пещерка, отрытая в сухой глине. Они простояли здесь неделю, встретив род чикагиров умного князца Когони. Три дня учили тунгусов Закону Божьему, но те никак не могли уразуметь страданий Господа за людей. У них если кто заболевал шаманской болезнью, то мучился годами. А если давал духам согласие, то те искали в нем какую-то лишнюю кость, разрывали тело на мелкие части, голову насаживали на кол, и кровь выпускали, и ели живое мясо будущего шамана, обновляя его плоть.
Но три дня тунгусы с любопытством слушали пришлых людей. Дольше не выдержали и ушли, навьючив оленей. Монахи и сами собирались отправиться вверх по реке, хотели только запастись в дорогу рыбкой. Слова о серебряном кресте в юрте, о племенах, веривших в Богочеловека, заинтересовали их, и они выспросили, как пройти к тому князцу.
Отпев панихиду по погибшим и убиенным, отслужив молебны за здравие оставленных за Камнем близких людей, по просьбе промышленных они приступили к исповеди. Угрюмка лихорадочно соображал, в чем согрешил за эти годы. Ему казалось, что жил безгрешней многих. И он все никак не мог придумать, в чем покаяться.
Пантелей Пенда, вспомнив, сколько нагрешил от Туруханского зимовья, после исповеди у троицкого монаха, горько усмехнулся над собой: хотел в неведомом краю прежние грехи отслужить — только новые нажил.
Выслушал его Ермоген, корить не стал. Покряхтел, повздыхал и перекрестил повинную голову. Ободренный, что отпущены грехи казаку, шагнул к нему Угрюмка, и прилип язык к небу. Монах вкрадчиво зашептал на ухо, помогая вспомнить, что тяжко замшело на душе и сулило забыться со дня на день. Как при первой встрече с шаманом Газейкой, вдруг одряхлели руки, перехватило дыхание, сам собой развязался язык и понес околесицу, обличая греховное свое тело. Угрюмка сам себя увидел по-новому: нечаянно испугался и устыдился.
Отойдя от пня, он будто очухался: стряхнув с глаз морок, почувствовал обиду на монаха, захотелось еще раз подойти и объяснить, что все совсем не так, как тот понял, а по-другому. Но он только хмуро вышагивал взад-вперед, попинывая камни, пока передовщик не отправил его за дровами для костра.
Наутро, после литургии на антиминсе, на платке со вшитыми частицами мощей и с изображением Иисуса Христа во гробе монахи служили литургию, причащали, а после того крестили Синеуля. Крещение, данное ему Лукой на Тунгуске-реке, они не признали. И достались тунгусу в помощь святой покровитель Мина и крестное имя его.
Вздыхая и сомневаясь, иеродьякон выстругал Синеульке-Мине крест поменьше, а Гермоген все поглядывал, по силам ли носить его новокресту. Промышленные в голос уверяли, что два года тунгус таскал полуаршинный крест, правда, неосвященный. Покачав головой, иеромонах с молитвами освятил новый крест и надел на шею раба Божьего Мины.
Приобщившись к Господу душой и телом, ватажные радостно заспешили в путь. Монахи предлагали пожить с ними в чистоте хотя бы до Иванова дня, но только передовщик да новокрест Синеуль-Мина не возражали. Остальные находили множество причин, по которым нужно было торопиться с отплытием. И стали промышленные люди душевно прощаться с миссионерами. А те наказывали на Иванов день бесовских песен не петь, игрищ не играть, нечисть не призывать.
Искренно обещали ватажные помнить их слова. Разделили на две половины остатки проса, отдали часть монахам, жившим на одной рыбе. В полдень они поплыли по реке на стругах, и долго еще видны им были одинокие люди на яру.
— Сдам вас главным пайщикам, — хмурясь, ворчал передовщик, — и догоню. С ними пойду. Вдруг и отслужу свои грехи великие.
Струги плыли мимо высоких, покрытых густым лесом берегов. На них часто виднелись тунгусские стойбища, но не было больше нужды приставать к берегу и вызнавать путь. От зари до зари гребцы налегали на весла, спешили к закату и убегали от здешней осени.
Люди в судах горячо обсуждали услышанные от монахов новости: будто ныне царским указом велено заводить при острогах кружечные дворы для прилюдного питья вина и для веселья. По избам же да по балаганам держать хмельное запрещалось. И удивлялись они новым порядкам: искони на Руси погрешали тайно и стыдливо, а тут понуждали пить и гулять напоказ.
Сказывали старики: у кого глаз остер да слух тонок, тот много чего может увидеть и услышать в ночь на Аграфену-купальницу. Говорили, будто впотьмах деревья ходят, меняя места, травинка с травинкой, листок с листком перешептываются, звери и птицы человеческими голосами перекликаются.
Вот и догорела зорька вечерняя, вышел на небо ясный месяц, весело заблистал среди звезд. Поглядывая на них, ватажные долго сидели у костра, слушая и рассказывая запомнившиеся от дедов былины да всякие небылицы об этой чудной ночи.
А она была тиха и тепла, привычно попискивали комары. Наконец сон стал морить усталых людей. А сны-то на Аграфену — все вещие. Дозорный со слипавшимися глазами ронял голову, вздрагивал, тут же приходя в себя, и уже успевал увидеть мелькнувший знак.
Утренняя роса — добрая слеза. Ею лес умывается, с ноченькой прощается. Но не было росы на рассвете. Не было и дождя. Первыми проснулись старики. Громко зевая, подбросили дров, раздули огонь, положили на него зеленой хвои для дымокура. Чуть обогревшись, пошли к реке, стали окунаться, фыркая и крестясь: они знали цену телесному здоровью, им нельзя было пропустить Аграфенино утро.
И началась потеха. Сонного Синеульку-новокреста окатили водой. Он долго орал, не понимая, в каком из трех миров находится его крещеная душа. Голые и озябшие, промышленные бежали от воды к кострам и дымокурам, на ходу в две руки отмахивались от комаров.
Поднялись и молодые. Посидели, вспоминая вещие сны. Зябко ежась, пошли к реке для очищения души и тела. А после купания щедро топили старые нательные рубахи, чтобы со сношенным бельем избавиться от хворей и напастей да поскорей обзавестись новым.
Из остатков проса ватажные сварили обетную кашу. Подсластить ее было нечем, присолить тоже. Не беда — впереди на пути был острог, а в мешках сорока дорогой рухляди. Обетная каша казалась подслащенной и подсоленной уже тем, что крупа кончалась.
Все ждали дождя, не решаясь отплывать, но вскоре по верхушкам деревьев пронесся ветер, разогнал хмарь, и разгулялся пригожий летний денек. К полудню даже на воде стало жарко.
С песнями гребцы налегли на весла, и понеслись струги, оставляя за собой пенистый след. Молодые шалили, брызгались и рассказывали друг другу сны. Семейка с Ивашкой гадали на девок — кому какая достанется. Федотка фыркал, не желая рассказывать сон. Молодые устюжане кивали на отцов, сидевших в струге. Старики обещали, что как только вернутся домой, так оженят сыновей.
Угрюмка помалкивал с затаенной улыбкой на губах. Наконец-то он был богат, как мечтал с малолетства. Не обмануло предчувствие, оставалось только добраться до Туруханского зимовья и получить свой пай. Уже снилась по ночам, звала, как живая стояла перед его глазами суженая-ряженая: белая, румяная, ласковая. Где назначена судьбой их встреча? Если какие-то каверзные вопросы появлялись в удалой головушке, то Угрюмка отмахивался от них, как от бесовского уныния: верил, получит свой пай — и все к нему придет само по себе.
Прошлой ночью, боясь очарования, он спал с осинкой под головой. Деревце, с корешком и с привязанным к нему камушком, под насмешки друзей утопил на стрежне реки. Так он отваживал ведьм, которых боялся, смутно припоминая злых родителей.
Наставлений монахов ватажные не забыли: в ночь на Ивана Купалу не плясали, но на вечерней заре выкупались, как положено от века, надели чистые рубахи, смазанные дегтем по полам и обшлагам, для очищения попрыгали через костры. Бесовских песен не пели и кладов не искали, даже заговорных корней не караулили, а помолившись всей нечисти во вред, выставили дозорных и легли спать.
Не спалось той чудной ночью. Ворочались ватажные с боку на бок, старики охали, молодые перешептывались. Сами собой то и дело начинались притаенные разговоры. Глядя на звезды, все думали и гадали: как-то еще Бог даст дожить до зимы? Где с ней будет встреча?
Не спалось и передовщику в ту ночь. В плеске воды, в шуме листвы слышались ему бабьи голоса. Через прищуренные веки он глядел на редкие звезды, на мешанину облаков, жалостливый покой обволакивал, дурманил его бездумной полудремой. И привиделась ему Маланья, наклонявшаяся над ушатом, как над гнездом. Она поливала из кувшина малых детушек, белокурых да синеглазых, напевала им ласковую песню. Брызги из того кувшина прыснули в лицо Пантелея, покатились по нему, как слезы.
Он проснулся с колотившимся сердцем, провел ладонью по щеке, нащупал пальцами влагу, взглянул на ясные звезды, перекрестился. Роса ли упала с листьев, ангел ли обронил слезу? Маланья ли молится за него, грешного?
Утром, поднявшись до зари, ватажные вывалялись в росе и бросили в реку последнюю горсть проса. Притом друг перед другом оправдывались, что это ни Купале, ни русалкам, а так просто: всем — мало, одному — к раздору и зависти.
Наловив рыбы, они испекли ее на зорьке, подкрепились и сели в струги. День был праздничный — работать грех. А потому гребцы не налегали на весла, а только поправляли плывущие по течению суда. Течение же несло их к Турухану. То подремывали промышленные от томного безделья, то заводили песни христианские, жалобные, о том, как Лазарь лежал на земле во гноище, а в раю — на ложе Авраамовом, как Алексей, человек Божий, жил у отца на задворках…
На другой день после Купалы, на Петра и Февронию шел дождь. Может быть, небо плакало по странникам, оставившим жен ради богатства и благополучия своих домов. Лука-вдовец вдохновенно рассказывал о супружестве, верности и уважении друг друга в любви благоверного князя Петра и благоверной княгини его Февронии, об одновременной благостной их кончине и полюбовном уходе в жизнь вечную. Вспоминал он, молодым в пример, все хорошее, что было в его супружестве, и не сдержал слез, покатившихся по седой бороде. А слушавшие хлюпали носами, вспоминая оставленных родных.
— Ходко идем! — прервал душевный разговор передовщик. — Через три дня — петровки, а мы все на рыбе да на рыбе. Надо зверя добывать: остаться перед постом без разговин никак нельзя. — И унесся вдруг в воспоминания, от которых иных холмогорцев и устюжан замутило: — Под Новгородом, перед петровками, шведы нас крепко били… День и ночь палили картечью — не высунуться из нор. А мы с братом твоим, — кивнул Угрюмке, — с Ивашкой-то, и удумали, как ночью раненого коня приволочь. — Пантелей окинул взглядом лица устюжан и умолк с угрюмым видом. — Да! — хмыкнул в бороду. — Пусть день простоим, но зверя добудем.
И добыла ватага доброго лося. Чистого мяса с нагулянным за лето жиром было пудов с десять. Люди пировали весь вечер, сожалея о том, что Турухан не приблизился ни на сажень.
Рано утром на Петра и Павла они вытащили снасти из воды. Первого, самого большого осетра — рыбьего князя — отпустили на волю, как исстари принято в этот день у рыбаков. Побросали кости съеденного лося диким зверям, стали варить уху без соли. Лука с Алексой, помешивая в котлах, приговаривали и поучали молодых: «Поешь рыбки — глаза и ноги будут прытки!»
— На всю жизнь вперед наелись! — неприязненно ухмылялись те. — Милостивы к нам святые Петр и Павел.
Старики, заподозрив в словах насмешку, кланялись в пояс на восход, призывая святых апостолов отведать ушицы да простить, что без соли, без хлеба.
И снова плыли в день, когда работать грех. И опять не гребли, а только поправляли, чтобы не сесть на мель. И казалось всем, что медленнее чем прежде текут воды, едва несут струги. Так шли они до сыпучей каменной горы. Возле нее было много чумов. Тунгусы махали руками, зазывая для торга и мены. И видно было, что им русский люд не в диковину. Но не было нужды в мене. Да и менять-то было нечего. В здешних местах, по словам монахов, зерна у народов не было.
На Прокопьев день струги неслись по реке так, что едва не захлестывало волнами низкие борта. Ватажные опасались водяного, который в этот день лютует: может опрокинуть лодки и утащить людей в свои подземные казематы, в безвозвратное холопское житье.
Опасаясь вреда, они пристали к берегу до вечерней зари, вытащили струги на сушу подальше от воды. Добро свое, не поленились, перетаскали в лес и развели костры, чтобы с реки их не было видно. Хоть они и не забывали задабривать водяного дедушку, но в этот день попасть ему под горячую руку побаивались: нечисть — она и есть нечисть, на вероломство и подлость горазда.
Сверкала на небе Большая Медведица, суля добрые промыслы. Господь крошил старый месяц на звезды и разбрасывал по небу. Кичижники из гороховцев гадали по звездам на погоду, на добычу следующей зимой.
На Ильин день ватага прошла мимо причудливых каменных быков, обошла каменистые отмели с пенистой волной и вдоль долгой песчаной косы вошла в устье. Две многоводные реки сливались в одну, и в том месте по стрежню ходили волны. Как ни ждали этого дня, пришел он ни раньше, ни позже, а на грозного Илью Пророка. Кто видел Енисей возле Турухана, тот узнал его и в этих местах.
Кончилось лето. Пожелтели берега, огненный конь грозного пророка уронил в воду подкову с булатного копыта. И сразу похолодало. На полдень в теплые края тянулись по небу неспешные тяжелые облака. Робко, то и дело пропадая, поблескивало красное солнышко, смущенное могучими тучами-быками. Тужилось небо, чтобы разразиться грозой. Хмурил седые брови могучий старец. Запрягал коней в колесницу, погромыхивая колесами и оглоблями. Трепетал сатана, поглядывая на небо, боялся встретиться взглядом с грозными очами Ильи.
По стрежню шли высокие волны. Укрепляя свой дух, запели ватажные старую песнь про сатану и Илью Грозного, который мчится по небу на колеснице, запряженной тройкой белых коней. И где ни спрячется сатана, туда пускает громовую стрелу. Нечистый на хитрости и козни горазд: влетит в христианский дом, думает, там не тронут. «Не пощажу дома!» — грохочет Илья и сжигает его молнией. Тот в набожного человека спрячется — и его сразит Илья. Сатана — в церковь святую. «И ее не пощажу, но сокрушу тебя!» — гремит во все небо Илья и мечет огненные копья, убивая скотину и людей, сжигая дома и храмы.
Захватывало дух путников от той суровой песни. Не умолить погибели от молний. Разве креститься беспрестанно, чтобы отпугнуть сатану. Несколько святых капель ильинского дождя скатились с неба на головы плывущих. Они скинули шапки, ожидая целительной влаги. Долго поглядывал передовщик на стрежень и, к облегчению всех, не решился переправляться через реку в тот день.
— Надо грести с усердием! — сказал, кивая на середину соединившихся рек. — А это работа. Не дай Бог, рассердим Громовика!
И стал он искать место для отдыха и ночлега на правом берегу.
На другой день при безветрии ватага переправилась через полноводную реку, пошла вдоль левого берега к полуночи. А через день пополудни завиднелись на низком берегу четыре свежесрубленные избы с нагороднями, врытые в землю острожины и ворота, еще не навешанные на петли.
На сухом пригорке вокруг строящегося острога виднелись остатки ветхого зимовья с упавшим тыном, несколько лачуг и землянок, балаганы и шалаши. Их властно подпирало и отодвигало новое, государево строение. На берегу чернели легкие лодчонки, и даже неуклюжий карбас, вытащенный на сушу. Дымы жилья тянулись к светлому осеннему небу.
Завидев плывущие струги, к реке стали стекаться промышленные и служилые, мелькали малиновые шапки стрельцов.
Ватага подошла к берегу против старого почерневшего креста в сажень шириной и в полторы высотой. Видно было, что ставился он во времена давние, может быть, еще до лачуг и землянок, когда государевы люди знать не знали о вольных промыслах в этих местах. Встречавшие гостей люди с радостными криками вошли до колен в воду и вытащили струги на сушу вместе с гребцами.
Угрюмка среди первых соскочил на землю. Его окружили. Он жадно всматривался в русские лица, искал знакомых — и не находил их. Чинно сошли на берег староватажные, стали креститься и кланяться кресту.
— Ивашка Похаба здесь? — спросил кого-то Угрюмка.
Ему так же торопливо и невпопад ответили:
— В Маковское зимовье ушел! К вечеру вернется.
К передовщику протолкнулся промышленный знакомого вида. Посмеиваясь, облапил Луку:
— Не узнал, белая борода? В Тобольске виделись. — Обернулся к Пантелею. — Здорово ночевал, казак! — весело раскинул руки для объятий. — Ваську Бугра помнишь ли? С братом Илейкой у тебя на коче были? — Не дождавшись ответа, насмешливо спросил: — Побывал ли на Нижней Тунгуске?
— Оттуда! — ответил Пенда, вспомнив промышленного. — Нет там огненной горы. Брехал ты нам в Тобольске.
Васькино лицо покривилось, он принужденно рассмеялся, оправдываясь:
— Говорил — как от людей слышал! — Хотел еще о чем-то спросить без прежнего пыла, но к передовщику подошли два молодых стрельца и велели сходить на поклон к здешнему приказному Максиму Трубчанинову.
— Все расскажем, православные, ничего не утаим! — радостно выкрикивал Лука Москвитин, окруженный встречавшими. — Дайте в себя прийти с добром. Три года в пути… Помилуйте!
— Три года? — ахнула толпа.
Не отвечая на расспросы, Пантелей достал из заветного мешка грамоту мангазейского воеводы, оторвал Луку от любопытных.
— Привел вас! — весело помахал грамотой перед холмогорцами и устюжанами. — Крест вам целовал — не бросил. Теперь сами верховодьте: у меня с воеводами разговор не получается…
Лука и Федотка спешно переоделись, накинув поверх повседневных кожаных рубах изношенные кафтаны. Пантелей по-праздничному перепоясался кушаком, перевязал бечевой сползавшие бахилы, поправил казачий колпак на голове, наказал Москвитиным, Алексе с Гюргием, смотреть за стругами и поклажей.
Стрельцы степенно повели троих промышленных к воеводским хоромам. Один из них был в кафтане и при сабле, другой — в стрелецкой шапке, в рубахе, присыпанной опилками и опоясанной кушаком. Кабы не казачий колпак, Пантелей Пенда рядом с принаряженными пайщиками походил бы на захудалого покрученника.
По пути к свежесрубленной избе стрельцы подсказывали, как у них принято привечать приказного Максима Трубчанинова, тобольского сына боярского, по слухам уже назначенного воеводой.
— Хорошо, что только по слухам, — сказал Пантелей Пенда. — Поди, еще спеси не набрался.
Слова его вызвали усмешки на молодых лицах енисейских стрельцов.
Сын боярский встречал прибывших возле своей избы. По здешним понятиям, он оказывал ватаге честь. Взглянул на него передовщик и едва не зевнул от тоски: на крыльце стоял дородный, чуть сутуловатый тоболяк с властными, налитыми кровью глазами. Одет он был богато, упирался руками в бока, откинув полы епанчи, шитой по обшлагам и полам собольими пупками. Соболья шапка с красным суконным верхом была надвинута на брови. На боку висел кривой ятаган с рукоятью в каменьях. В бороде служилого густо белела проседь. Издали казалось, что на его спине, как у вепря, топорщится мохнатый загривок.
Взглядом и видом своим служилый старался напугать подходивших к нему людей. В бороде передовщика скривилась презрительная насмешка. Зная, как любит напускать на себя грозный вид всякий трусоватый люд, чтобы скрыть свой страх, на пристальный взгляд приказного он отвечал строгим, пронизывающим взглядом.
Из-за спины сына боярского выглядывал молодой казак в суконном колпаке с отвернутыми краями. Из-за них торчали гусиные перья. На поясе казака висела чернильница. Писарь из казаков или подьячий своим видом будто винился за насупленные брови приказного.
Пантелей поклонился на казачий манер, не снимая колпака, Федотка — по новгородской старине, в пояс, коснувшись перстом земли, Лука, смахнув шапку с головы, на московский манер, — трижды.
— Откуда плывем и с какой добычей? — грозно пророкотал приказный, едва кивнув в ответ, и выставил вперед ногу в красном сафьяновом сапоге. Он осмотрел поданную ему грамоту, вислую печать на ней. — С Мангазеи! — прорычал недовольно. Мельком взглянул в грамоту и передал ее писарю.
— По слухам, дотла выгорела ваша Мангазея еще на Пасху, — усмехнулся, пытливо всматриваясь в лица промышленных.
Никто из троих не подал виду, что огорчен его словами или не поверил ему. Лука с поклоном стал отвечать, что вышли они из Туруханского зимовья и первую зиму промышляли в низовьях Нижней Тунгуски. И еще два раза зимовали на той реке, поднимаясь к истокам. А этой весной переволоклись в другую реку — полноводную Елеуну, по ней шли к верховьям до народов, которые называют себя «браты» и «балаганцы». От них переволокли струги в реку Илэл, по ней сплыли до Верхней Тунгуски и на Ильин день дошли до устья…
— С Нижней Тунгуски поднялись, с Верхней — сплыли? — недоверчиво переспросил сын боярский, еще злей впиваясь в лица устюжанина и холмогорца испытующим взглядом. Пантелея он ни видеть, ни замечать не хотел. — Не слыхал я, чтобы там кто-то промышлял.
Лука подал ему трех соболей в поклон. Глаза сына боярского подобрели, с разгладившимся лицом он принял дар, шагнул к свету, потряс рухлядью, подул на подпушек, взглянул на промышленных с любовью и приязнью.
— Вели-ка баню истопить для гостей! — приказал стрельцу в рубахе. Тот во время разговора выколачивал о колено шапку и отряхивал рубаху.
Писарь стал вслух читать грамоту. Прислушиваясь вполуха, приказный обронил, любуясь соболями:
— Мангазея сгорела. Палицын, поди, уже в Тобольске. Пусть нам десятину дают… — И вскинул лукавые глаза с каким-то намеком: — Сказано — на пяти стругах уходили. Пришли на четырех.
— Льдом унесло! — рассеянно пролепетал Лука, соображая, можно ли оставить цареву десятину здесь.
— Могло унести, могли продать, не оплатив ни продажной, ни покупной десятины, — посмеиваясь, ухмыльнулся сын боярский, игривым взглядом приглашая к разговору.
Пантелей, старательно молчавший до тех пор с окаменевшим лицом, не выдержал и прохрипел:
— Вот в Мангазее и ответим — продали или потеряли. И десятину государеву там же дадим!
Сын боярский подался вперед всем телом, вперил гневный взгляд в оборванца в казачьем колпаке. Тот не опускал глаз, не страшась грозного вида.
— Взять его! — властно крикнул молодому стрельцу и ткнул перстом в сторону передовщика.
Служилый досадливо мотнул головой, вздохнул, вынул из ножен саблю, положил ее на правое плечо, левой рукой взял Пантелея под локоть.
— Пойдем уж! — пролепетал неохотно.
Вдруг, споткнувшись, он отступил, удивленно разглядывая свою обезоруженную руку. Сабля оказалась у передовщика, и он так завертел ею над головой, что засвистел воздух и вокруг казака засверкал блестящий шар.
Приказный с неподобающей для его дородности резвостью оттолкнул писаря, скакнул через крыльцо за дверь, выглянул из-за косяка с испуганным лицом. Пантелей же воткнул саблю в землю, густо усыпанную щепой, развернулся, протиснулся сквозь гулящих зевак, которые стояли за спинами, и зашагал к стругам. Отделившись от толпы, следом за ним пошли Васька Бугор с братом Илейкой. За ними потянулись до полудюжины их дружков. Другие у крыльца стали выкрикивать писарю:
— Остепени Максимку! Пусть не идет против мира! И прежде был жаден, теперь вовсе… Руки загребущи… Глаза завидущи.
Срывавшимся петушиным голоском кто-то неуверенно пригрозил:
— В воду посадим, по старине!
Вздыхая и разводя руками, поплелся к берегу Лука Москвитин. За ним с поникшей головой двинулся Федотка, не проронивший у крыльца ни слова.
— Не дадим в обиду! — густым голосом горланил Васька Бугор, призывая гулящих дружков. Лицо его было красным от негодования. Широкоплечий Илейка с прямой, как колода, спиной, шел за братом, улыбался и молча, будто невзначай, потряхивал огромным жилистым кулаком, обросшим рыжим пухом: дескать, если кого вдарю — мокрое место останется.
— Не успел воеводскую шапку справить — уж и поклонов и поминок ему мало. Пелымец Албычев с Рукиным справедливей были, — направо и налево выкрикивал Васька.
— Без них без всех — и того лучше, — как медведь, проревел Илейка. — По старине хотим жить. Без служилых!
Следом за Лукой и Федоткой пришел писарь. Он безбоязненно протиснулся сквозь гулящих, прикрикнул на Ваську с Илейкой:
— Чего буяните! Сперва долг отработайте!
Те смутились, осекшись на полуслове. Писарь шагнул к стругу, где передовщик готовился выставить оборону, сел на борт, насмешливо поглядывая, как Пантелей надевает саблю.
— Не серчай! — сказал мирно. — Куражится Максимка. Я давно его знаю. Дали бы ему еще пару хвостов — приветил бы как лучших людей.
Слова писаря не были услышаны. Пантелей резко командовал кому какое оружие брать.
— Ну как он возьмет с вас десятину, если в грамоте писано, где и кому отдавать? — раздосадованно вскрикнул казак, обращаясь к разуму ватажных. Затем приглушенно выругался и добавил: — Дурака не вылечишь! — И прозвучали эти слова как-то двусмысленно: то ли об алчном приказном, то ли о вздорном передовщике.
— Тебя как кличут? — спросил Пантелей, пронизывая писаря леденящим взглядом.
— Максимка, Перфильев сын, — дружелюбно ответил тот, поглядывая на ватажных насмешливыми глазами. — Десятский из сургутских казачьих детей. Пока при острожке за подьячего… Служу. — Тряхнул чернильницей, висевшей на поясе, подал передовщику оставленную им грамоту. — Про вас слыхал от Ивашки Похабова.
Лука, боязливо поглядывая на казака и на обступивших струги людей, что-то бормотал, виновато разводя руками. Ссора с воеводой, хоть бы и не разрядным, не утвержденным в должности Сибирским приказом, не нужна была ни устюжанам, ни холмогорцам. Но увидев, как сам подьячий, хоть бы и временный, приязненно разговаривает с опальным передовщиком, он стал успокаиваться, придвинулся к говорившим.
— Вон — брат Ивашкин, — потеплевшими глазами Пантелей указал на Угрюмку.
Максим Перфильев ласково взглянул на молодца, приветливо кивнул ему. В толпе кто-то снова завопил:
— Не люб нам Трубчанинов! По-старому жить хотим!
Лицо писаря резко переменилось, властно сверкнули глаза.
— Что орете, как воронье на падали? — строго прикрикнул на галдевших. — Это боевой друг-товарищ Ивашки Похабы, — указал на Пантелея Пенду. — А то брат его родной.
Оклик остепенил возмущавшихся, они смущенно стали поглядывать на Пантелея с Угрюмкой. Передовщик, не замечая явной опасности, присел на борт рядом с Перфильевым. Улеглась обида, простились злые слова, он усмехнулся в бороду, вспомнив, как скакнул за дверь сын боярский.
— Ничего! — ободрил Максим заискивающего Луку. — Завтра дашь два поклона по хвосту — и уплывешь лучшим другом… А Мангазея, по слухам, сгорела.
Иван Похабов и два стрельца, знакомые устюжанам и холмогорцам по верхотурскому пути, вернулись в острог на темной вечерней зорьке. С ними был Иоган Ермес — ссыльный пленник, когда-то верховодивший казенным обозом.
Ермесу Бог дал умение рисовать. Он мог углем на доске так намалевать чью-нибудь рожу, что служилые и гулящие от хохота по земле катались и уважали в нем этот дар, как уважали всякое мастерство. Нынче Ермес ходил с тремя провожатыми в Маковское зимовье, срисовывал его по Государеву указу для Сибирского Приказа на присланную бумагу.
Узнав, что с Тунгуски-реки сплыла мангазейская ватага, много лет промышлявшая в неведомой стране, и что в той ватаге его брат, Иван заспешил к гостям. Но пока он доделывал все неотложные служебные дела, кончился день и стало темно.
Костров на берегу мерцало больше десятка. Возле каждого плотной толпой сидели прибившиеся к острогу гулящие и промышленные люди, все слушали рассказы прибывших. А они по двое, по трое в середине на лучших местах говорили о землях и реках, где побывали, о промыслах и народах, с которыми довелось встретиться.
Иных из говоривших Иван узнавал, других нет. Видно, в Мангазее ватага пополнилась. Сперва он увидел Пантелея Пенду в том же самом, что и раньше, только заношенном колпаке, опять длиннобородого и долговолосого. При свете костра товарищ казался постаревшим. Стариками выглядели и другие знакомые устюжане. Даже у огня среди ночи видно было, что их головы белы.
Неторопливо и осторожно рассказывал о чем-то Лука. Пантелей лежал на боку и щурил глаза на пылавшие угли, иногда кивал, подтверждая слова старого складника. Пройти мимо них Иван не мог. Заныло под сердцем былое, и он окликнул товарища. Тот узнал голос, резво поднялся на ноги, раздвинулись сидевшие у огня, и обнялись товарищи со смехом и слезами на глазах.
— Жив, слава Богу! Свиделись!
— Вроде еще вырос! — оглядел Ивана бывший станичный пятидесятник. — Не разъелся на государевых харчах! А борода отросла богатая!
— Такую Бог дал! — пробурчал Похабов, невольно оглаживая пышную молодецкую бороду. — Где брат-то? Живой? — спросил нетерпеливо.
— Жив, слава Богу! Здесь где-то!
— Пойду обниму, после поговорим…
С государевыми людьми пришли в Енисею-страну иные времена: уже не ходила у костров заздравная чаша-братина с долгими величальными речами. В прирубе у воеводской избы возле бочки с хлебным вином сидел целовальник из крещеных татар. Он наливал только в чарки и велел пить здесь, при нем, не унося хмельное к кострам.
Свои, русичи, черкасы и литвины, боясь греха, в кабацкие целовальники не шли. Они считали должность зазорной и бесовской. Новокрест же пришелся впору новым временам и порядкам. Он принимал рухлядь, приносимую в плату, жадно высматривал приносимые меха плутоватыми черными глазами, щупал, вынюхивал, придирался ко всякому пустяку, торговался за государеву выгоду яростно и злобно.
Чертыхаясь и поругиваясь с ним, промышленные, служилые, гулящие поносили все выкрещенное отродье. Уже не благостно, как прежде, а в сердитом запале крестили рты, чарки, торопливо выпивали и, обсасывая усы, возвращались к кострам, где продолжался разговор. Новокрест или орал вслед, запоздало обнаружив недочет в рухляди, или высовывал из окна самодовольную лоснящуюся рожу с раздутыми от важности щеками.
Молодого промышленного в московской шапке и добром зипуне Иван приметил сразу — узнал кровь. Тот хмурил брови, как отец, и при всей молодости на его переносице были морщины, как у деда. Приятно удивило Ивана Похабова, что брат вольно, без смущения рассказывал о промыслах. Притом что-то напомнило в нем кичливость отца, когда тот был пьян.
Постояв в нерешительности, понаблюдав за братом, Иван окликнул его. Оборванный на полуслове, Угрюм опасливо взглянул в темень, понял, кто зовет, но не кинулся на встречу, а поднялся, безвольно опустил руки, обмер, как замирает букашка, притворяясь неживой. Даже в бликах костра видно было его разительно изменившееся лицо. Ивану вспомнилось, как отыскал тощего отрока у дьяконицы в Серпухове, от жалостливых воспоминаний кольнуло в груди.
Пришлось ему самому, раздвигая спины, пробираться к огню и обнять брата. Вокруг одобрительно зашумели, а у Ивана было чувство, будто он обхватил руками кол. Братья молчали, не зная, что спросить друг у друга, что сказать при сидевших. Иван взял младшего за руку, вывел в темень. От Угрюмки пахло хмельным.
— Пойдем на кружечный двор — поговорим! — потянул к видневшимся во тьме острожным воротам. — Только сперва в избу. Переобуюсь. Ноги горят.
В темноте Угрюмка раз и другой споткнулся о тесаные бревна для избы-однодневки[146]. Обиженно засопел, закряхтел. Братья вошли в избу. Внутри нее по стенам между бревнами еще висел мох. Печь была сложена только наполовину и пахла сырой глиной. Возле лучины в кутном углу сидел еретик Ермес. Угрюмку удивило, как тот переменился. На плечи ссыльного был накинут добротный долгополый зипун, на лавке лежал суконный малахай, отороченный лисьим хвостом. Борода по щекам и волосы на его голове были коротко острижены, лицо стало другим: будто опростилось на ржаном хлебе. Разве глаза щурились как-то не по-русски.
— Брат? — спросил он правильным, не резавшим слух языком. — Помню! Большой стал. На тебя похож.
Иван подтолкнул Угрюмку к лавке. Тот плюхнулся на нее, как чурбан, стал смущенно водить глазами, поглядывая на отдыхавших казаков.
— Ну сказывай, как промышлял, где? — спросил брат, с кряхтением стягивая сапоги.
— Хорошо промышлял! Далеко, — насупившись, пробурчал Угрюмка. Про себя же удивлялся пышной Ивашкиной бороде.
— Как жил? — С явным облегчением старший брат высвободил из сапог ноги и стал затягивать бечеву на легких и мягких чунях.
— Жил! — едва слышно ответил младший.
— Ну пойдем, — Иван поднялся, притопнул пятками по земляному полу. Угрюмка, почуяв досаду в его голосе, замкнулся пуще прежнего.
Опять братья шли в темноте. Иван постучал в затворенное окно. Сквозь щели в ставнях мигал свет лучины. Окно распахнулось. Целовальник узнал служилого, спросил, корявя язык:
— В долг? Под жалованье?
— Двоим! Брательника встретил! — приказал казак.
Новокрест облизнул тонкие губы, налил в две чарки. Братья сели на завалинку, обложенную дерном.
— За встречу! — перекрестился старший. — Слава Богу, дождались!
Чокнулись братья чарками, распугивая таившуюся в вине нечисть.
— Что добыл-то? — крякнул служилый после выпитого и тут же мотнул головой. — Это ж мы с тобой года четыре не виделись?
— Четыре! — пролепетал Угрюмка.
Отчего-то не говорилось. Старший натужно спрашивал, младший коротко и неохотно отвечал, будто брат пытал его в чем-то.
Выпили по второй. Ругнув татарина, мол, таким пивом только похмелье поправлять, старший спросил:
— Деда-то с отцом поминал ли, как я наказывал?
Угрюмка засопел, настороженно помалкивая.
— Забы-ыл! — горько укорил брат. — Помнишь ли, в какой день отошли?.. И того не помнишь, — тяжко вздохнул. — А дед тебя сильно любил, — он свесил голову, помолчал и вдруг резко поднялся: — Ладно, иди уж! Спать пора! — отчеканил, как пестом в ступке, таким голосом, что и в темном погребе узнаешь служилого.
Угрюмка будто ждал дозволения — резко поднялся и, не оглядываясь, зашагал к костру.
Старший Похабов постоял под окном кружечного прируба, провожая его глазами. Не удержался, крадучись пошел следом, остановился в нескольких шагах от огня, невидимый сидящим.
Угрюмка сел на прежнее место. Лицо его было скорбным и рассеянным, будто претерпевал рези в животе. Говорил конопатый Семейка. Слушатели время от времени приглушенно похохатывали.
Иван направился к костру, где сидел Пантелей. Тот радостно поднялся навстречу, он ждал товарища. Вдвоем они вернулись к кружечному прирубу, сели на той же завалинке. Похабов властно постучал кулаком в ставень и потребовал хмельного. Проговорили казаки до полуночи и о прошлом, и о пережитом врозь, о Третьяке и об Угрюмке.
Пантелей все винился, что нынче богат как никогда, а угостить дружка не может. Складники скупы: на баню и на веселье в остроге отпустили мало рухляди — не разгуляться. Холмогорцы, узнав здешние цены на рожь, подстрекали плыть в Туруханск на рыбном и мясном корме. Соли, мол, возьмем — и хватит.
— Дай волю — голодом уморят, — выругался.
— Ничего! За меня государь платит! — посмеивался Иван, а захмелев, взглянул на товарища с лукавой ухмылкой: — Богатство нажил! Взял ли на саблю славу? Добыл ли чести?
— Какая честь? — не понял насмешки и отмахнулся Пантелей. — А ведь привел Господь! — Размашисто перекрестился и заговорил с жаром, увлекаясь пережитой обидой: — Где-то рядом уже был! И чести, и славы мог добыть, за старую Русь порадеть… Куда там, — досадливо мотнул лохматой головой. — Барышники за мошну душу продадут. А я им крест целовал. Бросить не мог, а они за мной не пошли! — Он помолчал, накручивая прядь волос на палец. — Ничего! — мстительно пророкотал в сторону сидевших у костров. — Теперь знаю, где искать. Другим летом все равно дойду!
Он спохватился, смущенно улыбнулся, будто только теперь понял насмешку товарища. Помолчал, сам над собой посмеиваясь, спросил с той же лукавинкой:
— Ну а ты что выслужил у царя?
— Я не царю служил — Господу! — горделиво ответил Иван, отчего-то раздражаясь. — На Туре-реке, помнишь, все спорили — не мог я тогда ответить по уму: ты же хитрющ да грамотен, как бес. Батюшки после вразумили: Моисей-де был приемным сыном дочери фараона. Мог прожить в роскоши и в удовольствиях, но бесславно. А он терпел лишения, разделив судьбу и изгнание единокровников. Те его и предавали, и обманывали, но Бог возвеличил и прославил за терпение. Через его подвиги и меня, грешного, вразумляет.
— Чему вразумляет? — снисходительно усмехнулся Пантелей. — Остроги строить да десятину со своих драть?
Ивашка растерялся, замолчал с уязвленным сердцем, стал хмурить брови, вспоминая разговоры с монахами и свои прежние заветные мысли.
— И не в сынах у фараонши Моисей был, а в белых холопах, — продолжал Пенда гладко, как по писаному. По молодости еще не стерпел он, как египтянин бил его кровников и убил фараонова воина. А свои, спасенные им, предали. И бежал он в чужие земли. Там в достатке жизнь прожил, детей нажил. Но явился ему Бог и призвал порадеть за единокровный народ…
Недолго звучала в голосе Пантелея насмешка над товарищем. Пока рассказывал про Моисея, увлекся своими наболевшими и тайными помыслами, заговорил с жаром:
— Это я, прости, Господи, как Моисей искал землю обетованную. — Распаляясь, даже ударил себя в грудь. — И нашел бы, и дошел, кабы не те жидовины, — кивнул в сторону реки. — Ничо, найду еще! После сманю туда и тебя, и Третьяка. Ну и Угрюмку, наверное… Если пойдет! — добавил неуверенно.
Ивашка молчал, перебарывая подступавший гнев. И вдруг, восторженно хмыкнув, рассмеялся.
— Ты чего? — удивленно спросил Пантелей.
— А вспомнил рожи старшинки, когда тебя на плаху волокли. Для твоего вразумления и своего оправдания наставляли тебя перед казнью, что ни скажут — ты им в ответ свое, и опять они все в дураках. Покойный атаман от ярости аж свою бороду искусал… Тебя и бес не переспорит! Ловко! — Иван вдруг резко умолк, вспомнил о брате, вздохнул, свесил голову, простонал, открываясь в сокровенном: — Сон мне был на Аграфену. Не сразу понял, к чему. А сон чудной и вещий. Не спал еще, вспоминал сон давний. Юнцом еще пригрезилось, будто Угрюмка убегает через болото по мосткам на сваях. А я внизу бегу по кочкам, по трясине, и ору, зову обратно. Плачу… А он бежит, не слышит.
Вспоминал-вспоминал — и вижу под ногами болотину. И ноги свои босые вижу. И бегу, спотыкаюсь, боюсь отстать. Вдруг среди кочек тропа. Не вдоль мостков, а чуть в сторону. Побежал я по ней осторожненько так, чую, останавливается брательник на мостках, смотрит на меня, дивится. — Поднял Иван хмельную голову, пытливо взглянул на Пенду: — К чему бы?
— К добру, Бог даст! — тот дружески хлопнул ладонью по опустившемуся плечу товарища.
— Не знаю! — печально простонал Похабов и сжал голову ладонями. — Только что виделся с ним… Ох, не знаю!
— Ничо. В сиротстве он долго был. Выживал всяко. Хитрит, бывает, отлынивает. Совести маловато еще… Жизнь обломает, Господь вразумит.
— Куда с Турухана-то пойдешь? — окрепшим голосом спросил Иван.
— Получу пай, куплю у тунгусов оленей — и к тебе. Куда еще? Возьму Угрюмку за шиворот, привезу. Весной, может и раньше, монахов догонять буду, встреч солнца пойду. Чует душа — там наши люди и наша земля.
— Как Моисей? — опять сквозь слезы хохотнул служилый казак.
Пантелей добродушно кивнул в темноте, ответил без смеха:
— Только с малой ватажкой, а то и один.
Похабов тряхнул бородой, зевнул устало.
— И догони! — Пригрозил: — Они вразумят, какой из тебя Моисей! — Он опять зевнул и добавил ласковей: — Что мне дал Бог, так это друзей: тебя, Третьяка, Максимку… Знаю, приду в монастырь, скажу Третьяку: «Помоги» — все бросит и поможет. Казак — он и в пахотных, и в промышленных казак. Зря ты Третьяка коришь, что сел на пашне. Это на Дону землю пахать — закон преступать. В Сибири житье другое и закон иной.
— Максимка — писарь здешний?
— Десятский наш из сургутских казачьих детей. Моложе меня, но башка, куда с добром. При воеводе станет разрядным письменным головой. Но настоящий казак, за своих — стеной, рубаху снимет, отдаст товарищу, только чтобы ни споров, ни раздоров не было.
Наутро ватажные поднялись поздно. Не зорька красная разбудила, а перестук топоров. Гулящие люди ставили острожины. Беззубый гороховец Михейка Скорбут не ночевал на таборе, затерявшись среди здешних лачуг и балаганов. Хмельной, он приволокся едва ли не перед отплытием, стал требовать долю, хотел остаться.
Без того покрученники со складниками, холмогорцы с устюжанами беспрестанно спорили, как делить потраченное на поклоны, на припас, баню с чаркой: пили-ели равно, стали считать — выходило всем по-разному.
От гулящих явился Васька Бугор и стал требовать заплатить за Михейку его проигрыш.
— Обыграл в долг — терпи убыток! — жестко отрезал передовщик.
— Я его заставлял в долг играть? — стал напирать Васька, хватая поникшего гороховца за рукав, как ясыря.
Неслышно подошли к стругам Иван Похабов с Максимом Перфильевым, оттолкнули крикуна.
— Уйди с глаз! — прошипел писарь.
— Ужо, приду со служилыми! — хрипло пригрозил Похабов. Его борода грозно топорщилась, глаза с кровавой паутинкой глядели неприязненно. — Найду кости, глотать заставлю.
— Читали государев указ, чтобы зерни по балаганам не держать? — поддержал его Максим. — Иди! Надо денег — бери топор, острог ставь!
К Пантелею же Иван обратился с печальным лицом и тихо спросил:
— Уходишь? — При этом глядел так, будто надеялся, что ватага зазимует.
— От греха подальше! — сердито озирая ватажных, ответил передовщик. — Скорей бы уж прийти на Турухан, поделить добытое, иначе они перегрызутся между собой.
— Долю отдайте! — завыл непротрезвевший еще гороховец. — Остаться желаю.
Не оборачиваясь к нему, передовщик громко обратился к ватажным, спрашивая насмешливо и язвительно:
— Может, еще один струг купим у гулящих? Недорого отдадут!
— На что он, коли зимовать в Мангазее? — смущенно зароптали складники. — На Турухан, даст Бог, придем уже по зиме, когда и свои струги не продать.
— Нет так нет! — ударил кулаком по борту передовщик и приказал: — Рожь грузи поровну!.. Угрюмка! С братом простись. Без тебя управятся.
Отошли в сторону Похабовы — старший с младшим.
— Если на промыслы не уйдешь — возвращайся! — печальным голосом попросил Иван. — Вместе зимовать будем… Все веселей.
На глаза Угрюмке попалась знакомая тобольская бляха. Она застегивала кожаный ремень — шебалташ — с висевшей на нем пороховницей. Взглянул он на бляху, поднял заблестевшие глаза на брата, рассмеялся.
— А я этого мужика, — ткнул пальцем в щурившуюся голову, — живым видел. Это князец-баатар с Елеуны… — И добавил, с любопытством разглядывая золотую безделушку: — А ты теперь шибче прежнего похож на другого.
— Бородой еще не вышел! — Старший Похабов улыбнулся ласково и грустно. Понял вдруг, что брат хоть и вырос плечами в матерого мужика, а разумом еще юн. «Куда против Максимки», — подумал, невольно сравнивая. И легче стало на душе.
Ватажные в стругах уже рассаживались по местам, разбирали весла. Братья крепко обнялись. Высвобождаясь, Угрюмка пристально посмотрел в Ивашкины глаза — и дрогнула его душа. Не было в них слез, но, будто кровь в колотых ранах, колыхались горючая боль и лютая тоска.
Угрюмка смутился, покраснел, отступил на шаг и поклонился старшему в пояс на новгородский манер, касаясь перстом земли. Затем, не поднимая взора, развернулся, столкнул на воду нос струга, прыгнул в него.
Напрягая спины, гребцы налегли на весла. Течение стало разворачивать судна кормой к полуночи. Кормщик прикрикнул — кому грести, кому сушить весла. Его струг выровнялся, став носом по течению, обогнул мель и вышел на глубину. Гребцы все вольней взмахивали веслами. Они поднимались и опускались, как крылья могучей птицы в небе. На лопастях поблескивали неясные лучики скупого осеннего солнца. Подхваченные течением, суда набирали скорость.
Удалялось Енисейское зимовье с недостроенным острогом. Удалялся Ивашка Похабов. Ветер трепал его бороду. Пантелей, сидя на корме спиной к товарищу, раз и другой обернулся, махнул рукой и понял, что тот его не видит. «На брата глядит!» — подумал. Тряхнул головой и завел песнь не про вольного казака Илью Муромца, не про любимца богов атамана Ермака, а про плач Адама у ворот рая:
— «Не велел нам жить Господь во прекрасном раю.
Сослал нас Господь Бог на грешную нашу землю».
— «Ой, раю мой, раю, прекрасный мой раю!» — подхватили гребцы.
Далеко по воде разносились слова о нуждах и страданиях, о тоске, которую каждый из них в достатке испытал и носил в душе. Но только через песнь открывался смысл и высший промысел тех страданий.
Не любил прежде Угрюмка этой песни, а потому и не задумывался над ее словами. На этот же раз не мучили его нестерпимые воспоминания о давних унижениях. Вдруг открылись ему страдания человека, теряющего все разом, и затрепетала, захолодела душа, да так, что слезы выступили на глазах.
Еще вчера Угрюмке верилось, что он богат и впереди у него только счастливая жизнь. Отчего-то с малолетства чудилось ему: день придет — и в княжеских одеждах, с верными слугами отправится он в какую-то счастливую землю, где его кто-то ждет.
И осенило вдруг, что пока плачет Адам, у ворот рая стоя, он еще надеется и верит, что они распахнутся, он еще не представляет себе всех грядущих страданий, о которых лучше и легче не знать наперед всякому живущему. Но поющие-то знали, что плачь не плачь Адам, а ворота уже не раскроются никогда, и надо с этим смириться, как-то устраивать свою бренную жизнь. Надо привыкать к суровым будням, к голоду, к стуже, к подлости, к ненависти, к коварству и как-то выживать, помня о счастье и любви за запертыми воротами.
Новый, неведомый досель страх вошел в душу молодого и не бедного уже промышленного человека. Он понял, что безвозвратно втянут в этот суровый сибирский мир — и ничего другого, лучшего, уже не выпадет на его долю. Дай-то Бог вернуться к брату на своих нартах, со своим припасом в зиму да с мешком клейменых соболей на черный день. Больше и возвращаться-то некуда.
Осознав это, он глядел на удалявшийся острог, видел брата на низком берегу и старый крест, поставленный неведомыми скитальцами на Великом сибирском тесе. За полверсты жег его братнин взгляд, и чудилось, будто слышит он его молитву: «Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий».
Примечания
Ака (эвенк.) — дядя.
Ама (эвенк.) — отец.
Аманаты — заложники.
Арза — молочная водка двойной перегонки.
Арха — молочная водка у бурят, тарасун.
Аяма (эвенк.) — хороший.
Бердыш — боевой топор на длинном черенке, совмещенный с копьем.
Бира (эвенк.) — река.
Бобыль — лично независимый, безземельный, бездомный крестьянин.
Боо (бурят.) — шаман.
Братина — сосуд для соборного застолья.
Булэшэл (эвенк.) — враг.
Ватага — промысловая артель.
Ветка — легкая лодка.
Гужом — конной, оленьей тягой.
Дикое поле — пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
Дыгоны (эвенк.) — живущие у вершин хребтов, у истоков рек.
Дю (эвенк.) — чум.
Дялви (эвенк.) — свой, товарищ, спутник.
Ертаул — разведчик.
Жупан — короткий кафтан, обычно голубого цвета, в XVII веке распространенный в Речи Посполитой и среди казаков.
Зааманатить — взять в заложники.
Заскребыш — последний ребенок стареющих родителей.
Зипун — верхняя одежда из домотканого сукна.
Зыряне — устаревшее название коми-пермяков.
Ибде (эвенк.) — зять.
Ибдери (эвенк.) — свояки, роды, в которых брали жен.
Изба-однодневка — изба, которая собирается из готовых венцов за день.
Икогиры — племя, выделившееся из шамагиров.
Илэ (эвенк.) — человек-тунгус, современный эвенк.
Илэл (эвенк.) — тунгусы (эвенки).
Калужский царенок — Иван Дмитриевич, сын Марины Мнишек.
Камлать — шаманить с бубном, призывая духов.
Камчатый — из китайского шелка.
Капище — место языческих молений и жертвоприношений.
Кирея — свободная, широкая накидка без рукавов.
Кистень — боевое холодное оружие. Короткий черенок, цепью или ремнем соединенный с металлическим шаром.
Кичижники — русские гадатели по звездам.
Клепало — кусок дерева или камень, используемый вместо колокола.
Клепцы — охотничьи ловушки для промысла.
Кондагиры — племенной союз среднего течения Нижней Тунгуски в начале XVII века.
Корольки — стеклянные бусы.
Кортома — традиция: «сибирцы» на период отсутствия продавали жен во временное пользование (обычно женщин нерусского происхождения).
Кошкин род — одно из прозвищ родни предков царей Романовых.
Кошт — расходы на содержание, иждивение.
Кут (эвенк.) — бесплотный двойник, не совпадает с русским понятием души.
Кут, юла (эвенк.) — нематериальные двойники людей и зверей.
Кутной угол — хозяйский угол в крестьянских избах — правый от входа.
Кушак — широкий матерчатый пояс.
Куяк — шлем, каска.
Кэрэиты — самое многочисленное из монгольских племен, исповедовавшее христианство несторианского толка в XIII веке.
Лавтак — шкура или ее часть.
Литвины — православные русичи, подданные дворянской республики Речи Посполитой, предки современных белорусов.
Лозьва, Чердынь — реки. Через Лозьву и Чердынь — один из путей в Сибирь купцов и промышленных, известный до похода Ермака.
Лучи — русичи в эвенкийском произношении.
Мосага (эвенк.) — лес.
Мощаница — полость с вложенной частицей мощей святого.
Навь — недобрая постусторонняя сила в русском язычестве.
Ниловцы, иосифляне — два идейных течения в Русской православной церкви: последователи Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Одекуй — крупный бисер разного цвета.
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
Охабень — старинный кафтан с четырехугольным отложным воротником.
Пальма (русск.) — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насажанный на длинное древко.
Паняга — заспинная доска с петлями для груза.
Пенный — обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
Пеня — вина, неустойка, выкуп за кровь.
Повязка — девичий головной убор.
Подьячий — в XVI–XVII веках чиновник, ведавший делопроизводством.
Поклоны — подарки царю.
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
Полуденник — южный ветер.
Полуженники — оплатившие половину затрат на промыслы; или промышляющие за половину пая по уговору.
Поминки — подарки служилым людям.
Поприще — древнерусская мера пространства 20 верст (21,3 км) — дневной переход.
Порса — рыбное блюдо многих северных народов.
Послух — по древнерусскому праву — свидетель, который, в отличие от видока, не являлся очевидцем происходившего.
Починок — древний тип однодворного поселения на Севере России.
Поющая стрела — гуннская стрела, издающая звук в полете.
Примучил — вынудил.
Причт — штат священников и церковнослужителей при церкви.
Пыжица — рубаха из шкуры оленя.
Раздоры — городок на острове, начальный административный центр Вольного Дона.
Ревун — старорусское название сентября.
Саламата — мучная каша.
Самоеды, самодийские народы — общее устаревшее название племен ненцев, энцев, нганасан и селькупов.
Сары (эвенк.) — меховые зимние сапоги.
Связчик — напарник по промыслам.
Складни — походные иконы.
Складники — промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.
Скорбут — цинга (устаревшее название болезни).
Слобода — обособленное поселение. Пашенная слобода — административный центр нескольких деревень.
Старшинка — выборные чины станичного и войскового правления.
Стоячий тын — частокол, забор из врытых в землю бревен.
Стружки-однодневки — легкие, наспех сделанные лодки.
Сусло — хмельной квас.
Сын боярский — в Сибири XVII века чин выше казака или стрельца и ниже дворянина.
Тайбола — устаревшее, самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге.
Тать — вор, разбойник.
Товарищ — у казаков: соучастник по общему делу равных.
Требы — жертвоприношения.
Туесо — берестяная посуда.
Ужина — полный пай, полная доля из добытого меха.
Умай (эвенк.) — берегиня, дух-хранитель.
Урман — дикие, необитаемые места в тайге.
Урыкит (эвенк.) — традиционное место летних стойбищ.
Федор Борисович — сын Бориса Годунова, венчанный на царство.
Харги (эвенк.) — леший.
Целовальник — выборная должность людей неслужилых сословий (черносошных крестьян, посадских), ведавших доходом с кабаков, сбором пошлин, выполнявших судейские и полицейские функции.
Чарка — сосуд для питья и мера жидкости около 120 граммов.
Чаровать, узорочить — привораживать с помощью снадобий.
Черкасы — запорожские казаки.
Чибара (эвенк.) — плешивый, раб.
Чувал — очаг с дымоходом.
Чукульмы (эвенк.) — женские легкие меховые сапоги.
Чуница — самостоятельные подразделения промысловой партии от трех до пяти человек.
Шебалташ — кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивался рог с порохом, мешочек с пулями, огниво.
Шертовать — присягать.
Шитик — тип судна, киль и часть шпангоутов которого делались из цельного дерева. Обшивка бортов крепилась — «шилась» — корнями деревьев, кустарником.
Шиши — в XVII веке разбойники из обнищавшего местного населения.
Шэвэнчэдэк (эвенк.) — место, где шаман призывает духов, и само действие.
Этыркэн (эвенк.) — старик, дед.
Эхирит, булагат — бурятские племенные союзы.
Юркий — табуированное название соболя среди промышленных того времени.
Юрьев день (26 ноября ст. ст.) — церковный праздник в честь св. Георгия Победоносца. В XV–XVI веках к этому дню был приурочен выход крестьян (перемена владельца) — неделя до и неделя после Юрьева дня. В 1580–1590 годы отдельными законодательными актами право выхода было отменено («отмена Юрьева дня»).
Ямы — ямские станы.
Ясыри — рабы-пленники.
Ясырка (татар.) — рабыня.
Похабовы
Глава 1
Бог знает, какие люди первыми селились в местах старых русских городов: ищущие рая земного или спасения души? Еще в благополучные времена царя Федора появился на Енисее инок Тимофей Иванов. Неведомо, как он оказался на месте нынешнего Енисейска, не дошли до нас слухи и о том, почему не стал, как все, промышлять ценную пушнину или торговать. В 1595 году он построил келью на берегу великой и малоизвестной тогда сибирской реки, ловил рыбу, питался травами и кореньями, пророчил, будто там суждено быть славному городу, а на месте его кельи — монастырю.
Задолго до прихода первых строителей отшельник знал, что город начнут рубить не торговые и промышленные, а служилые люди и по указу русского царя. Но скрыто было от него, когда это случится. Двадцать шесть лет ждал инок Тимофей первых строителей Енисейского острога. Монастырь Всемилостивейшего Спаса, являвшийся ему в видениях среди дремучей тайги, был заложен лишь через пятьдесят лет после основания пустоши. Это пророчество сбылось после кончины старца.
Помяни, Господи, всех страстотерпцев, положивших начало Русской Сибири!
Десять казаков тянули вверх по Оби три струга с рожью. Все они были посланы из Сургута на службы в Енисейский острог. Кони яростно хлестали себя хвостами по бокам, мотали головами, отбиваясь от гнуса, по брюхо вязли в трясине топкого берега. Равнинная река была мутна и спокойна.
— А подналяжем! — зычно орал Ивашка Похабов. Он шел первым. Не под уздцы, а за гуж, как пристяжной, тянул струг наравне с конем. Его кожаные штаны и рубаха были обляпаны грязью, раскисшие, сползшие к щиколоткам бахилы при каждом шаге гулко шлепали и чавкали. Но молодой казак был весел и горланил на всю реку: — Да потянем! Да порадуемся, что течение небыстрое…
В отряде он один был из вольных донских казаков, сосланных в Сибирь за кремлевский бунт. Шли бурлаками еще двое ссыльных: плененный под Москвой европеец Ермес и конокрад Якунька Сорокин. Брат его Михейка был беглым посадским из Москвы. Остальные — сибирские казачьи дети из Тобольска и Сургута.
Рослый, кряжистый, сильный, как жеребец, ловкий, как кот, Ивашка Похабов если входил в раж, то работал за троих, изматывая других служилых. По глупости да по молодости не понимал, что не всем Бог дал столько сил.
Десятский, Максим Перфильев, то и дело осаживал товарища. Иван слушался его, хоть был немного старше по годам, а по воинской жизни опытней. Казака по-детски восхищал ум десятского, успевшего послужить даже за подьячего. Иван с Максимом, Ермес да Филипп Михалев возвращались в Енисейский острог после прошлогодней перемены. На этот раз они шли не на год, как прежде, а на постоянную службу, в разрядные енисейские оклады.
Сургутский казак Филипп Михалев был старше Ивана лет на десять. Он строил первый Кетский острог еще до Великой смуты и теперь шел в страну Енисею в четвертый раз, вез за собой из Сургутского острога жену и двух малолетних сыновей.
Благословением первого тобольского архиепископа Киприана с отрядом казаков были посланы на Енисей три инокини. Ожидая их по указу из Тобольска, отряд задержался в Сургутском почти на месяц. За старшую среди монахинь почиталась Параскева Племянникова из Нижнего Новгорода. Две ее спутницы, Марина и Вера, были пугливыми тобольскими девками из посада за Кошелевым валом.
Когда отряд выходил из Сургутского острога, казаки были доброжелательны к инокиням, хоть и ругали их между собой за задержку. Якунька Сорокин — «красавец» с рваными ноздрями, резаным ухом и отрубленным мизинцем — сперва показывал большую охоту к духовным беседам. Но отряд старался нагнать упущенное время, люди выбивались из сил, через пару недель каждодневных тягот, сырости и гнуса, то и дело возникавших из-за монахинь неудобств стал зол на них и Якунька.
Тоболячки плотно укрывали лица платками, не вступали в разговоры с мужчинами, смущенно опускали глаза, если кто-то приближался. И только Параскева не прятала светлого лица. Глаза ее так ласково лучились самоцветами, что у Ивана обмирала душа, когда она заговаривала с ним. Спрашивала обычно монахиня о Енисейском остроге и о старце Тимофее.
Боясь ненароком обидеть ее, Иван, бывало, подолгу мычал, подбирал в голове осторожные слова, но вскоре освоился, сперва тайком, а потом откровенно, как ребенок, стал пялиться на инокиню, любоваться ею. Она же ахала и умилялась его рассказам о старце Тимофее.
— Кто-то же благословил его? — восклицала крестясь. — Или сам Господь умудрил? — невесть кого спрашивая, она глядела на Ивана голубыми, небесного цвета глазами.
От этих глаз на душе у казака делалось так радостно, что он начинал дурачиться и шалить. То запевал раскатистым басом, то налегал дюжим плечом на конский круп, да так, что выталкивал из трясины послушную и измотанную лошадку. Та, прядая ушами, удивленно косила на него круглым утомленным глазом.
Вечерами по просьбе инокини он часто говорил о старце что знал. На этот раз вспоминал, что с ранней весны до поздней осени тот ходит босой и все плачет. И плачет не о своей нужде, а от жалости к людям. Глянет на иного промышленного или служилого — и слезы бегут по его щекам…
— Ладно разут, раздет, — сам простодушно удивлялся, рассказывая, — волосяную рубаху носит и вериги!
Обласканный вниманием инокинь, он начинал посмеиваться над Тимофеем, чем приводил их в смущение. Бывало, и хохотал, задрав бороду:
— А по нужде за версту от кельи ходит!.. — Умолкал вдруг на полуслове, спохватывался и переходил на другое: — А при ските у него вкладчики: бывшие промышленные, служилые, старики и калеки. Чудно. При нем все состарились в тайге, а Тимофею хоть бы… — едва успел проглотить последнее восклицание.
Сам Иван то и дело смущался, ерзал и краснел, не зная, как рассказать строгим монахиням, что слышал и что знает. Но стоило ему попасть под чарованье голубых глаз Параскевы, слова сами собой слетали с языка.
— Чудной он! Все наперед знает. При мне как-то приказный в съезжей избе обмолвился, надо, дескать, к старцу сходить, спросить. А тот, как на помеле, прости господи, уже возле двери крестится и спрашивает: «Что за нужда во мне?» Только вспомнишь про него, он тут как тут! А зацепится, бывает, веригами или волосянкой за сучок и орет, бедный! То, что всякий юнец разумеет, ему на ум не приходит… Вот такой он, Тимофей!
Невеликим своим умишком понимал Иван: мерин — не жеребец, монахиня — не девка, и ласкова с ним Параскева совсем не потому, что он ей приглянулся, просто больше ей поговорить было не с кем. От лютеранина Ермеса с его заморскими ужимками она открещивалась. Филька Михалев, по грехам, сам шарахался от монахинь, десятский Перфильев был вечно занят заботами каравана, отвечал настороженно, опасливо и вдумчиво. Михейка Сорокин, оказавшись рядом с ними, то ли от испуга, то ли от волнения багровел, надувал щеки, потел и сопел. Другие казаки так обыденно срамословили и охальничали, что монахини убегали от них, зажав уши.
Холодными утренниками, в начале августа, повеяло осенью. А отряд к этому времени не прошел и половины пути до верховий Кети. Оттого все спешили больше прежнего, надрывались на бурлацкой бечеве. Иной раз к ночи кони и люди еле держались на ногах.
Казаки ругались, когда подпирало. Заслышав ругань, монахини пели, чтобы Богородица не услышала грубых слов, не заткнула бы свои пречистые уши и не лишила всех идущих благодати. Чем громче срамословили казаки, тем громче разносились над рекой молитвы.
Кашеварила в пути жена Филиппа Михалева, умученная переходом и детьми. Инокини пекли хлеб, то и дело хватались за непосильную работу. Но даже при самом легком деле — вести коней под уздцы — их поневы были мокры до пояса. Иван да Максим как могли оберегали бедных скитниц. Похабов в тяготах пути так сблизился с Параскевой, до того осмелел с ней, что однажды ненароком признался в тайных помыслах:
— Такие девки! Красивые, ласковые, работящие. Могли бы трех казаков сделать счастливыми. Детей родили бы… — жалостливо взглянул на мокрых, обляпанных грязью монахинь.
Спохватился, подумал, что обидел их: вылетело слово — не воротишь. Но Параскева ответила ему с дымкой печали в усталых глазах:
— Если бы не призвание к Господу, была бы я в женах, Иванушка, такой стервой, тебе бы со мной белый свет стал не мил, прости господи. Уж я-то себя знаю!
Не осудила, не обиделась на сказанное, но будто отрубила казаку гниющий палец. Больно. Но вскоре сердечная тоска унялась, а рана стала заживать. С тех пор разговаривать с Параскевой Ивану стало проще и легче.
На Парашку-грязнуху не бывает сухо. Над стылой рекой и топкими берегами Оби клубился редкий, прозрачный туман. Течение мутной воды почти не примечалось. Бусило низкое, хмурое небо. Стужа прибила вездесущий гнус, Зябкая сырость оседала на обветренных лицах путников, просачивалась под вывернутые парки и шубные кафтаны. А над головами людей курился пар. Бус то и дело просекали мелкие, колкие снежинки.
Не успели они дойти водой не только в верховья Кети, но и до ее устья. Бывалые казаки узнавали дельту, окрестности Кетского острога, а самого его все не было видно. В такую погоду легче двигаться, чем ночевать без крова и костра. Пуще всего Ивану жаль было михалевскую женку, детей и девок, хоть бы в иноческом чине.
За одним протоком следовал другой. А вдали виднелся только промозглый кустарник и чахлый березняк. Казаки в мокрой одежде громко и яростно срамословили, не стесняясь монахинь. Те из последних сил, со слезами, пели. А на низком темном небе не было ни лучика, ни отблеска.
Служилый выкрест Ермес-Иван едва волочил ноги, не то чтобы помочь коню, сам то и дело зависал на нем. Якунька Сорокин, погоняя его, матерно бранил всех еретиков и выкрестов, поносил здешних леших с водяными. Ермес в ответ бормотал под нос латинянскую тарабарщину, а нечисть подсовывала всем под ноги очередную переправу через новую или забытую протоку.
Братья Сорокины, Якунька и Михейка, уже и сами подвывали от бессилия. Илейка, младший брат Максима Перфильева, всхлипывал, не смущаясь слез. Другие насупленно молчали, раздражаясь пением монахинь.
— Э-вон! — вдруг вскрикнул по-русски Ермес, указывая рукой по ходу. — Кетский!
Иван, согнувшись дугой, тащил струг наравне с лошадью, глядел только под ноги. При оклике выпрямился, увидел край затесанного острожного тына. В тот же миг, почуяв дух жилья, стали радостно всхрапывать, прядать ушами кони. Ермес, похваляясь, что первым увидел острог, шепеляво помянул по-русски черта и получил тычок от Якуньки Сорокина. Будто в оправдание, он выругался пристойно, по-латыни.
— Эдак хоть затараторься! — благодушно разрешил Якунька, щерясь на ссыльного рваными ноздрями.
Кетский острог на устье притока Оби был построен в 1605 году. Ставился он прямоугольником — восемь с половиной на семнадцать саженей. При трехсаженном стоячем тыне виден был издали.
Первые воеводы Григорий Елизаров да Чаботай Челищев, затем письменный голова Василий Молчанов таскали этот острог с места на место, выискивая сухую возвышенность. Не в один год, так в другой его топило паводками. Вода заливала часовню во имя Святой Троицы и положенные под нее гробы с телами ермаковцев.
При очередном затоплении казаки перетаскивали острог, часовню и мощи на новое место. Винились перед покойными, просили Господа вразумить, где на этой болотистой земле предать друзей надежно и навеки.
Уже в сумерках отряд был замечен с проездной башни. Над острогом взметнулся пороховой гриб холостого залпа. Максим Перфильев отвечать не велел. Все, что могло отсыреть, отсырело и промокло. Ни у кого уже не было сил высечь огонь, раздуть трут и запалить порох в казеннике пищали.
Якунька Сорокин, державшийся последние часы суток одной только бранью, вдруг скис и обругал острожных:
— Ишь. какие глазастые! Нет бы выйти на подмогу.
Кони, люди и струги подползли к черным сваям пристани. Здесь вверх днищем лежали лодки. Дохлыми рыбинами врастали в берег два тяжелых дощаника.
Из избы возле острожной стены к прибывшим степенно вышли трое, по виду торговые люди. За ними, зябко кутаясь в шушуны и шубейки, вывернутые мехом наружу, семенили девки. Из посадских наспех срубленных избенок потянулись бабы. Одна вышла с младенцем на руках. Со скрипом растворились острожные ворота. Под проездной башней показались стрельцы в малиновых шапках. Зевая и крестя рот, последним вышел седобородый приказчик.
— Годовалыцики, или че ли? — спросил, щурясь на прибывших казаков.
— Плохо встречаете! — слезно вскрикнул ссыльный Сорокин и с укором оглядел стрельцов.
Приказчик бросил презрительный взгляд на рваные ноздри, на зарубцевавшийся комом хрящ отрезанного уха. Никто не торопился помочь казакам вытянуть струги, принять лошадей. Охая, тяжко выползли на сушу инокини в мокрой одежде. Со слезами на глазах отвесили по низкому поклону на крест часовни. Запели срывавшимися голосами.
— Вон кого принесло! — смахнул шапку старый приказчик. — Что так припозднились-то? — залепетал, оправдываясь. — Завтра встретим по чину. Нынче сушитесь и ночуйте: хотите в остроге, хотите здесь, — кивнул на избы.
— Нам бы поближе к вашим красавицам! — сбил на ухо соболью шапку Максим Перфильев. Как ни был измотан переходом, мокрый, обляпанный грязью, но перед кетскими девками все же пытался блеснуть удалью.
Те, кидая любопытные взгляды на казаков, шумно обступили монахинь, повели их в избу. Максим, придерживая саблю и выпячивая грудь, крикнул вслед:
— К себе нынче не зовите! Придем только после бани. Засмердели в пути, что ведмеди.
Бабы, жены стрельцов, подхватили детей Филиппа, взяли под руки его беззвучно плачущую жену.
— Можем и сейчас баню затопить! К полночи дойдет! — будто из-под полы приказчика, выскочил стрелец с плутоватым лицом. Глаза его беспрестанно бегали по прибывшим. Невысокий, сухощавый, пронырливый, с бритым наголо лицом, он сказал про баню и пропал. Через миг выскочил из-за другого плеча приказчика, начальственно встал впереди трех стрельцов, разглядывая казаков с вертлявым любопытством соболя. — А тебя я запомнил с прошлого года! — насмешливо впился глазами в Ивана.
Тот устало тряхнул головой:
— Упасть бы как есть. Завтра уж и мыться, и париться.
Пока казаки вытаскивали на берег струги, укрывали поклажу кожами, стрельцы увели измученных лошадей и вернулись. С ними опять пришли три любопытные девки, те, что увели в избу монахинь. Две, напоказ, были в повязках. Одна, кругленькая, конопатенькая, с добрым, ласковым лицом милой сестрицы, другая, высокая и широкоплечая, пугливо глядела на казаков большими коровьими глазами. Ее длинные руки висели метлами и несуразно высовывались из коротких рукавов вывернутого тулупа.
Третья, явно девка по стати и по зовущим взглядам, выделялась среди подружек. Голова ее и часть лица были покрыты платком, как у женщины. Для прибывших были открыты только горделивый нос да глаза. Но и того хватало, чтобы заныли молодецкие души. Даже в промозглых сумерках вечера эти глаза светились чудным бирюзовым светом. Под поношенным шушуном угадывалась стройность стана. А глядела она на казаков как-то чуть боком, искоса, что настороженная курица или задиристый петух.
— Мы вам и воды наносим, и натопим! — с готовностью предложила конопатая, не сводя глаз с высокого, широкоплечего Ивана.
— И постираем ношеное! — баском пророкотала ее высокая подруга, переминаясь с ноги на ногу. — С дороги дальней без бани и без ужина никак нельзя!
Приказчик махнул рукой, дескать, сами сговоритесь. Зевнул в бороду. Приволакивая ноги, поплелся к острожным воротам. Следом вкрадчиво засеменили стрелец с бритым лицом и Ермес. Максим Перфильев с сожалением крякнул, окинул девок шаловливым взглядом, но как старший в отряде, подался в острог.
Иван отжал, выбил о колено мокрую соболью шапку, нахлобучил ее набекрень, встрепенулся, повел плечами и объявил:
— Коли в Кетском девки так хороши, то и среди ночи париться будем!
Сухощавый стрелец, назвавшийся Василием Черемниновым, безнадежно спросил, нет ли у казаков чего выпить после бани. С пониманием кивнул.
— Поведем в новую избу, что ли? — спросил товарищей. По виду те были братьями: невысокие, сбитые крепыши. Они легко забросили на плечи по мешку с одеялами да по ручной пищали. Василий взял в обе руки по походному котлу. Покачивая ими, повел гостей не к острожным воротам, а в желтевшую свежими венцами, недавно срубленную избу.
— Вихорка да Тренька Савины! — указал глазами на стрельцов с мешками и с ружьями. — Пятеро нас здесь в караулах. Другие, с сотником, на службах по разным местам и на Енисее. А от этой избы баня ближе, — пояснил, почему повел сюда.
Три девки послушно брели следом за стрельцами и казаками. Вместе с ними они вошли в темную, сырую избу. В лица пахнуло смолой. Под ногами захрустела щепа. Казаки со стрельцами побросали поклажу на лавки. Конопатая девка стала набивать щепой чувал.
— Вы бы, Савина, баню затопили. Ночлег мы сами устроим, — приказал Василий как старший.
Девка, названная Савиной, покладисто кивнула, колобком покатилась к двери. Молодой стрелец, один из братьев Савиных, постучал кремнем по железной полоске, раздул трут. Стал дуть на щепу в чувале. Засветился огонек. Иван тяжко сел, сбросил на земляной пол раскисшие бахилы. Босой, скинул мокрый кафтан и стал стягивать липкую рубаху.
Длинная широкоплечая девка, которую звали Капитолиной, вскоре принесла хлеба и остывшей печеной рыбы. Зычным, теряющимся голосом, по-детски искренне и бесхитростно она отвечала на шутки полураздетых казаков. Большими руками сгребла их мокрые, провонявшие потом и золой рубахи, понесла стирать.
— Невесты! — степенно кивнул им вслед Вихорка Савин. — Купцы привезли нам в жены по царскому указу. По десять рублей рядятся. За каждую! — засопел и в сомнении покачал головой, как пашенный крестьянин на ярмарке.
Брат его, Терентий, обернулся к казакам, пояснил, ожидая поддержки:
— У торговых, что у новокрестов, совести нет. У нас годовой оклад пять рублей. Не мог наш мудрый государь отправить нам невест по такой дороговизне. Брешут, что потратились на содержание.
— Нам бы жалованье по пяти рублей! — завистливо воскликнул Якунька Сорокин. — Даром служим, по принуждению!
— А по мне без жены так и вольней! — беспечально хмыкнул Василий Черемнинов. — Смотрю на женатых — одни хлопоты.
— За хорошую ясырку[147] рублей пятнадцать просят! — тугодумно продолжал рассуждать Вихорка. Васькину насмешку он пропустил мимо ушей как не стоящую внимания глупость. — Было бы на что, я бы женился. Одолжаться боюсь!
Ярко разгорелась смоленая лучина. Загорелись дрова. Изба стала нагреваться. Стрельцы поговорили и ушли. Якунька уже всхрапывал на лавке. Михейка Сорокин спал вниз лицом, так и не скинув с себя мокрой одежды. Иван, подремывая, неохотно вставал, подбрасывал дров в очаг. Тихо вошла Капитолина, развесила возле огня выстиранные рубахи. От девки и от белья пахло рекой. Приметив, что Иван наблюдает за ней, она обернулась, приглушенно прошептала:
— Баня скоро дойдет. Я разбужу! Спи пока!
Так уютно и покойно стало на душе Ивана Похабова, будто отдыхал у любимых и родных, живших семейно. Разве в снах чудился ему такой покой. Ничего похожего в прошлой жизни у него не было. Он блаженно вытянулся на жесткой тесаной лавке и провалился в сон. Очнулся, когда скрипнула дверь, в избу вкатилась запыхавшаяся Савина. Окинула взглядом спавших, взглянула на Ивана. Голосом тихим и ласковым сказала, что каменка дошла до хорошего пара, а вода в котле горяча. Можно мыться.
Иван сел. Толкнул Илейку Перфильева, стал будить Сорокиных. Драный палачом Якунька сонно пробормотал, чтобы его не трогали, перевернулся на другой бок и сладко зевнул.
Трое вышли из избы полуголыми. Холодная, сырая ночь со свежим запахом снега разогнала сон. Савина принесла два березовых ведра с холодной водой из ручья, бесшумно поставила их у прикрытой банной двери, смущаясь полуобнаженных казаков, ушла во тьму.
Вскоре те захлестались вениками. Стали шумно бултыхаться в ледяном ручье. Хохотали от удовольствия, снова грелись на полке. Послышались шаги в ночи, шорох. Кто-то постучал по кровле.
— Хороша ли водица? — заботливо спросила Савина.
— Хороша! Спасибо, девица! Баня того лучше, — заскоморошничал Михейка Сорокин. — А вот руки у нас корявы. Не можем спин потереть щелоком. Помогла бы, красавица!
Савина фыркнула и стала удаляться. Иван на карачках выполз из банной двери, окликнул:
— Не серчай, девица! Дай бог тебе жениха доброго.
— Ладно уж! — послышался добродушный смешок.
— Ой хороши девки! — забормотал, влезая на полог. — Ой хороши. Остаток ночи он спал глубоко и легко. Проснулся с радостью на сердце.
Помнил из видевшихся снов только чувство тихого, безмятежного счастья. Глядя в тесаный потолок избы, может быть, впервые, он ощутил тоску — не по телесному блуду, а по семейной жизни, которой не знал. Подумал вдруг: «Было бы что заложить, женился бы! Уж больно девки хороши!»
Хороши были все. А перед глазами стояла одна. Глазами и статью — царевна. Голоса ее Иван не слышал. Припоминал, как она в избе скинула тулуп, но голова осталась обмотанной платком. В простеньком сарафане, в душегрее поверх залатанной рубахи, неторопливо и как-то неловко она помогала подругам, отвечала на шутки казаков взглядами. Похоже, что и словом не обмолвилась, как немая.
Иван бросал на нее затаенные взгляды и все хотел увидеть губы, которые она прятала. Не мог поверить, что при таких глазах на месте рта дыра или два трухлявых подберезовика.
Казаки еще спали. Иван радостно потягивался. Тихонько вошли давешние девки, затопили очаг, повесили котел на огонь. Капа большими руками щупала сохшую одежду, убирала ее подальше от огня. Девки тихонько шушукались, посмеивались, шебаршили.
Но вот шумно распахнул дверь, вошел давешний стрелец Васька Черемнинов, и в избу хлынул яркий свет. Иван, щурясь, высунул голову из-под шубного кафтана, увидел белый, чистый снег.
— Кто у нас праведный? Кто Господа умолил? — зашумел стрелец. С утра он был уже навеселе. Видно, еще вечером, в остроге, перепала чарка-другая, утром опохмелился. — Не ты же, кур безносый! — шутливо ткнул кулаком Якуньку, притиснул Капу. Та с ревом охнула.
Казаки стали подниматься и надевать просохшую одежду. Степенно вошел в избу старый купец. Сел в сиротском углу, свесив бороду до колен. Казаки зевали, крестили рты. — Не поспели! — крякнул купец, по-хозяйски поглядывая на девок У печи. — Наказанье Господне! Здесь зимовать придется.
— Вам-то что не зимовать? — стал задирать его хмельной Васька Черемнинов. — Ржи полон дощаник, девки под боком. Пиво ставь, хлеб жуй да девок тискай всю зиму.
Светлая, как снег, тоска стала приятно перемежаться с радостью, сладостно томить сердце Ивана. Он поглядывал на глазастую и все думал: не она ли снилась ему?
Шумно вошел мокрый после бани, румяный Максим Перфильев. Иван с ревностью приметил, как засветились бирюзовые глаза. Подружка окликнула глазастую Пелагией. И он мысленно раз и другой повторил про себя это имя.
Она не смотрела на Ивана ни вчера вечером, ни утром: скользила по нему взглядом, как по стене, а вот с Максима не сводила глаз. Похабов завистливо взглянул на товарища: лицом бел и гладок, румяные щеки в кучерявящейся бороде, прямой, тонкий нос, темные брови: молод, красив, свеж, умен, на язык остер и весел. Пока он, Иван, сообразит, что сказать, Максимка уже с три короба набрешет. Вот и теперь Пелагия с Савиной хихикали, Капа гоготала.
Васька Черемнинов потолкался среди разбуженных казаков. С приходом Перфильева он насупился и заскучал, потому что его перестали замечать. Стрелец покуражился сам для себя и ушел. Максимка же гоголем расхаживал по избе, вертелся возле девок. Заговаривал больше с Пелашкой.
— Кабы меня или товарища моего, — кивнул, спохватившись, на Ивана, — да такая красавица поцеловала!
— Целуют под венцом! — пробубнила та сквозь платок. Прищурились веки, залучились бирюзовые глаза, задурманили.
Иван смущенно помалкивал, Максим не мигая таращился на Пелагию, болтал без умолку и завлекал.
— Так пойдем под венец! — приосанился, ближе подступился к девке грудью, так, что та слегка отпрянула.
— Дьяк при остроге прежде был, а нынче помер! — громко и рассудительно объявила Капитолина, будто дело о сватовстве было решено.
Пелагия взглянула на Перфильева с грустинкой, тонкими пальцами развязала узел платка, обнажила лицо. Иван впился взглядом в ее губы. Они были красивы, под стать глазам, и он не сразу заметил коричневое пятно в полщеки, если не больше. В сравнении с тем, чего боялся, это уродство показалось ему пустячным. Не смутило оно и Максима: он с восхищением глядел на губы, будто нацеливался поцеловать.
Не заметив в нем перемены, Пелагия повеселела, неспешно повязала узелок, но уже не так, как прежде: теперь оставались открытыми губы и ровный, круглый подбородок. Чуть открылся любопытным взглядам край пятна на щеке.
Якунька Сорокин, как на торжке, внимательно осмотрел ее щеку и самонадеянно замотал головой, будто Пелагия поглядывала только на него:
— И ты меченая! Взял бы за себя, да двум меченым в дому тесно!
— Ну уж это кто кого метил! — девка блеснула рассерженными глазами и вскинула голову.
Максим, не оборачиваясь к изуродованному палачом казаку, обронил:
— Чья бы собака рычала.
— Меня — палач, а ее. Не к месту будь помянут! — набожно возвел глаза к потолку и перекрестился ссыльный. — Я, христа ради, безвинно принял муки на Москве!
— Безвинно ноздри не рвут! — огрызнулась Пелагия и горделиво скинула платок на плечи.
— Бывает, рвут! — ничуть не смущаясь, стал рассказывать Яков. — Ярмонка была. Иду я. Народу — ни ступить, ни протиснуться. Глядь, жеребец чалый на брюхе лежит. «Лежишь, ну и лежи», — думаю. Хотел переступить. А он как вскочит, как понесет, бешеный. Погоня то отстанет, то догонит. Наконец окружили, схватили за уздцы жеребца. «Спасибо, — говорю, — братцы! Спасли от смерти неминучей. Только трудами вашими не убился до смерти!» Ага! Поверили? Положили на козла, кнутами спину распустили, ухо отрезали как конокраду, мизинец отрубили как вору. Мало им — ноздри вырвали, в цепях, за приставами[148] на сибирскую службу привезли. Страдаю во славу Божью!
— Ты Бога-то не поминай всуе! — начальственно выбранил казака Максим. И вдруг спросил, удивляя Ивана: — А что, красавицы, пойдете ли с нами в Енисею венчаться?
Пелагия горделиво передернула плечами. Простодушная Капа оторвалась от квашни, стряхнула тесто с пальцев, плаксиво проревела:
— Коли хорошие люди замуж позовут — отчего не пойти!
Старый купец все помалкивал, все поглядывал из угла, одобрительно потряхивая бородой. Потом хмыкнул, крякнул и молча вышел, чтобы не смущать молодых.
После молитв и завтрака все прибывшие гурьбой отправились в острог, в съезжую избу. Хрустел под ногами свежий снег. Черная река неспешно несла студеные воды на полночь. Дышалось легко и привольно.
— Будто у них из стрельцов женихов нет? — безнадежно пробубнил Иван, едва они с Максимом вышли из избы. Удивлялся разумному товарищу: чего ради возле чужих девок вьется?
— Нет! — весело вскинул на него глаза Максим. — Их попутно с рожью купцы везли в Томский, тамошним казакам в жены. Нынче летом остяки Пегой Орды бунтовали. Нам не встретились, а других грабили от Нарымского до Кетского. Работные бурлаки перепугались, купчишек с товаром бросили. Стрельцы, по слезным просьбам, приволокли их струги сюда, а дальше вести некому. Да и поздно уже.
Искренне удивлялся Иван Похабов: когда только товарищ успел все вызнать. Максим же знай себе посмеивался над недоверчивыми расспросами:
— Заламывают купцы за девок по десять рублей. Говорят, по шести отдали в Тобольском курским купцам. Да потратились, приодели к зиме, кормили в пути. — Максим взглянул на Ивана пристально, вздохнул с тоской: — А ведь хороши девки. Меченка-то — пава! Какие же на Москве невесты, если нам таких шлют?
— Боятся, поди, меченых, — сипло пробубнил Иван, воротя глаза на сторону.
— Понравилась? — весело и пытливо спросил Максим.
— Еще чего? — смущенно вскинулся было Иван. Но, помолчав, согласился: — Хороша!
— А как рассорит нас? — стал смешливо подначивать товарищ.
— Еще чего! — угрюмо пробубнил Иван. — Добрый казак и за жену против товарища не возропщет. Не то что…
Они поняли друг друга с полуслова. Максим из сургутских сибирских родовых казаков. Иван саблей, кровью и кнутами с малолетства породнился с донскими станицами, вошел в их круг. Оба даже по виду отличались от ссыльных и приверстанных в оклады. Такие, как они, и тонули, и в петлях болтались с удалью. А уж за товарища готовы были идти хоть на плаху.
— Пусть будет промеж нас уговор: кого сама выберет, тот ее и возьмет. А товарищу не вредить! — сказал Максим, глядя на Ивана.
— Да она уже тебя высмотрела! — безнадежно отмахнулся он.
За ручьем курились землянки и балаганы гулящих, три островерхих чума пегих людей[149], что пришли сюда укрыться от врагов.
Казаки вошли в острог, как в колодец. По углам со стороны реки Оби были срублены две башни. Под ними избы в три потолка. Верха шатровые, крытые тёсом. Третья башня была со стороны Кети. Под ней — съезжая изба. Сверху караульный чердак. Между башнями поставлены острожины. К ним сложены поленницы в рост человека. Теснота требовала порядка. Выпавший за ночь снег был убран.
Седобородый приказчик уже поджидал казаков, сидя в красном углу. Возле него крутился вчерашний стрелец с выбритым лицом. Сгибаясь в низких дверях, енисейцы вошли гурьбой. Смахнули шапки, стали креститься и кланяться на образа. Чинно расселись по лавкам. Приказчик поглядывал на них с печалью и укоризной. Вместо приветственной речи взмолился:
— Уймите своего выкреста! Уши прогудел. Велит челобитную царю послать через тобольских воевод. У меня ни прочесть ее некому, ни отправить не с кем. Писана та челобитная русской речью да латинскими буквами.
— И когда успел настрочить? — удивился Максим. — Поди, Индию под царскую руку подвести сулит? — насмешливо взглянул на Ермеса, сидевшего особняком.
— Балаболил до полуночи. Спать не давал! — возмущенно вскрикнул стрелец. — Дай, дескать, ему рейтар да пушек, да денег.
— Грозил государевым словом и делом[150], а где приставов взять? — стал оправдываться старый приказчик. — Караульных — и тех не хватает. Все на службах. Вот Васька Колесников, с ночи еще не спал, но печь для вас натопил, — с благодарностью кивнул на проворного стрельца.
Тот, польщенный похвалой, с важностью добавил к сказанному старым приказчиком:
— Нынче тунгусы через Енисей переправляются, остяков воюют. Грозят Кетский острог разорить. Как лед встанет — хуже будет.
— А ты его в Томский отправь! — посоветовал Максим. — Там грамотных много, и заплечник[151] искусный. Прочтут и разберутся.
— Было бы с кем, — проворчал приказчик, успокаиваясь. — Енисейский воевода ждет вас не дождется. Той ржи, что была доставлена ему по воде в Маковский острог, тамошним служилым мало. А у меня ее хранить негде. Амбары подгнили и полны. По льду теперь всю зиму возить придется.
— Не наша вина! — загалдели казаки. — Месяц ждали инокинь. Без них воевода не пускал.
— И рожь есть, и кони, — продолжал жаловаться приказчик. — А сани старые, разбитые, придется вам самим делать их. Моим людям некогда. На коня по пятнадцать пудов грузить, не больше. Конь — не человек, он от натуги помереть может. А вам за зиму надо успеть две ходки сделать, — пытливо оглядел казаков. — А то и больше.
— Коней мало — сам впрягайся в гуж! — насмешливо поддакнул приказному проворный стрелец. Хохотнул: — А еще бы девок взяли у купцов и запрягли бы их вместо жеребушек.
— Все плачутся! — неприязненно вспомнил приказный о торговых людях. — Вам бы правда у них рожь взять да девок. Если летом продадите ту рожь промышленным людям, то девки, считай, даром достанутся.
— Сторговались бы, — весело согласился с приказчиком Максим, — если бы на нас были шубы собольи, а то ведь только шапки! — выразительно взглянул на приказчика.
Тот понял намек, замахал руками:
— Одолжить мне вас нечем!
Максим заерзал на лавке.
— Девок без ржи, а рожь без девок купцы не отдадут! — хитроумно заюлил перед старым приказчиком. — Даже если наполовину — заплатить нам нечем. Вся надежда на тебя, батька! Давно ведь сидишь на приказе, припас себе соболишек и серебра скопил на черный день?
Бритый стрелец, Васька Колесников, стал бросать на старика опасливые и виноватые взгляды: может быть, зря обмолвился про девок?
— Я старый, — со вздохом согласился приказный и свесил седую голову, покрытую шапкой из черных с проседью собольих спинок. — Каждый день помереть могу! Богатство туда не прихватишь! — С тоской возвел глаза к низкому потолку. Язвительно усмехнулся: — Но на вас долг может остаться, а на мне — грех: сказано, через кого соблазны — тому лучше не родиться!
— Отдадим на помин души, — загалдели казаки. — Не возьмем греха на душу!
— А соблазны? — беззубо ухмыльнулся старик. — Вот и наплюет мне ангел в глаза за добро мое, что подстрекал ко греху!
Васька Колесников по-куньи бросал взгляды на споривших, настороженно прислушивался и помалкивал. Максим же и так и эдак раззадоривал приказчика, пока не понял: не даст он денег в долг. Разве под кабалу?
— Под кабалу дам рухляди на десять рублей до Святой Троицы без роста, а после гривенник с рубля. Но только на тебя, — ткнул пальцем в Максима. — Твоего отца знал. Родня у тебя в Сургутском. Или на него, — ткнул перстом в сторону равнодушно помалкивавшего Филиппа Михалева. — Родни много. Брат на пашне в Туруханском. А безродным да пришлым не дам!
Михалев с недоумением поднял на приказчика потухшие глаза женатого человека, пожал плечами:
— Мне-то кабала на кой?
Казаки вышли из острога, беззлобно поругивая старого скупца, посмеивались: без покупной ржи можно обойтись, а девки достанутся только троим. Пуще всех насмехался, оправдываясь перед товарищами, раззадоренный Филипп:
— Мне с Ермесом девки ни к чему, Илейка — молод, Якунька — сувор[152]. Остается на двух казаков по одной невесте.
Иван Похабов принужденно посмеивался вместе со всеми и примечал, что у Максима лицо было совсем не смешливым: глаза блестели, лоб морщился. Натужно думал о чем-то десятский. И вдруг спросил Ивана в упор:
— Шапку отдашь?
— И шапку дам, и шебалташ[153] с золотыми бляхами, — провел рукой по пряжке на поясе. — Ужто и вправду думаешь сторговаться?
Жаль было шапки. Первый год И ван был покрыт дорогими соболями. С тех пор как начал службу, где по бедности, а больше напоказ, ходил на донской манер в драном кафтане и суконном колпаке, но при дорогом оружии.
Тягаться с Максимом в таком деле, как сватовство, он и не думал. С сердечной тоской уступал товарищу приглянувшуюся девку. Отказать же ему в помощи не мог, хоть бы и себе в убыток. Что шапка, если десятский готов был дать на себя кабалу?
Работы при остроге было много. Только денек и погуляли казаки. На другой сошел снег, пригрело осеннее солнце, обманно запахло весной. Иван тесал жерди на оглобли. Сорокины в котлах вываривали и гнули полозья для саней. Заняты были все. Дела не мешали казакам поглядывать на стрелецких жен да на купеческих девок. С инокинями и с теми они добродушно шутили, не поминая былого.
Увидел Иван Пелагию в другой раз — и обомлел пуще, чем при первой встрече. Она показалась ему еще краше. Вроде бы простился с ней в душе, отдал товарищу без соперничества, а сердце колотилось о ребра, будто хотело выскочить из груди.
Она только вскользь окинула его бирюзовыми глазами, и он понял вдруг, что все прежние зазнобы, даже инокиня Параскева, нравились ему лишь потому, что были похожи на эту самую Пелашку-Меченку. Он о том слова никому не сказал, думал, что виду не подал, но услышал за плечом тихий и ласковый голос:
— Любуешься!
Вздрогнул, обернулся — Савина, конопатенькая, кругленькая, как колобок, глядела на него печальными и добрыми глазами. Они только и запоминались ему на ее простецком лице. Да еще голос.
— Кем? — вскинул голову Иван, скрывая смущение.
— Красивая она! — взглянула вслед подружке Савина. — Я, хоть и девка, а в бане, бывает, глаз отвести не могу. Сделал же Бог для кого-то такую красоту. Не мне чета, — простодушно вздохнула и перевела на Ивана печальные глаза.
Уже этого взгляда хватало, чтобы понять, что он ей приглянулся. И она ему нравилась. Легко с ней было и просто. Будь у него такая сестра, наверное, сильно любил бы ее и оберегал.
— С чего взяла, что сама неказиста? — грубовато проворчал, снова принимаясь за жердь. — Очень даже пригожа! — Хохотнул принужденно: — Вон Капа — да! Не девка, кобыла!
— Она хорошая, — вспыхнула от случайной похвалы Савина и смущенно оглянулась на подружку. — Попадется ей добрый муж, век счастливым будет.
Яростно зазвенел топор. Иван сжал зубы, молча и усердно заработал, будто срывал злость на жердине. Савина нелепо топталась рядом, ждала чего-то. Дождалась-таки, когда Иван снова взглянет на нее.
— А меня Вихорка Савин сватает! — пролепетала виновато. — Все шутит: «Савин да Савина — одна чертовщина!» Прости, Господи! — опасливо оглянулась на монахинь.
— Стрелец? — равнодушно спросил Иван. Глаза его презрительно блеснули, он желчно ухмыльнулся в бороду. — Кафтан у него новый. А в кармане блоха на аркане. Этот кабалы на себя не даст!
Савина обиженно опустила голову. Захлопала длинными ресницами, с которых готовы были сорваться слезы. Иван устыдился, что обидел ее ни за что, пробурчал, оправдываясь:
— Присушила Максимку ваша Пелашка. Даст Бог, всех вас у купцов выкупим.
Савина не поднимала затуманившихся глаз и не уходила прочь. Иван спросил мягче:
— Тебя-то как занесло в Сибирь?
— Сирота я! — вздохнула она, справляясь с обидой. Как у ребенка, сквозь слезы уже блеснули глаза. — Жила в семье брата, нянчила детей. Женихов-то повыбили, а я некрасивая, — напомнила упрямо. — Брат помер. Жена его года не вдовела, вышла за хромого. Тот повадился ко мне, к перестарке, приставать. Братаниха приметила, стала меня со свету сживать. Думаю, хоть бы за какого старого, за бедного или покалеченного пойти. Лишь бы человек был добрый. Да жить бы своим домом. Тут купцы в Сибирь собрались, стали звать девок-перестарок в жены сибирским казакам. Вот и поехала.
— Правильно сделала, — одобрил Иван. — Будет у тебя и дом, и муж. С голоду не помрешь, а разбогатеть можешь. А Вихорка — служилый, при государевом жалованье. С ним не пропадешь.
Савина вздохнула и опустила печальные глаза.
Едва встали реки и лед сковал топкие берега Оби, купцы забеспокоились пуще прежнего, сбавили цены на рожь и за содержание девок. Кетский приказчик по настойчивым просьбам казаков уже соглашался дать двадцать рублей рухлядью, но только под кабальную запись на Перфильева.
— Сто пудов по двадцать копеек возьмем — двадцать рублей! — считал Максимка. — Летом промышленным продадим по полтине — пятьдесят рублей. Все расходы покроются! Еще и прибыль будет.
Казак Михейка Сорокин, в хороших сапогах, молодецки вытягивался и примерялся к Капитолине. Товарищи уверяли его, что на высоком каблуке он никак не ниже ее! Братья Сорокины готовы были снять с себя все меха в уплату за выкуп девки, недостающее при верных свидетелях соглашались объявить своим долгом Максиму Перфильеву.
Стрелец Вихорка Савин сватался к Савине. Они с братом Терентием отдавали за нее купцам всю рухлядь, что была у них на одежде и в запасе, занимали недостающее где-то на стороне. Рожь, без которой купцы не отдавали девок, Максим брал на себя, для своей прибыли и на свой риск.
Предстоял торг. Женихи, сочувствующие им казаки и стрельцы позвали купцов, чтобы верно оценить собранное добро. Торговые люди перебрали, перещупали шапки. При низком солнце осмотрели меха, данные приказчиком под кабалу. Старый купец взялся было за шебалташ. Осторожно, как змею, поднял его за сыромятную кожу, опасливо осмотрел пряжку.
Хитроумной зацепкой она складывалась из двух личин. На одной была изображена голова бородатого воина в островерхом шлеме, на другой — круглая, щекастая голова степняка. Непомерно большая рука, сжатая в кулак, держала ее за косу. Глаза воина были широко раскрыты, а степняк так щурился, что походил на мертвеца.
Заметив поразительное сходство остроголовой личины с лицом Ивана Похабова, купец метнул на него испуганный взгляд и брезгливо отбросил опояску, вытирая руку о кафтан.
— Не возьму!
— Золото же? — стал напирать Максим, оглядываясь на свидетелей.
— Бесовщина! — рыкнул купец и замотал бородой. Сыновья его разглядывали бляхи и кидали на Ивана боязливые взгляды.
— По весу торгуемся, на золотник по девяносто копеек! — не унимался Максим. — Возьми да расплющи или расплавь!
— Сам расплющи! — огрызнулся старый купец. — А я посмотрю, не отвалятся ли у тебя руки.
Максим не нашелся как возразить и что-то пробурчал под нос. Не хватало двух рублей. И тут пронырливый, гладко выбритый стрелец Василий Колесников с удальством и с шалыми глазами бросил на кучу четырех клейменых соболей, которые без споров оценили в три рубля.
— Возьми в залог! — с благодарностью протянул ему опояску Иван.
— Не за что! — весело воскликнул стрелец.
— Дай бог тебе здоровья! — расчувствовался Максим. А Иван одобрительно пророкотал:
— Первый раз средь верстанных стрельцов вижу казака по духу!
Но Василий, выставив вперед ногу в высоком сапоге с гнутым носком, с важностью объявил:
— Я вам не дарю рухлядь. Сам Капу возьму в жены!
— Тьфу на тебя, козел драный! — вскрикнул возмущенный Якунька Сорокин. Напоказ выхватил из рук купца свою шапку. Тот с рассерженным лицом бросил всю кучу рухляди на лавку. Опять не сходился торг.
Михейка Сорокин тоже схватил свою шапку, нахлобучил ее на голову, с вызовом взглянул на стрельца: дескать, я тебе не пособник, попробуй обойтись без меня. Затем вытащил из кучи пару клейменых лис.
Вихорка Савин насупился. Максим на миг растерялся. Торжествуя, поперечный Колесников достал из-под полы еще пять соболей, связанных бечевой за отверстия глаз. С первого взгляда на них видно было, что плутоватый стрелец выкупает невесту без долга.
— Это мы торговались! — вскрикнул Якунька Сорокин, взывая к свидетелям. — Мы сбили цены с десяти до семи рублей!
— Нет такого закона, чтобы невесту брать за себя неволей! — неуверенно возразил Максим Перфильев. То, что стрелец расплатился полностью, для него было облегчением долга.
Купец стал складывать меха в мешок. Он считал торг законченным. Казаки и стрельцы послали за Капитолиной, привели ее к приказчику растерянную, испуганную.
— Два жениха за тебя спорят! — ласково кивнул ей старик. — Тебе выбирать, кто из них люб.
Высокая девка смутилась пуще прежнего, покраснела. По подсказке стала простодушно разглядывать насупленного Михейку и щеголявшего удальством Василия.
— Со мной не пропадешь! — весело подступал он к ней, по-свойски оглаживая локоть.
— Умен и ловок! — устало поддержал стрельца приказчик.
— Ой, да я и не знаю! — баском залепетала девка. — Был бы человек хороший. Раз берут — надо идти!
— Вот и иди за этого шибздика! — не сдержавшись, крикнул Якунька. — Он тебе по самое ухо вместе с шапкой.
— Зато долг оплатил полностью! — ничуть не смущаясь, стрелец вытянулся струной и выгнул грудь колесом. — Мал, да удал, большой, да дурной!
Братья Сорокины разгневанно хлопнули дверью. К облегчению купцов и Максима с братьями Савиными, торг был закончен.
Вскоре пришли в острог пешими трое стрельцов из Маковского острожка, до которого так и не добрались казаки Перфильева. По указу енисейского воеводы и стрелецкого сотника Поздея Фирсова они плыли по Кети все лето, ставили балаганы, становые избушки с банями, косили сено для зимних обозов. Припозднились и они, не ожидая таких ранних морозов. На последней неделе пути колотили лед шестами и все равно застряли, бросив струг. Верховодил троицей удалой стрелец Михейка Стадухин.
Чуть позже прибыли на устье Кети вестовые казаки из Томского города. Легкую тунгусскую берестяную лодку они волокли по льду. Последние дни также добирались пешком.
Прибывшие с разных сторон стрельцы и казаки передали приказчику отписки[154] и челобитные[155], приняли от него грамоты и наказы[156]. Приказчик, пользуясь случаем, столкнул на руки томским служилым зловредного Ермеса с его челобитной. И те вскоре ушли в Томск на лыжах с нартой.
Заплатив продажную, покупную, пожилую и отходную пошлины, следом за томскими служилыми, но в другую сторону ушел купец с сыновьями. Двинулись они с опаской, от зимовья к зимовью, вызнавая, где стоят отъезжие караулы да стрелецкие станы.
На Дмитра лед окреп, сытые кони лениво копытили присыпанную снежком прошлогоднюю траву. Сани были нагружены и готовы к переходу. Приказчик в память дедовой недели и своих погибших товарищей выставил бочонок пива. После молитв казаки и стрельцы, бывшие при остроге, собрались за столом, стали поминать всех павших за Святую Русь.
Надо было поторапливаться, пока лед не завалило снегом. Наутро, до рассвета, все острожные жители помогали обозным в сборах. Старшим среди стрельцов по наказной памяти сотника был поставлен разумный и степенный Терентий Савин. Но громче всех кричал и распоряжался прибывший стрелец Михейка Стадухин.
Над чахлыми лесами, над лесными гривами и застывшими болотами забрезжил рассвет. Первый обоз с рожью пошел по Кети. Четырнадцать саней нагрузили так, что кони без помощи людей не могли сорвать их с места. Первыми пошли подводы стрельцов. Михейка Стадухин лучше других знал, где расположены станы, помнил путь среди многочисленных проток. Терентий не противился, чтобы он налегке шел первым, ощупывая лед лыпой[157]. Все остальные, по двое, тянули перегруженные сани, помогали коням. Три девки-невесты да три монахини наравне со служилыми волокли и толкали подводы, елозя ичигами по льду.
К вечеру первого дня к Терентию Савину подскочил Васька Колесников с перекошенным лицом и раскричался, тыча пальцем под глаз, где набирал синеву кровоподтек:
— Ты у нас начальный или Михейка? Да кто он такой?
Дюжая Капитолина изо всех сил упиралась в задок саней, натужно кряхтела. Но брошенная Васькой подвода едва двигалась, сдерживая ход других.
— Вечером разберемся! — невозмутимо ответил Терентий. Сам он, как все, помогал коню тащить груз. Молча мотнул головой, указывая, чтобы Василий занял свое место, и обоз продолжил путь.
Вечером возле стана Иван приметил, что резвый, пронырливый стрелец приуныл. Ввязываться в стрелецкие споры Похабов не желал. Он распряг своего коня и увидел, как возятся с заледеневшей бечевой на хомуте монахини.
— Идите грейтесь! — оттеснил их от подводы. На щеках Параскевы висели застывшие льдинки слез. Тяжек был день для инокинь.
Едва Иван выпряг их коня, к нему подскочил Михейка Стадухин, замахнулся лыпой, закричал:
— Куда поставил сани? Не пройти к копне.
И правда, монахини по девичьей неосмотрительности загородили путь. Стрелец в запале не посмел ударить казака, но стегнул лошадь. Ивану этот прыткий тоболяк напоминал вольных казаков, среди которых он вырос. Но здесь казачий обычай был попран. Лошадь с хомутом на шее рванулась из оглобель. Иван не удержал ее, но схватил Михейку за шиворот одной рукой, другой за кушак, молча отшвырнул на сажень, сам взялся за оглобли и отодвинул сани в сторону.
Михейка резво вскочил на ноги, лаял матерно, размахивал лыпой, но на Похабова больше не кидался. В нагретом, дымном балагане Иван заметил, что возле него вертится побитый Васька Колесников. Даже спать укладывался верткий стрелец у него под боком, а не рядом с невестой. И еще показалось Похабову при бликах огня в очаге, что под другим глазом Васьки Колесника темнеет новый синяк.
Обоз двигался от балагана к балагану, от зимовья к зимовью, где стрельцами загодя было накошено и уложено в копны сено. Здесь был припас дров. К ночи уставали все, а Меченка-Пелагия приползала к стану чуть жива, падала на холодные нары и заливалась слезами. Максим как мог помогал ей, а Иван невольно вынужден был сторониться их обоих: от монахинь отдалился, к девкам не прибился.
Удивлялся он сам себе: к кабальной грамоте руку прикладывая, знал наверняка, кому достанется Меченка, но до сих пор одарит она его случайным словом — и ходит он весь день то ли хмельной, то ли шальной. Увидит, как льнет она к Максиму, — заноет заноза в груди, и толкает воз так, что конь едва поспевает переставлять копыта, а игуменья зависает на узде. Уговорил-таки Иван бедную Параскеву идти с ним в паре, а не со своей подружкой-молельницей. Но и прежних, душевных разговоров уже не получалось.
На другой неделе и служилые, и девки привыкли к тяготам пути. Невесты укладывались спать отдельно, рядом с монахинями. Они много молились с ними, что больше всех возмущало Колесникова. Сперва смехом, потом с опаской Василий стал корить инокинь.
— Что делаете? — поругивал, кривя стынущие бритые губы. — Прельщаете наших невест монашеской жизнью?
— Бог призовет — не спросит! — жестко отвечала Параскева.
Васька стал крутиться возле Максима, наговаривать на скитниц и добился своего, убедил Перфильева и Тереха Савина, чтобы те посылали налегке людей к балаганам и зимовьям. Как ни трудно было тянуть подводы, но когда уставшие люди приходили на стан, а в жилье было тепло, в котле напревала каша, сено из копен заложено коням, помалкивали самые крикливые из недовольных.
В это время нападения воинских людей не боялись. Последние годы тунгусы частенько побивали кетских остяков. Защитить себя сами они не могли и были верными ясачниками. О появлении тунгусов и киргизов охотно предупреждали.
Однако в одиночку на станы не ходили. Жалея девок, Вихорка Савин, Колесников да и сам Максим в свой черед уходили с невестами, другие — с инокинями. На следующий день монахини ревниво пытали их — не было ли блуда? Простодушную Капу иной раз доводили до слез. Сорокины злорадствовали, а Васька Колесников безбоязненно ругал монахинь.
Перед очередной избенкой с баней выпал черед идти вперед Максиму Перфильеву. Он виновато взглянул на товарища и взял с собой Меченку, а не брата Илейку: обозу облегчение, десятскому — соблазн, а Ивану — сердечная боль.
После полудня они убежали вперед. Михейка Стадухин давно уже не вышагивал налегке как вож[158], а тянул воз наравне со всеми. Первой подводе по заметенному льду двигаться было трудней других, и на этот раз первым шел Иван. Он то толкал сани наравне с конем, то уходил вперед с лыпой и выстукивал лед. Подводу вела Параскева и сочувствующе поглядывала на казака сквозь обметанные куржаком ресницы. Иван работал угрюмо и зло. На закате солнца он что-то недосмотрел, не дослушал пустот под ногами. Когда толкал груженые сани, лед под ним громко треснул, ухнул и провалился.
Студеная вода обожгла тело. Конь на краю полыньи испуганно елозил подковами. Сани стояли наполовину на льду, концами полозьев касались воды. Ноги казака уперлись в твердое дно, вода плескалась под грудью. Илейка Перфильев бросил свою подводу, подскочил к растерявшейся монахине, подхватил коня под уздцы, стал стегать его. Прибежали другие казаки, шумно потянули оседавшие сани. Иван присел в воду по самое горло, поднатужился, взревел, как медведь, и вытолкал их из полыньи. Рожь не намокла. Его самого выволокли на лед. Потоки воды хлынули с одежды.
Надо было разжигать костер, сушиться, а до зимовья с баней — рукой подать. Иван разделся донага. Приплясывая на льду, отжал парку, рубаху, надел сухие ичиги, натянул на тело мокрый мех и побежал. Ладно хоть сермяжная шапка была сухой. Обозные облегченно напутствовали вслед. Никому не хотелось задерживаться на зимней реке до самой ночи.
Когда Иван уловил носом пряный запах дыма, парка уже задеревенела, стертые ею плечи ныли, будто по ним елозила пила. Задыхаясь, он ввалился в протопленную избушку, краем глаз заметил на нарах сплетенные тела. Они резко отпрянули друг от друга.
— Ты кто? — вскричал Максим в потемках и схватился за топор.
Иван припал к огню. Непослушными руками попробовал содрать обледеневшую парку.
Максим, босой, ухватился за ворот, стал сдергивать рукава. Затвердевшая шкура клацала, как сухое дерево, и не поддавалась. Перфильев выхватил нож из валявшегося на полу ичига, чиркнул от горла до паха, хрустко разломил парку надвое, содрал с товарища мех, затем помог снять меховые штаны. Иван блаженно распрямился у огня. Ему захотелось влезть в очаг. Он поднял глаза и случайно поймал чудной взгляд Меченки. Впервые она глядела на него прямо, в оба глаза, глядела бесстыдно, восхищенно.
— В баню! — подтолкнул товарища Максим. Иван с сожалением оторвался от очага и, шатаясь, вышел из избы.
Баня нагрелась на славу. Осиновые стены потрескивали от жара. В каменке желтой грудой дотлевали угли. Иван влез на раскаленный полок и почуял, как стужа капля за каплей выжимается из обмороженного до самых кишок тела. Так и лежал, перепачканный сажей. Потел, пока не пришел Максим. Товарищ выгреб угли из каменки, обмел сажу со стен и полка, положил меховое одеяло у двери, чтобы было во что завернуться на выход. Принес ичиги товарища.
— Напугал ты нас, черт косматый. Не ждали так рано. А Пелашку я не позорил, — смущенно оправдался. — Так. Баловались! — стыдливо отвел глаза.
— Мне-то что? — буркнул Иван. — Давно понятно, что твоя! Сама выбрала.
Максим молча посидел на порожке. Вытер взопревший лоб и ушел. В корыте под полком размокали березовые веники. Иван стал париться, рассерженно вышибая из себя остатки остуды.
Когда он шел к избе, завернувшись в одеяло, услышал с реки храп коней, шум приближающегося обоза. Вошел, не глядя на обоих, отдуваясь, прилег на нары.
— Что там мои портки? — спросил.
— Сырые еще! — с готовностью кинулась к очагу Меченка. Обернулась к нему, как обычно, в пол-лица, взглянула искоса. — Ничего блудного промеж нас не было! — всхлипнула.
— Хоть бы и было, никому бы не сказал, — буркнул Иван. Принужденно зевнул, крестя мокрую бороду: — Не мне, грешному, тебе зад дегтем мазать!
Меченка задергалась, как на угольях, стала всхлипывать и бросать на Максима укоризненные взгляды.
Добрался-таки обоз до Маковского острожка. Стрельцы с казаками устроили дневку, отмылись, отдохнули и двинулись дальше, в Енисейский острог. Пришли они к месту уже после Филипповок. Женихи и невесты опечалились: редко какой поп соглашался венчать в пост. А ближе Енисейского даже дьяка не было.
Из острога их обоз был замечен на застывшей равнине Енисея. Служилые и гулящие выбежали встречать, окликали знакомых и земляков, брали коней под уздцы, подвели к глубокому оврагу с застывшей речкой и вытолкали подводы на высокий берег.
У распахнутых ворот острога стрельцов и казаков встречали енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, белый поп Кузьма Артемьев, стрелецкий сотник Поздей Фирсов. Все они были одеты в праздничное цветное платье. Среди них Иван не сразу заметил знакомого скитника Тимофея, самого старого жителя этих мест. В нагольном тулупчике, в ичигах, в монашеской скуфье, он скромно прятался за спинами лучших людей.
— Вон старец! — указал на него монахиням.
Те заголосили. Заливаясь слезами, пали перед Спасом на воротах, затем бросились к скитнику в ноги. Белый поп с медным распятьем в руках снисходительно отступил в сторону. Воевода с сотником посторонились, пропуская плачущих монахинь. По щекам смущенного инока потекли слезы.
Возле острога Иван заметил в толпе двух богато одетых мужей. Они походили на торговых людей, но один был в казачьем колпаке, богато обшитом соболями. Оба вертели головами, пристально вглядываясь в лица обозных. Как только разглядел их Иван, так удивленно закричал и замахал руками.
Те степенно подождали, когда он положит семипоклонный начал на образ над воротами острога, приложится к распятию, откланяется воеводе. После стали тискать его в объятиях. Встреча обоза продолжалась своим чередом. Приняв поклоны от Максима Перфильева и Терентия Савина, воевода велел подьячему пересчитать, а своим людям сложить в государев амбар пятипудовые мешки с рожью, крупой да солью. Обозным разрешил отдыхать, а на другой день приглашал к его скромному воеводскому столу для разговора и соборных молитв.
Товарищ юности по войнам на Руси Пантелей Пенда сдержал-таки верное казачье слово, пусть не в тот год, как обещал, но вернулся в Енисейский острог и привез за собой брата Ивана, Похабова Егория по прозвищу Угрюмка.
— Долгонько шли, — весело журил казака. — Ждали тебя ко Дмитру. Со скуки чуть не померли.
Брат с товарищем повели его в свой балаган, наполовину врытый в глинистый склон за речкой. Над ним курился дымок. У очага на земляном полу сидел новокрест тунгусской породы. Его черные волосы были острижены до плеч. Рубаха на нем меховая, тунгусская, шапка русская. На ногах были высокие сары. В углу меж двух ручных пищалей стояли большой трехслойный клееный тунгусский лук да колчан со стрелами.
— Синеулька медведя добыл, — посмеиваясь, рассказывал Пантелей. — Жир в три пальца нагулян на кедровом орехе. Оскоромишься? — кивнул на черный котел с березовой крышкой. — Мы, грешные, скверним живот.
— Нам, промышленным, когда велит Бог поститься, тогда и постимся. А как дает отдых, так и гуляем! — едва ли не впервые со встречи подал голос брат Угрюмка. А то все молчал и сдержанно улыбался.
Ростом в старшего брата он так и не вышел: недотянул с вершок, но был так же крепок и легок на ноги. Щеки его покрывались все еще юношеской, негустой, стриженой бородой. Усы он тоже стриг. Одевался богато, держался степенно, оттого, наверное, и говорил мало.
Тайга слухами полнится, вестями живет. Как расстались они с Иваном здесь, в Енисейском, зимовали потом в Туруханском, ходили в Мангазею за товарами и рожью. Весной узнали от тамошних казаков, что в Енисейском прежних годовалыциков сменили стрельцы. Летом наняли гулящих людей, пришли сюда со своим припасом для промыслов. Ивана Похабова не застали. Они объявили себя промышленными людьми, заплатили проездную пошлину. Да с хлебного припаса сверх пятнадцати пудов на каждого — десятину. Гулящие люди построили им просторный балаган, утеплили его мхом. В нем можно было зимовать.
Синеулька свой пай мехов с прошлых промыслов прогулял еще в Туруханском зимовье. И теперь он был у Пантелея в покруте[159]. Бывший пятидесятник хопровской станицы уже изрядно устал бездельничать возле острога. Воевода звал его на службу, но он собирался на Лену.
Угрюм рад был встрече с братом. Он был богат, имел мешок клейменой рухляди, мог безбедно зимовать возле острога или построить дом и поверстаться в посад — кое-какому ремеслу среди промышленных он выучился. Мог уйти на промыслы. Верстаться в казачью службу, в судовые плотники или в пашенные крестьяне не желал.
— Посадские легче живут! — рассуждал Иван. Он думал, что теперь брат будет всегда рядом с ним. — Я на службах, ты при остроге. Срубишь хороший дом, женишься, — опустил голову, вспомнив Меченку. — Друг другу помогать станем, как все братья. Глядишь, пустим корни в этом краю. Мне назад уж не вернуться. Да и не к кому возвращаться. Где она, наша родня?
— И не к чему, — смеясь, поддержал товарища Пантелей. Взглянул на его сермяжный малахай, вынул из мешка три добрых клейменых соболя. — Шапку сшей по чину и по заслугам.
— Не откажусь взять, — тряхнул мехом Иван. — После посчитаемся. Я ведь в Кетском поручником в кабале записался.
— А вот этого, казак, ни при какой нужде не делай! — строго укорил его Пантелей. — Саблю, шапку и волю береги пуще жизни. На кой она казаку, прости господи, если воли нет?
— Да какая уж тут воля? — усмехнулся Иван и грустно взглянул на бывшего казачьего пятидесятника. Уже появилась в бороде первая проседь, а он все тот же, что был под Москвой. Иван тайком вздохнул, не желая затевать спор. Пояснил: — За друга руку к кабале приложил! Невесту ему выкупали!
Пантелей шевельнул бровями, взглянув на товарища с важностью.
— Я нынче богатый! — самодовольно рассмеялся. — Сколько надо, столько дам.
После прошлогодней перемены казаков стрельцами острог тоже переменился: со стороны реки, на месте прежних ворот, здесь была срублена проездная башня с часовней. Появилось несколько новых изб за тыном. Острожная церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы была заложена еще при казаках, но на том дело и стало, хотя со стрельцами прислали белого попа с антиминсом[160]. Служилые злословили, что оклад у него больше, чем у стрелецкого пятидесятника, пусть, дескать, сам и строит храм.
За соборным столом у воеводы прибывшие казаки и стрельцы долго молились. Читал что пристало дородный поп Кузьма. За его спиной, кланяясь друг другу, пели инокини с посветлевшими лицами. Смущаясь многолюдья, им подпевал скитник Тимофей. Он клацал веригами и отвешивал поясные поклоны, едва ли не касаясь лбом тесового пола.
На апостола Андрея Первозванного, когда девки гадают на женихов, а парни на невест, стол был накрыт без горячего хлебного вина[161]. Рождественский пост не жесток: по случаю воскресенья на столе стояли стерляжья уха, рыбный пирог, квасы, морсы да слабенькое ягодное вино. Прислуживали две ясырки остяцкой породы.
Воевода намекал казакам и стрельцам, что налил бы по чарке-другой чего покрепче, но не при духовных особах, и все поглядывал с опаской на старца Тимофея, жавшегося в сиротском углу. С укором и насмешкой он объявил собравшимся, что получил грамоту от архиепископа Киприана. Сибирский и тобольский владыка благословил основать возле Енисейского острога мужской и женский монастыри для содействия обращению в православие инородцев, для насаждения и поддержания благочестия в народе. Зачитав по памяти наказные слова, воевода наставительно обвел собравшихся пристальным взглядом.
— Молитвами и благословением архиепископа прибывшие инокини положат тому начало. А вы помогите им построить хоть бы небольшой скит. Бог вас наградит по трудам.
Собравшиеся тупо помалкивали и вздыхали. Непонятный приглушенный ропот никак не походил на желание схватиться за топоры в свободное от служб время.
— Не скитаться же бедным меж дворов? — удивленно воззвал к совести обозных воевода. А поп Кузьма осуждающе крякнул и повел бородой.
Был Яков Игнатьевич Хрипунов далеко не молод, с густой проседью в бороде. Он уже не первый год вдовел. Сыновья разъехались. Ему же от прежней жизни остались только царская служба да поздняя малолетняя дочь, в которой души не чаял.
Выспросив о новостях Кетского острога, о пути, Яков Игнатьевич стал сокрушаться о задержке стругов с рожью и солью.
— В Кетском хранить припас негде, а нам без него до Крещения не дотянуть!
Казаки загалдели оправдываясь, и он снисходительно махнул рукой.
— Все одно всю зиму возить гужом из Маковского и из Кетского. Больше трех дней дать вам отдых не могу. Овса в остроге мало. Коней кормить нечем, — с сочувствием взглянул на Максима Перфильева, и тот свесил кручинную голову.
Когда Иван попросил у Пантелея дать ему в долг соболей на двадцать рублей без торга, чтобы Максиму выкупить кабалу, тот ответил просто:
— Тебя я дождался, теперь не задержусь. Уйду не на один год. Все, что есть, тебе оставлю. Так верней сохранится. А уж ты распорядись, чтобы рухлядь не истлела.
Пантелей прикармливал с десяток гулящих людей, которые пришли на Енисей без гроша, без припаса, в надежде перезимовать возле острога поденными заработками. Из них он высмотрел только двоих, кого мог бы взять в покруту, но и в тех сомневался. Дождавшись товарища, он поговорил, попьянствовал с ним день-другой и затосковал пуще прежнего. Его душа рвалась в неведомые края.
Новокрест Синеулька то валялся пьяным, то убегал в тайгу. Однажды он вернулся побитым енисейскими остяками. Как всякому тунгусу, ему легче было умереть, чем подолгу жить на одном месте.
Среди вкладчиков скита старца Тимофея Пантелей высмотрел старого, беззубого уже, но знаменитого, по сказам промышленных людей, таежного бродягу по прозвищу Омуль. Промышленные частенько подпаивали старика, выпытывая, что знал о Великом Тёсе. Вызнал и Пантелей, что старый Омуль ходил до братских улусов. Верхнюю Тунгуску он называл по-бурятски Мурэн[162]. Рассказывал, как много лет назад, молодым еще, бывал и в этих местах, еще в те поры знал инока Тимофея и думать не думал, что умирать придется в его ските.
В словах старика Пантелей почувствовал знакомую тоску по неведомой земле. Он долго выспрашивал его про тайный тёс в верховья Ангары. Старый промышленный хоть и намаливал себе кончину безболезненную да непостыдную, но томился заболоченным левым берегом Енисея. Душа его рвалась за реку, в тунгусские кочевья, к причудливым скалам, в равнинные братские улусы. Там и смерть казалась ему краше.
Пантелей со стариком понимали друг друга. Их обоих уже нисколько не интересовало, хорош ли соболь по Ангаре и Тасею, много ли его. Пенда спешил в верховья Зулхэ-реки[163] и вызнавал кратчайший путь.
Западная Сибирь, болотистая и равнинная, была совсем иной, чем земля за Енисеем. Там воевали все и против всех. Маньчжуры теснили китайцев, китайцы теснили монголов. Монголы теснили бурят, бесконечно воевали между собой, с калмыками и с киргизами. Буряты теснили на северо-запад тунгусские племена. Те вытеснили за Енисей кетов. Постоянно переправлялись через реку на быстроходных берестяных лодках, воевали и ясачили, добивая ослабевшие народы, осаждали Маковский острог, грозили Кетскому и Енисейскому. С верховий Енисея поднимались к острогу киргизы и канские тюрки. Все здешние народы и племена кому-то платили дань, с кого-то брали ее или стремились взять. Чтобы отбиваться от одних и покорять других, они обращались за помощью к русским служилым и промышленным людям.
Служилые с большими трудностями проникали в низовья Ангары и верховья Енисея, в Тюлькину землицу. Закрепиться там до поры они не могли. Промышленные же люди на свой страх и риск за десятки лет до строительства Енисейского острога переправлялись через Енисей и расходились по тайге тайными тропами. О том, где были, как ладили с тамошними народами, рассказывали неохотно и смутно. Но государеву десятину с добытого давали, если, конечно, не могли или не хотели обойти острог стороной.
Что было там, за Енисеем, на хорошо видимом из острога пологом берегу с дальней гривой хребта? О том Иван Похабов имел смутное представление, хотя служил в этих местах не первый год.
— Неужто в самые холода уйдешь? — удивлялся товарищу, примечая его хлопоты по сборам.
— Холод — не гнус! — беззаботно смеялся Пантелей. — Оденься потеплей или беги побыстрей. Не поможет — костер разведи!
— И ты уйдешь? — с беспокойством спрашивал помалкивавшего брата.
Тот пожимал плечами, вздыхал, разумно и неохотно отвечал:
— Думать надо! Топором махать за прокорм, как гулящие, нет охоты. Кузнецом при посаде я бы остался. Но у вас свой кузнец. Жалованье у него хорошее, а сам он, не мне, самоучке, чета. В судовые плотники поверстаться — разве учеником возьмут, на посылки. Стыдно, — теребил волосы по щекам. — Не юнец уже.
— Хочу — не могу! Могу — не хочу! — злился Иван, боясь обидеть младшего и снова его потерять. — Думай тогда!
Старый вкладчик Михей Омуль, прельстившись посулами Пантелея, ушел из скита и поселился в его балагане. Вечерами все они, впятером, сидели у очага, сложенного из речного камня. Дым уходил через колоду, обмазанную изнутри глиной. Под кровом было тепло и сухо.
Послышались шаги снаружи, дверь распахнулась. С клубами стужи через порог переступил Максим Перфильев в волчьем тулупе. Лицо его было красным, обметанным куржаком по стриженой бороде и усам. Десятский скинул сермяжный малахай, поднял глаза на крест в углу, накосо махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо.
— А, подьячий! — посмеиваясь, ответил на его приветствие Пантелей. — И ты добрую шапку не выслужил?
Максим усмехнулся, оправдываться не стал. Скинул тулуп, придвинулся к очагу.
— Угадал! — блеснул глазами на Пантелея. — Прошлый раз, когда встречались, я за подьячего служил, а теперь воевода зовет разрядным на оклад. Только вот в Кетский сходить надо. — И, обернувшись к Ивану, другим голосом, сокрушенным и отчаянным, пожаловался: — Десять рублей обещают дать без роста до Первого Спаса! Где еще столько же взять — ума не приложу!
В этом был намек на слова Ивана, сказанные у воеводы. Похабов его понял и не стал томить товарища, повторил при всех:
— Пенда дает мне на сохранение свои клейменые меха. А я тебе сколько надо, столько дам. Мешок у него большой, — указал глазами в угол.
Максим не таясь женихался с Пелагией. Иванова печаль прошла: отодрал-таки от сердца напрасную присуху. Он уже говорил с ней без смущения, и она стала глядеть на него в оба глаза, только отчего-то опасливо и удивленно, хотя Иван ни словом, ни взглядом не напоминал того, что случайно подсмотрел в зимовье на Кети.
— Ух! — тряхнул головой Максим. — Гора с плеч! — взглянул на Пантелея с благодарностью. — Чего это он? — спросил, кивая на Синеульку.
Пьяный тунгус-новокрест сидел в углу, свесив косматую голову, и выставлял в сторону говоривших руку со сложенной дулей.
— С родней все спорит. Мысленно! — как от пустячного, отмахнулся Пантелей. — После промыслов получил свой пай, погулял с недельку, а потом, как умный тунгус, оленей купил, поехал к родне с подарками. Только вскоре вернулся гол как сокол. С тех пор, пьяный, все с родственниками спорит.
Максим удивленно покачал головой, перестал обращать внимание на Синеуля, будто в углу вместо мужика был пень.
— Пелашка-то что удумала? — обиженно сверкнул глазами на Ивана. — Венчать нас в пост поп Кузьма отказывается. Да мне и заплатить нечем. Подруг-то после Рождества под венец поведут, а ей в невестах ждать надо, когда я из Кетского вернусь. Ревет белугой — оставайся, и все! Ну как я, служилый, останусь, если воевода велит? А с кабалой как быть? Ради нее ведь дал ее на себя! — мотнул стриженной в круг головой. Чистая волна русых волос, еще белевшая по кончикам изморозью, рассыпалась по вороту льняной рубахи.
— Хочешь, чтобы я пошел в Кетский? — спросил Иван.
— Как ты пойдешь, если кабала на мне? — Максим бросил на Ивана рассерженный и туманный взгляд. — Тебя там вокруг пальца обведут. — Он помолчал, глядя на огонь, и горько усмехнулся: — Однако повезло тебе! Девка сильно вздорная. Меня слушать не хочет, — метнул на Ивана затравленный взгляд. — Вдруг тебя послушает? Ты ей скажи: никак нельзя мне не уйти.
— Из меня говорун! — хмыкнул Иван и кивнул на товарища. — Вот Пенда — краснобай! Захочет, черта уговорит!
Пантелей встрепенулся, с любопытством спросил, о чем речь. Казаки наперебой стали рассказывать, как сватали невест. Пантелей посмеивался, то и дело переспрашивая подробности. Угрюм водил настороженными глазами с одного говорившего на другого.
— Хорошую девку взял бы за себя! Но такая за мной не пойдет! — рассмеялся Пантелей, ощерив зубы в бороде. — А то бы выкупил с прибытком: истомился жить без жены… Все блужу с ясырками да с инородками.
Максим опасливо схватил сермяжную шапку, торопливо накинул на плечи тулуп. Пантелей развязал кожаный мешок, вынул связанных в сорока соболей. Потряс их, расправляя.
— Все клейменые. За десять рублей отдашь не торгуясь. А если поторгуешься, то продашь с прибылью, чтобы на свадьбу что-то осталось. Когда сможешь, Ивану долг отдашь, — протянул распушившуюся связку Максиму.
Тот, рассматривая мех, придвинулся к ледышке окна, пощупал мездру.
— Какой залог возьмешь? — спросил вкрадчиво.
— Об этом с Похабой договаривайся.
Иван отмахнулся от взгляда товарища, как от самого пустячного дела. Максим поклонился и вышел. Угрюм тут же завозился в углу, где тихо сидел при госте. Не глядя ни на кого, оделся не в парку, а в суконный кафтан и сапоги, будто собирался идти в церковь. За стенами балагана к ночи приморозило так, что потрескивал лед на реке. Ни слова не говоря, Угрюм вышел и притворил за собой дверь.
Пантелей хохотнул, расправляя пятерней густую бороду:
— Кишками чую, пошел у подьячего невесту отбивать!
От насмешки товарища у Ивана снова заныло под сердцем. Он вздохнул и свесил голову. Пантелей знал Угрюма лучше, чем он, родной брат.
— Выпить что осталось? — спросил хмуро.
Пантелей тряхнул кувшин, грубо слепленный из обоженной глины. Прислушался к плеску.
— Можем еще взять на кружечном дворе. Воевода не велит пьянствовать по избам и по балаганам, но мне дадут.
Невест поселили в келье на месте заложенной острожной церкви. Жили они с инокинями. И тем и другим было тесно. Собирались они под одним кровом только для ночлега, а днем разбегались. Невесты уходили в угловую избу, к казакам и стрельцам, где скопом жили все обозные, варили им кашу, пекли хлеб, стирали. Инокини вели своих добровольных помощников к освященному под скит месту на возвышенности за острожной стеной.
По малолюдству приострожного населения днем калитка в острог не запиралась. Острожный воротник со свободными от караулов стрельцами ходил расчищать место под женский Христо-Рождественский скит. На кураульне маячил стрелец. Примелькавшегося уже промышленного Угрюма в острог запускали без расспросов.
Он прошел под проездной башней, увидел дымок над землянкой посередине острога. Повертелся возле келейки, потопал ногами, покашлял, прислушиваясь к голосам, потом торопливо перекрестился и решительно толкнул дверь.
Вечерело. Жилье освещал горевший очаг. Дым стелился по потолку и уходил в вытяжную дыру. Угрюм наклонился и притворно закашлял, успев разглядеть трех девиц, застигнутых врасплох. Обрадовался, что монахинь здесь нет.
— Молодого, красивого, богатого жениха не ждете? — спросил с удалью в раскрасневшемся от мороза лице.
Приземистая, крепенькая, как горшок-кашник, и длинная девицы вскочили, стали выталкивать его из жилья. Третья испуганно прикрыла ладошкой щеку с большим родимым пятном. Между тем она и промышленный успели пристально оглядеть друг друга. Этого взгляда Угрюму хватило, чтобы оценить невесту Максима. Довольный собой, тихонько посмеиваясь, он выскочил из землянки. «Показался — и ладно», — думал. Девки должны были его запомнить.
Едва рассвело, он снова оделся в кафтан и сапоги. В лихо заломленной собольей шапке приплясывал под яром у реки в виду укрытых на ночь прорубей. Знал наверняка, с утра кто-нибудь из девок пойдет за водой. И не зря ждал. Издали еще он узнал Меченку. Она вышла из острога с коромыслом на плечах с двумя березовыми ведрами на его крючках. Угрюм расправил сведенные стужей плечи, пошел навстречу бойким шагом. Встав фертом на тропе в снегу, заступил ей путь. Девушка остановилась, приткнула платок на щеке, подняла глаза.
— А не помочь ли, красавица? — осклабил выстывшие губы Угрюм.
— Помоги! — покладисто согласилась она.
В том была хитрость, придуманная ночью. Прорубь к утру покрылась льдом. Казаки без крайней нужды сами за водой не ходили. Могла, конечно, прийти девка с женихом, но Бог помог и пришла сама, да еще одна. Угрюм же был не прочь разбить лед и для ее подружки, через которую мог снова войти в келью.
Он принялся долбить лед пешней. Пелагия стояла, переминаясь с ноги на ногу, искоса бросала на него любопытные и смешливые взгляды. Наконец он зачерпнул ведрами воды. Понес их в руках.
— Ты чей? — спросила она, пропустив его вперед. Забросила на плечо легонькое березовое коромысло. Из-под заледеневшего платка вырывались клубы пара от ее дыхания. Бирюзовые глаза были опушены длинными и белыми от инея ресницами.
— Ивана Похабова брательник[164] Егорий, по прозвищу Угрюм! — весело отозвался он. — Промышленный. Небедный. С удачных промыслов. А ты — Пелагия! — обернулся, поймал ее долгий взгляд, от которого радостно затомилось сердце.
Она кивнула и пробормотала:
— Пойду позади. А ты иди!
— Мне бы за тобой, — стал шутить он. — Такая краса за спиной — мужу честь. А я что? Мне бы полюбоваться! — обернулся опять, не сбавляя шага.
Она улыбнулась и опустила глаза. Угрюму показалось, будто чудный свет озарил его путь этим туманным, холодным утром. Он заговорил громче, веселей.
— Жених вчерашний в гости напросился! — окликнула Пелагия бывших в келье подружек. И окинув промышленного сияющими глазами, потянулась к ведрам. — Туда нельзя, матушки молятся.
Нельзя так нельзя! Угрюм был счастлив и нынешней встречей. Он продрог в своем кафтанишке. Идти с инокинями строить скит ему не хотелось, и он пошел за острог, к балагану, на ходу придумывая повод для другой встречи. Попутно выглядывал место, где срубит свой дом. Уже решил, что поверстается в посад. Кое-как ремесла он знал не хуже гулящих. Чего не умел, тому надеялся научиться. «Я теперь богатый!» — думал весело и зло, будто мстил нищему детству и бесприютной юности.
К вечеру он опять побежал в острог. Келья была пуста и выстыла за день так, что вода в котле покрылась льдом. Стараясь не запачкать лицо и сукно кафтана, Угрюм развел огонь. Когда пришли девицы, в землянке было тепло.
Он с полувзгляда заметил, что Меченка на этот раз сердита. И не просто, по прихоти, а так зла, что ногами сучит, глаза щурит. А из них будто искры летят. Взглянула на него дерзко, дернула головой, как строптивая кобылка.
— Вот и жених! — скривила губы, делаясь некрасивой и даже уродливой. — Молод, хорош, говорит, что богат. Один кафтан чего стоит. Вот возьму и пойду за него! — вскрикнула, чтобы весь острог слышал.
Угрюм смутился на миг, а кровь застучала в ушах. Уж он-то знал, как может переменить жизнь один миг удачи. А упустишь его — не вернешь! Промышленный приосанился, взглянул с вызовом и удалью в подурневшее лицо.
— А что? Со мной не пропадешь! — сказал важно, напрягая шею. — Я богатый! Есть на что дом построить и свадьбу сыграть. Бывало, за неделю зарабатывал больше, чем иной атаман за год.
Длинная, несуразная девка тихо и невнятно заголосила баском. Полненькая, конопатая стала кидать на него укоризненные взгляды.
— Возьмешь за себя? — резко спросила Меченка, буравя его злыми, прищуренными глазами.
— Возьму! — ошеломленный этим взглядом, пробормотал он, будто бес дернул за язык.
— Тогда иди, а мы будем думать! — приказала Меченка, чем окончательно сбила его с толку.
Он рассеянно натянул до бровей дорогую соболью шапку, выскочил из кельи, не прощаясь. Понять не мог: то ли его приласкали, то ли прогнали. «Если счастье, возьму, не упущу, — успокаивал себя. — Если несчастье, сбегу, никто не удержит!»
Он ворвался в балаган с мрачным лицом. Скинул кафтан, бросил его на нары и повалился головой в угол, как пьяный. Ни брата, ни Синеульки не было. Пенда со старым Михеем Омулем бездельничали, переговаривались. Передовщик держал на коленях саблю, то обнажал на ладонь клинок, то с клацаньем вгонял его в ножны. Угрюма никто ни о чем не спрашивал.
Он перевернулся на спину, уставился в потолок. Мысли о строительстве дома, которые донимали прошлую ночь, в голову не шли. Стояла перед глазами Меченка: то печальная, как возле проруби, то злющая, как в келье.
— Все, сил нет сидеть на одном месте! — тихо проговорил Пантелей и бросил саблю на одеяло. — Завтра иду к воеводе, бью челом, даю заручную челобитную, чтоб велел отпустить промышлять за Енисей, в верховья Ангары.
— Скажи, к Тасейке-князцу! — прошамкал старик сжатыми в гузку губами. — Объявишь дальний путь, потом расспросами станут мучить. Кнутом да дыбой язык потянут. Я знаю!
— Если вернусь! — Старик и Пантелей тихо, с намеком рассмеялись о том, что знали только они.
— А пойдем притоком тунгусского князца Тасейки. Даст воевода коней — хорошо, не даст — соберу гулящих. Дотащат припас куда надо.
— Товар бери! — опять беззубо прошамкал старик. — С товаром ты — лучший гость, что у тунгусов, что у братов. А Рождество гулять надо в остроге! Грех у костра сидеть, если Бог велел веселиться!
— Навеселился уже на много лет вперед! — проворчал Пантелей. Но согласился: — На Рождество придем в острог, а после — с концами!
— Не даст воевода коней! — пробубнил Угрюм. Он слышал от стрельцов, что им с казаками всю зиму приказано возить рожь из Маковского и Кетского острогов.
— Ты идешь или остаешься? — обернулся к нему Пантелей.
— Не знаю! — как пьяный, процедил сквозь зубы Угрюм. Хотел, чтобы приняли за пьяного.
— Завтра — еще думай, а после сам будешь кланяться воеводе! — насмешливо пригрозил Пантелей. — С нас отъездную пошлину он возьмет по гривенному, а сколько с тебя — не знаю.
Угрюм не отвечал. Стояла перед глазами статная девка. Глядела искоса, прикрыв одну щеку платком, глаза лучились зеленью и синью. Такая грезилась ему в тяготах промыслов. Ради такой терпел и старался разбогатеть. Может быть, всю прежнюю жизнь ради нее мучился.
Брат пришел поздно. Младшего не окликал. Переговорил о чем-то своем с Пантелеем и лег спать. Среди ночи Угрюму пришла в голову сонная мысль, что надо встретить Пелагию одну и переговорить с глазу на глаз. Вдруг сговорятся? Тогда все станет ясно.
Как на посту, он стоял у закрытых острожных ворот и не просил открыть их ни караульного, ни воротника. На этот раз одет был в тулуп и сары. Показался во всей красе и хватит. Первым из ворот вышел казак с обмерзшими ведрами. Взглянул на промышленного хмуро и подозрительно. Чуть кивнул в ответ. Зевая и укрываясь плечом от пронизывающего ветра, поплелся к проруби. Он и разбил лед, обнажив черную воду.
Вскоре показалась Меченка в своей нищенской шубейке. Из-под платка видны были одни глаза. От того, как она ступала ногами по тропе, сладостно заныло сердце. Угрюм поклонился и пропустил ее вперед. Она просеменила к яру, подхватила полы шубейки, села на обледеневшую тропу и шаловливо скатилась к реке. Угрюм собирался съехать следом за ней, но из ворот, не крестясь на Спаса, выскочил Максим Перфильев, одетый по-дорожному, как промышленный. Он съехал под яр на подметках и стал быстро нагонять Меченку на тропе. Раз и другой громко окликнул ее. Она не оборачивалась.
Максим, проваливаясь в снег, забежал сбоку, что-то горячо заговорил, Удерживая ее за руку. Пелагия отвернула голову в другую сторону, задрала нос, не желая слушать. Он забежал с другой стороны. Она снова отворотилась. Так оба подошли к проруби. Угрюм догнал их и топтался на месте, опустив руки. Не знал, что сделать, что сказать. Максим будто не замечал его.
— Ты подумай, как я останусь? — громко увещевал девку. — Хлеба в остроге на месяц, и тот покупной. Я же служилый! Вернусь. После Пасхи обвенчаемся!
— Ну и служи! — вскрикнула Меченка в узел платка. — За другого пойду! Хоть бы за этого! — подхватила под руку Угрюма. Коромысло соскользнуло с ее плеча. Ведра покатились по льду.
Максим даже не взглянул на промышленного. Оттеснил его плечом, привлек девку к груди, с жаром заговорил, клоня к ней голову. Она отстранялась, выгибая спину, отворачивалась, хотя и не высвобождалась из его рук. Угрюм поднял ведро, наклонился за другим. Пелагия что-то приглушенно выкрикнула. Что? Промышленный не услышал. Увидел только, что ведро, за которым он наклонился, полетело по льду от пинка. Казак выругался, плюнул и быстро зашагал к острогу.
«Ну и ладно!» — с тягостным унижением подумал Угрюм. Зачерпнул ведрами речной воды. Хотел нести, как прошлый раз. Вдруг Пелагия со слезами и ревом стала вырывать их из его рук. Пронзительно закричала:
— И чего привязался, гусак раскормленный?
Угрюм взглянул в ее распаленные глаза, побагровел, бросил под ноги ведра, с прямой, негнущейся спиной зашагал следом за Максимом. Он ворвался в балаган и, не раздеваясь, упал на нары. Брат, Пантелей, Синеулька и старый Омуль степенно черпали кашу из черного котла.
— Ухожу! — прорычал, ни на кого не глядя.
— Ну и ладно! — буркнул Пантелей. Расправил, пригладил пышные усы. Привычно стряхнул с них кашу. — За одного битого, как говорится, больше платят.
Иван опустил глаза, вздохнул, облизал ложку, перекрестился. Ни слова не говоря, накинул шубный кафтан и ушел в острог.
Обоз на Кеть был отправлен в тот же день, а на другой Пантелей Пенда получил наказную грамоту от воеводы, оплатил за четверых промышленных отъезжую пошлину, с покупной пошлиной скупил у гулящих и торговых людей весь ходовой товар, дорогой ценой прикупил к своему припасу десять пудов ржи да пуд соли.
Как ни просились гулящие люди в его ватажку покрученниками, он никого не взял, но работу за прокорм дал многим. Под его началом сразу после Николы зимнего, на чудотворца Амвросия, в самую стужу, первые четыре нарты ушли к устью Тасеевой реки, чтобы поставить там стан.
Угрюм сказал брату, что ни на Страстную неделю, ни на Святки в острог не придет. Он оплатил четверть расходов на сборы ватажки клеймеными мехами, остальные погрузил в нарту. Пантелей Пенда отдал Ивану даром теплый балаган и оставил на хранение отощавший мешок с мехами, дескать, еще добудем.
Михей Омуль весело поглядывал на работных, поучал их срывающимся голоском. Вдруг он смутился, затоптался на месте. Пантелей оглянулся и скинул шапку. Возле обоза объявился инок Тимофей. Никто не заметил, как он подошел к балагану. Старый Омуль тоже сорвал шапку, стал низко кланяться, шепелявя сжатыми в гузку губами:
— Прости! Прости, батюшка!.. Прости!
— Это ты меня прости, Мишенька! — всхлипнул инок, и слезы покатились по его щекам, румяным от крепкого мороза. Скитник упал вдруг перед стариком на колени.
Ошалевший от такого прощания, старик смутился пуще прежнего. Заголосил, по-волчьи задирая голову к небу, и упал на брюхо. Суча ногами, запричитал:
— Прикажи, батюшка, останусь!
— Иди! — перекрестил его Тимофей, позвякивая веригами под плохонькой шубенкой. — Судьба твоя там, не здесь. Меня, грешного, не забывай в молитвах!
Старики поднялись и слезно простились. Пантелей подошел к иноку за благословением. Тот не стал отнекиваться малым саном, перекрестил передовщика. Сосульками висели в его бороде застывшие слезы.
Угрюм досадливо отошел в сторону и все поглядывал на ворота острога: не выбежит ли с раскаянием Пелагия-Меченка. Он был зол на нее, на острог, на брата, служившего здесь. Простились Похабовы добром, но холодно, не так, как братья. О будущем не гадали.
Срывая нарты с наледи, подналег на бечеву Угрюм. Ненароком обернулся к острогу и поймал случайный взгляд инока Тимофея. Этот укоризненный взгляд так навязчиво прилип к сердцу, что он не мог откреститься от него до самого устья Ангары.
В остроге прошла неделя и другая с тех пор, как Максим Перфильев ушел на Кеть. Из прибывших казаков воевода оставил при себе только троих: Ивана Похабова с Агапием Скурихиным да Филиппа Михалева. Под началом стрельца Терентия Савина они водили подводы с рожью из Маковского острога в Енисейский.
Зима была снежной, колея от саней глубокой. Выезжали обозные из Енисейского, затем поднимались по Кеми и отсыпались под тяжелыми тулупами. Лошади послушно тянули легкие сани. Зато в обратную сторону, с грузом, людям приходилось впрягаться в гуж наравне с ними.
Возвращались, парились в бане, два дня отдыхали, затем надо было снова идти застывшими болотами в верховья Кети, в Маковский острог. К Страстной неделе Ивану Похабову стало казаться, что весь свой век он только и делал, что возил пятипудовые мешки с рожью. И впредь, до скончания века, ничего другого уже не будет.
Он вернулся в свой балаган, раздул очаг. Дни были совсем коротки. Стужа стояла лютая. Разгорелся огонь, по стенам жилья засверкала розовеющая изморозь. В сумерках с котлом в руках Иван поплелся к проруби на Енисей. Громко, как щепа, под каждым шагом хрустел снег, и казалось, будто кто-то крадется сзади. Вперед казак не глядел. Шел против пронизывающего ветра, низко опустив голову, различал только тропу под ногами. Так и столкнулся с Меченкой.
Укутанную в шушун, обвязанную, как кокон, не сразу узнал ее. Столкнувшись, отпрянул. Пелагия в упор глядела на него мокрыми глазами. Иван кивнул, хотел пройти мимо, но она загородила тропу. Он вскинул голову, вгляделся. По щекам Меченки текли слезы. Она придвинулась к нему, обхватила за шею руками, повисла на его плечах, снизу вверх так глядела бездонными глазищами, что душа Ивана чуть было не вывалилась под ноги, на скрипучий снег.
— Господи, прости и помилуй! — уткнулась в грудь молодца. — Топиться хотела, а тут ты!
За правым, за левым ли плечом казака пискнул смешливый голосок, дескать, в такой одежке ни в одну прорубь не протиснешься! Иван же неловко ругнулся:
— Что мелешь-то? — А сам, вместо того чтобы отстраниться, сладостно и томно оглаживал ее спину. Даже под шушуном чувствовал упругий, гибкий стан. — На Святой неделе. Грех-то. Не отмолить!
Почуяв душевную слабость в кряжистом, сильном молодце, Меченка завыла громче и пронзительней. И сладко, и больно, и страшно горячие ее слезы жгли его выстывшие щеки, хоть девка ростом была ему до плеча. Удивляясь тому, казак очумело догадывался, что склонил к ней голову.
— Возьми меня под венец, Иванушка! — глубже и глубже зарывалась она лицом ему за пазуху, под кафтан, к самому сердцу под пропотевшей рубахой. — Я тебе хорошей женой буду. Иначе мне одна дорога — утопиться! Нет доли иной! — шмыгнула носом, отпрянула, пронизав его растерянные глаза своими, ищущими спасения. И хохотнула вдруг, еще больше смутив Ивана.
В его буйной голове разоренным ульем заметались лихорадочные мысли. Подумал — забрюхатил товарищ девку, а она, глупая, понять не может, почему нельзя ему, Максимке, не идти на Кеть.
— Как же Максимке в глаза-то взгляну? — простонал он, сдаваясь. И почувствовал на себе Иудину усмешку.
Она торопливо зашептала, обдавая горячим дыханием:
— Может, не с ним, с тобой судьба завязана. Не поняла сразу. Не признала тебя.
И совсем уже срываясь в бездну, он вдруг нашел себе оправдание, как тонущий за соломину уцепился за него: «Максимке лучше не будет, если девка-дура наложит на себя руки и его младенца погубит. С не родными по крови детьми, с богоданными, бывает, хорошо живут».
— И так грех, и эдак! — пробурчал податливо. Повздыхал, вздымая широкую грудь. Слизнул с губ ее соленые слезы. Опять глубоко и шумно, как бык, вздохнул: — Может, и впрямь судьба!
Она благодарно прильнула к нему, прерывисто и облегченно, как ребенок, вздохнула. К острогу они шли молча. Каждый думал о своем. У ворот она отвесила три низких поклона на лик Спаса. Еще раз ткнулась лицом ему в грудь. На этот раз напоказ караульному стрельцу Михейке Стадухину и острожному воротнику Антонке Тимофееву по прозвищу Табак. Иван затравленно зыркнул на них в полутьме. Эти не умолчат. К утру весь острог узнает, что Похабов прельстил невесту товарища. Он опять шумно вздохнул и спросил:
— Когда подружки венчаются?
— На Васильев день! — Пелагия блеснула не просохшими еще глазами.
— Скажу завтра воеводе, — буркнул. — Да к попу надо на исповедь. Благословенье даст ли?
— Даст! — уверенно шмыгнула носом Меченка.
Она скрылась под проездной башней. Он пошел в балаган с прогоревшим очагом. Распахнул дверь. Пахнуло в лицо теплом и жилухой. Тут только вспомнил про пустой котел, который так и болтался в руке. Иван горько хмыкнул, бросил его в угол, упал на нары, глядел, как мечутся тени по потолку из неошкуренных жердей, и примечал за собой, что глупо улыбается.
Воевода с полуслова понял, согласился с казаком и даже обрадовался тому, что он хочет взять за себя девку.
— Оно и лучше! — усмехнулся, почесывая редеющий затылок. — Эти две на мужнино жалованье, а Пелашку с какого оклада мне кормить, пока Перфильев не вернется? Разве среди подруг христарадничать станет.
Белый поп Кузьма Артемьев имел государево жалованье в шесть рублей, но не имел церкви. Первый год своей службы он был этим очень недоволен. Но втянувшись в острожную жизнь, понял, что служилым правда не хватает сил и времени, чтобы срубить храм. Строительством занимался он сам. Время от времени у него появлялись добровольные помощники. Руки у попа были мозолистыми, заботы житейскими. Молебны он служил по надобности. По великим праздникам, в Страстные недели и по воскресеньям служил литургии на антиминсе в часовенке над проездными воротами.
Стал было Иван оправдываться на исповеди, что берет девку за друга, поневоле тайком от него, чтобы та не наложила на себя руки.
— Я ей наложу! — взревел Кузьма. — Батогами зад выдеру, козе! Сиськи оторву!
Упоминание о дурных помыслах Пелагии привело его в такое негодование, что он, ругая невесту 6л…ной дочкой, сучкой-вертихвосткой, не стал пытать Ивана о его тайных помыслах. Недовольный нравами сибирских старожилов, лишь пожурил казака, что тот берет чужую невесту. Поохал, потолковал о соблазнах и допустил к причастию. Иван в счет венчания и в поклон дал на строительство церкви черного соболя. Поп Кузьма и вовсе повеселел.
Меченку же после исповеди он поставил перед воротами с внутренней стороны острога под иконой Введения во Храм Богородицы и заставил отбить сто земных поклонов. После этого едва державшуюся на ногах девку причастил.
Слух о том, что Иван поведет под венец перфильевскую Пелашку, облетел острог. Сослуживцы-казаки, Михалев со Скурихиным, перестали с ним разговаривать, показывая свое осуждение. Васька Колесников обегал его стороной и язвительно ухмылялся. Стрелец Терентий Савин, с которым весь пост водили подводы из Маковского, прошел мимо, задрав нос, ни кивком, ни взглядом не ответил на приветствие.
Сначала Иван подумал, что тот пьян. Вскоре приметил, что и Вихорка-жених, крепкий, работящий стрелец, умишком совсем не дурак, воротит морду. Михейка Стадухин при встречах глядел ему в глаза пристально и зло, кривил губы, искал повод, чтобы припомнить обиды на Кети. И понял Иван, что против него сговор. Озлился на всех, особенно на женихов. Аж зубами скрипел, завидев их. «Забыла, верстанная голь, кто за их невест платит?» Стал и он расхаживать по острогу с важным видом. Задирал молчунов.
Пелашке велел сшить новый сарафан да шубу, купил ей к свадьбе не ичиги — козловые сапоги, сам покрылся шапкой из черных соболей. Перед венчанием все три пары пошли на поклон к воеводе. Вихорка с Васькой, кланяясь, обещали кроме верных служб отдарить в почесть, как разбогатеют. Иван, всем напоказ, после поклона выложил пару клейменых соболей. Воевода потряс рухлядь, полюбовался черными спинками, голубым подпушком, благословил пару особо.
И в съезжей избе, где венчали разом три пары, Иван с Пелагией стояли, задрав носы: в отместку всем они глядеть не желали на бывших своих связчиков. Венчал их поп. Попадья и монашенки пели. Параскева, с которой Иван был дружен в пути от Сургутского острога, бросала на него такие жалостливые взгляды, будто он не женился, а соборовался перед кончиной. Изредка ловил на себе Иван сочувственные взгляды Савины с Капитолиной. Девки были с ним ласковы, и он добрел ради них. Одежонка на невестах была плохонькая, но так ладно выстирана, залатана, подогнана, что казалась праздничной. Боясь обидеть добрых девок, Иван терпел заносчивость их женихов.
Время от времени и он поглядывал на Савину с Капой. Как ни любил их душой, а, сравнивая с Пелагией, замазавшей пятно на щеке белилами да румянами, самодовольно убеждался, что его невеста краше всех баб в остроге, а то и по всей Енисее.
После венчания воевода велел накрыть стол в съезжей избе. Иван нахрапом занял место посередине, в красном углу под образами, и невесту усадил под бок к воеводе. Ни Вихорка, ни Васька Колесников не посмели пикнуть. Яков Игнатьевич, в красном кафтане, сел на место посаженого отца и дочь свою, отроковицу Анастасию, посадил на колени, хоть той по возрасту должно сидеть на лавке.
Стрелецкий сотник Поздей Фирсов с сотничихой сели напротив воеводы.
Скитник Тимофей так и не пришел, хотя его ждали. Монахини попили квасу, поклевали каши с рыбкой, спели молодым «Об умножении любви и искоренении ненависти». Откланялись и ушли. Застолье оживилось. Остяцкого вида ясырки внесли запеченную целиком оленью голову. Поставили на стол кувшин с горячим вином.
Довольный собой, Иван вытерпел неприязненные взгляды служилых, принял поздравления от воеводы и сотника, откланялся им и первым увел невесту в свой балаган.
Были у него в прежней вольной казачьей жизни блудные связи. Бывало, и в Сибири погрешал с ясырками по своей мужской слабости. Но то, что произошло в ночь после венчания, потрясло его. Он лежал, глядя в потолок, на блики пламени, рассеянно вспоминал слова попа при венчании: «…и прилепятся друг к другу и не будет того родства, крепче».
Не обманула тайных ожиданий его присуха. Она была ласкова и даже весела. Казалось, ее ничуть не печалило, что прежний жених потерян. Меченка долго не могла уснуть, как и сам Иван. Хорошо было вдвоем, но непривычно тесно под одним одеялом. Она села, накинув на плечи шубейку. Со странным, незнакомым лицом смотрела на Ивана ласково и удивленно.
— Вот ведь судьба! — провела ладонью по его обнаженной груди. Потрогала сабельные рубцы. — Увидела тебя тогда, в зимовье, голым, — хихикнула, плутовато щурясь, — будто пламень во мне вспыхнул: захотелось от тебя родить. Чудно!
Иван усмехнулся во тьме, вспомнив, как испугал блудящих своим приходом. Едва не съязвил: из-под одного, мол, выскользнула, другого высмотрела. Но не сказал так, а только подумал. Слишком хорошо было ему, чтобы сердиться на прошлое.
— Наперед бы все ладилось! — пробормотал сонно. — А что было — прошло! — Зевая уже, спросил: — Ты-то что в Сибирь пошла?
— Жених у меня был. Сосед в посаде! — посмеиваясь, охотно начала рассказывать Пелагия. — Пришел с войны — а я уже в перестарках. Невест много — женихов нет. Он и закуражился: это ему не так, другое. Купцы стали звать в Сибирь — куражься, думаю, без меня. И ушла.
Проснулись они поздно. Спохватились. Для молодых, но обычаю, топили баню. К полудню воевода, верховодивший за посаженого отца и свекра, опять накрывал стол, надо было прийти к нему, поклониться с молодой женой.
Иван стал поторапливать Пелагию. Не дожидаясь, когда она поднимется, раздул очаг. Взошло тусклое, холодное солнце. Стужа жгла лица. Поскрипывая снегом, молодые направились к острожной бане. Из нее уже не валил дым, но белый пар висел над закуржавевшей дверью.
Иван думал, что Вихорка с Савиной, Васька с Капой давно помылись после брачной ночи. И надо было так случиться, что в одно и то же время с разных сторон к бане сходились три пары молодоженов. Савина и Капа висли на руках мужей. Вихорка, кряжистый, приземистый, шел напролом с налитыми кровью глазами.
Васька Колесников зыркнул по сторонам и с насмешливым видом остановился у жены под боком: это я бы, дескать, бегом не бегал. Савина с виноватым видом как могла удерживала Вихорку, ног не переставляла, скользила за ним по утоптанному заледеневшему снегу. Муж тянул ее за собой против воли.
— Не вами плачено! — взревел Иван. Бросил жену. Проваливаясь до колен в снег, в три прыжка опередил Вихорку. Загородил подход к бане, заслонил собой дверь. Упер руки в бока, глядя на товарища с вызовом и насмешкой. Увидел, что из острожных ворот бегут Терех Савин и Михейка Стадухин.
— Ты кто такой? — закричал стрелец. Обернулся за поддержкой к Ваське Колесникову.
— Я тот, кто заплатил без роста за твою жену! — выругался Иван. — Постарше тебя и заслуженней! — протянул руку, поджидая застрявшую в снегу Меченку.
— Твои заслуги кнутом на твоей спине писаны! — закричал Вихорка, свирепея. Бросился на Похабова с кулаками. Подоспевшая Пелагия с визгом повисла на руках мужа, и у него в глазах брызнули искры: жена помешала увернуться от удара. Он попытался ее оттолкнуть. Пелагия снова, как веревкой, опутала его руки.
Похабов рыкнул, стряхнул ее, дав оплеуху. Меченка упала в сугроб. Отбив рукой другой удар, он звезданул стрельца в широкий лоб. Краем глаза заметил, что Терех Савин уже рядом и на ходу достает засапожный нож.
И нахлынуло, как в юности под стенами Москвы. Едва привстал отпрянувший от удара Вихорка, Иван снова положил его кулаком, на этот раз на всякий случай. Пока тот не очухался, сорвал банную дверь с петель, огрел ею подбежавшего Тереха. Засапожник выскользнул из руки стрельца. Иван подобрал его, распрямился, отступил к парящей бане.
Вкрадчиво, как кот, на него шел Михейка Стадухин. В его руке блестел нож, ледяные глаза смотрели в переносицу. Уже по тому, как он подступался, Иван почувствовал опытного бойца. «Казак!» — подумал с уважением, насторожился, сделал выпад, отбил удар. «А так fie учили?» — пнул стрельца под колено. И тут между ними встал сотник с обнаженной саблей. Михейке скрутили руки. Иван покладисто бросил под ноги нож Терентия, заткнул сорванной дверью исходившую паром баньку.
Капа кричала басом. Савина испуганно крестилась и озиралась. Иван вытащил из сугроба охавшую Меченку. Под глазом против родимого пятна у нее набухал кровоподтек. Она охала и прикладывала к лицу снег.
— Не лезь поперек мужа! — наставил Иван строгим голосом. Подхватил ее под руку, подтолкнул к бане.
Они не парились: не до того было. Меченка молчала и обиженно воротила лицо в сторону. У Ивана ныла переносица, под глазами набухало. Щипало казанки со сбитой кожей. Но он не отводил глаз от жены, до того была она красива телом. Пелагия от взглядов мужа не укрывалась, не стыдилась. Лицо ее было злющим, подурневшим, а телом поигрывала напоказ, в отместку.
— Что долго? — орал снаружи Васька Колесник. — В бане жену тискать грех!.. Ночи мало или что ли?.. Другая будет… Ванька! Это я на вас сотника привел. Приведу и попа. Ужо кадилом по голым задам причастит.
И кричал стрелец, и насмехался без умолку. При этом так срамословил, что вынуждал поторапливаться. Молодые наспех помылись и вышли, даже не порозовев от пара. Иван грозно распрямился за банной дверью. Вихорка взглянул на него с укоризной. У него на лбу вздулась красная шишка. У Терентия вспучились окровавленные губы. Михейку увели караульные. Васька со смешливым лицом стоял в стороне под боком у Капы и потешался над ними всеми.
Иван прошел мимо товарищей с озлобленным лицом и проволок за собой жену. Она закрывала лицо рукавицей.
— Вот свадебка так свадебка! — смеялся воевода, встречая молодоженов. С удовольствием разглядывал их лица. — По-нашему, по-сибирски! — Потирал руки. — Не то что вчера!
Он явно уже принял чарку за поправку здоровья. Борода его торчала помелом, сам был весел и ласков, молодых жен целовал в губы на правах посаженого отца и свекра.
Капа пугливо пучила на него и без того большие коровьи глаза и пятилась за малорослого мужа, пока Васька не гаркнул:
— Целуй воеводу, дура!
Она закатила глаза и опустила послушную голову.
— Ивашка? — вскрикнул воевода, взглянув на слезливую Пелагию. — Почто, изверг, так жену разукрасил в первый день?
— Для науки! — пробурчал Иван.
Воевода опять захохотал и звонко трижды поцеловал повеселевшую Меченку.
— Буду жив, вашего первенца окрещу!
Положив семипоклонный начал на красный угол, новобрачные расселись по прежнему чину. Вошел сотник. Он был хмур, но уже посмеивался. Подхватив саблю, которой только что грозил буянам, сел по другую сторону от воеводы. Выпили квасу, поели блинов, выпили по чарке во славу Божью, на том разошлись, напутствуемые первыми людьми и острожным попом.
Посветлел лицом Иван Похабов. После драки Вихорка с Васькой стали приветливей. Казаки, старый Филька с рыжим Ганькой, будто забыли о прежней неприязни. На крыльце съезжей избы Иван спросил сотника Поздея:
— Михейка-то где?
— В яме! — рыкнул тот. — Надоел, поперечный! Зашлю куда подальше.
— Отпустил бы? — вступился за стрельца Иван. — Неделя свята. Велика важность, подрались!
— Драка дракой! За ножи-то что хвататься? — огрызнулся было сотник таким голосом, что Иван понял: после другой чарки он отпустит Стадухина без батогов.
Среди служилых мир был налажен. Выпили мировую, повинились друг перед другом и разошлись. Только Меченка молчала и дулась до самой ночи. Хороших супругов ночь мирит. Едва укрылись одеялом, она, со вздохом, стала податлива. Молчала, но не была холодна. А утром опять дулась, воротила в сторону порченое лицо. Зачем-то гремела котлом, долго раздувала печь и все не могла раздуть, до тех пор пока сам Иван не поднялся и не развел огонь. Пошла за водой, да будто не на прорубь, а в Маковский острог. Приволоклась едва ли не к полудню.
— Кашу варить думаешь? — тоскливо спросил Иван и заметил, что у жены нос испачкан сажей. К тому же он показался ему непомерно длинным. Иван ждал до полудня, когда жена сварит завтрак. И все молчком. Не дождался, схватился за шапку и ушел в острог.
Когда он вернулся, каша подошла. Нос у жены был и в саже, и в муке. Она только замесила хлеб и поставила за очаг квашню. В балагане кисло пахло закваской. Одеяла на нарах лежали неприбранными с самого утра. Ложки отчего-то валялись на земляном полу. Все было перевернуто и разбросано, как при побеге хозяев. «Видать, женишок на Руси хорошо знал соседку, оттого и не спешил под венец!» — тоскливо подумал Иван. Он поел каши и снова ушел в острог.
Воевода дал молодым мужьям отдых. Васька с Вихоркой стали помогать попу строить церковь, а Иван начал напрашиваться на службу. Сидеть с женой в балагане было тягостно. С тоскливым лицом день и другой он стоял в карауле. На третий Меченка отошла. Сначала вкрадчиво и обиженно, потом веселей заговорила. Не корил, не погонял ее Иван, не желая новых размолвок, надеялся, что со временем она научится хозяйствовать как все. Однако удивлялся про себя, как смогла посадская девка не научиться печь хлеб? Не боярыня ведь? И как-то обмолвилась она, что семья была многодетной и ей, старшей, всю-то жизнь пришлось быть нянькой. Ничего другого по дому она не делала.
Обида прошла, но веселей в балагане не стало. Иван с облегчением принял прежнюю службу. Оставить жену одну за острогом он опасался. По его приглашению Капа с Савиной и их мужья с радостью перешли жить из тесной, многолюдной караульни в его балаган.
На этот раз он сам повел обоз в четыре подводы с Агапием-Ганкой Скурихиным, Терентием Савиным и Михейкой Стадухиным.
— Не нравится мне ваша ватажка, — ворчал сотник, наставляя в путь. — Ох как не нравится. Да послать вместо Михейки некого… Похабов — старший! Ты это хорошо понял? — напирал на поперечного Стадухина. — Устроишь драку, повешу!
— Не повесишь! — язвительно ухмыльнулся Михейка. Лицо его сделалось строгим, взгляд пронзительным: — Никак ты себя возомнил енисейским царем? Кто еще имеет право казнить смертью? А вдруг я объявлю государево слово и дело? Вон сколько свидетелей! — повел рукой на спутников, которые тупо соображали, куда клонит стрелец.
Сотник злобно сплюнул, матерно выругался.
— Дери его как Сидорову козу! — крикнул Ивану и махнул рукой, отправляя обоз к реке.
Тренька Савин, в чине стрелецкого десятского, был осторожен и рассудителен. Но сладить с Михейкой он не мог. Оттого и отправил сотник старшим Ивана.
Михейка Стадухин был не высок и не дороден. Как драный пес, не боялся ни драк, ни ран, даже скучал без них. Он любил покичиться, покрасоваться, но больше того — унизить кичливых и красующихся. Это у него доходило до страсти. С Иваном Михейка держался ровно. Только после свадьбы бес попутал схватиться за нож.
В Маковском остроге прогнила крыша на государевом амбаре. Рожь, что была сверху, подмокла и обледенела. Приказчик острога с криком напирал, чтобы брали подряд, со льдом. Он знал, что Похабова трудно вывести из себя, а принудить можно. Иван же насмешливо взглянул на него и кивнул Михейке:
— Вразуми!
Стрелец набрал воздуху в грудь, набычился и сорвался на приказчика, как цепной пес. Тот не выдержал долго его криков и напора:
— Берите что надо! — отмахнулся, лишь бы отвязаться.
Обозные смеялись, но уже не над приказным. Они видели, что Михейка только еще вошел в раж и не получил всего удовольствия от перебранки. Ждали, что будет срываться на всяком, кто подвернется под руку.
Много было передумано Иваном долгими холодными ночами. Неприязненное не забылось. Томилась душа, ожидая возвращения. Навязчиво помнились женские ласки. Камнем давила грудь неизбежная встреча с Максимом. Иван придумывал разные слова оправдания, сам себе доказывая свою неправую правду. А на сердце было тягостно, будто пятно со щеки жены прилепилось к нему навек.
Со своими людьми и грузом Похабов пришел в Енисейский острог перед Святой Пасхой. Кони привезли две пары саней к оврагу Мельничной речки, вышли на ее ноздреватый, почерневший лед. Как всегда, обоз окружили гулящие люди, зимовавшие возле острога. Сквозь их толпу протиснулись жены обозных.
Служилые выгрузили рожь в государев амбар и разошлись по своему жилью. Как всегда, воевода дал им, вернувшимся, отдых. В балагане было тепло и прибрано. Пахло хлебом.
— Все! — бросил Иван шапку и радостно обнял жену: — Топи давай баню!
Но не она, а Капа накинула шубейку. Савина, ласково поглядывая на казака и на мужа с Васькой, налила всем квасу. Как сестра, пощупала заскорузлую рубаху на плечах Ивана.
— Исподнее сними! Постираем. Пока паришься — все просохнет.
Как ни тесно было в балагане трем семьям, но так Ивану жилось веселей, чем наедине с Пелагией.
Едва вышел срок собираться для новой поездки в Маковский, на льду Енисея показался большой обоз. По времени пора было вернуться Максиму Перфильеву. Вихорка с Васькой с женами побежали встречать прибывших. За ними увязалась Пелагия. Иван ни словом, ни взглядом не удерживал ее, но сам на встречу не пошел. С почерневшим лицом сидел возле очага и глядел на огонь.
Когда все вернулись, он стал пытливо заглядывать в бирюзовые глаза, старался угадать, ждала ли жена Максима. Но, как ни старался, не приметил в них ни большой радости, ни скрытого стыда. Неохотно и осторожно она шепотком уверила его среди ночи, что к ней бывший жених не подходил, видела она его только издали. А Максим должен был узнать еще в Маковском, что бывшая невеста замужем.
После молитв и завтрака с мрачным лицом Иван отправился в острог, чтобы получить очередное напутствие от воеводы. Трижды положил поклоны на Спаса над воротами проездной башни. В остроге обернулся к воротам. С внутренней стороны трижды поклонился лику Богородицы. А на уме было одно, о чем думал всю ночь. Иван сжал зубы, злясь на себя, распрямился важней прежнего, с каменным лицом двинулся к съезжей избе, где ждал воевода.
Склонившись в низких дверях съезжей избы, краем глаза он увидел Максима с чистыми, рассыпавшимися по плечам волосами. Перфильев сидел за приказным столом в бедняцкой шапчонке. Не успев вернуться, он уже скрипел гусиным пером. Мельком они взглянули друг на друга и отвели глаза. Не приметил Иван в лице товарища обиды, но Максим и не поднялся ему навстречу, как прежде.
Связчики по обозу уже сидели на лавке вдоль стены. На них Похабов не смотрел. Голова шла кругом. Максим то зыркнет мельком, то почешет гусиным пером за ухом. Снова примется писать, склоняя голову к столу.
— Нынче Максимка у меня разрядный[165] подьячий! — воевода кивнул на Перфильева. — Сам жалованную грамоту привез.
Наконец товарищи вынуждены были кивнуть друг другу, встретившись взглядами. Но вышло это настороженно, как между малознакомыми. Иван стал докладывать воеводе о новых сборах. Сколько ржи осталось в Маковском. Напомнил про плохую крышу тамошнего амбара. Он старался не глядеть на Максима и чувствовал на себе его спокойный взгляд.
Воевода кивал подьячему, что писать при расспросе. Дело было сделано. Иван придвинулся к товарищу, не читая написанного им, поставил заручную подпись. Воевода кликнул ясырку, чернявую плосколицую бабенку с глубоко запавшими, как у слепца, глазами. Та принесла кувшин с квасом, стала разливать его по чаркам. Поставила на стол хлеб и соль. Воевода же приговаривал с плутоватой улыбкой в бороде:
— Не обессудьте — Великий пост. Угостил бы посытней, греха боюсь. Перезревший квас за печкой стоит, а налить не могу. Но если кто сам себе тайком нальет — не замечу. Доброе дело вы сделали, детушки. Не быть голоду в остроге. Оклады хлебом служилые получат сполна. В какой год так было? Я вашими службами доволен.
Вспомнив прошлое, воевода тихо рассмеялся, спросил Ивана:
— Не дрался ли со стрельцом прошлый раз?
— Мирно ходили! — коротко ответил он.
— Передрались ведь на свадьбе! — похохатывая, обернулся к подьячему, безмолвно сидевшему за столом. — Пришли ко мне на блины — один красивей другого.
Максим молча кивнул, ровно, без неприязни и укора посмотрел в глаза Ивану. Михейка Стадухин с кручинным вздохом встал. С насупленным лицом зашел за печь. Вышел оттуда повеселевший, обсасывая редкие и топорщившиеся, как у кота, усы. Сел, оглядев связчиков с победным видом: дескать, и ничего, не наказал Господь! Терех Савин стыдливо просеменил туда же, к бочонку. Перед новой поездкой душа просила праздника.
Выпил и Иван добрых полкружки полпива, которое воевода скромно называл квасом. Немного отпустила сердечная тоска. Завертелись в голове приготовленные слова оправданий. Он подсел ближе к приказному столу. Максим вскинул на него глаза с чистыми, как снег, белками. Сунул перо в песочницу.
— Не мучайся! — сказал вдруг спокойно и вразумительно. — Я, как узнал, так сгоряча-то даже обрадовался. Вериги ты с меня снял!
Все приготовленные оправдания разом перемешались в голове. Иван что-то пробормотал про душу, которую боялся загубить, часто замигал и тайком смахнул навернувшиеся слезы.
Нынче ночью жена призналась ему, что брюхата. Он догадывался об этом еще до свадьбы. Из его бурчанья Максим ничего не понял, только сдвинул брови к переносице и сочувственно кивнул. Повторять и разъяснять Иван не стал, покряхтел, пошевелил усами и бородой, приложился и махом опорожнил еще полкружки. «Бог простит!» — буркнул веселея. И правда стало легче. Стряхнув кручину с глаз, он смахнул с товарища сермяжный малахай, накинул ему на голову свою соболью шапку.
— Носи! Себе другую сошью!
— Да ведь я у тебя в должниках? — запротивился было товарищ.
— Теперь Един Господь знает, кто у кого в должниках! — отмахнулся Иван.
Про Меченку между ними не было сказано ни слова. Боялись друзья бередить затаенное от себя и от других.
Глава 2
Пантелей откинул лосиную шкуру, навешанную вместо двери. Балаган вздрогнул от порыва ветра. Дым очага с золой и сажей лег на меховые одеяла. Передовщик до пояса высунулся наружу, набил котел снегом. Когда он укрыл вход, его длинная густая борода была бела.
Старый Омуль, затаив дыхание и смежив веки, привычно перетерпел едкий дым и ворвавшийся в балаган порыв ветра со снегом.
— Все сибирцы горазды пограбить! — посопев мокрым носом, гнусаво продолжил прерванное поучение.
Его уже ничто не пугало, он никуда не спешил и мог целыми днями сидеть у огня. Старик ни словом, ни взглядом не винил передовщика за то, что в ватажке осталось только четверо промышленных, равнодушно предупреждал, что при нынешнем малолюдстве надо быть осторожней.
Нанятые Пантелеем люди ушли, как только поняли, что ватажка промышлять не будет: не захотели всю зиму таскать чужой припас за один только прокорм. Зимовка в Енисейском остроге была для них если не сытней, то легче и безопасней.
Пантелей Пенда по сказам Михея Омуля кратчайшим путем шел к верховьям Ангары-Тунгуски. Старик караулил животы[166], сам передовщик с двумя спутниками челночил груз нартами. Двое волокли первую нарту, тропя по снегу путь. За ними тянул груженую нарту третий. Днище ходу вперед, возвращение за оставшимся грузом, снова переход до стана. И так изо дня в день.
Здешние места считались мирными. В прошлом году побитые братскими дайшами1 тунгусские князцы Ялым и Иркиней приезжали в Енисейский острог, присягали русскому царю, доброй волей давали ясак со своих мужиков и с рода князца Югани. Нынешней осенью наведывались князцы Тасей и Тарей, без принуждения привезли ясак за год.
Воевода боялся порушить шаткий мир с тунгусами Тасеевой реки. В наказной памяти, которую дал ватажке Пантелея Пенды, грозил расправой, если русские промышленные чем-то обидят здешние роды или станут промышлять без их согласия в родовых угодьях, или сделают им какое худо.
Балаган стоял на берегу притока Ангары. И был этот приток вдвое шире Лены-реки в тех местах, где бывали Угрюм с Пантелеем и Синеуль. Сама же Ангара подо льдом была так широка, что в иных местах путники сомневались, в какой стороне коренной берег.
Пантелей замер вдруг, прислушался, снова откинул лавтак. Едкий дым очага опять пахнул в лица, выедая слезы из глаз.
— Кажется, едут? — встрепенулся: — Тунгусы! Олени хоркают!
Он торопливо перекинул через плечо сабельный ремень. Обнаженный до пояса Синеуль молча оделся. Михей с Угрюмом положили стволами к выходу заряженные пищали, подсыпали из рожков пороху на запалы.
В снежной пелене показались рогатые олени и съежившиеся на их спинах верховые люди. Всадников было только двое. Безбоязненно, по-хозяйски, они подъехали к балагану, спешились и поприветствовали лучи[167] на свой лад: вот, дескать, мы и пришли!
Пенда с Синеулем ответили им по-тунгусски, пригласили под кров. Олени отошли на десяток шагов в сторону и стали копытить снег. Рядом с ними бесшумно, как тени, появились две собаки, осторожно подошли к балагану и легли, свернувшись клубками.
Михей с Угрюмом подвинулись. Гости протиснулись в тесное жилье, сели возле входа, скинули башлыки, шитые заодно с парками, раздеваться не стали. На балаган они наткнулись случайно: ехали по своим делам и учуяли запах дыма. Длинные черные волосы у обоих мужиков были связаны на затылке наподобие конских хвостов. Их лица были испещрены синими знаками татуировок.
— Здешний князец Тасейка с сыном! — по-русски сказал Синеуль и весело залопотал, выспрашивая гостей о новостях. Говорил он многословно, заскучав по своему языку. Тасейка важно щурил узкие глаза, отвечал односложно, неторопливо расспрашивал, куда они держат путь. За тонкой стеной балагана послышались грозное хорканье и клацанье рогов. Синеуль выглянул наружу, вскрикнул:
— Ак![168] — Олени дрались между собой. Один повалил в снег другого, вскакивал на задние копыта и бил поверженного в грудь острыми передними. — Вадеми![169]
Тасейка равнодушно взглянул на дерущихся животных, пробормотал: «Э-э-э!» и продолжал неторопливый разговор. Собаки лежали в снегу и молча наблюдали за оленями.
Тасейка приметил в балагане малый походный топор и стал показывать, что он ему очень понравился. Дарить его топором было дорого и ни к чему: все равно ватажка не собиралась промышлять на реке. Синеуль стал торговаться, почтительно называя князца «мата»[170]. Взять с тунгусов было нечего.
— Сторгуюсь за собак? — спросил передовщика по-русски.
— Зачем они нам? — равнодушно пожал плечами Пантелей.
— Промышлять буду по пути. Глядишь, чего добуду!
— Торгуйся! — неохотно разрешил тот, лишь бы не отдавать топор даром, как ясак.
Угрюм помалкивал, не понимая, как можно удержать при себе чужих собак, вопросительно поглядывал на Михея. Тот вполуха прислушивался к разговору и уже подремывал.
Малый походный топор да горсть бисера в подарок так обрадовали князца, что он разрешил промышлять на его земле, что пожелают кроме лосей.
— Обойдемся без лосятины! — согласился передовщик.
К немалому удивлению Угрюма, князец сказал собакам строгое слово, Синеулька поговорил с ними по-своему — и собаки остались возле балагана.
— Тунгусы и медведей заговаривают! — зевнул старый Омуль. Тонкие беззубые губы в редкой бороде вытянулись, как рот у осетра или стерляди. И таким мирным, жалким, беспомощным показался Угрюму этот старик, что с трудом верилось всему тому, что слышал о нем от старых промышленных. И подумалось вдруг: «И что его Омулем прозвали, а не Осетром или Стерлядкой?»
— Много спать — добра не видать! — затемно разбудил спутников передовщик. В его обледеневшей бороде позвякивали сосульки. Пантелей уже сходил к проруби и умылся. — Морды-то сполосните! — стал понуждать проснувшихся спутников. — А то как дикие: встаете — не моетесь, ложитесь — не молитесь!
Синеульку с собаками и с луком он отпустил вперед налегке тропить путь и добыть мяса. Старик остался в балагане, сторожить припас. Втроем они сорвали с места десятипудовую нарту. Кряхтя и елозя ногами по льду, двое промышленных потащили ее вдоль берега. Омуль вернулся в балаган.
Когда человек идет с собаками — они его ведут, а не он их. След Синеуля то и дело уходил в лес. Никакой пользы от новокреста с собаками не было. Там, где лед был заметен снегом, тропить и чистить путь для нарты приходилось опять им двоим.
К вечеру Угрюм поплелся налегке в обратную сторону на старый стан, передовщик остался рубить новый. В балагане было тепло и просторно. Дров Михей наготовил, хлеба напек, каши наварил, даже рыбы в проруби наловил. Угрюм, отдыхая, неприязненно наблюдал, как старик неторопливо, с удовольствием, обсасывает рыбью голову, то и дело расправляет пальцами мокрые седые усы. Омуль был вполне доволен пережитым днем и своей нынешней жизнью.
Угрюм сел, вытянув ноги, похлебал ухи из котла, опять откинулся на одеяло.
— За что тебя Омулем прозвали? — спросил. — Слыхал я, что ты прежде много ходил и воевал. Не мое дело! Но почему Омуль? Никак не пойму!
Старик ухмыльнулся сжатыми в трубку губами.
— Молодой был глупый да горячий! — прочмокал вздыхая. — На злое слово скорый. Рыба есть такая, омуль. Из воды ее удой тянешь, а она верещит, будто тебя матерно лает. За то и прозвали!
Старик, как пташка, стал закрывать глаза истончавшими веками, моститься ко сну. Сыто икая, Угрюм опять спросил:
— Скажи по правде, неужто где-то там, — повел глазами на восход, — есть русские села?
— А то как же? — чуть оживился Михей. — Я сам не дошел, — признался со вздохами, сонно прикрывая глаза, — духу не хватило! Но много чего слыхал о Великом Тёсе, чего сказывать нельзя по прежним клятвам.
Угрюм, глядя на всхрапнувшего старика, недоверчиво усмехнулся. Упрямство Пантелея Пенды он знал по прошлым промыслам, а этой зимой передовщик вел себя так, будто и не думал добывать пушнину. Похоже, он собирался искать то, о чем смутно и тайно говорили старые промышленные: будто где-то в урмане, на тайном тёсе, есть старые русские города и села. Будто новгородские люди, спасаясь от богомерзкой войны с единокровной Москвой, ушли туда давно.
Подозревал Угрюм, что Пантелей не взял в покруту никого из гулящих, чтобы не было споров и разногласий в ватаге. Всякие мысли одолевали молодого Похабова после неудачного сватовства в Енисейском остроге. И нынешнюю ватажку передовщик подобрал под себя: Михейке Омулю лишь бы сыту быть да поменьше мерзнуть, Синеульке лишь бы на месте не сидеть. А ему, Угрюмке, что? Он бежал от обиды. Может быть, сдуру, но теперь уже не воротишься.
В тайге люди дряхлеют быстро. Иной тунгус в пятьдесят лет выглядит как древний старец. Михей по годам был ровесником енисейскому воеводе и скитнику Тимофею. Но разве сравнишь их? Те еще крепкие, а этот — ветхий. Приглядывался Угрюм к старику и с невольным страхом примерял на себя его судьбу.
Синеуль с собаками добыл двух глухарей, тощую козу и рыжеватого соболька, которому в Енисейске красная цена — десять алтын[171]. Это была первая, хоть и поздняя, добыча. Правда, по наказу передовщика Синеулька сделал еще шалаш в днище пути от последнего стана. За несколько ходок ватажные перетаскивали туда весь груз.
Небыстро продвигалась ватажка к верховьям реки. Тунгусы встречались часто. Они кочевали родами в два-три чума: с женщинами и детьми, бывало, человек до двадцати. При встречах охотно торговали с промышленными.
Ночами от лютой стужи с грохотом разрывался лед. По утрам по долине реки, к которой с двух сторон подступали кряжистые ели и сосны в два обхвата, дул пронизывающий ветер. К полудню так ярко светило солнце, что птицы, и даже воронье, поднимали галдеж в густых ветвях деревьев.
Собаки подавали голоса то с одного берега, то с другого. Пока хватало мяса, Пантелей не отпускал Синеуля на промысел, заставлял тянуть нарту. К вечеру собаки прибегали к костру злыми, с ненавистью глядели на новокреста. Синеуль по-тунгусски оправдывался перед ними. Жаловался спутникам:
— Уйдут! Осерчали, что мы не охотимся! Ругают меня.
Псы зарывались в снег, глядели на огонь пристальными волчьими глазами, молча водили усами, дожидались обглоданных костей. И правда, что-то менялось в их мордах.
— Уйдут! — стонал Синеуль и крутил лохматой головой. — Вон как глядят, — кивал на собак и снова начинал разговаривать с ними. Псы же на его слова только равнодушно щурились, не соизволяя шевельнуть хвостом или прижать уши.
В среднем течении реки ватажные шли две недели, никого не встречая. За поворотом следовал новый поворот. Берега были круты. В иных местах к ним подступали скалистые гривы с лесом. Река подо льдом все круче поворачивала на полдень.
— До самых верховий идти? — то и дело переспрашивал старого Омуля передовщик.
Старик терпеливо чмокал стерляжьими губами, равнодушно оглядывал окрестности, повторял уже сказанное:
— Исток далеко! Там, сказывают, кызыльцы кочуют или киргизы. Не слыхал, чтобы кто оттуда возвращался. А мы, как стрелку пройдем.
— Так прошли уже, — напоминал передовщик.
— Правый приток тунгусы Чуной зовут, — невозмутимо продолжал сюсюкать старик, — как повернет на полдень — Кызчак будет, по-кызыльски — бабьи титьки, гора такая. Промеж тех каменных титек волок.
— Да ты, поди, забыл, какая она, баба? — язвил передовщик, испытывая старческую память, которой не очень-то доверял. — А то и не знал вовсе. Про медвежьи, поди, сказываешь, а мы, как дураки, высматриваем бабьи.
— Как не знал? — беззубо посмеивался старик. — В Мангазее со стрелецкой женой прелюбодействовал с месяц. Ох, сладко любила меня, — пускался в воспоминания, которые ватажные слышали уже не раз.
По неписаным законам старых промышленных говорить в тайге про женщин и девок запрещалось. Но ватажка была малой, подступала весна, а обещанного волока все не было. Шутливая перепалка передовщика и старика бередила сердечную рану Угрюма. Он то и дело вспоминал Ме-ченку, пренебрегшую им. Ненавидел эту злющую хитрую девку, но, глядя на старика, опять ужасался бесприютной старости, которая могла ждать и его самого.
Задула Евдокия-свистунья. Пришла весна. Почти не потеплело, но с полуденных земель ветер уже доносил запахи талой земли и перепревших трав. Михей пытливо поглядывал на повеселевшие лица спутников и с важностью поучал:
— Месяц марток наденет пять порток!
Синеуль кривил тонкие безусые губы. По своим тунгусским приметам он называл, какой нынче снег и какая весна. У русичей зима исчисляется по святым, у тунгусов — по снегу, который имеет десятки названий.
Собаки ушли. Не было их день и ночь и еще день. Но к другому вечеру они все-таки вернулись. Улеглись в стороне от костра, глядели на людей пристально, как волки. На днях Пантелей с Угрюмом пробовали запрячь их в бечеву, и, как ни погоняли, собаки не понимали, что надо тянуть нарту: ложились на снег или сидели, показывая, что не дураки дергаться, когда привязаны.
— Утром совсем уйдут! — безнадежно всхлипнул Синеуль. — Делай дневку! — попросил передовщика. — Или отпусти меня.
— Спешить надо! — не соглашался Пантелей. — Вот перевалим по насту за гору, тогда… А собак на ночь можно привязать.
Привязали. Те подергались и стали грызть бечеву. Привязали волосяной веревкой. Собаки среди ночи так завыли, не давая людям уснуть, что Пантелей выполз из-под одеяла, отвязал их и успел поддать ичигом под зад одному из псов. Не было их день, другой и третий.
— Обиделись и ушли совсем! — объявил Синеуль, сдвинул к переносице брови, набычил шею, как передовщик. — Куда смотрели, мать вашу еть? — строго спросил его голосом. Склонил голову, вытянув шею, выпятил губы, становясь похожим на старого Омуля: — Се имя голодным? Ума-то нету. Тунгусу нас рзаной припас — тьфу! Того и гляди — сам сбезит.
Сипло захохотали промышленные. Угрюм смеялся громче всех. Его Синеуль тоже передразнивал, но ему казалось, что не так похоже, как других.
Неделю шли без собак. Волокли нарты целыми днями, ночевали без крова у костров. Готовясь к очередному ночлегу, новокрест начал было разгребать плотный снег, но вдруг вытянул шею, прислушался.
— Собаки! — прошептал. Затрепетали ноздри приплюснутого носа.
Принюхался и Угрюм. Студеный ветерок донес запах дыма. На извилине реки, возле мыса, стояли два тунгусских чума, берестяная юрта и бикит[172] в шесть стен, покрытый плоской крышей. Срублен он был сикось-накось.
К промышленным вышел длинноволосый мужик со скуластым обветренным до черноты лицом. Волосы его были сплетены и висели короткой косой между плеч. Он оглядел прибывших, приветливо кивнул. Земля вокруг чумов была ископычена скотом. На стане витал непривычный для тунгусов запах коней.
Синеуль переговорил с мужиками и сообщил, что они братские кыштымы[173], а сам стал с упоением лопотать, о чем-то им рассказывая. Пантелей и Угрюм прислушивались, пытаясь хоть что-то понять. Но новокрест тараторил слишком быстро. Из чумов и из леса вышли еще четыре мужика, стали внимательно слушать Синеуля. Неприязни к гостям они не показывали. Откинув полог, из чума вышла женщина с берестяной люлькой на шее.
Наговорившись, Синеуль стал пересказывать ватажным, что илэл[174] пришли с Подкаменной Тунгуски. Там они перессорились с родней, а здесь с тунгусами не породнились. Живут небедно: родственники сочли бы их за богачей. Но вынуждены пасти табун братских людей и по уговору далеко не кочуют.
Ватажных они пригласили в чум. В нем возле тлевшего очага управлялись две жены князца. Из-за полога выглядывал немощный, седой и сморщенный старик. Хозяин с важностью усадил гостей на шкуры. В чум влезли еще четыре мужика. Под кровом сразу стало тесно и душно. Тунгусы скинули парки, оставшись до пояса голыми, и начали расспрашивать Синеуля о Енисейском остроге, про который до них доходили разные слухи. Новокрест отвечал степенно, важно надувал шею, хмурил брови, подражая Пантелею.
Он долго и многословно говорил, как хорошо живут лучи, какой у них сильный царь.
Тунгусы слушали его и бросали тоскливые взгляды на молчавшего Пантелея. Князец пояснил, что они тоже хотели бы платить царю ясак, чтобы не сидеть на месте с братскими конями. Но без братов их здесь все будут бить и грабить.
Ни о каком волоке между гор, похожих на женскую грудь, они не знали. Но знали конную тропу, по которой браты ездят грабить кызыльцев, киргизов и тунгусов, а те — братов. Обещали дать вожей.
Промышленные переночевали в берестяном чуме, обменялись подарками и поволокли свой груз дальше на полдень. Указанным путем они перевалили к истоку какой-то таежной речки среди лесистых гор, и тут старый Омуль узнал гору:
— Вон они, про которые сказывал! — показал рукой на две скалы с острыми вершинами.
Пантелей грозно крякнул:
— Это рога, а не титьки! Между них никакого волока не может быть!
— Мимо! — спохватился старик, виновато переминаясь. — Запамятовал. Это когда я был здесь? Упомни-ка все.
По словам старого промышленного, лет пятнадцать назад, возвращаясь с Ангарских порогов, ватага промышленных в этих местах спрятала струги. Передовщик сомневался, что старик найдет те суда. А если они и нашлись бы, то целы ли после стольких лет? Строить новые лодки нужно было здесь и до вскрытия реки.
Ватажные разбили табор, поставили шалаш. На другой день Пантелей отправил Синеуля добыть мясной припас. Угрюма он оставил на стане сторожить добро, а сам со стариком отправился искать струги. Они вернулись к вечеру. Передовщик был весел и придерживал под руку Михея, чуть живого от усталости. Старик доплелся до костра и упал, отказываясь от еды.
— Стоят! Целехоньки! Берестой укрыты. Рассохлись, конечно. Но один из двух собрать можно, — радовался Пантелей.
Наутро ватага сложила груз в нарты и по хрусткому чернеющему льду речки пошла на новое место. К полудню на льду появились лужи. С каждым днем становилось все теплей. Но весь груз был доставлен к месту по льду.
Струги были сделаны по старине: на долбленых основах наращены тесовые борта. Кое-где тёс замшел и сгнил, в иные щели лезли пальцы. Но это ничуть не смутило передовщика. Он заставил Михея с Синеулем копать березовые корни в мерзлой земле и варить смолу. Сам на пару с Угрюмом разобрал оба струга, ощупал и проколотил всю древесину.
— За неделю управимся, а то и раньше, — радовался, разглядывая работу незнакомых, уже состарившихся людей. Окликал старика: — Когда ты здесь был?
Омуль откладывал свою работу, начинал шевелить губами, загибал пальцы, чесал морщинистый затылок с редкими свалявшимися волосами. Отвечал неуверенно:
— Енисейского не было. А Тимофей жил в скиту. У меня зубы были крепкими. Кости еще грыз, что пес!
— И горячее вино хлестал кружками! — добродушно посмеивался передовщик.
— Да уж это как водится, — смущался старый промышленный.
Оттаяла земля. Тайга заблагоухала сладким духом березового сока. Промышленные стали запаривать в нем брусничный лист, взятый из-под снега. За неделю они не только собрали и просмолили струг в три пары весел, но и по-тунгусски сшили из бересты ветку — легкую завозную лодку.
Вскрылась река и вскоре очистилась ото льда. Затосковавший на одном месте Синеуль засуетился, предвкушая перемены. Работал он меньше всех и больше всех бегал по лесу, выслушивая глухариный ток. Пантелей боялся потерять толмача, не хотел, чтобы тот прибился к чужому роду, прельстившись молодой тунгуской. Весна она для всех весна. Даже старый Омуль глядел на стылую воду, волнуясь, шевелил губами, глубоко вдыхал весенний воздух и надеялся на что-то свое.
Прежде, бывало, слова из него не вытянешь о Великом Тёсе. Если и вспоминал о прошлом, то о гульбищах, торговых банях с сусленками[175], добрых и злых воеводах. А тут заговорил, как поднимался со стругами по Верхней Тунгуске до Большого Каменного порога, через который его ватага пройти так и не смогла. Вспоминал, что промышляли они соболя возле братских улусов. Весной двинулись вверх по притоку этими самыми местами. Легкого волока не нашли, бросили струги и другую зиму промышляли на Тасее, а к весне сплыли к Енисею плотами.
Говорят на Руси: «Пришел Пахом — пахнуло теплом». На святого Пахомия-бокогрея, помолясь Николе Чудотворцу да Святой Троице и всем святым покровителям, промышленные столкнули на воду тяжелогруженый струг. Он степенно закачался на стылой воде, пахнущей льдом и рыбой.
— С Богом, что ли? — еще раз перекрестился Пантелей. Сел на корму. Течение понесло судно с мотающейся за кормой веткой. Речка не была бурной, хотя и текла между гор. По берегам из-под желтеющего покрывала прошлогодней листвы буйно пробивалась зелень. Над отопревающей землей, еще скромно и в одиночку, вставали на крыло комары.
Впереди зашумел перекат. Передовщик велел подогнать струг к берегу. В промазанных дегтем бахилах вошел в студеную воду, пошарил по дну шестом и указал, где разбирать камни. Старика жалели, он сидел в струге и виновато водил по сторонам влажным носом. Трое работали до ломоты в суставах, пока не протолкнули струг через каменистую отмель. Наконец снова поплыли, поминая добрым словом святых своих покровителей.
На устье река широко разливалась по долине. На сочной траве стояли три тунгусских чума. Вдали, возле леса без травы и кустарника, но с пышным покровом мха, паслись олени. Завидев плывущих по реке, на берег выскочил тунгусский мужик с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, замахал руками. Промышленные налегли на весла и приблизились к берегу.
— Спроси, какой товар нужен! — наставлял Синеуля передовщик. — Чтобы попусту не доставать мешки, как в прошлый раз.
Новокрест прытко выскочил на сушу, весело затараторил с тунгусом.
— Здесь по-другому говорят! — крикнул передовщику. — Половину только понимаю. Лося без нас поделить не могут! Вот и зовут.
Старик с Угрюмом остались при судах. Синеуль с передовщиком ушли в лес следом за тунгусом. Пробыли они там долго и вернулись с большим куском мяса. Синеуль смешливо бранил Пантелея:
— Я бы у них ребра забрал! А ты взял шею — самое плохое мясо.
— Они бедные! — оправдывался передовщик. — А мы не голодаем.
— Приходим, — стал азартно рассказывать новокрест Угрюму с Михеем. — Узкоглазые мясо поделить не могут. Не верят друг другу: каждый для своих родственников лучший кусок хочет взять. А нам что тот, что этот. Так поделили, что все остались довольны.
— Не бреши! — огрызнулся передовщик.
— Все равно довольны. Нам давали лучшее мясо, а он, — кивнул на передовщика, — шею взял. Мне-то что? — Цыкнул сквозь зубы: — Этыркэн[176] Омуль без зубов. Ему жилы не перегрызть. Ну и тупой у нас передовщик, прямо как русский!
— Это енисейские тунгусы! — досадливо отмахиваясь от толмача, стал оправдываться перед стариком Пантелей. — Они бывали на устье Ангары, видели острог. Говорят, по реке и внизу и вверху — скалы. Те, что вверху, берегом не пройти, а обходить далеко. А за ними живут братские конные люди в войлочных юртах. Скота у них много. А еще сказывают, верь не верь, — блеснул глазами, — за каменными щеками среди братских мужиков есть бородатые шаманы.
Ватажка ночевала на берегу, выше устья речки, по которой сплыла с верховий. Полноводную Ангару промышленные узнали по запаху и цвету воды. Михей припомнил, что сюда от устья в прежние времена он шел бечевой месяца полтора. На этот раз, прямым путем, они шли четыре месяца, правда, с большим грузом, да еще промышляли в пути.
С порогов доносился гул ревущей воды. И был он так силен, что приходилось напрягать голос, разговаривая у костра.
— Ну, вот и привел, куда говорил, — важно выкрикивал старичок, по-петушиному вытягивая шею, оглядывал Пантелея с Угрюмом выцветшими рыбьими глазами. — Дальше я с большой ватагой не смог подняться. А как вчетвером? Ой не знаю! — тряс седой бородой и скоблил пятерней морщинистый затылок. — Дальше не был, врать не буду! — прокричал и выдохся, уронив голову на грудь.
Утром передовщик ушел глядеть порог. Синеуль с луком убежал на промысел. Михей с Угрюмом остались на таборе караулить струг с животами. Припекало солнце, начинал лютовать оживший комар. Плескалась рыба у берега. Угрюм вырезал удилище, пошел кромкой воды. Одной рукой закидывал крючок, другой отмахивался от гнуса. Старик замесил тесто и выставил квашню на солнце. Передовщик велел ему напечь хлеба впрок.
Вернулся Пантелей только к вечеру. Бросил у костра пищаль и топор, весело объявил:
— Даст Бог, пройдем! Бечевник плох. Местами, у воды, и вовсе отвесный камень. Щеки! А волочься верст с десять.
Михей прислушивался к его словам, приглушенным грохотом воды, вытягивал шею, морщился, недоверчиво качал головой, шевелил стерляжьими губами в седой бороде. Вечером Пантелей перещупал бечевы и веревки, сделал из речного камня завозные якоря.
Вернулся Синеуль, обвешанный набитой птицей. Передовщик, вместо того чтобы похвалить толмача, стал ругать его. Куда, дескать, девать лишний припас, когда каждая гривенка[177] в тягость, а бросить — лешего обидеть.
Синеуль спорить не стал, щипал птицу и пускал перья по воде. Михей начал печь на углях тушки. Насытившись, промышленные рано легли спать, а поднялись затемно. Помолившись, подкрепились едой и питьем. С молитвами потянули струг и берестянку против течения. Угрюм с Синеулем шли на бечеве, Пантелей с Михеем проталкивали судно шестами. После легкого сплава конский труд бурлака был тяжек.
Увидев первые буруны, Угрюм слегка повеселел: ему показалось, что пройти их не так уж трудно. Но за поворотом реки открылся новый плес со страшными камнебоями. И почудилось ему, что время остановилось.
Десять верст ватага шла два дня: то бечевой и шестами, то завозом якорей. Вышли-таки на чистую воду, на пологий берег, где можно было просушиться. Грохот воды так усилился, что без крика ватажные не слышали друг друга.
Передовщик объявил дневку и отдых. На этот раз он отправился осмотреть другой порог с Угрюмом. Они ушли утром с ружьями, бросив табор на Омуля и Синеуля. Идти возле воды долго не смогли, пришлось лезть на отвесную скалу. Сверху сыпались камни и выглядывали горные бараны с гнутыми рогами.
Когда Угрюм смог увидеть разлив реки, он боязливо поежился. Большая вода с ревом скатывалась вниз, пенясь и клокоча возле торчащих камней. Промышленный взглянул на передовщика растерянными глазами и не увидел в его лице прежней бесшабашной удали, зато приметил в густой бороде, возле скрытого ей шрама на скуле, седой клок волос. Пантелей глядел вниз и с остервенением скоблил ногтями этот рубец. Метнув на Угрюма быстрый взгляд, указал на скалу.
Полезли выше. Лезли долго, распугивали ленивых баранов и коз, удивленных появлением людей. Открылся вид на весь порог. Дальше него река текла спокойно, без единой волны. О том, чтобы обнести скалы посуху, не могло быть и речи: гора тянулась сколько хватало глаз. «Разве на себе через гору все лето таскать животы, а к зиме построить новый струг?» — растерянно размышлял Угрюм.
Он уже подумывал о возвращении, но Пантелей склонился к его уху и закричал, указывая пальцем вниз:
— Три прохода есть. Вон за тем камнем вода стоячая. Вокруг бушует, а там только крутит.
Угрюм кивнул, не понимая, к чему этот разговор. Пантелей махнул рукой, успокаивая его, наверное, увидел страх на лице спутника.
Они спустились с горы тем же путем и вернулись на табор. Синеуль пек на рожнах вчерашнюю уже подванивавшую тухлятиной птицу. Михей лежал, лениво отмахиваясь от гнуса.
— Даст Бог, пройдем! — прокричал Пантелей без обычной уверенности. — Крутой! Зато не такой долгий, как тот, — мотнул бородой в сторону пройденного порога.
— А как не пройдем? — с сомнением вскрикнул Угрюм.
— Разобьет в щепки! — усмехнулся передовщик. — Животы потопим. Кто живым выплывет — к братам или к тунгусам в холопы. А что еще? — вскинул глаза, и они сверкнули льдом.
У Угрюма захолодело в кишках. Он вспомнил свой мешок с клеймеными соболями, пустячную добычу этой зимы, бесконечное перетаскивание хлебного припаса. «И чего в Енисейском не жилось?» — подумал с тоской. Прежние обиды показались ему глупыми, надуманными, а то, что теперь он никуда не мог уйти от своих бесноватых спутников, — было очевидным.
— Можно и здесь промышлять! — попробовал спорить. Но не был услышан.
— Дедушку[178] надо задобрить! — крикнул передовщик Синеулю. — Перья по воде пускал — только раздразнил!
— Нашему водяному — перья на одеяло, — приплясывая, заскоморошничал новокрест. — Вашему этого, — шевельнул ногой убитого гуся с поблекшим пером.
— Нашему только свежего да живого! Добудь тупой стрелой! — приказал передовщик и выругался: — Хрен знает, какого роду-племени здешний дедушка. Но зол, мать его еть!
Синеуль подхватил лук и ушел вниз по реке. Вернулся он только к ночи, в мокрой одежде. Двумя руками прижимал к груди завернутого в кожаную рубаху дикого гуся. Птице тут же связали лапы и крылья.
— Люби и жалуй, дедушка, нашу ватажку! А мы тебе гостинец посылаем, — неслышно прошепелявил Михей тонкими рыбьими губами и бросил под водопад бьющуюся птицу. Раз и другой показались из пены птичий клюв да гузка, затем гусь исчез в глубине реки. Примета была хорошей: водяной охотно принял подарок.
Утром, едва промышленные люди подошли к порогу, старый Омуль осмотрел клокочущий поток и закричал, выпячивая стерляжьи губы:
— Узнал! Не через те, через эти щеки не смогли пройти два десятка промышленных.
«Наконец-то и старик испугался!» — боязливо порадовался Угрюм, надеясь вразумить Пантелея с Синеулем.
Передовщик мимоходом обернулся, но он уже никого не слышал, глядел на торчавшие из воды камни, на крутой перепад воды. Глаза его горели, как перед боем, и выискивали верный путь. Он перепрыгнул в ветку, приткнутую к берегу, кивнул Угрюму, чтобы следовал за ним. Тот покорно перешел в шаткую лодчонку. По-кетски опустился в ней на колени, сев на пятки, взял шест в руки.
Выпуская за собой бечеву, двое на шестах стали проталкиваться против ревущей воды. Всякое неверное движение могло развернуть берестянку поперек течения, а боком ей против волны не устоять. Но Бог миловал, а водяной не вредил, и Пантелей с Угрюмом дошли до первого камня. Под ним, в затишье, бросили якорь, закрепились и потянули на себя тяжелый струг. Михей с Синеулем проталкивали его шестами против течения.
Потом был другой завоз и третий. Берестянка опрокинулась. Угрюм выплыл к стругу, болтавшемуся на якоре. Пантелей, с мокрой скрученной в веревку бородой, цепко ухватился за скалу, зубами удерживал бечеву с перевернутой веткой. Синеуль с Омулем да мокрый Угрюм шестами подогнали к нему струг. Наспех отжав одежду, двое снова сели в берестянку, стали проталкиваться дальше против беснующейся воды.
Когда прошли порог и приткнули струг к пологому берегу, Угрюм упал вниз лицом и лежал, подрагивая в сырой одежде, пока не окоченел. Потом поднялся. Все пережитое за день казалось приснившимся кошмаром.
Михей лежал на спине и тяжко охал, глядя в небо. Синеуль валялся кулем, как покойник. Похоже, русская жизнь новокресту изрядно надоела, но ему, как и Угрюму, бежать было некуда. Мягко, но крепко привязал их всех к себе бесноватый передовщик.
Пантелей без шапки, с мокрыми волосами на плечах, с вислой бородой крошил ножом трут, выискивая в нем сухое место. Угрюм поднялся на подрагивавшие ноги, поплелся к кустарнику набрать дров для костра. Надо было сушиться.
Едва закурился дымок над сухими ветками, поднялся и старый Михей. Оставляя за собой мокрый след, на карачках подполз к огню, стал сдирать с себя скользкую, как кишка, кожаную рубаху.
— Истинно сказано, — всхлипнул, выпячивая тонкие губы, — кто горя да смертушки своей в лицо не видывал, — тот искренне Богу не маливался. Коли на этот раз попустил Господь пройти щеки, не утопил, мне уж назад не вернуться!.. И не надо!
Угрюм еще раз сходил за дровами и тоже стал стягивать с себя мокрую одежду, отжал и развесил ее у огня. Не отмахиваясь от гнуса, пошел к стругу, нашарил мешок с рухлядью. Он был сухим. От этого полегчало на душе и прибыло сил. Повеселев, Угрюм вернулся к костру и начал сушиться.
— Мешки с рожью надо перебрать! — устало приказал передовщик.
Никто не кинулся исполнять наказ. Синеуль поднял голову. Он не умел плавать, а за бортом нынче побывал два раза.
— Как в воду свалился, открыл глаза, вижу — дедушка с русской бородой. Да как хрястнет меня по морде моим же гусем! — Он болезненно приложил пальцы к заплывшему глазу. Под ним кровоточила ссадина.
— Видать, святой Никола был! — как от пустяка, отговорился Пантелей и повторил: — Надо рожь перебрать! Вы готовьте дрова, — кивнул Синеулю и Михею. — А ты к стругу, — строже приказал Угрюму.
На другой уже день Угрюм снова шел на бечеве. Плечо к плечу рядом с ним шагал Пантелей. Хоть и передовщик, но в малой ватажке ему приходилось работать на равных со всеми. Поднял младший Похабов голову, огляделся — вокруг горы, покрытые густым лесом, впереди пологий берег, видно устье притока, разметавшего гладкие, обкатанные водой камни.
Снова хрустел под ногами окатыш. Промазанные дегтем бахилы к полудню размокали, сползали на щиколотки, чавкали и волоклись комьями налипшей грязи. На передовщике — шлычок из кожи: шапку он утопил на пороге или дедушка ее забрал. Плохая примета, может и голову потерять.
Но Пантелею все нипочем. Он знай себе шагает. А куда? Зачем? — обидчиво раздумывал на ходу Угрюм. Морок ему не морок, приметы не приметы, а спокойная человечья жизнь не жизнь.
Он обернулся. Омуль с Синеулем на корме струга с двух сторон упирались в дно шестами. У Михея глаза, лоб и нос были черными от дегтя, которым старик спасался от гнуса. Синеуль своим безбородым вспухшим от гнуса и купания лицом походил на прошлогоднего покойника.
Сквозь отдаленный гул порога, который все еще был слышен, почудился Угрюму конский топот. Пантелей тоже насторожился, вскинув голову, остановился. Оглядываясь, подтянул струг к берегу, вытащил из-под кож саблю, повесил на бок. Велел взять заряженные пищали и запалить фитили. Место было открытым. Выплывать на середину реки, чтобы быть затянутыми в пройденный порог, никому в голову не приходило.
К стругу рысцой приближались два десятка всадников. Одеты они были в камчатые халаты и высокие остроконечные шапки. На затылках мужиков висели косы. Вооруженных среди них Угрюм не заметил.
В пятидесяти шагах от струга конные люди почтительно остановились, стали разглядывать пришельцев. Четверо из них спешились. Раскачиваясь всем телом, переваливаясь с боку на бок, заковыляли к стругу тяжелой походкой урожденных всадников. Пантелей защипнул фитиль и положил пищаль на борт. Синеуль снял с тетивы лука стрелу.
Конные люди безбоязненно подошли к ним и гортанно о чем-то залопотали. Пантелей обернулся к Синеулю. Тот поприветствовал послов по-тунгусски. Напрягая лицо, прислушался.
— Будто зовут нас куда-то, — сказал неуверенно. — Похоже, давно ждут! — пожал плечами, удивленно взглянул на передовщика.
Не обращая внимания на Синеуля и старика, мужики стали хватать за рукава Пантелея и Угрюма. Тянули их к всадникам, указывая на них руками, лопотали: «боо! боо!» Никакой угрозы в их голосах не было.
— Ничего не пойму! — замотал бородой передовщик, поглядывая на Синеуля. — Боо — у братов зовутся шаманы… Скажи, пусть тунгусского толмача приведут! — Знаками стал спрашивать тянувших его мужиков: — Чего надо? Зовите толмача, — ткнул пальцем в язык.
Тут всадники дружно закричали,1 указывая руками вверх по течению реки. Пешие обернулись. По Ангаре плыл небольшой плот. На нем с шестами в руках подгребали к берегу два бородача в обычной кожаной одежде промышленных. Но головы их с волосами ниже плеч были покрыты черными скуфьями.
— Не Ермогена ли с Герасимом Бог послал? — ахнул передовщик, вглядываясь в плывущих из-под руки.
Послы, забыв про ватажных, вразвалочку побежали к своим лошадям. Другие с радостными криками уже рысили к плывущим. Всадники подъехали к самой воде, бросили на плот несколько волосяных веревок. Бородачи ухватились за концы. Кони потянули плот к берегу. Следом за всадниками, придерживая саблю на боку, побежал берегом Пантелей. Он обошел стороной толпившихся людей и оказался в их первом ряду.
— Глазам не верю! — вскрикнул, раскидывая руки. — Вы ли, батюшки? Живые?
— Ой! — взглянув на Пантелея, ударил себя по лбу чернобровый, слегка пучеглазый бородач. — Не с тобой ли встречались позапрошлой осенью? Еще хотел с нами остаться, да ватага воспротивилась?
— Со мной! — рассмеялся Пантелей. — По молитвам Бог опять привел!
— Вы уж нас дождитесь! — торопливо оглядывая русских людей возле струга, попросил монах. — Мы сплыли по приглашению — поспорить с попами желтой веры.
Окруженные всадниками, монахи ушли. Ватажные бечевой и шестами поднялись против течения реки еще на версту. Здесь передовщик велел отдыхать и стеречь добро. Сам перепоясал кушаком кожаную рубаху, стал собираться в гости.
— Хочешь, оставайся и жди, — кивнул Угрюму. — Хочешь — со мной иди! — сунул топор за спину и подтянул бахилы.
Угрюм с недовольным видом поводил носом: солнце было еще высоко, место для ночлега худое, топкое. Но любопытно было поглядеть, как русские монахи проповедуют в братских улусах. Он поменял бахилы на чирки, сунул за кушак топор и пошел следом за передовщиком.
На поляне, скрытой от струга полосой прибрежного леса, дымил костер. Голый, объеденный скотом склон лысого холма был вытоптан и исполосован тропами. Под ним собралось до полусотни братских мужиков: одни лежали на солнце, другие сидели у костра. На огне висел большой черный котел. Двое молодых мужиков в камчатых халатах с закатанными рукавами свежевали зарезанного бычка. В отдалении паслись низкорослые и кряжистые кони. Среди них было несколько высоких тонконогих скакунов.
Посередине поляны из земли торчал свежевыструганный заостренный кол. На нем болтались беличьи и собольи хвосты. В стороне на расстеленном войлоке с важными лицами сидели бритоголовые и босые мужики. Тела их были покрыты длинными отрезами шелка. Против них, по другую сторону от кола, тоже на войлоке, сидели русские монахи и тихо говорили между собой. Тех и других с равным вниманием и заботой окружали братские мужики.
Пантелей с Угрюмом, привлекая внимание собравшихся своим видом, подсели поближе к черным попам. Братский мужик в богатой шапке что-то гортанно крикнул, и гул голосов утих. Даже свежевавшие бычка склонили головы, стали медленней и осторожней делать надрезы окровавленными ножами.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — поднялся чернобородый поп. Спутник его с ясными, синими глазами, присев у костра, похватал пальцами угольки и подбросил их в кадило. Пряно запахло ладаном.
Зажгли свои кадильницы и желтые монахи. Стали кланяться, сложив ладони у подбородка, бормотать молитвы. Душисто повеяло дымком с их стороны.
Обходя собравшихся людей, те и другие долго читали молитвы. Светловолосый Герасим помахивал кадилом. Бритые монахи макали пальцы в молоко и брызгали по сторонам. Чернобородый Ермоген часто перемежал православные молитвы братской речью.
После молений желтый поп с усмешкой на губах стал что-то быстро говорить, обращаясь к слушавшим. В ответ раздался приглушенный смех. Ермоген так же, по-братски, отвечал ему, жестом призывая в свидетели всех слушавших его. Смех зазвучал громче с обеих сторон.
Пантелей с Угрюмом из сказанного ничего не понимали, но догадывались по лицам, что попы высмеивают друг друга, а братские мужики слушают их и потешаются. Слово к слову, спор шел все жестче и злей. Смех собравшихся становился все язвительней.
Лица желтых попов стали кривиться от неприязни к бородатым. На их речи они то и дело отвечали резкими выкриками. Монахи же насмешливо лопотали с непринужденными лицами. Толпа хохотала.
На костре варилось мясо. Сытный дух свеженины растекался по поляне. Разделавшие бычка молодцы помешивали в котле, следили за огнем и прислушивались к спору, то и дело замирали, азартно разевая рты, или тряслись от смеха.
Один из желтых монахов с озлившимся видом схватил ком земли и запустил в Ермогена. Тот не стал уклоняться и принял удар намеренно. Ком рассек ему бровь. Густая кровь закапала на обветренную щеку. Ермоген стоял и торжествующе улыбался, показывая победу поднятыми руками.
Браты с возмущенными криками повскакивали с мест, стали швырять камни в желтых монахов. Те проворно отбежали к табуну, вскочили на оседланных коней, поддали им под бока голыми пятками и ускакали. Никто их не преследовал. Мужики со смехом надели на заостренный кол железное кольцо. При этом отпускали шутки, над которыми сами же и потешались.
Сварилось мясо. Монахи есть его не стали, скромно грызли сухой творог, пили заквашенное молоко. Зато Угрюм с Пантелеем приложились к угощению за себя и за них. Мясо было жирным, мягким, хорошо проваренным. Братские люди предлагали монахам лошадей, чтобы вернуться, откуда пришли. Но те отказались. И когда после пира все стали разъезжаться, они пошли к стругу.
Жар костра жег лица и руки, отгоняя гнус. Светлая сибирская ночь дымкой зябкого тумана опускалась на могучую реку. Ватажные долго не ложились спать: все не могли наговориться со своими людьми.
Монахи выспрашивали острожные новости, радовались учреждению Сибирской епархии в Тобольском городе.
— Наконец-то свет православия достиг Сибири! — взволнованно повторял то один, то другой.
Их до слез трогали рассказы о скитнике Тимофее. Михей Омуль долго и подробно сюсюкал о нем беззубым ртом, говорил с большим почтением и все оправдывался, что оставил старца по его благословению.
— Уж тут кого как Господь призовет и умудрит! — с пониманием утешал старика чернобровый Ермоген. Глаза его не мигая смотрели на угли костра. — Мы тоже от него ушли. Какой прок сидеть всем на одном месте? Надо нести веру тем, кто ждет ее!
— Пока Бог дает силы! — осторожно добавил Герасим.
Миссионеры радовались, что в Енисейский острог, благословением архимандрита Киприана, прибыли три инокини, что там учреждены мужской и женский скиты.
— Без того на одного женатого было десять холостых! — обиженно пробурчал Угрюм. — Если инокини всех девок сманят, кто детей рожать будет?
— Всех не сманят! — снисходительно улыбнулся Ермоген.
Узнав, что перед ними брат Похабова, монахи с оживлением стали расспрашивать про Ивана. Они знали его издавна, в молодые годы вместе с ним претерпели много бед. Угрюм о брате толком рассказать ничего не мог. Больше говорил Пантелей.
И все же, польщенный вниманием монахов, Угрюм похохатывал, вспоминая, как удирали желтые попы, рассказывал Михею с Синеулем все новые подробности того бегства. Черные попы опечалились, почувствовав лесть.
— Не всегда так бывает! — смущенно оправдался Ермоген. — Нынешней весной и нас маленько поколотили.
Герасим блеснул синими камушками глаз, белозубо рассмеялся и стал рассказывать:
— Это я, грешный, виноват! Про силу Самсона, про его длинные волосы и про жену-инородку браты и тунгусы любят слушать. Бывает, плачут, когда рассказываешь, как он доверился жене, а та ему спящему остригла волосы. А в тот раз Бог попустил, я увлекся: стал рассказывать про то, как он бил врагов ослиной челюстью. А лама-то и посмеялся над нашим богатырем. Браты спросили: какая она, ослиная челюсть? А он достал лошадиную и сказал, что ослиная наполовину меньше. Вот и намяли нам бока!
— Чем кормитесь-то? — полюбопытствовал Пантелей. — У вас и в тот год, когда встречались, никакого припасу не было. Браты хлеб дают? Или как?
— Нет у них своего хлеба! — затаенно вздохнул Ермоген и бросил тоскливый взгляд на котел с булькающей ржаной кашей. — Просо — и то покупают.
Пантелей так и впился в попов заблестевшими глазами:
— Как не сеют? Мы у Бояркана на Елеунэ просо на соболей меняли?
— У них и слова такого нет. Покупают у кого-то! — повторил Ермоген.
— Слыхал? — передовщик торжествующе обернулся к Угрюму. — А мне не верили, что видел там русские кочи!
Он вскочил без всякой надобности, но тут же опомнился, притащил к костру сухостойный комель осины. Угрюм раздраженно передернул плечами, замигал выгоревшими ресницами.
— Так вы с тех самых пор без хлеба? — уставился Пантелей на монахов. — Мяса не едите. На одной рыбе, что ли?
— Говорил Господь ученикам своим, — уклончиво отвечал Ермоген, — «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: Душа больше пищи, и тело — одежды».
— «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?» — с печальной усмешкой продолжил Пантелей. — Мы это тоже знаем, но много видели, как помирают от голоду.
— Веры не хватило! — буркнул Ермоген, показывая, что не желает об этом говорить.
Пантелей, недоверчиво покачивая головой, думал о своем. Угрюм мялся, краснел, не решаясь спросить о том, что было на уме. Михей пялился на монахов доверчивыми собачьими глазами, чмокал выпяченными стерляжьими губами. Синеуль равнодушно прислушивался к разговору.
Неловкое молчание затянулось. Передовщик вздохнул и пробормотал с печалью:
— «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Да уж! Это святым говорилось, не нам, грешным!
— Там, на Иордане, народу было густо! — прошамкал Михей. — Здесь ведмеди не накормят!
— У нас и топор, и котел есть, и шубейки! — весело отозвался Герасим. — Есть снасти, чтобы рыбу ловить. Опять же без ножа не обойтись, хоть бы и заболони надрать или корней накопать.
— Все равно, вас Бог ведет!
— Ведет, конечно! — согласились с передовщиком монахи. — Молоком, творогом да маслом буряты кормят, тунгусы последнего не жалеют — всегда поделятся. Добрые здесь народы.
— Многие из них до нас были приготовлены к Слову Божьему, — помолчав, добавил Ермоген. — Своим шаманам изверились, ищут новой веры. Тунгусы, правда, слушают охотно, но остывают быстро. Рассказывают про своих духов, которые будто сильней чужих богов.
Синеуль слушал и посапывал, бросая затаенные взгляды на монахов, которые крестили его при прошлой встрече. Они же с любопытством поглядывали на инородца с потертым кедровым крестом на груди, часто обращались к нему, выделяя вниманием. Он помалкивал, пока не вспомнили его единокровников:
— Глупые они и темные! — просипел зло.
— Синеулька тоже проповедовал среди родни на Нижней Тунгуске, — рассмеявшись, пояснил Пантелей. — А родня прогнала его взашей.
По словам монахов, зимовали они у Аманкула — главного братского хана, который называл себя младшим братом мунгальского царевича. Он звал их с собой в горы, на летние пастбища. Но они решили проповедовать по Ангаре, которую браты называют Мурэн. Поплыли от зимних пастбищ Аманкула на плоту, вниз по течению. Где был народ, там приставали к берегу и жили, проповедуя Слово Божье.
— Вот и встретились! — весело сверкнул глазами передовщик. — Обещал догнать при прошлой встрече и догнал.
— На все воля Божья!
— Хлеб у нас есть, и если вам все равно куда идти, идите с нами к верховьям реки! — предложил с жаром. — Если не найдем там своих русских старожилов, я пойду в верховья Елеунэ. Ну, а вы как знаете!
Угрюм обиженно засопел. Он был не какой-нибудь покрученник, а пайщик, как и сам Пантелей, но передовщик даже не спросил его согласия принять монахов на свои корма.
— Сдается мне, — Герасим тряхнул русыми кудрями, рассыпавшимися по плечам, — что слухи про сибирских русичей — сказки промышленных людей. Хотя. Кто знает? В тунгусском и в бурятском языках немало наших слов.
Монахи переговорили между собой и согласились идти с промышленными куда Бог приведет и покуда они будут полезны друг другу.
— Вам ведь надо туда, где зверя больше, а народу меньше. Аманкуловские старики говорили, где-то в верховьях реки, неподалеку от моря Байгал-далай[179], есть торжок. Будто там браты, мунгалы, тунгусы собираются и даже бухарцы с товарами наезжают. Нам бы туда!
— Где народ, там зверя нет! — степенным баском напомнил о себе Угрюм.
Перед тем как отойти ко сну, промышленные с монахами прочли Трис-вятое и молитвы на сон грядущий ангелу-заступнику и Николе Чудотворцу. Синеуль с Михеем стали громко зевать. Не выдержав долгого моления, они укрылись одеялами. Угрюм упорствовал, стараясь достоять до конца или хотя бы перестоять передовщика. Но вскоре так утомился, что тихонько прилег возле костра.
Проснулся он, как обычно, на рассвете. Пантелей и Синеуль крепко спали. Михей позевывал и потягивался, часто мигая младенческими глазами. Тихонько ступая по траве, от реки пришли монахи. Капли воды блестели в их бородах, лица были свежи. Они приветливо взглянули на Угрюма и стали раздувать костер.
Взошло солнце. Поднялись заспавшиеся промышленные. Передовщик сладко потянулся, расправил бороду, виновато пробормотал:
— Умаяли ночесь! Старею, что ли?
В первых лучах солнца над рекой розовел студеный призрачный туман. Угрюм подхватил котел, пошел к воде, опустился на колени, ополоснул лицо, зачерпнул. В котле заметалась рыбешка. Угрюм выплеснул её, снова зачерпнул — то же самое. Пошлепав днищем котла по воде, разогнав рыбу, он наконец набрал чистой воды.
На стане монахи опять начинали молитвы.
— Мы рыбки наловим да сварим, — шепелявил Михей, плутовато щуря один глаз. — А вы уж за нас помолитесь.
Передовщик, оглядев плохонькую обувь монахов, хмыкнул, поцокал языком и приказал:
— На шесты встанете, а мы на бечеву. Куда уж в таких чунях идти по воде.
Угрюм метнул на него разобиженный взгляд. Опять Пантелей все решал за него.
Снова они волокли струг против течения. Вшестером идти было легче и быстрей. Черные попы оказались людьми добрыми и покладистыми. Пристали они к ватаге без ужины[180], как покрученники. Но Угрюму казалось, что они верховодят им и Пантелеем — вольными своеуженниками.
Сам он никогда не имел призвания к монастырской жизни. Ходил в церковь, как положено от века, но там душа его не ликовала. Исповедовался, чтобы причаститься Святых Тайн, от сглаза, хвори, навета и всяких несчастий. Хорошо знал крутой нрав своего ангела-хранителя. Он не был похож на великомученика Егория Храброго, писанного на иконах. Ангел, которого Угрюм чувствовал в своей душе, был вроде смутно помнившегося трезвого отца: попадешь под горячую руку — побьет без вины, а после вдруг и пожалеет. Всю-то жизнь маялся Угрюм со своим покровителем, изворачивался змеем, чтобы его не прогневить и себя не уморить.
Ватага прошла приток реки, возле которой зимовали монахи. Браты называли его Окой. Здесь промышленные и миссионеры переночевали и пошли дальше, в места никому из них не известные. Поредели леса, положе стали берега. Потом и вовсе открылась безлесная равнина с дымкой гор у края. Людей здесь кочевало больше, чем в низовьях реки. Скота у них было много.
Все чаще ватага устраивала вынужденные дневки и монахи уходили проповедовать. Передовщик обычно шел с ними, чтобы узнать о дальнейшем пути. Бывало, приходилось стоять на одном месте подолгу и появилось время для безделья. Угрюм стал шить для себя сменную обувь, но на одной из стоянок с выгодой обменял ичиги на масло. Ремесло среди здешних народов очень уважалось.
Вскоре к ватажному табору прискакал черный от солнца степняк и показал свою беду: рукоять из березового капа спадала с ножа. Угрюм, посмеиваясь, расклинил ее, насадил накрепко на глазах приехавшего мужика. Тот был изумлен, что нож налажен так быстро. Своей радости он не скрывал, но ни словом не поблагодарил за пустячный труд. С досадой посмотрел ему вслед Угрюм, однако извлек для себя полезный урок.
Не прошло и двух дней, к табору приехали верхами три мужика: у одного обломился край лезвия топора, у другого треснуло кованое стремя, третьему всего-то и надо было выправить согнутую пряжку подпруги.
Как ни мало знал Угрюм кузнечное дело, понял, что работа ему посильна. Он управился бы с ней и за час, но на этот раз с хмурым видом долго разглядывал поломки, с сомнением качал головой и вертел в руках привезенные вещи. Потом сказал, что если и сможет наладить все это, то не раньше чем на другой день к полудню, а то и к вечеру. Огорченные пастухи разъехались. Вернулись они на другой день по уговору и привезли двух жирных, оскопленных баранов.
После этого случая Угрюм стал с усердием учиться у Пантелея кузнечному делу. Среди здешних народов ремесленнику можно было жить безбедно. Вскоре он стал делать седла. Работа эта была дорогой и уважаемой. Молва о ремесленниках летела впереди ватаги. Черный поп Ермоген с черным дьяконом Герасимом стали посмеиваться: неизвестно, мол, кого больше ждут здешние народы — проповедников или Угрюма с Пантелеем.
На краю степи монахи снова затеяли спор с желтыми попами. Собрался народ, для которого такие встречи были редким развлечением. Ремесленникам кочевники привезли много сломанных седел и всякой утвари.
Съехавшийся народ по обычаю врыл в землю заостренный кол. Попы спорили и смеялись друг над другом, потешая мужиков. На этот раз желтые боо[181] переспорили православных миссионеров. Браты с хохотом выдернули из земли кол и сломали его. Правда, русских монахов не били и не гнали. Несколько всадников даже проводили их до струга, возле которого работали Пантелей с Угрюмом.
Кочевники расплатились за работу мясом, маслом, сушеным творогом и молочной водкой. К неудовольствию монахов, давно не пившие хмельного промышленные загуляли. Угрюму от того горячего и вонючего вина веселей не стало: кружилась голова, он тупо зевал и маялся животом, пока не уснул у костра. А когда проснулся, то увидел спавшего Синеуля связанным. Михей с Пантелеем глядели в звездное небо и тихо переговаривались. Монахов не было.
— От такой жизни брюхо вырастет, — заплетавшимся языком пожаловался передовщик, — забудешь, кем и для чего родился.
— А по мне — так бы и жить! — ссохшимися губами шепелявил старый Михей. — И чего столько лет по урману шлялся? Все какого-то чуда ждал. После долги отрабатывал, ради живота ноги мучил.
Синеуль проснулся поздно, его развязали. Он мотал головой, глядел на спутников зло и хмуро, их рассказам о вчерашних буйствах не верил. Вскоре вернулись попы, и ватага двинулась дальше.
Пантелей сшил Ермогену с Герасимом бахилы, и те наравне с промышленными тянули струг бечевой. Синеуль день и другой шел со скорбным видом, ни с кем не разговаривал, и губы его страдальческой подковой гнулись к гладкому подбородку.
Так, ремесленничая и проповедуя, ватага неспешно продвигалась вверх по реке. Монахи в берестянке переправлялись с берега на берег, туда, где замечали стада и юрты. На одном берегу жили булагаты, на другом эхириты. Их язык, вид и нравы пришельцы не различали. Иной раз они встречали по берегам кочующие селения мунгальских кыштымов. По тому, что те во всяком бородатом госте предполагали ремесленного или торгового человека, догадывались, что промышленные люди в эти места наведывались.
Отлютовал овод, стал ленив комар. Желтый лист лег на воду у самого берега. Блекла зелень лесов. Монахи по своему обычаю не заботились ни о пропитании, ни о зимовке. Синеуль, как все тунгусы, жил одним днем, весело и беззаботно претерпевал трудности. Михей время от времени щурил хитрый глаз, поглядывая на мешки с рожью. Он примечал, что хлебный припас убывает, и почесывал редкие волосы на морщинистом затылке.
К концу августа, на Успенье Богородицы, река повернула на полдень. Один берег был крутым и обрывистым, другой пологим. С одной стороны густой лес подступал к самому яру, с другой береговой кустарник нависал над водой. Места были безлюдными, не пригодными для выпасов скота. Монахи велели поставить стан и объявили, что нынче надо непрестанно молиться. Постилась же ватага по их поучению постом истинным.
Синеуля от ржи и трав так подвело, что он еле таскал ноги в бечеве. Как услышал новокрест, что на Успенье придется поститься пуще прежнего, глаза его слиплись в две щелки, губы сжались в гузку, он стал трубно сопеть плоским носом и мотать лохматой головой.
«Сбежит!» — подумал Угрюм и предупредил передовщика.
Едва ватажные устроили стан и стали стирать одежду на теплом песке, Пантелей велел запечалившемуся тунгусу сходить в тайгу за кедровыми шишками к Ореховому Спасу. Тот радостно схватил свой трехслойный клееный лук и пропал, забыв на стане шапку. Вернулся он через два дня, веселый и насмешливый, плутовато поглядывал на постников и все донимал Угрюма расспросами, отчего тот печален в праздник.
Никакого веселья, как когда-то в большой промысловой ватаге, не было. Михей возводил собачьи глаза то к небу, то к лесу, чмокал истончавшими губами в седой бороденке. Пантелей с Угрюмом выглядели печальными и утомленными. Монахи, со светлыми лицами, сами по себе тихо радовались своему, им понятному, счастью.
Синеуль рассказывал, что видел в лесу. Притом он так приукрашивал богатство тайги, что передовщик стал задумываться, не пора ли готовиться к зиме.
— До истока этот год не дойти! — оглядывал реку. — Глянь-ка сколько воды. Шире Нижней Тунгуски. Еще недели две-три пройдем, а там посмотрим.
— Если хотим соболей добыть — промышлять надо дальше от кочевий! — рассуждал Угрюм. — Монахам это зачем? Они, поди, завоют, в одиночку в зимовье сидючи! — неприязненно кривил губы. — С другой стороны, возле кочевий и мы могли бы сыто перезимовать. Тогда тунгус завоет. Чудная, однако, ватажка! — вздыхал, бросая на Пантелея быстрые скрытные взгляды.
Он не верил сказкам о русских городах, живущих по старине да по справедливости: знал, всякий город любит богатых. О воле помалкивал, с тоской поглядывая на старого Михея. Тот всю жизнь прогонялся за волей и богатством. Тоска давила молодецкую грудь: «Куда идти? Где поселиться? К какому обществу приписаться?» Хотелось ему бросить связчиков и плыть обратно в Енисейский острог, поверстаться в посад, зажить домом. Но на пути были страшные каменные пороги.
После праздника ватажные с радостью снялись со стана и снова двинулись к верховьям реки. Крутым берегом они подошли к заболоченному устью притока, разлившегося между покрытых лесом холмов. Издали это место казалось сухим, а когда подошли, увидели камыши в рост человека, кочки, болото.
Смеркалось, надо было устраивать ночлег. Река круто повернула на полдень. К доброй погоде высоко в синем небе черными крестиками носились стрижи. В лучах заката пламенела осенняя тайга.
— Здесь надо ночевать! — досадливо огляделся передовщик.
Идти дальше — устраиваться в потемках, вернуться — плохая примета. Путники нашли сухое место среди чахлых больных берез, развели костер. Пантелей беспокойно поглядывал на небо, предвещавшее хорошую погоду. Через чуткие ноздри всей грудью втягивал воздух. Среди запахов реки, травы и прелого листа его настораживал сырой и свежий дух.
— Не пойму! — ворчал, оглядываясь по сторонам. — Стрижи высоко, отчего дождем пахнет?
Чавкая мокрыми бахилами по болотине, монахи приволокли пару сухостойных лесин. Они отдышались и снова пошли за дровами. Михей раздул костер и повесил котел на огонь. Синеуль с Угрюмом резали сухой камыш на подстилку. Над рекой опускались сумерки, и с ними, казалось, все ниже опускается небо.
После ужина ватажные бросили жребий, и он пал на Угрюма. Чертыхнувшись про себя, молодой промышленный запалил от костра трут, поволок тяжелую пищаль к стругу, привычно подсыпал из рожка порох на запал. Укутавшись одеялом поверх одежды, сел караулить сон товарищей.
Ни звезд не высыпало на небе, ни луна не вышла. Ночь была темна. Слышалось, как глухо и далеко в своих глубинах перекатывает камни река, как шуршит камыш. Треснул сучок, придавленно визгнул зверек. Утробно рыкнул то ли медведь, то ли кабан. Зашумел камыш. Опять все стихло. Угрюм стал подремывать, роняя голову на грудь. Уши ловили шорохи, отсеивали все пустячное, выискивали звук приближающихся людей. Ничто другое караульного не пугало.
В очередной раз открыв глаза, он зябко передернул плечами и почуял запах зимы. Во тьме бесшумно падал снег. Угасая, дотлевал костер. Едко напахивало сырой золой и дымом. Сонному караульному показалось вдруг, что снегопад надежно укрыл его от опасностей. Он с головой укутался в одеяло и блаженно вытянулся на мешках с рожью.
Его разбудил вопль черного дьякона Герасима. На одеяле мягкими путами лежала тяжесть снега. Напрягаясь всем телом, Угрюм сел, сбросил его хрусткие комья к ногам. Было ясное утро. Снегопад кончился так же неожиданно, как и начался. Поздней памятью Угрюм отметил про себя, что крик монаха не был опасливым или испуганным: он был радостным.
В следующий миг караульный испугался, что передовщик знает, как он охранял стан, и может приласкать батогом за крепкий сон. Угрюм опасливо огляделся. Пантелей еще только выбирался из-под одеяла. «И ладно!» — подумал, теперь уже по праву заворачиваясь в теплый мех.
Он хотел доспать с часок, но, проснувшись, почувствовал, что солнце уже высоко. Потрескивал костер, возле него никого не было. Угрюм сел, повертел головой. Снег быстро таял, с шумом слетая с ветвей корявых берез, которые еще не сбросили желтый лист. Цепочки свежих следов уходили в разные стороны: в камыш и к сухостойному лесу.
Угрюм протер лицо, вытащил из-под одеяла теплую пищаль, забросил ее на плечо, пошел по следам в камыши. Ему послышались приглушенные голоса. Вскоре он увидел Синеуля. Тунгус сидел на кочке, жевал траву и плевал на оголенную ногу. Его ступня была в крови. Пантелей с Михеем разделывали дикую свинью.
Синеуль вскинул на товарища узкие насмешливые глаза.
— Крепко спишь! Слышал хоть, как монах орал?
— Как не слышать! — Угрюм присел напротив, разглядывая рану спутника. — Она, что ли? — кивнул на свинью.
Синеуль беззаботно хохотнул и стал обуваться.
— А что Герасим орал? — полюбопытствовал. — Святого какого увидел или медведя?
— Город с башнями и с церквями! — захихикал Синеуль. Глаза его сжались в две щелки, нос утонул между щек. — Нет бы тебе, караульному, свидетельствовать. А ты храпел на весь табор.
Пантелей обернулся через плечо, сердито прошипел:
— Казаки утопили бы такого караульного!
— Да не спал я! — напористо вскрикнул Угрюм.
— Что не посмотрел, куда Герасим указывал?
— Зачем мне? — проворчал, оправдываясь и воротя нос. — Пусть монахи со святыми говорят. Я — грешный!
— Бери стегно, неси к стану!
Угрюм послушно подхватил кабанью ногу с жестким ворсом. Синеуль весело затараторил:
— Герасим видел город, а я — соболя в полторы собаки длиной. След — вот он!
Угрюм оглянулся, куда указывал новокрест. На снегу были отпечатки круглых кошачьих лап, побольше рысьих.
— Рысь это! — заспорил было. — Снег раскис. Вот и кажется.
— Нет! — запальчиво вскрикнул Синеуль. — Лапы короткие, тулово длинное и хвост. — Хмуря коротенькие брови, тунгус сдвинув их к переносице, неуверенно раскинул руки во всю ширь. — Нет, не рысь!
Монахи вернулись к стану после полудня, когда мясо было съедено, а кости брошены в камыш. Михей услужливо напек для них рыбы, разлил остатки кваса.
— Ходили далеко! — устало опустился на примятый камыш Ермоген. — Похоже, что здесь, — указал глазами на реку, — лука или большой полуостров. Белки много. Соболь есть.
— Город-то видели? — накинулся на них с расспросами передовщик.
— Не видели! — смущенно признался Герасим. — Привиделся! — Черный дьякон сбросил мокрые бахилы, тряхнул длинными светло-русыми волосами и заговорил веселей. — А вот юрт по другому берегу множество.
— Лазили на сосну, глядели! — пояснил Ермоген. — Там лес редкий, — махнул рукой за реку, — равнина, просторные выпасы. Вдруг здесь тот самый Торжок, про который говорили браты в низовьях?
— Можно и сегодня туда переправиться. Только там придется новый стан разбивать среди ночи, — пожал широкими плечами Пантелей, будто в чем оправдывался.
— Я здесь останусь! — вскрикнул Синеуль. — Пока большого соболя не добуду — никуда не пойду!
— Одну ногу свинья чуть не отгрызла — другую кот оторвет! — смешливо пригрозил передовщик. Переправляться через реку к вечеру промышленным не хотелось.
— Ну и ладно! — согласился иеромонах, вытирая пальцы сухими листьями. — Мы переправимся на ветке. Завтра вернемся и расскажем, что видели, что слышали.
Михей, боясь разлада в ватажке, зачмокал стерляжьими губами, виновато поглядывая то на одних, то на других. Потом пролепетал, выискивая поддержки:
— Соболь есть — можно и здесь зимовать!
— Андаги[182] — вот какой! — бойко поддержал его Синеуль и развел руки на полный размах. Ни о чем другом как о звере, следы которого видел, он думать не хотел.
Угрюм поскоблил бороду, уставился на передовщика. Пантелей опять пожал плечами.
— Можно, конечно, здешнему князцу пообещать десятину, — нахмурился, глядя на огонь. — Жаль, до Ламы[183] не дошли! — добавил с грустью.
— На Ламе живут тунгусы чилкагирских родов, — горячо залопотал Синеуль. — Они злые, промышлять не дадут, грабить будут. И по тайге у них насторожены самострелы.
— Можно и зазимовать! — неохотно согласился передовщик. — Добрым ватагам самое время зимовье рубить. Вот батюшки узнают, что к чему, будем думать. А переправляться лучше всем. — Обернувшись к монахам, стал пояснять: — Здесь, на повороте, переплыть реку трудно. Течение снесет за мыс, а дальше вынесет на стрежень. Надо завтра подняться версты на полторы, на две. Оттуда река сама прибьет к другому берегу.
К вечеру снег растаял. Ночь была безветренной и звездной. Угрюм быстро и беззаботно уснул. Проснулся он от кряхтения Михея, от хруста хвороста. Открыл глаза. Рассветало. Старый промышленный, прикрывая ладонью бороду, раздувал угли костра. Пантелей спал, с головой укутавшись в одеяло. Ни монахов, ни Синеуля возле костра не было.
Голубело небо, уже розовело на восходе. Угрюм скинул одеяло, потянулся, приветствуя взглядом старого промышленного.
— Место благое! — поучительно просюсюкал тот и зашмыгал красным носом. — Батюшки всю ночь поклоны били, нам, грешным, в науку.
Послышались приглушенные шаги по прихваченной инеем траве. От реки к костру подошли монахи. Умытые, свежие, румяные, с ясными глазами, они выглядели так, будто всю ночь отдыхали на перинах. Их бороды и локоны длинных волос по плечам были мокры.
— Выкупались, что ли? — весело взглянул на них Угрюм.
Михей нравоучительно просипел:
— После Ильина дня, как святой в воду поссыт, и до поры, как лед встанет, — купаться ни-ни! Судороги сведут. Дедушка на дно утянет.
Не желая спорить с причудами старых промышленных, чернобровый Ермоген рассмеялся. Ему не хотелось начинать добрый день поучениями.
Угрюм поплескал в лицо студеной, удивительно чистой и прозрачной водой. На душе стало еще радостней. Он столкнул на воду ветку, вытянул из омута плетеную корчажку, вынес ее на сушу, открыл заглушку култука. Серебристая трепещущая струя живой рыбы вывалилась на песок.
Синеуль не появился на стане даже к позднему завтраку из хлеба и печеной рыбы. Пантелей, поглядывая на заросли камыша, велел собираться без него. Путники привычно залили костер, покидали в струг котлы, топоры и одеяла. Помолившись, взялись за бечевы и шесты. Струг снова двинулся против течения реки. За его кормой моталась легкая берестянка без груза.
Ватажные прошли под яром с версту, а то и больше. По пути они приметили на другом берегу скрытое деревьями устье притока или залив. Потянули струг выше, чтобы переплыть реку к тому самому месту. Только после полудня их догнал Синеуль. Он выскочил из леса и съехал вниз по глинистому яру. Пантелей сбил шапку на ухо, выставил ногу, собираясь разразиться бранью.
— Видел! — радостно завопил новокрест. — Кота видел! — раскинул руки на размах. Бросил на землю лук. Повел плоским носом, шевельнул губой с пробившимися черными волосками и преобразился, превращаясь в настороженного зверя, крадущегося к добыче.
Передовщик умилостивился и строго приказал впрягаться в бечеву. Синеуль послушно схватил постромку, перекинул ее через плечо. Притом не переставал рассказывать о встрече с невиданным зверем. Он захлебывался от восторга, путал тунгусские слова с русскими.
— Сарь, сарь всех соболи. Мата бэюн![184]
Промышленные и монахи протянули струг еще с полверсты. Передовщик пронзительно свистнул, махнул рукой, чтобы бурлаки заняли места на веслах. Сам сел на корме, перекрестился и дал знак грести к другому берегу. Тяжелое судно закачалось на речной волне.
Как и предполагали, течение вынесло их к косе, за которой открывалось устье полноводного притока. Берег был низок и топок. С полверсты повыше устья виднелся остров, покрытый лесом. На шестах и веслах ватажные прошли к нему, переправились через протоку и высадились на песчаной косе.
Остров был невелик и сух. По всем приметам, он не заливался весенними паводками. Берега его густо заросли ивняком и кустарником. Пока монахи молились, а Михей раскладывал хлеб, Пантелей с Угрюмом и Синеулем обошли сушу берегом. Остров был необитаем, хотя уже за протоком виднелись следы скота, приходившего на водопой. Оглядываясь по сторонам, передовщик сбил шапку на ухо:
— Здесь можно рубить зимовье без тына. Летом вода задержит врага и подставит под залп, зимой — лед!
— Все враги мерещатся? — съязвил Угрюм. За нынешнее лето он понял, что промышленным со скотоводами можно жить мирно и даже с общей пользой: одним не нужна тайга, другим выпасы. — Поставить бы зимовье на коренном берегу да кузню устроить — стали бы мы самыми уважаемыми людьми по всей реке Мурэн!
Дрогнули под усами губы передовщика.
— Можно и так, если жить ради брюха!
Перекусив хлебом и квасом, монахи засобирались к юртам: поговорить с народом, узнать новости. Синеуль стал просить ветку, чтобы плыть к камышам.
— На кой тебе этот соболь, или кто он? — думая о своем, раздраженно поругивался передовщик. — Мех у зверя еще не вылинял.
— Надо лес посмотреть! — мялся Синеуль.
— Вольным воля, ходячим путь! — безнадежно отмахнулся от Синеуля Пантелей, вытянулся на желтеющей траве и закинул руки за голову. — Если батюшки опять затеют спор, — скосил глаза на монахов, — два дня простоим. А если задержимся на неделю, здесь придется зимовать.
Синеуль перевез миссионеров через протоку. Вернулся, бросил в лодку лук со стрелами и молча оттолкнулся от берега. Гнуса на острове было мало. Пантелей провалялся у костра до самого вечера. Михей поворочался с боку на бок и стал варить остатки свиного мяса. Угрюм пошлялся по острову, высматривая сухостойные лесины, вернулся.
— Баню бы устроить! — почесал кучерявившуюся по щекам бороду.
— Ягоду надо собрать. На Дмитра без винца никак нельзя, — просюсюкал Михей.
Пантелей непонятно чему тихо рассмеялся, потянулся, ответил Угрюму:
— Можно баню устроить, можно балаган срубить. Дел всем хватит.
Монахов к ночи не ждали. На закате покрыли балаган корой и стали готовиться к ночлегу. Но за протокой послышался конский топот. Люди на острове насторожились, хотя к обороне не готовились.
Вскоре на берег шумно выехали всадники в камчатых халатах, остроконечных шапках с косами меж плеч. Лошади закружили возле воды. Молодые мужики соскочили с седел, помогли слезть с коней монахам.
— Пошли, что ли? — кивнул передовщик Угрюму. — Надо попов переправить! — стал усаживаться за весла тяжелого неразгруженного струга.
Быстро темнело. Всадники скрылись из виду, едва судно причалило к острову. Монахи молча подошли к костру, устало опустились на землю.
— А мы уж ждали-ждали! Все глаза проглядели! — засюсюкал Михей, вопрошающе поглядывал на прибывших. Те не спешили заводить разговор, но по их лицам видно было, что они приняли какое-то решение и думали, как объявить его.
— Здесь и есть тот самый торжок, про который говорили браты в низовьях реки! — наконец сказал Ермоген.
Михей, глядевший на него преданно и с умилением, спохватился:
— Может, кваску попьете с дороги?
— Сюда приходят булагатские, эхиритские и другие роды, — не услышав его, продолжал говорить монах, — приходят мунгалы и их торговые люди. — А до Ламы на хорошем коне ходу два дня, — поднял глаза на Пантелея.
— Четыре — пешему! — радостно вскинулся передовщик. — Бечевой — восемь. Пусть десять!
— Пастбищ там нет! — Ермоген печально шевельнул широкими бровями, так что резче обозначились складки на переносице, продолжил, подавив вздох: — Кочуют, говорят, одни тунгусы.
— Про наших-то спрашивали? — нетерпеливо заерзал Пантелей, отмахиваясь от услышанного.
— Спрашивали, да ясного ответа не получили, — с готовностью ответил ему Герасим. — Большими бородами здешних людей не удивишь: должно быть, промышленные и торговые люди ходят тайным тёсом. Приток этот, — кивнул в верховья острова, — зовется Ер-кута. По нему, говорят, можно на Ламу выйти. Браты и мунгалы здесь не зимуют — снега глубоки.
— Ер-кута — по-татарски — буйный мужик! — Пантелей возбужденно заскоблил шрам на скуле. — Близко уже! Рядом!
Герасим с Ермогеном виновато переглянулись. И черный поп со вздохами объявил:
— Нам отсюда никак нельзя уходить, пока здесь браты. У нас перед Господом свое тягло! А вы уж как знаете. Храни вас Господь на вашем пути!
Угрюм бросал быстрые пытливые взгляды то на смущенных монахов, то на озадаченного передовщика. Михей пучил страдальческие глаза и чмокал тонкими губами. Пантелей, вместо того чтобы вспылить, вздохнул и покладисто согласился:
— Можно и здесь зимовать. До Ламы на лыжах сходим. Ржи до Рождества только хватит. — Его губы в густой бороде язвительно покривились, глаза блеснули: — Ватажной рухляди мало, чтобы у братов что-нибудь прикупить в зиму. Разве Угрюмка своих соболишек даст?
Угрюм подскочил, будто каленый уголек прожег штаны.
— Клейменых не дам! — вскрикнул заикаясь. — Что добыли, тем и заплатим!
Монахи с Пантелеем тихо и добродушно рассмеялись. Михей уставился на него виноватыми глазами.
— Вот вернется тунгус со своим «сарь-соболь», решим! — тряхнул бородой Пантелей.
Ермоген добавил с блуждающей улыбкой на губах:
— Не соболь это — тигр! Братские мужики называют его бабром. Побаиваются и почитают!
Ночевали они впятером в тесном балагане. Осенняя прохлада прибила к ночи оттаявшую после снега мошку. Ночью ярко вызвездило. На рассвете монахи поднялись на молитву. Михей позевал-позевал, тоже поднялся. Раздул погасший костер, принялся готовить завтрак.
Ближе к полудню Ермоген с Герасимом подкрепились печеной рыбой и попросили перевезти их через протоку. Вечером на устье Иркута показался Синеуль в берестянке. Он сидел на пятках и размашисто греб против течения двухлопастным веслом. Ткнувшись в песок, вытянул лодку, молча вышел на берег. При общем молчании бросил возле балагана лук и стрелы. На еду не взглянул. Упал на траву ничком и лежал, не отвечая на вопросы, до самых сумерек, пока не вернулись монахи.
— Мойся давай! Не пущу в балаган смердящего! — передовщик толкнул его кулаком в бок. — Бесов грязью не зазывай. Без них тошно.
Синеуль неохотно сел, взглянул на Пантелея сквозь вспухшие щелки глаз.
— Умный бэюн! Не подпускает близко. Съел половину поросенка, доедать не вернулся.
— Пусть живет! — чертыхнулся передовщик. — На кой он? Браты батюшкам сказали, не соболь это — бабр!
— Не могу жить, пока не добуду! — слезливо вскрикнул Синеуль. — Соболя промышлять не смогу — этот будет перед глазами! Скажи русскую хитрость, как его поймать? — ударил кулаком в землю.
Пантелей с пониманием огладил пушистую, промытую щелоком бороду, присел рядом с тунгусом:
— Говоришь, на мясо не идет? Пока земля не застыла, можно сделать кружало и посадить на приманку живого поросенка.
— Добуду живого! — уставился на него Синеуль проясняющимися глазами.
Передовщик стал втыкать в землю прутки, объясняя, как делается ловушка. Новокрест водил носом едва ли не по его ладоням, но задавал такие вопросы, что Пантелей терпеливо начинал объяснять заново. Угрюм слушал-слушал и предложил:
— Отпусти с ним, — кивнул на Синеуля. — я за полдня кружало срублю!
— Видать, мне одному только и надо на Ламу! — проворчал передовщик, но согласился отпустить двоих.
Из сырого леса, по-промышленному, избенку срубили за полторы недели. Будто в отместку за то, что никто не рвался к Байкалу, размениваясь на пустячную суету, Пантелей заложил ее всего в полторы квадратные сажени — только чтобы шестерым переночевать в морозы. Задерживаться на острове он не хотел.
Синеуль шлялся по тайге, промышлял мясной припас, высматривал, где какой зверь ходит. Старого Омуля жалели: он только стряпал и ловил рыбу. Бывая на острове, монахи работали не покладая рук, но они то и дело исчезали на день-другой для проповедей. По большей части зимовье строили Угрюм и Пантелей, хотя им-то оно нужно было меньше, чем монахам и старому Омулю.
Едва накрыли сруб, повалил снег. Дверной проем пришлось завесить шкурами. В стужу месили глину, складывали из речного камня очаг по-черному. Не переставая, снег валил с неделю. Браты угнали скот в верховья Иркута. Монахи вернулись, смущенные тем, что избенка срублена без них.
— Заходите уж! — непочтительно и строго пригласил их передовщик. — Хоть освятите, что ли!
Примечал Угрюм, нехорошо встречает зиму ватага: все врозь и каждый норовит жить по-своему. По его рассужденью, виной всему были монахи, из-за которых стало непонятно, кому за них за всех ответ держать перед Богом. Все они были наслышаны о промысловых ватагах, передравшихся и перерезавшихся из-за распрей по слабости или попустительству передовщика. С тех пор как появились монахи, Пантелей только посмеивался над всеми, вместо того чтобы заставлять заниматься общим делом.
Вернулся Синеуль. Втиснулся за завешанную дверь. Обветренное лицо тунгуса благостно сияло. Он поставил в угол лук с колчаном стрел, присел на корточки у огня.
— Поймал бэюн, — протянул к огню потрескавшиеся ладони.
Угрюм соскользнул с нар, покашливая от дыма, просипел:
— Покажи!
— Не рано ли? — строго спросил передовщик.
Синеуль бросил ему на колени убитую белку. Пантелей подергал шерсть на брюшке зверька, передал Михею. Тот корявыми пальцами стал щипать подпушек, с важностью объявил:
— Невыходная еще!
Синеуль весело зыркал по сторонам сквозь щелки век и загадочно помалкивал о добытом звере.
— Продал или подарил кому? — нетерпеливо переспросил Угрюм.
— Отпустил! — новокрест растянул тонкие губы в блаженной улыбке. — Пришел бэюн на раненого поросенка. Попался в русскую ловушку. Рычит! — восторженно хохотнул. — Глаза желтые, как у волка! — Смешливо взглянул на передовщика: — На тебя похож, когда злой!
— Шкура где? — поторопил Пантелей и укорил: — В новую избу вошел. Хоть лоб перекрести!
— Рычит! — Синеуль покорно и рассеянно махнул рукой ото лба к животу, от плеча к плечу, не глянув в красный угол. — Я ему говорю: «Зачем меня так долго мучил? Кровь моя стала черной, кости мои стали желтыми, пока гонялся за тобой. Сейчас отпущу твою кровь своим ножом. Но сперва вырву клок шерсти с брюха. Из усов толстую ворсину выдерну, чтобы навсегда запомнил русскую хитрость и никогда бы не лез во всякие ловушки». А он рычит: «Перехитрил ты меня, Синеуль-мата. Но перехитрил не до конца. Моя шкура еще не вылиняла — за хорошую цену ее никто не купит. И никто не скажет, что ты сонинг'. Ты отпустишь мою кровь, когда я привязан. Перережешь мою главную жилу, когда мои зубы и когти не могут тебя достать». Так он мне сказал и засмеялся! — Синеуль обвел взглядом теснившихся у очага людей.
Угрюм презрительно хмыкнул. Монахи озадаченно переглянулись. Михей с пониманием закивал. Передовщик глядел на промышленного пристально и строго.
— Значит, не вылинял еще?
— Нет! — мотнул лохматой головой Синеуль. — Я защемил ему голову палкой, просунул руку и дернул с самого брюха. Много шерсти осталось на пальцах.
— И ты его отпустил! — усмехнулся передовщик.
— Бэюн никому не скажет, что Синеуль — трус! Я повесил на дерево лук и стрелы. Я взял в руку нож. Я открыл русскую ловушку и сказал: «Иди своим путем! А если бросишься на меня, то мы равны: у тебя много острых когтей и зубов, а у меня — нож. Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно».
— Понятно! — перебил многословные рассуждения Синеуля Пантелей. — Не бросился?
— Нет!
— А как убегал? Стремглав или опасливо?
Синеуль выскочил из тесной избенки. Скинул с дверного проема полог. Упал на живот. Плавно вытянул на снегу свое гибкое тело, поджал к груди растопыренные пальцы, вытянул шею, стал изгибаться змеей и перебирать руками, показывая, как уходил зверь, опасливо прижимаясь к земле, ожидая удара в спину.
— Утешился, и ладно! — хлопнул ладонью по колену передовщик. — Дверь завесь. Надо лабаз рубить да мясной припас к зиме добыть, — стал распоряжаться как старший в ватаге. — А батюшки, если не хотят всю зиму слезы лить и мерзнуть, пусть сделают дверь и трубу к очагу.
Морозы крепчали. Мех на звере вылинял. Михей Омуль к зиме стал непомерно набожен, в постные дни он голодал или ел с монахами кору, приберегая остатки хлеба. Он оставался в зимовье, а Пантелей, Угрюм и Синеуль стали собираться на промыслы. Так решил передовщик — старик был у него в покруте.
Вечерами ватажные набивались в тесную избенку, если не молились, то разговаривали. Угрюм с удивлением примечал, что Пантелей не спешит уходить в тайгу, но подолгу и с удовольствием спорит с монахами. Молодой промышленный невольно прислушивался к их разговорам. Хотя он знал Закон Божий только понаслышке, «аз да буки — конец науке», но понимал, что передовщик прельщает монахов искать старые русские города. Ермоген щелкал застежками Святых Благовестов и благостно читал. Потом они опять приглушенно говорили между собой, и выход на промыслы откладывался еще на день.
Наконец припас мяса и мороженой рыбы был сделан, нарты и лыжи приготовлены. Монахи благословили промышленных на добрый путь и промыслы, а они загрузили в нарты мешок ржи, одеяла, две ручные пищали. Поскольку ружья в полпуда весом каждое нужны были для защиты от людей, а тунгусы и браты вреда промышленным не чинили, Угрюм предложил передовщику оставить одну пищаль на острове.
— Оставь! — согласился тот.
Угрюм унес свою пищаль обратно в зимовье. Все его богатство, пищаль за десять рублей, свинца три гривенницы, порох, мешок с клеймеными соболями, он оставлял под присмотром монахов, думая, что так надежней: проповедников все почитают, на них никто не нападет.
Втроем промышленные сорвали с места полозья нарт, потянули их по льду реки навстречу восходящему солнцу. Ветер дул в спину, все начиналось и складывалось слаженно, крепко, а доброе начало — половина дела. С другой стороны, начиная — о конце помышляй: беспокоило Угрюма, как передовщик собирается делить добычу нынешней зимы? О том и выпытывал он Пантелея на привалах — ведь если по прежнему уговору, то Михей, бездельничая с попами, мог получить полупай.
— По уговору! — посмеивался Пантелей.
— И монахам пай? — чувствуя насмешку, злился Угрюм.
— Десятину! Как не дать? Молятся за нас! — передовщик кривил губы в обмерзшей бороде.
Соболь в здешних местах был выбит и напуган тунгусами, которые добывали его всеми семьями, не так, как на Нижней Тунгуске. Заслышав людей, зверь уходил. На приманку, в клепцы, лез осторожно. На пути к первому стану ватажные вынули из ловушек всего пять замерзших зверьков.
Тайга по берегам Ангары была буреломной, непроходимой для лыж. Синеуль, бегая с луком по собольим следам, ничего не добыл и на стан он вернулся разобиженный на здешнего лешего-тайгуна. Пока Пантелей с Угрюмом шкурили добычу, тунгус отсыпался, а после полудня ушел без лыж в сторону от реки и пропадал четыре дня. Догнал он Пантелея с Угрюмом, когда те строили стан во имя архистратига Михайлы. Похваляясь, высыпал из мешка трех черных соболей, какие в Енисейском остроге отбирались в царскую казну.
Втроем они переждали снегопад. Едва разъяснилось небо, Пантелей отправил Синеуля вверх по реке тропить еще одно днище перехода и высмотреть место под третий стан, во имя Николы Зимнего. На другой день по уговору новокрест не вернулся. Пантелей с Угрюмом насекли клепцов по ухожьям, насторожили их и отправились по его следу.
Сначала в долине застывшей реки они увидели густой туман. Сквозь него, справа и слева по берегам, виднелись крутые скалы, где густо, где редко покрытые лесом. Промышленные осторожно подошли к лежавшему на льду облаку, почуяли запах свежей воды. Вскоре в тумане открылась черная полынья, края которой они не видели. Сотни уток ныряли у кромки льда, не обращая внимания на людей. След Синеуля уходил к берегу.
Промышленные подошли к крутой горе, бросили на льду у береговых камней нарту. С пищалью и луком, при топорах за кушаками стали карабкаться на склон с поникшей желтой травой. Сверху в сумерках короткого зимнего дня открылось им холодное бескрайнее море. Студеная вода волновалась и вскипала пенящимися гребнями. На ней кроваво багровели последние лучи заходящего солнца. Волны с шумом набегали на обледеневшие камни, разбивались о намерзший заберег и отступали, обнажая дно.
— Где теперь искать нашего тунгуса? — просипел в заиндевевшую бороду передовщик.
Они все же высмотрели несколько следов возле льда у воды. Промышленные спустились с горы, осторожно пошли на восход. Вскоре им открылась просторная падь с застывшим ручьем. Пахнуло в лица дымком. Путники невольно прибавили шаг и вскоре увидели два островерхих тунгусских чума, покрытых шкурами.
— Загостился наш толмач! — выругался Пантелей.
Отрывисто, беззлобно тявкнули тунгусские собаки. Передовщик свистнул так пронзительно, что у Угрюма зазвенело в ушах. Шевельнулся полог чума, из-за него показался голый до пояса мужик с короткими для тунгуса волосами, с крестом на животе. Он так и стоял, полуголый на пронизывающем ветру, пока связчики не подошли к самому чуму. Собаки с чувством исполненного долга тут же утихли и улеглись на прежние места в снегу.
— Родню встретил, что ли? — ругнулся передовщик. — Или женишься, а на свадьбу не зовешь?
— Заходи давай! Грейся, — Синеуль поднял полог чума.
Под кровом напротив входа сидел крепкий еще старик с седыми волосками на подбородке. Густые с сильной проседью волосы пышно прикрывали его широкие скулы, лежали на обнаженных плечах. Рядом с ним сидела полуобнаженная старуха с перекошенным ртом. Из-за их спин на гостей с любопытством поглядывали две девки.
Передовщик втянул за собой пищаль с заиндевевшим стволом, положил ее на шкуры у входа. Девки весело прыснули, глядя на обмерзшие бороды пришельцев. Пантелей поприветствовал их всех по-тунгусски. Старуха подбросила веток на угли. Последним влез в чум Синеуль и бойко залопотал, рассказывая о своих друзьях. Пантелей прислушивался к говору и время от времени вставлял словцо, показывая, что он не безухий.
Из другого чума пришел мужик — брат князца. Синеуль стал рассказывать по-русски все, что узнал от тунгусов чилкагирского племени. Он не винился за задержку, оправдываясь своими рассказами.
По берегу Ламы и в верховьях Елеунэ, что начинается где-то за горами, и дальше в полночную сторону кочевало и добывало пропитание многочисленное тунгусское племя, которое никому не платило ясак.
— Мата Мажи! — почтительно кивнул на старика Синеуль. Тот поднял голову, с достоинством взглянул на пришельцев. В морщинистых, обветренных глазницах блеснули молодые, зоркие глаза. — Мажи с братом потеряли оленей и стоят здесь, промышляют рухлядь и изюбря, меняют соболей и лис на быков. Безоленные, они вынуждены платить ясак то братам, то мунгалам.
Поторапливая говорившего, Пантелей стал выспрашивать, как дойти до верховий Елеунэ, есть ли там лучи.
На том разговор был закончен. На другой день Угрюм и Пантелей возвращались на стан вдвоем. Угрюм всю дорогу молчал и думал, как объявить, что он не согласен промышлять даром ни за Михея, ни за монахов. Теперь и Синеуль, не расплатившись за припас, остался у тунгусов холопом-женихом.
Пантелей тоже помалкивал, думая о своем. Только возле стана вспомнил:
— Послезавтра Никола! А мы оскоромились по нужде. С утра моемся, отдыхаем, третий день молимся. После будем думать, как дальше жить.
И только к ночи, когда нагрелся балаган, он вспомнил:
— Михей с Синеулем отошли от нас!
— Ты же их отпустил! — с обидой и укором вскрикнул Угрюм.
— Твой пай будет больше! — усмехнулся Пантелей. — Ты до богатства жаден.
Угрюм обиженно посопел, взглянул на него туманным взором и буркнул:
— Я своеуженник! Никому ничего не должен!
— Вот и получишь половину! — равнодушно сказал Пантелей, не отрывая глаз от пылавших углей. — Вольному воля! Я на Елеунэ уйду. Весной куплю У братов коня, седло сделаю…
— Браты за седло быка дают, — поддакнул Угрюм. — А тунгусы платят им за быка полтора, а то и два десятка соболей.
Короткий разговор перед Николой наконец-то вносил ясность в промыслы и в дележ добычи.
— Учись! — зевнул передовщик и стал готовиться ко сну.
В зимовье они возвращались только к Рождеству. Полмешка ржи оставили на стане, заморозив в колоде, чтобы зерен не достали ни зверь, ни птица. Шли к празднику, думали, что зимовейщики встретят их блинами. Но когда подошли к острову, увидели на месте избенки черную груду головешек, присыпанных снегом. От лабаза остались одни обгоревшие столбы.
И показалось Угрюму, будто качнулся под ногами лед застывшей реки, а вся его утроба вывалилась на снег. Он бросил бечеву нарты и закричал раненым зверем. Над балаганом, наспех поставленным в стороне от погорелого жилья, курился дымок. На крик, как глухарь из сугроба, из него выбрался бровастый, лупоглазый, перепачканный сажей Ермоген.
— Наказал Господь! — развел руки. — Сгорела изба!
— А мой мешок с рухлядью? — еще надеясь на чудо, взвыл Угрюм.
— Все сгорело! — ответил монах со слезным умилением, похлопывая себя руками по бокам, как петух крыльями.
Угрюм снова завопил, упал на лед и бился в него лбом, чтобы очнуться от сна. И, жутко смиряясь с бедой, уже причитал: «Пищаль нарочитая — десять рублев по случаю, свинца — гривенницы с три. Соболя, клейменые. Кафтан, сапоги».
Кто-то совал ему в руки обгоревший ствол пищали, железный котел, уверял, что свинец можно найти, если порыться в головешках. А вот мешок с соболями и красная одежда сгорели со всем припасом.
Угрюм пришел в себя только в бане. Она не сгорела потому, что была поставлена далеко от избы. Михей услужливо хлестал его пихтовым веником. Пряный дух июльского леса кружил голову. И тут Угрюм заплакал, а старый промышленный стал шепеляво утешать его:
— Всяко бывает. И сгорит все, и отберут, и пропьешь или проиграешь по бесовскому посулу. Бог не без милости, еще даст.
С Рождества до Крещен ия русские люди во славу Божью не промышляют, давая зверю и птице отдых. Монахи с веселыми и радостными лицами знай себе намаливались. Михей, вроде причетника, отирался возле них.
— Что сидишь с постной рожей? — корил передовщик. — Пришли Святки — веселись! Не то накличешь беду на всех.
На Святых Младенцев Угрюм поднялся раньше всех и решил уйти на стан. Он раздул очаг в продуваемом балагане, пошел к проруби, чтобы разбить лед и набрать воды в котел. На белых снегах лежала редкая ночная тьма. Еще не убралась луна, и деревья бросали на сугробы длинные тени, сверкал, искрился снег. Видно было далеко.
Угрюм взглянул на нижнюю часть острова. Ему показалось, что там торчит колода, которой не было вечером. Он поставил котел возле застывшей проруби, поскрипывая снегом, пошел вдоль берега. И почудилось ему, что колода шевельнулась.
Промышленный перекрестился, поправил топор за кушаком, стал двигаться тише. В пятнадцати шагах то, что он принял за колоду, явно шевельнулось. На его шаги обернулся черный дьяк Герасим и молча поманил к себе рукой.
Угрюм подошел, удивляясь, что тот сидит среди ночи или в такую рань. Может быть, и спать не ложился. Герасим указал рукой вниз по притоку на чуть видневшийся дальний коренной берег реки.
— Ничего не слышишь? — спросил шепотом.
Угрюм прислушался: ни ветра не было в тихой ночи, ни скрипа деревьев. От стужи потрескивал лед. Он пожал плечами:
— А что?
— Вроде колокола звонят к заутренней, — чуть громче сказал дьяк. — Чудное место. Я его давно приметил. Иногда в тумане или в ночи город там видится с церквями, с башнями.
— Чудится! — со сдавленным смешком прошептал Угрюм.
— Может, и чудится, — неуверенно пробормотал Герасим, снова прислушиваясь. — Может, знак, что городу здесь быть и место надо намаливать, — проговорил в голос. — По разумному рассуждению — место благое: и на Ламу путь, и в Мунгалы, и в братскую степь — все отсюда!
— Михей говорит, будто енисейский старец Тимофей двадцать пять лет намаливал и пророчил город по государеву указу, — прислушиваясь к ясной ночи, прошептал Угрюм. — Пусть не город — только острог поставили. Все равно сбылось!
— Он нас благословил идти за Енисей! — вздохнул Герасим и размашисто перекрестился.
В тот же день, вскоре после полудня, Угрюм дошел до первого стана. По пути он набил тетеревов из лука, вывалил их из мешка у входа, развел огонь в выстывшем очаге. К ночи прогрел балаган, закидал его снегом с трех сторон, стал печь птицу и наконец-то восчувствовал праздник.
За две недели до Евдокии-свистуньи передовщик приметил у соболя первые признаки линьки и велел забить, раскидать все настороженные клепцы. Добычу зимы промышленные делили на двоих. Пантелей разложил на две кучи всех соболей, белок и лис, предложил Угрюму взять любую. Тот метнул на передовщика плутоватый взгляд и выбрал ту, что показалась ему ценней.
Погорельцы на острове тоже не теряли время даром. Когда двое промышленных вернулись к ним, возле балагана лежали грудой тесаные бревна на новую избу. Зимовейщики с радостью встретили Угрюма и Пантелея, угостили их печеной рыбой, отваром брусничного листа. Больше ничего не было.
В пять топоров за неделю, без спешки, на острове была срублена новая добротная изба. Покрыли ее драньем из лиственницы, сложили очаг. Монахи хорошо протопили жилье, чтобы не пахло сыростью, и освятили его. Пантелей принялся мастерить седло, Угрюм, кое-чему уже научившись, делал другое, на продажу.
И вот под полуденным солнцем по льду притока потекли ручьи. Возле берегов появились пропарины, в которых так тесно толклась рыба, что ее можно было черпать ведром. Оттаяли, зажелтели прошлогодней травой берега, сладко запахло березовым соком.
К лету каждый житель зимовья готовился по-своему. Угрюм за протокой, напротив острова, поставил балаган, рядом с ним сделал навес из бересты, очистил крепкий камень вместо наковальни, загодя жег древесный уголь, шил мехи для кузни. Работы было много. Время поторапливало. Каждый день он с волнением посматривал на восход, в сторону далеких холмов, не покажутся ли там стада братского скота. Как-то в полдень заметил трех всадников с длинными мунгальскими пиками. На низкорослых резвых лошадках они переправились через реку по сырому, рыхлому льду. За каждым всадником в поводу шли по две лошади. На одной из них Угрюм разглядел переброшенное поперек хребта тело человека. Руки и ноги его были связаны.
Одеты были всадники по-братски, в халаты. Правили они своих коней к острову, на курившийся дымок. Зазывая их к себе, Угрюм стал стучать обушком топора по наковальне-камню. Мунгалы заметили его и повернули к нему. Угрюм уже начал раздувать горн, сложенный из камня, но всадники, подъехав к его балагану, не подумали спешиться. С беспристрастными лицами они сбросили на землю связанного мужика и зарысили в сторону холмов.
Слегка удивленный, Угрюм подошел к телу без признаков жизни, перевернул его на спину и едва узнал Синеуля. Лицо новокреста было синим, в черных, кровавых коростах. В заплывших щелках глазниц блеснули живые зрачки. Синеуль тихо простонал.
Угрюм закричал на остров, вызывая зимовейщиков. На берег протоки вышел старый Михей. Затем по шаткому, ненадежному льду переправились монахи. Они осмотрели Синеуля, положили его на нарты и отвезли на остров. К вечеру новокреста привели в чувство. Другим утром он уже говорил, сдержанно ворочая языком и боясь разбередить разбитые губы.
Монахи стали выспрашивать, кто бил и за что. Тунгус болезненно вздыхал, водил по сторонам черными зрачками в набухших синих веках.
— Проповедовал Слово Божье! За то и бит!
Из расспросов выходило, что побили его не мунгалы, а чилкагирцы. Мунгалы, приезжавшие к ним за соболями, только привезли новокреста к острову.
— Видать, мучил свояков проповедями? — похохатывал Пантелей.
— Дикие они! — шипел Синеуль и бросал на передовщика обидчивые взгляды. — Ничего не понимают.
На Зосиму и Савватия пчельников, в середине апреля, в долине Иркута показался братский скот. Пантелей вместе с монахами переправился на берег и ушел к кочевникам. К вечеру он подъехал к кузнице на коне, а в поводу привел за собой еще две старые и смирные лошади.
Угрюм знал, что весной скотину дешево не продают. Расспрашивать про торг он не стал. Понимал, что из добытого зимой у Пантелея осталось не больше десятка хвостов. Жизнь так и не научила стареющего казака житейской бережливости, а Синеуль опять прилаживался к нему в захребетники.
Проживая особняком в балагане, Угрюм закончил делать седло. Он был доволен своей работой и выставил его на виду, под навесом. Наконец-то к нему потянулись кочевники со всякими просьбами, повезли молоко, творог, масло и все поглядывали на выставленное седло, приценивались.
Угрюм азартно ковал, чинил седла и посуду, затылком чувствовал, что и на острове жизнь кипит. Но сходить к зимовейщикам ему было некогда. «Весну пролежишь — зимой с сумой побежишь!» — приговаривал себе под нос, работая с утра до вечера.
Купленные Пантелеем кони три дня пропаслись спутанными возле кузницы. На четвертый ранним утром при синем небе и розовеющем востоке на берег переправились все островитяне. Угрюм услышал шум их голосов, выглянул из балагана с одеялом на плечах. Его бывшие связчики седлали и грузили коней, прощались и кланялись друг другу.
К немалому удивлению Угрюма, одного из коней взял под уздцы Ермоген, двух других Пантелей с Синеулем. Они подвели их к Ангаре, еще покрытой черным ноздреватым льдом. Ощупав его лыпой, Пантелей осторожно потянул коня к другому берегу. Лошадка, скользя копытами, опасливо пошла за ним.
Трое стали переправляться, что было небезопасно: со дня на день, с часу на час лед мог сдвинуться. Герасим с Михеем стояли на берегу и рьяно молились, касаясь пальцами земли в поясных поклонах. Глядя на них, Угрюм обидчиво шмыгнул носом: люди, с которыми промышлял и жил, ушли не прощаясь, правда, и он не вышел к ним из балагана, боялся, что попросят седло для третьей лошадки. Не попросили. Синеуль увел неоседланного коня.
Всадники благополучно переправились. Только возле яра, у самого берега, где течение подмыло лед, конь Пантелея провалился по брюхо. Но он вскинул голову, легко выбрался на сушу и так затряс кожей, что на хребте ходуном заходило седло вместе с притороченными к нему пищалью, саблей, шубным кафтаном и одеялом.
Монах и тунгус обошли промоину стороной, вывели лошадей на яр. Обернувшись, замахали руками Герасиму с Михеем.
— В добрый путь! — махнул им и Угрюм. Сбросил с плеч одеяло, вылез из балагана, стал раздувать горн.
К полудню к его стану подъехал братский пастух с черным лоснящимся лицом. Покачивая головой и горестно пыхтя, показал стершиеся удила. Через слово на третье Угрюм договорился с ним и потребовал за работу масла.
Прошла неделя. На остров он не переправлялся, рыбу на еду не ловил, на берег выходил, только чтобы зачерпнуть воды. Мясо в его балагане не выводилось, он заработал с полпуда проса и варил кашу, густо заправляя ее коровьим маслом. Вскрылась Ангара. Иркут давно очистился ото льда. Герасим время от времени переправлялся через протоку на берестянке, ходил к братам в юрты, заходил и к Угрюму, сидел возле его огонька. Душевного разговора между ними не получалось. Промышленному все казалось, что черный дьякон поглядывает на него с укором и ждет покаяния после того, как спалили его добро, нажитое годами тяжких трудов.
Вечером, глядя в высокое небо, Угрюм вспоминал о своей прежней жизни. Другая зима его не пугала: на прежних станах и ухожьях, если их не пожгут, не порубят тунгусы, на всем готовом он мог промышлять соболя в одиночку, мог сделать легкую лодку и уплыть по течению к Енисейскому острогу. Это была воля! Не та, о которой лопочут чуть живые от изнурения или пьяные промышленные, а настоящая, как он ее понимал.
В очередной раз возвращаясь на остров, дьякон обошел его стан стороной. В это время Угрюм варил жирную баранину. Он усмехнулся вслед монаху, подумав, что того смутил дух свежего мяса.
Прошла еще неделя, затем другая. У озер показались воинские люди. Четверо из них направили своих коней к его кузне. Один был в остроконечном блестящем шишаке, его дорогой камчатый халат перепоясывал серебряный пояс, серебряная пластина висела на груди. Баатар ехал впереди на горячем жеребце. Три вооруженных братских мужика рысили следом.
Когда они остановились возле кузницы, Угрюм узнал в богатом всаднике брата князца, с которым встречался на Елеунэ. В тот год с большой ватагой под началом Пантелея Пенды он возвращался с Нижней Тунгуски.
Баатар был сухощав, лицо у него было продолговатым, а не круглым, как обычно у братов, нос острый, похожий на клюв хищной птицы, глаза большие, черные, с пристальным, немигающим взглядом.
Угрюм безбоязненно вышел из балагана и поклонился прибывшим. Те с любопытством уставились на него. Заносчивый боевой холоп бросил на землю полоску железа. Князец ловко захлестнул плетью заднее копыто своего жеребца, задрал его, показывая, что конь потерял подкову. Затем указал на двух лошадок в поводу.
Всадники спешились, сели на траву. Кони опустили косматые шеи, стали с хрустом щипать весеннюю зелень. Угрюм со знанием дела раздул горн, стал калить железо. Он поглядывал на баатара и все не мог вспомнить, как сказать по-братски «брат». Зато вспомнил имена братьев.
— Куржум-баатар! Бояркан-хубун![185] — и угодливо улыбнулся.
Князец с любопытством окинул кузнеца пристальным, немигающим взглядом. Его молодцы приглушенно загыркали, кивая на Угрюма.
— Пянда! — пролопотал один и провел ладонью по своей дородной груди, будто оглаживал бороду.
Угрюмка радостно закивал. «Был гостем на Зулхэ!» — нескладно сказал по-братски. Как назваться гостем — не знал, назвался, как запомнилось, ман-гадхаем[186]. Балагатские молодцы захохотали. Куржум улыбнулся, вспомнив встречу с промышленными.
Угрюм указал, чтобы резвого жеребца ввели между вкопанных им в землю четырех столбов и привязали. Работал он на совесть, то и дело смахивая рукавом пот со лба. Срезал наросты с копыт, очистил их, подогнал подковы, надежно расклепал гвозди. Сам остался доволен своей работой и по лицам всадников понял, что угодил им. Остатки железа они не забрали. Вдобавок к нему Куржум бросил на землю серебряную подвеску.
Угрюм взглянул на нее, метнулся в свой балаган, выскочил оттуда с двумя соболями и подарил их Куржуму. Молодцы одобрительно загудели. Баатар принял подарок, потряс мех и спрятал в седельную суму. Угрюм поднял подвеску, подбросил на руке. На ней был выбит простенький узор. Он мог украсить этим серебром седло или уздечку и продать их дорого.
Какие дела привели балаганцев на Иркут, часто ли они бывают здесь, он не знал, но остался доволен встречей и все ждал от нее каких-то перемен. Предчувствие его не обмануло. На другой день к балагану подъехали двое: один из вчерашних косатых боевых холопов князца, другой был незнаком Угрюму. Он приветливо закивал всадникам. Незнакомец сказал по-тунгусски, что у булагат нет своего дархана[187]. Куржум зовет к себе на службу. Пока Угрюм думал и переспрашивал, косатый молодец отвязал от седла и бросил на землю мешок.
Угрюм вытряхнул из него все добро и ахнул. Там был камчатый халат и красные сапоги. Братские мужики захохотали, поворачивая коней, а он сбросил с себя кожаную рубаху, чирки, стал примерять халат и сапоги. Кроме них в мешке была шелковая рубаха. Угрюм сбегал к воде, ополоснулся в студеной протоке, надел новую рубаху и зажмурился от удовольствия, впервые всем телом ощутив легкость и ласковое касание шелка.
На другой день, когда вдали показался знакомый всадник с лошадью в поводу, он был уже собран в путь. Котел, топор, молоток, железо и остатки еды вошли в один мешок. Одеяло, шубный кафтан, крепкие еще бахилы, ичиги — в другой. Шапка была у него суконная, обшитая соболями. Поверх всего набитого в мешки добра батожком торчал обгоревший ствол пищали.
Как-то неловко было уезжать, не попрощавшись с Герасимом и Михеем. И отчего-то стыдно было встречаться с ними, говорить, куда едет. Угрюм решительно тряхнул головой, оседлал коня своим седлом и сел в него. Оглянувшись на дымок, поднимавшийся над островом, вздохнул и подумал: «Все равно узнают от братов, с кем и куда уехал». Клацая железом в мешке, лошадь двинулась в ту сторону, откуда в прошлом году он пришел со стругом и со стертыми в кровь плечами.
Глава 3
— Болота бескрайние, грязи непролазные! — бормотал приказный Маковского острога, с тоской оглядывая окрестности. — Видать, отсюда и приберет Господь за грехи наши!
— А ты откуда хотел? С Тобольского города? — сердито выцарапывая из бороды запутавшуюся щепу, съязвил Иван Похабов. — Или из царского кремля?
Дед Матвейка, не глядя на него, тяжко вздохнул, повел хмельными, выцветшими глазами, невольно выдавая тайные стариковские помыслы, что ему, тобольскому сыну боярскому, прослужившему на Енисее лучшие годы, можно бы предать душу в руки Божьи поближе к столице Сибири.
Сколько помнил Иван Матвейку, тот всегда казался ему старым, но обветшал едва ли не за последний год. У крепкого седобородого служилого вдруг опустились плечи, потускнели глаза, он стал приволакивать ноги, жаловаться на хвори и отлынивать от работ. На этот раз казаки со стрельцами весь день махали топорами, к вечеру от усталости руки висели плетьми, а он, просидев возле печки и тайком попивая винцо, жаловался на кручинную тоску-печаль, грозился помереть.
С тех пор как Иван Похабов и Василий Колесников были присланы на службы в Маковский острог, дед Матвейка бездельничал на своем окладе. Отписки — и те сочинял за него Василий, а писал Иван. Он с Колесниковым держал приказ по острогу, Матвейка же был при них вроде разрядной печати. Отдыхал сын боярский на старости лет: думал о прожитом, собирал ягоду, курил вино, попивал греховно, в одиночку.
— Хоть бы в Енисейском! — продолжал лепетать заплетавшимся языком. — Все над рекой, на самом краю Сибирской Руси. Не среди здешних грязей!.. — Приказный вдруг встрепенулся, почувствовав молчаливое недовольство служилых, заискивающе польстил: — А вы хорошо поработали.
Ко всему старческому занудству он стал скуп. Неохотно, со многими вздохами, достал из-за печки наполовину опорожненный кувшин, налил по чарке Похабову, братьям Сорокиным и стрельцу Колесникову.
— Благодарим за угощение! — повеселев, перекрестились служилые. Степенно выпили, обсосали усы, дожидаясь второй чарки. Не налил, хрен старый. Иван поднялся, подпирая шапкой низкий потолок.
— Приглядывайте тут! — буркнул Сорокиным, которые оставались на ночлег в гостином дворе. — Нас с Васькой жены ждут!
— Раз ждут — надо идти! — плутовато закивал Якунька Сорокин. — Мы покараулим! — бросил томный взгляд на кувшин. Кабаньим пятаком шевелились в его бороде чуткие выдранные палачом ноздри.
Стрелец и казак вышли из избы гостиного двора. Иван оглянулся на казенный амбар, накрытый драньем, на баньку у ручья. В оконце избы засветилась зажженная лучина. Быстро темнело. До острожка, в котором заперлись бабы с детишками, было с полверсты.
— Успели к дождям накрыть амбар, — похвалился Колесников, по-куньи зыркая по сторонам острыми глазами. — Остальное доделаем зимой.
По прибытии на здешние службы им, четверым с братьями Сорокиными, наказали принимать в государев амбар рожь, хранить ее и возить через волок из Маковского в Енисейский острог. Третий год сряду они этим и занимались, да брали десятину с воровских промышленных ватаг, пытавшихся обойти стороной Енисейский острог, да собирали ясак с ближайших кетских родов. Каждый год им присылали в помощь стрельцов или казаков, но те подолгу не держались. А эти притерпелись и будто приросли к здешним болотам.
Волок из верховий Кети в Кемь с каждым годом становился все оживленней. Кроме казенных товаров и служилых через него шли торговые и промышленные люди, шли гулящие в поисках заработков и лучшей доли. Из болот между Обью и Енисеем выползали промышленные ватажки. Летом народу собиралось множество. В остроге становилось тесно, начинались шум, скандалы, драки. Не без умысла здешние служилые выбрали место для гостиного двора подальше от острожка.
— Разбирает старого! — обидчиво шмыгнул носом Василий Колесников, раззадоренный чаркой слабенького ягодного вина. — В печали! — передразнил приказного, подражая его голосу: — Не поставили енисейским воеводой! А нам теперь задарма его оклад служить, пока Бог не приберет? Буду в Енисейском, доложу воеводе, что бездельничает. Был бы грамотный, как ты, написал бы царю: пусть снимет с приказа и тебя в его оклад поставит.
Правильно говорил стрелец. Но Иван жалел старика, с которым не раз служил давешние годовалые службы.
Калитка в остроге была подперта изнутри жердью, к ней была привязана тайная бечева, спрятанная между бревен. Иван впотьмах нашарил ее конец, потянул. Приподнялась жердина. Он толкнул калитку плечом.
Острожек был без башен, в три избы, амбар да баня. Между стен поставлен стоячий тын. Привычная теснота. Семейному казаку или стрельцу давали жилья по указу в две с половиной сажени квадратных, сыну боярскому — на сажень больше.
Иванова изба была угловой. Печь занимала половину жилья. В стенах заткнутые мхом бойницы. И жил он в этой тесноте без порядка. Черный от сажи котел с выстывшей кашей стоял на полу. Рядом с ним валялся шубный кафтан. Немытые после еды ложки были разбросаны по лавкам и на полу.
Возле печи над ушатом с водой горела смолистая лучина, освещая неприбранное жилье. Иван устало опустился на лавку, стал развязывать скользкую бечеву на промокших бахилах.
Едва хлопнула дверь, из-за печки выскочила жена. Нос ее был испачкан сажей, подол мукой. «Пелашка — рвана рубашка». Который год был женат Иван, а все никак не мог привыкнуть к обыденной для жены грязи и к беспорядку. Кори не кори, бей не бей — чище и опрятней Меченка не становилась. Прежде он и знать не знал, думать не думал, что на Руси водятся такие, как она, замарашки.
Огляделся брезгливо.
— Хоть бы убрала! — кивнул на котел.
— Рожь молола! — слезно вскрикнула жена и обиженно поджала губы. — Якунька с рук не слазит. Весь день в хлопотах.
Она знала, что муж не любит беспорядка, иногда старалась все расставить по местам. Но у нее тут же появлялась нужда что-нибудь искать, и снова все горшки и плошки оказывались на полу.
— Колесничиха тоже в хлопотах! — безнадежно проворчал Иван. — Корми давай! Да вытри свой длинный нос.
Перебирая по лавке ручонками, к отцу двинулся малолетний сын. Сделал шаг, другой, пугливо замер. Иван никогда не повышал на него голоса, но доверия и ласки между ними не было. Он все приглядывался к Богдану[188], пытаясь высмотреть кровь Максимки Перфильева, но узнавал в нем брата Угрюмку.
Жену за девичий грех Похабов никогда не корил: знал кого брал. Но молчание и равнодушие мужа к сыну обижало ее больше укоров. Иной раз она рыдала, слезно доказывая, что это его родной сын, а сама досталась мужу честной и невинной. Иван молча выслушивал ее вопли и стенания, не спорил, только кривил губы в усмешке, слыхал от людей: девка на Дмитра хитра — черта обманет.
Вот и теперь, вместо того чтобы кормить мужа, носилась по избе, терла нос подолом, крутилась без всякой надобности. А котел с кашей как стоял на полу, так и стоит. Иван поднял свою ложку. Ополоснул в ушате под лучиной. Поставил на стол холодный котел, перекрестился и стал есть.
Тесто у Меченки подошло к ночи, а печь выстыла. Она побежала из избы за дровами, возвращаясь, запнулась о порог. Ко всему прежнему беспорядку по тесной казачьей избенке разлетелись поленья. Иван облизал ложку, ткнул ее в мох под потолок, где жене не достать. Терпеливо положил три поклона на темнеющий образок и полез на полати. Жена недолго шебаршила у печи. Хлеб она так и не поставила. Едва укачала сына, мышью вскарабкалась к мужу, знала: ночь простит и помирит. Хоть в этом уродилась женой. Васька жаловался, что пока не принудит свою, Капа так и не вспомнит про супружеский долг.
Утром нетерпеливо, по-свойски, кто-то застучал в ворота острожка.
— Спите, нехристи, в праздник? — гнусаво завопил за тыном Якунька Сорокин.
Иван высунул голову из оконца. Бусило[189] низкое небо. Рассветало. Васька Колесников прошлепал босыми ногами по плахам двора.
— Что надо? — окликнул казака, снимая закладной брус.
— А то! — как распаленный петух, ворвался Якунька и хищно повел по сторонам драным носом. — Стрельцы с Оби в Енисейский возвращались и заплутали в протоках. Среди ночи Михейка Стадухин приполз к нам на карачках. Говорит, дым учуял. Служилые с бабами и с детьми пропали. Искать их надо!
— Своих-то на кого бросим? — растерянно взглянул на Ивана Василий.
— Твоя кобыла ухватом от тунгусов отобьется! — хохотнул Якунька. После того как Колесников отбил невесту у его брата, он не упускал случая посмеяться над Капой и припомнить стрельцу его грех.
— Останься! — приказал Иван и стал собираться.
К утру тесто в квашне опало и кисло, приторно засмердило. Кроме засохших в котле остатков каши, подкрепиться было нечем. Василий мигом оценил услугу Ивана. Не успел тот промазать дегтем просохшие бахилы, в его избу, сгибаясь в низкой двери, вошла Капа и трубно проголосила, глядя на Ивана большими детскими глазами:
— Васька велел тебя накормить! — Охнула и хлопнула по бокам длинными руками, увидев опавшее тесто, испуганно взревела и взглянула на высунувшуюся с полатей заспанную подругу: — Я Ваньку-то у себя накормлю! А после хлеб испеку на всех! Пропадет ведь тесто. Грех.
Пелашка заметалась по избе, подбирая с полу разбросанные поленья. Капа поманила Ивана в свою опрятную избенку. «Что с того, что глупа? — думал, надевая кафтан. — На кой он, бабе, большой ум?»
Не глядя на жену, он обмотался кушаком, повесил на бок тесак, сунул за кушак топор, перекинул через плечо лямку патронной сумки, привычно щелкнул пряжкой шебалташа, стянув ремни на бедрах, чтобы не болтались ни сумка, ни тесак. Подхватил ручную пищаль и хлопнул дверью. Подкрепившись у Колесникова, он быстро зашагал к недостроенному гостиному двору.
Когда Иван вошел в гостевую избу, Михейка Стадухин, обессиленный и голый, спал на лавке возле печи. Его лицо кривилось от претерпеваемой боли. У ног грудой валялась грязная одежда, в которой он приполз. Пищаль и сабля, протертые ветошью, стояли в головах, под рукой.
Дед Матвейка подбрасывал в печь щепу, тихо охал и жалел пропавших стрельцов. В избе было жарко. Едва вошли Иван с Якунькой, лицо Михейки Стадухина напряглось, стало строгим, он открыл глаза и сел, свесив с лавки голые ноги. Вид стрельца был вполне отдохнувшим. Невысокий, недородный, будто скрученный из жил, он с удалью тряхнул головой, мысленно отгоняя от себя все пережитое.
— Дай сухую одежу! — приказал, начальственно глядя на Ивана. — Без меня вам никого не найти.
— Дай что-нибудь из своего припаса! — обернулся Иван к приказному.
— Что дать-то? — сварливо заохал старик. — С себя только снять?
— С себя сними! — приказал Иван, начиная злиться. — В избе можно и голым посидеть. — Стрельца же строго спросил: — Что в болото полезли?
— А заплутали! — передернул тот жилистыми плечами. Потупился, скрипнул зубами. — Не тем притоком ушли к полночи. — Резво вскочил на ноги. На миг болезненно покривилось его лицо и тут же оправилось. Он опять взглянул на Ивана с вызовом: — Я сотнику столько раз говорил — не туда идем, что грозил мне заткнуть глотку старым ичигом. Дозатыкался! Утоп в трясине! Прости, Господи! — размашисто перекрестился Михейка с яростным лицом. — Хорошо еще, баб и детей оставили на острове у остяцкого шамана. Не то уморили бы всех до смерти.
— Отчего разбрелись-то? — мягче стал допытываться Иван. — Струги где?
— Бросили! — неохотно признался стрелец. — Река кончилась. Пошли напрямик, увязли! — вяло махнул рукой, исподлобья метнул быстрый взгляд в красный угол.
Якунька Сорокин, молча слушавший стрельца, скривил губы, гнусаво проворчал:
— Видали таких удальцов! Спаси бог связаться.
Уловив в его словах и голосе какой-то подлый намек, полуголый стрелец с яростным лицом двинулся на казака. Иван удержал его и толкнул на лавку. Якунька боязливо выскочил из избы. Старый приказный с жалобами и ворчаньем достал из сундука кожаные штаны, такую же рубаху, снял с себя стоптанные ичиги. Михейку приодели. Он нацепил саблю, вытащил из мокрых, раскисших бахил засапожный нож.
Братья Сорокины и Похабов двинулись по болоту следом за ним. Под ногами хрустели заледеневшая к утру трава, покрывшиеся льдом лужи. Местами видны были застывшие следы Михейки, где он полз и лежал. Шагая за ним, Иван видел, что каждое движение дается стрельцу с усилием. Но он шел в промокших ичигах. Еще и поторапливал Сорокиных, указывая на чахлые колки больного, низкорослого березняка, которые надо было осмотреть.
Первым нашли Дунайку Васильева. Молодой стрелец, облепленный тиной и грязью, сидел на кочке и спал, уронив голову на грудь. Между его ног была зажата тяжелая крепостная пищаль. Васька Черемнинов в полуверсте жег костерок на сухом островке и сушился. Завидев Михейку Стадухина, он стал матерно ругать его. И быть бы драке между чуть живыми от усталости людьми, если бы Иван не растащил их.
Еще двоих нашли живыми по пояс в трясине, в обледеневшей одежде.
— Кому силы девать некуда, тащи товарища! — приказал Иван.
Дунайка с несчастным, разобиженным на весь свет лицом, мотаясь как пьяный и заплетаясь, потащился по свежему следу. Как дубину, он волок за собой по грязям пищаль. Двоих, обессилевших, чуть не околевших в трясине, повели под руки Черемнинов и Сорокины.
К полудню Похабов со Стадухиным нашли еще двух стрельцов. Стали возвращаться вчетвером. Возле избы Михейка закачался, стал часто запинаться и падать. Потом подполз к стене, сел, навалившись на нее спиной, и уснул. Без чувств его затащили в избу братья Сорокины.
По их следам к вечеру вышли из болот стрельцы Терентий Савин с Дружинкой Андреевым. Для них, последних из блуждавших, возле гостевой избы стреляли холостыми зарядами. Якунька Сорокин, не в силах сдерживать злой язык, подначивал, что блуждали они в местах, которые проходили не раз и не два.
— Тайгун осерчает — меж трех сосен обведет и закружит! — обидчиво оправдывались измученные люди.
Те, что успели прийти в себя, парились в бане и рассказывали про остров, где оставили жен с детьми и двух служилых. Сотник Поздей Фирсов по пути делал затеей. Когда он утонул, стало не до них: выходили кто как мог.
У большинства стрельцов, выбравшихся из болот, распухли ноги. Идти на поиски оставленных ими на острове могли только двое: отдохнувший Михейка Стадухин и Дружинка, который говорил, что помнит путь. Он считался умным и осторожным стрельцом. Ему верили. Искать затеей сотника все сочли безумием. Утром казаки Михейка Сорокин с Иваном Похабовым и два стрельца отправились в путь на легких берестянках.
Разбивая лед веслами, они весь день блуждали среди проток. Дружинка вскоре признался, что заплутал и не знает, где остров. Опять стреляли холостыми зарядами, прислушивались. Ночевали у костра. На другой день нашли брошенный струг. Вскоре услышали ответные выстрелы.
Стрельцы и женщины с детьми были живы. Они не голодали, так как сотник оставил им весь припас. Бабы стадом толклись на топком берегу и ревели как коровы. Молчала одна сотничиха с бледным лицом. Она была брюхата, прижимала к груди двух притихших сыновей, глядела на стрельцов страшными, вопрошающими глазами.
— Взял дедушка! — смущенно оправдывался перед ней Стадухин. — Сами едва не потопли, а вытянуть его из трясины не смогли. А ты не пропадешь! Найдем тебе другого мужа на хорошем окладе.
В стороне возле небольшого дымного костерка сидел на корточках старый кетский шаман. Лицо его было сморщенным, как засохший гриб, к тому же черным и бугристым, как березовый нарост чаги. Седые длинные волосы свалявшимися прядями свисали на грудь и спину. На плечи его была накинута парка, шитая из разных шкур, со множеством побрякушек и звериных хвостов.
Иван перекрестился от осквернения и подошел к огоньку.
— Правду он сказал? Правду? — с воплями кинулась к шаману сотничиха. Иван невольно перехватил ее руки. — Колдун проклятый! — верещала вдова и обливалась слезами, обвисая на казаке. Женщины подхватили ее под руки, увели к стругу.
Старый шаман даже глаз не поднял на кричавшую сотничиху. За его спиной был ветхий балаган. На пнях вырублены личины. Медвежья шкура с длинными когтями висела на жерди.
Женщин и детей стрельцы усадили в струг. Шаман равнодушно принял связку набитых в пути гусей, с безразличным лицом ощупал подаренное ему в почесть и благодарность одеяло. Нельзя было ссориться с верными ясачниками Маковского острога. Чем он обидел сотничиху, Иван спрашивать не стал.
Вдруг глаза шамана, глубоко запавшие в морщины, остановились на золотой пряжке шебалташа. Лицо старика оживилось. Он с любопытством взглянул на Ивана, потянулся к ней желтыми скрюченными пальцами.
— Дарю в почесть! — Иван охотно скинул с себя опояску и кинул ему на колени.
Шаман судорожно и брезгливо, как змею, сбросил шебалташ на землю. Потом опасливо ощупал бляхи. С непроницаемым лицом долго разглядывал их. Соединил и разъединил. Затем заложил пряжку между ладоней, смежил морщинистые веки и тихонько запел, покачиваясь на корточках. Ивану показалось, что старик на свой лад радуется подарку.
Он еще раз поблагодарил его по-остяцки и махнул рукой. Дружинка на корме струга уже отталкивался шестом от берега. Груженое судно не двигалось с места. Стадухин с носа окликнул Ивана, чтобы помог толкнуть струг на воду, и тот уже обернулся к товарищам, беспечально расставаясь с бляхами, доставшимися ему под Тобольском чудно и даром. Но шаман вдруг открыл глаза, поднялся, что-то забормотал и втиснул шебалташ казаку за кушак.
— Говорит, нельзя дарить! — громко перевел его слова Михейка Стадухин, не раз ходивший к кетам за ясаком. — Говорит, голова твоего брата живая, скоро ты с ним встретишься! — Стрелец зло хохотнул и сплюнул в протоку. — Дикие, что с них взять?
Иван неохотно забрал шебалташ, помог столкнуть на воду струг. Сам сел в берестянку. Скрежеща веслами и шестами, суда стали продвигаться среди травы и тины. Милостью Божьей они вышли к Маковскому острожку все живы.
На другой день стрельцы и женщины с детьми отдыхали. Потом стали собираться в Енисейский острог. Приказный дал им двух казенных коней с волокушами. Из своих острожных служилых с отпиской для воеводы отправил на Енисей Ивана Похабова. И все подначивал, смеясь, дескать, вожем дает стрельцам казака, чтобы те снова не заплутали на волоке, а сотничиху звал за себя в жены.
— Хитер! Меня при себе держит! — со злым лицом крутился возле Похабова Василий Колесников. — Себя, поди, в отписке нахваливает. Ты там скажи воеводе, нет от него никакой пользы, только оклад проедает да вино тайком курит.
Под глазом у Колесникова уже синело: как ни сторонился Стадухина — свела судьба, Васька не удержался — съязвил, Михейка тоже не сдержался — ударил.
На волокуши стрельцы покидали пожитки, посадили детей. Помолясь перед выходом, двинулись на восход, по дороге, прихваченной инеем и хрустким ледком. Служилые вели коней, шагали впереди. Бабы шли, держась за оглобли. Так дошли они до Кеми, в зимовье поменяли лошадей на струг и сплавились к устью. Оттуда Енисеем поднялись к острогу.
Отряд стрельцов был замечен на Енисее. Едва они подвели струг к причалу, острожные ворота распахнулись. Старый воротник вышел первым, обернулся к прибывшим спиной, к часовне лицом, низко откланялся лику Спаса. Притом, будто в насмешку, выпячивал в сторону струга свой тощий зад в холщовых портках.
Тяжко ступая, мелко крестясь, из ворот вышел поп Кузьма. Сотничиха кинулась к нему со слезами, припала к его груди, забилась в рыданиях. Попа окружили стрелецкие жены, слезно лопоча о перенесенных муках. С умилением в глазах Кузьма оглаживал их грубыми мозолистыми руками и утешал.
Иван не был в Енисейском с весны. Бросились в глаза перемены. Прежде было две башни, стало три. Из них две — проездные. Шагов на десять расширен был частокол. Прибыло изб в посаде. Филипп Михалев между службами срубил здесь дом.
Крестясь и кланяясь на образа над воротами, Иван вошел в острог. Стены острожной церкви поднялись под стропила. За лето была срублена воеводская изба. Как вестовой Похабов первым делом направился к воеводе. По пути попался ему на глаза Вихорка Савин.
— Привел тебе брата живым! — приветствовал его. Чуть помявшись, спросил: — Савина жива-здорова?
— Что ей сделается? — грубовато ответил стрелец и побежал за острог, к брату Терентию.
Иван сбил шапку на ухо, двинулся прямиком в съезжую избу. Стареющий воевода сидел за воеводским столом, не смея встать навстречу казаку. Младшенькая дочь-отрада чесала ему бороду гребнем. Она то и дело соскакивала с коленей отца, отступала на шаг, любовалась работой. Снова что-то поправляла. Воевода, как кот, жмурился от удовольствия, боясь нечаянным движением или взглядом обидеть дочь.
— Здорово живем, кум? — весело смахнул с головы шапку Иван и стал степенно отвешивать поклоны на красный угол.
Воевода вместо приветствия помигал ему и указал глазами на лавку против себя.
— Ну все, милая! — ласково поторопил дочь. — Красивей уже не сделаешь!
Отроковица, опекавшая вдового отца, как взрослая женщина, строго взглянула на казака и молча вышла из горницы.
— Невеста! — оправдываясь, с обожанием и тоской взглянул ей вслед отец, выдавая печальные мысли. — Не знаю, как отдам? За кого? Как без нее жить буду?.. А отдать надо! — вздохнул. — Разве что вместе с собой в приданое? — улыбнулся в пышную, причесанную бороду.
— Я без тебя ни за кого не пойду! — услышав сказанное, высунулась из двери отроковица. Смутилась казака и с важностью прикрыла дверь.
— Как добрался?
— Слава богу! — поморщился Иван. Передал отписку приказного. — Гостевой двор построили. Амбар накрыли. Рожь сухая теперь. — Он помялся, намекая лицом на недобрую новость.
— Говори! — насторожился воевода.
— Сотник Фирсов утонул! Ну, да об этом тебе стрельцы расскажут.
— Прими, Господи! — тяжко поднялся под образа воевода. Всхлипнул: — Добрый был стрелец! Из старых, из настоящих! Вот ведь на днях вспоминал про него! — грузно опустился на лавку. Тряхнул бородой, утешаясь и отвлекаясь от горестных мыслей. — Наше дело служилое! — Он отпер сундук, вынул узелок, развернув его, высыпал на выскобленную столешницу несколько камешков. — Скажи, что это?
Иван долго разглядывал их. Вскинул глаза на воеводу:
— Руда?
— Может быть, и руда! — согласился воевода. — Я не рудознатец. Но вещует сердце, что это серебро. Гляди-ка! — бросил на стол битый ефимок[190]. Велика и богата земля наша, — прошептал со слезным умилением. — Но серебра и золота Бог нам не дал, как другим странам. Оттого промышляем рухлядь и меняем у латинян, — печально кивнул на ефимок.
— Похоже! — пробурчал Иван, сравнивая талер с куском руды.
— А спроси, откуда? — плутовато щурясь, взглянул на него воевода.
— Откуда? — покладисто переспросил Иван.
— От князца Тасейки промышленные люди привезли. Говорят, у глухарей в кишках такие камушки находят. А этот, — шевельнул пальцем другой кусочек руды того же цвета, — с другой стороны. С Рыбного острожка, который нынче тунгусы сожгли. И все на Верхней Тунгуске, недалеко от нас. Вдруг по серебру ходим, сами того не зная? — поднял на Ивана туманные, увлажнившиеся глаза. — Государь наш, бедненький, за каждый талер еретикам кланяется. А мы найдем руду и послужим ему верной службой. И он нас милостями не оставит.
Иван с возмущенным видом замотал головой, спросил с укором:
— Мне-то когда добрую службу дашь? Век, что ли, в ямщиках ходить?
— Максим Перфильев, по слухам, на Стрелке, — посмеиваясь, потер руки воевода. — Ты мне здесь нужен! — сказал ласково, заискивающе, обнадеживая. — Мало людей. А верных — по пальцам можно счесть.
Распахнулась дверь, в воеводскую избу ввалилась толпа прибывших стрельцов. Смахнули шапки с голов, закрестились на красный угол. Расселись по лавкам.
— Наслышан уже про наше горе! — с печальным лицом кивнул на Ивана Хрипунов. — Тяжкая потеря. Батюшке сказали?
— Завтра с утра панихиду отпоет! — за всех ответил Терентий Савин. — А пока велел всем поминать его и читать по Псалтырю.
— Эх, Поздеюшко, удалая головушка! Рученька моя правая! — слезно всхлипнул воевода. — Ну, да все мы — люди служилые. Все под Богом ходим! Государеву окладу нельзя быть впусте. Думайте, кого поставим сотником. Без крепкой власти нам никак нельзя.
Воевода помолчал, вздыхая и покачивая головой. Стряхнув с глаз печаль, заговорил о деле:
— А вызвал я вас с Кети не по прихоти. Как ни отписывался, как ни оправдывался малолюдством, и в эту зиму велено нам, енисейцам, возить рожь и соль в Красные Яры, Дубенскому. Ждали облегчения, что прикроет нас его острожек от киргизцев. А вон что вышло. Таскаем и таскаем их животы, когда на обыденные службы людей не хватает. А тут слухи: будто тунгусы с качинскими татарами грозят напасть на нас и разорить острог. Хотят наших ясачных остяков под себя взять.
Лед сковал реки и встала зима. Последние из торговых людей бросили в Маковском остроге свои барки и ушли на лыжах со скупленными соболями. С месяц на Кети было так тихо и спокойно, что казаки перестали выставлять караулы. Но перед Рождеством на льду реки показался большой отряд казаков.
Дед Матвейка, одиноко зимовавший в гостином дворе, первым встретил служилых, отдал им все винцо, которое они нашли в гостевой избе, приплелся в Маковский и велел запереть ворота.
— Разбойники, истинно разбойники, а не принять нельзя! — одышливо оправдывался и поглядывал на своих подначальных казаков разобиженными глазами. — Мудро сказано святыми апостолами: «От врагов как-нибудь убережемся, от своих помог бы Господь спастись!» — По-стариковски поворчал и выругался покрепче: — Наверстали в Томском всякое отребье!
— Сходи! — робко предложил Похабову. — Посмотри, что за люди. Атаман, говорят, тоже под Москвой воевал.
Иван молча нацепил саблю и отправился к гостиному двору, занятому пришлыми людьми. Пятеро оборванных молодцов встали на его пути, заслонив дверь. Свирепо буравили взглядами приближавшегося маковского служилого в добротном шубном кафтане, потом закричали, что приказный не дал им, умученным переходом, того, что должно по указу.
Разговаривать с ними Иван не стал, раздвинул караульных широкими плечами, вошел в избу. Она была битком набита людьми. Горел очаг. У огня грелись. Одни лежали на лавках, другие на полу. Под образком, в красном углу, сидели двое в кафтанах темно-зеленого сукна и казачьих шапках. Не только по одежде, но и по тому, как взглянули на вошедшего, Иван высмотрел подлинных казаков. Те тоже с любопытством уставились на него.
Как ни постарели товарищи, а Гришку Алексеева Иван узнал по мутному, будто всегда пьяному, взгляду. Глубже врезались в переносицу складки кожи, гуще стала борода, лицо посеклось морщинами, но это был все тот же дурной и отчаянный Гришка-атаман. Под Москвой он был старше Ивана. Воевал под началом князя Пожарского под Тихвином, под Калугой. Вместе с хопровскими станицами сидел против шведа под Новгородом. Чуть не из каждого боя выходил легко раненым.
Когда казаки в пику боярам сажали на московский престол Михейку Романова, Гришка уже атаманил. После разгрома под Новгородом станичники отправили его с жалобами к царю. За кремлевский бунт боярские холопы бросили выживших казаков в застенки Троицкого монастыря. Затем, царской милостью, на одном козле пороли кнутами матерого атамана Григория с юнцом Ивашкой Похабовым.
Почему с Гришки головы не сняли, как с других атаманов, он и сам тогда понять не мог. Наверное, вступились за него перед царем князь Пожарский и воевода Палицын, под началом которых Григорий с братом Василием воевал под Торопцом. Еще до высылки в Сибирь Ивана Похабова братьев Алексеевых сослали на службы на Иртыш-реку.
Не сразу, но узнал Иван и Василия Алексеева, брата Григория. Этот в кремлевском бунте не участвовал, в троицких застенках не сидел. Миловал его Бог.
— Эй, казак? — мутным взором впился в Ивана хмельной Григорий. — Где я твою морду видел?
— Возле Кремля, верхом на козле! — раздвигая томских людей, протиснулся к нему Иван. — Поровну нас тогда одарили, да не по чину. Я был малолеток, а ты — атаман!
— Похаба-а, что ли! — загоготал Григорий, вставая. — Е-е-е! Ну и бородища у тебя отросла!
Оба брата с хмельной навязчивостью стали обнимать казака:
— Слыхали, что в Енисейском служишь. Вон где встретились. Как там, на Енисее?
— Все скажу, ничего не скрою! — радовался встрече Иван. — Сами-то с чем пришли?
— Отправлены воеводой вам в помощь! — с важностью объявил Григорий. — Только нынче брательник — атаман, а я у него в есаулах! — кивнул на Василия. — Калмыков, киргизов воевали. Теперь посланы против качинских татар!
— А я здесь, в Маковском служу! — признался Иван. Хвастать было нечем. — Приказный послал к вам. Напугали старика.
Григорий самодовольно захохотал, скаля щербатые зубы в бороде.
— Нас три десятка голодных, промерзших, а он краюху хлеба на стол и одну кружку вина. Зачем звали, если так встречаете?
— Воевода нальет, не поскупится! — пообещал Иван и стал рассказывать о Енисейском остроге. Говорил и думал: «Как отпроситься у воеводы идти с ними на дальнюю службу?»
В избу протиснулся русского вида молодой мужик в драном бараньем тулупчике, в шлычке. Вывалил у печки охапку дров, услужливо, как ясырь, стал подбрасывать их в огонь. Пламя высветило лицо в негустой курчавившейся по щекам бороде. Иван в недоумении окрикнул:
— Угрюмка?
Человек боязливо вздрогнул, оглянулся и узнал брата.
Атаман с есаулом опять захохотали.
— Оттого и узнали тебя так скоро, что ведем тебе кабального брата.
— Отчего кабальный-то? — Иван схватил Угрюма за руку и усадил рядом с собой.
— Был в бухарском плену! — неохотно признался тот. — Долго рассказывать, — отмахнулся, пугливо озираясь.
Толпа в избе злобно и язвительно зашипела. Из угла кто-то бросил:
— Магометане православного по добру не отпустят! Или ятра[191] вырежут, или зад нарушат. А мы, по милосердию, его в избу пускаем.
Глаза у Ивана полезли на лоб. Он испуганно взглянул на брата. Тот, обидчиво мигая, замотал головой. Под вспухшими веками замерцали горючие, настрадавшиеся глаза. Заговорил торопливо, цепляясь потрескавшимися пальцами за рукав Ивана:
— Выкупил и отпустил меня бывший русский, принявший магометанство. А Лука Васильев, татарин-выкрест, что у вас на кружечном дворе служил, был там в посольстве. Он вывез меня из Бухарского царства и объявил ложно, что купил. Казаки Бунаковы ради дружбы с тобой меня у него выкупили. Дали десять рублей. Не кабальный я, должник! — выкрикнул Угрюм, озирая злорадствующий сброд. Видно, в пути претерпел много унижений от этих людей.
— Далеко пошел кабацкий сиделец! — процедил сквозь зубы Иван.
— Нынче в сынах боярских служит! — поддакнул Григорий.
Поддержанный в обидах, Угрюмка встрепенулся, стал с жаром оправдываться:
— Наш бывший, теперь магометанин, дал ему даром покупную грамоту на меня, чтобы из Бухары вывез. А тот в Томском, среди своих, русских, объявил меня ясырем. Это по-христиански?
— А кормить-поить в пути? — строго взглянул на кабального атаман Василий. — А одеть к зиме? Все тебе даром? Даром отпустили! Даром привезли!
Угрюм злобно блеснул затравленными глазами, засопел, опустив голову. Сердце Ивана сжалось от жалости к непутевому брательнику. Он поднялся с лавки, показывая, что сегодня ему не до разговоров.
— Вода в реке, дрова в лесу! — сказал. — Казенного харча у нас нет, только окладной. Атамана с есаулом жду в гости. Остальные, если прожрались до срока, — дери заболонь и вари!
Толпа приглушенно заворчала. Он же подхватил брата под руку, вышел из избы. До острожка шли молча, каждый думал о своем. Иван ни о чем не пытал Угрюма: захочет — сам расскажет. Догадывался, что тот повидал столько — впору везти в Москву, в Сибирский приказ.
Будто угадал его мысли Угрюм и забормотал с обидой:
— Томские воеводы пытали. То сапоги и кафтан сулили, то кнутом грозили. Едва отбрехался. А то бы не отпустили.
— Не захотел, значит, пострадать христа ради? — безучастно спросил Иван. Угрюм метнул на него удивленный взгляд, пожал плечами, отмолчался. Старший с затаенным вздохом, тихо спросил: — Через кого Бунаков велел долг вернуть?
— Ваш ссыльный новокрест Ермес на бунаковской сестре женился. Томские воеводы поверстали его в оклад сына боярского. К весне обещают прислать в Енисейский. Его жене Петр Бунаков велел долг отдать. Кабала у нее. — Он помолчал, шаркая расползшимися чунями по снегу. Добавил вдруг: — А мои клейменые меха твои дружки, Ермоген с Герасимом, спалили.
— Живы? — встрепенулся Иван.
— Мы с Пендой промышляли возле Ламы. А Михейка Омуль с монахами зимовье ненароком подожгли. Все сгорело. И пищаль.
— Далеко ходили! — удивился Иван. — У нас в остроге про те места никто не слыхивал.
— Не говори никому, — боязливо насупился Угрюм. — Затаскают с расспросами. А то и под кнут положит.
Вспоминал Иван прошлые встречи, с грустью надеялся, вдруг на этот раз все сладится и будут они жить как братья.
— Мне-то расскажешь? — спросил с усмешкой в бороде.
Он вел Угрюма в свой тесный дом. Приметил, как дрогнули его глаза, когда увидел Меченку. И она его узнала. Смутились оба. Пелагия задрала длинный нос и поджала губы в нитку, становясь безобразной, привычно прикрыла платком пятно на щеке. Равнодушно посмеиваясь над ними обоими, Иван велел жене накрыть стол. Знал, что она будет возиться долго, схватился за шапку, оставляя их с глазу на глаз, чтобы обвыкли.
— Баню затоплю!
— Хорошо бы с дороги! — пробормотал Угрюм, опускаясь на лавку в сиротском углу. Скинул драный тулупчик. Из кутного угла бойко выбежал Якунька, уставился на незнакомца. Угрюм неумело поманил его, и тот подошел, не испугался нового человека.
— Сильно похож на Ивашку! — тихо сказал Меченке про племянника. Не знал, как вести себя с ребенком. Она радостно вспыхнула, покрасивела. Блеснули бирюзовые глаза. С легкой грустью, старой и отсохшей кручиной, вспомнилось Угрюму, как когда-то эти глаза обнадеживали его счастьем.
Ни с ребенком, ни с Меченкой говорить ему было не о чем. Он сдвинул брови, уставился под ноги, почувствовал, что его молчание начинает злить хозяйку. Хотел уже выйти следом за Иваном, но в избу шумно ввалились братья Сорокины и верткий Василий Колесников с нескладной женой. Несуразно размахивая длинными руками, она взревела густым басом:
— Слыхали, брат нашелся!
За гостями втиснулся Иван. Подхватил сына с полу, забросил на теплую печь. Острожная избенка была так полна народом, что хозяйка с облегчением в лице села в красном углу. Иван строго напомнил ей про стол. Она вскочила.
— Сидите уж, — трубно проголосила Капа. — Говорите! Сами баню истопим, пива принесем.
Угрюма подтолкнули в красный угол. Место у печки освободилось. Сорокины сели на лавку против него. Уставились на промышленного с любопытством. Угрюм отвечал односложно, неинтересно.
— Был где-то. А где, и не знаю. Шли рекой, потом притоком. Промышляли. То ли татары, то ли киргизы напали, пленили. Долго везли куда-то степью.
Меченка слушала его вполуха, передвигала котел с места на место. На столе так ничего и не появлялось. Вскоре братья Сорокины ушли с обиженными лицами. Колесников посидел еще, дотошно выспрашивая про места, где бывал гость, про тамошние народы. Поймал Угрюма на лжи:
— Ты ведь только что говорил, что промышляли на Тунгуске, а почему пленили на Каче?
Угрюм сделал свое лицо тупым, а глаза мутными. Помолчав, признался:
— С тех пор как кистенем по башке вдарили, чего-то помню, а чего-то не помню. Где-то на Каче, наверное, промышляли.
Вернулась Капитолина. Принесла свежего хлеба.
— Перед баней не наедайся, — пророкотала ласково. — Подкрепись только. Попаришься, после накормим.
Поев принесенного хлеба с квасом, Угрюм снова поднял усталые глаза на пытливого стрельца, который все еще ерзал на лавке.
— Умучал бедного! — взревела на мужа Капа. — Дай отдохнуть с дороги!
— Не ори, дура! Оглохнем! — огрызнулся Васька, но вопросов больше не задавал.
Подошла баня. Иван потянул брата за собой. У дверей, из-за которых клубами валил пар, оба скинули одежду, влезли на полок.
— Как спина у тебя разукрашена? — удивился Угрюм.
— А ты и не знал? — тоскливо опустил глаза Иван. Тряхнул бородой. — Откуда? Все врозь да врозь. Доля нам такая, что ли? Все братья как братья! А мы. — Вздохнул, поскабливая ногтями розовеющую кожу, пожаловался: — Ты матери не помнишь. А я, прости господи, смолоду все думал: ни за что не женюсь на девке, если будет на нее похожа. А вот ведь досталась жена и криклива, и ленива, и жадна!
Про шрамы от кнута и сабель не сказано было ни слова, про то, как досталась Ивану в жены Меченка, — тоже. Угрюм не спрашивал, Иван не вспоминал. Напарившись, они вернулись в дом. Стол был накрыт. Братьев терпеливо ждал весь острог во главе с приказным стариком. Боком-боком, гость с хозяином едва втиснулись за стол.
Отдохнув, отряд атамана Василия Алексеева ушел по зимнику на Енисейский острог. Иван записал брата Егория-Угрюма гулящим человеком из промышленных сибирских людей, оплатил за него годовую пошлину. За прокорм брал его с собой и посылал на работы со служилыми. Он привыкал к младшему, наблюдал за ним и все удивлялся, как ловко тот умел прикинуться глупым или врал так нескладно, что слушатели начинали плеваться, корить Ивана. Тот разводил руками, хмуро спрашивал недовольных:
— Тебя кистенем по башке били? Нет? Тогда хочешь — слушай, не хочешь — не слушай. Но помалкивай.
Сам он, как ни мало знал Угрюма, понимал: много чего брат знает и скрывает. Когда они оставались вдвоем, лицо Угрюма менялось, скованный язык развязывался, а глаза блестели умом. Как-то Похабовы рубили дрова в лесу. Лошадь, запряженная в сани, грызла сено, позвякивая удилами, и переминалась с ноги на ногу. Братья сидели у костра, отдыхали, грели на прутках куски вареной козлятины.
— Жил у братов, — смежил глаза Угрюм. — У них мясо, варенное на кизяке, куда-куда!
— Какое Бог дал, такое едим, — озлился вдруг Иван. Мотнул головой с заледеневшими глазами: — Мне-то скажешь правду?
— Скажу, ничего не скрою! — оглядываясь, смущенно пообещал Угрюм. Вскинул глаза на брата: — Только ты призовешь ли Бога во свидетели, что до самой кончины своей никому не откроешь того, что скажу тебе.
— Призову! Ей-ей, — неохотно пожал плечами Иван и перекрестился. — Никогда бес не мучил выдавать чужих тайн.
— Слушай же! — чуть волнуясь, начал брат.
Вскользь он упомянул о промыслах в верховьях Мурэн. Как его, обнищавшего после пожара, сманил к себе в улус князец Куржум. Прельстил не только халатом и сапогами, но и надеждой на сытую, спокойную жизнь, которая тогда уже не представлялась промышленному среди русских сибирцев.
Непривычный к верховой езде, Угрюм ерзал в своем седле с холки на холку и думал только об одном: как сделать другое — мягче, удобней и красивей. Если балаганцы пускали коней рысью, его кобыла тоже переходила на тряский бег. Угрюм багровел от боли в паху, тянул на себя недоуздок или поддавал плетью, чтобы кобыла перешла на галоп.
Баатар Куржум и десяток его молодцов, вооруженные луками и пиками, два дня ехали пологим левым берегом Ангары. Каменистый яр противоположного берега стал положе, лес реже. На другой стороне реки открылась холмистая степь. Лошади вынесли людей к месту, где на отмели обсыхали бревна плота из неошкуренного леса.
Молодцы Куржума спешились, волосяными веревками привязали к седлам по бревну, гужом потянули их против течения реки до поворота с длинной песчаной отмелью. Там они связали бревна. Спешился и сам Куржум, важно взошел на плот, завел на него своего всхрапывающего жеребца. Его люди сложили пожитки, оружие, седла. Своих коней они связали в один повод.
Молодой толстый балаганец, на заводном жеребце без седла, зарысил с караваном по песчаной косе. Кони все глубже погружались в воду и наконец поплыли, вытягивая над водой ноздри и прядая острыми ушами. Толстый балаганец весело орал и охал, показывая, как холодна вода. Плот тоже отчалил. Все, кроме князца, проталкивали его шестами, пока позволяла глубина реки, затем течение понесло его на стрежень и дальше, к противоположному берегу. Все стали дружно грести шестами и гребли, пока один из молодцев не вскрикнул, достав дно. Кони уже выходили из воды, отряхивали шкуры и весело махали мокрыми хвостами. Толстый балаганец с посиневшими пятками прыгал на песке, орал, требовал свои штаны и сапоги.
Многотрудное дело было сделано. Мужики долго сушились, валялись на солнце и грызли сухой творог. До вечера было далеко. Заскучав, они оседлали отдохнувших лошадей и поехали в обратную сторону другим берегом. Лес сменился обширными полями, окаймленными пологими склонами гор с лесом по хребтам. Здесь резко, как в степи, пахло скотом. Вскоре завиднелись юрты с пасущимися стадами. И такой мирной, такой беззаботной показалась Угрюму жизнь кочевников, что он им позавидовал, вспоминая о вечной промышленной нужде, о нескончаемой изнурительной работе.
Прошел месяц. Угрюм прижился среди балаганцев. Своего дархана у них не было. Пришелец был окружен уважением и заботой. Куржум подселил его в семью родственника, невысокого, но дородного братского мужика, имевшего четырех дочерей. Звали его Гарта Буха.
Жили балаганцы спокойно и сытно, не изнуряя себя ни постами, ни молитвами. И только в дожди или в бури, когда мог уйти и погибнуть скот, все мужчины выходили к стадам, бедствовали ночами, а то и сутками. Но налаживалась погода, и снова начиналась беззаботная жизнь.
Угрюм жил с семьей Гарты в войлочной юрте. Домочадцы поднимались поздно, он вставал первым, тихонько шел к речке, умывался, крестился и кланялся на восход, читая утренние молитвы. Затем направлялся к своей кузнице с навесом из жердей, покрытых войлоком. Раздувал горн, доставал припрятанный инструмент: клещи и молот, сделанные из ствола обгоревшей пищали. Навешивал на разгорающийся огонь черный котел с водой.
Из юрты выползала заспанная и сердитая девка, средняя дочь Гарты по имени Булаг. Угрюм звал ее Булкой: так называли хлеб черкасы. Девка напоминала ему что-то круглое. Ее щеки колобками топорщились на широком лице. Из них едва высовывался остренький кончик носа. Глаза у девки были узкие и непомерно длинные. Распахнутыми крыльями морской птицы они взлетали от плоской переносицы до самых висков.
Среди балаганцев не принято было, чтобы мужчина готовил себе пищу. Наверное, отец приставил Булку в помощь дархану, и девка, сонно жмурясь и злясь на ранний подъем, ставила перед ним кувшин с молоком, деревянное блюдо с сушеным творогом. Исполнив свой долг, она уходила в юрту досыпать утренние часы. При этом смешно семенила короткими ножками, переваливаясь с боку на бок.
Угрюм смотрел ей вслед, попивал жирное, густое молоко и посмеивался над убеждением русских промышленных людей, что среди инородцев их ждет только рабство.
Слегка томясь приятным бездельем, он шел собирать кизяк, на котором железо грелось лучше, чем на обычном костре, или уходил рубить березу на древесные угли. Работы было немного, он делал ее быстро и весело. Радовался, что язык балаганцев становится ему все понятней.
Свое седло он подарил Гарте и сразу стал делать новое. Но и его пришлось подарить знатному мужику, так как своего коня все равно не было. Вскоре Угрюм высмотрел на соседнем стане молодую крепкую кобылу. Несмело поторговавшись, купил ее за пятнадцать соболей и привел в стадо Гарты. Теперь можно было делать седло для себя. На его работу уже никто не зарился: есть лошадь, нужно седло. Все было ясно и понятно.
Случались несуразицы. Как-то утром, маясь бездельем, Угрюм с мешком в руках стал собирать прошлогодние лепехи кизяка для кузницы. Его заметили из юрты. Прибежала Булка, вырвала мешок из его рук и стала собирать кизяк сама. Угрюм ходил рядом с ней, пытался помочь. Но девка обиженно вскрикнула, указывая рукой на стан: «Туда иди, не лезь не в свое дело!»
Остренький кончик носа смешно высовывался из пухлых щек. Тряслись полные губы, дрожал кругленький подбородок, а в глазах блестели слезы.
В благодарность за заботу о себе Угрюм выковал для нее браслет из старого, продырявленного медного котла и украсил его простеньким узором. Он долго тер медь войлоком, и безделушка заблестела как золото. А когда утром пришла Булаг, чтобы накормить дархана, тот взял ее руку и надел браслет на запястье. Девка ахнула. В поллица распахнулись ее глаза-крылья, и Угрюм заметил, что они у нее не черные, а темно-карие.
Булка убежала в юрту веселой и счастливой. Весь день она угождала кузнецу и бросала на него ласковые взгляды. Но уже к вечеру Угрюм приметил, что чем-то рассердил семью Гарты. Сестры Булки поглядывали на него озлобленно. Их отец досадливо хмурился. Непонятный холодок появился даже между ним и Булкой. Вскоре прискакал косатый молодец из свиты князца. В поводу у него шла оседланная заводная лошадь. Посыльный велел Дархану ехать к Куржуму.
Ничего не понимая, Угрюм отправился на стан баатара. Поджарый, как тунгус, долгоносый и большеглазый князец в простом халате, без оружия, стоял возле туши забитого бычка и советовал домашним, как его разделывать. Он обернулся к подъехавшим всадникам, приветливо взглянул на своего дархана.
Вестовой еще в пути растолковал Угрюму, что князца замучили жалобами племянницы: им хотелось иметь браслеты, как у сестры.
— Сделай всем украшения! — приказал Куржум, когда кузнец спешился и поклонился ему.
Угрюм понял его слова. Про награду князец умолчал. Поэтому, плутовато ухмыльнувшись, кузнец стал говорить и объяснять знаками, что старого котла не хватит, нужна медь. Князец ушел в белую юрту. Сын или племянник-отрок вынес стертую медную бляху с конского нагрудника, сунул ее в руки кузнеца. На том разговор был закончен.
Как всегда, окруженный толпой чернявых любопытных ребятишек, Угрюм, не спеша, сделал еще три браслета. Мир среди сестер наладился. Но кузнеца за работу никто даже не поблагодарил.
Вскоре Гарта Буха отдал замуж двух старших дочерей. В юрте стало просторней. Угрюм присматривался к обычаям здешнего народа и находил их разумными, хотя не все ему нравилось.
Родня женихов пригнала в дом свата десяток кобылиц и столько же коров. Сверх того за невесту была дана отара овец и другие подарки. Три дня на стане пировали. Старики пили тарасун и хорзо[192]. Жениху и молодым гостям позволяли пить только квашеное молоко, дескать, им и так весело от их молодости. Все подарки были отданы молодым супругам. Сверх того прибавлено от дома отца.
На Руси если молодец-удалец забрюхатит девку до замужества, той от позора хоть в петлю. А если она родит несчастного нагулянного ребенка, сородичи даже его внукам будут припоминать, что они бл… ны дети. Здесь, в степи, если девка рожала младенца, то без скандалов и упреков родители брали его на свое воспитание и выделяли долю из наследства. Дочь же выдавали замуж как всякую девку без приплода. А не жилось молодым супругам, так они разводились. Спорили не столько из-за обид, сколько из-за подарков, полученных со стороны родни мужа и жены.
Примечал Угрюм, что народ, среди которого он жил, весел и шутлив с единоплеменниками. Гости из других родов тискали девок и отпускали такие шутки, за которые на Руси родня непременно полезла бы в драку. В лучшем случае за подобные намеки русские девки выцарапали бы глаза своим парням.
Между тем чем больше понимал Угрюм балаганцев, тем меньше ему хотелось показывать, что он знает их язык.
После сытного, жирного обеда вся семья Гарты лежала в юрте. Войлок со стен был поднят. Потное тело с радостью ловило всякое дуновение ветра. Гарта, почесывая тучный живот, то всхрапывал, то начинал говорить, зевая, и все шутил с дочерью Булаг, которой подходила пора идти замуж.
— Что скажешь, красавица? Дырка под животом не сильно чешется? — спрашивал посмеиваясь.
Булаг строптиво фыркала. Необидчиво отвечала:
— Нет еще! И женихи хорошие не приезжали.
— Может, за нашего кузнеца тебя отдать? — похохатывал отец, думая, что Угрюм его скороговорки не понимает. — Он на голову выше всех наших женихов. Сыновей от него родишь высоких, красивых.
Булка снова фыркала:
— У него лицо мохнатое, как у медведя! Не пойду за медведя!
Жена Гарты, с рыхлым черным лицом, посеченным неглубокими морщинами, поддерживала мужа, не то искренне, не то шутя, — этого Угрюм не понимал.
— Дом сделает теплый. У него руки масляные. Шаманов злые духи мучают, а дарханов — боятся.
— Не пойду ни за шамана, ни за дархана! — фыркала Булаг.
Отец и мать с ней соглашались. Начинали расписывать достоинства другого жениха, которого Угрюм не знал. И так, пока опять не всхрапывали.
Угрюм сбился со счету дней и праздников. Судя по траве, был август, Спас. От Куржума опять приехали два молодца. В пути сказали, что князец зовет толмачить. К нему, дескать, прибыли люди-зверовщики.
Угрюм вошел в белую юрту, поприветствовал балаганцев по их обычаю, приметил сидевших напротив Куржума трех русских промышленных. Лица их были темны от солнца, бороды выгорели желтыми прядями. Захлестнуло сердце знакомое до боли пережитое бездолье пути.
Промышленные мельком, отчужденно, взглянули на толмача как на чужака. Их неприязнь больно кольнула Угрюма. Он сел, куда указал князец.
— Дело к зиме! — хмуро и важно объявил старший из гостей, передовщик в русой бороде. — Шли мы на Елеунэ. Но пора уже к зиме готовиться. Мы бы промышляли до весны соболишек и другую рухлядь за горами в лесу. Зимовье бы там поставили и жили бы до весны. А вам бы после промыслов сорок соболей дали, чтобы жить без ссор и обид.
Угрюм выслушал их, перевел как сумел. Куржум с важным и строгим видом переговорил со стариками, сидевшими по бокам и за его спиной. Те советовали спросить с чужаков соболей вдвое.
Передовщик выслушал Угрюма, недоверчиво, с подозрением блеснул глазами, никак не признавая родства по крови, хотя у толмача поверх халата висел кедровый крест.
— Много! — тряхнул бородой. — Места здесь бедные. Если не сойдемся на сорока, пойдем дальше.
Торговались они долго, но бесстрастно. Неприязни друг к другу не показывали. Куржум напирал на то, что на его земле они могут зверовать безбоязненно: никто не тронет ни их жилья, ни их ловушек. Сошлись на пятидесяти соболях.
По обычаю после договора и рукобитья Куржум стал угощать гостей и расспрашивать о землях, где они бывали, о народах, с которыми встречались. Угрюм узнал, что ватага вышла с Подкаменной Тунгуски, где промышляла не совсем удачно. Не удержался, прихвастнул, что сам промышлял много лет на Нижней Тунгуске с Пантелеем Пендой.
Промышленные недоверчиво взглянули на него, но ни о чем не спросили. Угрюм стал сердиться, примечая, что они не принимают его за своего, осторожничают хуже, чем с братскими мужиками. И сколько ни пытался начать с ними свой разговор — гости отвечали односложно, никак не интересуясь, отчего он живет среди братов.
На прощание Угрюм сам сказал, что не только толмачит у князца, но и работает кузнецом. Ему казалось, такой человек, как он, русским промышленным нужней самого князца. Но передовщик равнодушно спросил:
— Захолопили?
— Сам пришел! Позвали. Халат камчатый дали.
Промышленный недоверчиво качнул головой, дескать, чего ни бывает на свете, и больше ни о чем не спрашивал. Угрюм в отместку стал показывать, что среди братов он свой человек. Говорил громко, шутил с братскими мужиками. На том они и расстались.
Около середины сентября, когда по утрам на поникшую траву ложился иней, а земля становилась звонкой, мимо стана Гарты Бухи проехали пять всадников. Одеты они были будто по-братски, в дорогие, но засаленные халаты. Кос у мужиков не было, а вот оружие, как приметил Угрюм, было очень дорогим и серебра на одежде много.
Всадники по-хозяйски осматривали стада. Женщины притихли, мужики стана Гарты угодливо засуетились. Они зарезали бычка и двух баранов, стали свежевать их. Молодежь вдруг пропала с глаз и попряталась. Все это нимало удивило Угрюма. К нему гости не подъезжали. И пировать они не остались, хотя Гарта приглашал: ускакали в сторону стана Куржума.
Гарта Буха помрачнел и резко постарел. Он приковылял к навесу, под которым у огонька сидел Угрюм, прошипел потупясь:
— Садись на свою кобылу и уезжай куда-нибудь. Через десять дней вернешься! — Сутулясь, Гарта грузно развернулся и двинулся к юрте. Но через несколько шагов обернулся, взглянул на Угрюма пристально и приказал:
— Возьми с собой Булаг!
Пока Угрюм раздумывал над сказанным, из соседней юрты вышел молодой балаганец, стал торопливо седлать двух коней. На одного подсадил Булаг, на другого сел сам. Махнул рукой Угрюму, чтобы следовал за ними. Вскоре стан Гарты скрылся с глаз.
Всадники рысцой уносились к лесу. Угрюм понимал, что его спутник не может быть женихом Булки, так как они близкие родственники. И все же досадовал, что не остался с ней один. Чем дольше он жил на стане, тем больше влекла его эта смешная отроковица, входящая в девичью пору.
В лесу Угрюм быстро и привычно срубил шалаш, развел огонь. В черед с братом Булаг всю неделю они охотились, стреляли из луков. К добытым Угрюмом тетеревам девка и ее брат не прикасались, брезгливо смотрели, как дархан щиплет и печет птицу. Сами они голодали или пекли жесткую дикую козлятину, спали, укрывшись одеждой. Через десять дней, как приказал Гарта, вернулись на стан.
На первый взгляд все было как прежде: пасся скот, юрты стояли на тех же местах. Но жители стана стали сумрачны и неприветливы. Сам Гарта выглядел усталым и постаревшим. Жена его, мать Булаг, вышла к дочери с опухшим от слез лицом.
С ее слов Угрюм понял, что младшую сестренку Булаг увезли мунгалы. Он стал сбивчиво говорить Гарте, что можно подговорить промышленных людей и отбить девку. Старик поглядывал на него печально и досадливо, никак не отвечал на слова.
Пришла зима, перетерпелось горе. Опять с утра до вечера возле кузницы толклись братские детишки, а Угрюм с важностью человека, владеющего ремеслом, ковал для всех приезжавших соплеменников Гарты и Куржума. В начале зимы на балаганцев свалилась новая беда — снег. Он падал и падал, а ветра, чтобы вымести его, все не было.
Кони тоскливо копытили сугробы, разгребая засыпанную снегом траву. К ним кидались голодные быки и коровы. Бараны и овцы сбивались в тесные кучи. Совали друг другу под брюхо лопоухие головы и стояли, безмолвно ожидая голодной смерти. Облепленные снегом, братские всадники носились от стана к стану, передавали распоряжения Куржума и Бояркан-хубуна.
Юрты стана были торопливо разобраны и навьючены на лошадей. Оставалась только одна — юрта Гарты Бухи, хотя были уложены для перекочевки все пожитки. Мужики забили и разделали пару жеребят. Женщины в тулупах и меховых шапках варили мясо у костров. Затем все в тяжелой зимней одежде собрались в юрте Гарты, неторопливо наелись жирного мяса, чтобы не мерзнуть в пути. Лица людей были напряжены и озабочены. Они изредка переговаривались о насущном.
Наконец мужчины разобрали и погрузили на коней войлок с последней юрты. Связали в одно ее решетчатые стены и воткнули их в глубокий снег. К ним привязали гужи из волосяных веревок. Как в бурлацкие постромки, впрягли в них двух сильных одногорбых верблюдов.
Одни мужики, утопая в снегу, стали погонять их криками и плетьми. Другие налегли на решетки, как пахари на сохи. Верблюды задрали морды, взревели. Напряглись бугристые жилы под длинной шерстью. Дрогнул сугроб и развалился надвое, как земля под плугом. И обнажилась степь. За вислыми хвостами верблюдов вспучился снег. За решетками оставался глубокий ров с поникшей сухой травой. По этому проходу пошли кони и коровы. Хватая заснеженную траву, с блеянием побежали овцы, торопливо подъедая все, что оставалось после крупного скота.
В тот же день стан Гарты соединился с другими станами Куржума, а потом со станами и стадами Бояркана. Лава скота и людей двинулась к горам.
Работали балаганцы много и много ели в пути. А для Угрюма этот тяжкий переход казался обычным. Без натуги пережил он и эту беду.
Пришла весна. Буйно зазеленела степь. Кобылка Угрюма разродилась пегим жеребенком. К Гарте приехали важные сваты какого-то сильного рода. Они долго сговаривались и пировали с хозяевами. Не оставался в стороне от пирующих и Угрюм. Он сидел с ними за одним столом, ел и пил со стариками молочную водку. Ему, кузнецу и пришельцу, этого никто не запрещал.
Прибыл жених. Среди родственников он держался важней всех: надувал щеки и начальственно поглядывал на пирующих. Угрюма жених не замечал. Он был молод, по братским понятиям красив: в высокой шапке, шитой серебром, в серебряной опояске, при сабле.
На стане с восторгом говорили о том, что за Булаг родственники жениха дают сорок кобылиц. С легкой печалью посматривал Угрюм на Булку, наряженную так, что она походила на навозного жука. Прежняя смешливая девка казалась ему чужой, будто и неживой. Понимал кузнец, что не ему, бедному и безродному, она готовила себя в жены, а шутки Гарты были только шутками.
Невеста уехала на стан жениха по вечному зову крови и по ее закону. Угрюм, как и прежде, ковал лошадей, вытягивал и точил сломанные ножи. Он вдоволь спал и вдоволь ел. Железо, данное князцом, кончилось. Пришлось пустить на подковы тайный запас. Дархан уже понимал, что при кочевой жизни своего богатства от чужих глаз не утаишь, лучше самому свое отдать — вдруг и наградят. Если возьмут твой припас силой — награды не дождешься.
Он соглашался с чужими нравами: думал, увезли приглянувшуюся девку — найду другую. Жить бы да жить — радостно озирал сытую дремлющую равнину.
Как среди промышленных, так и среди братов, по вечному человеческому закону, беда сменялась радостью, радость опять оборачивалась бедой. В начале лета Бояркан-хубун, старший брат Куржума, велел собирать всех молодых мужчин, способных носить оружие. Приказал готовиться к походу и дархану-кузнецу.
Мунгалы велели главному братскому хану Аманкулу, князцу эхиритских родов, собирать войско против киргизов. Эхириты кочевали на другом берегу реки. Братский хан прислал оттуда вестовых с приказом идти на войну с его людьми.
Знал Угрюм, что балаганцы и эхириты жили в неприязни. Аманкул, по словам балаганцев, был поднят на белой кошме не по праву рождения, а по прихоти мунгал. На балаганских станах хана злословили, но ослушаться его приказа не решались. Мужчины, кому было на кого оставить семьи и родителей, стали собираться на войну.
Куржум в серебряных доспехах прискакал на стан Гарты Бухи с молодцами своей свиты. Среди них Угрюм узнал мужа Булаг. Князец сам проверил, как одеты, как вооружены люди стана. Угрюму велел оставить свою кобылу с жеребенком в табуне и взять трех сильных коней.
— На одном и другом поедешь сам, на третьем повезешь все, чтобы ковать в пути! — пояснил, когда дархан взял поводья. — Грузовое седло сделаешь.
— Железа нет! — пожаловался Угрюм. Он понимал, что нужен князцу как кузнец, а не как воин. И это его радовало.
— Будет железо! — объявил Куржум. — Добудем! — Большие черные глаза блеснули. Он улыбнулся кузнецу и даже пошутил: — Увели невесту? Добудешь другую у киргизов или у аринцев. И железо добудем.
Угрюм осклабился, не зная, что сказать и как понимать сказанное. Братские князцы слов на ветер не бросали, но любили говорить с двойным смыслом, до которого нужно додумываться.
После пира на стане Куржума его люди вышли в поход. Через день у реки они соединились с воинами Бояркана. Два брата в блестящих доспехах и шишаках ехали впереди войска. Угрюм тащился в его хвосте, харкая и отплевываясь в беспросветной пыли, прислушивался к разговорам балаганцев. Часто слышал, что они называют хана Аманкула сыном раба. Кузнец помалкивал и побаивался, как бы балаганцы с эхиритами не передрались в пути. Распря его пугала.
Войско балаганцев переправилось через реку в знакомых местах между порогами, которые с таким трудом проходили промышленные малой ватажкой. Они пошли знакомым притоком к его верховьям, неподалеку от тех мест, где ватажка нашла струги.
В пути к ним присоединялись кыштымы. И уже не понять было где кто. Угрюм стал пробиваться ближе к Куржуму и его брату. Возле них, на виду, ему было спокойней. Телохранители князцов ничего против не имели, и скоро у Угрюма завязались с ними приятельские отношения. Один только муж Булаг выказывал ему свое презрение. Как-то после ковки он объявил, что дархан плохо подковал его жеребца.
Угрюм спорить не стал. Велел привязать к хвосту коня то самое копыто, на котором якобы подкова хлябает, постучал по ней для виду молотком. Дородный косатый молодец потрогал подкову и остался доволен.
— Теперь хорошо! — сказал важно.
На ночлег Угрюм стал устраиваться неподалеку от белого шатра братьев. Охране это казалось правильным: дархан всегда должен быть под рукой, чтобы его не искать.
Войны Угрюм не видел и в ней не участвовал. Воевали где-то впереди. Проводили пленных в пропыленных драных халатах. Они яростно чесались и ничуть не походили на грозных воинов, с которыми не могли сладить мунгалы.
И вот как-то под утро при первых бликах рассвета всполошился весь стан. Стрела просвистела над головой кузнеца. Другая воткнулась рядом с костром; Угрюм вскочил, стал натягивать сапоги. Возле белого шатра дрались. Слышались крики и лязг железа. Угрюм подхватил седельную суму. Две подковы сунул в карман.
И вдруг волосяной аркан захлестнул его плечи. Земля вырвалась из-под ног и понеслась на розовеющий восход. Он хватался за веревку, пытался встать. Камни и сучки драли камчатый халат. Шапка слетела с головы. Угрюм обессилел и перестал сопротивляться. Наконец, от боли и удушья померк свет в его глазах.
«Вот и все! — подумал. — Отче Егорий, моли Бога за меня! Отче Никола».
Выбираясь из кромешной тьмы, он услышал неторопливую гортанную речь. С трудом открыл глаза и не сразу понял, утренним или вечерним был небесный сумрак. В голубеющем небе светила утренняя или вечерняя звезда. Руки и ноги были туго связаны. Остро пахло дымом кизяка и мокрой овечьей шерстью. Возле огня на корточках сидели пять чужаков в войлочных халатах, тихо переговаривались.
За спиной Угрюм услышал сиплое частое дыхание. Превозмогая боль, он повернул голову и невольно застонал. Рядом лежали знакомые молодцы из охраны Куржума. Имя одного он не помнил, другого не хотел знать: это был муж Булаг. Дородный балаганец лежал на животе, повернув голову к кузнецу. Тело его было обнаженным, видно, враги прельстились богатой одеждой, лицо — черным от засохшей крови, ухо забито землей. По голове лениво ползали зеленые мухи.
Услышав стон, все сидевшие у костра со смехом обернулись. Один из них, черный, малорослый, кривоногий, поднялся. Нараскорячку, как коромысло, переставляя ноги, приковылял к пленным, перерезал путы на руках Угрюма, затем освободил мужа Булаг. Тот захрипел, уперся в землю тучными руками, с рычанием сел и неприязненно уставился на мужиков в войлочных халатах.
Кривоногий принес воды в глиняной кружке. Балаганец с растрепанной косой жадно осушил ее разбитыми губами, отбросил в сторону и набычился пуще прежнего.
Чужаки насмешливо оглядели его, один спросил на плохом, едва понятном братском языке:
— Какого ты роду-племени?
— От известных людей родился я, — заревел муж Булаг. — Сотворен по воле сына Вечно Синего Неба — Эсэгэ Малаана[193].
— А тот, который хрипит, кто?
— И он сын известных родителей, рожденный мужчиной! — гордо ответил окровавленный и раздетый балаганец. Упреждая следующий вопрос, пробормотал разбитыми губами, не взглянув на Угрюма: — А это — раб низкорожденный.
Сидевшие у костра на миг забыли о пленных и громко заспорили между собой. Вдруг спор утих. Чужаки посидели какое-то время молча. Затем поднялся все тот же кривоногий. Подхватил чекан с кривым клювом, зашел со спины балаганца, беззлобно, как забиваемую скотину, ударил по виску большой головы. Дайша мешком завалился набок тучным телом. Кривоногий для верности тюкнул его еще раз и в два удара добил другого охранника Куржума.
— Господи, помилуй! — вскрикнул Угрюм, обмирая. И показалось ему, будто кишки его наполнились снегом.
Но кривоногий вернулся к костру, бросил на землю чекан, наполнил кружку водой из родника. Сунул ему попить. Пальцы кузнеца тряслись, вода расплескивалась. Зубы стучали по краю посудины. Угрюм припадал к воде иссохшими губами, глотал и захлебывался.
Кривоногий присел перед ним на корточки, показал две подковы, которые, собираясь бежать, кузнец сунул в карман. Угрюм испуганно и угодливо закивал, будто признавался в грехе:
— Мои. Мои. Мои! — пытался вспомнить, как это сказать по-братски и не мог.
— Уста?[194]
— Дархан — кузнец! — снова залепетал он, уловив в незнакомом говоре тень почтения. Что-то промелькнувшее в черном лице с запавшими, как у покойника, глазами, давало надежду остаться живым.
— Уста! Уста! — почтительно и даже восхищенно залопотали сидевшие у костра.
Ему бросили сырую, недавно снятую с барана шкуру и указали место, где лечь.
Утром вытащили из котла и бросили в его сторону разогретые бараньи лытки. Потом посадили на заводного коня без седла и повезли в полуденную сторону, время от времени отклоняясь на закат.
В пути Угрюм старательно ковал коней киргизцев и всем своим видом показывал, что может быть им полезен. Молота у него не было — ковал рассыпавшимися камнями. С острой ясностью вспоминал нищее, бездольное детство. Будто вернулось оно, и вот снова тошно, низко он выживал. Много молился про себя. Думал с лютой тоской: «Беды меня породили, горе выкормило, злая кручина вырастила. Если на весь век судьба такая — лучше бы умереть. Лишь бы не страшно. Уснуть и не проснуться».
Он думал, что киргизы возвращаются в свое селение. На многолюдном стане его заперли в темной глинобитной избенке. Угрюм приткнулся спиной к стене, сполз на пол и почувствовал, что он здесь не один.
— Ты чей? — с удалью и неуместным весельем спросил из тьмы голос.
— Енисейский промышленный! — всхлипнул Угрюм.
— А я из томских посадских, Пятунка Змеев! — назвался он с такой важностью, будто их посадили рядом за званый стол. — Киргизы много наших пленили. Теперь повезут продавать.
— Чему радуешься-то? — слезливо огрызнулся Угрюм.
— А чего? — хохотнул пленный. — Просидел бы всю жизнь в подручных у отца, старого Змея, да у братьев: я — младший. А тут Бог дал посмотреть, как всякие люди живут, да себя показать! Не понравится — убегу. Я лихой! — снова беспричинно хохотнул во тьме.
Угрюм засопел, прикрыв глаза. Навязчиво вспоминался утробный удар чекана по голове. Этот страшный звук не переставал повторяться в его душе, наполняя ее ужасом. Стоило закрыть глаза, являлось перед ним вытягивавшееся в судорогах тело. «Господи, — опять думал слезно, — за что мне судьба такая?»
Кто-то закряхтел и закашлял в другом углу. Угрюм стал прислушиваться.
— Нас тут четверо, — громко объявил Пятунка. — Ты пятый!
Утром мазанку открыли. Дневной свет ворвался под кров. Щурящихся пленников вывели. Их лица сливались в одно пятно. Запомнился только Пятунка. Курносый, губастый, с непомерно большим, всегда удивленно открытым ртом, с длинными, конскими зубами, он оглядывался с таким видом, будто собирался выйти на круг плясать: «Эх, где наша не бывала, где не пропадала?»
Горы и лес кончились. Открылась бескрайняя степь с колками берез и осин. Пленных привезли на какую-то речку с вытоптанными берегами. Здесь было много скота, юрт и шатров. Среди киргизских войлочных шапок мелькали высокие бухарские колпаки, обвязанные шелком. Калмыки и киргизы согнали сюда скот, привезли рухлядь и ясырей для мены. По большей части пленными были русичи. Но встречались и тунгусы с мунгалами.
За Угрюма и за Пятунку торговался сморщенный, беззубый, но резвый бухарец в белом халате. Торговался он страстно. Щупал жилы, кривым пальцем лез в рот. Много, зло и шепеляво лопотал. При этом морщинистое лицо сминалось, как шелковый лоскут, а из беззубого рта летела слюна. Пленные стояли понуро. И только Пятунка все скалил конские зубы да время от времени беспричинно похохатывал, будто от щекотки. Во взоре удаль, в движениях отвага. Опасливо поглядывая на него, Угрюм уверился: «Дурак!»
Узнав, что он кузнец, бухарец принес молот, сунул ему в руку и заставил сделать несколько простеньких поделок. Угрюм старался как никогда прежде, и бухарец остался доволен его работой.
Сторговавшись, киргизы взяли ткани, посуду. Не взглянув на пленных, отошли в сторону. Молодые подручные бухарца тут же сковали купленных за запястья рук по парам. Угрюма сковали с изрядно надоевшим ему Пятункой. Бухарец сам проверял ковку и все кивал Угрюму: вот, дескать, как надо работать. Учись!
Приценивался старик и к русской девке, что была у калмыков. В ее выплаканных глазах мерцал ужас и слезы беспрестанно текли по щекам. Она истошно заорала, когда бухарец полез под сарафан, и выла, когда тот, слащаво ухмыляясь, ощупывал ее грудь.
На ночь Угрюма с Пятункой бросили в яму. В сумерках к ним же столкнули двух томских казаков, которых Пятунка весело окликал. А те в ответ только срамословили сквозь сжатые зубы, считая его придурочным.
И уже совсем в потемках в ту же яму спустили всхлипывавшую девку. Она была без оков.
— Ты откуда? Чья? — весело придвинулся к ней Пятунка.
— Из Тары, с посада калмыки взяли! — прерывисто вздохнула она. — Тятьку с братьями побили до смерти. Господи, мне бы умереть без мук! — вскрикнула с новыми слезами.
Пятунка, звякнув цепью, сел рядом с ней, стал горячо рассказывать, что знал от бывалых людей про бухарскую чужбину. Все пленные молча и неприязненно слушали его, думая о своем.
— Дурак, прости господи! — со вздохом пробормотал казак в годах и стал моститься на ночлег в оковах.
Пятунка тихо ворковал, утешая девку. Та вскоре перестала всхлипывать, что-то отвечала ему. Угрюм злорадно усмехнулся во тьме ямы, подумав, как завтра эта девка увидит Пятунку: какой он красавец.
Но шепот пленницы и придурочного малого стал горяч. Угрюм прислушался и ретиво заколотилось в груди его сердце.
— Невинная я! — шептала девка. — Ради кого было беречь себя, если ненужной никому уродилась? Как подумаю, что тот старик первым меня возьмет, — кровь стынет. Уж лучше ты бери! Зачем оно мне, девство мое? Бери, его! Бери!
Вкрадчиво залязгала цепь. Послышались жаркое сдерживаемое дыхание, кряхтение и стоны. Сердце Угрюма забилось так, что затрещали ребра. Холодный пот хлынул по телу, щекотно покатился по щекам и груди. Вдруг зазнобило его, да так, что застучали зубы. Взыграла кровь, бунтовала плоть. И корчился он от тех мук, и понимал умом, что за эту ночь Пятунка заплатит так дорого, как он, Угрюмка, платить не хочет.
— Эй вы! — вскрикнул томский служилый. Угрюмка помнил только, что у него выгоревшая борода и нос в лохмотьях отставшей кожи. — Я тоже хочу, я еще молодой!
— Дураки! — презрительно сплюнул во тьме старый казак. — Бухарцы узнают — ятры вырежут.
— Моя! Никому не дам! — сипло прохрипел Пятунка, осаживая разохотившегося служилого. — Убью!
— Дурак! — опять устало прошептал старый казак и с подвывом зевнул.
Едва рассвело, Пятунка стал поглядывать на пленных гордо, с отчаянной удалью. Девка стыдливо молчала. Угрюм не смыкал глаз всю ночь, промучился, как на бараньей шкуре рядом с забитыми телами балаганцев.
Утром их всех хорошо накормили. К пленным присоединили двух кузнецких татар, не обрезанных в магометанство, не крещеных, почитавших шаманов. Всем дали щелока, велели помыться в ручье и выстирать одежду. Бухарский кузнец расковал цепь посередине, так что на запястьях у всех скованных оставались звонкие подвески.
Девка упиралась, не хотела раздеваться при охранниках, при старике-бухарце. Тогда подручные купца по его приказу стали срывать с нее одежду. Девка завизжала. Голый Пятунка взревел, засрамословил. Размахивая обрывком цепи, как кистенем, бросился на охранников, по пути вытянул вдоль спины старика.
Один охранник отлетел в сторону, другой свалился в ручей. Старик выгибался дугой и хватался за поясницу. Но молодые бухарцы выхватили сабли, бросились на разъяренного Пятунку. Старик за их спинами брызгал и давился слюной, размахивал плетью. Пятунка отбивался цепью и весело визжал:
— Врешь, не зарубишь! Дорого за меня заплачено!
Набежали другие бухарцы. Набросили на мечущегося пленника арканы. Свалили с ног, скрутили руки. Старик лупцевал раба плетью по спине. Пятунка только выл и хекал, приговаривая:
— Врешь! Дорого плачено!
Его распяли на колоде. С девки сорвали одежду и загнали в воду. Татары, не поднимая глаз, тихо переговаривались, покорно плескали под мышки и в пах.
Старик привел бухарца в долгополом халате. Тот добродушно осмотрел скалившегося, вращавшего дурными глазами молодца. Велел перевернуть его на спину и шире раздвинуть ноги. Пятунка понял, что собираются с ним делать. Завыл, засрамословил. Бухарец ощупал узлы веревок, вынул короткий нож. Вой Пятунки превратился в вопль и захлебнулся, как визг забитой свиньи. Затих лихой молодец, оскопленный на виду у всех и другим в поучение. Старый казак тряхнул бородой и тоскливо сплюнул на вытоптанную землю.
Угрюм послушно помылся, выстирал драный халат и лохмотья портков. Сапоги с него сняли или утерял, когда волокли. Шапки не было. Он присел на солнце посушить отросшие волосы, но охранник поманил его к обмеревшему в беспамятстве Пятунке. Велел отгонять от него мух.
Нет худа без добра. Полумертвого молодца положили на арбу. Угрюм присел рядом. Караван двинулся. Арба заскрипела деревянными колесами. Голова оскопленного молодца моталась на колдобинах. Угрюма никто не сгонял с арбы, не понуждал идти пешком. Скоро Пятунка открыл мутные, красные глаза. Угрюм смущенно пожал плечами.
Старик увидел, что пленник ожил, лягнул в бок кузнеца, сталкивая его с арбы. Охранники привязали к ней обрывок цепи на его руке. И побрел он на закат, покорно переставляя босые ноги по теплой земле.
Так шли они недели три, а то и больше. Со счету дней Угрюм сбился. Впереди и за спиной была только порыжевшая от солнца степь с белыми солончаками да с белыми же скотскими костями по сторонам. Вода в колодцах была солоноватой.
Пятунка быстро окреп. Его одели в добротную белую рубаху и белые портки, кормили отдельно от пленников. Он не шел пешим, как все они, но без цепей ехал в арбе рядом со стариком-бухарцем. Тот его ласково опекал и утешал, поглаживая по спине, обещал устроить ему безбедную жизнь.
Пятунка молчал с отрешенным лицом, никого из прежних знакомых не узнавал, даже на полюбовную свою девку смотрел равнодушно. Он перестал скалиться. Рот его был закрыт, а толстые губы змеились в мстительной усмешке.
Выжженная солнцем степь стала перемежаться сыпучими песками, от которых в полдень веяло в лица жаром костра. С левой стороны, на самом краю видимой земли, засинела полоска гор. Впереди блеснуло зеркало воды и повеяло влагой, от которой заволновались кони, заревели ослы, верблюды и погоняемый скот. Отара овец с блеяньем ринулась на сырой дух, обогнала всех впереди идущих. Даже всадники, размахивая плетьми, не смогли остановить ее.
Мельтешило марево. Блеск воды становился все резче и ослепительней. И открылось море без края. От него веяло запахом пресной воды. После солончаковых озер и колодцев дух этот трудно было спутать с другим.
Как ни спешили путники к воде, все казалось им, что бескрайнее озеро приближается слишком медленно. Берег его был покрыт густыми зарослями высокого камыша. Скот ломился напрямую, а бухарцы, подъехав на безопасное расстояние, остановились и настороженно оглядывались.
Ничто не предвещало опасности. Скот уже напился и стал выходить на топкий берег. Кое-кто уже спешился. И тут из камыша с визгом выскочили всадники в лохматых шапках и с черными от солнца лицами. Было их всего десятка полтора.
Не успели бухарцы занять оборону, как те, пригибаясь к гривам коней и размахивая дубинами, пронеслись сквозь караван, похватали что успели и скрылись за облаком пыли, ими же поднятой.
Одни кинулись следом. Другие закричали на них. У здешних разбойников было в обычае заманивать за собой охрану и бить ее по частям. Где-то могла прятаться другая ватажка, ждущая, когда вооруженные люди оставят товар.
Охрана каравана сбилась в кучу. Возле арбы старика-бухарца, купившего русских и татарских людей, кто-то закричал, запричитал, как над покойником. Угрюм же глядел только на воду и хотел пить.
Но рабов старого бухарца плетьми согнали к арбе. Раскинув руки и ноги, в ней лежал на спине хозяин. Глаза его были широко открыты, а морщинистое горло перерезано от уха до уха. Капля за каплей кровь тягуче стекала под арбу, и горячий песок жадно впитывал ее.
Рабов стали считать. При этом больно тыкали в грудь. Не нашли одного Пятунку-скопца. Обступившие арбу купцы шумно припоминали удиравших разбойников. Рядом с одной из лошадей, держась за хвост и высоко вскидывая ноги, бежал человек в белой рубахе. Это видели многие. Но они приняли бегущего за ограбленного купца, который пытался остановить вора.
Так как скопца не нашли, решили, что он убил хозяина. Рабов заставили копать яму на возвышенном месте. Девок принудили выть по покойному. Близкие люди слегка обмыли кровь и завернули тело в войлок. Тот самый бухарец, что скопил Пятунку Змеева, велел всем сесть, гортанно почитая молитвы. Убитого в кошме поднесли к яме вперед головой, опустили сидя и забросали песком.
Караван остановился на дневку. Пленным дали воды и еды. Но к камышам никого не подпускали. Утром все двинулись на полдень, к видневшейся цепочке гор. Они приближались, вздымались все выше и выше. И вот встали перед путниками: сухие, скалистые, безлесые. По душным ущельям с иссохшими ручьями караван перевалил хребет и вышел на ископыченные многочисленными тропами объеденные пастбища. Вскоре показался город.
Не помнил Угрюм, сколько брели они по душной равнине. Запомнились только палящее солнце, скрип колес, рев верблюдов, храп лошадей. Через посад города шли чуть ли не полдня. С той и другой стороны пыльной улицы тянулись высокие глинобитные заборы с узкими лазами глухих калиток. Вдоль тех заборов не было ни травинки, ни кусточка, а только сухая, потрескавшаяся глина да песок. Иной раз от калитки к калитке пробегал человек, с ног до головы укутанный тряпьем, и снова улица становилась безлюдной.
Но за спиной идущих то и дело раздавался шум. Угрюм оборачивался и видел, что караван редеет. Какие-то купцы с рабами и товарами толпятся у распахнутых калиток и утекают в них, как вода в трубу.
Наконец и ему велели остановиться. Племянник зарезанного бухарца окликнул охранников. Те тычками подогнали пленников к воротам. И вот все они скопом: со скотом, тарантасами и охранниками — ввалились в тенистый сад.
Рабы, позвякивая оковами, попадали под деревьями. Где-то рядом суетилась, бегала и покрикивала домашняя прислуга. Куда-то уводили коней и верблюдов. Пленников не беспокоили, им дали мутной теплой воды в кувшине и забыли о них. Двор затих. Угрюм задремал и впал в тяжелый сон.
Проснулся он от звуков, напомнивших удары чекана по темени. Был непривычно теплый и душный вечер, каких не бывает в Сибири. Пряный запах фруктовых деревьев кружил голову. Драный халат лип к зловонной испарине, выступившей на грязном теле. «Уп!» — повторился разбудивший его звук. С деревьев на землю сада падали тяжелые яблоки.
Позвякивая цепью, кузнецкие татары весело грызли плоды, щурились и чмокали. Угрюм был прикован к их цепи третьим. Увидев, что он проснулся, татарин катнул ему тяжелое яблоко. В стороне, спина к спине, лежали томские казаки. Тарская девка спала на животе, высунув из-под подола черные потрескавшиеся пятки.
Из-за деревьев вышел босой мужик в белой рубахе, в коротких белых штанах, с бритым бабьим лицом. В одной руке он нес деревянное блюдо с лепешками, в другой — кувшин с водой. Увидев спящую девку, склонился над ней, слащаво поцокал языком. Она открыла глаза, села, смущенно одернула сарафан и спрятала босые ноги под подол.
Бритый с ласковым лопотанием поставил возле нее блюдо и кувшин. С его лица не сходила восхищенная улыбка. Он опять поцокал языком, качая головой, ушел, то и дело оглядываясь.
— Вот и женишок сыскался! — хмыкнул томский служилый, подтягивая к себе за цепь старого казака. Взял с блюда лепешку, пожевал. — С яблоками вкусно! — кивнул Угрюму, приглашая к блюду.
Утром опять пришел бритый в белых штанах. Принес лепешек и вареного мяса. Ласково ворковал, не сводя глаз с девки. Вынул из-за пазухи горсть сушеного винограда. Пугливо оглянулся и высыпал ей на подол.
— Холоп! — хрипло вздыхая, зевнул старый казак, больше всех утомленный переходом.
С месяц все они шли рядом, но Угрюм не знал имен спутников. Он ни с кем без нужды не заговаривал и знать никого не хотел. Казаки тоже не баловали его вниманием, шли сами по себе, как и татары.
Два дня пленников не беспокоили и хорошо кормили. Девка без оков свободно бродила по саду, могла уединиться, но далеко от пленников не отходила. К следующему вечеру бритый мужик опять принес еды и каких-то сладостей. Стал манить ее за собой в глубину сада, плутовато и настороженно улыбался. Она мотала головой, не шла. Мужик схватил ее за руку, потянул за собой, лопоча о чем-то горячо и страстно, прикладывая руку к груди.
И тут, как из-под земли, появился молодой бородатый охранник. Он схватил бритого за рубаху, трижды огрел его плетью по спине. Тот с воплем вырвался и скрылся среди деревьев. Охранник строго оглядел скованных, пригрозил плетью и ушел.
— Следят, чтобы не сбежали! — зевнул старый казак. — А куда бежать-то?
От его слов, сказанных равнодушным, утомленным голосом, Угрюм всей душой ощутил, как безнадежно далек от своих людей и как невозможно возвращение в прежнюю жизнь.
— Голодранец, раб! А туда же, — брезгливо проворчала девка и пристально взглянула на томского казака.
Тот плутовато ухмыльнулся, подернув выгоревшими бровями.
Наутро пленных расковали, досыта накормили, дали много воды, чтобы они помылись, одели в белые штаны и рубахи. Девка мылась отдельно, пришла причесанная и повеселевшая, приодетая в короткое шелковое платье и штаны.
Под присмотром охранников всех их вывели из сада на знойную улицу. Впереди на осле ехал племянник зарезанного старика. Несколько длинноухих мулов везли его товары. За ними брели пленные, для порядка связанные мягкими веревками. С боков и сзади шли охранники с кривыми саблями.
Впереди показались высокие стены города с распахнутыми настежь воротами. Угрюму все происходившее казалось сном: и богатый разноязыкий город, и невольничий базар. Кто-то его осматривал и щупал. Перед глазами появился русобородый голубоглазый мужик в бухарском халате, с головой, обвязанной шелковым лоскутом. Он что-то спросил. Угрюм не услышал. И только когда голубоглазый ткнул его в бок, внимательно взглянул в широкое лицо с конопушками на переносице.
— Ты глухой? — крикнул тот, улыбаясь.
До Угрюма не сразу дошло, что спрашивают по-русски. Мужик срамословно и весело ругнулся, затем хохотнул:
— «Живый в помощи» читаешь?
— Богородичные! — признался Угрюм и удивленно спросил: — Ты с Руси?
— Даже из Сибири! — зачем-то крикнул дородный и стал обтирать платком потное лицо. — Как видишь, здесь тоже жить можно, — положил руку на слегка выпяченный живот. Сунул ладонь за кушак, который его под держивал. Там висел кошель, по виду тяжелый.
Обливаясь потом, мужик кряхтел и почесывал рыжую шерсть на груди в том месте, где у всякого русского висел крест. Узнав своего, Угрюм оторопел и едва не залился слезами от радости. Но, вглядевшись пристальней в его лицо, увидел в нем что-то явно нерусское, чужое, и разочарованно отвел глаза.
— Ты чья? Откуда взяли? — спросил мужик девку на чистом русском языке, да еще с новгородской и сибирской певучестью.
Она охнула, заголосила, запричитала, рассказывая, как была пленена, как погибли отец и братья.
— Вот те раз! — вскрикнул мужик. — Тарская? Землячка! Ну, не реви! — Обтер потное лицо влажным, смятым платком и перевел взгляд на Угрюма. — А ты откуда?
— Енисейский промышленный! — быстро заговорил он, счастливый уже тем, что слышит родную речь на проклятой чужбине. — Брат — казак! А я всякому делу обучен. Кузнечное дело знаю.
— Кузнец мне нужен! — обнадежил мужик. Обернулся к племяннику зарезанного бухарца, который ел его глазами и угодливо улыбался. Затем степенно перешел к казакам, громко заговорил с ними, даже пошутил о чем-то. Потом одышливо пожаловался:
— Всех взять не могу. Денег не хватит. А кузнец мне нужен!
Затрепыхало сердце в груди Угрюма. Он осаживал себя, слышал от бывальцев, что русские выкресты бывают злобней и жестче инородцев, а все же хотел попасть в дом к единокровнику.
Крякнув еще раз, потный мужик выпятил живот и бойко залопотал по-здешнему. Глаза купца округлились и полезли на лоб. По лицу его Угрюм понял, что бывший русский хает товар, то есть его, Угрюма. Бухарец взвыл. Подскочил к нему, содрал с плеч рубаху, стал показывать жилы. Голубоглазый насмешливо и презрительно отвечал ему, похохатывая. Вокруг собирались зеваки, галдели, увлекаясь спором.
Разъяренный купец сорвал рубаху с заголосившей девки. Та прикрыла ладонями грудь. Он яростно отодрал ее руку, показывая всем тугую, упругую, с розовым соском, выпуклость, щупал ее, как яблоко, подкидывал на ладони, шлепал по животу.
Русобородый со спокойной насмешкой отвечал, оборачиваясь за поддержкой к хохочущей толпе. И она сочувственно поддакивала. Палило солнце. Плыла перед глазами заплеванная земля. Визгливо орали ослы. Сколько длилось все это, Угрюм забыл. Помнил только, что доведенный до бешенства купец под хохот толпы сорвал с бритой головы чалму и стал топтать ее. Тот и другой ударили по рукам. Русскоязычный отсчитал звонкие монеты и повел за собой девку с Угрюмом.
— Держи! — подал корзину.
Угрюм торопливо подхватил ее. Хозяин, не оглядываясь на рабов, пошел по торговым рядам, покупая зелень, сыр, другую снедь, и все это бросал в корзину. Наконец они вышли за городские ворота, зашагали по знакомой, как казалось, улочке, но против солнца. Однако то ли время было к вечеру, то ли улица была другой, но точь-в-точь как та, где пленники приятно провалялись два дня и две ночи. А калитка была такой же. Мужик, за ним Угрюм с тяжелой корзиной, следом девка снова вступили в тенистый рай за глинобитной стеной.
Это был сад. Чуть слышно журчала вода в арыке. Веяло благодатной прохладой. На крыльце дома с плоской крышей появилась молодая женщина в долгополой рубахе, приветливо крикнула по-русски:
— А мы уж заждались!..
Другая, постарше, с проседью в черных волосах и с темным пушком на верхней губе, степенно вышла из-за деревьев. Она была просто и удобно одета в обвисающий шелк и держалась с важностью хозяйки.
— Ой! — прикрыла лицо воротом рубахи. — Кого ты привел?
— Уф! Ну и жара! — сел под яблоней хозяин, стал неловко разматывать кушак. — Садись! — приказал Угрюму, покорно стоявшему с тяжелой корзиной на плече. — Купил наших, сибирских пленных, — прокряхтел, задирая руки, помогая женщинам стянуть с себя халат. — Он — кузнец, а ее приставим куда-нибудь.
Хозяин был глуховат. Даже здесь, в тишине сада, он говорил очень громко. И если Угрюм отвечал тихо — переспрашивал. Женщины подхватили корзину, унесли в дом. Затем они увели за собой смущенно озиравшуюся девку. Угрюм остался наедине с полуобнаженным хозяином. Оба несколько мгновений наслаждались тишиной и тенью.
— В эдакую жару да баньку бы. По-нашенски! А? — по-свойски подмигнул гот. — Затопим, но позже. Пока помойся в арыке да подкрепимся!
Чудным показался Угрюму дом, в который он попал милостью Божьей. В чужом краю, за высоким забором, хозяин построил маленькую Русь. Правда, не совсем русскую: чужое, непривычное, но ласковое и удобное, выпирало из всех углов, напоминая, где все это находится.
На другой уже день он знал, что чеканщик Абдула, купивший его, родился в Таре и при крещении получил имя святого Иоанна. По сиротству он был отдан в ученики посадскому кузнецу. Еще в юности его пленили калмыки на соляных озерах возле Иртыша и продали бухарцам. Здесь его купил чеканщик, тоже выкрест, не имевший сыновей. Тарский посадский принял обрезание в магометанство, женился на его дочери, унаследовал дом и дело своего хозяина.
Сытно позавтракав, с самого утра Абдула принялся за работу. Загрохотал металл по металлу. Угрюм изо всех сил старался быть полезным, помогал ему и быстро схватывал тонкости мастерства. К полудню мужчинам накрыли стол под деревом. В ушах звенела медь. И громкий голос хозяина больше не удивлял пленника. Прислуживала им купленная тарская девка.
Одета она была, как другие женщины в доме. Лицо с пугливыми глазами расправилось и посвежело. Она намеренно не смотрела на спутника по несчастьям и делала вид, что знать его не знает. Не пытаясь заговаривать с ней и напоминать о прошлом, Угрюм раз и другой перехватил ее мимолетный злобный взгляд.
Женщины, жены Абдулы, были с ним ласковы и приветливы. За стол с мужчинами они не садились, но вели себя вольно. Много расспрашивали о жизни промышленных людей и о Енисейском остроге. И только девка-пленница все сторонилась и воротила нос. Вскоре Угрюм понял, что в ее лице нажил здесь заклятого врага.
А жизнь в доме Абдулы была еще слаще, чем среди балаганцев. Где-то там, за глиняной стеной, жил своей жизнью враждебный город. А здесь дурманно пахло яблоками. Падали они с деревьев и уже не напоминали Угрюму удары чекана по головам. Работали они с хозяином с утра до вечера. Но до изнурения себя не доводили. Сколько хотелось, столько отдыхали. Садились в тень. Абдула говорил, а Угрюм внимательно слушал, изредка отвечая на его вопросы.
— От своего Бога отречься, другому поклониться — великий грех! — рассуждал хозяин, поглядывая в синее небо над верхушками деревьев. — На Руси за переход в магометанство — смертная казнь. Наверное, это справедливо.
Но здесь какой закон? Ты вот раб, никто, а примешь магометанство, — Абдула опасливо покосился на крест под рубахой Угрюма, — и я должен отпустить тебя как равного всем здешним жителям. А у вас каково? Рабом может быть только единоверец. Других не тронь! Упаси бог. Всякий другой — вольный! Разве это по Писанию? — Абдула начинал злиться и говорил так громко, что переходил на крик.
— Читаю тайно Старый Завет и Новый, — снова зашептал, пристально всматриваясь в глаза Угрюма, и обретенное на чужбине, нерусское, резче выпирало в его лице. — Не было такого повеления от Господа, чтобы только своих холопить. — Абдула поперхнулся, рука его дрогнула и замерла в привычном желании перекреститься. — Цари да бояре придумали. Сами выродились в латинянскую нерусь и всем нерусским потакают.
Угрюм кивал, пожимал плечами, вздыхал и втайне чувствовал, что Абдула завидует ему, нищему сироте и рабу, не снявшему креста. И оправдывался он не столько перед Господом, сколько перед ним, грешным. Всеми силами Угрюм старался не выдать этого своего понимания превосходства. Оттого угождал и льстил без меры, живо поддакивал, рассказывал о своем сиротстве.
С женами Абдулы у него быстро сложились добрые отношения. Все они души не чаяли в купленном кузнеце. И только тарская девка продолжала злобно молчать и обходила его стороной.
Кончилось знойное лето. Настала осень с прохладными вечерами, напоминавшими Сибирь. Опали листья в саду, укрывая землю желтым ковром. За ворота Угрюм выходил редко и неохотно, когда хозяин брал его на базар. Он знать не хотел ни города, ни его крикливых жителей. Как рыба с иссохшими жабрами, добравшаяся до воды, барахтается в ней ни жива ни мертва, так он возвращался за глинобитный забор, где, кроме тарской девки, врагов не имел. Лежал на листьях. Смотрел в небо. Думал с тоской, что ничего лучшего не было в его прошлой жизни. Милостив Бог!
Он старался быть хорошим чеканщиком и трудился не зря. Все чаще хозяин внимательно рассматривал украшенные им поделки и был доволен работой. Прежнее знание кузнечного ремесла теперь казалось Угрюму жалким ученичеством. Но оно спасло ему жизнь, привело в этот дом. И потому он жадно учился всем тонкостям мастерства. А его усердие восхищало хозяина.
Дом в саду был просторным, со многими комнатами. Женщины жили на другой половине. Отдельно от всех, окруженный заботой, доживал свой век немощный старик, тесть нынешнего хозяина. Дочь часто выводила его в сад. По старости и хворям говорить он не мог, но приветливо улыбался Угрюму беззубым ртом, знал о нем со слов домашних и показывал свою приязнь.
Вскоре Угрюм стал догадываться, какую судьбу готовит ему Абдула. Открылся перед рабом его дом не только с достатком, с миром живущих, но и с бедами.
В любви и приязни Иван-Абдула прожил с дочерью прежнего хозяина, нынешней старшей женой, десять лет. Детей у них не появилось. Жена настояла, чтобы он взял другую, молодую, жену. Сама нашла и выбрала мужу в жены пленную русскую девку, с которой по сей день жила в добрых родственных отношениях. Та прожила в доме пять лет, а детей все не было.
Как-то за обычными между мужчинами разговорами о Боге и Его Заветах Абдула признался, что Угрюм ему нравится, что он хотел бы женить его на тарской девке и сделать наследником, чтобы поддержать свою старость, как он содержит бывшего хозяина.
Ударила кровь в лицо пришельца, которого никто в доме не принимал за раба. Звериным чутьем голодранца почуял близость ловчей ямы и прельщение дьявола. Он мог забыть, как ненавидящая или смущавшаяся его девка миловалась у него под боком с придурковатым Пятункой Змеевым. Стерпится — слюбится. Он никогда не был особо набожным, но отказаться от Бога, который один только и помогал сироте в несчастьях, боялся. Верно говорят: тот Богу не маливался, кто с жизнью не прощался, а этого злосчастья в жизни Угрюма хватило бы и на троих.
Заметив сильное смятение в его лице, Абдула тягостно вздохнул:
— Если ты не женишься на ней, придется мне взять третью. Жены требуют!
Со страхом, но отказался Угрюм от счастливой и благополучной жизни в саду. И долго икал потом, содрогаясь всем телом. Последствий опасался не зря: в тот же день почувствовал, как переменились к нему домашние — не унижали, не обижали, но отчужденный холодок появлялся в голосах, когда говорили с холопом.
Он понимал, что нужен только хозяину, и старался в работе лучше прежнего. Сам начинал глохнуть от шума мастерской и знал, что на этот раз ремесло не спасет: злющая тарская девка рано или поздно оговорит его как свидетеля тайного греха и вынудит Абдулу продать помощника.
Раз в неделю хозяин грузил осла изделиями и уходил один то ли на базар, то ли еще куда. Угрюм запирался в мастерской и стучал беспрерывно, пока его не звали есть. Хозяин возвращался. Угрюм настороженно всматривался в его лицо, старался угадать по нему свою судьбу. Однажды промозглой осенью оно очень не понравилось Угрюму. И он стал ластиться, зазывать Абдулу на душевный разговор, хотел вызнать, о чем тот думает.
Вздохнул хозяин и открылся.
— Хорошо живу! Грех жаловаться! Но в эту самую пору нападает на меня тоска горючая, — свесил кручинную голову. — От Бога отрекся — принял грех неотмолимый. Вдруг и смилостивится? — вскинул голубые глаза. В них метался ужас. — Сколько раз Израилево племя забывало Его милости, поклонялось другим богам. Наказывал, но прощал ведь? Он сирот любит! — Абдула всхлипнул. — Иной раз в эту пору как гляну на здешние кладбища, как подумаю, что здесь лежать до Великого Суда, душа холодеет. Хоть бы в этом саду закопали, что ли?
Вдруг он взглянул на помощника пристально и испытующе.
— А если отпущу на волю, к медведям, к комарам и к мошке? Заживешь где-нибудь в курной избе на краю леса с вечной нуждой о хлебе.
Угрюм молчал. Только пугливо водил глазами, не зная, какого ответа ждет хозяин. И вдруг понял, что тот под хмельком. Случалось, он попивал тайком от правоверных соседей.
— И приду я, старый, к тебе, чтобы покаяться за грехи тяжкие да помереть по-русски?
— Приходи! — выдохнул Угрюм. Глянул испуганно: — Что? Девка оговаривает?
Абдула про девку ничего не сказал. Только опять вздохнул глубоко, сипло. Мотнул бородой, выдавая, как показалось Угрюму, что та девка его уже умучила. Сказал другое:
— Знал я самокреста. Там еще, — качнул головой на полночь. — Он от прежней жизни отрекся. Закопал пустой гроб и крест на могиле по себе поставил. Панихиду заказал. А сам крестился под другим именем. Другую жизнь начал. Узнать бы, как она, другая, удалась. Эх! — Насупился, тряхнул головой, трезвея, заговорил строго, деловито: — Встретил я томского служилого человека Луку Васильева. Послом пришел к нашему эмиру. На морду татарин, говорит с корявинкой, из магометанства выкрестился, хрен обрезанный, крест на брюхо нацепил. И вот ведь! Посол! Сын боярский.
Ты хорошо работал, хоть и не отработал затраченного. Если здешняя жизнь тебе не по нраву — могу отпустить с узкоглазым выкрестом в Сибирь.
— Почему не по нраву? — пугливо сглотнул слюну Угрюм. — Лучше, чем у тебя, я и не жил. Век бы так жить. Ты мой отец и благодетель. Век молиться за тебя буду.
— Молись, раб Божий Егорий, — властно перебил его Абдула и сказал, что вертелось на уме у самого Угрюма: — Пока я жив, и ты в достатке. А вдруг… — вскинул печальные и Похмельные глаза. — Плохо тебе будет! — замотал бородой. — Правильно! Иди к своим медведям, сиротства своего ради, и молись за грешного Ивана.
Разговор этот не остался забытым. На другой день утром Абдула ушел налегке и вернулся к полудню. Моросил дождь. На хозяине был промокший халат, а в жилом доме сыро и холодно. Абдула вошел в мастерскую, где горела печь и гремело железо. Остановил работу жестом. Угрюм взглянул на него. Хозяин был трезв, весел и зол. В стенящей тишине еще тонко дозванивала медь. Абдула заговорил даже громче обычного:
— Согласен взять тебя выкрест плоскомордый. Да не знает как. Его люди переписаны. Разве если я дам ему на тебя купчую, будто продал раба? — взглянул на Угрюма пристально.
Тот пожал плечами. Дескать, как знаешь.
— Не верю выкрестам! — чертыхнулся хозяин. — Глазищи у татарина завидущи. Так и зыркает, где чего прихватить. — Он помолчал, прижимаясь к горящему горну, в котором неохотно и дымно тлели вишневые да яблоневые ветки.
— Перепродать тебя в пути он не сможет. А как доставит в Томский да объявит своим рабом, не докажешь, что я тебя дал ему даром. Нет на свете тварей поганей выкрестов! — плюнул в угол со злобным удовольствием. Сел, согрелся, успокоился. Стал подремывать. Встрепенулся. Запахнул халат.
— Думай! — тоскливо взглянул на мокрый сад с черными ветвями деревьев.
— У меня брат в Енисейском остроге. Не оставит, — пролепетал Угрюм заплетающимся языком.
Не было у него на душе радости, что Бог дает надежду на свободу.
Низкорослый кривоногий татарин, поверстанный в сыны боярские по томскому окладу, не понравился Угрюму с первого взгляда. Он бросал слова весело, то и дело беспричинно кивал и ухмылялся, поглядывая по сторонам узкими раскосыми глазами.
С тремя казаками Лука Васильев был послан сюда томским воеводой. Посольские дела закончились. Томские служилые покидали город. Возле ворот богатого дворца казаки укладывали в арбу подарки и харч. Пять почетных охранников из свиты здешнего эмира с важным видом сидели на корточках возле своих привязанных коней.
Абдула приодел Угрюма в старый стеганый халат, в мягкие сапоги, дал ему в дорогу мешок лепешек и яблок. Сказал, что обо всем договорился, а при встрече снова стал спорить с выкрестом, перемежая русские слова татарскими и здешними.
— Какие корма? — напирал на него. — Послов эмир кормит. Где десять, там одиннадцатый прокормится.
Томские казаки равнодушно поглядывали на споривших и на Угрюма, с нетерпением ждали выхода из города. Лука Васильев уклончиво настаивал, чтобы прокорм в пути был оплачен наперед.
— Есть родня в Сибири? — плутовато спросил Угрюма.
— Служилый, Иван Похабов! — ответил тот.
— Знаю Ивашку! — закивал выкрест. — По Енисейскому служит.
Угрюм повеселел. То, что почетный посол знал брата, обнадеживало. Абдула сходил с ним к писарю, выправил купчую на Угрюма. На прощание по-русски поликовался со своим бывшим рабом со щеки на щеку и смахнул слезу рукавом халата.
— Молись за меня! — напомнил, покашливая и хлюпая носом. Сутулясь, повел послушного осла к воротам города.
Снова вздыбились на пути черные неприветливые горы. По бывшим сухим каменным рекам сочилась вода. За горами открылась бескрайняя степь: серая, нежилая. Казаки ехали верхами, посол — в тряской арбе, Угрюм то шел возле арбы, то садился в нее. Всю дорогу он молчал, и казаки его ни о чем не расспрашивали. Пленник ни у кого не вызывал любопытства.
Посол был в суконном кафтане, добротном, но простецком малахае и без сабли. В дороге он часто вспоминал, что на ответные подарки казны не хватило, пришлось родне эмира отдать свою соболью шапку и саблю да пояс с серебряными кистями.
Казаки угрюмо слушали его жалобы и похвальбы, своим видом показывали, что вынуждены терпеть болтуна. Иногда перебрасывались словцом или знаками с охранниками. Скрипела арба, скрипел мокрый, перемешанный со снегом песок под колесами, храпели кони, на ходу хватая выжженные и сникшие прошлогодние травинки.
Показалось великое озеро. Вдали мутно замерцала вода, такая же серая, как степь. По протокам и ямам берега лежал ноздреватый лед. Под ветром качался высокий сухой камыш. Близко к нему посольский обоз подходить не стал. Охранники объезжали его стороной, открытыми местами. Но снова, как прошлый раз, из камышей выскочили всадники, галопом кинулись к посольскому каравану.
Охранники эмира пришпорили лошадей и умчались на полет стрелы. Там они, остановившись, стали кричать и угрожать разбойникам, оправдывались перед казаками, что сопровождают посольство только до калмыцких кочевий. Здешняя земля была спорной. Три казака спешились, выставили пики на три стороны от арбы. Татарин держал коней под уздцы.
Разбойники закружили вокруг арбы. Выкрест по-татарски стал грозить гневом эмира. Охранники, приметив нерешительность грабителей, приблизились, стали ругать их громче.
Среди разбойников Угрюм высмотрел знакомого человека. Пригляделся. Черное от солнца лицо, большой рот с оскаленными конскими зубами. Курносый, будто выдранный палачом, нос. Как ни причудливо был одет всадник, узнал-таки в нем Пятунку Змеева. И тот узнал его. Глаза Пятунки неприязненно блеснули. Толстые губы покривились.
— Ба! Ясырь енисейский кеттынит![195] — оскалил красные звериные десны. О чем-то переговорил с удальцами степной породы. Те положили дубины, луки и сабли поперек седел, подернули поводья и отвели коней в сторону. Там встали, поглядывая на обозных. Пятунка же позвал Угрюма.
— Сиди! — строго приказал татарин. И крикнул по-русски: — Дай нам пройти. Мы — послы томского воеводы, вреда вам не делали!
— Заплати и ступай с Богом! — оскалился Пятунка.
— Что хочешь? — замявшись, спросил посол.
— Этого! — указал на Угрюма разбойник.
Лука Васильев воровато и зло блеснул на пленника черными глазами, объявил:
— Как до стана версты с три останется — отдадим!
Осмелевшие охранники стали приближаться, придерживая коней. Разбойники подняли луки, и они, дав плетей, ускакали на прежнее место, опять начали уговаривать лихих людей.
— Подойди! — приказал Васильев.
Угрюм осторожно шагнул от арбы. Боязливо гадал, зачем понадобился Пятунке. Ругал себя, что не скрыл лица. Разбойник отъехал от товарищей на десяток шагов. Неволей Угрюм подошел к низкорослому, перебиравшему копытами коньку. Пятунка лег животом на гриву, со злым любопытством стал разглядывать идущего.
— Хочешь со мной казаковать? — спросил насмешливо. Вблизи Угрюм увидел, как он переменился. В восторженных прежде глазах стыли колкие льдинки. На придурочного Пятунка теперь никак не походил и глядел на бывшего пленника как наделенный властью, в чьей воле было казнить и миловать. Про девку, как ждал Угрюм, не вспомнил.
— Мне к брату надо! — промямлил жалостливо.
— Твое счастье! — презрительно ухмыльнулся Пятунка и набросил ему на шею волосяную петлю. — Брат — святое!
Охранники и казаки закричали, размахивая саблями и пиками. Но Пятунка ухом не повел в их сторону. Подтянул Угрюма за петлю к самому лицу. Прошипел, скрежеща конскими зубами, меж которых, как мох, зеленела какая-то плесень:
— Да мне так, без ятров, даже лучше! Божись, что никому не скажешь, что видел! Или удавлю!
— Вот те крест! — испуганно пискнул Угрюм и, вытаращив глаза, размашисто перекрестился. Подрагивавшими пальцами вытащил из-под халата крест, приложился губами.
— Живи и помни! Другой раз встречу — убью! — Пятунка скинул петлю, поддал коньку пятками под бока. Тот с места рванул в галоп. Пригибаясь к гриве, разбойник вернулся к своим дружкам. Полтора десятка всадников стали удаляться к зарослям камыша.
На подрагивавших ногах Угрюм приковылял к арбе.
— Что ему? — строго спросил Васильев. Колко мерцали его черные зрачки в узких щелках глазниц.
— Спрашивал дорогу до города, — виновато замялся Угрюм.
— Откуда знаешь разбойника? — злей прежнего впился в него недоверчивым взглядом служилый татарин.
— Тоже ясырем был! — обидчиво вскрикнул Угрюм. — В одной яме сидели. Но он бежал, а меня продали.
Разбойники скрылись так же быстро, как появились. Обоз двинулся своим путем. Посол все оглядывался на бескрайнее озеро и велел завернуть с тропы на ветер вдоль берега. Когда бухарские охранники стали громко возмущаться, указывая правильный путь, Васильев приказал остановиться. Он сам вошел в крайние заросли камыша, присел, будто по нужде, стал высекать искру кремнем, раздувать огниво. Когда над камышом поднялся дымок, с ухмылкой вернулся к обозу.
— Сыро! Не разгорится! — хмуро заметил долгобородый казак.
— Как Бог даст! — мотнул головой Васильев.
Порыв ветра выстелил дым по земле, а пламя с треском взмыло вверх. Довольный собой, посол сел в арбу, весело взглянул на бухарцев.
— Давно бы надо выжечь берег! — пролопотал на их языке. — Мне отмщение и аз воздам!
— На другой год гуще прежнего вырастет! — буркнул долгобородый.
В Томский город посольский обоз прибыл как раз на мучеников Платона и Романа, в первый день подлинной зимы.
— Платон да Роман кажут зиму нам! — кряхтели казаки, пряча лица от ветра. Последние дни пути он был лютым. Лицо Угрюма покрылось черными коростами. Он чуть не околел в дареном халатишке, который продувало насквозь. Для тепла оборачивался жесткой, как доска, промерзшей бычьей шкурой. Тем и спасся.
Благодарственный молебен заказать было не на что. Угрюм простоял в храме на коленях всю литургию. Это все, чем мог отблагодарить Господа за чудесное спасение. За милости на чужбине.
Едва он вышел из притвора, столкнулся с калмыцким ясырем. Тот стоял поперек пути в добром овечьем тулупе, опоясанном кушаком, в новых ичигах. На боку висел тесак. Глядел он на возвращенца нагло и презрительно.
— Айда, воевода ходи! — ткнул в грудь пальцем.
Дать бы в ухо косорылому! Да город чужой, народ злющий, ясырь неизвестно чей. Угрюм попробовал обойти его. Ясырь вцепился в плечо.
— За тобой посылали! Башка зовет!
— Что буянишь? — строго окликнули за спиной.
Похрустывая снегом, к ним шел казак в долгополой епанче поверх жупана. Индевеющая борода его была коротко стрижена. На усах висели сосульки. Глаза смотрели добродушно и приветливо.
— Из плена вышел, — слезно кинулся к нему Угрюм. — Натерпелся от неруси. А тут опять. У своих.
— Ты чей будешь? — остановился казак и окинул оборванца любопытным взглядом.
— Брат у меня в Енисейском! — обиженно вскрикнул Угрюм. — Служилый Иван Похабов.
— Знаю Ивашку, — казак смахнул сосульки с усов. — Поклон ему от Богдашки Терского. — Строго взглянул на ясыря, который с важным видом что-то бормотал и надувал щеки. — Иди! — приказал. — Сам приведу!
В съезжей избе Угрюма ждал письменный голова. Рядом с ним сидел Лука Васильев. Он непринужденно поглядывал по сторонам, не желая замечать обозного.
Голова вперился в оборванца разъяренными глазами. По его взгляду Угрюм понял: чем меньше скажет о себе, тем лучше. Вылетит лишнее слово — другое и третье палач из него выбьет.
— Сказывай, где пленили! — неприязненно рыкнул голова, едва дождавшись, когда вошедший отвесит поклоны на образа.
Богдан, распахнув епанчу, сел на лавку.
— Тебе чего? — строго спросил его письменный.
— Брат товарища, — коротко, безбоязненно ответил казак и кивнул на растерявшегося Угрюма.
Голова молча согласился с присутствием казака и снова перевел взгляд на пришлого, понуждая его к ответу.
— Ходил с ватагой на промыслы по Тасеевой реке. Захворал там и оставлен был у ясачных тунгусов. Напали на них киргизы, меня пленили, продали бухарцам. Там купил магометанин из бывших русских. Отработал я ему за себя, отплакался. Даром отпустил меня с нашим посольством.
Голова презрительно рыкнул и спросил злей прежнего:
— Воровского передовщика откуда знаешь?
Угрюм вспомнил угрозы Пятунки, слезно затараторил:
— В одной яме сидел с ним, с пленным. А откуда он — знать не знаю! Узнал меня разбойник. Это я уговорил его русский обоз не грабить, — заюлил, стараясь всем угодить и никого не обидеть. Тайком радовался, что в пути ни с кем не подружился и держал язык за зубами.
Голова догадывался, что он что-то скрывает, злился, грозил палачом. Богдан с лавки препирался с ним, защищая брата товарища.
— Найдешь кто залог за тебя внесет — ступай в Енисейский! Скоро казаков туда пошлем. Не найдешь — у Васильева дворовым холопом будешь служить.
Угрюм чуть не задохнулся от обиды. Вскрикнул, указывая на сына боярского:
— Он же крест целовал! Абдула ему даром дал купчую на меня.
Голова перевел строгий взгляд на Васильева. Тот заерзал на лавке.
— Не помню! — сказал с напрягшимся лицом. Ухмыльнулся, хмыкнул, задрав нос.
Богдан поднялся, гаркнул письменному голове: г — Отпусти промышленного! Найду деньги косорылому выкресту! Братья Бунаковы Ивану Похабову не откажут.
— Ты язык-то придержи! — сдержанно поправил его голова. — Он сын боярский и почетный посол нашего воеводы — князя Ивана Шеховского.
Угрюма отпустили. Он вышел из съезжей избы с горькой обидой под сердцем: из одного плена бес привел в другой. Мрачным и убогим показался ему Томский город.
Чуть не до сумерек просидели братья у костра. Остывший конь нетерпеливо мотал головой и перебирал копытами. Угрюм говорил искренне, то и дело увлекаясь воспоминаниями: то жаловался на судьбу, то похвалялся виданным и пережитым. Поглядывал на старшего брата, стараясь понять, что чувствует он, слушая его сказы.
Иван молчал с непроницаемым лицом. Узкопосаженные глаза его были мутны. На рассказы брата то покачивал головой, то хмыкал в бороду. Притом никогда не переспрашивал. Разве когда зашел разговор про Богдашку Терского да про Бунаковых, с которыми Иван когда-то сидел в осаде от тунгусов в Маковском острожке.
Грешным помыслом Угрюм иной раз объяснял себе его молчание завистью. Ведь он — младший, а повидал на своем веку больше, чем иные старики городов и острогов.
— Не сказывай никому! Ты мне божился! — напомнил Ивану, закончив рассказ.
— Да уж не скажу! — глубоко, как конь, вздохнул тот. — И ты помалкивай. А то ведь стыдно!
— Что стыдно? — вскрикнул Угрюм с ошарашенным лицом.
— Стыдно! — отводя мутные глаза, тихо повторил Иван. Брови его досадливо хмурились. — Столько претерпел. Ни во славу Божью, ни за Русь Святую, а так, живота ради, по бесовскому научению.
Угрюм метнул на брата злобный и удивленный взгляд, насупился, замкнулся. Иван понял, что обидел младшего. Стал сопеть, кряхтеть, почесываться, не зная, как замять неловкость. Долго думал, потом начал оправдываться:
— Я смолоду чего только не наслушался от старых казаков. И тогда много было видальцев: всяких пленных, беглых, которые жили в дальних странах, среди чужих народов. Мы, молодые, слушали их, разинув рты. Восхищались. А после приметил я, что все те, которые вернулись от чужих, уже как бы и не свои. Слушать-то их слушали, а сторонились, как порченых, будто они какую грязь или заразу принесли из своих скитаний. — Иван снова шумно и глубоко вздохнул: — Забыть бы тебе все, про что говорил. Молиться да служить. Глядишь, выправил бы судьбу! — жалостливо взглянул на брата прояснившимися глазами.
— Будто ты не средь чужих народов служишь? — огрызнулся Угрюм и скривил губы в шелковистой бороде. — Лет уж десять, больше.
— Это другое! — болезненно сморщился Иван. — Мы пришли по воле Божьей, чтобы дать закон здешним народам. Иные нас сами зазывают.
— Слыхал! — опять скривил губы Угрюм. — Жена князца Немеса приехала в Томский шертовать царю за мужа и за весь род. Тамошние воеводы как увидели на ней соболью шубу, так стали сдирать с плеч силой. А князец недавно только воевать перестал. Утешился от обиды или помер.
Иван бессильно опустил голову, долго глядел на тлевшие угли костра. Наконец вскинул глаза на брата:
— Тебе бы не погнушаться, со скитником Тимофеем поговорить или с попом Кузьмой… Потомки Израилевы, которых Бог вел на Обетованную землю, не меньше нашего грешили. За то их Господь казнил сотнями и тысячами. Но были и верные Его Заветам. Они перешли Иордан и расселились.
— Да я с год жил с теми самыми монахами, что и ты, — нетерпеливо перебил брата Угрюм. — Слушал, что и ты слушал: про скрижали, Моисея, про Иисуса Навина, Самсона и Соломона.
— Поехали, что ли! — поднялся Иван и стал забрасывать шипящие угли костра жестким весенним снегом. Пробормотал, вкладывая клацающие удила в конские зубы: — Иная лошадь двадцать лет книги возит, а читать все не выучится.
Глава 4
На святого мученика Федула и по Сибири теплом задуло. В середине апреля стаял снег вокруг острога и бесстыдно обнажились грязи. Костьми мертвечины из земли торчали вмерзшие остовы брошенных судов, разбитые барки и струги. В тенистых местах и буераках стыдливо вжимались в отопревающую землю черные заструги сугробов. Из окон маковских изб вывалились льдины.
Пока не вскрылись реки и не оттаяли болота, острожные люди ходили на лыжах по притокам Оби и Енисея, спешили собрать ясак с кетских родов, караулили промысловые ватаги, пробиравшиеся мимо острогов без государевой пошлины.
Все радости изнурительной острожной жизни виделись Угрюму только в том, что тихим вечером, на закате дня, уставшие от работ люди сидели под стеной и глядели на болота с чахлыми деревцами, на зеленые гривы с кряжистыми кедрами и лиственницами.
Баба пойдет с ведрами на ручей — развлечение. Все отдыхающие казаки поглядят на нее. Седой приказчик проводит женщину тоскливым взглядом, незлобиво ругнется:
— Оптыть… Твоя-то Похабиха, — кивнет Ивану, — под коромыслом-то… Задом-то вертеть горазда. Туды-сюды, туды-сюды. Гусыня! И ни капли не прольет. Мать ее…
И казалось Угрюму, что он слышал эти слова уже не раз и не два. Приглушенно и устало хохотнули братья Сорокины. Усмехнулся Иван. Завистливо закрутил головой Васька Колесников, зыркнул по сторонам хищными куньими глазами. Глядь, широким и степенным мужицким шагом идет с березовыми ведрами его Капа. Тот же приказчик, позевывая, посмеялся:
— Кобыла! И как ты с ей, Васька, управляешься-то?
— А так! — строптиво вскинулся стрелец. Громко окликнул жену: — Подь сюда, холера долговязая!
Капа простодушно и улыбчиво подошла к отдыхавшим мужчинам.
— Пой, стерва! — приказал Васька, для острастки вращая бешеными глазами.
Капа послушно поклонилась, поставив ведра на землю, сцепила пальцы на животе, подняла к небу большие невинные глаза, заревела коровой, да так жалостливо, так покорно, что всем стало стыдно. И Ваське тоже.
— Ну, ладно! — смутившись, грубовато приласкал бабу. — Это я на спор! Показать людям — какая ты у меня хорошая жена.
Угрюм придвинулся к брату, усмехнулся, шепнул скороговоркой:
— А ведь в той Руси, которую Абдула устроил на чужбине, народ-то подобрей!
И таким тошным показалось ему все вокруг, что захотелось завыть. Иван снисходительно взглянул на младшего. Вздохнул и пробормотал:
— Зато своя!
Ныла кручинная тоска под сердцем старшего Похабова, терпел обиды от меньшого брата, как велел Господь. Выговаривать же по Его заповеди опасался. А в Угрюма к весне будто бес вселился: во всем перечил, старался опередить старшего. Пойдут в тайгу — он убежит вперед. Станут лес валить — машет топором без устали и без надобности, пока не повалит деревьев больше, чем старший. Сошел лед. Поплыли они по Кети на малом стружке. Плечо к плечу сидели в лодке за веслами. Хрипел, сопел, надрывался Угрюм, налегая на свое весло так, что стружок крутился на месте. Иван скрипнул зубами и резко осадил его:
— Господь сказал: «Терпи от брата своего, сколько можешь, но выговори ему». И если скажет: «Прости, погрешил я перед тобой!», то прости снова.
Поднял на Угрюма разъяренные глаза. Не мог не понимать младший брат, что распаляет себя по научению бесовскому. Но он молчал. Лицо, будто из камня высечено, чуть дрогнуло: опустил глаза, скривил губы в поганенькой усмешке, отвернулся, отмолчался и на этот раз.
— Греби один! — жестким голосом приказал Иван и пересел на корму.
Брат спокойно и размеренно стал налегать на весла. Течение было слабым.
Лодка ровно пошла вдоль берега.
— Ладно, Васька Колесник изводит себя черной завистью, — хрипло укорил молчавшего брата Иван. — При его-то уме, при его медовом языке ни ростом, ни силой не вышел, ни грамоты не выучил. Ты-то что хочешь мне доказать?
Откидываясь на спину, Угрюм яростней налег на весла. Холодно щурился, глядел на берег, не издавал ни звука. Неслась лодка против течения, будто в ней слаженно гребли в четыре руки. Разглядывал Иван знакомую переносицу брата, упрямо сжатые губы, все еще редкую, коротенькую, ровно подрезанную бороду. Люди говорили, что они похожи. Но Ивану греховно чудилось, будто от того жалкого отрока-сироты, каким он когда-то отыскал Угрюма в Серпухове, не осталось ничего. Чужак!
На Первый Спас, к осени, тобольский торговый человек Семейка Шелковников привел по Кети барки с рожью для вольной продажи. В Маковском острожке он был частым гостем. На этот раз с его караваном прибыл из Москвы служилый в красной шапке сына боярского, в стрелецком малиновом кафтане. Он был коренаст и осанист, спиной прям, как доска, будто вытягивался, чтобы казаться выше других. Щеки брил, как литвин. И были они у сына боярского синими от густой, жесткой щетины. Усы же топорщились под носом, как кабаний загривок. Круглые светлые глаза с белыми как снег белками оглядывали острожных жителей с насмешливым любопытством.
И по одежде, и по осанке сын боярский выглядел стрельцом настоящим, родовым, а не здешним, верстанным из казачьих детей, гулящих людей и всякого сибирского сброда.
— Петр Иванов Бекетов! — назвался приказному.
Зная о забубенном сибирском безбабье, он вез с Руси такую же крепенькую, как сам, жену с простецким лицом. Наслушавшись в пути всяких сибирских вольностей, она глядела на служилых строго и хмуро. Рыжие брови ее были насуплены.
— Устраивай на ночлег разрядного сотника! — объявился приказному стрелец.
Старик весело ахнул, засуетился, посмеиваясь, стал потирать руки.
— А как же Максимка-то Перфильев? Его стрельцы сотником кликнули вместо утопшего Поздея Фирсова!
— Его кликнули, меня послали! — просто ответил Бекетов и добродушно взглянул на рослого Ивана.
Семейка Шелковников, дородный увалень, узнал Угрюма и от радости взревел, как медведь, стал шумно обнимать дружка, закричал работным людям, что встретил товарища, с которым промышлял в юности. Угрюм в его объятиях покряхтывал и терпеливо растягивал губы в принужденной улыбке.
Старчески сутуля опавшие плечи, приказный толокся среди прибывших, срывающимся голосом указывал, в какие амбары носить мешки с рожью купцов, куда — хлебный и другие оклады стрельца. Братья Сорокины и Васька Колесников стояли в стороне с таким видом, будто они здесь и есть подлинные хозяева. Ждали, когда их попросят о помощи.
Бекетов ни просить, ни приказывать не стал. Скинул кафтан, оставшись в холщовой рубахе, вышитой на московский манер. Поставил стоймя пятипудовый мешок, примериваясь взвалить его на плечи, кивнул Ивану:
— Пособи!
Иван бросил мешок на кряжистую спину усатого стрельца. Подхватил другой из его струга. Насупленные брови Бекетихи слегка распрямились, а глаза затеплились.
Для всех прибывших в остроге и на гостином дворе топили бани. Женщины пекли свежий хлеб. Не приветить сына боярского, присланного в пику енисейскому воеводе Хрипунову, приказный не мог и с радостью отдал ему с женой свою холостяцкую острожную избу.
Не успели гости напариться и отдохнуть, как на взмыленном коне прискакал рыжий енисейский казак Агапа Скурихин. Он привязал лошадь, усталым и бесшабашным взглядом окинул людей, набившихся в избу приказного, весело взглянул на нового сотника и позвал Ивана для разговора. Следом за казаком вышел приказной.
— Кто такой? — спросил Агапа, кивая за спину, едва они прикрыли дверь.
Дед Матвейка, посмеиваясь и потирая руки, назвал прибывшего. Скурихин ухмыльнулся, задумался. В Енисейском остроге правил службу сотника выбранный стрельцами и одобренный воеводой Максим Перфильев. Неунывающий казак удивленно мотнул головой и беспечально, как о пустячном, объявил:
— Бунт в Енисейском! Томские наш гарнизон взбаламутили. Казаки со стрельцами круги заводят, а воевода с сотником Перфильевым заперлись в остроге.
— Потакал Хрипунов торговым людям! — злорадно выругал воеводу приказный, перебив Агапку.
— Помощи просят! — закончил тот и перевел на Ивана насмешливые глаза с въевшейся в них паутинкой усталости.
— Пойду! — решительно уставился на приказного Похабов. — Не оставлю кума в беде! Он сына моего крестил, свадьбу нам играл.
— Одного только могу отпустить! — скаредно проворчал приказный. — Все при деле. Сам видел. Да и людишки у меня самые ненадежные. Сорокины узнают — самовольно сбегут к атаману Ваське. — С желчной усмешкой в бороде он распахнул низкую дверь в избу, поманил к себе Бекетова. Тот вышел босой, в одной рубахе, румяный и влажный после бани. — Принимай свое войско, сотник. Ой, в недоброе время принесла тебя нелегкая!
— Я не выбирал ни судьбы, ни времени! — отговорился тот, выслушав торопливый пересказ Агапки. Спросил: — Когда надо ехать?
— Сейчас, если дед Матвейка коней даст, — указал Скурихин на приказного. — А не даст, — плутовато блеснул глазами, — может и пожалеть потом!
— Отчего не дать, если кони есть! — подавив вздох, обернулся к оконцу приказный. Зевнул, крестя рот. Покачивая седой головой, смешливо пробормотал: — Ну и Васька! Ну и удалец!
Стрелец быстро оделся. Опоясался кушаком. Накинул ремень сабли через плечо. Иван собирался дольше. Меченка кричала ему под руку и вслед что-то злое. Он на нее не глядел. Пристально посмотрел на Угрюма, но не позвал за собой. Даже говорить не стал куда едет. А тот, помня усилившийся между ними холодок, не спросил. Иван затянул подпругу, вскочил в седло, поддал коню пятками под брюхо, стал догонять Бекетова со Скурихиным.
В пути он узнал от Агапы, что стрельцов при Енисейском остроге только пятеро, остальные все на дальних службах. Терентий Савин ходил на Тасееву реку с атаманом Васькой Алексеевым и теперь за него глотку дерет. А Вихорка Савин в остроге, верный воеводе. Там же стрельцы Дунайка с Дружинкой да с сотником Максимом Перфильевым. Остальные все переметнулись к бунтарям, провели воровской казачий круг, лают воеводу, будто он в сговоре с торговыми людьми и те рожь продают втридорога. А главные смутьяны — братья Алексеевы, атаман и брат его Гришка.
— Этим-то чего надо от воеводы? — удивился Иван, подводя конька стремя в стремя с казаком.
— Хрипунов посылал их вверх по Енисею на киргизов, а они ушли по Тасеевой реке, ограбили ясачных тунгусов, пленили сорок тунгусских, киргизских и братских мужиков, которых мы звали идти в Енисейский острог бесстрашно. Среди них наши верные ясачники с Подкаменной Тунгуски. Воевода отобрал у них ясырей, заперся с верными людьми. Васькины казаки да наши, человек сорок, провели круг и осадили острог.
— Да! — крякнул Иван. — С Васькой да с Гришкой лучше не воевать. Дай им под начало сотню вольных казаков — Томский город разнесут. А в Енисейском острожины промеж башен всего-то в полторы сажени.
— Боишься Ваську? — весело подначил енисейский казак.
— Опасаюсь! — холодно ответил Иван. — Бояться надо Господа! — перекрестился, сидя в седле. Вызнав, как осажден Енисейский, посоветовал спутникам: — На подъезде с заречной стороны пускайте коней галопом. Где угловая изба, на седла встаньте, через заплот прыгайте. А я поеду к атаману, попробую уговорить.
Скурихин метнул на спутника колючий взгляд, но не стал возражать. Молчавший при их разговоре Бекетов вдруг заявил начальственным голосом:
— Я тоже поеду к атаману. У него мои стрельцы. Что же я буду бегать от своих? Поговорить надо. Познакомиться.
— Ой, смотри, сотник! — тряхнул головой Иван. — Стрельцы-то при Ваське неробкие. Побьют, не поглядят, что разрядный сотник и сын боярский!
— То я не битый! — беспечально расправил густые усы Бекетов. — Чай не из новоприборных: и отец, и дед стрельцами служили.
Казаки атамана Василия осадили острог по всем правилам боевого искусства. На подходах к нему сидели вооруженные люди. Посадские избы были заняты служилыми. Возле пристани у костров лежали и сидели примкнувшие к ним промышленные. Неподалеку от проездной башни стоял караул. Торговые люди, чей товар не был внесен в острог, боясь грабежа, уплыли ниже устья Кеми к Касу и там затаборились, ожидая, чем закончится казачий бунт.
Иван направил было коня к оврагу Мельничной речки. Агапа резко потянул на себя узду. Его лошадка встала и задрала морду, оскалив желтые зубы.
— К скитницам не пойду! — заявил казак. — Засмеют потом, что под подолом у черноризниц прятались.
— Ну, тогда лезь через стену где знаешь! — ругнулся Иван и обернулся к стрельцу: — Может, и ты с ним, в острог?
Но Бекетов твердо отказался явиться на службу по-воровски, тайком. Все трое повернули коней к посаду. Из крайней избы они были замечены. Двое казаков встали на пути, высматривая верховых против заходящего солнца. Едва всадники приблизились к угловой избе, Агапий оторвался от Ивана и Петра, пришпорил коня, подскакал к острожному тыну, где не было рва. Вскочил ногами на седло, распрямился и перемахнул на другую сторону.
Казаки закричали. Кто-то пустил стрелу в стену, боясь поранить казенного коня. Иван с Петром продолжали приближаться к посадской избе с охраной.
— Атаман где? — крикнул Похабов, не спешиваясь.
Какой-то голодранец из томского отряда с кистенем в руке схватил за уздечку его коня. Он ткнул его в лоб подметкой ичига. Голодранец сел в пыль. Лязгнул кистень.
— Атаман где? — грозно повторил Похабов, нависая над томским казаком.
Тот узнал его. Испугался. Махнул рукой, указывая к реке, на другой конец посада. Двое стремя в стремя зарысили туда. Спешились возле избы казака Филиппа Михалева. С крыльца к ним сошли трое незнакомых казаков с луками, при саблях. Иван молча бросил им на руки поводья. За спиной в красной шапке вровень с его ухом кряжистый, крепкий и прямой, как колода, надежно шел Бекетов. Они толкнули низкую дверь, склонясь, протиснулись в избу. Выпрямились, отыскивая глазами красный угол.
— A-а! Поротый царской милостью! — подал голос Григорий.
Глаза вошедших присмотрелись к сумраку избы. Гришка лежал на лавке. Василий в шапке сидел за столом. По правую руку от него хищно щерился на Ивана Михейка Стадухин. Не оборачиваясь, боком к нему смущенно ерзали на лавке Терентий Савин и Василий Черемнинов. Оба воротили морды, будто не были знакомы. Усталая, болезненно иссохшая жена Филиппа приветливо кивнула вошедшим. Сам хозяин то поднимал голову с красными глазами, то ронял ее на столешницу. За столом было еще трое томских казаков. Все они пили горячее вино и были изрядно пьяны. Атаман неверной рукой налил в две чарки, кивнул гостям.
— Закусываем скоромным! А пьем в пост только во славу Божью!
Похабов и Бекетов скинули шапки. Степенно перекрестились на образа.
Молча выпили. Сели. В избу ворвался казак с кистенем. Закричал, указывая на пришлых пальцем:
— Этих Ганка Скурихин привел. Сам бросил коня и перескочил через заплот.
Григорий, водя мутными окровавленными глазами, поднял голову. Сел облокотясь.
Повел бородой по столешнице, сметая хлебные крошки.
— Ну, и кого ты нам привел? — спросил, глядя на Ивана.
— Разрядный сотник Петр Иванов Бекетов. Прислан царским указом вместо утопшего Фирсова, — просипел тот перехваченным голосом. Водка была крепка, не сравнить с кабацкой. — Вам с атаманом да нам со стрельцами он теперь голова!
— Голова, говоришь! — вперился в сотника неприязненным взглядом Васька-атаман. — Ну, тогда слушай и разумей, где правда!
Григорий поперхнулся чаркой. Отставил ее в сторону. Поднял мутные глаза на Бекетова.
— Стрельцы, казаки, сыны боярские, дворяне. Тьфу! Холопье. Дворня боярская. Там были казаки! — ткнул пальцем за плечо, на закат. — Ивашка знает! А здесь. Тьфу!
— Слушай! — продолжил атаман, не обращая внимания на пьяного брата. — Слезно призвал нас здешний воевода защитить острог от тунгусов и качинских татар. Слышал-де он, ясачный князец Тасейка с качинцами вошел в сговор. Пришли мы. Послал он нас на Качу. Едва дошли до стрелки[196] на устье Тунгуски. Напали на нас, да не качинские, а здешние тунгусы. И шли мы за ними с боями левым берегом. А берег крут. Бечевника нет. Ни дня без боя до самой Бири и Чуны.
— А там… — сипло прохрипел Григорий. — Тасейку браты убили!
— А там целое войско. Мы и в засеке не могли отбиться. Против каждого казака десяток диких. Луки у них наши брони пробивают, дальше пищалей стреляют. А река там в два полета стрелы. И вынудили они нас выплыть на середину. Четверых убили, половину переранили. Сплыли мы обратно плотами и стругами. Все, что кровью добыли, воевода отобрал. Не туда, дескать, ходили. Не тех воевали! Это по правде?
Филипп поднял голову, глубоко вздохнул. Взглянул на Ивана, пролепетал заплетающимся языком:
— Два года жалованье не плачено. Купцы весной по полтине за пуд рядились. А Хрипун не велит их грабить.
— Сказывали, кумишься ты с воеводой? — усмехнулся Григорий. — Выручать его приехал?
Иван безбоязненно кивнул.
— А казачий круг тебе уже не указ? — ударил кулаком по столу.
— Сам говоришь, — усмехнулся Иван, глядя на Григория. — Не казаки это. Холопье. Какой круг? Сегодня за вас орут, думают под вашим началом торговых людей пограбить да на вас свои вины свалить.
— Говори, да не заговаривайся! — вскочил Михейка Стадухин, опираясь на стол.
— Сядь! — рыкнул на него Григорий. — Не ори на Ивашку, щенок! Нас с ним на одном козле пороли. Иные, с бородами длинней этой, — кивнул на Филиппа, — после первого удара обсирались, орали, как свиньи под ножом. А он, безбородый еще, кряхтел, зубами плаху грыз. Не вашим, верстанным, чета. — Обернулся к Ивану, икнул, ухмыльнулся: — А тебе — вот Бог, — кивнул на темные лики, — вот воля! — мотнул лысеющим лбом на низкую дверь. — Завтра будем брать острог на саблю. Подвернешься под пулю — судьба! Под дубину — не суди. Против зачинщика Бог! Не мы начали. Не по правде с нами воевода поступил. Ясырей забрал по жадности.
Бекетов сидел, важно нахохлившись: ни на кого не глядел, только терпеливо слушал перебранку и водил пустой чаркой по столешнице.
— Не ходил бы ты против нас! — мирно предложил ему атаман.
Стрелец вскинул на него светлые глаза. Заговорил громко, положив на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами.
— Может быть, и ваша правда, может быть, воеводы! — повел густыми усами. — Чтобы судить, — перекрестился, мельком взглянув на образа, — надо и его выслушать. Москва далеко, — поправился. — Пока дождемся государевой правды, попустит Бог, всех перебьют. А что оклады не плачены, так это я могу сказать: придет сентябрь[197] — выдаст их воевода. Со мной казна прислана из Москвы.
Василий Черемнинов заерзал на лавке. Он сколько ни пил — ума не терял. Пробормотал что-то сердитое, непонятное. Бросил на сотника опасливый взгляд.
— Пойдешь кума защищать? — в упор спросил Ивана атаман. Сказать Бекетову ему было нечего.
— Пойду! — кивнул Иван, не поднимая глаз. — Иначе никак нельзя!
— Понимаю! — атаман ударил кулаком по столу так, что пустые чарки подскочили. — Иди! А сотник у нас в чулане заночует. Возьмем острог — тогда пусть говорит с воеводой.
Иван встал, взглянул на Бекетова. Тот кивнул, соглашаясь с атаманом. Он же вышел из избы в сумерках летнего вечера. Кони были расседланы. Их напоили и выпустили за поскотину. Седла висели на коновязи. Похабов зашагал вдоль острожной стены к воротам. Его окликнули из-под яра. Там возле костра сидели знакомые промышленные. Двое из них, братья Ермолины, много досаждали ему в старые времена, когда достраивали здешний острог.
— Куда идешь? — взревел Васька Бугор.
— К воеводе! — крикнул он в ответ.
Василий Ермолин был ростом и ширью под стать Ивану. Брат его, Илейка, чуть пониже, но что вширь, что ввысь одинаков. Здоровущий, как медведь, он поднялся на ноги и стал карабкаться на яр. Скромный и тихий, пока трезв, на этот раз Илейка был изрядно пьян, а значит, нахален и драчлив.
Иван мог в несколько прыжков оказаться под воротами. Уже узнали его с башни и гремели закладным брусом. Но стыдно было ему бежать. А на пути, шумно сопя, уже расправлял широченные плечи Илейка Ермолин.
— А десятина заплачена? — ехидно взревел он и загородил путь.
Иван молча звезданул промышленного под глаз, вложив в удар всю накопившуюся злобу дня. Тот раз и другой переступил на заплетавшихся ногах, споткнулся, сел, замотал головой на короткой кабаньей шее. От костра с ревом несся его брат Васька. Неверными руками и ногами елозил по яру, то и дело съезжая с тропы. Иван обошел Илейку, перекрестился на Спаса, протиснулся в приоткрытые ворота. Воротник торопливо заложил их брусом. И тут же они загремели. С другой стороны кулаками и пятками заколотили в них Ермолины.
— В щепки разнесем! — орали матерно. — Похабу на кол посадим!
Иван вошел в острог, откланялся на темнеющий лик Богородицы с внутренней стороны проездной башни, обернулся и увидел настороженно улыбавшегося ему Максима Перфильева.
— Завтра на саблю будут брать! — скрипнул зубами.
— Не устоять! — обреченно вздохнул тот.
Максим был в добротном кафтане тонкого сукна, собольей шапке, красных сапогах. Лицом чист и свеж. Борода по щекам, как у юнца, негустая, ровная, заботливо подстрижена. И по виду не ошибешься, что он в остроге второй человек после воеводы.
Товарищи зашли в съезжую избу с тремя столами. В красном углу окованный железом воеводский сундук был заперт висячим замком. Холостой Максим своего угла в остроге не имел. Между дальних служб он здесь дневал и ночевал, вел все письменные дела подьячего и сотниковские заодно с ними.
— Нового сотника из Москвы прислали! Со мной приехал, да томские его в острог не пустили!
Максим, потупив глаза, рассеянно выслушал товарища. Постучал кресалом, раздул трут, зажег лучину.
— Прислали так прислали! — пробормотал с печальным вздохом. — Вовремя! Так даже и лучше.
— И что решили? Не отдадите ясырей? — раздраженно спросил Иван. — Их же добыча?
— Посылали в одну сторону — ушли в другую, — криво усмехнулся Максим. — Ладно! Всякое бывает. Мы ведь тех самых князцов зазывали к себе в острог с миром идти. Нынче Алтын-хан посольство в Москву отправил. Снова будет шертовать царю. Киргизы от него отложились. Если сейчас из-за Васьки мунгальские кыштымы поднимутся против нас, царь со всех головы снимет. С меня и с воеводы — в первую очередь. Вот и думай, что делать, — вскинул на товарища усталые глаза.
Умно говорил Максим, рассудительно. Да только не ответил, почему Васька с Гришкой должны отказываться от своей добычи. Свесил Иван голову, ни спорить было не о чем, ни спрашивать: и на той стороне оказаться — не по совести, и воевать против своих — грех.
— На настоящей войне, однако, легче! — пробормотал, вспоминая свою дурную юность.
На заре под стеной забил барабан. Все, кто остался под началом воеводы, кинулись на сторожевые башни. С развернутыми знаменами казаки собирались в круг. Посередине, упершись руками в бока, фертом стоял атаман Василий Алексеев. Из-за красного кушака торчала атаманская булава.
— Сейчас пойдут! — пугливо поежился Вихорка Савин, перебирая руками ствол ручной пищали.
— Отопри аманатскую[198] избу! — приказал Ивану Максим.
— А как ясыри нас бить станут? — опасливо спросил он.
Подьячий только безнадежно махнул рукой.
— Хуже будет, если их спалят, запертых!
Вместе они спустились с башни. Максим побежал в воеводские покои. Иван пошел в аманатскую, распахнул дверь. Изба была набита пленными. Люди с безразличными лицами сидели вдоль стен и на полу. В сумраке жилья с двумя оконцами, в которые человеку не пролезть, глаза Ивана различили ясыря, сидевшего возле двери. Одет он был в простую кожаную рубаху с плеча промышленных людей. Мужик был непомерно широкоплечим, как Илейка Ермолин, с большой непокрытой головой. Его черные волосы были стянуты на затылке в толстую косу. Уже по тому, как он сидел, как взглянул на казака, видно было, что ясырь не простой, а княжеского достоинства.
Поглядел на него Иван в другой раз и с удивлением подумал, что где-то видел это лицо. Вгляделся пристальней, не вспомнил.
— Не выходите! — приказал по-тунгусски.
Придерживая саблю, побежал к воеводской избе. Максим на крыльце за руку выводил упиравшуюся дочь воеводы Настену. Она беззвучно заливалась слезами. Воевода со страдальческим лицом уговаривал ее идти за Перфильевым.
— Уж меня-то начнут искать, весь острог перевернут! — пояснил Ивану. — Наше дело воинское. Лишь бы дите не пострадало.
О сдаче острога он говорил как о деле решенном. Глаза его были растерянны и красны. Добавил, в другой раз взглянув на удивленное лицо Похабова:
— Пусть силой заберут своих ясырей. Нам оправдание перед царем. Постреляйте поверх голов — и ладно. Лишь бы без крови все обошлось.
Полдесятка казаков с башен нестройно пальнули из пищалей. Где-то в угловой избе приглушенно охнула пушка. Едко и тухло запахло жженым порохом. Иван не успел стронуться с места. Почти в тот же миг на низких, полуторасаженных острожинах показались головы томских казаков.
Вихорка Савин бежал к угловой избе и волочил пищаль за ствол. Его злобно смяли нападавшие. Воевода прытко заскочил в свои покои. Поп Кузьма в рясе и скуфье, с рассыпавшимися по плечам волосами широким шагом вышел к проездной башне. Встал, расставив ноги, поднял литой медный крест с распятьем.
— Изыйди и одумайся! — взревел зычным голосом.
Его никто не слышал. Васькины казаки уже открывали ворота и рвались к попу с таким видом, будто тот вышел встречать их с честью. Ивану ничего не оставалось, как встать рядом.
Сабли он не вынимал. Томичи горохом посыпались со стены. Густая толпа ринулась в открывшиеся ворота. На бегу казаки размахивали плетьми и дубинами. Иван вырвал с коновязи жердь, отполированную уздечками и штанами служилых. Только обернулся к попу, глядь, перед ним Михейка Стадухин: глаза горят, в руках дубина.
— Что мир решил, то Бог положил! — яростно вскрикнул стрелец, напирая на попа. — Ты что, батюшка, против Бога?
Кузьма, опешив, отступил было на шаг от рьяного удальца. Затем рассерженно рыкнул, насупился. Не найдясь, как ответить стрельцу, звезданул Михейку по лбу тяжелым медным крестом.
— Да за ту неделю, что бунтуете и пьянствуете, храм Божий могли бы построить! — взревел, глядя на поверженного.
Стадухин взвыл, матерно выругался. Кинуться на попа не посмел, но с перекошенным лицом бросился на Похабова. В три удара его дубина и жердь с коновязи переломились. Иван сбил с ног тщедушного на вид стрельца, обернулся к воротам, увидел Илейку Ермолина, отметил про себя, что тот успел опохмелиться.
Илейка приближался степенно и грозно, не спуская с Похабова горевших глаз, сжимал и разжимал огромные кулаки. Ничего другого при нем не было. Не успел Иван обернуться к нему всем телом, как брызнули искры из глаз. Потом еще. Свет померк. Кого-то он молотил во тьме, пока не был сбит с ног. Вскочил, пробился к крыльцу воеводской избы. Здесь кто-то вырвал стойку, на Ивана стал падать навес. Он заскочил в сени. Дубьем и саблями его загнали в чулан и заперли там.
Рыкая, как загнанный зверь, он пометался вдоль стен, ощупывая какие-то сундуки и бочки. Обессилевши, сел, привалился к стене спиной. «Лучше кончиться не могло, — подумал, успокаиваясь. — Хорошо, что так!» Досадовал на себя, что разозлился на осаждавших и вошел в раж. Ощутил кровь во рту. Из носа текло, усы и борода были липкими.
Вопли, крики, шум в воеводской избе стихли, перенеслись куда-то вдаль. Иван поднялся, нащупал дверь, толкнул плечом. Заперта. Раз и другой ударил в нее. Не сдвинулась. Послышались шаркающие шаги. Постанывая и охая, воевода отбросил жердины, которыми подперли чулан. Он был без шапки, с растрепанной бородой, смешавшейся с рассыпавшимися по плечам волосами. Одной рукой держался за поясницу.
Взглянул на Ивана с изумлением, слезливо хохотнул.
— Ну и морда у тебя! — ткнул скрюченным пальцем в бляху шебалташа, указывая на личины. — Была такой, стала такой!
Иван опустил глаза на опояску. Сперва он не увидел ничего, кроме окровавленной груди и бороды. И вдруг вспомнил лицо ясыря, того, что сидел возле двери в аманатской избе. Тут же вспомнились слова кетского шамана про встречу.
— Бл…ны дети! — снова охнул воевода, болезненно выгибаясь. — Меня, родового сибиряка, сына боярского, положили на казенный сундук и пороли плетьми. Лаяли. Бороду драли. А тебя-то как разукрасили? — опять хохотнул со стоном. — Их счастье, что ни замков, ни казны царской не тронули. Мою бочку вина выкатили. Упьются с двенадцати-то ведер.
Воевода по-стариковски неловко наклонился, подобрал с полу шапку. Опять охнул, схватившись за поясницу.
— Сходил бы, кум, да посмотрел, как там Настена. Отсиделась ли? Постой! — спохватился. — Напугаешь дите разбитой мордой. Пойдем вместе.
Они вышли из воеводской избы с развороченным крыльцом и обрушенной кровлей. Ворота острога были распахнуты. Амбары с казенной рожью стояли запертыми. В аманатской избе никого не было.
— Всех увели! — тоскливо повел растрепанной бородой воевода. — Завтра же в Томский побегут, чтобы оправдаться первыми и меня обвинить.
Максим с Настеной отсиделись в погребе глухой башни. Их не искали. Перфильев смущенно поглядывал на распухшее лицо товарища, на воеводу. Отроковица в слезах бросилась к отцу. Хрипунов перестал постанывать, распрямился. Поглаживая дочь по голове, приговаривал:
— Все, милая! Надо было поспорить немного со служилыми. Пострадали, христа ради! Особенно кум Иван, — глянул на Похабова и опять не удержался от смешка.
— У меня другой бочонок с вином есть! — пообещал. Поглядел строго на домашних холопов из сибирских народов. Чернявые, узкоглазые, в русских рубахах, они выползали из укрытий и понуро приближались к побитому хозяину. — Что, веселились, глядя, как меня за бороду дерут?
— Нам у тебя хорошо! — коряво промямлил стриженый мужик.
Воевода безнадежно вздохнул, раздраженно махнул рукой и приказал:
— Приберите в доме! Сейчас мы, битые, гулять будем!
Ворота в острог хотели уже притворить, но в них протиснулся бравый стрелец с пышными усами, с круглыми и ясными, как фарфор, белками глаз.
— Новый сотник Бекетов! — указал на него Иван.
— Заходи, сотник! — ворчливо пробурчал воевода. — В добрый час прибыл. Нет бы неделей раньше.
Осаждавшие шумно гуляли за стенами. Острожных защитников они не беспокоили. Стыдились. Те, что защищали воеводу, собрались в его избе. Стрелец Дунайка Васильев со вспухшей щекой глядел на всех с обидчивой укоризной. Максим с Дружинкой, небитые, были смурны и печальны. У Ивана рот не закрывался. Пить разбитыми губами крепкое вино было неловко и больно. Закусывать он мог только хлебным мякишем. У рыжего Скурихина лицо было чистым, но он хоркал разбитым носом в конопушках, то и дело со смехом прикладывался рукой к своему надкушенному уху, болезненно посмеивался, дескать, в постный день кто-то из нападавших оскоромился.
Пережитое при осаде нисколько не веселило Ивана Похабова. Разговоры за столом казались ему глупыми, как и сама распря с казаками. Он молчал и хмурился. Стояло перед глазами широкоскулое, щекастое лицо ясыря, удивительно похожее на голову с бляхи. Навязчиво вспоминался старый кетский шаман. Грех слушать колдуна и верить ему. Однако все, что произошло с тех пор как тобольские грабители старых могил всучили ему эту злополучную безделушку до нынешней встречи с князцом, все прежние сказы и пророчества складывались в явь, которой трудно не верить. «Не случайно произошла эта встреча! — нашептывал голос то ли из-за правого, то ли из-за левого плеча. — Видать, завязана на судьбе чьим-то промыслом».
Не сильно ошибся воевода: братья Алексеевы со своим отрядом гуляли два дня, на третий стали собираться в Томский город Кетским волоком. Ваське-атаману нужны были казенные подводы. Без Ивана Похабова ему пришлось бы брать их на станках силой. Алексеевы уже думали, как оправдаться перед старшими сибирскими воеводами, и новых грехов к прежним прибавлять не желали. Просить коней у побитого воеводы они постеснялись и прислали в острог своего человека за Иваном.
Похабов отнекиваться не стал. Зла на томских казаков он не держал. Сердиться на сброд, что был под началом братьев Алексеевых, считал делом низким. Он нацепил саблю, нахлобучил шапку, откланялся воеводе, товарищам, пришел к избе Филиппа. Путь ему никто не заступал. На распухшее лицо с узкими щелками глаз поглядывали с виной и состраданием.
— Говорил, не иди против нас! — поднялся навстречу атаман. — Хорошо тебя украсили. Ладно жив!
— Не такое переживали! — прошепелявил Иван, оберегая губы. Григорий был совсем плох: лежал на лавке с серым, как глина, лицом. Он разлепил опухшие веки, открыл глаза, мутно взглянул на казака и болезненно зажмурился.
— Покажи, каких коней запрягать, — приказал атаман. — До Маковского дойдем, там возьмем струги или барку.
Томских окладов казаки с угрюмыми лицами готовились к переходу. Работали они неохотно. На них тоскливо, с укоризной поглядывали казаки и стрельцы енисейских окладов, ввязавшиеся в атаманскую распрю с воеводой.
— Что, Филя? — злорадно прошепелявил Иван, встретившись со старым сургутским казаком. — Не зовут тебя в Томский? Под нашим воеводой оставляют?
Михалев затравленно взглянул на Похабова из-под нависших бровей, неуверенно пробормотал:
— Они нас оправдают перед главными воеводами!
Черемнинов со Стадухиным только кряхтели да воротили носы, стараясь не уронить достоинства. Михейка был не намного краше Ивана: под глазами синева, щека вздута, на лбу коросты. Оба стрельца понимали: не сегодня, так завтра им все равно придется идти на поклон к воеводе Хрипунову. Ждали, когда их позовет новый сотник. А тот намеренно мучил бунтовщиков томительным ожиданием.
— Не я тебе морду разбил! — обозлившись на укоры, вскрикнул Михейка. — Ты с попом меня бил.
Впервые после осады острога Иван хохотнул в бороду, вспомнив, как поп Кузьма огрел стрельца по лбу крестом, и лицо Михейки, ошалевшее от неожиданного удара.
— Бог простит! — пробормотал. — Свои люди, сочтемся!
Пошел обоз. Скрипели телеги, груженные оружием, съестным и боевым припасом. Ремнями были стянуты одеяла, котлы, добытое на Тасее добро. Кроме Гришки-есаула, все шли пешими. Те, что послабей, держались за оглобли и возки, переставляли ноги по взбитой болотине.
В середине обоза унылой толпой брели пленные мужики и девки. Тунгусы с длинными волосами, распущенными по плечам и собранными в конские хвосты, шли легко. Отатаренные аринцы, привыкшие к верховой езде, тяжело переступали с ноги на ногу. Хуже всех доставалось косатому братскому мужику. Прямой, кряжистый, тяжелый, как колода, он едва переставлял короткие толстые ноги. Братский молодец, бывший при нем, тоже едва волокся. Иван то и дело бросал на них скрытные взгляды и все мучился какой-то сухотой под сердцем, пока не сказал атаману:
— Продай мне того вон ясыря!
— Это братский князец. Мне томские воеводы награду за него дадут! — последние слова Василий процедил не совсем уверенно. Иван уловил эту заминку.
— Сказывал подьячий Максимка, что Алтын-хан послов в Москву отправил. Опять шертует нашему царю через близких родственников. Браты мунгалам — родня. А как под горячую руку да для своего оправдания перед послами хана бросят тебя воеводы на козла? — зловеще усмехнулся. — Спроси у Гришки, как оно?
— Не пойдет он один, — покладистей заговорил атаман. — Косатый, что рядом, то ли родственник, то ли слуга. Пятнадцать рублев за двоих себе в убыток, по старой дружбе, — взглянул на Ивана. Хохотнул: — Ну и морда у тебя. Сам на братского мужика похож. Кто так постарался?
— Промышленный! Илейка Ермолин! — отмахнулся Иван, к — Хорошо, что не мои!
— Твои добавили по-писаному!
Васька снова хохотнул, показывая, что торг закончен и больше он не уступит ни копейки, ни денежки.
Клейменых соболей, оставленных Пантелеем Пендой, было рублей, на пятнадцать, а то и меньше. Мездра желтела, цена убывала. Вот-вот должна была выйти кабала, которую дал на себя Угрюм. Дальше пойдет рост. По уму да по христианской добродетели нельзя было выкупать иноплеменников, когда брат в нужде. А душа ныла, томилась по научению бесовскому. Старый кетский колдунишка стоял перед глазами, будто подстрекал к новому греху. Вспоминался старик-баюн[199], шедший с обозом в Сибирь из-за Уральских гор. И тот, с крестом на шее, много чего наговорил про золотую пряжку из древнего кургана.
Несколько раз отступался Иван от желания выкупить пленных. Читал про себя молитвы, чтобы не лезла в голову всякая нелепица. Но то и дело невольно оборачивался ко князцу.
— Посади ты его на телегу! — потребовал от атамана. — Видишь, еле идет. Не привычен к пешей ходьбе.
Меньше чем за десять рублей продать ясырей атаман Василий не соглашался. Григорий как услышал про предложенные пять, так объявил, что сам ляжет под кнут и примет муки христа ради. Так, в раздумьях и спорах, отряд с ясырями добрался до Маковского острога.
Навстречу прибывшим вышел седобородый приказчик, осмотрел казенные подводы. Про бунт не спрашивал. Велел Угрюму проводить казаков до гостиного двора. Атамана с есаулом позвал ночевать в острог.
Был ясный вечер теплой, сухой осени. Угрюм сидел под частоколом, отмахивал веткой от лица навязчивую мошку. Исполнить наказ приказного он не спешил, равнодушно поглядывая на уставших людей и ясырей. Вдруг вскочил, выпучив глаза на братского князца. Иван отметил про себя чудную перемену в брате.
Из острожка выбежала Меченка, увидела лицо мужа в коростах, всплеснула руками, тихо и обидчиво заголосила. Угрюм окинул брата рассеянным взором и направился к каравану. Осторожно, со стороны приблизился к братским ясырям, тайком перебросился с ними словом. Повел служилых и пленных на гостиный двор.
Вернулся он взъерошенным, его глаза блестели и бегали.
— Я их знаю! — кинулся к Ивану. — Это балаганцы. И Семейка Шелковников их знает. Они нам с Пендой много добра сделали. И мне помогли. Нельзя их бросать.
— Заплати десять рублей! — хмыкнул Иван, отводя глаза. — И отпусти с миром на все четыре стороны.
— Нет у меня денег! — обидчиво вскрикнул Угрюм.
— А долги есть! — напомнил брат и снова отметил про себя: если младшему чего-то надо, то он не такой уж и угрюмый, каким казался с младенчества.
— Ты обещал мою кабалу выкупить! — не отставал он от Ивана, не замечая его разбитого лица. — Заплати за них. Я на промыслы уйду. Отдам долг вместе с ростом.
Для себя Иван уже все решил, а вот родного брата понять не мог, оттого и медлил.
— Сказано, попросит брат взаймы, дай ему без роста, если есть что дать. И еще сказано, — терпеливо и наставительно поучал младшего, — можешь простить — прости долги его. Да только рухлядь не моя, товарища. А он каждый день может вернуться и потребовать ее, — усмехнулся и почувствовал, как лопнула короста на губе. Засолонила кровь на языке. Он прижал ранку тыльной стороной ладони. Но брат и на этот раз не спросил, что с его лицом.
— Раз не пришел к Спасу, то не придет до другого лета! — вскрикнул слезливо и настойчиво.
Иван отвернулся, показывая, что разговор окончен. Дождался, когда Угрюм распряжет и отпустит коней. Сам занес под навес упряжь. Только после этого вошел в свой тесный дом с разбросанной по полу одеждой и посудой. Стол не был накрыт. Меченка бегала возле печки и показывала, что торопится.
Иван вытащил из чулана кожаный мешок со снизкой оставшихся соболей. Осмотрел их. «Может, и лучше отдать, пока моль не посекла?» — подумал.
Пощипал подпушек на шкурках, пошел в избу приказчика. Там устраивался на ночлег атаман с братом Григорием. Перед ними да перед приказным Иван выложил на стол полтора десятка лучших клейменых соболей.
— Пиши купчую! — сказал сыну боярскому. — Ты у нас и воевода, и подьячий, и таможенный голова! — польстил старому приказчику.
— Ясыри-то тебе на кой? — удивился тот. — Сапог добрых не имеешь, — выразительно взглянул на стоптанные ичиги Похабова.
— Перепродам! — Иван заговорщически подмигнул атаману. — К зиме промышленные люди вдвое заплатят.
— Ну смотри! — с недоумением разглядывал соболей приказчик и пожимал мосластыми плечами. — Жена то и дело на бедность плачется. Сарафана доброго не имеет к Успенью. Где ясырей держать-то будешь? В остроге — не позволю! Чем кормить?
Была составлена купчая. Приказчик к ней руку приложил, хоть ничего в том торге не понял. Иван и сам не понимал, что делал. Сердился на брата, мстительно помалкивал о выкупе, но слезную просьбу его исполнял не христа ради и Его Заповедей. Чуял на себе чью-то волю. Злую, добрую ли, не знал, но противиться ей не мог.
Угрюм, освободившись от дел, убежал к гостиному двору. Вернулся он только ночью. В темноте скрипнул дверью. Якунька спал. Иван с женой уже подремывал на полатях. Услышав брата, мостящегося на лавке, Иван принужденно зевнул.
— Завтра заберешь моих ясырей! Выкупил я их по твоей просьбе! — Он помолчал и раздраженно добавил: — Веди куда хочешь, на корма вам окладов не отпущено.
Угрюм поднялся ни свет ни заря и убежал на гостиный двор. Вернулся он к полудню, сказал, что Алексеевы со своими людьми и ясырями уплыли по Кети на казенной барке. Меченка постаралась, в доме было прибрано, обед приготовлен ко времени, на Якуньке была чистая рубаха. Ни к отцу, ни к дядьке ребенок не шел. Хозяин сидел под образами, сын на лавке — по правую руку от него, брат — по левую. Жена, с раскрасневшимся лицом, была приветлива и весела: она еще не знала, что муж потратил долговые меха. Угрюм рассеянно жевал хлеб и все вскидывал глаза на Ивана, пока тот не спросил:
— Чего еще?
— Проводи на Енисей. Там выберемся куда надо. А то ведь привяжутся казаки или стрельцы.
Старший Похабов помолчал для пущей важности, претерпевая очередную обиду: ни слова благодарности не было сказано братом.
— Торговых не видать на реке? — спросил строго.
— Нет никого!
— Тогда смоли старый стружок о четырех веслах, что возле гостиного брошен.
Угрюм опять бойко убежал, как не бегал со дня прихода в Маковский. На другое утро Иван отпросился у приказного добыть гусей и уток к Успенью и окончанию поста. С топором за кушаком, с луком, колчаном стрел да караваем хлеба в мешке, он пришел к гостиному двору.
Балаганцы и ночевавший там Якунька Сорокин еще спали. Угрюм был на ногах. Наловив рыбы, он пек ее на рожнах. Смоленый стружок стоял на покатах у самой воды.
— Хозяин! — одобрил работу Иван. — Буди ясырей. Пойдем протоками в обход Кеми, — Помолчав, усмехнулся в бороду: — Вот ведь! Скажи промышленным людям, будто Ивашка Похабов воровским тёсом ходит, — не поверят!
Из избы вышли разбуженные ясыри, хмурые и неприветливые. От печеной рыбы отказались. Попили воды из родника, сели в лодку. Якунька Сорокин даже не выглянул, перевернулся на другой бок и снова засопел выдранными ноздрями.
Угрюм услужливо толкнул лодку от берега, сел за весла. Стружок под четырьмя дородными мужчинами просел под самые борта. Переплыли Кеть, вошли в одну из проток, по которой выбирались заплутавшие стрельцы. Прошли под нависшим над водой кустарником. Иван долго молчал, сидя на корме, указывал путь.
Пот выступил на лице брата. Он распахнул кожаную рубаху, но упорно продолжал грести, налегая на весла всем телом. Наконец Иван пожалел его и встал на шест, проталкивая струг против слабого течения протоки.
Сырость и августовская прель облепили плывущих. Прохлада прибила тучи мошки и слабеющего комара. В иных местах веяло холодом от не стаявшего за лето, черного, покрытого желтым листом снега.
Знакомыми местами Иван вел лодку, пока не поднялось солнце. Он не спешил, стрелял уток и гусей, густо плававших по протокам. И вдруг понял, что сбился с пути: не было ни засечек, ни знакомых примет. Не показывая виду, он повел стружок по солнцу, на восход. Балаганцы и Угрюм озабоченности передовщика не понимали и во всем полагались на него.
В этих местах, на равнине между Обью и Енисеем, случалось, блудили и родившиеся здесь остяки. Среди промышленных людей бытовало много сказов про проделки болотной нечисти. Иван перекрестился и плюнул за корму. Слава богу, светило солнце, и закружить их было трудно.
Издавна приметил он сам и от других слышал, что, блуждая по тайге, в лешачьих местах разные ватажки, случается, идут одним путем. Вот и теперь, высматривая среди зарослей, то узнавал приметы мест, где приходилось уже бывать, то сбивался. Вдруг почуял запах дыма и вывел стружок к шаманскому островку с медвежьей шкурой на жердине.
Давненько он вывозил отсюда стрельцов. А вот ведь будто ничего не переменилось: та же шкура, тот же балаган и костер. Тот же шаман сидит на корточках возле дымокура. Черное бугристое лицо, та же грива белых как снег волос лежала по плечам.
— Вечный, что ли? — чертыхнулся Иван.
Лодка ткнулась в берег. Угрюм резво и весело выскочил на сушу. Неохотно поднялись и сошли на берег хмурые ясыри, молчавшие всю дорогу. Поднялся с кормы Иван.
— Ну что, пришел? — по-русски прошамкал шаман. Можно было понять, что он ждал Ивана..
Помнилось, старик прежде был беззубым. Теперь бросился в глаза желтый пенек непомерно длинного зуба, торчавшего из запавших губ.
— Пришел! — по-кетски ответил Похабов, не понимая, узнал ли шаман его или все русские были для него на одно лицо. — Помнишь меня? — щелкнул пряжкой шебалташа, снял опояску, бросил старику на колени, как и в прошлый раз.
Шаман принял ее, не отбросил. Долго разглядывал золотые бляхи. Соединял и разъединял их. Опять заложил между ладоней, закрыл глаза.
Угрюм, поглядывая на старика, развел костер у воды и стал щипать набитую птицу. Князец и его родственник молча присели у дымокура. Шаман открыл глаза. Взглянул на князца пристально. Поднял руки. В одной ладони тускло блестела бляха с мертвой головой косатого степняка, в другой — остроголового бородача.
В узких глазах Бояркана дрогнули зрачки. Косатый молодец впился черными глазами в золотые поделки. Шаман самодовольно осклабился, показав пенек длинного желтого зуба во всю его длину.
— Вот и встретились! — прошамкал. — Камлать надо. Хочу спросить духов, как первородный бог сплел ваши судьбы в этой жизни. — Помолчав, деловито предупредил: — Бесплатно камлать не буду!
Иван слегка растерялся от соблазна узнать судьбу, размашисто перекрестился, опасаясь осквернения колдунами и ворожеями, вызывающими души мертвых. Но разбирало житейское любопытство: отчего привязалась к нему эта пряжка? Не берег — она не терялась, ее не крали, золото, а не покупали, не брали в заклад. Теперь объявился покойник, отлитый на ней. Лукавое оправдание вертелось в его голове: для братов нет греха узнать, что скажет шаман, а если он что-то подслушает, то не по своей вине.
— Камлай для них! — опасливо приказал шаману, указав глазами на братских мужиков, и снова перекрестился. Небрежно окликнул Угрюма, возившегося у костра. — Принеси шаману гусей! И дай свой засапожник. Наживешь еще!
Угрюм положил рядом с дымокуром трех забитых птиц. Неохотно, но послушно вытащил нож из-за стянутой бечевой голяшки бахила. Хотел вернуться к костру, но шаман знаком приказал ему сесть напротив балаганцев. Он опустился на землю. Старик тяжко поднялся, приволакивая ноги, очертил костью круг, из кожаного мешка достал бубен.
Все молчали и ждали. Шаман долго постукивал в бубен пальцами. Что-то бормотал под нос. Потом достал палку, обтянутую рыбьей кожей. Стал бить в бубен громче и выкрикивать, призывать духов, служивших ему. Наполнившись силой, замотал головой. Под седыми волосами обнажилась тощая шея с крапом шрамов от чирьев. Распаляя себя, старик запрыгал с неожиданным для него проворством, забегал внутри круга, вскрикивая то сипло, то пронзительно, как раненая птица. Слюна летела из беззубого рта, и отступало темное облако мошки, которая к полудню в полную силу встала на крыло. Вокруг шамана светлым шаром высвечивался воздух без гнуса.
Иван заметил, что Бояркан пристально и холодно глядит не на шамана, а на него. Во взгляде князца не было ни ненависти, ни неприязни, ни страха. Так перед боем смотрят на противника опытные поединщики.
Шаман бесновался недолго: старость брала свое. Скоро он свалился на землю, полежал без признаков жизни, шумно втянул в себя воздух, отдышался, сел, прижимая бубен к животу.
— Вы братья по смерти! — объявил, не поднимая красных глаз. — Вы приходите в Средний мир, чтобы убить один другого. Убивший гибнет — такой закон! — Шаман вдруг вскинул на Ивана усталые, налитые кровью глаза, ухмыльнулся, выставив голые десны с торчавшим зубом. — А если проживете эту жизнь, не убив друг друга, — будет конец вечной вражде!
Он бормотал то по-русски, то по-тунгусски. Бояркан сидел неподвижной горой, поджав под себя толстые ноги. Черная коса толщиной в запястье свисала по крутой, широкой спине. В одно ухо слова шамана ему переводил косатый братский молодец, которого Угрюм называл Адаем. В другое гыркал сам Угрюм. Бояркан водил зрачками от одного к другому. Его большая голова на короткой шее оставалась неподвижной.
Иван и сам понял все напророченное кетским шаманом. Открестился бы, отплевался через левое плечо, если бы его речи не совпадали со словами русского старика-песенника, сказанными много лет назад, под Тобольском.
Он сердито замотал головой, часто замигал, будто проснулся, и неуверенно перекрестился. Молитва от осквернения вылетела из головы.
Бояркан тяжело поднялся на коротких ногах. С важным видом что-то гыркнул себе под нос.
— Хороший шаман! — блеснул глазами Угрюм, сметливо и весело кивнул брату, переводя сказанное князцом. Тихо рассмеялся: — Выходит, мы все вроде как родственники! — Мысль эта ему понравилась, и он, сияя глазами, с улыбкой выговорил ее по-братски.
Князец фыркнул с презрительной насмешкой на полных губах. Взгляд Угрюма дрогнул и погас, восторженная улыбка покривилась и сошла с лица. Он опустил голову и поднял ее с тем обычным видом, с которым жил в Маковском остроге.
На Ивана Бояркан взглянул по-другому. Похабов понял, что тот всю дорогу ждал коварства и подвоха. Недоверие прошло. Князец подошел к чадившему костру, толстыми, короткими пальцами снял с рожна шипевшего жиром гуся, брезгливо разорвал парившую тушку, причмокивая и обжигаясь, стал есть.
Все пятеро вместе с шаманом сели полукругом. Угрюм поделил спекшееся мясо. Подкрепившись, Иван вытер руки мхом, бороду рукавом.
— Спроси шамана, как быстрей выбраться к Енисею! — приказал Угрюму.
Шаман указал протоку, идущую едва ли не в обратную сторону от прежнего пути.
К ночи похолодало. Осенняя стужа прибила назойливую мошку. В сумерках Иван высмотрел сухое, возвышенное место и приказал готовить ночлег по-промышленному. Князец сошел со струга и снова сел, как важный гость. Иван, глядя на него, тоже лег на мох и бросил топор брату. Угрюм и Адай стали готовить дрова для костра.
Еще не был раздут огонь, а в сыром воздухе запахло дымом. Иван с недоумением завертел головой, шикнул на брата, чтобы оба с Адаем затихли. Насторожился и Бояркан. Все четверо прислушались. Легкими порывами веющий ветерок доносил звуки людских голосов, похожие на звон серебряного колокольчика. Ни слов, ни смысла сказанного невозможно было понять.
— Русичи?! — взглянул на брата Иван.
Угрюм опасливо заводил глазами, напрягся.
— Чего испугался? — жестко усмехнулся Иван. — Пока мы государев закон не нарушаем. — Мотнул головой, скрипнул зубами, зло добавил: — Пока.
Стан промышленной ватажки оказался в полуверсте от того места, где хотели заночевать Похабовы с балаганцами. Замигали первые звезды на небе, когда их струг бесшумно появился чуть ли не возле самого костра.
Люди сорвались с мест, испуганно уставились на казачью шапку Ивана. Бежать им было некуда.
— Год кончается, а государева десятина не плачена! — гоготнул казак, догадавшись, что за ватажка остановилась на ночлег. — Не бойсь! Храни вас Господь! Не грабители! — пророкотал мирно, выходя на сушу. — Заплутали, увидели огонек. Примите на ночлег, христа ради!
Промышленных было пятеро. Оглядев прибывших, они успокоились. Настороженно подвинулись, освобождая лучшее место, куда не тянуло дым.
— Если христа ради, то присаживайтесь! — сипло проговорил старший с крапом глубоких оспинок на лице. — Взглянул на балаганцев, тяжко высадившихся из лодки: — Чьи будете?
— А разные! — мирно ответил Иван, присаживаясь. — Я Маковского острога служилый. Это гулящий, из промышленных! — кивнул на брата. — Балаганские мужики, — указал на Бояркана с Адаем. — Возвращаются к родне.
Последние слова Ивана вызвали любопытство ватажных. Они оживились, стали веселей поглядывать на нежданных гостей.
— И откуда они? — сипло покряхтывая от дыма, спросил рябой передовщик.
Заговорил Угрюм. Иван уже не удивился, как брат умел преображаться. Он степенно сел.
— За порогами Верхней Тунгуски бывали? — спросил, с важным видом оглядывая промышленных, при этом покровительственно улыбался. — Я-то ее всю прошел до Ламы. Недель пять ходу от устья, за порогами начинаются балаганские степи. Там и кочуют народы Бояркана, — указал глазами на князца. — А он их хубун. По-братски — главный родственник или князь. Я среди его народов жил, много чего знаю.
— В степи какой соболь? — разочарованно пожал плечами передовщик.
— Там, где я сказал, он прежде кочевал, — как старший и опытный, ласково глядя на промышленных, качнул головой Угрюм. — Нынче эхириты главного бурятского князца Аманкула вытеснили его на другой берег реки Мурэн, по тамошнему значит — Тунгуски или Ангары. Теперь его народ пасет скот прямо за первым порогом, в лесах, на яланных полянах. Я и в тех местах промышлял с Пантелеем Пендой. Хорош там соболь.
Промышленные уставились на Угрюма с разинутыми ртами.
— Так ты с Пендой промышлял? — ахнул передовщик.
— Не только на Ангаре, — упиваясь вниманием, объявил Угрюм. — Я с ним всю Нижнюю Тунгуску прошел. Егорий Похабов, по прозвищу Угрюм.
— Слыхали! — почтительно зарокотали промышленные, ближе подвигаясь к огню.
Кто-то навесил котел на костер. На расстеленную чистую, хорошо выделанную кожу насыпали сухарей и вяленой рыбы. Про служилого с его казачьей шапкой забыли. Иван вынес из лодки мешок, положил на кожу каравай свежего хлеба, выпеченного в печи, не на костре. Взгляды промышленных на миг были отвлечены. Молодые сглотнули слюну. Но разговор о промыслах тут же продолжился.
Иван и балаганцы, подкрепившись хлебом, легли спать. А у костра про-> должался приглушенный разговор о промыслах, о дальних, богатых зверем ' местах. Под невнятный приглушенный лепет этой беседы Иван уснул. Проснулся он в ночи, взглянул на звезды, до осеннего рассвета оставалось часа с три. Промышленные и Угрюм все еще говорили.
Поднялись все поздно. По лицам брата и ватажных Иван понял, что ночью они обо всем сговорились. Среди недавно незнакомых еще людей Угрюм держался по-свойски, с важностью первого человека.
— Идем промышлять на Гею, — небрежно объявил старшему брату. — Там нынче кочует родня Бояркана. А мне дают полную ужину.
Ну и слава богу! — согласился Иван. Поплескал водой в лицо, вытер Щ рукавом мокрую бороду. — Значит, балаганцев к родне проведете? — спросил; передовщика.
— Доведем! — весело пообещал тот, шмыгая носом. На изрытом оспинками лице не было ни следа бессонной ночи. — И в Енисейском десятину дадим! Угрюмка сказывает, там рожь этим летом по пятнадцать копеек пуд.
— В Маковском по пятнадцать! — к неудовольствию брата, поправил его Иван. — В Енисейском — не знаю. Может быть, и по двадцать.
— Все равно нам выгода. В Дубчевской слободе пашенные рядились по полтине.
Иван мотнул головой, удивленно почесал затылок. Вопреки царским указам торговали и служилые, и пашенные, наживались кто как мог, грабили друг друга, как дикие. Сибирь она и есть Сибирь!
Булькал котел на огне, распространяя запах вареного мяса. Тот же передовщик с усмешкой на плутоватом лице спросил:
— Оскоромишься заодно с нами, грешными?
— Что уж там! — крестясь, согласился Иван. — Сам грешен.
После завтрака и молитв ватажные стали собираться в путь. Улучив миг, Иван отвел брата в сторону, передал ему свернутую трубкой купчую крепость на балаганцев.
— Что мог, то сделал! — сказал, понизив голос и глядя в сторону. — Дальше твой грех и твои заслуги. Помогай тебе Господь! Я больше ничем помочь не могу.
Помолчав, вскинул на брата тоскливые глаза, с удалью тряхнул головой: т — Не пропадешь! Умеешь с людьми ладить, ко всем подстроишься. У меня так не получается. Ну и ладно, кровь одна, а судьбы разные!.. С Богом!
И все! Ни обнять не смог младшего, ни напутствовать, как принято от века среди родственников. Кивнул Бояркану, бросил в стружок лук с колчаном стрел, столкнул лодку на воду. Хотел уже перескочить в нее. Не сводя с казака глаз, князец шагнул в его сторону. Иван глянул в его широкое безбородое лицо и заметил, что глаза у Бояркана карие.
Тот подошел ближе, что-то сказал по-своему. Иван взглянул на Угрюма. Брат, переминаясь и кривя губы, перевел:
— Хубун сказал, что будет тебе братом по жизни, а не по смерти. Буряты говорят: «Кто другу помог — на всю жизнь ему опора. Станем мы теперь побратимами!»
Иван приветливо кивнул князцу, показывая, что понял его слова, бросил последний взгляд на брата и прыгнул в лодку.
Разные чувства одолевали душу бывшего гулящего, теперь промышленного человека. Как ни трудно было признаваться себе, но служилый брат тяготил его. Ивашка, с его славой, нужен был Угрюму, он им гордился, пока они жили врозь. А потому скрытой радости при расставании было больше, чем подлинной печали.
Душа Угрюма кручинилась. Ныли под сердцем две раны: грубый ответ Бояркана на его шутку о родстве: «кто брат, а кто и дархан!» И еще последний взгляд брата, точно такой, как последний взгляд Пантелея Пенды.
Вот и скрылся в зарослях его струг. А Угрюм все стоял и смотрел вслед. Промышленные, с пониманием, не беспокоили своего нового связчика. Балаганцы молча сидели у костра. А он так страстно спорил в своих мыслях с братом и с Боярканом, что невольно шевелил губами. Ведь это он, Угрюм, пообещал хубуну освободить его. Он уговорил брата выкупить их с Адаем. Откуда им знать, чья рухлядь заплачена за их свободу? Да и чья она? Раз монахи спалили его, Угрюмкины, меха, то Пенда должен поделиться с ним своими, клеймеными, которые оставил у Ивашки. Раз так, то брат отдал за балаганцев не свое, а его богатство.
Наконец он резко мотнул головой и обернулся к стану. Впереди была другая жизнь. Что бы там ни говорил Бояркан по злобе, а добра он не забудет и за свою свободу наградит. Оставалось претерпеть Енисейский острог с его служилыми людьми, а там, за Енисеем, — воля!
Из всей прежней жизни Угрюма год, прожитый с балаганцами, был самым лучшим. Вот и теперь стоило расстаться с братом, и будто отвязались прежние несчастья и тяготы. Не плутая, не надрываясь, ватажка с балаганскими ясырями вышла к Енисею. На устье Каса им встретились торговые люди тобольского гостя Федотки Попова.
Как только объявил Угрюм, что промышлял с Федоткой на Нижней Тунгуске, так купцы стали уважительней поглядывать на промышленного в ветхой одежонке. Они рядились по четвертине за пуд ржи, но это больше для куража и затравки торга. За лучших соболей: непоротых, с пупками и когтями, которых все равно забрали бы в государеву десятину енисейские казаки, Угрюм сторговался за восемнадцать копеек пуд.
Он велел ватажным покупать ржи по двенадцать пудов на человека, вместе с балаганцами. Ровно столько, чтобы ни полпуда не отобрали таможенные казаки. По пуду соли на каждого и не больше. Чтобы не было спора о налоге. Зная енисейские цены на рухлядь, торговался за каждого соболя. Недорого выторговал у купцов большой струг в обмен на малый, который от груза просел по самые борта. Знал, что на обратный путь, к Тобольску, тяжелый струг для торговых — обуза. Староватажные промышленные не могли нарадоваться новому связчику.
Знал Угрюм и то, как таможенные казаки в Енисейском берут десятину. Самых лучших соболей и лис приготовил на поклон воеводе и подьячему. Сам ходил к ним с передовщиком. Балаганцев объявил ватажными ясырями, отпущенными промышлять с ним их хозяином Ивашкой. Показал купчую.
Перфильев ватажку не обыскивал. Десятину взял под слово. Выправил наказную грамотку промышлять у Ангарских порогов.
Ватажные, которых знобило при одной мысли, что придется иметь дело с острожными начальными людьми, как услышали от Угрюма, что свободны следовать на промыслы и больше их никто не тронет, ахнули и стали величать нового связчика по батюшке.
Угрюм выбрал среди добытой ими рухляди среднего соболя и велел передовщику подарить его в почесть острожному попу. Старанием батюшки острожная Введенская церковь была уже накрыта крашеным драньем. Пятеро ватажных по научению нового связчика день поработали на строительстве храма, с острожным людом отстояли литургию в освященном приделе, исповедались и причастились в путь-дорогу. Поп Кузьма принял от них крестоцелование друг другу и обещание первого добытого соболя отдать острожной церкви. С тем и благословил на промыслы. Все было сделано по чину и закону. С легкими сердцами и радостью ватажные с ясырями продолжили путь к устью Ангары.
Довольный собой и нынешней жизнью, Угрюм не отнекивался от бурлацкой бечевы. Тянул струг наравне со всеми. Но сколько мог, оберегал от всяких работ Бояркана. Князец быстро уставал идти пешком, колодой сидел в струге или становился на шест, помогая проталкивать груженое судно против течения.
Прошли скалистое, бурлящее перекатами устье Ангары, долгую песчаную отмель. Потянули струг крутым берегом с нависшими деревьями. Бечевник был труден. Но казаки атамана Василия оставили после себя тропу, прорубили мешающие ходу деревья и ветви. Удача не покидала ватагу и самого Угрюма.
С неприязнью вспоминалась ему жизнь в Маковском остроге, особенно Меченка, по которой когда-то томился сухотой. После зимнего перехода из Томского острога он по-другому взглянул в ее бирюзовые глаза. Опростилась, обабилась за Иваном. Одета была лучше прежнего, но неряшливо. Почему оказалась за братом, а не за Максимом, Угрюм не спрашивал. Украдкой наблюдая за ней, брезгливо недоумевал, как она могла быть его присухой?
Быстро заметил Угрюм, что Меченка в женах не только злобна на слово, как было и прежде, но и жадна: не попросишь — не накормит. То хлеб спрячет, то от каравая зубами откусит, чтобы другим не досталось. Если брата не было в доме, он уходил к добросердечной соседке Капе, жене стрельца Колесникова. Нескладная, глупая в пустопорожних разговорах, она была чистоплотной, житейски мудрой и приветливой женщиной.
С неприязнью вспоминал Угрюм, как на первой неделе Великого поста распахнул дверь, нежданный, не услышанный — братаниха у печки допивала скисшее молоко. Увидев его, поперхнулась от испуга и чуть не подавилась до смерти. Кашляла, пучила злобные глаза и выглядела страшней кикиморы. И легла на его сердце неприязнь не только к ней, но ко всему Иванову дому.
И нападала на него тоска. Думал про себя, отчего русичи так тяжко и плохо живут? Невольно затевал нескончаемый спор с братом как продолжение своего рассказа о счастливых чужбинах.
— Бесовские посулы! — отмахивался старший.
— Почему бесовские? — не соглашался Угрюм. — Живут же люди по-людски?
— Грех жить для чужого народа! — наставлял брат. — Христа еще до Его рождения единокровники гнали и притесняли. А он муки за них принял. На распятье пошел, хотя знал, что предадут. Надеялся, вдруг покаются и простятся им прежние грехи. Через Его подвиг Бог всем людям показал, как человек должен жить на земле.
Угрюм фыркал, указывал глазами на Сорокиных:
— Ради этих на крест?
— И ради них! — упрямо рыкал Иван, хоть сам незадол го до того матерно поносил того и другого.
Раздосадованный, что распустил язык, Угрюм с ненавистью оглядывал грязи верховий Кети, претерпевал тесный острожный быт, злобную жадную Меченку. И всю свою прежнюю жизнь: промышленную, гулящую, торговую — ненавидел. Никакого счастья не сулила она богатому или бедному, ничего того, о чем мечталось с голодного, сиротского детства до бухарского плена. И казалось ему, будто старший брат со всеми русскими людьми Сибири в своем упрямом невежестве стоит по одну сторону пропасти, а он, со своим знанием иной жизни, по другую.
Теперь все переменилось: засыпая возле костра после трудного перехода, Угрюм с радостью думал: «Не оставил Бог. Послал ангела-вестника в виде балаганцев. Призвал к иной жизни, которую чуял и носил под сердцем, сколько себя помнил».
Густо плыл по реке желтый лист. Деревья по берегам стояли голые, черные. Моросил дождь, просекаясь снежинками. Дышалось легко и привольно, спалось сладко. Ватага прошла устье Тасея. Больше всего Угрюм боялся не узнать этих мест, пройденных зимой, и сбиться на приток. Но узнал Тасееву реку и повернул к Ангаре. Шли дальше, к устью Илима.
Добрые ватаги в это время рубили зимовья, готовили в зиму рыбный и мясной припас. А они все шли правым берегом Ангары. Здешние тунгусы никому дань не платили, похвалялись, что ни от кого не зависят. У промышленных спрашивали о русском остроге на Енисее, о войнах казаков с родственными им племенами. Но вреда промышленным людям не чинили.
По их сказам узнал Угрюм устье тунгусской реки Илэл[200], по которой сплыл к Ангаре в давние времена под началом Пантелея Пен ды. Утрами вдоль берега намерзал лед. Уже слышен был шум порога. Показались острова. Балаганцы узнали места, близкие к их кочевьям. Вскоре они встретили первых братских кыштымов. Бояркан велел Адаю взять у них вожей с оленями.
Его самого никакой олень не выдерживал. Но Адай с радостью бросил опостылевшую ему бечеву и сухим путем ушел с тунгусами к кочевьям на Гею.
Тянуть струг без балаганского молодца стало трудней. Шум порога усиливался. Угрюм велел сделать под ним дневку. Стояли день и другой. Ватажные, боясь зимы, зароптали, соглашались остановиться на промыслы и в этих местах. Но Угрюм с умыслом затягивал отдых спутников. Вскоре к их стану прибыли братские всадники с лошадьми в поводу. Первым среди них Угрюм узнал Куржума, брата Бояркана.
Хубун с братом и Адаем ускакали к своим кочевьям. Три братских молодца запрягли в гужи коней. И помчался груженый струг через Шаманский порог да вверх по притоку так быстро, что в лодке едва успевали отталкиваться от берега.
Три дня Угрюм пировал на стане Бояркана. Он садился рядом с князцом-хубуном по правую руку, как друг. Его приодели в дорогой камчатый халат, сапоги, дали островерхую шапку, шитую серебряной нитью. Он весело оглядывал долину знакомой реки. Балаганцы ругали Аманкула, с тоской вспоминали свою степь. А ему и здесь было хорошо. Всей грудью вдыхал запахи опавших, прибитых инеем трав, скота, войлока и был счастлив, будто вернулся домой.
Радостно встретил дархана заметно постаревший Гарта Буха. Угрюм по-свойски перекинулся словцом с его дочерью Булаг. Она повзрослела и стала еще привлекательней. Если прежде кузнец шутил над смешной девкой из озорства, то теперь увидел в ней женщину. Все те же глаза, опушенные черными ресницами, тонкие брови тянулись к вискам распахнутыми крыльями птицы. Ее пухлые щеки слегка опали, но остренький носик, как прежде, подергивался при разговоре, то высовывался, то утопал в них.
Булаг недолго горевала о погибшем муже, вышла замуж за другого, богатого скотом. Но жизнь ее не задалась. Она ушла от мужа и снова жила у родителей.
На четвертый день слегка опухший от молочной водки Бояркан принялся судить скопившиеся у родни споры и распри. Одним из первых дел было желание племянницы Булаг развестись со вторым мужем.
Кривоногий, с засаленной косой и выпяченной губой, он с первого взгляда не понравился Угрюму. На вопрос Бояркана, отчего племянница не желает с ним жить, Булаг коротко и равнодушно ответила: «Злой!»
Бить детей и женщин у балаганцев не принято. Силой жен при себе они не удерживали. Бояркан, важно поглядывая на обоих, попытался дознаться, что за злость мешает жить супругам, но ничего не понял из их путаных слов. Муж тоже ругал Булаг, однако развода не хотел.
— Бол[201] у тебя нормальный? — строго спросил его хубун.
— Хороший бол, лучше, чем у других! — стал похваляться кривоногий муж.
— Снимите с него штаны! — приказал Бояркан своим молодцам. Те со смехом обнажили мужика.
— Нормальный! — взглянув в один глаз на мужскую доблесть, подтвердил хубун. — Живите и не ссорьтесь!
И тут Булаг, стоявшая перед князцом достойно и равнодушно, подперла бока руками, топнула ногой и бойко вскрикнула:
— Не буду жить! Ругается, рот не закрывает, чтоб его мангадхай сожрал. Падалью воняет, как мешок с протухшим жиром. Не буду жить!
— Ну, тогда не живите! — сохраняя важность в лице, согласился Бояркан. — Пусть твои родственники отдадут его родственникам все подарки.
На том суд по разводу был закончен. Все сочли решение хубуна справедливым. А он перешел к другим делам. Булаг как ни в чем не бывало вернулась к костру и стала скоблить ножом паленые бычьи лытки. Угрюм прошелся по стану, присел у костра против Булаг. Стараясь говорить как прежде, со смехом, спросил:
— А за меня пойдешь, если бороду сбрею?
Булаг помолчала, не выказывая ни неприязни, ни высокомерия, и со вздохом ответила:
— Ни за кого больше замуж не пойду. Надоело! — подняла голову, взглянула на Угрюма сквозь непомерно длинные ресницы. И он увидел в них хорошо знакомую ему забубенную тоску.
Как-то ласково и непринужденно влекла его эта молодая овдовевшая и разведенная женщина. Не так, как когда-то Меченка. Та присушила, очаровала до одури, чуть под венец не привела. А разглядел получше — и возненавидел.
Холодало. Угрюм гулял и отдыхал, а его ватага строила зимовье, спешно готовилась к зимним промыслам, при этом молила Бога за то, что послал им такого связчика, как он.
Выпал снег. Заторосилась и застыла река. По совести, пора было возвращаться в ватагу и промышлять. Он обещал прийти к Покрову — и все медлил. Ватажные могли обойтись без него: он для них и здесь, среди балаганцев, делал много полезного: оговорил с Боярканом и Куржумом, что ватажка сможет зверовать под их защитой сколько захочет без всякой платы. В уме же прикинул, что это для промышленных слишком хорошо, и решил от имени князца назначить пустячную дань — десять соболей в зиму. Промышленные будут благодарны за такой договор.
Купленная Угрюмом кобылка была жива-здорова, принесла двух жеребят, лончака пора было объезжать. Ради добрососедства он опять ковал и налаживал балаганцам утварь. Кое-чему научился у Абдулы и сделал такой рог для охоты на лосей, что молодые мужики Гарты стали предлагать за него быка.
Угрюм весело отнекивался: что бык, если с помощью рога он мог добыть несколько лосей. Их мясо и мясо диких оленей почиталось среди балаганцев как самое вкусное.
Угрюм стал ездить на охоту с молодыми мужчинами стана и сразу почувствовал, как к прежнему нималому уважению прибыло другое. После первой привезенной добычи даже Булаг поглядывала на него почтительно.
Кузнец среди бурят был очень уважаем. Балаганцы называли Угрюма Дарханом. Другого имени у него здесь не было. Теперь же, после помощи Бояркану и добычи лося, они стали называть его Мергеном[202]. То есть признавали за своего.
Угрюм еще короче выстриг бороду и все откровенней поглядывал на Булаг. А она уже не фыркала и не злилась, разговаривала с ним приветливо и доброжелательно.
Первый хороший снег выпал через три дня после Покрова. Угрюм со своего счета дней и праздников сбился, чужое счисление еще не понимал. Но рев лосей той осенью продолжался и после снега. Возвращение в ватагу затягивалось. Зверовал Угрюм с двумя братскими парнями. Они верхами ехали по лесу. Лось откликнулся со старой гари.
Охотники подъехали на его зов. Лес был заколдоблен, лошади по нему не шли. Балаганцы чащи не любили. Не любили они и пешей ходьбы. Угрюм велел своим помощникам ждать его на поляне и пошел на рев один, с тунгусским луком: тяжелым, склеенным из трех древесных пластин. Трехгранные наконечники к стрелам он ковал и точил сам. Прислушался. Протрубил в рог. Дождался ответного рева и, похрустывая валежником, пошел на зов.
И вот послышался треск веток. Радостно застучало сердце в груди. Он уже представил, как порадуется новой добыче Булаг. Но вместо лося из ельника выскочил медведь. Он портил всю охоту и удачно начавшийся день.
Угрюм заревел, засквернословил, размахивая луком. Медведь даже не приостановился. Высоко вскидывая когтистые лапы, он мчался на человека так, что подрагивала земля. Его черные губы были задраны, между ними желтел оскал зубов. Маленькие глаза глядели подслеповато, пристально и зло. Но зверь уже не мог не видеть, что перед ним не лось, а человек.
«Плохо дело!» — успел подумать Угрюм. До самого плеча оттянул тетиву. Едва медведь вскинул голову, перепрыгивая через какую-то валежину, всадил тяжелую стрелу в горло, прямо под оскаленную пасть.
На мгновение зверь осел всей тучной тушей. Заревел. Но не успел Угрюм положить на лук новую стрелу, как он в два прыжка оказался рядом. Лук со стрелой вылетели из рук. Зверь осел на зад. Оперенный конец стрелы, торчащий из мохнатой шеи, больно ткнул охотника в грудь. Смрадно пахнуло из медвежьей пасти. Защищаясь от клыков, Угрюм сунул правую руку в звериное горло. За что-то там ухватился. Вышло это случайно, хоть он и слышал от старых промышленных, что так иногда останавливали разъяренного медведя.
Левой рукой Угрюм выхватил короткий рабочий нож. Стал неловко тыкать острием в шерсть. Медведь слабеющей лапой отбивался и шкрябал его по одежде. Наконец Угрюму удалось воткнуть лезвие по самую рукоять. Не вынимая ножа, он стал бередить им рану.
Зверь осел ниже. Еще раз ударил лапой по лицу и по одежде. Угрюм выдернул руку из пасти. Попытался схватить стрелу, торчавшую из медвежьего горла, и всадить ее глубже. Рука никак не могла сжаться. Он взглянул на свою влажную ладонь и не сразу узнал ее. Не было указательного пальца. И как только Угрюм понял это, из култышки струей хлынула кровь.
Он еще трижды ударил зверя ножом. Почувствовал, что тот выдохся. Обрадовался. Сам заревел разъяренно, победно. Но крика не получилось. Вместо него на щеке надулся и лопнул кровавый пузырь. Тут только Угрюм опустил глаза и увидел, что его кафтан и штаны изодраны в клочья. По ним струилась кровь. Он удивился тому, что не заметил, не почувствовал, как зверь драл его тело. И вдруг ослаб.
Хотел подобрать лук. Едва наклонился, сильно закружилась голова. Он еще раз взглянул в живые глаза зверя, повернулся к нему спиной и заковылял в обратную сторону. «Не Ерофеев ли нынче день, когда лешие лютуют перед зимней спячкой?» — подумал, всхлипывая. Деревья закачались перед глазами. Он осел на колени и приложил к лицу тут же окровянившуюся пригоршню снега. Стал гаснуть день, и наступила ночь.
Какие-то видения носились перед ним в той черной ночи. Сначала он услышал ровное дыхание возле уха. Почувствовал запах жилья, дыма и запах женщины. Открыл глаза. Мутно виднелись над головой решетка юрты и войлок. Тлел очаг. Угрюм почувствовал, что лежит на спине раздетый догола и прикрытый мягким, скользким шелком халата. Щекой уловил человеческое тепло: не простое, не обычное, а тепло, исходящее от женщины. Скосил глаза.
Поджав под себя ноги, рядом с ним сидела Булаг. Голова ее опала на крутую грудь. Локон растрепавшихся волос висел перебитым вороновым крылом. Она тихонько посапывала во сне. В той черной ночи, из которой он только что выплыл, Угрюм услышал сперва этот самый звук. Полное обнаженное колено касалось его плеча.
Болело все тело, сильно саднило в паху. Живо вспомнилось, как он так же вот сидел возле оскопленного Пятунки. И показалось Угрюму, что возле полога двери кто-то стоит, низко опустив голову. «Не ангел ли?» — стал вглядываться в темень. Платок ли бабий, кошма ли белая были подвешены там. Но ему виделся человеческий лик. Угадывались пятна глаз и носа. Темнел провал рта, расползшегося в ухмылке. И в том провале поблескивали клыки.
Угрюм содрогнулся от страшной догадки. Так вот кем был тот, кому он всю жизнь молился, кто всегда помогал и выручал. Все разом открылось и стало очевидным. Этот клыкастый всю жизнь играл с ним, как кошка играет с мышкой: придавит, увидит, что подыхает, — отпустит и освободит. Чуть же окрепнет жертва — схватит зубами и бросит. А он, глупый Егорий, до этой самой ночи не понимал и почитал его как защитника, как своего единственного спасителя.
Вот и случилось! Медведь был наведен на него не случайно. И все несчастия, и все чудесные избавления от них стали понятны. Теперь конец игре. «Какая глупая, однако, получилась жизнь?» — всхлипнул он и сглотнул соленую скатившуюся слезу.
Булаг затихла, подняла голову, взглянула на него сквозь припухшие щелки глаз.
— Ожил? — зевнула. — Мы тебя третий день лечим!
С новым зевком она приподнялась на полных коленях, поправила повязку на его голове, приподняла халат, потрогала какую-то бесчувственную коросту на груди, потом в паху, где все ныло.
Ни щеки, ни нижней губы, впрочем, всего своего лица Угрюм не чувствовал. Не разжимая зубов, при помощи одной верхней губы он прошепелявил:
— Если оскоплен — не лечи! Умру!
Булаг подслеповато склонилась над его животом, стянутым повязками.
— Есть бол! — сказала равнодушно. — Целый! — И бесчувственно подергала за него, как за какую-нибудь кишку во вскрытой туше.
От этого небрежения слезы струями хлынули из глаз Угрюма, заныло, защипало изодранное лицо, горячо защекотало по вискам.
А тень у входа все скалилась и беззвучно потешалась над изувеченным. Было над кем и над чем посмеяться нечистому. Прежние мысли о жизни и счастье показались Угрюму щенячьи глупыми. Со всей ясностью высветилось вдруг, что богатство, слава, свобода — все суета, а пережитое им не стоит гроша, потому что в его жизни не было самого главного — женщины, той самой женщины, что приходила в снах, но так и не пришла в яви.
Булаг смутилась от его слез. Вскинула свои длинные брови, как птица крылья в полете.
— Чего ты? — беспокойно потрепала мошонку мягкой рукой. — Раз мужчина, значит, будешь жить.
Застучала кровь в висках. И показалось Угрюму, будто его сердце ускакало из ребер в ее мягкую руку.
— Уй, да совсем хороший жених! — тихонько рассмеялась она, задрала подол халата на полных ногах, переступила круглым коленом через больного и осторожно присела, чтобы не причинять ему боль.
«Кто же ты?» — промычал Угрюм, вглядываясь в тень у входа. Вроде бы она уже не скалилась, болталась белой тряпкой. От благодарности к молодой балаганской женщине снова выступили слезы на его глазах. И он уже соглашался с посулами того, кто стоял у двери, похоронить прежнюю жизнь, как рассказывал о каком-то самокресте Абдула-Иван, и родиться к новой.
Глава 5
За неделю до Пасхи в избе Маковского острога умер дед Матвейка — старый сын боярский. Последние дни он больше прежнего кряхтел и охал, но таскал ноги, и кончины его никто не ждал.
Едва заалело солнце над тайгой, Капа напекла пресных лепешек, раз и другой выглянула из своего оконца. Над избой приказного дымка не было. Льдины из окон вытаяли, а утренники были холодными. Жалея старика, добрая женщина хотела затопить ему печь. Она накидала в плошку горящих угольков, распахнула дверь избы Матвейки — приказный лежал на лавке носом в потолок. Кафтан, которым он был укрыт, сполз на пол.
— Что лыбишься-то? — зычно спросила Капа и зябко передернула плечами. — Встал бы да лоб перекрестил, печь затопил.
На ее оклик приказный бровью не шевельнул. От его улыбчивого молчания Капа сперва обомлела, потом с ревом выскочила в острожный двор и трубно заголосила.
Васька Колесников, стряхивая крошки с редкой бороды, кинулся за Иваном. Вдвоем они вошли в избу приказчика, смахнули шапки в мертвой тишине, закрестились на образа.
— В Енисейский везти надо! — тихо сказал Иван, будто боялся разбудить старика. — Что мы тут? Ни отпеть, ни похоронить с честью.
Капа за их спинами опять протиснулась в избу с выпученными глазами, боязливо взглянула на покойного и стала тихонько подвывать, закрывая рот ладошкой. Меченка с некрасивым, вздувшимся лицом просеменила в кутной угол, потопталась там, выглядывая из-за печи, и тихо, как мышь, прошмыгнула за дверь, потом за острожные ворота: побежала на гостиный двор, сообщить новость Сорокиным. Они и повезли старика встреч солнца ногами вперед. Иван с Василием, Пелагия с Капитолиной кланялись удалявшимся саням, закидывали след и опустевшую избу пихтовыми ветками.
Вернулись Сорокины после Пасхи, раньше их не ждали. Сказали, что отпели и предали земле старого приказного с честью. На Страстной неделе помянули кашей да киселем из толокна. Прибрал Господь служилого перед великим праздником, значит, в рай! Девять дней выпадали на Святую неделю, когда мертвых не поминают. По всем приметам выходило, что покойный выпил свое по себе еще при жизни.
Вскоре по пористому, покрытому лужами льду Кети пришел конный обоз из Томского города. С важностью начального человека в острог вошел бывший енисейский казак Ермес. Он много лет прослужил в Томском городе и получил тамошний оклад сына боярского.
Васька Колесников стал зазывать гостя в свою натопленную избу. Но Ермес велел провести его прямо в хоромы приказчика, небрежно взглянул на образа, махнул рукой со лба на живот. Скинул тулуп, оставшись в коротком зеленом кафтане да в плоской круглой шапке, обшитой по краю куницами.
За ним в выстывшую избу сына боярского, которая по острожному уставу была на квадратную сажень просторней казачьих и стрелецких, вошла здоровенная баба, лицом и телом похожая на мужика. Глаза ее были неулыбчивы. На подбородке кучерявились редкие волоски. Ермес объявил, что прислан сменить старого приказчика, а суровая баба — его жена и сестра родовитого томского казака Бунакова.
Ермесиха строго взглянула на Ивана Похабова, а Ермес напомнил:
— С кабалы, что дал твой брат Петру Бунакову, с Ильина дня идет рост по алтыну с рубля каждый месяц. К другому Илье пророку будет двенадцать алтын или тридцать шесть копеек. С десяти рублей. — Ермес повел глазами к низкому потолку, надул выбритые губы и объявил: — Три рубля шестьдесят копеек!
Меченка втиснулась в избу приказчика вместе со всеми острожными ради новостей из Томского города. Она приветливо улыбалась, разглядывала новых людей и укачивала на руках новорожденную дочь. При этом так непринужденно раскачивала крутыми бедрами, перекатывая младенца с живота под грудь, что Якунька Сорокин, косясь на нее, озверело шевелил драными ноздрями.
Иван на миг растерялся. Он не сразу понял, о чем речь. Краем глаза увидел, как замерла жена, как вздулось и обезобразилось ее лицо. Сдерживая себя, ответил, чуть растягивая слова и жмурясь:
— После Троицы, поди, вернется брат с промыслов. Рассчитается за все. Он удачлив в добыче!
— Вернется ли, и с богатством ли, един Бог знает, — утробно прорычала Буначиха, нынешняя Ермесиха. — А Петр за него деньги давал под твое имя. Рост вернешь с государева жалованья.
Меченка пулей выскочила из избы. Весь день Иван старался не попадаться ей на глаза. Вместо прежнего приказчика водил Ермеса по острогу, показывал строения, припас, оружие и казенное добро по описи. Василий Колесников ходил рядом и елейным голосом все пояснял. При этом он говорил так сладко и слаженно, что Ивану приходилось помалкивать, пока дело не доходило до бумаг.
И все-таки Меченка подкараулила мужа одного. Взглянул он на нее: вместо лица — чурбан, вместо глаз — дупла, длинный, мокрый нос — сучком. «Кабы дал Бог такой вот увидеть ее в невестах, — подумал с горечью, — охотней на плаху пошел бы, чем под венец».
— Голодом нас уморить хочешь? — вскрикнула она, прижимая к груди новорожденную. — То за друзей платил, теперь за брата.
— Помолчи! — рыкнул Иван. — Не твоего бабьего ума дело.
— А в обносках ходить — моего ума? — бешено вскрикнула она, напоказ выставляя грубо залатанную дыру на поневе.
Иван развернулся, не снизошел до перебранки. Она вцепилась в его опояску, поволоклась следом, приглушенно взвизгивая:
— Бекетиха не успела на службы приехать, говорят, от жиру лопается!
— Оттого и лопается, что руки растут откуда надо! — язвительно процедил Иван. — Грязными да оборванными, — кивнул на грубо наложенную заплату, — ни Петр, ни она не ходили.
Жена взвыла, не находя что ответить. Иван стряхнул ее руку с кушака. Знал, теперь она будет носиться, вымещая злобу, пока не остынет. И в другой раз жена укараулила его одного. Подскочила с перекошенным лицом. Сказать ничего не успела. Оглянулся Иван по сторонам и треснул ее по лбу черенком кнута так, чтобы не задеть младенца. Залилась она слезами. Отбесилась. Поплелась в избу жалеть себя.
Иван Похабов и Василий Колесников сдали острог Ермесу. Тот привез с собой четырех верных ему томских казаков и желал посадить их при себе на оклады. Кроме служилых и Ермесихи в его обозе был длинноволосый еретик-рудознатец с бритым лицом в коротком заморском кафтанишке поверх камзола. По царскому указу он следовал в Енисейский острог.
Как ни строг был Ермес, опасаясь проронить всякое лишнее слово, Василий Колесников выведал у него, что Васька с Гришкой Алексеевы оправдались перед старшими воеводами и теперь служат в Красном Яру у тамошнего приказного Андрея Дубенского. С их слов, томские и тобольские воеводы были недовольны Яковом Хрипуновым и готовили ему замену.
Приняв острог, Ермес оставил в нем своих верных людей под началом полюбившегося ему Колесникова, а сам с грамотами от томских и тобольских воевод да с еретиком-рудознатцем ускакал в Енисейский на поклон и доклад к воеводе.
Ни братья Сорокины, ни сам Иван за свои здешние должности не держались: их давно тяготила бесславная служба на одном месте. Казаки покидали в сани свои пожитки, усадили Меченку с детьми. Предвкушая гулянье на Троицу да на Духов День, по хрусткому льду застывающих и оттаивающих луж подались на восход, в Енисейский острог.
Почерневший снег лежал в тени деревьев. Обочины вытаяли. На солнечных полянах зеленели мох и брусничник. Полозья саней то и дело скрипели по мерзлой земле, цеплялись за корни. Кони фыркали и прядали ушами, вдыхая запахи весны.
Меченка открыла напоказ всему честному люду лицо с пятном на щеке и шишкой на лбу. Насупившись, сидела в санях, дулась за обиды, молчала, прижимая к себе детей. Повеселела она только тогда, когда показались башни острога и купол церкви. Обоз подъехал к раскрытым острожным воротам. Навстречу прибывшим выскочил Вихорка Савин. За ним едва поспевала Савина, его жена. Вышел к обозным и Максим Перфильев.
В кафтане, опушенном по обшлагам и по вороту собольими спинками, с рукавами, болтавшимися до колен, в собольей шапке с красным колпаком, свисшим на плечо, был он писано красив. Борода ровно подстрижена, лицо белое. Атаманская булава за кушаком. Иван уже слышал, что под начало сотнику государь дал атаманский оклад. Невольно залюбовавшись молодцеватым товарищем, он оглянулся на жену.
Прежнего насупленного лица кикиморы не было. Бирюзовые глаза приветливо блестели, губы растягивались в ласковой улыбке. Красавица да и только. Таким вот видом и присушивала молодцов, не видавших ее в злобе.
— Милаха! Почто меня разлюбила! — заскоморошничал Максим. Мимоходом обнял товарища и опять к его жене: — Экой красивой бабой стала. Видать, милует тебя Ивашка!
Чуть сдвинулись, хмурясь, ее брови. Смущенно и радостно прикрыла платком пятно на щеке и опавшую шишку на лбу, заулыбалась бывшему полюбовному дружку.
— Похристосоваться-то дозволишь? — подмигнул Максим товарищу.
— Целуй! — равнодушно отмахнулся Иван. Ревниво и неприязненно покосился на переменившуюся жену.
«Не попутал бы бес, — подумал с тоской, — была бы атаманшей. О том, поди, и сохнет теперь!»
— Целуй, целуй! — добавил скаредно. — Хошь совсем забери. В хорошие руки отдать не жалко. Поселишь-то нас куда, атаман?
— Другу свою избу отдам! — встал фертом Максим. И тут же пояснил: — Изба угловая. За стеной караульня. Беспокойно, но просторно. А я на лавке, в съезжей поживу. Дел много.
— Можно к нам! Потеснимся! — осторожно поглядывая на мужа, ласковым голосом предложила Савина. Подруги слезно расцеловались. Вихорка словам жены не противился, и она стала приглашать настойчивей.
— Думай! Тебе жить! — кивнул жене Иван. — Я на службах, ты в доме!
Поколебавшись, Меченка выбрала избу братьев Савиных. Туда и въехали Похабовы со всем скарбом. Была острожная угловая изба вдвое просторней той, в которой они жили в Маковском. Виднелась заставленная корзинами медная пушка за печкой. Еловыми заглушками на мху в стене были заткнуты подошвенные бойницы.
Жили здесь две семьи. Терентий после Пасхи женился на стрелецкой вдове, бездетной, тощей и морщинистой. Под верхней губой у нее темнел провал выпавшего зуба. Среди служилых считалось, что стрельцу повезло, хотя жена была лет на десять старше его.
Где приютились две, там разместятся и три семьи, решили братья Савины. Трем бабам с четырьмя детьми жить можно. Мужья же приходят только ночевать, и то изредка. У них служба.
Воевода Яков Хрипунов собрал за своим столом полтора десятка старослужащих и верных ему казаков со стрельцами. Как ни старался он казаться веселым, забота и печаль угадывались в его лице. Тихо переговаривались между собой служилые. О чем-то уже знали, о чем-то догадывались.
Воевода велел налить по первой чарке — во славу Божью. Вставая с мест и крестясь, все собравшиеся благостно выпили. Яков Игнатьевич заговорил:
— Ругает нас, детушки, тобольский главный воевода. Укоряет, будто мы с промышленных мзду берем, со здешними народами корыстные торги устраиваем: прижились, дескать, не радеем о государевой прибыли. — Хрипунов вздохнул, свесив голову, и тут же вскинул глаза. — И государь, с его слов, нами недоволен. Велит нынешним летом идти к братам, звать их под его милостивую руку. Будто не звали! — усмехнулся в бороду. — Оговорили нас вражьи дети! — обиженно блеснул глазами. — Атаман Перфильев прошлый год ходил вверх по Тунгуске, до самого Шаманского порога. Двух-трех днищ не дошел до братов. Сотник Бекетов со стрельцами поставил Рыбный острог. А то, что промышленные мимо нас ходят, не заплатив пошлин, так они прежде мимо Тобольска, Нарыма и Сургута также прошли. Великий Тёс перекрыть — все равно что реку загородить: в одном месте держишь, в другом течет!
— Пиши челобитную государю! — зашумели служилые. — Все руку приложим!
— Прежде чем она попадет к царю, — вздохнул Хрипунов, — ее прочтут те же воеводы и дьяки Сибирского приказа. Как они повернут мои жалобы, так государь их и услышит. Да и поздно уже. Со дня на день из Томского на смену мне прибудет новый воевода. А я вашими службами доволен. Вот сдам острог и сам поведу вас встреч солнца, к братам. Печенкой чую, где-то там серебро, лежит, нашей хозяйской руки дожидается.
— И кем ты к братам пойдешь? — с недоумением спросил Иван Похабов.
— А казачьим головой! — наигранно подбоченился Хрипунов. — Много лет просил на острог оклад головы и выпросил. Оказалось, для себя. А что? Для старого казака и сына боярского нет чести выше, чем служить казачьим головой!
— Для казака и сына боярского — так! — удивленно пробурчал в бороду Иван. — Для воеводы — не шибко-то!
По лицам собравшихся за столом Иван понял, что только он да Сорокины не знали о готовящемся походе и о том, что Яков Игнатьевич не пожелал идти воеводой в другой уезд.
— Наливай! — приказал Хрипунов прислуживавшей за столом ясырке, чернявой бабе из калмыцких девок. Раскачиваясь с боку на бок на неуклюжих коротких ногах, та умело наполнила чарки крепким хлебным вином.
Голос воеводы зазвучал звонче и уверенней:
— И еще скажу! Выпросил-таки я у государя через Сибирский приказ, чтобы дали нам на острог три чина сынов боярских для здешних лучших служилых стрельцов и казаков. Не оставлю и других, кто верно послужит мне в походе. И если Бог даст отыскать серебряную руду, без награды не останется никто. — Чуть понизив голос, он доверительно добавил: — Найдем серебро — Отечеству послужим. Воевод и бояр забудут, а нас помнить будут.
Ударил в голову хмель. Развязались языки. Загалдели за столом.
— Меня бери! — уставился на воеводу Иван. — Насиделся возле бабьего подола.
— Да уж тебя-то не обойду! — смеясь, пообещал Хрипунов. Осекся с помутневшими глазами. Вздохнул: — Эх, молодые! Не понимаете своего счастья, когда жена всякий день рядом: имеем — не бережем, потерявши — плачем. — Тряхнул бородой, по-хозяйски оглядывая застолье.
Он сидел в красном углу на воеводском сундуке, набитом наказными грамотами и казенной рухлядью. Иван поглядывал на Хрипунова и примечал, как тот постарел за зиму: прибавилось седины в бороде, голова втянулась в туловище, по-стариковски поднялись и сузились плечи.
Вдруг оживилось, помолодело его лицо, заблестели глаза. Иван обернулся к двери, куда тот смотрел. В горницу вошла Анастасия. В шелковом сарафане, в душегрее, расшитой золотой нитью, в повязке из черных соболей, со снизкой жемчуга на тонкой шее, худенькая, невысокого роста, с большими грустными глазами, она все так же походила на отроковицу. Девица мимоходом окинула взглядом собравшихся за столом, рассеянно поклонилась всем. Тихо села слева от воеводы. Служилые, смущенные ее появлением, притихли.
— Другую за здоровье Анастасии Яковлевны! — с веселым удальством крикнул Максим Перфильев.
— Нет! — ласково и строго возразил воевода. — За здоровье государя нашего Михаила Федоровича, — объявил и стал почтительно перечислять полный царский титул.
Служилые люди почтительно свесили головы, напряженно молчали. Ясырка по приказу воеводы наполнила вином братину, и пошла она по рукам. Коснулась ее губами и Анастасия. Поморщила носик, просительно взглянула на отца.
— Устала, милая! — с умилением дотронулся до ее тонкой руки воевода. — Ступай с Богом. Постараюсь много не пить. Ладно уж!
Едва сошел лед, с последними, редкими льдинами в Енисейский острог сплыл по реке сотник Бекетов с отрядом. Со всеми почестями, при всем посадском и служилом люде стрельцы сдали собранный ясак и загуляли.
Они еще догуливали и опохмелялись, а в острог прибыли новый воевода, сын боярский Андрей Леонтьевич Ошанин, и отряд березовских казаков под началом молодого атамана Ивана Галкина.
Новый воевода всем своим видом показывал почтение к Хрипунову. Принимая по описи строения и все казенное имущество, он ласково улыбался, приговаривал, что без советов и наставлений Якова Игнатьевича ему со службой не справиться. Между тем до всякой мелочи терпеливо допытывался, принимал дела долго и дотошно.
Казаки атамана Галкина нисколько не походили на обычный сброд, который присылался из собранных по острогам и городам людей. Держались они скопом, оглядывали здешних служилых по-волчьи презрительно и настороженно. Ни в сПоры, ни в душевные разговоры не втягивались: как инородцы пили и гуляли только между собой.
Молодой немногословный атаман поглядывал вокруг строгими глазами, не кичился и не куражился, но с воеводами держался как с равными. При нем были малолетний брат и раскосая, но русоволосая жена с явной примесью остяцкой крови.
Вскоре разнесся слух, что атаман Галкин в чине сына боярского имеет жалованье выше, чем у воеводы. Слух этот смущенно подтвердил Андрей Ошанин. Острожный люд, нетерпимый ко всякой несправедливости, выяснил, что прибывший — сын ермаковского атамана Галкина, а среди его казаков много детей и внуков ермаковцев.
С новым атаманом и его заносчивыми казаками енисейцы смирились. Потомки ермаковцев и служилых старой тобольской сотни были народом особым. Они помогали друг другу как родственники, какие бы чины и должности ни занимали. Спорить и ссориться с ними побаивались даже воеводы и царские стольники[203]. А свои, сибирские, начальные люди тайно или явно всегда их поддерживали.
Хоть атаманская должность и была выборной, но атаманский оклад по Енисейскому острогу был один. Письменного голову воевода Ошанин привез из своих доверенных людей. Максим Перфильев опять снял перстень с указательного пальца и передал атаманскую булаву бывшему воеводе Хрипунову, а тот записал его в оклад подьячего при своем отряде, и, пока сам сдавал острог, Максим собирал людей в его полк.
К неудовольствию нового воеводы Иван Галкин объявил, что пойдет с Хрипуновым искать серебряную руду и подводить под государеву руку новые народы. Как ни льстил атаману сын боярский, как ни прельщал приострожными службами, тот стоял на своем.
Стрельцы тоже рвались на дальние службы. Гулящие и прожившиеся промышленные люди, которые вышли из тайги без добычи, гурьбой ходили за Перфильевым, просились в отряд доброхотами без жалованья.
Людей, приведенных Андреем Ошаниным, на приострожные службы не хватало. Сотник Петр Бекетов оставил ему десяток своих стрельцов, из самых вздорных и ленивых, и пятерых казаков. Без этого невозможно было покинуть острог и нового воеводу. Старослужащие острожные люди не переставали удивляться. Такого множества казаков и стрельцов на Енисее не было от века, а людей все равно не хватало.
После Святой Троицы новый воевода наконец принял острог и все дела. Спорили из-за острожных пушек. Две из шести имевшихся Ошанину пришлось отдать в полк казачьего головы Хрипунова. На том раздоры были закончены.
Уходившие на дальние службы и остающиеся при остроге люди быстро помирились. Гуляли весело и дружно. И только Бекетиха жаловалась всем встречным на мужа, который, не успев вернуться со служб, опять уходил от семьи.
Десять снаряженных, просмоленных стругов стояли под яром против проездных ворот. Среди них покачивался на волне тяжелый коч казачьего головы. За его кормой моталась легкая берестянка.
День пришел. Под звон корабельного якоря, подвешенного у церкви вместо колокола, служилые и охочие люди собрались возле своих судов. Из острога с иконами и хоругвями вышел весь здешний причт, старый скитник Тимофей, монахини игуменьи Параскевы. Впереди с медным распятьем шел острожный поп Кузьма. Два казака несли престольную икону Введения во храм Пресвятой Богородицы, обернутую полотенцем и украшенную зелеными ветвями. На берегу начался молебен в честь благополучного отплытия.
Обильно обрызгав святой водой суда и служилых, священник, причт церкви и монахи вернулись в острог. Казачий голова в красном кафтане махнул рукой. Бурлаки перекинули через плечи бечевы. Шестовые уперлись шестами в илистое дно. Отряд двинулся против течения могучей реки, от века не видавшей такого многочисленного войска. На десяти судах в поход уходили без малого сто человек. На коче рядом с отцом сидела его любимая дочь. На том же борту вертел носом присланный рудознатец. Жена атамана Галкина шла по берегу. Его молодой брат Осип наравне со всеми тянул струг бечевой.
На насмешливый вопрос Бекетова, зачем атаману жена в походе, Иван Галкин так же насмешливо спросил:
— А на кой ляд она мне нужна в остроге?
Сотник качнул головой на крепкой шее, повел круглыми глазами, хмыкнул в густые усы и не нашелся что ответить атаману. Сыны боярские, атаман с сотником, еще не подружились, но присматривались друг к другу с добром. Галкин не любил пустопорожних бесед, вопросы задавал редко. А тут вдруг спросил Бекетова, указывая на ертаульный[204] струг:
— А у того вон долговязого, на шесте, которого ты окликнул Похабой, нет брата меньшого?
— Есть! Угрюмом кличут, — ответил Бекетов, неспешно вышагивая рядом с атаманом и надзирая за подначальными людьми. — Служить не пожелал. Промышляет. Был в бухарском плену. Снова ушел с какой-то ватагой.
— Я его знал! — весело воскликнул атаман. — Надо поговорить со старшим.
— Добрый казак! — похвалил Ивана сотник. — Из ссыльных, воевавших под Москвой.
Одним стругом с Иваном шли его старые товарищи, стрельцы Терех и Вихорка Савины, Васька Черемнинов, Дунайка Васильев и Дружинка, казаки Якунька Сорокин, Илейка, брат Максима Перфильева. На шесте стояли по жребию. Остальные волокли струг бечевой.
Якунька сбросил шапку. Его длинные волосы взмокли от пота и висели прядями, обнажив отрезанный черенок уха. Казак сопел выдранными ноздрями, сипло и одышливо корил Черемнинова:
— Атаманы да сотники идут налегке — им за порядком надзирать надо! Пятидесятники и десятники — не чин, не званье: одно прозванье. И жалованье у тебя не много больше моего.
Иван морщился, бросал сердитые взгляды на болтуна, но терпел его занудные рассуждения и даже соглашался со вздорным казаком. Васька Черемнинов как пятидесятник желал идти на бечеве через раз, а на шесте, с сухими ногами, стоять чаще. Казаки и стрельцы на такой расклад не соглашались.
Долго тянулся погожий летний денек. Ему, первому в дальнем пути, казалось, и конца нет. Но закончился и он. Ушло на закат солнце, схлынул лютовавший овод, злей стали комар и мошка. Путники вытащили струги и коч на песчаную отмель, развели костры.
Иван Похабов, морщась от едкого дыма, сушил бахилы. Вихорка Савин помешивал веткой в котле с кашей. Другие развели дымокуры и уткнулись в них носами, спасаясь от гнуса. Якунька Сорокин укутал голову кафтаном и валялся на теплом еще песке. Илейка Перфильев весь день шел на бечеве. Мокрый и злой, отмахивался от мошки.
К костру ертаульного струга подошел Максим. Сел напротив Илейки. С участием взглянул на младшего брата, на утомленных людей.
— Хоть бы разулся да просушился! — пожурил Илейку. Помолчав, добавил: — Поди, жалеешь, что не остался в остроге?
Якунька высунул из-под ворота безносую голову, взглянул на подьячего в один глаз и разобиженно прогнусавил:
— Кабы тебя вместо нас, да в бечеву!
Максим бровью не повел в его сторону. Даже улыбка не покривилась под стрижеными усами. Он глядел на брата, который не думал разуваться и только рассерженно посапывал. Максим взял его в поход, не спрашивая, где тот желает служить, сам приставил к стругу Василия Черемнинова, подальше от дружков, с которыми брат слишком часто пьянствовал.
— Нынче атаман Галкин, — кивнул Ивану, — про брательника твоего спрашивал. Помнит его по Обдорску и Мангазее. — Сказал и снова уставился на младшего. — Вот ведь, — укорил его, — такой же молодой, а где только не был, чего только не видел!
— Проку-то? Если не поумнел? — проворчал Иван.
Дорогой он приглядывался к Илейке, с завистью думал о том, что не сумел, как Максим, удержать при себе Угрюма. Кабы не брат — подьячий, Илейке переломали бы о спину не один десяток батогов. И все равно они были вместе.
Утром отряд продолжил путь. Много людей — много шума: поругивались между собой бурлаки, начальствующие погоняли нерадивых, а те огрызались. И вот открылось устье Ангары.
Далекая грива, видневшаяся из острога на другом берегу Енисея, тянулась до этих самых мест и подходила к Ангаре скальным обрывом. Берег был крут. Как головы и туловища диковинных зверей, из воды торчали огромные желтые камни, гладко вылизанные водой и ветрами. Ангара была шире Енисея, но морщинилась волнами на отмелях и перекатах. По другому берегу тянулась долгая песчаная коса.
При попутном ветре на коче и стругах подняли паруса. Но вскоре он переменился, и люди Хрипунова снова впряглись в бурлацкие постромки. Иван Похабов тянул струг бечевой и с восхищением озирал берега. Наконец-то открылась ему страна, о которой много слышал от промышленных и служилых. Даже запах и цвет воды здесь были иными. По берегам вздымались в небо стройные мачтовые сосны, каких нет за Енисеем. Здесь даже березы были прямыми, как ружейные стволы, и такими высокими, каких он прежде не видел.
Медленно шел полк. На воеводском коче Максим Перфильев в прошлом году дошел до устья Тасея за три дня, нынче шли пятый. Яков Игнатьевич требовал посольских почестей. Всяких встречных тунгусов велел вести к нему для разговора и знакомства. С судна он сходил только ведомый под руки казаками и прислугой. Царев человек в своем лице представлял сибирским народам русского государя.
Кум кумом, а Иван Похабов шел в другом конце каравана. Он не был даже кормщиком на своем струге и старался держаться подальше от головы. Ему, выросшему среди подлинных казаков Дикого поля, претило всякое внешнее отдание почестей кому бы то ни было. На Дону все были равны. А если кого почитали за подвиги, силу и смелость, то не напоказ, а про себя. Сибирские казаки, по его соображению, мало чем отличались от стрельцов. Но раз уж Бог привел к ним, по мере сил надо было служить, как принято здесь.
Впрочем, честь честью, а терпеть несправедливость не желали и сибирские казаки. Первыми зароптали тянувшие коч: Филипп Михалев — сургутец и веселый, беззаботный, всегда радостный Агапка Скурихин. Их дружно поддержали все связчики.
На судне при Хрипунове были его дочь, рудознатец и ясырь с ясыркой. Если ясырка прислуживала казачьему голове, то ясырь Яшка, толстый, широкоплечий, кривоногий увалень, днями и ночами спал под парусом. Вставал он, озираясь голодными узкими глазами, только для того, чтобы поесть, и жрал, всем на удивленье, без всякой меры. На него первого и осерчали бурлаки. Стали корить бывшего воеводу и подьячего, что в ясыре не меньше десяти пудов дерьма, жира и костей, а совести нет. Пусть, дескать, идет в бечеве или хотя бы пешим.
Хрипунову пришлось согласиться с требованием казаков. Яшка, с трудом переставляя короткие ноги, поплелся берегом. Он часто отставал, а вечерами, чуть живым от усталости, на карачках заползал по сходням на коч. Казачий голова с важным видом сидел в кресле на носу и оглядывал берега реки. При себе он держал присланного рудознатца, которого никакой работой, кроме поиска руд, не отягощал. По его наказу служилые несли рудознатцу потроха от добытых в пути глухарей, тетеревов и уток, если там попадались камни. Хрипунов велел осматривать кишки даже у пойманной рыбы.
Рудознатец вставлял в глаз толстое стекло, брезгливо морщил длинный влажный нос, но осматривал все, что приносилось. Сам он шел берегом, откалывал камни от скал, подбирал их из-под ног, коряво лопотал по-русски и был всегда чем-то недоволен. Но казаки почитали его как мастера. Ремесло уважалось.
На пятый день полк Хрипунова подходил к устью реки, где тунгусский князец Тасейка побил братьев Алексеевых с отрядом. Ертаулы не раз замечали издали промышленных людей. Увидев множество судов, они заворачивали свои струги в протоки, за острова или, бросив их, убегали с пожитками в лес.
Но на одном из островов возле широкого устья Тасеевой реки среди бела дня дымно горел костер. На песке лежал перевернутый шестивесельный струг. У костра бездельничали до десятка бородачей, одетых в кожаные рубахи и штаны. Они не только не испугались ни ертаульного струга, ни следовавших за ним судов с тяжелым кочем, но и вскочили с мест и стали призывно махать руками.
Даже издали некоторые из них показались Ивану Похабову знакомыми. Он приложил ладонь ко лбу, вглядываясь против солнца, и хмыкнул, узнав скандальных братьев Ермолиных. Бурлаки протянули струг выше устья Тасеевой реки, сели за весла и переправились к песчаному острову.
Илейка и Васька Ермолины, дружелюбно улыбаясь, вошли по колено в воду, подхватили казачий струг за борта. Другие промышленные помогли им вытащить его на песок.
— Иваха! — радуясь встрече, раскинул руки Васька Бугор. Илейка по трезвому обыкновению смущенно улыбался и помалкивал, бросая приветливые взгляды. Со времен казачьего бунта братьев возле Енисейского острога не видели.
— Живы, смутьяны! — беззлобно проворчал Иван Похабов. — Соскучились по Енисейскому кружечному двору?
Илейка в ответ только шире и смущенней заулыбался. Васька загоготал, с удовольствием припоминая пережитое возле острога.
Промышленные стали расспрашивать казаков и стрельцов про знакомых служилых и охочих людей, безбоязненно поглядывали на прибывающие суда. Их ватажка была доброй, не воровской. Все подати перед выходом на промыслы были оплачены. Нынешнюю небогатую добычу предъявить они не боялись.
На веслах одно за другим суда подходили к маленькому острову: хрустя песком и галечником, выползали на него со всех сторон. Здесь становилось тесно. Казачий голова в бронях, в шлеме, опоясанный саблей, узнал братьев Ермолиных. Теряя полковничье степенство, он поднялся с кресла, стал весело журить их за былое. Промышленные поклонились ему как воеводе. А он ткнул в Ермолиных указательным пальцем с золотым перстнем:
— Этих смутьянов ко мне, на борт!
С коча бросили сходни. Максим Перфильев махнул рукой, приглашая братьев к Хрипунову. Дородный Илейка с младенчески невинными глазами переминался с ноги на ногу. Васька с удивленным лицом поглядывал на сына боярского в доспехах.
— Ты-то куда собрался, воевода? — спросил, шлепая босыми ногами по сходням. — Война? Или чего ли?
— Был воевода, да вышел! — ответил Хрипунов с такой важностью, будто получил чин царского стольника. — Нынче я — казачий голова! А иду со своим полком под Шаман-камень. Даст Бог, и дальше поднимусь по реке и поставлю острог!
— Как так? — тупо соображая, замотал головой Васька, перебирая в уме свои познания царских должностей и чинов. Встал на палубе перед Хрипуновым. За ним тихонько поднялся широкоплечий Илейка.
— Какими шалопаями родились, такими и помрете! — снова принялся насмехаться бывший воевода. — Ни приветить государевых людей, ни поклониться ума нет!
Васька гоготнул, оглянувшись на брата:
— Так мы с малолетства только перед бочкой на колени падали. И то после полуведра горячего.
Илейка осклабился, повел глазами, своим видом показывал желание покланяться если не бочке, то кружке.
— Был воеводой! — удовлетворяя любопытство промышленных, степенно заговорил Хрипунов. — Да сидя на воеводским сундуке, брюхо стало расти. И умолил я государя отправить меня казачьим головой в браты, подвести их с другими народами под его милостивую руку. Себе славы добыть, государю нашему послужить.
Братья удивленно и недоверчиво гоготнули: верили и не верили сказанному. Промышленные из ватаги, отдыхавшей на острове, снова расселись у дымокура. На коч поднялись атаман Галкин с сотником Бекетовым, присели на борт за спиной казачьего головы.
— Садитесь, — кивнул он Ермолиным, — и рассказывайте, где бывали-промышляли, с какими народами встречались?
— Ха! Все бы рассказали, ничего бы не утаили, кабы языки не пересохли, — плутовато взглянул на полковника Васька, а брат его потупил глаза.
— Вот батожками-то и развяжем! — шутливо пригрозил Хрипунов.
— Не поможет! — в притворном печальном смущении Васька тряхнул кудлатой бородой и возвел глаза к небу. — Судьбинушка злая бьет нас каждый день, а хмельного не было во рту с самого Рождества.
— Налейте по чарке медвежьим детям! — покровительственно приказал Хрипунов.
Крестясь и кланяясь, с благостным видом братья выпили за здоровье бывшего воеводы. Илейка смежил веки, наслаждаясь жжением в животе. Словоохотливый Васька Бугор стал рассказывать:
— А зимовали мы, Яков Игнатьевич, на острове под Шаманскими камнями, в зимовье, что позапрошлый год поставил Максим Перфильев, — кивнул в сторону подьячего. — Доброе зимовье. Оставили мы его целехоньким. С тамошними ясачными тунгусами зимой споров не было. Но как вернулся гнус да стал пасти их оленей, дикие разум потеряли, стали меж собой воевать и нас в свои распри втягивать.
Тубинский князец Сойга, с Кана-реки, воюет братских людей и тунгусов, говорит, будто мунгалы велели ему собирать с них ясак. Князец Тасейка нынче убит братами, а его брат, князец Иркиней, и сын Лукашка кочуют уж не на Тасеевой реке, а на Тунгуске. По слухам, вместе с братскими мужиками балаганского племени они воевали против братского же князца Аманкула. Иркинейка похвалялся, что убил его. А весной он перессорился с Сойгой и стал воевать против него. Кто против кого воюет, за что? Ничего не понять! И решили мы, пока целы, убраться из тех мест.
Передовщик промышленной ватаги, сидевший у костра, прислушиваясь к расспросам, стал было рассказывать, какие в тех местах промыслы. Но Хрипунова рухлядь не заинтересовала. Он велел налить по чарке всем промышленным. И стал говорить для них, чтобы другим людям передали:
— Прошлый год из Томского города наше посольство ходило к мунгальскому Алтын-хану. И шертовал он, через близких людей, нашему царю. Нынче хан и царь заодно, а все прежние мунгальские ясачники и кыштымы теперь в нашем подданстве. О том вы, промышленные, всем народам, какие встретите, говорите. Чтобы не было больше между нами ссор.
Промышленные выпили по чарке. Передовщик с проседью в бороде недоверчиво качнул головой.
— Этой весной жаловались шаманские тунгусы, будто не только Сойга, что кто-то из князцов, с прибылью для себя, собирает дань мунгальскому хану. Оттого будто и раздор среди них. А про то, что изменили нашему царю, говорят так: раньше за ясак давали бисер, ножи, посуду, лучших людей поили государевым вином, а нынче ясак требуют и ничего взамен не дают.
Казаки, стрельцы и охочие люди, сидевшие возле стругов, слушали рассказы промышленных и отмахивались от гнуса. Сначала тихо, потом в голос они зароптали:
— Мы жилы рвем, денно и нощно радеем за государеву пользу, а нас голова, кроме батогов, ничем не потчует!
Разговор со встречной ватажкой и правда затягивался. Хрипунов велел атаману с сотником объявить своим людям, чтобы становились на полудневку: отдыхали, мылись, стирали одежду и пекли хлеб.
Казаки и стрельцы переправились на мыс между Ангарой и Тасеевым притоком. Следом за ними туда же переплыли коч Хрипунова и недопившие, недогулявшие промышленные люди встреченной ватаги. Островок опустел.
Иван Похабов, отмахиваясь от наседавшей мошки, с любопытством наблюдал за Илейкой Ермолиным. От злостного недопития тот беспокойно расхаживал между костров. Спина его была прямой, как колода. Он кряхтел, сжимал и разжимал пальцы в кулаки, поглядывал на встречных строго и пытливо. Перепади ему чарка-другая — учинил бы драку. А раз он, Похабов, был рядом, то непременно с ним.
На берегу был поставлен шатер. Казачий голова кликнул лучших людей для совета и беседы. Подьячий позвал Ивана Похабова. Тот насмешливо кивнул Илейке и с облегчением ушел от костра.
Возле шатра стояли бекетовские стрельцы. Михейка Стадухин старался за всех, орал на праздношатающихся, чтобы к шатру не подходили. Одного из охочих выпроводил, поддав ему пинка под зад. Тот ради чарки пытался проникнуть на совет незваным.
Помолясь на воеводские складни, черненные серебром и выбеленные глазурью, собравшиеся расселись на земле.
— Слышали вести от промышленных? — степенно и задумчиво заговорил казачий голова. — И хорошие вести, и плохие. Многие прежние слухи подтвердились. И я в сомнении: то ли воевать с Иркинеем, то ли напомнить прежние клятвы и опять звать его с Лукашкой присягнуть?
Хорошо бы пойти Тасеевой рекой через Чунский волок, к братам, воевавшим против Аманкула, да привести их к присяге. Опять же шаманских, аплинских тунгусов, давших нам ясак, никак нельзя не защитить. Вот и думаю, как быть? — обвел взглядом всех собравшихся.
— Разделяться надо! — подал голос Петр Бекетов и поправил пышные усы казанком указательного пальца.
Казачий голова взглянул на него. Сотник встал и продолжил:
— Хорошо идти целым полком, всем здешним народам свою силу показывать, но лучше разделяться. Коч Чунским волоком не провести, значит, через волок надо идти мне со стрельцами.
— Почему стрельцам? — неприязненно вскрикнул Филипп Михалев. — Стрельцы нынешней весной вернулись небедными. Сколько ясака взяли на государя, сколько на себя, кто считал?
— Мы целовальников возьмем от казаков или от охочих людей, — не обижаясь и не оправдываясь, согласился Бекетов и тайком показал кулак Михейке Стадухину, который разинул было рот для спора и ругани с казаками, но с пониманием шмыгнул носом и страдальчески скривил сжатые губы.
— Казакам бы и идти по Тасеевой, а стрельцам тянуть коч и рожь по Тунгуске! — пробубнил кто-то из дальнего угла.
— Атаман Галкин мне нужен! — как о решенном заявил Хрипунов. — Как-то еще поладим с Сойгой и Иркинеем?
Собравшиеся на совет подумали и приговорили, что сотник молвил разумное слово, пусть налегке идет со стрельцами Тасеевой рекой.
— А чтобы разговоров не было, — снова объявил Бекетов, добродушно поглядывая вокруг насмешливыми глазами, — возьму целовальников от казаков и от охочих людей. Пусть надзирают, что стрельцы берут себе, что государю.
Едва служилые встали, чтобы разойтись, за шатром послышались рык и ругань. Перфильев выглянул из-за полога.
— Ермолины опять рвутся, Яков Игнатьевич!
— Пусти, — добродушно разрешил Хрипунов.
Вошел Васька Бугор. Выпрямился. Взглянул на складни, махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо. За ним, с чрезмерно важным видом, протиснул широкие плечи Илейка.
— И чего вам надобно, крикуны? — на потеху собравшимся спросил Хрипунов.
— Батька воевода! Возьми нас на Сойгу как охочих. Мы знаем те места. Послужим тебе и государю!
— Вижу, не допили! — весело оглядел вошедших голова. — Только у меня одна бочка вина, а в Енисейском, у нового воеводы и у таможенного головы, — много! Ой, прогадаете. Проспитесь и подадитесь в бега!
— Не побежим! — мотнул головой Васька. — В Енисейском за неделю пропьемся. Опять придется в покруту идти. Возьми за добычу, как взял енисейских гулящих?
— Добро! — согласился Хрипунов, посмеиваясь вместе с лучшими людьми полка. — Пойдите проспитесь! И если к утру не откажетесь, без опохмелки — возьму!
Ясным летним утром, на восходе солнца, Ермолины появились возле шатра Хрипунова. Поднялись они затемно, но лица промышленных были свежи. Илейка со смущенной улыбкой глядел под ноги. Васька хмурился и кряхтел, изображая похмельные муки. От прежних просьб ни тот, ни другой не отказались. Но и по чарке не выпросили.
После завтрака и молитв сотник Бекетов с тремя десятками стрельцов, с целовальниками от казаков и охочих людей ушел вверх по Тасеевой реке.
Поредевший полк продолжил путь Ангарой. Стрельцы Савины и Черемнинов ушли с Бекетовым. За кормщика в ертаульном струге остался Иван Похабов. К большому неудовольствию стрельцов Дунайки и Дружинки, которых Бекетов оставил при Хрипунове, он принял к себе Ермолиных.
Три недели ертаулы кое-как терпели друг друга. Дунайка помалкивал и воротил в сторону обиженное лицо с таким видом, будто знал наверняка, что вокруг него одни обманщики и воры. Разумный, сдержанный Дружинка держался со всеми ровно и особняком. В Илейку же Перфильева будто бес вселился. Тощий и верткий, беспутный и ленивый, он всю дорогу задирал тихого в трезвости Илейку Ермолина. Иван то и дело осаживал брата товарища, жаловался подьячему, грозил, что после первой пьянки Илейка его удавит.
На устье Илима завиднелись островерхие тунгусские дю[205]. Чтобы не тесниться, вдали один от другого там стояло три тунгусских рода.
— Три урыкита на одном месте, — удивленно хмыкнул Васька Бугор. — По тунгусским понятиям теснота нестерпимая! Это неспроста!
Ертаульный струг остановился, поджидая другие суда. Завидев множество лодок и людей, тунгусы бросились в лес. Хрипунов велел всем сойти на берег, разбить табор и звать к нему беглецов лаской. А если не пойдут, то ловить их силой. Васька Бугор с отрядом из охочих людей вызвался идти к тунгусам, говорить с ними и аманатить.
— Знаю вас, воров! — недоверчиво пожурил его Хрипунов. — Дам ружья, боевой припас, а вы сбежите!
— Отец родной! — возмущенно закричал Бугор, гулко ударяя себя в широкую грудь кулаком. — Почто думаешь про нас так плохо? Я бы тебе брата оставил аманатом, да он лучше моего тунгусов понимает.
— Знаю вас! — погрозил пальцем казачий голова.
Ивана Галкина с его казаками он задержал при себе. К тунгусам отправил четырех казаков под началом Максима Перфильева. С ними отпустил братьев Ермолиных. Получив ручные пищали, припас пороху и свинца, Васька повеселел.
— Ох и надоел ты мне со своим стругом! — скалясь, бросил Ивану Похабову. — А этот шибздик, — презрительно ткнул пальцем в грудь Илейку Перфильева, — и того хуже.
Брат подьячего от тычка разинул рот и выпучил глаза, как рыбина на суше. Дунайка громко засопел, обидчиво поглядывая на передовщика. Дружинка захохотал. Зная норов братьев Ермолиных, Иван только ухмыльнулся.
Отряд под началом подьячего скрылся в тайге. Вскоре тунгусы стали возвращаться к своим чумам. К ночи вернулись охочие и служилые. Они привели на стан двух аманатов со связанными руками.
После расспросов и бесед с ними Хрипунов снова созвал лучших людей. На этот раз на равных с атаманом, подьячим, старыми сургутскими казаками и стрельцами перед казачьим головой сидели братья Ермолины.
— По словам наших ертаулов, — почтительно кивнул на них голова, — нынче все тунгусы живут по урыкитам. Олени разбежались по тайге нагуливать жир на грибах, мужики постреливают птицу да промышляют рыбу. Мятежные князцы Сойга с Иркинеем, по слухам, сидят где-то неподалеку. Усмирять их надо, пока безоленны? — спросил, внимательно оглядывая собравшихся. — Или как?
— Надо! — загудели казаки, стрельцы и охочие.
— Надо-то надо! — с сомнением качнул головой Хрипунов. — Да вот беда, аплинские тунгусы говорят, что они и шаманские роды претерпели от Сойги так много обид, что рады снова дать нам ясак и жить в мире, как прежде.
Хрипунов замолчал, ожидая, что скажут собравшиеся, поглядывал на них умными глазами.
— Под Шаманский камень тоже идти надо! — вздохнул Перфильев. — Без этого никак нельзя!
— Серебро, по нашим догадкам, где-то здесь или там! — поддержал его казачий голова.
Как ни думали лучшие люди, выходило да выпадало на их судьбы, что надо разделяться. Без мира с мятежными князцами за спиной братов под царскую руку не подвести. С малыми силами идти к многочисленному и сильному народу — дело безнадежное. Опять же — серебро. А если Бекетов со стрельцами уже за порогом да Бог его милует, тогда и к братам можно пожаловать.
Как ни жаль было Хрипунову расставаться с надежными казаками атамана Галкина, но он вынужден был послать их по Илиму против Сойги и Иркинея. А как только объявил свое решение, охочие люди в один голос стали требовать, чтобы их тоже послали с атаманом.
— Нам государь жалованья не платит! — ревел Васька Бугор. — Мы только с воинской добычи имеем прибыль. Что нам серебро да мирные посольства?
Казачий голова вынужден был отпустить с атаманом Галкиным отряд вздорных новоприборных людишек. Под кабальные записи он дал им ружья, огненный припас и ржи по три пуда на человека. Десятским охочие выбрали Ваську Бугра, целовали крест воеводе, атаману Галкину и друг другу. Из старых стрельцов Галкин позвал за собой только Михея Шорина, часто ходившего в дальние службы.
При Хрипунове остались коч, два струга и сорок человек вместе с дочерью и ясырями. Половина из них была из наверстанных, ссыльных и казаков, присланных из других острогов.
Без стычек с тунгусами люди казачьего головы добрались до островов под Шаманским порогом. Рокот падающей воды был здесь так силен, что разговаривать приходилось громче обычного.
Теперь ертаульный струг вел Максим Перфильев. Он с волнением поглядывал на остров, где оставил зимовье. Нимало удивился, увидев дымок над знакомым местом. Невольно заспешил, вырвавшись вперед на версту, и остановился только тогда, когда увидел крышу.
Струги и коч поднимались к острову. Они были замечены из зимовья. На берег выбежали два казака. Замахали руками.
— Вроде Васька с Вихоркой?! — вглядываясь, обернулся к подьячему Иван.
— Вроде они! — настороженно согласился тот. — А с чего бы им здесь быть?
Ертаульный струг с подьячим на носу и Иваном Похабовым на корме на веслах переправился к острову. С других судов служилые наблюдали, как налегают на весла ертаулы, а течение реки проносит их мимо острова.
Бывшие там стрельцы побежали берегом к отмели, бросились в воду, подхватили тяжелую лодку с двух стОрон, помогли подтянуть ее к суше. Уже по лицам братьев Савиных и Черемнинова ертаулы поняли, что никакой беды с ними не случилось.
— Как очу гились-то здесь? С кем? — крикнул Перфильев, высаживаясь на сушу.
— Бекетов к вам послал! — крикнул в ответ Василий Черемнинов.
Не обманул Васька Бугор. Зимовье было целым. Промышленные подновили крышу и ворота. Изнутри вдоль частокола драньем и берестой был накрыт навес. Не сожгли зимовье и ясачные тунгусы.
Переправился на остров и коч. Зачалив его и вытащив на сушу другой струг, казаки от усталости попадали на песок. Казачий голова сошел на берег без обычных почестей, принял поклоны от бекетовских вестовых и велел им рассказывать, как очутились на острове.
— А дошли мы, Яков Игнатьевич, твоим повелением до Чунского волока! — с важностью заговорил Черемнинов. Вихорка Савин стоял за его спиной и кивал. — Взяли ясак с братских кыштымов, с тунгусских князцов Кохони и Кадыма. А прежде нас служилых в тех местах не было, только промышленные. И сплыли мы по Гее за Шаманский камень под Долгий порог. Там нынче кочуют братские князцы Бояркан и Куржум со своими родами. Они доброй волей дали пятьдесят девять соболей свежих, непоротых. Шертовали государю нашему, чтобы быть им под его рукой вечно и неотступно. А допреж нас с братских людей ясак никто не брал.
И казачий голова, и бекетовские вестовые понимали, что такие важные новости не объявляются походя. Хрипунов почувствовал неловкость, слушая про государевы дела, о которых впору отписывать и бить челом в Москву.
— Так-так! — суетливо закивал, поглядывая на кожаный мешок в руках Вихорки. — Разобьем табор, поставим шатер, после договорим и ясак посмотрим. Нынче все люди усталые и голодные.
Поговорить с бекетовскими вестовыми со всеми почестями удалось только на другой день. Хрипунов заново встретил их возле шатра, сидя в кресле. Вокруг собрались все прибывшие с ним из Енисейского острога. К этому времени они знали, что Бекетов объясачил и доброй волей привел к присяге первые братские улусы. Отправив к Хрипунову вестовых, он с отрядом подался за пороги, к устью Оки-реки. Там кочевали враждовавшие с Боярканом братские роды, и Бекетов хотел учинить между ними мир.
С бывших братских данников и мужиков Бояркана было взято семь с половиной сороков соболей, три десятка недособолей и две лисицы.
Среди тунгусов и братов шли непрерывные войны и распри. Все хотели мира и ждали от русского царя, что он восстановит его, хотя бы такой, как был прежде, при мунгалах.
Вести были добрые.
— Тяжко сотнику Петру! — задумчиво покачал головой Хрипунов. Он понимал, что Бекетов неспроста отправил с вестовыми всех ясачных соболей: боялся держать при себе богатство.
— Тяжко! — согласился Черемнинов. — Много раз ходил к князцам и уговаривал их. А теперь пошел к их лютым врагам, к окинским братам.
С неделю люди Хрипунова расширяли и укрепляли зимовье, ездили к аплинским и шаманским тунгусам. Те доброй волей навещали казаков на острове. Как ни тяжко им было видеть порубленные деревья, аплинцы одобряли поставленный бикит, возле которого при нужде они могли укрыться от врагов.
И вот поплыл по воде осенний желтый лист. Вместе с ним на легкой берестянке показался на реке стрелец Михейка Стадухин. Настораживало уже то, что в лодке он был один. Михейка подгреб к берегу. Казаки, черпая сапогами стылую воду, вытащили его лодку на сушу.
— Что случилось, говори давай? — стали расспрашивать стрельца.
Тот, мокрый с головы до ног, тяжело дыша, встал на затекшие ноги.
С хлюпаньем накинул на голову малиновую шапку и хрипло потребовал отвести к голове. Сам Хрипунов, не дожидаясь, когда приведут вестового, вышел на берег в халате и опорках.
— Краснояры одолели, батька! — крикнул Михейка. — Атаманишко Васька Алексеев сплыл по Оке на плотах. — Пояснил, оборачиваясь к сопровождавшим его людям: — С наших ясачных братов силой взял другой ясак, аманатов похватал. Наше зимовье на устье Оки на саблю взять хотел, огненным боем от него отбивались. И послал меня сотник за подмогой. Бог миловал, прошел я все пороги молитвами святых заступников, — перекрестился стрелец, кланяясь на восход.
Зарычал казачий голова, затопал в ярости босыми ногами, схватил себя за бороду.
— Опять на глотку наступил, поганец! Ужо встречу — посеку своей рукой. Пусть нас теперь сам государь судит и свой суд вершит.
— Васька за себя постоять умеет! — недоверчиво поскоблил скулу Похабов, косясь на Стадухина.
— Бесовское отродье! — пуще прежнего вскипел Хрипунов. — Ведь это я выпросил у государя и у старших воевод, чтобы в Красноярах острог поставить. Это я посылал туда Андрейку Дубенского с лучшими людьми. Столько сил положил, чтобы снабдить их рожью. Помогают, куда с добром!
Негодовал Хрипунов. Казаки же с восхищением слушали вести с верховий реки. Стычка с красноярами казалась им пустяком в сравнении с тем, что стрельцы подводили под государеву руку один род за другим, брали ясак, поминки и почести, которых никто не считал.
Не разделяя опасений казачьего головы, почти все служилые и охочие хотели идти на помощь Бекетову. Зимовать на острове, искать серебряную руду и готовить припас в зиму не хотел никто. О том, чтобы расширить зимовье, как предлагал Перфильев, и не слушали.
Не смущало казаков, что нет вестей от атамана Галкина. Роптали они и требовали продолжить путь вверх по реке всем оставшимся отрядом.
— Пробовал я провести через порог этот самый коч, — кричал подьячий, пытаясь вразумить толпу. — Не смог! Здесь зимовать надо. А вверх по реке идти налегке, как Бекетов.
Пуще прежнего накалились страсти на другой день, когда Перфильев объявил, что идет на помощь Бекетову с отрядом в два десятка казаков. Он назвал тех, кого брал с собой. Завыли от обид братья Савины. Дунайка Васильев смиренно качал головой. Губы его кривились: вот, дескать, опять обманули. Иван Похабов, не услышав себя среди названных, был потрясен.
Весь путь от Енисейского острога он молча и терпеливо тянул свою лямку, вспоминая наказы друзей-иноков Ермогена с Герасимом о терпении и скромности ветхозаветных святых. Но тут его терпение лопнуло. Он взглянул на Максимку так, что тот смутился и пробормотал:
— Голова не велел брать тебя и Савиных.
Пока Якунька Сорокин гнусаво бранился с толпой обиженных, Иван с братьями Савиными ворвался в зимовье. Задыхаясь от гнева, налетел на Хрипунова.
— Я тебе кто? Казак или сын боярский? — закричал, напирая грудью на бывшего воеводу.
Из-за спины Хрипунова тихонько вышла Анастасия. Невысокая, худенькая, взглянула на Ивана большими печальными глазами, и он проглотил другие вертевшиеся на языке злые слова. Голова же смотрел на него ласково и виновато.
— Не серчай, кум! — указал на лавку. С первых слов напоминал, что крестил его сына. — Сядь! Поговорим! Ну на кого, кроме вас, мне положиться? — кивнул на Савиных, топтавшихся за спиной Ивана с обиженными лицами. — Оглянись! При мне одни калеки и смутьяны. А как объявится Сойга или Иркинейка. Я-то свое пожил, дело наше общее, хлебный припас, да ее вот — указал глазами на дочь, — защитить некому.
Анастасия в другой раз подняла на Ивана синие страдальческие глаза. Взглянула ласково, просительно. Похабов рыкнул, заскрипел зубами, натянул до ушей шапку и выскочил из зимовья. Следом молча вышли смущенные и сердитые Савины, Вихорка с Терентием.
Перфильев, окруженный набранными им людьми, громко напоминал обойденным, что енисейцы сами выбрали его атаманом, своей доброй волей. И сложил он атаманство добровольно, пока в полку был другой атаман — Галкин.
— Ночей не спал ради вас, крикунов и смутьянов! — кричал, оправдываясь. — Повелением отца нашего, Якова Игнатьевича, писал воеводе челобитные с просьбой наградить вас всех за терпение!
Иван с рассерженным лицом послушал товарища и стал отходить душой. Вспомнил свою правду, зазубренную в застенках Троицкого монастыря, после кремлевского бунта и разбора. Вспомнил наставления молодых тогда иноков Ермогена с Герасимом о том, как ловко переводит бес справедливое возмущение в предательство. Он взглянул еще раз на Савиных и передвинулся из возмущенной толпы к Максимке. Тот все понял по его лицу. Кивнул на него:
— Не вам чета Ивашка Похабов. Товарищ мой от самого Сургутского. А вот не беру. Потому что он здесь нужен. И вместо себя вам его оставляю. Кто еще убережет зимовье и хлебный припас? Кто защитит аплинских и шаманских тунгусов?
Страсти стали утихать. Крикуны выдыхались, отбрехивались, смиряясь.
— Бекетов сливки снял! — завистливо выкрикнул Якунька Сорокин. — Перфильев молоко допьет. Нам пустую кринку вылизывать.
— На всех хватит и сливок, и молока, — оправдывался Максим. — А если без хлеба в зиму останемся, и стрельцам, и мне, и вам будет плохо. На вас вся надежда!
Казаки с Перфильевым да Михейкой Стадухиным уходили под Шаманский порог двумя стругами при двух медных пушках.
— Не дадим красноярам братов! — обещали провожавшим и весело грозились. — Наши они!.. Ваську-атамана поймаем и выпорем!
— Вздуйте его за все! — подначивали отплывающих бывшие бунтари, которые за обиды краснояров ломали Енисейские ворота, а после винились перед Хрипуновым: — Нас предал, нашего воеводу бесчестил!
Скрылись струги за скалами порога. Оставшиеся на острове стали неохотно укреплять зимовье, готовить рыбный припас. Прошло полторы недели. Гуще поплыл по реке желтый лист. Холодными утренниками над стылой водой курился туман. После полудня при ясной погоде караульные приметили в верховьях реки два знакомых струга.
Как-то чудно плыли они к острову. На одном судне, на веслах, виднелось четыре шапки, на другом — пять. Караульные крикнули казаков. Те побежали к Хрипунову. Встречать отряд Перфильева вышли все, даже ясыри и бритый рудознатец в коротком заморском кафтане. Стояли молча, глядели на приближающиеся суда, боясь огласить догадки. А как подхватили струги руками за борта, увидели лежавших на днище израненных казаков. Среди них был и атаман Перфильев.
Анастасия со слезами, которые старалась скрыть, бросилась к нему. Тонкими белыми пальцами стала перебирать ссохшиеся повязки на теле. Приметил Иван Похабов и то, как товарищ взглянул на девушку. Понял вдруг, не случайно тот так долго ходил в женихах. Не по Меченке тосковал. Давно высмотрел невесту и терпеливо ждал, когда созреет.
Из другого струга вынесли тело Поспелки Никитина. Радовался стрелец, что казачий голова не оставил его при себе. А уплывал за своей погибелью.
— Опять Васька? — взревел Хрипунов, вращая глазами.
Максим, превозмогая боль, прошептал одними губами:
— Иркинейка!
Раненых вынесли на берег. Кого усадили, кого положили. У Максима были пробиты навылет обе руки. Третья стрела угодила в бедро. Михейка Стадухин выхаживал туда-сюда, прихрамывая и сгибаясь всем телом, как цапля. Он мог лежать на брюхе, мог стоять. Сидеть не мог, оттого и не греб. Якунька Сорокин не удержался, съязвил, мстя за прежние насмешки:
— Выпороли тунгусы? Или чё ли?
Михейка бросил тоскливый и презрительный взгляд на его шрамленую рожу. Не ответил.
Со множеством ран вернулись и другие. У Агапия Скурихина были прострелены обе ноги. Он посмеивался сам над собой, кривя рот, удивлялся случившемуся несчастью:
— Вот ведь.
Филипп Михалев принял стрелу в бок, между ребер. Всего же было переранено одиннадцать человек. Илейка Перфильев, без единой царапины, на вопросы обступивших его людей отмахивался, бормотал невпопад, что пушки и ружья привез в целости.
— Луки у них! — тоскливо отвечал раненый атаман. — Дальше наших пищалей стреляют, брони пробивают. Да и по меткости огненному бою не с ними тягаться: от нас только грохот и дым.
Раненые постанывали, оправдывая свое поражение. Невредимые смущенно поглядывали на недавно завидовавших им товарищей. Васька Черемнинов, уцелевший, как и Илейка Перфильев, гонял желваки по скулам в редкой бороде, заумно бормотал:
— Победы и поражения дает Господь!
Опустил голову, сник минуту назад гневавшийся Хрипунов. Стал утешать атамана.
— Знать, погрешили мы против Бога!
— По грехам Он разум у меня отнял! — кручинился атаман. — За Шаманским порогом бывшие наши ясачные князцы Иркиней, Боткей, Лукашка Тасеев подошли со своими людьми, человек до двухсот. Обещали ясак дать, приманили к себе. Хотел я аманатов у них взять для верности. А они, забыв государеву милость и правду, на чем клялись, стали стрелять из луков.
Прибывшие начали расходиться по балаганам. Кто мог, пошел сам. Других несли или помогали им идти. Максима Перфильева Анастасия велела занести в сенцы зимовья.
До самого вечера никто не работал: мылись в бане, ели, отдыхали, копали могилу Поспелке, долбили колоду для покойного стрельца.
Василий Черемнинов где-то добыл чарку наравне с ранеными товарищами и щурился от неутолимого желания выпить другую. Но и одна чарка развязала язык.
— Что с того, что у нас две пушки? — ругался, будто его в чем-то обвиняли. — Из них с полусотни шагов в коня не попасть. А тунгус из своего клееного трехслойного лука за сто шагов в гуся не промахнется.
Утром Хрипунов собрал для совета всех бывших на острове казаков, стрельцов и охочих людей. На этот раз никто не кричал, не ярился. После молитв казачий голова сел напротив собравшихся, погладил рукой резной ларец и объявил со строгостью в лице:
— Здесь наказная грамота Сибирского приказа. Ругают нас, что сидим в остроге, ради своей прибыли торгуем с сибирскими народами. И велено нам искать серебряные руды, подводить под государеву руку братские и другие народы, которые ждут нашего закона и порядка, а изменников казнить милостиво, приводить к новой присяге. Про то, чтобы воевать с красноярами, с иными казаками, ничего не сказано. Как они очутились впереди нас? Чьей волей? Не знаю! Прошлый раз исполнились мы праведного гнева против злодеев. А Бог наказал! Сами пострадали.
Зароптали казаки, возмущенные смутными словами казачьего головы. Михейка Стадухин из-за раны жердиной топтался у ворот зимовья. Услышав ропот, бросил иод ноги стрелецкую шапку.
— Не оказать помощи товарищам в осаде. Хоть бы и против наших, бывших. Грех неотмолимый!
— Петруху Бекетова в беде не оставлю! — поддерживая стрельца, крикнул Иван Похабов и бросил свою шапку рядом со стадухинской.
Хрипунов, свесив голову, терпеливо переводил печальные глаза с одного на другого и слушал всех, пока не утих шум. Затем он поднял руку и объявил:
— Царь далеко. Пока наши жалобы дойдут, браты и тунгусы скопом под Енисейский острог подступят. Принудить вас воевать с красноярами — не имею власти! Сотника Бекетова оставить без помощи никак нельзя. Вы знаете, как хитер Васька-атаман.
— Не дадим красноярам братов! — завопили казаки. — Наши они ясачные!
— Ну, что ж! — повеселев, согласился Хрипунов, будто ждал этих слов. — Заводите круг, по своему казачьему обычаю. Решайте, как быть. А я соглашусь с вами. Только помните: дело смутное. За него награды не дадут, а под кнуты положить могут.
Последние слова казачьего головы потонули в шуме голосов и не были услышаны.
— Похабу атаманом! — неожиданно для Ивана закричал Якунька Сорокин.
— Похабу! — поддержали зимовейщики.
— Нельзя Похабу! — пытался перекричать казаков Василий Черемнинов. — Он товарищ атаману Ваське Краснояру.
— Он и Бекетову товарищ! — яростно вскрикнул Михейка Стадухин, отталкиваясь локтями от тына, — А как Енисейский громили, он один против Васьки стоял. Не вам чета! — напомнил прошлое.
— С нами он был, — поддержал стрельца Вихорка Савин, — когда вы с Васькой да с Грихой енисейские ворота ломали!
Его брат, Терентий, смущенно водил глазами, не встревая в спор.
— Похабу! — поддержали зимовейщиков раненые. — Он в воинском деле искусен.
Противники умолкли, Черемнинов с недовольным видом задрал нос, показывая свое молчаливое несогласие.
— Похабу так Похабу! — согласился Хрипунов, поглаживая ладонью ларец с грамотами.
Круг решил идти на помощь Бекетову двум десяткам казаков и стрельцов под началом Ивана Похабова. Дал наказ: если смогут мирно договориться с красноярцами — не воевать. Если же Васька-атаман станет противиться и нападать — бить его нещадно.
К вечеру служилые и охочие люди просмолили подсохшие струги, на которых вернулся Перфильев. Пушек Иван брать не стал, вооружил отряд ручными пищалями и луками. Хлебного припаса взял на месяц, до холодов.
Едва поднялось над тайгой усталое осеннее солнце и начал рассеиваться туман, казаки подкрепились едой и питьем, получили благословение казачьего головы. После молитв поплыли на веслах к коренному берегу.
Путь через Шаманский камень был известен Василию Черемнинову, Илейке Перфильеву, братьям Савиным, Михейке Стадухину, который с ранами возвращался к сотнику и товарищам. Вызвался идти с Похабовым и Филипп Михалев. Его рана была неглубока и быстро заживала. Их и послал вперед Иван ертаульным стругом.
Высадившись на берег, служилые привычно разобрали бечевы, встали на шесты. Призвав в помощь силы небесные: ангелов-покровителей, Богородицу и Николу Чудотворца, помощника всех сибирцев, двинулись против течения реки.
Грохот воды усиливался. И вот впервые Иван Похабов увидел Шаманский порог. Река расширялась каменистой отмелью. На глаз был заметен перепад воды. Пенилась и клокотала она у торчавших камней, которые загораживали реке проход. По словам бывальцев, порог тянулся на четыре версты. Судя по солнцу, русло реки в этом месте выгибалось огромной лукой. Но бечевник — пеший, сухой проход правым берегом — был.
Бог миловал. К вечеру первый порог был пройден без стычек с врагами. Ружейный и съестной припасы остались сухими. Вскоре два струга вышли к устью притока, на котором Бекетов взял ясак с первых братов. Скалы расступились, сменились лесистыми холмами. Открылась долина, которую тунгусы называли Геей.
Возле устья притока стоял одинокий тунгусский чум. Никто не вышел из него, никто не убежал в лес. Шум воды был еще силен, но тут можно было разговаривать без крика. Похабов поднялся на корме в полный рост, указал место на берегу. Туда, на ночлег, казаки потянули свои суда.
— Обнаглели нашим попустительством! — ярился Михейка Стадухин, указывая Ивану на урыкит. — Идем мстить за добро и ласку, а они не шелохнутся!
— Почему знаешь, что эти, а не другие тунгусы вас воевали? — строго спросил Похабов.
— А вот мы посмотрим, — зло усмехнулся Михейка и обернулся за поддержкой к Черемнинову. — Кожи на чуме должны быть прострелены картечью!
Струги подошли к пологому берегу, куда указал атаман. Усталые люди вытащили их на песок, перевернули вверх дном. Задымили костры. Не дожидаясь ужина, атаман повел на урыкит хромавшего Михейку Стадухина, Василия Черемнинова да Илейку Перфильева, который говорил, будто помнит в лицо стрелявших тунгусов.
Из чума вылезли дети, женщины и старик. Служилые со злобными лицами обступили их, стали расспрашивать. Дети испуганно жались к женщинам. Старик растерянно мигал узкими слезившимися глазами. Мужики рода были то ли на промыслах, то ли бежали. На кожах чума Иван не нашел следов стрельбы. Илейка вертелся юлой, выискивая, к чему придраться. Схватил черный от сажи чугунный котел.
Вырвав котел из его рук, Иван прикрикнул на служилых:
— Хватит баб пугать! Спросите, когда они пришли сюда. Что видели?
— Уже спрашивал! — хмуро выругался стрелец. — Говорят, будто платили ясак братскому князцу Куржуму. Третий день стоят. Ничего не видели, — Михейка недоверчиво пытал старика, а Илейка презрительно хмыкал.
Старик, опознав в Похабове сонинга, успокоился. Залопотал, глядя на него изъеденными гнусом глазами. Стал указывать вверх по притоку. Там, в полусотне шагов, виднелся круг вытоптанной земли и чернело выстывшее кострище.
«Стоял сонинг Чалуня, — без толмача понял его Иван. — Может быть, он и воевал».
— Говорит, молодых спросить надо! А тех молодых будто бы мы, лучи, забрали силой, — добавил Михейка. — А сам он будто плохо видит. Брешет, нехристь!
— Все! — строго приказал атаман. — Пошли на стан!
Из патронной сумки, опоясанной шебалташем, он достал горсть бисера. Насыпал старику в ладонь. Приметил, как зорко блеснули в щелках глазниц зрачки, высматривая золотую пряжку с двумя головами.
Выше стана река, вырвавшись из теснины Долгого порога, разливалась широко и привольно. Текла она здесь медленно, будто набиралась сил и терпения перед новой преградой. После ужина и вечерних молитв Похабов призвал к себе всех ходивших с Перфильевым, стал советоваться, как уберечься от враждебных тунгусов.
— С ними после воевать будем. Сотник ждет, к нему надо спешить!
По словам Стадухина, Долгий порог тянулся почти на десять верст. А версты те никто не мерил. Бечевника там нет. В иных местах идти надо завозами якоря. А скалы над головой высокие, отвесные. Враждебные тунгусы могут побить сверху камнями.
И надумали служилые отправить вершинами гор трех казаков. Как ни трудно без них тянуть струги против беснующейся реки, но польза от ертаулов ожидалась большая: и разведка, и защита, и упреждение от нападений.
— Я смолоду на ноги был шибко прыткий! Бывало, от коня убегал! — стал хвалиться Якунька Сорокин, услышав разговоры. Ему хотелось лезть в гору или очень не хотелось тянуть струг. И Похабов отправил его вперед со стрельцами Савиными. На рассвете они взяли две ручных пищали, большой тунгусский лук и полезли на гору.
Высоко поднялось солнце, когда струги двинулись вверх по реке, к Долгому порогу. Русло Ангары становилось все уже, скалы все тесней сжимали его. Двое сели в легкую берестянку. На шестах стали проталкиваться против течения с завозным якорем на борту. И тут сверху послышался выстрел.
Иван задрал голову, увидел ертаулов. Все трое отчаянно махали руками и указывали вниз. Судя по знакам, кто-то плыл через порог.
— Краснояры! — догадался и закричал стрелец Стадухин.
Похабов окинул стрежень взглядом. Знаками велел вернуться берестянке, а черемниновскому стругу плыть на другую сторону и поджидать гостей. Они не могли остановиться посередине порога. Река несла их прямо в руки енисейцев.
И вот среди бурунов показался плот, связанный надежно и умело. Четверо казаков стояли на двух передних гребях, двое на заднем весле. Между ними — кормщик. Посередине на высоких козлах лежали ружья. Плот зарылся в последнюю волну, захлестнувшую гребцов до колен, и закачался на тихой воде. Следом выходил из бурунов другой плот, такой же ладный и крепкий.
Иван невольно залюбовался слаженными взмахами весел и действиями мокрых с головы до ног гребцов. Свистнул, махнул рукой. Его казаки в струге налегли на весла. С другого берега к плотам плыл Черемнинов. Уйти им, тихоходным и неуправляемым, было некуда.
«Эх, Васька, Васька!» — с тоской подумал Иван. Как поведут себя краснояры, он не знал и не гадал. Рассудил, что встреча все покажет. Кто первый начнет стрельбу, на том и грех. Пищали были наготове. Тлел трут. Сухие фитили гребцы держали за пазухой. Иван стоял на носу струга и поигрывал темляком сабли.
На двух плотах было пятнадцать человек. Как ни мокры были они, но со струга стал различаться малиновый цвет кафтана на передовщике. Иван с недоумением щурился, приглядывался. Вели себя люди на плотах чудно. Завидев струги, замахали руками, заплясали, потом схватились за пищали и наставили стволы, но не на Похабова, а в низовья реки.
Иван мимолетно оглянулся. Из устья Геи, неподалеку от тунгусского чума, вышли два струга, битком набитые гребцами и сидельцами. За ними выплыл тяжелый плот со множеством людей.
На какой-то миг атаман растерялся, замотал головой, пристальней взглянул на плотогонов, которых принял за красноярцев, и узнал в передовщике коренастого Петра Бекетова с короткой бородой по щекам.
— Так это же стрельцы! — тут же вскрикнул Стадухин.
С плота дали залп из двух пищалей. Веретеном заклубился по воде голубой дым. Заплясала на речной глади картечь, не пролетев и четверти пути до стругов с плотом.
— Загребай! — крикнул атаман правому борту.
Черемнинов, с другой стороны, уже понял ошибку и разворачивал струг по течению.
Красноярцы гребли слаженно. На каждом весле сидело по двое гребцов. Крыльями птиц поднимались они над водой и опускались в нее. Их атаман явно не хотел перестрелки. В запале погони Иван Похабов схватился за загребное весло, сев рядом с Илейкой Перфильевым. Михейка Стадухин, сгибаясь коромыслом и задирая израненный зад, неловко помогал на корме Другому гребцу. Вскоре он плюхнулся на лавку, забыв про раны.
Двое из красноярских служилых перепрыгнули с плота на струги. И те, сидевшие в воде по самые края бортов, стали быстро уходить по течению к Шаманскому порогу. Неуклюжий плот, набитый людьми, был брошен. На нем спина к спине сидели связанные аманаты.
Иным енисейцам показалось, что это бегство. Они радостно завопили, налегая на весла. Похабов обернулся. Он знал атамана Ваську Алексеева и понял, что это не бегство, а насмешка. Красноярцы не желали кровопролития, а все преимущества боя были на их стороне.
Иван бросил весло. Ослабили напор и другие гребцы. Безнадежно свесил за борт бороду Филипп Михалев. Дунайка с Дружинкой раз и другой с кряхтеньем гребанули и смирились: поняли — не догнать беглецов. Опустились весла и на черемниновском струге. Василий велел подгребать к стрельцам на плотах.
Похабов указал в сторону брошенного Васькой плота. Тот боком застрял на отмели ниже устья притока. Люди на нем продолжали сидеть без всякого движения. Гребцы струга, то и дело оглядываясь, вяло подгребли к ним. Они оживились, когда разглядели на плоту красноярского казака. Удивляя енисейцев, тот одиноко сидел в стороне от аманатов и равнодушно посматривал на приближавшийся струг.
Василий Алексеев своих людей не бросал. Гадая, какую хитрость придумал атаман, Похабов высмотрел, как ловко он сплавлял пленных. Посередине плота было положено бревно. Возле него, спина к спине, сидели браты и тунгусы. Их было два десятка.
Струг ткнулся носом в край плота. Михейка Стадухин с воплем прыгнул на него, будто его раны на седалище присыпали солью. С маху бросился на красноярского казака и наткнулся на его крутой кулак. Не ожидая от пленного такой прыти, Михейка шумно плюхнулся в воду, в другой раз вскочил на плот без шапки, мокрый, с дурными глазами, выхватил из-за голяшки бахила засапожный нож.
Похабов заорал на стрельца, размахивая веслом. Тот сунул нож на место, но мстительно ударил красноярца по лицу. Казак тоже свалился в воду и долго барахтался в ней. Когда его вытянули на плот, увидели, что нога пленного в пеленах, с привязанной к ней отщепленной доской.
Илейка, перегнувшись через борт струга, выловил плывущие шапки, бросил их к ногам тому и другому. Стадухин срамословил и грозил увечному. Сквозь шум воды слышно было, как он поносит казачьих матерей. Иван молча оттолкнул его от красноярца, указал на аманатов, чтобы освободил их от пут. Хромого и мокрого казака вывел на берег и стал расспрашивать. Разбитое лицо красноярца показалось ему знакомым.
— Да Васька я Москвитин! — отвечал тот. — С братом Ивашкой рожь возил в Енисейский. Встречались мы в Маковском.
— Вон что! Дружки Угрюмкины из торговых да из промышленных! — признал молодого Иван. — Как в казаках-то оказался?
— Уж два года как проторговались. Наши барки с хлебом утонули. И поверстались с братом Ивашкой в Красный Яр, острог ставить, с киргизами воевать! — отвечал тот, небрежно поплевывая кровью с разбитых губ.
— И то правда, давно вас не видел! — кивнул Похабов.
— Шелковниковы торгуют с прибылью. Федотка Попов расторговался в Тобольском — куда с добром! Несколько лавок под ним. С десяток барок отправляет каждый год к вам да в Томский.
— Ладно! — проворчал Иван. — Не казак службу выбирает, служба — казака! Скажи, зачем против своих воевали? Стрельцов наших пограбили?
— Мы — служилые! — пожал плечами Москвитин. — У атамана на руках наказные памяти Дубеиского и старшего томского воеводы, чтобы идти нам в браты, подводить их под государеву руку и ясачить!..
Михейка Стадухин освободил аманатов, те сошли на берег. Никто из них не разбегался. Присели на корточки у воды, посматривали на казаков, тихо переговаривались. Михейка содрал с тела мокрую одежду, отжал штаны и рубаху, надел их сырыми и прыгнул обратно в струг.
Подгребая непомерно длинными веслами, к устью притока подплывали плоты бекетовских стрельцов. Струг Черемнинова подталкивал один из них. Другой сносило стороной.
Не задался день, как мыслился с утра. Обнялись сотник с атаманом, сели у разведенного костра. Короткая борода Бекетова то и дело вызывала насмешки казаков. Густая, как медвежий загривок, щетина торчала из щек дыбом. На нее, как на полку, можно было положить и корку хлеба, и нож.
— Ловко ушел Васька-атаман! — усмехнулся сотник и расправил мокрые усы по заросшим щекам.
— Что делать будем? — спросил Иван, прежде чем вызнать о стрелецких бедах. — Ваську догонять?
Бекетов поскоблил пятерней густую и жесткую бороду. Усмехнулся:
— Сдуру да в отместку можно и догнать! А если по разуму, то утром я на твоих стругах поплыву к Хрипунову за ржаным припасом. Мне без него никак нельзя. Я на Оке в зимовье трех сидельцев оставил. Рыбой да кореньями живут. А ты с аманатами разберись. Какие сами уйдут по своим улусам — не держи. Окинские браты без нас обратно не пойдут. Побьют их в пути. Ты их защити и дождись меня.
Разумно говорил сотник, не поддавался бесовским страстям.
К вечеру люди просушились. Бекетовские стрельцы наелись хлеба, который у них давно кончился, и устало поругивали красноярцев. Без прежнего зла выспрашивали Ваську Москвитина, врага со сломленной ногой. Тот отбрехивался за всех уплывших:
— Канский тунгусский князец Тесенник дал нам ясак доброй волей, просил помочь в войне с братскими людьми. Путь указал. Вожей послал. С наказными грамотами своего и томского воевод шли мы от Канского зимовья до Братского брода судами пять дней. Оттуда до реки волоклись шесть дней. Лошадьми, говорят, ходу там полтора дня. А мы струги бросили. От Бири до Уды — шли пешими два дня. Там первые братские кыштымы кочуют. Они сказали нам, что дали ясак казакам.
Завещано Господом — от своих терпеть. Оголодали мы. Чуть живы вышли на Оку. Тамошние браты нам говорят, дали уже ясак казакам. Брешут, думаем. Взяли с них ясак. Плывем плотами, а на устье стоит зимовье. Енисейские стрельцы замкнули реку и орут: «Наше тут все!» Это что? По-христиански? — стал поругиваться Васька Москвитин.
— Я те, сын бл…н, мало зубов повышибал? — вскипел Михейка Стадухин, возмущенный вольными речами. — Кто на зимовье шел с огненным боем? Кто орал: «Наше тут все?»
— А что вы залезли к нам? — огрызнулся красноярец. — У нас наказная память старшего воеводы.
— А у нас — главного, тобольского, да Сибирского приказа! — возмутились стрельцы, вскипая прежними обидами.
— Угомонись! — пресек раздор Бекетов. — Аманатов стыдитесь: расскажут, как царские люди меж собой грызутся.
Служилые у костров примолкли. В стороне своими костерками пленные тунгусы пекли рыбу. Братские мужики без жадности поели ржаной каши из казачьих котлов, безучастно прилегли вздремнуть.
— Ты-то что не ушел с ними? — с неприязненным видом спросил Москвитина Якунька Сорокин.
— Ногу пожалел! — так же неприязненно, с вызовом ответил Москвитин. — Браты поломали! Эти вот, — кивнул на лежавших. — А безногий кому нужен?
— Что-то не припомню тебя среди краснояров? — прищурился на казака Бекетов.
— Знать, не геройствовал против христиан, — с важностью ответил тот. — И буйных удерживал от кровопролития.
— Ишь как заговорил! — опять засрамословили стрельцы. — Умел грабить, умей ответ держать!
— Да кабы не атаман, мы бы ваше зимовье за час на саблю взяли. — Москвитин презрительно скривил губы с подсохшей коростой, чем опять вызвал возмущенные выкрики. — Он удерживал от кровопролития!
— Наши струги отбил. Другой ясак взял с окинцев. Аманатов захватил силой! — проворчал Бекетов, пристально разглядывая казака. — Как теперь новый мир делать с эхиритскими родами? Они нас добром к себе зазвали.
— От Красного Яра до них ленивый за месяц дойдет, — все подстрекал к спорам ершистый казачок. — А вы туда сколько шли? — вскинул насмешливые глаза.
Стрельцы и казаки примолкли, не зная, что ответить на каверзный вопрос, которому из острогов была передана мунгалами через русского царя здешняя земля и кому со здешних народов брать ясак.
— Из Енисейского по жребию казаков посылали, чтобы Красный Яр строить, рожь вам возим, чтобы нас защищали!.. Защитили! — с укором пробубнил Михейка Стадухин.
Иван Похабов лежал на боку у костра. Равнодушно поглядывал на переругивавшихся. Радовался, что стычки с Васькой не произошло. Бог миловал, и все обошлось миром.
— У Бояркана с Куржумом зачем аманатов взяли? — продолжал расспрашивать красноярского казака Бекетов.
— Мы к ним с добром шли, звать под нашего царя, — пожал плечами Москвитин. — А они против нас войско выставили. В бронях, с луками, с пиками вышли к реке. Троих ранили, мне ногу переломили дубиной. Кабы мы аманатов у них не взяли, они бы до устья на конях за нами гнались и стреляли бы из луков.
Казаки и стрельцы снова примолкли. Молчавший до тех пор Похабов зевнул, показывая, что говорят и спорят о пустяках.
— В зимовье под Шаманским камнем полтора десятка раненых казаков, Хрипун с дочкой, с немцем да с ясырями. Я Ваську Алексеева знаю. Озлобится, в раж войдет — не только зимовье разнесет, в недобрый час и кровь пустит. И все потому, что воеводы да московские дьяки меж собой не договорились, кому и где ясачить.
Казаки со стрельцами молчали. Окинские браты стали готовиться к ночлегу: сложили горку из камней, вокруг нее развели большой костер. Балаганцы держались особняком, поглядывали на них неприязненно. Тунгусы сидели на корточках, уткнувшись носами в дымокуры.
Бекетов оставил Москвитина и пошел к ясырям. Бойко залопотал, обращаясь то к одним, то к другим. Ему охотно отвечали. В незнакомой речи слышались обиды и жалобы.
Зябким туманом подернулась черная, стылая гладь воды. Некоторые казаки и стрельцы уже мирно всхрапывали, вытянув ноги к костру. Трое с пищалями ушли в караулы. Поговорив с пленными, вернулся Бекетов. Присел рядом с Похабовым. Привычно вытянул ладони к огню. Взглянул на Ивана:
— Сами они не разойдутся. Думаю, надо сделать так: мы утром сплывем на ваших стругах к зимовью, возьмем рожь и сразу вернемся. А ты с честью вернешь Бояркану его людей. Окинских братов защити от здешних. Встретимся, я их у тебя заберу и поведу обратно. Мимо не проеду.
— Не разминемся! — согласился Иван.
— Даст Бог отбить свои струги у Васьки, твои у зимовья оставлю. Не отобью. Мне без стругов никак нельзя, а новые делать некогда.
— Да уж, сплывем как-нибудь, плотами! — сонно пробормотал Иван и спросил, позевывая: — Чем отдариваться за Васькины грехи?
Откинул полу кафтана. Тускло блеснула золотая пряжка шебалташа. Высыпал из патронной сумки бисер на ладонь.
— Все, что осталось!
— Казенной рухлядью одаривай! — приказал сотник. — Чем еще? Оправдаемся! — Покосился на пряжку. — А эту безделушку тебе бы снять: за угрозу могут принять, а тебя за царского палача и убивца.
Сырым туманным осенним утром, когда так не хочется отрываться от костра, стрельцы столкнули на воду струги. Покашливая, ежась от стужи, сели за весла. Монотонно шумели пороги.
— Погоди, хоть туман рассеется! — попробовал удержать товарища Похабов.
— Я Шаманский камень много раз туда-сюда, — молодецки глянул на атамана Михейка Стадухин. — И ночью проведу!
Он шел кормщиком на первом, ертаульном струге. Братьев Савиных и Черемнинова Бекетов оставлял в отряде Похабова для посольства. Он махнул на прощание Ивану, кивнул, напоминая взглядом уговор. Струги стали растворяться в тумане.
Взошло солнце. Потеплело. Осенний денек обещал быть ясным. Иван спросил тунгусов, кто из них хочет уйти в свои кочевья, одарил за обиды остатками бисера, накормил кашей и отпустил. Окинцы не шелохнулись. Браты Бояркана сидели с важными, насупленными лицами. Их предстояло вернуть с честью.
— Вам надо идти в посольство! — напомнил атаман наказ сотника стрельцам Савиным и Черемнинову. — Вы в улусах Бояркана бывали. Князцов знаете.
Черемнинов, думая о своем, хмуро покачивал головой:
— Семерых берестянка не выдержит! А браты на бечеве пешими не пойдут!
— Не пойдут! — согласился Похабов. — Посадите их в почесть и тяните бечевой. Обратно налегке сплывете.
Он вытряхнул из мешка десять соболей, оставленных Бекетовым. Потряс их, разглаживая примятый мех.
— Отдадите за обиды! — строго обвел взглядом стрельцов. — А ответных даров не требуйте. Отпустят с миром, и слава богу. Не отпустят — через три дня придем на помощь.
Черемнинов при сабле, Савины при топорах бросили в легкую лодку пищаль, лук со стрелами. Взяли хлеба и квасу в дорогу. Старшего из братов посадили в середину шаткой берестянки. Другие, опасливо косясь на него, сказали, что пойдут пешими. Василий встал на шест. Савины привычно впряглись в бечевы и потянули лодку против течения к устью притока. Трое молодых балаганцев в остроконечных шапках и камчатых халатах, переваливаясь с боку на бок на коротких ногах, заковыляли следом. Толстые черные косы качались по дородным спинам от плеча к плечу.
Иван перекрестил удалявшихся людей и занялся другими делами. Окинцы поглядывали на казаков злыми и голодными глазами. Для них хлеб — забава, рыба — не еда. Надо было добывать мясо. Идти на мясной промысел вызвались Якунька Сорокин с Илейкой Перфильевым. С ними просились еще четверо. Но не отпустил их атаман, заставил караулить табор, ловить рыбу, строить укрепление.
Из разобранных плотов он решил поставить две стены со стороны реки. Подход от леса велел завалить зесекой. Немирные тунгусы, разбившие отряд Максима Перфильева, могли напасть в любой миг. Нив лесу, ни на открытом месте полутора десяткам казаков устоять против них было не по силам.
— Ну вот, как всегда! — пробуя пальцем лезвие топора, прогнусавил Дунайка Васильев и поднялся на работы. — Стрельцов — тарасун пить, брательника подьячего со ссыльным — по лесу гулять, а меня — строить им засеку!
Нападение — дело обыденное, к нему казаки были готовы. Недоброе предчувствие томило грудь атамана, он боялся за Илейку с Якунькой и даже жалел, что отпустил их на промысел. Но беда пришла с другой стороны.
На следующий день к вечеру на устье притока показалась берестянка. Двое стрельцов неспешно подгребали веслами. Течение несло их к засеке. Василий с Терентием сидели в лодке без шапок. И чем ближе подходили они к табору, тем беспокойней глядели на них встречавшие. Кинулись к воде вытащить лодку на берег и закрестились, заглядывая в нее. Скинули шапки.
По лицам казаков атаман понял, что случилось. Неспешно вышел из засеки, опустил взгляд на днище лодки. Там на спине лежал Вихорка. Лицо его было белым и чистым, горло и зипун залиты черной, ссохшейся кровью. Убитого вынесли на берег. Терентий опустился перед ним на колени и тихонько завыл, сжимая голову руками.
Иван вскинул глаза на Черемнинова. Их тесно обступили казаки. Сутулясь, гоняя желваки по скулам, Василий заговорил:
— Прибыли к братам. Увидели нас с выпасов, призвали подмогу. Прискакал тощий князец в доспехах, Боярканов брат. При нем толмач с драной мордой. Браты похватали аманатов под руки и давай нас дубьем охаживать. Еле отбились. И князец своих людей плетью разогнал. Я ему через толмача говорю: «Погрешил против тебя Васька-атаман. Воровством твоих людей взял. А мы их по правде государя нашего возвращаем, потому что вы ему шертовали на вечное холопство».
Похабов сжал зубы. Подозрительно сузились его глаза.
— Соболей дал? — спросил жестко.
— Как не дать? — сердито засопел Черемнинов. — Дал! И доброе слово молвил. А браты опять на нас с дубьем. «Ладно, — думаю, — пострадаем за друзей-товарищей во славу Божью». Князец снова их плетью. Отогнал. Живыми бы уйти, думаем. Какое там почетное посольство! Сели в лодку.
Саженей на двадцать отплыли. Вихорка и захрипел. Одну только стрелу пустили вслед, а она ему в горло. Кровью истек в пути.
Вновь накрыла землю осенняя ночь. Сырая стужа ползла по речной глади, подступалась к кострам в засеке. Над головой ярко светились низкие крупные звезды, то и дело срывались вниз, кремешками чиркая по небу. Потрескивал костер. Едкий дым то стелился по земле, то с искрами уходил ввысь.
Мерно и приглушенно слышался перестук топоров. Казаки тесали крест, долбили расщепленную надвое лиственную колоду. Крест делали небольшой: чтобы не надрываться душе, волоча его на Великий суд, и не малый: чтобы виден был всем плывущим.
Околевшего покойного раздели и обмыли. Тело его с повеселевшим лицом лежало под звездным небом. Товарищи в черед читали молитвы, какие кто знал и помнил.
Подремывал атаман и все думал о предстоящем посольстве к Бояркану. Тот ли это князец, которого он выкупил у Васьки с Гришкой, или другой? А идти надо. Не мстить за убийство товарища нельзя и нельзя начинать войну ради мщения.
С душевным теплом Иван вспоминал Савину. Овдовела, бедная, с двумя детьми. Такая женщина в Сибири не пропадет, но жаль было и ее, и осиротевших Вихоркиных детей.
То впадал в дрему атаман и обрывки глупых снов пробегали перед взором, то стихал в ушах монотонный шум порогов и перестук топоров. Снова открывал Иван глаза и прислушивался: рокотала вода на камнебоях, позванивала сталь и трещала щепа, слышалось бормотание молитв над телом.
К рассвету сердце остыло и унялась ярость. Теперь надо было выспаться и идти в посольство.
К полудню предали земле тело стрельца Вихорки Савина на устье речки, которую даже тунгусы называли по-разному. Поставили крест. Поклонились ему до земли. Крестясь и кланяясь, обошли могилу три раза. Помянули тем, что было.
Вернувшись к делам дня, Похабов объявил:
— К братам со мной и с Васькой пойдут четыре доброхота, кто желает за правду постоять. Другие здесь останутся окинцев защищать, ждать стрельцов. — Взглянул на Терентия Савина и добавил: — Ты останься, пока не уймется ярость в сердце!
Добровольцев оказалось восемь. Все были готовы заодно с атаманом сложить голову, но за товарища отмстить. Всех их Иван пытал про тайные помыслы. Оставил вместо себя в засеке Тереха Савина, дал ему наставления. Ругать Москвитина и собачиться с ним запретил всем настрого.
Ранним утром добровольцы попрощались с товарищами и ушли тем же путем, что прежнее посольство. Потянули бечевой берестянку с черными пятнами засохшей крови.
Поднимались они по притоку весь день. К ночи могли бы дойти до братских выпасов, но заночевали, чтобы отдохнуть перед встречей и явиться до полудня. Дым костра был замечен. Раз и другой показывались в сумерках всадники. Но близко к стану не подъезжали, ночью не беспокоили.
Поднялись казаки хмурым осенним утром. Раздули тлеющий костер, умылись. Помолясь Господу, просиявшему во Святой Троице, да заступнице Богородице, да Николе Чудотворцу, подкрепились едой и питьем. Уходить от костра не спешили, пока не разгулялся денек. Но вот схлынул с реки туман, в сырой желтой листве берез и осин заблестело солнце.
— С Богом, братья! — поднялся атаман и залил костер из котла.
Казаки продолжили путь. Падь притока расширялась просторной долиной. Берега ее были пустынны: без кустика, без деревца. Земля на склонах сильно вытоптана и потравлена скотом. Здесь и поджидали посольство всадники.
Полсотни братских мужиков сидели верхами на лошадях. За их спинами, крест-накрест, торчали концы луков и колчанов со стрелами. Многие были с пиками. Иные поперек седел держали дубины. Посередине и впереди полусотни на черном жеребце выделялся дородный князец в броне и в островерхом шлеме. По правую руку от него в высоком седле сидел поджарый, как тунгус, знатный воин. Робкое осеннее солнце блистало в его латах и шишаке. На боку молодца висела сабля. Их кони били копытами, грызли удила и пускали тягучую слюну до земли.
В дородном князце Иван узнал бывшего ясыря, выкупленного у Васьки с Гришкой. Встреча с ними меняла его расчеты и думы о посольстве. Обернувшись к казакам, Похабов велел запалить фитили на пищалях, укрыться за лодкой и ждать его. Придерживая саблю левой рукой, он сделал полтора десятка шагов к всадникам, остановился и выкрикнул:
— Поговорим, хубун?
Дородный князец его понял. Может быть, узнал. Он тряхнул поводьями. Вороной жеребец, выгибая шею и пританцовывая, зарысил к реке. За князцом на крепкой кобылке последовал молодец без оружия, в шелковом халате, в островерхой лисьей шапке с пышным хвостом, свисающим на плечо. Оба придержали коней в пяти шагах от Похабова. Атаман и хубун впились в глаза друг другу.
Зрачки Бояркана в оплывших щелках глазниц поблескивали настороженно и неприязненно. Широкое лицо было посечено первыми морщинами. Приплюснутый нос его показался Ивану слегка горбатым.
Толмач глядел на казака ласково. Нос его был свернут набок, лицо изодрано красными рубцами шрамов. Между ними топорщилась щетина. Нижняя губа толмача свисала на подбородок, обнажая ряд зубов и десну. Длинные волосы не были заплетены в косу, как у братских мужиков, а собраны на затылке в пучок, как у тунгусов. Удивили Ивана светлые глаза толмача. «Видать, из ублюдков», — подумал мимоходом и снова перевел взгляд на князца.
— Здравствуй, хубун, коли узнал! Вот и довелось встретиться!
Толмач прижал пальцами нижнюю губу к десне, прогыркал, не сводя глаз с Ивана. Дородный князец взглянул на атамана пристальней. Зрачки его потеплели. Он крякнул, перекинул толстую ногу через голову жеребца и тяжко соскользнул на землю. Следом спешился толмач. Ко всему уродству он был еще и хром.
— Пусть удача прибудет с тобой в той земле, куда ты направляешься! — прошепелявил толмач приветствие князца. Притом снова прижал пальцами нижнюю губу. И добавил, блеснув голубыми глазами: — Хубун узнал тебя, брат!
Слова его Иван понял по-своему, как напоминание о камлании кетского шамана.
— Хотелось мне, брат, жизнь прожить, не срубив твоей головы! — заговорил без ярости и гнева. — Да вот уж бес меж нами распрю сеет. Зачем ты убил моего товарища?
Толмач залопотал. Князец спокойно и внимательно смотрел на Похабова. Ни одна жилка не дрогнула на его лице, будто толмач скрыл в словах атамана угрозу. Промелькнула на лице князца тень печали, и он ответил ровным голосом, а толмач прошепелявил, шлепая непослушными губами:
— Я не хотел его убивать! Отец захваченного силой сына пустил стрелу. Стрелял в лодку, попал в казака. Не человек тому виной, а злой дух.
Иван кивнул, соглашаясь со сказанным. Подумал. В словах князца не было покаяния.
— Ты шертовал нашему царю, — укорил его. — Убийства судит сам царь, не я. А я пришел, чтобы взять убийцу и отвести его к царю на суд.
Толмач переводил сказанное. Князец при этом не отрываясь смотрел в глаза Ивана. Когда толмач умолк, он скривил толстые губы в язвительной усмешке.
— Говорили, людей у царя много. А он с одним буйным мужиком управиться не может! Пусть казаков правильно судит. Своих мужей я сам рассужу!
Толмач с унылым видом еще не закончил лопотать, а князец резко и гортанно рыкнул:
— Сарь-сарь! Между собой деретесь, грабите. Нас зовете жить мирно!
На эти слова Иван не сразу нашелся как ответить. Легкий низовой ветерок дохнул с реки. Шевельнул лисий мех на шапке толмача. Тот, прикрыв рот ладонью, пугливо переводил взгляд с одного на другого.
— Воры у всякого народа есть! — резче сказал Иван. — Наш царь наших воров накажет строже, чем твоих.
— Своих людей на ваш суд не дам! — твердо заявил князец. — А на добро добром отвечу и выкуп за случайное убийство дам. Иди со своими людьми в мою белую юрту. Будешь гостем!
Он развернулся широкой спиной к Похабову, показывая, что разговор закончен. Переваливаясь с боку на бок, пошел к своим всадникам. Жеребец, тряхнув длинной гривой, шумно вздохнул влажными ноздрями и двинулся следом.
От всадников отделились четыре молодца. Они подскакали к князцу, спешились, почтительно подхватили его под руки и усадили в седло. Иван пристально смотрел вслед, не понимая, о чем они договорились.
— Здравствуй, брат! — прошепелявил за плечом толмач. — Не узнал меня?
Иван резко обернулся. По драным щекам толмача текли слезы. Жалостливые глаза смотрели с укором.
— Угрюмка? — ахнул Похабов, вглядываясь в чужое, незнакомое лицо.
Ничего, кроме глаз, не осталось от прежнего непутевого брательника. Да и глаза были не те, что прежде. И в них появилось что-то чужое. И узнавал, и верил и не верил Иван, что под этой личиной скрыт тот самый беспомощный брат, которого он согревал теплом своего тела под печкой в разбитом Серпухове.
Умом понимал — он. Но не смог обнять толмача. Смутился. «Ни к чему это, на глазах товарищей и врагов!» — подумал, оправдывая себя.
Два всадника безбоязненно подъехали к лодке и казакам. Не было приязни в их лицах, но не было и ненависти. Иван кивнул Черемнинову. Тот в ответ развел руками.
— Зовут на пир! — прошепелявил толмач. — Не бойся, хубун не обманет.
— Поговорить хотят, прежде чем дать виру[206], — согласился Черемнинов. Надежда решить спор мирно радовала его.
По знаку атамана казаки защипнули фитили. Верховые поехали впереди них шагом, указывали путь. За ними ковылял толмач с кобылкой в поводу. Рядом с ним шел Похабов.
— Кто тебя так разукрасил? — спросил наконец.
— Медведь прошлый год подрал!
— Ты у братов в холопах или выкрестился? — тут же спросил Иван, не любопытствуя о схватке с медведем.
— Вольный я! — вздохнул толмач. — Крест ношу, — вынул из-под халата и показал носильный кедровый крест на гайтане. — Да и нет у них никакой веры. — Снова прижал губу рукой. — Старым, черным, шаманам изверились. Желтым, славящим Бурхана, не доверяют. Я их к нашей вере склоняю! — добавил с жалкой гордостью. И заговорил, исподволь оправдывая себя и братов:
— Прошлый-то раз, когда енисейцы Бояра пленили, он ехал в острог доброй волей. Кабы миром да лаской, они бы давно в подданстве были. Аманкул, бывший главный бурятский хан, булагат с их кочевий выгнал. Они сюда, ближе к казачьему острогу, неволей пришли.
В шепелявом говоре брата атаману почудился укор всем служилым. Он едко усмехнулся в бороду, посмотрел в глаза Угрюму, перевел взгляд на изуродованные щеки и опять не узнал его.
— Бог не дал! — ответил коротко.
Толмач продолжал говорить, а Иван внимательно слушал и начинал понимать, что случилось за Шаманским порогом.
— Прежде мунгалы спокойно жить не давали, но был порядок. Теперь мунгалы никого не трогают. Тунгусы Аманкула убили. Теперь все грабят. И хуже прежнего стало. Пришли стрельцы, обещали сделать порядок и вернуть булагатам прежние выпасы в степи. Бояр дал им ясак. Стрельцы уплыли, приплыл Васька-атаман. Хотели с ним миром договориться. Он давай орать, что прежний ясак, в Енисейский острог, неправильный. Надо давать в Красноярский. Наши люди его казаков не били. Но выехали конными и к себе не пустили. Он обратно ни с чем поплыл, аманатов силой взял. Ваши казаки их вернули и стали просить награду.
— Кто? Васька Черемнинов? — встрепенулся Иван и, обернувшись, бросил через плечо быстрый и злой взгляд на стрельца. — Выкуп дали?
— Дали! Десять соболей добрых. Сам видел. А после давай награду в почесть послам просить. А как увидели, что булагаты осерчали, испугались. Стали аманатов требовать, чтобы уплыть. Тут они и взбесились. Пастух стрельнул из лука. Бояркан его в яме держит. Но вам не даст. Отдать не раба, а родственника, хоть бы и бедного, большое бесчестье! — Толмач взглянул на атамана так, будто намекал на какое-то свое бесчестье в прошлом.
Насколько шагов они шли молча. Затем Похабов мотнул бородой, хмыкнул, строго спросил брата:
— Знаешь, сколько с меня взяли роста с твоей кабалы? Больше половины годового денежного жалованья. Меченка чуть не сдохла от обиды и бесчестья. — Усмехнулся, заговорил теплей, поглядывая на белую юрту: — А ведь мы с тобой впервые поговорили как родственники. Прежде-то ты все бычился, фыркал, завидовал. А чему? Я ведь на жалованье пешего казака. Ты с промышленными в неделю прогуливал больше, чем я за год получаю.
— Отдам! — сипло прошепелявил Угрюмка, замыкаясь. Долго ковылял молча.
Иван раздраженно махнул свободной рукой от безнадежности вразумить младшего.
— Живи как знаешь! — обронил жестко.
Толмач стал прихрамывать сильней, зашагал торопливей. На ходу бросал гортанные звуки встречавшим людям, будто распоряжался.
Возле белой юрты горели костры. Косатые мужики свежевали бычка и двух баранов. Женщины в белых тюрбанах с закатанными рукавами халатов перебирали внутренности, срезали мясо с костей, бросали его в котлы и поддерживали огонь. Явной неприязни к казакам никто не показывал.
Филипп Михалев забежал вперед. Удивленно взглянул на атамана. Рыкнул с хрипотцой:
— Ну и морда у тебя! Чего опять удумал? Покаются браты за убийство — и ладно!
— Выкуп пусть дадут за Вихорку! — жестко блеснул глазами Похабов.
— Понятно! Без этого нельзя! — согласился казак, опять торопливо забегая вперед. Опасливо взглянул на бляху шебалташа. — Снял бы! — проканючил жалобным голосом. — Одна голова сильно на князца походит! Не обидеть бы.
— Они все на одно лицо! — скрипнул зубами атаман.
Осенний денек после полудня так разгулялся, что оттаяла мошка. Ласково и сонно полезла в глаза и уши. На братском стане приятно пахло скотом, парным молоком и сохнущей травой.
— И чего бы не жить мирно! — вздыхал под боком Филипп, оглядывая окрестности и лес в дымке. — Земли без края. Ее всем хватит.
— Будто на Руси земли мало! — огрызнулся Похабов. — Ни мы меж собой мирно жить не можем, ни они. Сказано: убереги, Господи, от родни. От врагов как-нибудь сами убережемся.
Он опять вспомнил Ермогена с Герасимом. Вот кто нужен был ему для совета. Перекрестился, вздохнул и подобрел. Расправились складки на переносице, выровнялись насупленные брови, заблестели глаза.
Казаков позвали в юрту. Войти с топорами и пищалями атаман не решился. Велел составить ружья возле войлочной стены и посадил при них трех казаков. С двумя вошел внутрь.
Кочевой дом был богат: стены завешаны цветным шелком, земля застелена войлоком и коврами. Посередине тлел очаг: не для тепла, а от чужого сглаза и навета. На красных кожах, расстеленных возле него, парило вареное мясо. Горками был навален на плошки творог. На плоских блюдах лежали лепешки, в кувшинах — кислое молоко.
Только на первый взгляд братья Бояркан с Куржумом казались совсем разными. Приглядевшись, Иван стал примечать их внешнюю схожесть. «Подлинные братья и в беде, и на пиру», — позавидовал Бояркану, бросил мимолетный и тоскливый взгляд в сторону толмача.
Угрюм сидел по правую руку от Куржума после его сыновей. По той стороне расставляла чашки и чарки крутобокая братская бабенка. Подложив мяса, она придвинула блюдо толмачу. Уходя, опустила руку на его плечо, а тот с благодарностью обернулся. Приметив скрытую от чужих глаз ласку, Похабов подумал: «Женихается!» На душе стало еще тоскливей, будто он сидел на поминках брательника.
Бояркан истолковал его печаль по-своему и с важностью заговорил через толмача:
— Пришел бы ко мне другой казак, прогнал бы! Но с тобой так поступить я не могу. Не есть мне свежего мяса, если злые духи принудят отрубить тебе голову.
Ни Василий Черемнинов, ни Филипп Михалев не поняли смысла сказанного. Оба подумали, что князец высмотрел золотую пряжку шебалташа. Глупое упрямство атамана, нежелание снять его возмущало их.
— Ты уже отрубил мне руку! — склонил голову Иван. — Твои люди убили моего товарища!
Бояркан тоже опустил большую голову на короткой шее, тяжко и глубоко вздохнул.
— Я этого не хотел. Атха шутха![207] Злой дух стрелой правил! Или так судьбой было предназначено. — Он помолчал с печалью на лице, поднял голову и степенно заговорил: — У каждого человека есть предки. У каждого дела должно быть продолжение. Я дам родственникам убитого двух кобылиц. Убийцу накажу сам. На то я и хубун! Добро же вовеки не должно забываться. Мы с братом, — кивнул на внимательно слушавшего Куржума, — дадим тебе по два коня.
Черемнинов с Михалевым удивленно взглянули на атамана. Кони для отряды были обузой. Но это вира, и взять ее надо.
— Разве Бекетов заберет или тунгусы купят? — скороговоркой пробормотал Василий.
— Коней для себя я взять не могу, — отказался Иван. — Мы — служилые люди. Все, что нам дают, то дают через нас царю. А за добрые дела меня Бог наградит!
Такой оборот князцам не приходил в голову. Выслушав толмача, они удивленно переглянулись. Бояркан, щуря глаз, переговорил с Угрюмом о своем.
— Трех коней и кобылицу дам родственникам убитого! — объявил князец в другой раз и взял с блюда кость с разваренным мясом. Все люди, что сидели за расстеленным столом, потянулись к еде. Иван приметил, что толмач ест стыдливо: отворачивается, придерживая рукой нижнюю губу.
Старый, беззубый шаман в кожаной рубахе до пят, обвешанной бляхами и хвостами зверьков, маленьким ножом теребил баранье ребро, отправлял куски мяса в рот, смешно сминал лицо в морщинистый кулачок. При этом поглядывал на пирующих снисходительно и важно.
Когда первый голод был утолен, гостям, старикам и князцам налили в чарки архи[208]. Остальным подали кислое молоко. Бояркан поднял чарку. Старый шаман что-то тихо пролопотал, не переставая жевать. Толмач молча поглядывал на него. Хубун, почтительно выслушав шамана, степенно кивнул и заговорил:
— Эсэгэ Малаан, сын Вечно Синего Неба, дает нам жизнь, душу и судьбу. Жизнь и душу мы не можем не принять. А как исполним свою судьбу — зависит от нас самих. Если мы не отрубим друг другу головы в этой жизни, наши потомки будут жить в мире. Так пусть, хазак-мангадхай[209], — он насмешливо взглянул на Похабова, — моя голова будет твоей заботой, а твоя — моей! Тогда наши предки и наши внуки будут довольны нами.
Выпитое вино обожгло горло, ударило в голову. Иван заметил, как захмелели товарищи. Лица их зарумянились, движения стали плавны и неточны.
— Опять про головы! — проворчал под боком Филипп. — Не нравятся князцу твои личины.
После выпитого и съеденного стало жарко. Иван расстегнул злополучную пряжку, сбросил шебалташ, распахнул кафтан, потряс головой, стараясь вытрезвить ее. Князец указал глазами налить по второй чарке, но Иван воспротивился:
— Нам, по нашей вере, хубун, сорок дней после гибели товарища нельзя веселиться.
Бояркан удивленно шевельнул бровями, качнул тяжелой головой:
— Принуждать пить арху — большой грех!
— По три чарки можно бы и выпить, — обиженно пробормотал Черемнинов. — Вихорка любил погулять.
Атаман ухом не повел на недовольство товарищей. Бояркан же приказал:
— Тогда будем есть!
Кувшины с молочной водкой убрали. Пир продолжался до вечера. Накормив гостей до тяжести в теле, князцы отпустили их на ночлег. Трое вышли за полог и увидели своих товарищей при пищалях не только сытыми, но и в изрядном подпитии. Корить их Иван не стал, повел в юрту следом за припадающим на ногу толмачом.
Утром братский мужик пригнал к ней четырех лошадей в недоуздках. Казаки повели их к реке. Лодка была цела. Одеяла и котел никто не тронул. Бояркан не показывался, чтобы проститься. Вместо него подъехали верхами Куржум с толмачом. Толмач отозвал атамана в сторону.
При старшем брате Куржум во время пира почтительно помалкивал. Если его о чем-то спрашивали, отвечал тихо. Теперь он заговорил с Похабовым сам. При этом глядел в глаза пристально, без приязни.
— Нельзя не заплатить за добро, если родился со своей славой от именитых родителей! Толмач сказал, — кивнул на изуродованного спутника, — чтобы я не давал даров при всех. Ясак пусть заберет царь. Лошадей — родственники убитого. А ты возьми это! — князец снял с шеи тяжелую серебряную цепь. Позвякивая, она змейкой скатилась и увесисто свернулась в ладони атамана. Похабов удивленно взглянул на серебро.
— Гривенницы полторы?! — качнул рукой. Вскинул на князца любопытные глаза: — Руду где добываете?
— Кто имеет богатство, тот покупает, что ему надо. Кто не имеет, тот делает сам! — прошлепал губами толмач, переводя ответ князца.
Иван задумался, пытаясь понять сказанное. Хотел спросить иначе, но Куржум уже развернул коня.
— Где они добывают серебро? — пытливо переспросил толмача, пошевеливая пальцами, отягощенными цепью.
— Мунгалы привозят! На соболей меняют! — ответил тот и опасливо обернулся, бросив взгляд на спину удалявшегося князца.
Ссыпав цепь в патронную сумку, Иван снова поднял глаза на брата.
— Прощай, что ли! Спаси и вразуми тебя Господь!
Развернулся спиной к всаднику, пошел к лодке. Угрюм торопливо повернул кобылку и пустил ее рысцой за жеребцом Куржума.
Четверо казаков сели на неоседланных коней, остальные сложили в лодку оружие, взяли весла и оттолкнулись от берега. В пути они не раз менялись местами, устав сидеть на спинах лошадей и в шаткой берестянке.
На засеку нападений не было. В карауле стоял Дунайка Васильев, ожидая от изменивших ясачников неминучей беды и очередного коварства. Увидев всех живыми, да еще с лошадьми, он искренне обрадовался.
— Что Илейка с Якунькой? Мясо добыли? — первым делом спросил атаман.
— Коз таскают каждый день! — скривил губы караульный. — А что их не добыть? Они к самой засеке подходят. Братские мужики козлятину едят с брезгливостью, рыбу и птицу в рот не берут.
Похабову в ответе стрельца почудилось что-то недоговоренное. Черемнинов и Михалев перевернули берестянку, по бревну с зарубками полезли в засеку со стороны реки. Иван обошел укрепление, осмотрел его. Оставленные им люди не теряли время даром и укрепились надежней прежнего. Илейка с Якунькой с утра были живы. Никто на них не нападал. Казаки весело приветствовали вернувшихся. И опять что-то в их лицах насторожило атамана. Лазом, между заостренных веток, он поднялся к караульному, пытливо уставился на него:
— Говори! — приказал строго.
Дунайка посопел с недовольным видом, поводил по сторонам недоверчивыми глазами. Промямлил как о пустячном и всем известном:
— Думаем, доброе мясо они тунгусам продают, а нам коз таскают, — завистливо выругался: — Соболишек добыли и шубный лоскут. Мы день и ночь топорами машем. Караулим. А они, по твоему наказу, богатеют. Это справедливо?
Козы действительно выходили из леса. Их можно было добыть, не отходя далеко от засеки. Якунька с Илейкой вернулись в сумерках. К злобному неудовольствию всех, служилых и аманатов, опять приволокли двух коз.
Иван Похабов встретил их строго. Якунька истолковал это по-своему и стал спрашивать про посольство.
— Ты сперва расскажи, как зимних соболей до снега добываешь? — прорычал Иван, глядя разъяренными глазами в изуродованное лицо казака.
— Так и добываем! — мгновенно озлобившись, вскрикнул Сорокин. — Они скок-скок на пенек, поглядеть, кто идет. Мы из лука тупой стрелой по дурной башке — и в мешок.
Илейка безбоязненно поглядывал на сердитого атамана непокорными глазами, показывал, что ему, брату подьячего, никто не указ. Дунайка со вздохом покачал головой, порылся среди одеял и бросил к ногам атамана легкий мешок.
— Не тронь! Не ты добыл! — вскрикнул Якунька и кинулся наперехват. Нос с выдранными ноздрями искривился клювом. Мешок бесшумно распластался на вытоптанной земле. Иван наступил на него ногой, другой оттолкнул казака.
С возмущенным видом на него бросился Илейка Перфильев и отлетел, наткнувшись на увесистый кулак. Похабов развязал мешок, вытряхнул десяток соболей и шубный лоскут из шести сшитых спинок. Подергал подпушек.
— Старые. Давно уж не скачут по пенькам! — ткнул в лицо Якуньки шубным лоскутом. — Где взял?
— Где дали, там и взял! — затрясся тот от ярости.
— Где взял? — грозно крикнул атаман, нависая над ним.
Илейка, как затравленный зверек, окинул быстрым взглядом казаков. Те насупленно молчали, смотрели под ноги, никто не желал вступаться. И он стал слезливо размазывать кровь по лицу, бормотать угрозы.
Иван схватил Якуньку за шиворот и за кушак, перекинул через стену из бревен разобранных плотов. Сам с кошачьей ловкостью перескочил через нее. Якунька, не успев встать на ноги, снова был схвачен. Атаман поволок его к реке. Илейка, высунув голову из-за стены, матерно, с визгом вопил. Якунька же орал и лягался, обзывал атамана воеводским холуем и выблядком.
Похабов приволок его к воде, вошел в нее выше колен и притопил казака вниз лицом. Половина служилых наблюдала за ними из-за стены, Черемнинов, Васильев и Михалев вышли на берег.
— Нет у тебя права в воду сажать без нашего суда! — закричали из засеки.
Иван перехватил барахтавшегося за волосы, дал ему высунуть голову и сделать вдох. Якунька закашлял, давясь и отплевываясь, предсмертно завопил.
— Где взял? — еще раз макнул его Иван.
— Тунгусы! — захлебываясь, признался Якунька.
— Мясо продали?
— Обманом взяли! Не торгом! — крикнул Сорокин, слабея в руках атамана. Тот выбросил его на берег. Мокрый, яростный, раздвинул смущенных казаков, пробрался в засеку.
— Говори! — склонился над Илейкой.
— Ты что, сбесился? Столько лет с тобой служим? — завизжал тот, как побитый пес. — С братаном товарищи.
— Говори! Утоплю! — прохрипел Похабов.
Илейка, поскуливая, испуганно оглядывая казаков, затараторил:
— Обещали тунгусам братских людей с притока выпроводить на прежние их выпасы! Кому от того убытки, а?
— Голова! — с восхищением взглянул на мокрого Якуньку Дунайка Васильев. — Надо же такое удумать!
Казаки и стрельцы стали принужденно посмеиваться. Филипп-сургутец удивленно оглаживал бороду:
— Бояркан со своими мужиками только и думает, как в степь уйти. Вот ведь! А тунгусы за это еще и платят.
— Чему смеетесь? — прикрикнул на них Иван. — Те тунгусы Максиму Перфильеву, братану его, ясак дали за этот год!
Со стены кулем свалился в засеку Якунька. Стал стягивать с себя мокрую рубаху и штаны.
— Велика беда! — гнусавил, оправдываясь. — Добром взяли, не силой. Да у них этих соболей. Лыжи спинками оклеивают.
— Ты взял обманом, а они это Петрухе с его стрельцами припомнят. Мы-то уйдем, а им здесь в зиму оставаться, — сдержанней стал корить мокрого казака атаман. Сам сел, развязывая бечеву на промокших бахилах.
При общем насмешливом молчании Сорокин с Похабовым переругивались и сушили одежду у костра. Дунайка с Василием принесли с реки котел с козлятиной и водой, повесили его над огнем. Окинские аманаты тесной кучкой сидели в стороне, неприязненно поглядывали на котел с мясом и на служилых, презрительно щурили узкие глаза.
— Мы засеку рубим, в караулах каждый день, — рассудительно, от имени всех служилых, вразумлял обиженных казаков Дунайка. — А вы бездельничаете, по лесу шляетесь, соболишек на себя добываете. Делиться надо! Не по-христиански это!
Терех Савин с безразличным видом сидел с вымороженными рыбьими глазами. Иван подхватил свое одеяло, бросил на землю рядом с ним.
— Все молишься? — спросил участливо.
Терех кивнул, вздохнул, почмокал высохшими губами.
— Жаль, со своей повенчался! — пробормотал. Прокашлялся, добавил чище: — Мне бы на Савине жениться. И племянники родные, и баба хороша.
— Хороша! — согласился Иван и вздохнул, вспомнив жену товарища.
Утром атаман объявил, что сдаст отобранных соболей подьячему в счет ясака за следующий год, и велел известить о том обманутый тунгусский род.
— Будто тунгусы сидят на месте и ждут? — съязвил Илейка. — Их след уж простыл. Они, может быть, лет десять в этих местах не появятся.
Казаки одобрительно заухмылялись. Хитроумие Якуньки и Илейки восхищало их. Иван чувствовал, что на него злобятся не только побитые, но и те, кто еще недавно жаловался на них.
На другой день к вечеру выше порога показалось два струга. Судя по посадке, суда были тяжело загружены. Бурлаки налегали на бечеву всем телом и низко пригибались к земле. Похабов велел своим людям помочь стрельцам и сам вышел им навстречу. Казаки повели четырех коней, полученных от Бояркана.
Завидев конных казаков, стрельцы остановились, подтянули струги к берегу. Издали видно было, они так измотаны, что если бы не засека и костры, попадали бы от усталости там, где стояли. Сам сотник, чисто выбритый, в пышных усах, вышел вперед. В его насмешливых глазах Ивану почудилась тревога.
— Что нового под Шаманом? — спросил.
— Много всего, — ответил сотник уклончиво и смущенно. — На ходу не расскажешь. Впрягай-ка коней. Гужом скорей до стана дойдем. Там и поговорим.
— Скажи хоть, догнал ли Ваську? — нахмурился Иван.
— Не догнал, слава богу! — строго ответил сотник. — Если бы застал его в зимовье, не знаю, что бы сделал. После расскажу! — досадливо отмахнулся… — Ты подложи что-нибудь под шлею! Хоть бы свою шапку! — крикнул, посматривая, как стрельцы впрягают в струги коней.
Обернувшись к Похабову, обронил:
— Человеку больно — орет. Скотина безмолвно муки принимает. — Сотник явно не хотел говорить о делах за Шаманским порогом, и это пуще прежнего насторожило атамана.
Гужом привели струги к засеке. Следом приплелись уставшие стрельцы. Казаки распрягли и отпустили лошадей, вытащили струги на сушу, крепко привязали их. Полтора десятка измученных стрельцов попадали у костров, стали разуваться и сушиться. На расспросы устало мотали бородами, вздыхали да кивали на сотника. Иван терпеливо ждал, когда начнется разговор.
Наконец Бекетов вскинул на него свои ясные глаза. Казаки и стрельцы притихли.
— Приплыли мы к острову. Едва не застали там краснояров. Мои струги они бросили, загрузили рожью коч, поплыли вниз. Можно сказать, мы корму видели. Хрипун рожь и коч добром не дал. Дрался с Васькой на саблях, — Бекетов со вздохом опустил голову на крепкой шее, печально усмехнувшись, пробормотал: — Упрям, старый!.. Васька его ранил. Лежит теперь наш голова в зимовье.
При нас еще он отправил следом за красноярами семерых раненых и Максимку Перфильева. Не воевать! Куда уж им. Упредить воеводу Ошанина в Енисейском, чтобы поджидал бунтовщиков. А то опять острог на саблю возьмут. — Чего-то недоговаривая, сотник виновато взглянул на Ивана. — Мимо Енисейского никак не проплывут. Им надо на весь Красный Яр рожь в зиму забрать. — Бекетов помолчал, глядя на жаркое пламя костра, пожал широкими плечами. — Правильно приказал, старый. Пусть Максимка упредит воеводу, а тот сам подумает, по какой правде Васька наших ясачников грабил и нас громил.
— Что там было-то? — заволновались казаки, с любопытством расспрашивая стрельцов. — Зимовье краснояры взяли?
— Что его брать? — усмехнулся в густые усы Бекетов. — Полтора десятка израненных — не защита. Пришел, объявил, что оголодал и возьмет под запись рожь на обратный путь до Енисейского. Голова разъярился. По слухам, вызвал атамана на Божий суд. Васька его и пришиб. Да сильно. Отлеживается теперь. Вас ждет. Вы вот что! — опять вскинул затуманенные глаза на Похабова. — Нас не шибко ругайте. Мало вам ржи осталось. Но и мы меньше взять не могли. К тому же в зимовье семь ртов убыло. Если что, вы сплывете в острог или нартами уйдете. А нам без припасу в зиму — умирать голодом. Мы все взвесили и записали. Половину пороха вам оставили.
Иван слушал оправдания сотника, но они не доходили до него. Он думал о Хрипунове. Стал выспрашивать про него. Стрельцы отнекивались. Дескать, сами не видели, по слухам говорить — только смуту заводить.
— Сплывете, все узнаете! — тоскливо и неохотно отмахнулся от расспросов Бекетов. Опять начинал оправдываться: — Наши струги краснояры бросили. На одном ушел Максимка. Другой тянуть через порог для вас нам не по силам. И так на карачках ползли. Слава богу, вода малая. Иначе не вытянули бы и этого.
Бекетов взял с собой Василия Черемнинова. Тереха Савина не позвал. Тот, печальный, и не просился в его отряд. Стрельцам Дунайке и Дружинке он велел остаться при воеводе. Холодным утром служилые сходили на могилу Вихорки Савина. Помолясь, стрельцы со стругами пошли к Долгому порогу, повели за собой коней и окинских братов, которые казакам изрядно надоели.
Похабов велел своим людям разобрать засеку и вязать плоты. На другое утро, взламывая лед заберега, казаки столкнули их на воду. С молитвами вывели плоты на стрежень. Тумана не было. Из-за лесистых гор всходило ясное солнце. Студеный парок клубился над водой.
Путь был знаком. Божьей милостью первый плот под началом Ивана Похабова выскочил на спокойную гладь воды. Уставшие казаки бросили греби. Мягко покачивая на волне, их развернуло поперек течения.
Плот Тереха Савина проходил уже мимо последних камнебоев. Иван начал было читать благодарственные молитвы, и вдруг на его глазах с Терехиного плота пулей слетели в воду гребцы, стоявшие на передних гребях. Сам Терех и казаки с кормового весла попадали на четвереньки, но удержались. Незримо для глядевших со стороны их плот зацепил за камень крайним бревном. Но он не развалился, и кладь осталась целой. Только четверо служилых барахтались в студеной осенней реке.
— Без вреда никак нельзя! — бормотал Похабов, накладывая на грудь крест за крестом.
Остров с зимовьем встретил плывущих уныло. Береговой кустарник пожелтел и опал. Облетел лист с осин. На берег вышли двое зимовейщиков. Махнули прибывшим так, будто вчера только расстались. Поплелись, прихрамывая, к песчаной косе, в конец острова. Туда подгребали плотогоны.
Иван прыгнул на сушу с бечевой в руке. Сунул ее встречавшему казаку. Тот принял конец с таким видом, будто это змея. Скривился, заохал. Похабов вспомнил, что он из раненых. Зипун на казаке был в подпалинах, неопоясанный, шапчонка и борода смяты.
Иван уперся пятками в песок, удерживая тяжелый плот. Якунька Сорокин бросил шест, намочив ноги, выскочил на берег. Тоже схватился за бечеву. Едва плот причалил к косе, казаки стали выносить на сушу ружья и припас. Иван спросил встречавшего:
— Как голова?
Тот пожал плечами, неуверенно просипел:
— Вроде живой. Моргает. Дочка к нему никого не пускает.
— Что было-то? — загалдели казаки, гурьбой окружив раненого. Всем им не терпелось узнать больше, чем сказали стрельцы.
— Краснояры приплыли на бекетовских стругах. Мы думали, свои, — как о не стоящем любопытства насупленно буркнул казак. — Выползли встречать. Кого там? Десяток калек. Васька-атаман мимо нас к голове. За грудки его: «Рожь давай в пеню за напрасные муки моих казаков!» В зимовье они и повздорили. Схватились на саблях. Их растащили. Ясно, атаманы по неправде порубятся, а нас будут кнутом пытать.
Краснояры при свидетелях открыли амбар. Стали таскать рожь на коч. Васька дал Перфильеву заручную грамоту: сколько чего взял. А Хрипун все рвался на него, лаял всяко разно, звал на Божий суд. Сколько его ни отговаривали, сколько дочь ни плакала — настоял-таки на своем. Наутро при всех и получил рану! — виновато отводя глаза, шмыгнул носом казак. — Бились на саблях. Васька-то — понарошку. Хотел утомить Хрипуна. А тот его ранил, кровь пустил. Васька озлился и звезданул нашего саблей плашмя по лбу. Наотмашь вышиб умишко-то. Ни жив ни мертв который день лежит. А Перфильев с людьми, кто покрепче, уплыл за красноярами на струге.
Опасливо заглядывая в глаза Похабова, казак сглотнул слюну, дернул острым кадыком под редким клином бороды.
— Как зимовать-то будем? Сплыть бы со льдами в Енисейский, хоть на плотах?
— Не успеть! — оглянулся на реку Похабов. — Не сегодня, так завтра шуга пойдет.
Остров обезлюдел и подурнел. Иван поспешил в зимовье. Караула он не приметил.
Казаки ютились в тех же, летних, балаганах. Над баней курился дымок. У ворот зимовья, опираясь на палку, его встретил старый енисеец, ходивший с Перфильевым.
— А! Вернулся? — пробормотал вместо приветствия с таким видом, будто Иван был в бегах. — А воду в баню таскать некому. Вели своим взять ведра.
Похабов кивнул ему. С волнением вошел в избу. В сиротском углу на лавке валялась не прибранная с ночи одежда. На ней, лицом вверх, лежал Яшка-ясырь. Он равнодушно скосил заплывшие глаза на вошедшего.
В кутном углу за печкой дремала ясырка, закрыв лицо платком. Не дрогнула, не двинулась с места, даже не взглянула на Ивана. На печи с открытыми глазами валялся рудознатец. Он молча повел носом на атамана, зевнул, закрыв рот ладонью, снова уставился в низкий потолок.
Хрипунов лежал на лавке, ногами в красный угол, лицом к иконам. У изголовья, склонившись, сидела исхудавшая дочь. «В чем душа держится?» — жалостливо окинул ее взглядом Иван.
Она обернулась, подняла на него опухшие, исплаканные глаза. Поднялась, ткнулась лицом в грудь атамана. Худенькие плечики беззвучно затряслись.
У Хрипунова было бледное, безучастное лицо. Некогда пышная борода сосулькой свисала набок. Лоб его был повязан шелковой тряпицей.
Ласково отстраняясь от Анастасии, Иван зашел от красного угла, заглянул в глаза раненому. Они были мутными, незрячими, потерявшими цвет. Похабов понял, что кум не жилец. Но Хрипунов увидел его, смиренно шевельнул бровями, дескать, что поделаешь? Оставил Господь!
— Даст Бог, встанешь еще! — шепнул Иван, смущенно отводя глаза.
Истончавшие губы в усах дрогнули. За спиной заскрипели половицы.
Это из-за печи вышла заспанная ясырка с ковшом, до краев наполненным брусничным соком. В ее черных глазах томился ужас. Они с Яшкой прижились в богатом доме воеводы и думали так свой век скоротать. И вот, все рушилось. На волю идти им было некуда, хоть ложись и помирай вместе с хозяином.
Хрипунов шевельнул пальцами, досадливо выпроваживая ясырку. Набрался сил. Усмехнулся:
— Воздастся вору! — просипел с мстительной хрипотцой. — Ужо помру, его государь повесит!
Анастасия тихонько заголосила, затирая глаза кулачками. Казачий голова устыдился, завздыхал.
— И уходить-то нельзя! — опять тоскливо шевельнул бровями.
— Куда там! — громким голосом поддержал его Иван. — Вот-вот шуга пойдет. Недели четыре нартами тебя волочь — не выдержишь. Помрешь!
Хрипунов печально выслушал его, набрал в грудь воздуха.
— Нельзя уходить! — повторил строже. — Обнадежили тунгусов, шаманских и аплинских. Бросим — не простят нас! Разве только Галкина дождаться. — Он помолчал и снова глубоко вздохнул. — А серебро так и не нашли!
— На все воля Божья, Яков Игнатьевич!
Но тот нетерпеливо остановил его движением пальцев и бровей. Поманил к себе. Иван склонился.
— Настю не оставь, кум! — просипел. — Невеста она Максиму Перфильеву. Ему отдашь. На тебя только полагаюсь. Некому больше зимовье защитить. Бери все бремя власти. Думай, как зимовать.
Хрипунов замолчал, одышливо вздымая грудь. Закрыл мутные глаза. Полежав молча, отдохнул. Иван уже собирался выйти. Он снова открыл глаза. В них блеснула жизнь. Взглянул на Похабова.
— Я Максимку в Енисейский послал. А то Васька опять возьмет острог на саблю. — Губы казачьего головы зазмеились, в горле заклокотал злорадный смешок. — И пусть бы! Ошанин в Томском Ваську защитил. Его вины против меня обернул, чтобы на воеводство сесть. Его бы салом да по мусалам!.. Но я не взял греха на душу.
Опять завсхлипывала Анастасия. Всхлипнул и Иван, смахивая накатившуюся слезу:
— Не помирай, кум!
— И то! — с надеждой согласился Хрипунов. Полежал молча и простонал, закрывая глаза: — Ступай! Кости болят!
Иван взял ключ от амбара, вышел. Казаки возле балаганов жгли костер и варили кашу, вереницей таскали ведрами воду в баню. Хмурилось небо.
Пахло свежим снегом и стылой сыростью реки. Похабов окликнул Савина. За Терехом увязался Якунька Сорокин. Приковылял, опираясь на палку, Васька Москвитин — краснояр. Толпой все пошли смотреть хлебный припас.
Иван отпер замок, распахнул дверь. Якунька присвистнул, глядя на оставшиеся мешки.
— Надо было считать, что стрельцы взяли! — укорил атамана.
А тот, сморщив переносицу, торопливо перебирал, сколько ртов в зимовье и на какое время хватит хлеба.
— До Рождества дотянем — хорошо! — тоскливо пробормотал Терех Савин.
Похабов закрыл скрипучую дверь, запер ее на замок.
— После бани будем народ собирать, думать, как дальше жить и службы служить?
— Народу-то? — хмыкнул Сорокин. — Наших чертова дюжина с краснояром, перфильевских — пять калек да зимовейщики.
— Двадцать три! — посчитал в уме Иван.
— Ясырей-то воеводских за что нам кормить? — вскрикнул Сорокин, указывая на неизбежный раздор среди казаков.
Москвитин смущенно опустил голову. Он понимал, пережить зиму среди енисейцев будет трудно.
Сход собрался быстро и охотно. Казаки расселись возле ворот зимовья на тесаные бревна, прихваченные белым инеем. Этот лес на избу начинали готовить вскоре после прибытия отряда на остров.
Иван неприязненно оглядел два десятка человек: старых, енисейских, новоприборных, присланных из других острогов. Довериться мог только Филиппу Михалеву, Тереху да Дружинке с Дунайкой.
— Глаза бы на вас не смотрели! — невольно выругался. — Да деться некуда: голова болен, Перфильев уплыл, теперь я за вас в ответе перед Господом.
— Мы тебя на поход атаманом выбирали! — вскрикнул непокладистый Якунька Сорокин и важно обвел драным носом два десятка хмурых людей, припомнив купание в реке и отобранных соболей. — Твое атаманство кончилось. Теперь ты такой же, как все! — Он набрал в грудь воздуха так, что встопорщился распахнутый зипун. — Тереха Савина хотим! — крикнул, пыжась. — Ему покоримся!
Несколько голосов неохотно поддакнули.
— Ага! — с укором тряхнул бородой Филипп Михалев. — Терех молчком, в печали, самочинно выпьет вино, что у головы. На том его атаманство кончится. Как брата похоронил — ходит что тень.
Недовольно закряхтели казаки. Никто не нашелся как возразить. Ударил сургутец не в бровь, а в глаз.
— Тогда тебя в атаманы! — вскрикнул Якунька, грозно и непокорно вращая белками глаз.
— Не пойду! Мне живым вернуться надо. У меня двое сыновей в Енисейском меж дворов скитаются.
— Скитаются! — безнадежно передразнил казака Якунька. — У тебя свой дом, а сынам уж скоро в службу!
Сидевшие казаки неуверенно зароптали. Разговор, которого все ждали, переходил в обыденные дрязги. Якунька сел, не зная, что сказать. Поднялся Филипп Михалев.
— Как ни правил нами атаман, но правил. Посылали Бекетову помочь. Не шибко-то, но помогли. Вихорка погиб, однако. Зато мы вернулись не переранены, как с Перфильевым. Оно бы, может быть, и лучше было, если бы из зимовья не уходили. Однако на все воля Божья. Не атаманским указом шли за Шаман-камень, сами приговорили, — напомнил общее решение.
На старого казака зашикали, чтобы говорил короче и ясней.
— Пусть и дальше Ивашка правит, пока голова не встанет или пока не вернемся, если Бог даст! — закончил он и сел.
Иван безучастно поглядывал на говоривших и споривших. Не оправдывался, в их разговоры не вступал. С тяжестью под сердцем понимал: что бы они ни приговорили, а на наказном атаманстве быть ему благословением казачьего головы.
Когда казаки доброй волей согласились, что быть ему атаманом, он подумал, что так, по их приговору, будет легче. Поднялся, поклонился на четыре стороны. Надел шапку.
— Сегодня и завтра отдыхаем. После делимся: кому рыбный и мясной припас в зиму готовить, кому новую избу рубить. — Кивнул на бревна, на которых сидели казаки: — Половина уже есть! А уходить нартами Хрипунов не велит. Зимовать будем!
Легче всего было ловить рыбу. За неделю наморозили ее полный лабаз. Едва встал лед на реке, Якунька Сорокин с Илейкой Перфильевым отпросились на коренной берег, за мясным припасом. Иван подумал и послал с ними Дунайку Васильева. Вернулись они через три дня с мешком набитой птицы и опять с козами. Слышали от тунгусов, что лучи где-то рядом. Стали проситься искать Галкина.
Не столько в надежде найти казаков, сколько по желанию избавиться от двух крикунов и смутьянов Иван отпустил их. Они просили выдать им полный пай из оставшейся ржи. Похабов предусмотрительно выдал только половину.
Утром на Михайлов день тихо умер Яков Игнатьевич Хрипунов. Дочь его ненадолго отошла от живого еще отца. Когда вернулась с чашей воды, чтобы обмыть рану, казачий голова просветленным взором глядел в потолок. Лицо его будто разгладилось после долгих дум и помолодело. Живые глаза с чистыми, как первый снег, белками глаз светились, будто наконец-то что-то важное понял бывший воевода.
— Отче? — удивленно окликнула его Настена, склонилась и выронила чашку. С криком припала к груди отца и не услышала стука сердца.
Похоронили Хрипунова рядом с Поспелкой Никитиным. Иван и Анастасия выставили на помин души остаток винного припаса, накрыли стол со всей возможной щедростью. Помянув покойного, казаки частью разошлись по холодным балаганам, другие остались на ночлег в избе. Атаман выселил из кутного угла ясырку, положил возле печки Настену, сам лег поблизости от нее на лавку.
На другую ночь в избу набилось еще больше народа. Настена завесила кутной угол одеялом. Оставаться наедине с девкой Ивану было неловко. Девушка поняла это по его лицу и взмолилась:
— Не оставляй меня, дядька Иван! — жалобно взглянула на него большими исплаканными глазами. Похабов отказать ей не мог и стыдливо лег на прежнее место, теперь завешанное от глаз. Напоказ он высунул ноги к двери, слушал перебранки казаков, терпел их насмешки и незаслуженные намеки.
Рудознатец, вызывая недовольство, ничего не делал, день за днем лежал на печи: ел да спал. Терпели его ради государева оклада, который на него был дан. По молчаливому уговору не гнали на работы до сороковин после упокоения казачьего головы. После того нес бы он службы наравне со всеми, но хитроумный латинянин, назло всем, тихо помер до сороковин. Без обмывания и отпевания его закопали в конце острова против обледеневшей косы. По общему требованию атаману пришлось выставить остатки вина, хранимые к Рождеству.
Ясыря Яшку-дармоеда казаки терпели ради памяти о новопреставленном сыне боярском. Но терпели недаром: нещадно заставляли таскать лес. И тот работал, как конь. Ни на какие другие работы ясырь не был годен.
На Савву Стратилата наконец-то поставили вторую избу. Срубили ее вдвое меньше той, на которую готовили бревна с осени. Сложили очаг из речного камня по-белому. Дым вывели через лесину с выгнившей сердцевиной. Изнутри ее обмазали толстым слоем глины.
Едва избенка прогрелась, туда переселились Иван Похабов с Анастасией и ясырями, Филипп с Терехом, Дружинкой и Дунайкой да Васька Москвитин. Как ни тесно было девятерым на трех квадратных саженях, но Похабов позвал красноярца в свою избу. В зимовье жили просторней.
Ударили морозы. Тунгусы отсиживались по меноэнам[210] и от безделья промышляли пушного зверя. Пока меха не были проданы и обменяны, надо было взять с них ясак за год.
Иван отправил семерых казаков к аплинским и шаманским родам. Троих бывальцев — ко князцу Бояркану. Остальные несли караулы и промышляли мясной припас к Рождеству.
Рожь кончалась. Квас уже не ставили. Хлеб пекли раз в неделю. Сквернились рыбой в скоромные дни, варили заболонь. Яшка-ясырь бегал по острову с дурными от голода глазами, выл по ночам и катался по полу. В последний день перед кончиной из его раскрытого рта обильно текла слюна. Из боязни заразы ясыря вытолкали в баню. Там он и умер: съел ли уснувшего осетра с визигой или еще какую отраву, этого никто не знал.
Хоронили Яшку как единоверца. А помянуть новокреста было нечем.
Ни об ушедших к Галкину казаках, ни о нем самом новых слухов не было. Семеро новоприборных во главе с енисейцем вернулись от тунгусов с ясаком. Перед самым Рождеством пришли казаки от Бояркана. На расспросы осторожный Филипп пучил глаза, крестился и махал руками. Браты, по его словам, ничего им не дали. А Бояркан пообещал сварить в котлах, если заявятся еще раз.
Не понимая, чем они разозлили дружественных князцов, Иван недоверчиво пытал вернувшихся и думал: «Самому идти надо!», но боялся оставлять Настену с голодными, озверевшими людьми. Она почуяла его душевные муки, подошла с несчастным лицом, губы дрожали, на ресницах искрились слезы.
— Не оставляй меня, дядька Иван! — опять попросила.
— Не оставлю! — обреченно вздохнул он, помня наказ умиравшего кума.
Праздник есть праздник! На Страстной неделе повеселела и сиротка. Вместе с ясыркой она выскоблила свою и запущенную старую избу зимовья, празднично суетилась возле печи. На рождественский пирог ушла последняя рожь, но стол ломился от мяса и рыбы.
Обстиранные, помывшиеся да в чистой избе празднично улыбались зимовейщики. После молитв во славу Божью пили брусничный сок с водой, ели, а говорили мало. И казалось Ивану, будто служилые, жившие в старой избе, томились присутствием атамана и его подручных людей. Они начинали петь, чтобы показать Господу радость, и сбивались, затухая голосами. Пробовали плясать и не увлекались.
Едва Иван и жившие с ним разошлись, в старой избе вдруг разгулялись, запели привольней. Среди ночи кто-то стал стучать в дверь. Иван отпер, выглянул босой, в одной исподней рубахе. Клубы студеного воздуха хлынули через порог к горящей лучине. В свете низких звезд и северного неба перед избой топтались пятеро казаков, лиц которых он не узнавал.
— Круг приговорил, чтобы ты отдал нам одну девку! Хоть бы ясырку! — неловко ворочая хмельным языком, объявил новоприборный из Нарымского острога. — Вам, пятерым, две — несправедливо!
— Я те покажу справедливость! — взревел атаман. Не мог потом вспомнить, как в руках оказалась сабля. С воплем выскочил босым на снег, завертелся чертом, как бывало под стенами Москвы, рассыпал удары плашмя Да тылом.
Закрывая головы, новоприборные разбежались. За своей спиной Иван увидел Ваську Москвитина с саблей, Тереха с топором. В проеме распахнутой двери, сутулясь, стоял Филипп с пищалью в одной руке, с горящей лучиной в другой.
Вернувшись в избу, Иван бросил на лавку саблю, стал обуваться. Желчно выругался:
— Пьяны!
— Намекали, что с осени поставили ягоды! — зевая, пробурчал Филипп.
— Дядька Иван! — всхлипнула Настена, закусив губу. — Все из-за нас?
— Не из-за вас! — строго оборвал ее Похабов. — Бесы дураков подстрекают. Мне как атаману надо было их батогами вразумлять, да почаще! А я, грешный да жалостливый, терпел всем во вред. — Он размашисто перекрестился, вспомнив своих иноков-наставников. — В Писании сказано: «Аще добро твориши, разумей, кому твориши».
— Не ходи к ним! — тихо, но настойчиво потребовал Филипп, и Терех с Дружинкой в один голос стали упреждать:
— Завтра, больные, станут покорны! Нынче только драку учиним!
Иван сбросил ичиг, тряхнул бородой:
— И то правда! — Заныли остуженные ноги, будто только сейчас встал на снег. — На Рождество попускаю греху тайнопития и тайноядения. Завтра дух вышибу из голодранцев!
— А лучше и безгрешней после Святой недели! — с готовностью поддакнул осторожный Дружинка.
На другой день утром через реку на остров переправились две оленные упряжки. Тунгусы топтались у ворот зимовья, пока к ним не вышел атаман. Толмача из старой избы он звать не хотел. Там еще не топили печь. После разгульной ночи все спали вповалку.
Иван стал пытать прибывших тунгусов. С пятого на десятое, да с помощью пальцев понял, что посланные им для ясачного сбора казаки взяли по одиннадцать соболей с каждого взрослого мужика. И еще подарки в почесть. А за порогом, с аплинских родов, просили всего по семь. Да еще бисером одарили.
Невымещенная злоба ночи вскипела в жилах атамана.
— Пошли за мной! — позвал тунгусов в избу. Усадил их возле очага, велел Настене угостить.
— Собирайся! — приказал верным служилым. Его прищуренные глаза горели, лицо пылало. — Однако придется погрешить на Святой неделе!
Пятеро вошли в зловонную избу. Караула на нагороднях не было. Выстывшее жилье воняло перегаром и потом. На столе валялись объедки и остатки еды. По лавкам и на полу, кутаясь в одежду, спали казаки. Иные уже проснулись, кашляли, но разводить огонь не спешили и глядели на вошедших с несчастным видом.
Иван опознал одного из пятерых приходивших ночью. Поддал ему под бок ичигом. Начал раскидывать и ощупывать мешки. Вскоре нашел что искал. Вытряхнул у порога соболей.
— Не тронь! — сипло завыли из углов. — Наторговали!
— Служилым торговать запрет! — оборвал возмущенные голоса атаман, заталкивая соболей обратно в мешок.
— Ты что, совсем дурак? — вскочил нарымец. — Все торговали и торгуют против указа. И воеводы тоже. Кто бы служил в Сибири за одно государево жалованье?
Иван захрипел, сдерживая рвавшиеся с языка слова. Но не ответил. Вышел с мешком в руке. За ним, хмуро поглядывая друг на друга, молча вышли товарищи.
Тунгусы, скинув парки, сидели на полу. Настена с раскрасневшимся от жара лицом угощала их разогретым мясом и рыбой, выставила бруснику в деревянных плошках.
— Васька, присмотри за упряжками! — входя, приказал атаман.
Москвитин с пищалью на плече, с топором за кушаком пошел к оленям.
Филипп печально качал головой и глядел на атамана с укором.
— Что? — рассерженно спросил он казака.
— Нельзя отдавать соболей тунгусам! — поморщился сургутец, досадливо теребя бороду. — Горячая голова! Не по тебе атаманство!
Сжав зубы, стараясь выглядеть спокойным, Иван вытряхнул соболей перед гостями.
— Ваши? — спросил, щурясь.
Не переставая жевать, тунгусы вытерли пальцы о меховые штаны. Повертели в руках собольи шкурки, осмотрели надрезы. Закивали — наши!
Ошиблись казаки! — подвигая им рухлядь, прохрипел Иван. Сморщил лоб, стараясь вспомнить, как это сказать по-тунгусски. — Считать не научились!
Гости поняли атамана и повеселели. Старший, круглолицый, с двумя дырками вместо носа, усмехнулся, бросил снизку соболей на колени Ивану, показывая, что дарит их в почесть. Его зыркающие по сторонам глаза то и дело останавливались на большом котле. А их было выставлено три: много посуды осталось от покойного Хрипунова.
— Подари им котел да что из посуды! — досадливо попросил Настену Иван.
Девушка с радостью ополоснула и протерла выскобленный котел. Показала знаками, что чарки, из которых пили, гости могут забрать с собой. Тунгусы поднялись с радостными лицами. Поблескивая черными глазами, стали одеваться.
Едва выехали на лед их упряжки, Филипп крякнул, отводя глаза, и укорил атамана:
— Вот тебе и запрещенный торг!
— Все при всех пересчитаю и сдам воеводе как поклоны! — поперечно вспылил Иван. Но укор старого казака запомнил.
На третий, Степанов, день он не стал устраивать дознание о тайнопитии и о ночном бунте. В этот день не тайком, а напоказ десять казаков стали готовить лыжи и нарты, куда-то собираться. Они укладывали котлы, одеяла, ружья. К атаману не обращались. А тот в пику ни о чем их не спрашивал. Молчали Филипп, Терех и Дружинка. Как атаман Похабов должен был их остановить и принудить к службам, но ничем другим, кроме драки и крови на Святой неделе, это противостояние кончиться не могло.
Утром в малую избу робко постучали. Сунув ноги в ичиги, подхватив саблю, Иван отпер дверь. У порога топтался караульный стрелец Дружинка. Борода и шапка его были белы от куржака. Ствол пищали подернулся причудливым узором изморози.
— Ушли! — пролепетал выстывшими губами.
— Куда? — не сразу понял Иван.
— Почем я знаю, — отвел виноватые глаза стрелец. — Ушли через реку нартами. На промыслы, наверное.
— Сейчас выйду! — захлопнул дверь атаман.
Изба к утру и без того выстыла. За одеялом в углу чуть слышно молилась Настена. Она поднялась рано. После молитв, откинув полог, вышла к атаману одетая: маленькая, сухонькая, в полутьме рассвета похожая на старую монашенку.
— Я затоплю, дядька! — махнула ручкой. — Ты иди, если надо!
Все семеро ходивших за ясаком и еще трое казаков самовольно ушли из зимовья. Иван догадывался, что пошли они в Енисейский острог жаловаться. «Может быть, так и лучше», — подумал.
Глава 6
Едва разорвался лед реки и зашумел Шаман-камень, зимовейщики стали смолить бекетовский струг. Отощавшие за зиму, обессилевшие к весне, радовались припекавшему солнцу, благостно, как лекарство, втягивали грудью запахи талой земли. Филипп и Дружинка плевали кровью с больных десен. У Анастасии так истончала шея, что Иван боялся — не переломилась бы от тяжести волос. Как сумел, он исполнил наказ казачьего головы, и оттого светло было у него на душе.
Помолясь Господу, Богородице да святым покровителям, казаки простились с могилами близких людей, и с последними льдинами пятеро служилых да девка с дворовой бабой поплыли вниз по реке. Сиротливо удалялись крыши брошенного зимовья. Гребцы, налегая на весла, запели: «Отче Никола, моли Бога о нас!»
Плес был им знаком, все торопились поскорей вернуться в острог. К берегу приставали в сумерках или при крайней нужде. На плаву постреливали уток и гусей, ловили рыбу.
И вот их струг пронесло мимо причудливых желтых скал устья Ангары. Гребцы обошли буруны отмелей и выплыли на степенную, глубокую гладь Енисея. Переночевав на одном из его островов, ранним утром двинулись дальше.
Наконец вдали на возвышенности левого берега показался окрашенный купол острожной церкви. Венчал ее желтый крест.
— Исхитрился-таки новый воевода достроить храм! — повеселели казаки.
Уже видно было, что острог расширен: прибыло две глухих башни, подведена под кровлю еще одна проездная.
— Глянь-ка! — волнуясь, указал Терентий Савин. — Сколько казачьих да посадских изб настроили? Когда успели?
— Моя-то, поди, нежилая! — всхлипнул Филипп Михалев.
Ко всем пережитым бедам сургутец узнал от годовалыциков Рыбного острога, что перед Пасхой умерла его жена. Он уходил на службы с первым инеем проседи в бороде, теперь возвращался побелевшим.
— Ладно, острог цел! — бормотал Иван Похабов, жалостливо поглядывая на сургутца. — Тяжкий выпал год.
На носу струга опять закручинилась Настена. Всхлипнув, припала щекой к спине старого казака. Филипп, тронутый сочувствием сиротки, стыдливо закашлял.
— И Васька-атаман?! — пробормотал, скинув шапку, перекрестился на восход. — Прости их всех, Господи! Дай суд милостивый!
В струге опять примолкли, крестясь на крест острожной церкви. Вспомнили вздорного красноярского атамана. От годовалыциков Рыбного острога уже знали о его печальной кончине.
По слухам, раненый Перфильев со своими людьми да с пушками приплыл в Енисейский на три дня раньше красноярцев и обо всем предупредил воеводу. Острог был приготовлен к осаде. Как ни старался Васька-атаман, а взять его, как прошлый раз, не смог. Воевода же за буйства красноярцев не дал им ржи, которую по царскому указу енисейцы каждый год поставляли в Красный Яр.
Васька пообещал вернуться с полусотней казаков, разнести Енисейский в щепки и взять силой государевы оклады. Он ушел по уже застывшей реке с пустыми нартами. Красноярские казаки, встретив атамана без хлебных окладов, посадили его в воду — утопили в полынье, а бывших с ним служилых жестоко избили.
Знал Иван и о том, что после Евдокии-свистуньи, в начале весны, мимо Рыбного прошел с отрядом атаман Галкин. При нем было много пленных и десять смертельно израненных казаков.
Атаман прошлой осенью погнался за князцом Сойгой. А тот объединился с многочисленными тунгусскими родами князцов Сота и Кояна. Уже зимой, на лыжах, с нартами, атаман догнал Кояна в степи, взял двух языков из его племени. В полудне хода от их кочевий разбил табор, укрепил его стенкой из лыж и нарт, оставил там все животы, пятерых казаков для охраны и двинулся звать князца служить русскому государю.
В ответ воины Сота и Кояна напали на казаков, переранили десятерых, но были побиты и бежали, бросив все свое добро. Галкин взял в плен их жен и детей, вернулся к табору и двинулся в обратную сторону, к острогу.
Сот и Коян собрали множество воинов из других племен, догнали отряд. Казаки снова загородились нартами и лыжами и без потерь отбивались пять дней сряду. Из луков и пищалей они перебили многих нападавших, но и сами были почти все изранены. С боями ушли к Ангаре, увели пленных, увезли нартами всех убитых и больных. Атаман Галкин вернулся в Енисейский острог с пятью ранами.
Иван с печалью вспоминал о хрипуновском походе и о своем атаманстве. Всех, кто ходил с Галкиным и ходит с Бекетовым, государь без награды не оставит. Его же, Ивана, власть кончалась бесславно: обещанное перед Богом исполнил, но ни награды, ни благодарности ждать было не за что.
Плывший по течению реки струг вскоре был замечен из острога. Со смотровой башни в ясное синее небо взметнулся сизый грибок выстрела. Гребцы налегли на весла. Иван направил судно к причалу. Туда уже сходились люди и толпились у реки. В первом ряду стояла скитница Параскева со своими инокинями.
«Знают о Хрипунове, — догадался Иван по их лицам. — Накинутся теперь на Настену. В скит, в монахини станут звать. — И решил: — Не отдам им девку!»
За год дальних служб позабылось много плохого. Истосковавшись по семье, по женщине, Иван выглядывал среди встречавших свою жену с сыном. Когда струг ткнулся бортом в причал, Меченка заполошно выбежала из острожных ворот, с неприличной для замужней женщины поспешностью понеслась к причалу.
— Твоя-то! — угадав мысли бывшего атамана, заулыбался Терентий. — Коза!
Он вздохнул, умолк и насупился, встретившись взглядом с братанихой в черном платке. И она уже все знала. Большими печальными глазами глядела то на него, то на Ивана. Никого не корила. Молча спрашивала: «Как же так?» И служилые, смущаясь, склонили головы.
Не вышел из острога воевода. Не было на причале его сынов боярских. Не встречал прибывших Максим Перфильев. Такая встреча настораживала Ивана.
Едва он сошел со струга, жена повисла на его плечах. Поголосив как положено, подтолкнула к нему Якуньку. Сын входил в отрочество, и отцовская кровь явно выпирала в его облике. Он дал Ивану обнять себя, но при этом даже не посветлел лицом, как когда-то Угрюм.
«Один сын — и тот Фомище! — тайком вздохнул отец. — Весь в Похабовых». Он не успел спросить про дочь, на причале появились два сына боярских. Раздвигая толпившихся людей, протиснулись к стругу, со строгими лицами приказали всем прибывшим немедля следовать за ними к воеводе и повели за собой даже глупую бабу-ясырку.
«Чудно!» — пожал плечами Иван и пошел, приволакивая по земле кожаный мешок с ясачной казной.
Возле съезжей избы Терентию с Филиппом указали на сени, ему велели идти в воеводскую. Настену с ясыркой повели в аманатскую избу. «Чудно!» — опять подумал Иван. Вошел в горницу, скинул шапку, бросил на лавку мешок с казной. Стал степенно класть поклоны на образа. Краем глаз приметил воеводу с длинными усами по щекам, со стриженой бородой, Максима Перфильева с атаманской булавой за кушаком. Все терпеливо ждали, когда прибывший закончит уставный семипоклонный начал.
Наконец Иван нахлобучил шапку, сбил ее на ухо, поклонился всем общим поклоном, с удалью во взоре и с вызовом взглянул на воеводу.
— Садись, Иванушка! — ласково указал тот на лавку. Лицо его было смущенным. Холодные, настороженные глаза испытующе буравили прибывшего казака.
Сын боярский с усами по бритым щекам вдруг спросил таким голосом, что Похабов понял — он здесь главный, а не воевода:
— Успел ли ты поговорить с кем из встречавших? Передать им что?
— Не успел! — кратко и сухо ответил Иван.
— Брал ли ты ясак сам, без подьячего? — указал глазами на Перфильева. Максим сидел, сконфуженно потупившись.
— А то как же? — усмехнулся Похабов. — Брал! Весь в мешке, — кивнул в угол. — Описей нет, но свидетелей тому много.
Сын боярский помолчал, пристально вглядываясь в его глаза. Вкрадчиво улыбнулся и спросил ласковей:
— А не брали ли на себя Хрипунов с подьячим?
Тут Иван все понял: и сиротскую печаль в лице товарища, и смущение воеводы. Сидя, он приосанился, положил руку на колено, круче сбил шапку на ухо, ответил громко и резко:
— А того я не ведаю! На моих глазах, где по Тунгуске брали ясак, все делалось прилюдно, при очевидцах и целовальниках. Вся рухлядь, с поклонами и поминками, записывалась в ясачные государевы книги.
— Ясак можно взять за один год, а запись сделать за другой! — подсказал воевода, и лицо его слегка покривилось.
«За Максимку пытают!» — догадался Иван и, к разочарованию воеводы, стал говорить, не смущаясь и не сбиваясь:
— Грамоте я обучен! При мне такого не было. И не могло быть, даже если бы они в сговор с целовальником вошли. Подьячий всем показывал записи. Я глядел, за неграмотных руку прикладывал. При всех считал меха и складывал казну под печать. А злых, вороватых и завистливых в полку было много.
— Народ вольный, — проворчал воевода, виновато наливаясь краской. — Вор на воре!
Сын боярский еще поспрашивал Ивана о разном. Из его вопросов казак понял, что сам воевода Андрей Ошанин был под подозрением и свои вины старался переложить на покойного Хрипунова да на Перфильева. Отпустили Ивана без угощения. Следом за ним поднялся с лавки Максим.
Один за другим они вышли в сени, обнялись.
— Вроде здоров, ни хром, ни крив! — пробурчал Похабов, тиская и ощупывая друга. — Невесту тебе привез в сохранности! В остроге только отняли. Пойдем-ка! — потянул за собой атамана.
— Погоди! — уперся Максим. Заговорил приглушенно, торопливо, озираясь по сторонам: — Меня всю зиму пытают за гибель Васьки-атамана. Слыхал?
— Слыхал уже! Вот ведь какую кончину бес готовил! — скинул шапку и перекрестился.
— Это не все! — еще тише зашептал Максим. — Воевода допытывался, будто я где-то ворованный ясак прячу. Его соглядаи и наушники раз и другой не застали меня ночью в избе. Пытали, где был. Пришлось солгать мне, грешному, что к твоей жене для блуда бегал. Поверили. Потешаются теперь. Только ты не верь! Не было такого, вот тебе крест! — размашисто перекрестился, жалостливо глядя на Ивана.
— А хоть бы и бегал! — криво усмехнулся Похабов. Тряхнул головой с замутневшими глазами. — Пойдем! Вручу тебе невесту, как поклялся умиравшему куму, и гора с плеч долой! Всю зиму караулил девку. Про нее и про меня тебе тоже много чего наговорят. Бывало, бок о бок под одним одеялом спали, — добавил, холодно посмеиваясь. — Только ты тоже не верь. И скитницам Настену не отдавай. Покойный кум назвал тебя женихом.
Товарищи вышли из съезжей избы. Иван заметил, что Максим слегка прихрамывает. Не так уж и здоров был атаман, не зажила рана в бедре. С дерзким лицом, с недобрым предчувствием Похабов просипел:
— Оборони, Господи, молодицу, пуще того девицу на выданье! — Толкнул плечом дверь в аманатскую избу. У ее крыльца стояли скитницы с постными, безучастными лицами. Они ждали конца разбора и допроса.
Едва распахнулась дверь, ясырка, с утомленным видом глядевшая в потолок, обернулась. На миг Иван увидел лица всех их: незнакомого томского сына боярского — слащавое и вкрадчивое, Настены — испуганное, с натекающими на глаза слезами. Все понял.
Сын боярский, дернувшись, начальственно насупился. Взглянул на вошедших со строгостью, вскрикнул срывавшимся петушиным голоском:
— Велено про прежнего воеводу Хрипу нова дознаться!
— Что надо, я воеводе сказал! — грубо отрезал Иван и взял Настену под руку. — Не пяль зенки, не про тебя девка! — оттолкнул вскочившего томича. — У нее жених есть!
— Доложу воеводе! — захлебываясь от негодования, пискнул вслед сын боярский.
Иван подтолкнул Настену к Максиму, обернулся с презрительным бешенством в лице, пригрозил:
— Сиди, пока морду не окровянили! — Он знал по жизни, что крикливые и наглые легко теряются перед ответной грубостью.
Трое вышли во двор острога. Параскева с инокинями кинулись к Настене. Монахини стали утешать ее, растерянную, утиравшую слезы. Иван ласково и почтительно отодвинул их в сторону.
— Ну вот! — пророкотал добродушно. — Как обещал покойному отцу, доставил тебя к жениху. Исполнил! Куму теперь на меня серчать не за что. Мир вам да любовь!
— Спаси тя Господь, дядька Иван! — низко поклонилась Анастасия и снова всхлипнула. — Век милостей твоих не забуду.
— Грех на мне! — хохотнул вдруг Похабов, и жесткое лицо его потеплело. — У жениха твоего невесту увел. Теперь вроде как долг вернул!
Максим сгреб его за широкие плечи, зашептал на ухо:
— Не верь никому! Ничего не было!
Скитницы снова кинулись к Настене. Иван взглянул на них и махнул рукой, смиряясь.
Поклонившись им всем общим поклоном, он пошел в угловую избу, где зимовали без мужей три бабы с детьми. Здесь было жарко. Сладко пахло свежим хлебом. Женщины стряпали. Над острожной баней клубился дым. Меченка, смущенно и опасливо поглядывая на мужа, бестолково носилась из угла в угол: ни к месту и ни ко времени схватила шубу, бросила ее на лавку, взяла на руки дочь. Якунька сидел на печи, свесив ноги, и отчужденно глядел на отца.
— С возвращением! — обернулась к Ивану раскрасневшимся лицом тощая Тренчиха. Зимой она потеряла еще один зуб. Под губой темнел провал, он старил ее. Вернувшийся со служб муж рядом с ней выглядел моложаво, как сын. Но это никого не смущало. Терентий был рад тому, что у него есть жена. Тренчиха же знала, что за ней и беззубой, если только поманит, побегут моложе и краше венчанного мужа.
Терентия с Филиппом долго не пытали. По их виду понятно было, что они не добыли для себя за зиму ни хвоста, ни денежки. Краснояра Москвитина держали дольше всех. Удалец вышел из съезжей избы с красной, злющей рожей, двинулся прямиком в угловую избу, и без него битком набитую.
Раздвигая гостей высокой крутой грудью, сюда же втиснулась Бекетиха. Голова ее была покрыта шелковым платком, вышитым золотой нитью и бисером, на белой гладкой шее висело ожерелье из жемчугов. Теснота в избе была такой, что гостям чарку к губам не поднести. Она же, заносчиво оглядывая женщин, степенно справила на красный угол семь уставных поклонов, подняла глаза на Похабова и грозно спросила, где он бросил сотника.
С двумя малолетними сыновьями и двумя ясырями Бекетиха жила в просторном доме, срубленном в посаде за острогом, ждала мужа. Атаман Галкин с потрепанным отрядом вернулся среди зимы. Похабов приплыл весной. Где Бекетов, допытывалась она у всех возвращавшихся со служб и промыслов.
Иван сказал ей про сотника, что знал. Не утаил и последней встречи. Ноздри Бекетихи стали гневно раздуваться, грудь заволновалась. Она набычилась. Разъяренными глазами нашла Ваську Москвитина, жавшегося возле двери. Лихой казак, матюгаясь сквозь зубы, выскочил из избы и ушел из острога в дом овдовевшего Филиппа.
Иван невольно поглядывал на Савину, которая ни на кого не смотрела и старалась быть неприметной. И все казалось ему, что она едва сдерживается, чтобы не разрыдаться при всем народе: прерывисто вздыхает, щурит большие добрые глаза и все молчит, ни о чем не спрашивая.
— Найдем тебе казака доброго! — шепелявя в дырку под губой, то и дело успокаивала ее Тренчиха. — Казачке долго вдоветь не дадут. Честна вдова только в скиту спасется!
Она намекала на свою долю: после кончины мужа едва перетерпела полгода, отбиваясь от женихов, донимавших ее еще до сороковин. Иван примечал, что от слов Тренчихи Савине делалось только хуже. Она старалась не слушать подругу, рассеянно кивала, не вступая в разговоры, потому не сидела на месте, прислуживала гостям как могла.
Здесь прибывшие люди узнали много новостей. Новый воевода начал править мягко, без крика и угроз, но упорно добивался своего. Гулящие, посадские и даже служилые на отдыхе работали до изнеможения. По праздникам и воскресеньям не отсыпались, а трудились во славу Божью. Торговые люди вскоре зароптали, промышленные стали обходить острог стороной. Служилые свое денежное жалованье получили только в середине года, когда из Томского города приехал сын боярский Семен Шеховской вести следствие по их жалобам.
И все же прогнивший острог, поставленный казаками Черкаса Рукина и Максима Трубчанинова, он починил и расширил, церковь достроил. Скитники, белый поп и церковный причт в нынешнем воеводе души не чаяли. Его стараниями и просьбами Енисейский гарнизон был увеличен до ста шестнадцати окладов.
По всем приметам Семен Шеховской, тот самый сын боярский, что пытал Ивана Похабова, должен был остаться на Енисейском воеводстве. У него была сильная и многочисленная родня. Она крепко сидела по Сибири на воеводствах и почиталась наравне с ермаковцами.
Удивлялись Иван с Терентием, что вина за столом было обильно. Прежде его давали на дом по воеводскому разрешению да по великим праздникам. Пили обычно только на кружечном дворе. А нынче хоть залейся.
Острожные жители рассказали, что получили царев запрет на государевы кружечные дворы. Целовальникам по ним больше не быть. По новому указу велено иметь при острогах и слободах кабаки только по откупу.
Ермес недолго просидел на приказе в Маковском остроге. Вскоре он был поставлен таможенным и кабацким головой. По слухам, томская родня его жены откупила здешний кружечный двор. Теперь в нем наливали и в пост, и в полночь — только плати. На служилого жена могла атаману пожаловаться, тот мужа из кабака силком вытаскивал. Промышленных или гулящих людей теперь не давали оторвать от чарки, пока у них были рухлядь или деньги. Откупщики да половые[211] хоть бы и жену, и родственника выталкивали за порог, если те хотели помешать гуляке пропиться.
Уже все гости насытились. Иные затягивали песни печальные или расходились. Пришел Максим Перфильев с братом Илейкой и Якунькой Сорокиным. Двое сели в сиротском углу, возле двери, атаман протиснулся к столу, поставил на него флягу с вином.
Как-то настороженно притихло застолье. Сам атаман, заметно смущаясь, поздравил казаков и их жен с возвращением. Помянул Вихорку и стал поглядывать на дверь. Как только поднялась Бекетиха, он ушел следом, оставив флягу недопитой.
— Чует кот, чье мясо ел! — проворчала Тренчиха, одарив Меченку таким взглядом, что та, покрывшись белыми и багровыми пятнами, заерзала на лавке, будто ей под подол залетел слепень. А жена Терентия, довольная сказанным, задрала нос и зевнула, крестя рот:
— Гостям пора бы и честь знать! Добры-то люди уже вечернюю молитву сотворили.
Видел Иван, как корчит жену невымещенная обида. Тряслась, бедная, оттого, что не могла ответить. Иван же поднялся под потолок, неприязненно взглянул на Илейку Перфильева, на Якуньку Сорокина.
— Ну, что скажете? — прорычал так грозно, что примолкли даже дети. — Нашли атамана Галкина?
Илейка крякнул, побагровев. Якунька как ни в чем не бывало задрал изуродованный нос, гнусаво и степенно ответил:
— Нашли, слава богу!
От этих его слов, а больше оттого, как они были сказаны, бывший атаман слегка опешил. Якунька же преспокойно продолжил, наслаждаясь общим вниманием:
— Он с казаками так долго гнался за тунгусами, что оказался в братской степи. А после уходил с боями. Все были изранены.
— Кабы мы его не нашли, еще неизвестно, вернулся бы он в Енисейский или нет! — задиристо поддакнул Илейка Перфильев.
— А пришли мы в Енисейский нартами, — пуще прежнего важничая, продолжил Сорокин. — Сразу к воеводе. Хрипунов погиб, говорим, Похабов бедствие терпит. Дай припас, мы к нему на выручку пойдем. Не пустил. Мы отогреться не успели, обмороженными руками ставили острог и церковь рубили во славу Божью! — Якунька, сверкая глазами, размашисто перекрестился, а Иван, озадаченно крякнув, опустился на прежнее место и велел налить им из перфильевской фляги.
Едва затворилась дверь за последним гостем, ерзавшая на лавке Меченка с дурным, некрасивым лицом подскочила. Но в тот миг запищала за печкой уснувшая дочь. Она метнулась туда. Выскочив, бросила утихшего ребенка на руки Савине.
Иван с Терентием, не сговариваясь, вышли из избы, предоставив бабам разбираться, где кому стелить и кому убирать стол. Вскоре из избы донеслись голоса, переходящие в крик.
— Наши собачатся! — с насмешкой зевнул Терех. — А то и дерутся.
Разъяренная Меченка выскочила из двери. Зацепилась за какую-то дерюжку или на свой подол наступила — скакнула через порог и выстелилась у ног мужчин.
— Пойду я! — снова зевнул Терех.
— Язык поганый, сука злая! — завыла Меченка, хватая сапоги мужа. — Не верь никому! Все на меня наговаривают.
— Чему не верить? — тихо спросил Иван. Наклонился, чтобы поднять жену. Та не вставала. Прижалась щекой к голяшке сапога.
— Что с Максимкой прелюбодействовала! — стала давиться слезами. Вздрагивала всем телом от сдерживаемых рыданий.
— Ну, не верю! — равнодушно согласился Иван.
— Не так. Не так! — с жаром зашептала она. — Побей! Покажи, что люба!
— Поздно уже! — зевнул Иван. — Завтра побью!
— Сейчас побей!
— А нечем!
Меченка вскочила, сиганула в сени. Там загремело коромысло и хлопнула дверь. Появилась она с веревкой в руках. Лица на ней не было, вместо него задубевшая на ветрах чурка с круглыми дырками глаз: кикимора да и только. Упала на колени, сунула мужу в руки веревку.
— Побей! — зашептала с придыханием, припадая, как когда-то на реке, возле проруби.
Иван послушно стегнул ее по спине раз, другой.
— Не так! Сильней! Ведь люба же!
Иван вытянул ее вдоль спины, добавляя силы в удар. Она выгнулась дугой, вскрикнула сдавленно, боязливо отскочила и передернула плечами.
— Что они там? — послышался голос Тренчихи в избе.
— У них все одно, — проворчал Терех, покряхтывая. Видно, влезал на полати. — Дерутся с криком, емлются с визгом.
Меченка дернулась, выскочила из сеней, сунула голову в оконце, заорала, давясь слезами:
— Про меня брешут, что с сыном боярским любилась. Ты же, сука тощая, перед гулящими да перед попом дырой трясешь. То-то тебя скитницы на дух не терпят.
За стеной возмущенно ахнула Тренчиха, соскочила с полатей. Меченка, злорадно посмеиваясь, выдернула голову из оконца, шлепнула по высунувшейся оттуда руке. Из него высунулась растрепанная бабья голова.
— Кошка драная! — вскрикнула, задыхаясь от гнева. — Да я с тебя Максимку только что за ноги не стягивала. Чтоб тебе сладким куском подавиться. Ты. Про честную жену при муже.
Меченка вцепилась в волосы подружке. Обе завопили. В доме заголосили разбуженные дети. На башне заходился от хохота караульный казак. Иван оттащил жену от избы, силой повел ее из острога к реке.
Вернулись они за полночь, тихие и умиротворенные. Бесшумно пробрались в кутной угол на лавку. Уснули обнявшись. Засыпая, слышал Иван вздохи Савины. И так жалко было ему вдову, что ныло сердце под ребрами.
Новый воевода Семен Шеховской с рвением взялся за дела, а прежний как-то тихо, незаметно сдал ему острог и ушел с близкими людьми к новому месту службы. Притом, как говорили глазастые казачки, добра вывез много больше, чем привез.
Новый воевода сразу положился на старослужащих казаков и стрельцов, приблизил к себе Максима Перфильева, утвердив его на атаманстве. Оба стали появляться на людях с озабоченными лицами, перепачканные чернилами, то и дело слали вестовых в Томский и Тобольский города. Стараниями нового воеводы Енисейскому острогу вскоре дали еще три чина сынов боярских. Просил же Семен Шеховской, как водится, пять.
Неделю и другую Иван Похабов прожил спокойно и семейно: разводил караулы, осматривал товары купцов. Многих из них он знал по прежней службе в Маковском остроге.
Купцы жаловались ему на нынешних маковских служилых под началом Васьки Колесникова. Винились, что прежде безвинно сердились на него, Похабова, когда он правил там за приказного. Было дело, даже в мелочах не давал спуску купеческой хитрости, но и поборов не дозволял, и держал крепкий государев порядок.
Семен Шелковников — тобольский торговый гость, уже много лет водил в Маковский острог барки с рожью. Его люди по зимнику переправляли товар в Енисейский и здесь вольно торговали. В нынешний свой приезд купец пожаловался воеводе и пригрозил бросить малоприбыльный хлебный промысел, если в Маковском не будет прежнего порядка.
На Троицу в угловой избе острога все поднялись с праздничным настроением. Стараясь услужить друг другу, умылись, приоделись в лучшие платья. Пономарь Митька Ефтропев ударил в железный якорь, который за неимением колокола висел возле острожной церкви. Служилые семьями двинулись в храм.
Над острогом синело чистое летнее небо. Запах реки и прохладная свежесть утра уже просекались дымками острожных печей. Ворота проездной башни были распахнуты. В острог свободно входили не только служилые из домов в посаде, но и торговые, гулящие и промышленные люди.
Тренчиха с Похабихой помирились наутро после ссоры. До самой Троицы они жили в приязни, кланяясь друг другу и каясь за злой язык. Терех Савин, уже в окладе пятидесятника, с женой под руку шел впереди всех. За ними — Похабовы с сыном за руку, с дочерью на руках. Следом шла Савина в черном платке и вела сыновей-погодков. Все двигались чинно и пристойно, крестились и кланялись на зеленый купол церкви.
Вдруг Меченка приметила возле крыльца Максима Перфильева в шапке сына боярского. Он держал под руку Анастасию, Хрипунову дочь. Иван почувствовал, как жену затрясло, как она заскрежетала зубами. Он сжал ее запястье. Она ойкнула, попыталась освободиться. Иван не отпускал. Максим заметил в толпе Меченку. Лицо его сделалось печальным и набожным. Беспокойные глаза то и дело отыскивали Похабовых.
Анастасия была одета во все черное, как скитница. Но сколько помнил ее Иван, такого счастливого лица у нее не видел. Теперь только понял, что сумел разглядеть Максим в прежней маленькой, сухонькой отроковице.
Свою жену он протащил мимо них едва ли не силком. Меченка хрипела, упиралась, царапалась, приглушенно шипела:
— Бесстыжая. Сказывают, блядовала с тобой…
Максим бросил вслед Похабовым опасливый взгляд и всю литургию держался в стороне от них. Якунька же, Похабов сын, разумно воспользовался обычной размолвкой родителей и переметнулся в задние ряды, поближе к атаману. Иван отыскал его взглядом, с пониманием кивнул Максиму. По чину его атаманское место было в первом ряду возле алтаря.
На прошлой неделе увидел Иван своего сына на причале рядом с Максимом. Они сидели бок о бок, непринужденно разговаривали и смеялись.
Якунька то и дело хохотал, откидывая голову, болтал ногами. Иван не знал его таким веселым. С печалью вспомнился брат Угрюм: так же весело он говорил с чужими, но обмирал и замолкал рядом с родным.
«Вразуми, Господи! — истово молился Иван на распятие, украшенное зелеными ветками. — Что не так делаю? Отчего возле меня недоверие и зло?»
Он встретился с Максимом только к вечеру, после гуляний. Атаман был трезв и печален.
— Уйми бабу! — попросил, с тоской отводя глаза. — И без того мы с ней у всех сплетников на слуху.
— Забери! Даром отдам! — посмеялся Иван. — А унять как?.. Уж много лет маюсь с дурой.
— Ступай в Маковский острог на приказ! — чуть не взмолился атаман. — Ермес дела запустил. На Ваську Колесникова сколько ни жалуются, он от всего отбрешется. А проку-то?
Иван молчал, раздумывая, что даст ему знакомая служба кроме просторной избы приказчика. Максим, почувствовав заминку, стал торопливо убеждать:
— Ты о своих заслугах писать не горазд. Я за тебя челобитную отправил, просил поверстать в чин сына боярского. Еще тесть, царствие небесное, — торопливо перекрестился, — говорил, что за твою верность служба в сынах боярских в самый раз по тебе.
— А какие у меня заслуги?' — Иван удивленно вскинул глаза на товарища. — Вихорку не уберег. Хрипунов помер, рудознатец тоже. Казаки разбежались. В чем только не обвиняли. Будто и с Настеной твоей.
Максим нетерпеливо отмахнулся.
— Я знаю, какие заслуги! Иди давай в Маковский, сделай порядок, как был. Кого надо — пори! Поперечных вышли, новых дам.
— Сам-то куда собираешься? — спросил Иван, не дав согласия.
— От сотника Петра нет вестей, — неохотно ответил Перфильев. — Пойду к нему на перемену.
— Ну вот! — горько вздохнул Похабов. — Ты — в дальнюю службу, а я — свою бабу караулить да с Васькой спорить. Ох и попьет кровушки Колесник, если ты меня над ним поставишь!
Сказал Иван смехом, но Максим смутился и заговорил с горячностью:
— Никак нельзя Маковский в беспорядке содержать. Через него весь хлеб, порох, свинец идут. А дела нынче затеваются большие. Служб всем хватит. Устрой Маковский! После поставишь вместо себя надежного человека, и я выхлопочу тебе дальнюю службу! А Ваську с собой возьму!
Иван уже и сам понимал, что дольше так жить в Енисейском нельзя. Надо строить свой дом, а жалованья едва хватает на пропитание, денег нет. Не успел он отогреться возле жены и детей, заявился томский купец с хитрющими глазами, стал предлагать выкупить у Ермесихи кабалу на Угрюма, если Иван переведет ее на себя. Хорошо еще, никто не знал, жив ли брат.
Иван едва сторговал ту кабалу за серебряную цепь, и пополз по Енисейскому слух: нашел будто Хрипунов серебро, а досталось оно его близким. Кабы не было закончено следствие по хрипуновской войне да не хлопоты Максима, не уклонился бы Похабов от пыток.
Все чуял Иван тем самым чутьем, которому не раз был обязан жизнью. Понимал и теперь — пока у власти Шеховской да старые товарищи, надо уйти от недобрых глаз. Кроме как в нелюбимый, но знакомый острог идти было некуда.
Вроде бы для праздничного веселья, но с греховной кручиной под сердцем пошел он в кабак, битком набитый промышленными людьми. Огляделся — яблоку упасть негде. Уже развернулся было обратно к двери, из толпы выскочил Якунька Сорокин, схватил его за локоть, удивляя Ивана, стал слезно и радостно обнимать.
— Садись со мной, старый товарищ! — плюхнулся на прежнее тесное место в углу, уперся ногой в стену, подналег спиной на сидевших в ряд, потеснил их. — Чтобы мой друг да без места? Не бывать тому! — прикрикнул на загалдевших.
— И что за судьба нам с тобой заказана? — стал пытать Похабова, высказывая, что томило душу. — Дураки мы с тобой, что ли?
Иван взглянул на него удивленно. Казак торопливо заговорил:
— Тренька Савин с покойным Васькой-атаманом на Тасеевой реке был, против воеводы шел — нынче в пятидесятниках. Васька Черемнинов землю взял, ясырей на нее посадил. А что мы за наш поход получили?.. А вот что! — сунул под нос Похабову дулю с потрескавшимся ногтем.
Иван отмахнул ее от лица. Гневаться на пьяного, да еще в праздник не хотел. Удивлялся только, зачем вздорный ссыльный казак открывается ему в своих обидах?
Летом, до Успенского поста, Максим Перфильев прислал в Маковский острог посыльного звать Ивана на свадьбу. Не сделать этого они с Настеной никак не могли. Но звали так робко, будто другой рукой просили не приезжать. Иван все понял, не обиделся и сослался на дела. Жене же сказал о той свадьбе, когда атаман с отрядом ушел за Ангарские пороги.
В Маковском остроге был устроен новый порядок. Воевода посадил здесь девять человек, не совсем пашенных и не совсем служилых. Жалованья они не получали, кормились с пашни, но и государевой десятины не платили: как слободские казаки назывались беломестными, за свою службу держались, от дел не отлынивали. Брошенные в зиму казенные барки теперь стояли на покатах. На государевых амбарах крыши были залатаны.
Поздняя осень накрепко сковала сырые болота и реки, открыла санные пути. В Маковский острожек прибыли вестовые из Томского города. На гостином дворе их встретил трезвый и расторопный казак. Он провел прибывших в теплую избу, затопил баню. Вскоре к ним явился приказчик и сполна выдал проезжие корма.
Расчувствовавшись от доброй встречи, вестовые втайне сообщили Ивану, что указом томского воеводы везут ему шапку сына боярского. Но государева оклада на ту шапку в Енисейский острог пока не дадено. Однако стараниями Максима Перфильева и нынешнего енисейского воеводы челобитная в Москву отправлена. Даст Бог, не воспротивятся их просьбам дьяки Сибирского приказа.
И понадобилось Похабову ехать в Енисейский только на Михайлов день, по вставшему санному пути, когда из государевых амбаров Маковского острога на Енисей потянулись обозы с хлебом.
Был он в пути весел и слегка пьян. Казенный конек хорошо знал дорогу, без понукания перебирал копытами и весело мотал головой в такт шагам. Гулко позванивали подковы по мерзлой болотине. Довольный службой и погожим деньком, приказный лежал в санях, завернувшись в дорожный тулуп, смотрел в синеющее небо, на котором вот-вот должен был блеснуть луч солнца. По его следу шли подводы со служилыми из Томского города, за ними обоз с хлебом.
Кони прошли волок, весело захрустели подковами по льду Кеми. Сани заскользили вниз по застывшей реке. Лошади, почуяв запах жилья, то и дело всхрапывали и переходили с шага на рысь.
На подъезде к устью притока, выше первых домов посада и чумов енисейских остяков, обоз встречал красноярский переводной казак Васька Москвитин. Уже по тому, как он встал на пути в долгополой волчьей шубе, видно было, что красноярец здесь обжился. Приметил Похабова в первых санях, начальственное лицо Васьки сделалось почтительней.
— Стой, холера! — потянул на себя вожжи Иван, остановил разбежавшегося конька.
— Будь здоров, Иван Иванович! — приветствовал бывшего атамана казак.
— Ноги целы? — смешливо спросил Похабов, бросил вожжи и вынул из-за пазухи согретую телом флягу с малиновым вином. — Кто празднику рад, тот загодя пьян!
Обоз останавливался. Заиндевевшие конские морды одна за другой тыкались в спины сидевших в санях людей. Василий с благостным лицом перекрестился, выпил слабенькое, ароматное винцо, крякнул, обсасывая усы.
— Ну, сказывай, что нового в остроге! — приказал Иван.
Но Москвитин взглянул на подходившего к нему обозного и вскрикнул, раскидывая руки:
— Семейка? Сродник!
Иван оглянулся. Это был давний его знакомый, тобольский торговый человек Семен Шелковников. Родственники поликовались со щеки на щеку, сели рядом с Иваном в сани.
— Васька Бугор с братом вернулись! — залопотал Москвитин, не сводя глаз с Семена. — Прошлым летом галкинские казаки, пьяные, оговорились, что сперва он бежал от них со своими охочими людьми, но после отслужил: волок на Лену нашел, зимовье срубил на устье Ку гы и другое, на устье Киренги-реки.
— Вот те и Ермолины, — завистливо усмехнулся Иван. — В огне не горят, в воде не тонут.
— Галкинские казаки их не злословят, а гуляют врозь! — неприязненно добавил Василий. — С чего бы? А еще! — с показной печалью заглянул в пустую чарку. — От Перфильева вестовые пришли на лыжах. Не застал он Бекетова на Оке. Зимовье сожжено, рядом с ним три могилы.
Иван скинул шапку, перекрестился:
— Вон как Петрухе обернулось его возвращение! Сказывал, двух стрельцов и целовальника оставил там, когда к нам плыл. Видать, вернулся на погорелое. Прими, Господи! — вздыхая, наполнил пустую чарку казака.
— Как лед сойдет, пойду к Перфильеву! — прихвастнул Москвитин. — Воевода сказал: «Послужи мне зиму с радением, дам к весне наказную память».
Слушать Ваську Похабову было некогда. За спиной нетерпеливо топтались кони обоза. Он сунул флягу за пазуху, надел рукавицы, тряхнул вожжами.
— Смотри, на службах! — в смех бросил казаку. — Кабы енисейские стрельцы не припомнили красноярских бесчинств да другую ногу не сломали.
Конек рванул сани, а Васька загоготал вслед, переламываясь в пояснице, будто только и ждал, чтобы сказать о главном:
— Молитвами и жалобами енисейских воевод Красноярский острог велено срыть. Полторы сотни краснояров идут служить в Енисейский!
Иван Похабов опять потянул на себя вожжи, так, что конек, оскалив желтые зубы, задрал морду.
— Кто сказал?
— А воевода! — хохоча, казак снова переломился в поясном поклоне. — Грамоту получил из Сибирского приказа!
— Пошел, милай! — подстегнул конька Иван и озадаченно замотал головой.
Семен Шелковников, дородный детина, на ходу соскочил с его саней, махнул рукой, подзывая своих.
Все новости в Енисейский шли через Маковский острожек. А эта как-то обошла. Увеличение гарнизона в два раза сулило большие выгоды и ему, Ивану Похабову.
Проворный красноярский переведенец соскочил с обозных саней и кинулся к калитке острога. Ворота только распахнулись, впуская обоз, а Васька успел уже побывать в воеводских покоях, предупредить Шеховского. Из его хором он вышел, опять обсасывая усы и слегка покачиваясь.
— Томских вестовых да Маковского приказного с тобольским торговым гостем воевода зовет! — объявил со смешливой важностью. — Всем другим отдыхать на гостином дворе. Товар — в амбар, коней — на государевы конюшни!
В воеводской избе за столом сидели лучшие люди острога. Положив поклоны на образа, прибывшие поклонились общим поклоном всем собравшимся. Семейка Шелковников с Иваном Галкиным потянулись навстречу друг другу, стали обниматься.
— Юнцами еще встречались, — весело пояснил атаман. — Мангазейский бунт усмиряли. — Обернулся к Ивану. — Брат не объявился ли? — спросил вдруг.
— Не слыхать! — посмурнел Похабов.
За столом ему не сиделось. Он принял от воеводы чарку вместе с красной шапкой, поблагодарил, выпил, перекрестился. Надел новую шапку и вышел во двор, желая навестить Бекетиху, узнать про Максима и Настену.
Едва вышел из-под проездной башни острога да отвесил поклон на Спаса, ему заступила путь толпа гулящих. Шумной гурьбой они шли к Ермесихе в кабак. Своих товарищей Иван среди них не заметил, и это его обрадовало. Он хотел уж разминуться с хмельными людьми, вдруг его окликнул знакомый голос:
— Ивашка! Вражина!
Похабов обернулся. Властно раздвинув пьяный сброд, из толпы выступил Илейка Ермолин. Он был в собольей шубе до пят, в шапке из черных собольих спинок. Следом выкатился Васька Бугор, разодетый богаче боярина. Братья с хмельной радостью стали так обнимать да тискать Похабова, что с того чуть не свалилась новая шапка.
— Мы Енисейский ставили, когда тут были три балагана да скитник Тимофей! — трубно ревел Васька, обращаясь к притихшей толпе.
Он подхватил Ивана под руку, с другого бока в него вцепился Илейка. Оба повели его в кабак. Гуляли братья не первый день: лица их были припухшими, а хмель тяжек.
— Выпьем маленько. Расскажем, куда ходили!
— Слыхал! — начал высвобождаться из пьяных объятий Иван. — На Лене, сказывают, зимовье поставили.
— Два зимовья! Два! — заорал Васька Бугор, подсовывая ему под нос растопыренные пальцы. — Одно на Николином погосте.
Илейка подтолкнул кого-то из собутыльников:
— Беги! Скажи Ермесихе, чтобы стол накрывала. Ермолины идут!
Гулящий в ветхом зипуне прытко убежал за острожную башню. Хмельная толпа двигалась медленно. Доброхоты оторвали от Ивана Илейку с Васькой, повели их под руки.
На крыльцо кабака вышла суровая баба, издали похожая на мужика, ряженного в шушун и кичку. Губы ее кривились в принужденной улыбке, на тяжелом подбородке курчавились редкие волоски. Из-за ее широкой спины выглядывали усатые ляхи с серьгами в ушах — кабацкая прислуга.
Васька с Илейкой стали шумно обнимать их как старых друзей. Бабу они не трогали: очень уж строгим было ее лицо. За столом братья навязчиво и неувлекательно залопотали, как разбили струг и волокли на себе мокрую плесневеющую рожь. Похабова начали злить их пьяные речи, суета. Как он ни скрывал своих чувств, поглядывая на дверь, Илейка почуял неприязнь и вперился в него мутным, пристальным взором. Обессиленный пьянством, стал искать повод для драки. Иван покладисто выпил с братьями по чарке. Те быстро опьянели, к разочарованию пришедших с ними людей, стали клевать носом.
Илейка оторвал голову от столешницы, опять хмуро взглянул на Ивана и просипел:
— Думаешь, все? Пропьемся и подохнем? Нет! Великий Тёс далеко за Лену идет. И мы дойдем!..
В кабак вошел Терентий Савин, важно хмуря брови, оглядел гуляк, кивнул Ивану и сел рядом.
— Думал, мои загуляли! Эти, — кивнул на Ермолиных, — какой уж день всех спаивают.
Терентий пить не стал. Посидев, двинулся к двери. Иван тихо встал и пошел за ним. Ермолины этого не заметили.
— Говорят, Бекетова видели? — кивнул в их сторону Похабов.
— Докладывали воеводе! — насмешливо взглянул на его новую шапку Терентий. — На Лене он! Зимовье поставил. Ясак берет.
Плечо к плечу товарищи дошли до острожных ворот. Иван хотел было повернуть к дому Бекетихи, но стрелец схватил его за рукав:
— Куда? А шапку обмыть?
Не угостить его Иван не мог. Он сходил к своим саням, достал из-под сена другую флягу с вином, пошел в знакомую избу, где был принят радушно, как близкий родственник.
Жили в угловой избе одной семьей две бабы, двое детей да Терентий Савин. Видно было, что живут дружно. Тренчиха висла на шее Ивана и все выспрашивала про жену. А у него перед глазами стояло лицо Савины. Глядел не мигая в ее глаза, и таял давний ком под сердцем, отогревалась душа. Вспоминать про Меченку не хотелось.
Переменилась и вдова. Она стала спокойней и уверенней, не смущалась пристального взгляда гостя. Ивану не хотелось ни есть, ни пить: голова вытрезвела от ее глаз. И так покойно, так светло стало на душе, что он только усы макал в вино, боясь испортить эту нечаянную тихую радость.
— Что до сих пор вдовеешь? — спросил. — Год уже прошел, больше.
— Сватаются! — просто ответила Савина, не сводя с него глаз. — Да все не те.
— Поди, толпами ходят? — попытался пошутить Иван. И сам смутился: так коряво прозвучали слова.
— Ходят! — просто ответила она. — Но мне надо такого, как ты.
Иван опять смутился, опустил трезвую голову. За разговорами не заметил, как уснули дети. Стол освещался от топившейся печи. Терех зажег лучину над ушатом. Иван оглянулся на темное оконце со вставленной льдинкой. Спохватился, ночь уже на дворе. Но Тренчиха повисла на его плече.
— Ночуй! — потребовала и подмигнула с каким-то намеком: — Перед постом все можно. После отмолишься.
Идти никуда не хотелось. Иван послушно сбросил ичиги, перекрестился на темный образок в красном углу и полез на полати. А в груди буйно трепыхалось, билось о ребра сердце: чувствовал, придет! И хотел этого.
Савина убрала со стола, задула лучину и так же просто, как отвечала на его вопросы, влезла к нему на полати.
— Не постави тебе Господи во грех! — зашептала жарко. — Желанный мой, ненаглядный! — нежно и страстно прижала его голову к груди.
И задохнулся Иван. Не от распаленной страсти, как бывало прежде, а от нежности к ласковой женщине, которую не сумел разглядеть в молодые годы, в девках.
Ох и затуманилась буйная головушка. С юности познал он хмель горячего вина, но так никогда не пьянел. Ждал стужи, а тело охватил жар. Жадно целовал ее в губы, гладил податливое, полное тело.
Не холодна была его венчанная жена, на всякие шалости горазда. Да только все было другим: она и в постели была злой, а эта — ласкова. Обволакивала, пеленала, как пуховым одеялом, и все наглаживала, всхлипывала, отогреваясь у чужого, невзначай украденного счастья.
На другой день жильцы и гость поднялись поздно. Изба выстыла. Дети шумели и баловались на печи. Савина оторвалась от Ивана, неохотно оставив на полатях полюбовного молодца, стала раздувать огонь.
Поднялось солнце. Жильцы в казачьей избе хмуро, покаянно, сотворили утренние молитвы и позавтракали. Савина молчала, как все, но глаза ее беспечально сияли и поглядывали на Ивана без укора. Накормив всех, с Тренчихой под руку, она вышла проводить енисейского сына боярского.
Иван привел из конюшни и запряг в оглобли отдохнувшего коня. Сел в сани, выехал из острога, спустился на лед реки, где его ждали женщины. Возле них остановил коня, вылез из саней, потоптался около подводы, поправляя упряжь, не зная, как проститься. Савина со смехом упала на сено в санях.
— Провожу до леса! — сказала то ли ему, то ли Тренчихе.
Выдыхая густой пар из влажных ноздрей, конь весело зарысил в обратную сторону, к устью Кеми. Сани легко скользили по льду, скрипели полозьями по застругам. Савина глядела в синее небо, думала о своем, радостном, и улыбалась. Иван растерянно хмурился и всю дорогу молчал.
— Не думай плохого! — сказала она вдруг. — Я тебе не наврежу. Уже высмотрела жениха.
— Кого? — ревниво вскинул глаза Иван.
— Филиппа!
— Он же старый? — удивился Похабов, оценив, что Михалев казак добрый и надежный.
— Что с того, что старый? — беззаботно улыбнулась Савина. — Дети у него уже большие, помощники. Дом свой. Любить будет. Как вернется со служб, так за него и пойду. — Помолчав, стала рассказывать, не сводя глаз с неба: — Мы с Вихоркой хорошо жили.
— С тобой хоть кто будет жить хорошо! — буркнул Иван в смятении.
— А меня все бес смущал чем-то сладостным, — не услышав его, продолжала Савина. — Приглянулся ты мне еще в Кетском. Снилось, будто ласкаешь. Теперь узнала, как это — с любимым.
— Ну и как? — спросил Иван, принужденно посмеиваясь.
— Совсем не так, как с хорошим! — смежила веки Савина, вспоминая свое, сокровенное. Ее длинные ресницы поблескивали куржачком.
Показались дома. Иван направил коня к устью притока. Он стал хоркать, ловить заиндевелыми ноздрями запах дымка, недовольный седоком, правившим мимо жилья. Иван привстал на колени, потряхивая вожжами. Савина из-за спины обвила его руками за шею. Он обернулся. Вдова жарко поцеловала Ивана в губы, на ходу соскочила с саней и, крепенькая, ладненькая, в добротной бараньей шубейке, не оборачиваясь, колобком покатилась в обратную сторону. Сани пошли легче. Иван, щурясь, обернулся на закат дня, куда лежал его путь. И вдруг холодом обдало сердце, подумалось со страхом: «Как же я теперь жить-то буду?» Конь ровно рысил по колее. Сын боярский привязал вожжи к передку, закутался в тулуп и лег на спину.
Взбаламутила душу пережитая ночь. Прежде думал, что живет как все и многим на зависть. Оказалось, есть другая жизнь. Он кручинно усмехнулся, подумав, что, кабы женился тогда на Савине, и служить бы не захотелось, от дома отрывался бы с муками, о нем бы только и думал. Нельзя так хорошо жить! На все есть Божий промысел.
Он вернулся в острог на другой день, за полночь. Есть не стал, сразу полез на теплую печь, сказавшись уставшим, отвернулся от жены и уснул. Спал долго. Разбудили его дети. Дочь залезла под тулуп, стала шалить, не давала дремать. Иван свою дочь баловал: голоса на нее не повышал, не то чтобы шлепнуть под горячую руку.
— Что квелый? — пытливо заглядывала ему в лицо жена. Бестолково бегала по избе. Привычно искала повод для ссоры.
— Попей-ка, родимую! — зевнул Иван. — Затопи баню!
— Делать мне больше нечего! — вскрикнула Меченка, переставляя ухват с места на место. — К шапке-то приложил ли что воевода?
— Три чарки крепкого! — жестко и мстительно усмехнулся Иван, понимая, что теперь разозлить его будет трудно.
Он слез с печи, накинул тулуп, пошел топить'баню.
— Хоть бы лоб перекрестил! — разъяренно закричала вслед жена. Иван даже не обернулся. В чине сына боярского сделался Похабов степенным и молчаливым.
А жена искала буйных ссор для жарких примирений. Пару раз, в сердцах, бросалась на мужа, пытаясь исцарапать, но натыкалась на его мозолистую ладонь да на равнодушную брезгливую усмешку. И как ни выла, как ни заливалась слезами, ни разжалобить, ни разозлить мужа уже не могла. Он стал равнодушен и спокоен, как старая колода: приходил со служб, брал дочь на руки, ее только и ласкал.
Меченка во всем винила новую шапку мужа. Хотела тайком сжечь ее. Стала злиться на дочь. И все ждала прибавки к мужниному жалованью. У всех вестовых про это выспрашивала, всех проезжих служилых пытала, у кого какой государев оклад.
Прошла зима. Оттаяли барки и струги. Опять обнажились промерзшие грязи и гати. Иван стал собираться в Енисейский острог, к воеводе. Вместо себя оставил на приказе верного и осмотрительного Дружинку из первых стрельцов.
День был теплый. Приказный заседлал резвую казенную кобылку, вскочил в седло. Жена, как девка, выбежала из острога с непокрытой головой, вцепилась в стремя.
— Спроси у воеводы! — причитала. — Будет ли за этот год жалованье по чину?
— Что, оголодала? — хмуро проворчал Иван. — Голову покрой! Еще бы с голым задом вышла на люди! — поддал пятками в бока кобылке.
Та послушно взяла с места в галоп. Меченка, цепко держась за стремя, высоко задирая ноги в сарафане, скакнула раз и другой, отцепилась, упала на стылую землю. Иван злорадно усмехнулся, но не обернулся. Ускакал по звонкой, не оттаявшей еще земле.
Возле Енисейского острога против проездных ворот и на причале толпился народ. Лед реки был порист и черен. Острожные жители ждали, что с часу на час зевнет водяной дедушка да щука ударит хвостом по льду и вскроется река.
Горели костры. Казаки атамана Галкина в новых кафтанах смолили струги. В Маковском раньше Енисейского знали, что атаман Галкин за службы получил от царя десять рублей деньгами, а его казаки — аглицкое сукно на кафтаны да по рублю. Отряд был пополнен переведенными красноярцами. Атаман собирался на Лену-реку, на перемену сотнику Бекетову, от которого зимой пришли вестовые.
Издали Похабов узнал Ваську Москвитина. С пятью красноярскими переведенцами он смолил струг, а другой, с расшитыми бортами, собирал. У его костра сидел дородный тобольский купчина Семейка Шелковников со своим лавочным сидельцем Фролом Шолковым. Они оба зимовали в Енисейском остроге.
Потолкавшись среди занятого люда, Похабов въехал в раскрытые ворота острога, привязал коня возле съезжей избы. Крестясь, вошел в нее. Никого, кроме воеводы, он не застал. Доброе начало — полдела! Иван кивнул сыну боярскому и сел напротив. Изба не топилась. Оконце было закрыто слюдой, сквозь которую лился рассеянный дневной свет.
Воевода сидел в собольей шапке, накинув шубу на плечи. Щеки его были гладко выбриты. Молодецкие усы обвисли к подбородку, как у литвина, глаза были блеклыми, лицо печальным и озабоченным.
— Здоров ли? — спросил Иван.
— Слава богу! — торопливо спохватившись, ответил тот и спросил: — Что там, в Маковском?
Похабов стал обстоятельно рассказывать о делах и работах, которые надо сделать, вглядывался в рассеянное лицо воеводы, и все казалось ему, что тот его не слышит. Тогда он заговорил о своем, с чем приехал втайне:
— Слыхал я, Максимка другого вестового прислал, помощи просит. Будто браты его воюют…
Шеховской повел бровями, дернул плечом, дескать, что с того, что слыхал?
— Запала мне дума! — тряхнул бородой Иван и придвинулся. — Отпусти меня за Шаман к Максимке?
Просьба Похабова ничуть не удивила воеводу. Он застучал пальцами по столу, глядя в сторону.
— А Маковский как?
— Я все отладил. Лето и без меня проживут: рожь, соль примут и в государев амбар сложат. Дело нехитрое. Оставлю вместо себя казака доброго, не вороватого, который за государево дело радеет, и поручусь за него. А ты отпусти меня до осени?
Воевода опять застучал пальцами по столу. Посидел молча, разглядывая щель в углу, после, обернувшись, взглянул на Ивана пристально.
— Надо бы отправить Перфильеву перемену, но слать некого. Служилых в остроге прибыло против прежнего, а все равно на службы не хватает. Нашел только восемь красноярских казаков с Васькой Москвитиным.
— Слыхал! — кивнул Иван.
— Слыхал! — передразнил его воевода, язвительно скривив губы под усами. — Слыхал, да не все! Сибирский приказ требует послать к вольным тунгусам и к братам целовальника с казенным товаром и с охраной. Торгом да лаской, дескать, тамошние народы охотней под государеву руку пойдут. — Воевода опять пытливо уставился на Похабова, будто ждал от него чего-то: — Торгового Семейку Шелковникова хочу отправить целовальником с Васькой Москвитиным!
— Понял уже! — кивнул Иван.
— Ничего ты не понял! — раздраженно хмыкнул воевода. — Родственники Семейка с Васькой. Сговорятся в пути, сделают казне убытки. А пошлю другого целовальника — смогут убить. Служилым торговать от государя запрет. Но попробуй запрети! Все торгуют!
Воевода опять пытливо уставился на Похабова. Тот наконец понял, чего он ждет от него.
— Вот и отправь меня! Ни убить себя не дам, ни сговориться!
— Подумаю, подумаю! — снова застучал ногтями воевода. Лицо его опять сделалось рассеянным и обиженным. Вздохнул: — И я уже неугоден государю. Ничего не успел сделать, но шлют перемену. Пишут дьяки из Сибирского приказа: велел-де государь, чтобы на воеводстве больше двух лет не сидели. Сдается мне, Андрейка Ошанин что-то дурное отписал, хоть я и помог ему оправдаться. Слышал про него? — опять вскинул блеснувшие глаза. — Красноярские казаки на Оби его перехватили, избили и ограбили!
Иван равнодушно кивнул. Новость эту в Маковском знали раньше, чем в Енисейском.
— Жаль! — искренне вздохнул, не желая расставаться с Шеховским. — Добра ты сделал много, а послужить не успел.
— Да уж! — обиженно засопел воевода: — Выхлопотал на острог разрядные оклады детей боярских и Галкину, и Перфильеву. Тебе, правда, одну шапку. Дадут когда-нибудь и жалованье. — Он опять скривил губы в усах, бросил на Похабова любопытный взгляд: — А что за нужда тебе Максимку спасать? Он ведь показал, что с твоей женой прелюбодействовал. — Глаза воеводы сузились, блеснули холодком. — Отправлю в помощь, а ты его там. — полоснул себя по шее ребром ладони. — А братов оговоришь?
Иван побагровел от гнева, встал. Воевода расхохотался, откидываясь в кресле:
— Мне-то что? Меня зашлют на другие службы. Вы тут сами разбирайтесь с женами.
— Пошлешь с красноярами? — рыкнул Иван.
— А Бог с тобой! — махнул рукой воевода. — Ступай! Только в Маковском оставь на приказе казака доброго и трезвого. Велю подьячему наказную память написать.
Похабов вышел из съезжей избы. Отвязал от коновязи остывшую кобылку. Повел ее в поводу к проруби. Остановился возле Москвитина. Красноярцы у костра подзуживали торговых. Иной раз даже позволяли себе злое словцо.
Семейка Шелковников был весел и добродушен. Он продал свою рожь по двадцать копеек за пуд, хотя месяцем позже, когда станут выходить из тайги промышленные люди, мог бы продать и по двадцать пять. Прибылей от путешествия в браты не предвиделось: один только казенный прокорм. Но с казенным товаром своими деньгами он не рисковал.
— Что с того? — оправдывался смеясь. — Выведаю что надо. После со своим товаром пойду.
— А то каждый год все одно и то же: из Тобольского в Маковский, из Маковского в Енисейский, — поддакнул хозяину его лавочный сиделец Фрол.
— Гляди-ка, купчины, а умные! — язвительно посмеивались казаки. — Неужели своего товара тайком не прихватите? И нам барахлишко продать не дадите?
Иван постоял молча, прислушиваясь к обыденным перебранкам, которых в другой раз и слушать бы не стал. Забыв, зачем привел на берег кобылу, пошел с ней в поводу к другим кострам.
Возле Терентия Савина он даже присел, ни о чем его не спрашивая. Ласково припекало весеннее солнце. Иван молча оглядывался по сторонам. Все что-то высматривал.
— Савину ищешь? — с пониманием спросил Терентий.
Похабов рассерженно взглянул на него и вдруг понял, что тот прав. Виновато улыбнулся, кивнул.
— Она теперь в посаде живет. Замужем за Филиппом-сургутцем.
Похолодело сердце, кровь ударила в лицо. Иван скрытно скрипнул зубами.
— Добрый казак! — прохрипел. — Из старых!
— И правильно, — стал убеждать его товарищ. — Филипп свое выслужил. Его далеко не пошлют. Дом у него. Сыновья вот-вОт на службу пойдут. Ганка Скурихин, бездельник, балагур, так бы и промотал жизнь по службам, но вразумил Господь через раны. Охромев, взял землю под пашню, теперь живет на заимке с ясырями и захребетниками.
Иван натужно молчал кивая, не слушая товарища. Посидев, поднялся. Так и не напоив свою послушную лошадку, направился в обратную сторону от реки, и не к ручью в Мельничной пади, а к посаду. Волнующий зуд в груди предвещал, что должен встретить Савину. Так и случилось. Против нижней угловой башни, в виду посадских изб он заметил ее.
Гулко заколотилось сердце. Савина не могла обойти его стороной. Вернуться не захотела. Оба остановились, сойдясь. Глаза женщины залучились как прежде, когда глядела на полюбовного дружка.
— Ну, вот и свиделись! — сдерживая дыхание, пробормотал он. Кобылка ткнулась мордой ему в плечо. Шумно дохнула теплыми ноздрями в ухо.
— Здравствуй! — просто ответила она, будто не было между ними ни горячих ласк, ни бессонной ночи.
— Истомился я, тебя вспоминая! — признался Иван и с болью в глазах погладил конскую морду. — Хоть бы поговорить.
— Нельзя же, Иванушка! — ласково и печально отвечала она, будто оправдывалась. — Я теперь жена венчанная. Грех! — И, помолчав, добавила с чуть приметной слезинкой в голосе: — Ты прости меня, грешную, что завлекла! Сама много лет мучилась блудными помыслами, а теперь и тебе плохо.
По ее голосу Иван понял, что больше не быть между ними тому, что было под Филиппов пост, что смутно и греховно блазнилось всю пережитую зиму.
— И ты прости! — прерывисто вздохнул он всей грудью. — Сам судьбу выбирал. Дай бог тебе счастья. Филипп казак добрый. Я с ним много служб отслужил. Знаю! — Про себя же подумал: «Повезло старому хрену!» Мотнул головой с помутневшим взором: — И чего тогда, в Кетском, не прельстила? Как бы жили теперь! — просипел с кручинной тоской.
— Я же девка была, Иванушка. Глупая! Не знала бабьей власти над вами, — стала оправдываться Савина, опасливо поглядывая по сторонам.
Даже для близких людей они слишком долго стояли на одном месте, у всех на виду. Пора было расходиться.
— Ну и ладно! Ха! — вскинул глаза Иван. — Повезло Филиппу! Поклон ему. Мир да любовь!
Простившись, наконец-то он вспомнил про кобылку, сводил ее к проруби и вернулся в острог. Решил переночевать в съезжей избе один. Ни с кем не хотелось говорить о тоске-присухе.
Меченка с нетерпением ждала мужа и, едва завидела всадника на волоке, кинулась его встречать.
— Ну, что? — стала нетерпеливо спрашивать, хватаясь за голяшку ичига.
— А все! — мстительно рассмеялся Иван. Нос жены был в саже.
Она поняла это по его взгляду, плюнула на пальцы, торопливо потерла пятно.
— Что все? Много дали?
— Корма в дорогу. Схожу проведаю Максимку с молодой женой да поклон им от тебя передам. Ой, не надо было посылать меня в Енисейский, к воеводе под горячую руку, — смешливо покачал головой.
— А это далеко? — морща лоб, спросила жена.
— Туда семь недель, оттуда быстрей. Да там дела. С полгода будет!
Меченка тихонько завсхлипывала. Взглянул на нее Иван и даже пожалел.
Она же стала дотошно выпытывать, как просил муж прибавку к жалованью. Что говорил воеводе, как тот отвечал ему?
Прожил Иван в остроге день и другой, стал собираться на дальнюю службу. Вместе с Якунькой вычистил ручную пищаль, накрутил патронов, наточил саблю и нож. Равнодушно перетерпел злую и бестолковую суету жены, ее вздорные крики и жалобы. Выстирать в дорогу сменную рубаху она так и не успела, но полдня перекладывала ее с места на место. Иван молча затолкал рубаху не стиранной в седельную суму. Стал прощаться.
Обнял сына, долго целовал дочь, перекрестил жену. Привычно опоясал патронную сумку и ремень сабли старым шебалташем, сел в седло. Чудная мысль пришла в голову, когда он опоясывался. С ней и отъехал от острога на полверсты. Затем остановился, щелкнув пряжкой, скинул шебалташ, стал вглядываться в потускневшее золото. И правда, то, что, опоясываясь, заметил мельком, было в яви. Боярканова голова ожила и хитро посмеивалась. Мало того, рука, державшая голову за косу, походила на его руку, а не остроголового бородача. То ли золото истерлось под кафтаном, то ли грязь набилась в раковины и царапины, только головы глядели одна на другую уже не так, как прежде.
«Чудно! — с опаской подумал сын боярский и перекрестился. — Какой-то знак!» Вспомнив про старца Тимофея, вздохнул: «Попроси совета — начнет слезно умолять бросить бесовскую безделушку в реку».
Конь сам по себе шагал знакомой дорогой, мотал головой, прядал ушами и похлестывал себя по бокам длинным хвостом. Иван заново перепоясался. Рассеянно поглядывая на низкорослые, чахлые деревья со свисающими бородами мха, думал не об оставленной семье, а о том, к чему бы это головы стали глядеть по-другому?
Лед на Енисее все еще стоял. Зря Иван так спешил. Казаки атамана Галкина готовы были к выходу. Терентий Савин запаздывал со сборами и погонял нерадивых стрельцов. Готовы были к походу струги Москвитина. Оставалось положить в них оружие, харч да казенный товар. Васька уже знал, что старшим в его отряде пойдет Похабов. Прежней спеси он поубавил, но недовольства не скрывал.
К ночи лед затрещал и сдвинулся. Залитые лужами, обгаженные навозными кучами проруби сместились на сажень. Наутро вода прибыла, побежала по льду, река загрохотала, заторосилась и пошла, скрежеща льдинами. Едва прошел лед и очистилась вода, воевода приказал всем отрядам выходить.
У монахов своей церкви не было. В острожной исповедовал и причащал поп Кузьма, а инок Тимофей дьячил за хворого разрядного дьячка Федьку Федосеева. На клиросе пели скитницы Параскевы Племянниковой, Вера с Мариной, да тоболячка Степанида. Вкладчики, из старых увечных промышленных и служилых, стояли в первом ряду с воеводой. Тот часто и торопливо крестился, клал поясные поклоны и полушепотом в чем-то оправдывался перед ними.
Ясным утром, после причастия и молебна о благополучном отплытии, крестный ход с Животворящим Крестом и хоругвями вышел из храма, спустился к реке. Задирая седую бороду, поп Кузьма с удалью кропил служилых святой водой. За ним шли воевода, письменный и таможенный головы, сыны боярские, служилые и гулящие люди, острожные жены.
Кормщики кинулись к своим стругам. Гребцы разобрали шесты и бурлацкие бечевы. Крестный ход поредел. Поп кропил святой водой суда. Встретившись глазами с Похабовым, наотмашь плеснул ему в лицо, припоминая вчерашнюю исповедь, и погрозил перстом.
Воевода дал всем напутственное благословение. Студеная река степенно и гладко несла свои воды в полуночную сторону. Поблескивали на солнце редкие льдины. Веял попутный ветер, полосами морщинил русло. Казаки Галкина подняли на стругах паруса и встали на шесты. По знаку атамана они первыми двинулись против течения. Следом пошли люди Терентия Савина. Иван Похабов еще раз перекрестился на Спаса над воротами, на крест над куполом церкви, нахлобучил шапку, махнул рукой Василию Москвитину с казаками и Семейке Шелковникову с Фролом.
После четвертого дня пути все они остановились на песчаных островах против устья Тасеевой реки. Наутро здесь отделилось два струга. Пятидесятник Савин отдал целование атаману и старому товарищу, служилые простились с друзьями и разошлись по разным рекам. Через три недели атаман Галкин с отрядом повернул в устье Илима-реки.
Больших отрядов тунгусы сторонились, но как только осталось на Ангаре два струга, они стали безбоязненно выходить из тайги для торга и мены: махали руками с берега, подзывали к себе.
Семейка с Фролом бойко меняли на меха казенный товар. Казаки выкладывали свой, тайно прихваченный в путь. Иван хмуро терпел привычное беззаконие. Семен Шелковников не препятствовал казачьему торгу, только посмеивался:
— Кабы государь первыми отправил в Сибирь торговых людей, давно бы подвели здешние народы под его руку!
— Кабы не мы, обобрали бы вас еще на устье! — спорили казаки с купцами, ревниво присматривались к казенному торгу, недоверчиво поглядывали на Похабова, который не взял с собой товар.
Семейка с Фролом не столько радели за царевы прибыли, сколько выспрашивали тунгусских мужиков об их нуждах, вызнавали их обычаи и нравы. Они общались со здешним народом охотней и приветливей, чем казаки, думали, что во всех здешних войнах виноваты сами служилые.
Зимовье под Шаманским порогом было сожжено. Вместе с ним выгорело полострова. Сгорели и кресты на могилах. Но над хрипуновским холмиком стоял свежий желтый кедровый крест. Видно, на пути к братским улусам его восстановили Максим с Настеной.
Вдали шумел Шаманский порог. Усиливалась июньская жара. В полдень на погорелом острове лютовал овод. Комары не переводились ни днем ни ночью. В тени да на закате солнца лезла в лица мошка, набивалась в рукава и под ворот, до крови выедала кожу.
Измученные гнусом олени лезли в воду по Самые ноздри с кровавой слизью, безбоязненно выходили к кострам. Служилые, по примеру промышленных, мазали лица дегтем и были черны как черти. Выскочившие на табор тунгусы иной раз ошалело разглядывали людей, а то с воплями убегали в лес, хотя их лица, обветренные, обоженные солнцем и испещренные татуировками, выглядели не много светлей.
Вихоркина могила за Шаманским порогом была цела. Казаки сочли это хорошим знаком и остановились на месте бывшей засеки. Пройти мимо Бояркана Похабов не мог. На другой день он хотел подняться к нему с товаром по Вихоркиной речке. Не зная, взял ли с него ясак Перфильев, задумал уговорить князца заново присягнуть русскому государю.
Но на устье притока казаки встретили мирных, ясачных тунгусов. Семейка с Фролом торговали с ними и вызнали, что балаганцы ушли из этих мест в свою степь. Иван спросил тунгусов про ясак за нынешний год. Князец с важным видом объявил, что дал его казакам, которые стоят под Падуном.
— По слухам, бечевой и парусом туда с неделю ходу! — обрадовался Иван. Выше здешних мест он не поднимался, дальнейший путь знал только понаслышке. Среди красноярских переведенцев один Васька Москвитин сплавлялся с устья Оки. Бечевником же и завозами не ходил никто.
— Милует Бог! — сквозь шум воды крикнул десятскому сын боярский. — Пока ни разу не напали явно. Но Максимка зря помощи не попросит!
— Хлебнем еще! — с пониманием закивал Москвитин. — Мы с Васькой Алексеевым, царствие небесное, — перекрестился, поминая атамана, — только Божьей милостью не побились о камни.
Казаки спешили. Семейка с Фролом задерживали их. Они дотошно расспрашивали тунгусов о пути, о кочевавших по реке народах и их нуждах в товаре. Неспешность целовальника выводила из себя Москвитина. Васька злился, покрикивал.
— Добрый торг быстрым не бывает! — степенно оправдывался Семен и продолжал выспрашивать мужиков о всякой всячине.
— И то правда! — поддержал Шелковникова Иван. — Забыли, зачем посланы? Пусть торгует сколько надо.
— Дойти бы поскорей! — возмущались казаки. — Неделя ходу, а то и меньше.
Слухи о том, что Перфильев стоит под Падуном, под самым труднопроходимым из порогов, радовали их. До тех мест, по слухам, можно было идти бечевником без завоза якорей.
Был полдень. Ночевать среди камней на Долгом пороге никому не хотелось, а купцы опять задержали отряд. Иван объявил дневку. Казаки вытащили струги на берег, развели дымокуры. Двоих из них Похабов отправил вверх по притоку, где убили Вихорку, чтобы убедиться, что на выпасах нет братского скота.
На другой день, едва струги были подтянуты к Долгому порогу, на противоположном берегу реки показалось пятеро всадников. Они махали руками и звали к себе. Десятник, стоявший на шесте, велел бурлакам остановиться, приложил руку ко лбу, стал вглядываться в даль.
— Кажись, браты! — обернулся к Ивану с огорченным лицом. — Неизвестно, с добром ли?
— Надо плыть, раз зовут! — мягко потребовал Похабов.
Грохотала вода на камнях. Васька жестами приказал казакам переправляться. Бросая на торговых и на Похабова рассерженные взгляды, бурлаки пересели в струг с казенным товаром, хмуро разобрали весла. Одним судном, неспешно, поплыли через привольно разлившуюся под порогом реку. Она была здесь медлительна и спокойна, набиралась сил для нового буйства в каменной теснине.
Всадники на приплясывавших и мотавших головами лошадях не спешивались, терпеливо поджидали служилых. Чем ближе подходил к берегу струг, тем пристальней глядел на них Иван. Он уже различал, что это братские воинские мужики. На одном виднелись доспехи. Вскоре узнал вороного коня и дородного князца на нем.
До берега оставалось уже с четверть версты. Всадники прикинули, куда снесет струг, рысцой пустили коней по течению реки. Двое молодцов спешились и помогли спуститься на землю князцу в доспехах.
— Балаганцы! — обернувшись к Москвитину, крикнул Иван. Сбил на ухо шапку. — Вражды и недоверия не показывать, но и не зевать!
Струг зашуршал днищем по песку и ткнулся носом в берег. Придерживая саблю, Иван вышел на сушу.
— Будь здоров, брат! — поприветствовал князца по-русски.
Дрогнули обветренные щеки Бояркана. Из-под нависших век блеснули темные глаза. Из-за его широкой спины выглянул Угрюм, молча уставился на прибывших. Иван не подал виду, что узнал его.
Лицо брата стало подвижней, нижняя губа уже не висела, как при прошлой встрече, но чужое и нерусское выперло на нем пуще прежнего.
Бояркан что-то досадливо пробурчал сквозь шум воды. Тогда только Угрюм выкрикнул, пристально глядя на Ивана:
— Хубун слышал от тунгусов, что ты идешь в здешние места!
— Сайн байну! — в другой раз, по-бурятски, с укором поприветствовал всадников Иван. Метнул на Угрюма недовольный взгляд, кивнул в сторону целовальника: — Твой дружок, Семейка Шелковников. Не узнаешь?
Толмач мимолетно скользнул глазами по торговому человеку. На его неподвижном лице не дрогнула ни одна жилка, в глазах мигнула и пропала едва приметная тоска.
«Не так-то уж и сладко среди чужаков», — догадался Иван.
— Смотрите товар, торгуйтесь! — указал в сторону струга. И снова обратился к Бояркану, перебирая пальцами темляк сабли: — Отчего прошлый год моих людей прогнал?
Угрюм, поговорив с князцом, ответил громко и не так шепеляво, как при последней встрече. Теперь в его говоре появились что-то гортанное: будто русские звуки застревали в груди и он выхаркивал слова, как ненароком залетевшую в горло мошку.
— Твои казаки просить не умели! — перевел слова князца. — Требовали! Их было только трое. А у хубуна одних воинов больше сотни. Это несправедливо.
Иван спорить не стал. Рассерженно тряхнул бородой. Трое косатых молодцов с луками и колчанами за спиной разглядывали товар. Фрол и Семейка угодливо показывали все, что везли. Князец стоял, придерживая вороного жеребца, молча и беззлобно глядел на Ивана. Тот нетерпеливо спросил Угрюмку:
— Что звали?
Не обращаясь к князцу, толмач заговорил:
— Мы вернулись на родовые кочевья и воевали там с эхиритами. А они дали ясак Бекетову и нас злословили. Нашим воинам пришлось воевать со стрельцами. А они зааманатили Куржума, брата хубуна.
— Чем я могу помочь? — неприязненно скривил губы Иван.
— У нас мир. Мы дали ясак стрельцам. Хубун хочет вернуть брата, а вместо него послать его сына, своего племянника. Помоги сговориться с казаками. Какая им разница, Куржум-баатар в аманатах или его сын?
— Бекетовское зимовье на Оке кто сжег? — строго спросил Похабов, не отвечая на просьбу.
— Тамошние эхириты и сожгли. Те, у которых краснояры другой ясак и аманатов силой взяли.
Иван кивнул, сказал для Бояркана:
— Мы к Перфильеву идем. Тунгусы говорят, недалеко уже. Я поговорю с атаманом, если Куржум у него?
— Нет! Баатар на Тутуре-реке, в бекетовском зимовье. Там его стерегут стрельцы и много тунгусов Можеула. Он большой друг казакам.
Иван опять кивнул, показывая, что все понял. Спросил толмача:
— Что про Перфильева слыхал?
— Воюет! — Угрюм пожал плечами в шелковом халате. Глаза его нехорошо блеснули. — То с эхиритами против тунгусов и карагасов, то с тунгусами против них. Сделаете порядок, как был при мунгалах, — все будут довольны. Станете торговать — мир будет!
— Ты-то должен понимать, что государь и Бекетов с Перфильевым хотят всех помирить, — сердито щурясь, укорил Иван брата.
— Я-то понимаю! — бойко ответил Угрюм. — Они не понимают. Бояркан с Куржумом давали ясак, чтобы вернуться на свои кочевья. Аманкуловские роды и икирежи — давали, чтобы не пустить их туда. Царь тоже должен понимать, что его одаривают не за то, что любят, — толмач нехорошо усмехнулся непослушными, рваными губами. — С промышленными людьми и бурятские, и тунгусские мужики живут мирно. — Хоть бы и я.
— Да какой ты промышленный? — презрительно бросил Иван.
Лицо Угрюма покрылось багровыми пятнами. Резче обозначились белые рубцы шрамов. Он гортанно прошепелявил:
— Я вольный! Захочу — уйду и никто не остановит: ни хан, ни воеводы с атаманами.
В сказанном был намек на служилую зависимость Ивана. Он безнадежно вздохнул, не желая спорить, вскинул глаза на Бояркана, внимательно прислушавшегося к разговору.
— Может, и прав был кетский шаман? — пробормотал, пристально глядя ему в глаза.
Бояркан степенно заговорил:
— Голова от тела отлетает быстро. Родить и вырастить воина — дело долгое и трудное. На Тутуре с моим братом только три казака. Я бы разогнал их вместе с тунгусами, но они могут убить Куржума. Я скажу окинским бурятам, чтобы не нападали на казаков. Ты поедешь со мной на Тутуру и привезешь мне Куржума живым. Будет ли мир между бурятами, казаками и тунгусами, я не знаю. Но если мы с тобой будем помогать друг другу, между нами будет мир.
— Я поговорю с атаманом! — повеселев, согласился Иван. — Но сперва надо дойти до зимовья.
Трое косатых братов пересмотрели, перещупали товар у Семейки с Фролом, что-то купили, заплатив плохонькой рухлядью. Бояркан и вовсе не взглянул, что там выложили торговые люди. Угрюм сторонился своего бывшего дружка и не открывался ему. Семейка его не узнавал.
Двое молодцов усадили Бояркана на жеребца. Привязали бечеву к своим седлам и гужом потянули струг против течения реки. Как только скалы стали стискивать берега, они бросили казакам бечевы и зарысили объездным путем.
По слухам, Долгий порог тянулся верст десять. Солнце было уже высоко. Пройти его за день казаки не могли. Они соединились двумя стругами и заночевали в расселине, запалив костер из плавника.
На другой день бурлаки снова увидели пятерых всадников, переправлявшихся через реку среди камней и бурунов. Вода захлестывала коней по брюхо, местами подступала к самым седлам так, что всадники задирали ноги. Но они благополучно прошли брод. Он был им хорошо знаком.
Не дошел атаман Перфильев до Оки, притока Ангары, где пытался закрепиться сотник Бекетов. Уже то, как было поставлено его зимовье — на вершине горы, вдали от воды, указывало, что казаки прежде всего заботились о безопасности. На склоне было срублено две избы окнами внутрь, бойницами наружу. На одной из них были нагородни. С других сторон зимовье прикрывали лабаз и амбар. Частокола не было. Вместо него казаки навалили засеку из вершинника, а на подъездах в один ряд врыли надолбы.
Увидев на реке два струга, зимовейщики выбежали с ружьями, спустились берегом, вошли по колено в воду, стали шумно и весело вытягивать суда на сушу. Ваську Москвитина с красноярцами они узнали и стали обнимать их, не помня прежних обид.
— Что так мало? — удивлялись. Ждали перемены, а пришло разве подкрепление.
— Краснояры сердцем яры! — смешливо выпячивал грудь Москвитин, смахивал шапкой пот со лба. День был жарким даже на воде. — Всех врагов разгоним!
Встречавшие уже поняли, что перемены нет. Радость на их лицах поблекла. Казаки помогли разгрузить струги. Илейка Перфильев распоряжался за старшего. Не приветствуя Ивана, он раз и другой взглянул на него, плутовато ухмыльнулся.
От острожка к реке спускался Максим с женой. Иван сбил шапку на затылок, пошел им навстречу.
— Слава богу, свиделись! — весело обнял атамана. — На свадьбе не был. Дай, думаю, навещу молодых, погляжу, как живут!
Анастасия в женах заметно повзрослела. Радуясь встрече, она глядела на Ивана сияющими глазами, и не было в них прежнего страха, хотя годовальщики всю зиму провели в осаде.
В тесной избенке приказчика был положен пол из дранья. Блестели бревенчатые стены, натертые дресвой. Медвежья шкура под ногами была обшита по краю тесьмой. Возле выстывшего очага висели начищенные котлы. В доме приятно пахло дымком и смолой.
Иван скинул шапку, положил поклоны на Спаса, Богородицу и Николу в красном углу, обернулся к супругам и самодовольно рассмеялся:
— Однако добрую я тебе жену сыскал, атаман! — и, не удержавшись, съязвил: — Не то что ты мне!
Перфильев повел глазами на узкое оконце, пожал плечами:
— Жен и детей Бог дает! — сказал оправдываясь. — Баня топится! А пока — с устатку да за встречу!
Иван не успел сбросить липкую от пота обвисшую кожаную рубаху, а на столе уже стоял кувшин, на блюде — вяленая рыба, черемша, хлеб.
— Вот ведь беда! — усаживаясь на лавку, пожаловался атаман. — Баню на берегу срубили. Браты да тунгусы три раза ее поджигали. Пришлось к зимовью перенести. Воду теперь далеко таскаем.
— Вижу, неспокойно зимовал! — поднял чарку Иван. — Во славу Божью, что ли? — размашисто перекрестился, перекрестил чарку и рот в бороде. Выпил. Крякнул. Сдавленным голосом заговорил о деле.
— Я Бояркана встретил под Долгим порогом. И предлагал он договориться со здешними князцами, чтобы вреда тебе не чинили.
— Что хочет? — насторожился Перфильев.
— Ясак он дал Петрухе Бекетову. Видать, после хорошего боя. Сотник уплыл по Лене, а его стрельцы да тунгусы на Тутуре держат в аманатах Куржума, Боярканова брата. Князец хочет вместо него дать в аманаты его сына, своего племянника.
— Если правда сын — то аманат верный! — наморщил лоб атаман. Тряхнул головой: — Только я при моем малолюдстве помочь не могу. Путь туда неблизкий: верст триста. Мы сами тут как заложники, от зимовья отойти боимся.
— Дай мне пару верных казаков, я поменяю аманатов, а у тебя будет мир и со здешними братами, и с Боярканом.
Атаман раздраженно засопел, опуская голову, подумав, вскинул умные глаза:
— Помнишь, как меня и моих людей побили? Тоже обещали добром дать ясак. Доверился, прости господи! — перекрестился, обернувшись к образам. — Так то простодушные тунгусы! — вздохнул о былом. — Браты куда как коварней!
Не поднимая глаз, Иван тихо и осторожно признался:
— У меня с Бояром давняя приязнь. И я ему добро делал, и он мне.
Атаман усмехнулся, мотнул головой с похолодевшими глазами:
— А как самого зааманатят?
— На кой я им? — Иван приосанился веселея. — От меня государь почел за счастье избавиться: в Сибирь сослал. Якуньку с Марфушкой вы не бросите, а Меченке долго вдоветь не дадут.
— Ой, не говори так, дядька Иван! — опасливо закрестилась Анастасия.
— Про брата ничего не слыхал? — спросил Максим, снова наполняя чарки.
— Не слыхал! — хмуро солгал Иван и опустил голову. — А к зиме, по наказной памяти, мне с целовальником и с его сидельцем надо вернуться в Енисейский.
— Ладно! Подумаю! Хорошо бы острог поставить. А то, бывает, до сотни конных носятся за надолбами. Не нападают, но и работать не дают. Иной раз у реки и без рыбы сидим.
До вечера и весь следующий день москвитинские казаки отдыхали: парились в бане, чинили одежду, на третий — заступили в караул. Ни тунгусы, ни браты на острог не нападали. Перфильевские годовалыцики торопливо валили сырой, летний лес, тесали острожины в две сажени. После полудня у реки показались всадники. Караульный пронзительно свистнул. Работные побросали бревна, побежали к избам.
Среди всадников Иван разглядел Бояркана.
— За мной пришел по уговору. Эти не нападут! — успокоил атамана.
— Илейка сильно с тобой просится! — кивнул на брата Максим, показывая, что решение принял. — Лодырь! От работ отлынивает! — добавил, досадливо поглядывая на бесшабашного казака. — А больше дать некого. Среди краснояров кликни доброхотов.
Москвитин, как услышал, что нужен доброволец в посольство, не задумываясь, указал на вздорного казака по прозвищу Ребро.
— Ивашка? — окликнул непокладистого спутника, которого больше других ругал в пути. — Иди почетным послом к братам?
— Да хоть к лешему, — неприязненно ответил тот. — Лишь бы от тебя подальше.
— Ну и с Богом!! — благословил казака десятский, указав на Похабова.
Илейка Перфильев и Иван Ребро мигом стряхнули с рубах щепки, обмотались кушаками. Максим велел дать им ручные пищали, припас пороху и свинца. Семейка Шелковников ходил по пятам за Похабовым и просился в посольство, а тот отказывал, ссылаясь на наказную память.
— Здесь торгуй! — не хотел, чтобы Семейка узнал Угрюма, опасался слухов и пересудов, которые поползут по Енисейскому острогу.
Послы собрались за полчаса. Как из-под земли, с ошалелыми глазами откуда-то выскочил еще один казак. Звали его Ивашкой Сергеевым.
— Возьми! — кинулся к Похабову.
Этот красноярец без жалоб и понуканий тянул бечеву, от работ не отлынивал, себя в обиду не давал. А обижали его часто, сваливая на него все неудачи за то, что был ярко-рыжим и конопатым.
— Можешь и этого забрать! — без спора согласился Москвитин. — Рыжие с нечистью знаются.
— Ну, вот! — посмеялся Похабов, оглядывая спутников. — Три Ивана да Илья. К чему бы?
Красноярцы и Илейка весело распрощались с товарищами. Четверо с пищалями и мешками стали спускаться от укрепленного перфильевского зимовья к всадникам, а те пустили к ним коней рысцой. Как принято у богатых степняков, за каждым шло по две-три лошади в поводу, да еще под седлами.
Племянник, которого вез Бояркан на перемену брату, был молод, дороден и больше походил на дядю, чем на родного отца. Неприязни к казакам браты не показывали. Только толмач был хмур. К его новому лицу Иван никак не мог привыкнуть, и все казалось ему, будто родной брат умер, но объявился среди балаганцев его болдырь[212].
Быстрым шагом кони пошли вдоль берега. Косатый молодец завел заунывную песню. Иван с Угрюмом некоторое время ехали стремя в стремя, молчали, прислушивались к пению.
— О чем он? — наконец спросил сын боярский.
— Про птицу лебедь! — гортанно ответил Угрюм, будто отхаркивал рыбью кость, застрявшую в горле. — У них лебедь — птица ласковая. Это у нас она злая.
Помолчав еще, Иван спросил с горькой усмешкой:
— У них, у нас!.. — досадливо передразнил Угрюма Иван. — Не пойму! Отрекся от своей крови или нет?
Помолчав, Угрюм ответил без обиды в голосе:
— Сын у меня, жена-бурятка. Не бедствую. А у вас кому я, калека, нужен? Разве старец Тимофей примет в скит. — Помедлив, криво, одной стороной лица, усмехнулся и добавил: — Уж твоя-то жена меня бы со свету сжила. Да и тебя тоже.
— Калекам везде плохо, — согласился Иван, не желая вспоминать жену и дом. — А толмач всегда при деле и с хорошим жалованьем.
— Какой из меня служилый? — дернул драной щекой Угрюм. Шепеляво пропел: «Не велел нам Господь жить в земном раю». — Тряхнул головой с помутневшими глазами: — Считай, что раб Божий Егорий помер. Медведь задрал. Буряты выходили — стал бурятом. Но от Бога не отрекся! — размашисто перекрестился. — И семью к нашей вере склоняю.
К ночи всадники переправились бродом через реку, выехали на открытое место с редкими колками и полосками леса, спешились. Люди Бояркана сложили горку из камней, развели вокруг нее огонь. Казаки в стороне обустроили табор на свой лад.
Веял прохладный ветер, то и дело закручивал дым костров, бросал его в лица. Гнус не донимал. В стороне, в виду табора, мирно паслись расседланные кони.
— Толмач вроде наш? — громко спросил Ивана Илейка Перфильев. На его обветренном лице блуждала плутоватая улыбка, будто он догадывался о чем-то.
— Может, наш, а может, ублюдок[213], — буркнул в ответ Похабов.
Он не стал звать Угрюма к своему костру. Тот и не подходил к казакам.
Через день открылась полоса братской степи по берегам притока. Кони побежали быстрей, то и дело переходя на тряскую рысь. Балаганские молодцы запели о чем-то веселом и смеялись. Через степь вышли к Лене со скалистыми крутыми берегами, поросшими лесом. После Ангары эта река походила на малый приток. В иных местах скалы далеко отступали от извилистого русла заливными пойменными лугами. Всадники без труда переправились на другой берег. Там браты остановились табором. Дальше, в зимовье на Тутуре, казаков повели Угрюм с Куржумовым сыном.
Молодой балаганец держался с важностью, поглядывал на казаков строго. Если он о чем-то говорил им через толмача, то непременно глядел в один глаз. Лесными тропами шестеро всадников вышли к устью Тутуры — притока Лены.
Зимовье Бекетов ставил здесь зимой, второпях. Как и другие его укрепления, оно стояло на скалистом берегу: изба с нагороднями, с бойницами, вокруг нее вместо тына на три стороны повалена засека.
Издали зимовье казалось брошенным. Похабов первым подъехал к заостренным веткам и верхушкам засеки, стал выглядывать между ними проход и заметил какое-то шевеление на избе. На нагороднях медленно и сонно, как призрак, поднялся в рост человек в малиновой шапке и кожаной рубахе, из-под руки внимательно оглядел всадников, сипло окликнул кого-то.
Дрогнула верхушка поваленной ели. Два длиннобородых и долгогривых казака освободили узкий проход к избе и радостно кинулись к всадникам.
— Михейка? Ты, что ли? — ахнул Похабов, едва узнав бекетовского стрельца Стадухина, то ли изможденного, то ли постаревшего. Не сразу узнал и другого, Алешку Оленя. Спешился, привязав коня.
В виду засеки слезли с лошадей его спутники. Куржумов сын крепко встал на короткие ноги, огляделся с важным и недовольным видом. Илейка Перфильев, узнавая стрельцов, весело окликал их.
Следом за Стадухиным и Оленем сквозь проход в засеке протиснулись двое, одетые по обычаю промышленных людей. Оба были длинноволосы, с бородами в пояс. Голову одного из них покрывала монашеская скуфья.
— Ермоген! Батюшка! Ты ли? — вскрикнул Похабов, раскидывая руки. Смахнул с глаз радостные слезы, поликовался с монахом, принял от него благословение, отстранился, разглядывая обветренное, обожженное солнцем лицо, большие, чуть навыкате, глаза, глядевшие властно и снисходительно. Кабы не скуфья да не волосы ниже плеч, его можно было принять за атамана.
Из-за спины Ермогена неспешно вышел крепкий, ладный промышленный с изморозью седины в бороде. Ступал он по-тунгусски, легко и осторожно. Ноги были обуты в мягкие чирки, кожаная рубаха свободно висела на широких плечах. Голова была покрыта островерхим суконным колпаком, какие носили вольные донские казаки во времена Смуты. Просветленным лицом он походил на енисейского скитника Тимофея. Глаза у него тоже были чистыми и ясными, как у юнца.
Он ласково смотрел на Похабова и с улыбкой в бороде ждал, когда тот узнает его. Иван, не опомнившись от встречи с Ермогеном, отступил на шаг, стал торопливо вспоминать, где видел этого человека. И когда тот знакомым движением поскоблил шрам на щеке, ахнул:
— Пенда?!
Сивобородый блеснул молодыми синими глазами. Иван с ревом бросился к нему, сгреб в объятья.
— Не узнал, казак, старого пятидесятника! — тихо посмеивался Пантелей, обнажая щербины потерянных зубов.
Переменился лихой казак в сибирской тайге. Уже много лет назад, освободившись от бремени всякой власти, стал выглядеть мудрей и ласковей. Покрывшись сединой, обрел в лице покой.
— Монах и монах! — рокотал Иван, не переставая удивляться переменам в товарище. — В скиту, что ли, жил?
— Искал старые русские города, — беспечально отвечал Пантелей. — Промышлял. Давно не воюю.
Иван оглянулся на Куржумова сына. Ему не терпелось поговорить со старым товарищем, но молодой балаганец своим видом напомнил, зачем они все пришли сюда. Он совершал геройство: доброй волей отдавал себя в аманаты, поэтому с презрением глядел на суету встреч, ждал заслуженных почестей.
— Потом наговоримся! — Иван оторвался от товарища, поправил шапку и велел стрельцам привести Куржума.
Бурятские племена теснили тунгусские роды все дальше на запад и на север. Тутурские тунгусы, наляги, под началом сонинга Можеула, непрестанно воевали с ними. Появление стрельцов возле братских улусов, их удачливые воинские стычки с бурятами князец Можеул принял за помощь, посланную добрыми духами. Он с радостью дал стрельцам ясак, принял присягу и предложил поставить острог в местах его кочевий для защиты от бурят.
Как ни тяжко было лесному народу слышать бойкий перестук топоров, видеть падающие вековые деревья, в которых, по поверьям, жили души их предков, наляги терпели ради порядка, который от имени царя обещали им служилые люди. Мужчины подвластных Можеулу родов охотно помогали Бекетову брать ясак с соседей, воевать, защищать зимовье.
При Бекетове Куржум жил в зимовье привольно, как почетный аманат. С ним жила женщина тунгусской породы. На зависть стрельцам, он и его жена ежедневно получали от сотника по две чарки крепкого вина и обильное питание, которое добывали тунгусы Можеула. На цепь Куржума сажали, когда к зимовью подступали воинские люди. Иногда ночами, если некому было идти в караул. Но сотник Бекетов уплыл по Лене. В зимовье им были оставлены три стрельца да тунгусы. По малолюдству служилых жизнь аманата сделалась тягостной.
По приказу сына боярского стрельцы вывели из зимовья Боярканова брата. Голова его была не покрыта. На голое тело наброшен ветхий кафтан, обут он был в стоптанные ичиги. Щуря большие черные глаза, князец равнодушно взглянул на своего сына и с достоинством человека, привыкшего повелевать, уставился на Похабова.
Тот дал знак толмачу. Угрюм суетливо приблизился к Куржуму, залопотал о его освобождении. Князец молча снял с него шапку и надел ее на свою голову. Затем скинул под ноги кафтан и стал сдирать с толмача шелковый халат. Тот покорно высвобождал руки из рукавов и все лопотал, передавая улусные новости.
Князец приоделся, снова взглянул на Ивана, скривив тонкие губы с ниткой редких, черных усов.
— Опять выручаешь, брат! — произнес гортанно, но по-русски, не глядя на лопотавшего толмача. — Когда уйдем?
— Утром! — сдержанно ответил Похабов.
— Баньку дорогим гостям! — шумно распоряжался Михейка Стадухин. — Все лучшее — на стол! Гулять будем!
Солнце только покатилось к закату, когда вольно и весело к зимовью подъехали тунгусы. Они отпустили оленей, развели костер, раздули дымокуры на берегу реки и стали варить мясо.
Один из них, стриженый, с крестом поверх кожаной рубахи, по-свойски заскочил в избу, шумно и смешливо обругал кого-то из стрельцов, мимоходом оглядел гостей, схватил котел и выскочил. Шапки на нем не было.
Вскоре тот же тунгус, как белка, вскарабкался по бревну с зарубками в лабаз. Закричал оттуда, о чем-то спрашивая тунгусов на берегу. Михейку Стадухина спросил по-русски, сколько соли отсыпать из припаса. «Видать, свой, толмач из новокрестов! — подумал Похабов и стал приглядываться к шумливому тунгусу. — Не он ли уходил с Пантелеем из Енисейского?»
Стрельцы не выставили караул на ночь, полагаясь на прибывших людей Можеула. Это Ивану не понравилось. В зимовье готовили соборный ужин. Новокрест схватил за руку Ивашку Реброва, потянул за собой из засеки, смешливо обзывая тупым лучи, на пару внес горячий котел с вареным мясом.
Русичи, тунгусы и буряты стали есть изюбрятину. Монах — рыбу. Синеулька-новокрест шумливо сокрушался, что прибывшие не привезли хлебного вина, до которого он сильно охоч.
Стрельцы, измотанные дальними службами, ждали смены и были опечалены недолгим приездом Похабова. Узнав, что атаман Галкин пошел на перемену Бекетову, они грозили бросить зимовье и аманата на тунгусов, уплыть по Лене.
Когда затихали споры, начинал говорить Пантелей Пенда. Его с очарованием слушали не только прибывшие в зимовье, но и сами стрельцы, у которых он с Ермогеном и Синеулем жил уже с месяц.
Иван тайком поглядывал на Угрюма. Стараясь быть не узнанным старыми связчиками, он, насупившись, сидел в темном углу и помалкивал, особенно сторонился черного попа.
Пантелею становилось неловко от того, что долго говорил. Он спохватывался и смущенно умолкал. Но его снова и снова расспрашивали о скитаниях по тайге, о Ламе — Великом море за горами, о пустующих каменных городах на Прибайкальском хребте.
Ермоген только кивал да поддакивал:
— Бог его ведет! Все, что говорит, — сущая правда!
Илейка Перфильев слушал сказы таежного скитальца разинув рот, иной раз с воплем срывался с лавки, кричал на всю избу:
— Вот это жизнь! Вот это воля!
Спокойные обдуманные слова старого, верного товарища бередили душу Ивана Похабова. Сколько помнил себя, томила ее кручина по какому-то славному подвигу. «Кабы дал Бог волю, — думал с тоской, — бросил бы шапку сына боярского, поддался на прелестные речи товарища и ушел бы встреч солнца, искать свое счастье». Но его ждал Бояркан. На нем были обет службы государю, семья, Максим Перфильев и десяток товарищей в Братском острожке, которые надеялись на его помощь. Эх, если бы не узда! Как говорится, батожка с веревкой в седельной суме конь не чует, но вбей его в землю, привяжи к узде — никуда не уйдет!
Иван глядел на Пантелея Пенду, узнавал и не узнавал прежнего донского казака. Это был уже не воин, но и не блаженный, принявший на себя подвиг юродства. Примечал Похабов, что Ермоген относится к Пантелею как к поводырю, данному Господом, и под дакивает, и верит ему.
Пантелей по просьбам уже в другой раз рассказывал о Ламе, где птицы так много, что кажется, будто на воде лежит пух. Где медведи бродят по берегу табунами, как лошади. Где тюлени с человеческими лицами подплывают к берегу на русские и тунгусские песни. Где саженные осетры пасутся на отмелях, как скот.
— Богатая земля! Много следов от селений с каменными стенами, а людей нет. Дальше ушли!
Пантелей живо вспоминал, как много лет назад неподалеку от этих мест видел русские кочи. Может быть, последние, которые уплывали вниз по Лене. Он не жалел, что понапрасну бродяжил в верховьях Лены, и даже смеялся над собой, говоря, что дьячил при иеромонахе.
Стрельцы рассказали, как после последней встречи с Иваном Похабовым у Шаманского порога они вернулись с рожью на Оку. Как утопили струг на Падуне и намочили хлеб. Как похоронили трех оставленных товарищей у сожженного зимовья. Как среди зимы шли братской степью, воевали, ясачили.
— Балаганцы обещали дать ясак, — Михейка кивнул в сторону Куржума с сыном. Те лежали на лавках и тихо переговаривались между собой. — Мы сдуру впустили в засеку десятерых. А снаружи подошли две сотни. Послы бросили нам под ноги драную лису и выхватили ножи. Троих наших тунгусов убили, пятерых стрельцов переранили. А снаружи был приступ. Отбились. Мужиков сорок перебили.
— Сорок три! — жмурясь, поправил Куржум.
— Да князца зааманатили, — продолжал Михейка, кивая на него. — Коней их захватили. Сюда пришли, зимовье поставили. Браты прислали послов, дали ясак, князца хотели выкупить.
Война, ясак, кровь, рухлядь. Все обыденно, как привкус вяленой рыбы на зубах. Ни стрельцы, ни казаки долго не выдерживали тех рассказов. Снова принимались расспрашивать Пантелея с Ермогеном об их скитаниях. И опять, затаив дыхание, слушали неторопливые, томившие душу сказания, наполовину пережитые очевидцами, наполовину услышанные от старых промышленных.
Вот зазевали зимовейщики, иные стали подремывать. Буряты и вовсе захрапели на медвежьих шкурах. Для полуночных молитв незаметно исчез Ермоген. Выскользнул из избы Синеуль и ушел к тунгусскому костру. Похабов взял шубный кафтан, подхватил саблю, пищаль и полез на нагородни. Только два Ивана, рыжий и смуглый, да Илейка Перфильев приглушенными голосами все о чем-то выспрашивали и выспрашивали Пантелея.
Иван улегся под открытым небом. Попискивали комары и мерцали звезды, ночь была светла. Из избы вышел Угрюм в драном кафтанишке, без шапки. В сумерках лицо его казалось нерусским. Срамно, напоказ, помочился на угол избы. Приподнялся по лестнице так, что над нагороднями показалась его голова. Сипло и зло зашептал:
— Да он мне три халата даст!.. А что на стрельцов напали, так я в том не виноват. Говорил им, не тягайтесь с казаками: один ваш баатар, может быть, и сможет драться против трех казаков, но десять казаков всегда победят сто бурят. Я тут ни при чем.
Иван вздохнул и не нашелся что сказать. Равнодушно кивнул. Угрюм и не ждал ответа. Поскрипев лестницей, отворил дверь в избу.
Иваны да Илейка с Пантелеем ушли в теплую баню, спать они не ложились, до самого рассвета бубнили и бубнили, переговариваясь между собой. Сын боярский засыпал и просыпался под их монотонный говор.
А наутро случился бунт: соблазненные прелестными речами Пенды, трое казаков отказались возвращаться в перфильевский острожек. Пантелей неуверенно пытался вразумить их. Похабов схватился было за плеть и отстегал бы ослушников, не будь в зимовье аманатов. Раздор среди казаков, которому они стали бы свидетелями, мог дорого обойтись атаману Перфильеву с его людьми.
Взял себя в руки сын боярский. Строгим голосом велел подначальным людям следовать за ним. Повел их к реке, в укромное место, где, не срываясь на крик, стал вразумлять. Иваны помалкивали, Илейка же рта не закрывал и все оправдывался:
— Да кабы брат Максимка был рядом — отпустил бы!
— Вот и спросишь атамана! — поскрипывая зубами, наставлял Иван. — А после — на все четыре стороны!
— А припаса-то сколько вам останется? — напирал Илейка. — Добром все отдаем. Свой оклад не требуем ради дальних государевых служб.
И сам Илейка, и ослушники Иваны понимали, что силой их Похабов не вернет: тут ему браты — не подмога. Пытался сын боярский и вразумить, и напугать: на измену, дескать, шли, бросали его одного среди братов. А как не доедет он, Иван, живым до острога, с них, со служилых, головы снимут.
Трое в голос уверяли, что под началом черного попа будут молиться за него всю неделю и отмолят от всяких бед.
Поднималось солнце. Дольше нельзя было беспричинно задерживаться на Тутуре. Понимал Иван и то, что он не сможет обмануть умного Куржума. А если догадается князец, что казаки перессорились, — живым отсюда не уйдет никто.
Плюнул Похабов, устав спорить, хлестнул плетью по голяшке сапога, пробормотал рассерженно:
— Скажу Максимке как есть. Пусть решает, милости вам просить у государя или казни.
Он решительно вернулся в зимовье, велел Угрюму собираться, ловить и седлать всех коней. По пятам за братским толмачом ходил Синеуль, хихикал и задирал его:
— Эй, болдырь востромордый? Будто мне твоя рожа знакома! А чего это у тебя глаза круглые, как дырки?
Угрюм не отвечал на шутки новокреста, пуще прежнего хромал и сутулился, глядел на тунгуса хмуро, неприязненно. Услышав наказ Похабова, он с готовностью побежал ловить стреноженных лошадей. Синеулька окликнул тунгусов. С их помощью быстро пригнали коней. Иваны с Илейкой с виноватыми лицами стали помогать седлать их.
Иван вскочил в седло. Он все еще надеялся, что беглецы одумаются. Сели на лошадей Угрюм и Куржум. И тут устыдился сын боярский, что в распрях дня не простился со старыми друзьями-товарищами. Слезать с коня он посчитал дурной приметой. Дернул повод, подъехал к Пантелею, обнял, свесившись с седла.
— Долг за мной! — напомнил. — А с собой нет ничего, чтобы возместить. — Провел рукой по пряжке шебалташа: — Хочешь, золото отдам вместе с кафтаном?
Пантелей замахал руками:
— На что они мне? А рухлядь все равно бы сгнила или сгорела. Вспомнишь в молитвах — и ладно!
Иван шумно вздохнул, склонился к Ермогену:
— Благослови, что ли, в дорогу?
Приняв благословение от монаха, он махнул стрельцам. Всадники взяли трех свободных коней в повод. Похабов еще раз гневно блеснул глазами на ослушников, поддал пятками под бока лошадке и двинулся в обратную сторону.
Куржум ни о чем не спрашивал, равнодушно глядел по сторонам и не проявлял любопытства, почему сына привезли четверо казаков, а его в обратную сторону сопровождает один.
Бояркан с тремя косатыми молодцами терпеливо ждал их на поляне у реки. Вблизи табора было много сухостойного леса, но его люди валялись возле тлеющего кизяка. Мирно паслись стреноженные кони, сытно пахло печеным мясом.
Встретившись, братья никак не показали своих чувств чужим и неравным им людям. Бояркан, лежавший на боку, сел и поджал под себя толстые ноги. Сухощавый, как тунгус, Куржум опустился рядом с ним. Помолчав, братья заговорили с таким видом, будто расстались утром.
Спешился Иван. Отвязал от седла пищаль, положил ее у костра стволом к лесу. Сел напротив братьев. Привычным движением бросил на колени саблю в ножнах. Угрюма князцы не подзывали, и он сидел в стороне с молодцами охраны.
— Вот и собрались! — по-русски сказал Куржум. Его тонкие губы язвительно искривились. В больших черных глазах замельтешили недобрые огоньки. — Не знаю, добра или зла больше от казаков, но ваши головы на ваших плечах, и это уже хорошо!
Бояркан грузно кивнул. Глядя на тлеющий огонь, вдумчиво, как старший, заговорил. Куржум стал переводить для Ивана:
— Брат сказал, мы не можем пригласить тебя на пир. Родственники убитых обидятся.
— Не до пиров! — согласился Иван. — Пошлите со мной до острога пару молодцов. А то кто-нибудь отрубит голову, — горько усмехнулся и провел ладонью по пряжке шебалташа. — И с брата Бояркана ни за что слетит его голова. Или удавят, как говорил один баюн, — перекрестился, вспомнив старого песенника под Тобольском. — Да и брода через Мурэн я не знаю.
Атаман Перфильев выбежал из острожка за надолбы, едва узнал среди всадников Ивана Похабова. За ним с ружьями выскочили полдюжины казаков. Иван спешился.
— Все живы! — поспешно успокоил товарища. Почувствовал, как тот подрагивает от догадок и переживаний. Приглушенно пробормотал: — Только удержать при себе не смог! Втроем бежали в дальнюю службу.
— Бросили! — выдохнул Максим и сжал рукоять сабли так, что побелели суставы пальцев.
Иван замялся, пожал широкими плечами. Думал, как ответить.
— Много грехов покрывал я брательнику. Прогневил Господа! — вспылил атаман, блеснув глазами. — Пусть только вернется, воренок! Выпорю! А Ивашек под кнут! — Он помолчал, остывая, скрипнув зубами, выдохнул со стоном: — А у нас беда! — Вздулись желваки на скулах в стриженой бороде. — Фролку Шолкова пограбили и убили!
За полторы недели, что проездил Иван в бекетовское зимовье, к острогу ни разу не подступали ни тунгусы, ни буряты. Дозор атаман выставлял только на ночь. Днем на сторожевой башне маячил один казак. Пользуясь миром, все остальные с утра до вечера стучали топорами и ставили острожины. Еще издали Похабов отметил про себя, что Максим времени не терял и хорошо укрепился.
Семейка Шелковников распродал почти весь казенный товар. Со всякой мелочишкой выезжал в улусы и кочевья вызнать нужды здешних людей. Ему было известно, что Фролка с кем-то сговорился о встрече, вышел из острожка налегке и пропал. Тело его нашли три дня назад. Он был раздет и обобран. Может быть, упал с крутого берега и убился, а мертвого обобрали. То ли убили и ограбили? Ни слухов, ни следов пока нет.
Перекрестился Иван, оглянулся на сопровождавших его косатых молодцов. Отпустить их без угощения значит обидеть. Ввести в острог — высмотрят то, что им знать нельзя.
— Надо бы как-то одарить и отблагодарить! — кивнул на балаганцев.
— У меня для гостей есть место доброе! — повеселел от тягостных дум атаман. — В виду острога, за надолбами. — Он поманил рукой молодого казака и приказал: — Баню затопи! Пришли ясырку. Скажи, чтобы мясо варила на костре! Да атаманше скажи, чтобы налила вина во флягу!
Атаман подошел к сопровождавшим Ивана молодцам. Спешившись, те сидели на корточках, не выпуская из рук уздечек. Перфильев взял повода трех коней, повел их к коновязи. Здесь, за надолбами, в тени низкорослых несрубленных берез был длинный стол из полубревен с низкими скамьями из валежин.
— Баня-то им зачем? — удивленно спросил его Иван.
— Баня тебе! — коротко ответил Перфильев. — Им угощение!
Оставив возле гостей казака с ясыркой, Максим повел товарища в свои покои. У приказной избенки его ждала Анастасия. Среди работных, ставивших острожины, он приметил незнакомых людей. Спросил:
— А это кто?
— Воровскую ватагу поймал, — властно усмехнулся Перфильев. — Много их тут ходит. Остановить, по малолюдству, трудно. А этих Бог привел прямо в руки. С промыслов плыли. Где были, говорят путано. Последняя грамотка получена в Тобольске пять лет назад. Сулили дать десятину мне. — Атаман бросил на товарища плутоватый взгляд: — А я заставил их острог строить. Отпущу с тобой в Енисейский. Так будет верней.
На Ореховый Спас, в конце августа и в конце года по христианскому счислению, березняк да осинник ярко выкрасили берега. По кромке воды плыл ранний опавший лист. В остроге отгуляли праздник, а на другой день после соборной молитвы Иван Похабов с целовальником Семейкой Шелковниковым да с воровской ватагой промышленных людей поплыли вниз по реке.
За две недели, что продержал промышленных атаман, неприязни между ними и служилыми поубавилось. Простились они как друзья. Пока виден был острожек на горке да люди на берегу, в стругах помалкивали. Как скрылось все из виду, промышленные запели.
Перед Шаманским порогом, как раз возле прежней засеки у могилы Вихорки, плывущие встретились с полусотней казаков под началом Василия Черемнинова. Пятидесятник вернулся с Лены от Бекетова вестовым, отгулялся и теперь шел знакомыми местами на перемену Максиму Перфильеву.
Старых служилых в отряде было не больше десятка, остальные — переведенцы из Красноярского острога, брошенного и срытого по царскому указу.
— Браты Максимку не жалуют, — предупредил Черемнинова Похабов. — Всю зиму в осаде просидел.
— Бойся не бойся!.. — выругался пятидесятник. — От судьбы не уйдешь.
За устьем Илима два легких струга Похабова стали нагонять отряд служилых, они останавливались на местах их ночевок, спрашивали про них у тунгусов на урыкитах. По всем приметам, впереди плыл сотник Бекетов со стрельцами. Он спешил домой с дальних и многолетних служб. Иван пересаживался с кормы на весло, погонял промышленных, но догнать стрельцов так и не смог.
Струги прошли мимо каменных быков на устье Ангары, мимо плещущих волнами отмелей и долгой песчаной косы, вышли в спокойные, медлительные воды Енисея. На острове ниже устья путники опять застали брошенный табор с не выстывшей еще золой костров.
— Отпусти ты нас, христа ради! — жалостливо взмолился передовщик воровской ватаги. В пути от Братского острога сын боярский да целовальник сдружились с промышленными, поняли их беды и заботы.
В ту сторону, встреч солнца, ватажка обходила казачьи станы и секреты от самого Тобольского города так, как везла за собой припас ржи втрое. Сверх пятнадцати пудов ржи на человека и сам Похабов не раз брал десятину. Рожь берегли, потому что уходили не на год и не на два. Передовщик хотел отдать цареву десятину в Тобольске, откуда имел наказную грамоту пятилетней давности.
У Так надежней! — согласился Иван. — Да только как я вас отпущу? Перфильев в описи указал, что плывем мы с промышленными.
— Скажешь, сбежали! — простецки взглянул на сына боярского передовщик. — Что для государя десяток соболишек? А для овдовевших семей за Камнем — спасение. Треть ватаги погибла на промыслах. Кто от зверя, кто от тунгусского самострела. Были и стычки.
Уговорили-таки промышленные служилого. Уже и Семейка вступился за них:
— Да отпусти ты их с Богом!
На свой страх и риск они уплыли в густых осенних сумерках, будто бы тайком.
Бекетовские струги, за которыми Похабов гнался от самого Илима, он и Семейка увидели только возле Енисейского острога. Знакомого судна беглых промышленных на берегу не было. Значит, среди ночи они проскользнули мимо дозорных.
Бекетовские стрельцы гуляли шумно, щедро угощали всех старых служилых. По острогу бегали незнакомые сыны боярские. Шеховской сдавал дела, а новый воевода задерживал его, придираясь по описям к пустячным недостаткам. До прибывших из Братского острожка никому не было дела. Обычных расспросов им не чинили.
Едва успели Иван Похабов с целовальником сдать грамоты Перфильева новому сыну боярскому Николе Радуковскому, бекетовские стрельцы схватили его под руки и повели в кабак.
— Сотник где? — спрашивал Иван гулявших. Они хохотали:
— Бекетиха зааманатила! Хочешь повидать товарища — бери ее избу на саблю.
— Дверь брусом заложила! — кричал кто-то хмельным голосом. — Возле каждого окна ясырь с батогом сидит. Попа не пускает. Монахинь срамословно гонит со двора.
— Поблюди-ка себя годами, — с пониманием стучали чарками. — Сотник, поди, уже и не рад ее верности! — пьяно хохотали и потешались над сотничихой.
Еще от Черемнинова Иван знал, что стрельцы поставили острог на Лене-реке в якутских улусах. Тамошний народ беспрестанно воевал между собой. Ясак давал охотно, лишь бы стрельцы судили их распри по правде.
Здесь, в кабаке, Иван узнал, что за ясак с якутов начались войны с ман-газейскими казаками, считавшими лесотундровый край своим уделом.
Выпил Похабов изрядно и, как только отстали от него старые служилые, выскользнул из кабака. Ноги сами собой понесли его к дому Филиппа. «А чего не зайти? — рассуждал, пошатываясь и мотая хмельной головой. — Мы с Филькой — старые товарищи. Не зайду — обижу!»
Но другой голос стыдил сквозь хмель, ругал лукавые мысли. В виду михалевского дома Иван остановился. Взглянул на угловую башню, дальнюю к лесу. За ней был скит. И увидел он вдруг, что навстречу ковыляет с посохом старец Тимофей. Земля уже выстыла, монах шел босым, в волосяной рубахе и веригах. Издали не спускал глаз с Ивана, а тому и свернуть было некуда, разве побежать в обратную сторону.
Сильно качнувшись, Похабов привалился спиной к острожинам и откланялся старцу. Тот остановился, приветливо глядя на него с неизменной ласковой улыбкой, от которой мурашки ползли по спине. Встреча с монахом была не к добру.
— И куда же несут тебя ноженьки, Иванушка? — тихо спросил старец, ответно кланяясь сыну боярскому.
— Со служб вернулся вот, батюшка! — икнул Иван и снова качнулся. — Надо бы навестить старого товарища.
— Не к Филиппу ведь идешь! — всхлипнул монах, и чистые крупные слезы покатились по щекам. — К жене его! Не позорь несчастную. Пожалей ради детушек ее.
Хмель выветрило, будто старец окатил сына боярского ледяной водой. Иван помотал головой, пробормотал какую-то нелепицу, невнятно оправдываясь. Смутился пуще прежнего. Снова поклонился и повернул в обратную сторону. Но теперь с реки на него шли игуменья Параскева с инокиней. Ближайшим был дом Бекетова. Иван испуганно заколотил кулаками в ворота, чтобы укрыться от встречи со скитницами.
Ему не открывали. Громыхая саблей по бревнам, Иван перелез через забор, отбился от цепных псов, лег на крыльце перед запертыми дверьми в сени и незаметно уснул.
Проснулся он среди ночи. Скинул кафтан, укрылся. Сырая, осенняя стужа пробирала до костей. Мучила жажда. Поерзав на тесаном крыльце, Иван хотел уже колотить в дверь, пригрозить, что помрет у товарища под окном. Но пожалел вдруг Бекетиху. Если она откроет дверь, то они с Петром непременно выпьют, станут говорить, вспоминать былое, а жене придется таскать закуску к столу да поглядывать на мужа из-за печки.
Подумал так сын боярский, устыдился и даже пожалел свою бесноватую жену, наверное, мучается, выспрашивает о нем проезжих людей.
Он взглянул на звезды, блекнувшие к рассвету. Встал, оделся, перелез через заплот, побрел к реке мимо темных домов служилых и посадских людей. Там у костра под стругом привычно доспал остаток ночи.
Проснулся он поздно. Светило солнце. У реки белел хрусткий ледовый заберег. Со дня на день должно было приморозить волок. И опять повезут из Маковского острога все, что привезли за лето по Оби и Кети. Дел там было много, но без наказа воеводы вернуться он не мог.
Новый воевода, томский сын боярский Ждан Кондырев, позвал к себе Похабова только после полудня. В съезжей избе перед ним уже сидел Семейка Шелковников. Окинул Иван взором конопатое лицо целовальника и понял, что тот вполне доволен и приемом, и беседой.
Был воевода ни молод, ни стар. Расспросами не мучил. Узнав, что хотел, про Перфильева да про зимовье на Тутуре, озадаченно почесал затылок:
— К какой бы службе тебя пристроить? Дел много!
Иван взглянул на него удивленно. Воевода, чуть смутившись, стал оправдываться:
— Как ни хорошо ты управлялся с делами в Маковском, а место не по тебе. Думаю послать туда сына боярского Парфена Ходырева. — Взглянул на Похабова насмешливо и плутовато: — Ты, по сказам стрельца Колесникова, каждый год оттуда бегаешь? А по указу приказный может оставить свой острог только с государева дозволения.
Иван опустил похмельную голову, усмехнулся. И этому уже успел нашептать Васька Колесников, не дал ему Бог уразуметь грамоты, зато отпустил язык без костей. Держаться за прежнее место у Ивана не было никакого желания. Раз уж он поменял казачью шапку на шапку сына боярского, нечего было перечить воеводе — тому приказывать, сыну боярскому исполнять.
— Даю неделю отгуляться, — продолжил Ждан. — Займешь избу в остроге. Как сын боярский — большую, две с половиной сажени. Встанет Енисей, пойдешь на Тасееву реку. Слышал я, там тайком соль варят и продают. Не оттого ли промышленные люди стали ее мало покупать?
— Тасей так Тасей! — Иван покладисто хлопнул широкой ладонью по колену. Хотел спросить про жалованье, но не решился, чего-то застыдившись. Молча вышел.
Он осмотрел пустую острожную избу, пропахшую едким мужским потом, кожами и мышами. Навестил Тренчиху, которая жила теперь с Капитолиной Колесниковой и ее детьми. Посидел в их чистой избенке, отдыхая похмельной душой. Солнце было еще высоко. Он откланялся и пошел за конем, чтобы уехать в Маковский.
Вскоре туда же прибыл новый приказный. Недели две Иван сдавал острожек, потом с семьей и с обозом ржи отправился в Енисейский. К этому времени приток был под проездным льдом. Встал и окреп лед на Енисее.
Служилые люди быстро устраиваются на новом месте. Сдав мешки с рожью в государев амбар, Иван въехал в острожную избу, покидал на лавки одеяла и узлы с одеждой. Жена выставила горшки, раздула печь — вот и обжились. Не прибравшись, Меченка побежала к Тренчихе с Капой, а он доложил воеводе о прибытии и подался в кабак узнать новости. Слышал на подъезде к острогу, что вернулся Максим Перфильев. И не ошибся, казаки атамана как раз гуляли у Ермесихи. Едва он открыл дверь, они загудели.
— Здорово живешь? — крикнул атаман, жестом приглашая сесть рядом.
Издали лицо его казалось помолодевшим. Вблизи видно было, что пьет он не первый день.
— Вот ведь] — обнял товарища. — Жена сына родила. Да прямо на Иванов день. Покумимся теперь. Часто ты меня выручал, — склонил голову на плечо Ивана. — Выручай и теперь. Попу я уже заплатил. Тебя поджидаю.
Новостей было много. Едва Похабов уехал из острога, старые стрельцы и казаки взбунтовались против воеводы, верней, против его друга Парфена Ходырева. Воевода выхлопотал ему жалованье по енисейскому окладу больше, чем у атамана Галкина. Смириться с этим старослужащие не могли. Возмущенные, указывали на Похабова, заслуги которого были не чета ходыревским, а служил в сынах боярских по казачьему окладу.
Новый воевода не посмел пойти против воли старых стрельцов и казаков. Пришлось ему отказать товарищу в высоком окладе.
Перегорев этим спором, служилые переживали новости, привезенные из Томского города, о новом посольстве к Алтын-хану.
— Это когда же хан шертовал царю первый раз? — спросил Ивана Перфильев. — Мы с тобой еще Кетский острог на другое место переносили. Лет уж пятнадцать прошло. — Атаман вздохнул, неприязненно поглядывая на наполненную чарку.
По слухам, в новое посольство к главному мунгальскому царевичу ходил московский дворянин Яков Тухачевский с томским приказным казаком Дружиной Огарковым. Хан присягнул через племянников и шуряков. Царские подарки принял, но послов одарил, как холопов. Дворянин униженно отмолчался, а казак бросил ответные подарки под ноги царскому племяннику. В обиде за русского царя, которого представлял мунгалам, ханшу ругал матерно.
С русскими послами поехали в Москву через Томск послы от Алтын-хана. По доносу дворянина и их жалобам воевода бросил казака в яму и бил кнутом на глазах мунгал.
Дружинка Огарков претерпел муки христа ради, для мира с мунгалами. А когда послы возвращались из Москвы, уже по царскому указу его опять били кнутом и сажали в яму.
— За что? — изумлялись казаки и стрельцы. — За цареву честь радел!
— Узнаю романовскую ласку! — скрипнул зубами Иван Похабов. — Ради чужаков кремлевские сидельцы свой народ не щадят.
Перфильев мгновенно протрезвел, опасливо огляделся по сторонам. Шумно гуляли казаки, ругались промышленные, половые кого-то выталкивали за дверь.
— Ты бы при них помалкивал! — беззвучно, как селезень клювом, прошлепал губами атаман, указывая глазами на кабацкую прислугу. — Их руки длинней наших и уши тоже. Разом язык укоротят.
— Глупые они! — упрямо тряхнул головой Похабов. — Свой народ обозлят, и не станет им защиты. А волков сколько ни корми, они за хозяина не вступятся.
Атаман крякнул и поднялся, не допив чарки.
— Что-то захмелел я. Пойду. Завтра отлежусь, а после крестины!
Иван посидел один, не вступая в разговоры. Послушал разнобой пьяных голосов. Допил чарку, встал и вышел трезвый.
Атаманского сына крестил разрядный поп в острожной Введенской церкви. На клиросе пели монахини и влюбленными глазами глядели на старца Тимофея, который ими верховодил и перелистывал Псалтырь. Скитник был бос, несмотря на стужу, позвякивал веригами. Он, как всегда, умилялся и младенцу, и всем пришедшим на крестины.
Не пустить жену в церковь Иван не мог. Но и не звал ее за собой, боясь, как бы не устроила скандала при людях. Однако Меченка пришла. С ласковым лицом поклонилась Максиму и Насте, подошла к монахиням и стала им подпевать.
Примечал Иван и все удивлялся, что после его возвращения со служб и здесь, в Енисейском, не стало в семье прежних скандалов. Пелагия без страсти пару раз укорила его, что не вытребовал жалованье у нового воеводы, и смирилась, будто забыла о нем.
Вскоре после крестин Перфильев с тремя казаками повез казенную рухлядь в Москву. Новый воевода оказывал атаману большую честь. Без царских наград посыльные из Москвы не возвращались.
Похабов же с пятью казаками ходил лыжами и нартами на Тасееву реку за ясаком. Искал и, к неудовольствию воеводы, не нашел тайную солеварню. Вернулся он к Страстной неделе перед Рождеством.
Жена пуще прежнего сдружилась со скитницами, повязывала голову черным платком, как монахини. Своей церкви у них не было, и они ходили в острожную. Теперь Похабиха всякий раз убегала к заутренней и всенощной службам. Удивив мужа, отказалась делить с ним ложе после долгой разлуки, сослалась на пост. Иван не удержался, укорил:
— Так то мой, мужнин, грех? Бабье дело — сказать да перекреститься. С тебя какой спрос?
— Нельзя мне на клирос грязной! — упрямо сжала губы жена. — Игуменья дознается.
Чертыхнулся Иван. За грязь и неприбранную избу корить не стал. Якунька топил печь, кормил сестренку, прибирал дом. Не в мать уродился, любил порядок. Меченка же молилась за всю семью, целыми днями пропадала в скиту или церкви.
После бани и отдыха Иван пошел в храм. Исправно выстоял литургию и все поглядывал на поющую жену. Грешно, с издевкой, высматривал, как та оттопыривает круглый зад, как шевелит крутыми бедрами, будто бы в такт пению. Злорадно примечал, что не он один поглядывает на Меченку: холостые казаки да гулящие то и дело бросали на нее тайные похотливые взгляды.
«Вот ведь стерва!» — беззлобно ухмыльнулся Иван. А на душе полегчало, будто была вымещена супружеская обида.
Вскоре он исповедался и в этом грехе. После Крещения Господня ушел на Подкаменную Тунгуску и встретил там ясачных тунгусов с Тасея, воевал с туруханскими казаками, пытавшимися брать с них ясак на себя.
Так, в обыденных службах, прошла зима. По крепкому льду выбраться в острог Иван не успел. Возвращался топким берегом с оголодавшими, злыми на него казаками.
Максим Перфильев к тому времени вернулся из Москвы. При встрече он бесстрашно обнял завшивевшего товарища. Успел повиниться:
— Царя не видел. Через дьяков приказа просил за тебя. Но не забыл, видать, государь прежних твоих вин. Повелел, чтобы чин, данный воеводой, носил по разряду, а прибавку к жалованью дал только вровень со старыми енисейскими стрельцами.
— И на том спасибо! — поблагодарил товарища Иван.
Он отпарился, отмылся. Сын Якунька принес ему чистую рубаху и порты. Красный, потный, выкупался в студеной реке. Попил квасу. Утираясь рукавом, спросил сына, не по годам умного и сдержанного:
— Что мать? Все намаливается?
Сын настороженно, как когда-то Угрюм, зыркнул на отца, молча кивнул.
Иван снова припал к жбану с квасом. Оторвался, крякнув. Вытер мокрую бороду:
— И пусть намаливается! Ей бы в монастыре самое место!
В доме был хлеб. В теплой еще печи напревала каша. Все это приготовил сын. То, что жена не встретила, опечалило Ивана, но не сильно. А то, что она увела за собой в скит дочь, ему очень не нравилось. Он поел, попил. Не успел отдохнуть, как прибежал служилый литвин, сын боярский Никола Радуковский.
— Воевода зовет! — распахнул дверь. Перекрестился на образа. Сел на лавку. — Сказывают, ты туруханцев бил? — спросил вкрадчиво.
— Они с наших тунгусов ясак требовали, — кивнул Иван. — С тех, с которых я взял за этот год на Тасее.
— Вот ведь, — замялся сын боярский. — На Маслену только получили грамоту с указом: чтобы нам с Подкаменной и с Сыма ясак не брать. Ты про то, что было, кроме воеводы, никому не говори, — стыдливо упредил и встал. — Особенно ссыльным. Много их пригнали: ляхов, черкасов. Пойдем, что ли? Велено без тебя не возвращаться!
В присутствии лучших людей сынов боярских Максима Перфильева, Николая Радуковского воевода принял и опечатал всю привезенную Похабовым ясачную казну и не велел подьячему записывать расспросные речи. Винился, что некого было послать следом за Похабовым, чтобы отменить воеводскую наказную память.
— Слава богу, вернулись живы! — крестился. — Перед государем как-нибудь оправдаемся! — он повздыхал и отпустил Ивана. Других сынов боярских придержал.
Похабов опрокинул в бороду поднесенную чарку. Второй ждать не стал. Откланялся, шагнул к двери.
— Ко мне иди! — бросил вслед Перфильев. — Настя ждет. Крестника проведай!
Якуньку не надо было два раза звать к Перфильевым. Он тут же оказался рядом. Отец с сыном перекрестились на лик Богородицы над запертыми острожными воротами. Вышли, степенно перекрестились на Спаса, двинулись к посаду бок о бок, дуроу ниилэхэ[214], как говорят браты.
На берегу, под яром, дымили костры. Промышленных людей возле острога было больше, чем всех служилых и посадских. А ватаги все прибывали и прибывали. Они жили своей жизнью по посадским избам, в балаганах, под стругами: торговали, гуляли, дрались, платили государевы пошлины.
Острог настороженно следил за вышедшим из тайги сбродом, знал свою, не совсем правую, правду, переданную от высшей власти и терпимую Господом, был готов к неравному бою и защите.
— Похаба? — недружественно окликнул Ивана с берега промышленный в доброй пыжиковой рубахе. — Не сдох еще?
— Живой, слава богу! — пригрозил кулаком в толпу сын боярский. Где-то видел этого промышленного с волчьим оскалом. Приосанился, положив руку на плечо сына. Почувствовал, как у того заколотилось сердчишко. — Вот ведь! — стал оправдываться перед ним. — Такая наша доля! Их дело воровское, наше — сторожевое. Любить друг друга нам не положено. — Он помолчал и с тоской хмыкнул в бороду: — Сроду лишней денежки ни с кого не взял, а злословят!
— Другие, знаю, обирают! — неожиданно оговорился сын. — А им за версту кланяются!
— Есть у тебя умишко! — удивился отец, пристально взглянув на сына. — Не моей голове чета. — Помолчал и добавил со вздохом: — Есть и такие. У меня как-то не получается.
Только обошли они угловую башню, уже в виду кабака и посада свел бес сына боярского с Ермолиными. Взглянул Иван на Илейку и понял, что без драки не разойтись.
Васька Бугор едва держался на ногах. Он то и дело опускался на карачки или откидывался к башне большим, сильным телом. Илейка же стоял поперек пути, как надолбина. От былого шика братьев не осталось и следа. Видно, промышляли они эту зиму неудачно. Оба были в кожаных штанах, дырявых, стоптанных броднях. На Илейке кожаная рубаха, на Ваське холщовая, вся в заплатах.
Налитыми кровью глазами Илейка глядел на сына боярского, вздувал жилы под рубахой, скрежетал зубами.
— Ну, чем не угодил на этот раз? — со смехом спросил Иван, стараясь успокоить буянов. — Десятины с вас не брал.
— А как пьяного бил?
— Когда это было? — тряхнул бородой Иван, все еще надеясь, что разминется без драки.
— А я помню! — Илейка, потряс громадным кулаком в рыжей шерсти. — Взыщу! — взревел и двинулся на Похабова.
Иван толкнул сына к стене, отбил кулак. Сам ударил хлестко, но жалеючи, чтобы не покалечить. Потом еще. Илейка только вздрагивал от ударов, мотал головой и стоял на ногах. Краем глаза Иван видел подходивших людей. Приметил подбежавшего Перфильева.
— Разойдись! — замахал булавой атаман.
— Погоди! — в запале оттолкнул его Иван. Снова ударил. Илейка наконец сел на землю.
Иван, довольный собой, взглянул на сына и оторопел. В его глазах блистали слезы.
— Будет с него! — тяжело дыша, кивнул Якуньке и почувствовал, что губы непослушны. — Ты чего? — спросил.
— Плетей ему да в застенок! — крикнул атаман. Он стоял, широко расставив ноги, показывал свое атаманское достоинство. — Чтобы какой-то гулящий, да сына боярского.
— Нельзя в застенок! — возразил Иван, вытирая ладонью кровь с губ. — Много служб вместе отслужили. Эти Ермолины, когда пьяны, уж больно охочи до драк.
Илейка сидел, как колода. Оглядывался с важным видом, будто он был победителем и присел для отдыха. Васька все никак не мог оторваться от земли, которая под ним ходила ходуном.
— Хорошо еще, с одним! — оправдываясь, Иван кивнул обиженному сыну. — Против двоих — ого! Здоровущи, черти. — Скривил разбитые губы.
— Ага! — слезно вскрикнул Якунька. — Он тебя два раза так вдарил, ты еле на ногах устоял! Ты же служилый? Сын боярский!
— Зря ты с ними так, кум! — хмуро поддержал Якуньку Максим. — Надо строго, чтобы боялись.
— Меня все боятся! — буркнул Похабов, не понимая товарища.
Отряхнул полы кафтана, расправил бороду по груди, степенно пошел в атаманский дом. Анастасия всегда была ему рада, она любила Ивана и по старой памяти называла его дядькой.
Молодая перфильевская жена округлилась и приятно обабилась за Максимом. Жила безбедно, содержала двух ясырей и трех захребетников из старых промышленных людей. Хозяйство вела разумно, не полагаясь на мужа, который подолгу бывал в отъездах.
Она радостно угощала отца с сыном, то и дело подливала Ивану сбитень да полпиво, сваренные тайком от откупщиков, Якуньке — квас да морс. Сын держался с ней легко и непринужденно, как с родней. Видно, часто бывал в этом доме.
Перфильев, не таясь и не смущаясь, подтвердил острожные слухи, что он, как Галкин, Бекетов и Черемнинов, взял землю под пашню, посадил на нее ясырей и гулящих людей, купил коня.
— Оклад окладом, а со своим хлебом с пашни служба надежней!
Иван пожал широкими плечами. Сказать ему было нечего, но как-то уж слишком крепко засело в нем смолоду, что казак, пашущий землю, — не казак. Менялись времена, менялись нравы. Сибирь перекраивала всех на свой лад.
Все-то в доме атамана было пристойно, а Ивану не сиделось. Он ерзал на лавке, будто щепа колола зад. Едва стало возможно уйти, чтобы не обидеть хлебосольных хозяев, схватился за шапку. Вышел на крыльцо, слегка пьян и тяжко сыт. Ноги сами собой понесли его к ручью, где посадские летом брали воду.
Не зря вещало сердце весь день. Оттуда как раз и шла Савина с березовыми ведрами на коромысле. И ведра были полны. Иван узнал ее издали, пуще прежнего погрузневшую, сутулившуюся под тяжестью. Шла она тяжело, переваливаясь с боку на бок, а сердце сына боярского колотилось в груди, билось о ребра, будто хотело выпрыгнуть на землю.
Глядел Иван на немолодую уже женщину и сам себе удивлялся: баба как баба, другой кто прошел бы мимо — не обернулся, не то, что на Меченку. Но Савина взглянула на него — и будто прояснился сумеречный вечер.
— Ну здравствуй! — прошепелявил он подсохшими коростами на губах.
— Здравствуй, Иванушка! — проворковала она. А в ушах серебром зазвучали слова, что шептала ему когда-то. Ни досады не было в ее взгляде, ни остуды.
— Как живешь-то за сургутцем? — спросил он, не сводя с нее глаз.
— Хорошо живу! Слава богу! — ответила просто, будто сама тому удивлялась. — Любит, балует. И сыновья у него добрые.
— С тобой и медведь будет ласков! — проворчал Иван, озлившись вдруг.
В глазах Савины мелькнула боль, и он повинился:
— Прости, христа ради!
— Бог милостив! — снова засветились ее глаза.
— Ты-то как живешь? Как Пелагия, как дети? — спросила, чуть стыдясь тайных воспоминаний.
Иван пожал плечами. Посадские лучше него знали, как живут острожные.
— Поклон ей! — кивнула Савина, показывая, что пора разойтись.
У Ивана схлынула кровь с лица. Заговорил приглушенно, торопливо, греховно:
— Вдруг увидимся где? — оглянулся. — Поговорим всласть.
— Я теперь мужняя, — потупила глаза Савина и отошла на два шага. Остановилась. Обернулась. Всхлипнула: — Ты меня прости!
— За что? — горячо зашептал он. — Может быть, слаще той ночи в моей жизни и не было ничего.
— Прости! — опустила она голову и торопливо пошла к дому.
— Ты меня прости, пса блудного! — забормотал ей вслед, не сводя глаз с располневшей бабьей спины.
Глава 7
Просыпаться Угрюм не спешил: у здешних народов не принято выскакивать из-под одеяла, как караульные казаки или промышленные. Балаганцы и тунгусы не будили близких грубо и резко, боялись, что вышедшая из спящего тела душа не успеет вернуться на место и человек потеряет разум. Прежде чем встать, у них в обычае долго потягиваться и ворочаться.
Угрюм улыбнулся, не открывая глаз. Он наслаждался ласковым и осторожным поглаживанием женских рук, теплом очага. «Разбуди-ка меня тычком, — мысленно посмеивался над опасениями жены. — Мало что калека, еще и полудурком стану!» Своего увечья он уже не стеснялся, после войны в улусах было много калек.
Угрюм сладко зевнул, потянулся. У него под боком, раскинув руки, сопел сын. Почувствовав шевеление, он захныкал. Из-под толстого овчинного одеяла приподнялась на локте теща и осторожно взяла ребенка в свою постель. Между стариков сын утих и снова засопел. Они любили внука. Дай им волю, с рук бы не спускали.
Угрюм встал, молча обулся. Жена подала прогретый у очага овчинный тулуп. Он накинул малахай, открыл дверь, завешанную изнутри войлочным пологом. Солнце уже поднялось. Вокруг сколько хватало глаз была степь с желтой поникшей травой, присыпанной снегом.
Угрюм скинул малахай, три раза перекрестился и поклонился на восход. Студеный ветерок жег лицо. Табун пасся поблизости от жилья. Ночью он подходил к самому дому, и земля вокруг была дочерна перекопычена.
Жеребец задрал голову на долгогривой шее, угрожающе заржал, стал похрапывать, грозно поглядывая на жеребушку, зарысившую к человеку. Заиндевевшей мордой она ткнула Угрюма в грудь. Он вынул из рукавицы присоленный кусок лепешки. Кобылка щекотно взяла ее губами с ладони, захрустела молодыми зубами. Эту лошадку Угрюм растил для сына и объезжать ее еще не пробовал.
Он заарканил двух сильных коней, зануздал их и повел к дому. Шестистенный гэр[215], в котором зимовала семья, был сложен из жердей, обмазанных глиной. Снаружи он казался старым и ветхим. Вид его вызвал самодовольную улыбку на шрамленом лице Угрюма. Осенью, когда куржумовские родственники делили выпасы, здесь никто не хотел зимовать. Обедневший Гарта Буха тоже воспротивился было такому дележу. Но его родственник, потерявший на последней войне руку, язвительно напомнил, что у него зять хоть и бэртэнги[216], но дархан с двумя руками. Все смеялись, обидев старого Гарту, смеялся и Куржум.
Последнее время над Гартой часто посмеивались: кто добродушно, а кто и зло. Дескать, сильно умен баабай[217]: не в бою раба добыл, не купил— дочкой заманил в работники. Притом многие родственники завидовали, что стадо Гарты при кузнеце увеличилось вдвое.
Старик мстил насмешникам. По природному своему упрямству он объявил Угрюма не работником, не полюбовным молодцом дочери, а ее мужем и своим зятем. Через две недели после обидного дележа выпасов он навестил Куржума и посмеялся над всеми. Сами выпасы были хороши, это знали все. Ветхим и холодным был гэр, но зять утеплил его изнутри, плотно подогнал дверь, сделал окно, в два слоя затянутое бычьими пузырями, сложил чувал с вытяжной трубой. Теперь ветхая хижина даже при сильном ветре не наполнялась дымом. Стоило развести огонь, в ней становилось тепло даже на полу, застеленном шкурами и кошмой.
Однорукий гаатай[218] не поверил хваставшему родственнику и приехал посмотреть его жилье. Сердито посапывая, он посидел у чувала, погрелся, поел. Лицо его от зависти стало черней желчного пузыря. Не глядя на Угрюма, он сказал Гарте:
— Скажи дархану, пусть приедет ко мне, утеплит мой дом, а то сильно дует по полу, очаг дымит, старуха плачет, дым ей глаза выедает.
— Я ему не хозяин! — насмешливо и важно ответил однорукому Гарта Буха. — Если чего надо — сам проси моего зятя.
Родственник, набычившись, поднял на Угрюма узкие, окровавленные глаза:
— Сделаешь? — окликнул резко.
— Некогда! — как можно равнодушней ответил Угрюм. — Своих дел много.
— Свои дела сделает, поедет Куржуму помогать! — мстительно усмехнулся тесть, пощипывая седые кисточки усов.
Однорукий уехал не прощаясь.
— Нажили врага! — опечаленно вздохнул Угрюм.
— Лучше нажить одного, чем многих! — жестко сказал тесть.
Вспоминая о житейских делах года, Угрюм самодовольно посмеивался.
Он привел двух коней к дому, привязал к коновязи, заседлал их высокими, как табуретки, степными седлами. Ночью был ветер. Возле жилья топтался только табун, а скот ушел. Предстояло найти его и пригнать.
Он вошел в жаа гэр[219]. Здесь было уже жарко. Поднялись старики. Пахло вареным мясом. Угрюм подумал вдруг: «Что за день нынче: постный или мясоед?» Вспомнить русское счисление он не смог. Да и невозможно было жить среди бурят по своему уставу. Разве под Рождество или под Пасху, на Страстной неделе, он иногда голодал во славу Божью.
— Коней привел? — спросил тесть, прихлебывая жирный отвар из чашки.
На деревянном блюде парило мягкое, разваренное для стариков мясо. Сидя полукругом возле огня, домочадцы пили, но не ели, ожидая его, Угрюма-дархана.
Как справедливо говорят тунгусы, ты хозяин своему слову до тех пор, пока не выговоришь его. Гарта сокрушался, что солгал однорукому родственнику, будто зять обещал подновить юрту Куржуму. Не прошло и месяца, к ним приехал вестовой. Князец звал к себе дархана.
Работы у него Угрюм не боялся. Не хотелось, конечно, отрываться от дома, но Куржум без награды не оставлял, даже когда сердился. Как ни был он зол на казаков, но, вернувшись в улус, одарил и за халат, и за шапку, и за поездку в зимовье на Тутуру.
Понимая здешние нравы, Угрюм на глаза князцу не лез. Если его о чем-то спрашивали, отвечал осторожно, зНал: что простится самому захудалому балаганцу, то не простится ему, претерпевшему за братов и за Куржума с Боярканом столько, сколько не терпел ни один из их родственников.
Куржум встретил Угрюма приветливо. Но большие черные глаза его блестели насмешливо и зло. В теплой белой юрте у очага, свесив тяжелую голову, сидел тучный Бояркан. Он был печален и задумчив. На приветствие толмача едва кивнул.
Угрюм отметил, что черного шамана нет. В юрте был желтый боо с гладко выбритой головой, вислыми щеками. Глаза его, запавшие, как у покойника, глубоко под лоб, едва разлеплялись узкими щелками и подрагивали ресницами.
Женщины усадили прибывшего толмача и дархана против братьев и боо. Налили ему в чашку жирного и горячего мясного отвара. Угрюм взял ее в ладони, якобы отогревая их после поездки. Хоть он и проголодался в пути, еда на ум не шла: опасливо гадал, зачем позвал его Куржум, зачем здесь Бояркан? И почему в юрте только четверо мужчин?
Он сделал несколько маленьких глотков, отщипнул мяса с ребра, пожевал, взглянул на Куржума вопросительно, кашлянул.
— Ну, рассказывай, — с язвительным смехом приказал тот, — что тебе говорят черти про казаков? От мяса — мясо бывает! — кивнул на блюдо. — От отвара — отвар!
В последних словах Куржума был намек на неразрывную, кровную связь толмача с казаками. Слово «черти» Куржум сказал по-русски, имея в виду духов. А Бояркан, не поднимая головы, исподлобья бросил на Угрюма быстрый и пронзительный взгляд.
По бурятским поверьям, кузнецы, как шаманы, сносились с духами. Угрюм все понял, но пожал плечами и взглянул на Куржума непонимающе.
— Как расстался с казаками, так больше с ними не встречался, — ответил. — Даже промышленных людей не видел.
— Разве не донесли тебе черти, что ко мне пришли казаки из крепости, где живет их главный мангадхай, и потребовали ясак?
Угрюм помотал головой, показывая, что ничего не знает об этом.
— Семь дней они сидят в моей плохой юрте и ждут! — хищно усмехнулся Куржум, не сводя с него немигающих глаз. — А я думаю, то ли убить их, как они убили сорок три моих воина, то ли побить, то ли дать ясак? Мне нужен твой совет. Говори давай!
Шрамы на губах Угрюма побелели. Он пугливо сглотнул слюну, бросил боязливый взгляд на потупившегося Бояркана, затем на желтого боо непонятной породы. И так как Куржум не спускал с него жгучих глаз, пролепетал:
— Почем мне знать, как с ними поступить. — Поколебавшись, добавил: — Убьешь их, другие убьют твоего сына!
Куржум торжествующе захохотал.
— Я отобрал у них сына и убил пятерых мангадхаев с тунгусами! — посмеявшись, снова вперился испытующим взглядом в дархана: — А если бы они к тебе пришли за ясаком? — строго спросил по-русски.
Обмирая пуще прежнего, Угрюм зябко поежился, набрал полную грудь воздуха:
— Дал бы! — выдохнул и заерзал на кошме, торопливо и сбивчиво оправдываясь: — Двое стариков, жена, сын, сам — калека. Куда мне против них?
— А если бы был хубуном, как я? — продолжал пытать его Куржум.
Бояркан тоже поднял глаза, ожидая ответа. Желтый шаман так и впился в него невидимыми зрачками через щелки глубоко запавших глаз. Угрюм понял, что отвечать все равно придется. Покряхтел, залопотал, путая булагатские и тунгусские слова:
— Если придут хазак-мангадхай, вас они, может быть, и простят, а меня повесят. Государь милостив к чужим и строг к своим. Если бы меня не трогали, как вас: живи и живи, только ясак плати, — я платил бы и жил. Что семь соболей с семьи? Тунгусы за бычка дают пятнадцать. А если бы кто напал на меня — я бы казакам пожаловался. Пусть они воюют — это их дело. Им царь велит защищать вас.
— Выпусти! — хрипло приказал брату Бояркан.
Куржум обернулся к нему с переменившимся лицом. Спорить со старшим, да еще при чужаках, не стал.
— Ешь давай! — взял с блюда ребро с вислыми гроздьями желтого жира и протянул Угрюму. — Далеко ехал, проголодался. — Его гладкое, безбородое лицо судорожно подергивалось. Он развалился на подушках и велел принести молочной водки.
Угрюм выпил чарку и другую. Тарасун был на редкость вонюч и горек. Тяжело закружилась голова. Но тревога немного отлегла от сердца. После еды и выпитого по лицу Куржума стало понятно, что он справился с обуревавшими страстями. Глаза его прояснились. Князец вытер жирные пальцы шелком и громко сказал:
— Ладно! Пусть никто никогда не скажет, что младший брат ослушался старшего!
Легко, как тунгус, он поднялся на ноги. Следом за ним вскочил Угрюм. Покряхтывая, тяжело и неохотно встал Бояркан. Желтый шаман полежал на подушках с закрытыми глазами, отрыгивая воздух из кишок, и тоже неохотно поднялся. Не проронив ни слова, братья вышли из юрты. За их спинами плелся Угрюм.
Ярко светило солнце, клонясь к закату. Морозный воздух, запахи сухой травы, конского пота и навоза освежили голову. Белая юрта стояла на продуваемом пригорке. В стороне — три добротных и просторных из серого войлока. Под пригорком — рубленный шестиугольником гэр или загон с плоской крышей. Возле него на потниках сидели два косатых молодца в тулупах и лисьих шапках.
— Выводи! — приказал им Куржум.
Караульные послушно вскочили, откинули войлочный полог и вытолкали из-под крова трех бородатых русичей в суконных зипунах без шапок и оружия. Сперва Угрюм принял их за промышленных людей, но вскоре опознал казаков, хотя этих служилых никогда не встречал.
Свежий ветер шевелил растрепанные волосы и бороды. Все, что им было наказано, они уже передали Куржуму и его мужикам. Показывая достоинство пославшего их атамана и государя, все трое дерзко приосанились, отряхивая зипуны, молча и строго смотрели на князцов, спокойно ждали их ответа.
— Хотел убить — да брат не велит! — злобно скалясь и постукивая плетью по ладони, сказал им по-русски Куржум. — Хотел побить! Но мои воины стыдятся бить пленных и безоружных! А без подарка и привета отпустить вас не могу. — Он вдруг взглянул на Угрюма так, что у того затряслись колени, и протянул ему плеть: — Побей сам! Все равно, говоришь, они тебя повесят или кнутом забьют!
Последние слова были сказаны так, что у Угрюма пропала всякая охота отнекиваться. Он принял плеть. Широко расставляя ноги, переваливаясь с боку на бок, двинулся к казакам. Ткнул кнутовищем в бок одного, слегка хлестнул нераспущенной плетью другого и третьего.
— Ходи себе, давай! — прошепелявил.
Казаки презрительно и брезгливо взглянули на него.
— Спаси тебя Господь, князец, за щедрый поклон! — злобно кивнул Куржуму старший, с проседью в бороде. — Государь наш милостив! Принесешь ясак с покаянием, может быть, простит!
Они развернулись и без шапок, в одних зипунишках безбоязненно двинулись на закат дня. Мерзлые корни выщипанной травы зашуршали под их ичигами. Угрюм на непослушных ногах вернулся и угодливо подал плеть. Заметил, что желтый шаман стоит за спинами караульных. Бояркан презрительно взглянул на дархана. Куржум, принимая плеть, рассмеялся, и Угрюм жалко улыбнулся ему.
Бояркан со своими молодцами тут же уехал. По приказу Куржума караульные вынесли из избы, где держали казаков, их шубные кафтаны, одеяла и чугунный котел. Растолкали все добро по кожаным мешкам, закрепили их подпругой на спине молодого, сильного мерина. Ночевать на стане Куржум кузнеца не приглашал.
Угрюм вскарабкался на своего коня, накормленного, но нерасседланного и двинулся по следам в ту же сторону, куда ушли казаки. Солнце к закату наливалось темной кровью, тени на снегу вытягивались и указывали путь.
Он догнал казаков у буерака. Они выкопали яму в снегу, развели костер под склоном и готовились ночевать. При них были лыжи и нарты, припрятанные на подходе к стану. Головы служилые покрыли кто шкурой, кто рубахой.
Угрюм подъехал к яру. Вдыхая тепло костра, крикнул вниз. Махнул рукой, подзывая к себе. Трое быстро вскарабкались к нему по мерзлому глинистому склону.
— Это ты, урод? — схватил коня за узду старший. Лицо его было сухощавым, в морщины въелись грязь и сажа. При заходящем солнце он выглядел крепким стариком. Другой казак, с бородой в подпалинах, с цепочкой мелких сосулек над губами, уже ощупывал мешки на мерине.
— Быдарки бызьми! — пробубнил Угрюм смерзшимися губами и кивнул на мерина в поводу. Он обернулся к крупу своего коня, чуть приподнявшись на стременах, чтобы отвязать от седла повод узды мерина.
Тот, что с сосульками в бороде, одной рукой перехватил повод, другой так потянул на себя седока за рукав тулупа, что Угрюм кулем свалился на землю. Его конь заржал, встал на дыбы, скакнул в сторону с волочившейся по земле уздой.
Казаки деловито вытряхнули Угрюма из тулупа. Не найдя под ним ничего стоящего, без злобы дали толмачу пинка под зад, отправив ловить своего коня. Старший надел тулуп, сделал блаженным лицо и стал спускаться к костру. Двое других побросали вниз мешки с котлом и одеждой. Мерина, вращавшего испуганными глазами, они тоже наградили тычком в зад, чтобы бежал к хозяину.
Угрюм поднялся, подобрал затоптанную шапку, заковылял к ждавшему его коньку, вскарабкался в высокое седло, стряхнул снег с меховой рубахи. Догнав мерина, побежавшего в обратную сторону, привязал его повод к седлу и торопливо зарысил к дому. Не было на душе ни тоски, ни обиды, ни злости — одна мерзость.
Оглядывая темневшую степь, Угрюм пробовал читать молитвы, которые знал. Но быстро сбивался и начинал заново: «Бог милостивый, Боже милосердный» — дальше не шло на ум, и все казалось, что в этой степи, как ни удобна она для выпасов, кроме тоски и уныния, ничего другого не может быть.
Так он рысил, бормоча что-то под нос, пока не увидел в полутьме свой вольно пасущийся табун. Жеребец, задрав голову, выбежал навстречу, узнал хозяина, потряхивая гривой, всхрапывал, поглядывая на незнакомого мерина. Жеребушка доверчиво ткнулась мордой в колено хозяина. Угрюм погладил ее. Угостить было нечем. Вдыхая всей грудью дымок очага, он подъехал к дому.
«Вот они: и родина, и народ, и все, что нужно человеку!» — думал веселея. Соскользнул с седла и почувствовал, как продрог в пути. Домочадцы, услышав всадника, гурьбой выскочили из дома. Тесть вытащил из окоченевших рук зятя повод, стал расседлывать коня. Полураздетая жена переминалась с ноги на ногу у двери. Из-за ее спины выглядывала теща.
— Давай заходи скорей, грейся у огня!
Он протиснулся в дверь. Булаг легонько коснулась его выстывшего плеча, сметая с него снег или пыль, скрытно лаская.
«Вот она, родина! — опять подумал он, оправдываясь перед кем-то, хихикающим за плечом. — Другой нет!»
Его кормили и поили. Сидели кружком. Ждали рассказа. Понимали, что поездка была непростой.
— Тулуп потерял! — пожаловался он.
— Другой сошьем! — утешила теща.
— Что племянник? — осторожно спросил тесть, глядя на огонь.
— Советовался! — вздохнул и кручинно опустил голову Угрюм. — Наверное, с казаками и с тунгусами воевать будет. Пятерых уже убил. Над многими бурятскими родами хочет быть хааном. Казаки его победят, простят и наградят. А меня за его войну казнят смертью!
Все молчали, глядя на огонь. Жена подала ему на руки сына.
— Это тебе духи сказали? — спросил тесть.
Угрюм хотел объяснить, что и без духов все понятно, но вздохнул еще раз и кивнул. Старик долго молчал, покусывая седой ус. Потом сказал, покачивая головой:
— Кочевать надо! Только куда? На полдень, на другой берег Мурэн — аманкуловские роды мстить будут. На восход — икирежи. Мы их с пастбищ прогнали. Дальше — мунгалы. Грабить будут нас, пришельцев. Без роду, без племени плохо жить.
Из сказанного старым Гартой выходило: ничего поделать нельзя, надо смириться с судьбой и ждать.
— На Мурэн возле Далай[220] есть устье Иркут-реки. Там собирается много народов. Я там хорошо жил. Кузнец всем нужен, — мягко возразил Угрюм.
Эта мысль пришла ему в голову как-то разом. Она осенила, увлекла — и на душе полегчало.
— В одиночку не прожить! — упрямо повторил тесть и хмуро добавил: — Вдруг не будет войны!
Угрюм пережил в братах еще одну зиму. Тому, что казаки его побили и обобрали, он был даже рад. Не обеднел, потеряв тулуп да кое-какие подарки от князца, зато не мучился, что по его приказу оскорбил единокровников. Мало-помалу забывались страхи и опасения. В семье царили мир и покой. Скот множился.
На исходе была весна, подступало жаркое лето. Доносились смутные, противоречивые слухи с других станов. В улусах была какая-то суета. Но все это проносилось стороной от дома Гарты Бухи. И вдруг нежданно на его выпасах появился Куржум с сотней дайшей, вооруженных луками и пиками. Среди братских мужиков Угрюм высмотрел десятка полтора тунгусов разных племен. У одних волосы были распущены по плечам, у других стянуты на затылке конским хвостом.
Тесть встретил именитого племянника с большим почтением: заколол двух бычков и десяток овец. Балаганцы пировали два дня. Говорили юрол’ баатару и друг другу.
Угрюм ковал их коней и наконечники стрел, затачивал ножи и пальмы, чувствовал себя на пиру чужаком, хотел сесть на коня и куда-нибудь скрыться.
Едва съехало войско Куржума, тесть, с важным видом сидевший на пирах рядом с племянником, приуныл.
— Казаков воевать поехали! — сказал, опасливо и брезгливо оглядываясь. — Бузар, бурхи![221]
Земля вокруг стана была вытоптана и загажена. На пару с зятем он перевез юрту на другое место. Но и на новом стане Гарта не повеселел: сидел у кизячного костерка, покусывал седой ус и думал.
А у зятя все валилось из рук: предупредить казаков в остроге он не мог. Да и не поверили бы ему. Но Куржум в отместку под корень извел бы семью Гарты Бухи. Хорошо еще, что не заставил дархана ехать за собой. Неспроста так жгли кузнеца его веселые и насмешливые взгляды.
Угрюм подсел к тестю. Мужчины помолчали вдвоем, глядя на тлеющее желто-синее кизячное пламя. Тесть поднял голову, взглянул на зятя жалостливо:
— Наших побьют — жалко! Наши победят казаков — плохо!
Дней десять прошло в томительном ожидании. Угрюм так и не обустроил кузню на новом месте. Булагатское войско возвращалось тем же путем.
Все дайши были веселы и возбуждены. Впереди ехал Куржум в блестящих латах. Тунгусы гнали за войском табун лошадей и стадо бычков. Молодцы вели в поводу груженых коней. На их спинах, связанные попарно, шевелились и клацали мешки, пищали, бердыши. Многие воины были опоясаны казачьими саблями.
И снова не проехал мимо родственника Куржум, остановил резвого жеребца. Двое молодцов соскочили со своих коней, ссадили его из седла. Другие постелили на землю кошму, оказывая князцу ханские почести.
На стане опять резали скот. Переговорив с Гартой, Куржум поманил к себе жавшегося в стороне Угрюма. Сильно прихрамывая и сутулясь, Угрюм встал перед князцом, почтительно склонил голову.
— Ты мне помог, дархан! — весело блеснули большие черные глаза. Князец был в добром расположении духа. — Хороший совет дороже серебра. Мне не понравились твои слова, что ста бурятским воинам не победить десять казаков, — улыбка покривилась на тонких губах с кисточками черных усов. — Хотя один мой воин может драться с тремя казаками! — добавил с важностью. — Но я принял твой совет и придумал хитрость: пятьдесят два казака упали к моим ногам, не успев взять в руки оружие.
Угрюм потупился, не зная, что сказать Куржуму: ни поздравить с победой не мог, ни укорить за пролитую кровь. Топтался на месте с растерянным лицом.
— Я-то при чем? — пожал плечами. — Ты знаешь повадки казаков лучше меня. Я никогда не был казаком! — угодливо прошепелявил и вовремя спохватился, чтобы не припомнить князцу зимовье на Тутуре.
Куржум самодовольно кивнул, поманил одного из своих молодцов, что-то сказал ему. Несколько дайшей принесли к юрте Гарты Бухи и сложили кучей два котла, зипуны, привязали пять лошадей, отогнали в его стадо трех коров и бычка.
Снова войско Куржума пило и ело. Угрюм ковал, чистил стволы пищалей, точил ножи. Делал он свою работу равнодушно и хмуро, не поднимал взгляда, чтобы не видеть глаз Булаг, узких и длинных, как вскинутые крылья морской птицы.
Снова схлынуло войско Куржума, оставив после себя грязь и перекопыченную землю. Еще тлели костры его станов, повсюду валялись обглоданные кости и сильно пахло людскими нечистотами.
Надо было кочевать. Пройдет много лет, прежде чем земля скроет эти следы и очистится.
По хвастливым рассказам балаганцев Угрюм понял, что они вырезали острог под Падуном. И теперь, почувствовав себя непобедимыми, грозили перерезать всех казаков, ангинских и удинских бурят вместе с тунгусами Можеула. А самого тунгусского князца сварить в котле живьем.
Угрюм стоял возле затухающего горна, пока не скрылись за облаком пыли последние из всадников. Потом он поплелся к юрте, упал на овчинное одеяло и лежал без мыслей, без чувств, то и дело впадая в сон без сновидений. Подходила Булаг и присаживалась рядом. Тихо переговаривались у очага старики.
Растолкал Угрюма тесть — Гарта Буха.
— Кочевать надо! — сказал хмуро и жестко, как о решенном.
Глубокая морщина залегла на его приплощенной переносице. Поблескивали глубоко запавшие глаза.
— Куда? — равнодушно и отчужденно спросил Угрюм.
— Хоть куда! — резко ответил тесть. — Всю траву вытоптали. — Он помолчал и вдумчивей добавил: — К мунгалам идти надо. У них порядок. Ясак плати и живи со всеми в мире. — Гарта Буха покусал седой ус, поглядывая на зятя с сомнением: стоит ли делиться с ним мыслями. — Племянник сказал, Алтын-хан казачьему царю служит. Он и прежде был самый сильный, главный хан среди мунгальских царевичей. Теперь, с казачьим царем, он стал еще сильней.
Эта весть оживила Угрюма. Он приподнялся на локте, затем сел.
— Знаю, где выпасы, торги и всегда много народов. Там и ремеслом, и промыслом, и скотом жить можно. Если доберемся туда, то голодать не будем.
— Плохо без родственников! — доверчивей вздохнул тесть. — Но за их грехи все потерять и убитым быть… — бросил взгляд на внука, похожего на него, на вновь округлявшийся живот дочери. — То, что задумал Куржум, — война без конца. Хуже всего — это война с бурятами.
Угрюм чуть не обнял тестя. Все эти страшные дни домочадцы казались ему чужими. А сам, среди враждебных народов, будто был выставлен на посмешище. И вот он снова почувствовал опору: эти люди и были самым дорогим, что сумел нажить, — и его народом, и его родиной. Приняв на руки сына, он стал баловаться с ним и обсуждать с тестем, на какого коня что грузить.
На другой день женщины начали готовить припас в дорогу: сушить творог и мясо, сбивать масло. Одежда и постели были уложены в мешки. Мужчины разобрали юрту, распределили все пожитки на пять сильных лошадей. Четырех коней оседлали, семь повели в поводу. Кобылы шли вольно.
Гарта Буха переживал не лучшие времена, но его семья и сейчас была небедной. На пару с зятем он погнал на полдень полсотни коров и бычков, отару овец. Семья продвигалась медленно, подолгу выпасая скот, обходя стороной кочевья родственников и врагов. Юрту не ставили, на ночь делали навес из кошмы.
Балаганская степь сменилась лесами, неудобными для выпасов. Кочевники вышли к реке Мурэн, погнали табун, стадо и отару, то удалялись от обрывистого берега, то приближались к нему. По пути они встречались с двумя промысловыми ватажками, которых ничуть не испугала весть о разорении острога. Угрюм узнавал места, по которым когда-то шел с монахами и с Пантелеем Пендой. Вспомнил и заросшее камышом устье притока, где Синеуль долго и страстно охотился на бобра.
Между рекой и черновой тайгой было просторное редколесье, где лошади, полсотни коров и овцы могли кормиться целый месяц. Если бы здесь не ложились глубокие снега, которые Угрюм хорошо помнил, можно было и зазимовать.
Он поднимался в стременах, высматривал другой берег, не видел там ни скота, ни людей, и страх вползал под сердце. Места, в которые он зазвал тестя, оказались не такими уж благодатными. Промышлять в пути было некогда. Птицу и рыбу мог есть он один: у балаганцев такая пища вызывала отвращение. Отара в пути убыла на четверть. Угрюм понял вдруг, что в этих местах без запаса сена со скотом им не перезимовать. Без его ремесла семье не выжить, а ремесленник нужен там, где есть люди.
Идти дальше на восход правым берегом к верховьям Зулхэ к враждебным ангинским бурятам тесть не желал.
— Здесь я зимовал! — Угрюм указал ему за реку. — Там всегда был народ, торговали, ясак везли. Сейчас никого не видно.
— Будут еще! — успокоил его старик. Он тоже бывал в этих местах. Оглядев пологий берег наметанным глазом скотовода, с недовольным видом поцокал языком. — Деревья растут густо, мешают ветру чистить землю. Если будет много снега, придется возвращаться.
То, что братская степь рядом и, при бедах, всегда можно вернуться, утешало обоих мужчин, а женщины во всем полагались на них. Булаг была тяжелой, ходила с трудом, переваливалась с ноги на ногу, откидывала назад тело, придерживая живот.
В долине притока с заросшим камышом устьем на сухом месте они поставили юрту. На другой день была радость. Булаг родила второго сына. Тесть зарезал самого упитанного валуха и стал разделывать его.
Угрюм, с сожалением поглядывая на поредевшую отару, взял лук, сайдак со стрелами и сел на коня. Он хотел осмотреть знакомые места и надеялся подстрелить дикого поросенка. Проехав камыши, поднялся на яр реки и пустил коня рысцой, поглядывая на устье Иркута.
Свежий ветер с запахом чистой, речной воды вдруг пахнул в его лицо дымком. Угрюм стал внимательно осматриваться, то и дело привставал в стременах. Объехав поворот реки, с волнением окинул взглядом устье притока и скрытый береговыми зарослями остров, на котором когда-то зимовал. Придержал коня, переводя его на шаг.
В лицо опять пахнуло дымом. На этот раз явно. Угрюм осмотрел берег и у кромки воды заметил на окатыше небольшую лодку-берестянку. Она была грубо сшита, но сделана явно не тунгусами: в изгибе бортов, в остове с вырезанной на счастье конской мордой было извечно свое, русское.
Послышался шорох. Под яром посыпались мелкие камни. К берестянке спустился старик в кожаной рубахе, мешком висевшей на костлявых сутулых плечах. Редкие седые волосы двумя пучками лежали на его ключицах, обнажая черную от загара, тощую шею и сморщенный затылок. Шапку старик нес в руке. За его кушак со спины был заткнут походный малый топор.
— Эй! — окликнул его Угрюм. И тут только заметил торчавшую из яра колоду. Из нее и веяло дымом. Он соскочил с коня, в несколько прыжков оказался на краю яра и скатился вниз, когда старик столкнул на воду берестянку и пытался влезть в нее.
Наконец тот оглянулся, увидел пришельца и распрямился. Белая борода свисла сосулькой, глаза переливались выцветшей синевой.
— Ты кто таков? — беззубо прошепелявил старик, сморщил лицо иссохшим грибом и почмокал сжатыми в трубку губами.
— Михей Омуль? — ахнул Угрюм, узнав его. — Ты все еще живой?
— А то как же? — с важностью заявил старик и добавил с достоинством: — Давно здесь живу. Меня многие знают!
— А меня нынче никто не узнает! — пожаловался Угрюм. — А ведь мы с тобой в этих самых местах промышляли.
Он назвал свое крестильное имя и прозвище. Ни одна морщинка не дрогнула на лице старика, только шевельнулись вытянутые стерляжьи губы:
— С кем только не промышлял. Поди, уж все померли. А я при батюшке Герасиме грехи отмаливаю, — вздохнул и возвел глаза к небу. — Нагрешил! Не без этого! Но батюшка сказал, что нынешней жизнью выслужил себе помин за обеднями беспрестанно и за панихидами и Псалтырь говорить до сорока дней!
— Где он сам-то? — взволнованно спросил Угрюм, понимая, что толковать с Михейкой о былом бесполезно.
— Он за всех за нас перед Господом радеет! — набожно перекрестился старик и кивнул под яр. — Хочешь увидеть — дождись! А сейчас к нему не ходи, не мешай! Я рыбку и кашу у входа оставил. После поест.
Угрюм обернулся, куда указывал старик. На аршин иод берегом видна была крепкая дверь из полубревен, стена в квадратную сажень, с маленьким оконцем. Вся остальная келья была врыта в глину. От землянки к воде спускалась тропинка со стертыми и обвалившимися ступеньками.
— Посиди! — старик указал глазами на лавку под окном и перекинул ногу в берестянку. — А мне в зимовье надо.
Он оттолкнулся от берега кетским, двухлопастным веслом и поплыл на другую сторону реки. Течение быстро сносило лодку. Угрюм поднялся к келье, сел, зажав лук между колен, долго наблюдал за переправой и все думал о том, что какая-то неподдельная важность, какой прежде не было, появилась в лице старого промышленного.
Михей приткнулся к другому берегу возле мыса, где река круто меняла направление, посидел там, отдыхая, встал и бечевой потянул лодку к Иркуту.
— Ничего не помнит, старый! — пробормотал Угрюм и почувствовал вдруг, как приятно говорить по-русски.
Увлеченный, он не услышал, как растворилась дверь.
— Ну, вот и прибыло жителей в моем городе! — раздался знакомый голос, тихий и ласковый.
Угрюм обернулся, встал, скинул шапку и поклонился. На первый взгляд ему показалось, что Герасим за все эти годы ничуть не переменился. Разве глаза стали ясней и будто зорче. Но, вглядевшись в его лицо пристальней, он заметил сетку морщин вокруг глазниц и серебряные нити в бороде.
— С праздником тебя! — снова улыбнулся Герасим одними глазами.
— С праздником! — опять поклонился Угрюм. И тут же спросил: — А с каким?
— С Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня! — с чуть приметной горечью в голосе напомнил монах и добавил с грустной насмешкой: — Эх ты, Егорий от семи хворей!
— Узнал меня? — удивился Угрюм. — Я думал, с нынешней моей драной мордой никто не признает.
— Лицо каждый день меняется! — присел на лавку монах. Взглядом пригласил гостя сесть рядом. — Душа не так скоро. Бывает, и не к лучшему!
Угрюм, робея, присел на краешек скамьи. Приткнул к стене лук и колчан со стрелами.
— Сквернишься, не молишься? — вскинул на него глаза Герасим.
— Молюсь!.. Почти каждый день молюсь! — горячо оправдываясь, прошепелявил Угрюм. — Бывает, про себя. Но все равно. Ты-то здесь столько лет уже? И Михейка… Едва узнал его. Глазам не верю.
— Городу здесь быть! — отметая пустячное и суетное в сбивчивых вопросах пришельца, объявил монах. — А нам назначено место намаливать и строить!
— Кем назначено? — спросил было Угрюм и поперхнулся на полуслове: — Раз назначено, значит сбудется! Что себя мучить?
— Кабы так, — усмехнулся Герасим. — Господь задумал, на нас полагаясь. Исполним волю Его — будет! Станем, как скоты, ради брюха жить — огорчим Отца Небесного.
— Ты читать-то научился ли? — монах досадливо взглянул на гостя.
— Нет! — признался тот. — Не дал Бог ума. Молитвы помню: начал, богородичные, ангелу-хранителю.
— А мне дал Господь видеть город, который здесь будет срублен Похабовыми, за грехи ваши. Иной раз слышу колокольный звон. А то и хожу по улицам в разные времена. То благостно глядеть. А то, прости господи, проснешься в слезах и давай молиться за грешное ваше потомство. — Он опять вздохнул и кручинно покачал головой.
— Чудно! — заерзал на лавке Угрюм. Почесал грудь. Взглянул в сторону острова. Над ним уже курился дымок. Видимо, старый Омуль добрался до зимовья и затопил печь. — Два сына у меня. Последний сегодня только, на Воздвиженье, родился. Не дай бог, всю жизнь будет бродяжничать, как я. Окрестил бы ты их, батюшка? А то ведь некому?
— Крещение — есть великое таинство! — тихо сказал монах, глядя на многоводное русло реки. — Его совершает священник с Причастием Святых Тайн, после литургии. Я же только утреню, вечерню могу вести, молебен, панихиду да за вас молиться.
— Промышленные сами крестят, — заспорил было Угрюм, думая, что Герасим отказывает за грехи.
— Они и лешему, и водяному требы творят! Мне по чину много чего не дозволено! Что не съездишь в острог, где поп есть? — спросил не оборачиваясь.
Угрюм засопел кривым, порванным носом. По его соображению, монах говорил нелепицу. Если весной со льдом поплыть в Енисейский, то обратно только к зиме вернешься. А скот? Хозяйство? Семья? Вслух же сказал:
— Война там! Казаки в прошлые годы полсотни братов перестреляли. Те нынче Братский острог вырезали. Скоро казаки вернутся, и опять польется кровь.
Монах никак не посочувствовал, не вошел в его беды, только шевельнул бровями, будто догадка пришла ему на ум.
— Ивашка Похаба обязательно придет с мщением! Неспроста нас Господь свел еще молодыми. Промысел Божий уже тогда сбывался. Ради него и блуждали, и страдали во славу Божью, — обернулся к Угрюму, взглянул на него пытливо и насмешливо. Встал, показывая, что разговор окончен. — Давай хоть перекрещу! — предложил весело. — Может, часовенку или избу срубишь во славу Божью?
— Народ бывает ли там, как прежде? — приняв благословение, кивнул за реку Угрюм.
— Последние два лета совсем мало, — ответил монах. — Разве промышленные ватажки. Считай, и проповедовать-то некому. Этот год, после Троицы, был саянский князец Яндоха. Спрашивал о вере, о казаках. Он кочует где-то близко, в долине Иркута. Жаловался, выпасы у него плохонькие, бросовые, а все равно обижают его и мунгалы, и братские люди.
— Если промышленные Иркутом ходят, значит, воровской тёс проложили! — торопливо заговорил Угрюм, стараясь задержать Герасима. — Казаки узнают, придут, но не здесь, а там, на острове острог поставят. Чтобы мимо никто не проходил. И торг на той стороне был. Там надо часовню рубить! — махнул рукой за реку.
— Нет! Здесь будет город! — коротко ответил монах. — Бог милостив! Не пропадешь! — махнул рукой и скрылся за дверью.
Угрюм постоял, оглядываясь то на реку, то на келью. Подхватил лук, колчан со стрелами, полез на яр, где был отпущен конь. Недалеко один от другого виднелись два крутых поворота реки. Помнилось, что возле верхнего рубили с Пендой лес на зимовье и течение выносило плот едва ли не к другому берегу. Прикидывал, сколько плотов надо связать, чтобы до снега переправить скот. Берестянка скитников облегчала его заботу. С другой стороны, после Михайлова дня река все равно покроется льдом и можно будет переправиться без трудов. А сколько снега навалит к тому времени — неизвестно.
На обратном пути к стану выскочил из камышей и уставился маленькими глазками на Угрюма матерый вепрь. До него было шагов тридцать. В другой миг он резко развернулся боком, раздумывая, укрыться или обойти стороной коня и человека. Угрюм пустил стрелу из лука, целя под лопатку, пониже вздыбившегося загривка. Тяжелый, кованый и заточенный наконечник вошел в плоть не меньше чем на ладонь.
Кабан резко развернулся на месте и бросился на коня. Тот вздыбился, скинув седока. Падая в болотину, Угрюм увидел, что кабан с торчавшей из бока стрелой сбил лошадь с копыт и ударил ее еще раз. Конь судорожно засучил копытами, кабан же отбежал на десяток шагов и упал на бок, стрелой к небу.
Угрюм поднялся на подрагивавших ногах. Ясно вспомнился подравший его медведь. У коня были перерезаны жилы по суставам и вспорот живот. Угрюм, прихрамывая, зашел со спины, прижал коленом к земле гривастую конскую морду и жалостливо перерезал горло засапожным ножом.
Затем он опасливо подошел к кабану. Тот был мертв. Угрюм потыкал его палкой, похлестал по раскачивавшейся стреле. Затем приблизился, склонился и вонзил нож в бок, напротив сердца. Зверь не дрогнул, и тогда Угрюм перерезал крепкую щетинистую кожу на горле, чтобы выпустить кровь.
«Воздвижение! День постный!» — подумал покаянно. Дорого досталась первая добыча на местах прежних промыслов. Но мяса кабана и коня должно было хватить надолго. Сняв седло, он поплелся к стану, звать тестя. Одному до ночи не освежевать две туши. Угрюм шел и думал: «К чему все это в день рождения второго сына — Вторки?»
Строить часовню Угрюм так и не взялся, но и не отсиживался, бездельничая при пасущемся стаде. Без малого две недели он валил и шкурил лес на повороте реки. Ладони его покрылись кровавыми мозолями, ныла спина — отвык от прежней многотрудной жизни, да и силы были уже не те. Изредка встречаясь с Михеем, он оправдывался перед стариком, придут, мол, другие, из просохшего леса соберут часовню.
Угрюм переправлялся на остров на берестянке, чтобы осмотреть выпасы на другом берегу Ангары. Зимовье было все то же, поставленное наспех после пожара. Нижние венцы его прогнили до трухи. Пока не встала река и скот отъедался прибитой заморозками травой, он наспех подлатал избушку, забил щели мхом.
— Часовню-то будешь рубить? — опять забывчиво спросил Михей.
— В другой раз! — отмахнулся Угрюм. — И неуверенно пообещал: — К весне, если вернусь, сделаю!
Старик почмокал губами и больше разговора о часовне не заводил.
Все чаще и явственней напомнила о себе зима. Как-то вечером заморосило, а утром выбелило все вокруг. Снег падал весь день. Скот с мокрыми спинами подступил к юрте. Отара сбилась в тесный круг, пережидая непогоду. Кони лениво разгребали снег копытами, неохотно щипали мокрую, иссохшую траву.
Растаял снег уже на другой день, но тесть все чаще стал говорить о переправе. Бог милостив, осень выдалась бесснежная, но морозная. Река встала рано, и, едва окреп лед, Угрюм с тестем снова загрузили домашний скарб на коней. Переправив скот через реку, дали ему отъесться осенней травой среди редколесья пологого берега. Опасливо поглядывая на темные тучи, семья заспешила к холмам, в верховья Иркута.
Ни Угрюм, ни Гарта Буха этими местами не ходили. Понаслышке знали о просторной и благодатной долине в верховьях притока. Но чем дальше поднимались они по Иркуту, тем больше сужалась его теснина, тем выше поднимались по берегам крутые горы. Холодало, но Бог миловал, большого снега все еще не было.
Никто Угрюма не корил, не мучил расспросами и сомнениями, но страх виделся на почерневших лицах домочадцев. Лес становился все гуще. Обнадеживала тропа, по которой явно гоняли скот. Тесть не поднимал на зятя пустых, будто вымороженных, глаз. Всех мучило чувство, что они глубже и безнадежней втягиваются в западню. Травы не хватало. Бычки и кони грызли кустарник.
А горы становились еще выше, тайга еще непроходимей. И только тропа в иных местах расширялась, указывая, что по ней прогоняли стада вдесятеро большие, чем имела семья Гарты.
Закружилась на месте одна овца, потом другая. Их зарезали и с брезгливостью съели. Наконец, оглядывая заснеженные горы, тесть сипло выговорил:
— Если не выйдем к людям, другой такой зимы нам не пережить! — Помолчав, добавил: — Придется возвращаться нищими.
Но долина вдруг расширилась. Открылась просторная, окруженная хребтами падь. На ее склонах показались выпасы, вырубленные и выжженные людьми. Южные склоны были без снега. Появились следы недавней пастьбы. Угрюм перекрестился, не снимая с руки тяжелой рукавицы. Ожили глаза тестя.
Встречи с людьми долго ждать не пришлось. На другой день после полудня впереди показалось десять всадников с луками и пиками. При каждой оседланной лошади было по одной, а то и по две заводных. Видимо, путь всадникам предстоял дальний. Скота при них не было, и это насторожило Угрюма.
До встречи с ними оставалось шагов сто.
— Мунгалы! — просипел тесть, вжимая голову в плечи.
Всадники окружили навьюченный караван. На приветствия и славословия Гарты Бухи они не повели ухом. Переговорили между собой весело и непонятно. Угрюм понимал разве одно слово из десяти, но и по тем почувствовал насмешку над его семьей. Лицо тестя стало серым, застывшим в ожидании беды.
Двое всадников ощупали навьюченный на молодого коня тюк с войлоком от половины юрты. Не успел Угрюм глазом моргнуть, один из них чиркнул ножом по подпруге и обрезал недоуздок. Тюк свалился на землю. Конь заплясал, с ржанием вырываясь из незнакомых рук. Захрапел жеребец. Угрюм обернулся на его храп и увидел на гривастой шее волосяную веревку.
Деловито переговариваясь, всадники двинулись дальше, погоняя и нахлестывая плетьми упиравшихся коней. Двое лихо свесились из седел и подхватили с земли по овце. По дряблым щекам тещи текли слезы. Глаза жены сузились, брови опали крыльями морской птицы, закончившей взмах.
Мунгалы, не оборачиваясь, скрылись за поворотом застывшей реки. Не было от них ни угроз, ни побоев, ни требований. Семью так равнодушно ограбили, будто обломили ветки безмолвного дерева. Жаль было жеребца и молодого, сильного коня. Жаль овец. Томил душу ужас, застывший в глазах женщин. Мужчины, не сумевшие защитить их, стыдливо молчали.
Угрюм неловко спешился, осмотрел сброшенный войлок.
— Отдохнем? — спросил тестя. Надо было перевьючить груз на другого коня, залатать перерезанную подпругу.
Женщины не слезали с коней, дав им волю щипать сухую, поникшую траву со снегом. Разбрелась поредевшая отара. Перегрузив войлок, кочевники продолжили путь. К вечеру они увидели на открывшемся склоне просторной пади пасущийся скот. Здесь и остановились на ночлег.
На другой день Угрюм вызвался в одиночку ехать к людям. Тестя он оставил с женщинами и детьми. Сам выбрал старого коня, которого не так жалко было потерять, оседлал его чем похуже, направил к видневшемуся стаду.
Вскоре он был замечен. Навстречу ему выехало двое верховых мужиков. Поперек их седел лежали дубины, на запястьях висели тяжелые плети. Всадники остановились с непроницаемыми лицами и преградили Угрюму путь. Одеты они были просто, по-братски, но волосы их не были убраны в косы. Оба пристально разглядывали изуродованное лицо гостя.
Под одним из них Угрюм узнал седло, из первых, неумело сделанных им много лет назад. С тех пор оно не раз чинилось и латалось, но служило до сих пор.
— Я делал! — указал на него рукой, опасливо улыбаясь.
Всадники взглянули на него с недоумением:
— Дархан?
Угрюм закивал. Лица погонщиков оживились и стали приветливей.
— Езжай туда! — указал плетью один из них.
Другой подвел своего коня, показывая, что хочет проводить гостя на стан, и стремя в стремя зарысил рядом с Угрюмом к кочевому жилью.
— Вдруг ты брат того дархана? — спросил, обернувшись на скаку. Он то и дело придерживал своего сильного коня, вырывавшегося вперед. — Отчего лицо другое?
— Медведь такое сделал! — криво усмехнулся Угрюм.
Пастух в засаленном тулупе, с блестевшим, будто смазанным жиром, лицом откинулся и захохотал.
С реки, где осталась семья Угрюма, видна была только малая часть просторной пади. Теперь она открылась во всю ширь между пологих горных хребтов с лесом на вершинах. Среди обдутой ветрами желтой травы чернели круглые плешины утугов[222], грубо огороженных поваленными деревьями. На безлесой сопке стояли пять юрт и рубленый гэр с плоской крышей. Возле него высились обсиженные воронами лабазы.
Мужик с масляным лицом крикнул: «Выходи!» Из юрт выскочили босоногие ребятишки в длинных рубахах. Выглянула женщина в островерхом колпаке и стыдливо прикрыла лицо воротом халата.
— Дархан приехал! — объявил сопровождавший Угрюма всадник.
Селение оживилось. Женщины стали выбрасывать из юрт котлы с оторванными ушами, понесли хозяйственную утварь и украшения.
Угрюм посмеивался, сидя в седле:
— Много работы, быстро не сделать! — Чтобы не разочаровывать жителей, он важно и добродушно уверял их: — Покане налажу все, не уеду! Покажите, где можно поставить мою юрту и где пасти мой скот.
Он снова окинул взглядом селение и обернулся к самой большой и богатой юрте. Над ней курился дымок, но никто даже не выглянул из-под навешанного полога.
— Хубун здоров? — с почтением спросил Угрюм окруживших его женщин и стариков. — Как его славное имя? Кто его предки?
— Болен! — коротко ответил сопровождавший гостя мужик, и лицо его стало хмурым: — Яндокан его имя!
Угрюм спешился и поклонился в сторону большой юрты, чтобы соблюсти приличие и не нажить врагов. Соскочил с коня и мужик, приведший его в селение. С короткими, колесом торчавшими из-под шубейки ногами он сразу стал низкорослым и непомерно широкоплечим. Раскачиваясь на ходу так, что едва не касался земли длинными руками, прошел к большой юрте, скрылся за войлочным пологом. А когда вышел, объявил:
— Яндокан сегодня не может говорить с тобой. Как будет здоров, так поговорит. Ставь свою юрту где хочешь! — повел вокруг сложенной вдвое плетью и спросил: — Сколько у тебя скота?
Угрюм ответил. По толпе стариков и женщин прокатился смешок: по их понятиям, он был беден для уважаемого дархана. Кобыл и меринов ему предложили запустить в табуны рода, телок и коров — в их стада.
Довольный поездкой, Угрюм вернулся к своему стану. Его усадили у костра, дали творогу и разваренного сушеного мяса с сильным душком: остатки коня, сбитого раненым кабаном.
К вечеру на пару с тестем они поставили юрту возле селения, отогнали свой скот и коней в стада и табуны. Десяток отощавших овец довольствовалось остатками травы возле жилья. Утром, когда еще все спали, Угрюм сложил из камней горн и развел огонь. Он еще не был готов к работе, а жители опять понесли сломанную домашнюю утварь.
Два дня кузнец работал от темна и до темна. Как мог, ему помогал Гарта Буха. Но старику хватало работы по дому. Куча сломанных вещей убыла на треть. Приковылял все тот же колченогий мужик с блестевшим от жира лицом. Постоял, глядя на работу кузнеца, и сказал:
— Хубун зовет!
Этого приглашения Угрюм с Гартой ждали с нетерпением. Без него и работа, и скот, запущенный в чужое стадо, и жизнь в селении — все было ненадежно и даже опасно.
Угрюм оттер снегом перепачканные сажей руки, следом за тестем пошел к большой юрте. Посередине ее горел очаг. Освещалась она только через вытяжную дыру и светом огня.
Когда глаза привыкли к полумраку, Угрюм увидел князца, обложенного подушками. Голова его была покрыта островерхой шапкой, шитой серебром. Лицо казалось болезненным, опухшим. Пришельцы поклонились главе рода. Тесть почтительно спросил, здоров ли хубун и множится ли его скот.
Князец раздраженно и неохотно ответил:
— Все было хорошо, пока не взбесились кони. Пришлось на полном скаку прыгать на камни, — указал кивком на пустой рукав халата и предложил сесть по другую сторону от очага. За его спиной сидели две женщины. Обе были покрыты островерхими колпаками, обшитыми соболями.
Сначала князец показался Угрюму человеком в годах, чуть моложе тестя. Приглядевшись, он понял, что тот молод, но лицо его было сильно побито.
Опухоль и синева еще только начали спадать. Тесть как старший стал рассказывать о себе: какого он роду-племени, где его кочевья и какая беда привела его семью в эти края. Гарта Буха не счел нужным что-то скрывать. Потупив глаза, сказал и о том, что его родственники перебили казаков острога, а он с зятем не участвовал в войне и не хочет страдать за свою родню.
Угрюм опасливо поглядывал на Яндокана: не осудит ли он их бегство. Но припухшее лицо князца от слов старого балаганца стало приветливей. Хубун негодующе фыркнул:
— Атха шутха! Не понимают своей удачи жить рядом с казаками!
И велел женщинам угостить пришельцев.
Когда тесть, опустив глаза, стал жаловаться, что у него неподалеку отсюда отобрали жеребца, князец скрипнул зубами и пробормотал:
— У меня десять лучших коней отобрали! Нет больше порядка на этой земле!
Догадка осенила Угрюма: уж не был ли этот князец избит теми же мунгалами, что ограбили его семью?
Яндокан сказал, что бывал у боо Герасима с Михеем. С уважением говорил о них и их вере. Ругал черных и желтых шаманов, которым одни верят, другие не верят. Разговаривал с ним тесть. Угрюм старался почтительно помалкивать и только напоследок спросил:
— Ходят ли здесь промышленные люди?
— Ходят! — как о пустячном ответил князец и махнул здоровой рукой в верховья Иркута. — Каждый год ходят. Хороший товар привозят.
Прошла неделя. О кузнеце услышали другие роды. К нему стали приезжать, и платили больше, чем здешние жители, приютившие безродного дархана с семьей. Угрюм работал с удовольствием. Вспоминал, как выручало его ремесло и в плену, и на чужбине. Понимал, что не выжить бы ему в Сибири среди балаганцев, не научись он ковать железо и плотничать.
Жизнь семьи наладилась. Овец в отаре прибывало. Угрюм с Гартой уже стали подумывать, не остаться ли с родом Яндокана до лучших времен, когда закончится война балаганцев с казаками. Они знали, что Яндоканов род ушел от своих единоплеменников из-за распрей. Их родовые кочевья были к закату. Здесь родни не было, поэтому мунгалы грабили их чаще, чем других, а буряты притесняли.
Где-то под Рождество, когда работы стало меньше, Угрюм обнес кузницу стенами из жердей и накрыл крышей. В тепле работать стало приятней. Как-то раз пришел к нему и сам князец. Он был здоров и румян, в лисьей шубе нараспашку. За наборную опояску халата напоказ был заткнут кривой кинжал. На груди висела серебряная пластина с узорами.
Угрюм поклонился и, так как князец молча осматривал кузницу, продолжил работу. Важный гость простоял долго, глядя, как старые, стертые подковы под молотом мастера превращаются в наконечники для стрел.
Наконец он поднял руку, желая говорить. Угрюм отложил молот. Князец вынул из-за пазухи литой серебряный крест, протянул его дархану и сказал:
— Сделаешь из него десять боевых тунгусских наконечников к крепким моим стрелам для тяжелого моего лука!
Угрюм повертел в руках чужой, нерусский крест и лихорадочно соображал: «Раз стрелы понадобились тунгусские, беззвучные, значит, князец замыслил недоброе».
А Яндокан, помолчав, продолжил:
— Стрелы должны быть прямые и тяжелые, в три локтя длиной. Наконечники к ним — острые, чтобы войлок пробивали!
Угрюм рассеянно закивал, пристально разглядывая крест. Как ни вышаркано было серебро, однако на нем можно было разглядеть распятье. Но Спаситель был с косой и в халате.
— Нельзя мне, крещеному, — смущенно указал глазами на распятье, — рубить крест на наконечники. Руки отвалятся!
— Пусть тесть порубит! — строго приказал князец. И всякая охота спорить с ним пропала.
Явно для мщения нужны были Яндокану стрелы с серебряными наконечниками. И если он пришел в кузницу один, значит, не хотел, чтобы сородичи знали о заказе.
— Сделаешь тайно! — подтвердил догадку дархана. — Хорошо сделаешь, дам жеребца!
«Все равно крест не наш, чужой! — кивая, думал Угрюм. — А тестю что? Он — нехристь!»
Гарта Буха в селении Яндокана повеселел и помолодел, его сутулившиеся плечи распрямились. Иногда он помогал зятю в кузнице, но больше работал по дому: увеличившуюся отару уже приходилось выпасать. Повеселели и женщины. С их лиц будто смылся кислым молоком затаенный страх, осевший в глазах после победы Куржума над казаками. На Угрюма все они смотрели как на хозяина и главную опору семьи, во всем ему помогали и ласкали.
Он осторожно переговорил с тестем о заказе князца. Гарта согласился, что Яндокан собирается мстить мунгалам, а значит, оставаться в его селении опасно. Опять надо было кочевать.
Угрюм сделал тайный заказ. Он сам ходил по лесу, выбирая прямые рябиновые и березовые побеги. Нарезал их с запасом, отобрал лучшие, просушил и выскоблил, сравняв сучки и изгибы. Вдали от чужих глаз из своего клееного трехслойного лука он пустил стрелу, и она пробила войлок с двадцати шагов, впившись в кору дерева.
Зима была на исходе. В полдень на солнцепеках оттаивала земля и капало с кровли. Угрюм выждал, когда князец будет один, подошел к нему и с поклоном сказал, что заказ выполнен, можно посмотреть.
Яндокан бросил ему отмятую козлиную шкуру и сказал:
— Принесешь рано утром, когда все спят!
Ночью шумел ветер, вздрагивал войлок и скрипела обрешетка. Угрюм поднялся первым, раздул очаг, оделся, подхватил козлиную шкуру со связкой стрел и пошел к большой юрте. Над ее вытяжным отверстием уже курился дымок. Князец ждал.
Угрюм пошаркал ичигами у входа, покашлял, спросил:
— Не спишь ли, Яндокан-баатар? Дархан пришел пожелать тебе крепкого здоровья!
Дрогнул полог, показалась женская рука, высунулась голова в колпаке, обшитом черными соболями. Молодая женщина с гладким смуглым лицом приветливо взглянула на раннего гостя, шире откинула полог, приглашая войти.
Высоко задирая ноги, Угрюм переступил через порог, скинул тулуп, комом поставил его у входа. В юрте было тепло. Князец неспешно чествовал утро нового дня, сидя возле очага, попивая горячий напиток из трав и молока.
Угрюм положил у его ног козлиную шкуру. Князец скосил на нее глаза. Молодая женщина принялась за прерванное гостем дело: стала заплетать косу на затылке Яндокана. Когда она надела на его голову островерхую шапку, хубун пошевелил головой на крепкой шее, скосил глаза на козлиную шкуру, вытянул из нее стрелу, осмотрел ее, потом другую и третью.
— Хорошо сделал! — похвалил. — Дам молодого жеребца и кобылу!
— Опробовал! — радостно похвалился Угрюм. — С двадцати шагов войлок пробил. Ты и со ста шагов прострелишь! — вкрадчиво польстил.
Полные губы князца дрогнули. Он поднял на Угрюма зрачки, блеснувшие в узких щелках глаз. Испытующе впился в него взглядом и предложил:
— Оставайся в моем селении навсегда. Будем мы богатыми, не будешь бедствовать и ты!
Угрюм смущенно опустил глаза, помялся. Он не мог сказать, что, ослепленный яростью, как Куржум, Яндокан мало думает, чем его злость обернется для народа. Оставаться под его покровительством Угрюму с Гартой не хотелось.
— У тебя в селении я сделал всю работу, — стал оправдываться. — Издалека уже приезжают и зовут там поработать.
Князец не стал ни уговаривать, ни настаивать:
— Земля большая. Выбирай где тебе лучше жить. Только одному везде плохо!
— Как узнаем от промышленных людей, что Куржум помирился с казаками, так вернемся! — добавил Угрюм, чутко прислушиваясь к голосу князца. Со своей сиротской долей вмешиваться в распрю с мунгалами ему никак не хотелось.
День был хмурый, пахло снегом. После полудня пошел дождь. К вечеру он стал просекаться мелкими снежинками, но в снег так и не перешел. Ночью ветер разогнал облака, и выдалось ясное утро.
Тесть, поглядывая на почерневший лед Иркута, сказал Угрюму:
— Если уходить, то сейчас!
Зимой они много говорили о летней перекочевке, и дело было решенным. Солнце поднялось над горами, закурился пар над мокрым войлоком юрт, над южными склонами гор с отопревшей землей.
Весь день семья дархана сушила, скатывала войлок, разбирала, связывала и укладывала остов юрты. Жителям стана они говорили, что идут к братскому князцу Нарею, вверх по течению Иркута. Обмана в тех словах не было. Люди этого князца не раз приезжали в улус Яндокана и звали дархана поработать у них.
На другой день Угрюм с тестем навьючили лошадей, привели коров, бычков и телок из стада, погнали их всех на полдень, неспешно выпасая в пути. Долина реки снова сузилась, черновая буреломная тайга подступила к берегам. Скотопрогонная дорога то и дело уходила в сторону, спрямляя извилистый путь Иркута. Новая зелень только набирала силу у самых корней, на земле. А горы становились еще выше. Но теперь все это уже не пугало путников. От приезжавших зимой людей и от Яндокана они знали, что Нарей выпасает свои стада на самом краю просторной и благодатной долины, жить и кочевать по которой почли бы за счастье все здешние народы. Но как всякое благое место на земле, долина была занята, получить в ней свой улус и удерживать его за собой мог только сильный, многочисленный и воинственный народ.
Так они шли с неделю, и открылись раздольные поляны выпасов князца Нарея. Овцы в их отаре были тяжелы. Подошло время остановиться, отделять брюхатых и дать им покой.
И снова все повторилось, как зимой. Только теперь они подходили к стадам Нарея безбоязненно. С некоторыми людьми были уже знакомы, другие слышали о семье кочующего дархана.
Нарей, толстый, веселый князец с плутоватыми глазами, принял их ласково и шумно. Он щедро угостил Гарту с Угрюмом, говорил, что работы им хватит на все лето. Они опять поставили юрту рядом с его селением и немного в стороне, у кромки леса. Угрюм сразу же принялся делать навес над тем местом, которое выбрал под кузницу, начал складывать горн. Рядом с ним с утра до вечера толклись ребятишки и росла гора поломанной, сносившейся домашней утвари.
Ковал он непрерывно почти месяц. Только после этого стали появляться дни для отдыха. Отара Гарты Бухи так умножилась, что тесть каждый день выпасал ее. Пастбища Нарея были просторней и ровней выпасов Яндокана. Но улус его со всех сторон теснил лес. Мужики Нарея с завистью говорили о просторных выпасах в верховьях Иркута, а Гарту как чужака то и дело оттесняли к лесу.
Занятый работой, Угрюм мало вникал в жизнь и заботы здешних людей. Зато тесть вызнал многое. Как щедро ни платили за работу его зятю, он понимал, что благополучие и удача князца Нарея с его людьми зависели от бурят и мунгал, кочевавших в долине. Если они не приезжали и ничего не требовали, его народ жил счастливо. Если начиналась война с киргизами или с калмыками либо усобица между мунгальскими царевичами, соседи, не спрашивая, забирали у рода коней, скот и молодых парней. Могли прихватить кузнеца, если он им понадобится.
Когда работы стало меньше, старый Гарта с зятем навестил Нарея. Сказав слова благодарности и благопожеланий, он стал выспрашивать о свободных выпасах и кочевьях.
— В одну сторону долина, — махнул князец на закат, — в другую Далай-Байгал! — указал на отрог хребта, густо заросший ельником. Он был доволен работой дархана. — Дорога туда широкая, не заблудитесь. Тунгусы там сильно злые. Зимой, в холода, они спускаются с гор. Торговые и промышленные люди ходят за Байгал-далай, но свой лучший товар продают мне. А выпасов там всего на сто голов. Расплодится сто одна — все падут от бескормицы и вы погибнете вместе с ними.
Запали Угрюму на ум слова Нарея про сто голов скота: роду не прожить, а семье можно. Он помнил исток Ангары — скалистый, горный, непригодный для жизни скотовода. Там и промышленные долго не задерживались, потому что за каждым соболем надо было лазить по крутым склонам гор.
«Выпасы на сто голов — это уже хорошо, — думал. — Да птица, да зверь, да рыба, которую жена, тесть и теща не едят. Но если вдруг станет голодно, смогут поддержать жизнь и такой едой».
Распрощавшись с людьми Нарея и с самим князцом, Угрюм погнал свой табун, стадо и отару на полдень, вверх по притоку Иркута. Здесь был прорублен бечевник. На узких, разбитых тропах с гатями и с колеей волока стругов видны были следы лошадей и скота.
Стадо и отара то и дело увязали в болотине. Лютовал овод, но не так сильно, как за Енисеем. И комар здесь был не так зол, как в низовьях Ангары. Тайга с зеленым вислым мхом на деревьях пугала. Скот голодал, то и дело сбиваясь в кучу. Ревели быки и коровы. Но тяжко идти было только два дня.
Вдруг стало больше света, пахнуло в лица влажной свежестью и открылся байкальский залив, окруженный высокими горами с густым лесом на склонах. Низинные заливные луга зеленели свежей травой. Скот привольно разбрелся по ним. Увязла в траве отара. Мужчины сняли поклажу с коней и начали устанавливать юрту. Здесь можно было стоять без всяких забот не один месяц, кормов всем хватит.
Угрюм жадно всматривался в берега Байкала, не такие крутые, какими видел их возле истока Ангары, и не так близко подступавшие к воде, как там. Он глядел на причудливый хребет, уходящий в воду мелководного залива, похожего на култышку, и чувствовал, что где-то здесь ему хотелось бы прожить с семьей всю свою жизнь. Больше никого ни видеть, ни знать он не хотел.
Глава 8
Не в добрый час прибыл в Енисейский острог новый воевода Андрей Племянников. Едва принял должность, получил государев указ восстановить Красноярский острог.
Сибирский приказ велел прежних, разосланных по службам красноярских казаков собрать и вернуть в Красный Яр. Но одни ушли на дальние службы с Бекетовым, другие с Галкиным да с Перфильевым. Иные, с енисейскими окладами, служили на Лене-реке у всесильного воеводы-стольника Головина.
Неудачливый сын боярский Андрей Племянников не успел приглядеться к старым служилым людям, а из Братского острожка, от Василия Черемнинова, с недоброй вестью прибыли вестовые казаки. Пятидесятник просил помощи, доносил, что среди братов и тунгусов учинилось непослушание: ясак давать не хотят, Куржум с Боярканом енисейских служилых людей Ивашку Колмогора, Буторку Антонова да толмача Мишку Тарского держали у себя две недели и всякое насильство им чинили.
Оголяя енисейский гарнизон, новый воевода стал собирать полсотни стрельцов, казаков и прибранных новоявленно[223]. Иван Похабов, узнав, что Братский острог опять в осаде, вызвался идти на помощь: тамошние князцы были ему знакомы. Но казаки и стрельцы вдруг припомнили обиды под Шаманским порогом и били челом воеводе, чтобы быть им под началом старого стрельца — пятидесятника Дунайки Васильева.
Спорить с казаками воевода не стал, а Иван Похабов был больше удивлен, чем обижен отказом. Но Дунайка при встречах с ним воротил нос, напускал на себя важный вид, а на лице его блуждала торжествующая ухмылка: на этот раз, дескать, не проведешь!
— Без службы не останешься! — посмеялся воевода над незадачливым сыном боярским. Он отправил перемену в Братский острог и стал собирать с ближних служб красноярских переведенцев. Как и в прежние времена, Сибирский приказ возложил на енисейцев обязанность своими силами снабжать хлебом Красный Яр. Когда-то против этой повинности, а не против самого острога боролись и отписывались енисейские воеводы.
— Краснояры так Краснояры! — равнодушно согласился Иван Похабов. Воевода приказал ему вести рожь вверх по Енисею. В такой службе было мало чести, а прибыли и вовсе никакой. — Идти-то с кем? — спросил. — Если я десяток гулящих у острога наберу, то хорошо! Больше не сыскать.
На этот вопрос новый воевода сразу ответить не смог. Он повздыхал, почесал затылок, спросил подьячего, сколько собрано красноярских переведенцев, и согласился с Иваном, что надо кликнуть охочих гулящих людей.
Но Бог не без милости, казак не без удачи! К самой нужде разбитыми гатями и топкими тропами из Маковского острога пришло три десятка ссыльных черкас и литвин. Воевода на них надеялся, но ждал не раньше осени. Он радостно встретил и ласково принял длинноусых шляхтичей. Прочитав наказные грамоты Сибирского приказа и тобольского воеводы, Племянников позвал Похабова.
— Вот тебе и люди! — сказал, облегченно крестясь на образа. — Там война с Польшей! — указал глазами на закат и потряс полученными грамотами. — Этих наш государь пленил и сослал в Сибирь не навечно. Если послужат на совесть — отпустим на родину.
Вид у ссыльных был утомленный и тоскливый. Иван разглядывал их с неприязнью. Для него русские православные люди, служившие латинянам, были хуже еретиков.
— Помню табачников! — желчно усмехался, вспоминая вольную юность. — Крикливы, заносчивы! Отдохнут, отъедятся, покажут еще себя.
— Куда им деваться? — жестко и опасливо взглянул на него новый воевода. — В воинском деле искусны. Не за нашего государя, так за свою шкуру будут воевать.
Похабов холодно посмеялся. Воевода был прав. Бежать со здешних служб можно было только на дальние государевы службы, как бежали из Тутурского зимовья Илейка Перфильев да Ивашка Ребров с Ивашкой Сергеевым. После нападения на него Куржума спаслись и сплыли к воеводе Головину Михейка Стадухин с Алешкой Оленем.
Пока ссыльные отдыхали, два десятка красноярцев да гулящие под началом Похабова конопатили, смолили и грузили барки. Дальше причала Иван из острога не отлучался. И вдруг пропал шебалташ. Он хватился его утром: хотел привычно опоясаться — нет ремня с золотыми бляхами. Помнил, что прошлым утром надевал. Снимал ли вечером — запамятовал. Утерял он золотую пряжку где-то возле острога в людных местах. Раз ее никто не возвращал, значит, не нашли или присвоили. «Ну и ладно, — подумал с облегчением. — Видать, на ветер камлал кетский шаман».
Три тяжелых барки, груженных рожью, бурлацкой бечевой и парусом пошли против течения реки к Красному Яру. Ссыльные шляхтичи держались скопом, в споры и душевные беседы с красноярцами и охочими людьми не вступали, дымили трубками, злобно отбивались от гнуса, тянули барки, не отставая от привычного к этому делу сибирского люда.
На первый ночлег отряд остановился у заимки Галкиных. Встретил бурлаков младший брат атамана Осип. После службы он был на льготе и управлял ясырями, пахавшими землю под озимь. А земли у Галкиных было десятин двести.
За две недели отдыха молодой казак переругался с ленивыми ясырями и захребетниками. Встрече с енисейцами был несказанно рад и стал жаловался Ивану, что ясыри грозят его убить, а у него уже нет сил терпеть их. Осип боялся, что схватится за саблю и порубит всех.
Пожилой бурлак из гулящих енисейских людей стал степенно корить молодого казака, что тот не умеет править работными:
— Это тебе не служилые! К тому же новокресты. К ним подход нужен, с добром да с их выгодой. Я пока дошел до Енисейского из-под Устюга, в двух слободах работал по найму. Знаю, как хозяйством правят!
Гулящий устюжанин был не молодым, но и не ветхим еще мужчиной: прихрамывал, шепелявил, потому что потерял половину зубов, зато поглядывал вокруг умудренными жизнью глазами и уже подумывал о старости.
Осип, услышав не обидные, но и не лестные для себя слова, взглянул на бурлака пристально и строго.
— Кто таков? — спросил у Ивана Похабова.
— Не пьяница, не игрок. Работал у старца Тимофея в скиту. Подрядился бурлачить доброй волей, — равнодушно ответил сын боярский.
Глаза Осипа плутовато блеснули. Как кот, почуявший поживу, он соскочил с хозяйского места в красном углу, присел на лавку рядом с устюжанином.
— Вот и останься вместо меня! — предложил с жаром. — Правь заимкой, коли умеешь. А мы с братом подати за тебя заплатим и жалованье хлебом положим!
— Так я тебе и отдал бурлака! — рыкнул Иван на соблазнителя. — По-доброму, мне бы еще десяток таких, как он.
— А я вместо него пойду! — ничуть не смущаясь, предложил казак. — Поручную грамоту составим при свидетелях, а утречком его тягло на себя возьму. Давно хотел посмотреть Красный Яр.
Похабов не нашелся как возразить. Поменять пожилого на молодого он был не прочь. Пробормотал насмешливо:
— Ой, смотри! Вернется атаман, всыплет батогов по-братски!
Иван думал, балагурит осерчавший на ясырей казак. Но нет. Осип провел устюжанина по полям и покосам, показал постройки, конюшню и скотный двор. Утром они составили поручную запись. На восходе солнца бравый казак уже шел в бечеве, а вчерашний бурлак с высокого берега смотрел вслед каравану.
Два десятка бывших красноярских служилых, возвращавшихся к прежнему месту службы, три десятка ссыльной литовской шляхты, енисейский сын боярский с казаком Галкиным да семеро охочих людей то парусом, то бечевой продолжали тянуть суда с рожью к большому енисейскому порогу.
Гулящий Ивашка Струна, выходец из калмыков, шел одной баркой с Похабовым. Его большой, губастый рот с желтыми, конскими зубами был всегда раскрыт. Маленькие и злые медвежьи глаза пристально обшаривали берег.
— Печенкой чую! — визгливо крикнул Похабову, облизывая толстые губы. — Конные люди идут за нами берегом. Глянь! Глянь! — указал на береговые заросли. — Ветра нет, а кустарник шевелится!
Ивашка в Енисейском остроге объявился недавно. Он беспрестанно ругался тонким, как звон струны, голосом, имел дурную славу игрока, смутьяна и пьяницы. Никто из гулящих поручиться за него не хотел. Похабов взял его из нужды и от безлюдья. Крест на шее Ивашка носил, но в церковь зашел только для крестоцелования, будто по принуждению исповедовался и причастился в путь, на верность товарищам по походу приложился вывороченными, сомовьими губами к Честному Кресту и Святым Благовестам.
Поп Кузьма поглядывал на него с тоской, а перед выходом шепнул Похабову, указывая глазами на Струну:
— Зело хитер и коварен! Смотри за ним в оба!
Сын боярский недоверчиво осмотрел кустарник берега. Ему тоже показалось, что ветки ивняка шевелятся, будто под ними идет толпа или едут верховые.
— Может, и следят! — согласился с гулящим. — Если нападут, то ночью или около порога.
Не ошиблись ни Похабов, ни Струна. Возле большого порога при шуме воды на песчаную отмель выскочило до сотни всадников. Пригибаясь к гривам, понеслись на бурлаков, на скаку стреляли из луков. Наметанным глазом красноярцы высмотрели среди них и киргизов, и тубинцев, и моторцев, и кашинцев.
Ссыльные черкасы и литвины, не дожидаясь команды, похватали пищали и укрылись за баркой. Пока красноярцы зажигали фитили, они дали залп по всадникам, приложив к запалам раскуренные трубки. После залпа вставили тесаки в стволы, бесстрашно вышли из-за барки в мокрых штанах и встали шеренгой. Выскочившие из порохового дыма всадники напоролись на булат их клинков, сбились в кучу. Тут дали залп красноярцы.
Бой длился недолго. Нападавшие после второго залпа развернули коней. Поредевший воровской отряд отхлынул и помчался к лесу. Преследовать его Иван не велел. Ржали раненые кони. Одни, потеряв всадников, носились по отмели, другие метались, волоча за собой убитых.
Служилые переловили коней, взяли ясырей из раненых. По общему решению всю добычу отдали ссыльным. И только Ивашка Струна визгливо орал, доказывал, что он первым упредил о нападении и первым бросился на воров.
Охочие, служилые и ссыльные смеялись:
— Было дело! Упреждал! И бросился первым, бесстрашно. Но только с шестом!
— Да шест против конных верней пищали! — бесновался Струна и брызгал слюной.
Ссыльные, увидев раздор из-за добычи, доброй волей отдали ему легкораненого ясыря. На том Ивашка успокоился. Остальное черкасы и литвины поделили между собой по своему обычаю.
На месте Красноярского острога все они без труда продали ясырей и лошадей, сдали рожь прибывшему из Томского города воеводе. Красноярские переведенцы остались под его началом. Ссыльные и охочие, помолясь Святой Троице, Богородице, Николе Чудотворцу и своим святым покровителям, поплыли вниз по реке на легких, разгруженных барках. Осип Галкин в пути сдружился со ссыльными, плыл среди них и ночевал у их костров.
Чем ближе подходили барки к заимке Галкиных, тем чаще Осип вспоминал оставленного устюжанина. Посмеиваясь, обещал устроить всем богатое застолье, если, конечно, ясыри и работные не разбежались и не сожгли, не разграбили заимку. Он ничуть не сомневался, что охочий, которого сменил в отряде, все лето чесал брюхо и бездельничал на его кормах.
Барки пристали к берегу возле устья речки, по берегам которой был земельный надел атамана. Оставив возле них небольшую охрану, Похабов разрешил всем отдыхать на заимке.
Осип с важным видом принял поклон устюжанина: втайне он был рад и тому, что тот не в бегах. Приказал топить баню и готовить стол для товарищей. Сам пошел проверять хозяйство.
Вернулся он с удивленным и веселым лицом, когда в его бане парились литвины вперемежку с охочими. Оглядывая служилых, казак восторженно поднял палец к небу и почтительно уставился на устюжанина:
— Первый раз вижу гулящего не вора, а работящего хозяина. И чего тебе, такому справному, в Устюге-то не сиделось?
Устюжанин, услышав похвалу, повеселел, горделиво приосанился. Но от нечаянного вопроса сник, пробормотал что-то о судьбе. Пытать его о прошлой жизни Осип не стал. Он был так доволен хозяйством, что почел за счастье передать его в умелые руки. На радостях достал из тайного погребка бочонок с ягодным вином, выбил пробку, попробовал вино сам, дал попробовать устюжанину, крякнул от удовольствия и предложил:
— Оставайся совсем! А я в острог, на службы!
Люди Похабова досыта наелись баранины и ржаной каши, напились квасу и вина, которое разливал и подавал бывший бурлак. Все хорошо отдохнули под кровом и утром отправились дальше. Когда они прибыли в острог, берега Енисея уже вызолотились желтым листом. Подступала осень.
Перед Крещением, в самый разгар зимних праздников, когда от веселья отяжелела голова, приснилось Ивану, что полез за печь, а там — шебалташ. Проснулся он до рассвета, на полатях. Жена лежала под боком. Дети спали. Уже и думать забыл о чудной безделушке, но снова стояли перед глазами бесовские бляхи, которые носил много лет.
Уснуть Иван так и не смог, ворочаясь с боку на бок, дождался, когда поднимется жена и затопит печь. Наконец она раздула огонь, поставила под образа сына и дочь, велела мужу читать молитвы начальные. Иван неприязненно отмахнулся:
— Сама читай! — и с горящей лучиной полез за печь.
Он убрал старый шушун, отодвинул седло, все заплесневелое, давным-давно брошенное женой в кучу. Заглянул в щель, там тускло блеснуло золото. Сон был в руку.
— Ни дна тебе, ни покрышки! — тихо выругался, вытаскивая шебалташ с позеленевшей кожей ремня. «Вот же пристал! — подумал с тоской. — Нет, не на ветер камлал кетский шаман. Знал, что говорил!»
И томило его душу недоброе предчувствие до самой весны, а она застала сына боярского на Тасее. Прошел лед. По наказной памяти воеводы Похабов повернул от устья Тасееевой реки в Рыбное зимовье на Ангаре. Другой год здешние тунгусы исправно платили ясак и не заводили смут. В зимовье, на высоком скалистом берегу, жили два старых стрельца и казак Лапа Гаврилов.
Служилые радостно встретили Похабова с его людьми. Натопили баню. Угощая приевшейся до оскомины рыбой и ухой, осторожно сообщили о смутных слухах.
— Верь не верь, что слышали от верных ясачников, то говорим, — потупясь на скобленую столешницу, сказал Лапа при молчании товарищей. — Будто два казака, посланные зимой Дунайкой Васильевым с его отписками в Енисейский острог, до нас не дошли. Одни говорят, будто они померли в пути от голоду, другие — будто их тунгусы пограбили.
— А наши тунгусы будто слышали про это от аплинских! — поддакнули стрельцы. — Что правда, что не правда — разбери-ка?
— Скажу воеводе про слухи. Пусть думает, — отдуваясь после бани, пообещал Иван. Распаренный, румяный, он не спешил хлебать уху, а попивал квас да утирал лоб рукавом рубахи. Подумав, спросил: — А где они сейчас, те тунгусы?
— Ищи ветра в поле! — в один голос зашумели годовалыцики.
Иван с тремя спутниками отдохнул, принял ясачные меха и поплыл вниз на легком, четырехвесельном стружке. Утки и гуси косяками носились над рекой, кормились на отмелях и у берегов. Казаки стреляли из луков только тех, что были перед судном, за добычей не гонялись. Вечерами пекли уток на углях костров впрок, на весь следующий день.
Неподалеку от острога, на Енисее, возле островов, приметили они спешно догонявшую их берестянку с одним гребцом. Иван велел казакам пристать к берегу и ждать. Вскоре они узнали в лодке того же Лапу Гаврилова из Рыбного зимовья. Он догонял казаков с новой вестью. Подгреб к стружку, схватился за борт. Не переводя дыхания, заговорил:
— Только вы уплыли, через день пришли к нам тунгусы с жалобой, будто браты не велели им давать ясак в Енисейский острог, а приказали платить Куржуму, Котуге да Коногору. И грозили побить их, если ослушаются. При том похвалялись, что всех казаков в Братском перебили, никто живым не ушел!
Лапа замолчал, вглядываясь в лицо сына боярского. Тот недоверчиво кряхтел и чесал бороду:
— Надо, однако, к воеводе плыть!
Загудел Енисейский острог от страшной вести, хоть и не было ей очевидцев. Десяток служилых, казачьи жены, церковный причт, мужской и женский скиты передавали друг другу похвальбу братских мужиков. Одни молились, другие подвывали с растерянными, отчаявшимися глазами, третьи просто молчали. От тех слухов воевода Андрей Племянников за несколько дней постарел и осунулся.
Никаких других вестей от Дунайки не было. Ясак он не присылал. Бездействовать и ждать посыльных из Братского острога становилось опасно. Все понимали, если слух подтвердится, придется нынешнему воеводе за свою медлительность ехать в Москву в цепях.
По другим слухам, с Кети в Енисейский острог шел новый отряд пленных ляхов и черкасов. Сын боярский Николай Радуковский спешно собирал с ближних служб казаков и стрельцов, оголял посты на тайных путях промышленных людей.
Иван Похабов по наказу воеводы снова кликнул охочих из гулящих и промышленных людей. Выбирать не приходилось: брал всех, кто соглашался идти в Браты без жалованья, за прокорм в пути и за боевую добычу.
— Полтора десятка! — ввалился в съезжую избу. Торопливо перекрестил лоб, откинулся на лавку. Добавил с неприязнью: — Отъявленная пьянь да голь: крест на шее, плошка да ложка.
— И то! — поднял красные от бессонницы глаза воевода. Виновато вздохнул, тоскливо взглянул на темные образа. — Бери их под свое начало! — Помолчав, добавил: — Зря я прошлый год послушался казаков и стрельцов! Опять же, послал бы тебя против их воли — тяжко бы было с ними.
— Тяжко! — согласился Иван. — Я бы и не пошел наказным атаманом! Наатаманился еще при Хрипунове.
— От ссыльных приходили выборные. Просили себе в атаманы Осипа Галкина, — тверже взглянул на него воевода.
— Добрый казак! — похвалил его Иван. — Умел с ними ладить, когда в Красный Яр ходили. А мне охочих кому другому отдать никак нельзя. Обидятся! Сам заманил, самому вести!
— Вот это правильно! — встрепенулся воевода. — По-христиански!.. А служилых людишек, которых я собрал с ближних служб, пусть ведет пятидесятник Черемнинов. Он недавно из Братов, знает, кого казнить, кого миловать и как к острогу подойти.
Иван кивнул, соглашаясь, что служилых должен вести Василий. Воевода с облегчением пошутил, болезненно улыбаясь:
— А что синяк под глазом?
— Так я же в кабаке прельщал идти на братов! — поморщился Иван.
— И то! — опять взглянул на образа воевода. — Со ссыльными да с охочими сотня набирается. Пишу вот в Томский, — потер перед носом пальцы, испачканные чернилами. — Прошу прислать служилых. Атамана Галкина на Лене переменить некем. Перфильев другой год без перемены. Острог остается без гарнизона. Самому в караулы ходить придется. Вся надежда на сотника Бекетова, если вернется к осени.
Черемнинов собрал всех, кто мог тянуть бечеву. В его отряде оказались Филипп Михалев, Михейка и Якунька Сорокины. Конокрад посапывал выдранными ноздрями, гнусаво потешался:
— Михейка Стадухин на Лене под воеводой Головиным. Который год не возвращается, а тут служба — в самый раз для него!
В Енисейский острог пришел с толпой гулящих младший брат Сорокиных, Антип. Был бы при остроге впусте оклад служилого, поверстали бы и его. Но не было окладов. Антипа взял Иван Похабов. Ивашку Струну тоже прибрал и Ваську с Илейкой Ермолиных, вернувшихся с промыслов с бедной добычей. Хоть и зловредные были людишки, но известные. Пришлось ему взять в отряд охочих, которых никто в остроге не знал. Их он опасался больше, чем знакомых смутьянов.
Дымили костры на берегу. Ссыльные, служилые и охочие смолили струги и барку. Суда были сплошь плохонькие, разбитые переходом из Тобольска. Снасти того хуже: веревки рваные, паруса сопревшие. Выбирали лучшее. Воевода с подьячим про запас ничего не таили.
Иван издали высмотрел в отряде Черемнинова Филиппа Михалева. Они давно не виделись, оба уклонялись от встреч. А если нечаянно встречались — приветствовали друг друга, но в разговоры не вступали. Стеной стояла между ними Савина. Может быть, знал Филипп о ее грехе. Может быть, Ивану только казалось, что знает. На этот раз, подходя к отряду Черемнинова, он поприветствовал всех общим поклоном, а старого казака — отдельно. Тот ответил как обычно: ни хмуро, ни весело.
— И ты воевать? — хотел было пошутить Иван. — От молодой-то жены? В Браты?
— А то как же? — строго ответил Филипп, слегка смутив Ивана. — Нам Бог велел служить до сноса.
— Вдруг цел острог! — присел рядом с ним Похабов, хотя начатый смехом разговор не получался. — Всякое бывает: пропали вестовые в пути, вот и ходят ложные слухи? Обратно-то придется на лыжах идти или там ждать весны!
— Ничего, перезимуем! — дружелюбно пробурчал Филипп.
Иван посидел еще, не зная, что спросить. Гадал про себя: «Неужели доброй волей от Савины уходит? Или ему с ней несладко?» О себе же подумал с усмешкой: «Дал бы Бог такую жену, наверное, напросился бы куда-нибудь в слободу, в тихое место. Вдруг и землю пахать бы стал?»
Ныла под сердцем неизбывная тоска по неудавшейся семейной жизни. Неделю всего-то пробыл в остроге. Две ночи пьянствовал, три — жена провела у скитниц на всенощных бдениях. За бедность она его уже не корила, но выставляла напоказ всякую нужду: ходила в латаном-перелатаном сарафане, скрывала лицо черным платком. О детях больше заботилась жена Терентия, чем она сама.
Теперь Меченка не скандалила, чаще помалкивала. На вопросы отвечала односложно и равнодушно: «да» и «нет». Притом совсем не набожно и не благостно щурила бирюзовые глаза. В супружеской постели после долгой разлуки со скрытым злорадством объявила мужу, что восчувствовала призвание к монастырской жизни. Как ни плоха была жена в прежние годы, но в нынешнем своем обличье стала для Ивана еще хуже.
Поговорив с Михалевым о пустячном, он так и не решился спросить про Савину. Помолчав, встал и направился к своим стругам.
Хлебный оклад воевода давал отряду на год. Если Дунайка с годовалыци-ками окажется жив, то Похабов с охочими должен был вернуться с ясаком. Если слух подтвердится, велел сыну боярскому Николе Радуковскому казнить изменников с милостью: привести к покаянию, повиновению и новой присяге. Народы, прежде не платившие ясак, приводить под государеву руку.
После обычного молебна об отплытии Радуковский надел шапку и махнул рукой. Первыми двинулись струги Черемнинова. За ним пошли барка и струги ссыльных Осипа Галкина. Замыкал караван Иван Похабов с охочими людьми.
Далеко впереди отряда неслась молва о сотне казаков, идущих к острогу. Верные тунгусские роды спешили навстречу, под защиту лучи, мятежные бежали. И чем дальше уходил отряд, тем меньше оставалось надежд, что Дунайка Васильев со своими людьми жив.
На устье Илима к каравану вышел с повинной тунгусский князец Иркиней. Зная его коварство и вероломство, старые казаки глядели на тунгусское посольство настороженно и неприязненно.
Иркиней с пятью мужиками безбоязненно подъехал на оленях к бечевнику. На его испещренном татуировкой лице сияла невинная белозубая улыбка. Поверх шелковой рубахи среди жаркого лета на плечи князца была накинута соболья шуба.
Наметанным глазом Иркиней высмотрел среди казаков атамана. Подъехал к барке, к важно глядевшему на него сыну боярскому, вынул из кожаного мешка связку черных соболей, встряхнул их, подал Радуковскому и указал пальцем на язык.
Сын боярский кликнул толмача Митьку Шухтея из гулящих людей Ивана Похабова. В Енисейском остроге Митька похвалялся, что может говорить с тунгусами и братами. Жалованья он не получил, но после похода ему как толмачу воевода обещал выхлопотать оклад.
Митька радостно бросил бурлацкую бечеву, побежал на зов Радуковского. Ивашка Струна обидчиво глядел ему вслед сузившимися глазами.
— Я по-калмыцки и по-киргизски толмачу, что с того? — сипел, оглядывая утомившихся бурлаков.
Солнце палило во всю мощь. У воды лютовал овод, ревел, носясь над головами, радужно облипал на спинах и на плечах бурлаков. Подтянув суда к берегу, они отмахивались от гнуса, топтались на местах, не зная, сколько придется стоять.
Тунгусы тут же развели дымокуры и уткнулись в костерки татуированными лицами. К ним жались олени, всовывая морды в клубы дыма. Как ни дымили трубками ссыльные, гнус жрал их пуще енисейцев. Отмахиваясь в две руки, они по примеру тунгусов побросали постромки и стали раздувать дымокуры. За ними начали разводить костры другие бурлаки.
Разговор на барке тянулся долго. Иван ждал, что Радуковский позовет его и Черемнинова — людей бывалых в этих местах. Но тот не звал. Наконец на берег сошел Иркиней без шубы. За ним Митька Шухтей. Следом спустился по сходням атаман в раскаленной солнцем кольчуге.
Иркиней оставил двух вожей из своего окружения. Остальные его мужики сели на оленей и скрылись в лесу. Радуковский подошел к дымокуру, в который уткнулись лбами Похабов с Черемниновым.
— Илимского князца Иркинея знаете? — спросил, присаживаясь.
— Как не знать? — кашляя и шмыгая носом, просипел пятидесятник. — В этих самых местах привечал нас с Хрипуновым и атамана Перфильева. И не илимский он, тасеевский!
— У тунгуса вся тайга — родина! — пояснил Радуковскому Иван.
Тот смахнул рукавицей с горячей кольчужки облепивших плечи оводов, вскинул глаза на Черемнинова:
— Хочет снова служить царю. Ясак за два года дал и вожей. Говорит, слышал, будто острог вырезан. А заводчик всей смуте — балаганец Куржум. С ним Кадым, зять его.
Пятидесятник, вытирая рукавом слезы, застилавшие глаза от едкого дыма, добавил:
— Может, и Кандукан с Оки с ними. Шаткий был князец.
— Разберемся! — Радуковский шлепнул себя по щеке рукавицей. Не выдержав атаманского степенства, тоже сунул нос в клубы дыма. — А еще сказывает Иркиней, что Куржум с окинскими и удинскими братами да с мунгалом Едокой в ссоре. Будто его, Иркинея, в яме держал, потому что отказался помогать в войне. — Атаман прокашлялся и добавил: — Смекайте! Если не лжет, у нас есть подмога, и большая!
— Если не лжет! — выругался Черемнинов. — Таких изменников, как Иркиней и его покойный брат Тасейка, свет не видывал. Лукашку, сына его, надо было аманатить!
Солнце висело в зените и палило нещадно. Караван продолжил путь к Шаманскому порогу. К вечеру подул ветер, разогнал гнус. По крутым берегам качали верхушками высокие, стройные сосны с редкой примесью лиственниц. На третий день при гулком рокоте воды на пороге суда подошли к острову, на котором был похоронен Яков Хрипунов.
Пожарище на месте бывшего зимовья густо заросло осинником. Иван Похабов с Филиппом Михалевым, не сговариваясь, пошли искать могилы казачьего головы и убитого стрельца Поспелки. Они нашли обновленный Перфильевым крест. Обошли его трижды, крестясь и кланяясь, сели у изголовья казачьего головы.
— Спишь, кум! — при шуме воды пробормотал Иван. — Ну и спи! Настена хозяйка добрая, в женах славная. Внука тебе родила. А я ему — крестный. Поди, не раскумимся, раз уж ты помер?
Филипп молчал, клоня к заросшему холмику седеющую голову. Он думал о своем. Так и не получалось у них с Похабовым душевных воспоминаний о зимовке на этом самом острове. Чудилось Ивану, будто между ними стоит Савина с виноватой и смущенной улыбкой.
Все, кто ходил через Шаманский порог, в голос уверяли атамана, что невозможно провести барку среди камнебоев. А тут еще снасти вконец изорвались, паруса, залатанные сырыми кожами, то и дело расползались по швам. Проходы между камней были мелкими. Река на пороге кипела, бушевала и пенилась, далеко по округе разносился ее грохот.
С бывалыми людьми на ертаульном струге Радуковский подошел к самым камнебоям, осмотрел бурлящий поток и согласился, что дальше можно идти только на стругах. Вернувшись, он оставил на острове барку, десяток ссыльных черкасов и казака Филиппа Михалева.
Тут лишь Иван разглядел, что старый товарищ плох. Подозревая в неприязни к себе, он не заметил, что у Филиппа будто вымороженные глаза. Не только с Иваном, со всеми служилыми старый казак разговаривал неохотно. Всякую свободную минуту старался уединиться и полежать. Черемниновские люди давно примечали, что Михалев шел на бечеве, превозмогая недуг.
Семь десятков ссыльных и служилых да охочие люди Ивана Похабова с вожами Иркинея двинулись дальше. С молитвами они провели струги через порог, подошли к месту давней засеки, там остановились на ночлег. В поднявшемся березняке Иван отыскал могилу Вихорки Савина. Холмик зарос деревьями, но почерневший крест был цел.
В низовьях реки, на которой был убит Вихорка, стояло три тунгусских чумадю. Увидев множество стругов и служилых, жители урыкита бросились в лес. В чумах остались их нехитрые пожитки и старики со старухами.
Черемнинов с вожами Иркинея и Митькой Шухтеем подошел к стану, заглянул под пологи кочевых балаганов. Вожи назвали мирный род, плативший ясак в прежние годы. Сказали, что в верховьях реки, где выпасы бедные, кочует какой-то братский род, который никому не платит ясак.
Гоняться за здешними тунгусами и братами было некогда и некому. Караван судов пошел под Долгий порог. После полудня Похабов приметил, что у Ивашки Струны лицо синее, как у утопленника. До сих пор он не замечал в своем отряде большого непорядка. Ругались, иной раз дрались из-за пустяков. Ивашка Струна тайком попивал настой табака и, дурной, задирал Илейку Ермолина. Тот трезвый снисходительно терпел его выкрики и тычки. Но и трезвое терпение было небесконечно.
— Что, крикун? — жалостливо посмеялся Иван над выходцем из калмыков. — Поганый язык выпросил-таки гостинец морде?
Струна бросил на сына боярского разобиженный взгляд. Шевельнул насупленными бровями. Губы его были разбиты и поджаты. Похабов снова хохотнул, сочувственно покачав головой. В мелочные споры подначальных людей он не входил, их обид друг на друга не разбирал: был доволен уже тем, что они не отстают от отряда.
И вдруг Иван приметил больше, чем разбитое лицо Струны. Васька Бугор глядел на него с ненавистью. Илейка сжимал и разжимал кулаки, скрежетал зубами, как при сильном недопитии. Другие охочие, вчера еще заискивавшие, поглядывали на него неприязненно и зло. Только толмач Шухтей да Антипка Сорокин опасливо жались к нему.
Так они шли день и другой. А вечером при грохоте воды будто прорвало плотину: охочие люди обступили сына боярского. Васька Бугор сипловато заревел:
— Чего ради терпим? Другой месяц тянем струги за один только прокорм. А жалованья нам государь не сулил?
— Почто не погнались за беглыми тунгусами? — комаром пропищал Ивашка Струна, прижимая ладонью коросты на губах. Хоть и бит Ермолиными, но был заодно с ними. — Почему не вызвался ясачить братов, про которых вожи говорили?
— Атамана спросите! — мирно ответил Иван и указал глазами в сторону костра Радуковского.
— А ты кто? — громче заревел Бугор, перекрывая рокот порога. — Сходи да спроси! Пусть нас ертаулами пошлет! Вдруг чего и добудем!
— Спрошу! — покладисто согласился Иван, поднялся, к разочарованию разъярившихся людей, подумал с опаской: «Если отпустить одних, передерутся между собой».
Он подошел к атаманскому костру в нужное время. Радуковский, завидев его, нетерпеливо помахал рукой.
— Как раз про тебя говорим!
Рядом с атаманом кружком сидели Василий Черемнинов, Осип Галкин, Михейка с Якунькой Сорокины.
— Надежды нет, что Братский острог цел! — пояснил атаман для Ивана. — Говорим, что Куржум не дурак и ждет нас.
— Совсем не дурак! — согласился Похабов, скрывая свое близкое знакомство с князцом. — На Тутуре в аманатах был, наш язык знает!
— Как бы нам на засаду не наткнуться! Надо ертаулов послать!
— Мои охочие рвутся, аж буянят! — Иван придвинулся к атаману и добавил: — Ссыльных лучше при стругах оставить. А нам бы налегке уйти!
— Почему ссыльных? — обидчиво вскрикнул Осип. — Да они в бою не в пример кое-кому из старых казаков, не то что гулящим. — И съязвил: — Среди твоих, поди, половина не знает, как пищаль заряжают!
Иван кивнул с пониманием. Если останутся при стругах ссыльные, с ними должен был остаться и Осип Галкин. Спорить Похабов не хотел, а своих выгораживать не старался.
— Войны всем хватит! — осадил Осипа Радуковский. — Как бы не случилось так, что мы подойдем к острогу, а Куржум — к нашим стругам. Тут-то и надо постоять крепко, как умеют твои люди! — строго взглянул на Галкина. Тот сник, понимая, что сын боярский прав. Радуковский продолжил, поглядывая то на Похабова, то на Черемнинова: — Наберите из своих людей по десятку. Пусть каждый возьмет вожа. Пойдете двумя отрядами. А тебе, — строго взглянул на Ивана, — пятидесятника Черемнинова слушать. Он недавно здесь был, знает, кого казнить, кого миловать. Нельзя невинных побить!
Похабов вернулся к своему костру, присел с озабоченным видом. Глубокая морщина пролегла по переносице между бровей.
— Ну что? — обступили его охочие.
— Пойдете ертаулами. Десять человек. Остальные будут караулить струги.
— Давно бы так! — веселея, вскрикнул Васька Бугор. — А то идешь себе по бережку, будто в штаны наложил. На кой нам такой атаман: кашу есть да воздух портить.
И эти обидные слова стерпел Похабов, вспоминая наставления о христианском милосердии. Но со скрытым злорадством объявил:
— Сами решайте, кому идти, кому остаться!
Сказал и равнодушно разлегся на подстилку из бересты, надел на голову сетку из конского волоса, укрылся кафтаном, не желая слушать споров. Августовская ночь была тепла. Беззвучно ползала по сетке мошка. Оттого казалось, сонно гаснут и вспыхивают звезды.
Охочие утихли за полночь. Кидали жребий, ругались, тихонько дрались. На рассвете они бодро поднялись и раздули костер. Ивашка Струна был со свежими царапинами на носу, но весел. Двое гулящих, пришедших в Енисейский острог весной, смущаясь синяков и ссадин на лицах, глядели на Похабова с укором.
— Разобрались? — равнодушно спросил он. — Кто пойдет?
Бугор стал перечислять самых отъявленных скандалистов. Среди них Ивашку Струну. Назван был в ертаулы и Антип Сорокин, ничем не выделявшийся среди бурлаков.
Подкрепившись молитвой, едой и питьем, десяток служилых и десяток охочих людей под началом пятидесятника Черемнинова и сына боярского Похабова получили наставления атамана, взяли оружие и пошли в гору, в обход порога. Впереди шли тунгусские вожи со связанными за спиной руками. Они двигались осторожно, высматривая засады и взведенные самострелы.
Скатилось на запад солнце. Дойти до острога к ночи отрядам не удалось. Вспоминая Ермакову гибель, уже в сумерках служилые и охочие нашли бурелом, через который беззвучно не пройти ни зверю, ни тунгусу. Ночевали без костров, меняя караулы, переговаривались шепотом. Ночь выдалась безлунной и темной. Порывы ветра качали верхушки деревьев, гнали по небу облака. Несколько раз начинал накапывать дождь, но, по молитвам, так и не пролился в ливень.
Едва подали голос сонные пташки, ертаулы подкрепились хлебом и двинулись дальше. Оба отряда шли размеренно, перебрасывая с плеча на плечо ручные полупудовые пищали. Тунгусские вожи стали двигаться осторожней: мелкими и быстрыми шажками бесшумно вырывались вперед, останавливались, замирали, прислушивались.
Отряды снова вышли к реке. Иван стал узнавать приострожные места. До полудня открылась гора с вырубленным лесом, с черными, обгоревшими надолбами на склоне. За ними темнела гарь бывшего острога, избы и амбар, осевшие грудой головешек.
Отряды разделились. Тот и другой до полудня не выходили на открытые места, осматривали окрестности, прислушивались. Затем по уговору Черемнинов со служилыми пошел к сгоревшему острогу лесом, а Похабов с охочими двинулся напрямую, берегом, яланными полянами и просеками. Никто на его отряд не напал.
Охочие люди с вожем и сыном боярским поднялись на гору. Крестясь и кланяясь на восток, подошли к сгоревшим надолбам. Черными зубьями они торчали из выжженной земли. Возле них, там, где Перфильев принимал и угощал куржумовских братских мужиков, буйно поднялась трава. В ней белели тонкие человеческие кости. Кости были и среди головешек острога. Черные, обгоревшие, они рассыпались от прикосновения.
Из леса тихо вышел отряд Черемнинова. Вожам развязали руки, они присели на корточки, равнодушно поглядывали на лучи, крепкими зубами покусывали стебли травы.
— Похоже, выманили Дунайку из острога! — тихо сказал пятидесятнику Иван.
— На мякине провели! — насмешливо просипел Ивашка Струна. — Я все их хитрости знаю!
— Вот ведь! — перекрестился Похабов, не оглядываясь на Ивашку. — Дунайка, сколько его помню, всегда всех подозревал в хитростях.
— Видать, чуял судьбу, да не с той стороны! — вздохнул Черемнинов, тоже перекрестился, взглянул на солнце. — Хоронить поздно, и не стоит до подхода всех наших людей. Атаман ждет!
— Я думаю, подъехали князцы с десятком мужиков. Показали мешки с ясаком, — презрительно, как о чужих, и неприлично громко завизжал Струна. — Одарили тех, кто вышел к ним. Стали мясо варить, — кивнул на кости в траве, — зазывали на пир. Казаки на подарки падки. Доверились. Выпили по чарке, размякли душой, целоваться полезли, — Ивашка скривил толстые губы, цыкнул сквозь зубы. — Аманатов не обыскали, усовестились после подарков, как это за вашими водится.
— Попищи тут! — прикрикнул на него Черемнинов. — Осерчают покойники, придут ночью, ятра оторвут!
Струна осклабил большой, губастый рот в редкой, как у братского мужика, бороденке.
— Не оторвут! — злобно пискнул. — Руки короткие и обгоревшие!
На разговорившегося спутника со всех сторон зацыкали свои же охочие люди. Притом боязливо крестились, озирая окрестности. Служилые потянулись по склону к реке. За ними, накрываясь шапками, стали спускаться от пожарища и другие ертаулы. На берегу они обмылись водой, сели кружком.
— До ночи к своим не успеть! — громко сказал Черемнинов. — Где ночевать будем?
— Подальше отсюда! — зароптали служилые и охочие, неприязненно поглядывая на Ивашку Струну. Тот презрительно ухмылялся и скалил зубы.
Решили возвращаться тем же путем наперекор Струне, предупреждавшему, что если браты их высмотрели, то ждут на старом стане. Отряды шли быстро. К сумеркам они добежали до бурелома. Осмотревшись, развели костер. Все были молчаливы и хмуры. Васька Бугор до полуночи ворочался с боку на бок, бормотал, зевая:
— Кожей чую, покойники за нами идут! Обиделись, что бросили их!
— Ты бы к ночи-то!.. — боязливо укоряли его служилые.
— Ивашка Струна — язык поганый! — приглушенно выругался Похабов, сидя у костра бок о бок с Черемниновым. — Но он прав! — вскинул усталые глаза на товарища.
— Судьба! — вздохнул пятидесятник. — Чуял Дунайка, что примет погибель от коварства, не знал, от кого и где! — Василий зевнул, крестя рот, и лег ногами к огню.
Менялись караулы. Ночь прошла спокойно. На другой день после полудня ертаулы вернулись к отряду под порогом. Нападений в пути не было.
Бог миловал, Никола Чудотворец, покровитель всех сибирцев, прямил отряду. Без нападений и воинских стычек люди протянули струги через Долгий порог, подошли к сожженному острогу. В виду гари атаман велел укрепиться засекой и ночевать. Утром, оставив на стане десяток ссыльных, Радуковский повел людей к черневшему пожарищу. Похабов велел остаться при струге Струне.
— Чтобы не болтал нелепицы!
— Ну и ладно! — ухмыльнулся зловредный гулящий. — Досплю! — потянулся к одеялу.
— Я тебе посплю! — пригрозил Иван. — Бери топор, укрепляй засеку. Не то оставлю в караульных!
Ивашка неприязненно сверкнул глазами, но спорить не стал.
Литвины, черкасы, казаки и охочие были уже на горе. Увидев человеческие кости в траве, они снимали шапки, крестились, кланялись на восход. Похабов подошел одним из последних. Тоже скинул шапку. Постоял молча, вспоминая, каких трудов стоило людям Перфильева поставить острог вокруг изб.
— И спешить надо, — осеняя себя крестным знамением, громко объявил Радуковский. — И уйти, не похоронив убитых, нельзя. Бога прогневим!.. Вот здесь копать могилу! — указал место. — Всем, имея христианское сострадание, собирать кости, тесать крест, колоду. Или сколько их понадобится. — Склонился, раздвинув руками высокую траву, первым поднял тонкую человеческую кость: — Господь милосердный разберет, чья!
Люди сложили оружие и молча разошлись, каждый по зову души: собирать ли кости, тесать ли крест и колоду, копать ли могилу.
— Здесь камень! — кивнул на указанное атаманом место Черемнинов. — Мы брали глину ближе к реке. Там копать надо!
Вечером все прибывшие к сожженному острогу сидели у костров, поминали покойных кашей и ухой. Тихо разговаривали.
— Много голов проломленных! — тоскливо оборачивался к желтому кресту на горе пятидесятник Черемнинов. — Может, опоили чем?! А потом били, как скот.
— Нече нехристей за дураков держать! — злорадно просипел Ивашка Струна, будто поучал покойников. — Они на всякие коварства горазды!
У костров притихли. Похабов недовольно крякнул и метнул на Ивашку недобрый взгляд. Якунька Сорокин, то и дело ссорившийся со Струной, наставил на него нос с выдранными ноздрями.
— Своих, охочих поучай! — процедил гнусаво. — А погибшие не тебе чета, больше десяти лет были на енисейских службах.
— Утром выходим! — властно прекратил раздор Радуковский. — Через гору пойдем пешими! Не может того быть, чтобы Куржум нас не ждал. Десяток своих людей оставим здесь, при стругах, в засеке.
Похабов снова метнул на Струну строгий взгляд. Тот заерзал на месте и умолк на полуслове, собираясь что-то сказать Якуньке.
Утром Осип Галкин оставил в засеке десяток своих ссыльных. Радуковский дал им наказ: с рвением караулить струги и хлебный припас. А будет возможность, искать среди головешек острога и в траве кости. Вдруг не все похоронили.
Шесть десятков служилых и охочих взяли на плечи по пуду ржи, соль, крупы, оружие, топоры и двинулись в гору, в обход Падунского порога. Впереди шли вожи Иркинея. На этот раз руки им не связывали, но следили за каждым шагом и убегать вперед не давали.
Солнце катилось к зиме, заметно убавился день. Отлютовал и пропал овод, комар стал ленив, но гуще и злей роилась мошка. Шесть десятков казаков и охочих не могли двигаться без шума. Радуковский решил послать вперед Василия Черемнинова с его людьми. Узнав об этом, охочие Ивана Похабова зароптали. Пуще всех шумели Ермолины с Ивашкой Струной.
— Воевать звали или рожь таскать?
Пятидесятник Черемнинов неожиданно поддержал смутьянов:
— Пусть со мной идут, — кивнул на Ермолиных с Ивашкой. — Да толмача дай, на всякий случай.
Названные им люди с готовностью переметнулись в ертаульный отряд. Семнадцать человек с тунгусским вожем ушли, пока другие отдыхали. Остальные люди, отстав, двинулись по их следу. Солнце покатилось на закат. К вечеру налегке прибежал Антип Сорокин. Отдуваясь и вытирая шапкой мокрый лоб, он сообщил:
— Пять юрт за порогом! И скот. При нем люди воинские: в куяках, с луками, с пиками.
— Нас ждут! — усмехнулся Радуковский.
Крадучись, отряд продолжал путь, пока не наступила ночь. Спали без костров. Едва рассвело — подкрепились всухомятку и снова пошли. Встретились они с ертаулами, уже когда поднялось солнце.
Люди Радуковского залегли на краю леса. Братские мужики хоть и были вооружены, но вели себя вольно. Они явно ничего не знали о казаках. Если и ждали их, то с реки, надеялись увидеть струги издалека. Браты пасли скот и жили обыденной кочевой жизнью.
К Радуковскому на четвереньках подполз Митька Шухтей.
— Тунгусский вож говорит, не здешние это браты! — доложил волнуясь.
Атаман долго оглядывал окрестности. Ссыльные Осипа Галкина равнодушно отдыхали после ночного перехода. Струна метался от Похабова к пятидесятнику, пискливо убеждал, что первыми посылать на погром надо людей многоопытных, в воинском деле искусных, а не тех, кто давно служит.
Радуковский с важностью оторвал взгляд от юрт и выпасов, неприязненно оглядел Ивашку и объявил:
— Отсюда на погром пойдут ссыльные Осипа! Остальные двумя отрядами налегке пусть обойдут юрты лесом и сделают засады, чтобы никто не ушел живым.
Казаки и охочие побросали мешки. По знакам Черемнинова и Похабова побежали за ними лесом, вокруг пастбищ. Среди первых несся Ивашка Струна. Он тяжело дышал и зловеще скалился.
Когда отряды подошли к краю леса, напротив холма, где стояли юрты, с другой стороны уже слышалась стрельба. Братские всадники, вырвавшись от Осипа Галкина и его людей, помчались на полдень и попали под ружья Похабова с Черемниновым.
Васька Бугор убил коня под одним из беглецов. Он рухнул наземь, перевернулся через спину. Мужик успел выскочить из седла и, пока поднимался на ноги, был скручен Илейкой.
Подмога братским мужикам не подходила. Горело пять юрт. Ссыльные сгоняли разбежавшийся скот. Струна, алчно зыркая по сторонам, успел что-то высмотреть, кинулся в кустарник и вскоре выволок из него братскую девку. Она не противилась, только сжимала в нитку посиневшие губы. Черная коса волочилась по земле. Белели полные незагоревшие девичьи колени. Ивашка нес ее, взвалив на плечо, как мешок.
Похабов велел Антипу Сорокину влезть на дерево и оглядеться. Тот забрался на высокую сосну. Крикнул оттуда, что братских отрядов не видно. Ловко, как белка, спустился вниз, стал шарить за воротом, вытряхивая сучки и хвою.
Похабов повел своих людей к братскому стану. Возле чадящих углей на месте бывших юрт валялось пять мужских тел. Кучкой сидели притихшие бабы и дети. В стороне глядели под ноги трое связанных мужчин.
Илейка Ермолин, похваляясь добычей, подтолкнул к ним своего ясыря. Василий Черемнинов высмотрел среди пленных и окликнул одного из мужиков, взял его за рукав халата и повел к атаману.
— Этот окинский! — сказал. — Бывших верных князцов Култуза и Алдея родич!
Сын боярский строго посмотрел на пленника, подозвал Шухтея, велел спросить, отчего мужик оказался на здешнем стане.
Митька стал переминаться с ноги на ногу, чесаться, бормотать какую-то нелепицу. Ясырь его явно не понимал. Толмач вдруг вскипел:
— Да у них в каждом роду свой язык! Я один только знаю!
— Ничего ты не знаешь! — выругался Радуковский. — Спроси у вожей, понимают ли братов?
Шухтей спросил. Один ответил ему, что понимает. Митька стал говорить ему по-тунгусски, тот передавал сказанное атаманом братскому мужику, затем снова Митьке. Кое-как узнали, что пленный имел здесь свояков по жене. Приехал, чтобы обменять коней по прежнему уговору. Сказал, что главные над здешними мужиками князец Контури и балаганец Куржум.
По словам пленных, их князцы, не дождавшись казаков, ушли на Оку воевать тамошних верных казачьему царю Алдея и Култуза. Здесь оставлены были только сторожевые юрты.
— Бояркан с Куржумом да окинец Кодогон заодно! — напомнил Черемнинов. — Бояркан сколько хотел, столько давал ясак. Куржум моих служилых бил.
Радуковский выслушал пленного окинца, велел дать ему коня и отпустить, чтобы всем сородичам сообщил о мести казаков и о том, что ясырей они готовы отдать за выкуп.
Окинец с радостью ускакал от сожженного стана. Радуковский велел до выкупа держать ясырей при нем, чтобы никто их не обижал.
На другой день служилые и охочие на захваченных лошадях и пешими двинулись к Оке. Шли они медленно: гнали захваченный скот. Радуковский высылал вперед ертаулов и вожей. Они то и дело встречали кочующих тунгусов, которые уверяли, что не воевали с лучи, а ясак давать боялись. Все жаловались на братов. Васили it Черемнинов и сам уже путался, какие роды были верны острогу, какие изменяли.
В середине августа, на Успенье Богородицы, к отряду вернулись все ертаулы. Они сопровождали окинских князцов Мунгала и Култуза с их дайшами. Два отряда встретились с предосторожностями. Окинцы дали верных заложников, привезли ясак за нынешний и прошлый годы, сказали, что острог они не жгли, казаков не грабили. Это сделал Куржум с балаганцами.
Он и с них требовал ясак, выпасал свой скот на их пастбищах. Услышав про казаков, отобрал у окинцев скот и ушел вверх по Оке.
Князцы советовали Радуковскому поставить острог рядом с их улусами, а не на прежнем месте. Предлагали выкупить ясырей за скот.
Ивашка Струна и Васька Бугор настороженно прислушивались к переговорам. Как только услышали про выкуп, так заволновались, призывая служилых к справедливости:
— Пусть соболями дают или серебром! На кой ляд нам их быки?
— Тунгусы купят! — подсказывали казаки.
Коней для погони окинцы дать не могли: балаганцы угнали их табун, оставив только лончаков — жеребят-двухлеток да старых кобыл. Свободных седел у них не было.
Радуковский оставил на устье Оки добытый при погроме скот и на лошадях, которых захватили, погнался за Куржумом. На каждого верхового в его отряде было по три пеших. Сменяя друг друга, они бежали, держась за подпруги оседланных коней. Кому не доставалось подпруги, хватались за хвосты. Одного из новоприборных злая и резвая бурятская лошадь так лягнула в живот, что пришлось оставить его у костра.
Судя по следам, государевы изменники гнали много скота, а потому шли медленно. И все же догнать их не удалось ни на третий, ни на четвертый день. Отряд вымотался и оголодал. У Василия Черемнинова подергивалась голова на тонкой шее. У иных служилых опухли ноги. Сам Радуковский мотался в седле, засыпая на ходу. Ссыльные то и дело отставали. И только охочие люди, для которых вся выгода пройденного пути была в добыче, рвались вперед.
После полудня четвертого дня сын боярский Никола Радуковский свалился с коня, затравленно оглядел свое растянувшееся на версту войско и сказал:
— Все!
Попадали рядом с ним и охочие люди. Тяжело дыша и превозмогая себя, зароптали:
— За что все лето мучились? За прокорм? При ските, у монахов, больше бы заработали.
— Ну вот и гонитесь за бунтовщиками сколько душе угодно! Что отобьете — то ваше. Кого побьют, переловят — Бог судья: я вас не посылал!
К стану приволоклись последние из служилых. Упали на землю, с тоской глядя в небо, шевелили губами в беззвучных молитвах. Радуковский окликнул их всех:
— Думайте, братья, можно ли дальше идти?
Большинство зароптало, что дальше только бесславная гибель!
— Со дня на день снег пойдет. Зимовать придется! — разумно заявил Василий Черемнинов. — Острог надо ставить, а не за Куржумом гоняться. Не то вернутся изменники, голыми руками нас возьмут и передавят, как мух.
Сказал так пятидесятник, и большинству людей стало ясно, что по-другому поступить нельзя. Думать о зиме не хотели одни смутьяны из охочих. Они начали устало укорять служилых в трусости. Радуковский понял, что переспорить их невозможно, и с досадой на лице обратился к Похабову:
— Что скажешь, сын боярский?
Иван понимал, что дольше преследовать Куржума опасно и глупо. Но как ни был сам измотан, отказаться идти со своими людьми не мог, иначе всю оставшуюся жизнь ему пришлось бы терпеть насмешки от тех, кому выпадет вернуться живым.
— Дай нам коней! — прохрипел, неприязненно морщась. — Кто желает, пусть идет с нами. Кто ослаб — пусть возвращается!
— Правильно говоришь! — поддержали его Струна и Василий Бугор. — А потом доли в нашей добыче пусть не требуют.
— Кони-то наши! — напомнил Осип Галкин. Его ссыльные были вымотаны больше старых енисейцев, привыкших к тяготам таежной жизни.
— Коней вернем с прибавкой! — заверил Бугор. — А пропадем, замолвим за вас слово перед Господом!
Митька Шухтей, охая и постанывая, тут же переполз поближе к Радуковскому. Трое охочих опасливо передвинулись от своего отряда. Зато к ним перешли Михейка и Якунька Сорокины. Иван взглянул на них, на младшего Антипа, с удивлением подумал: «Ни ростом, ни дородностью не уродились, а вот ведь будто двужильные». Отряд у него подбирался хуже прежнего: смутьян на смутьяне.
Ока, приток Ангары, широка и многоводна. До каких пор могли уходить по ней балаганцы и куда, никто не знал. Радуковский велел своим людям отдыхать, а потом рубить лес и вязать плоты. На устье Оки, неподалеку от сожженного бекетовского зимовья, он задумал поставить острожек и в нем зимовать.
Отряд Похабова, не теряя времени, сел на отдохнувших лошадей. От иркинеевских вожей его люди отказались: здешних мест те не знали.
На другой день отряд охочих людей вышел на тунгусский урыкит из двух чумов. Бабы и дети тут же кинулись в лес. Девять мужиков с луками и рогатинами убегать не стали, но встретили казаков безбоязненно и, как показалось Ивану, даже с радостью. Лица их были покрыты татуировкой родовых знаков. По спинам висели хвосты волос, как у тасеевских тунгусов.
Иван сам понимал тунгусский язык через три слова на четвертое. Ермолины говорили свободно. Они узнали от таежных кочевников, что Куржум с сотней воинов и со стадами скота прошел здесь два дня назад. Всю рухлядь, что была у тунгусов, он забрал.
До ближайшего брода ему со скотом идти долго. Скорей всего, он дойдет до переправы и другим путем вернется к Ангаре или будет кочевать возле гор, пока не встанет лед. Иначе ему в свои степи не уйти.
Казаки узнали от тунгусов, что в верховьях Оки воюют между собой большие отряды мунгал и киргизов. Спасаясь от них, род уходил в низовья реки, но был ограблен балаганцами.
Выспросив путь, казаки и охочие потребовали от тунгусов вожа. Посовещавшись между собой, мужики указали на беззубого старика с седым пучком волос на затылке. Одарить их было нечем, кроме горсти бисера. Похабов вытряс его остатки из патронной сумки.
Отряд двинулся дальше. Старого тунгуса посадили на коня без седла. Вместе с ним выслали вперед трех ертаулов.
Хлеб давно кончился. Ночью ловили рыбу и пекли ее на весь следующий день. Едва рассветало, седлали лошадей, шли по тропе, выбитой сотнями копыт.
К полудню ертаулы вернулись. Куржума они не догнали, но нашли пять балаганских тел, положенных в прибрежном лесу.
— Один возле другого, среди камней! — весело пищал Струна, показывая обломок стрелы. — Травой и прутьями присыпаны. По всему видать, киргизы напали! Я их знаю, — весело скалил зубы.
Похабов перевел взгляд на хмурого Илейку Ермолина, ходившего ертаулом.
— Говори! — приказал ему.
— По следам выходит, будто ждал их небольшой отряд. Напали неожиданно и ушли. Если и угнали скот, то немного. Балаганцы преследовать не стали.
— Почем знаешь, что это были киргизы, а не мунгалы? — Иван снова обратился к Струне. Тот опять показал обломанную стрелу.
— Да я среди них жил! В плену был! — ударил себя кулаком в грудь. — Киргизская стрела, не мунгальская.
— Ты что, и среди мунгал жил? — строго спросил Похабов, не доверяя охочему.
Тот на миг смутился и раскричался, как ворона на падали, что мунгалы таких стрел не держат. Слушать его Иван не стал. Начал выспрашивать вожа. Как только вернулись ертаулы и отряд перестал двигаться, старик слез с лошади, молча сидел на корточках.
— Или киргизы, или мунгалы! — ответил, шамкая беззубым ртом. — Может быть, тубинцы!
Похабов выслушал его, переспросил несколько раз, вздохнул, объявил со строгим видом:
— Мунгал воевать нельзя! Атаман Никола не велел, а ему воевода наказ дал! Ослушаемся, государь нас не помилует!
По лицам охочих и служилых он понял, что про долг возмездия за сожженный острог люди не думают. У всех на уме добыча: скот, ясыри, меха, камчатые халаты и оружие.
— Это когда было? — отмахнулся Васька Бугор. — Нынче, может, киргизы опять шертовали, а мунгалы отложились!
— Кто со скотом, за тем и надо идти! — неуверенно поддержали его несколько голосов.
— Этыркэн! — обратился Иван к тунгусскому вожу. — Через реку. — помотал головой и сплюнул от бессилия вспомнить, как спросить про брод. — Гарса[224], — вспомнил по-бурятски.
Вож поднял на него красные равнодушные глаза. Илейка Ермолин повторил вопрос. Старик махнул рукой в верховья реки. Сказал, что до ближайшего брода два дня идти пешим, день ехать на оленях.
— Вот тебе и далеко! — Похабов торжествующе обвел взглядом свое войско. — Спешить надо. Если переправится Куржум — его не догнать! Считай, упустили!
Тунгус снова вскарабкался на хребет лошади. Казаки и охочие поддали пятками под бока своим коням и двинулись вперед без ертаулов, всем скопом. Через день, до полудня они услышали шум боя: крики, ржание лошадей и лязг сабель.
Иван стал торопливо расспрашивать полусонного вожа, где брод. Тот указывал рукой вперед. Понять, сколько езды до того места, никто не мог. И вдруг он показал открывшуюся песчаную отмель, косо рябившую мелководьем едва ли не до середины реки.
— Успели, слава богу! — перекрестился Похабов. Взглянул на Струну насмешливо и строго: — Похвалялся, что многоопытен в коварствах. Бери двух ертаулов, высмотри, что там и кто? — кивнул в сторону, откуда доносились звуки боя.
Тот окликнул товарищей и ускакал к лесу. Вскоре все трое вернулись.
— Браты дерутся с киргизами и с тубинцами, — приглушенно просипел Ивашка. Лицо его было красным. Пот тек по щекам. Видно, не поленился, сбегал пешим на край леса. — Скот разбрелся. С нашей стороны голов сто.
— По десять соболей за быка! — завистливо напомнил Якунька Сорокин и подернул повод.
— Выше по реке еще есть броды? — спросил Похабов у вожа.
Старый тунгус равнодушно отвечал, что дальше по реке много переправ.
Усталость, желчно въевшаяся в лица людей, прошла. Блестели их глаза. Возбужденно переговариваясь, они уставились на сына боярского.
— Здесь ждать надо! — неуверенно сказал он. — Если балаганцы отобьются, сюда и погонят свои стада.
— Жди ветра в поле, у моря погоды! — непокорно взревел Бугор, воровски зыркая по сторонам.
— Скот отбивать надо, пока они дерутся! — яростно поддержал его Струна.
— На конях нас побьют! — заспорил Михейка Сорокин. — Они у нас плохонькие, и людишек мало.
Все три брата Сорокины держались вместе. Михей соображал медленно, но верно. Оба брата почитали его не только за старшего, но и за умного. Но этот совет Михея вздорному Якуньке не понравился. Он выругался, метнув на брата злой взгляд, засопел хищным носом.
— На кой нам их воевать? Пусть воюют с кем хотят! Нам скот угнать надо!
Иван окинул оценивающим взглядом своих людей и понял, что удержать их он уже не сможет. Михейка тоже сник, поддавшись всем.
— Полдюжины в засаду, — брызгая слюной, визгливо распоряжался Струна. — Четверо скот отгонять. Остальным после залпа выскочить, постучать топорами, саблями — и обратно, к засаде.
— Дело говорит! — непокорно загалдели казаки и охочие, глядя на сына боярского. — Что мир решил, то Бог положил!
Старый тунгус сполз с лошади, сел на корточки под деревом. Иван безнадежно махнул рукой, смиряясь с общим решением. Захотелось и ему прилечь рядом с вожем, но, с кривой усмешкой в бороде, он только пожал широкими плечами и покачал головой. Его люди тут же сгрудились возле Ивашки Струны. А тот торопливо указывал, кому куда идти, откуда нападать и где делать засаду.
Старого тунгуса оставили возле переправы. Остальные люди отряда начали продираться верхами сквозь чащу прибрежного леса. Они выехали на опушку, остановились, скрываясь за деревьями. На широком, пологом, открытом склоне холма сотня балаганцев яростно отбивалась от наседавших на них разномастно одетых всадников, вооруженных дубинами. Но махали они ими яростно и умело. Среди балаганцев выделялись трое в блестящих доспехах и шлемах.
— Браво дерутся те, что в куяках! — стремя в стремя приткнулся к Ивану Похабову Илейка Ермолин. Его большие руки суетливо перебирали повод ременной узды, а он то и дело выскальзывал из толстых пальцев.
Скот балаганцев разбрелся по сторонам и мирно жевал траву, поглядывая на бившихся людей. Коровы паслись возле леса, мешая засаде.
— Гони! — приказал Ивашка Струна.
Четверо енисейских гулящих, воровски пригибаясь к седлам, стали сбивать коров в стадо. Они шарахались от всадников в поле, но охочие, размахивая батогами, сумели завернуть их к реке. В запале боя балаганцы заметили эту кражу. От бившихся отделился десяток воинов. Они пустили лошадей к лесу. Казакам и охочим ничего не оставалось, как спешиться и дать залп.
Похабов, Ермолины и сам Струна вскочили на коней, поддали им под бока пятками, с гиканьем ринулись в зловонное пороховое облако. Едва дым поредел, они врезались во всадников. Похабов разглядел, что это не балаганцы, а тубинцы или киргизы. Их черные лица белозубо скалились, на запавших, узких глазах подрагивали ресницы.
Иван сшиб двоих с коней. Свистнул, как было оговорено. Краем глаза увидел ревущего Бугра. Он маятником рассыпал удары топора с одного плеча на другое. Нахлестывая под собой кобылку, Струна уже мчался к лесу. Но тубинцы или киргизы не поддались на его уловку, не погнались за казаками, а помчались в обратную сторону. Сидевшие в засаде перезарядили ружья.
В лес вернулись все четверо: не убиты, не ранены. Коровы были угнаны к реке. Погонявшие их охочие скрылись из виду. Под Струной топталась и жалобно ржала отощавшая кобыла. Из ее крупа торчала стрела. Вместо ожидаемой погони киргизы отбились от балаганцев и стали отгонять их табун в другую сторону.
Похабов издали узнал Куржума и Бояркана. Сухощавый Куржум что-то кричал, размахивая саблей. Его люди перестали преследовать киргизов и погнали оставшийся скот к броду. С ними уходил Бояркан и другой, незнакомый Ивану, князец в латах.
Три десятка воинов во главе с Куржумом с кличем «Бароо-бара!» пустили коней на засаду, к узкой полосе прибрежного леса. По оклику сына боярского все бывшие рядом с ним спешились, дали стройный залп по нападавшим, но большого урона всадникам не нанесли. Казаки и охочие торопливо вставили тесаки в черные от пороховой сажи стволы и приняли первый удар балаганцев, выскочивших из порохового дыма.
Те отхлынули и стали носиться по поляне, стреляя из луков. Енисейцы прятались от стрел за деревьями и торопливо заряжали пищали. Куржум снова собрал в кучу своих дайшей. Опять закричал: «Бароо-бара!» Размахивая саблей, в первом ряду кинулся на засаду, а погоняемый его воинами скот был уже на середине переправы. Уходивших за реку прикрывал Бояркан с косатыми молодцами.
Другой залп из пищалей свалил трех коней. Всадники опять отхлынули, но, погоняемые Куржумом, пошли на третий приступ. Князец на резвом скакуне несся впереди всех.
Струна то ли успел первым перезарядить пищаль или не стрелял вместе со всеми. Прогрохотал его одиночный выстрел, за который Похабов чуть не огрел его кулаком. Куржум, в блестящих латах, завалился на круп коня, соскользнул на землю и с задранной к стремени ногой поволокся за испуганным жеребцом.
Струна дурным голосом завизжал, чтобы не стреляли в жеребца. Но тот кувыркнулся через голову, оступившись или угодив копытом в нору.
Киргизы с отбитым табуном скрылись. Нападавшие на засаду балаганцы бросили в поле убитого Куржума с барахтавшимся жеребцом, пустили своих коней к броду.
В пылу боя Похабов потерял из виду Бояркана. И тут увидел его с тремя молодцами возле песчаной косы брода. Другой князец со своими людьми носился по берегу, загонял в воду стадо коров. Его воины вели в поводу пять знакомых истощенных лошадей.
Пока Иван соображал, отчего они так похожи на коней его отряда, отчаянно завыл Якунька Сорокин, указывая на седло, сделанное из кожаного мешка. «Отбили своих коров!» — понял Иван. Он вскочил на коня и пустил его галопом на Бояркана. Князец обернулся на окрик, узнал Ивана и повернул ему навстречу своего черного скакуна.
Кони сшиблись. Сильный жеребец князца с хеканьем ударил грудью ослабшего конька иод Иваном. Тот не удержался на ногах и с жалобным ржанием опрокинулся. Похабов успел выскочить из седла, перевернулся через голову и вскочил с обнаженной саблей в руке. Над ним грузно навис Бояркан. Его карие глаза глядели пытливо и насмешливо.
— А, ерээбши, дуумгэй![225] Дарова, пырат! — старательно выговорил по-русски и хохотнул, подрагивая одрябшими щеками.
К нему на помощь мчались полтора десятка дайшей. Он резко крикнул, чтобы те занимались своим делом, и они вернулись к отгоняемому стаду.
— Яба гэмээ эдлэг![226] — рыкнул, не отрывая глаз от Ивана. Махнул саблей и обрушил на него удар такой силы, что у сына боярского заныло запястье и рука едва удержала саблю. Но бухарский клинок князца переломился и звякнул о камни. Жеребец отпрянул. Теперь, ощерясь, хохотнул Похабов:
— Ой, не сносить нам голов, ахай![227]
Мысленно он уже сделал прыжок, нанес удар, конь с подрезанными сухожилиями и сам Бояркан лежали у его ног. Но, неожиданно для себя самого, Иван опустил саблю.
— Яба ошоггы![228] — прохрипел, сверкая глазами. Князец еще раз хохотнул, поднял жеребца на дыбы, развернул его на задних копытах и помчался по песчаной косе. Дородная спина в броне отдалялась от берега. По стремена в воде его ждали последние косатые молодцы, прикрывшие отход балаганцев.
Вслед князцу прогремело два отдаленных выстрела. К Ивану галопом мчались запыхавшиеся Ермолины и Струна.
— Чего ты? — ревел Бугор, размахивая топором. — Мы из-за тебя не могли стрелять.
Струна змеей соскользнул из седла на землю, упал на живот, положив ствол пищали на камень. Ткнул тлеющим фитилем в запал. Прогремел выстрел. Рассеялся дым. Охочий отчаянно завизжал и бросил шапку оземь. Спешившись, безнадежно выстрелили Ермолины. Их выстрелы тоже не нанесли вреда балаганцам. Несколько стрел, пущенных в ответ, на излете воткнулись в землю. Скот уже выходил на другой берег.
— Чего я? — рассеянно обернулся Иван. — Мой конь цел ли?
— Конь-конь! — слезливо просипел Струна. — Пять наших коней угнали и весь скот. Четверых убили и старого тунгуса. Разбогате-ели! — Он шумно высморкался на землю.
Из леса шли Сорокины. Они не спешили, несли пищали на плечах. Лица их были злы, глаза метали искры.
— Вы-то куда на своих клячах? — укорил Ермолиных Михейка.
Иван поймал коня, повел его в поводу к лесу. Старый тунгус так и сидел под деревом со стрелой в груди. Тела четверых охочих лежали на берегу Оки. Они не успели далеко угнать отбитый скот и были убиты стрелами.
Нехорошим было молчание у костра. Бугор кряхтел, Илейка, хоть и трезвый, глядел на Похабова пристально и рассерженно. Якунька Сорокин сопел драным носом. Михейка поглядывал на товарищей злобно и презрительно, косился на Струну. Тот перебирал окровавленные халаты, снятые с убитых, по-хозяйски разглядывал доспехи Куржума.
Костер жгли, не таясь. И чувствовал сын боярский, что его люди стали опасны, как пороховница, которой не хватает искры, чтобы взорваться.
— Хоронить убитых надо! — напомнил тихо. Никто не говорил про завтрашний день. — Не до гробов, хоть крест поставить. Чай не дикие! — добавил мягче, опасаясь словом или взглядом вызвать негодование.
— Живыми бы до Радуковского дойти! — не отрывая глаз от шлема, украшенного серебром, пискнул Струна. Вскочил без надобности, схватил охапку сухих веток. Пламя костра взметнулось в небо, прочерчивая искрами сумерки вечера.
— Что орешь? — закричал на него Якунька Сорокин, сверкая глазами. — Ты ясырку добыл и латы с покойника снял.
— Один шишак доброго коня стоит! — поддержал брата Михейка. — А за пять коней всем поровну платить, что ли?
— Бог дал! — яростно заверещал Ивашка Струна. — У тебя жалованье! У меня да у них — кивнул на покойников, положенных в стороне, — добыча!
— Пока убитых не похороним — никуда не пойдем! — тверже приказал Похабов. — В дозоре ночью сам буду стоять. Вам копать могилу, тесать крест. Завернем покойных в бересту. Поди, простят нас, грешных.
И снова никто не отозвался на его слова. Все тупо и злобно глядели на огонь.
— Все равно звери откопают и сожрут! — проворчал Михей. — А мы полдня потеряем. Прости, Господи! — размашисто перекрестился.
— Наше дело — похоронить. Дальше как Бог даст. По грехам! — принужденно зевнул Иван, сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик.
Его люди привычно приготовили ночлег, легли, уставшие, после погони и боя. Ворочались, вздыхали, смотрели на высыпавшие звезды. Похабов завернулся в шубный кафтан, прихватив пищаль, отступил во тьму. Раздул трут из сухого березового гриба. Сел под деревом, прислушиваясь к звукам реки и ночного леса, к звукам мирно пасущихся лошадей.
Несколько раз в ночи он выходил к костру, подбрасывал дров на угли, грелся, снова уходил в темень и так дотянул до рассвета. Разбудив товарищей, сам завернулся в шубный кафтан и лег доспать. Сквозь чуткий сон слышал скрежет железа и перестук топоров.
К полудню он поднялся. Яма в полтора аршина была отрыта. Глубже лежали большие камни. Из комлей толстых изгнивших берез вытряхнули труху. Вложили в бересту убитых. Почитали над ними кто что помнил, предали земле, поставили крест, поели на помин печеной рыбы.
Люди уже оседлали отдохнувших лошадей, чтобы двинуться в обратный путь, но на переправе реки показались два тунгусских мужика на оленях. Они прошли бродом, поднялись на берег, повернули на дымок костра, молча спешились у огня и присели на корточки.
— Вот мы и пришли! — поздоровались на свой манер.
Казаки и охочие оживились, тоже присели возле затухающего костра, догадываясь, что это вестовые от балаганцев.
— Что пришли? — поторопил их Илейка.
Старший из тунгусов с важным видом ответил вопросом на вопрос:
— Что хотите за балаганских мертвецов?
Казаки и охочие плутовато переглянулись. Якунька Сорокин вскочил, придвинулся к послам, весело вскрикнул, бросая шапку на землю:
— Десять бычков за двух дайшей, за баатара — двадцать!
— А неделю ждать тех бычков не хочешь? — тихо выругался Похабов и приказал Илейке: — Скажи, за покойников выкуп не берем, пусть даром увозят!
Казаки и охочие неуверенно заспорили. И тут сын боярский вспылил:
— Я за вами шел! Я вас слушал, не перечил! Теперь меня слушайте! Хотите передохнуть? Бог вам судья! — перебросил повод через голову коня и сел в седло. — Кто со мной, пошли? — поддал пятками под тощие бока. — Кто хочет околеть — оставайся!
Через сотню шагов он оглянулся. Три всадника догоняли его. Еще трое садились на коней. Возле поворота реки он снова обернулся. Растянувшись на полверсты, за ним следовал весь отряд, но никто не подъезжал стремя в стремя, никто не показывал своей верности.
День, два и третий все ехали молча, перекидываясь словцом лишь по надобности. Замечал Иван, что подначальные люди сторонились его, зловеще помалкивали, переговариваясь только между собой.
Похабов рассерженно прикидывал, на какое коварство они могут решиться. По его разумению, ничего другого, как обвинить перед атаманом в своих же неудачах, они не могли да и не смели.
На пятую ночь и казаки, и охочие не разговаривали даже между собой, делали вид, что не замечают сына боярского. А тот, напоказ, не желал ни знать их, ни говорить с ними. Назначив караул, он сам себе напек рыбы, поел и лег у костра. Под утро сон стал тяжек: заныли кости, сдавило грудь. Иван открыл глаза — сон ли это? На него навалились всей толпой, пеленали шубным кафтаном, скручивали ремнями руки.
Громче всех визжал Ивашка Струна:
— Князца заступил, чтобы стрелять не могли! И отпустил живым. Покойников даром отдал! Супротив Бога не отмстил за своих убитых! Изменил нам атаман, братья, изменил!
Иван только щурился и презрительно цыкал сквозь сжатые зубы.
— Поплюй-поплюй! Вот посадим в воду — до скончания века будешь отплевываться. Перед очами Господа икнешь!
И напала на Ивана Похабова тупая, равнодушная тоска. Ни вразумлять никого уже не хотел, ни Бога молить.
Михейка с Якунькой Сорокины что-то лопотали ему в лицо, оправдывая себя. Скалился Струна. Рычал Бугор, сопел Илейка. Что-то выговаривали другие. Он же, связанный, сладко зевнул, шевельнулся, потянувшись в пеленах, и снова уснул. Его тормошили, грузили на коня, попинывали — он все равно не открывал глаз, сонный мотался в седле, как мешок с трухой.
Очнулся только на устье Оки. Увидел врытые в землю надолбы, часть острожной стены, балаганы и землянки, вокруг которых курился дым. Тряхнул головой, поправляя несуразно надетую чужими руками шапку. Выпрямился в седле со связанными руками. Усмехнулся. Не решились-таки самовольно утопить сына боярского. Духу не хватило. Равнодушно оглядел пленивших его людей.
Их прежний пыл пропал, ярость выстыла, как зола брошенного костра. Понуро стояли они перед атаманом Николой Радуковским, принужденно выкрикивали против Похабова какую-то нелепицу и сами смущались своих слов.
Ему развязали руки. Он слез с коня. Молча и долго растирал затекшие запястья, выгибал спину, никого не винил, ни в чем не оправдывался. Василий Черемнинов, с любопытством поглядывая на старого товарища, отвел его в балаган. Служилых Сорокиных увели в другой, охочим велели сидеть у костра. Порознь накормили всех хлебом, дали отдохнуть.
К вечеру их, вонявших потом и золой, стали пытать атаман с пятидесятником да целовальник от охочих. Выслушали всех, вины Похабова не нашли. Кроме одной: не вымолил у Бога удачи или недоглядел за теми, кто грехами своими вызвал Его гнев.
За утерянных коней приговорили взыскать со всех поровну. За убитых братских мужиков, за их коней и Куржума Радуковский обещал просить награды у воеводы. А тот пусть напишет в Сибирский приказ государю. Царь милостив, наградит. Погибших товарищей оставили на совести ертаулов: пусть Бог взыщет с каждого свое.
Со Струны взяли убытки добытым в бою серебром. Ермолины лишились коня. Иван неуверенно предложил золотую пряжку от шебалташа. Ее не приняли, хотя по цене на вес она превышала его долг. Пришлось отдать добрый суконный кафтан, оставшись в рубахе и шубе. Другие охочие люди обязались отработать долг на строительстве острога.
Суд товарищей приняли все. Но зло между бывшими ертаулами осталось. Похабов никого не корил, но и видеть никого из них не хотел. Сорокины и охочие сторонились его как черт ладана.
Раз и другой атаман Радуковский напомнил о христианском милосердии к ближнему, о терпении и братстве. Не помогло. Он призвал к себе Похабова и сказал:
— Двум сынам боярским тут делать нечего! Да и зачем дразнить твоих голодранцев? Плыви в Енисейский с грамотами к воеводе. Вдруг успеешь до ледостава. До зимовья под Шаманским порогом Черемнинов тебя проводит. Обратным путем он с оставленными там людьми привезет хлеб.
Черемнинов с Похабовым в тот же день промазали смолой берестянку, собрали пожитки в дорогу. Утром, после молитв, Иван получил грамоты для енисейского воеводы, опоясался саблей, сунул за кушак топор, закинул на плечо пищаль. Пятидесятник, смахивая с редкой бороды блестки чешуи, поспешил за ним.
У реки Похабов перевернул лодку, столкнул ее на воду, бросил на корму шубный кафтан и пищаль, обернулся на шарканье ног за спиной. За Черемниновым, в отдалении, понуро шли братья Ермолины и Михейка Сорокин. Кряжистый Илейка, как лодка весла, раскидывал в стороны длинные руки с широкими лопастями ладоней, смущенно оправдывался:
— Не гневись на нас! Бес попутал!
— С кем не бывает, когда Бог спит! — басисто поддакивал брату Бугор.
Михейка Сорокин переминался с ноги на ногу, водил по сторонам глазами, молчал, видом своим показывал, что сожалеет о былой ярости.
— Бог простит! — процедил сквозь зубы Иван и осторожно уселся на шаткой, верткой лодчонке. Проворчал под нос: «Помяни, Боже мой, во благо мне, что я сделал для народа сего!»
— Раньше бы так! — злорадно хмыкнул в бороду Василий Черемнинов, взял весло и обернулся к провожавшим: — Вдруг и взял бы кого с собой. Острог рубить легче, чем брести в бурлацкой бечеве. Зато нам идти с хлебом, а вам его ждать!
Илейка безнадежно тряхнул руками, как большая птица нескладными крыльями, не о том, дескать, говоришь, пятидесятник. Обернулся к лодке широкой прямой спиной и зашагал к острогу. Бугор с Михейкой постояли, глядя на удалявшуюся берестянку, и пошли следом.
— Смотрю я на тебя! — ухмыльнулся Василий. — Проку от твоей шапки никакого. Уродился казаком, казаком помрешь, хоть тебе дворянский, хоть боярский чин дай!
Иван тоскливо взглянул на старого товарища. Нечего было сказать ему, поверстанному в Тобольске в стрельцы, которые ничем не отличались от таких же поверстанных там в казаки. В тот год на воеводстве сидел царский зять, сын крымского хана. Перепутал, наверное, казаков со стрельцами. Уже забывалось, кто есть кто, одно с другим перемешалось накрепко.
— В Диком поле все по-другому! — пробормотал Иван, неохотно оправдываясь и разглядывая удалявшийся берег. — И казаки, и стрельцы, и дворяне!.. — помолчав, добавил: — Там все равны! Далась тебе моя шапка?
Пятидесятник опять ухмыльнулся, метнув быстрый взгляд поверх его головы.
Оставленные под Шаманским порогом черкасы и литвины за тунгусами не гонялись, в их распри не входили, но по-хозяйски обжили остров. Рубить зимовье, по примеру сибиряков, они не стали: наподобие корзины сплели из прутьев остов избы и обмазали его глиной. Жилье они построили быстро, не надрывались и не дразнили тунгусов поваленными деревьями.
Жили ссыльные на острове беззаботно и весело: с хорошим запасом мяса и рыбы. Было у них и ягодное вино, из которого они через ствол пищали курили водку в обмазанном глиной котле.
Пятидесятник Черемнинов, как увидел их запас вина, так возлюбил ссыльных больше, чем родственников. Пересчитав остатки хлеба, он изумился бережливости островитян и загулял.
Иван выпил чарку и другую, тоже подобрел. Задерживаться он не мог: поторапливали осень и Филипп-сургутец. Старый казак был так плох, что едва ходил, опираясь на палку.
— Все болит! — жаловался Ивану. — Наверное, помру. Хоть бы до Енисейского добраться, сынов благословить, с женой проститься. Гаврила на другой год в службу пойдет, Анисим — за ним, в следующий.
— Мне бы только довести тебя. Савина выходит! — грубовато обнадежил товарища Похабов. Михалев взглянул на него с укором и со скрытой надеждой. Иван поежился, передернув широкими плечами: — Помоюсь в мыльне да рубаху постираю, завтра и поплывем!
Чуть покачиваясь от выпитого, сын боярский ощупал не просохшую еще берестянку, но пятидесятник его остановил:
— Не дам! Струги и лодки мне нужны! Сплавляйся на барке. А что? По течению же?! — вытаращил на Ивана хмельные глаза.
А он затряс было бородой: что за нелепицу говорил Васька? Считай, одному на тяжелой барке плыть. Но, взглянув на два оставленных Радуковским струга, прикинул, сколько в них загрузят ржи, и понял, что без берестянки пороги не пройти. Особенно Падун. Иван сердито попинал рассохшийся борт барки, вытянутой на сушу:
— Вели ссыльным проконопатить и просмолить! Ты у них за главного!
Пока он мылся и стирал одежду, островитяне просмолили барку и вытесали ему запасное весло. Утром, после молитв, уже слегка хмельные, они помогли столкнуть ее на воду, бросили Ивану берестяную корчажку с вином.
Он усадил на корме Филиппа, с благодарностью помахал рукой провожавшим и стал отгребать от берега. Течение подхватило тяжелое, неповоротливое судно и понесло его к Енисейскому острогу. Опираясь на пищаль, на берег вышел Черемнинов, хотел махнуть рукой, но качнулся, споткнулся и повалился на землю.
Иван рассмеялся, отхлебнул из фляги, кивнул Филиппу:
— Моли Бога с Николой, а я править буду! Не застрять бы нам на отмели! — опасливо перекрестился. — Вдвоем барку не столкнем!
— Какой из меня помощник? — вздохнул старый казак, поднимая к небу выцветшие больные глаза. Прислушиваясь к плеску воды, добавил с печалью: — Может, и выходит меня жена, если Бог даст доплыть до острога. А если встретит скитник Тимофей — все, отжил! Сон мне был! — он смиренно помолчал, растянув в печальной улыбке истончавшие губы: — Тоже хорошо. Отпоет по уставу.
Иван пошевеливал то одним, то другим тяжелыми веслами, не давал течению развернуть судно. Он старался помалкивать, хотя ледок, бывший между ним и Филиппом, таял. Опять они говорили дружески и душевно.
— Жаль! — снова вздохнул старый казак, расправляя седую бороду крючковатыми пальцами. — Раньше не замечал всего, как теперь: солнышко блестит, травка желтая, мох зеленый. Вон, снежок под деревом белый. Хорошо-то как, Господи! — опять поднял глаза к синему небу. Денек был погожий.
— Что же ты больной доброй волей за атаманом пошел? — грубовато укорил его Иван.
— Чуял хворь! — согласился Филипп. — Но не мог не пойти. Как-то покойная жена сильно болела, подняться с печки не могла. Дети еще малы были. А мне в ту зиму надо было идти на дальнюю службу. Перфильев сказал: «Если пойдет кто вместо тебя, оставайся при остроге, в караулах!» Дунайка тогда только вернулся, не отгулял еще своего, ушел вместо меня. Царствие небесное! — Филипп перекрестился, всхлипнув. — Как я мог не пойти ему на помощь?
Доплыть водой они успели! Но Ангара вынесла барку в Енисей вместе с шугой и салом. Грохотали, скребли по льдинам весла. Чуть жив от усталости, Иван Похабов пробивался сквозь них, проталкивая судно к левому берегу. В пути он два раза садился на мель, но с Божьей помощью снимался своей смекалкой. И теперь, уже возле острога, очень стыдился быть затертым и раздавленным льдами.
Филипп молчал, водил по сторонам виноватыми глазами, мысленно молился и ничем другим не мог помочь измотанному товарищу.
Неподалеку от устья речки, где заимка Галкиных, Иван пробился-таки к черной полынье, тянувшейся за островом. Немного приблизился к берегу, увидел всадника, закричал, размахивая руками. Просил помощи.
Всадник пустил коня галопом и скрылся в лесу, но вскоре вернулся еще с двумя. Люди спешились, стали бросать на барку веревку, добросить не смогли. Один помчался в острог, другие следовали берегом, опасаясь, что льды прижмут барку. А если перевернут или раздавят, вдруг они и спасут кого.
Не раздавило. Подтянуть барку к берегу удалось возле самого острога. На помощь сбежались служилые и гулящие. Десятки рук удерживали судно, чтобы лед не унес его мимо причала. На яр высыпали бабы и дети. Тяжело дыша, Иван навалился грудью на борт. Руки повисли плетьми, не было сил перекреститься. Отдохнув, он поднял голову и увидел инока Тимофея в монашеской рясе, без вериг. По дряблым, но румяным щекам монаха катились слезы.
За старцем, перепуганными пташками, топтались сын с дочкой. Взглянул на них Иван, и сердце облилось кровью от жалости к своим детям. Зябко сучили они ногами в дырявых чунях. На плечи были накинуты ветхие шубейки. В глазах еще метался пережитый страх.
«Ни чарки не выпью, пока их не накормлю, не одену!» — зарекаясь, снова уронил он голову на борт и тяжко всхлипнул.
— Живой тятька! Живой! — услышал радостный щебет детских голосов и частые удары по железу в острожной церкви. Колоколом она так и не разжилась. Кто-то уже вскарабкался на барку, подхватил Похабова под руки. Как в тумане, увидел он Савину с выбившимися из-под плата волосами. Она глядела на него не мигая, со страхом и радостью.
Иван шевельнулся, устало высвобождаясь из дружеских рук. Поднял саблю, мешок с ясаком и кожаный мешочек с грамотками, челобитными, отписками, спустился с барки, нетвердо встал на землю и поплелся к детям.
Терентий Савин что-то говорил ему, тормошил, он не слышал. Проходя рядом с Савиной, прилюдно обнял ее. Она вскрикнула, всплеснув руками, увидев поднятые над бортом живые мощи мужа. Сыновья Филиппа, Гаврила с Анисимом, осторожно приняли отца, понесли его к дому.
Накрыв руками худенькие плечи детей, Иван поплелся с ними к острогу, несуразно волок за собой кожаные мешки, то и дело спотыкался о ножны сабли. Терентий бодро шагал рядом, помахивал его походным топором, перекидывал с плеча на плечо его пищаль. Он о чем-то говорил. Иван слышал, но не мог понять, о чем. Последние три ночи без сна утомили его хуже голода.
Из острожных ворот вышел навстречу сотник Бекетов с бритым лицом, в пышных усах, прямой и крепкий, как колода. С его широких плеч мягкой волной стекала соболья шуба. Шапка из головных, черных, соболей была лихо заломлена на ухо.
Иван шевельнул бородой на приветствие товарища, молча передал ему опечатанный мешок с ясаком, письма Радуковского. Поднял глаза на образ над воротами, растопыренными, негнущимися пальцами махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо. Ни баня, ни служба, ни жена — ничто уже не шло в голову. Туманно блазнилась только теплая печь. Ласкали душу льнувшие к отцу дети: Якунька до подмышки, Марфушка — до золотой пряжки шебалташа.
Он проснулся среди ночи на теплой печи. Услышал ровное детское дыхание под боком, посапывание и похрапывание на полатях и на лавке. С удивлением почувствовал себя отдохнувшим. Поморщился и закряхтел, стараясь вспомнить, в чьей он избе. Лежал с открытыми глазами, стараясь не шуметь, не мешать сну других.
Он долго ждал рассвета, а тьма не редела. В дверь громко застучали.
— Терех! Иван! — окликнули. Клацнул о крыльцо приклад пищали. Это был караульный. — В посад зовут! Филипп помер!
— Ох ты, Господи! — сонно и шепеляво зевнул голос Терехиной жены на полатях. — Прибрал-таки болезного!.. Ивана будить надо!
— Не сплю! — отозвался он. — Проснулся отчего-то!
— Ну так пора! — в голос зевая, усмехнулся Терентий. — Вечер, ночь, день и другой вечер спал. Нынешним утром хотели силком будить! А тут вон что.
— Не жилец был! — поддакнула мужу Тренчиха, спустилась с полатей, полезла в печь за угольком. Скоро тесную избенку осветила смолистая лучина.
— Голодный, поди? — посочувствовала Ивану. В темноте лицо ее казалось совсем старым.
— Собаку бы съел! — признался он и перекрестился на мерцавшую в углу лампадку.
— Перекуси да пойдем! — Тренчиха подала ему ломоть хлеба и стала убирать под платок растрепавшиеся волосы. — Товарищ ваш, из старых. Надо проститься по-христиански.
— Моя-то где? — промычал Иван набитым ртом.
— А все молится, — одевшись, притопнула ичигом хозяйка. Приглушенно выругалась, проворчала под нос: — Шалава! Детей на меня бросила. — Снова зевнула, крестя рот: — Ох, Осподи! Руки стали болеть. Надо покойника помыть. Не остыл бы.
Мало кому из служилых выпадала такая честь: отпевали Филиппа непрестанно два дня и две ночи. С разгладившимися морщинами, с улыбкой на губах, лежал он на столе выстывшей избы, самодовольно подглядывал за всем происходившим сквозь щелки опущенных век.
Возле покойника Иван встретил свою жену, Пелагию. Как когда-то в Кетском остроге, блестели ее бирюзовые глаза, влекущая улыбка блуждала на губах. После разлуки не к месту заныло сердце от воспоминаний и от несбывшихся надежд.
Опустив полные покатые плечи, некрасиво горбясь, возле тела сидела Савина. Она не голосила, как принято, тихонько вытирала слезы и хлюпала мокрым носом.
Пелашку, читавшую Псалтырь, сменила скитница Степанида. Иван помолился и смущенно вышел в сени. Рассветало. Он еще не был в бане и чувствовал прогорклую вонь своей одежды. Рубаха ссохлась и царапалась, как береста. Наверное, давно уже его поджидал воевода с докладом.
Меченка вышла следом. Иван остановился, чтобы приветить жену. Но не успел слова сказать. Ее губы искривились, глаза сузились:
— Все знаю про вас! И Филипп, земля пухом, подглядывает, кабы при нем не стали прелюбодействовать!
— Тьфу на тебя, кикимора болотная! — беззлобно выругался Иван, нахлобучил шапку и торопливо зашагал к проездным воротам острога.
Только после похорон он зашел в свою острожную избу, увидел привычное запустение. В бочке был лед. В квашне засохло и позеленело тесто. По столу бегали мыши. Ни у диких, ни у промышленных людей в жилье он никогда не видел такой грязи. Тоскливо и зябко глядели из красного угла лики святых, а их было выставлено много.
Иван вздохнул, перекрестился, разжигать печь не стал, а вернулся к Терентию и предложил с тоской в глазах:
— Перебирайся в мою избу, там просторней. Все равно дети у вас живут!
Своими словами он будто посолонил рану Тренчихе. Она соскочила с лавки и, виновато поглядывая на Якуньку с Марфушкой, вскипела:
— Уж говорила ей, нельзя одной ногой здесь, другой там. Ладно нас — детей мучит! Утащит силком в скит, они прибегут, бедненькие. Плачут.
— Мамка за нас молится! — насупившись, буркнул Якунька.
Запечалилась, всхлипнула дочь. Иван подхватил ее на руки, прижал к груди.
— Молится! — сдерживаясь, проворчала Тренчиха, громыхая ухватом по горшкам в печи. — Доходит ли до Господа молитва от такой засранки?
Неделю Иван прожил при остроге, у Терентия. Дети были при нем, а он все ждал, когда Меченка вычистит и протопит свою избу. Не дождавшись, получил жалованье деньгами, хлебом, солью, крупами. Одел детей. Купил себе поношенный кафтан. Так как Терентий с женой, не желая склок да хлопот, в его избу не пошли, весь жалованный съестной припас он ссыпал в их ларь.
Затем по наказу воеводы Похабов ходил с тремя казаками на Сым, устье которого опять отошло к Енисейской волости. Волостные остяки присылали вестовых, будто к ним переправились тунгусы с правого берега.
Вернулся он к сороковинам Филиппа. Отстоял панихиду, помог Савине приготовить дом к поминкам. Она жила в михалевской избе с двумя пасынками, входившими в служилый возраст, и со своими сыновьями-погодками. Старший, Емелька, был ровесником Якуньки Похабова.
Сыновья Филиппа из-за долгих отлучек отца и болезни матери привыкли хозяйствовать сами. Оба уродились с умелыми руками: делали на продажу сани, нарты и лыжи, выделывали кожи, шили сапоги, запахивали под озимую рожь десятину на Касе.
Младшие, Вихоркины сыновья, души не чаяли в старших сводных братанах и во всем им подражали. Все почитали Савину как мать. Семья жила дружно. Глядя на них, Иван с тоской понимал, что их дому без Савины не быть.
Но светлой была его печаль. Душа таяла в чистой избе старого товарища. Разошлись гости, а он все сидел. Не заметил, как на полатях уснули Вихоркины сироты, а с ними и Якунька. На печи давно прикорнула дочь. Савина не дала будить детей. Она неспешно прибирала в доме, а Иван уже несколько раз хватался за шапку, и все что-то его останавливало, все никак не мог оторвать зад от лавки.
— Оставайся у нас! — юношеским баском, но с детской искренностью предложил старший Филиппов сын. — А то возле мачехи уже крутятся всякие шибздики и голодранцы. А она — хорошая. Мы ее никому не отдадим! И сынов ее, наших брательников, не отпустим! Нече дом портить.
Иван смутился от слов юнца, заерзал по лавке, закашлял запершившим горлом. Савина молчала, не поднимая глаз. Из другого угла на него выжидающе посмотрел Анисим, младший Филиппов сын, и пролепетал, оправдываясь:
— Сперва Бог хворую мамку прибрал, потом и тятьку.
Ничего не сказал юнцам старый казак, но остался с Савиной, которую тяготило вдовство.
Утром она поднялась затемно, раздула и растопила стынущую печь, склонилась над лавкой в кутном углу, снова юркнула под Иванову шубу, прижалась щекой к его груди.
— Ну и грешница, ну и прелюбодейка, Осподи! — всхлипнула. — Двух мужей похоронила и опять за свое. Третий раз под венец ни за что не пойду!
— Не божись! — пристрожился Иван. — Пелашка грозит постриг принять. Говорила, будто скитницы требуют моего согласия. Все равно, как не было с ней жизни, так и нет.
Поднялись старшие сыновья Филиппа, загалдели Вихоркины погодки, послышался голос Якуньки. Они расшалились впятером, полати заходили ходуном: детское горе, как летняя гроза, — брызнули слезы и снова в глазах солнце. Зевая, неприязненно хмуря брови, слезла с печи Марфушка. Савина смущенно оторвалась от Ивана, поправила выбившиеся волосы, подхватила девочку на руки, не удержалась, поцеловала в румяную щечку, положила под тулуп к отцу.
Вздохнула, зевая и крестя рот:
— О-Оосподи! Дал бы Бог дочку, помощницу. Все мальчишки да мальчишки!.. Сорванцы!
Она поплескала в лицо из ушата со сгоревшей лучиной, встала под образа на молитву. Притихли сыновья и пасынки, стали спускаться с полатей, вставали рядом с ней. Как ни стыдно было Ивану объявлять себя в доме покойного товарища, но надо было подниматься.
Он кашлянул раз, другой, рыкнул, прочищая связанное горло, зевнул, перекрестился, укрыл уснувшую дочь и сел.
— А дядька Иван все у нас! — без осуждения приветствовал его Филиппов Гаврила.
— Умаялся вчера, — смущенно пробормотал Иван. — Заночевал.
— Места хватит! — одобрил старший. — Совсем оставайся. Большая семья бедной не бывает!
— Тятька прошлый год двух ясырей привозил, — твердеющим голосом поддержал брата Анисим. — Лодыри: жрать да спать. Поменяли у купцов на хлеб.
— Тятьку-то помянул — перекрестись! А то и заупокойную почитай! — ласково укорила пасынка Савина. На ее глазах блестели покаянные слезы. Утренние молитвы не были закончены.
Анисим послушно перекрестился и поклонился на красный угол. Закрестились младшие, Вихоркины. Рядом с ними молился Якунька.
Иван тяжко вздохнул, понял вдруг причину своей давней, привычной тоски. Он был в семье, чуждой вольному казаку, но которую стремится создать всякий мужчина. Не всем это удается. По грехам, не удалось и ему.
День был гульной, вольный. Иван с пятью малолетками навозил из лесу дров, нарубил их в запас.
Полдничали поздно. Он сидел с дочерью на коленях, степенно черпал ложкой разваренную кашу. Уже радостно думал о том, что снова останется с детьми на ночь и будет сидеть возле печки, с дочерью на руках, окруженный пятью нечужими мальчишками. И станет рассказывать им всякие небылицы, запомнившиеся от деда. Он то и дело ловил на себе ласковый взгляд Савины и не мог вспомнить, был ли когда-нибудь так счастлив, как в этот, сорок первый по кончине товарища, день в его доме.
Но к вечеру принесла нелегкая Меченку. Она громко хлопнула дверью и ворвалась в дом.
— Сколько ждать! — закричала на детей, сверкая разъяренными глазами. Никого, кроме них, замечать не желала. — Может, насовсем останетесь в этом блудилище?
— Останемся! — сдерживая гнев, рыкнул Иван. Он готов был удавить жену, напомнившую ему об обыденной жизни. Но взглянул на детей и сдержался. «Кто я? — подумал с тоской. — Месяцами, годами на службах. А она, какая ни есть, мать. И всегда рядом».
Филипповы и Вихоркины сыновья стыдливо помалкивали. Марфушка захныкала, Якунька стал покорно одеваться. Иван тоже схватился за шапку, накинул кафтан. Обернулся к Савине. Глаза ее были широко раскрыты, а в них мерцали страх и боль.
— До острога провожу и вернусь! — сказал, оборачиваясь к двери.
Едва спустились с крыльца, Якунька молча сиганул в сторону, забежал за амбар и перепрыгнул через заплот. Пелашка окликнула его, хлюпнув носом. Зашагала широко, не оборачиваясь. Молча тащила за собой дочь. Та едва успевала переставлять ноги, то и дело оборачивалась к отцу, ожидая от него помощи.
— Куда ты ее ведешь? — хрипло и грозно спросил Иван. — В свою грязную нетопленую избу? Или по соседям, как кукушка?
Пелагия не отвечала, лишь круче отворачивала лицо на бок. Дочь вдруг заревела в голос, повисла на ее руке, осев на снег. Иван понял, что жена поволокла ее не в острог, а к скиту. Тут только она обернулась к мужу с некрасивым, разъяренным лицом. Не лицо — чурка, дырки вместо глаз.
— Не мучь детей, кикимора! — крикнул Иван, подхватывая дочь. Отобрал ее силой, прижал к груди. Она, всхлипывая, крепко обхватила его шею.
Пелагия взвыла, как бывало в прежней жизни, кинулась, чтобы вцепиться ему в бороду. Иван оттолкнул ее плечом. Не бил, как в молодости. «Много чести!» — подумал с ненавистью.
— Антихрист! — трубно крикнула она, захлебнулась слюной, закашляла. — Нищий голодранец, дурак в дурацкой шапке!
Дочь заревела громче, уткнувшись в шею отца. Пелагия выругалась, озираясь, плюнула под ноги мужу, побежала за острог, на болото. «Тимофею и скитницам жаловаться!» — с облегчением подумал Иван и понес обратно плачущую дочь. Неумело успокаивал ее.
Увидев их, Якунька выглянул из-за глухой угловой башни, посмотрел вслед матери и осторожно двинулся за отцом.
— Ну, не реви! — гладил дочь Иван. — Повздорили с мамкой. Мы всю жизнь с ней спорим. Что с того? Спать со мной будешь. Тетка Савина накормит.
— Мамку жалко! — прерывисто вздыхая, дочь зашмыгала носом. Ее жаркое дыхание грело Ивана под бородой. Горячие слезы щекотали шею.
— Добрая ты! — он вздохнул всей грудью и крепче обнял дочь. — А лицом в мать. Красавицей будешь. Судьбу бы тебе еще вымолить добрую.
Якунька шагал под боком и молчал, посапывал носом, прислушивался к бормотанию отца.
— А чей хлеб будем есть у тетки Савины? — спросил вдруг не по-детски настороженно и строго.
— Мой, конечно! — удивленно буркнул Иван. — Не монастырский же. И у Тереха мой ели, и здесь. Не нищие, слава богу! Мы — люди служилые, с государева жалованья живем, с оклада.
На третий день Пелагия все же выкрала дочь. Но два дня Иван прожил счастливо. И долго те воспоминания грели его душу у костров. Вскоре он стал собирать обоз на Маковский острог за рожью да по наказу воеводы должен был проверить там амбары и ясачные книги, осмотреть гостиный двор. Торговые снова жаловались на маковцев.
Загружая обоз, Иван столкнулся со скитницей Стефанией Кошелевой, которую знал давно. Монашенка испуганно взглянула на сына боярского и отскочила, как от чумного. Крестясь, понеслась в обратную сторону.
С ней у Ивана никогда не получалось разговоров. Не слишком-то удивила его и эта встреча. Но вот он поклонился игуменье Параскеве Племянниковой, с которой всю жизнь был в добрых отношениях, а молодым даже увивался возле нее с тайными помыслами. Скитница взглянула на него строго и неприязненно. Не ответила на поклон. Старый поп Кузьма, белая борода, тот и вовсе раскричался у амбаров, в подклете новой, строившейся церкви:
— Покойник еще в земле не остыл, а ты, бл…н сын, при живой жене вдову товарища ко греху склоняешь! Анафемское отродье!
— Что орешь, батюшка? — вспылил Иван. — Моя ли вина, что Пелашка ни пострига не принимает, ни со мной не живет? Что мне, удом лед долбить или ясырку тискать?
Стоило ему напомнить про дикарок, лицо попа побагровело, он разъярился пуще прежнего и вперился в Ивана ненавидящим взглядом. Добрая половина посада жила с невенчанными ясырками. Иные казаки продавали их друг другу: кто на время, а кто и совсем, самые беспутные жили с двумя сразу и даже похвалялись этим.
— У нас шесть детей! — стал оправдываться Иван.
— Вавилон, истинный Вавилон и Ассирия! — затопал ногами старый поп, будто ему присыпали солью рану. Мотнул четками, как кистенем: — Ты за себя ответ держи, на других не кивай! Братья Иосифа тоже оправдывались и на других указывали, когда не убили младшего, а только продали его и отца обманули.
— Оговорила, курва лупоглазая! — обругал Иван жену и ушел от разъяренного попа.
Вернулся он из Маковского с рожью через две недели. Дочь и сын жили у Савины. В доме было чисто и тепло, пахло хлебом. Посередине стола стояла плошка с мороженой брусникой, каравай свежего хлеба был прикрыт чистой тряпицей. Едва он вошел в дом, Вихоркины сыновья кинулись к нему как к родному. Якунька дичился, но тоже был рад встрече и убежал вместе со старшими, михалевскими, топить отцу баню.
И снова сидел Иван возле печи, сушил бороду и волосы. Любовался дочерью, поглядывал на Савину. «Вот оно, истинное счастье!» — думал. И всякие мучившие его прежде помыслы о дальних службах, о неведомых землях казались ему глупыми и пустячными.
Глава 9
На бесславных службах спокойно, безбедно и даже счастливо Иван Похабов прожил в доме Савины четыре года. После десяти лет в чине сына боярского при воеводе Осипе Аничкове к его прежнему казачьему окладу государь милостиво добавил три рубля.
Новый воевода много строил. Он расширил острог до восьми башен, обновил посадскую Богоявленскую церковь, пристроив к ней новый придел. От имени всех енисейских служилых и посадских людей отправил царю заручную челобитную, спрашивая высочайшего согласия построить церковь Михаила Малеина, небесного покровителя царя Михаила.
Монахиням с их многочисленными вкладчицами, работницами, нахлебницами, калеками и старухами воевода помог заложить женскую Христо-Рождественскую обитель. Его наставлениями, а то и понуждением по праздникам и воскресеньям после литургии грешные енисейцы валили и тесали лес в верховьях реки. Плотами сплавляли его к острогу и таскали на сухую возвышенность среди болота, к скиту старца Тимофея. В обители с шестью монахами также ютилось много дряхлых промышленных, служилых и просто калек.
К этому времени от старой стрелецкой сотни в Енисейском остроге остались одна память да полтора десятка старослужащих казаков, которые иногда называли себя стрельцами. Остальные разбрелись по всей Сибири и получали казачье жалованье. Острог обновился ссыльными и присланными. Гарнизон насчитывал уже до трехсот человек, а при самом остроге, как и прежде, нес службу десяток старых и увечных казаков.
Якунька Похабов к шестнадцати годам был зачислен в казачий выбылый оклад. На первую службу он ушел с атаманом Перфильевым в Братский острог, поставленный Николой Радуковским.
Петр Иванович Бекетов с бывшими стрельцами, казаками и прибывшими людьми зимовал на устье Олекмы. В его отряде служили Гаврила и Анисим Михалевы да Емельян Савин — старший сын погибшего Вихорки. Ивашка Струна прибился к Бекетову охочим человеком, ходил с ним в походы и, по слухам, был поверстан в выбылый казачий оклад. Младший сын Савины и Вихорки Савина, Вторка-Петр, на заимке своего дяди, Терентия, пахал землю. Михалевский дом пустел, лишь время от времени наполняясь шумом молодежи, прибывшей со служб или с заимки.
Пелагия все эти годы ходила в послушницах при женском монастыре. Отчего не приняла постриг — никто не знал: то ли из вредности, чтобы не дать повенчаться Ивану с Савиной, то ли по своим грехам.
В начале сентября Иван Похабов получил денежное жалованье, а также рожь, соль, крупы и ссыпал их в ларь михалевского дома. Савине и дочери купил в зиму шубейки и теплые сапоги. Два битых ефимка он зашил в подкладку кафтана, на черный день.
Иван уже собирался на новую службу, когда услышал, что в острог прибыл атаман Перфильев. Бросив дела, он побежал в съезжую избу и столкнулся там с атаманом в такой дорогой шубе из черных лис, что не узнал его лица. Зажмурился, не поверив глазам, помотал бородой, отступил на шаг и только тогда разглядел, что это Перфильев, да не тот.
— Е-е-е! — воскликнул удивленно. — Илейка? Беглый? Ты, что ли?
— Был Илейка, да вышел! — с важностью ответил младший Перфильев. — Нынче атаман Илия! Поликуемся, что ли? — смешливо потянулся к Ивану.
— Это как же ты атаманство набегал? — обнял молодца и снова с восхищением оглядел его Иван. — А Пенда с Ермогеном где? А Иваны, что с тобой бежали?
— Все расскажу! Ничего не утаю. Приходи нынче к братанихе.
Долгие расспросы-переспросы атамана воеводой и подьячим, скрип перьев, молчаливое ожидание, когда прикусивший язык писец кивнет, чтобы продолжить, слушать все это Похабову быстро надоело, да и некогда было. Его подначальные люди при попе и целовальнике считали мешки с красноярской рожью.
Со своими делами он управился только к вечеру. Отряхнул кафтан, двинулся напрямик к Настене с крестником.
Илейка с красным еще, распаренным лицом, в красной шелковой рубахе сидел под образами. В бороде его поблескивали капли влаги, а из-за уха торчал березовый лист, слипшиеся мокрые волосы были расчесаны на ровный пробор. За столом уже собрались лучшие люди острога: подьячий, поп Кузьма, бессменный таможенный и кабацкий голова Ермес, сын боярский Никола Радуковский.
Иван торопливо перекрестился, по-свойски плюхнулся на лавку, с маху выпил чарку, поднесенную Настеной, проглотил блин, не заметив ни крепости вина, ни вкуса закуси, и в оба глаза глядел на бывшего своего беглеца.
— Ермоген нынче в острожке, на устье Киренги, намаливает место под город! — помня вопросы сына боярского, степенно отвечал ему Илейка. — С Пантелеем они разошлись. Того в прошлые годы я видел в Якутском остроге. Его и Михейку Стадухина воевода Головин держал в яме, пытал кнутом о земле Погычи, куда они двое будто знали путь, но скрывали. А последний раз встречался я с Пантелеем Демидычем на реке Индигирке, где он промышлял. А ту реку прежде него нашел я и был там первым.
Семейка Шелковников — торговлю бросил: на устье Куты, при солеварне, был в целовальниках, потом поверстался в казачий оклад. Служил у воеводы Головина, в Якутском. Тоже за что-то был бит кнутом, сидел в яме, а нынче на дальней службе. Ивашка Ребров служит на Лене. А другой Иван, Сергеев, пропал без вести лет уж пять. Даст Бог, вернется.
Больше Похабов ни о ком не спрашивал. Слушал рассказы бывальца и очевидца о дальних, неведомых землях, пил не пьянея, ел не насыщаясь, пока не почувствовал, что расперло живот. Тогда он откланялся и поплелся домой. Голова была свежа, а ноги заплетались.
Шел он, покачиваясь, и все хмыкал в бороду. Илейкины сказы растравили давно унявшийся зуд в груди. Где-то под костьми, глубоко упрятанные, полузабытые, томили душу несбывшиеся помыслы молодости о подвиге во славу Божью да за свой народ.
— А подь ты! — плевал он через левое плечо. — Хорошо живу! Лучше никогда не жил! Да и поздно уж бродяжить.
— Ты чего это загулял? — смеясь, встретила его Савина.
Иван молча скинул кафтан, сел против печки. Насупившись, долго глядел на угли в каменке, притом все скоблил и скоблил пятерней грудь под распахнутым воротом рубахи. Спохватившись, ответил заплетавшимся языком:
— Илейка Перфильев вернулся с полуночных стран. В прошлые годы убежал туда от меня. Максимка сколько трудов положил, чтобы оправдать его. — Помолчал, вздыхая, вскинул на Савину мутные глаза: — А мне куда уж в дальние-то края? И с тобой хорошо! Чего еще? — пробормотал не совсем уверенно. Замотал головой. — Блажь! Прости, Господи!
Со светлой печалью о несбывшемся он ушел на службу до Филипповского поста, а вернулся после Пасхи. Его подначальные люди тут же разбежались по домам. Иван бросил у острожных ворот пустые нарты, с мешком ясачной рухляди пошел к воеводе, но дойти до съезжей избы не успел. Догнала его и вцепилась в рукав кафтана постаревшая, сморщенная Тренчиха.
— Твоя-то, шалава, Марфушку замуж отдала! — прошамкала, гневно сверкая глазами.
— За кого? — ахнул Иван.
— За Савоську, сына ляха Нужи!
— Как можно отдать девку замуж без благословения отца? — вскрикнул Похабов, встряхивая старуху за плечи.
— Продала родную дочь? — догадался Иван.
— Ходят и такие слухи! — оглядываясь по сторонам, подтвердила Тренчиха. — Ведьма она и есть ведьма!
Он оставил на полуслове жену товарища, ворвался в съезжую избу, швырнул на лавку мешок с ясаком. Не поклонившись на образа, схватил подьячего за ворот.
— Говори! Продали мою дочь?
Воевода Осип Аничков с побагровевшим лицом поднялся на помощь перепуганному подьячему, усадил на лавку сына боярского, бешено вращавшего глазами, стал вразумлять:
— Подумай, кому бы я позволил без твоего согласия продать твою дочь? О чем кричишь? — Обернулся к крепостному столу. Приказал подьячему: — Открой крепостную книгу, покажи записи! — И к Ивану: — Ты же грамотный, читай! Со времени твоего ухода проданы три ясыря, две ясырки. Вдова гулящего, хлебного оброчника Чекотеева продала свою дочь десяти лет бывшей сотничихе Фирсовой, жене Шоринской. Все! А что там болтают по подворотням, тому я не ответчик.
Иван тупо уставился на исписанную страницу прошнурованной книги. Поводил пальцем по строкам, читая вслух. Остыл, смутился.
— Прости, христа ради! Бес попутал! — повинился перед подьячим. — Не оторвал ли ворот?
Он сдал ясак, сбивчивым, пьяным языком рассказал о волостных новостях, передал челобитные ясачных родов, запоздало положил семь поклонов на образа. Сутулясь, поплелся в посад к Савине. Она знала о его возвращении и топила баню.
На пути ему встретился молодой казак Дмитрий Фирсов, старший сын утонувшего сотника. Митька приветливо откланялся сыну боярскому:
— Как служилось, дядька Иван? Гляжу, идешь невесел?
— Слава богу! — отмахнулся от печальных мыслей Похабов. Взглянул на статного молодца, вспомнил, что уже не первый год служит и младший сын Поздея Фирсова, Никитка, родившийся после гибели отца. Вздохнул, прикидывая, сколько же лет промелькнуло. Вспомнил про кабальную запись: — Чего это твоя мать решила дочку у гулящих купить?
— А пожалела! — рассмеялся молодой казак с густым кучерявым пухом по щекам. — Вдова собралась замуж за казака. А тому на службу. Отчим у матери все дочку просил, да не дал Бог. Вот и решила обрадовать, как вернется.
Только на другой день, обласканный Савиной, Иван пришел в себя от ошеломившей его новости. Мирно укорил Петруху Савина:
— Уж лучше бы ты женился на Марфушке, если ей приспело.
Вторка густо покраснел, опустил глаза, обидчиво отворотил лицо, становясь еще больше похожим не на отца, а на своего дядьку Терентия. Справившись со смущением, пробубнил баском:
— Женился бы! Поди, прокормил бы. Как-никак свой хлеб ем. А поп сказал — нельзя с ней венчаться! Одним домом жили. Родственники!
Петруха-Вторка заскрипел зубами, лицо его покрылось пятнами:
— Савоська все крутился возле нее. Мы с Емелькой и с Аниськой два раза морду ему били. Хоть бы что. Совести у него нет. Ублюдок, болдырь. А тетка Пелашка его сильно привечала. Что тут поделаешь?
Савоська, пронырливый сын пленного ляха, был записан в посад колесником, имел славу смутьяна и придурка, делал колеса к телегам и телеги, тайком курил и продавал вино. О его тайнокурении знали в посаде и в остроге. Но он умудрялся дружно жить с кабацким головой Ермесом, как-то сговаривался с ним. Кого-то за тайнокурение клали под кнут, а над Савоськой смеялись, били только под горячую руку.
— Много про все это говорят, — досадливо отмахнулась Савина от расспросов Ивана. — Сказывают всякие небылицы.
— Расскажи, что говорят! — потребовал он.
— Грех такие нелепицы передавать. Сам знаешь! — поджала губы Савина.
— Нам — все грех! С них все, как с гуся вода, — проворчал Иван. — Дали бы попу ефимок и обвенчал бы Марфушку с Петрухой. Савоська кому надо дает, и ничего, рука не отсыхает. — Помолчав, обернулся ко Вторке: — Матери грех, так ты скажи, о чем люди говорят.
— Нет уж! Лучше я сама! — засуетилась Савина, боязливо крестясь. — Одни говорили, что Пелагия продала дочь и сделала вклад в женскую обитель.
— Брешут! Проверил! — хмуро буркнул Иван.
— Еще говорят, — она смущенно опустила глаза и пролепетала, — будто твоя, венчанная, в блудной связи с молодым Савоськой. А дочь за него отдала, чтобы грех прикрыть. Она же не стареет. Другие говорят — ведьмачит, — прошептала с несчастным лицом и часто закрестилась на образа в красном углу. — Захочет, и моих кобелей уведет! — кивнула на Вторку.
Лицо парня опять налилось краской.
— Так то же грех великий. Камнями забьют! Не поверю! — замотал бородой Иван. — Забрюхатил, гаденыш, Марфушку. Она же добрая, ласковая, не в нее, в стерву. Вот и отдала поспешно!
— И так говорят! — покладисто согласилась Савина, а Вторка уронил голову на руки.
— Да и девке пятнадцать лет уже. Моложе отдают. Ты дочь-то навести! — Савина ласково прильнула грудью к плечу Ивана. — Одари ее! Не ругай! Не надо. Итак, бедной, плохо.
— Зайду! — тяжко вздохнув, согласился Иван.
— Сегодня зайди! — настойчивей попросила Савина. — Нынче Савоськи дома нет. Не повздоришь!
Дочь свою Иван встретил в церкви. Окинув ее взглядом, чуть не всхлипнул: не успела еще войти телом в девичью пору, а голова уже покрыта по-бабьи, волосы заплетены в две косы, лицо в темных пятнах, плечи покосились, явно брюхата, но покрыта венцом.
Взглянул Иван на Меченку, беспечально певшую на клиросе. Отметил про себя, что та и правда не стареет: хоть за молодого отдавай.
Постояв рядом с дочерью, он мирно отошел в правое крыло, к мужчинам. Меченка обернулась с клироса. Глаза их встретились. Она одарила мужа мстительным и победным взглядом, запела громче, по обыкновению изгибалась змеей в такт пению, вздрагивала телом, набирая воздух в грудь, при этом так выпячивала круглый зад, что смущала холостых.
Отстояв службу, Иван подхватил дочь под руку, вышел с ней на крыльцо. Оба положили поклоны на храмовую икону, не сговариваясь, пошли к дому Савоськи.
— А самого сегодня дома нет! — боязливо прощебетала Марфа.
Не понял Иван, то ли радуется тому дочь, то ли оправдывается. Опасаясь обидеть ее, он не выспрашивал, как вышла замуж и почему не дождалась благословения отца. Вдвоем они вошли в добротный посадский дом. Он был небеден.
Дочь просеменила в сени, вернулась с деревянным подносом, на нем — чарка с водкой, хлеб, квашеная капуста, оставшаяся с зимы. «Запаслив зятек!» — подумал Иван, перекрестился, выпил, поцеловал дочь, положил на блюдо выпоротые Савиной ефимки. Марфа смущенно поклонилась.
Клацнула дверь. По-хозяйски вошла в дом Пелагия. Уже по ее виду Иван понял, что она живет с молодыми.
— Мог бы и одарить дочь! — хмыкнула, не заметив денег на подносе.
— Тятька меня всегда баловал! — обидчиво вскрикнула Марфа. Показала матери деньги.
Меченка завистливо проворчала:
— Меня так не дарил!
— Не за что было! — прохрипел, не сдержался Иван и схватился за шапку. Зол был на Меченку, боялся переругаться с ней при дочери. А на душе клокотала обида. И понесли его ноги в кабак.
Он вошел, оглядел сидевших за столами. Ни выпить, ни поговорить было не с кем: все новые, молодые. Сел в углу. Поерзал по лавке. Опрокинул в рот чарку, встал, не промолвив ни слова, пошел к Савине. Больше никуда не хотелось идти.
Ласки и уговоры доброй вдовы подействовали: Иван смирился, стал вслух думать о старости, которая была на пороге. И тут, будто по-писаному, у него появилась возможность осесть на одном месте.
Воевода позвал сына боярского в съезжую избу, загадочно улыбаясь, усадил напротив. Его гладкое, круглое, выбритое лицо пламенело нездоровым румянцем со светло-серыми плешинами. Под редкими усами змеились пухлые, сочные губы. Он бросал на Ивана смешливые испытующие взгляды и потирал руки.
— Против Подкаменной Тунгуски, на притоках Дубчесе и Тунгулане бывал? — спросил, посмеиваясь.
— Как не быть? — пожал плечами Иван и подумал, что опять начались споры с мангазейскими казаками. — Горы там поперек реки. По эту сторону наше было, по ту, к полночи, их.
— Слободу на нашей стороне знаешь?
— Ворогову, что ли? — вскинул глаза Иван. — Как не знать!
— Пять лет стоит слобода, — непонятно чему посмеиваясь, проворковал воевода. — Основали ее промышленные люди Иван Ворогов и Григорий Цыпаня. Слободчик[229] Ворогов тягло бросил, подался в бега из-за долгов. Гришка помер. Государев завод на всех слобожан дан, семена шлем каждый год, а прибыли с государевых десятин все нет. Нынче пашенные слобожане выбрали старостой Цыпаню Голубцова. Он приехал ко мне и просил безоборочной льготы на десять лет. Плакал, что слобода бедная, содержать приказчика, писаря, казаков нет мочи. Просит грамотного приказчика на свой хлеб. Я ему и говорю: есть у меня сын боярский, грамоту знает, без писаря обойдется, к тому же старый рубака, если понадобится, один твоих пашенных защитит. А места там тихие, сам знаешь. Разве промышленные люди расшалятся или мангазейцы станут задирать. Не служба — мед! Всю зиму на печи пролежишь! — воевода опять рассмеялся, подмигнул и потер руки.
— А что, — помолчав, согласился Иван. — Старость не за горами.
— Вот и служи мирно! — Кровь отхлынула с лица воеводы, поблек румянец на щеках, выдавая скрытую хворь. Он взглянул на Похабова пристально и добавил с каким-то намеком: — Коли ты сын боярский, то войди в государеву выгоду и в мою, воеводскую, тоже.
Перезимуешь по-царски! — добавил как о решенном. Принужденно хохотнул: — И вдову полюбовную с собой возьми. Там никто вас корить не будет. Попа в слободе нет.
Иван не стал оправдываться, кивнул, показывая, что готов послужить слободчиком.
Едва он вместе с воеводой вышел на крыльцо съезжей избы, со многими поклонами к ним подбежал улыбчивый пашенный с вислой сосулькой редкой бороды.
— Тамошний староста, Цыпаня Голубцов, — указал на него воевода.
Слобожанин в плохоньком зипунишке угодливо закивал Ивану, показывая, что готов служить ему по совести. А плутоватые глаза бегали то на него, то на воеводу. И показалось Похабову, что оба они, воевода и староста, поглядывают друг на друга, будто в сговоре между собой.
Служба в слободе считалась у казаков самой легкой. Государева жалованья за нее не давали. Приказчик жил на содержании вольных пашенных людей, надзирал за порядком запашки государевой земли, посева, жатвы и сушки государева зерна. Беломестные казаки, если они были, тем лишь и отличались от слобожан, что не запахивали государевой десятины, а только свою землю.
Со светлой печалью под сердцем Иван вернулся в дом Филиппа Михалева. В нем было тихо и пусто.
— Ну вот! — грустно улыбнулся Савине. — Дети выросли, мы постарели! Поплывешь со мной за триста верст? Будем жить без разлук. Глядишь, в покое и в сытости встретим старость.
Савина навестила сына на заимке Тереха, простилась с Капитолиной и соседями. Иван с Цыпаней просмолили барку в пять саженей длиной, загрузили ее рожью для озимого посева. Похабов снес в барку немногое нажитое добро да зимнюю одежду. С тремя казаками, отправленными на Сым, они поплыли к Вороговой слободе в полуночную сторону. Она была самой северной из пашенных деревень и заимок Енисейской волости.
Плыли с самого рассвета до сумерек пять дней. Ночевали у костров. Иван поглядывал на пламеневшие угли и все посмеивался над собой, над бывшими молодыми и смутными помыслами.
В не огороженном тыном поселении из четырех домов была поставлена часовня. Ей подчинялись четыре небольших деревеньки, где в один двор, где в два.
К приезду приказчика приказная изба была натоплена и вычищена. В ней пахло дымом и мышами. Завидев барку на воде и Цыпаню Голубцова, к прибывшим выбежали приветливые пашенные слобожане. Они перетаскали семенную рожь в амбар, а пожитки приказчика — в избу, стали ласково, христа ради, зазывать к себе подкрепиться с дороги.
Всех их властно осадил староста:
— Дайте людям отдохнуть! Путь был не близок. А обед мы им пришлем.
Прошел день и другой. Иван верхом на коне объехал деревни и поля. На бедный, как говорил воевода, здешний пашенный народ никак не походил, хотя при приказчике все только и говорили о скудости земли. «Кабы не тайга-матушка, — жаловались, — с голоду бы перемерли».
Иван осмотрел государевы поля. Приметил, что против одной государевой десятины слобожане запахивали по семь-восемь своей вместо пяти положенных законом. Под покосы землю никто не мерил: косили кому сколько надобно, при каждом дворе, на ручьях, стояли мутовчатые маленькие мельницы, налогов с них не платили. Высматривая все это, стал замечать Иван, что староста сердится, неохотно отвечает на его вопросы и все толкует:
— На что тебе вызнавать нашу бедность? Живи себе, прокормим как-нибудь. А со своими делами сами управимся.
— Как же? — мягко возражал Иван. — У меня наказная память воеводы. Велено осмотреть поля и жилье, следить, чтобы вовремя вспахали государеву землю, чтобы засеяли зерном при мне. А после урожай наказано сверить, для государевой пользы. За пашенными следить, чтобы не блудили, не пьянствовали, в карты и в зернь не играли.
— Паши не паши! — устало противился староста. — Все тут же сорняком зарастет. Тайга рядом! Прет из нее дикое семя. Пуд ржи посеешь — полпуда пожнешь.
Весь обратный путь Цыпаня был хмур, отвечал на вопросы обидчиво, но вечером, с улыбками и поклонами, принес в приказную избу полуведерный жбанчик вина. Другой слободской мужик привел овцу, принес пуд перемолотой ржи и коровьего масла.
На Троицу все гуляли широко и сытно, забыв про убогую бедность, на которую жаловались. Приходили, кланялись, поздравляли приказчика с хозяюшкой. И Похабов два дня пьянствовал, веселился со всеми, на третий опохмеляться не стал. Отлежался, дал слобожанам отгулять неделю, а после, сперва ласково, затем строже, начал приказывать, чтобы все готовились к запашке под озимь.
Чем строже требовал сын боярский то, что наказал ему воевода, тем неприязненней поглядывали на него пашенные. Пришел Цыпаня, уставший от гульбы, постаревший, печальный. Поставил на стол флягу с вином, повздыхал, качая головой. Взглянул на Ивана мутными, злыми глазами, попросил:
— Не мешал бы ты нам жить как знаем!
Принудил-таки Похабов слобожан вспахать государевы десятины. Не дал им семенной ржи, но при себе заставил засеять поля. Пашенные в отместку перестали давать ему пропитание.
Собрал их Иван. Объявил им сам, не через старосту, с какого дома когда и сколько будет брать ржи, масла, овощей. Мясо и рыбу решил добывать сам.
Пришла осень. Иван с Савиной жили уединенно, окруженные всеобщей неприязнью. Никто к ним не заходил, не кланялись, как прежде. Свое оговоренное пропитание приказчик забирал чуть ли не силой. А каждый пашенный дом имел от десяти до тридцати насельников. При хозяине и его семье, как при монастырях, ютились нахлебники и захребетники, податей не платившие, но все они работали, никого даром не кормили.
В зиму ловили рыбу, промышляли зверя и мех, втридорога продавали рожь и масло воровским ватагам. Против государева указа каждый дом курил вино и продавал его беспошлинно. На все это Иван глядел сквозь пальцы. Но урожай с государевых десятин хотел взять сполна.
Два раза в зиму пашенные бунтовали, подступая к приказной избе с кольем, но скоро поняли, что Похабова этим не запугаешь, и притихли. Ранней весной, едва сошел снег с полей, Цыпаня приехал с письменным наказом от воеводы: слободскую службу сдать, вернуться в Енисейский острог.
— Ну вот! — пожаловался Иван Савине. — Не увидим, как заколосится наша рожь! Может быть, так и лучше.
Завидев сборы, явился в дом Цыпаня. Глаза его были будто маслом намазаны. Ласково поглядывая на приказчика, он поставил на стол кувшин с вином, положил связку соболей.
— Не обижай нас, грешных! — пролепетал, скрывая гневные огоньки во взоре. — Не покидай со злом!
Похабов соболей не взял, не стал пить вина, чем пуще прежнего рассердил слобожан. Они опять окружили его дом, вопили, угрожая: «Утопим дворянского выблядка!»
— Убьют ведь по дороге! — переполошилась Савина.
— Не убьют! — жестко усмехнулся Иван.
Он выбрал казенный стружок о четырех веслах, силой забрал у старосты двух лошадей. Когда в струг были погружены те же пожитки, с которыми они приехали, сын боярский скрутил старосте руки за спиной.
— Все равно поедешь следом, жаловаться. Так лучше уж вместе!
Он велел завывшей жене старосты принести тулуп и еды в дорогу.
— Аманатом в острог беру! — объявил столпившимся слобожанам. — Увяжетесь за мной или шалить станете дорогой — зарублю Цыпаню первым! Потом вам головы отсеку.
Поняв, что задумал приказчик, староста успокоился:
— Твоя правда! Все равно к воеводе ехать!
Енисейский острог встретил Ивана Похабова плохими новостями. Еще на подъезде к посаду он узнал, что воевода Осип Аничков умер и похоронен во временной могиле. В холода гроб с его телом собирались везти в Тобольск.
Не обошла беда и Меченку. По доносу зятя на колдовство она сидела в женском скиту на цепи.
Поначалу, услышав последнюю новость, Иван только сплюнул. Но под сердцем заныла старая рана: «Сожгут ведь старую дуру!» И как ни старался он озлить себя, вспоминая перекошенное злобой лицо Меченки, стояла перед глазами растерянная, перепуганная девка, кинувшаяся к нему за помощью возле студеной проруби.
Он не помнил, как разгрузил струг. Вернувшиеся со служб Гаврила с Анисимом перетаскали пожитки в дом. На их вопросы Иван отвечал сбивчиво, знакомых не узнавал. Савина взяла его за руки, ласково и пристально заглянула в глаза.
— Изведешься ведь! — всхлипнула. — Мало ли что люди болтают. Сходи, узнай!
Была и другая новость: на перемену умершему воеводе прислали сына боярского Федора Уварова. Говорить с вызванным и снятым со служб приказчиком ему было некогда.
Перфильев с сыном Якунькой еще не вернулись из Братского острога. В Енисейском были атаман Иван Галкин и Петр Бекетов в новой должности казачьего головы.
Начинали выходить из тайги промышленные ватаги. Торговые, посадские да кабацкие откупщики с прислугой радостно встречали их. Из Березова и Тобольского городов в Енисейский прислали по полусотне новоприборных казаков с тамошними, березовскими, окладами. Народу при остроге было множество. Как всегда, по прибору пришли вздорные людишки, от которых воеводы хотели избавиться. Добрых казаков никто не давал. Иван потолкался среди них возле съезжей избы и встретил здесь Бекетова.
С радостью обнялись, расцеловались старые друзья.
— С тобой я свое головство еще не обмывал! — шевельнул седеющими усами казачий голова. — Дождись! Ваську Колесникова, репейное семя, выпровожу, потом поговорим!
Иван дождался товарища, одиноко сидя возле коновязи. Наконец тот появился, оглянулся по сторонам, выискивая друга взглядом. Придерживая сабли, сыны боярские пошли за ворота. Степенно положили поклоны на образ Божьей Матери Знамение с внутренней стороны острога, снаружи — на Спаса и двинулись в кабак.
— Бекетиха нынче злющая! — смущенно оправдался Петр, что не зовет товарища в дом. — Давно гуляю!
Кабак был полон народу. Казачий голова высмотрел атамана Галкина, властно направился к нему. На лавке подвинулись.
— Слыхал про свою? — спросил голова, едва они уселись. — Дело темное и крученое. Пелашка на зятя подала донос, что вино курит. Будто кто этого не знал. А тот на нее, в отместку, — за колдовство! Будто высмотрел, что в бане хлебом пот с себя стирала, чтобы его накормить и присушить. Дурак! Ладно, если здесь, в обители, тяжбу решат. За колдовство могут и в Патриарший приказ повезти с приставами. А уж там-то спросят, зачем это зять на голую тещу пялился? А как покажет она, под кнутами, что он и с ней, и с дочкой сожительствовал? А? Так и затянет ублюдка на свой костерок: вдвоем-то и там веселей!..
Заметив, что сильно опечалил товарища, казачий голова спохватился:
— Зато дочь твоя внука родила! Он, даст Бог, не в них, в тебя пойдет! Казак!
Пока половой не принес полуштоф, атаман Галкин налил сынам боярским из своего кувшина.
— С дедовством, что ли? — кивнул Похабову.
Выпил Иван за свое дедовство, не поперхнулся. Не ударило вино в голову. Стояла перед глазами Меченка с бирюзовыми глазами в слезах. Мысленно корил ее: «Добесилась? Дозлобствовалась, стерва?» А жаль было дурную бабу, хоть волком вой. Понимая его печаль, Бекетов скосил на столешницу круглые глаза. Сказал приглушенно:
— Подступался я к новому воеводе про твою. Не до того ему. И не по чину вмешиваться в дела обители. Вот ведь, шельмец, — опять ругнул Савоську, — хитро выбрал время для доноса.
— Нынче все плуты волчками вертятся! — поддержал Бекетова старый атаман Галкин. — Их время! Васька Колесник, — кивнул голове, — с моей легкой руки в пятидесятники вышел.
— Умеет! — вздохнул Бекетов.
— Что Васька? — встрепенулся Иван.
— Государь получил от наших никчемных людишек тайком отправленную челобитную. А заводчик ей — Васька. С его слов государь нас ругает, что прижились, о его службах не радеем, живем ради живота и корысти. Так обидел Аничкова, что тот помер. А ведь столько всего построил, скитники и попы за него день и ночь молятся. И прислал государь нам в помощь этих вот. — Галкин обвел трезвым, немигающим взглядом новоприборных березовских и тобольских казаков, между которыми завязывалась драка.
— Народу много, а Перфильева в Братском менять некем, — пояснил Бекетов. — Не этими же! — с презрением кивнул на гулявших. — А Ваську Колесника с сотней служилых и охочих по государеву указу воевода обязан отправить на Ламу для прииска новых земель и народов.
В кабак протиснулся Цыпаня Голубцов. Боязливо пошарил глазами по толпе пьяных служилых. Заметил Похабова, осклабился, потеребил вислую бороденку, просеменил к нему с опущенной головой и ласковой, плутоватой ухмылкой на губах. Встав за спиной галкинского казака, сидевшего напротив Ивана, съязвил:
— Что, Иван Иванович, не дождался воеводы? А меня, грешного, он принял. Дает нам десять лет безоборочной пашни. Как жили, так и будем жить!
По лицу Похабова казак атамана Галкина о чем-то догадался. Не оборачиваясь, схватил за грудки гундосившего ему под ухо старосту, перегнул его через свое плечо так, что бороденка слобожанина свесилась на середине стола. За все свое прежнее терпение Иван, не поднимаясь, хрястнул его кулаком по лбу. Цыпаня отлетел к двери. Служилые захохотали. Среди березовских разгоралась настоящая драка. Староста со злым, перекошенным лицом выскочил за дверь.
— Вот ведь людишки! — брезгливо поморщился Иван. — Что этот, что Ермес с Савоськой. Воеводы меняются, а им хоть бы хны. И что так?
— Непонятливый! — презрительно хохотнул Иван Галкин. — Воеводы с их рук кормятся.
— Этот при мне только два раза ходил с поклонами. На тебя жаловался, — усмехнулся Бекетов и вскинул глаза на Ивана. — Иди-ка ты в Братский, на смену атаману Перфильеву! Людей дам каких найду! — снова окинул тоскливым взглядом тобольских и березовских переведенцев.
— В Братский так в Братский! — согласился Иван. — Не впервой. Как бы Меченку вызволить из скита! Сожгут ведь, дуру!
— Она не стрижена! — подмигнул Бекетов. — Требуй у воеводы своего, мирского суда. — Цыкнул, шевельнув усами, буравя Ивана пристальным взглядом. — Первый кнут доносчику. А нынче при остроге оклад палача не впусте. — Дал совет и весело заговорил будто о другом, но все о том же: — Ты на Лене не был, не помнишь, со стольником Головиным через Енисейский проходил служилый Босаев. Убивец и казнокрад, был он в бегах от воеводы. Поймали его под Илимским. По грехам должны были отправить в Москву. А Оська Аничков, царствие небесное, предложил ему вместо виселицы послужить в окладе палача. Если его хорошо попросить, он твою Марфушку одним ударом овдовит, — казачий голова возвел глаза к потолку и смиренно перекрестился.
Иван хрипло вздохнул, крякнул, поднялся, поблагодарил товарищей за угощение, стал протискиваться между лавкой и стеной к выходу. Свежий ветер с реки трезвил голову. Сумеречно темнел вдали другой берег.
Дурная голова да непослушные ноги пронесли сына боярского мимо михалевского дома, к женской обители. К вечеру в посаде было пустынно: жители рано запирали ворота и ставни окон, настороженно переживали беспокойные ватаги промышленных людей, которые выходили из тайги.
Иван остановился против крепких тесовых ворот Савоськи. Постоял, упершись руками в бока. Решительно пошел на них грудью, заколотил кулаками, стал бить каблуками сапог. Залаяли собаки за забором.
Иван оглянулся, никого не увидел и, с неприличной для его бороды прытью, перемахнул через тесовый, положенный городом заплот, оказался в чистом дворе, застеленном плахами. Сенная дверь приоткрылась. Из-за нее высунул стриженую голову ясырь, удивленно полупал на гостя щелками глаз. Иван оттолкнул его, протиснулся в сенную дверь. Ясырь пронзительно завопил. Со стенного штыря свалилось коромысло.
Распахнулась дверь в дом. В рубахе без опояски в сени выскочил Савоська с бердышом. Иван схватил коромысло, в один удар отбил отточенное острие, оказался лицом к лицу с зятем, схватил его за горло, дважды стукнул темечком о стену, закричал:
— Сукин сын, чего ради тещу оговорил?
Савоська захрипел, хватаясь за руки тестя. Выскочила дочь с распущенными волосами, повисла на плече отца, заголосила:
— Отпусти его, тятька! Добром уговорю освободить мамку!
В глубине дома запищал младенец. Разом пропала злость и ненависть к зятю. Иван взглянул на дочь, хрипло простонал, бросил Савоську, с другой руки стряхнул ясыря, в два прыжка соскочил с высокого крыльца, скинул закладной брус с калитки и почувствовал за спиной опасность.
Завопила дочь. Он присел, сложившись как складной аршин, и обернулся к крыльцу. Савоська силился метнуть в него бердыш. На его черенке всем телом висела Марфа и кричала:
— Тятька уйди, христа ради!
Он ушел, хлопнув воротами. Из соседних домов выбегали с вилами, дубинами, саблями. Через весь посад несся Гаврила Михалев с оглоблей. За ним, тяжко переваливаясь с боку на бок, катилась Савина.
— Не побили, дядька? — подбежал Гаврила без шапки, зыркнул за спину Ивана.
— Не побили! — проворчал он. — Вот бы ты до свадьбы отходил Савоську этой оглоблей.
Подбежала Савина, одышливо повисла на его руке.
— Ой, чуяла, быть беде в вечеру. Гаврюху просила, сходи в кабак, вытащи нашего. А он — стыдно, мамка! Вот те и стыдно — взглянула на пасынка с укором. — Целый хоть? — стала слезливо ощупывать Ивана.
Новый воевода, сын боярский Федор Уваров, позвал Похабова только на четвертый день. С чисто выбритым лицом, со стрижеными усами, в коротком жупане, в богатой собольей шапке из черных собольих спинок, он поставил перед собой снятого приказчика, строго, не мигая, вперился ему в переносицу петушиными глазами. За столами съезжей избы сидели Бекетов, Ермес, новый подьячий Василий Шпилькин. Воевода пытливо и недоверчиво стал выспрашивать Ивана о всяких пустяках слободской жизни, с умным видом плел нелепицу, поучая, как надо было вести дела.
Похабов отвечал кратко и односложно. Глаза его становились все уже и злей, брови опускались, грозно углублялась складка между ними. Когда воевода спросил, сам ли Иван наблюдал за жатвой, Бекетов выкрикнул с места:
— До жатвы отозвали! Откуда ему видеть, сколько ржи взяли с государевой десятины.
Воевода, дав явную промашку, величаво и плутовато ухмыльнулся. Иван же рыкнул скрежещущим голосом:
— Ничего не пойму! Все знают, что слобожане и посадские втайне вино курят и продают, — метнул злой взгляд на важно восседавшего Ермеса, — одни только воеводы, сколько их ни меняют, ничего этого знать не хотят!
Ермес вскочил, негодующе зашепелявил, как всегда, когда злился или волновался:
— Говорить, да не заговаривайся! Много вас есть винить меня! Государь мерную чарку прислал. Мое вино выгорает ровно, наполовину.
Иван безнадежно отмахнулся:
— Я ему про тайнокурню, а он мне про мерную чарку! — обернулся к потупившемуся Бекетову.
Воевода, поубавив спеси, взглянул на Ивана разобиженно, как побитый кот.
— И правда, ничего не понял! — сказал непонятно к чему.
Бекетов сухо застрекотал:
— Сын боярский Иван Иванович Похабов Ангарские пороги проходил три раза.
— Оттого такой понятливый! — сварливо проворчал воевода, бросив на Ивана укоризненный взгляд. — Пусть идет на смену годовалыцикам атамана Перфильева. И дальше, для прииску новых землиц, как государь велит! За Ламу, туда, куда подальше, к ядреной матери! — опять обмолвился несуразицей.
— Сотню пусть Колесников ведет! — добавил настойчивей и строже. — А этому, — брезгливо оттопырил губу в сторону Ивана, — собери кого-нибудь.
Похабов с Бекетовым взглянули друг на друга и молча сговорились не спорить. Воевода обернулся к подьячему:
— Сделай наказную память: сменить годовальщиков в Братском остроге и идти для прииску.
Иван вышел. Ни служба, ни капризный воевода не шли на ум, не тревожили сердца. Камнем тяготила его Меченка. Хоть и обещала дочь уговорить мужа отказаться от доноса, слухов о том по острогу не было.
Бекетов вышел, покряхтывая и отдуваясь:
— Уговаривал располовинить сотню. Почти убедил. А тут попала вожжа под хвост: воевода всех новоприборных отдал Ваське. Зря ты про винокурню, — досадливо поморщился. — Соберу тебе десятка три служилых и ссыльных из волжских вольных казаков. Мало! Где еще взять — ума не приложу! Может, опять гулящих кликнешь? — вскинул круглые глаза с туманящими взор красными прожилками. — Ох, и помаемся мы с этим! — добавил тише и кивнул на дверь, за которой слышался голос воеводы. — Не пойму, стравить тебя с Васькой хочет или что?
— И ты хорош! — скривил губы под густыми усами. — В бороде заиндевело, а ума не прибавилось!
— Таким уж уродился! — огрызнулся Похабов, раскидывая руки. — Не я судьбу выбирал. Она меня нашла! — перекрестился, вспомнив иноков Ермогена с Герасимом.
— Ну и ладно! — Бекетов покладисто потянул его из сеней съезжей избы. — Хотел себе оставить волжских ссыльных. Тебе отдам. Один Оська Гора троих стоит — силы немеренной. Но пьяницы все, игроки, от блудных ясырок батогом не отгонишь. Хватит о делах! — тряхнул удалой головой. — Настена Перфильева велела напомнить, у крестника именины.
— Как не прийти! — рассеянно кивнул Иван.
Бекетов поснимал с ближних служб полтора десятка молодых переведенных и новоприборных казаков. Набрал полдесятка калек из старых стрельцов. Прибавил к ним десяток ссыльных во главе с десятским Федькой Говориным. Среди них выделялся дородный верзила Оська Гора. Он был на голову выше Ивана, наполовину шире его в плечах и слегка сутулился от тяжести своего роста. С лица дородного казака не сходила младенческая улыбка, глаза глядели вокруг по-детски восторженно.
— И чем же ты государя прогневил? — удивленно разглядывая молодца, спросил Иван Похабов.
— А купцов грабили! — простодушно признался тот. — Обещал государь повесить, но смилостивился и прислал сюда!
Ссыльные беззаботно захохотали:
— Из-за Оськи царь не нашел толстой перекладины на виселицу.
Среди старых казаков, собранных Бекетовым, беззаботно и весело поглядывал на Ивана Агапка Скурихин. Они не виделись несколько лет, а до того встречались мельком. Похабов отметил про себя, как постарел Агапка: рыжую бороду просекла седина, а конопатое лицо — морщины. Но так показалось сыну боярскому только с первого взгляда. Чуть приглядевшись к старому товарищу, он увидел все того же неунывающего Агапку.
— Ты-то куда, хромой? — весело приветствовал его. — Помню, хвастал, хорошо живешь на заимке?
— Что с того, что хром? — беззаботно смеялся Скурихин. — Зверя в тайге промышляю, отчего бы не послужить?
Из расспросов Иван понял, что сын, прижитый Агапкой от ясырки, хозяйничал на скурихинской заимке. Служилых окладов и пустующих мест в посаде по Енисейскому острогу для него не нашлось. Агапка оставил на него свою заимку и пошел в службу, чтобы не платить податей.
Похабов выбрал струги из острожных судов, от которых отказался Колесников, велел своим казакам конопатить и смолить их. На берегу к нему подошел Михейка Сорокин, весело поприветствовал, не поминая былого.
— А мы теперь на Лене! — сказал, оглядывая молодых казаков. — Все трое братьев! Нас Курбатка прислал в Енисейский вестовыми, — кивнул на Антипа, переминавшегося с ноги на ногу в стороне от стругов. — Надо возвращаться. Вдвоем — не с руки. С Васькой Колесниковым не пойдем: перегрыземся с ним при его атаманстве. Хочу с тобой идти. И купцы просятся заодно.
— Кто такие? — коротко спросил Иван.
— Тобольские гости Севиров с Поповым. Федотка Попов тебя знает. Говорит, с братом твоим промышлял. Товаров у них на полторы тысячи. А в Енисейском торговать не хотят. На Лене им прибыльней.
— Помогайте тогда! — указал на костры Похабов.
В тот же день в Енисейский острог вышли из тайги братья Ермолины. Десятины они не дали, да и подати не оплатили, объявив себя нищими. Так оно и было, потому что братья шлялись возле острога трезвые, голодные, злые, выискивали, как заработать пропитание.
Взглянул на них Иван и впервые после возвращения из слободы захохотал:
— Никак бить меня идете?
— За что бить? — смущенно поддернул ветхие кожаные штаны Бугор. — Обнять хотим по старой дружбе!
С печалью отметил про себя Иван, что оба брата постарели, а богатств, за которыми гонялись с молодых лет, так и не нажили.
— В казаки поверстаться желаете? — спросил смешливо и жалостливо.
— Живот подопрет — и воле не рад! — уклончиво ответил Василий. Илейка за его плечом стоял потупясь. — Сказывают, тебе людей не хватает? Может, возьмешь, былого зла не помня. Погрешили перед тобой тогда. Бог наказал. У атамана Копылова потом хлебнули лиха. Бурлачить согласны, ясак собирать, воевать. Лишь бы не строить остроги. Настроились! — Бугор полоснул себя по горлу ребром ладони. — Сказывают, тебя для прииску новых землиц посылают. Мы с братом до Ламы ходили и дальше, в Мунгалы.
— А куда не ходили, про то слыхали! — робко добавил Илейка.
— Возьму! — согласился Иван. — Какие ни есть смутьяны, а известные. Этих совсем не знаю, — кивнул на конопативших струги казаков. — Жрать, поди, хотите?
— Давно хотим! — Бугор осклабил воспаленные десны. Доброй четверти зубов во рту не было. — Только не рыбу и не мясо!
— Десяток доброхотов наберете? — спросил Иван.
Василий с сомнением покачал головой:
— Пятерых приведу и поручную за них дам.
Василий Колесников с сотней ушел вперед. По обычаю его отряд проводили всем острогом. Про Пелагию никто ничего не знал, и дочь не давала никаких вестей. Иван Похабов озлился на всех, и на скитниц тоже. До выхода его отряда оставались последние дни, а он бегал от церкви к скитникам и пытался узнать, где Меченка. Как назло, никто из монахинь на людях не показывался, а вкладчицы, завидев его, разбегались. Наконец-таки он поймал инокиню Стефанию, но, сколько ни бился, она только открещивалась да отворачивалась.
Иван и вовсе разъярился, побежал к игуменье Параскеве. На его оклик она не вышла, но из келий повыскакивали полдюжины старух, кто с батогом, кто с клюкой. С криками, с приговорами, с молитвами стали отгонять сына боярского от обители, как набредшего медведя.
— Вы что, бабки? Ополоумели? Очумели? — взревел Похабов, отбиваясь от батогов. Крикнул в голос: — Матушка Параскева! Покажи жену венчанную! Если пострижена — отступлюсь! Нет — пусть сама скажет, чтобы я ушел!
Слушать его никто не хотел. Раз и другой он окликнул Меченку. И вдруг, чуть ли не из подземелья, услышал ее голос. Кинулся на него, выломал ветхую дверь в келейку и увидел Пелагию: страшную, согнутую в дугу старуху. Истончавшие кисти рук и черные ступни торчали из деревянной колодки.
— Иванушка! — заголосила она, заливаясь слезами. — Не бросай, христа ради!
Он вытолкал из келейки скитниц, заперся, изрубил саблей колодку. Дверь за его спиной ходила ходуном. Похабов, как мешок, забросил на плечо бессильную, исхудавшую послушницу, вырвался из кельи. Перед ним, впереди всех старух, стояла разъяренная игуменья в черной скуфье. Глаза ее горели. Своим телом она загораживала проход.
Похабов никогда не видел у Параскевы такого лица, а увидев, разъярился пуще прежнего и двинулся напролом. Кто-то драл его за бороду, хватался за кафтан и волокся по земле. Кто-то цеплялся за бессильно повизгивавшую Меченку. Пробился-таки сын боярский за болото.
Вслед ему понеслись проклятья и угрозы. Он не отвечал. Поставил на ноги исцарапанную, растрепанную Пелагию.
— Куда тебя? — спросил неприязненно.
— Не знаю! — содрогаясь всем телом, бывшая жена неловко смахивала волосы с лица.
— Не к Савине же! — жестко крикнул он. — И не к Савоське! — выругался сплюнув. И так как Пелагия ничего не могла ответить, заявил: — К Тереху, в острог отведу. Тренчиха, как ни зла на тебя, а пожалеет! Не выдаст!
Он повел ее другой стороной от посада, под стеной, по яру. Калитка была не заперта. Старый воротник, в тулупе до пят, дремал, привалившись спиной к стене проездной башни. Открыл сонные глаза, узнал Ивана, равнодушно окинул взглядом женщину, впустил их и снова задремал.
— Прими, христа ради! — поклонился Иван Тренчихе, высунувшейся из оконца, и подтолкнул бывшую жену к двери тесной острожной избы. Буркнул вслед: — Сами разбирайтесь, кто что на кого доносил!
С облегченной душой Похабов зашагал к михалевскому дому. Солнце клонилось к закату. Посадские люди накрепко запирали ворота и спускали с цепей собак. Гулящих и промышленных прибывало с каждым часом.
Струги были готовы к выходу. Стараниями казачьего головы отряд получил десять новых мушкетов вместо старых, разбитых пищалей. Боевой и съестной припасы были отсчитаны и положены особо. Купцы со своими работными людьми уже дожидались выхода. Поторопить бы подьячего да уйти поскорей от всех бед и склок! Но нельзя было обидеть крестника с Настеной.
Похабов объявил выход после Иоанна Богослова пшеничника. Он принял крестоцелование от служилых, ссыльных и охочих, вышел из церкви, и тут его окликнул стрелец старой тобольской сотни Алешка Олень.
— Чего тебе? — спросил Иван, задирая голову к шатровой крыше караульной башни.
— Иди, говорю, ближе! — с видом заговорщика Олень склонился с башни. — Пелашка твоя там! — просипел, указывая рукой под себя и вбок, где была врублена в стену новая тюрьма.
— Чего? — вскрикнул Похабов и в несколько прыжков влетел на смотровую башню.
— Он что удумал, этот наш новый воевода? — двинулся на него Алешка с перекошенным от злобы лицом. — Он нами, старыми казаками, пренебрегает? Зря! Зря! Мы и воевод, бывало, пороли!
— Что Пелашка? — тряхнул его Иван.
— Воевода велел забрать ее от Тренчихи и посадить в тюрьму на цепь! — Олень оскалил щербины в бороде. — Нами пренебрегать, — ударил себя кулаком в грудь.
— Открой тюрьму! — приказал Похабов.
— Сам открой! — опасливо оглянулся по сторонам бекетовский стрелец. — Отбери у меня пищаль, свяжи руки и открой! — повесил ружье под самую кровлю из дранья, обхватил столб, подставив ладони. — Буду стоять. Издали не поймут, что связан.
Некогда было ни спорить, ни корить стрельца. Иван выдернул ключ из-за его кушака, а концами слегка стянул подставленные руки. Скатился вниз, распахнул низкую тюремную дверь. Поджав под себя ноги, Пелашка смиренно сидела на скамье. От щиколотки на земляной пол свисала кованая аманатская цепь.
— Всю жизнь мне с тобой маяться, что ли? — крикнул Иван, сбивая цепь обухом топора.
Выволок бабенку из темницы. Краем глаза увидел Бекетова, стоявшего на крыльце съезжей избы. Размахивая руками, к Ивану бежал новый подьячий Шпилькин, что-то кричал.
— Уйди, кровь пущу! — пригрозил Похабов.
Воротник со смущенной улыбкой топтался на месте, показывая глазами, чтобы тот скорей уходил из острога. Выволок Иван Пелашку за ворота. Не перекрестившись на образа, торопливо зашагал к реке. Бывшая жена едва успевала переставлять босые ноги, со стонами моталась за его спиной.
У костра возле стругов отряда кружком сидели казаки и охочие, скучавшие бездельем и безденежьем. Похабов с черным озлобленным лицом толкнул Пелашку Ермолиным.
— Караульте! Даже если воевода попробует отнять — не давайте! Вы мне крест целовали! А это моя венчанная. Кикимора! — приглушенно ругнулся и быстро зашагал к яру.
Не к добру стоял на нем монах мужской обители Варлаам, в скуфье и рясе. Свежий речной ветер шевелил длинную, в пояс, бороду скитника, трепал волосы по плечам. «Беда одиноко не ходит!» — скрипнул зубами Иван. Монах глядел на него и явно что-то ждал.
— Ну, чего тебе? — поднявшись, грубовато поклонился ему Иван.
— Отче Тимофей зовет, — кратко и миролюбиво ответил тот, не поднимая глаз.
— И ему надо постыдить меня? — проворчал Иван.
Старый скитник Тимофей прежде приходил сам, когда о нем заговаривали. Чтобы к себе звал, такого Похабов не помнил. Подумал злое. Но не пойти не мог, а идти пришлось недалеко. Тимофей ждал его под стеной острога, возле Мельничной речки. Увидев Ивана, поднялся и низко поклонился, чем смутил сына боярского хуже всех последних бед. На монахе не было прежних вериг и одет он был опрятней обычного, в черную суконную рясу. Все так же ласково светились его глаза, но что-то переменилось в них: не поблекли, а будто запали глубже под лоб.
— Здравствуй, батюшка! Христос с тобой! — сдерживая клокотавшую в горле обиду, поклонился сын боярский.
— Слыхал я, Иванушка, уходишь ты, и далеко! — торопливо заговорил старец. — Вдруг Герасима-дьякона встретишь. — Иван с недоумением уставился на монаха. Он ждал укоров. — Так скажи ему: не дожить мне до Рождества Христова. Я его через тебя благословлю. И пусть к владыке, в Тобольский съездит. Пора уже!
— Передам, если встречу! — растерянно залопотал Иван. — А что помирать-то? Пожил бы.
Старец слегка отмахнулся, не считая нужным говорить о таких пустяках. Вскинул руку. Широкий рукав рясы сполз до локтя в подряснике. Сын боярский принял благословение. Низко поклонился скитнику и сопровождавшему его монаху.
— Николе Угоднику молитесь каждый день, и будет вам путь добрый! — напутствовал Тимофей. — Он за нас, за сибирцев, перед Господом первый заступник. Да Богородица за всю Русь!
Варлаам подхватил старца под локоть. Мелкими шажками, сутулясь, тот побрел под острожной стеной к скиту. Только тут Иван понял, как Тимофей болен и немощен. Смахнул навернувшиеся слезы, поникший, смиренный, поплелся к дому Перфильева.
На именины сына, Ивана Перфильева, Анастасия пригласила всех лучших людей острога. Звала и воеводу с подьячим, но те не пришли. Ивана как крестного отца она посадила в красный угол, под образа. По другую сторону от именинника — старого попа Кузьму. Тот пригладил седую бороду, сел, ожидая начала трапезы, осуждающе сощурился на Ивана, рассерженно рыкнул басистым горлом. Слева от крестного отца должен был сидеть Бекетов, но он задерживался. К Ивану на место казачьего головы придвинулся Ермес — таможенный и кабацкий голова. Застолье началось. Все поднялись на молитву. Поп Кузьма набрал в грудь воздуха, раскатисто запел: «Величаем тя, Апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и трубы твоя».
Почитав «Отче наш», размашисто благословив стол, старый острожный священник напомнил слова Иоанна Богослова «Бог есть любовь!» и опять осуждающе покосился на Похабова, но ради праздника не выговорил ему.
С опозданием пришел Бекетов. Сел, не по заслугам, после кабацкого и таможенного головы. То и дело бросал на Похабова взгляды со значением и намеком, хотел о чем-то предупредить. Но гости поднимали чарку за чаркой, величали кровного отца и сына, дом и славную в женах мать. Величать крестного отца вслух побаивались: слишком много смуты было от него на последней неделе.
Сидевший между товарищами Ермес не давал им перекинуться словцом. В свой черед он поднялся с чаркой. С благочестивым лицом напомнил собравшимся, что при славном воеводе служилые и посадские люди острога били челом государю, чтобы поставить в честь его небесного покровителя святую церковь Михаила Малеина. Милостивый и справедливый государь, по скромности своей, просьбы енисейцев не одобрил, но и не отклонил ее, написав в ответ, что не запретит, если сами жители, своими трудами поставят церковь, но из казны денег на нее не даст.
История эта была всем известна. Гости тупо слушали восторженные речи таможенного головы и терпеливо ждали, когда он умолкнет. Ермес хвастливо напомнил, что сам дал на строительство храма Михаила Малеина пятьдесят рублей, и обвел всех собравшихся соловым взглядом. Забыв про именинника и его святого покровителя, макнул нос в чарку, сел. За столом раздался приглушенный и облегченный вздох. Гости заговорили между собой. Ермес повернулся к Ивану выбритым лицом. Спросил:
— Ты сделал вклад?
— Не за что! — буркнул тот, хотя мысленно хотел сказать: «Не на что!»
Глаза Ермеса вспыхнули. Змеясь, дрогнули тонкие губы.
— Как не за что? — переспросил вкрадчиво.
Похабову бы отговориться да спереть свою оговорку на нерусское ухо, он же, неприязненно взглянув на Ермеса, шмыгнул носом.
— Я нынешнего царя на царство сажал! — проговорил тихо, слегка выпячивая грудь. Ермес, не мигая, глядел на него блеклым водянистым взглядом, старался понять смысл сказанного. — А его милости у меня на спине. Сам видел! — дернул бес за язык.
Ермес льстиво заулыбался. Обернулся к Бекетову, стал что-то говорить ему, кивая на Похабова. Казачий голова взглянул на товарища строго. Едва стали расходиться гости, Иван выскочил из избы. За ним вышел Бекетов.
— Совсем сдурел, исповедуешься злыдню? — казачий голова хмуро кивнул вслед Ермесу, с осуждением покачал головой и безнадежно вздохнул: — Ну и дурак! Таким, видать, и помрешь. С Пелашкой заварил кашу — как расхлебывать? Духовные тебя хают, воевода грозит отставить от похода.
— А кого пошлет? — Иван поднял на товарища хмельные глаза.
— Меня посылает сменить Максимку.
— Не по чину голове быть приказным в остроге!
— Не по чину! — согласился Бекетов. Тихо выругался, бросив на Ивана трезвый рассерженный взгляд. — Спровадить бы тебя поскорей. Пелашку-то куда денешь? — спросил с укором. — Или с двумя бабами будешь жить?
Будто ножом полоснул по сердцу старый товарищ. О том только и думал Иван, сидя за столом.
— Савину не брошу, — пробормотал, — а эту деть некуда. Вот же навязалась, стерва! — обругал жену.
— Чем могу, помогу! — строго упредил казачий голова. — Для казака самый тяжкий грех — бросить товарища в беде. Но берегись воеводы: заносчив, зол, мстителен. Озлил уже всех против себя. Мои старые стрельцы грозят против него круг завести. Едва удерживаю! Чую, быть беде!
На том товарищи расстались. Проснулся Иван затемно. Шевельнул сухим языком. Вечером он признался Савине, что опять отбил Пелагию и она ночует с его казаками. Савина обиженно примолкла. Не укорила, только полная грудь стала вздыматься чаще, со сдавленными стонами.
— Ну не мог я по-другому! — стал оправдываться Иван. — Как бы сыну в глаза взглянул коли его родную мать в цепях бросил?
— С собой возьмешь? — тихо спросила она.
— А куда ее? В Братском Якуньке отдам — пусть сам с ней возится.
— Красивая да моложавая, — вздохнула Савина, прерывисто сдерживая слезы. — На нее юнцы засматриваются. Меня-то возьмешь ли?
— Как не взять? — с благодарностью обнял ее Иван. — Говорили же, вместе пойдем. Поладите как-нибудь. Подруги же.
Вспомнив этот разговор, он перевернулся с боку на бок, простонал.
— Квасу? — с готовностью прошептала Савина.
— Хорошо бы! — зевнул и услышал, как застучали в ворота. Яростно залаяла собака. — Кого принесло за полночь? — проворчал Иван и сел на лавке, спустив на пол босые ноги. Подхватил саблю, стряхнув с нее ножны, вышел с непокрытой головой. Серело небо. Близок был рассвет. С реки наносило духом стылой воды. Из-за ворот послышался знакомый голос:
— Ивашка! Это я, Алешка Олень! Бекетов послал.
— Чего тебе? — Похабов скинул закладной брус с калитки.
— Ермес объявил на тебя государево слово и дело за непристойные слова о царе на вчерашнем пиру. Голова велел, чтобы ты уходил прямо сейчас, без молебна. С воеводой и с Ермесом мы сами управимся.
— Кто там? — сонно спросила Савина, когда он вернулся в дом и бросил саблю на лавку.
— Собирайся! — коротко приказал Иван. — Уходим в Братский.
Зарумянилась дальняя грива на другом, пологом, берегу Енисея. Караван готов был к выходу. Служилые, купцы, попутчики Сорокины из Ленского острога — все томились ожиданием и поругивали Похабова за задержку.
Острог на яру зловеще молчал. Ни колокольного звона, ни благословения церковного причта. Но на башнях его мелькали казачьи шапки. У проездных ворот толклись люди.
Снова прибежал Алешка Олень. Его глаза горели, ноздри раздувались. Он принес и передал Ивану наказную память воеводы.
— С Богом! — напутствовал. — Не ждите! Сами управимся!
— Что там? — обступили его служилые. Понимали, неспроста выход был таким торопливым и суетным.
— Петруха Бекетов воеводу на цепь посадил за непочтительные слова о старших воеводах. Ишь чего удумал? — злобно выругался Олень. — Нас, старых казаков, уравнять с новоприборными, не почитать за службы и заслуги! Заорал было, затопал: «Я здесь царь и Бог! Никто мне не указ!» А голова ему: «И князь Осип Щербатов не указ?» Мы воеводу под руки хвать!.. Мир поднимется и царь поклонится! Не таких ломали! А вы уходите! — кивнул на реку. — Чтобы к полудню ни слуху ни духу! Долго воеводу на цепи не удержать. Надо успеть суд судить! — подмигнул Похабову.
Тот понял намек. Перекрестился на купол острожной церкви, нахлобучил шапку и махнул рукой. Первый струг двинулся против течения реки. Звонким голосом запел шестовой: «Святителю Отче Никола, моли Бога о нас!»
Выходил отряд на Николу Вешнего. Переговариваясь между собой, бурлаки сочли это за добрую примету, стоившую обычного молебна об отплытии. Из леса на всю реку разносилось кукование вещуньи-птицы. И не было конца веку, который она накуковывала уходившим на Ангару.
В остроге вслед им с опозданием робко и смущенно зазвенел колокол, завезенный Осипом Аничковым. Выпадали на Николу дела немирные. Против нового воеводы ополчились гарнизон и добрая половина посада. Чем все закончится — никто не знал.
Бекетов временно сел за воеводский стол. Подьячий Василий Шпилькин старым казакам не перечил. В тот же день к Федору Уварову в тюремную камеру были подсажены таможенный голова Ермес и Савоська.
Портить празднование почитаемого в Сибири святого Бекетов не стал. Но на другой день велел собрать всех острожных жителей мужеского пола. Воевода буйствовал на цепи до сумерек. К ночи смирился. Переночевав вместе с Ермесом и Савоськой, заколотил сапогами в тюремную дверь.
На карауле опять случился Алешка Олень. Он отпер тюрьму и хотел подразнить сына боярского. Но тот взглянул на караульного без прежней спеси и начальственно заявил, потряхивая цепью:
— Скажи голове, хватит! Бес попутал, что взбеленился против старого казачества. Пусть забудет мои злые слова и грехи. Все одно вместе служить!
Бекетов, умученный воеводством, которое пришлось принять на себя, Федора Уварова вскоре освободил. Воеводе поставили кресло на крыльце съезжей избы. Собрались казаки и посадские. Из тюрьмы вывели Ермеса и Савоську. Палач Босаев стоял в стороне, за углом избы, скрываясь от взглядов служилых и посадских. Несуразный: широкоплечий, коротконогий, с длинными руками, которыми, не сгибаясь, мог чесать колени, он смущенно поглядывал на выкреста.
— Ермес объявил государево слово и дело против сына боярского Ивана Похабова! — зычно крикнул Бекетов, озирая толпу. — Не нашего ума такие дела судить, но надобно со своими приставами да кормами отправлять его в Москву. А он там вдруг и откажется от прежних слов. Кто за него поручится? Похабов на дальних службах. Свидетелей нет. По закону русскому, мудрыми нашими государями и патриархами благословленному, первый кнут доносчику. Покается — простим. Нет — пошлем к старшим воеводам.
— Ты, ты сфитетель! Рядом ситель! — закричал Ермес, сильно картавя от волнения.
Ручаться за кабацкого голову никто не желал. Толпа злорадно загоготала, сдвинулась тесней.
— Нажился на нашем жалованье! — весело выкрикнул старый стрелец.
— Покайся, чем вино разбавлял! — окликнули с другой стороны. — Горло дерет, а голову не берет!
Двое казаков весело сорвали с таможенного и кабацкого головы кафтан, нашарили под шелковой рубахой крест, показали собравшимся людям. Толпа одобрительно заурчала. Бекетов кивнул палачу. Тот, не склонив плеча, вынул из-за голенища кнут, тряхнул им, взбив на земле облачко пыли.
— Стегни жалеючи! — предупредил казачий голова. — Выкресты — народ хилый. Не помер бы!
Палач, выступив вперед, махнул длинной рукой. Ни услышать, ни разглядеть никто ничего не успел. Ермес выгнулся дугой, взвыл дурным голосом и забился в руках приставов. Едва он умолк, подвывая и всхлипывая, Бекетов, сочувственно шевеля густыми усами, спросил:
— Откажешься?
— Нет! Саря рукаль! — слезно заорал выкрест.
Казачий голова развел руками:
— На нет нашего суда нет! На цепь его до ближайшего обоза на Маковский!
Завыл, забился в руках казаков буйный посадский Савоська. Теща бежала, дело о колдовстве для него запахло если не костром, то московскими застенками и заплечными мастерами Патриаршего приказа.
— Оговорил тещу в отместку! Грешен! — заорал он, вращая вылупленными глазами. — Бес попутал!
Бекетов опять развел руками:
— За ложный донос три кнута, это по-божески!
Обо всем этом в отряде Ивана Похабова узнали от вестовых только через год. Уже возле галкинской заимки подул попутный ветер, и на стругах подняли паруса. На другой день они переправились через глубокий степенный Енисей, вошли в широкое, плещущее на камнях, перекатах и отмелях, капризное устье Верхней Тунгуски — Ангары. Бурлаки впряглись в постромки и потянули струги бечевником по долгому песчаному берегу.
Ертаулом шел Василий Бугор с охочими людьми. Сколько раз братья Ермолины ходили этим бечевником, они уже и сами упомнить не могли. Сын боярский да купцы, поскрипывая сапогами по песку и окатышу, шли налегке, в стороне от бурлаков. Отстав от них на полсотни шагов, гурьбой брели женщины: русские, крещеные и некрещеные ясырки.
Невенчанные жены Сорокиных, тунгусской или братской породы, две ясырки Агапки Скурихина укрывали лица платками так, что виднелись одни только раскосые глаза. Статная Пелагия быстро пришла в себя после колодок и цепей, похорошела и, как в молодости, скрывала только половину лица. Ноги ее были обмотаны кусками кожи. На ветхий черный сарафан она наложила кожаные заплаты.
Грузной Савине идти пешком было трудней всех. Она тяжело дышала, быстро уставала, лицо ее пылало жаром, но шла вместе со всеми женщинами, хотя Иван то и дело предлагал ей сесть в струг, который тянули нанятые им охочие люди.
Бывшие подруги держались в стороне одна от другой, но иногда Савина мирно перебрасывалась словцом с Пелагией. Больше им, двоим, поговорить было не с кем: жены Сорокиных и ясырки, сожительствовавшие с казаками, по-русски говорили плохо.
Караван из двух десятков судов растянулся на версту. Эти места были хорошо знакомы Ивану. Он доверял Ермолиным выбирать путь, стоянки и станы, сам приглядывал за бурлаками да примечал всякие мелочи.
Агапке Скурихину бечева давалась тяжело, но он стойко терпел тяготы пути и насмешки молодых казаков, которые никак не могли смириться, что у него, у старика, две молодых ясырки. Обе заботятся о нем, все спят под одним одеялом и одна уже явно брюхата. Но их насмешки отскакивали от неунывающего Агапки, как горох от стены. Он поглядывал вокруг молодыми насмешливыми глазами, весело отбрехивался от всяких укоров и домыслов.
Иван Похабов, по чину, тоже пытался понять Агапку. Вышагивая рядом с товарищем, натужно тянувшим струг, тихо спрашивал:
— Оно и правда. На кой? Старую бросил, к молодой присох — понимаю! Если при жизни не отмолим грехи — нас с тобой черти в один котел бросят. Но зачем тебе две молодых? Продал бы одну, чтобы люди языки не чесали.
Агапка поднимал на Ивана честные, невинные глаза и весело отвечал. Врал, но так, что сыну боярскому и возразить-то было нечем.
— Одна говорит, что у нее есть родня в улусах, в братской степи. По государевому указу ее должно вернуть родственникам!
Оська Гора размеренно волок серединный струг. На бечеве он шел первым, никого не замечал. Глядя себе под ноги, все чему-то улыбался, как блаженный. Ссыльные товарищи беззлобно посмеивались над ним, бросали бечеву, отходили в сторону, будто по нужде. Оська не оборачивался, круче ложился на свою шлею, и струг шел с прежней скоростью. Федька Говорин, на шесте, еще и погонял:
— Поднатужься, Оська, на твоей бечеве слабина.
Дородный детина с недоумением оборачивался, видел, что тянет струг один, а товарищи хохочут. Оська тоже смеялся и сильней налегал на шлею. Но не только под ноги глядел бурлак. Он не спускал младенческих глаз с Пелагии. Меченка фыркала, сердилась на него. Как молодая, воротила в сторону свой длинный нос. Но сама же и забегала вперед, косила бирюзовые глаза на молодца.
Под устьем Тасея, смущенно улыбаясь, Оська подал ей сшитые им чирки. Пелагия нахмурилась, взглянула на него строго, но не выдержала, рассмеялась и, к великой Оськиной радости, обулась в обновку.
Вскоре, ночами, он сшил ей бахилы. Ссыльные волжане из вольных казаков пуще прежнего потешались над товарищем. Пелагия же, наперекор им, стала по-матерински заботиться об Оське. За Рыбным острожком Михейка Сорокин ревниво донес Похабову:
— Твоя-то, Меченка, вчера кормила Оську с ложки!
— Как это? — удивился Иван.
— Сидят у чуничиого костра, голубчики. Оська разевает рот, а она ему кашу накладывает. Все хохочут, а эти двое друг на друга пялятся. Тьфу! — выругался старый казак. — У вас сын Оське ровесник.
Иван крякнул, посмотрел на Михейку хмуро, не зная, что ответить. Скривил губы в бороде:
— Твоя ясырка тоже тебе в дочки годится!
Сорокин, еще раз сплюнув под ноги, отстал, но не надолго. Под устьем Илима опять с негодованием стал доносить:
— Спит твоя с Горой под одним одеялом. Сам видел!
— Пусть спит! — равнодушно отговорился Иван. — Он большой, с ним тепло, — взглянул на Михейку пристально и насмешливо. Добавил скороговоркой: — И болтать не будете, что Похаба сразу с двумя бабами живет.
Михейка рассерженно рыкнул, сверкнул глазами. Он не понимал блудного равнодушия атамана.
Женщины пекли хлеб, готовили еду. Больше всех старалась Савина. Купцы, примечая, как она выбивается из сил, сажали ее в один из своих стругов, которые тянули нанятые ими работные люди. Они не роптали и своего недовольства не показывали, на привалах нахваливали приготовленную Савиной кашу.
Похабов все чаще стал задерживаться возле купеческих стругов. Купцы, Попов с Севировым, одеты были неброско, без соболей и лис: в кафтаны, козловые сапоги, новгородские шапки. Но все на них было удобное и добротное. Они то шагали берегом, то сидели на судах, иногда становились на шесты, чтобы размять жилы.
— Вчера про Угрюмку говорили, — напомнил Федот Попов, оглядывая русло реки. — Сколько лет прошло, как мы с ним сплыли по этим местам. Сколько воды утекло. А вот ведь все вспоминаю первые промыслы. Всех помню. Об иных уже и слухов нет. Веришь ли, — поднял на атамана умные глаза, — и Москвитины проторговались, и Шелковниковы. Я один из тех, ватажных, при достатке. Но, бывало, сижу в лавке и всем им завидую.
— Семейка Шелковников, слыхал, из целовальников на хабаровской солеварне в казаки поверстался, — снисходительно напомнил Похабов. Заново, не в первый раз, рассказал о последней встрече с Пантелеем Пендой. Но про брата умолчал.
Попов, рассеянно кивая, терпеливо выслушал его и продолжил о своем:
— Дом у меня в Тобольском. Сижу, бывает, в лавке, считаю прибыль, а мне будто кто нашептывает из-за плеча: «Ну высидишь чего-нибудь. Дети или внуки все промотают и тебя забудут. А их, нищих, без гроба зарытых, а то и зверьми съеденных, будут помнить».
— Бес смолоду всяко прельщает! — равнодушно отмахивался Похабов. — Постареешь, поумнеешь — пройдет!
В полутора днищах ходу от устья Илима на воде показался струг. Завидев караван, он стал подгребать к берегу. Плывшие вниз вышли на сушу. Ермолины остановились рядом с ними. К ертаулам неспешно подошел сын боярский, начальственно взглянул на людей, с которыми они разговаривали. Лица их были испуганными, растерянными, с поджившими следами побоев, бороды всклочены.
— Слышь, чего говорят, атаман! — окликнул Ивана Василий. — Пятидесятник Колесников на устье Илима их, торговых людей, встретил и пограбил дочиста!
— Это почему? — удивился Иван. И путники, поддержанные его начальственным вниманием, наперебой стали жаловаться:
— Отец, да ты же с нас прошлый год государеву десятину брал рожью. Мы ту рожь в Илимский на продажу везли. Продали зимой, поменяли на рухлядь. Плыли в Енисейский, десятинную пошлину дать, а Колесников с людьми все дочиста отобрал, ни одного хвоста не оставил.
После грабежа торговые люди успели вернуться на Илимский волок, подать жалобу тамошнему приказчику, теперь плыли с жалобой в Енисейский острог. Вникать в их беды Похабов не стал: догадывался, что те не заплатили пошлин на месте. Постарались бы проскочить и мимо Енисейского, но бес послал навстречу Ваську Колесникова. А тот вместо десятины забрал все.
Торговые уплыли вниз по реке. Караван продолжил путь и через день вышел к Илиму.
— Ну, вот и довели! — объявил купцам Похабов. — Эти самые пьяницы, — указал на Ермолиных, — первыми нашли Ленский волок. Иван Галкин там зимовье поставил. Теперь не заблудитесь. А на волоке в это время народу много. Понадобятся работные, наймете!
— Хорошо дошли! Дальше бы так! — купцы стали благодарить казаков и кланяться атаману. — Ни поборов не было, ни воровства. Чем отблагодарить, Иван Иваныч?
— А дайте мне пеньковой веревки сколько не жалко! — не стал отнекиваться сын боярский. — Та, что есть, вся сопревшая, а нам через пороги идти.
Оправдываясь, что товар не их, а устюжского купца Усова, Попов с Севировым дали отряду десять саженей веревки, атаману — отрез вишневого сукна, самый ходовой товар в братских улусах.
Тронутый подарком, Иван стал советовать:
— Просите Сорокиных, они хорошо знают путь до устья Куты и служилых людей по волоку.
Крутившийся возле купцов Михейка, как услышал об этом, так заважничал, заломался, стал набивать себе цену:
— Тут тремя реками волок, да после нам по Лене бечевой идти против течения! Братским волоком сподручней.
Федот Попов бросил на старого казака быстрый и пытливый взгляд, просить ни о чем не стал. Его суда пошли вверх по Илиму. Караван Похабова уменьшился вдвое. Его струги переправились через устье притока и снова пошли проторенным бечевником к Шаманскому порогу.
Раз и другой ертаулы донесли атаману, что на поворотах реки видели последние суда Колесникова. Встречаться с ним Похабову не хотелось, он не торопил своих людей и все же невольно догнал вздорного сослуживца.
Колесниковская сотня затаборилась на острове, где умер Яков Хрипунов. Пройти мимо его могилы Иван не мог: Настена Перфильева просила положить за нее поклоны покойному отцу. Но то, что струги его отряда обходили стороной колесниковский караван, Иван Похабов посчитал за удачу. Они пошли левым берегом к порогу. Ермолины и Сорокины знали, где устроить ночлег. Атаман остановил струг ссыльных и велел Пелашке сойти с него. Это были первые слова, сказанные бывшей жене от самого Енисейского острога.
Стараниями Оськи Горы Пелагия не била ноги о камни, а целыми днями сидела и валялась на мешках с рожью. Услышав приказ атамана, Оська насупился и обидчиво пробурчал:
— Пусть сидит! Места хватает!
Иван строго взглянул на него, едко усмехнулся, но настаивать на своем не стал. Сам сел в струг, приказал казакам Федьки Говорина разобрать весла и плыть к острову. Оська окинул Пелагию нежным взглядом, подхватил ее на руки, посадил на нос струга, взялся за оба загребных весла, закрыв Меченку широкими плечами. Она боязливо выглядывала из-за него на бывшего мужа. Иван сочувственно посмеивался над молодцом и только качал головой.
Струг переправился через стрежень и приткнулся к песчаной косе в нижней части острова. Из колесниковского табора никто не вышел встретить.
— Васька думает, мы к нему, с поклоном! — желчно ощерился атаман и приказал: — Федька, бери двоих. Пойдете со мной! Остальным караулить струг.
Иван слишком хорошо знал спесь старого сослуживца, чтобы ошибиться в своих предчувствиях. Василий Колесников понимал, что Похабов не пройдет мимо, и ждал его. У него была в том нужда, но просить он не желал, хотел, чтобы ему не только помогли, но еще и поклонились.
Стороной, мимо табора, пути к могиле не было. Крайний костер, с разбросанными вокруг него одеялами, с грязным котлом, был в трех саженях от хрипуновского креста. На пне, застеленном шкурой, сидел Васька-пятидесятник и не сводил с идущих пристального, немигающего взора.
Похабов прошел мимо, одарив товарища таким же молчаливым и неприязненным взглядом. Отодвинул ичигом грязный котел, громко проворчал: «Нехристи!», подошел к кресту, скинул шапку, стал креститься и кланяться.
Колесников, сидя на пне, нахохлился, как петух. Три ссыльных казака при Похабове следом за атаманом накладывали на себя крест за крестом. Иван трижды обошел могилу, кланяясь праху, опустился на колени, припал к холмику, затем резко встал и нахлобучил шапку.
Новоприборный казак, обиженный брезгливыми взглядами и отодвинутым котлом, с плаксивым лицом подскочил к гостям, преграждая обратный путь. На нем был ветхий, во многих местах прожженный зипун. Ноги босы.
— Видите, в чем идем! — сунул было Федьке под нос дырявую бахилу.
Федька, сморщившись, отстранился, фыркнул:
— Надо было в Енисейском собираться, а не пьянствовать!
— А ты нас поил? — выпучивая глаза, ринулся от костра другой казак, тощий и длинный, с козлиной бородой, порыжевшей от подпалин. Дыры на его сермяжном зипуне были стянуты бечевой.
Разойтись миром не удавалось. Прежде чем отшвырнуть зачинщиков, Похабов обернулся к Колесникову. В угоду последним воеводам лицо пятидесятника было чисто выбрито. По подбородку свисали черкасские усы. Не кивая, не приветствуя прибывших, он с важностью спросил:
— Бывальцы, проходившие пороги, у тебя есть?
— У меня все есть! — с вызовом ответил Иван. — Даже две жены.
— Вот и дай нам двух вожей! — потребовал пятидесятник, пропустив мимо ушей слова Похабова о женах.
Гонор, с которым Васька требовал людей, взбесил Похабова.
— А в ноги поклонишься да похристарадничаешь, может быть, и дам! — распаляясь, крикнул он.
— Еще чего! — ухмыльнулся Колесников. — Как аманата посажу на цепь, поведешь нас вместо вожа, — обмолвился Василий и захохотал, с важностью оглядывая своих людей. Он шел на Ламу по царскому указу, с которым невольно считались даже воеводы, и всем своим видом показывал превосходство его сотни перед обычными годовалыциками Похабова.
Сдержанно и угодливо хохотнули тобольские и березовские переведенцы. Откуда-то из-за спин по-шакальи тявкнул вечный и вездесущий пес:
— Нас сотня, а вас…
— Коли так, то поклоном не отделаешься! — гневно крикнул Иван. — Отсель до косы проползешь на брюхе — дам вожа!
От обидных слов, сказанных при подначальных людях, выбритые щеки Василия побагровели. Он резво соскочил с пня и со звоном обнажил саблю. Федька встал с левого бока от Похабова. Двое его товарищей со свистом махнули саблями и закрыли им спины.
Все знали: прольется кровь, пойдет разбор при тобольских воеводах, а то и в Сибирском приказе. Но очень уж хотел Васька, атаман-пятидесятник, покуражиться, показать свою нынешнюю силу и власть.
Большинство колесниковских казаков ничего не поняли и не расслышали из-за шума воды на пороге. Видели по лицам, что атаманы бранятся. Дело обычное. Вдруг они схватились за сабли. Колесников надеялся помахать да обойдись перебранкой. Но не вышло, зазвенела сталь, и ему пришлось отбиваться. Василий отступил раз и другой. Никто из его сотни не поспешил на помощь. Похабов же кричал, нанося удары:
— Ах ты, сморчок тухлый!.. Понравилось пугать промышленных и тунгусов!
На глазах изумленной сотни сын боярский в несколько ударов выбил из рук пятидесятника саблю, сшиб его с ног. Плашмя раз и другой вытянул по спине: — За невежливые слова! За спесь!
— Ребра поломал! — взвыл Василий.
— Не бей лежачего! — заорали колесниковские казаки, сгрудившись вокруг пришлых.
Похабов остановился, вытер лоб рукавом. Рыкнул, обернувшись к могиле:
— Непутевое место ты себе выбрал, кум!.. Уходим! — мотнул головой.
Четверо с обнаженными саблями протиснулись сквозь толпу, двинулись в конец острова, к стругу.
— А говорили, у вас тут порядок! — хмыкал Федька. — То же, что и на Волге.
На табор под порогом струг ссыльных пришел в сумерках. Там уже горели костры, сладко пахло дымком и свежим хлебом. Ясырки пекли на раскаленных камнях пресные лепешки, которые черствели уже на другой день.
Утром, помолясь Пречистой Богородице да Николе, казаки Похабова потянули струги через порог. Воды среди камней было мало. Она пенилась и кипела на каменистых отмелях. Это был самый легкий из Ангарских порогов. Бурлаку остаться сухим трудно, а груз уберечь можно.
И снова ночевали на обычном месте со старыми кострищами, с неразоренными балаганами. На другой день, к вечеру, подошли к устью Вихоркиной речки. Здесь тоже был старый стан с кострищами, с остатками засеки. После порога Похабов обещал дневку и объявил ее.
Он спешно отдавал распоряжения, где ставить караулы, кому рубить дрова. При этом то и дело оборачивался к Савине, кивал, что помнит о просьбе. Чуть освободившись, повел ее к Вихоркиной могиле. И, будто леший увязался следом, заблудился: на месте прежней поляны поднялся осинник, креста не было видно.
Походив среди кустарника, он нашел-таки могилу с завалившимся крестом. Концом сабли разрыл землю в ногах у покойного. Воткнул на место крест подгнившим концом, утоптал землю вокруг, перекрестился и поклонился.
Савина снова вскинула на него печальные глаза со слезами на ресницах. Он понял, опустил голову и ушел, оставив ее одну. Сквозь грохот воды услышал за спиной тонкий вскрик. Завыла женщина, оплакивая первого мужа, оставившего ей двух добрых сыновей.
На другой день к табору отряда подошли два молодых колесниковских казака. Они скромно кивнули атаману, скупо поприветствовали отдыхавших.
— Что скажете? — строго спросил Похабов, перекрывая голосом шум воды.
Те, с печалью в глазах, осторожно укорили его словами пославшего их пятидесятника:
— Вы терпящих бедствие бросили!
— Терпящих бедствие не видел! — строго ответил сын боярский. — А вздорных, пропившихся голодранцев встречал на острове. Невежливые, поносные слова от них претерпел!
Молодые казаки смутились, не зная, что ответить. Иван махнул рукой, подзывая ближе. Они невольно склонили головы.
— Как кличут? — спросил.
— Я — Коська Иванов Москвитин, — ответил казак с пухом на щеках. — А он — Якунька Кулаков, — кивнул на товарища.
— Тобольский? Не Ивашки ли Москвитина сын?
— Его! — почтительно кивнул Москвитин.
— Многих Москвитиных знал! — мягче заговорил Иван, кивнул, чтобы присаживались к костру. — Ваську Краснояра помню. Здесь с ним встретились, здесь же с отцом твоим разминулись. Я из Братского плыл, а он с Копыловым туда шел. Ермолины с ним ходили, — указал в сторону костра охочих людей. — А до Илима шел я с купцом Поповым, со старым другом твоего отца.
Савина молча сунула молодым казакам по плошке с кашей, придвинула бересту с вареными рыбьими головами. Те с жадностью накинулись на еду, видно, шли весь день голодными.
Похабов почувствовал, что заболтался, как старик, взглянул на вестовых ласковей:
— Зачем прислал пятидесятник?
— Порог пройти не можем! — с набитым ртом весело прошепелявил Москвитин. — Струг с рожью опрокинуло.
— Так-то, — со злорадной усмешкой тряхнул бородой Иван. — Пусть Васька придет да покается в злых словах. Дам вожей, христа ради.
— Он не может прийти! — опять прошепелявил Коська. — Ты ему ребро сломал. Лежит в струге, охает. Воеводе жалобу наговаривает.
— Пусть Енисейский потешит! — опять усмехнулся Иван. Помолчал, глядя на молодцов. Качнул головой: — Ладно уж! Хотел заставить его на карачках поползать. Не буду! Ради доброй жены его, Капы, да ради твоих, москвитинских, сродников дам вожей. Без них Падун не пройти.
Не только Колесникова пожалел Похабов, он видел, как выдыхаются на бечеве Ермолины. Давно ли казалось, что братьям нет сносу. А вот уже стареют, иной раз к вечеру еле ноги волочат, в то время как молодые полежат с полчаса и опять полны сил. Бурлачить — не саблей махать, здесь нужна сила упорная, бычья.
Сын боярский поднялся, пошел к костру охочих, сел рядом с Василием Ермолиным.
— Пойдешь с братом к Ваське Колесникову вожем? — крикнул на ухо.
Тот взглянул на атамана запавшими глазами с набухающей сеткой морщин.
— Отчего мы? — спросил настороженно.
— Молодых не хочу посылать! — щадя гордыню старого бродяги, схитрил Похабов. — Атаманишка станет над ними издеваться, мстить за побои. Я его знаю!
Василий кивнул, соглашаясь за себя и за брата.
— Мы ему пометим! — пригрозил, обернувшись к пройденному порогу. — Шею свернем!
— Вот-вот! — одобрил сын боярский. — Молодых на ваш струг поставлю. Пусть тянут. А вы у него в бечеву не становитесь — чести много.
Бугор горделиво приосанился, хохотнул, соглашаясь, что это справедливо.
Каким поспешно поставил новый Братский острожек Николай Радуковский, таким он и оставался. На склоне горы виднелись две избы с нагороднями, баня, амбар, лабаз, огороженные тыном. За восемь лет все строения, сделанные из сырого леса, успели изрядно подгнить.
Годовал здесь атаман Максим Перфильев с пятнадцатью казаками. С другого берега реки, из Верхоленского острога, пятидесятник Курбат Иванов то и дело присылал ему грамотки и отписки, доносил о стычках с братами и тунгусами.
А у Перфильева на Ангаре было тихо. Окинские браты не бунтовали, ясак давали доброй волей. Под прикрытием острога, полагаясь на защиту казаков, они жили вольно и независимо: соседей не опасались и даже приворовывали у них скот.
Пожухла трава, стала блекнуть зелень леса. Усталое лето покатилось на осень. Максим Перфильев только задумал написать воеводе, что его трудами в Братской волости налажен мир, как зловредный враг рода человеческого выискал в помыслах разрядного атамана самохвальство и, по попущению Божьему, в один день все разрушил.
Курбатка Иванов, приказный Верхоленского острога, прислал с другой стороны Ангары толмача Федьку Степанова да казака Данилку Скоробыкина с грамоткой. В ней он сообщал Перфильеву, что его ясачный изменник князец Кадымка переправился на левый берег Ангары, просил объявить беглецу жалованное государево слово и взять с него ясак за два года.
Милостивый к сибирским народам государь велел Кадыма казнить с пощадой. И если тот повинится в убийстве шестерых служилых, то простить его и привести к новой присяге.
На кого брать ясак: на Енисейский или на Якутский острог, которому подчинялись верхоленцы, — это дело было спорным и прибыльным. Нынче кочевал Кадым в Братском уезде. Перфильев дал верхоленским казакам коней, приставил к ним для помощи и надзора своего казака Якова Похабова. Ясак за прошлый год сговорились записать на Курбатку, за нынешний — на атамана Максима.
Вернулись трое быстро. Из доброго посольства так скоро не возвращаются. Дело было к ночи. На расспросы караульных казаки отвечать не стали, бросили коней у острога, разбудили атамана.
— Все живы? — зевая, поднялся тот.
— Слава богу! — скороговоркой ответил молодой Похабов.
— Что так скоро?
— Долгий разговор! Иные слова Кадым велел передать тебе одному!
Ни приказной, ни съезжей изб в остроге не было, все служилые жили в одной. Атаман повел полуночников в пустовавшую аманатскую избу, раздул трут, засветил жировик.
— Мы Кадыма и его мужика Шугожуна зарезали! — тихо признался Данилка. — Кажись, насмерть!
— Как так? — вскрикнул атаман.
— Зашли мы с Федькой в юрту князца. Якуньку оставили возле коней, при оружии. Я печенкой чуял, что браты замыслили против нас зло. Стал говорить Кадымке жалованное государево слово. Никакого худа не говорил. А он давай брехать на меня, как цепной пес. Вскочили вдруг с мужиком Шугожуном, стали нам с Федькой руки заламывать. Вижу, убить хотят, крикнул Федьке: «Обороняйся!» Князцу — засапожник в бок. Глядь, у Шугожуна кровь хлещет горлом. Выскакиваем из юрты, Якунька возле коней крутится чертом, от пятерых отбивается. А те в куяках да в панцирях — сдается мне, в русских. Кабы твой молодец наших коней не отбил — не уйти бы нам живыми.
Данилка-толмач передохнул, опустив голову. Снова вскинул глаза на Перфильева.
— Так все и было, атаман! — размашисто перекрестился. — Научи, как быть, что другим говорить?
— Дело непростое! — медленно, с расстановкой, будто ссохшимся языком, произнес Перфильев. — Пока про убийство никому не сказывайте. Отдыхайте. Я подумаю. Завтра поговорим.
Верхоленцы вышли. Атаман с Яковом остались возле горевшего жировика.
— Живы, и слава богу, — тяжко вздохнул Перфильев. Пристально взглянул на Якова: — И ты молодец! Похабина кровь!
Молодой казак опустил голову, поморщился. Похвала его не обрадовала.
Сколько помнил себя, все казалось ему, что он не Похабова, а Перфильева сын. В вечных перебранках отца с матерью улавливал намеки на тайну своего рождения. И соседи все на что-то намекали, охали да посмеивались. И легко ему было с Перфильвым, как с родным. Он говорил с ним что в голову взбредет, подражал походке, голосу, рассудительности, почитал как отца. Сперва мысленно звал батей, а как начал службу в выростках[230] под его началом, стал и вслух так называть.
И Перфильев опекал его с детства больше, чем отец. Так бы Якунька и ждал, когда атаман признается во грехе молодости и назовет его сыном. Но в юности слишком явно стала выпирать в его лице и теле Похабина кровь. Он перерос Перфильева на голову, раздался вширь. Служилые и промышленные, знавшие старого Похабова, стали часто спрашивать, не его ли он сын.
— Его кровь! — признался Яков. — А ведь я думал — твоя!
Атаман тихо улыбнулся, опустив глаза, нечаянно вздохнул промелькнувшим воспоминаниям:
— Знаю! Слухи всякие ходили. Твоя мать сперва за меня замуж собиралась. Ой, и непутевая была девка! — хмыкнул. — Из-за нее на мне лежала кабала, воевода на службу слал, а ей нужда идти под венец вместе с подругами, не ждать меня. Отец твой и присуху мою, и кабалу, и судьбу — все на себя взял. Да и после столько раз меня спасал, что по самый гроб о нем Господа молить… — Нет! — вскинул прояснившиеся глаза. — Слава богу, с твоей матерью тискались, целовались, а до греха не дошло. В нашей жизни жены женами: им долго вдоветь не дадут, дети детьми: Бог сирот не оставит! А товарищ — дороже самого дорогого: им и живы!
Нелестно было молодому казаку слушать атаманские слова про отца и мать. Он обоих их почитал, как Бог велел, но не было любви на сердце ни к матери, ни к отцу. Все девки, похожие на мать, были ему неприятны. И семей, где не было порядка и мира, он не любил. И отцом тяготился: сильно неприятно было видеть его разбитое лицо на Николу или на Троицын день. Глубоко сидела в душе детская обида. Рано стал думать, что сам будет жить иначе.
Заметив, как посмурнел воспитанник, атаман Перфильев обнял его за широкие плечи.
— Мы больше, чем родня! — тряхнул молодого казака. — Ведь я с тобой прожил дольше, чем с сыновьями. Да и вложил в тебя своего… Иной раз сам забываю, кто мне старший сын: ты или Ивашка. Наверное, за грехи перед Иваном душа к тебе тянулась. Оттого и дорог мне больше родных по крови, — атаман впервые дал волю чувствам, смутив Якова. И сам смутился. Кашлянул. Заговорил строже, отчужденней: — Давай-ка подумаем в две головы, как перед воеводами и перед государем оправдаться.
Утром им не дали отоспаться, разбудили рано.
— Батька! Ты за печкой или че ли? — окликнул атамана караульный. — По реке большой струг плывет. Из него всего две головы торчат!
— Спят, поди! — недовольно зевая, свесил ноги с лавки Перфильев. — Вели к острогу подойти!
— Пулю жалко! — весело оскалился караульный.
— Затинную[231] пищаль заряди холостым! — распорядился атаман, надевая сапоги.
Вскоре он и сам поднялся на нагородни. По стрежню ближе к другому берегу плыл шестивесельный струг. Двое на веслах только подгребали, удерживали, чтобы его не разворачивало течением.
Караульный уже забивал пыж в пудовую крепостную пищаль. Перфильев постучал кремнем по тыльной стороне сабельного клинка, раздул трут, запалил фитиль, приложил к запалу.
Ахнула пищаль, поставленная стоймя. Выбросила в небо голубое облако порохового дыма. Едко запахло серой. Гребцы на струге бросили весла, встали, замахали руками. Затем сели и вдвоем начали подгребать к устью Оки.
— Помощи просят! — сказал атаман, вглядываясь в речную даль. — Буди бездельников. Помогите им подойти к берегу.
От сигнального выстрела из избы высыпали все отдыхавшие. Одевались на ходу, спрашивали, зачем стреляли. Четверо сели в легкую лодку, ходко поплыли к стругу. Еще четверо пошли берегом, поглядывая на сносимые течением суда.
Приволокли они тяжелый струг нескоро. В остроге успели умыться, сотворить утренние молитвы, позавтракать. Впереди казаков шли двое изможденных промышленных людей. Один нес легкий кожаный мешок. Другой держал в руке чугунный котел. Служилые веселой гурьбой шли за ними, несли на плечах пищали, одеяла, шубные кафтаны.
Перфильев вышел за ворота острога, стал ждать их, положив одну руку на рукоять сабли, а другой упираясь в бок. За его спиной встал Якунька Похабов с гусиным пером. Пальцы его были перепачканы чернилами, сделанными из сажи и рыбьего клея. Он при атамане служил за писаря и уже строчил отписку Курбату Иванову в Верхоленский острог.
Гости остановились против атамана. На их черных от загара лицах сияли очистившиеся от страстей глаза. Склонили головы в казачьем поклоне.
— Здоров будь, атаман! — прошепелявил беззубыми, запавшими губами старший. — Спаси тебя Господь!
Он был на ладонь выше товарища. От возраста или от пережитого в длинных до плеч волосах и бороде белели пряди седины. Оба смотрели на Перфильева спокойно, не выказывая ни радости, ни испуга.
— Войдите, христа ради! — пригласил их в острог Перфильев. — Отчего только двое? Чьей ватаги?
— Все расскажем, ничего не скроем! — ответил все тот же промышленный. Двое, крестясь, вошли в раскрытые ворота, затем в избу. Неторопливо положили на образа семипоклонный начал, опустились на лавку. Старший положил рядом с собой мешок и пригладил его ладонью.
— Мы — тобольского служилого Семена Скорохода охочие люди. Плывем с Байкала, с малоангарского култука[232]. Двое только, Божьим промыслом, живыми к вам вышли. Всех тунгусы побили. Я — Максимка Вычегжанин. Он, — кивнул на товарища, — Левка Васильев.
— А что, брат Якунька! — обернулся атаман к молодому Похабову. — Надо накормить гостей. И эти голодны, — кивнул на столпившихся казаков, ходивших за стругом промышленных.
Гостям указали на лучшие места. Вычегжанин поволок за собой большой и легкий мешок с рухлядью. В избу набились все служилые. Караульный свесился с нагородней к раскрытой двери. От хлебного духа у гостей помутнели глаза.
Левка невольно повел увлажнившимся взглядом и всхлипнул.
— На Егория последние сухари съели, — подал сиплый, простуженный голос. — С тех пор на рыбе.
— Птицу били, — шепеляво поправил его спутник.
Якунька Похабов выложил на стол свежий хлеб, поставил квас в кувшине. Неуверенно обронил для гостей:
— Рыба есть печеная!
— Не-е! Рыбу не надо! — торопливо отмахнулся Левка, густо присыпая солью ломоть хлеба.
— Ешьте, пейте во славу Божью! — добродушно закивали казаки, ожидая рассказа.
Как утолили гости голод да напились квасу, Максим Вычегжанин вытер усы, отряхнул узловатыми пальцами бороду, поднялся, трижды поклонился на образа, кивнул связчику:
— Ты сказывай! Я что-то сомлел.
Левка вздохнул, тоскливо поглядывая на недоеденный хлеб, размеренно засипел хриплым голосом:
— Два года, как посланы мы с Лены-реки, из Якутского острога в Верхоленский, на подмогу Курбату Афанасьеву Иванову: двадцать служилых и пятьдесят четыре охочих промышленных. И пришли мы, Божьей милостью, в верховья Лены. Воевали там, соединились с Курбатом и пошли степью к Байкалу на остров Ольхон, где укрылись бунтовавшие роды братов.
Погромили мы их. Взяли ясырей и с Курбаткой разделились. Он пошел обратно, в Верхоленский, а мы с казаком Сенькой Скороходом и с шестью служилыми двинулись на Верхнюю Ангару. И было нас, охочих, тридцать и один.
И взяли мы там ясак с тунгусского князца Яконкачина из лапогирского рода, и привели его к присяге. И по его научению Скороход с двадцатью семью пошел на реку Баргузин для государева ясака. Там их всех перебил князец Архича-баатур.
А мы, трое служилых и трое промышленных, туда не ходили, рубили зимовье. И пришел к нам наш ясачный князец Яконкачин, обманом выманил из зимовья служилых. И всех, кто вышел к нему, убил. Осталось нас трое промышленных. Сидели мы в осаде четыре недели. Как ветер разбил лед на Байкале, столкнули на воду струг и бежали от тунгусов водой. Ветром пронесло нас мимо Ольхона к истоку здешней реки, — перекрестился вздыхая.
— А как узнали, что людей Скорохода перебили? — пытливо спросил атаман.
— Лапогирцы сказали! — прошепелявил Максим, с трудом раскрывая слипающиеся глаза. — Одежду их показывали, панцири, куяки.
— Трое, говоришь, в осаде было? — снова спросил атаман.
Левка кивнул, снова перекрестился.
— Трое и ушли, — продолжил сиплым голосом. — Один в пути помер от ран.
— А в мешке что? — нетерпеливо заговорили казаки.
— Ясак! Три сорока, шесть соболей, пять лисиц!
— А покажи!
— Что его смотреть? Ясак он и есть ясак! Нам нужно сдать его в Якутский острог, воеводе Головину. Или в Верхоленский, Курбату Иванову. Оттуда уходили.
Казаки загалдели насмешливо и язвительно:
— Сидят у нас двое верхоленцев. Теперь вам туда и вчетвером не уйти — браты бунтуют и здесь, и на Ленском волоке то и дело служилых побивают.
— Сдайте-ка ясак мне, енисейскому атаману, — предложил Перфильев. — Под мою роспись, при многих свидетелях. А дальше — ваша воля. Но лучше бы вам с нами в Енисейский сплыть. Все одно воеводы будут пытать про гибель служилых. Как бы в Томский или в Тобольский не повезли. А в Якутском нынче Головина нет — там новый воевода, московский дворянин Василий Никитич Пушкин.
Максим Вачегжанин задумался, стряхнув дрему с глаз, взглянул на атамана с хитрым прищуром.
— Отдать тебе ясак доброй волей — отказываемся! — Обвел взглядом сидящих казаков. — Хочешь забрать — бери силой!
— Силой так силой! — потянул на себя мешок Перфильев. Развязал его, высыпал на стол черных соболей, связанных в сорока, черных лис, раскинувших когтистые лапы по столешнице.
Казаки сгрудились возле рухляди.
— Головные, добрые! Здесь таких нет!
Ясак был пересчитан при всех собравшихся. Яков Похабов написал атаманскую расписку. Казаки приложили свои подписи. Максим с Левкой, оба неграмотные, заставили несколько раз перечитать ее разных людей, прислушиваясь к словам.
Затем их подхватили под руки и повели в баню.
— Попаритесь, да по чарке горячего вина налью! — пообещал атаман.
Выцвела, поблекла зелень берез, на осинках уже трепетали желтые листья. Утрами река начала куриться ползучим туманом. В запахах лета появился дух прелой травы. Казаки Братского острога все беспокойней поглядывали в низовья реки, никакое дело не шло им на ум. И вот случилось. Пополудни весело закричал караульный, вращая дурными глазами:
— Струги идут! Кажись, наши, со служилыми!
Все насельники тесного острожка полезли кто на тын, кто на нагородни. Посреди двора остался один атаман. Стараясь не ронять степенства, он задирал голову, нетерпеливо спрашивал:
— Ну, что?
— Явно не промышленные! — в несколько голосов отвечали сверху. — Пора бы и смене прийти.
— Пора! — тоскливо согласился атаман и распорядился: — У кого ноги прытки, сбегайте узнайте, кто идет?
Одним было в почесть, что их ждут и встречают, другим в радость первыми узнать новости о родных и близких. Яков с двумя казаками быстро шагал берегом. Уже видны были казачьи шапки, узнавались енисейские люди. Лицо молодого казака вдруг покривилось, он замедлил шаг. Двое его спутников вырвались вперед.
По походке и осанке молодой Похабов узнал отца. Не ждал, что пришлют его на перемену, смутился, как в детстве. Заробел. Стал сердиться на себя самого. Оттого на лице, между бровей, глубже пролегла складка.
Отец тоже узнал сына, подтянулся, замедлил шаг. Якунька остановился в пяти шагах, когда дольше идти навстречу друг другу стало неприлично, отвесил отцу отчужденный поясной поклон. Тот кивнул, шагнул к сыну, обнял его. Щекотно ткнулся бородой в одну и другую щеки.
— Живы ли, здоровы ли мать и сестра? — спросил Яков, глядя мимо.
Отец желчно усмехнулся в бороду.
— Сестра тебе племянника родила. А мать увидишь. Со мной идет! Тебе веду!
— Как? — вскрикнул Яков, заводив глазами по сторонам.
Быстрым, сметливым взглядом высмотрел среди баб и ясырок Савину. Весело поклонился ей. Он всегда любил эту непомерно добрую к нему женщину. Стал торопливо выглядывать других и узнал. Дрогнуло сердце.
Легким шагом к нему бежала мать с повязанным лицом. Издали да с отвычки можно было принять ее за девку, не изъеденную гнусом, не изнуренную переходом, как другие. Она вскрикнула, повисла у него на шее, зарыдала. Да только все это как будто напоказ.
Яков, с пристойной улыбкой, терпеливо переждал материнские ласки. Отстранился.
— Ты-то как сюда? — спросил удивленно.
— И не спрашивай, сынок! — отмахнулась, вытирая сухие шаловливые глаза. — Оговорили меня. Едва в Москву не увезли по государеву слову и делу. Отец отбил, — повела на старого Похабова боязливым взглядом.
Яков не стал допытываться, что случилось в остроге. Мать держалась в стороне от отца. Тот не глядел на нее. И тетка Савина была здесь. Яков потоптался, не зная, как себя вести, с кем рядом идти, решительно тряхнул головой, объявил громким голосом:
— Атаман ждет! Побегу, скажу ему, порадую! — глубже нахлобучил шапку и рысцой затрусил к острогу.
Когда отряд подходил к нему, из дверей бани валил густой дым. Перфильев, спустившись с горы, шел навстречу старому товарищу и раскидывал руки. Яков стоял у ворот, наблюдал за ними, гадал, к чему отец сказал о матери «Тебе веду». Обратно в Енисейский поплывет, что ли? Или отец, как магометанин, собирается содержать двух жен? Думал, как они будут жить? Теснота в остроге корабельная. В аманатской избенке, и в той отсыпались караульные после ночного дозора. Разместить прибывших было негде. Полсотни уставших людей привычно устраивались на берегу, возле бани. Стали вытаскивать струги и жечь костры у воды.
Яков видел сверху, что за стройной подвижной матерью, как бык на привязи, тупо ходит здоровенный детина в кожаной рубахе. Отец и старый казак Сорокин следом за Перфильевым поднялись на гору, в острог.
Дружба дружбой, служба службой! На другой день старый Похабов стал принимать острог, пересчитывать припас и казенную скотину. Попинал подгнившие венцы избы, покачал дюжим плечом тын.
— Плохо жил! — ласково укорил атамана. — Ни острога доброго, ни приказной избы. Абы перезимовать!
— Куда к лешему, — оправдывался Перфильев, оглядываясь на Якуньку. — Полтора десятка служилых. Пошлешь кого за ясаком да скот сторожить — сам в караулы ходишь день и ночь.
— Придется укреплять! — ворчал Иван. — С братами как-то надо ладить. Да Васька Колесников волочится следом, где-то поблизости зимовать будет. А с ним подобру не ужиться: он или верховодит, или холуйствует, да тут же под начального яму роет, чтобы свалить. По-другому не может, холопское отродье.
— Да уж! — сердился и разводил руками Перфильев. — Мне, старому атаману, в Браты дали всего пятнадцать служилых. А ему, десятскому, едва в пятидесятники вышел, — сотню! Ловок! Ловок, бл…н сын.
Он чесал затылок и советовал товарищу:
— Пошли его дальше: на Осу или на Уду. Курбатка жаловался, эту зиму на Уде краснояры зимовали. Ясак с его волости брали. Краснояры — сердцем яры! — усмехнулся. — Своей прибыли не упустят, чужую к рукам приберут. А мне туда послать некого.
Два дня прибывшие отдыхали. Мать не шла в острог, все крутилась рядом с тупым верзилой из ссыльных волжских казаков, которых отец нахваливал. Яков к табору не спускался, встреч с матерью избегал. Со стороны наблюдал за ней и стал догадываться о том, о чем ни слова не сказал отец.
Отдохнув, прибывшие перетаскали рожь в амбар, стали копать ров вокруг острога. Валили деревья, тесали бревна, наспех строили балаганы. Отец с Савиной переселился в аманатскую избу. У реки бездельничали только братья Сорокины со своими ясырками да верхоленские же казаки Федька Степанов, с Данилкой Скоробыкиным. Все они ждали людей Колесникова, чтобы идти с ними дальше.
Оська Гора со счастливой улыбкой на лице таскал на гору сырые лесины. Казаки потешались над ним. Детина иной раз оборачивался и видел, что на его бревне сидит молодец-удалец, посмеивается. Оська и сам смеялся, тащил дальше и лесину, и шутника.
Как-то вечером Яков подглядел, что он с несчастным лицом сидит возле балагана, а вокруг него носится мать и машет руками, будто комаров отгоняет. «Кричит, видать!» — Неприятно вспомнилось детство, дом, ссоры родителей.
Вздрогнул вдруг Яков. Не заметил, как подошел отец, встал за его спиной.
— Вот стерва! — сказал тихо, углядев, что и сын. — Иной раз хочется плетей всыпать. — Иван постоял молча, мысленно каясь, что при сыне хулит мать. Добавил, оправдываясь: — Он-то добрей доброго!.. Пока не разъярится. Под Падуном кто-то Пелашку обидел. Так Оська заревел, как одногорбый верблюд, схватил несчастного за грудки и зашвырнул чуть не на середину реки. Не вытащи мы его тогда — утопил бы. — И признался, посмеиваясь: — Я и сам опасаюсь к ним подходить.
Через неделю на реке показались другие струги. К Братскому острогу подходил отряд Василия Колесникова. Годовалыцики Перфильева уже просмолили два струга и готовы были плыть вниз. Задерживал их Иван Похабов, уговаривая Максима дождаться и выпроводить Колесникова с его людьми. Сам он не желал ни видеть пятидесятника, ни говорить с ним.
Встретили колесниковскую сотню атаман Перфильев с Якунькой Похабовым. Коська Москвитин с товарищем бросили общие работы по острогу, побежали к своим. Иван велел верхоленцам затопить баню, бабам с ясырками печь хлеб.
Отряд затаборился чуть ниже острога. Колесников не пожелал идти на поклон к новому приказному. От него пришли Ермолины и сразу стали жаловаться, что Васька-атаман морит всех голодом, бережет рожь. И в тайгу, мяса добыть, никого не отпускает, боится побегов.
Братья поели свежего хлеба, попили квасу, попарились в бане и остались на берегу, рядом с верхоленцами. Сверху видно было, что царят там, у костра, наслаждаясь общим вниманием, пришлые люди убитого Семейки Скорохода. Вокруг них, отъевшихся и отдохнувших после пережитого, любопытные слушатели сидели и стояли в несколько рядов. Сам Василий Колесников восседал во главе костра. А люди старшего Похабова в это время таскали и таскали к острогу лес.
Перфильев с Колесниковым скороходовских охочих людей поделили по их доброй воле: одного из них переманил к себе Василий, другой решил плыть в Енисейский острог.
И заспешил вдруг, засуетился со сборами пятидесятник. От него прибежали к Ивану Похабову братья Ермолины. После отдыха им пришла пора помогать укреплять острог, и сын боярский заметил в лицах братьев знакомую перемену.
— Что? Драться будем? — насмешливо упредил раздор и смутил Ермолиных.
— Стыдно уже! — пророкотал Бугор, мотая головой от рвущихся с губ и невысказанных обидных слов. — А избы строить для твоих баб — не было такого уговора.
— Ты хоть и лучше других атаманишь, — заговорил Илейка, переминаясь с ноги на ногу, — а все же тяжко с тобой зимовать.
— О себе подумайте! — стал вразумлять бродяг Похабов. — Старые уже. Ничего не скопили. Ну куда вы пойдете? С Васькой, что ли?
— Нет, с Васькой ни за что не пойдем! — замотал буйной головой Бугор. — Отпусти нас в Верхоленский острог. Там и промыслы добрые, и воля: ни воевод, ни сынов боярских.
— Спасибо, повеличали! — смешливо раскланялся Иван и понял, что спорить с ними без толку. Он покорно, безнадежно вздохнул, устало укорил: — Смутьяны вы! Но смотрю на вас всю жизнь и завидую — верны друг другу!
— А то как же! — вскинул потупленные глаза Илейка. — Одни мы на свете. Никого больше нет.
— Ладно! — отмахнулся. — Идите куда знаете!
— Дай нам за труды по два пуда ржи! — пророкотал Бугор.
Плата за бурлачество была непомерно малой для Енисейского острога, но не для Братского.
— Да свинца бы гривенку?! — тихо и просительно просипел Илейка.
На другой день вверх по реке потянулись колесниковские струги. С ними, скопом, ушли до Братского волока в Лену Сорокины, Ермолины, скороходовский бывалец да верхоленцы Федька с Данилкой, зарезавшие братских людей. Атаман Перфильев научил их, что говорить приказным и воеводам, обещал оправдать в Енисейском остроге.
Глава 10
Нелегко было заставить подначальных людей укрепить острог для их же пользы и безопасности. Где криком, где угрозами, а то и батогами сын боярский Иван Похабов принудил-таки служилых и охочих поставить новый тын, обвести его рвом, вкопать надолбы в два ряда. В самом остроге к холодам был срублен пятистенок на два входа. Малую половину избы Похабов занял под приказ, там и жил с Савиной.
Оська Гора, с его разрешения, прирубил к тыну избенку в две квадратные сажени. Говорили, будто он упирался головой в одну стену, ногами в другую, остальное место занимала печь. Все кому не лень подзуживали молодца, выспрашивая, куда он кладет Меченку? В такой тесноте, кроме как на себя, класть ее, дескать, некуда. Иван в их избенку не заходил, встреч с Пелагией избегал. Она тоже старалась не попадать ему на глаза.
К зиме одна из ясырок Агапки Скурихина благополучно разродилась, другая стала брюхата. Писк младенца мешал казакам отдыхать, и они выселили Агапку с его ясырками в холодную аманатскую избу, которую вскоре должны были заселить заложники. Старый казак неохотно начал строить балаган во дворе. Савина пожалела роженицу, привела ее в приказную избу. Теперь младенец донимал сына боярского, а его старый товарищ с другой девкой вернулся в казачью избу.
На Николу Зимнего Иван разослал служилых в братские улусы и тунгусские стойбища. Самый большой отряд, под началом десятника Фомки Кириллова, был отправлен к Чавдоку, сыну зарезанного братского князца. В помощь Фомке Похабов отдал самых проворных и послушных ему казаков: Ивашку Герасимова и Веселку Васильева. Он хотел отправить с ними Оську Гору с крепостной двухпудовой пищалью, но дородный молодец с такой тоской в глазах стал просить острожной службы, что Иван досадливо плюнул, матюгнул всех острожных кобелей и оставил его при себе.
— Присушила, стерва, молодого пуще, чем меня в молодости! — пожаловался Савине. — А воровских казаков за ясаком посылать боюсь. Грабить станут. Не дай бог, резню учинят…
Савине из кутного угла многое виделось по-другому. Как только Иван заговаривал о лучших своих служилых — о Веселке с Ивашкой, она поджимала губы и умолкала, а за Оську с Федькой Говориным осторожно вступалась:
— Они если и солгут, то со стыдом… А то, что Федька из твоей фляги вино выпил, сам виноват — не оставляй без надзора!
— Я и так против воеводской наказной памяти погрешаю! — ворчал Иван, хмуря брови и косясь на завешанный угол, где ютилась с младенцем Агапкина девка. — Товары в улусы возят, торгуют против государева указа — не вижу! Блудят с ясырками, друг другу их продают… Не замечаю!
— Мы ведь и сами, Иванушка… — вздыхала Савина, крестясь.
— Не замечаю! — резко перебил ее Иван. — Но зерни и воровству попускать не буду, — властно ударил кулаком по столу.
Тихо, ласково все-таки выгородила Савина опального Федьку. На другой день Похабов отправил его с товарищами за Падун для сбора ясака. В остроге остались Оська, хромой Скурихин, двое старых казаков, две бабы да семь ясырок.
К Рождеству вернулся Фомка Кириллов с товарищами: не побит, не ранен, всего-то с обмороженным носом. Ясак он взял сполна. Аманатов, как требовал Похабов, не привел. Стал оправдываться:
— Приняли добром. Государево жалованное слово слушали с почтением. За другой год обещали дать ясак в наш острог, а не Курбатке. Аманатов же князец давать не хотел, а я не стал его неволить. Лучше плохонький мир, чем новая резня!
Слова десятника показались Похабову разумными. Соболя были добрыми, непоротыми, с брюшками и хвостами. К ним приложен тунгусский половик из собольих спинок.
Вскоре вернулись и другие сборщики. Позже всех заявились ссыльные казаки Федьки Говорина с ясаком чуть не вдвое больше против прежнего.
Меха были взяты без стычек. Оставалось самое трудное дело: взять ясак с балаганцев, которых еще при Хрипунове приводил к присяге Бекетов. После войн на Оке и убийства Куржума сделать это было непросто. Довериться было некому.
Верхоленские вестовые привезли грамотку от Курбата Иванова. Он жаловался Похабову на Василия Колесникова. Писал, что тот поставил зимовье пониже Осы. Грабит бурят, уже давших ясак ему, Курбату. А те нынче живут скопом и грозят отложиться от прежней присяги. Сообщал, что у края братской степи, возле мунгальских кыштымов, сам по себе кочует балаганский князец Бояркан со своим многочисленным племенем. В воинских распрях он не замечен, но и ясак с себя не дает.
Похабов дал отдохнуть вернувшимся казакам. Взял с собой толмача — раскосого болдыря Мартынку. Агапка Скурихин напросился сам: говорил, будто ему стыдно сидеть в караулах до самой весны.
— Балаган так и не построил, кобель старый! — проворчал Иван. — Хитришь! Думаешь, уйду-ка с Похабой, Савина брюхатую девку пожалеет. А там и весна близко.
Агапка ухмыльнулся, плутовато блеснул глазами, шмыгнул красным носом и ничего не ответил на догадки приказного. А тот, еще раз ругнувшись, молча согласился взять его. Велел собираться в Браты и Федьке Говорину с Горой. Десятский и Агапка в один голос стали отговариваться от Оськи:
— На кой он нам? Кабы вместо коня? Так мы налегке. Пусть караулит острог, дрова да воду возит!
Вместо себя Похабов оставил на приказе Фомку Кириллова. После Крещения он вышел с малым отрядом на лыжах и с нартами. Шли они по льду вверх по реке. Раз и другой переночевали в снежных ямах. Увидели на берегу два чума, повернули к ним. Пока шли через заметенное русло, тунгусы успели разобрать их, погрузили на оленей и ушли по глубокому снегу.
На другой день путники снова увидели стойбище. На этот раз Иван с толмачом Мартынкой побежал к жилью налегке. Тунгусы не смогли укрыться, встретили казаков настороженно и неприязненно. К ним вышел мордастый мужик с косами по плечам, хмуро принял приветствие, нехотя пригласил к костру.
У огня возле чума, на нартах с высокими копыльями, сидели еще два мужика с татуированными лицами и старик со впалыми губами. Сбросив лыжи, сын боярский и толмач присели против них. После быстрой ходьбы оба тяжело дышали. Толмач, вытряхивая снег из ичига, приветливо залопотал, выспрашивая таежные новости.
— Нет у них ни соболей, ни лис, никакой другой рухляди! — виновато улыбаясь, сказал Похабову. — Дать нам нечего!
— Спроси, кому шертовали?
Мартынка, плутовато посмеиваясь, стал пытать тунгусов, внимательно прислушиваясь к их кратким ответам.
— Говорят, род у них малочисленный. Кто требовал ясак, тому и давали: братам давали, мунгалам, лучи. Говорят, нынче лучи на устье Уды зимуют и выше по Ангаре срублен бикит. Будто в этом году казаки за всеми гоняются, со всех мех требуют. Везде война.
Иван покряхтел, прокашлялся, воротя нос от дыма костра.
— Неужто Васька два зимовья поставил? — просипел.
К стойбищу уже подходили трое товарищей с нартами. Мордастый князец буркнул что-то в сторону чума. Из-под крова вылезла старуха в кожаной рубахе до колен. Вынесла глиняный горшок, на четверть наполненный круглыми, как яйца, камушками. Ссыпала камни в костер. Старик стал накладывать в горшок мороженую рыбу. Чугунного котла у них не было. Воду грели раскаленными камнями.
Отдохнув у костра, казаки одарили тунгусов бисером и пошли к устью Уды.
— В бане бы попариться! — чесал за воротом Федька. — Засмердели у костров. Не Волга-матушка. Зимой не помоешься.
— Васька нас на ночлег не пустит! — насмешливо поглядывая на Ивана, бормотал Агапка. — Припомнит встречу под Шаманом.
Застывшая река все круче поворачивала на полдень. Люди Похабова шли по льду еще три дня, и вдруг пахнуло жильем. Зимовье стояло на устье притока с правого берега Ангары. Изба, двор с лабазом были огорожены частоколом в полторы сажени, на воротах крест. Лес вокруг зимовья был вырублен.
— Кто такие? — просипел в обмерзшую бороду Похабов.
— Тесновато для Васьки! — буркнул за спиной Агапка. — Наверное, промышленные.
Из-за частокола высунулась голова, оглядела идущих из-под руки. Вскоре замелькали шапки. Несколько человек поднялись в пояс и положили стволы пищалей на острожины.
— Вроде казаки! При саблях! — неуверенно хмыкнул Иван.
Скрипели лыжи и полозья нарт. Дыхание путников становилось громче и глубже. При виде жилья невольно убыстрялся шаг. Мартынка и Федька стали вырываться вперед. Агапка все больше отставал. Похабов оглядывал окрестности. По приметам, этим самым притоком тунгусы советовали идти в братскую степь, к Бояркану.
Зимовейщики не показывали враждебности, но и навстречу не выходили. С осторожностью глядели на путников, а люди Похабова молча приближались к ним.
— Да это краснояры! — кашляя и хлюпая носом, пробурчал Агапка Скурихин. — Те, что бунтовали в Енисейском, а после служили у нас.
— Им-то что надо на Курбаткином берегу? — замедлил шаг Похабов. Наконец и он стал узнавать красноярцев, разодетых в пышные лисьи шубы: Первуху Дричева и Савку Самсонова. В чистом воздухе, будто звенящем от стужи, перед лицами зимовейщиков клубился дымок. — Фитили жгут! Мать их. — ругнулся Иван. — Стрелять не посмеют!
— Агапка и Мартынка — со мной! — достал саблю с нарт, опоясался, сбил шапку на ухо.
У закрытых ворот он положил поклоны на крест, и они со скрипом приоткрылись. Выглянул Первуха.
— Вон кто к нам пожаловал! — процедил насмешливо и настороженно. — А я гляжу, гадаю, узнать не могу. Слабну глазами!
Он впустил енисейцев в тесный дворик и запер за ними ворота. В зимовье остро пахло печеным мясом. Из избы вышли двое. Одеты они были проще Первухи с Савкой. Одного Иван помнил по хрипуновским временам. Постарел казак, побелел, глаза стали ласковей и спокойней.
— А что вы здесь? — спросил Иван, приветствуя всех общим поклоном. — Мы да якутские служилые здешние места под государеву руку подвели.
— Что с того? — с невинной улыбкой ответил Первуха и опустил левую руку в меховой рукавице на рукоять сабли. — Милостивый наш государь, — перекрестился правой, не сняв ни рукавицы, ни шапки, — ясачным народам обещает защиту от врагов. А енисейцы разоряют их войнами. На нас приступом ходили с огненным боем.
— Васька Колесников? — удивленно поднял брови Похабов.
— Васька! — ухмыльнулся Савка, и все глядевшие на прибывших тихо заржали о чем-то своем.
— Заходите в избу, гости дорогие! — весело залопотал Первуха. — Погрейтесь!
В избе было жарко. Красными угольями пламенел чувал. Три братских мужика с косами по спинам, в шелковых кафтанах пекли мясо. Они обернулись к вошедшим широкими, раскрасневшимися лицами. У старшего на голове была лисья шапка с двумя пышными хвостами, спадавшими на плечи. Глядели мужики весело, на аманатов не походили.
Зыркая по сторонам, енисейцы стали истово креститься и кланяться на образа. С озадаченными лицами опустились на лавку.
— Князец Иланко с сыном да родич их Кокте, — кивнул в сторону братских мужиков Первуха Дричев. — Один объявил под собой сто тридцать ясачных мужиков, другой — шестьдесят. Просят нас, краснояров, поставить близ их улусов острог, чтобы защитить от мунгал, тунгусов, от немирных братов. И от вас, енисейских! — хохотнул, задрав бороду. Вошедшие за ним казаки снова приглушенно заржали, чему-то радуясь.
— Удинцы несколько лет давали нам ясак добром! — оправдываясь, пробормотал Похабов. Понимал, к чему ведет разговор Первуха. Браты пришли к ним доброй волей. — Видать, Васька Колесник перестарался! — смиренно, с горечью, качнул головой. — Ну и зачем они вам? — вскинул глаза. — Меньше недели ходу по реке — наш острог. Илгой верхоленцы на Ангару ходят волоком. Хлеб, опять же, из Енисейского возите в Краснояры, оттуда тащите сюда?
— Нам малыми судами до здешних мест добраться куда как ближе, — миролюбиво отвечал Первуха, умолчав про хлеб. — Это вы из Енисейского волочитесь все лето. Спроси сам! — кивнул на братских мужиков. — Доброй волей пришли. Просятся на поклон к нашему воеводе. — И добавил, обернувшись к своим казакам: — Угостите дорогих гостей чем Бог послал! С вами хоть поговорить можно! — желчно усмехнулся. — А то заявились три десятка колесниковских дураков. Два раза на приступ ходили. Слушать нас не хотели. Орали: «Здесь все наше!»
— Не ваше, говорили мы им, государево! — наставительно добавил Савка с самодовольной ухмылкой. — Ваши только вши в карманах да ятра в штанах. Ужо государю отпишем, он вашему атаманишке на дыбе их оторвет!
В сказанном была скрытая угроза всем енисейцам. Похабов не стал спорить. Его острог был рядом. Сила была на его стороне. Правду же знал один Господь.
— Воеводы разберутся! — согласился, поглядывая на братских князцов.
— Ты спроси, что они претерпели от ваших! — настойчивей предложил пятидесятник. — Женок и детей по два раза отбирали и требовали за них выкуп. Нам-то им и дать было нечего! — смущенно потупил глаза. — Только обещают ясак за другой год.
На стол были выставлены хлеб, квас, брусника, постное молоко из кедровых орешков.
— Спроси-ка, Мартынка, — вытирая ладонью усы, приказал Иван, — где Бояркан кочует?
Толмач залопотал, обращаясь к князцам. Те охотно отвечали, что Бояркан пасет свой скот среди мунгальских кыштымов на самом краю братской степи. Бывает, воюет с соседями, а казаков к себе не пускает.
В разговоре было случайно упомянуто имя Чавдока, сына зарезанного казаками князца. И открылось вдруг, что тот откупился от людей десятника Кириллова соболями, потому и не дал аманатов. Несмотря на огромные расстояния, буряты много знали о соседствовавших родах и племенах. Знали и то, сколько соболей Чавдок дал казакам. Знали, сколько платили окинцы. Хвалили их, что зазвали казаков жить вблизи от своего улуса.
Потупился Иван Похабов, хоть и старался не показывать унылого вида. Новости и слухи о других родах слушал вполуха. Те, кому больше всех верил, скрыли от него не меньше сорока соболей. И скорей всего, лучших.
— Всех в зимовье не пустим! — подобрев, объявил пятидесятник. — А баню истопим, хоть нынче и воскресенье. Бог простит, пути ради.
— Баню можно! — рассеянно кивнул Похабов. Гости поднялись из-за стола, с благодарностью откланялись на образа. Иван так взглянул на Мартынку, что тот посерел обветренным лицом, испуганно затоптался на месте. А бес нашептывал приказчику: «Един Господь знает, сколько рухляди присвоил Федька со ссыльными».
Пристально, испытующе он взглянул на Агапку, и показалось вдруг, весь отряд опять в сговоре против него, как когда-то на Оке. Старый казак с рыжеватой бородой, будто выцветшей от проседи, ответил невинным взглядом молодых насмешливых глаз. Он радовался теплому крову, свежему хлебу.
— Спаси, Господи, за добро! — поклонился Иван красноярцам. — Пойдем мы! Негоже засиживаться в тепле, когда товарищи у костра! — опять взглянул на Мартынку так, что тот поежился, передернув плечами. — А от бани не откажемся!
— Под горой, где лес валили, много вершинника на дрова и балаган там есть, — посоветовал пятидесятник Первуха. — Ночуйте! Все не под открытым небом.
Возле леса горел костер. У огня на нартах сидел Федька с товарищем. На полпути к ним Иван резко обернулся, схватил толмача за горло.
— Все скажу! — придавленно захрипел тот. — Не своей волей молчал. И не взял бы ни хвоста. Убить грозили!
— Федька сколько украл? — строго рыкнул Похабов.
— Все отдал! Вот те крест! — неловко тряхнул рукой толмач. — Самого пытай! Тарасун выпили весь. И молочные сусленки, из которого его курят. Больше ничего не взяли.
— А ты что знал? — обернулся Иван к Агапке.
Тот безбоязненно взглянул на приказного ясными глазами и расхохотался, встряхивая желтой бородой.
— Вернемся в острог — сыск устрою! — пообещал Похабов. — А до тех пор чтобы никому ни слова!
Мартынка согнулся, переломившись в пояснице. Кашлял и отхаркивал сдавленным горлом.
— Они и тебя порешат! — промямлил со слезливой обидой. — Злы! Говорят, с Похабой не разживешься. Сам, дурак, до седой бороды в бедности дожил и других неволит.
«И то слава богу! — думал Иван, поглядывая на заостренные концы лыж. — Не так уж часто удавалось разойтись с красноярцами миром». По реке мела поземка, вихрясь за торчащими, острыми льдинами. Снег был крепок и хрустел под лыжами. Лес становился все реже. Отряд выходил к верховьям притока, не встретив ни одного тунгусского или промышленного стана.
Через день открылась степь, студеная, бесприютная. Сияло в небе холодное ясное солнце, блестел снег. Вдали виднелись горы.
— Кхе-кхе! — опасливо взглянул на Похабова Агапка. Под его заиндевевшими бровями бесшабашно поблескивали синие глаза. — Кажись, дальше смерть!
Казаки тоскливо озирались на чахлый лес и кустарник, где провели у костра последнюю ночь.
— Лесное отродье! — проворчал Иван, оглядывая открывшийся простор. — Степи не видели!
— К ночи до гор не дойти, — шепеляво зароптали люди, сбившись в кучу. — Замерзнем!
— То я зимой в степи не ночевал! — стал подтрунивать над ними сын боярский. — Наберем сухих конских катыхов и коровьих лепех. От ветра нартами да лавтаками укроемся.
— А как буран?
— Молиться будем. Бог милостив. А заметет — плясать станем. Ночь-другую пережить можно.
Уверенность в словах, безбоязненный вид сына боярского ободрили казаков. А он встал лицом к востоку против ветра, щуря стынущие глаза, перекрестился, сипло запел, обращаясь к Николе, покровителю сибирцев. Казаки стали подпевать и кланяться на восход. Вроде бы потеплел ветер, и солнце засияло ярче.
Шли они на восход до самых сумерек, пока не пропали из виду горы. Ночью, в небольшом углублении, долго жгли траву и кизяк. Наспех перекусили оттаянным хлебом. Из нарт и лыж соорудили тесный шалаш, накрыли его одеялами и шубами. Бросили жребий, кому в какую очередь спать, кому их караулить да бегать вокруг.
Беззаботно похрапывал один Агапка. Двое рядом с ним дремали, пережидая ночь. Еще двое в шубейках бегали вокруг и топали ногами. Едва завиднелись горы, караульные влезли в общую кучу. Иван выбрался из развалившегося балагана. Отыскал свой шубный кафтан. Суставы ныли от неудобного, тесного лежания.
— А что это там? — Федька замер щурясь и указал вдаль волчьей рукавицей.
Все стали вглядываться в пади гор.
— Вроде скот пасется! — шмыгнул красным носом Агапка. — К чему нам здесь сидеть? — задиристо оглядел казаков отдохнувшими глазами. — Краюху за пазуху, на брюхо, отщипывай и жуй на ходу!
— Где скот, там люди! — согласился Иван. — У них погреемся и отдохнем.
Отряд снова двинулся на восход. Скрипели по мерзлой траве полозья нарт. День был ясный и холодный. Какими близкими ни казались с утра горы, только к полудню приблизились к табуну. Раздувая заиндевевшие ноздри, на людей вышел жеребец и угрожающе заржал.
Кони расступались, пропуская путников. Пахнуло в лица кизячным дымком. Завиднелось его веретено на сером холме, выбитом копытами. Показался рубленый братский гэр в шесть стен с плоской крышей. Залаяли собаки.
Из избенки вышли двое в долгополых шубах. Долго приглядывались к приближавшимся людям, затем вскарабкались на оседланных коней, зарысили навстречу.
Мартынка поприветствовал их по-братски, залопотал, сдирая сосульки с редких усов:
— Пусть множится ваш скот.
Казаки с белыми от куржака бородами и ресницами приветливо кивали. Двое ни взглядом, ни словом не показали, что поняли пришлых, глядели на них тупо и равнодушно.
— Бояркан где? — начиная сердиться, спросил Похабов. Распахнул шубу, похлопал рукавицей по золотой пряжке шебалташа.
Удерживая пугливых коней, двое подъехали ближе, уставились на золото, затем развернулись и пустили лошадей галопом в сторону от жилья.
— Ясыри? Или братские рабы! — пожал плечами Похабов, запахнул шубный кафтан и указал на избу, над которой весело курился дым.
По перекопыченной, поскрипывавшей под ногами земле вперемешку со снегом казаки приволокли к жилью нарты, развязали смерзшуюся бечеву, которой были приторочены котлы и пищали.
Двери в хижине не было. Иван откинул тяжелый войлок, пригибаясь, вошел под низкий кров. В середине хижины, без дыма, грудой раскаленных углей ярко тлел очаг. Было жарко. У огня сидели старик со старухой. Возле стены огонь высвечивал лица двух женщин. Стараясь быть приветливым, сын боярский содрал с усов лед, сипло поприветствовал жителей.
— Сайн! — тихо и коротко ответил старик.
— Мы идем к Бояркану с миром! — по-бурятски сказал Иван. И добавил: — Замерзли!
Из-за войлочного полога в жилье протиснулись еще четверо казаков, прислонили к стене пищали с белым узором инея на стволах. Иван сбросил шубу, распахнул суконный кафтан, присел возле очага. Старуха боязливо отодвинулась. Казаки раздевались, не дожидаясь приглашения, тянули руки к огню.
Как ни были неприятны хозяевам гости, старик, не оборачиваясь, тихо гыркнул, женщина, сидевшая у темной стены, передала на руки старухе ребенка, вышла из жилья и вернулась с котлом, набитым снегом, повесила его над огнем. Старуха одной рукой стала подкидывать кизяк на угли.
Куда ускакали мужики, старик не знал.
— Неизвестно с кем вернутся! — бросил на атамана тоскливый взгляд Мартынка.
— Всякое может быть! — буркнул Иван, расправляя оттаявшую бороду. — В избе, да с аманатами взять нас трудно. В ночь выставим караул. По жребию.
— А у меня как раз кость завалялась! — весело блеснул глазами Агапка. Борода его свисала грязной ледышкой. Нос был красен, лицо обветренно. Беззаботно выдержав пристальный и угрожающий взгляд Похабова, он бесстыдно оправдался: — Кто-то обронил. Я — поднял! На тебя, что ли? — бросил обточенную кубиком кость в шапку.
Казаки повеселели, придвинулись к нему. Куда делась въевшаяся в лица многодневная усталость. Похабов начальственно покряхтел, но отбирать кость не стал. Вынул из шапки жребий. Захохотали казаки. Ему выпала самая незавидная смена среди ночи. Весело, без спора, разыграли другие караулы. Затем Иван молча и властно забрал кость.
Казаки оттаяли хлеб. Хозяева сварили мясо, вывалили его на деревянное блюдо и придвинули гостям. Старик тяжелым, неумело выкованным ножом отрезал первый кусок для пробы и долго жевал, беззубо сминая набок морщинистую челюсть с пучком седых волос на подбородке.
Наевшись, казаки стали стелить одеяла и шубные кафтаны у входа в бревенчатую юрту. После холодных ночевок предвкушали отдых под кровом.
Среди ночи беззлобно залаяли собаки. Казаки перестали храпеть. Иван выглянул из-под полога. Ярко светила луна, стадо бычков подошло к жилью, возмутив собак. Отогнав его, они стихли. Похабов опустил полог, примял обледеневший войлок, чтобы не дуло. Подойти к жилью бесшумно не смогли бы и хозяева.
Всадники показались до полудня, когда тусклое зимнее солнце в студеной дымке вскарабкалось на два своих круга. Ехали они рысцой, чуть привскакивая в седлах. Их было семеро. Пятеро рысило с заводными лошадьми в поводу. Из-за их спин крест-накрест торчали луки и колчаны со стрелами.
Несмотря на поздний час, хозяева спали под толстыми одеялами. Жилье выстыло. У порога из-под полога намело снежный сугроб. Казаки стали одеваться и раздувать очаг.
— Мартынка — со мной! — приказал Похабов. — Остальным быть в избе. Схватятся за луки, дадите залп!
Опоясавшись саблей, Иван вышел навстречу всадникам. Те остановили коней с заиндевелыми мордами. Собаки смущенно вертелись среди людей и лошадей, не зная, на кого лаять. Братский мужик в овчинном тулупе и лисьей шапке сказал по-тунгусски:
— Бояркан ждет! Его люди варят мясо.
Кони в поводу были под седлами. Привели их явно для гостей. Похабов, не приметив опасности, велел защипнуть фитили, приторочить к седлам мешки с хлебом, ружья и одеяла. Взялся за уздечку коня, тот боязливо отпрянул, захрапел, перебирал копытами на одном месте и подергивал шкурой на боках.
Пять молодцов, не слезая с лошадей, насмешливо наблюдали, как казаки садились в седла. Двое вчерашних мужиков с чувством исполненного долга расседлали и отпустили своих лошадок, ушли в жилье.
Попрощаться с гостями вышел старик. Он по-хозяйски приставил нарты к стене, полозьями на солнце. Перед уходом Иван одарил его бисером.
Когда солнце поднялось на полуденную высоту и покатилось к ночи, всадники увидели селение из трех рубленых юрт и полудюжины войлочных. Всередине стояла просторная белая юрта князца. Ее стены до половины были забросаны снегом. У входа понуро перебирали копытами три коня под седлами. Неподалеку горел костер, остро пахло паленой шерстью.
Гостям указали на ветхую избенку из почерневшего, иссохшего леса. Из вытяжного отверстия в плоской крыше курился дым. Иван соскочил с коня, затоптался на месте, разминая затекшие, отвыкшие от верховой езды ноги, откинул войлочный полог указанного ему гэра. Из него вышла пожилая женщина в шубе. Жилье было пустым.
— Приехали! — окликнул казаков. — Сидите здесь, при оружии. Мы с Мартынкой пойдем ко князцу. Если что — пороху не жалеть!
К отряду приковылял немногословный балаганец в тулупе и лисьей шапке.
— Хубун ждет! — сказал коротко.
— Ну, Господи, благослови! — перекрестился на восход Иван Похабов, кивнул толмачу, поправил кушак, ощупал нож за голяшкой ичига.
Он вошел в белую юрту первым. Жарко горел очаг. Под кровом было тепло. Вдоль решетчатых стен ровными стопками лежали меховые одеяла. На них сидели три старика с длинными белыми пучками волос на подбородках. Рядом с князцом важно восседал шаман с бубном. Он был в легкой шубе, обшитой хвостами белок, соболей, горностаев, других животных. На голове — причудливого вида остроконечная шапка с ушами зверей.
У огня лицом к гостям сидел Бояркан. И он, и Иван впились глазами друг в друга, будто выпытывали, у кого что на уме. Много лет не виделись, а последняя встреча была короткой и недружественной.
Бояркан поседел. Опали пухлые щеки, по ним шрамами пролегли морщины. Опустились широкие плечи. Из-под халата подушкой выпячивал опоясанный живот. Личина на золотой бляхе шебалташа выглядела теперь много моложе, а то и вовсе не походила на голову нынешнего князца. Как показалось Ивану, глаза Бояркана оглядывали его грустно и устало. Наверное, князец тоже находил перемены в казаке.
За спиной Ивана послышался принужденный кашель Мартынки. Он и сам почувствовал, как от затянувшегося молчания напряглись у входа молодцы с саблями. К общему облегчению, Бояркан поднялся с подушек, слегка поклонился на закат и спросил:
— Ну, как здоровье царя? Не болеют ли жена и дети? Плодится ли скот?
Иван понял сказанное без толмача. Поклонился князцу, заговорил о царе просто, будто о Федьке, оставшемся в гэре:
— Жив и здоров, слава богу! Вся родня здравствует и тебе передает свои добрые пожелания!
— Не сердится ли царь, что мы сожгли его острог и убили его людей? — со скрытой насмешкой спросил Бояркан, и узкие глаза его хищно блеснули.
Пропустив мимо ушей насмешку, сын боярский стал отвечать обстоятельно, пересказывая жалованное государево слово:
— Царь наш милостив! За сожженный острог и убитых людей велел тебя казнить. Но казнить с милостью: если дашь новую присягу и ясак, то простить. Ты ведь доброй волей пошел под его руку.
Бояркан опустился на покрытые шелком пуховые подушки. Кивнул, приглашая Ивана с толмачом садиться против него.
— Только сильный человек бывает добрым и умеет прощать! — сказал, щуря глаз и пошевеливая усами. — Когда слабый говорит, что забыл обиду, — лжет. Слабые быстро забывают добро, но зла и обид не забывают никогда. Бывает, всю жизнь ждут, чтобы отмстить, детям своим, внукам внушают ненависть и предательство.
Иван с толмачом слушали многословные речи князца, склонив головы. Думали, к чему он об этом говорит, на что намекает?
— Если бы Белый царь защищал нас, как обещал, мы бы давали ему ясак исправно. Но казаки нас грабили и дрались между собой. Какой это царь, если среди своих дайша не может навести порядок? — Бояркан усмехнулся, пристально глядя на Ивана.
— Мы не без греха! — ответил тот почтительно. — А царь далеко. Пока весть до него дойдет — год проходит. А того атамана, что вас грабил, он казнил смертью.
Бояркан вскинул удивленный взгляд. Снова опустил голову и заговорил с раздражением:
— Наш скот воруют икирежи, эхириты и даже соболятники, мунгальские кыштымы. Казаки с верховий Зулхэ, которых призвали к себе тунгусы, воюют и воюют. На Осе казаки грабят бурят всех родов, ловят людей на выкуп. Пока эти новости дойдут до Белого царя, сделается большая война и прольется много крови. Построй острог рядом с моей степью, — прищурил на Ивана без того узкие глаза. — Делай, как обещал царь, и я буду давать ясак каждый год.
Но мы не такие слабые, чтобы давать заложников. Аманатов не дам, — сказал твердо, но без угрозы.
— Аманаты в Братском остроге хорошо живут! — стал мягко уговаривать его Похабов. — Лучше, чем казаки. Им харч обильный, две чарки вина каждый день.
— Не дам! — твердо повторил Бояркан.
Вошли женщины в легких шубах. Расстелили крашеные кожи и войлочные ковры, поставили на них поднос с белоглазой бараньей головой. Ее вареные губы кривились язвительно и плутовато. Затем были выставлены блюдо с парящим мясом, плошки с творогом, чашки с кислым молоком.
Входить в дом князца, садиться за его стол надо было с подарком. Иван ждал подходящего случая. Бояркан напомнил об этом, насмешливо оглядывая вареную баранью голову:
— Что прислал мне царь?
Похабов достал из-под полы кафтана отрез вишневого сукна, высоко ценившегося среди братских народов.
— Сарь зэмхэлхэ![233] — почтительно заговорили за спиной князца.
Бояркан скосил глаза на сукно, судя по лицу, остался им доволен. Насытившись, он откинул дородное тело на подушки, стал цыкать мясом, застрявшим в зубах. Нужного разговора не получалось: призраком маячило между ним и сыном боярским тело Куржума с застрявшей в стремени ногой. Печально свесив голову, Иван первым напомнил о нем.
— У тебя был хороший брат! — сказал тихо и окинул внимательным взглядом молодых родственников князца. — Он исполнил братский долг! Его душу Бог наградит и возвеличит!
Бояркан потупился, сник, устало кивнул, смежил глаза в две узкие щелки:
— Когда умрем, узнаем, кто жил правильно! В Среднем мире ничего не понять! — Обернувшись, что-то приказал женщинам. Одна из них принесла кувшин с молочной водкой. Другая расставила чарки перед стариками и гостями, разлила по ним молочную водку.
Бояркан выпил, крякнул. Молча выпили старики п шаман. Чарки гостей стояли перед ними, никто не принуждал их пить. Молодым и вовсе не наливали.
Князец прокашлялся и заговорил быстро, будто спешил избавиться от навязчивых мыслей:
— Духи перестали помогать бурятам. Через шаманов говорят нам всю правду. Вредят или не вредят, а помощи от них нет. Был у меня желтый боо. Много молился деревянным болванам. Говорил, что его боги делают счастливыми всех, кто отказывается от желаний. Я спрашивал: придут казаки или дайши Богды, заберут скот, детей, жен и меня сделают рабом? Все равно, говорит, будешь счастливым, если отречешься от всех желаний и не станешь заботиться ни о чем, кроме покоя.
Я его прогнал! — Бояркан повел головой. Женщина снова наполнила чарки. Он опять выпил. — Мой черный боо устроил камлание по моей просьбе. Он — хороший абаралша[234]. Через него я говорил с духами про бурят и казаков, про нас с тобой, — бросил на Ивана колючий взгляд. — То, что казаков стало много, как мышей в иной год, духи говорили, это справедливо. Было время, когда мои предки брали ясак и добычу с твоих предков и правили большой страной так мудро, что невинная девица ходила без охраны из одного конца земли в другой.
Духи сказали: казаки продолжают дело моих предков по их законам. День придет, ясак и аманатов брать перестанут, все заживут мирно и богато, без войн. И так будет семь поколений. — Бояркан опять впился взглядом в лицо Ивана. Не заметив насмешки или плутовства, добавил: — Может, и больше, дальше шаманы не видят. — Князец покряхтел, недовольный своим откровением, посопел приплюснутым носом, но продолжил: — Спрашивал я духов про мунгал. Говорят: они еще долго будут воевать между собой.
Спрашивал про нас с тобой! — усмехнулся, не спуская глаз с Похабова. — Дуумгэй[235] убит казаками. Брат-уруул[236] обидел: выбил из рук оружие, а голову не отрубил.
Сказали духи: отрубишь ему голову, еще семь поколений будут воевать, пока кто-то не проживет без убийства. От мяса — мясо бывает. У каждого человека есть свой предок. У каждого человека будут свои потомки, — закончил, печально уронив тяжелую голову.
Шаман-боо в шубе, обшитой звериными хвостами, с важностью поддакнул:
— Наши духи все знают! Они все могут рассказать. Помогать не хотят. Боятся перечить Эсэгэ Малаану, вершителю судеб, сыну Вечно Синего Неба.
— С вашим боо говорил, с тем, который живет на Иркуте и носит бороду до пупа, — похлопал себя по животу Бояркан. — От него знаю, что ваших богов можно уговорить помочь людям даже против воли вершителя судеб.
Сильный Бог! Умеет прощать! — вернулся к тому, с чего начал.
— Мне жаль Куржума! — напомнил Похабов. — У тебя был верный брат, — не крестясь, поднял чарку за помин души. — Если бы он не попал под пулю, царь бы его простил!
Бояркан раздраженно мотнул головой и резко гыркнул:
— Все было не так! Бородатый боо говорил мне о вашем Боге: как он породил дьявола.
Последнее слово было сказано по-русски, да так ясно, что Иван с Мартынкой вздрогнули и перекрестились.
— Я любил своего младшего брата, он любил и почитал меня, пока мы были молоды. Потом он стал завидовать. Говорил, если бы родился первым, то сделал бы бурят богатыми и знаменитыми.
Какими бы длинными ни были стремена, а до земли доставать не должны. Как ни хорош младший брат, а со старшим равняться не должен! Я доверил ему править племенем. Он стал воевать с бурятами, с мунгалами и с казаками. Теперь нас все не любят, а буряты не любят больше всех.
Много родственников погибло, а я не мог остановить его. Когда он сжег острог и перебил эхирит, я стал жить с ним в ссоре. Перед тем боем, когда его убили из ружья, он сказал мне: «Пусть погибнут все булагаты вместе с тобой, но я стану ханом всех бурят, а потом завоюю мунгал и казаков!»
И тогда я подумал: «Вернемся в степь — отрублю ему голову». Твоя пуля опередила мой меч. Не на мне кровь брата — на тебе!
Бояркан зарычал. Повел вокруг мутными глазами. Молодые родственники стали выходить из юрты.
— Дам ясак за два года! — неприязненно скривил губы. — Сделаешь острог на моем берегу Мурэн — буду давать каждый год. Царь будет доволен. А подарков не дам ни тебе, ни ему, пока не установите мир и порядок.
Иван хмыкнул, тряхнул захмелевшей головой. Опять Бояркан давал сколько вздумается и вел себя независимо, не как добропорядочный подданный русского царя. Сын боярский вскинул сузившиеся глаза, сухо рассмеялся, снял шебалташ и бросил его на тучные колени Бояркана.
Мгновение и он, и князец молча смотрели на потертое золото. Тот и другой сравнивали друг друга с чеканным изображением на пряжке и находили, что теперь они мало похожи на них. Личины, абгалдай, уже не завораживали. Люди старели и умнели, золото оставалось прежним.
— Поноси-ка теперь ты, ахай! — скривил губы Похабов. Глаза его прояснились, будто он смахнул с них шаманское чарование. В юрте было тихо. Все прислушивались к словам говоривших, ничего не понимая. Один только захмелевший шаман посмеивался и бросал плутоватые взгляды то на одного, то на другого.
Бояркан разглядывал шебалташ, как ненароком заползшую змею. Потом поднял на Ивана широко раскрытые глаза, нашарил за спиной соболью шкуру, вместе с ней перекинул шебалташ на колени сына боярского.
— Тебе дали духи, ты и носи! — прошипел резко и неприязненно.
Братский острог встретил приказчика приветливо и сдержанно. Здесь отгуляли Маслену и постились Великим постом. К прибывшим вышел десятский Фома с саблей на боку. Савина весело топталась возле приказной половины, нетерпеливо поджидала Ивана и не решалась, как молодая жена, выбежать навстречу.
Десятский, пристально взглянув в глаза сыну боярскому, внутренне содрогнулся и скривился в натужной улыбке. Сдерживая ярость, Иван мирно спросил о делах острога, и, как ни старался скрыть истинные чувства, Кириллов бледнел, краснел, глаза его беспокойно бегали.
Веселка с Ивашкой, бывшие верные и расторопные казаки, приветливо махали с нагородней. Наконец и Савина ткнулась лицом в его кафтан, пропахший дымом костров, тихонько завыла.
— Ну ладно! Ладно! Живой! — стал отстраняться Иван. — До бани не подходила бы близко.
— Отмоем, отпарим! — беззаботно заворковала она, стягивая с него кафтан.
— Не обижали? — раскинул руки приказчик, позволяя себя раздеть.
— Я себя в обиду не дам! — рассмеялась она. — Не впервой. Всю жизнь отбиваюсь от озверевшего мужичья.
В отсутствие Похабова в острог вернулись посланные им иод Долгий порог казаки старого стрелецкого десятника Дружинки Андреева. Они не нашли там тунгусских кочевий. Но, разыскивая их, поднялись по Вихоркиному притоку в Чуну и Уду, взяли там ясак с братских кыштымов, которые в прошлом шертовали красноярцам. Главное государево дело было сделано. Ясак за нынешний год был взят с прибылью.
Напарившись до изнеможения, Похабов намылил волосы и бороду квасной гущей. Агапка на полке все чему-то посмеивался. Его мокрая борода свилась сосулькой, редкие волосы облепили голову, но глаза по-юношески блестели, а сам он, как молодой, радовался возвращению, квасу, который будет после бани, хлебу, выпеченному женскими руками.
Глядя на него, Иван с завистью прятал свою кручину. Не выдержав, зловредно проворчал:
— На этот раз не поблудишь в пост, кобель старый! Обе девки у меня живут. У второй уже брюхо нос подпирает!
— В другой раз как-нибудь! — беспечально похохатывал Агапка. — Поди, Бог простит калеку!
За столом под образами Иван был даже весел. Пелагию, которую прежде не желал замечать, и ту одарил взглядом. Он рассказал о встречах с красноярами и балаганцами, утаив, что узнал о ясаке с Чавдока. За разговорами засиделся допоздна.
Савина заждалась его в натопленной приказной избе, зевала и боролась со сном. Потрескивала лучина над ушатом с водой. В кутном углу посапывали ясырки. Время от времени сонно попискивал и утихал младенец. Наконец Иван возлег рядом с Савиной. Пушистые, промытые волосы рассыпались по подушке.
— Что, красив?
— Тот же! Глаза только.
— Что глаза? — спросил шепотом.
— Дурные. Горят, будто вот-вот пальнут картечью.
Иван хмыкнул в бороду, опять отмолчался. Сыск он решил провести утром. В надежде, что бывшие любимцы покаются, дал им намек на слухи про окинский ясак.
Как ни холоден был февраль, на Прошкин день пахнуло весной. Похабов велел Савине с Пелагией печь пироги, а ясыркам помогать им. После соборной молитвы мужчины сели за общий стол. По обычаю дня Иван стал ломать хлеб и раздавать его подначальным людям. И когда все умеренно подкрепились едой и питьем, сказал с печалью в голосе:
— Правду скрыть трудно. Далеко отсюда, на другом берегу, братские народы знают про нас больше, чем мы сами. Они рассказывают друг другу, какой с кого ясак мы взяли и какие подарки получили. Сколько соболей дал Чавдок? — обернулся к Фомке Кириллову.
Лицо десятника побагровело, глаза стали злыми.
— Сколько дал, столько ты принял! — рыкнул в ответ.
Веселка поперхнулся, натужно закашлял. Ивашка Герасимов соскочил с места. Ни следа былой угодливости не было в их лицах: глаза оловянные, тусклые.
— Оговорены! — прокашлявшись, вскрикнул Веселка. — На себя не брали!
— Ну, что ж! — Иван угрожающе положил ладони на стол. — Сказано Господом: повинится — прости! Не каются! — властным взглядом обвел собравшихся за столом. — Дружинка! — приказал десятскому, сидевшему с рассеянным видом. — Чтобы все было по чину, бери Фомку и одного из этих, — указал глазами на Ивашку Герасимова с Веселкой, — веди в аманатскую и карауль. Другого здесь пытать будем. Самое время взыскать за клятвопреступление.
Добрая половина казаков возмущенно загалдела за столом:
— Велик грех дареного соболя оставить? Иные из дальних походов в собольих онучах возвращаются.
— То из дальних, — заспорили другие. — Здешние не вами под государеву руку приведены, чтобы втайне от товарищей наживаться.
— От государя всем служилым торговать запрет! — прихлопнул ладонью по столешнице Иван. — С ясырками сожительствовать — блуд! Попы не велят. И мне в наказной памяти воевода велел за всеми вами следить, чтобы жили без греха. Сам грешный, я кому-нибудь запрещал торговать? Или ясырок отбирал?
— При двух-то женах? — злорадно пискнул голос из угла.
— И двух ясырках! — поддакнул другой.
Иван в их сторону ухом не повел.
— За воровство промышленные люди карают смертью. Служилых государь под кнут кладет! Не я это придумал! Вы царю крест целовали!
В избе стало тихо. Гремели горшки. Савина с Пелагией мирно переговаривались о своем, запечном, деле. Оська Гора, не понимая, о чем спорят, таращил по сторонам удивленные глаза.
— Уведи-ка баб к себе! — окликнул его Похабов.
Оська пожал широкими плечами, поднялся под потолок.
— Ну ладно уж, — пробормотал. — Уведу! А что им у меня делать? — уставился на сына боярского. — Там тесно!
— А ты обоих на себя! — с хохотом крикнул Агапка, сверкая масляными глазами. — И ясырок по бокам. Ой, тепло-то как будет!
— Ну ладно! — опять пожал плечами Оська и заслонил собой печь.
— Наговоришь! — смешливо пригрозил Агапке Федька Говорин. — Он ведь так и сделает: сгребет всех. Он может! — плутовато взглянул на Похабова.
Тот отмахнулся, не давая перевести разговор в смех. Старый стрелец с приставами увел Фомку Кириллова с Ивашкой Герасимовым в аманатскую избу. Оська повел женщин к себе, в прируб. Иван бросил Федьке веревку и кивнул на Веселку:
— Вяжи руки!
Веселка вскочил, сунул ладонь за голяшку ичига, нащупывая нож, но был скручен бывшими рядом с ним. Федька ловко захлестнул его руки за спиной и перекинул веревку через поперечную балку под потолком.
Иван тяжело поднялся, подтянул веревку так, что Веселка низко склонил голову. Спросил строго и спокойно:
— Сколько соболей дал Чавдок?
— Все тебе отдали! — визгливо закричал Веселка.
Один из казаков оголил ему рубаху на груди. Другой запалил в печи сухой березовый веник. Правду говорила Савина: «Веселку с Ивашкой не любили в остроге».
— Где ворованные соболя? — сунул Иван горящий веник под живот.
— За баней, в чурбане! — взвыл Веселка.
Веревку ослабили. Толпой побежали за баню. Березовый чурбан с наростами, который не расщепать и тяжелым топором, с нижней стороны был трухляв и заморожен льдом. В его полости хранилось пятнадцать черных соболей.
Иван показал их всем свидетелям, с толпой казаков двинулся в аманатскую избу. Веселка выскочил следом, подвывая, прикладывал снег к животу. Ивашка Герасимов забился в угол и скалился, как пес, Фомка с хмурым лицом сидел на лавке.
— Признались? — спросил Похабов пытавших их людей.
Мартынка-толмач виновато повел носом. Дружинка равнодушно пожал плечами.
— Сказано, претерпевший до конца — спасется! — тряхнул бородой Иван. — Положить на лавку. Дать десять батогов. Каждый раз спрашивать, нет ли еще утаенной рухляди!
Он раскрыл ясачный сундук. При свидетелях вписал найденных соболей в ясачную книгу и закрыл рухлядь под замок.
Орал Ивашка на весь острог, но, кроме выданных, других присвоенных воровских мехов не назвал. Фомка матерно ругался и грозил жалобами.
— Может быть, и нет больше? — пламенея лицом, подсказал Дружинка.
— Как не быть? — усмехнулся Похабов. — Если Кириллов за жалованное государево слово взял на себя тридцать добрых.
Фомка побелел, вскинул горящие, злые глаза:
— Не тридцать, а двадцать шесть. Добром дали нам с тобой в почесть. На обратном пути поделили бы.
— Я — казак! — громко объявил Похабов, оглядывая взглядом собравшихся. — Тайно от товарищей не беру!
— Оттого и нищий, хоть борода седа, — запальчиво выругался Фомка.
— Другие времена подступают! — вздохнул сын боярский. — Прежде за такой грех набили бы пазуху камнями и утопили в полынье. Думайте, братья-казаки, как наказать десятского. Против вашей воли не пойду!
Били Фомку батогами. Он не вскрикнул, не ойкнул, только зубами скрипел. Поднялся с лавки с озверевшим лицом. И началась в остроге смута. Уличенных в воровстве бранили, но не за то, что укрыли ясак, а за то, что не поделились с товарищами.
Трое огрызались, насмехались над честными служилыми, выставляя их дураками. Хотел уже Похабов снова взяться за батоги, чтобы примирить тех и других, но вложил Бог ему в голову мысль отправить воров в Енисейский острог с ясаком.
Он сказал об этом Савине и успокоился. А баба своим крепким умом сообразила то, что никак не мог взять в толк он сам.
— Оговорят они тебя! А себя оправдают!
— Как меня оговоришь? Острог укрепил, ясак взял с прибылью. Против воров — царский указ. Дареного мне Боярканом соболя — и того вложил в казну. А против них — все свидетели!
— Не знаю как, — качала головой Савина, — но оговорят! Кто первый явится на глаза воеводе — тот и прав. Другой уже оправдывается.
— Добрая ты баба, хорошая, но глупая! — сердился Иван. — Ни указов не знаешь, ни в делах службы не понимаешь. К тому же ржи у нас мало. Их оклады здесь останутся, а там воевода голодными не оставит.
В середине мая с треском и грохотом разорвалась застывшая река. Сдвинулся лед, и побежала по нему стылая вода. Все острожные люди, даже караульные, не спавшие ночь, высыпали из острога глядеть, как просыпается Ангара.
Берега и лес давно очистились от снега. Струги были приготовлены к походу. За зиму забылись тяготы бурлацкой жизни, и рвались души острожного люда встреч солнца, в неведомые края, алкали чуда, надеялись на что-то смутное и радостное.
— Христос воскресе! — вытягивая шею, по-петушиному орал Агапка.
— Воистину! — весело отвечали ему.
Велел Бог радоваться от самой Пасхи до Троицына дня. Ожившая река напомнила об этом.
В избах сняли с окон бычьи пузыри, запустили весну под кров. В жилье стало светлей и праздничней. За соборным столом Иван Похабов поделился своими помыслами:
— Как очистится река, так троих отправлю с ясаком и с грамотками к воеводе. Восемь служилых оставлю в остроге. А два десятка, в двух стругах, пойдем куда Бог приведет.
— Мало восемь человек в остроге! — засомневались казаки.
Сын боярский зычно расхохотался и объявил:
— Да если одного Оську Гору с бабой оставим, он ради нее от войска отобьется!
Засмеялись казаки, поглядывая на смущенного молодца. Уже по одному его виду понятно было, что Оська остаться не прочь. Да и Агапка Скурихин к весне вдруг расхворался. Другие оставались по жребию. Осторожный и благоразумный десятский Дружинка спросил:
— Кого вестовыми с ясаком пошлем?
— А Фомку Кириллова с Веселкой и Ивашкой. Они на всех злы, их и отправим, — беззаботно ответил сын боярский при общем молчании.
Возвращаться в Енисейский острог весной никому не хотелось, и все же решение сына боярского казаков озадачило. Служилые его не одобряли, но и не спорили.
Как ни убеждал Иван Савину остаться в остроге, она возражала: не для того, мол, уходила от сыновей и пасынков, чтобы жить в разлуке. Кряхтел Иван, чесал бороду. Пытался вразумить бабу, что в пути бывает всякое, может быть, и повоевать придется.
Отгуляли проводы и расставания. Пелагия с Савиной простились дружески. Смирив гордыню, бывшая венчанная жена даже поклонилась мужу:
— Не поминай лихом! Много добра ты мне сделал. А то, что прежде Господь соединил… Иной раз вспомню и себе не верю! Видно, не судьба отпустить тебя доброй волей. Разве Господь освободит.
— Что уж там? Живи! — буркнул Похабов. — Видать, так судьбой завязано!
Перекрестив острожные ворота, он последним спустился к стругам, усадил Савину на корму, встал на шест, махнул рукой, и бурлаки привычно разобрали бечевы, потянули суда против течения. Десятские Дружинка с Федькой запели звонкими голосами: «Радуйся, плавающих посреде пучин добрый кормчий; радуйся треволнения морская уставляющий».
Мимо проплыла черная, с въевшейся землей, отдерная льдина, обдала стылым духом снега, зимы и прелого листа. Поднятая с отмели стая уток клином вспенила воду. Стройные вековые сосны, подступившие к самой реке, качали верхушками.
Красноярское зимовье пустовало. Служилые ушли из него, оставив троих годовалыциков. Переночевав у них, отряд Похабова продолжил путь. Редел лес. Открывалась степь. Черная гарь на месте зимовки атамана Колесникова дотлевала и чадила головешками.
Люди Похабова осмотрели пожарище, костей и следов боя не нашли. Судя по следам, казаки Колесникова ушли со стругами, а зимовье было сожжено, как только они его оставили.
Очень не хотелось Ивану встречаться со зловредным товарищем. Но делать нечего, он пошел его бечевником, то и дело натыкаясь на кострища стоянок. На Иде колесниковский отряд повернул в верховья притока. Видно, скороходовский Максимка Вычегжанин убедил атамана идти на Лену волоком.
Похабов с облегчением перекрестился: пути двух отрядов разошлись без встречи.
Савина пекла хлеб, варила кашу, иногда стояла на шесте или просто брела берегом в кожаной поневе и чирках, отмахивалась от комаров в две руки. Вечерами она плела сетки из конского волоса.
На устье Куды к отряду выехали конные браты и стали спрашивать о торге. Ничто в казаках Похабова их не удивляло, видно, промышленные и торговые люди были здесь не редкими гостями. По разумению здешних народов, у бородатых должен быть товар.
Похабов велел остановиться, вышел с толмачом, чтобы поговорить с мужиками. Служилые достали из мешков припасенный и непроданный товар, стали показывать его, спрашивая меха.
О казаках браты были наслышаны, но сами с ними не встречались. На предложение идти под государеву руку и дать ясак они без обид отвечали, что сами соболей не промышляют, а покупают их у тунгусов зимой.
— Ишь чего говорят! — кивнул Ивану Мартынка. — Ставьте здесь свой гэр, охраняйте нас. Зимой ясак дадим.
Предложение братов озадачило Похабова. Они соглашались присягнуть государю, а указа ставить здесь острог или зимовье не было.
На третьей неделе пути к берегам реки снова подступили холмы, покрытые лесом. Правый берег стал крутым и обрывистым. Под ним часто встречались старые станы с балаганами: промышленные люди ходили этим путем не один год.
Река круче повернула на полдень. Бурлаки прошли заболоченное устье с густо разросшимся камышом, остановились у сухого яра, чтобы передохнуть и просушиться на солнце. С верховий реки веяло сырой прохладой, не донимал, как прежде, гнус. Вода в реке так очистилась, что в глубине хорошо видна была рыба, шевелившая плавниками и жирными спинами.
— Дымком пахнет! — повел ноздрями Федька Говорин, оглядывая другой, низкий берег со свисавшим на воду кустарником. За ним виднелось редколесье со множеством просторных полян.
— Скота не видно! — похрустывая окатышем, присел рядом с атаманом десятский Дружинка, стал натягивать на босые ноги непросохшие бахилы. — Тунгусы, наверное, дымокуры жгут.
Федька тоже начал одеваться, показывая подначальным людям, что привал закончен. При этом ворчал себе под нос:
— Браты юрту ставят на видном месте, чтобы никто не подошел незаметно. Тунгусы забьются в чащобу — не отыскать.
Казаки двинулись дальше. Бурлаки громко переговаривались, что тропа под яром становится все шире и глубже. Вскоре среди камней они увидели явно русскую ложку с обломленным краем.
Не прошло и часа, первый струг остановился возле небольшой заводи. Здесь на окатыше сохла берестяная лодчонка, сделанная по-русски. Вверх поднималась тропа, укрепленная тёсом и кольями. А под самым яром была приоткрытая дверь землянки.
— Что это, атаман? — указал Федька. Люди Дружинки подвели второй струг. Иван перекинул через плечо ремень сабли, сунул за кушак топор, стал подниматься по тропе и с каждым шагом все ясней чувствовал, что за дверью кто-то есть.
Он осторожно заглянул в темную землянку, укрепленную изнутри бревнами. Напротив входа был поставлен большой восьмиконечный крест, под которым тлел огонек жировика. Что-то шевельнулось, и Похабов слегка отпрянул. К нему обернулся старец с длинной бородой и волосами, свисавшими с плеч.
— Это ты, Иван? — спросил так буднично, будто они недавно расстались.
— Я! — изумленно ответил Похабов.
Старец степенно поднялся с колен, шагнул к нему, застывшему с перекошенным лицом.
— Ты кто? — прошептал срывавшимся голосом. — Откуль знаешь меня?
Старец, жмурясь, вышел на свет. Иван вгляделся в его просветленное лицо и ахнул:
— Герасим?
— Узнал! — ласково проворковал монах.
— Тимофей, енисейский старец, упреждал, что встречу тебя.
— Вот я и жду! — тихо рассмеялся отшельник.
— А что ждешь-то? — с недоумением спросил Похабов. — Помирать пора или что?
— Ну, захотел, так сразу и помереть? — ласково улыбнулся Герасим. — Сперва сруби город.
— Благое дело! — отозвался Иван. — А кто велел его рубить?
— Господь! — монах возвел к небу светлые глаза и перекрестился.
— Бог-то Бог, — замялся Иван. — Сам знаешь. Бог старца Тимофея вразумил, где быть городу. А он двадцать пять лет царского указа ждал. — Иван спохватился, опять вспомнив о старце: — Тебе он велел кланяться, передать его благословение и сказать, что помрет. А ты чтобы после его кончины к тобольскому архимандриту съездил.
Герасим всхлипнул крестясь, низко поклонился на восход. Губы его шевелились в беззвучной молитве.
— Он, отче Тимофей, благословил нас проповедовать Слово Божье среди инородцев, промышленных от греха удерживать. Его молитвами жив.
— Люди мои там! — Иван рассеянно кивнул вниз, на реку. А сам все думал о сказанном про город.
Он стал спускаться впереди монаха. Казаки и охочие, увидев старца-постника в кожаной рясе, охнули, замерли с вытянутыми лицами. Иные попадали на колени.
— Прости, Господи! — взревел Федька Говорин со слезами.
Савина стояла с выпученными глазами, разинутым ртом и все отмахивалась от видения ладошкой, как от назойливой мухи.
— Черный дьякон Герасим! — успокоил спутников Похабов. — Как нынешнего царя на Москве посадили, лет уже тридцать, мы с ним в одной келье Троицкого монастыря были узниками. Вместе в Сибирь шли до самого Енисейского. Эвон где встретились!
— Помер царь Михайла! — тихим голосом объявил монах. — Нынче сын его правит! А Тобольск сгорел.
Казаки и охочие истово закрестились. Иван оглядел крутой берег. Место было неподходящим ни для панихиды, ни для стана.
— Живешь-то здесь ли? — спросил монаха, кивая на дверь землянки. — Поговорить бы да душами очиститься, другой год без исповеди и причастия.
— Зимовье у меня на острове, — указал на дальний берег монах. — Вверх по притоку с полверсты. Ночуйте. Там и поговорим. А причастить Святых Таин не могу. Ермоген антиминс забрал. Да и не по чину мне это таинство.
Иван махнул рукой, приказывая спутникам подняться выше по течению реки, чтобы переправиться к притоку. Сам сел за весло верткой берестянки. Герасим осторожно уселся впереди него. Лодчонка в два весла легко заскользила по глади реки. Течение сносило ее к пологому берегу.
О многом хотел рассказать Иван товарищу своей глупой юности. О том, что вышел в чин сына боярского, тот уже догадался. Вспомнил про царя, от которого оба претерпели наказание, спросил:
— Михейка-то отчего помер?
— Хворый был, — коротко ответил монах, подгребая к берегу. — Хворал-хворал, да и прибрал Бог.
— Давно?
— Нынче!
— А ты откуда узнал раньше нас?
— Сороки весть принесли! — с ласковой улыбкой, как к несмышленому юнцу, обернулся к нему Герасим. Прытко выскочил на берег из ткнувшейся в песок лодки. Видно, переправа была для него делом привычным. Взялся за бечеву, путано брошенную в носу.
Два струга с другого берега начали переправу. Равномерно вздымались и опускались весла. Тяжелые суда сносило быстрым течением, но пристали они к устью, где их поджидали монах с сыном боярским.
Казаки вертели головами по сторонам, с любопытством разглядывали незнакомые места. Герасим весело пояснял:
— Рыбы здесь много. Лето жаркое — все растет. Господь не оставляет. И братские люди, и лесные часто здесь бывают, промышленные каждый год мимо проходят.
— Вот куда воровской тёс ведет! — строго сдвинул брови сын боярский, оглядывая казаков. — То-то промышленные зачастили вверх по Ангаре, к мунгалам!
Струги и берестянка были проведены набитым, прорубленным бечевником вверх по притоку и переправились на остров. Услышав шум, из избенки выполз немощный старик. Лицо его было сморщенным, как сухой гриб, два белоснежных клока волос свисали по ушам, сплетались с редкой и длинной бородой. Глаза старика сияли беспричинной детской радостью.
— Мой давний спутник! — с теплом в голосе указал на него Герасим. — Из промышленных людей, тоже по благословению старца Тимофея.
— Тебя как звали-величали, дед? — зычно, как глухого, окликнул его Похабов. — Я старых енисейских всех знал.
— Был Михейкой Омулем, — охотно ответил старик. — Гулял, грешил много. Давно это было.
— Так ты же совсем ветхим с Пеидой уходил. Лет уж двадцать прошло? — удивленно уставился на него Иван. — Еще не помер?
— Живой! — с гордостью заявил старик, выпячивая тонкие морщинистые губы маленького и беззубого рта.
Разглядывая его, как диковинного зверя, Иван понял, что Пантелея Пенду он давно не помнит. Старик привычно подхватил котел, хотел идти к реке за водой.
— Мы сами! — загалдели осмелевшие служилые. — Огонь разведем и ужин сгоношим.
Пока они готовились к ночлегу и отдыху, Герасим повел Ивана на свои огороды.
— Слышал про Ермогена! — говорил на ходу. — Не так далеко ушел. Господь и его остановил, наложил тягло святить землю. А я полжизни уже здесь. — Оглянулся с любованием на протоку, на устье. — Иной раз вздремну за молитвой и вижу город. Колокола звонят. Люди тамошние, которые еще не родились, переговариваются. Но эдак неясно, как журчание ручья. Похабовых вспоминают.
Брат твой, Егорий, проходил здесь с женкой, с детьми, со скотом. Я звал его остаться! Не послушал он меня. Теперь ты пришел! — пристально взглянул на Ивана.
Похабов пожал плечами, снисходительно усмехнулся:
— Город — не балаган! Чтобы строить, наказ старших воевод нужен, а то и государя. Да и не на всяком месте города строят.
— Здесь-то и есть самое место городу! — чуть повысив голос, заспорил скитник. — Прежде недалеко отсюда мунгалы ясак собирали. Ярмарки бывали. Промышленные люди отсюда во все стороны ходят: за Ламу — Иркутом и Ангарой, на Лену — степью. Их здесь с каждым годом все больше. А скот нынче пасет в округе один князец Яндоха. Грабят его каждый год. Добрый князец, к нашей вере тянется.
— Передам воеводе! — пообещал Иван. — Если промышленные ходят беспошлинно, надо острог ставить!.. Ты про брата моего заговорил! — вскинул виноватые глаза. — Давно ли был здесь? Куда ушел?
— Лет уж десять, больше! А ушел по Иркуту к яндашским мужикам. Промышленные люди говорили, будто на Ламе обжился: кует железо, скот держит, землю пашет. Дом там у него, три сына. Вы-то куда путь держите? — наконец поинтересовался у Ивана.
— Наказал воевода новые земли проведать, народы под государеву руку звать. Серебро ищем!
— Вам лучше идти по Иркуту! — посоветовал монах. — Промышленные так ходят!
Иван выслушал его с почтением, хмыкнул, мотнул головой. Добрый совет давал Герасим, да бес перечил: очень уж хотелось ему опередить Ваську Колесникова, первым прийти в скороходовские места, с убийц взять виру, со всех бунтовавших — ясак и к новой присяге их всех привести.
Стоило подумать Похабову, как он опередит Колесникова, представилось ему лицо старого зловредного товарища, и он хохотнул.
— Велено до верховий Ангары дойти! — пробормотал уклончиво. — Там видно будет! К зиме, буду жив, обратно поплыву, тебя навещу. Вдруг со мной пойдешь, как Тимофей велел?
Отряд устроил на острове дневку. Служилые поправили крышу на избенке монаха и старика. Савина напекла хлеба впрок. Утро было ясным, на небе ни облачка. Похабов уже приказал собираться в путь. И вдруг потемнело небо. Порыв ветра дугами согнул деревья, раскидал угли костра, сорвал шапки с людей, хлопнул дверью избы, ворвался в ее оконце. Вскоре все стихло. Опять синело небо, блистало ясное солнце.
Из зимовья вышел Герасим. Он был бледен, его ладони лежали на груди, будто удерживали под ребрами сердце. Взглянув на Ивана, скитник прошептал побелевшими губами:
— Отче Тимофей отошел от уз плотских!
— Прими, Господи, душу!.. — закрестились служилые, не успевшие прийти в себя от налетевшего вихря.
Поминая енисейского молитвенника, призывая в помощь Николу Угодника, после полудня отряд вышел к Байкалу. На другой день к реке стали подступать горы, покрытые лесом. Воздух стал чище, а небо светлей. Горы становились все выше и круче. Чудный свет начинал слепить глаза, и сладкая свежесть студеной воды наполняла грудь. Стал редок и ненавязчив гнус. Потом он и вовсе пропал, хотя было по-летнему тепло.
— Не к Ирии ли подходим, братцы? — боязливо посмеивались служилые, оглядывая окрестности.
— Скороходовские люди говорили, будто Ангара в Ламу впадает и из нее же и выходит! — подбадривал товарищей Похабов, почувствовав в них робость.
Реки они и есть реки! Всегда впереди виден берег поворота или излучины. А тут расступились скалистые горы и предстали глазам путников водная ширь и бескрайнее небо. Сияние шло оттуда. Посередине мелкой, но широкой реки из воды торчала скала, рассекающая русло надвое.
Бурлаки прошли вдоль крутого берега еще с версту. Сколько хватало глаз, во все стороны виделась вода. И только впереди, против истока реки, смутно чудилась вдали то ли дымка, то ли далекие облака, то ли белые вершины гор.
Веял свежий ветер, трепал бороды и волосы. Служилые, скинув шапки, с восторгом озирались. Солнце поднялось высоко. У крутого берега ласково и сонно поплескивала волна. Вода была прозрачна, как воздух, мельтеша маревом, открывала глубины со стаями серебристой рыбы. Среди камней сыто дремали саженные щуки с замшелыми спинами. Непуганые гуси и утки покачивались на воде. И было рыбы и птицы так много, что делать запас впрок никому не приходило в голову.
По лицам товарищей Похабов понял, что сидеть на месте — только душу томить. Он перекрестился, поклонился на гладь восхода и весело нахлобучил шапку.
— А что, братцы? — окинул удалым взглядом товарищей и подмигнул Савине. — Поднимем паруса да пойдем вдоль берега. Вдруг что увидим. Скороходовские люди сказывали, остров Ольхон недалеко. А как опередим колесниковских? — опять представил лицо Васьки-атамана и громко захохотал.
Засмеялись казаки и охочие. Радостно сбросили с себя бурлацкие шлеи. Придерживая покачивавшиеся на волне струги, стали навешивать и поднимать паруса. Небесная сила упруго вздула их и повлекла суда вдоль отвесного, скалистого берега. Без вина пьяные, люди на ходу грызли сухари, черпали ладонями воду из-за бортов.
Струги прошли мимо широкой пади с ручьем. Там стояло три тунгусских чума, горел костер, и дым его коромыслом пригибало к земле. По лицам товарищей атаман понял, что спустить паруса и пристать к берегу ради десятка тунгусских мужиков нелепо.
Не сговариваясь, его люди проплыли мимо пади. Берег снова стал крут, местами он отвесной стеной уходил вглубь. Солнце покатилось за полдень. На небе не было ни облачка, но будто дымка подернула его синеву. Волны уже не ласкали берег, а бились о камни. Идти вблизи их стало опасно.
Похабов обернулся к другому стругу, помахал рукой, приказывая ему отойти подальше от скал, асам стал править в море, выглядывая следующую падь или пологий берег. Вдали завиднелся то ли мыс, то ли остров. С гор сорвался порыв ветра, рябью вскипела вода, заполоскали паруса, накренив струги.
Служилые приспустили их, стали подгребать к берегу, но он вдруг начал удаляться. Похабов, обеспокоенный ветром и течением, велел совсем убрать парус, подналечь на весла. Сначала весело, потом опасливо изо всех сил казаки гребли к скалам, а они все удалялись и удалялись.
Десятки глаз с надеждой глядели на атамана. В лицах людей еще не было страха, но прежнее веселье пропало. Кормщики вскрикивали, гребцы ложились на весла и растерянно оглядывались на скалы.
— Отче Никола! Помогай нам! — крикнул Похабов, глубже нахлобучивая шапку. Мимолетно взглянул на побелевшие губы Савины, на ее пальцы, вцепившиеся в борт, обернулся в другую сторону. Противоположный, далекий берег прояснялся, там уже отчетливо виднелись горы.
С небрежным видом атаман велел гребцам сушить весла и развернуть струг по ветру. Мысленно он поклонился упокоившемуся старцу Тимофею и запел густым голосом: «Радуйся, Никола, великий Чудотворче!»
На другом струге последовали примеру ертаулов, перестали бороться с течением и с ветром. Суда понесло к противоположному берегу, на них снова подняли паруса.
Солнце катилось к закату. Волны становились все круче и выше, то и дело захлестывали суда, хотя те шли по волне. Казаки с мокрыми, вислыми бородами отчерпывали воду котлами и шапками.
Иван прикрыл Савину лавтаками. Это все, что он мог сделать для нее. У самого спина была мокрой, от студеной воды одеревенели и скрючились пальцы рук, сжимавшие кормовое весло. Ветер слабел, но волны и течение несли струги к гряде темневших гор.
— Что уж теперь? — пробормотал сын боярский. Оторвал руку от весла, отжал бороду, смахнул рукавом брызги со щек. Лицо его вдруг покривилось, глаза расширились, он дернул головой в одну сторону, потом в противоположную и закричал.
В багровых лучах заходящего солнца со стороны носа и со стороны кормы на струги надвигались крутые волны, и пена на гребнях казалась кровью. Похабов распахнул кафтан, закрывая полами корму. Казаки по его оклику также прикрыли одеждой борта и нос. Две волны с ревом сшиблись и обрушились на людей потоками воды, но стругов они не перевернули. Гребцы, испуганно оглядываясь, бросили весла и начали отчерпывать полузатопленные суда.
К берегу струги подошли ночью при полном безветрии. Гребцы долго не могли найти сухое место, вокруг была высокая трава и кочки. На воде сонно покрикивали чайки, предвещая добрую погоду. В другой стороне ухал филин, указывая близость леса. Шелестя травой и кустарником, струги протискивались на его уханье до тех пор, пока не уткнулись в явную сушу.
При свете луны, на ощупь, люди собрали сухой плавник, наломали веток, развели костер и стали сушиться.
— Удружил, однако, дедушка! — наконец пошутил Дружинка.
— Слава богу, живы! — буркнул, крестясь, Похабов.
Савина, измученная плаваньем, лежала под двумя одеялами, не могла уснуть, печально глядя на Ивана большими глазами. Она тайком всхлипывала и непрестанно молилась. Иван виновато поглядывал на нее, пытаясь как-то ободрить.
У костра робко заговорили о пережитом, но тут же умолкли. Все понимали, что надо еще дожить хотя бы до рассвета, чтобы говорить о бедах как о минувших.
Благоразумный десятский Дружинка качал головой:
— Виданное ли дело, чтобы за один день так менялся ветер?
Рассвело, разъяснилось небо. Струги стояли у острова, в мелководной дельте реки со множеством проток. Взошло солнце. Ясное и золотистое, оно поднималось над горным хребтом. Ветерок, струившийся ночью по реке, стал крепче.
— Попутный! — насмешливо оглядел проснувшихся товарищей Похабов. — Не вернуться ли назад? — спросил и горько рассмеялся. На плаванье в обратную сторону ни у кого не хватало духа. И у него у самого тоже.
— Что уж там? — неохотно ответил рассудительный Дружинка. — Курбат Иванов Ольхон объясачил. Максимка Вычегжанин, поди, ведет уже Колесника к своему зимовью, тамошним изменившим князцам мщение готовит.
По лицам и по разговорам товарищей Иван понимал, что ни у кого из них нет желания плыть за Колесниковым. Да и сам он после пережитого расхотел соперничать со вздорным товарищем: поверил, что Господу это не угодно.
— Если здесь Селенга или Баргузин, про которые говорили скороходовские люди, — кивнул в верховья реки, — то недалеко Семейку с казаками побили!
— Знал дедушка, куда выбросить! — ухмыльнулся Федька Говорин.
Содрогаясь всем телом, гулко закашляла Савина. Дышала она часто и шумно. Иван приложил руку к ее лбу руку — начинался жар. Он назначил ертаулов и отправил их вверх по протокам. Остальным велел отдыхать и готовить баню по-промышленному. Сам сдвинул костер, настелил пихтовых веток, положил на них Савину, стал натирать ее нутряным медвежьим жиром. Она охала, смущенно водила глазами по сторонам, прикрывала грудь слабыми руками.
— Не смотрит никто! — ворчал Иван. — Глаз выбью!
Он укрыл Савину меховыми одеялами, стал отпаивать ее травами. К полудню ей стало легче, кашель стих.
К вечеру явились ертаулы, сказали, что под горой стоит пять юрт. Народ при них одевается по-братски, в халаты. Версты три выше на склонах пасется скот.
Савина к вечеру поправилась. Нахохлившись, сидела под двумя одеялами и чесала голову. Казаки же думали, как исхитриться и подвести под государеву руку здешние народы. Дружинка советовал мирно прийти к ним и объявить жалованное государево слово. Федька смеялся над ним, призывал мстить за Скорохода с людьми, брать юрты на погром.
Сын боярский молча выслушал всех и объявил:
— Один струг спрячем, другой возьмем с собой, чтобы где надо переправиться через реку, а то и сплыть вниз. Скажем здешним мужикам ложно, что за убийство казаков царь велел их казнить с милостью. Пусть присягнут ему, дадут ясак и живут в верности.
— Дойдет весть до царя, все равно даст такой указ! — поддержал атамана Дружинка.
Туманным дождливым утром другого дня Савина почувствовала себя здоровой и бодрой. Отряд быстро собрался. С одним стругом на бечеве люди двинулись вверх по протоке. После полудня казаки дошли до мест, о которых говорили ертаулы.
На холме, выщербленном по склонам тропами скота, стояло пять войлочных юрт. Над ними курился дым, неуверенно лаяли собаки. Моросил дождь. Редкий туман висел над дельтой реки. Коровы и быки с мокрыми спинами лениво пережевывали жвачку. Жались друг к другу овцы в отарах.
Казаки были замечены еще у воды. К ним прискакали двое мужиков на неоседланных конях, молча разглядели служилых и понеслись обратно, взмахивая локтями, как птенцы неоперенными крыльями.
Похабов приказал остановиться напротив стойбища. Из юрт начали выходить мужики в халатах с саблями и луками, на некоторых из них были кованые шлемы.
— Дружинка — за струг! — приказал сын боярский, заметив воинские сборы. — Федька, ко мне! Если что, будешь первым палить!
Казаки без суеты раздули тлевший огонь, зажгли фитили пищалей и мушкетов. Собравшись толпой, воинские мужики двинулись к реке пешком. Шагали они важно, переваливаясь с боку на бок, глядели на гостей неприязненно. За первой шеренгой, одетой в богатые халаты и брони, шли мужики попроще, в суконных и меховых шапках. Все остановились в двадцати шагах от реки, молча уставились на незваных гостей.
Похабов окликнул толмача, сделал десять шагов вперед. Под боком у него боязливо жался Мартынка.
— Хазак!.. Хазак! — прокатился ропот за широкими спинами в бронях.
В первом ряду с грозным видом стоял молодой мужик в шапке, шитой серебром, с серебряным наборным поясом. К нему и обратился Иван Похабов с государевым жалованным словом. Мартынка залопотал, загыркал, чтобы здешние мужики на государеву милость были надежны и были бы под его государевой рукой в вечном подданстве. И государь их пожалует, велит от врагов оберегать.
Иван Похабов подождал, когда толмач умолкнет, добавил громовым голосом:
— А нынче опечален наш государь убийством казаков в здешних местах. Велел нам казнить здешние народы за ваши вины с милостью и с пощадой. Если поклянетесь ему в верности и дадите ясак — он всех простит!
Мартынка, протараторив сказанное атаманом, опять умолк. Молчали и мужики, вышедшие к казакам. Толмач кашлянул, шмыгнул носом.
— Вдруг не понимают по-балагански? — пробормотал, виновато поглядывая на Похабова.
Но самый видный мужик в серебряной шапке скривил пухлые безусые губы, плюнул на землю и сказал:
— Нет у нас соболей! Весной мунгалам продали. Ждите зимы, будут соболя — одарим!
Плевок в сторону заката после жалованного государева слова возмутил казаков.
— Бей их, батька! — взвыл Федька Говорин. — Царю нашему не поклонились!
Браты, будто ждали этого крика, выхватили сабли, ножи, подняли дубины и бросились на сына боярского с толмачом. По уговору те оба упали на сырую землю. Федькины казаки дали залп. Пороховой дым на миг скрыл нападавших и тут же густым облаком был отнесен по течению реки.
Залп не напугал кочевников и не сильно навредил им. Двое раненых отползли в сторону, остальные с яростью бросились на казаков. Мартынка откатился к стругу, перескочил через него с борта на борт через лежавшую на спине Савину. Лицо женщины было сосредоточенным, незрячие глаза глядели в низкое, хмурое небо.
Иван завертелся чертом, не давая себя окружить. Его сабля звенела по броням врага. Федькины казаки вставили тесаки в теплые стволы ружей, бросились к нему на помощь. Братские люди откатились назад, схватились за луки. Тут прогремел залп людей Дружинки из-за струга. С десяток нападавших было сбито с ног. Другие побежали к юртам. Казаки вязали легко раненых и молодого князца, плевавшего на закат.
Пятерых во главе с Дружинкой Иван оставил возле струга, при пленных, с остальными побежал к юртам. Оттуда пустили несколько стрел. Казаки ответили парой выстрелов. Мужики бросились ловить коней и без седел умчались вверх по протоку.
«За подмогой!» — Похабов махнул саблей в их сторону и указал Федьке на три юрты. Сам с казаками ворвался в большую. Народу в ней было много, в большинстве старики и дети. Из-за сундуков зверятами выглядывали малолетки.
Юрта была богатой. Князец имел много серебряных украшений, алое сукно от бухарских или заморских купцов.
— Атаман! — вскрикнул Мартынка, перебирая в руках русскую кольчугу. Затем, разбросав ворох одежды, поднял казачью ладанку и опять окликнул Похабова.
Перевернув все, опростав сундуки, казаки сложили в лавтак серебро, брони, ладанку, найденный топор, сукно. Рухляди они не нашли. Под бессильное кряхтение стариков и подвывание старух сбили в кучу девок и женщин с детьми, двух мужиков, которые не оказывали сопротивления.
Зааманаченных было больше двух десятков. Глядя на детей, Савина жалостливо всхлипывала и вытирала слезы. Казаков она ни о чем не просила, ни в чем не винила. Иван подошел к связанному князцу, бросил к его ногам лавтак с кольчужкой. Спросил, где взяли.
— Наменяли у тунгусов! — хмуро ответил тот.
И как ни пытали его, стоял на своем. Потом предложил мириться:
— За моих людей возьмите выкуп, что награбили. На другой год, как будут соболя, дам ясак! — рыкнул и снова сплюнул под ноги.
На стане задымили костры. Казаки стали готовить ужин. К ночи пришли старухи, принесли заложникам вареного мяса, творога и кислого молока. Казаки уже говорили между собой о дележе добытого на погроме.
— Князцов и их семьи можно аманатить, можно отпускать за выкуп, продавать нельзя! — напомнил государев указ Похабов. Воеводы, охотно покупавшие ясырей, часто говорили об этом.
— Мы сами теперь, как ясыри, связаны этой оравой по рукам и ногам! — ворчал Федька. — Давай отпустим раненых?
— Отпусти! — разрешил Похабов. — Князца держи.
Федька кликнул помощников, те развязали руки раненым. Кому-то несильно поддали под зад за дерзость и отправили к юртам лечиться.
Все так же бусил дождь. Невидимая влага висела в воздухе, зябко оседала на лицах и одежде. Мужики, убежавшие на конях, к вечеру не вернулись ни с подмогой, ни с выкупом, ни с предложением о мире. Ясыри, скорчившись, жались друг к другу. Промокший князец неприязненно буркнул Мартынке, чтобы казаки и ясыри принесли и поставили малую юрту.
Юрт принесли две. Ночь прошла без нападений, но беспокойно. Пленники то и дело выскакивали по нужде. Караульные орали на них, загоняя обратно.
— Засеку надо делать! — объявил Похабов утром. — Если придут скопом, на ровном месте нам не удержаться.
Казаки протянули струг к лесу, подступавшему к протоке. Привели туда ясырей, связанных попарно. Застучали топоры, с треском стали падать деревья. Люди отряда не успели заострить сучья и верхушки, как со стороны восхода показались конные люди в островерхих шапках. Их было полторы сотни.
Отряд привычно, без суеты, укрылся за поваленными деревьями. С саблей в руке сын боярский указывал, кому где стоять. Кони заметались у поваленных деревьев. Похабов дал знак. Прогремел залп. Закричали раненые, пронзительно заржали изувеченные лошади. Несколько десятков всадников осадили коней перед давившейся свалкой и поскакали в объезд к протоке. Там путь им преградили казаки Федьки Говорина.
Конница, как морская волна, отхлынула от засеки и снова собралась в кучу на открытом месте. В другой раз всадники приблизились рысцой на полсотни шагов и стали осыпать казаков стрелами. Те, приберегая порох и свинец, отстреливались из луков. В засеке было ранено несколько ясырей.
Покружив возле поваленных деревьев с заостренными верхушками, конные мужики рассеялись и пропали из виду. День и другой на казаков никто не нападал, будто здешние воины забыли о пришельцах и заложниках. Двое ясырей в затрапезных халатах бесстрашно подсели к костру Похабова.
Эти пленники, взятые в большой юрте, не показывали враждебности, внешне не походили на братских мужиков: были сухощавы и подвижны.
— Говорят, они не здешние, баругархины! — подсказал Ивану толмач. — Будто их пленили мунгалы за долги родственников и продали здешним братам.
— Какого роду-племени? — спросил Иван по-тунгусски.
Ясыри отвечали вразнобой и по-братски:
— Зайтуул.
Пленили их давно. Связи с родственниками прервались. Свой язык они помнили плохо.
— Выкуп за вас дадут? — спросил Иван через толмача.
Ясыри опечалились, стали говорить, что они хорошие пастухи, но хозяева их не ценят и вряд ли заплатят выкуп, скорей всего, отдадут казакам.
— Зачем тогда воевали против нас? — недоверчиво разглядывал их Иван.
— Попробуй откажись! — запричитали пленные. — Хозяин плетью бьет больно, одни коросты сходят, другие делает.
Братский мужик, на которого они указывали, ничем не выделялся среди сородичей и мало походил на родовитого князца. В бою он был с пикой и луком, но в железных поручах. Под халатом на груди его висела серебряная пластина, подвязанная к шее бечевой.
Иван снова обернулся к ясырям, спросил с усмешкой:
— Хотите нашему государю послужить?
— Хотим! — с готовностью ответили те.
— Тогда скажите, дадут ли нам ясак и выкуп за родственников?
— Родню выкупят! — уверенно ответил узкоглазый мужик с рыжими волосками на подбородке. — А рухляди у них мало, но ради родственников не пожалеют. Весной надо брать ясак, когда тунгусы скот покупают.
— Не зимовать же здесь! — от себя прибавил толмач.
Иван поднял голову.
— Верю! — сказал ясырям. — Смотрите за аманатами. Увижу измену — убью! — отвернул голяшку бахилы, показал рукоять засапожного ножа.
Ясыри закивали, уверяя в своей преданности.
— Коли лучше нас знаете здешних людей, кого надо — развяжите, кого надо — на цепь посадите! — приказал им Похабов.
Слова атамана ясыри хорошо поняли и отошли от казачьего костра исполненными достоинства и власти. Рыжебородый с важностью двинулся к сидевшим пленникам. Первое, что он сделал, это наступил босой ногой на гутал прежнего хозяина и снял с него шапку. Братский мужик с брезгливостью плюнул на землю и выругался.
Три дня никого из дайшей не было. Даже родственники перестали приносить корм пленным. На четвертый в виду засеки показалось десять всадников. Они остановились на открытом месте в полете стрелы, спешились, долго сидели на корточках возле пощипывавших траву коней. Затем трое из них вразвалочку направились для переговоров.
К ним вышел Иван Похабов с толмачом и десятским Дружинкой. Послы поклонились на закат казацкому царю и спросили о его здоровье. Разговор начинался мирно.
— Казацкий царь — сильный царь! — объявил старший из послов, с толстой черной косой и серебряной цепью на груди. — Живите у нас, защищайте нас, будем давать ясак царю, а вам — подарки и корм.
Сын боярский со вздохом опустил глаза. От Оки до здешних мест народы хотели порядка и мира, желали опереться на сильную власть, он же, Иван Похабов, от имени царя и воевод мог только обещать.
Возводя глаза к светлеющему небу, сын боярский велел толмачу сказать:
— Хорошая земля. Мы смогли бы здесь жить и защищать вас. Но без дозволения царя остаться не можем, а ваши пожелания ему передадим. Разрешит царь — поставим крепость. А до тех пор будем приходить каждый год, защищать вас и бить врагов ваших, если вы поклянетесь царю в верности и станете давать ему по семь соболей с каждого сильного, здорового мужика.
Лица послов переменились: у одних они стали плутоватыми, у других злыми. Старший, которого толмач льстиво называл «алда хара гэзэгэ»[237], блеснув черными бусинами глаз, миролюбиво ответил:
— Все, что добыли зимой и купили у тунгусов, — увезли к мунгалам, менять на посуду и ткани. Ждите весны или берите ясак скотом.
Казаки, сидя в засеке, много говорили об этом. Скот был для них обузой, а рухляди у здешнего народа не было.
— По своему обычаю клянитесь в верности нашему царю. Выкупайте пленных за меха и за серебро! — объявил Иван. — За ясаком мы придем зимой.
Как и уверяли братские рабы, на выкуп родственников у здешнего народа нашлись соболя и лисы. Они отдали казакам украшения из серебра, оправдываясь, что сами его не добывают, а покупают у мунгал.
Хуже было то, что они не стали выкупать не только своих рабов, но и дальних родственников и сирот. На руках у служилых осталось два десятка взрослых мужиков, женщин и детей, которых надо было кормить и охранять. Двигаться со всем добытым в неведомые земли казаки не решились.
Приняв от селенгинских мужиков присягу царю, они отпустили строптивого князца. Ссадина на его лбу засохла и покрылась коростой, синяк под глазом порозовел, опухоль опала. Перебираясь к сородичам через заостренные сучья засеки, он громко сопел, портил воздух и сердито поглядывал назад. Но присягу царю по своему обычаю принял и он.
На другой день казаки поделили между собой все добытое. Похабову достались по жребию сукно и братские пастухи тунгусской породы. Молодую женщину с писклявым младенцем казаки и охочие хотели выпроводить из засеки без выкупа, но она уперлась и не пошла к сородичам.
Мест в струге не хватило и на половину служилых и ясырей. Просев по самые борта, он поплыл к Байкалу с детьми и женщинами. Пленные мужики и большая половина отряда двинулись по топкому берегу. Нападений опасались, но их не было.
Спрятанный струг был цел. Его вытянули на сухое место, стали готовить к плаванью. Казаки и охочие собрались у костра отдельно от ясырей, стали думать, куда плыть. Вспоминали расспросы братских пастухов, которые были вывезены за Байкал малолетними детьми. Из разговоров хозяев они знали, что на другой берег не плавают ни буряты, ни тунгусы, ни мунгалы, но все обходят Байгал-далай сушей.
Никто в отряде Похабова уже не сомневался, что Бог вывел их на Селенгу, о которой упоминали скороходовские люди. Идти вдоль берега к северу, навстречу с атаманом Колесниковым, чтобы из-за всякой добычи спорить с ним, уже никто не хотел. Решили плыть вдоль берега в другую сторону, где, по слухам, никто из служилых не был.
В сумерках подул ветер, мотая пламенем костров. Ночью набегали на небо черные тучи и гасили звезды. К утру с восхода подул ровный, несильный ветер. Он будто подстрекал плыть напрямую на другую сторону Байкала.
Служилые и ясыри погрузились в струги. Всем было тесно, но плыть под парусом при попутном ветре или на веслах быстрей и легче, чем карабкаться по каменистому берегу. Чем дальше уходили струги от селенгинской дельты, тем выше становились горы, тем ближе они подступали к воде.
По нескольку раз за день на стругах поднимали и спускали паруса. Плыли, прижимаясь к берегу, опасались нежданных сильных ветров, чтобы тяжелогруженые суда не вынесло на середину. Между тем берег, вблизи которого держались, все круче поворачивал на закат, а противоположный приближался. Среди леса и скал, то подступая к воде, то удаляясь от нее, шла торная конная тропа.
Рыжебородый ясырь по прозвищу Бабанурхун[238], указывая рукой на закат, говорил, что слышал про путь к большой реке в той самой стороне, где сходятся горы берегов. Казаки сомневались в тех слухах: скалы, от которых их унесло к Селенге, остались далеко в стороне, а расстояние до другого берега уменьшалось. Похоже было, что берега и хребты где-то там сходились клином.
Вскоре со стругов заметили на тропе кочующих тунгусов. Служилые высадились, побежали к ним. Тунгусы не прятались в лесу, а спокойно глядели на приближавшихся людей.
— Луча, луча! — удивленно переговаривались между собой.
Похабов поприветствовал их по-тунгусски, одарил и стал расспрашивать о тропах и реках. Тунгусы были здешнего, сильного и многочисленного чилкагирского племени. Они подтвердили слова Бабанурхуна, что на Ангару можно выйти по той самой тропе, на которой шла беседа, и то, что крутые берега Ламы сходятся. Князец обмолвился, что там, возле Шаманского камня, живет сидячий человек, которого буряты зовут Дархан, а тунгусы — Медвежий Огрызок.
Кровь ударила в обветренное лицо Ивана Похабова. Он догадался, в какие края занесло отряд и кто этот Медвежий Огрызок.
Глава 11
Если в голове начинали мельтешить какие-то воспоминания о молодости и прошлой жизни, Егорий Похабов, по прозвищу Медвежий Огрызок, отмахивался от них, как от навязчивого гнуса, открещивался, как от кошмарных снов. Его жизнь началась здесь, на берегу Байкала, куда привел Бог с семьей, ничего другого он ни знать, ни помнить не хотел.
Когда голодным, оборванным отроком он ходил в поводырях у слепых старцев и пел о Беловодной Ирии, то представлялась ему страна, где много света, где шумят листвой густые леса, плещется рыба в тихих озерах, где из-за бескрайнего синего моря поднимается солнце.
Впервые увидев долину, в которой обосновался, Угрюм узнал ее и вспомнил. С трех сторон она была укрыта высокими горами, густо заросшими лиственничными деревьями, а с восхода песчаными дюнами байкальского берега. Из воды, раскинувшейся до самого неба, по утрам поднималось солнце.
Речка, возле которой он построил дом, была так чиста, что глаз не различал границы между водой и воздухом, казалось, будто серебристые стаи рыб летают над цветными каменьями дна. По выходе из гор на равнину, степенно петляя, речка эта прорезала луга и болото. Песчаный вал, намытый прибоем, разгораживал три соровых озера. На том, что было больше других, расцветали огромные кувшинки. По берегам среднего цвели ирисы.
Луговая часть речки походила на сад Абдулы-Ивана. Весной здесь кружилась голова от аромата и было бело от черемухового цвета, поляны буйно пестрили жарками и колокольчиками.
Горы защищали долину от ветров. Зимой сюда прикочевывали тунгусы, ставили два-три чума на лугах, камлали своим божкам на Шаманском мысе, за скальной грядой, врезавшейся далеко в Байкал. Они пережидали здесь холода и снова уходили на хребты гор, покрытые кедровым сланцем и вечнозеленым лесом.
Пока в доме был достаток, покладистая жена Угрюма выглядела вполне довольной своей судьбой и во всем полагалась на мужа. Она считала, что если доверилась мужчине — нужно доверять до конца, а не перечить по пустякам.
Тестя с тещей, потомственных кочевников, окружавшая красота природы ничуть не восхищала. Они считали себя людьми, живущими в яме, и терпеливо томились оседлостью. Тайга и горы наводили на них уныние. Старики соглашались с зятем, что жить здесь можно, но в щелках их глаз, скрытых морщинистыми веками, тлела безысходная тоска по степи.
— Хада гэр[239], — то и дело бормотали они, со вздохами оглядывая окрестности. Старик со старухой часто уходили на берег и подолгу глядели на бескрайнюю гладь воды. Когда в доме не нужна была их помощь, они ставили старенькую юрту на намытом прибоем песке и никак не могли взять в толк, зачем зять построил дом в лесу, среди болот.
За причудливыми скалами горного хребта, сползавшего в воду, были просторные заливные луга байкальского култука. Из пади между горными хребтами, куда вечерами заходило солнце, почти непрестанно дули сильные ветра. Зимой они обнажали землю, и полсотни голов скота могли пастись круглый год. По степным понятиям это не богатство, но для одной семьи хватило бы. Построй зять свой теплый дом даже там, старикам было бы легче: видно далеко.
Но Угрюму хотелось жить скрытно, оттого он и построил дом в сосновом бору между черновой тайгой и болотом, в стороне от выпасов и торных троп, вдалеке от открытого берега Байкала и даже от чистой речки. Для его скота хватало выпасов на здешних полянах. А зимой, когда за Шаманским мысом не было чужого скота, он перегонял туда, на потравленные луга, свое стадо, табун и отару.
Угрюм злился на князца с верховий Иркута: за один переход по тайге его стада и табуны теряли в весе больше, чем набирали его на здешней траве. Кочевал Нарей не столько по нужде, сколько из вредности и любопытства. Но его многочисленные стада быстро объедали все побережье култука, перебирались через отрог хребта, на яланные поляны и покосы долины, подъедали накошенное в зиму сено. Это было одно из бедствий, которые Угрюму приходилось терпеть ради добрососедства с князцом.
Приятней и безвредней всех других народов для него были тунгусы. Угрюм ковал им ножи, рогатины, посуду. Таежные кочевники щедро расплачивались соболями и убегали от нечистой силы, которая, по их поверьям, шла по следу рода и всячески вредила ему. Они путали следы и не оставляли на своих стоянках ничего, кроме примятой травы, нечистоты, выстывшие кострища и те скрывали.
Вдоль берега Байкала то и дело проплывали на стругах промышленные люди, их тайный путь уходил за море. От них Угрюм имел свою прибыль: ковал поделки, зимой делал струги и с выгодой менял на меха, торговал коровьим маслом, сметаной, сушеным творогом, курил вино из ягод и молока.
Русских людей он опасался, в дом не зазывал, обычно сам выходил к их стану, и если промышленные ему не нравились, прикидывался немым болдырем или дураком. Мало кто знал, где его дом и кто он таков.
Монголов Угрюм опасался даже больше, чем своих единокровников. Те приезжали по-хозяйски, как к кыштыму, разводили огонь среди двора, пировали. Если им не хватало дров для костра, ломали забор, баню или лабаз. Могли щедро одарить, могли прихватить все что понравится. Но железо можно было купить только у них.
Завидев монгольских всадников, его сыновья-подростки убегали в лес и долго не возвращались, жена пряталась, хозяин со стариками терпеливо прислуживали гостям. После этого в доме стояла гнетущая тишина. Угрюм с остервенением работал, жена и старики, стыдясь пережитого, не глядели друг на друга.
Два сына входили в юношеский возраст. Старший, Первуха, которого старики и мать называли Дааган[240], родился до погрома русского острога. Вторка, которого они звали Аян[241], явился на свет перед встречей со скитником Герасимом, на пути к Байкалу. Через пять лет, здесь, в доме, Булаг родила непоседливого, верткого Третьяка.
Еще пять лет детей не было. Угрюм думал, что жена состарилась и больше рожать не будет. Она же вдруг забеременела и родила дочь. Дочери он радовался больше всех: глядел на младенца и не мог наглядеться, любовался, как чудно переплеталась в новорожденной кровь Булаг и Похабовых.
От нахлынувших чувств Угрюм запил: начинал хлебной водкой и ягодным вином, к концу недели допивал сусло для молочной водки. В дни этого радостного и печального запоя умер тесть, Гарта Буха. К русской избе он так и не привык, юрта совсем прохудилась. Последние дни тесть сидел в бане у каменки, молча глядел на тлеющий огонь. По словам несмышленого Третьяка, он вдруг дернул ногами в гуталах, захрипел и отвалился навзничь.
Пока старик не околел, старуха без слез и рыданий одела его во все лучшее, что было в доме, смущенно попросила опухшего от пьянства зятя:
— Унеси бабая на гору! — в морщинистых уголках ее слипшихся глаз поблескивали две искорки.
— Баабайшалха?[242] — мотая головой, пролепетал зять. Он и во хмелю понимал, что его сил хватит разве только доползти до бани. А день был теплый, к утру старик непременно пустит дух. — Хороший был человек! — Совестливо попытался встать с лавки. Угрюма сильно качнуло. Он плюхнулся на место. — Эй, волчата! — строго окликнул сыновей по-русски.
Старушка поняла, что зять ее горю не помощник. В избу вошли старшие внуки — Дааган с Аяном, уставились на отца пытливыми и спокойными звериными глазами.
— Снесите-ка деда в лес да бросьте под елку, как принято у братов, или закопайте, как у нас. Ик! — содрогнулся всем телом.
— Хватит пить! — сердито крикнула мужу из-за печи Булаг. — Смотреть и слышать противно!
Угрюм до перебранки с женой не снизошел, допил остатки густого сусла из чарки, крякнул:
— Уже не пью! Опохмеляюсь!
Бросилось ему в глаза, как насупился Первуха. Густые, жесткие, отцовской рукой стриженные волосы будто вздыбились, как у пса загривок. Вторка, похожий на мать, неприязненно блеснул узкими зелеными глазами.
— Звереныши гребаные! — шепеляво просипел Угрюм, раскачивая непослушную голову.
— Унесите дедушку, милые! — ласково, по-бурятски, попросила внуков старушка и всхлипнула. — Не закапывайте. Он был хороший человек, — с жалостливым укором взглянула в сторону Угрюма. У балаганцев, как и у тунгусов, закапывали только преступников и злых колдунов, чтобы душам их век из земли не выбраться. — Унесите его на гору, где нет леса. Положите среди камней или в щель скалы. Немного прикройте камнями. Пусть будет там его хада гэр.
Сыновья вышли из избы следом за бабушкой. Жена пригрозила:
— Вот нарожаю дочерей, будем тебя пьяного в хлеву держать!
Сказала она это без зла, но задела рану в душе мужа. Угрюм уронил голову на стол, закатал лбом по столешнице, застонал. Как-то еще сложится судьба дочери? Сыновей он прятал от мунгал, чтобы не забрали силой в войска царевичей. А тут дочь?! У братов, бывает, едва девки подрастут выше аршина, и кривоногих, и косых забирают в невесты.
Угрюм засыпал и вздрагивал от коротких жутких снов. Душно стало в доме. Среди ночи, придерживаясь за стену, он вышел во двор, хотел лечь в бане, но вспомнил, что там отошел тесть. Залез в амбар. И здесь ему было плохо. Так и промучился до рассвета, перебираясь с места на место. Вернулся в дом утром. Жалобно попросил у жены простокваши. Вспомнив вчерашнее, виновато спохватился, спросил сыновей:
— Что, унесли дедушку?.. На горе ему хорошо. Далеко видно.
После пьянства он пережил, перетерпел день и другой. Затем, как всегда, схватился за работу, чтобы ни о чем не думать, ничего не вспоминать. А дел за неделю накопилось много. Помощи от сыновей он не ждал, руки у болдырей росли не из того места: уродились в тунгусов — доброй волей только по лесам шлялись да зверя промышляли, все остальное делали по принуждению.
Младший, Третьяк, проворный, жилистый, как соболь, в одно время начал ходить и лазить: то на крышу заберется, то на скалу. Чуть не досмотришь — сидит на дереве.
Угрюм, тесавший жердину во дворе, вдруг вспомнил о нем, поискал сына глазами и увидел на верхушке желтой сосны.
— Тятька! Промышленные плывут! — звонко крикнул он сверху. — Лодки и людей много!
Выспрашивать мальца, как одеты, какие лодки, было делом долгим и бесполезным. Приближались люди!
«Господи! — спешно перекрестился Угрюм. Его изуродованные губы дрогнули. — Спаси от встречи со зверем лютым, с человеком всяким!»
Он заметался по двору, высматривая, что спрятать от чужих глаз. Окликнул старших. К счастью, они оказались поблизости от дома.
— Сбегайте на берег, посмотрите, что за люди! На глаза не лезьте, из-за деревьев, тайком гляньте!
— Тятька! К нам идут! — звонко закричал сверху Третьяк.
— Кто бы это мог быть? — всхлипнул Угрюм и быстрей прежнего заметался по двору. Топор бросил под крыльцо. Кованый котел из бани закатил за амбар, в траву. — Да слезь ты, христа ради! — окликнул меньшого.
Тот и ухом не повел в его сторону, вглядываясь в видимую ему даль. Не надеясь на сыновей, Угрюм сам заковылял к речке. Короткими перебежками, от дерева к дереву, как тунгус, вышел на край леса и обмер. Два десятка казаков вытащили на берег струги и шли толпой прямо к его избе, вели братских баб с детьми и мужиками.
Кого только ни приводил бес в эти места за прожитые здесь годы, но казаки появились впервые. С колотящимся сердцем, так же крадучись, Угрюм вернулся к дому, мысленно утешал себя: «Ну и хорошо, что казаки! Иная промышленная ватажка может обобрать хуже мунгал».
Вразвалочку вернулись посланные сыновья, насмешливо уставились на мечущегося отца.
— Что встали? — вскрикнул он, выпрастывая из-под рубахи носильный крест. — Рыбы тащите. Гостей встречать будем. — И жене крикнул по-бурятски, отводя глаза в сторону: — Народу много идет. Надо угостить!
Казаки приближались открыто, по тропе. Они были одеты в кафтаны, в зипуны нараспашку, в халаты, головы покрыты сибирскими шапками, отороченными мехом. Все при саблях и тесаках, на плечах — ружья. Впереди шел дородный и статный служилый с прядями седины в длинной бороде, в бархатной шапке сына боярского. Рядом с ним угодливо семенил раскосый болдырь.
Много лет прошло с последней встречи, но брата Угрюм узнал с первого взгляда. Морщины посекли его красное обветренное лицо, плечи слегка опустились от тяжести прожитых лет, в глазах погасла былая удаль. Теперь в них светился спокойный блеск силы и сознания власти.
Угрюм закивал, приветливо выпучивая глаза. Сын боярский ни словом, ни взглядом не показал, что узнал его. В самом ли деле так? Или не захотел показать родства?
— Эй, косорылый! — весело по-русски окликнул его болдырь в казачьей шапке. А спросил по-булагатски, но коряво: — Какого ты роду-племени?.. — И со смехом бросил сыну боярскому по-русски: — То ли боол[243] крещеный, то ли ясырь возвращенный!
— Из серпуховских русичей я, — не сводя глаз с брата, обидчиво ответил Угрюм. Он старался говорить чисто, но слова застревали в горле, у основания языка. — Всю жизнь в Сибири среди промышленных.
— Когда последний раз был в Енисейском? — строго перебил его болдырь с плутоватой рожей.
Иван без любопытства оглядывал дом и двор, скользнул взглядом по лицу хозяина. «Вдруг не узнает?» — подумал Угрюм. Смутился, ответил на вопрос толмача:
— Да лет уж двадцать тому.
— А вот как подушную подать возьмем за все эти годы! — пригрозил другой казак и сбросил с плеча пищаль.
— Берите! — покорно согласился Угрюм и засуетился: — Присаживайтесь, гости дорогие, хоть здесь, хоть в дом войдите!
Сын боярский что-то отрывисто рыкнул. Казаки стали скидывать ружья и верхнюю одежду, ясыри рассаживались вдоль изгороди, на выщипанную скотом траву. Русского вида толстая, пожилая баба с ласковым лицом топталась у ворот.
— Ты бы нам баню затопил да молоком угостил, что ли? — наконец обратился к Угрюму сын боярский.
— Е-е-е! Это чей-то? — суетливо вскрикнул тощий казак. — Сабля где?
— Глянь-ка! — захохотали в толпе.
Третьяк, о котором в суете встречи Угрюм забыл, спустился с дерева, покрутился среди казаков и теперь мчался к лесу, волоча за собой казачью саблю.
— Уши отрежу! — кинулся за ним казак с пустыми ножнами.
Третьяк воровато обернулся, под хохот гостей перескочил через жерди поскотины, зацепился длиннополой рубахой за сучок, перевернулся вниз головой, засучил босыми пятками. В трех шагах от казака он оторвался, без-сабли сиганул на сосну, быстро вскарабкался на середину.
— Ишь, векша! — казак беззлобно ругнулся, поднял и вытер травой клинок, погрозил мальцу: — Слазь, не то дерево срублю!
Третьяк в несколько рывков оказался на самой верхушке.
— Зверь! — восхищенно взглянул на Угрюма толмач. — Сколько таких напестовал за двадцать-то лет?
— Троих!
— Смани вниз, а то убьется! — посоветовал тот без прежней заносчивости.
— А, пусть! — рассеянно отмахнулся Угрюм. — Отроду такой!
Пришли Первуха со Вторкой. Кожаные штаны их были мокры. В руках они держали корзину с серебристой, бьющейся еще рыбой. Беззвучно и настороженно уставились на отца, не приветствуя гостей.
— Снесите в дом! — приказал Угрюм. — Пусть мать напечет со сметаной. И баню гостям затопите.
— Сметану можно и без рыбы! — шутливо загалдели казаки.
Иван с удобством расположился под навесом, строго, с любопытством, разглядывал оттуда Первуху со Вторкой. За спиной его присела русская баба. Юнцы с корзиной ушли в дом. Он перевел взгляд на Угрюма и отчужденно пророкотал:
— Сядь-ка, раб Божий Егорий! Угощение — хорошо! Но скажи нам: какая река вытекает из здешних мест, где горы сходятся клином?
«Узнал!» — ударила кровь в лицо Угрюма. Старые шрамы побелели. Он неловко присел посреди двора.
— Одна река течет отсюда: Мурэн-Ангара, — махнул рукой на восход. — При попутном ветре дня за два можно доплыть. А как задует с другой стороны, бывает, неделю ждешь, — ответил с готовностью.
Иван обвел взглядом притихших казаков.
— А Иркутом на Байкал ходят? — спросил. — Где его исток?
— Далеко! — Угрюм махнул рукой на закат. — Верст пятнадцать отсюда из него есть волок. Здешние речки все в Байкал падают. Из него только Ангара!.. Про пролив в море ничего не знаю. Сам не видел и от других не слышал, — отвечал на расспросы.
— А что тебе за нужда на исток Ангары ходить? — спросил десятский с разбойной рожей. — Не берешь ли на себя ясак царским именем?
— Куда мне, убогому! — замахал руками Угрюм, залопотал, шепеляво оправдываясь: — Самого мунгалы обирают. Иной год я меняю там железные и костяные поделки на соболей. А рухлядь отдаю мунгалам за железо.
Иван вдруг начальственно вперился в него взглядом, спросил с усмешкой в бороде:
— Серебро есть?
— У меня-то? — опять заволновался Угрюм, лихорадочно соображая, мог ли кто донести про спрятанный слиток. — У меня-то нет и не было. Ни к чему оно мне. Железа и того нынче на пару подков. — Он опасливо обернулся, увидел, что из бани валит дым, а сыновья стоят за его спиной, с восхищением разглядывают казаков и их оружие.
— Что, пострелы? — догадливо подмигнул им сын боярский. — Саблю посмотреть хотите? — вынул из ножен легкую казачью сабельку. Блики солнца искрами брызнули с клинка. У Первухи узкие глаза сделались круглыми и выступила испарина на лбу. Вторка разинул рот. Сын боярский самодовольно хохотнул в бороду, встал, отступил на шаг, со свистом закрутил саблей вокруг себя, будто оделся сверкающим шаром или нимбом святого.
Слезы потекли по пухлым щекам Вторки. Первуха застонал, заскрипел зубами.
— Не пропала русская кровь! — торжествуя, Иван кивнул Угрюму. Со звоном бросил саблю в ножны. Первуха со Вторкой не спускали с него восхищенных глаз. — Ну, давай, угощай всех! — приказал, указывая взглядом и на сидевших ясырей. — Откупайся! Много задолжал и мне, и государю! — В сказанном был намек на невыплаченную кабалу, которую тот оставил на брате.
Угрюм поднялся, заколесил по двору, прихрамывая больше обычного. Велел сыновьям забить бычка, жене — выставлять что готово.
Насытившись, атаман властно сказал хозяину через застолье:
— Дал бы ты нам вожами сыновей. — И, обернувшись к юнцам, спросил их: — Окрестности знаете?
«Мог бы не спрашивать, — с тоской подумал Угрюм, взглянув на них. — Не пусти — убегут! А как узнают, что он им родной дядька?» — зажмурился от бессилия и привычно заканючил:
— Все один я при доме, калека. Руки две. Сыны только-только помощниками стали. Заберете, как жить?
— Я тебе вместо них двух ясырей оставлю, — пообещал Иван Похабов. Обернулся к двум мужикам тунгусской породы, похвалил их: — Проворные, молодые, у хоринцев пастухами служили.
Казаки заметили, что Угрюм хозяйским взглядом окинул мужиков, прикидывая свою выгоду, и стали наперебой предлагать:
— Покупай наших ясырей! Недорого отдадим!
Угрюм, забыв про сыновей, стал лихорадочно соображать, что теща состарилась, за ней уже нужен уход. Жена с младенцем на руках не успевает управляться с домашними делами. Раздаивать коров было некому. Давно подумывал Угрюм купить ясырку у князца Нарея. Но знал наверняка: спроси сам о своей нужде, тот заломит цену вдвое. Здесь, даже по случаю, покупали и продавали рабов не дешевле коня. Их охотно брали буряты и промышленные ватаги, платили скотом и соболями. Товар был ходовой. Перепродать ясырей можно было с прибылью.
— Есть у меня немного соболишек! — замялся Угрюм. — Берегу, чтобы у мунгал железо купить… Думать надо!
Казаки ушли. Первуха со Вторкой убежали за ними. Угрюм привычно подсчитал убытки, и они оказались невелики. Двор убирать не пришлось: даже рыбьи кости казаки сложили кучками на бересте. Кое-где наплевали ясыри, а так ничего.
Как и пообещал атаман, в доме охотно остались два мужика. Кроме них Угрюм прикупил у казаков двух баб: ясырку в зрелых годах — душоодтэй[244] и молодую бабенку с младенцем.
Тоска по сыновьям, ушедшим невесть куда и неизвестно на какой срок, перемежалась в его душе с печалью: мог бы купить и десяток ясырей, а к зиме продать или поменять на скот, но он боялся показать казакам всех своих соболей, чтобы те не взяли с него подушную подать за двадцать лет, а Ивашка не потребовал бы долг за кабалу. Мог заплатить и серебром, но боялся, что казаки станут пытать — где взял?
Иван с Первухой и Вторкой вернулся через три дня. Удивленный их ранним возвращением, Угрюм стоял на крыльце, опустив руки, и не знал, как встречать. Поверх рубах сыновей висели свежевыструганные кедровые кресты.
— Ну, здоров будь, брательник! — насмешливо кивнул молчавшему Угрюму Иван. — Отчего не рад родне?
— Здравствуй, брат! — тоскливо оправдался хозяин: — Все думал, ты — не ты? Вдруг меня признать не хочешь. Окрестили уже, без попа! — кивнул на сыновей. — А мне черный дьякон отказал, когда я проходил мимо скита.
— Есть у нас казак — все молитвы знает. Для здешних мест сойдет, — властно усмехнулся Иван и размашисто махнул рукой со лба на грудь. — После, если что, попы перекрестят.
— Каких хоть святых дали в помощь? — обидчиво скривил рваные губы Угрюм. Теперь его шрамы походили на глубокие морщины.
— Знатные святые Петр и Онуфрий! — Иван положил широкие ладони на плечи племянников. — Как раз на Петра-солнцеворота крестили. Лето на жару, день на зиму!
Повеселевшая жена выставляла на стол угощения, ей помогала молодая ясырка, та, что старше, баюкала за печкой двух младенцев. Отданные в работники мужики убежали в лес. Их никто не окликал, не искал, и после полудня они осторожно вернулись в дом. Тот, что имел прозвище Болтун, зыркая по сторонам, спросил Первуху:
— Казаки нас не заберут? — Ни тому, ни другому возвращаться в отряд не хотелось.
Из сеней, придерживаясь рукой за стену, вышла сморщенная старушка с приветливым и радостным лицом. Первуха со Вторкой кинулись к ней, стали обнимать.
— Порветесь, как коровий желудок! — скороговоркой обронила мать и рассмеялась.
Сыновья тоже хохотнули. Первуха пояснил дяде:
— Говорит, надутыми ходим! — И, обернувшись к отцу, заявил: — Вот поставим острог, мунгалы тебя не тронут!
Угрюм горько улыбнулся: в сказанном был намек, что сыновья с ним жить не хотят. Третьяк, осмелев, забрался на колени к старшему Похабову, стал забавляться темляком сабли.
— Бэлтергэ! — вздохнул Угрюм и тут же поправился по-русски: — Тоже волчонок!.. Для кого надрывался и строил столько лет? Себе и им воли хотел, — пожаловался брату на судьбу. — Твои-то как? — спохватился. — Якунька жив?
— Служит! — слегка нахмурился Похабов. — Умен. Загодя судьбу себе правил. Дочь без тебя Бог дал. Замужем уже. Внука родила. Отрезанный ломоть! — тоже невольно вздохнул, усмехнулся: — А Меченку замуж отдал за молодого казака.
— Продал, что ли? — вскинул прояснившиеся глаза Угрюм.
— Так отдал! Еще и приплатил, чтобы не видеть ее злющей рожи.
— А попы что? — веселея, переспросил Угрюм.
— А я их не спрашивал!
Будто треснул давний ледок, братья заговорили проще и свободней.
— Знаю, ты рожь и просо сеешь? — сказал атаман.
Угрюм опять замялся, опасливо поглядывая на сыновей.
— Так, на пробу! Пользы дому никакой.
— Пробуй! — кивнул Похабов, не выспрашивая про урожаи. — Как комар прилетит — сей яровую. Земля иссохнет, как зола, сей озимую. Посмотришь, что лучше заколосится. Промышленные люди ходят здесь явно: не тропа, а торная дорога. Даст бог, поставим острог, — указал глазами на закат. — Тебя в пашню запишу — и заживешь под государевой защитой с его десятины или с десятого снопа.
Угрюм, потупясь, все ждал, что брат напомнит про долг по кабале. Не вспомнил.
Теща с умилением поглядывала на мужчин. Сидя, как они, на лавке, она быстро устала. Булаг подложила ей под локоть овчинный тулуп, старушка прилегла, охая и радостно бормоча:
— Наконец-то родственники появились. Без родственников жить плохо.
— Скоро у нас много родни будет! — весело пролопотал по-бурятски Первуха и добавил для дядьки по-русски: — Радуется!
Не только ради родства пришел в дом брата сын боярский. По лицам сыновей Угрюм догадывался, что разговор будет о них, и ждал главных слов.
— Хочу идти на Ангару волоком, как ходят промышленные ватаги. Отпусти со мной племянников вожами?! — сказал наконец Иван, улучив удобный случай в разговоре. Мог бы и не спрашивать, но попросил.
— Так им еще рано в службу? — Угрюм сделал вид, что удивлен.
— Рано! — согласился Иван, оглаживая бороду. — В цареву службу не поверстают. Могу взять охочими, пусть поглядят, как казаки живут. Мне и нужны-то они только до Иркута, там сами сплывем. А я тебе в помощь своих ясырей оставлю на всю зиму, — неожиданно озадачил брата дорогим подарком.
С ясырями Угрюму расставаться не хотелось. Польза от них в хозяйстве была явной. Сыновей отпускать от себя он тоже не хотел. Но если только до Иркута.
— И когда они вернутся? — спросил, опасливо облизнув губы.
— Если дашь коней, то быстро. Пешими — дольше! — ненавязчиво потребовал лошадей Иван.
Угрюм ждал худшего. Все равно это была не цена за ясырей, пусть даже на одну зиму. Он повеселел и вдруг снова боязливо нахмурился, вскинул мутные глаза:
— Постой! Вы же тамошние улусы будете ясачить? А то и аманатов возьмете. Уйдете потом на год-другой, а меня браты с мунгалами со света сживут, разорят, а то и убьют.
— Мы говорили об этом! — кивнул на племянников Иван. — Умные у тебя мальцы, все понимают. Решили сделать так: встретим народы — государево жалованное слово скажем. Дадут ясак доброй волей — возьмем, а требовать пока не станем. В другой раз всех объясачим.
Угрюм опять повеселел.
— Эти шалопаи, бывает, неделями в лесу пропадают, — проворчал, кивая на старших сыновей. — Даст бог — вернутся живы-здоровы! А коней дам четырех и два седла. Даже три. — И спохватился, засуетился: — А как сбегут от меня твои ясыри или мунгалы отберут?
Сын боярский презрительно хохотнул.
— К кому им, безродным, бежать? С тунгусами жить уже не смогут, хоть бы и рабами у своих. С братами нажились. Мунгалы разве только силой заберут. А оставляю я их тебе не даром! — Взглянул на брата со скрытой насмешкой: — К весне построишь мне два струга на шесть весел. Будут струги хороши — ясыри твои навек.
Первуха со Вторкой, новокресты Петруха с Онуфрием поняли, что отец с дядькой договорились, и стали весело лопотать, ластясь к матери и бабушке.
Из верховий речки, впадавшей в байкальский култук, проторенным волоком казаки перетащили струги к верховьям другой, бегущей к Иркуту. Здесь черновая тайга расступалась просторными полями по пологим склонам гор. На них пасся скот князца Нарея. Иван Похабов велел племянникам не лезть на глаза людям его рода, а сам, с Федькой Говориным и толмачом, отправился к стану.
Вернулись послы только к ночи, после сытного ужина. Казаки обступили их, стали расспрашивать про здешний народ. Сын боярский посмеивался:
— Боится князец дать ясак! Намекнул: был бы, дескать, поблизости острог — другое дело. Жалуется, что у него самые плохие выпасы и с них вытесняют сильные роды, кочующие по долине. Говорит, в верховьях Иркута кочует много народов и живут богато. Сам жалованное государево слово слушал с почтением. В поклон царю дал десять соболей.
— Я ему подарил ясыря, — с важным видом заявил Федька Говорин. — За других он заплатит рухлядью.
Слова десятского вызвали оживление среди казаков. Многие из них хотели поскорей отделаться от пленников, доставшихся при дележе добычи.
Иван Похабов простился с племянниками на берегу Иркута. Одетые по-тунгусски, с тунгусскими луками, верхом на лошадях и стриженные по-казачьи, они для здешних мест и народов выглядели чудно.
— Как же одни обратно поедут, такие молоденькие? — беспокойно захлопотала Савина, опекавшая юнцов в пути.
— Эти не пропадут! Кого там! — Мартынка-толмач похлопал по загривку коня под Первухой.
— Мы и дальше бывали, тетка! — стал успокаивать Савину Вторка.
Юнцы неохотно расставались с казаками. Иван чувствовал, позовет — и уйдут за ним. Но он не звал, только обещал навестить весной.
— К тому времени, глядишь, и в службу возьму! — пообещал со смехом.
Едва Похабов расстался с племянниками, отряд встретил две промышленные ватажки, которые поднимались бечевой к волоку. Увидев казаков, промышленные люди испугались, засуетились, но стругов не бросили.
Ватажки те имели отпускные грамотки енисейского воеводы трехлетней давности, где говорилось, что идут они в верховья Лены. Передовщики жаловались, что рухляди добыли мало из-за войн казаков с братами и вынуждены искать новые промыслы. При объявленной бедности они купили у казаков всех ясырей. Купили бы и последних баб мунгальской породы, но те, пользуясь мужской слабостью, давно прельстили своих хозяев, которым достались по жребию, и казаки не пожелали с ними расстаться.
Промышленные забрали плененных мужиков и расплатились черными головными соболями. Притом они громко сокрушались, что казаки отпустили вожей: о Байкале все знали понаслышке.
Ясыри быстро все поняли, восчувствовали себя нужными и важными, поэтому в обратную сторону, к Байкалу, пошли не пленными, а бывальцами и провожатыми.
— Ишь! — гоготал Федька Говорин. — Не были, а знают, как за Байкал надо ходить. Плыть напрямик, как мы, — дураков нет!
В низовьях Иркута казаки проплывали мимо пасущегося скота. Они торопились и не хотели приставать к берегу. Но к воде выскочили конные мужики и замахали руками. Пришлось сделать остановку.
К стругам выехал и спешился князец Яндоха, о котором говорил дьякон Герасим. Он стал зазывать казаков на пир. Похабов оставил у стругов троих, с остальными пошел к большой юрте.
На стане Яндохи суетливо забегали мужики и бабы. Они забили бычка, баранов, стали варить мясо. Казакам побыстрей выставили угощение из того, что было готово. Атамана, толмача и десятских казаков князец зазвал в свою юрту с поднятым войлоком, там стал расспрашивать, откуда они пришли, жаловался, что промышленные ходят часто, а казаков встретил первый раз.
Яндоха с великим почтением выслушал жалованное государево слово, с радостью предложил дать ясак и присягнуть царю на вечное подданство. Желавших присягнуть государю казаки встречали по Ангаре и за Байкалом, но чтобы среди лета доброй волей предлагали ясак, такое случилось впервые.
К устью Иркута струги подплывали в начале июля, на святого мученика Мефодия-перепелятника. Показался остров черного дьякона. Над ним висел дым, как от пожара. Со стороны протоки виднелись три больших, шестивесельных струга.
— Кто бы это мог быть? — в рост поднялся на корме Иван Похабов, оглядывая остров из-под руки.
Казаки причалили рядом с чужими, но по виду енисейскими стругами. На берег выбежали два десятка полуодетых русских людей, радостно запрыгали, замахали руками, бросились помогать вытаскивать суда.
— Кто такие? — оглядывая их, спросил сын боярский.
— Свои, енисейские! Не узнаешь, что ли? — загалдели люди в потрепанной разношерстной одежде. А от костров подходили другие, запрудив весь берег.
— Атамана Колесникова!
— Тьфу ты! — не сдержавшись, выругался Похабов. — Как здесь-то оказались?
Казаков под руки высадили на остров, повели к избенке черного дьякона. Самого Герасима в ней не было. Михей, утомившись многолюдьем, отлеживался возле дымокура. На таборе дымили три костра, на них пекли рыбу и птицу. К Ивану подсел знакомого вида молодец, спросил скалясь:
— Не признаешь? Охочий я, Пятунка Голубцов, сын Цыпани. Ты у нас зиму жил в приказчиках.
— Вон кто! — переломив бровь, строго взглянул на него сын боярский. — Ну, сказывай, как здесь оказались и где атаман?
— Атаман на устье Верхней Ангары! Как только дошли мы туда и поставили зимовье, он велел нам, охочим, возвращаться за ненадобностью и за хлебной скудностью.
Казаки Похабова стали выспрашивать о добытой рухляди и ясырях. Оказалось, что енисейцы возвращаются от атамана нищими, питаясь в пути рыбой и птицей. Колесников забрал в казну все, что было добыто прошлой зимой на погромах, не дал им ни казенных ружей, ни пороха, ни свинца, ни хлеба. У кого что было свое, с тем и плыли обратно.
— Однако хитер! — в который раз удивился Иван изворотливости старого сослуживца. — Перемены в этом году не ждет. Да и с чего бы ее ждать? — Помолчав, добавил с едкой усмешкой: — Разворошил улей возле Братского и ушел, где поспокойней!
Не поделиться с колесниковскими людьми хлебом служилые Братского острога никак не могли. Но взять на прокорм отряд вдвое больше своего им было не по силам. Похабов объявил, что задерживаться на острове не будет, велел всем отдыхать до утра, сам сел в легкую лодку и отправился на другой берег Ангары, навестить скитника в его келье.
Плыть с казаками в Енисейский острог по наказу покойного инока Тимофея Герасим не мог: ему не на кого было оставить дряхлого Михея, а везти за собой — жалко. Иван взглянул в умные, светлые глаза дьякона и начал вдруг оправдываться, что не может задержаться здесь сам.
— Даст бог, вернусь в Братский, отпишу воеводе, — почесывал затылок. — Научи, что ли, как писать? На Селенге тамошние браты просят поставить острог. Через байкальский култук ходят воровские промышленные ватаги. И там нужна застава. А здесь если просить поставить острог, то разве только для Яндохи? Или как?
— Место тут благое для города! — смущенно отвечал монах. Спохватившись, добавил: — Отсюда ватаги во все стороны ходят — на Байкал и на Лену.
— Ангарой-то через Байкал — не шибко хорошо! — замялся Похабов, вспомнив свое плаванье. — Напишу, конечно! — пообещал. — В Москву надо челом бить, да так, чтобы у дьяков Сибирского приказа зуд по телу пошел, дескать, места пашенные и зверовые, вбей кол — и повалит им рухлядь как из хлябей, народ отовсюду побежит, ясак станет давать и торговать.
— Ой, не знаю, как писать, — беспомощно опустил глаза монах. — А место благое!
На рассвете далеко по плесу разнесся многоголосый распев молитв. Пять стругов, битком набитых людьми, вышли на стрежень. Гребцы налегли на весла, лодки понеслись вниз по течению реки.
В сумерках отряды пристали к берегу для ночлега. Не будь на стругах так тесно, ночевали бы на плаву — плес был широк, путь знаком. Казаки и охочие Похабова стыдливо роптали: людей увеличилось втрое и кончалась последняя рожь.
— Тайноедение — грех! — мягко корил их сын боярский и плутовато щурил глаза, поглядывая на колесниковских охочих людей.
— Что волоком-то, через Верхоленский не пошли? — неприязненно допытывались у них казаки. — Курбатка Иванов вдруг бы и насыпал ржи?
— Ага! Всыпал бы плетью по спинам да присолил в почесть, — огрызались охочие. — Ссорился он с Васькой Колесниковым, едва до стрельбы не доходило. А нам ответ держать?
Возвращавшиеся вспоминали о своем походе неохотно, но с любопытством расспрашивали казаков про Селенгу. А те, не жалея слов, рассказывали о тамошних народах:
— Бабы у них серебром обвешаны!.. У мужиков брони из серебра.
Пятунка Голубцов, по праву давнего знакомого и старшего в отряде, держался поблизости от сына боярского, простодушно восхищался порядком среди казаков, тем, что никто не был обижен при дележе добычи.
— Неужто придете в Братский острог и поделитесь с тамошними сидельцами? — не мог поверить разговорам.
— А то как же? — пожимал плечами Похабов, оглядывал своих десятских. — Искони так заведено.
— И родственникам погибших — долю! — вторил ему Федька.
Похабов все чему-то посмеивался, с прищуром поглядывал на охочих и грыз тонкую березовую ветку крепкими зубами. Савина бросала на него удивленные взгляды, а ночью, когда возлегли на хвое и укрылись шубными кафтанами, прошептала:
— Ой, что-то удумал? Не знаю, хорошее ли?
— Удумал! — признался Иван. — Дело полезное всем.
Больше о том он говорить не стал.
Едва поредел лес по берегам реки и начала открываться братская степь, атаман приказал всем грести к берегу. Без всякой нужды казаки пристали к нему еще до полудня. Тут и объявил сын боярский то, о чем думал в пути:
— Васька Колесников не смог поставить зимовье на Осе. Отписывался, что леса нет. А я поставлю, как воевода велел и как Курбатка просил. Лес здесь рубить будем. Каждому свалить и очистить от веток по паре стволов — всего-то полдня трудов. А Братскому и Верхоленскому острогам — облегчение.
— Нам надо до ледостава успеть в Енисейский, — заволновались охочие люди Колесникова.
— Избу рубить, острог ставить — не заставлю! — уверил их сын боярский. — Поможете пригнать плоты на Осу и плывите дальше с Богом: недаром наш хлеб ели. А кто захочет со мной остаться и на другой год на Селенгу пойти, тому сам Бог велел отмаливать Васькины грехи на Осе.
Люди вышли на берег. Застучали топоры. С треском, с хрустом повалились вековые сосны и ели. Для шести десятков мужчин связать плот из полутора сотен бревен было делом пустячным. Пугливо убегал от шума зверь, спешно разбирали чумы тунгусы на ближних урыкитах. Для них звуки падающих деревьев были страшней хруста человеческих костей.
Через день течение реки понесло узкий и длинный плот. Два струга правили его спереди, один сзади, еще два — подталкивали с боков. А по берегам уже тянулась степь с дымкой гор вдали.
Из устья Иды, в верховьях которой был волок в Илгу, на Ангару выплыл четырехвесельный струг. С него заметили плоты, и вскоре казаки догнали медленно сплавлявшийся караван.
Старшим в струге был Михейка Сорокин. Он издали узнал Похабова. Улыбаясь щербатым ртом, подвел свою лодку к нему, узловатыми пальцами схватился за борт.
— Так и думал — Ивашка плывет, чтобы меня одарить! — завистливо окинул взглядом длинную связь плота.
В стружке сидели на веслах братья Сорокины — Антип и Яков. Якунька, как всегда, скалился, его нос с выдранными ноздрями кривился клювом хищной птицы: не понять, то ли смеется старый казак, то ли злится. С ними были трое верхоленских служилых. Они удивленно вертели головами.
— Колесниковские, что ли? — спрашивали, разглядывая людей в других стругах.
— Васька выпроводил сорок ртов за ненадобностью, — пояснил Похабов. — Коли есть нужда в людях — зовите к себе!
— Братов дразнить? — хмыкнул Якунька, блеснув белками глаз. — Накуролесили, озорники! Мы расхлебываем.
— Кормов нет! — устало вздохнул Михей. — Окладов, впусте, — тоже нет. Нынче Васька Бугор полторы недели сидел в осаде, все старые кожи поел.
— В Верхоленском, что ли? — удивленно поднял брови Похабов. — А чего он там?
— Десятский! — криво усмехнулся Михей, а брат его, Якунька, презрительно сплюнул за борт.
Иван несколько мгновений смотрел на Сорокиных с недоверием и вдруг, задрав бороду, расхохотался на всю реку.
— Нашли-таки волю, смутьяны! — мотал головой, смахивая слезы.
Старший Сорокин терпеливо, с пониманием, переждал, когда он утихнет.
— Курбатка послал нас присмотреть место для нового острожка. Братский нам не подмога: далеко и на другой стороне реки. Может, вместе поставим зимовье? — кивнул на берег. — На Уде — краснояры! Как ни яры, а все прикрывают. Здесь бы еще людей посадить, чтобы не было разбоя, как нынче.
Похабов кашлянул, посуровел лицом, задумался:
— А ясак на кого брать?
— Все государево! — напористо прогнусавил Якунька Сорокин.
— Ты об этом моему воеводе, в Енисейском, скажи! — усмехнулся сын боярский. — А твой далеко, аж в Якутском. — И добавил строго: — На устье Осы я поставлю зимовье по указу нашего воеводы. А кому в нем сидеть и на кого ясак брать — без нас решат!
Верхоленцы поплыли налегке вдоль пологого берега, их струг быстро удалялся от каравана. Казаки и охочие люди Ивана Похабова подогнали плот к острову на устье Осы, вышли на берег и развели костры. Савина напоказ вытрясла мешки из-под ржи, все они были пустыми, хотя хлеб ели только по средам, пятницам и воскресеньям.
— Думайте! — стал поучать охочих людей Иван. — Пойдете ходко, веслом да парусом, даст Бог, недели за три доберетесь до Енисейского. Там не околеете от голоду даже на поденной работе, живота ради. А если останетесь у меня, в Братском, и не придет перемена, придется голодать. Зато на другой год, даст Бог, и добудете что-нибудь!
Как и обещал Похабов, задерживать колесниковских людей он не стал, думал, хорошо, если на его посулы прельстится с десяток охочих. Но зимовать в Братском остроге вызвалась чуть не половина отряда Пятунки Голубцова. Ради похода за Байкал его люди готовы были строить зимовье на Осиновом острове.
— Боюсь, не прокормлю всех, — в сомнении качал головой Похабов. А отказать доброхотам не мог. — Прибудет перемена с хлебом или нет — не знаю.
Его служилые и полтора десятка доброхотов дружно простились с колесниковскими людьми, поплывшими в Енисейский острог. Поредевший отряд отправился вниз по реке на двух стругах и вскоре догнал братьев Сорокиных. Верхоленцы, надеясь на перемену в Братском остроге, везли грамоты, челобитные и отписки Курбата Иванова для енисейского воеводы. Сами они плыть туда не хотели, надеялись отправить бумаги с вестовыми из Братского острога.
На острове на другой уже день казаки и охочие поставили балаганы, расчистили место под избу, стали рубить зимовье из готового леса. На кормах из рыбы и птицы они работали от зари до зари, спешили, чтобы вернуться в Братский к Успенскому посту.
В сырой, пахнущей смолой избе без печки вызвались зимовать три казака, те самые, что отказались продать своих ясырок на Иркуте.
— Мало! — ворчал атаман, но неволить никого не хотел. — К холодам пришлю вам подмогу и хлеб. А пока делайте вид, что зимовье не впусте. Пусть дым над избой курится.
Обещанное Бояркану он исполнил.
Три струга под началом Ивана Похабова вернулись в Братский острог в августе, к заговению на Успенский пост. Их ждали, о них все знали от колесниковских людей.
Не зря спешил Похабов от самого Байкала: смена годовальщиков уже прибыла, и встречать его вышли на берег атаман Максим Перфильев и сын Яков.
— Вот уж не ждал такой милости от Федьки Уварова, — раскидывая руки для объятий, сошел со струга Иван, сгреб за плечи старого друга, обнял сына. — Поди, с целым войском прибыли?
Лицо товарища покривилось, Максим замотал головой, как от зубной боли, Якунька нахмурился.
— Какое войско? — с обидой вскрикнул Перфильев. — Пятнадцать служилых. Вот что делает, проходимец. Я ему, воеводе, толкую — война там! — без всякого степенства выругался атаман. — Курбаткины грамотки читаем — у верхоленцев осада за осадой. А Федька… — Максим окинул взглядом собиравшихся вокруг него казаков, махнул рукой и умолк, поскрипывая зубами. — Поговорим еще! — кивнул Ивану. Обернулся к Савине, лицо его посветлело. — Дай поцелую, милая! Всю зиму вспоминал вас. Как зимовала?
Без смущения подошел к Савине и Яков. Она по-матерински перекрестила его, ткнулась лбом в молодецкую грудь, всплакнула, отступила на шаг, чтобы полюбовалась статным молодцом. «Не забыл ее тепла, ласк и хлеба», — с радостью отметил про себя Иван.
Все они двинулись в острог, на гору. Впереди плечо к плечу шагали отец, сын и старый друг — атаман. Савина вежливо приотстала.
— Как мать? — спросил Якова старый Похабов.
— Жива-здорова! — ответил сын, равнодушно пожимая плечами. — Ей за Оськой как за крепостной стеной. Добрый казак, в обиду не даст: сам от голоду помрет — ее накормит, чего еще надо под старость?
— А Федька-воевода знай читает мне сладкоголосые отписки Васьки Колесникова, — нетерпеливо продолжил ворчать енисейский атаман.
— Так он же неграмотный, Васька-то? — замедлил шаг Похабов.
— Что с того? — усмехнулся Перфильев. — С его медового голоса кто-то пишет, да так складно: все виновны, но только не он. Он радеет за государево дело. Это что же? — снова вскрикнул Перфильев, невольно злясь. — Мне — пятнадцать служилых против всей немирной братской степи? А Ваське полусотня в обузу. Отправил людей обратно и хлебный их оклад присвоил.
Трое подошли к острогу с распахнутыми воротами. Перфильев уже знал, что с Похабовым осталось полтора десятка охочих людей. Гарнизон острога был укреплен, но хлебного припаса, привезенного им, на зиму всем не хватало. Атаман побрюзжал на воеводу, на начальствующих людей и скаредно хохотнул:
— Есть и для тебя новость. Твой недруг, Ермес, так ведь и не отказался от государева слова и дела. Отправлен был за приставами в Томский, сидел там в тюрьме, вместе с людьми, властью обиженными. Случился в городе казачий бунт. Бунтовщики всех узников освободили, Ермеса тоже, и он среди бунтовщиков сделался заводчиком… Когда бунт усмирили, против него начали сыск. И вдруг он помер у Бунакова в доме. А все, что имел, отписал на жену и бунаковскую родню. Дело темное, — поглядывая на товарища, завздыхал атаман, — но тебе теперь обратный путь открыт, хоть воевода в Енисейский и не зовет. — Перфильев помолчал, раздраженно гоняя желваки по скулам. Опять заговорил с тоской в глазах:
— И еще! Бес неправому помогает, а Господь, за грехи наши, ему попускает. Помнишь соболей, которых я взял у скороходовских людей? Якутский воевода, Василий Пушкин, против меня сыск объявил, велит прибыть к нему. А наш Федька Уваров, сынишка боярский, кто против него? Принять-то принял в казну скороходовских соболей и лис, а меня выгораживать боится: ничего, мол, не знаю, сам с той рухлядью разбирайся!
Придется тебе здесь зимовать! — Перфильев наконец вскинул на Ивана виноватые глаза: — Мне надо плыть в Якутский острог.
— Езжай! — беспечально согласился Иван. — Я на Селенге братов к присяге привел, а ясак не взял. Пойдет к ним кто другой, могут не дать, как обещали. В зиму Якуньку оставлю на приказе, — кивнул на сына, — и опять за Байкал!
— Мне никак нельзя атамана бросить! — пробубнил Яков раздраженным баском. — Из-за братского князца, которого прошлый год зарезали, тоже сыск. Я — один свидетель за верхоленских казаков. А на приказ найдешь кого поставить. С нами пришел Митька Фирсов с братьями.
— Сыновья покойного сотника! — одобрительно кивнул Иван. — Добрые казаки. На них можно положиться.
Полтора десятка служилых, из тех, что зимовали в Братском остроге, пожелали вернуться в Енисейский. Похабов никого не удерживал, благодарил за службы и отпускал с послужной грамотой. Людей в остроге хватало, недоставало хлеба.
С отрядом Перфильева пришли два монаха из Спасской обители покойного инока Тимофея. Они были присланы в Братский острог благословением сибирского архимандрита, чтобы основать здесь скит. Скитники томились острожным многолюдьем, избегали встреч с казаками, которые им изрядно надоели в пути, но вынуждены были ходить по пятам за Иваном Похабовым, просить его поскорей провести их по здешней округе, чтобы выбрать место для скита. А приказному, за делами, было не до них.
Раз и другой на глаза монахам попалась Пелагия, лицо которой показалось Ивану издали помолодевшим и даже благостным. Но заметил он вдруг, что бывшая жена шарахается от монахов как черт от ладана, а те, завидев ее, испуганно крестятся и поворачивают в другую сторону.
Вблизи разглядел Похабов, что лицо бывшей жены перекошено, глаза мечут искры. Никто лучше него не знал, что за этим кроется. И началась чехарда: избегая друг друга, то бывшая жена носилась возле него, как ведьма на помеле, то бегали монахи с тоскливыми лицами.
Меченка выследила, когда он вышел за острожные ворота с Митькой и Арефой Фирсовыми. В их сторону глазом не повела: казаки выросли на ее глазах, но драной кошкой вцепилась в длинный рукав бывшего муженька.
— Чего тебе? — неохотно остановился Иван, ожидая склок и обвинений.
— Зашли меня с Оськой куда подальше! — взвыла Пелагия, выпучивая бирюзовые глаза и всхлипывая. — Монахи со света сживут!
— Возвращайся в Енисейский! — посоветовал Иван. — Зятек, говорят, покаялся и отрекся от обвинения.
— Нет! — вскрикнула она и знакомо шмыгнула мокрым носом. — Там скитницы заедят. Я их знаю!
— Куда ж я тебя зашлю? — беззлобно выругался Иван, выдергивая из ее цепких пальцев рукав кафтана. Взглянул на бывшую жену, как на вихрь, проходивший стороной, и даже пожалел ее, непутевую. — Разве в Осиновское зимовье?
— Пошли в Осиновское! — снова ухватилась за его рукав Пелагия. — Отправь поскорей!
— Жди! — пообещал Иван. — Разберусь с делами, отправлю!
Во время похода за Байкал Савина всегда была рядом. А тут, в остроге, как полюбовные грешники, они с Иваном встречались только по ночам и каждый порознь мучился своими заботами. Приказная изба была полна народу, лишь на печи шепотом и удавалось перекинуться словцом. И вот, прильнув к его плечу, она тихонько завсхлипывала.
— По детям сердце изболелось! — зашептала, шмыгая носом. — Думала, к зиме вернемся. Годовалыцики говорят, мои на Лене: Емелька в казачьем окладе, Петруха в промышленных.
И с такой тоской она говорила Ивану о своих и михалевских сыновьях, что у того и самого от жалости и сострадания к ней закололо под сердцем. Обнял он свою добрую, ласковую женщину, претерпевшую ради него столько тягот, с благодарностью прижал к себе, неуверенно, со страхом, предложил:
— Хочешь, отправлю в Енисейский? В пути старые казаки в обиду не дадут. Бог даст, через год сам вернусь и заживем по-стариковски. А сейчас никак нельзя, — сказал так, и будто зимней стужей пахнуло от порога. Пугливо подумал: «Целый год одному!»
— Вдруг Емелька с Петрухой не вернутся к зиме, хоть бы Аниську с Герасимом повидать! — прерывисто вздохнула Савина и снова беззвучно заплакала, жарким, влажным дыханием обдавая шею Ивана.
— Съезди! — сердясь на себя, отрезал Похабов. — Годами жили врозь. Чего это я так раскис с тобой?
Сменившиеся годовалыцики уходили вниз по реке большим стругом. Скрывая печаль, Иван отправил с ними Савину, помахал ей вслед. Тут только вспомнил про Пелагию с Оськой. Над ними потешался весь острог: говорили, как ни столкнется Пелашка с монахами — у благочинных рожи будто черта изловили, а она от них разве что через тын не скачет.
В остроге и без Оськи с Пелагией яблоку упасть было негде: половина гарнизона ютилась по балаганам, другая за тыном. Прибывшие монахи ночевали под стругом. Они обошли окрестности, не нашли места для скита и снова ходили по пятам за приказчиком, канючили, чтобы тот велел перевезти их на другой берег.
Утром, едва сполоснув лицо да перекрестив лоб, Иван выглянул в оконце и увидел монахов. Смиренно потупив глаза, они опять стояли возле приказной половины, шевелили губами, клали низкие поклоны на восход. Один — тощий и длинный постник с сосулькой бороды в пояс, другой — малорослый, коренастый, круглолицый, с короткой шеей, с бородой помелом.
— Сегодня, даст Бог, перевезу! — рыкнул Похабов, выходя на крыльцо. — Будто на этом берегу нельзя скит поставить? — укорил, чуть было не выругавшись… В Успенский-то пост. Поморщился сын боярский, перекрестился со вздохом.
— Все обошли! — не поднимая глаз и кланяясь, забормотали монахи. — Нет здесь благого места!
— Думаете ли вы, батюшки, как на другом берегу жить будете? — в который раз попытался вразумить их Похабов. — Вам одной только охраны надо с десяток служилых. Да корма! Потаскай-ка их из острога.
— Бог не оставит! — тихо и настырно буркнул дородный. Другой, тощий, склонил голову в скуфье, как журавль сложил шею дугой. Русая борода свесилась мартовской сосулькой. Порыв ветра с реки шевельнул волосы на плечах.
Похабов опять едва удержался от ругани: за монашеской мягкостью и видимым спокойствием стояли непреодолимое упорство и несокрушимая сила, с которыми не ему, грешному, спорить. Он безнадежно махнул рукой:
— После полудня! Буду отправлять служилых в Осиновское зимовье. Они и перевезут!
Монахи стали молча и благодарственно кланяться. Похабов смутился и добавил, глядя в сторону:
— С ними ясырка и баба. Пелагия-Меченка!
Сказал так и почувствовал, что от его слов оба монаха содрогнулись.
— Нельзя нам с ней в одном струге! — сказал дородный, будто проскрежетал зубами. Борода его ощетинилась, глаза блеснули, как у татя. — Свез бы ты нас сам, христа ради! — пророкотал отдаленным раскатом грома. А постник громко засопел.
Иван Похабов бросил было на духовных разъяренный взгляд, хотел втолковать им, сколько у него неотложных дел, но по лицам монахов понял, что те будут стоять возле крыльца, пока не добьются своего, и молча прошел мимо них в казачью избу.
Федька Меншин, перфильевский десятский, еще потягивался на нарах. Похабов обругал его вместо монахов, велел поторапливаться. Подумал, не отправить ли в Осиновский братьев Фирсовых под началом старшего, Митьки? Посомневавшись, решил, что те ему здесь опора. А среди зимы надо на Селенгу идти за обещанным ясаком.
Вышел, поколотил кулаком в прируб Оськи Горы.
— Чаво? — зевнул за дверью ссыльный казак.
— Быстро с бабой и с пожитками в струг! — не открывая двери, крикнул Похабов.
Пелагия, нечесаная, простоволосая, приоткрыла вход, опасливо зыркнула по сторонам, увидела монахов возле приказной избы, охнула, затворилась.
К полудню он отправнл-таки людей в Оснновское зимовье своим благословением, так как скитники из-за блудных баб отказались служить молебен о благополучном отплытии и упорно стояли возле приказной избы. Уставший уже к полудню, Похабов вернулся с реки.
— Поживите пока в Оськином прирубе! — предложил, оправдываясь занятостью. Те брезгливо замахали руками:
— Там блудом пахнет!
Хрипло, безнадежно вздохнул сын боярский, поманил Митьку Фирсова, стоявшего в карауле:
— Возьми стружок, свозите с братом батюшек за реку! Я за вас в карауле отдохну. Но чтобы к ночи вернулись! — строго взглянул на скитников.
Умными, расторопными выросли сыновья покойного стрелецкого сотника. Ни за чином, ни за жалованьем не гонялись, спин ни перед кем не гнули, — молитвами ли отца с того света, его ли славой на этом, удача их сама догоняла. Дорожил Иван такими казаками, не хотел отпускать от себя. Монахи, поклонившись ему в пояс, повеселели.
К ночи братья пригнали к острогу стружок без них.
— Присмотрели место для скита за горой и захотели остаться, — пришел доложить приказчику Митька. От казака пахло стылой осенней водой и свежей рыбой. — Не тащить же нам их силой? А к ночи ты велел вернуться!
— Правильно! — похвалил братьев сын боярский. — Им — Господь защита!
— Сговорились мы с ними. Если понадобится, они на том берегу дымокур разведут. Увидим, заберем.
— Не на этой, так на другой неделе река встанет! — заворчал Иван. — Без того дел много. Потом больше будет. А тут еще батюшки.
Дымокура не было всю неделю. Заберег на десять шагов покрылся льдом, по черной воде поплыло снежное сало. Похабов стал беспокоиться — живы ли монахи? По опасной реке опять отправил на другой берег Фирсовых с мешком ржи да с шубными кафтанами. Братья благополучно вернулись, сказали, что монахи сделали землянку, питались рыбой и древесной заболонью, за рожь благодарят, а в острог возвращаться не желают: собираются зимовать в скиту, проповедовать Слово Божье среди братов и тунгусов.
С опаской и недовольством приказчик почесал затылок и ничего не сказал: черноризники были не в его власти. Между тем от Курбата Иванова со льдами опять сплыл вестовой. Верхоленский приказчик жаловался: усилилась смута в братской степи и на другом берегу Ангары. Воровские отряды братов и тунгусов появлялись даже на устье Куты, подходили к солеварне, отнятой в государеву казну у Ерофея Хабарова.
Встала река. Малыми отрядами казаки разошлись на промысел мясного припаса. Иные промышляли соболя неподалеку от острога. Вскоре лед окреп. Похабов, как обычно, стал отправлять казаков за ясаком: Федьку Говорина — вниз по Ангаре, Дружинку — вверх по Оке, Фирсовых сыновей — до Осы, к вздорным икирежам, нападавшим на верхоленцев. Острог опустел, и приказчик стал ходить в караулы наравне с казаками.
К Рождеству начали возвращаться разосланные отряды. Федька опять взял ясак сполна. Но где-то в верховьях Чуны он наткнулся на большой отряд красноярцев и едва унес ноги. Дружинка вернулся с жалобами: в отместку за прошлый год красноярцы взяли ясак с двух родов в верховьях Оки.
Позже всех вернулись братья Фирсовы. Они принесли ясак со всех прежних братских родов, присягавших царю. По наказу Похабова ходили с Федькой Меншиным вверх по Осе, звали тамошних братов под государеву руку.
Икирежи жили скопом, большими селениями. Жалованное государево слово слушали с насмешкой, а казаков прогнали. На пути к зимовью их окружили тунгусы и хотели убить. Отгородившись от стрел нартами и лыжами, сидели Фирсовы с Меншиным в осаде с неделю. При вылазке взяли языков, от них узнали, что тунгусы были подкуплены братскими князцами, чтобы перебить казаков.
Федька с Митькой вызвали на переговоры главных сонингов, откупились от них топорами и котлами. С тем и вернулись в зимовье. Все живы.
Федька Меншин с осиновскими людьми сидел за тыном. К счастью, неподалеку зимовали красноярцы. Благодаря им он удерживался на острове.
Ох как нужны были Похабову сыновья сотника Фирсова на Селенге, и сами они рвались за Байкал. Но воевать — не править! Чтобы управлять острогом во времена шаткости ясачных народов да при малом гарнизоне нужна была не только твердая рука, но и умная голова на плечах. В таком деле, кроме как на Митьку Фирсова, положиться Ивану было не на кого.
И пришлось ему оставить сыновей первого енисейского сотника в Братском остроге. Сам же с отрядом стал собираться на Селенгу. После Крещения Господня три десятка служилых нагрузили двухсаженные нарты, накрепко обвязали их ремнями и двинулись по льду к истоку реки.
Мимо красноярского зимовья они прошли не останавливаясь, не вступая с казаками в споры. Дул пронизывающий встречный ветер, мела поземка, то и дело переходя во вьюгу. Иван Похабов налегке шел впереди каравана и, как ни укрывался, как ни прятал лицо от ветра, в Осиновское зимовье заявился с отмороженным носом.
С важностью человека начального он вошел в тесную избенку, где в два яруса ютились восемь служилых, четыре ясырки и баба. Едва переступил порог, Федька Меншин стал жаловаться на тесноту, голод, икирежей, которые грозили осадить зимовье.
— Бояркановы мужики были? — спросил Иван, вполуха слушая жалобы десятского. Пелагия, забившись в угол, не сводила испуганных глаз с его красного распухшего носа.
— Были! — поперхнулся Федька. — Ясак привезли добром!
— Это уже хорошо! — оглядел избу сын боярский, прикидывая, как в ней разместить еще тридцать человек. — В аманатской есть кто? — Простуженно кашлянул в озябший кулак.
— Сломали аманатскую на днях! — смущенно признался Федька и бросил укоризненный взгляд на Пелагию. — Еще не наладили. Не ждали вас так скоро!
— Придется между тыном и избой устроить балаган с вытяжной дырой да забросать его снегом! — распорядился Похабов. Присел возле очага. Протянул руки к огню, спросил мимоходом: — А что аманатскую сломали? Дров не хватило?
Зимовье набивалось прибывшими людьми. За тыном уже дымил костер. Зимовейщики как-то странно примолкли после вопроса сына боярского. Он хмыкнул обмороженным носом и уставился на десятского.
— Да Оська Гора буйствовал! — неохотно буркнул тот. — Скрутили, на цепь посадили, а он аманатскую избу в щепки разнес.
— А чего это ты? — удивленно взглянул на дюжего казака Похабов. — Вина у вас много или табаком опился?
Оська покраснел, потупил невинные глаза, зашмыгал носом:
— Так обижали! — пробасил слезным голосом.
Иван перевел строгий взгляд на десятского.
— Да Пелашку кто-то погладил, он и взбесился! — заерзал тот на нарах.
— Ага! Погладил! — мирно укорил его Оська. — Чуть не забрюхатил!
Федька Говорин сипло захохотал:
— Один раздор от баб!
У Меченки в глазах блеснули слезы. Она со значением поглядела на бывшего мужа, дескать, потом все расскажу, и молча задрала нос: не стала ни оправдываться на людях, ни устраивать склок и раздора. Зато десятский под насмешки прибывших казаков снова стал жаловаться.
— Забрал бы ты их от греха! — заканючил, кивая на Оську и Пелагию. — Ясырки живут же — люди как люди! Давеча Кирюха Васильев в баню пошел, а я из бани вернулся, ну, и перепутал впотьмах: под его полог залез. Ясырка мою мокрую бороду потрогала — признала. После лысину нащупала и давай орать! Ну и что? Полез под свой полог. Пришел Кирюха, посмеялись. А эти. Один раздор от них.
— Попа хорошего на вас нет, вот с такими кулаками! — горько усмехнулся Иван и сложил вместе два своих крутых и увесистых. — Я ж тебе, Федька, наказывал, блуда не заводить! — устало укорил десятского. — Ну, да других дел много. Осинцев воевать надо, а некогда и холодно.
Отпарились, отогрелись, отдохнули братские служилые люди, устроившись в балагане из нарт и лыж. У Ивана нос покрылся сухой коростой.
И решил он во время отдыха, что нельзя пройти мимо, не наказав осинцев. При нынешней шаткости это могло обернуться осадой зимовья.
Сам Иван к ним не пошел, послал в верховья Осы три десятка казаков под началом Дружинки Андреева. Наказал ему говорить жалованное государево слово. Федьку Говорина приставил к нему есаулом, но велел Меншину и Дружинке в бою его слушать: в воинском деле он был искусней.
Отряд ушел. Иван выставил караул, а всем свободным от него велел делать запас дров с островов, поросших осинником и березняком. Невольно он остался в зимовье наедине с Пелагией. Та долго помалкивала, виновато хлюпала носом, управляясь возле печи по своим бабьим делам. И все дергалась, как, бывало, в молодости перед скандалами: как ни терпела сама, как ни уклонялся от разговора с ней Похабов — разговорилась.
— Я с Оськой живу совсем не так, как с тобой! — заворковала, знакомо прищуривая глаза.
— Ну и живи! — отмахнулся Похабов, не зная, по каким бы делам уйти из зимовья.
— Дура еще была за тобой! — вздохнула с печалью, блеснув бирюзовыми глазами. — Но и ты был не муж! Тебе жена что перина в сенях: выспался, а что после того, все равно!
— Да уж, перина! — раздраженно усмехнулся Иван. — Прилипла как банный лист. До сих пор отодрать не могу.
— Друг-то ты хороший! И кобель изрядный, — вздохнула Пелагия, добрея. — Муж был плохой! А Оська — ребенок. Сирота. Он матери не знал, привязался ко мне.
— Видел! — проворчал Иван. — Слово поперек тебе не скажет, а ты и рада поиздеваться над бедным!
Разговаривая, Пелагия месила тесто в квашне. От сказанного вздрогнула, будто бывший муж вытянул кнутом по спине, слезы покатились по ее щекам, разрыдалась, как много лет назад возле проруби. Иван уже схватился было за шапку да шубный кафтан, она с ревом запричитала:
— Бесноватая я! Ничего с собой поделать не могу. Мучаю его! Не зря матушки в ските хотели из меня беса гнать каленым железом. Грешна! Перед тобой, перед сыном, перед Оськой грешна. Хоть бы Господь прибрал, дуру окаянную!
— Что мелешь-то? — подобрев от ее покаянных слез, проворчал Иван. Он впервые слышал от Пелагии такие слова.
— Забери ты нас куда подальше! — взмолилась она, вытирая щеки рукавом.
Ясырки удивленно поглядывали на нее. Разговор они понимали через слово, в чужие распри не входили. С ними и впрямь было легче поладить.
— Заберу за Байкал! — пообещал Иван, нахлобучивая шапку возле двери. — Поставлю там острог — и хоть залюбись со своим Оськой, если ему такая доля по нраву.
Послышались отдаленные раскаты выстрелов. Все бывшие возле зимовья служилые вооружились, заперли ворота и выглядывали из-за тына долину Осы, заметенные снегом буераки. Сначала показались всадники, мельтешившие, как оводы в жару. Потом появился гуляй-город из нарт, лыж и кольев. Медленно, упорно, непреодолимо он приближался к зимовью на острове.
Всадники увидели дым, стали отставать. Нарты заскользили по льду быстрей. Вскоре отряд подошел к острову. Из-за лыж и кольев поднялся в рост Оська Гора. Перепрыгнул через подвижную изгородь, впрягся и с ревом, как бык, поволок вереницу нарт к раскрытым воротам.
Среди ходивших на погром были помороженные и легкораненые, но все были живы. Федька Говорин взял на саблю осинского князца с женой и детьми. Казаки захватили трех мужиков.
Вечером в избе десятские рассказали, что встретили тунгусов и взяли у них вожей, а ночью с опаской пришли на стан князца Балуйки и решили идти на удар до рассвета. Балуйка с лучшими людьми засел в юртах и отстреливался, переранив с десяток служилых. Только к полудню юрты были захвачены, князца пленили, взяли много ясырей и скота. Но при отходе казаков догнали и окружили до сотни всадников. Пришлось засесть, огородившись нартами и лыжами. Скот и ясыри кроме тех, что привели, были отбиты. Чтобы не замерзнуть в степи, сделали гуляй-город и шли, отбиваясь от конных людей.
На другой день верхом на конях к острову подъехали три икирежских мужика. Спешились, присели на корточки, поджидая служилых. На переговоры вышел Иван Похабов с толмачом Мартынкой и Федькой Говориным, ходившим на погром.
Послы предложили мириться и привезли ясак, уверяли, что осенью казаков прогнали дайши сипугатских родов с другого берега Осы. Трех своих мужиков они выкупили. Князца Балуйку Похабов оставил заложником в зимовье. Жену и детей его отдал на выкуп.
— Какой мир без аманатов? — ответил на предложение выкупить и князца.
На том они сговорились и приняли от икирежей новую присягу. Раненые казаки остались в зимовье, бывшие зимовейщики сменили их в постромках нарт, и отряд двинулся дальше вверх по Ангаре. Оська Гора волок нарту за троих. Зато Пелагия шагала налегке, держась за ремни.
На другой день при ясной, солнечной погоде около полудня на пустынном берегу реки показался десяток всадников на сытых, ухоженных конях. Они не выезжали на лед и не скрывались, поджидая караван.
Похабов остановил своих людей в полете стрелы от них. С Мартынкой, Дружинкой и Федькой направился к берегу. Двое всадников в долгополых шубах спешились и помогли спуститься с коня третьему. В нем Иван узнал Бояркана. Тяжелой походкой конного человека князец двинулся к сыну боярскому. За ним следовали два молодца с луками за спиной и с саблями поверх тяжелых овчинных тулупов.
— Сайн байну, ахай! — вглядываясь в лицо Бояркана, весело приветствовал его сын боярский. Князец был в хорошем расположении духа.
— Сайн! — тряхнул сосульками на усах под горбатившимся носом. Блестели глаза под набухшими веками.
Он приказал своим молодцам, и те расседлали двух лошадей, принесли и расстелили на льду потники, на них положили седла. Князец и сын боярский сели друг против друга.
— Подарки царю привез! — Бояркан принял из рук своего молодца и бросил к ногам сына боярского кожаный мешок. — Не обманул нас, сделал крепость. — Добродушно ругнувшись, добавил: — Правильно сделал, что побил сипугат!
— Мы Балуйкиных мужиков зовем икирежами, — удивленно взглянул на Бояркана Иван.
— Сипугат яяр[245]. Моих коней воровали!
— Ну и слава богу, — перекрестился сын боярский, не приметив в лице князца неприязни. — Я думал, ругаешь: Похаба — яяр!
Бояркан сдвинул брови на широкой переносице и неожиданно рассмеялся.
— Бу мэдэе, а ши?[246] — удивленно взглянул на него Иван.
— У меня хороший абаралша, — с важностью заявил князец. — Он говорит, мои предки убили много твоих предков. Это было, когда они шли за солнцем, чтобы дать твоему народу наш закон. А я, в прошлых своих жизнях, много раз отрезал тебе голову… Хочешь со мной побывать в Нижнем мире? Мой абаралша сводит нас!
Иван усмехнулся в бороду, покачал головой:
— Оно, конечно, любопытно, да только наш Бог сильно не любит колдовства и ворожбы, гневается, если мы беспокоим мертвых!
Казаки возле нарт, на ветру, уже прыгали с ноги на ногу, толкали друг друга. Иван дал князцу ответный подарок и простился. Караван двинулся дальше в полуденную сторону.
Холодное солнце, белизна снега, блеск льда слепили глаза. Наконец ветер стал дуть в спины, подгоняя людей. Из одеял и лавтаков казаки соорудили паруса. Поскрипывая полозьями, нарты легко побежали по льду. Оська Гора, как пушинку, подхватил Пелагию на руки, усадил ее на поклажу нарт, а сам с молодецким гиканьем побежал в шлее.
Казаки и охочие люди прошли бесприютную степь. К берегам реки опять подступил лес, и снова они ночевали возле жарких костров на прогретой земле. Все их разговоры и помыслы были о весне, хотя даже до ее студеного начала, до Евдокии-свистуньи, предстояло пережить целый месяц.
Через неделю они подошли к знакомому повороту реки. Здесь ледяной покров был заметен рыхлым снегом. Утопая в нем до колен, Оська едва ли не на четвереньках волок в бечеве первую нарту. Сзади и сбоку ее толкали четыре казака. Другим в их колее двигаться было легче.
Сын боярский шел первым, тропя и указывая путь, высоко задирал гнутые концы лыж, внимательно осматривал берег, заваленный снегом яр и бор, кое-где подступивший к обрыву. Среди всей этой белизны Похабов не сразу разглядел веретено дымка, поднимавшегося в синее небо. Обрадовался: «Жив Герасим!» Вскоре увидел неподалеку от кельи, на яру, желтый крест. Заволновался. Побежал быстрей. Лыжи вязли в снегу. От частого дыхания оттаивали обледеневшие усы. С облегчением на сердце он вдруг остановился. По крутой тропе из кельи иод яром к нему спускался Герасим.
— Слава те, Господи! — махнул по груди сложенными перстами. — Ну, здравствуй! Здравствуй! Свиделись-таки! — сгреб монаха в объятья. — Что за крест возле кельи?
— Прибрал Бог Михаила, верного моего помощника, — в глазах отшельника блеснули невольные слезы. — Один теперь, — вздохнул и встрепенулся, смахивая с лица невольное уныние: — Господь со мной!
Подходили нарта за нартой, люди дышали тяжело, часто. Над ними висел пар. Те, что знали монаха, стали кланяться ему как старому знакомцу. Другие были наслышаны о старце, боязливо таращились на него, удивлялись просветленному лицу, чистым, ясным глазам.
— Зимовье цело ли? — спросил Иван. Он рассчитывал на ночлег в нем и на баню.
— Должно быть цело, — неуверенно пожал плечами монах. — Я там не был с тех пор, как Михайлу похоронил. Надолго? — спросил, оглядывая караван.
— За Байкал за ясаком! Нам бы дневку устроить да помыться!
Глаза монаха снова опечалились.
— Вот ведь! — вздохнул, опуская их. — А мне были знаки и сны. Думал, вещие. Колокольный звон опять слышал.
— Отписал я воеводе! — переминаясь с ноги на ногу, стал оправдываться Иван. — И здесь острожек нужен, и за Байкалом. А на Байкале, с этой стороны, без них никак нельзя.
Герасим, не слушая старого товарища, свесив голову, думая о своем, будто беседовал с кем-то невидимым.
— Федька, Дружинка! — окликнул Похабов десятских. — Ведите людей к острову, в зимовье. Грейтесь там, отдыхайте, баню топите. Я догоню.
Казаки разобрали постромки нарт. С гиканьем сорвали с места примерзающие полозья. Потащились через реку, оставляя за собой глубокую рваную борозду. Иван потоптался рядом с Герасимом, сочувствуя его кручине.
— Вашими с Ермогеном молитвами и наставлениями служу царям в Сибири уже тридцать лет. Недавно только прибавку к казачьему жалованью получил, — стал вдруг оправдываться. — Товарищи мои Перфильев, Галкин, Бекетов где только ни были первыми, а я до прошлого года все возле Енисейского толокся. Нынче сердцем чую: поставлю на Селенге острог, какую-то честь и славу перед Господом выслужу.
— Сердцем, говоришь? — насмешливо взглянул на сына боярского монах. — А почитай-ка Святые Благовесты? Сам Христос упреждал, кто нас через сердце прельщает! Он! Враг рода человеческого! — погрозил обнаженным перстом.
Иван постоял, смущенный своим откровением.
— Что читать? Так тебе верю! — пробормотал. — Отписал я воеводе все, как мы прошлый год говорили. Только не пойму: на кой здесь нужен город? Зимовье или острожек — другое дело. Самому бы тебе в Тобольский съездить! — напомнил напутствие енисейского старца Тимофея. — Вдруг и решится твое дело!
Монах ласково взглянул на сына боярского:
— Надо! С тобой и сплыву в Енисейский, — перекрестился, низко поклонился на восход. Добавил мягче: — Не для себя ведь прошу. Задолго до нас с тобой предрешено быть здесь городу! И будет! Придет время, кого надо Господь вразумит, с другого пути воротит. Что о том? Ладно уж, иди! Христос с тобой!
Стоянка на острове затянулась. Снова повалил снег. Казаки по наказу атамана времени не теряли, в метель навалили и натаскали бревен, укрепили зимовье тыном в полторы сажени высотой. Похабов решил оставить здесь часть ржаного припаса и двух захворавших служилых.
— Осталась бы? — предложил Меченке. — А то черная стала, тощая, в чем душа держится, — окинул взглядом осунувшуюся в пути женщину.
— Осталась бы! — со слезой в голосе отозвалась она. Шмыгнула носом, испачканным сажей. — Так он ведь без меня с тоски помрет! — кивнула на Оську.
— Помрешь? — строго спросил казака сын боярский.
Тот мигнул опечаленными глазами, глубоко вздохнул, помотал буйной головой и признался:
— Помру!
— Тьфу на вас, распутников! — выругался Иван. — Терпи тогда! Оську оставить не могу. Он мне на Селенге нужен!
Снова засияло ясное солнце, уплотнился снег. Похабов отвез в келью Герасима полмешка ржи и велел казакам готовиться к выходу. Собравшись в круг, они привычно сотворили молитвы Всемилостивейшему Господу, во Святой Троице просиявшему, Пречистой Богородице — заступнице за народ русский пред Его очами, да Николе Чудотворцу, всех сибиряков покровителю, да Илье пророку, да всем своим святым покровителям. Люди молча посидели перед дальней дорогой, затем взялись за бечевы пяти облегченных двухсаженных нарт и снова потащились по заметенному снегом руслу реки.
Чем дальше уходил отряд от кельи черного дьякона, тем чище становился лед, тем легче двигались нарты. На третий день, к полудню, задул в лица сырой ветер. Он нес по застывшей реке клочья облаков. Потом померкло солнце, стеной преградил путь влажный, колючий туман. Он висел над большой полыньей, раскинувшейся от одного скалистого берега до другого. Стаи уток плескались в черной, студеной воде, чудные, неземные звуки доносились со стороны Байкала. Пугаясь их, боязливо озирались путники.
По-медвежьи взревел вдруг Оська Гора. Казаки испуганно завертели головами. А тот, выпучивая глаза, указывал рукавицей в туманную глубь полыньи. Из воды высунулась черная усатая большеглазая морда и, пофыркивая, разглядывала людей. Потом чихнула, шевельнула ноздрями и скрылась, оставив над собой расходившиеся по воде круги.
— Дедушка! Или че? — крестился Оська.
— Дурак! — выругался Похабов. — Нериа это. Тебе же про нее рассказывали.
Нарты протащили вдоль скал по забережной наледи. Остался за спинами туман, и открылась ледовая даль Байкала с цепочкой гор на другой стороне. На этой белой бескрайней равнине великим множеством огней блистали и розовели в лучах заката отглаженные ветрами льдины.
Люди расселись на обледеневших камнях берега и завороженно смотрели вдаль, устало помалкивали.
— Вот ведь соблазн! — хмыкнул в бороду Похабов и окинул товарищей повеселевшими глазами. — Вдоль берега идти — это ведь только до култука дня три-четыре тащить нарты, да оттуда до Селенги с неделю, не меньше. А напрямик да при попутном ветре.
— Задень! — бесшабашно поддакнул Федька Говорин.
— Через Байкал даже чипогирцы на оленях не ходят, — неуверенно напомнил толмач Мартынка о том, что знали все. И тут же поправился: — А хорошо бы за день!
Как ни упреждал Похабов других и самого себя, вспоминая прошлогоднюю переправу через Байкал, а ночевать повел свой отряд в падь на восход солнца, где прошлый год стоял тунгусский урыкит.
Ночь ясно вызвездила небо. Крепкий морозец пощипывал щеки. Ветра не было.
— Если заночуем во льдах, что с того? — не унимался Федька. — Не на воде же, не утонем. Попостимся денек, зато на неделю раньше ясак возьмем и дальше сходим.
— Тиу-у! — опять запело в ночи ледовое поле, отзываясь многоголосым эхом с крутых гор. От причудливых звуков мурашки бежали по спинам путников. Меченка пугливо крестилась и вертела по сторонам красным носом.
— То ли ругается дедушка, то ли радуется? — перешептывались казаки и охочие люди.
— Лучше идти дольше, но возле берега! — с сомнением качал головой Дружинка. — Твердь она и есть твердь!
С ним соглашались, но мало кому хотелось тянуть нарты лишнюю неделю. Казаки отбрехивались от разумных слов десятского, вспоминали тяготы перехода по реке.
Тихим и морозным февральским утром, едва забрезжил рассвет, все были готовы к выходу. Дымы костров тянулись к небу. Ясно высвечивался другой берег с очертаниями гор. И был он так близок, что даже Дружинка засомневался: стоит ли обходить Байкал возле берега.
Сын боярский вздохнул, перекрестился на восход, сиплым голосом призвал Илью пророка помочь удержать погоду доброй, а небо ясным.
— «Радуйся, Никола, великий Чудотворче!» — запели казаки, выбирая себе путь и судьбу. Заскрипели полозья нарт по гладкому льду. Сын боярский шел первым с пешней в руке. Лед был крепок. Время от времени он начинал петь неслыханными звуками, ухать шаманским бубном. Похабов опасливо оглядывался, задирал бороду, напрягая жилы на горле, старался перепеть эти чудные звуки верными молитвами, но его слабый голос жалко терялся в бескрайней ледовой равнине.
На пути отряда то и дело вставали льдины, торчавшие в рост человека и выше. Похабов обходил их, уклоняясь к восходу, к Селенге. Иной раз через заторошенные поля приходилось прорубаться топорами и протягивать нарты. Путники снова выходили на чистый лед. Иной раз он был так скользок, что разъезжались ноги в ичигах и сарах, легкий порыв ветра нес куда хотел и нарты, и раскоряченных людей.
Слава богу, ветер дул с полуночной стороны, в спины идущих, не сильно сбивал их с пути. Но скользкая гладь перемежалась снежными сугробами с настом, в который путники проваливались до колен и опять, напрягаясь, протаскивали нарты бечевой.
Покрылся дымкой и пропал в ней берег. Потом исчез другой. Синее небо стало затягиваться тучами, а недавно блестевшее, ясное солнце становилось красным и круглым. Вскоре оно потемнело, как каравай ржаного хлеба, размазалось по тучам, как раздавленный яичный желток. На лицах казаков появилось беспокойство.
Во второй половине дня солнце и вовсе пропало. Люди шли по ветру, то и дело прорубаясь сквозь поля торчковых льдов. Незаметно стали подступать сумерки. Самые отчаянные и удалые уже смирились с тем, что к ночи до берега не дойти и скоро надо будет устраивать ночлег.
Шли, пока были силы. Меченка лежала на нарте вниз лицом, заботливо укутанная одеялами. Но вот стал спотыкаться даже неутомимый Оська Гора. Передние нарты снова уткнулись в торосы. Люди сбились в кучу вокруг атамана.
— Видать, испытывает Господь! — шепеляво пробормотал он выстывшими губами.
— Тяжкая будет ночь! — тихо всхлипнул кто-то. — Кизяка — и того нет.
— Тяжкая! — согласился сын боярский. — Но пережить можно. — И приказал: — Руби лед, строй стены, чтобы укрыться от ветра.
Звезд не было. Наверное, только к полуночи едва живые от усталости люди сложили из льда стены, накрыли их лыжами и лавтаками, залезли под низкий кров и прилегли на нартах, кутаясь в шубные кафтаны, меховые одеяла. Вскоре Оська Гора сладко всхрапнул.
— Ему что? — завистливо проворчал Федька. — Баба за пазухой греет.
— Самой бы отогреться! — огрызнулась из тьмы Меченка.
— По одному замерзли бы, — зевая, пробурчал Похабов. — Скопом переживем и эту ночь.
Пел и вздрагивал в ночи лед. То утихал, то снова подвывал ветер.
Среди ночи повалил снег, лавтаки обвисли. В ледяной избе стало тепло. Перед самым рассветом тускло вызвездило. На сереющем небе вблизи от стана обозначилась темная гряда гор.
— Всякое разное видел, — бормотал Похабов, зевая и крестя рот, — но чтобы погода менялась по много раз в сутки. Дойдем до леса — доспим!
Он скинул одеяло и встал первым, постанывая от болей в костях. Распрямился, сбросил лавтак с крова, огляделся по сторонам. За ним неохотно поднимались согревшиеся к утру люди.
Какими близкими ни казались горы, а по рыхлому снегу подошли к ним только к полудню. Скалистый берег круто вздымался изо льдов. Отряд пошел вдоль него на восход до первой пади. Едва живы от усталости, после бессонной ночи, после двухдневного перехода без горячей еды и питья, казаки наконец развели костры.
— Как знать… — покаянно ворчал Похабов, отогревая руки. — Может быть, вдоль берега, через култук, и быстрей бы дошли.
— Не быстрей, так легче! — с обидой хлюпнул носом Дружинка. — Говорил же!
Вдоль берега, под высокими горами, они шли еще день. Наконец хребет стал ниже и отступил ото льда. Люди, бывшие на Селенге в прошлом году, начинали узнавать застывшие протоки и длинные, узкие острова, гадали, те ли это места, спорили, на какую из многочисленных проток их выбросило в прошлом году.
Переночевал отряд на острове в сухом осиннике. Утром сын боярский выслал вперед ертаулов, чтобы узнали, где зимуют браты шертовавших им родов. Те вернулись к вечеру, никаких людей не встретили. Другим утром половина отряда разошлась искать станы.
С радостной вестью вернулся Федька Говорин: он нашел братов в стороне от реки, в долине у гор.
— Скопом живут! Десять юрт в долине, — стал бойко рассказывать, как подойти к их стану.
— Послов отправим? — засомневался сын боярский. — Или все разом пойдем? Вещует сердце — не дадут нам ясак добром!
После перехода по льдам его люди успели отдохнуть и отъесться. Пора было приниматься за дело, ради которого тащились от самого Братского острога. На рассвете, помолясь Господу, казаки вышли всем отрядом с пятью нартами и с бабой.
Евдокия-свистунья только обещала потепление. При крепком морозе ярко сияло солнце, распушив перья, скаредно тараторили сороки и носились над идущими.
До слез печаля Оську, Пелагия едва переставляла ноги, стонала и охала, в голос молилась, прощаясь с многогрешной жизнью. Казаки шикали на нее, чтобы не гневила Бога и не пугала весны. Она же плелась в конце обоза, держалась за нарты, смахивала слезы и хлюпала носом.
С братского стана отряд был замечен за три-четыре полета стрелы. Казаки не услышали даже лая собак. Из долины с желтой заснеженной травой навстречу им выехали до полусотни всадников с луками и пиками. Казаки поставили нарты поперек их пути и взялись за ружья. Иван Похабов повесил на один бок саблю, на другой — патронную сумку, перепоясал их шебалташем, начальственно приосанился, выходя вперед.
Всадники пристально разглядывали пришельцев. Сын боярский с толмачом сделали к ним десяток шагов, остановились.
— Не узнаю прошлогоднего князца и его людей! — проворчал Иван. — У тебя глаза острей, моложе. Гляди!
— То ли те, то ли не те? — замялся Мартынка, напуская на себя важный вид. Вздувая жилы на шее, стал говорить жалованное государево слово, напомнил, что прошлый год здешние мужики клялись дать ясак за два года разом.
Всадники в лучших одеждах на хороших конях переглянулись, заспорили между собой. Дородный молодец в пышной шапке из рыжих лис, постегивая горячего конька, поднял его на дыбы, развернул на месте. Выгибая шею дугой, прядая ушами и перебирая копытами, жеребец неохотно, боком, придвинулся к послам. Князец приподнялся в стременах, выдернул из-под себя кусок вышарканной волчьей шкуры, бросил ее к ногам сына боярского.
— Абатты![247]
Дружинка дал залп из десяти стволов. Пелагия пронзительно завизжала. Испуганно заржали кони. Оська Гора, услышав вопли Меченки, разъярился, выскочил из Федькиного ряда, схватил за хвост того самого жеребца, который подъезжал к Похабову, и повалил его на землю вместе с всадником.
Браты отхлынули, не вступая в бой, неспешно, рысью, откатились в обратную сторону, к стану. В руках казаков остался только мужик в лисьей шапке и его конь.
— Вернутся! — хмуро взглянул на пленного сын боярский. — Засеку надо валить!
И сидели казаки в засеке три дня. Ветер доносил до них запах дыма с братского стана, приглушенный лай собак. Похабов раз и другой посылал ертаулов посмотреть, чем заняты селенгинцы. Те возвращались, говорили, что видели: возле юрт мужиков до ста. Жгут костры, пируют, бегают с места на место, валят и тешут деревья.
Пелагия целыми днями сидела возле огня в тяжелом тулупе ясыря, шмыгала носом, печально глядела на угли. Со слезами и стонами беспрестанно молилась. Оська, под насмешки товарищей, шил ей душегрею из лисьей шапки. Его ясырь с толстой черной косой подрагивал от стужи в шубейке Меченки, которую с треском натянул на широкие плечи.
На вопросы толмача он отвечал кратко и презрительно. Грозил, что всех казаков скоро перебьют. О ясаке и о прежних обещаниях ничего вразумительного не говорил. Казаки спорили и сомневались: этих ли братов приводили они к присяге?
Похабов угрюмо сидел у костра, думал. Грешные помыслы томили его душу. В краю, где по прежним своим молитвам он был первым, почувствовал вдруг, как все это ему надоело: ясак, ясыри, засеки, воинские стычки. Лежать бы на печи рядом с Савиной, слушать, как весенний ветерок перебирает дранье крыши, как чирикают пташки.
Он тряхнул головой, отмахиваясь от соблазнов. С горькой усмешкой подумал: «Вот она, старость! Не обходит стороной».
На другой день около полудня со стана донесся шум. Вместо конных мужиков, которых ждали, из пади выползали щиты из бревен, поставленные на полозья.
— Вот ведь, исхитрились! — удивленно прорычал сын боярский, сбивая шапку на ухо.
Он велел подпустить идущих на выстрел. Щиты двигались медленно, скрипели тяжелыми полозьями по камням и сухой траве. Мужики толкали их плечами, продвигали, подсовывая под них концы пик вместо рычагов. За каждым щитом укрывалось до трех десятков воинов. Замыкающие шли пригнувшись, с луками в руках. Едва они приблизились на выстрел, начали осыпать засеку стрелами.
Прогремел залп из десятка стволов. Со щитов полетела щепа, но они даже не приостановились.
— На саблю брать придется! — крикнул Похабов десятским.
До засеки оставалось шагов двадцать. Из-за щитов так часто осыпали стрелами, что не давали высунуть голов из укрытия. По знаку атамана Дружинка со своими казаками дал другой залп. В тот же миг два десятка казаков и охочих выскочили из засеки с саблями и топорами.
Селенгинцы усвоили казачьи уроки. По их повадкам можно было понять, что это они нападали на засеку в прошлом году. Воины не бросались на казаков поодиночке, но, выставив пики, ощетинились отточенным железом. За ними лучники толкались между собой и мешали друг другу стрелять. Некоторые из них взбирались на щиты.
В выставленные пики с визгом врезался Федька Говорин с саблей в одной руке и топором в другой. Он провернулся юлой, сломал строй, оказавшись в середине вражеской толпы. Копейщики вынуждены были бросить пики, схватились за сабли, ножи и дубины.
Порядок был разрушен. Непривычные к пешему бою, кочевники замешкались, стали озираться, боясь ударов со спины. С десяток лучников отпрянуло к стану. За ними побежали другие.
— Вяжи лучших мужиков! — кричал Похабов, размахивая саблей. Бил с пощадой, без злобы, стараясь не убивать и не увечить. Чтобы не впасть в ярость, не сбиться в дыхании, сипло в голос читал псалом «Живый в помощи».
Десятка полтора раненых и сбитых с ног мужиков ползало возле щитов. Столько же было связано. Остальные неспешно убегали, подстрекая казаков к погоне.
Отдуваясь и стирая пот с лица, Похабов обошел место боя. Убитых было пятеро.
— На все Божья воля! — перекрестился. А грудь его вздымалась и вздымалась, гулко колотилось о ребра сердце, стучала в ушах кровь.
Федька Говорин с пьяными глазами уже гоготал и ругал кого-то из своих, ссыльных, казаков. Те снимали с раненых и убитых куяки, латы, поручи, собирали луки и пики.
«Догнала, собака, старость!» — опять подумал сын боярский, задерживая дыхание. Завистливо поглядывая на молодых, снова горько посмеялся над собой: «Намолил Господа! И пора для подвига пришла с запозданием».
— Раненых — отпустить! — распорядился. — Пусть сами лечатся. Мертвых отдать без выкупа. Ясырей держать!
Перелез в засеку. Меченка, нахохлившись, согнулась над затухающим костром. Из ее тулупа торчало две братские стрелы. Она подняла на бывшего мужа отчаянные глаза. Веки набухли, сажа въелась в кожу и обозначила паутинку морщин.
— Тоже стареешь! — сочувственно кивнул ей Иван. — Не хочешь обратно в Енисейский, к дочери и внукам?
Пелагия опустила глаза, безмолвные слезы покатились по щекам, зашипели на углях. Первый ясырь в ее шубейке сидел, как живой, привалившись к порубленному комлю лесины. Из горла его торчала поющая стрела с отверстиями в наконечнике.
Пришлось ждать еще три дня, прежде чем пришли мужики со стана, забрали мертвых, выкупили половину ясырей, неприязненно дали ясак, но не за два года и не со всех нападавших. Обещали доплатить осенью.
Отряд двинулся вверх по хрусткой наледи реки. Липкий снег под ногами мешался с мокрым льдом. Полозья нарт обмерзали, облипали. Ноги то и дело мокли, приходилось часто сушиться у огня. Вот и подступила весна. Теплело с каждым днем.
Долина реки становилась все тесней. Все ближе к ней подступали горные хребты с просторными долинами. В начале апреля по льду весело побежали ручьи. Еще три раза казаки рубили засеки, воевали и брали ясырей. На Святую Пасху Господню они сидели в обороне и ждали послов.
С тех пор как отряд Ивана Похабова пришел на Селенгу, был месяц непрерывных войн. Он будто въелся в лица казаков. Заслышав об их приближении, браты уходили от реки в горы. Как ни трудно было в это время выпасать там сводные стада скота, собирались в полки по пятьсот — семьсот мужиков. Над послами смеялись: много, дескать, шляется по земле всяких охочих до ясака. Нападали они непрестанно, выманивая казаков из засек на открытые места.
Однако праздник есть праздник. Хоть и трудна походная жизнь, к нему загодя было поставлено пиво. Казаки резали отбитый скот. Сами ели досыта и ясырям велели отъедаться. Но веселье было вынужденным: песни замолкали на середине, пляски затухали, едва стоило им начаться.
Как ни старался Иван Похабов показать своим людям, что весел и беззаботен, что без оглядки полагается на волю Божью и Его милость, скрыть своих тайных дум не мог и он. О чем думали другие люди, шутками да намеками обмолвился толмач.
— Кто у кого в заложниках? — говорил и боязливо оглядывался на пленных, заискивающе перебрасывался с ними словами. — Обещают меня, болдыря, повесить первым! — кривил губы с ниткой усов на губе. — И не за шею, а за пест.
Все чаще роптали казаки:
— Двенадцатую неделю в пути. Хлеб кончается. Байкал вскроется, куда пойдем с такой оравой ясырей?
То, что пленники осмелели, замечали все. Хоть и были они из рабов, из сирот да из захудалых родственников, за которых браты не давали выкуп, но слабость пленивших их казаков видели. И это больше всего беспокоило Ивана Похабова.
На преподобного Иоанна Ветхопещерника его отряд повернул в обратную сторону. Берег Байкала был сух, лед возле него порист и крепок. Нарты легко заскользили на закат. Ясыри неторопливой толпой брели следом за ними и вели неподкованных лошадей, елозивших копытами по льду. В пути до байкальского култука эти кони были съедены.
Глава 12
Хорошо зажил Угрюм после ухода казаков: Нарей не приходил, мунгалы не появлялись, промышленным людям он говорил, что поверстан в государеву пашню, и выходил к их стругам с важностью служилого человека. И они уже не требовали, не угрожали, как прежде, но одаривали соболями, с почтением выспрашивали, где казачьи заставы и как их обойти.
Сошел снег с гор, оттаяли озера и болота, набух, почернел лед Байкала. В прежние годы в это время Угрюм сам ходил бить нерпу, теперь отправил на промысел старших сыновей с ясырями. И вот беда, не ко времени припекло солнце, дрогнул, просыпаясь, Байкал. За четверть версты от берега черной трещиной разорвался лед.
Засуетился Угрюм, забегал, поглядывая из-под руки на едва видимых с берега коней и людей, поджег копну сена. Черный дым поднялся в синее небо, поторапливая нерповщиков. Сам он, на лыжах, побежал смотреть трещину. Она оказалась в сажень шириной, края еще не крошились, но час от часу все сильней начинали расслаиваться на острые ледовые иглы.
Нерповщики увидели дым и повели к берегу запряженных в сани коней. Угрюм прибежал домой, кликнул жену и ясырок, вместе с ними стал таскать к трещине доски, которые всю зиму распускал для стругов. В суете дня он не заметил, что с полуденной стороны, под крутым берегом, муравьиной цепочкой приближаются пешие люди. И было их человек сто.
Подвода, груженная битой нерпой, осторожно подошла к трещине. Сыновья остановили коней в двух десятках шагов от нее. Первуха, выстукивая вокруг себя лед лыпой, подошел к воде.
— Разгружай сани! — бегая по краю, закричал Угрюм. — Коней спасай!
Ясыри с перепуганными лицами стали сбрасывать на лед нерпичьи туши.
Угрюм с женой и ясырками перебросили через трещину доски. Сыновья с другой стороны стали молча помогать налаживать переправу. Все они то и дело оглядывались на приближавшихся людей.
Коней перевели через настил, оставив в санях только четыре туши. Десяток окровавленных зверей осталось на льду. Угрюм велел ясырям довести груз до берега и поскорей возвращаться с нартами. Но они, добравшись до суши, бросили коней и сани. Ни крики, ни угрозы хозяина не могли заставить их вернуться на лед.
Угрюм опять затравленно обернулся к людям, шедшим возле берега, разглядел одетых по-русски. Они остановились возле устья разлившейся по льду речки. Полтора десятка мужчин надели лыжи и пошли в обход разлившейся воды. Другие двинулись прямиком к бору, в сторону дома.
— Дядька! — крикнул Первуха.
Солнце слепило. Угрюм прищурился, вглядываясь в идущих на лыжах, узнал братана, облегченно вздохнул и перекрестился.
Казаки помогли переправить через трещину битую нерпу. Лицо брата было черным от солнца и ветров, глубже въелись морщины.
— Куда тебе столько? — спросил, кивнув на туши.
— Как куда? — залопотал Угрюм, отдуваясь после трудов. — Жир топить, сапоги шить. — Мои, — кивнул на сыновей, — сало и мясо едят. Что останется — отдам тунгусам. Доски, доски забирай! — прикрикнул на Первуху со Вторкой. — Это на струги, что ты заказал, — сиротливо заглянул в изможденные глаза брата.
— Не сделал еще? — равнодушно упрекнул тот и устало приказал: — Корми давай нас, баню топи! Отдыхать будем.
Сыновья побежали за брошенной подводой. Угрюм с казаками заковылял к дому. Возле двора толпилось так много народу, что он растерялся, не зная, за что хвататься. Надо было шкурить и разделывать добытых зверей, таскать воду, топить баню, варить еду. Угрюм опустился на крыльцо, обхватив голову руками, затравленно спросил брата:
— Что делать?
Иван присел на другой стороне крыльца, стал неторопливо распоряжаться: десяток ясырей под началом казака послал в помощь племянникам таскать, шкурить и разделывать добычу, другим велел топить баню. Казаки развели костры у речки.
— Покажи, какого бычка заколоть! — приказал Угрюму. — Да скажи своим бабам, чтобы сперва накормили ясырок и детей!
— Сколько их у тебя? — неохотно поднялся Угрюм, оглядывая пленных.
— Семь десятков! — процедил сквозь зубы сын боярский, поторапливая брата начальственным взглядом.
Толпа нежданных гостей схлынула через два дня. В тесном доме стало тихо и просторно. Угрюм, опираясь на посох, оглядывал двор, ворчал, постанывая:
— Бузар[248]. Истинный бузар!
Покрикивал на разленившихся ясырей, путая русские, тунгусские и бурятские слова, грозил:
— Отдам нойон бабаю! Пусть сам правит своими чибарами[249]. Мало проку от таких работников!
Вся прежняя спокойная жизнь казалась ему перевернутой и разворошенной. Старшие сыновья ушли с отрядом, Третьяк тайком сбежал следом за ними. В благодарность за хлеб-соль сын боярский строго предупредил:
— Чтобы струги были готовы через две недели! А мы начнем острог ставить! — кивнул на закат, за Шаманский мыс.
«Коровы телятся, шкуры мездрить, рыбу вялить, огород опять же, — про себя укорял брата Угрюм. — Столько домашней работы, а он всех ясырей забрал. Нет бы здесь оставить с десяток в помощь».
Сыновей не было всю неделю. Угрюм ходил к седловине мыса, глядел на другой берег култука. Там, под горой, дымили костры, виднелся поваленный и ошкуренный лес. Место Иван выбрал с умом, в стороне от долины, продуваемой лютыми ветрами, защищенное горой. И устье речки, откуда выходили струги с волока, было у них на виду.
Вскоре ветра разбили и унесли байкальский лед. Зазеленела трава. Из болот высунулись мелкие, нераскрытые головки кувшинок. Еще не появился в тайге овод, а князец Нарейка без всякой надобности пригнал на побережье свой скот. Угрюм со страхом подумал, что в долине опять начались стычки из-за пастбищ и соседи вытеснили его.
Еще в позапрошлом году, до прихода казаков, Нарей заказал ему выковать подвески для дочери-невесты. Дал слиток серебра в две гривенницы, зарезал барана ради уговора. И вот он явился нежданным, когда Угрюм не сделал струги казакам.
Князец поставил юрту за мысом и вскоре по лесной тропе приехал к Угрюму с сыном. Он узнал Нарея издали по тучному телу, а сына — по шапке, шитой серебром. Двое подъехали к его дому. Хозяин распахнул калитку. Ясырки по его наказу стали раздувать чувал и готовить излюбленный здешними братами напиток из трав, запаренных в молоке.
Толстую черную косу князца будто присыпали мукой. Волоски на подбородке и в уголках губ совсем побелели. Оттягивая разговор о серебре, Угрюм мысленно подбирал слова оправдания, суетился, поторапливая ясырок. Гости сидели на расстеленной медвежьей шкуре, терпеливо и с достоинством пережидали хозяйские хлопоты. Из дома вышла Булаг, наполнила горячим отваром чашки. Тихо приказала мужу по-русски:
— Сядь! — И налила ему самому зеленовато-серого топленого молока с травами.
Он послушно сел, склонил голову набок, внимательно разглядывая пар над чашкой. Нарей вскинул на него полузакрытые набухшими веками глаза. Взгляд их был свеж и плутоват.
— Серебро твое я сохранил! — оправдался Угрюм, подергивая плечами. — Сделал самую трудную работу, но казаки приехали. Пришлось все спрятать, чтобы не отобрали.
Нарей равнодушно качнул головой. Можно было понять, что про серебро он не думает.
— Нужда привела! — глубоко вздохнул, и Угрюм почтительно насторожился. — Весной приезжали мунгалы с другой стороны гор. Сами на конях высотой с дерево, шапки что твои копны сена.
Угрюм, пропуская мимо ушей обычные для бурят преувеличения, понял, что мунгал было много.
— Не буду говорить, что забрали! — опять сипло вздохнул князец. — Приказали моим сыновьям на своих конях, с пиками и с саблями служить их царевичу в войне с другими мунгальскими царевичами.
Нарей опять печально помолчал, отхлебнул из чашки, почмокал губами, снова бросил на Угрюма плутоватый, испытующий взгляд:
— Старики говорят, что и в Нижнем мире есть дверь! — растянул уголки губ в усмешке. Спросил вдруг: — Если бы я давал ясак казакам, мунгалы бы меня не грабили?
— Наверное, не грабили бы! — пожал плечами Угрюм, не вполне понимая, что кроется за этими словами. Добавил уклончиво: — Мунгалы нынче с казаками не воюют. Промышленные говорили, между царями-хаанами мир.
— Цари да хааны далеко, — опять вздыхая, покачал тяжелой головой Нарей. Повертел стынущую чашку в руках. — Казаки крепость сделают, тебя защитят. От меня они далеко. Если здесь, рядом с ними, жить — защитят, но здесь выпасов мало, — снова впился цепким взглядом в Угрюма.
Младший сын Нарея почтительно молчал, то опуская немигающие глаза, то переводя их с одного старика на другого.
— А как узнают мунгалы или дальние родственники, что я даю ясак казакам? — спросил Угрюма Нарей и сам же ответил: — Весь мой улус ограбят и перебьют. Меня конями разорвут.
Опять Угрюм не нашелся что сказать, чем утешить своего давнего соседа.
— Проживу здесь с месяц! — продолжал рассуждать князец. — Дам ясак казакам. Скот траву съест, все равно вернусь в долину. Казаки не поедут меня охранять. А мунгалы побьют!
— Побьют! — согласился Угрюм. — Кто не успеет к казакам прибежать, тому будет плохо.
— И я так думаю! — кивнул Нарей и непонятно чему рассмеялся. — Но есть одна хитрость, — смежил глаза в две щелки. — Казаки пришлют своих людей за ясаком, а я ясак не дам. А ты скажи им, чтобы шли войной на мой улус, чтобы меня взяли в аманаты. Никто из моих людей не пустит в них ни одной стрелы, но все увидят и узнают, что нас заставили покориться.
Нарей глядел на Угрюма прямо, пристально и насмешливо, похваляясь, какой он умный князец и как заботится о своем народе.
Над Угрюмом будто гром грянул: дошло наконец, что теперь он и для Нарея не безродный зайгуул, а уважаемый поселенец. От этой мысли спина его распрямилась, шея вытянулась. Выдержав паузу, он ответил задумчиво и коротко:
— Заа![250]
Гости и этим были вполне довольны. Помолчав для пущей важности, добавил мягче:
— Поговорю! Думаю, казаки меня послушают! Два моих сына служат у них в крепости! — Так и рвались с языка мстительные слова, что главный казак — его брат. Но до поры об этом говорить не стоило. У Братского острога тоже были крепкие стены!..
Нарей с сыном уехали, князец даже не вспомнил про серебро. Можно было понять, что оно оставлено в подарок. На другой день Угрюм оседлал коня, набил седельные сумки коровьим маслом и сушеным творогом, поехал повидаться с сыновьями. Он пустил коня не по лесной тропе, а вдоль берега. Перевалив через седловину Шаманского мыса, увидел поставленные квадратом стены острожка, многочисленные стада и табуны Нарея, пасшиеся по берегу култука.
Острог был чуть больше промышленного зимовья, но высота его стен издали указывала, что здесь осели люди государевы, и надолго. Казаки и ясыри копали ров вокруг стен, таскали тесаные бревна с горы. Ворот еще не было, а внутри, за тыном, только наполовину поднялась изба. Баню на самом берегу уже накрыли. А жили под стругами и в балаганах.
Сыновья высмотрели отца, босые, простоволосые, в кожаных рубахах без опоясок пошли ему навстречу. Лица их были разгорячены работой, на лбу поблескивали капельки пота. Угрюм не помнил, чтобы они когда-нибудь так трудились по дому, и кольнула сердце обида: «Для кого всю жизнь старался?»
Сыновья подхватили коня под уздцы, помогли отцу спешиться, не доехав до острога, будто стеснялись его приезда. Присели рядом с ним. Вторка тут же запустил руку в суму и набил рот сухим творогом.
— Нет атамана! — пояснил Первуха. — На гору полез. А ты чего?
— Чего-чего? — обидчиво укорил старшего сына отец. — Заскучал по вам! — Раздраженно посопев, спросил: — Десятский-то есть какой?
— Федька! — ответил сын и тут же спросил, метнув на отца опасливый взгляд: — Ты струги сделал?
— Это который горластый? — спросил про Федьку, не ответив на вопрос. — А другой, Дружинка?
— С атаманом ушел! — опять коротко ответил Первуха. — Что хотел-то? — переспросил совсем непочтительно. — Если струги не готовы, атаман гневаться будет.
Покряхтев, повздыхав, Угрюм рассказал сыновьям о встрече с князцом Нареем.
— Передам! — пообещал Первуха и тоже запустил руку в суму с творогом.
— Голодаете, поди? — посочувствовал отец.
— Не! Рыбы много! — прошепелявил набитым ртом Вторка. Вскочил на ноги.
— Я отнесу казакам? — потянул масло и творог.
— Отнеси! Только сумки верни, не помогал, поди, шить да кожи выделывать! — проворчал отец.
— Не ходи в острог! — посоветовал старший сын. — Там ссыльные из вольных казаков. Они на слова злые. Еще обидят ненароком.
Возле балаганов курились костры, доносились гортанный говор, детский смех и плач, пахло печеной рыбой и мясом. С черным чугунным котлом к воде пошла русская баба. Угрюм узнал ее еще в своем доме, когда заявились казаки с ясырями, но тогда ему было не до разговоров. Обиженный на сыновей, он внимательно поглядел на женщину и окликнул ее с принужденным смехом:
— Другой раз, может быть, проходишь мимо судьбы, красавица!
Пелагия обернулась. Внимательно посмотрела на пашенного, хозяина дома за мысом. Кивнула.
— Не признала! — язвительно усмехнулся Угрюм. — А я ведь тебя замуж звал в Енисейском. Богатый тогда был, знать не знал ни Байкала, ни своей доли.
— Угрюмка, что ли? — удивилась женщина. — А я все думала, где видела тебя? Переменился! Медведь, говорят, подрал?
Пелагия замедлила шаг, удивленная встречей. Угрюм не заметил в ее лице ни сожаления о прошлом, ни желания поговорить.
— Нам работать надо! — Вернулись Первуха со Вторкой и стали навешивать пустые седельные сумки на отцовского коня.
— А мне не надо? — проворчал Угрюм. — По дому дел — рук не хватает. А вы тут. На дядьку все! — вставил левую ступню в стремя, поелозил правой ногой по вытоптанной траве. — Подсадите хоть, помощники!
— Ты, батя, не ругайся! — отряхивая штанины, пробурчал Первуха. — Хочешь, чтобы по дому помогли, — присылай сюда дядькиных ясырей.
Угрюм крякнул, сердито мотнув головой. Не нашелся, что ответить. Выругался, поддав коню пятками под бока. Голоса, перестук топоров, конь ли всхрапнул, почудилось вдруг, кто-то за его спиной пробормотал по-бурятски:
— Сам ты скряга, и масло твое из коряги!
Угрюм обернулся. Сыновья быстрыми шагами удалялись к острогу.
На обратном пути он заехал к Нарею, выпил молочной водки, поел баранины. Когда остался с князцом наедине, сказал, что передал его слова главному казаку, никто другой не слышал их разговора.
Домой Угрюм вернулся с двухлетней телкой в поводу и пустил ее в свое стадо. Он оглядел остовы стругов и велел ясырям тесать доски, копать березовые корни, собирать смолу с лиственниц. Вместе с ними несколько дней работал с утра до вечера, и, когда пришли посыльные из острога, струги были почти готовы. Не было только весел, но это пустяки. Их быстро вытесали вшестером. Просмолили и пустили суда на воду.
Как ни выспрашивал Угрюм казаков, отчего атаман не прислал к нему сыновей, внятного ответа от них не добился. Понял только, что Иван ходил войной на Иркут и брал племянников толмачами. Кого он там пленил и подвел под государеву руку, казаки отвечали путано. Надо было проверить, дошли ли до атамана слова о Нарее.
Острог крепчал. Уже были навешаны крытые драньем ворота. Со стороны долины и под горой в один ряд были поставлены надолбы. Возле острога паслись стреноженные и оседланные лошади. За надолбами на чурках, на земле и на корточках сидели кружком братские мужики и казаки. Полдесятка служилых подошли к воде, подхватили и вытащили на отмель струги.
Как свой человек Угрюм пошел следом за встречавшими, опустился на корточки между казаками и братами. В середине круга важно восседал сын боярский при сабле. По правую руку от него сидел князец Нарей. Он был слегка пьян, важен и исполнен достоинства. Первуха со Вторкой прохаживались между казаками, братами и весело толмачили, то и дело поправляя друг друга.
День был солнечный, с моря веяло прохладой и прелью трав. Угрюм прислушался. Браты в камчатых халатах и островерхих шапках лениво торговались о выкупе своего князца. Нарей хмурил брови, надувал губы, позвякивал цепью, которой был скован, и делал вид, будто обижен тем, что родичи так мало его ценят.
Сын боярский степенно переводил глаза с одного говорившего на другого, наконец отрезал:
— Всем будет лучше, если Нарей останется в остроге почетным аманатом. Такой мир надежный!
Он сказал так, и послы как будто забыли о князце, стали оживленней торговаться о ясаке. Иван требовал по десять соболей в год с каждого взрослого мужика. Они же, напирая на то, что сами рухлядь не добывают, а покупают у тунгусов, торговались на пять добрых, черных. Сошлись на семи.
«Я бы и пятнадцать давал, — с тоской подумал Угрюм. — Лишь бы меня никто не трогал и не мешал бы жить». В этих местах скот и кони ценились дороже, чем в балаганской степи.
Браты дотошно выспрашивали, где будут жить казаки и как часто станут наведываться в их улус. Спрашивали, по какому закону станут судить. Поскольку одни и те же вопросы они задавали много раз, казаки сердились. Нарей тоже устал от переговоров, объявил сородичам, что обо всем узиает и скажет родне, а за них будет стоять крепко и готов пострадать.
Главный разговор был закончен. Федька Говорин пронзительно свистнул. Из балаганов и из острога бабы и девки-ясырки понесли угощение. Они стелили на траве кожи, выставляли на них котлы с мясом, принесли бочонок с ягодным вином, тот самый, который Иван забрал у Угрюма.
Сыновья подошли к отцу. Исполненные важности, присели рядом с ним.
— Когда вернетесь? — тоскливо спросил он.
— Толмач Мартынка хворает! — Первуха взглянул на отца со скрытой насмешкой и снисхождением. Тому неприятно бросилось в глаза, что его сыновья становятся похожими на брата, даже чужая, бурятская кровь не могла скрыть породы.
Сын боярский после заздравной речи отхлебнул из братины и послал ее Угрюму, минуя своих десятских: польстил брательнику и племянникам, не погнушался прилюдно показать родство. Но поговорить с ним так и не удалось. Да и не о чем было говорить.
Стал желтеть лист на березах, и сыновья вернулись домой. На озерах ярко отцветали кувшинки, огромные стрекозы, поблескивая прозрачными крыльями, носились по двору. Первуха со Вторкой пришли пешком по тропе. На боку у старшего висела кривая богдойская[251] сабля.
И вот они по-хозяйски сидели за столом, где собралась вся большая семья Угрюма, с женщинами, работниками, детьми, с ясырями и ясырками. Молодая девка, купленная у казаков, была уже от кого-то брюхата. Первуха со Вторкой смеялись — явно не их грех, весело лопотали с матерью и бабкой, изредка бросали русское словцо отцу.
Едва все насытились, оба сына соскочили с лавки, как с шила.
— Ну, батя, показывай, что делать? Помочь пришли!
— Работы всегда много! — уклончиво ответил Угрюм. «Не проведете, волчата! — подумал, пристально вглядываясь в лица сыновей. — Что-то вам понадобилось, иначе бы не пришли».
Вскоре Первуха вынул из ножен саблю с переломленным клинком.
— Можно сварить? — спросил отца.
Угрюм, подслеповато отстраняясь, долго разглядывал заржавевший слом, потом признался, что прочно сварить клинок не сможет.
— Могу нож отковать или в тесак вытянуть!
Он подумал, что затем только и понадобился сыновьям, но они на совесть работали при хозяйстве три дня: возили к дому сметанные ясырями копны сена, скирдовали, починили крышу у бани. Угрюм подобрел, заленился, восчувствовав себя главой семейства, стал поговаривать, что дом тесен и надо бы зимой навалить леса на другой.
— Ты на нас-то не рассчитывай! — пробубнил Вторка, узкоглазо зыркая на брата и призывая его в поддержку. — Мы в зиму на службу уйдем!
Строить дом сыновьям явно не хотелось.
— Какая такая служба? — заспорил Угрюм. — Мы люди пашенные. Я государеву озимую десятину посеял. Вам ее жать.
— Ты посеял, ты и жни! — огрызнулся Вторка.
Первуха, прямо как старший Похабов, сломил бровь, взглянул на отца терпеливо, снисходительно, попросил:
— Ты бы отпустил нас на Селенгу?
Булаг по лицам мужчин заметила размолвку и стала звать их в дом, за стол. Они молча расселись по своим местам. Третьяк тут же забрался на колени ко Вторке, не сводил с братьев восхищенных глаз.
— За Байкал просятся! — по-бурятски пожаловался жене Угрюм. — Хоринцев грабить! — И, обернувшись к сыновьям, строго, по-русски, спросил: — С кем? С Ивашкой, что ли?
— Атаман при остроге останется! — насупившись, ответил Первуха. — С Федькой Говориным!
— С крикуном?
— Он десятский! — терпеливо поправил отца Первуха. — Настоящий казак. Дайша! И не грабить идет, а мирить братские народы. Обещанный ясак взять.
— Добытчики, удальцы! — Угрюм скривил губы в неровно выстриженной щетине.
Булаг долго и пристально вглядывалась в сыновей большими узкими глазами. Старалась до конца понять смысл сказанного, сходила к печи, без нужды поворошила выстывшие угли.
— Если дядька все решил, что меня спрашиваете? — обидчиво просипел Угрюм, щуря глаза.
— Дядька не пускает без родительского благословения! — расправляя плечи, неохотно ответил Первуха.
— Вот как! — язвительно вскрикнул Угрюм и заерзал на лавке. — Родной отец-то еще нужен?
— Пусть казаки грабят бурят! — не в силах сдерживаться, сказала Булаг. — Не вы!
— Это нас грабили всю жизнь! — усмехнулся Вторка, ответив ей по-бурятски. — Грабили кому не лень! — хмыкнул под нос по-русски.
Угрюм уже взял себя в руки. Не роняя отцовского и хозяйского достоинства при ясырях, сипло и отчетливо проговорил:
— Это их казачье дело. Они — люди служилые, подневольные. А я — бывший промышленный, теперь пашенный. Мать ваша — булагатка. Вы — не казаки!
— А кто мы? — вскинул на отца злые глаза Первуха.
— Кто? — насмешливо уставился на него Вторка, будто застал на греховном деле. — Еруул-зайгуул?[252] Наш дядя — атаман, сын боярский!
— Видели мы твою волю! — презрительно процедил сквозь зубы Первуха, то бледнея, то краснея. — Перед всяким кыштымом шею гнул да коленками тряс.
В глазах Угрюма потемнело. Два сына глядели на него волками. С перекошенным лицом он стал грозно подниматься из-за стола. Ойкнула теща-старуха. Третьяк белкой сиганул на печку. Всю прежнюю жизнь не устраивала скандалов Булаг, а тут, взглянув на мужа и сыновей, кинулась между ними с ухватом и встала, разъяренная, испуганная, как загнанный зверь. Гневно сверкнула глазами.
— Уходите! — приказала сыновьям. — Видите, отец злой!
Первуха со Вторкой опустили стриженые головы. Один за другим молча вышли из-за стола, из избы. Первуха резким движением прихватил саблю. Скрипнули ворота.
«Совсем уходят!» — с колотящимся сердцем подумал Угрюм. Опустился на лавку. Недоеденное мясо стыло на столе. Ясыри и ясырки испуганно молчали, боязливо поглядывая то на хозяина, то на хозяйку. Угрюм уронил голову на столешницу, застонал, затем лег на лавку. Такую тоску, как теперь, он пережил один только раз, когда подранный медведем очнулся в братской юрте.
Как тогда, словно сквозь пелену увидел Булаг — своего постаревшего, доброго, нерусского ангела. Она молча положила на грудь мужа годовалую дочь. Угрюм взглянул на ребенка, и слезы покатились из его глаз.
Сыновья не вернулись ни на другой, ни на третий день. Через неделю жена попросила:
— Сел бы на коня да съездил в крепость!
— Просить у сыновей прощения? — скривил губы Угрюм.
— Поговори с братом! Не чужие люди! — настойчивей сказала жена. — Твои ведь сыновья.
— Мои! — вздохнул он, жалостливо поглядывая на нее. Столько бед претерпела с ним ради семьи, и вот все распадалось.
Он запряг спокойную кобылу, отправился в острог лесной тропой, через Шаманский отрог. Возле мыса стояли три летних чума. Тунгусы ловили рыбу, били уток и дожидались, когда, наевшись грибов, из тайги вернутся олени.
Они чуть ли не силой сняли Угрюма с седла, стали угощать печеными утками. Выглядели чилкагиры вполне довольными жизнью, хвалились, сколько соболей подарили казакам. Угрюм сносно понимал их, знал мужиков этого племени много лет, жил с ними мирно, торговал и ковал.
Вскипала в душе неприязнь к острогу и к брату. Злило, что тунгусы хорошо отзываются о казаках.
— Всех соболей отобрали? — переспросил, кивая на острог. Тем самым показывал, хоть он хоть и лучи, но с казаками не знается.
За разговорами скатилось с неба солнце, подул ветер. С утра Угрюму не хотелось ехать в острог, а к ночи являться туда не стоило. Он заночевал у гостеприимных таежников на медвежьей шкуре.
Утром, при ясном солнце над Байкалом, опять заседлал стреноженную кобылу, неспешно и неохотно двинулся дальше. У ворот острога оживленно суетились люди. Их веселые голоса далеко разносились по воде. Подъехав ближе, Угрюм увидел, что казаки отправляют за море полтора десятка служилых. Струг был чужой, не им сделанный: большой, как барка, и неуклюжий.
Среди гребцов он узнал десятского Федьку Говорина. Тот весело орал на подначальных людей, огрызался на насмешки провожавших. Угрюм заволновался, поддал пятками кобыле под брюхо, заспешил, пока еще казаки не отошли от берега. Он высматривал среди гребцов своих сыновей и не видел их или не узнавал. Наконец, понял, нет их в струге. Облегченно вздохнул, придержал кобылку, бежавшую ленивой, тряской рысцой, перевел ее на размеренный шаг.
В кожаной рубахе, в короткой душегрее, которую обычно надевают под латы, Иван Похабов стоял у самого края воды. Шапка его была заломлена на ухо. Пологая волна с плеском набегала на берег, подбираясь к сапогам. Он строго напутствовал отплывавших и за какие-то грехи грозил Федьке своей немилостью. Ветер трепал седые пряди длинной бороды, волосы, спадавшие из-под шапки.
Веслами и шестами казаки вывели тяжелый струг на глубину, подняли парус со множеством кожаных заплат. Он вздулся, и струг стал ровно удаляться на полдень к гряде гор с белыми, заснеженными вершинами.
Гребцы запели «Отче наш», потом «Радуйся, Никола». Угрюм вертел головой, выглядывая в толпе сыновей. Никем не привечаемый, спешился, ослабил подпругу.
Сын боярский постоял, глядя вслед парусу, перекрестился, надел шапку и обернулся с озабоченным лицом, заметил Угрюма, кивнул, спросив взглядом, что ему надобно. Тот, с кобылой в поводу, подошел ближе.
— Сыны у тебя? — спросил.
— У меня! — устало ответил Иван. — На рыбный промысел отправил.
— Я им не давал родительского благословения! — запальчиво заговорил Угрюм, шепелявя и гортанно гыркая.
— Знаю! — насмешливо вскинул брови Иван. — Оттого и держу при себе. — Снова метнул взгляд на удалявшийся парус. — И с твоим благословением не отпустил бы. Федька свою жизнь ни в грош не ставит, будет он за выростков радеть. Жди! — проворчал с недовольным видом.
Успокоиться бы Угрюму от слов брата да повернуть назад, но клокотала в груди ярость, накопленная в пути, вертелись на языке слова, думаные-передуманые с тех пор, как ушли сыновья.
— Все, что у меня было в жизни, — это моя семья! — шепеляво укорил брата клокочущим голосом. — Един Господь помогал устраивать жизнь при сиротской своей доле, — размашисто перекрестился, обернувшись на восход. — И вот опять являешься ты и все мне рушишь. Не по-братски. Не по-христиански!
Глаза сына боярского блеснули, стряхивая заботы дня и раннюю усталость. Брови сдвинулись к переносице.
— Не по-братски? Не по-христиански, говоришь? — пророкотал сердито. — Вот уж истинно: не сделав добра, врага не наживешь. О чем мелешь, щенок? — рявкнул грозно и властно. — А у меня не семья была? Хрен собачий или что, когда, отрывая крохи от жены и детей, выплачивал твою кабалу?
— Отдам! — смутился Угрюм.
— Адам! — передразнил Иван. — От боевых товарищей скрывал, что не пропал мой брат, но кровь предал: на братских кормах в холопах служит.
Да кабы не я, казаки бы тебя донага ограбили за неоплаченные подати. И оберут, если сыновья не отслужат твои грехи!
Будто молния ударила в землю у самых ног. Закачался Угрюм, потрясенный услышанным. Только что все передуманное казалось ему ясным и понятным, а собственная жизнь безвинной. И вдруг вся вина оказалась на нем, на калеке? Он развернулся с оскорбленным видом, хотел молча уйти, но брат окликнул:
— Стой! — Сел на колоду как судья. Пытливо вглядываясь в зарубцевавшееся лицо брата, пророкотал: — Нарей сказывал, ты у него взял серебро?
«Обманул сосед! — побледнел Угрюм. — Удумал жег[253]».
— Сам дал! — пролепетал растерянно. — На подвески для дочери.
— Почему не сделал? Не вернул?
— Не требовал! — пожал плечами Угрюм, не поднимая глаз на брата.
— Оскотинился! — Губы Ивана брезгливо скривились, глаза злобно сузились. — Ни русского, ни братского, ни тунгусского законов не почитаешь. Все под себя. Ради брюха, как росомаха! — И снова заговорил начальственным голосом, каким никогда с Угрюмом не разговаривал: — Серебро, что у тебя, Нарей в поклон царю дал. Принесешь! И еще каждый месяц будешь привозить в острог пуд коровьего масла, пуд творога. Десятый сноп служилые сами выберут, после будешь свое молотить. Иди! — Поднялся, хотел двинуться к воротам острога, но обернулся: — Где браты берут серебро?
— У мунгал меняют на соболей! — заикаясь, ответил Угрюм с опущенными плечами, растерянным лицом.
— А мунгалы где берут?
— Браты по-разному говорят! — с готовностью услужить, сказал громче. — Покупают в царстве богдыхана то ли сами копают где-то в Мунгалах.
Не кивнув на прощание, Иван побрел к острогу. Угрюм потоптался на месте, попытался сесть в седло — оно, с ослабленной подпругой, съехало кобыле под брюхо. Она заржала, забила копытами.
— Стой, падаль! — Угрюм треснул ее кулаком по морде.
Поправил седло, вскарабкался на него. Двинулся в обратную сторону, так и не повидавшись с сыновьями. «А увиделся бы, о чем с ними говорить?» — подумал.
Возвращался Угрюм мрачней тучи. Едва забывался, ловил себя на том, что, оправдываясь, говорит вслух и размахивает руками. «Угораздило сказать правду?!» — ругал себя. А тоненький голосок не разобрать из-за какого плеча все попискивал и нашептывал. С тем голоском и спорил он, сидя в седле.
Добравшись домой, бросил поводья ясырям. Остаток дня и ночь тоскливо пропьянствовал. На другой день приходил в себя. На третий собрал весь припас масла, творога, откопал спрятанное серебро, иовез в острог на той же кобыле. С бледным окаменевшим лицом сложил все у ног брата.
— Унесите! — приказал казакам сын боярский. Даже не посмотрел на серебро. — Хочешь сыновей повидать? — спросил потеплевшим голосом.
Угрюм обиженно молчал, воротя в сторону разодранный нос. Что он мог сказать сыновьям? Будто угадал его мысли Иван, вздохнул:
— Сказано Господом: погрешит против тебя брат — выговори ему. А покается — прости!
Что-то такое он уже говорил в прошлом, вспомнил Угрюм и выругал себя, возводя глаза к тесаному потолку избы: «Выговорил на свою голову».
В остроге никто не обращал на него внимания, все были заняты делами, сыновья не показывались на глаза. Он тихо вышел за ворота, отвязал от коновязи повод узды, поехал обратно.
Первуха со Вторкой вернулись в дом на другой день. Видно, пожалел-таки Иван брательника, сам прислал племянников. Оба были ласковы с матерью и бабкой, настороженны и вежливы с отцом. За столом, при неловком молчании, Первуха пробубнил подрагивавшим голосом:
— Дядька сказал, что мы погрешили против тебя! Ты нас, грешных, прости!
— А кабы не сказал? — скривил губы Угрюм, не поднимая глаз. — Не догадались бы?
Вторка громко и жестко поддержал брата:
— Ты нас не учил, что проклят от Господа злословящий родителей своих!
В сказанном был упрек отцу.
Угрюм метнул быстрый взгляд на жену, увидел по ее лицу, что она поняла сказанное сыновьями.
— Разве дед вас этому не учил? Я что? Я — сирота. До всего доходил сам. Дом построил, вас вырастил.
— Дед по-бурятски учил! — огрызнулся Первуха и мотнул большой головой, нетерпеливо прерывая упреки. — Казаки к зиме по улусам разойдутся ясак собирать, государево жалованное слово говорить. Нам дядька велел острог караулить. Отпустил к тебе на две недели помочь по хозяйству. Не пустишь нас на службу — верни ясырей, — опять напомнил о долге и кивнул на сидевших за тем же столом мужиков. Они поняли, что говорят о них, обеспокоенно завертели головами.
С подранных губ Угрюма рвалось злое слово на брата. Но он удержался, и непрочный мир в семье был восстановлен. Весь отпуск сыновья работали не отлынивая, делали, что велел отец. А тот видел, что они работают без души и без охоты, как ясыри, поэтому был ими недоволен и сварлив.
Вышел срок. Первуха со Вторкой тепло простились с матерью, бабушкой, Третьяком, отчужденно откланялись отцу. Родительского благословения не просили. Да и не знал Угрюм, как их благословить. На том простились.
Перед Рождеством, на Страстной неделе, все еще не встал лед на Байкале. Волны гулко накатывались на обледеневший берег. Причудливые облака лежали на воде, прибрежный лес был белым от куржака. Все это Угрюм видел не раз. Но вдруг показалось ему, что среди ползавших по воде облаков мельтешит темное пятно. Он так пристально вглядывался в клубы студеного пара, что на глазах навернулись слезы. Нет, не почудилось, из тумана показался обледеневший нос струга. Четыре пары весел устало смахивали пену с набегавших волн. Послышались голоса. Вскоре и сам Угрюм был замечен гребцами.
— Острог далеко? — крикнул кто-то простуженным голосом.
Не сразу узнал он десятского Федьку. Махнул рукой, указывая направление.
— За мысом! — крикнул. Ни самого мыса, ни другого берега култука не было видно.
— Огрызок, что ли? — спросил Федька и, не дождавшись ответа, сказал своим: — Уже рядом, слава богу!
Волны подбирались к сшитым из нерпичьих шкур ичигам Угрюма. Они воды не боялись. В отступающей и накатывающейся волне мелькали жирные черные спины кормящихся рыбин с серебристыми боками. Струг пошел вблизи берега, время от времени весла гремели и скребли по камням.
В доме топилась печь и было жарко. Жена и ясырки ходили в камчатых халатах. Булаг не отличалась от них одеждой, и это всякий раз вызывало у Угрюма сердечную тоску. Он хотел сделать ей серебряные украшения и даже пообещал, но брат отобрал серебро.
— Ну как? — спросила она вернувшегося с берега мужа.
— Буря! — ответил он по-бурятски. Сбросил парку, оставшись в камчатой рубахе, шитой по-тунгусски, со свободным воротом. Припал к печи, сложенной из речного камня и глины, нагрел руки и грудь, принял дочь. Улыбка расползлась по изуродованному лицу. Третьяк с сухим творогом за оттопыренной щекой бегал взад-вперед по лавке вдоль стены: такой уж беспокойный уродился.
На другой день до полудня в дом прибежал Вторка с красным от ветра лицом.
— Батя, атаман зовет! — крикнул вместо приветствия. Потом уже разделся, торопливо перекрестился на черный кедровый крест в углу, сел за стол.
Угрюм, позевывая, спустился с печи. Теща беззубо ворковала, радуясь, какой внук вырос большой да красивый.
— Что надо Ивашке? — спросил отец.
На лбу парня выступила испарина. От рубахи пахнуло свежим потом, видно, бежал всю дорогу. Вторка жадно напился теплого топленого молока, крякнул, оторвавшись от кувшина, смежил узкие глаза:
— Федька Говорин вернулся с Селенги! — Вытер рукавом губы. — Хоринцы ему ясак не дали и аманатов отбили. А он на Погромной речке взял на саблю богатого мужика, сорок соболей и семь женок. Я того мужика через слово и то не понимаю. Так, чуть-чуть. Сдается — мунгал! Ты же с ними как-то говорил? — вскинул на отца пристальные глаза.
— Говорил! — важно согласился Угрюм. — А Мартынка-толмач что?
— А помер после Филипповок, — как об обыденном, ответил сын и мимоходом перекрестился. — Мужик-то чудной какой-то! Все ругается и грозит! — опять заговорил про ясыря.
Теща сняла с печки две пары новых ичиг, попросила Вторку примерить. Жена, не глядя на мужа, стала складывать в мешок домашнюю еду, принесла из сеней два круга мороженого молока. Попробовала поднять набитый мешок и виновато засмеялась, жалея сына:
— Запряги коня!
Возле острога, прикрытого от ветра склоном горы, было теплей, чем на берегу долины. На черную, шумно набегавшую волну неторопливо ложился белый и пушистый снег. Ворота открыл Первуха в лохматой черкасской шапке, смущенно растянул в улыбке губы:
— Дарова, батя! — поприветствовал отца. — Дядька ждет!
В острожной избе жарко горел чувал, но воздух был сырым и тяжелым. Вдоль стен на лавках сидело полтора десятка казаков в кожаных и камчатых рубахах. Еще с десяток мостилось на земляном полу, покрытом пожелтевшим пихтовым лапником.
Угрюм скинул шапку, трижды перекрестился и откланялся на тусклый огонек лампады в красном углу. Под ней сидел брат в рубахе с распахнутым воротом. Борода его помелом рассыпалась по груди. Пышные, промытые щелоком волосы лежали на плечах.
Угрюм поклонился всем собравшимся общим поклоном, не показывая родства с атаманом.
— Звал? — спросил, озираясь.
— Есть нужда! — приветливо взглянул на него Иван. — Знаю, ты в языках горазд. Поговори-ка с ясырем с Селенги. Никто его не понимает.
В избу ввели мужика с круглой, коротко остриженной головой, в добром халате, шитом по-братски. Спина пленника была прямой, в щелках глаз яростно поблескивали зрачки, зубы чуть слышно скрипели, на широких скулах вздувались жилы. Руки и ноги мужика были скованы аманатской цепью.
Уже по тому, как он вошел, как заносчиво оглядел казаков, Угрюм понял, что это мунгал, и мунгал не простой, а родовитый.
— Какого ты роду-племени? — спросил его ласково.
— Придут родственники — все узнаете! — гыркнул пленник и громче скрипнул зубами. Подумав, добавил, выпячивая грудь: — Если тебе знакомо имя Табун-баатара, зятя царевича Цицана, то знай, что я — его дядя!
— Он князец из черных мунгал! — обернувшись к Ивану, сказал Угрюм. — Говорит, царского зятя родня.
Хмыкнув в бороду, Иван приказал:
— Спроси, где мунгалы берут серебро, которое продают братам? И еще, знает ли он дорогу в Китайское царство?
Угрюм как мог стал расспрашивать пленного. Мунгал же презрительно рычал в ответ:
— Все узнаете, когда придут воины моего племянника или царевича.
На все другие вопросы он отвечал так же. Иван, расправляя пальцами бороду по груди, с любопытством разглядывал пленного. Никто из казаков не издал ни звука.
— Пусть еще посидит! — кивнул на ясыря атаман. — Кормить чем пожелает, дров давать в достатке, захочет гулять — не отказывать. Но цепи не снимать.
Караульный увел мужика, Иван озадаченно добавил:
— Нарея, с цепью, к нему посадить! — вскинул глаза на Угрюма, усмехнулся и кивнул, указывая место напротив: — Садись ужинать, раб божий Егорий! — Опять задумчиво покачал головой. — Ну, Федька! — пригрозил куда-то в угол. — Молись, как бы тебе своей дурной башки не потерять!.. А то и всем нам!
В словах его были и насмешка, и бесшабашность, но от сказанного холодок пробежал по спине Угрюма: в отличие от хитрого Нарея, он связался с казаками прочно и явно, трудно будет отговориться и отплакаться перед теми, кто их перебьет.
«Какой ужин? — подумал брезгливо. — У казаков не пост, так голод!» Но все же послушно опустился на лавку, распахнул камчатый халат, шитый по-братски.
На столе душно запарила разваренная без масла рожь. Молились все так долго, что утомили пашенного стоянием и поклонами. Сыновья были рядом, не чурались родства с отцом, не лезли под руку к атаману.
Иван сел, запустил ложку в котел. Пожевал кашу, шевеля бородой, кивнул, разрешая есть другим. Угрюм осторожно зачерпнул своей ложкой, долго жевал ржаную кашу, разглядывая низкий потолок избы. Проглотив, осолонил язык. Соль стояла на столе.
Сыновья с казаками ели из другого котла. Все черпали кашу без жадности, молчаливо и благостно вкушали. Время от времени щепотками присаливали.
После еды они опять долго молились. Затем до половины казаков разошлись по делам и по службам, остальные отдыхали и переговаривались, не обращая внимания на Угрюма. Иван, отдавая наказы, все не отпускал его, и тот понуро сидел в углу.
Наконец брат умолк, поднял на него глаза, вздохнул.
— Вразумил меня Господь, отчего мы с тобой всю жизнь врозь, как чужие. Даже хуже. Потакал я тебе. Жалел. Мой грех! Надо было еще в Тобольском взять за ворот и вести за собой. И были бы мы братья как братья. И не было бы между нами обид и зла. За двоих теперь придется держать ответ перед Господом. — Опустил глаза к земляному полу и добавил печально: — Теперь уж поздно неволить. Ты и сам седой.
Он решительно тряхнул бородой, снова вскинул глаза, властно вперился взглядом в лицо смущенного брата:
— Меня государь через воеводу наставил искать серебро и вызнать дорогу в Китайское царство, — сказал так громко, что обернулись все бывшие в избе. — А за этого мунгала, Федька, — окликнул десятского, — государь нас с тобой или казнит, или мы его вернем с честью царевичу и про серебро узнаем, и дорогу к хану Богде выведаем. Да вот беда, послать-то в посольство некого.
Федька Говорин, лежавший на боку возле очага, неуверенно завозмущался, дескать, он добыл мунгала на саблю, это его ясырь.
— Тебя бы отправить послом? — жестко хохотнул Похабов. — Да ты у первого встречного князца будешь гостевать, пока не выхлебаешь всю арзу, арху и тарасун. Моли Бога, чтобы нашелся кто-нибудь и твою дурную башку от палача спас. Когда атаман Перфильев из Енисейского острога уходил, у нашего царя с мунгалами был мир! — сказал, обвел казаков строгим взглядом и добавил: — Как теперь, един Бог знает! Или мунгалы отрубят головы послам, или царь — нам с тобой. Самому, наверно, идти придется! — сказал со вздохом и снова обернулся к Угрюму. Тот вдруг понял, к чему клонит брат. Дрогнули его глаза, обдало холодом, будто кишки вывалились на снег.
— Ты чего удумал? — залепетал, пугливо отмахиваясь руками. — Бэр-тэнги, — сорвалось с языка братское словцо. — От дома до острога едва-едва.
— Имею власть принудить для государева дела! — строже сказал Иван, не поднимая глаз. — Но по братскому состраданию прошу!
— Нет! — заверещал Угрюм, и слеза зазвучала в его голосе. — На кого своих баб брошу? Казачьей жизни и недели не выдержу, помру в пути, калека. Что тебе за польза?
— Если помрешь, пользы никому не будет. А посольство сгинет, — согласился Иван и укорил: — Я бы тебя не бросил, как ты меня бросал. Ладно уж! — встал, показывая, что разговор закончен. — Приезжай на Рождество! Хоть вспомнишь, как веселятся православные христиане.
— Приеду! — закивал Угрюм. — Масла привезу. Мяса.
— Вези! — одобрил Иван и вышел из избы.
Будто лютую грозу пронесло над головой, словно молния оглушила, ударив в воду рядом с лодкой. Угрюм качал головой и смотрел под ноги незрячими глазами, не слышал, о чем переговаривались казаки. Вспомнил вдруг про кобылу, выбежал из острога. На коновязи висело седло с потником. Стреноженная лошадь паслась, помахивая хвостом.
Капризно, как младенец перед сном, побушевал Байкал и успокоился, покрывшись льдом. На Рождество Угрюм в острог не поехал, он попивал с домочадцами винцо из ягод и праздновал среди своих. Молодая ясырка родила сына от Болтуна. Все они прижились в его доме, жили мирно и дружно, как родные, никто никуда не хотел бежать. Всем хороши были работники, только в пьянстве не знали удержу.
Третьяк, прибежав из леса на лыжах, сказал, что видел на промышленной тропе следы трех мунгальских или хоринских коней. Всадники проехали к острогу. К дому Угрюма они, слава богу, не повернули.
Через день из острога напрямик по льду пришли Первуха со Вторкой. Лица их были румяны от стужи, на черных бровях и ресницах белел куржак. Ветер дул с восхода. Был он не сильный, но злой.
Если от Рождества до Крещения Угрюм удерживался от пьянства, тайком прикладываясь к крепкой арзе, то с приходом сыновей выставил на стол полный кувшин молочной водки. Ясыри, мужики и бабы, залопотали, весело переглядываясь, теща с женой посмурнели, стали ворчать в два голоса:
— Разве можно поить молодых, да еще крепкой арзой?
— Какие они молодые? — огрызался Угрюм. — Казачью службу несут. С мороза горячее молоко их не согреет.
Спорить с женщинами он не стал. Принес винную льдину из разбитого бочонка, бросил ее в котел, поставил в горячую печь, чтобы оттаяла. Себе и ясырям налил в чарки арзы.
Стол ломился от вареного мяса, сметаны, масла, от хлеба и лепешек.
— Это вам не казачьи харчи! — захмелев, хвастал сыновьям.
Непоседа Третьяк терся между братьев. Поглядывал на него Угрюм, туманились глаза: вырастет и уйдет, как старшие, останется только дочь-отрада. Но сейчас за столом сидела вся его семья, как это было прежде, до прихода казаков, и Угрюм всей своей плотью ощущал ее как собственную силу.
После третьей чарки он разомлел, притих и балаболивший без умолку Болтун.
— А мы к тебе по делу! — признался Первуха, пытливо заглядывая в глаза отцу.
— Да уж, без дела не придете! — пожурил их Угрюм и неверной рукой опять потянулся к кувшину.
— Помнишь мунгальского аманата? — Пропустив мимо ушей ворчание отца, старший сын повертел в руках обглоданную кость, бросил ее на середину столешницы. — Третьего дня приехали в острог хоринцы от царева зятя Табуная. С ними казак Якунка Кулаков. Он говорит, что Табунай его и еще двух колесниковских казаков зааманатил. Если мы не отпустим родича, то князец сделает две петли на одной короткой веревке, перекинет ее между верблюжьих горбов и повесит двух аманатов по мунгальскому обычаю, как только найдет пару третьему казаку — повесит и его.
— Казаки-то откуль взялись за Ламой? — тупо глядя на сына, спросил Угрюм.
— На другом краю Байкала, в ангарском култуке, казачий пятидесятник Колесников поставил зимовье и берет там ясак с тунгусов-чилкагирцев, — стал обстоятельно и раздраженно объяснять Вторка. — А посылал он своих казаков к хоринцам на Баргузин и на Селенгу, чтобы сказать государево жалованное слово. Они дошли до Табуная, и тот их зааманатил за грехи Федьки Говорина.
— Вон что! — нетрезво ухмыльнулся Угрюм. — Не один Ивашка за Байкал ходит. Значит, промышленные уже до края света дошли. Эх-эх! Давно ли я был первым на Лене? — Пристально взглянул на одного сына, потом на другого. Глаза его стали проясняться: — Нам-то что за дело до тех казаков?
— Дядька собирается идти в посольство. Хочет вернуть Табунаю мунгальского родственника и через него сходить к царевичу, вызнать про серебро, про путь к богдойцам[254], за цареву выгоду порадеть.
— И вы с ним? Или меня зовет?
— Отпусти нас! — перестали жевать сыновья, покорно и настороженно свесив круглые, коротко стриженные головы с жестким черным волосом.
— Вы же не казаки еще! — распаляясь, проворчал Угрюм сиплым голосом. — Не в окладе!
— Что с того? — хмуро возразил Первуха. — Дядька много лет служил в сынах боярских сверх указного государева числа[255].
— Нам его никак нельзя бросить! — поддакнул брату Вторка, и узкие зеленые глаза его не по-доброму заблестели.
— А отца бросить не грех? — стукнул кулаком по столу Угрюм.
Теща с женой внимательно слушали говоривших, до этих пор только переводили глаза с одного на другого. Едва муж стал злиться, Булаг заерзала на лавке, привстала и, словно невзначай, смахнула на пол кувшин с остатками арзы. Ясыри закричали, будто им наступили на пальцы. Болтун подхватил упавший кувшин и вылил в рот остатки хмельного.
Угрюм понял жену, спорить больше не стал, обмяк душой и телом, пожал плечами:
— Я, конечно, и без вас не пропаду!
— А мы послужим государю! — то ли оправдываясь, то ли вразумляя старого, непонятливого отца, сказал Первуха, чеканя каждое слово.
— А не пойдем с дядькой, со стыда потом помрем! — поддержал старшего Вторка с язвительной усмешкой на губах. Не иначе как передразнивал отца, грозившего брату умереть по пути, если заставит идти в Мунгалы.
В сказанном был и намек: даст или не даст ли отец благословение, они все равно уйдут. Жена и теща с недоумением крутили головами, стараясь понять, отчего всякая встреча отца с сыновьями заканчивается ссорой. Их и пожалел Угрюм, пояснил по-булагатски:
— Собираются в дальний путь! — Указал глазами на сыновей и принужденно хохотнул, стараясь перевести раздор в шутку: — К мунгальскому царю за серебром, а потом к русскому — за наградой!
Первуха со Вторкой заулыбались. На лице тещи разгладились морщины, повеселела и Булаг.
Молчаливое согласие родителей было получено. Первуха со Вторкой стали рассказывать об острожной жизни и похваляться своими службами. Догадывался Угрюм, что сыновья хотят еще о чем-то попросить. Не выдержав, поторопил их:
— Говорите уж все, что надо!
— Дай сани в дорогу! — опять, как волки, сыновья вперились в него настороженными глазами. — Кони в остроге есть. Саней нет. Мунгал пешим не пойдет, а у него женки, дети.
Закряхтел Угрюм, опять озлившись. Поискал глазами кувшин.
— У тебя двое саней! — напомнил Вторка.
— А как одни сломаются, на чем сено возить буду? — поперечно вскрикнул отец, хотя понимал, что брат не просит, а требует по государевому делу и по долгам.
Пьяные ясырки расползлись по углам, мужики все чего-то ждали. Сидя на лавке, дремали, не понимая, о чем говорит хозяин с сыновьями. Как только спор стих, Болтун поднял голову с мутными глазами и неприязненно уставился на Угрюма.
— Я те потаращусь! — сказал он. И пояснил сыновьям: — Всем хорош работник, только трезвый много болтает, а выпьет — становится злой. — Обернувшись к ясырю, громко пригрозил: — Вот отдам казакам, гахай![256]
После Крещения Господня, в самые холода, по льду возле берега Байкала прошел отряд. Служилые скользили на лыжах и тянули за собой нарты. Коренник в оглоблях и пристяжной конь везли сани, битком набитые ясырями в дорогих шубах. Угрюм заметил их издали, безбоязненно вышел на берег, загроможденный льдинами. Его увидели сыновья и помахали на прощание.
Сытно и спокойно зимовал его дом. Казаки в остроге жили своей жизнью, не беспокоя пашенного. В крещенские морозы спустились с гор тунгусы, устроили зимнее стойбище возле мыса. Они ловили рыбу в прорубях, промышляли соболя с собаками и луками. Угрюм тайком выменял у них лучшие меха, какие у промышленных и купцов казаки отбирали в государеву десятину.
В апреле, когда зазеленело на солнцепеках, на почерневшем льду показались люди и кони. Глазастый Третьяк заметил их издали и окликнул отца. Угрюм накинул парку, выбежал на берег, щурясь, стал всматриваться в идущих, то и дело переспрашивая сына:
— Глянь-ка, сани наши ли?.. Сколь там народу?
Третьяк считал по-русски, загибая пальцы, этому он научился у братьев. Показал отцу растопыренные ладони и еще одну.
— Пятнадцать, — подсказал тот.
— Из саней головы торчат! А в упряжи — тройка!
— Ивашка с казаками! — шмыгнул носом Угрюм и строго предупредил младшего сына: — Про соболей, что наменяли, никому не говори. И Первухе со Вторкой! Даст Бог, братья вернутся живы и здоровы, — махнул рукой, боязливо крестя грудь.
Вскоре послышались скрип полозьев и голоса переговаривавшихся людей. Сомнений не было: в острог возвращался отряд Ивана Похабова. Опасаясь промоин и хрупкого льда, его люди близко к берегу не подходили. Они остановились напротив разлившегося устья речки, потоптавшись на месте, разделились на две ватажки. Трое казаков повернули подводу к берегу, остальные продолжили путь к острогу. Угрюм суетливо затоптался на месте.
— Беги, затопи баню! — приказал сыну. — Да матери скажи, что гости едут!
Третьяк, оглядываясь, вскрикнул:
— Братья идут и дядька! — Он убежал, но вскоре вернулся. — Болтун баню топит! — оправдался перед отцом, глянувшим на него строго и вопросительно, попрыгал на месте и побежал по льду навстречу тройке.
Кони шагом приближалась к берегу. Впереди упряжки, выстукивая посохом лед, шел Иван Похабов в распахнутой овчинной шубе. Хоркая и прядая ушами, низкорослые монгольские кони выволокли сани на каменистый берег и встали как вкопанные, помахивая длинными хвостами. В возке сидели четыре богато одетых мунгальских мужика. Они, не мигая, уставились на Угрюма, и у него от одного только их вида неприязненно зачесалась спина между лопаток.
— Ну, будь здоров, брательник! — приветливо пророкотал Иван. Ступив на сушу, перекрестился на восход, подошел к Угрюму, который стоял на месте молча и передергивая плечами. Лицо Ивана было постаревшим и усталым, глаза глядели на брата мутно и отстраненно, как с глубокого похмелья.
Первуха со Вторкой молча поклонились отцу, по-взрослому обняли льнувшего к ним брата. В их в глазах Угрюм заметил какую-то дерзкую отчужденность: будто и не сыновья они ему, а дальние родственники.
Мунгальские мужики неохотно вылезли из саней. Первуха сказал им, что здесь все будут отдыхать.
— Отправил своих! — устало пояснил Иван брату. — Чтобы завтра встретили нас с почестями. Это послы царевича Цицана! — кивнул на мунгал. — Прими их по чину. А нам баню истопи.
— Топлю уже! — буркнул Угрюм, прикидывая в уме, где поселить мунгал. Зимой он с ясырями срубил другую избу, соединил ее сенями со старой. Печку еще не сложил, ждал тепла.
Сыновья подхватили пристяжных под уздцы. Скрежеща полозьями по оттаявшей земле, тройка поволокла сани к дому. Угрюм, прихрамывая, засеменил следом.
Из банных дверей клубами валил дым. Ясыри таскали воду из речки. Третьяк выпряг тройку из саней. Первуха со Вторкой внесли в избу мешки с подарками мунгальского царевича русскому царю. Угрюм провел гостей в чистую горницу. Послы строго осмотрели комнату, перевели глаза на хозяина. Первуха пробурчал им что-то и, указывая на них глазами, стал называть их имена:
— Седек, Улитай, Чорда, Гарма!
Поджав ноги, мунгалы сели на расстеленный войлок. Старая ясырка положила между ними кожу, выставила гостевые чарки и котел с горячим топленым молоком.
Иван с племянниками парился долго и неторопливо. По просьбам молодых обрил им головы концом сабли. Своих волос он подрезать не стал, на несколько раз промыл их щелоком и квасной гущей. Из избы то и дело выбегала Булаг. Увидев голых сыновей, всхлипнула и всплеснула руками:
— Тощие, кости пересчитать можно!
— Зато живые! — пробормотал Вторка русской скороговоркой, зная, что мать не поймет.
Угрюм все примечал и до поры не лез с расспросами.
Гостей угощали ясырки, для родных Булаг накрыла стол в новой избе. Вошли сыновья с Иваном, красные, распаренные, с бисеринками пота на коже, все в чистых камчатых рубахах. Они долго молились на крест в углу. Потом расселись, напились квасу, навалились на лепешки, на хлеб, видно, мяса наелись в пути.
Угрюм поставил на стол кувшин с молочной водкой двойной перегонки. Иван неприязненно покосился на чарку.
— Нельзя! Я на службе при царевых послах! — пробормотал, покачав головой с мокрыми еще волосами, спутавшимися с бородой. При этом походил не на грозного сына боярского, а на стареющего попа.
Угрюм выпил один. Крякнул и просипел сдавленным голосом:
— Расскажите хоть, куда ходили, кого видели?
Брат резче нахмурил брови и молча склонил голову. Вторка досадливо и болезненно метнул на отца быстрый взгляд. Первуха рассеянно смахнул с подбородка сметану, неохотно ответил:
— Далеко ходили, к муигальскому царевичу!
— А в Китайское царство, к хану Богде, не дошли? — не отставал пьянеющий Угрюм.
— К Богде царевич не пустил, — ответил он же при общем молчании. — От Цицана до китайского царя еще месяц идти.
Первуха замолчал. Все трое, опустив головы, сонно жевали выставленные кушанья. Иван раз и другой метнул опасливый взгляд на кувшин, вздохнул, поднял голову, придвинул чарку.
— Налей! — приказал перекрестившись, сбрасывая сонливость с глаз. — Во славу Божью! — Выпил, крякнул: — Ну и вонюча, зараза! Хлебной бы!
— Это сколько ржи надо! — оправдываясь, прогнусавил Угрюм.
Иван кивнул соглашаясь, хмыкнул и слегка отпустил язык:
— Вот ведь вымолил себе долю! Истинно, никакой русский человек не бывал там, где мы с ними, — указал глазами на племянников. — Даже промышленные. А я все сполна получил, по глупым своим молитвам. Прости, Господи! — с чувством перекрестился на крест в углу. — Покойный царь, Михейка, мне спину кнутом распускал, товарищей моих вешал, но так над нами не издевался, — качнул головой в сторону, откуда пришел. — Кабы не они, — указал взглядом на племянников, — никто бы не вернулся живым. Ради них терпел! — опять размашисто и зло перекрестился.
И тут будто прорвало всех троих: заговорили, заспорили.
— Турукай-табун еще ничего! — вскрикнул Вторка. — Отцу его отрубить бы башку!
— И Турукаю можно, — как равному бросил племяннику Иван. — Я отдал ему всех Федькиных ясырей. Говорил государево жалованное слово, за нашего царя подарки дал. Мало ему. У Кирюхи Васильева выпросил пищаль, будто поглядеть. Вот ведь, мать его. И дать нельзя! И не дать — обидеть!
— Не вернул? — ухмыльнулся Угрюм.
— Вернет он! — буркнул Первуха. — Топор дорожный выкрал да батожок железный. Дал двух вожей и отправил к брату своему. Тому тоже давали подарки, а он отправил нас не к царевичу, а к своему отцу. Голодом водили нас по родне, всем на посмешище. Старик говорил: «Сыну дали государево жалованье и мне дайте». И все ему мало.
— Потом две недели возили кругами по Шелгину улусу и кормов не давали. Табуновы вожи сказали нам, что в другую сторону везут, холопы шеленгинские их били, — с тоскливой усмешкой вспомнил пережитое Иван. — Думал — все! Порублю их всех, а там как Бог даст!.. Но гляну на них, — повел глазами в сторону племянников, — и опять терплю. За всю жизнь столько не претерпел. Все! Хватит! — замотал головой. — Вернусь в Енисейский, за старостью из службы выйду! За Байкал больше ни шагу.
— Да, миловал тебя Бог в прежней жизни! — скрытно съязвил Угрюм. — От таких пустяков и разобиделся! — Меня Он всю жизнь торкал мордой в дерьмо.
— Миловал! — согласился Иван, глядя на столешницу незрячими глазами. — Воевать легче, чем ходить в посольство!
— Уж так! Кто горя да смертушки не видал, тот Богу не маливался! — досадливо вспомнил Угрюм свое, пережитое. — Царевич-то у них, у мунгал, какой? — спросил с любопытством.
— Лучше, чем его кыштымы! Живет богато, в белых юртах. Серебра и золота много. Приветлив. Жалованное государево слово выслушал с почтением. Сказал, что хочет жить с нашим царем в мире, в любви и в совете. С его братских и тунгусских непослушных кыштымов позволил на нашего государя ясак брать. Едва сберег я для него два сорока соболей да пять аршин аглицкого сукна тонкого. Сказал, будто от нашего царя. Послов везем с ответными подарками. Не дикие они. Веру имеют. Кланяются деревянным истуканам с золочеными мордами.
Иван выпил другую чарку. Поморщился, отдышался и перевернул ее.
— Слава богу, живы! — просипел. — Только на душе шибко пакостно: будто в дерьме валяли. — И пояснил племянникам: — Видать, у Цицана с Алтын-ханом вражда.
Болела душа за сыновей, переживал за них Угрюм, молился. И вот глядел на своих повзрослевших, озлившихся выростков, думал втайне: «Вдруг утешились?» Обрадовался случайно брошенным словам: «Подумаем еще, верстаться ли в казаки!»
На другой день Иван Похабов велел брату дать ему еще одни сани под подарки царевича и пожитки послов, уехал в острог. Первуха со Вторкой, к радости семьи, остались в доме.
Неделю и другую они жили и помогали отцу хозяйствовать. Лед на Байкале разбило и унесло. Теснясь, полезла в речки рыба. Ловили ее впрок. За вечным недостатком соли сушили в дыму.
Из острога никто не приезжал. Сани на лето остались там. Это беспокоило Угрюма. Сыновья вызвались сходить, узнать новости. О службе они не говорили. Уехали верхами и вскоре вернулись, приволокли по земле сани, взятые Иваном.
— Дядька повезет послов стругами, вдоль берега до Ангары! — сказали, поглядывая на отца. — Ты ведь ходил туда на лодке. Проведи струги!
— Кто мне приказывает? — ревниво проворчал Угрюм. — Вы? Или Ивашка?
— Дядька просит!.. Но дело государево!
— Хорошо, если просит! — буркнул Угрюм, прикидывая свои, хозяйские выгоды. По весне у истока Ангары должны были стоять тунгусы. А он давно там не был.
Сыновья помогли ему закончить дела по дому. И опять по-волчьи пытливо поглядывали на отца, выжидая, когда тот станет весел и добродушен. Улучив подходящий миг, Первуха хмуро попросил:
— Отпусти нас в Енисейский?!
— Зачем вам туда? — вспылил было Угрюм.
— Ты там был, а мы — нет! Хотим посмотреть, как люди живут.
— Говорят, там в одном остроге людей больше, чем всех братов, что кочуют по Иркуту, — сказал Вторка и мечтательно смежил большие, как у матери, узкие зеленые глаза.
Угрюм помолчал раздумывая. Сыновья побывали за Байкалом, и больше их туда не заманить. Глядишь, вернутся из Енисейского и осядут навсегда.
— Ну ладно, посмотрите! — окинул сыновей плутоватым взглядом. — Как говорил ваш дед, земля создана для того, чтобы на ней разгуляться, а не сиднем сидеть.
В конце мая, на преподобного Пахома-бокогрея, в большой острожный струг с четырьмя парами весел загрузили царские подарки, свои и мунгальские пожитки. Угрюму было лестно, что сделанные им лодки остаются при остроге. Но эту скорей барку, чем струг, довести до Ангары было непросто.
Дул попутный ветер. Легкая лодчонка Угрюма весело болталась на волне. На веслах сидели Первуха со Вторкой, на корме — хозяин. Наконец-то казаки столкнули с отмели неуклюжий струг. Гребцы, дружно взмахивая веслами, вывели его на глубину, где волны положе, подняли парус. Он напрягся, вздулся. Чуть зарываясь носом в волну, струг грузно двинулся на восход. На носу судна сидели послы и вертели головами по сторонам. Рядом с ними важно восседал князец Нарей с Иркута. Узнав соседа, Угрюм стал расспрашивать сыновей, куда его везут.
— В Енисейский, — пояснил Первуха. — Едет послом к воеводе от всех братов Иркута.
— Не верит он никому! — усмехнулся Вторка, блеснув глазами. — Мунгал боится. Посол, а цепи с себя снять не дает.
Подивившись осторожности старого князца, Угрюм велел сыновьям поднять свой парус из козьих кож. Ертаульская лодчонка так прытко понеслась вперед, что пришлось его приспустить. Пологий берег быстро остался позади, суда пошли под крутым склоном с нависшими над водой соснами и лиственницами.
Лодка Угрюма то и дело уносилась по ветру к очередному мысу и там покачивалась, поджидая струг. От пади к пади, где можно было укрыться от резких ветров, Угрюм вел суда вдоль крутого байкальского берега.
К счастью путников, ветер не менялся. Они переночевали в узком распадке со звонким, чистым ручьем. На стане Первуха со Вторкой то и дело толмачили для сына боярского, а тот ни словом, ни взглядом не говорил брату о племянниках, будто поездка в Енисейский была их прихотью.
— Хоть бы жалованье требовали! — ворчал Угрюм, поучая сыновей. — Толмач — второй человек после атамана.
Они шли на восход весь следующий день. К вечеру Угрюм подвел свой стружок к крутой лысой горе с круглой макушкой.
— За ней Ангара! — оглянулся на тяжелый струг, помахал брату, указывая на широкую падь с бурным ручьем. — Если ночевать, то лучше здесь.
Волны еще катились на восход, но ветер переменился и морщил их гребни, сносил суда в обратную сторону. Гребцы на тяжелом струге выбивались из сил, а берег против борта едва продвигался. Иван приказал высаживаться и ночевать.
В сумерках погода и вовсе испортилась: подуло с севера, шумно затрепетали листвой деревья, стали сгибаться дугами, как прихожане перед алтарем, дружно кланяться Байкалу. Волны с грохотом набегали на камни, рассыпалась брызгами и пеной.
Только через два дня ветер стих.
— Смилостивился, батюшка! — крестился Угрюм на полуденную сторону. — Не дай бог такой ветер застигнет возле скал.
Иван раздраженно сопел, ему было жаль двух потерянных дней. Но он и сам был научен горьким опытом, как ближний путь оборачивается долгим. При пологой волне суда обошли гору на веслах, и открылся мелководный исток реки с перекатами, с камнем, торчавшим из воды на самой середине. Суда приткнулись борт к борту. Течение медленно повлекло их на отмель, в Ангару. Здесь ветер был неопасен.
— Ну что, раб Божий Егорий! — с обычной насмешкой обратился к брату Иван. — Отпустишь ли сыновей в Енисейский?
Угрюму стало лестно, что его спрашивают, он считал дело решенным.
— Выросли, теперь не удержать, — сварливо проворчал, пожимая плечами и смиряясь.
Иван окликнул двух казаков.
— Не хотели в Енисейский, плывите обратно с Егорием. А вы, — кивнул племянникам, — перебирайтесь ко мне.
Первуха со Вторкой перемахнули через борт, втиснулись между казаками. Двое служилых осторожно перелезли в лодку Угрюма. Иван стал их наставлять, а струги все быстрей сносило на рябившую отмель.
— Переправитесь с Егорием на другую сторону. Увидите урыкиты, скажете тунгусам государево жалованное слово и возьмете ясак. Хлеб, соль, крупы из жалованья пришлю на устье Иркута, на Дьячий остров.
Струги разъединились. Угрюм уперся веслом в каменистое дно, удерживая лодку. Чертыхался про себя: лучших соболей у тунгусов теперь заберут казаки, ему же достанется что похуже. Если достанется? Вдруг и зря вез ножи, колокольчики, топоры.
Сыновья тупо, как бычки, смотрели на отца с удалявшегося струга: ни поклониться, ни расцеловаться, как от века принято у людей, им ума не хватало. «Сурово карает Господь за грехи наши, — сипло вздыхал Угрюм, глядя на них. — Наказывает детьми!.. Но я-то сирота. Они-то…» — возроптал было на судьбу и мысленно ответил сам себе: «Братские народы на людях сильно сдержанны в чувствах».
«Радуйся, отче Никола Чудотворче», — запели в удалявшемся струге.
Кое-где он скреб днищем по камням. Пару раз казаки выскакивали за борт, протягивали его через отмели. И вот река подхватила тяжелое судно, понесла к Енисейскому острогу. Лица гребцов были радостны.
— А это кто? — вскрикнул Вторка, сидевший с Иваном на корме. Поднялся в рост, указывая по течению.
Под берегом, в тени деревьев, со струга не сразу заметили вереницу бурлаков, идущих бечевником.
— Похожи на наших! — приложил ладонь ко лбу сын боярский.
Гребцы, налегая на весла, стали оборачиваться. Кормщик направил судно к другому берегу. Бурлаки тоже заметили плывущих с верховий, вышли на открытое место, остановились. Струг Похабова развернулся боком к течению и приткнулся к берегу. На корме встречного судна поднялся в рост добротно одетый казак.
— Якунька или кто? — удивленно пробормотал Иван.
— Молодой Похабов! — весело загалдели гребцы.
Отец и сын сошли на берег, степенно двинулись навстречу друг другу.
— Ты откуда взялся?
— Из Енисейского! — ответил сын, кланяясь на казачий манер. — С атаманом Галкиным иду на перемену Колесникову.
Якунька повзрослел и даже заматерел, грубая порода рослых и коренастых Похабовых сгладилась в нем материнской статью.
— Атаман где? — удивленно спросил Иван. — Раненько дошли до Ламы. Зимовали рядом или что?
Казаки галдели. Встретив знакомых, обнимались, выспрашивали острожные новости. В струге Похабова с важным видом сидели послы. Князец Нарей вертел головой, зыркал по сторонам узкими плутоватыми глазами. Он уже сносно говорил с казаками по-русски, а с мунгалами — свободно, иногда поправлял Первуху со Вторкой, если они толмачили.
Отец с сыном присели на берегу. Яков стал неторопливо рассказывать:
— Прошлый год вышли из Енисейского поздно: сотня служилых и охочие, десять стругов с харчем. Зимовали по балаганам от Оки до Иркута. Всю зиму таскали груз по льду. С Митькой Фирсовым немного ссорились, зато войн по Ангаре не было.
— С Митькой-то что? — спросил Иван, разглядывая сына. Тот был спокоен, уверен в своей силе.
— Кто он и кто атаман Галкин? — будто удивляясь нелепому вопросу отца, поднял брови Яков. — В твою наказную память пальнем тыкал и нам указывал. У них, у Фирсовых, отец, конечно, именитый и братьев их трое. Сила! Только ермаковцам они не чета: зря с атаманом Галкиным спорили. Он хоть в сынах боярских да разрядный атаман, как дядька Максим, но по жалобам на стольника Головина наводил порядок в Илимском уезде. Своей властью там всех из тюрем выпустил! — Яков посмотрел на отца материнским взглядом, дескать, кто ты и кто он? С почтением добавил: — С ним даже царская дворня не спорит.
— Ты-то как с Галкиным оказался? — опустил голову Иван. — С Перфильевым ходил.
— Дядьку Максима прошлый год посылали в Москву с отписками и с ясачной казной. Меня с ним не пустили! — Яков смежил ресницы, как мать перед скандалом. — Но я за морем бывал, на Витиме. Там от меня больше пользы, чем на ближних службах. — Помолчав, добавил искренней: — Дядька Максим то и дело хворает! Старые раны открываются, спина болит. Опять же сын его, Ивашка, уже в казачьем окладе…
Широкой ладонью Иван сжал бороду в пучок, вздохнул.
— Вот и мы старые. Крестник и тот в службе! Даст Бог, вернусь в Енисейский, сдам послов, буду проситься где поближе да потише. Савина-то жива-здорова?
— Жива! — потеплели глаза сына. — Внука нянчит. А мать как? — спросил, чуть смутившись.
— Здорова, кобыла старая! — неприязненно ругнулся Иван. — С Оськой живет. Зимой чуть брата тебе не родила. Да не дал Бог. Выкинула. А со мной твои сродные братья, — спохватился и поманил к себе Первуху со Вторкой, сидевших в струге вместе с мунгалами и Нареем.
Те неохотно вышли на берег, подошли, ревниво и настороженно уставились на Якова. Он же разглядывал их с насмешливым любопытством.
— Братан ваш, мой сын! — кивнул на него Похабов. — Помогайте друг другу. Они были со мной в Мунгалах, — представил племянников сыну. — Толмачи хорошие. Без них я бы пропал.
— А я без толмача! — Яков приветливо поднялся навстречу братьям. — Думаю колесниковского при себе оставить!
Первуха со Вторкой присели на корточки, как тунгусы. Яков усмехнулся и сел на прежнее место.
— В Енисейском ничего не выслужите! — Добавил: — Там окладов впусте нет. Гулящих, работных, захребетников у всякого посадского полный двор.
— Мы острог посмотрим и обратно! — небрежно разлепил губы Первуха. — За Байкалом были, другой раз туда не пойдем! — сказал тихо, но так решительно, что у Якова отпала охота уговаривать его.
— Смотрите! — он огорченно повел плечами. Насмешливо дрогнули материнские губы в негустой, коротко подстриженной бороде. — Если хотите поверстаться в служилые, то со мной и с атаманом Галкиным государь вас милостями не оставит.
— Поперечные выростки! — тихо рассмеялся старый Похабов. — Князца Нарея зови. Он по-русски еще подучится и будет всем толмачам толмач. А мне одним ртом меньше.
Мысль эта пришла ему в голову случайно и будто осенила. Он подошел к стругу, позвал Нарея для разговора. Позвякивая аманатской цепью, тот поднялся. Молодой Похабов вмиг преобразился, заговорил с князцом тихо, почтительно, ласково.
Вскоре на бечевнике показался караван стругов. Старый атаман Галкин шел налегке впереди всех. Его постаревшая жена, как всегда, брела за ним. С отрядом шел младший сын, отрок. Другие дети выросли в походах: читать, писать, дьячить не выучились, зато умели воевать, промышлять и пахать землю.
Иван расцеловался со старым товарищем. Разглядывая галкинские струги, подивился:
— Одни мушкеты, ни одной пищали не вижу. Однако хорошо снарядил тебя воевода.
— Добрые ружья! — согласился атаман. — Прислали из Москвы. Дают в дальние службы!
Старые казаки неторопливо поговорили о новостях. К ним подошел Яков, весело сообщил, что уговорил князца Нарея идти с отрядом за море. Иван простился с сыном, атаманом и князцом. Его гребцы разобрали весла, оттолкнули струг от берега, с песней налегли на весла, наверстывая потерянное время. Сын с отцом снова разошлись по разным сторонам.
Чем жил черный дьякон Герасим, не имея никакого жалованья? «Жизнь старца — великое таинство!» — думал Иван Похабов, подплывая к устью Иркута. Он спешил доставить послов в Енисейский острог, а потому велел пристать к берегу и к Дьячему острову послал двух казаков. Те вскоре вернулись, сказали, что укрепленное зимовье пустует. Похабов знал, что оставленные им здесь люди уплыли в Братский острог.
Посольский струг переправился на другой берег. Под яром возле кельи его уже ждал старец Герасим.
— Ну что, поплывешь со мной? — поклонился ему Иван.
— Надо плыть! — замялся, завздыхал Герасим. — И как бросить все? Столько трудов положено.
— Что тебе бросать-то? — не понимая забот монаха, рассмеялся Иван. — Икону за пазуху, шубный кафтан, одеяло — в струг. Топор и котел можно спрятать. Если зимовье сожгут или келью осквернят — вернемся, заново отстроим!
— Так-то оно так! — медлил монах, стыдясь, что задерживает людей.
Нажитого добра у него было мало. Иван помог ему спрятать немногие необходимые для жизни вещи. В четверть часа Герасим был собран и сел на корме рядом с сыном боярским. Струг снова поплыл по течению реки. Гребцы запели. Монах то и дело оборачивался к местам, в которых провел добрую половину жизни.
Струг двигался от темна и до темна. Только на Осиновом острове да в Братском остроге казаки сделали дневки для отдыха. Иван Похабов обошел острог и остался доволен службой Митьки Фирсова. Братские казаки в тот же день перевезли Герасима на другой берег реки в скит. Иван осмотрел и принял собранный без него ясак. Его люди успели попариться в бане, и, как только вернулся из Братского скита повеселевший монах, посольский струг поплыл дальше.
Вскоре послышался рокот порога. Выше него казаки Похабова увидели множество дымов, суда, вытянутые на берег. У костров сушились мужчины, женщины, дети. Струг Похабова пристал к табору. Тесным кольцом его окружили енисейцы, скитника Герасима вынесли на руках. К Похабову вышел седоусый, но все еще крепкий и статный Петр Бекетов. Поприветствовав товарища, повел его к своему костру, на ходу ворчал и жаловался, покрикивая на ухо Ивану:
— Я ведь уже и не голова! Разголовлен! За этот год только половину денежного жалованья получил, хлеб, крупы, соль совсем не дали.
Возле костра, охая, лежала толстая Бекетиха. Два ясыря подбрасывали хворост в огонь и готовили ужин. Разглядев Ивана, Бекетиха вострубила зычным слезным голосом:
— Наказал Бог! Придется нам с Петром на старости лет меж дворов скитаться!
Свою бедность Бекетовы, как водится, преувеличивали. Иван приглушенно гоготнул и напомнил:
— У вас два сына на пашне, десятин по двести у каждого, да ясырей не счесть! — При своем жалованье, самом низком среди енисейских сынов боярских, Похабову трудно было понять жалобы друзей.
— Сыновья — отрезанный ломоть, — простонала Бекетиха. — Своим домом живут, своим умом. Зачем им мы, старые захребетники.
Зная бабьи слезы, Иван слушал ее вполуха, глядел на товарища, высматривал знакомых казаков. Притом, что в отряде было три десятка служилых, среди них шли два старых пятидесятника.
Бекетов усадил товарища, сам присел, привычно щурясь от дыма. Ясыри сунули ему и гостю в руки чашки с горячим травяным отваром.
— Иду тебе на перемену в Братский острог, — стал обстоятельно рассказывать Петр Иванович. — Собрали со мной стариков, и выслали нас из Енисейского с бабами и с детьми! — пожаловался, кусая ус. — Там нынче правит новый воевода, сын боярский Федор Полибин. Ничего плохого про него не скажу, он сменил Федьку Уварова и почему мне прислали государево жалованье вдвое меньше прежнего — не знает. Догадываюсь, Федькины козни: не простил, что я его держал в тюрьме. Воздал отмщением. Про Ермеса слыхал?
— Слыхал! — поморщился Иван.
— Если нынешний воевода отправит тебя с послами в Тобольский или в Москву, не отказывайся и за меня там похлопочи. А я в Енисейский вернусь разве по государеву указу. Обидели старого стрельца, — опустил кручинную голову. Повздыхав, продолжил: — Четырех пашенных везу своим подъемом. Хочу их в Братском на землю посадить, чтобы свой хлеб был и не сквернить живота в постные дни. Пора о душе подумать.
— Похлопочу! — неуверенно пообещал Иван. — Только куда уж мне в Москву-то? Разве в Тобольский отправят.
— С такими послами могут и в царских палатах принять! — кивнул в сторону причалившего струга Бекетов. — Бери с собой соболей и лис. Сшей две собольи шубы в зиму да поддевку. Что на тебе надето, провезешь беспошлинно: ты — служилый. По пути поменяешь на ходовой товар. Даст Бог, вернешься с ним в Енисейский и будет твоя прибыль больше, чем за всю прежнюю службу от государева жалованья.
И обо мне не забудь, — напомнил. — Пусть указом восстановят в головстве и в прежнем жалованье.
— А себе буду просить тихую службу! — вздохнул Иван, примечая вблизи, как постарел Бекетов.
С галкинской заимки Похабов отправил в острог вестовых на резвых конях, чтобы там встретили послов мунгальского царевича с подобающими почестями. Гребцы струга нетерпеливо поглядывали вперед, но не налегали на весла. Их несла река. Сын боярский давал время начальным людям острога, чтобы приготовились к встрече.
Едва на левом берегу Енисея завиднелись купола острожных церквей, он приказал дать залп из пищалей. Под яром у причала, напротив главных острожных ворот, уже толпились люди в праздничных одеждах. Со смотровой башни в синее небо взметнулись пороховые грибки ответных выстрелов. Гребцы наконец-то налегли на весла, струг понесся к причалу, развернулся против течения, подгребая к берегу. Полдюжины молодых казаков и посадских вошли в воду, схватили его за борта. На помощь им кинулись другие и с ликованием вытащили тяжелое судно на сушу.
— Слава Тебе, Господи! — встали на корме и закрестились Иван Похабов со старцем Герасимом.
По ступеням крутого берега к воде спускался новый воевода. За ним шли два незнакомых сына боярских и прежний, уваровский, подьячий Василий Шпилькин. Похоже, что государево число средних чинов[257] в остроге снова было увеличено.
Послы Седек и Улитай весь долгий путь хмуро и важно помалкивали, надували щеки, поглядывали на казаков с важностью, стараясь не уронить достоинства пославшего их царевича. Чорда и Гарма, напротив, были говорливы и любопытны. Еще за Байкалом выспрашивали, как что называется по-русски, и ко времени прибытия в Енисейский острог уже толмачили.
— Главные люди! — указал им Похабов на воеводу с подьячим и таможенным головой.
Чорда с Гармой передали его слова Седеку с Улитаем. Те встали на носу струга, не спеша сойти на сушу. Молодые казаки и охочие люди в мокрых сапогах подхватили их на руки, поставили на землю против воеводы. Седек с Улитаем исполнились пущей важности, огласили приветствие их царевича казачьему царю. Воевода, блеснув живыми, насмешливыми глазами, поклонился на восход. Послы поклонились на закат.
Ритуал встречи был соблюден без обид и унижений. Воевода повел послов в острог. Иван огляделся по сторонам, увидел Савину со старшим сыном Емелей в густой бороде. На душе его стало радостно. «Вот и все! — подумал. — Хватит с меня дальних служб!» От острожных ворот к причалу опасливо спускался с посохом старик в красном кафтане и шапке сына боярского. Иван пригляделся и вскрикнул:
— Максимка? Что же ты такой ветхий?
— Хвораю! — ответил старый атаман. — Теперь уж легче. А то совсем плохо было. Стареем, брат Иван!
— Стареем! — со вздохами согласился Похабов.
— Настена велела встретить тебя да позвать к столу.
Иван оглянулся на Савину с Емелей. На борту струга сиротливо, как ясыри, сидели Первуха со Вторкой, смущенно поглядывали на людей, на острожные ворота, на купола церквей. Чуть в стороне, на окатыше подмытого яра, терпеливо ждал Ивана подьячий Василий Шпилькин.
— Разберусь с делами и приду! — пообещал он Максиму, ласково взглянул на Савину с Емелей. — А вы племянников моих примите и приветьте, — попросил.
Савина, не отрывая от него туманных глаз, смахнула со щек радостные слезы, обернулась к Первухе со Вторкой в струге. Племянники заулыбались ей.
— Дочку высматриваешь? — спросила Ивана, и ее голос напевно зазвучал в ушах, отзываясь прежний лаской. — В Томский город уехала с мужем. Савоська выхлопотал там себе службу.
— Вон что? — болезненно смежил веки Иван. — Ну, ступайте с Богом! — кивнул племянникам и Савине с Емелей, обернулся к подьячему: — Здорово живешь, при новом-то воеводе?
— Слава богу! — ответил тот. — Хороший воевода. Ничего плохого о нем не скажу. — И добавил, указывая глазами на мешки в струге: — Показывай, что ли!
Прибывшие со служб казаки оторвались от знакомых и родственников, опять собрались возле струга. По принятому порядку десятский Дружинка с двумя служилыми взяли мешки с казенной ясачной рухлядью. Другие подхватили свои добытые меха, отбитые в боях сабли, куяки, шишаки и поручи, пищали и котлы. На судне остались одеяла и шубные кафтаны, истрепанный парус. Шпилькин поставил возле струга престарелого острожного воротника и повел прибывших казаков в острог.
— Прошлогодний ясак получил? — спросил его Иван.
— Получил, — улыбаясь, ответил подьячий. — Сперва посыльные сильно на тебя жаловались, но после покаялись, — с пониманием взглянул на сына боярского. — По оценке енисейских торговых людей, было рухляди на триста двадцать девять рублей двадцать три алтына две деньги.
— Я думал больше! — признался Иван.
Подьячий принял по описи старые ружья и котлы. Со слов сына боярского записал, что две пищали украдены в Мунгалах. Мешки с рухлядью он опечатал и велел сложить в келейке при церкви. На том казаки были отпущены на отдых.
Дом Филиппа Михалева когда-то стоял привольно и просторно, в стороне от острожной стены. Теперь расширившийся острог подступил к самым воротам. Теснимый со всех сторон другими посадскими домами, михалевский двор стал мал, огород и вовсе урезан. Заждавшись Ивана, выстывала баня.
В подлатанных рубахах сыновей Савины за столом сидели распаренные Первуха со Вторкой, Емелька Савин и сама Савина. Ухаживала за гостями проворная Емелькина жена. Все другие сыновья Савины и Филиппа были в отъезде и на службах. Емеля тоже спешил уехать на пашенную заимку Терентия Савина. Вскоре в доме остались только Савина с Иваном да его племянники.
Стемнело. Уже дремали на лавках Первуха со Вторкой, Савина тихо рассказывала о своем житье при доме. Подперев рукой щеку, все глядела на своего постаревшего полюбовного молодца большими любящими глазами.
— Будто учуяла там, в Братском. Или Господь надоумил! После Филиппа, до Рождества, все четверо с женами и внуками здесь собрались. А мне-то хорошо было, когда они со мной: счастливая, как наседка с цыплятами. Только тебя не хватало.
Легли они в чистой горнице, слушали сонное гудение комаров. «Пора и в радость пожить», — опять подумал Иван, зашептал Савине на ухо:
— Буду проситься на службу рядом с острогом. Хоть бы приказчиком в слободу или опять в Маковский.
На другой день воевода принимал ясак, непридирчиво разглядывал долевую рухлядь казаков: лучшие соболя были среди ясачных сороков. Ивана Похабова он повел в съезжую избу, посадил напротив себя на лавку и стал расспрашивать о походе. Писец и подьячий, поскрипывая перьями, записывали расспросные речи. Иван рассказывал о походах небрежно и торопливо, спешил вернуться к Савине. Ничто другое ему не шло на ум.
Воевода был ни молод и ни стар: с проседью в стриженой бороде. Не нравилось Ивану, что нынешние дворяне и сыны боярские при высоких должностях стригут бороды, нарушая ветхозаветные Заповеди Господа и казачьи традиции. Но приходилось с этим мириться, подступал иной век. Бывавшие в Москве люди говорили, что сам царь Алексей бреет бороду и носит длинные усы.
А воевода Похабову понравился: без спеси, с умными глазами, он вел расспрос без коварства и подозрительности. Пожурил, что Иван в Братском пытал огнем своих казаков, но похвалил, что вернул казне украденную рухлядь.
— Пятидесятник Василий Колесников на тебя жаловался, — укорил со смехом. — Увечил, дескать, его, кости ломал. После, правда, Пятунка Голубцов при расспросных речах объявил, что тот первый обнажил саблю… Смотри! Я тебя предупредил. В Тобольском могут спросить строже. Знай как отвечать!
Закончив расспросы, он налил сыну боярскому чарку хлебного вина.
— И еще подумай! — предупредил с усталой улыбкой. — Говорят, двух ясырей ты привез.
— Не ясыри это, — заспорил было Иван. — Мои племянники-болдыри!
Воевода с пониманием взглянул на него, кивнул.
— У меня тоже ясырей полон дом. Их палкой на волю не выгнать. Нынче гулящий из Верхотурья женился на моей ясырке, дал крепость на век, на себя и на детей, которые родятся. А царь шлет указ за указом, чтобы мы ясырей не крестили, но отдавали на выкуп или отпускали в улусы. Оно и понятно, с крещеных какой ясак? А наш прежний и новый архимандриты, в пику царским указам, велят крестить и венчать диких.
Я это к тому говорю, что тебе придется ехать с послами до Тобольского. Вывозить ясырей — запрет, а здесь оставишь — подумай, как надежней. И еще подумай, кого из своих казаков возьмешь: спокойных, не скандальных, не пьяниц, за кого можешь поручиться.
Иван крякнул, покачав головой. От другой чарки отказался. Сказал, что доволен угощением, расспросами и советами, прочитал написанное писцом и подьячим, приложил руку, откланялся и вышел.
— Не темните, не скрывайте ничего, — предупредил Дружинку с поджидавшими его казаками. — Говорите что помните!
Самых спокойных и рассудительных казаков он выбрал еще в Байкальском острожке, с ними ходил в посольство.
Вскоре воевода Полибин отправил в Тобольск послов, а с ними Ивана Похабова и ходивших с ним в Мунгалы Дружинку Андреева, Кирюху Васильева, Сеньку Новикова. Кончался июль, надо было поторапливаться, чтобы успеть сплыть до Сургутского острога и еще подняться по Иртышу.
Первуха со Вторкой не показали обид, что остаются в Енисейском остроге без дядьки. Они соглашались пожить у Савины, поработать на заимках у ее сыновей обротчиками[258].
Воевода дал Похабову проездную грамоту с наказом всем сибирским людям прямить служилым и государевым послам, давать им кров и корма, суда и лошадей. Людям при послах наказал по кабакам не буянить, таможенных людей и ямщиков не бить.
Только в церкви, перед выходом на Кетский волок, Похабов встретил монаха Герасима в коротковатом подряснике. Как они расстались возле струга, так и разошлись по разным сторонам. У монаха была своя власть, неподотчетная воеводе.
— Грешен! — завздыхал Иван, кланяясь старому товарищу. — Не удалось побывать на могиле старца Тимофея. Тебя увидел, только и вспомнил о нем.
После исповеди и причастия Иван простился с Савиной и племянниками. На трех подводах с четырьмя послами, тремя казаками охраны да с черным дьяконом он двинулся знакомой дорогой к Маковскому острогу.
С тех времен как оставил его, острог не расстраивался, разве был местами подновлен. Все ветшало: и амбары, и гостиный двор. Дела велись ни шатко ни валко. Управлял острожком сын боярский Богдан Болкошин — вологжанин. Он же был на приказе в Дубчевской слободе. Жаловался, что не успевает быть там и здесь. Как Иван в молодости, рвался на дальние службы, а замены ему не было.
— Будет! — пообещал Похабов. — Сам напрошусь у старших воевод.
Богдан выспрашивал о Байкале и Селенге, о походе в Мунгалы. Простодушно охал и завидовал тем, кто голодал в засеках, отбивался от враждебных народов, на прощанье дал казакам с послами самый добрый струг, сушеного мяса и ржи в дорогу.
В Тобольск Иван Похабов добрался за четыре недели.
— Что везем? — со скучающим видом спросил у него казак на причале. Заметив в струге монаха, равнодушно скинул шапку, кивнул. При виде богато одетых нехристей оживился.
— А вот я по дурной башке-то тресну, — незлобиво пригрозил енисейский сын боярский, — все сразу поймешь! — А ну, бегом к воеводе! Доложи: послов мунгальского царя к нашему царю везем!
Казак плутовато повел бровями, крякнул, хмыкнул и быстрым шагом стал подниматься к верхнему городу. Пока енисейцы вытаскивали из струга царские подарки, меха и пожитки, скитник Герасим положил обетное число поклонов на купола Софии и незаметно, как в Енисейском, пропал из виду.
Струг окружили ярыжники, стали прицениваться к соболям и лисам на одежде казаков, просили показать рухлядь, навязчиво назначали цену и уверяли, что дороже не продать. Иван только досадливо отмахивался от них. Дружинка с Кирюхой со смехом торговались. Семейка покрикивал, отталкивая чужаков от струга и от мунгал.
К пристани спускались тобольские сыны боярские в окружении десятка казаков. Иван сбил шапку на ухо, с важным видом назвался, представил им послов и протянул подьячему верительную грамоту енисейского воеводы.
Сдав послов и их подарки, енисейцы, в сопровождении все того же курносого таможенника, стали подниматься в съезжую избу. Пожитки их остались в струге, под охраной престарелого казака.
Тридцать пять лет прошло с тех пор, как Иван Похабов проехал через этот город молодым ссыльным казаком. При Федоре Уварове, когда он отбил Пелашку и со скандалом ушел на дальние службы, Тобольск выгорел дотла. Теперь город отстраивался заново, узнать что-либо можно было только по местности. Не было уже прежней Спасской башни, Софийский собор срублен заново, церковь и архиерейский дом были отделены стеной от обывательских построек верхнего города.
Узнал Иван земляной вал с Кошелевым рвом при въезде с нагорной стороны. В глубине его текла речка Курдюмка и впадала в Иртыш, отделяя нижний посад от верхнего.
Подступалась осень, под ногами шуршали желтые листья, принесенные ветром. День был ясный и теплый. Казаки парились в собольих шубах, сшитых для поездки, в пышных, богатых шапках, какие носили только приезжие из-за Енисея служилые. Савина не стала шить Ивану шубу, не желая портить и дешевить непоротых соболей, она сумела связать их в душегрею. Душегрея была надета под суконный кафтан и пышно выпирала из-под ворота.
Перво-наперво Иван с казаками отправился в главный собор города поставить свечи, заказать молебен об удачном пути и возвращении. В притворе нос к носу столкнулся со знакомым лицом под фиолетовой скуфьей.
Отступил на шаг, с недоумением разглядывая попа в добротной рясе: большой рот, вздернутый, будто выдранный, нос, редкие, висячие пряди бороды по щекам.
— Ивашка Похабов? — пискляво воскликнул тот, чем еще больше смутил сына боярского.
— Струна? — ахнул Иван, отступая еще на шаг. Узнал он бывшего охочего человека больше по голосу, чем по лицу. Глаза у него стали другими.
После окинского похода без неприязни они встречались в Енисейском остроге. Иван Похабов хорошо помнил козни и алчность зловредного выходца из калмыков. Увидев его в рясе, таращил глаза от удивления, мотал бородой.
— Мать твою. Прости, Господи! — размашисто крестился.
— Кого изберет Господь, — оправившись от смущения, покорно вздохнул Струна, — на рожон не лезь, как Павел, будь ты хоть стрелец или разбойник!
— Да! Всяко-разно видел, но не такое.
Ивашка был в иеромонашеском чине. И не Ивашка, не Пятунка, а Иоанн. Он помог бывшим сослуживцам заказать молебен, поставить свечи, сам принял в казну храма по соболю с каждого прибывшего. Сказал, что служит при нынешнем сибирском архимандрите Симеоне. Дожидаться начала молебна он не стал. Но вдруг посреди храма пал на колени перед Похабовым.
— Прости, христа ради, что тебя, невинного, вязал, подстрекал в воду посадить! — завизжал, колотясь лбом в тесовый пол.
— Когда это было? — смущенно заворчал Иван. — Давно простил и забыл! — Стал поднимать на ноги монаха, а тот с рыданиями распластался на полу. — Простил и забыл! — прикрикнул строже. — Господь с тобой! Только встань, не позорь меня, старого, перед казаками и причтом.
Бывший Ивашка встал, поклонился, коснувшись пальцами пола, вытирая слезы, ушел по делам.
— Вот ведь! — оправдываясь, испуганно развел руками сын боярский.
Три дня енисейцы шлялись по городу и посаду, томясь вынужденным бездельем. Наконец их позвал тобольский главный воевода царский стольник Василий Борисович Шереметьев.
У ворот воеводских хором енисейцев встретил дворянин в немецком платье, с гладко выбритым лицом, с золотыми серьгами в ушах. Провел гостей к воеводе.
Приняв поклоны, тот стал расспрашивать о Байкале, о пути к мунгальскому царевичу Цицану. Путь этот явно был знаком ему по рассказам послов. Воевода усмехнулся и покачал головой, когда Иван Похабов сказал, сколько острогов надо поставить, чтобы закрепиться за Байкалом. Улучив подходящий миг, сын боярский напомнил о просьбе разголовленного Бекетова.
— Как же? — удивленно вскинул брови стольник. — Хорошо знаю его заслуги перед государем!
Он тут же позвал писца и потребовал выяснить, отчего Бекетов получил только половину денежного жалованья, а хлебное и солевое вовсе не получил. Забегали, засуетились писцы и подьячие. Не успели казаки закончить рассказ о поисках серебра, прибежал все тот же дворянин с серьгами в ушах. В руках его были грамоты. Он приставил к носу стекляшки и прочел, что в Братский острог Бекетов послан на приказ. А при сидении на приказе служилые снимаются с жалованья по прежнему указу.
— Он первых пашенных привез туда своим же заводом и содержанием! — сдержанно просипел Иван. — С кого ему там взять корма?
— Не могу знать! — слащавая улыбка расплылась по лицу читавшего. — Так решили томские воеводы.
— Жалованье и головство Бекетову восстановить! — строго указал воевода. Дворянин поклонился, сворачивая грамоту. А царский стольник обернулся к Ивану: — С другого года в Енисейский будет дан еще один оклад казачьего головы. Как думаешь, достоин ли головства — атаман Максим Перфильев?
— А то как же! — развел руками Иван. — Изранен в походах. Смолоду в службах. Умен и грамотен.
— Вернешься, так ему и скажешь. — Воевода тихо рассмеялся в пышные усы. — Только сперва ты съездишь в Москву, сопроводишь послов к царю!
Казаки за спиной Похабова приглушенно и весело загалдели. Он же подумал: «Хорошо, что не продал соболей!» Но радости на душе не было, хотелось поскорей вернуться к Савине.
— А то, что для себя просишь, — добавил воевода, — приказа в Маковском остроге или в Дубчевской слободе, с тем в Сибирском приказе обратись к боярину и князю Алексею Никитичу Трубецкому. Вдруг и государь пожелает тебя видеть? — неуверенно взглянул на Похабова. — А я, скажешь им, не против твоей просьбы. Прежние свои грехи ты отслужил в Сибири верой и правдой, награды достоин. Пусть только из Енисейского подтвердят, что сукна, которые ты дарил царевичу и его слугам, твои. И как они у тебя появились, тоже пусть подтвердят со свидетелями.
Енисейцам была выписана подорожная грамота. В ней указывалось, какими городами им ехать: от Тобольского до Тюмени, и до Туринска, и до Верхотурья, и до Соли Камской, и Устюга Великого, и до Тотьмы, и до Вологды, и до Ярославля, и до Переславля-Залесского, и до Москвы. Указывалось, чтобы по ямам им ямщиков давали, а где нет ямщиков — всем людям без обмана возить их, давать им подводы под ящики, мешки да казенных провожатых и есть давать под Енисейскую денежную казну.
Воевода приложил печать к новой государевой подорожной. И ждали енисейцы с послами еще три дня, когда дадут им провожатых и бурлаков.
На Самойлин день, в начале сентября, послы и енисейские служилые с попутными барками ушли на Тюмень-город. Ледостав застал их в Верхотурье. С тех пор как бывал в этом городе Иван Похабов, он несколько раз выгорал. Из прошлого ничего нельзя было узнать, так все переменилось. В храмах никто не помнил оставшихся здесь донских казаков. Иван заказал молебен об упокоении товарищей, побродил по кладбищу, посидел возле старых могил, вспоминая, как они напутствовали его в нынешнюю, уже прожитую, жизнь. На ямских подводах обоз двинулся дальше Бабиновской дорогой.
Менялись станы и тесно настроенные селения. После Заенисейской Сибири все казалось унылым и однообразным. Обоз приближался к Москве. Но в Соли Камской случилась нечаянная встреча.
Похабов услышал храп коней во дворе. Прибыла еще одна подвода, а свежих лошадей не было. Непоседливый Сенька Новиков оторвался от печки, скучая, вышел во двор и вдруг завопил там. Дружинка с Кирюхой бросились на помощь товарищу. Иван Похабов, ерзая на лавке, не смел оставить без призора послов и подарки царевича.
В сенях послышалась ругань. Дверь распахнулась, и в клубах ворвавшейся стужи распрямился служилый в собольей шубе. Лицо его было красным от ветра, реденькая борода по щекам обметана куржаком, как будто он сам правил конями на козлах. И узнал вдруг Иван своего старого сослуживца Василия Колесникова.
Тот бросил на него неприязненный взгляд, не кивнул, не поприветствовал. Лицо его из красного сделалось бордовым. За Василием вошло четверо спутников в богатых сибирских одеждах. Ни один из них не запомнился Ивану по прежним встречам.
На том закончились степенное ожидание конца пути и споры с ямскими старостами. Если Похабов с Колесниковым просто не разговаривали и делали вид, что не замечают друг друга, то сопровождавшие их казаки весь оставшийся путь ругались и дрались.
А бес подначивал тех и других. Только прибыл Похабов с послами в Устюг Великий, следом прикатили подводы Колесникова. При ямской станции был просторный и многолюдный трактир. Рассудительный, незлобливый Дружинка вышел из него с разбитым лицом. Слегка побитые Кирюха с Сенькой уверяли, будто на кулачках хотели доказать, что колесниковские самохвалы у мунгальского царевича не были и дороги туда не знают.
Казаки Колесникова хвалились, будто побывали у царевича в тот же год, что и Похабов, только Цицан их не принял.
— А не спрашивали Ваську, отчего он не взял с собой ни Коську Москвитина, ни Якунку Кулакова, а все каких-то охотников? — удивлялся Похабов.
Енисейские казаки дрались между собой всю оставшуюся до Москвы дорогу в кабаках Тотьмы, Вологды и Ярославля. Рухляди на них убывало, а бес все не унимался: стоило приехать на ямское подворье похабовским людям, следом приносило колесниковских.
В самой Москве енисейцев поселили при Казанском дворце в одной избе. К счастью, послов с подарками царевича Иван Похабов сдал на руки дьякам Сибирского приказа и больше их не видел. В черед с Василием Колесниковым он ходил к тем дьякам, заученно пересказывал, что помнил о походе к царевичу. Колесникова не вспоминал и не чернил.
В ожидании, когда опять позовут для расспросов, раз и другой встретил скромно одетого московского дворянина с лицом, выбритым на иноземный манер. Дворянин был моложе Ивана и не запомнился бы, если бы при встречах не смотрел на него пристально и неприязненно. За такой взгляд в Сибири могли побить. В Москве, под стенами которой когда-то рубился молодой Ивашка Похабов, были иные, непонятные порядки.
Его казаки успели получить батогов и попасть в тюрьму Сибирского приказа. Колесниковским людям досталось не меньше. Но от этого сыну боярскому не полегчало. Он уже не думал проситься в Серпухов, чтобы поклониться праху отца и деда. С нетерпением ждал, чтобы поскорей отправили в обратный путь. А князь Трубецкой все держал енисейцев, не давая им подорожной, хотел встретиться с ними сам.
С бритым дворянином Иван в очередной раз столкнулся возле стола дьяка Лихачева. Дворянин стоял перед ним, низко склонив голову, на выбритом лице блуждала угодливая улыбка, прищуренные глаза лучились лаской. Но стоило ему обернуться к сыну боярскому, губы его надменно сжались, брови насупились, глаза блеснули недобрым светом.
— Вот, тоже енисеец! — дьяк покровительственно представил ему Ивана. И назвал имя дворянина: — Афанасий Пашков! Просится к вам на службу.
— Знал я епифанских дворян сотника Истому Пашкова! — обронил Иван, вспомнив молодость. Афанасий взглянул на него приветливей. Но память не остановить. С языка сорвалось и другое: — В те годы все были горазды на измены. Но Истомка-иуда в предательствах превосходил всех!
Кровь ударила в лицо дворянина. Он побагровел, глаза гневно блеснули. Дьяк громко захохотал, откинувшись в кресле. На удивленный взгляд Ивана прерывисто и весело ответил:
— Крестильное имя того Истомки, Царствие Небесное, Филипп Иванович! Отец Афонькин! — кивнул на дворянина.
— Кто без греха? — смущенно пробормотал Иван. — Давно это было. Я третью неделю сижу без дела. Теперь даже за своими буянами следить не надо — в тюрьме. Отпустил бы ты меня в Серпухов?
— Только отпущу, а князь Алексей Никитич позовет! — посмеиваясь, отказал в просьбе дьяк, почесал за ухом гусиным пером, снова склонился над бумагами.
Иван еще раз взглянул на дворянина и понял, что нажил лютого врага.
Прошла зима, по улицам стольного города потекли ручьи. Принял-таки Ивана Похабова глава Сибирского приказа, князь, боярин Трубецкой. Он велел освободить, помыть казаков и поставить их перед ним вместе с сыном боярским.
Журить князь никого не стал. Строго выслушал просьбы. Ничуть не удивился тому, что Иван объявил истраченными на государевы дела двести пятьдесят пять рублей десять алтын денег, да пищаль, да топор, да батожок железный. Чуть приметно усмехнулся объявленной сумме, велел дьяку сделать выписки из других наградных указов и выдать пятьдесят пять рублей награды да прибавку к жалованью в три рубля, а также дал свое согласие, чтобы Иван Похабов занял на приказе по Маковскому острогу и по Дубчевской слободе прежнее место сына боярского Богдана Болкошина.
Казаков князь наградил десятью рублями каждого и благословил всех на обратный путь.
В конце марта Иван обошел столичные торговые ряды, купил подарки Савине, ее сыновьям, пасынкам и своим племянникам. Себе выбрал пистоль с колесцовым запалом да карабин — укороченный мушкет с винтовым стволом, серебряной насечкой и вытравленным посередине ствола латинским словом. Пистоль, карабин и засапожник обошлись ему всего в семь рублей. На Енисее и Лене такое оружие стоило вдесятеро.
На оставшиеся от награды и проданных соболей деньги он набрал сукна, которое по московским ценам было необыкновенно дешево, а в братской степи за три аршина давали доброго коня. С тем и покинули казаки Москву. Прежним путем, по распутице, ямскими подводами добрались до Верхотурья. Там их опять догнал Василий Колесников со своими людьми.
На этот раз он степенно поздоровался с Иваном, а его люди больше не задирали казаков Похабова и не спорили с ними. Соболей они промотали, возвращались скромно. От Тюмени енисейцы плыли одной баркой до Тобольского города и жили без всяких споров.
Василий Колесников получил в Москве чин сына боярского и разрядную атаманскую должность. Жалованье и награды его были меньше, чем у Похабова, но он теперь был равен ему и не чинил вреда, осаживая своих казаков и охочих, если те начинали кого-то задирать.
В Тобольском городе енисейцев поджидал зимовавший там скитник Герасим. Черный дьякон был пострижен в иеромонахи, ходил в новой рясе, мог теперь по своему чину вести литургию, причащать и крестить. Он получил благословение архимандрита на строительство скита, антиминс и миро, с печалью вспоминал свою келью и устье Иркута и рвался туда всей душой.
Глава 13
Показались купола енисейских церквей, и монах Герасим с увлажнившимися глазами стал истово креститься на них. Попутного ветра не было, казаки весело тянули судно бечевой. До Енисейского острога оставались последние версты. Сыны боярские Колесников с Похабовым шли по берегу. Василий вслух посмеивался над своей женой, «старой стропилиной», которая ни сном ни духом не ждала его так рано.
Когда струг подходил к причалу, возле главных ворот острога стояли и глядели на реку десяток ротозеев. Важных гостей никто не ждал. Герасим прытко выскочил на берег, отвесил семь поясных поклонов на Спаса и, как всегда, ушел в обитель. Колесников, выпячивая грудь, громко распоряжался выгрузкой, тянул время, чтобы из острога вышли начальные люди.
Иван поднялся на яр, увидел Максима Перфильева в простой одежде, с посохом в руках. Обнял старого товарища:
— Все хвораешь, казачий голова?
— Не дает Бог здоровья по грехам! — пожаловался Максим. — Доложишься воеводе и ко мне! Не обижай! — На то, что Иван назвал его головой, Перфильев и ухом не повел.
— А ведь я привез тебе должность казачьего головы! — сказал громче. — Как не обмыть?
— Не мне вез, себе! — со вздохами пробормотал Максим. — Я свое отказаковал! За дряхлостью из службы выставляюсь! Так оно и лучше!
Похабов не нашелся чем утешить товарища.
— Зайду! — пообещал хмурясь. — Вот только передам воеводе грамоты да Савину обниму. Как она? — вскинул виноватые глаза.
— Третьего дня видел здоровой! — Перфильев замялся, что-то недоговаривая, Иван вопрошающе впился в него глазами. — Меняются времена! — вздохнул старый атаман. — Сыск у нас был. Зимой наезжал томский сын боярский Петруха Сабанский, искал нетягловых людей… Твоих племянников поверстал на государеву пашню и отправил весной в Братский острог, к Петрухе Бекетову.
— Тьфу ты! — Иван остервенело сорвал шапку и хлопнул ею по колену, торопливо зашагал в съезжую избу, к воеводе, оттолкнул с дороги подьячего.
— Меня не спросив, моих племянников в пашню? Кто дозволил? — закричал вместо приветствия.
Воевода досадливо блеснул усталыми глазами, кивнул на лавку:
— Сядь!
Иван с рычанием опустился, вперился разъяренным взглядом в Полибина, ожидая оправданий.
— Был сыск! — стал терпеливо разъяснять тот. — Я тебя предупреждал. А племянники твои оказались не в меру строптивы, не пожелали назваться подворниками-захребетниками у Михалевых и Савиных сыновей. Я звал их охочими людьми на перемену атаману Галкину. Не пошли, заявили: «Мы — вольные, не хотим за Ламу!» И то бы еще ничего — не дали Савиным внести за себя подушную подать.
Как только Иван услышал эти слова, так и сник. Встали перед глазами упрямые раскосые лица племянников. Ярость, кипевшая в жилах, остыла, заледенела под сердцем тоска. Опять не добром встречал его Енисейский острог.
Воевода достал из-под стола березовую флягу и две чарки, наполнил их. Одну придвинул Ивану. Тот выплеснул ее в бороду, не перекрестив рта, помигал выпученными глазами, выдохнул винный дух из груди, спрашивая взглядом, что делать?
— Что поделаешь? — пожал плечами воевода. — У меня ясырка была самоедской породы. Хорошо, отдал за нашего русского гулящего, бездельника, да записал на крепостном столе и подати за них уплатил. Иначе этот бывший пан Сабанский отобрал бы обоих и отправил силком в пашенные, не посмотрел бы, что я — воевода. У них ведь совести нет, хоть и выкресты. — Полибин помолчал с недовольным видом, выцедил сквозь зубы свою чарку, спросил тише: — Говорят, Васька Колесников вернулся?
— Сын боярский, разрядный атаман! — блекло усмехнулся Иван. — А врет все! Не были его люди у царевича.
Воевода равнодушно шевельнул плечами:
— Ясак он привез вдвое против твоего! А ложно или не ложно, пусть дьяки в приказе разбираются. Зачем мне склоки заводить? До другого лета просижу на воеводстве — хорошо!
— Ох уж эта шляхта! — безнадежно выругался Похабов, едва хмель размягчил душу. — Сабанских на Селенгу не загонишь! Крутятся при доходных местах!
Полибин язвительно взглянул на Похабова, с пониманием усмехнулся:
— Едомский взял у меня на откуп площадное письмо. Сто рублей дал за год. Он тебе быстрехонько жалобу на Сабанского напишет. Целковый возьмет, не меньше. Еще подстрекать станет, чтобы и на других писал!
— Тьфу на них! — понял намек и заерзал на лавке Иван. — Что делать?
— Что делать? — желчно передразнил его воевода. — Племяши твои взяли пашенного завода на тридцать целковых. Возьми пару гулящих да посади на их место. Вон сколько опять возле острога крутится. Впору снова звать пана Сабанского.
Прошлый год десяти ссыльным атамана Осипа Галкина я дал вольную вернуться на родину. Хорошо отслужили царю свои вины.
— То литва да черкасы! — досадливо отмахнулся Иван. — Не раз с ними в бой ходил, ничего плохого не скажу.
— Так вот! — строже заговорил воевода. — Ваську Колесникова на неделе отправлю на смену атаману Галкину. Бекетов отписки и челобитную прислал, рвется служить за Байкал, за Баргузин и Селенгу, на Шилку и Иргень-озеро, про которые вы с Васькой в расспросных речах говорили. Промышленные люди сказывают про великую реку Амур и богатую хлебом Даурию. В Илимском остроге пашенный Ерофейка Хабаров собирает туда полк своим подъемом.
Бекетова в Братском дольше держать не могу. Хотел ему на смену послать атамана Перфильева. Хворает! — взглянул на Ивана с намеком. — Пойдешь вместо него казачьим головой. Бекетову передашь хлебные оклады и будешь собирать ясак от Байкала до Илима. А Бекетов и Колесников пусть за Байкалом берут и ставят там остроги.
Опустил Иван буйную голову, замотал бородой. «Вот тебе, бабка, Юрьев день!» Еще не повидал Савину, а надо уже собираться в путь.
— А ведь я от князя Трубецкого получил согласие на ближние службы, — пробормотал.
— Ну и скажи Перфильеву, пусть идет на Ангару головой. Бог даст, поправится!.. Освободит твоих племянников. Или отпиши Бекетову, чтобы сидел на Ангаре, пока кто другой его не сменит, — воевода притворно зевнул и равнодушно поднял глаза к потолку.
— Умен! — тяжко вздохнул Иван. — Правильный ты воевода! Мало было таких.
— Нас на одном месте долго держать нельзя, — горько усмехнулся Полибии. — Приживемся, проворуемся. Государя прогневим.
Едва Иван вышел из съезжей избы, ему навстречу кинулась Савина. Видно, долго ждала, извелась, если на глазах зевак ткнулась лицом в грудь седобородого сына боярского, поливая ее горячими слезами.
— Знаю все! — оглядываясь по сторонам, пробурчал Иван. — Нет в том твоей вины. Сам я во всем виноват.
Рука об руку они пришли в дом. Здесь уже были сложены все пожитки Похабова: тяжелый мешок с сукном и подарками, немецкий карабин, дорожный скарб.
— Одна? — удивился Иван, прислушиваясь к тишине дома.
— Одна! — неприязненно оглядела пустые лавки Савина.
Ночью пришла на ум Ивану нелепица, и он прошептал:
— Помрем вот, возляжем на ложе Авраамовом, и хорошо, как сейчас, будет до самого Великого Суда.
— Мы же не венчаны! — прерывисто, как ребенок, вздохнула Савина. И добавила с легкой обидой ревности в голосе: — А как возляжешь с Пелашкой?
— Ну, уж нет! — в голос рыкнул Иван. — Не может быть такого от милостивого нашего Господа. — Помолчав, кашлянул: — А ну-ка, спрошу у Герасима!
— Не судьба, видать, в третий раз венцом покрыться! — покорно пролепетала Савина. — Надолго? — всхлипнула, предчувствуя в печали Ивана новую разлуку.
— Думал, впредь будем с тобой до кончины! — тоскливо прошептал он. — Оказалось — на неделю!.. Вот ведь как угораздило намолить смолоду бродячую старость.
— Как чуяла! — тесней прижалась к нему Савина. — На этот раз одного не пущу. С тобой пойду. Будь что будет! Прости, Господи!
Утром после молебна в острожном храме и крестоцелования Герасим сошел с клироса и направился прямиком к Ивану:
— Колесников идет на Байкал! Душа истомилась по Иркуту, а с ним плыть не хочу!
Похабов взглянул на монаха обреченными глазами, жалко улыбнулся, подумал: «Знает уже все наперед, старый колпак!» Сказал тихо:
— Если и ты меня туда тянешь, друг благочинный, видать, судьба моя там, а ее ни на козе, ни на лихом коне не объедешь!
Он еще не дал согласия воеводе, но приострожный люд уже знал, кто, куда и кем идет. Едва Иван вышел из храма, два десятка гулящих людей окружили его тесным кольцом. Иные лица были знакомы, других он видел в первый раз. В стороне особняком стояли двое с несчастным видом, не иначе как сошли с паперти.
— Иван Иваныч, возьми в Браты? — гнусавили, низко кланяясь. — Отслужим за добро и за хлеб!
Властно рыкнул Похабов, нахмурил брови:
— Нашли время о делах говорить! Завтра приходите! После полудня.
Перфильевы уже поджидали дорогого гостя. Младший отрок сидел возле ворот, выглядывая среди проходивших прихожан Похабова. Как увидел, подскочил к нему, схватил за руку, потянул к дому.
Крестясь и кланяясь на образа, Иван с Савиной вошли в горницу. Он расцеловался с товарищем, с располневшей и наконец-то обабившейся Настеной. Похвалил ее, отступив на шаг:
— Теперь вижу — хозяйка! А то все тоща, как отроковица.
Громко топая сапогами в сенях, в избу вошел одетый в камчатую рубаху крестник Иван. При нем были жена дядьки, Илейки Перфильева, и два племянника. Сам атаман Илья где-то служил. Крепко пустил корни на Енисее род сургутских Перфильевых.
— Это у атамана-бегуна уже такие молодцы? — ахнул Иван. — Скоро под стать острог назвать Перфильевским! — польстил товарищу и пожаловался: — А мой-то, Якунька, все холост.
О дочери он умолчал. Это был отрезанный ломоть, украденный.
Ивашка Перфильев, старший из всех иерфильевских детей, держался с важностью. В свои неполных два десятка он побывал в двух походах и был в окладе десятского. О том, что идет с крестным к Бекетову, говорил как о решенном.
После второй и третьей чарки Максим Перфильев оживился, на щеках его выступил былой румянец. Он давно уже не подрезал бороду, она отросла и седыми прядями рассыпалась по груди.
— Отходил свое атаман Перфильев! — просипел, занюхивая крепкое вино свежим ломтем хлеба.
— Погоди себя хоронить! — проворчал Похабов. — Ты ведь моложе меня!
— Что с того? — поперечно прощебетала Настена. — Послужил государю, хватит. Хоть с увечным пожить, не вековать на холодной перине!
— Я же тебя в Братский брал?! — вяло оправдался Максим. — Может быть, надо было, как атаман Галкин: куда сам, туда и семья! Жалко было вас.
За столом притихли. Илейкина жена хлюпнула носом, Савина жалостливо взглянула на Ивана.
— Ивашка-то Галкин, — удивленно качнул головой старый Перфильев, — изранен пуще меня. Но дает же Бог. Служит!..
На другой день толпа охочих людей снова окружила Ивана Похабова, едва он вышел из избы, и потянулась за ним к острожным воротам. Воевода даже не спросил, что надумал сын боярский, заговорил как о решенном:
— Поспешай! Каждый день дорог. Бекетов до Братского успевал за восемь недель.
— Так то Бекетов! — уклончиво пробормотал Иван.
— Дам тебе сто окладов. Людишки при них ссыльные, новоприборные, переведенцы, из своих острогов высланные! — усмехнулся в усы и поднял палец. — Но они есть! Больше дать не могу: надо и Колесникова с кем-то отправить. Сможешь зазвать охочих — зови! На Илиме и в верховьях Лены — беспрестанная война. Мунгалы, порушив клятвы, нападали на Удинский острог. Братские роды уходят к ним в подданство. При малолюдстве на Ангаре не удержаться.
— Что их зазывать, охочих-то? — проворчал Похабов. — Вон сколько стоят у ворот, ждут голодные, босые, пропившиеся.
— Бекетов просит за Байкал двести! — Воевода положил на стол руку, пристально взглянул на сына боярского: — С кем и как останешься на Ангаре — думай, голова!
Полк Ивана Похабова вышел на Калинов день, перед Первым Спасом, когда в зеленых кудрях осин затрепетали вызолоченные листья. Казачий голова спешил попасть в Братский острог до ледостава. От барок он отказался, боялся задержки на порогах, взял с собой двадцать шесть охочих людей, шесть из них своим подъемом. Двух гулящих прибрал в услужение под кабальную запись.
За этих двух никто не хотел давать поруку. Один был не сильно, но горбат, другой — сувор. Лицо его было испорчено не палачом, а нечаянным выстрелом.
Оба они рядились в кабалу но пяти рублей. За такие деньги можно было купить в вечное холопство и плохонького мужика сибирской породы. По слезным просьбам сын боярский согласился взять их на пять лет, но из пяти целковых вычел по полтине в казну да по гривне за запись на крепостном столе.
Первые дни все служилые и охочие люди старались показать свое рвение. Ветер дул противный, струги тянули бечевой. Налегке шли один только казачий голова да казачьи жены и ясырки. Крестник Ивашка Перфильев вел ертаульный струг. При нем, стыдясь бездельничать, тянул бечеву иеромонах Герасим. По наказу головы женщины перед станами убегали вперед, разводили костры, готовили ужин.
За илимским устьем перед Шаманским порогом Ивашка Перфильев со слезой в голосе взмолился:
— Казаки ропщут, крестный! Не по силам так быстро идти!
Нахмурился Иван, строго взглянул на крестника и его людей. Младший сын утонувшего сотника Фирсова Никита отводил глаза и скрежетал зубами. Кожаная рубаха на его плечах стерлась до дыр, сам еле держался не ногах. Что уж говорить про стариков.
— Идем как обычно, — проворчал Похабов. — Бекетов ходил быстрей. Под Шаманом отдохнем, там дед твой лежит, — напомнил крестнику.
Похабов обошел все струги, осмотрел измотанных людей. Савина была чуть жива от усталости. Пришлось остановить караван на отдых в пяти верстах от обустроенного стана. В спешке сборов казачий голова перегрузил свои струги, а от людей требовал идти, как обычно ходили по этим местам.
К устью Оки его полк подходил на день мученика Ерофея в середине октября, когда, по поверьям, лешие в лесу бесятся да так бесчинствуют, что бывалого промышленного или пашенного человека туда калачом не заманишь. Березы и осины сбросили лист, опала хвоя лиственниц. Черным, неприглядным стоял лес по берегам. По студеной, черной реке то и дело проплывали одинокие льдины, царапали борта стругов, соскребая с них вислые сосульки.
И вот показалась вдали Березовая гора, за которой жили скитники. Похабов в епанче поверх кафтана подошел к отощавшему монаху Герасиму, указал на нее:
— Близко уже!
Казаки, бывавшие в этих местах, повеселели и загалдели, караван остановился.
— Осталось-то полднища ходу? — стал совестить бурлаков казачий голова. — Пойдет шуга, придется всю поклажу волочь по льду. А кому-то сидеть здесь, караулить.
— Пошли людей в острог! — зароптали люди. — Пусть помогут, бездельники.
— Сил уж нет! — громче всех вопил кабальный Сувор.
Иван пригрозил ему плетью. Этот был нагловат, Горбун хитер. Как всякий казачий голова, Похабов мог бы плыть с Савиной и со своей прислугой, но он стыдился быть обузой. Пусть не так, как монах Герасим, и все же, боясь Бога, как мог, облегчал труды служилых и охочих, хотя почтения и понимания от них не было, а кабальные злились на хозяина больше всех других.
Знал по себе Иван, как трудны последние версты, и не стал ругать подначальных людей. Но отправить вперед вестовых значит задержаться всему каравану, и он приказал идти.
Наконец струги были замечены из острога, и Бекетов прислал людей с лошадьми. Вскоре показалась сторожевая башня, а потом и часовня. Старый стрелец Петр Иванович Бекетов поджидал товарища у ворот острога, оглядывал сверху тяжелые, обмерзшие струги, измотанную толпу. Высмотрев Похабова, он стал спускаться к реке. Неделей раньше мимо него прошел отряд атамана Колесникова, и Бекетов знал, какие новости везет ему Иван Иванович.
Едва они встретились, плечо к плечу поднялись на гору, из распахнутых ворот выкатилась Бекетиха в лисьей шубе. Увидев Савину, завыла, заливаясь слезами:
— Я-то, старая дура, венцом покрытая, таскаюсь за мужем. Тебя-то кто неволил? Что не сиделось в Енисейском?
Савина, всхлипывая и обнимая подругу, смущенно оправдывалась:
— Так за милым дружком. Воля — пуще неволи!
— А мой-то чего удумал? — ревела Бекетиха на всю реку. — Мало ему здешнего приказа, за Ламу напросился. Ох, горе-горюшко!
Сам Бекетов только посмеивался над женой и ее воплями. Он перевел взгляд на монаха, скинул соболью шапку, почтительно поклонился:
— Отслужишь ли молебен, батюшка? Наши скитники нос не кажут с того берега, все инородцев опекают, а свои им хуже чужаков. Не по-христиански это, да не в моей они власти, — пожаловался со скрытой угрозой в голосе.
— Отслужу! — покладисто согласился Герасим, вскинув на приказчика лучистые глаза. — А после ты меня на другой берег перевезешь. К братии!
— Ишь чего удумал, батюшка! — накинулась на монаха Бекетиха, вытирая слезы. — Пока не накормлю, не напою — никуда не пущу. Нехристи, или что ли?
— Так лед вот-вот пойдет! — смущенно замялся Герасим.
— И пусть идет! Встанет, за руку переведем! — трубно прокричала острожная ириказчиха.
Бекетов ввел прибывших в приказную избу. Стол был накрыт.
— Перво-наперво по чарке с дороги, во славу Божью! — обернулся к монаху, крестившемуся на образа. — Батюшке ягодного винца и осетринки.
— Мне бы сперва своих людей устроить! — опасливо покосился на чарку Иван Похабов. — Пожитки из струга перетаскать.
— Подначальных людей у тебя нет, что ли? — насмешливо взглянул на него Бекетов круглыми глазами. — Гришка! — крикнул, обернувшись к печи.
Из-за нее выбрался мужик непонятной породы, но в русской рубахе. С горючей тоской взглянул на кувшин с вином.
— Сходи на берег! — приказал Бекетов. — Прикажи людям сына боярского таскать животы в мои сени. Там же им постели и накорми.
— У нас без них тесно! — проворчал ясырь на сносном русском языке и снова бросил тоскливый взгляд на кувшин.
— Поместитесь! — оборвал его Бекетов и кивнул на дверь: — Иди!
— Пошевеливайся, лодырь! — прикрикнула вслед Бекетиха.
Ясырь толкнул было дверь и отпрянул. Вошел старый стрелец Василий Черемнинов. Ему приходилось служить в здешних местах приказчиком. При Бекетове он был в прежнем окладе пятидесятника. Бекетиха молча налила еще одну чарку.
— Посмотри, чтобы рожь сложили в амбар, соль в ларь, порох в погреб, — приказал ему Бекетов. — А после ко мне за стол.
Дел Петр Иванович не забывал. В избу то и дело заходили с докладами его люди. Пару раз он сам хватался за шапку проверить и указать. Прибывших разместили, накормили. Черный поп Герасим отслужил благодарственный молебен и снова напомнил, чтобы его перевезли в скит.
— К ночи-то? — удивился Бекетов. Но окликнул самого грешного и удалого из своих острожных казаков. — Сговаривайтесь! — свел его с монахом. — Если поплывете, то на ветке: быстрей и льдами не затрет.
Первым пошел в баню Похабов со старыми казаками. Вернулся он с красным, распаренным лицом, сел за стол.
— Вот теперь и поговорить можно! — опять налил вина Бекетов. — Однако мало ты людей привел! — вздохнул с укором. — Я просил две сотни, надеялся на половину. А тут… — безнадежно шевельнул густыми усами, вскинув глаза на товарища. — Но кое-какие мыслишки здесь есть! — постучал себя казанками по лбу и пояснил: — Как пополнить свой отряд.
Старые товарищи долго говорили о поездке в Москву и о походах за Байкал. Женщины давно улеглись, а они все сидели за столом.
— Летось от Ивашки Галкина проплывал вестовой! — рассказывал Петр Иванович. — Говорил, атаман в колесниковский острог не пошел: свой поставил на Баргузине, а твоего Якуньку как бывальца отправил на Витим-реку. И нашел он там с казаками промышленный острожек. Людишки в нем не только промышляли, но и государевым именем брали на себя ясак с братов и с тунгусов. — Бекетов жестко усмехнулся в седые усы. — Жили там припеваючи, вдруг заявился твой Якунька со служилыми. Они стали их прогонять. Якунька осерчал и взял острожек на саблю. Передовщиков в цепи заковал, ясак отобрал. И не только ясак. Узнаю Похабу! — покачал головой не то в похвалу, не то в осуждение, поднял на Ивана пристальный, насмешливый взгляд: — Как думаешь, правильно сделал?
— А как еще, если по-хорошему не понимают? — пожал плечами Похабов.
Бекетов вздохнул, посуровев лицом, опустил глаза.
— Неправильно! — сказал тихо, поучая. — Если ясачные видели, что русичи меж собой воюют, быть войне. А скрыть от них разоренный острог — дело трудное. — Он снова вздохнул и громче заговорил о деле: — Краснояры — зловредные людишки, но свои. Не войди во искушение, если браты будут тебя на них травить и обещать воинскую помощь. И себя, и их погубишь!
Закончив разговоры о делах, Иван спросил о племянниках. Думы о них больше всего томили его в пути. Бекетов, равнодушно позевывая, хмыкнул в усы:
— Из тех, кого привез с собой и посадил на пашню, крепко встал на ноги только один: Распута Потапов. Он всех других пашенных под себя подмял. Твои пока на льготе, но под его присмотром. Подомнет их Распутка.
На другой день Бекетов стал готовить острог к сдаче, а свой отряд к выходу за Байкал. Как ни делили старые товарищи присланных людей, а дать ему больше тридцати человек Похабов не мог.
Покончив с острожными и приказными делами, он поднял заспавшихся Сувора с Горбуном, велел им оседлать три лошади. Первым делом хотел навестить племянников.
Горбун недовольно засопел обострившимся носом, заводил по сторонам злыми глазами. Сувор ругнулся, задергал рубцеватой щекой с въевшимся в кожу порохом. Савина накормила их, собрала в дорогу снедь и гостинцы.
При поднявшемся солнце трое поехали верхами по берегу Оки. Первым от острога был двор Распутай Потапова. Высокая изба с подклетом и еще одна, срубленная прошлым летом, были связаны между собой сенями. Над двором навешан кров из бересты. Высокий, тощий, сутуловатый, с умными плутоватыми глазами, Распута издали увидел всадников и выскочил на проезжую дорогу. Он уже знал, кто пришел на смену Бекетову, поэтому кланялся Похабову почтительно, величал его по батюшке, не лебезя, разумно говорил о пашенных делах.
О присланных Огрызковых сыновьях отвечал, что землю они получили в хорошем месте, правда, далеко от острога. Строят избу. Этот год под озимь не пахали, только расчистили государеву десятину.
По тону пашенного Иван понимал, что тот не слишком жалует молодых болдырей. Много выспрашивать о них он не стал. А Распута разумно перестал говорить то, чем сын боярский не интересовался. К печали кабальных, Похабов отказался от угощения в его доме, сказав:
— Будешь при мне старостой у пашенных!
— Я и без указа за старосту! — кивнул вслед Распута.
По его рассказам всадники отыскали избу без крыльца и сеней, баню у ручья. Жилье было пустым. Возле очага ни котла, ни кувшина, но зола была теплой, следы вокруг избенки — свежими.
Иван велел своим дворовым развести огонь, расседлать и спутать лошадей. Легкий морозец, неглубокий снег — все располагало к тому, чтобы уйти на мясной промысел.
В сумерках послышались шаги. Ответно заржали спутанные кони. К избе крадучись подошли двое, настороженно вперились взглядами в Сувора с Горбуном. Разглядев Похабова, племянники повеселели. Ни слова не говоря, Вторка развернулся и зашагал к лесу. Первуха вошел в избу, поставил в угол два больших тунгусских лука, сбросил с плеча колчан со стрелами, присел у очага на корточки, улыбчиво взглянул на Ивана.
— Хоть поприветствуй дядьку! — проворчал он. — Тунгусы и те встречают гостей по обычаю.
— Дорова! — разлепил губы Первуха, продолжая сидеть на корточках. — Мяса немного добыли. Сейчас варить будем.
Через открытую дверь видно было, что Вторка вывел из леса лошадь. На хребте у нее висели связанные попарно четыре стегна.
— Лося подстрелили, что ли? — одобрительно пробурчал казачий голова.
— Вроде того! — уклончиво ответил Первуха и полез под нары, вытащил оттуда зарытый в землю большой чугунный котел.
— Разговеемся! — весело залопотал Горбун, подхватил котел, чтобы принести воды. Сувор стал помогать разгружать мясо.
Горбун вернулся, плутовато хихикая, повесил над огнем котел, доверху наполненный мясом и водой с розовыми льдинками.
— Давненько не ел сохатины! — Похабов скинул кафтан, свернул его и бросил на полати, под голову. Дым очага выходил через раскрытую дверь. В избе было жарко. Горбун затрясся от язвительного смеха:
— Утром этот сохатый ревел: «Му-у-у!»
Сын боярский метнул строгий взгляд на Первуху. Тот, замявшись, неохотно ответил:
— Приблудная, братская. Завязла в кустах. Мы думали — лосиха. Застрелили, после разглядели. Не бросать же мясо волкам? — вскинул на Ивана узкие насмешливые глаза.
Сын боярский покачал головой, приглушенно ругнулся:
— Если станут искать, то по следам поймут, кто украл. Придут ко мне за выкупом. — И подумал с тоской: «Много хлопот будет с племянниками!»
Мясо сварилось. Похабов отказался есть ворованное, стал грызть сухари. Сувор с Горбуном, посмеиваясь, ели каждый за двоих. Насытившись, они стали моститься на ночлег, но хозяин их огорчил:
— Тесно тут, да и поговорить мне надо с пашенными! Идите-ка в баню, там ночуйте. Оттуда сподручней за конями глядеть, — блеснул недобрыми глазами: — Неровен час, украдут среди ночи.
Недовольные кабальные слезно поохали, но ушли. Первуха со Вторкой, насупившись, молчали.
— Что меня не дождались? — тихо спросил Иван. — Могли бы и не верстаться в пашню. Воевода укрыл бы.
— А надоело, как эти! — резко ответил Первуха, мотнув стриженой головой в сторону ушедших. — Подай. Принеси. Уши заткни. Нет у гулящих воли, а у казаков подавно.
— Воли и у царя нет! — обстоятельно поправил племянника Иван. — Все мы служим Отечеству и Господу!
— У вас только пашенные живут по-людски! — задиристо вскрикнул Вторка, молчавший до сих пор. Быстро и взволнованно заговорил: — Ты вот атаман! Борода седая, а все Иван да Похаба. А Распуту Потапова все величают сыном Ивановым. И внуки его о том помнить будут. И всех их величать станут, потому что у Распуты данная на землю. И у нас теперь данная. Наша деревня здесь будет!
Не обиделся Иван на молодых племянников, усмехнулся, крякнул, тряхнул бородой.
— Кому Ивашка, а кому и Иван Иванович! Величание по чину дается. А пашенным по-разному писаться нельзя, чтобы не было споров о земле, — сказал, поучая молодых, несмышленых. — Они детям и внукам землю передают, а казак — славу! У меня служат три сына первого стрелецкого сотника. Или тот же Ивашка Максимов, сын Перфильев. Их не только от этих, — тоже кивнул вслед кабальным, — но и от других родовитых казаков отличают за заслуги отцов. Что кому по душе — сам выбирай!
Первуха, прерванный братом, без прежнего запала огрызнулся, досказав свое:
— Бекетовские пашенные взяли с десятины по сто пудов ржи. И браты, и тунгусы к ним с почтением. Не только вечно голодные служилые.
Братья замолчали, поперечно посапывая приплюснутыми носами. Похабов без зла и обиды снова спросил:
— Захотели на пашню сесть? Пахали бы на Байкале, неподалеку от отца. Я же там острог поставил.
Скрывая что-то свое, затаенное, Первуха буркнул в ответ:
— Там сроду сто пудов не вырастет: лето холодное, сырое. Дай бог двадцать намолотить.
Не стал Иван ни спорить, ни поучать. Догадывался, что в их жизни есть что-то, чего ему, старому казаку, не понять.
— Подумайте! — предложил мирно. — Скоро я пойду на Байкал в Култукский острог. На вашу пашню вместо вас посажу своих кабальных. Даже завод возвращать не придется. — Он помолчал, вспоминая свои много раз переговоренные перед воеводами, дьяками, подьячими, речи, добавил: — То, что поставил острожек возле дома вашего отца, старшие воеводы сказали: «Зря!» Надо было на устье Иркута или на истоке Ангары. — Усмехнулся, обиженно мотнув головой: — Где там, на истоке? На горе, что ли? Выше туч?.. Но ломать пока не велели, дали оклады и наказ годовальщиков менять.
— Вот видишь! — так же тихо и вдумчиво сказал Первуха. — Прикажут острог срыть — и тамошние мужики нас всех, вместе с пашней, на куски порежут. Прежде лезли в дом, грабили кому не лень. После еще хуже будет. А здесь уже много лет острог стоит? — вскинул глаза на Похабова.
— Как считать? — пожал плечами сын боярский. — Один сожгли, другой перенесли, этот уже третий. Но лет уж двадцать казаки здесь служат.
— Вот видишь! — торжествуя, вскрикнул Вторка. — И другие остроги близко. Вдруг и девок пришлют. Без жен пашенные не выживают! А там, на Ламе, на ком жениться?
Покряхтел Иван, потеребил седеющую бороду, не знал, как возразить племянникам. Рассуждали они ясно и правильно: не в его воле быть или не быть байкальскому острогу. Только что-то они недоговаривали. Чуял он это печенкой, а выведать не мог.
Едва окреп лед, Бекетов отправил вверх по Ангаре первый отряд с нартами, груженными рожью. Истомившийся но своей келье, с ним ушел черный поп Герасим. Тремя днями позже из Братского острога двинулся второй бекетовский обоз. Вскоре, посмеиваясь над своим жалким полком в три десятка служилых, собрался в дальний путь и сам казачий голова Петр Иванович. Его жена напрочь отказалась идти за мужем и осталась в остроге ждать весны, чтобы с первой водой уплыть к сыновьям в Енисейский.
Похабов решил навестить Осиновское зимовье и проводить старого товарища до братской степи. В избе приказчика остались Бекетиха с Савиной.
День выдался солнечный и морозный. Над острогом уютно курился дымок печей. Поскрипывал снег под ногами. Бекетиха в двух шубах слезно прощалась с мужем: вскрикивала, причитала, жаловалась на горькую старость сибирской казачки. При этом успевала указывать ясырям и дворовым людям, какие узлы и мешки на какие нарты грузить, в сердцах укоряла Савину за бабью глупость и присуху к старому кобелю.
Савина смиренно улыбалась, глядя на подругу. Бекетов только посмеивался да пошучивал, вызывая у жены новые вспышки гнева. Из острожной Спасской часовни были вынесены иконы. Служилые, охочие и дворовые люди как смогли отслужили молебен и стали спускать к реке груженые нарты.
Сыны боярские, казачьи головы в походных шубах строго надзирали за работой. С заиндевевшими ресницами Савина стояла в стороне от Ивана, не смея ни вскрикнуть, ни завыть, ни повиснуть на его плечах перед очередной разлукой, все чего-то ждала. Он обернулся, смущенно взглянул на нее. Дрогнули сосульки на усах.
— Ладно уж! Благослови, что ли?! — проурчал выстывшими губами.
Глаза Савины заблестели, залучились, по щекам гуще разлился румянец.
Она всхлипнула, перекрестила его, тихонько заголосила, припав лицом к груди.
— Будет! — ласково проворчал он. — Даст бог, через две-три недели вернусь.
Скрипел снег под ичигами. Клубы пара висели над головами людей, разгоряченных работой. Бекетов махнул рукой, и первая нарта была сорвана с места, заскрежетала полозьями по накатанному снегу. Багровое солнце в морозной хмари уже поднималось над пологими вершинами гор.
Пониже Осиновского зимовья «обоз о двух головах», как посмеивались служилые, встретил возвращавшийся с Иркута Ивашка Перфильев с людьми и с пустыми нартами. У десятского и многих его спутников на лицах были коросты от обморожений. Ветер по Ангаре дул не сильный, но злой, пронизывающий: в спину груженому обозу и в лица возвращавшихся людей.
Иван усадил крестника на нарты между собой и Бекетовым, стал расспрашивать. Тот, прикрывая обветренные губы рукой, рассказал, что Осиновское зимовье цело, годовалыцики живы и здоровы, воинские люди к ним не подступали, а аманаты у них прежние, без перемены.
На устье Иркута зимовье тоже целехонько. Но оно было занято десятком промышленных людей. Зимовать в нем собирались две воровские ватажки. У одной последняя грамотка из Туруханского острога, у другой и вовсе ничего нет. Спорить с прибывшими казаками промышленные не стали, собрались и ушли за Ангару.
— Идем чуть живые, промерзшие, — рассказывал Иван Перфильев. — Гадаем, целое ли зимовье. А в нем тепло, сытно. И ругать-то людей совестно. Напоили, накормили нас с дороги, тихонько собрались и ушли с миром, — десятский виновато взглянул на крестного, потом на Бекетова, спрашивая, надо ли было хватать тех промышленных да отбирать у них десятинную рухлядь.
Казачьи головы, ни тот, ни другой, ничего не сказали. Иван Перфильев заговорил веселей:
— Черного попа доставили к месту. Его келья цела. Никто в ней не жил. То-то радости было у батюшки, — осторожно рассмеялся простуженным голосом. — А на острове надо рубить лабаз. Старый обветшал. Я оставил там двух казаков, сделают. А пока весь припас оставил в избе.
— Надо было четверых, как я говорил! — укорил казака Бекетов. — У мунгал шаткость, склоняются к измене, могут прийти, пограбить.
— Браты их пуще, чем нас, боятся! — заспорил было Ивашка и осекся: — У меня каждые руки — помощь!
— Тебе тяжелей всех, — пожалел его Бекетов. — Путь тропил. А снег не ко времени глубокий. Моя вина. Не надо было тебя грузить, как других.
Перфильевские казаки развели костер на берегу. Те, что шли с Бекетовым и Похабовым, стали поторапливать начальствующих: им хотелось поскорей добраться до зимовья и ночевать под кровом, а не под низкими ясными звездами ноябрьской ночи.
Зима прошла в обычных заботах о сборе ясака. День за днем, неделя за неделей казачьему голове Похабову некого было послать в дальний Култукский острог. Он вспоминал про байкальских годовалыциков, маялся совестью и утешал себя: если сильно оголодают, прибегут на устье Иркута, а там бекетовский хлебный припас.
Только к Евдокии-свистунье в Братском остроге появились свободные от служб казаки. Иван собрал из них десяток в дальний путь, а перед выходом съездил на заимку к племянникам. Но Первуха со Вторкой наотрез отказались вернуться к отцу. Чтобы брат не ломал голову по слухам и догадкам, пришлось идти на Байкал самому казачьему голове.
Зимовье на Дьячьем острове уже пустовало. Бекетов со своими людьми ушел дальше. На монаха Герасима среди зимы вышла оголодавшая промышленная ватажка из трех человек. Все трое почитали за чудо, что остались живы, беспрестанно молились и работали при ските.
Похабов пробовал их пытать, кто такие и откуда. Никаких разумных ответов не добился, но узнал, что к отряду Бекетова на Дьячьем острове присоединились невесть откуда явившиеся четыре десятка служилых или охочих людей.
У скитников не было ни грамот, ни подорожных, ни пожиток. По указу надо было отправить их к енисейскому воеводе. Но за беглецов вступился монах, а бывшие промышленные люди просились к нему в скит вкладчиками. Как вкладчики и скитники они выходили из-под светской власти.
Подступала весна, почернел лед, на солнцепеках по Иркуту побежали ручьи. Зная, как поздно вскрывается Байкал, Похабов решил вести своих людей до истока Ангары а там вдоль берега до култука.
Лед на Байкале был крепок. Нарты весело скрежетали по нему березовыми полозьями. Яркое солнце слепило глаза. В укрытых от ветра местах было тепло как летом. Прямо изо льда вздымался крутой, скальный или покрытый лесом берег. Он был чист от снега. Под прошлогодней травой уже зеленела новая поросль. На яланных полянах безбоязненно паслись изюбры и стада диких коз.
Казачий голова осматривал берег, вдоль которого шел, и все чертыхался, вспоминая расспросы и советы московских дьяков. В узких падях при нужде могли зазимовать тунгусы или промышленные. Но жить в них долго не смогли бы и они. «Сдуру острог можно было поставить и на вершине горы, если тех дьяков заставить таскать туда животы!» По пути им были осмотрены три просторных пади, в которых вдруг и смогла бы прокормиться одна пашенная семья. Но не больше.
С такими мыслями он подходил к байкальскому, западному култуку. Острог показался сразу, как только обошли гору. Ворота его были распахнуты. По берегу и вырубленным склонам горы вольно разбрелись одичавшие коровы и овцы. Неподалеку от острожка пасся табун лошадей.
Похабов шел первым. Он замедлил шаг и остановился, воткнув лыпу в хрусткий, рассыпавшийся лед, залюбовался острожком и местом, на котором тот был поставлен. Ему в жизни приходилось много строить, хотя своей избы к старости так и не заимел, но все прежнее делалось по чужим указам, и только для этого острожка он сам выбирал место. Разными путями привел Бог сюда брата и даже Меченку. И никто не поблагодарил Ивана за этот острожек. А ругали много.
До него осталось меньше версты ходьбы. Отряд никто не замечал. Наконец кто-то вышел из ворот, увидел цепочку людей и нарт. На берег выбежали три бабы в душегреях и уставились на идущих, как любопытные телки. Только потом показались казаки. Все они, толпой, двинулись навстречу отряду. Наравне с мужчинами, полоща по льду полами сарафана, неслась женщина, которую Иван не мог не узнать.
— Вот же, стерва старая! — пробормотал, улыбаясь в бороду. — Коза!
Он принял приветствие от Федьки Говорина в тунгусской кожаной рубахе, с саблей на боку. Рассеянно отвечал ему, глядя в сторону, в бирюзовые глаза бывшей жены. Со злорадством заметил, что она тоже постарела лицом, хоть и не погасла, не пережила бабью пору.
— Ну, здравствуй, Иван! — поклонилась, и глаза ее вспыхнули подрагивающим светом. Пока он жил с ней, пятна на щеке не замечал. Теперь оно снова бросилось в глаза, как бывало после долгой разлуки.
— Здравствуй, Пелагия! — мирно ответил он и спросил: — Как зимовала?
— Слава богу! — ответила она с усталой, виноватой улыбкой на губах и уклончиво отвела глаза. — Знала, что ты не бросишь! — польстила бывшему мужу. — А здесь и ленивый с голоду не помрет.
Встречавшие похватали у путников бечевы нарт, потянули их, напрягаясь всем телом. Казачий голова распахнул кафтан. Даже на льду было жарко. С одного боку рядом с ним шла, не отставала, Пелагия, с другой — удалой десятский и здешний приказный Федька.
То к одному оборачивался казачий голова, спрашивая о делах, то к другой.
— Что Оську не видать? Жив, здоров?
— Жив! — знакомо нахмурила брови Меченка. — Хворал зимой! — вскинула глаза на Ивана, а в них мутно клубился страх. — Хорошо живем, прости господи, — всхлипнула, — хоть и во грехе!
— Господь милостив! Простит, поди, по здешним-то местам! — проворчал Иван и насмешливо обернулся к Федьке: — Сколько ясырок забрюхатил за зиму?
Обветренное лицо десятника насупилось, почернело, как кора лиственницы. Пока он простодушно раздумывал, как ответить, спросила Пелагия:
— Что наши дети? Видел?
— Якунька прошлый год с Галкиным ушел на Верхнюю Ангару. Сказывали, на Витиме воевал. А дочку с внуком зятек увез в Томский.
Вглядывался Похабов в лица острожных годовалыциков, тех, что шли рядом или тащили нарты, потом приглядывался к тем, кого встретил у острога, и чудилось ему, что все они стали чем-то похожи друг на друга. Он удивлялся и не ломал бы голову, если бы Сенька Новиков, который пришел на перемену Федьке, водя носом по сторонам, не спросил вдруг о том же, что было на уме Похабова:
— А что это вы как оскопленные коты?
— Это как? — необидчиво взглянул на него Федька. И казачий голова, теряя степенство, громко захохотал, задирая бороду с седыми прядями.
Бывший вздорный и заносчивый казак в недоумении пожал плечами, не стал отвечать на нелепицу. Похабов же похохатывал и хмыкал, пока не увидел Оську Гору. Некогда огромный, здоровый, не в меру добродушный детина высох и пожелтел. Широкие мосластые плечи задрались крыльями больной птицы, на круглом прежде лице выперли острые скулы. Кожаная рубаха висела на нем, как шкура на костях с тунгусского капища.
— Ты что сделала с казаком? — хрипло прикрикнул Похабов на Пелагию.
Вместо того чтобы озлобиться, как в молодости, она вдруг разрыдалась, уткнувшись лицом во впалую грудь Оськи, чуть повыше его живота. А тот, оглаживая ее спину сухой, как корневище, рукой, стал уверять Похабова, что Пелагия его подняла уходом и травами. Зимой не вставал, думал, помрет.
Федька и казаки, зимовавшие в остроге, стали в один голос защищать Пелагию, дескать, дурного за ней не замечали.
— Тунгусы говорят, будто Лама без разбору, у одних силу отбирает, другим дает. А кого не примет, может со свету сжить, — равнодушно зевнул Федька.
Не узнавал старый Похабов лихого казака. На сходе по тем же ясным, но равнодушным взглядам он понял, что перемены в острожке ждали не сильно. В Енисейский за трехгодичным денежным окладом рвались только трое казаков, спрашивали, не появились ли там русские невесты, и корили Похабова, что тот не привез им девок из Москвы.
Прибывший голова велел выставить караулы и запирать на ночь ворота. На другой день, по стариковской привычке, он поднялся раньше всех и вышел из избы, уверенный, что караульный спит. Но нет, тот стоял на мостках рядом с прислоненной к тыну старой пищалью без фитиля и будто смотрел вдаль, положив на тын руки и подбородок.
«Стоя спит!» — подумал Иван. Стал подкрадываться. Но едва ступил на мостки, караульный обернулся без тени сна в глазах. За туманной дымкой поднималось солнце. Розовело ледовое поле, разгорались выглаженные солнцем и ветрами торосы.
Похабов встал рядом, тоже положил руки на острожины, долго и безмолвно наблюдал восход солнца. И радостным покоем наполнялась душа.
— Добрые места! — крякнул, с усилием отстраняясь от наваждения. И снова глаза его приворожил пламенеющий лед. — Прижились? И уходить, поди, неохота? — спросил тихо.
— Прижились! — признался караульный. Обернулся к вырубленному склону горы. Там темнела возделанная земля. — Озимь посеяли. Здесь, на солнцепеке, может быть, и ярица вызреет, — сказал вдумчиво, по-хозяйски, как пашенный. — Благое место! Огрызок с государевой десятины пятьдесят пудов намолотил.
Похабов проворчал:
— То-то, гляжу, никто на дальние службы не рвется, бекетовским казакам не завидует. Все какие-то благостные, как оскопленные коты! — опять хохотнул, вспомнив Сенькины слова.
Караульный слегка растянул губы в улыбке и снова уставился на снежные вершины гор против острожка. Обживались люди на одном месте, мягко уклонялись от государевой службы. Все это не оставалось незамеченным в Москве. Из Сибирского приказа слали указ за указом и грозные наставления, заставляли чаще менять воевод, приказчиков, годовалыциков. Одной рукой рушили мир и покой, другой подначивали к ним ради достатка в хлебе.
— Пашенный масло привозит ли по уговору? — спросил Иван, вспомнив о брате.
— Еще бы не привозил? — оживился казак. — Мы ему прошлый год пятьдесят копен сгребли да возле дома стог сметали выше крыши.
На другой день Похабов сел на коня с седельными сумами, набитыми подарками, поправил за кушаком пистоль, поддал гнедому пятками под брюхо и поехал к брату. Знакомой тропой поднялся на седловину мыса, где шаманили божкам тунгусы. За ним открылись оттаявшие озера, равнинный бор, сухие поля. На одних чернела пашня, на других стояли копны сена.
Угрюма Иван узнал издалека, набычившись, тот стоял перед воротами и криво, жалобно, с укором в глазах глядел на подъезжавшего всадника. Одет был брат в треух при теплом солнце, в сары.
За изгородью неторопливо жевали сено две коровы с телятами, шатко топтавшимися на тонких ножках. Пахло навозом. Из скотника выглядывали селенгинские ясыри. Братского или мунгальского вида мужик тесал жердь.
— Ну, здравствуй, брательник! — не смущаясь его взгляда, кивнул хозяину Иван. С молодецкой удалью перекинул правую ногу через голову коня, соскользнул с седла, грузно встав на ноги, бросил брату повод уздечки.
— Здоров будь! — без радости ответил тот. Нехотя махнул в сторону старой избы, связанной сенями с двумя свежесрубленными: — Заходи!
— Седельные сумки занеси! — приказал Иван. Сел на крыльцо, поджидая брата.
Из леса выбежал вытянувшийся за год Третьяк, молча уставился на дядьку. Тот подмигнул племяннику, и он смутился, стал помогать отцу, который расседлывал гнедого и снимал седельные сумки. Из окна высунулась братская бабенка, узнала Ивана, бросила на него обиженный и неприязненный взгляд узких глаз. Он криво усмехнулся, вошел в дом, скинул на лавку кафтан, бросил сверху пистоль, патронную сумку и шебалташ с золотыми бляхами.
Вошел Третьяк с седельными сумами, положил их рядом с одеждой дядьки, вперился раскосыми глазами в пистоль, не смея притронуться к нему. Посмеиваясь, Иван раскрыл сумку, достал сделанный московскими мастерами нож с блестящим, без щербинки, лезвием в три ладони, протянул племяннику.
Глаза у отрока сделались круглыми. Разинув рот, он принял нож с ножнами и пулей выскочил за дверь. Иван хохотнул и вытащил отрез зеленого сукна в полтора аршина.
— Гэргэй![259] — окликнул сноху. Женщина, шаркая сапогами по полу, подошла, приняла подарок, подобрев, взглянула на гостя ласковей.
— Старушка, мать, жива? — спросил ее Иван по-булагатски. Глаза женщины помутнели. Она опустила голову. — Тогда и это тебе! — протянул ей две тонкие железные иглы. — Угрюмка таких не сделает! — добавил по-русски.
Наконец он достал шитую бисером девичью повязку. Его уже тесно окружили будто из-под земли явившиеся ясырки: старая и помоложе, с ребенком на руках. Подарков ждали все. Он отыскал глазами племянницу, похожую на мать непомерно длинным разрезом глаз, протянул ей повязку и стал одаривать ясырок бисером.
С кряхтеньем просунулся в низкую дверь Угрюм. Иван бросил ему на плечо отрез сукна, такой же, какой подарил жене. Брат осклабился, показывая, что доволен, в кривящейся улыбке мелькнуло что-то торжествующее, будто сумел перехитрить гостя и рад этому.
Женщины весело залопотали, забегали, стали накрывать стол. Казачий голова сел в красный угол на хозяйское место и чертыхнулся про себя: «С малолетства брат не умел при нем вымолвить доброго слова. Под старость и вовсе одичал!»
Женщины выставляли соленую и вяленую рыбу, осетрину, вареное мясо, бруснику с ледком. Мужчины молчали. Иван терпеливо и мстительно ждал, когда брат о чем-нибудь спросит. Наконец тот не выдержал, разлепил посеченные губы:
— Скажи хоть, сыны где?
— На Оке, возле Братского острога. Против моей воли поверстались в пашенные, дом строят, возделывают землю. Как ни уговаривал вернуться сюда — не пошли.
Угрюм закряхтел, закашлял, будто запершило в горле. Скороговоркой бросил непонятные слова жене. Та блеснула большими узкими глазами. Села, испытующе глядя на Ивана.
— Пытал племяшей! — степенно продолжил он. — Отчего бы им здесь цареву десятину не пахать? Острог защитит, отец наставит, лучше этих мест я не видел. О том они не хотят со мной говорить: что-то знают, чего мне не понять.
— Хорошие места! — рассеянно согласился Угрюм. Глаза его подернулись тоской. Он что-то сказал жене, отвечая на ее настойчивые расспросы. Она смахнула слезы со щек. А он вдруг озлился, уставившись на Ивана: — Растил-растил! — гортанно вскрикнул. — Прятал от мунгал, от промышленных и братов. Пришел брат. Нашел-таки! — обиженно мотнул головой. — И увел!
— Сами ушли! — строго поправил его старший, не гневаясь на остервенелый взгляд. Ничего другого от младшего он не ждал. — Мог бы и не взять их в Енисейский: отказать, обидеть. Другим разом без меня бы ушли. — Теперь в его глазах блеснула злая насмешка. Спросил брата: — Не нравится, что острог поставил? Воеводам тоже не понравилось. Ясак и десятину удобней брать с устья Иркута, и промышленные мимо не пройдут, и за Байкал, и на Лену пути, все оттуда. Вот прикажут острог срыть — и будешь жить, как прежде!
— Да ты что? — вскрикнул Угрюм, отрывая зад от лавки. — Забаламутил всех и бросишь?
— А ты как хотел? — не тая злости, просипел Иван. — Нашел доброе место, присосался, что младенец к титьке, и не тронь тебя? Так не бывает! За землю воевать надо. Она кровь любит. Не хочешь воевать — живи рабом! Кому-то так и лучше, — кивнул на ясырей, ждавших выпивки в сиротском углу. — Какой с них спрос?
Не крестясь, он опрокинул в рот налитую чарку, высыпал за щеку горсть холодной брусники и поднялся:
— Жарко у тебя!.. Повидались, поговорили — и ладно. Пора возвращаться.
— Ночуй! — суетливо заговорил Угрюм. — Ночью за Шаманом ветер свищет. Поди, нынче лед сломает.
Едва ветра разбили лед на Байкале и устойчиво задули в сторону Ангары, Иван с казаками поплыл в обратную сторону. За время его хождения на Байкал скит монаха Герасима пополнился еще двумя вкладчиками: из урмана вышел дряхлый старик из промышленных людей и молодой, изувеченный медведем.
Похабов оставил в зимовье на острове двух казаков березовских окладов под началом молодого Никитки Фирсова и отправился дальше. До середины лета он прибыл в Братский острог. Встречать казачьего голову вышел Василий Черемнинов с помятым, припухшим лицом. Уже по его виду понятно было, что ничего важного здесь не случилось.
— После расскажешь! — отмахнулся Иван и быстрым шагом стал подниматься к острожным воротам, вошел в тесную приказную половину. Савина стояла посреди избы в лучшем платье: кругленькая, крепенькая, как сдобный колобок, только и успела приодеться к его приходу. Лицо ее алело, глаза блестели и лучились. Бекетиха, повязывая голову, проворчала вместо приветствия:
— Заявился, кобель старый, аж в середине лета!
Похабов глазом не повел в ее сторону. Вместо того чтобы положить семипоклонный начал на образа, пропахший дымом костров, прильнул к Савине, ощупывая ладонями ее полную спину.
Она охнула, выскользнула, стыдливо поглядывая то на подругу, то на дверь. Вошел дворовый Горбун, бросил на лавку мешок из струга.
— Все сюда нести? — спросил хмуро.
— Неси! — приказал сын боярский, снял саблю, сунул на выстывшую печь пистоль, неспешно положил поклоны на образа. Бекетиха, шаркая чирками по земляному полу, вышла из избы. Иван мягче обнял Савину.
— И когда же спокойно заживем?
Глаза женщина потемнели, она прижалась щекой к его груди.
— Приставали, поди, без меня кобели? — смешливо и подозрительно спросил он.
— А то как же? — рассмеялась она и положила руки на его плечи, глазницы подернулись паутинкой морщинок, которых прежде Иван не замечал.
Проснулся он рано от щебетания птиц. Сквозь раскрытое окно веяло прохладой и свежестью реки. После многих ночей под небом летняя ночевка в доме казалась душной. На лавке храпела Бекетиха. Прижавшись лбом к его плечу, мирно посапывала Савина. И он пожалел о всех днях и ночах, проведенных с ней врозь. Последняя поездка была никчемной. Казаки могли сделать то же самое по его наказной памяти.
«Разве Герасима повидал, — подумал. — Да свой острог. Да брата!» За окном зарозовел клок травы. Послышались голоса служилых. Начинался обычный день на приказе.
Иван Похабов обошел острог, выслушал новости от Черемнинова. Пятидесятник перессорился с монахами-скитниками, которые были не в его власти. Федька Говорин и байкальские годовалыцики с утра были пьяны, надо было поскорей выпроводить их в Енисейский.
«С кем отправить ясак?» — думал голова. В таком деле Федьке он не верил: не пропьет, так ввяжется в пути в какую-нибудь драку, потеряет или утопит. Вспомнил про Черемнинова и решил отпустить его в Енисейский.
Байкальские годовалыцики были пьяны и на другой день, знать, в остроге кто-то тайком курил вино. Едва казачий голова усадил весельчаков в струг, выяснилось, что Федька с товарищем оставили своих ясырок.
Там, на Байкале, Похабов предупреждал их, что по наказу воеводы нельзя везти в Енисейский некрещеных девок. А привезут крещеными, да с младенцами, попы будут принуждать венчаться. Федька и его товарищи делали вид, что поумнели, но все понимали, что ясырки проданы без записи или проиграны вместе с прижитыми детьми.
Казачий голова выпроваживал из острога смутьянов, с которыми спина к спине не раз бился насмерть против государевых ослушников. Кормщиком в струг он посадил старого стрельца Василия Черемнинова с ясаком и с отписками воеводе. Бекетиха, устраиваясь на своих узлах и сундуках, то грозно орала на пьяных казаков, то вопила, взывая к небу:
— Осподи, помилуй! Загубят, воры-христопродавцы, утопят вместе с животами!
Но ждать другой оказии она не пожелала. Непрестанно крестилась и читала молитвы, перемежая их угрозами пьяным гребцам. Течение реки наконец-то подхватило судно. Похабов постоял, глядя ему вслед, перекрестил на добрый путь. Надежней старого стрельца все равно никого не было. Черемнинов пил, да головы не терял. Будто гора свалилась с плеч казачьего головы. Теперь можно было съездить к племянникам.
Едва дворовые люди, Горбун с Сувором, оседлали для него коня, караульный со смотровой башни крикнул, что к острогу идут струги. Похабов чертыхнулся, велел сесть на оседланного коня молодому прыткому казаку. Тот с гиканьем понесся по берегу реки и вскоре вернулся. В Братский острог шла перемена, которой в этом году никто не ждал.
— Кто старший? — спросил голова.
— Митька Фирсов!
— Добрый казак! — обрадовался Иван. Спросил, сколько стругов, и велел в помощь бурлакам гнать лошадей. Сам пошел в избу переодеться для встречи.
Три струга были подведены к острожному причалу. Пока прибывшие и встречавшие вытаскивали их на берег, к воротам поднялись Дмитрий Фирсов с братом Арефой: два молодца-енисейца из подросших казачьих детей. Оба откланялись Похабову как родственнику.
Казачий голова повел их в избу и все удивлялся, отчего молодые казаки смущаются его и даже робеют. Он усадил братьев за стол. Савина стала выставлять угощения. Дмитрий вынул из кожаной сумки свернутые трубкой и опечатанные воеводской печатью грамоты. Положил их на стол и пробубнил, оправдываясь:
— Ты только не подумай чего плохого, дядька Иван! Я просился у воеводы за Байкал, к Бекетову. А он меня силком отправил в Братский приказчиком!
— По мне, так лучше приказчика не сыскать. Давно пора нас, стариков, менять! — весело ответил сын боярский. Развернул наказную память, стариковски прищурился, вытягивая руки и придвигаясь к окну. — Кто нынче воевода? — спросил.
— Афанасий Пашков, дворянин московский!
— Вон что? — поднял брови Похабов, пристальней разглядывая братьев.
Новый воевода приказывал сыну боярскому сдать все остроги и ясачные зимовья под начало Дмитрия Фирсова. Он так дотошно наставлял, как принимать казенное добро и строения, будто был уверен, что прежний приказчик, хитрый и изворотливый, непременно должен был провороваться.
Наказная память ни словом, ни намеком не указывала, какую службу нести самому казачьему голове: возвращаться ли в Енисейский или идти в подчинение к молодому пятидесятнику.
— Может, на словах что передал? — удивленно спросил Похабов Дмитрия.
— Ничего не сказал! — пожал тот плечами, виновато поглядывая на сына боярского. — Понятно, что мне не по чину менять тебя!
Встало перед глазами лицо Афанасия, когда он, Похабов, в Москве вспомнил Истомку Пашкова. Мстил, иудино отродье, за обидные слова.
Похабов хмыкнул в бороду, перебарывая первую нахлынувшую обиду. Подумав, повеселел, сжал пятерней бороду в пучок, озадаченно подергал ее и рассмеялся:
— Мне, как я понял из наказной, воевода велит сдать тебе все по Ангаре да по Байкалу и ждать его нового наказа?
— Наверное, так! — неуверенно поежился пятидесятник.
— Слышишь, старая! — обернулся к Савине. — А ведь мы наконец-то можем спокойно пожить где-то на одном месте! Если сплывем в Енисейский, Афонька вредить станет или с оклада снимет. — Он подумал и добавил: — Наверное, уже снял. Да только нас с тобой этим не проймешь — мы богатством не избалованы.
К пущему смущению молодых казаков, Похабов умолк, свесив голову, тупо уставился в столешницу. Савина тоже молчала, морща лоб. Она не могла понять, к добру или к худу новое известие. Но Иван вскинул прояснившиеся глаза и весело объявил:
— А что, Митька, если я пойду под твое начало? Федька Меншин в Осиновском уж по-песьи воет, в Енисейский просится. Я сменю его. Все равно балаганцы только мне дают ясак, других не жалуют. Что скажете, молодцы?
Фирсовы сыновья весело соскочили с лавки.
— Дядька Иван! — вскрикнул Дмитрий. — Яви Божескую милость! Помоги нам. Бога молить будем, если когда какой совет дашь!
— Ну и ладно! Перекусите что Бог послал, попаритесь в бане и к нашему столу! А я уж все вам расскажу, ничего не утаю.
Едва молодые казаки вышли из избы, Иван снова задумался.
— Ну, что закручинился? — окликнула его Савина. — И впрямь, дал бы Бог хоть зиму пожить без разлук, уж я-то радовалась бы.
— Вот ведь! — криво усмехаясь, кивнул на наказную память Иван. — Даже в том, чтобы сдать головство молодому, а не ровне — намек и мщение! Не хотел, дескать, передо мной шапки ломать, соплякам поклонишься. Ну и ладно! — обнял Савину. — Поди, услышал Господь молитвы наши. Я свое выслужил.
В три дня Похабов сдал Братский острог, снова приказал своим дворовым оседлать коня и наконец-то отправился к племянникам. Двор их почти не переменился, только у избы было положено крыльцо да срублена конюшня. Скота братья не держали, имели двух лошадей. Они раскорчевали и подняли целину на государевой десятине и еще около десятины своей земли. Остальная, данная им в пашню, лежала впусте или обкашивалась.
— Не надоело? — спросил Иван и тут же сообщил, что приказ в Братском сдал, теперь он им не начальник.
— У нас еще год льготы! — беспечально ответил Первуха.
Изба была грязной и запущенной, идти в нее не хотелось. Племянники развели костер возле ручья и стали варить дичь для дядьки.
Иван, лежа на боку, неторопливо рассказывал о Байкале, о жизни матери и отца. Братья опечалились, глаза у того и другого сузились в две щелки, веки набухли.
Иван снова пожалел племянников, опять предложил посадить на их места своих дворовых.
— Здесь земля лучше, чем на Байкале! — с вызовом стал хвалиться Вторка. — И за спиной никто не ворчит: хотим — работаем, хотим — брюхо чешем!
— Так уж и чешете? — с насмешкой взглянул на них Иван. — Кончится льгота, и пойдете в работники к Распуте. А он вам залениться не даст. Ну, да ладно! — махнул рукой.
Как и с братом, разговор с племянниками не получался.
Сразу после Ильина дня, в начале августа, Похабов загрузил струг пожитками, рожью, крупами, конопляным маслом в березовом бочонке. Новый приказчик дал ему трех коней в гужи. Другим стругом он отправил в Осиновский острог шестерых казаков на перемену прежним годовалыцикам.
Два струга пошли знакомыми местами против течения реки. Иван налегке шагал по берегу. Дворовые, Горбун с Сувором, по очереди стояли на шесте, вели под уздцы коней. Савина чаще сидела в струге, поглядывая по сторонам, суетиться она начинала только на станах, у костров. Погода стояла хорошая, зима на пятки не наступала.
Осиновские годовалыцики радостно встретили перемену и удивлялись, что ее привел сам Похабов. Казачий голова по-хозяйски осмотрел зимовье. Какими были избенка, лабаз, амбар, баня, такими они и остались, разве обветшали пуще прежнего. В аманатской избе, подновленной после буйств Оськи Горы, просторней казаков жил племянник икирежского князца. За две зимы казаки не пошевелились, чтобы расширить свою избу.
Покряхтев с недовольным видом, голова ни словом не укорил приказного и отпустил годовалыциков в Братский острог. Но своим казакам и дворовым объявил, что будет строить приказную избу. Зная самодурство старого сына боярского, те опасливо помалкивали. Леса поблизости не было, даже прибрежный и островной осинник вырубили на дрова.
И кончилось спокойное время на острове. Сразу и вдруг на годовальщиков навалилось множество спешной работы. Две недели сам Похабов с Сувором, Горбуном и двумя казаками валили лес в верховьях, потом пригнали обледеневшие плоты на устье Осы. За неделю годовалыцики собрали пятистенок по-промышленному, из сырого леса, сложили печь из глины и речного камня.
Икирежский аманат в мирные, спокойные дни свободно расхаживал среди служилых, выходил за ворота, подолгу и с любопытством наблюдал за строительством избы. Иногда он сам брался за топор и от безделья тесал бревна. На цепь его сажали, когда к острову большим числом подступали всадники или тунгусы на оленях.
Еще не была навешана дверь на приказной половине, а Савина уже наводила в жилье порядок. К Покрову люди в острожке зажили просторно.
Встала, покрылась льдом Ангара. В степи завыл ветер, закружил белые вихри по равнине и по льду, то и дело поднимал стеной снег на русле реки. На Осиновом острове скрипели крыши изб, в них беспрестанно поддерживали огонь. Дров сжигалось много. Все свободное время служилые и дворовые сына боярского возили на нартах сухостой.
На четвертой неделе Филипповского поста к берегу Осы подъехали пять всадников на низкорослых мохнатых лошадках с заиндевелыми мордами. В этот год икирежи привезли ясак раньше оговоренного срока.
Похабов велел привести гостей в его избу, усадил всех на пол, застеленный сухой травой. Казаки привели аманата, родственника гостей. Савина, морщась и отворачиваясь от котла, варила мясо в пост.
Четверо молодых степняков и старик с седой метелкой волос на подбородке держались свободно. Поговорив с аманатом, они выложили для него степные яства.
Старик плутовато поглядывал на Ивана и все спрашивал о пустяках. Это сын боярский понимал и без толмача. Потом он заговорил про какую-то казачью избу. Похабов ничего не понял, раз и другой переспросил его.
Аманат, племянник икирежского князца, довольно сносно, хоть и коряво, пояснил:
— Острог на Уде больше вашего! — повел глазами по низкому потолку, и его черная коса свесилась до самого пола.
В словах был какой-то намек. Ни по-кетски, ни по-тунгусски послы не понимали. Похабов заколотил кулаком в стену, вызывая дворовых. Прибежал Горбун, ухмыльнулся, втянув ноздрями скоромный дух варившегося мяса.
— Толмач не вернулся? — спросил Иван.
— Нет еще! — шмыгнул носом Горбун. По лицу видно было, что он бездельничал.
— Бегите с Суворкой по его следу. Дрова привезете сами, а он пусть поскорей явится сюда, на службу!
Толмач пришел нескоро. Гости успели поесть и получить казенные подарки.
— Говорят, красноярцы отстроили острог больше нашего! — накинулся на него Похабов. — А к чему говорят — не пойму!
Толмач был из болдырей, черноглазый и спесивый. Он окинул гостей змеиным, немигающим взглядом. Не приветствуя их, сел на лавку, забросил ногу на ногу и небрежно залопотал. Почуяв в избе запах хмельного, вынул из-за пазухи и поставил на стол свою чарку.
Похабов неохотно наполнил ее хлебным вином. Толмач, не переставая расспрашивать и отвечать, перекрестился, выпил, крякнул, посопел приплюснутым носом и сдавленным голосом заговорил по-русски:
— Видать, Митька Фирсов на Оке с красноярами воевал. Говорят, казаки стреляли друг в друга. А на устье Уды у краснояров острог побольше нашего. И они зовут икирежей, чтобы те им, а не нам ясак давали. — Толмач тоскливо взглянул на пустую чарку и вперился немигающими глазами в переносицу сына боярского: — Чего тут непонятно?
— День постный! — рыкнул сын боярский, не налив другой чарки за то, что долго шел. Но сказанное послами он запомнил накрепко.
На острове гуляли Рождество, окунались в проруби на Крещение. Савина уже молола муку на блины к Маслене, а Бояркан все не присылал ясака. «Не помер ли?» — забеспокоился Иван. Перед его глазами все кривилась усмешка икирежского старика.
После Маслены, на Прощеный день, с толмачом и двумя казаками он выехал на лошадях в верховья Осы. Икирежи кочевали неподалеку. К вечеру казаки добрались до знакомого князца и ночевали на его стане. Утром двое молодцов с луками за спиной вызвались проводить их к булагатским кочевьям.
Морозным солнечным днем отряд двигался на восход солнца. Кони шли то шагом, то тряской рысцой. После полудня показалась вытоптанная земля. Вожи указали на следы и стали разворачивать своих коней.
— Говорят, балаганцы — их враги! Князец не велел им встречаться! — пояснил толмач, шепелявя застывшими губами с редкой ниткой усов под носом.
Похабов отпустил вожей. Казаки продолжили путь вчетвером и вскоре увидели пасущиеся стада. Когда желтый блин солнца коснулся земли на западе, их заметили. Навстречу, рассекая стадо, галопом понеслось полтора десятка всадников. Они окружили казаков и водили своих коней по кругу, неприязненно разглядывая пришельцев.
Похабов скинул рукавицу и велел казакам запалить фитили на мушкетах.
— Здоров ли Бояркан? — спросил, сбрасывая сосульки с усов.
Молодцы в тулупах перестали кружить. Толмач заговорил с ними, важно переводя совиные глаза с одного на другого.
— Предлагают проводить! — обернулся к Похабову.
— Такие проводы мы знаем! — усмехнулся сын боярский, высвободил из-под шубы шебалташ, показал пряжку мужику, который по повадкам показался ему старшим. Тот равнодушно осмотрел золотые бляхи, вопросительно вскинул узкие глаза с заиндевевшими ресницами.
— Бояркан — ахай! Хочу повидаться и поговорить с ним! — сказал по-булагатски. Обернувшись к толмачу, просипел: — Скажи, пусть дадут ночлег, а то отправят вестника коротким путем, а нас будут морозить в седлах до утра. Знаю я их!
Встречавшие казаков молодцы чуть убавили спеси, почтения к гостям они не проявили. Ночевали казаки в ветхой юрте, со всех сторон закиданной снегом, и бездельничали, пока не прибыли люди Бояркана в богатых, покрытых сукном шубах.
Над выдутой ветрами степью с мотавшимися сухими травами на мерзлой земле сияло яркое полуденное солнце. Вскоре казаки увидели на возвышенности большую белую юрту, окруженную кольцом других. Из всех юрт веретенами поднимался в небо дым. Годовалые бычки с заиндевелыми мордами с тупым любопытством преграждали путь всадникам и шарахались в стороны только перед грудью лошадей.
Казаков проводили в самую маленькую юрту. Внутри было тепло. Возле очага в одежде без всяких украшений сидели две молодые и смешливые девки.
Похабов велел казакам расседлать коней, сел возле жарко тлевшего кизяка, свесил над огнем заледеневшую бороду. Девки прыснули от смеха, вскочили с мест, сели возле решетчатой стенки, прижавшись друг к другу и укрывшись меховым одеялом, с опасливым любопытством выглядывали из него, как птенцы из гнезда. Казаки внесли в юрту седла с потниками, расстелили и сложили их вокруг огня, стали разматывать кушаки.
— Однако неласково встречает хубун! — проворчал Похабов, распахивая шубу. — Неспроста! Обиделся или еще чего. Может, Курбатка Иванов аманатил его мужиков?
Откинув полог, в юрту вошел приземистый мужик в крытой шубе, из тех, кто сопровождал казаков до селения. Он что-то прогыркал, разлепив смерзшиеся губы. Похабов обернулся к толмачу.
— Бояркан будет говорить с тобой вечером, когда солнце ляжет на землю. До тех пор велел ждать! — перевел слова братского мужика толмач.
Мужик окликнул сидевших в стороне девок. Те вышли на мороз и вскоре внесли в юрту освежеванную баранью тушу. В жилье резко запахло стужей и свежей кровью.
Не успело свариться мясо в котле, как тот же мужик в крытой сукном шубе откинул полог юрты и сказал, что Бояркан ждет гостей. Похабов поднялся, велел собираться толмачу. Болдырь бросил тоскливый взгляд на кипевший котел, на молодых девок, печально вздохнул и натянул на плечи кафтан.
— Кони остыли! — стал раздавать наказы казакам сын боярский. — Можно напоить. В степь не отпускайте. Хотя, — махнул рукой, — пусть пасутся. Нам отсюда и на конях не убежать! Ружья никому не давайте глядеть!
У входа в белую юрту стояли два мужика с обнаженными саблями. Иван с толмачом прошли мимо них. Внутри жилья было темно. Глаза не сразу различили ряд сундуков вдоль округлых стен, стопки меховых одеял на них. Посередине горел очаг. Он да свет из вытяжной дыры освещали юрту.
У огня сидел Бояркан, со всех сторон обложенный шелковыми подушками. Похабов впился в него глазами, высматривая перемены в настроении старого братского приятеля. Бояркан так же пристально разглядывал сына боярского.
За князцом, чуть поодаль, сидела старуха в богатой шубе. Несколько косатых молодцов с любопытством глядели на вошедших. При обычном приезде, как гостю и как младшему по возрасту, первым приветствовать Бояркана надо было ему, Ивану. Как посол царя, он должен был выждать приветствия от его подданных.
— Что сарь? — наконец спросил Бояркан, не вставая с подушек. — Жив-здоров? Скот множится?
— Сайн! — кивнул сын боярский. Не так много времени прошло после его поездки в Москву. В Казанском дворце Сибирского приказа Похабов наслушался всяких баек о царской жизни. — Жив! Здоров! — коротко ответил по-русски.
Они с Боярканом не виделись с тех самых пор, как Похабов поставил зимовье на Осе, и в последний раз расстались дружески. Время не прошло бесследно. Побелели пучки волос в уголках губ и на подбородке Бояркана. Толстую косу будто гуще присыпали мукой. Поверх халата на князце была накинута соболья шуба. На голове — легкая шапка, шитая серебром. Не обеднели балаганцы за последние годы. Скорей, оправились после бед.
— Галди шамай! — по-свойски выругался Бояркан, разглядывая Похабова, губы его дрогнули в усмешке. — Ты был удалой дайша. Но и тебя не обошла старость. Так устроен мир! — подобрев, он вздохнул и назвал Ивана дуумгэй[260].
Они понимали друг друга с полуслова. Толмач молчал, хмурился, с недоумением водил глазами но сторонам.
Иван сел, развязал бечеву мешка, вынул отрез сукна, слиток олова, две иглы, узелок с бисером. Бояркан пощупал сукно пальцами, что-то буркнул за плечо. Молодой родственник убрал подарки.
— Какая радость или беда привели тебя ко мне, дуумгэй? — спросил.
То, что Бояркан снова называл Похабова братом, было хорошим знаком, то, что вынуждал просить ясак, — плохим. Иван помолчал для пущей важности и тихо заговорил по-русски, с долгими перерывами, чтобы толмач переводил сказанное:
— В прошлые годы мы с тобой договорились: я построю острог, а ты будешь давать ясак. Послов от тебя давно не было. Я стал думать, не заболел ли ты? Жив ли? Решил сам навестить.
— Ясак, ясак! Галди шамай! — передразнил сына боярского Бояркан, пропустив мимо ушей лесть о беспокойстве. В прищуренных карих глазах заблестели недобрые огоньки. — Два раза я сам приносил ясак. А буряты все воюют между собой и с казаками. Казаки все воюют между собой и с бурятами. Приходят, грабят улусы. За что платить?
«Вот ведь! — с досадой поморщился Похабов. — И сюда дошла весть о перестрелке енисейцев с красноярцами».
— Все мы плохо царю служим, — оправдался со вздохами. — И казаки между собой ссорятся, и буряты. Дают клятву царю, потом изменяют. Видальцы говорят, мунгалы опять появились в степи. Наверное, подстрекают к измене? — колко взглянул на Бояркана.
— Родственники ездят к родственникам! — рыкнул тот и жестко усмехнулся. — У нас один предок: все мы потомки Великого Могула! От него пошли бурятские, мунгальские и ойротские племена.
Похабов опустил голову и тихо напомнил:
— Когда-то ты мне говорил, что мунгалы вас грабят, отбирают в жены лучших девок, заставляют воевать.
— Мало ли что бывает между родственниками? — опять чертыхнулся князец. — Иной раз они хуже врагов. Сам знаешь! — тряхнул дряблыми щеками и криво усмехнулся, намекая на известное только им двоим.
Сказанного хватало, чтобы понять: в степи зреет новая распря, к измене склоняются не только мунгалы, но и бывшие их кыштымы.
— Я прошлый год ходил к царевичу Цицану, за Байкал, — с расстановкой заговорил сын боярский. — Потом возил его послов к царю. Царевич мне сказал: «Тунгусы и буряты — наши вечные вредные непокорные кыштымы. Берите сами с них ясак, как знаете, а ваш царь пусть живет с нами в приязни».
— У мунгал много царевичей! — раздраженно буркнул Бояркан. — Сколько стоит земля и Вечно Синее Небо, они между собой ссорятся хуже казаков. Но мы дети одного отца. У меня есть две девки-мунгалки, они мои рабыни. Хочешь, подарю? Коня-трехлетку за них отдал.
Иван покряхтел, раздумывая, как вернуться к разговору о ясаке.
— Хороший жеребец стоит тридцать соболей добрых!
Бояркан, не поняв подвоха, растопырил короткие пальцы на ладони:
— Хулэг[261] — пятьдесят!
Похабов укоризненно покачал головой.
— Зачем гневишь государя? Под его милостивой рукой твои стада размножились, выпасы ты себе вернул. Племя балаганцев умножилось. По слухам, у тебя под началом полторы тысячи здоровых мужиков. Другие роды платят царю по пять, по семь соболей с мужика. Ты давал царю присягу и платил ему всего пять сороков. И царь тебя прощал. А ведь ты — богатый хубун: украдут десять коней — не заметишь.
Лицо Бояркана побагровело, глаза налились кровью. Он зарычал сквозь сжатые зубы:
— Мунгалы забирали наших девок и юнцов, но они оставались бурятами, потомками Великого Могула, а мой племянник, сын Куржума, доброй волей стал казаком. Не племянник он теперь мне, а Васка Куржумов. Тьфу! Служит царю, как пес, там, где был аманатом. Требует с меня ясак и нас всех называет дикими. Мунгалом стать — плохо, казаком — еще хуже! — Бояркан спохватился, дав волю гневу, помолчал остывая: — Все говорим-говорим и не едим. В добрые старые времена гостей сперва кормили, потом говорили.
Засуетились молчавшие люди, стали стелить кожи, подбрасывать кизяк в затухающий очаг. Вошли две бабы с котлами. Юрта наполнилась запахом вареного мяса. На войлок постелили кожи, на них, в середину, выставили на блюде баранью голову с вывернутыми в ухмылке вываренными губами. На подносах опустили сложенное горками жирное мясо, подрагивавшее от свежести и пара. Перед пожилыми людьми поставили чарки и наполнили их архой.
— Бляхи утерял или продал? — насмешливо спросил Бояркан, хотя посыльные должны были сказать о них.
Похабов нащупал пряжку шебалташа под кафтаном, расстегнул его, вытянул вместе с сыромятным ремнем, подал через застолье. Веки Бояркана дрогнули, рука неуверенно приняла опояску. Щурясь, он оглядел бляхи, подозвал молодую родственницу. Приказал:
— Посмотри, что за люди на золоте?
Девка или молодая женщина в белом тюрбане придвинулась к очагу, оглядела пряжку и вернула Бояркану:
— Казак и бурят! Или мунгал, а коса как у бурята! Алда хара гэзэгэ[262].
На лице ее не дрогнула ни одна жилка. Глядя на князца, девка гадала, что он хотел услышать от нее.
— Отдай ему! — приказал князец, указывая на Похабова. — И громко воскликнул: — Пора нам погреть свои старые внутренности перед едой, чтобы вошло побольше и не было тяжко.
Седобородые старики молча выпили. Князец придвинул Похабову баранью голову и маленький нож для ее разделки. По окончании ужина, когда не только захмелевшие старики, но и молодые стали позевывать, Бояркан объявил, что даст царю пять сороков соболей и двух кобылиц. А Ивану как своему гостю подарит двух девок, которых купил у хоринцев. Он сердито тряхнул тяжелой головой, процедил сквозь зубы:
— Васке Куржумову драной лисы не дам! — и снова разразился ругательствами.
Затем князец зевнул раз, другой, свесил голову и стал укладываться на бок среди подушек, которыми был обложен. На прощанье прищурил один глаз, метнул властный взгляд из другого, сварливо добавил:
— Если твоя крепость будет меньше, чем на Уде, на другой год не дам никакого ясака.
Похабов спорить не стал, молча встал, кивнул. Женщины уже убирали посуду со стола. Старухи стелили одеяла.
— Знаю, ахай крепко держит слово! — сказал крестясь. — Пойду и я отдыхать.
Толмач был зол: лицо его пылало, глаза блестели. Ни словом, ни кивком не поблагодарив за ужин, он вышел за сыном боярским. Ему архи не наливали: то ли принимали за молодого без бороды, то ли намеренно унижали.
Ночь была темна. Ярко светили звезды, и народившийся месяц плыл по небу лодочкой, предвещая снега.
— Ну, как? — встрепенулись ждавшие их казаки.
В гостевой юрте спали старик со старухой. Две девки, встретившие казаков, боязливо жались в сторонке и клевали носами.
— Даст князец ясак! — икнув молочной водкой, с трудом выговорил Иван. От съеденного и выпитого было тяжко не только в животе, но и в груди. — Измен быть не должно, — добавил, одышливо вздыхая, — но караульный пусть сидит у очага. Для порядка.
— Чем потчевали балаганцы? — стали расспрашивать толмача.
Тот брезгливо скривил губы, коротко ответил:
— Мясо! — Посопев с недовольным видом, спросил сына боярского: — А что вы с князцом все «брат» да «брат»?
— Порядок такой у послов, — кряхтя, ответил Похабов. — Знаешь, что враг, а говори: «брат». — Он перевел дух и окликнул девок: — Басаган! Хотите замуж? — задумался, как сказать «за пашенных». Обернулся к толмачу: — Как у них пашенных мужиков зовут?
— У них нет пашенных! — резко и заносчиво ответил тот.
— Нет так нет! — равнодушно зевнул сын боярский, вытянул ноги к очагу и укрылся шубным кафтаном.
В острог на острове три казака и сын боярский вернулись на шести лошадях с ясаком и с двумя насмерть перепуганными девками. Увидев добрую женщину, они повеселели, а когда узнали, что это жена нойона, осмелели и снова стали смеяться.
— Ладные девки, хоть и нерусские! — заводил глазами Горбун. Стал расхаживать возле них, поглядывать, как кот на сметану. — Мне бы такую в жены? — заискивающе взглянул на хозяина.
— Сперва кабалу отслужи! — буркнул Иван. — Потом денег заработай да купи или на саблю добудь!
С весенними ветрами разлетелась по степи весть, что балаганцы дали ясак в Братский острог и хотят присягнуть царю всем племенем в полторы тысячи сильных мужчин. Понесли казакам соболей и другие роды, тянувшие с выплатой.
Едва потеплело, Похабов отправил в Братский острог вестового с грамоткой, писал Дмитрию Фирсову, что балаганцы требуют хорошо укрепить Осиновское зимовье.
Глава 14
По поверьям своего времени, бесноватые весенние щуки взломали хвостами лед на Ангаре. С грохотом, хрустом, треском сошел он вниз по реке, и вскрылась черная студеная вода. Еще с неделю она кружила редкие льдины с вмерзшей содранной с берегов землей. Вокруг них косяками держались утки, выклевывая корм. В зимовье на Осиновском острове в те дни казаки питались утятиной и рыбой.
Гостей в эту пору не ждали, и вдруг караульный заметил в низовьях реки струг. Полтора десятка казаков легко тянули его против течения. Похабов опоясался саблей и вышел на песчаную косу в нижней части острова. Широко расставив ноги, упершись руками в бока, с важностью служилого человека стал поджидать гостей.
Вскоре разглядел он, что шли свои, казаки Братского острога. За версту узнал непоседливого приказного Дмитрия Фирсова. Добрый вырос казак, но не мог степенно стоять на одном месте и минуты, как горячий конь все перебирал ногами и вертелся без всякой надобности.
Наконец струг переправился на остров. Приказный выскочил на сушу, поклонился сыну боярскому, стал с горячностью величать его:
— Помог ты мне, Иван Иваныч! Облегчил службу. Дай бог тебе здоровья!
Похабов, польщенный незабытым добром, огладил бороду, понимая, что Митька прибыл сюда в эту пору не для того, чтобы сказать приветные слова, видать, есть дела важней. Сын боярский велел Сувору с Горбуном затопить баню и повел гостей в зимовье. Он не спешил выпытывать Фирсова, что за дела привели братских казаков на Осу.
После бани за столом молодой приказчик заговорил о деле:
— Получил я твою грамотку, где писал ты, что балаганцы требуют поставить острог больше красноярского. Наш воевода, Афанасий Филиппович, обо всем об том думал еще в прошлом году и наказал мне присмотреть место, чтобы построить новый острог.
При упоминании о Пашкове Похабов нахмурился, но ругать воеводу не стал. Осиновские казаки примолкли, внимательно прислушиваясь к разговору. Они ждали перемены, никакая работа им на ум не шла, а тут уловили намек на новые тяжкие труды.
Дмитрий Фирсов окинул их взглядом и пояснил:
— Мы пришли высмотреть место!
— Если уж ставить новый острог, то на другом берегу! — подсказал Похабов, и его казаки загалдели:
— За дровами эвон куда ходим… Все повырубили.
На другой день молодой неугомонный енисейский приказный поплыл с казаками на левый берег Ангары. Похабов дал ему в помощь всех своих казаков и бездельничавших дворовых. Напасть на остров в эту пору могли только оголодавшие промышленные неудачливой ватажки: братским и тунгусским народам по весне не до войн и нападений, все заняты скотом и перекочевками.
Икирежского аманата Похабов отпустил за выкуп еще зимой. Теперь он остался на острове с Савиной да двумя девками-ясырками.
Прошла неделя. К субботе вместе с Фирсовым приплыло десять казаков для бани. Дмитрий хвастал, что выбрал место благое для пашни и выпасов, на равнине между двух притоков. Лес был неблизко от реки, рубили его в верховьях притоков и сплавляли вниз плотами.
Казаки попарились, попили квасу и отправились обратно. А через день на правом берегу Ангары показалось два струга. Их тянули бечевником два десятка служилых. Люди шли явно свои, но Похабова насторожило, что некоторые из них несли на плечах ружья, хотя на равнинном берегу кустарник был редок, степь просматривалась далеко.
Сын боярский перепоясался саблей, сунул за кушак заряженный пистоль, велел Савине с девками запереться в зимовье, а сам вышел на песчаную косу, встал на виду у приближавшегося отряда.
Струги переправились на остров. Один, заскрежетав песком и галечником, выполз на берег смоленым носом. Другой оставался на плаву, удерживаемый против течения шестами и веслами. Со струга соскочил молодой кормщик в козловых сапогах выше колен, добротном суконном кафтане и собольей шапке. Лицо его показалось Похабову знакомым.
— Здорово живешь, дед! — вскрикнул с принужденным весельем в голосе и жестко блеснул глазами.
— Слава богу! — отчужденно ответил сын боярский и спросил: — А ты чей будешь? Не встречались, а лицо вроде знакомое.
— Бунаков я, Кирюха! Красноярский пятидесятник.
— Вон кто! — степенно повел глазами Иван. — Не Петра ли томского сын?
— Брата его, Ильи!
— Знаю вашу породу! — повеселел Похабов. — Сказывали, отец в опале после томского бунта?
— Ничего, отбрехался! — беспечально ответил молодой пятидесятник, снисходительно усмехнулся, поджидая, когда старик наговорится о пустяках. Глаза его сузились, блеснули злей и пронзительней.
— А кто на другом берегу острог ставит? — спросил резко.
— Наши, енисейцы, и ставят по указу воеводы, — прищурился Похабов и съязвил: — У вас, говорят, острожины в три сажени, а у нас, — кивнул на свой тын, — заплот. Оттого, наверное, вы на Оке наших ясачных грабите?
— Отчего ваших-то? — вскрикнул пятидесятник. — Наши, с Уды, изменили и бежали на Оку. Я с братаном Андрейкой гнался за ними. А ваши, Братского острога годовалыцики, давай по нам палить сдуру!
— Это плохо, когда в своих стреляют! — согласился Похабов.
— Значит, енисейцы? — скрипнул зубами пятидесятник. — Ну, с Богом! Будь здоров, дед!
Молодой Бунаков помог загребным столкнуть с отмели нос струга. Опираясь на плечи гребцов, пробрался на корму. Тяжелый струг кормой вперед поплыл к Ангаре. Второй сплыл за ним. На устье Осы они развернулись к другому берегу.
Долго глядел Иван Похабов, как удаляются суда, думал о своем, пока не окликнула Савина. Вроде бы ничего плохого не сказал молодой Бунаков, племянник старого приятеля, а на душе было смутно, всякая нелепица лезла в голову.
В сумерках с другого берега донеслись звуки стрельбы и ответный залп. Чуткое ухо воина уловило отзвуки боя. Не спалось Похабову. Всю короткую светлую ночь просидел он на нагороднях. После этого день промучился и другой. На третий показалась на реке легкая лодчонка, шитая из бересты. Стволы ружей торчали к носу и к корме. Двое в нательных рубахах, без шапок гребли изо всех сил, стараясь пристать к берегу выше устья Осы.
Казаки были свои, енисейские. Вскоре Дмитрий Фирсов с товарищем вышли на берег, облегченно перекрестились и замахали руками. Весь гнус, дремавший жарким полуднем в тенистых местах, с остервенением бросился на разгоряченных, потных людей.
— Что как с медвежьих лап? — полюбопытствовал ждавший их сын боярский. — Краснояры побили?
— Было! — отмахнулся Дмитрий, мотая головой и притопывая ногами. — Нападали. Попугали-постреляли. Ругались, как водится. У нас никого не ранили и у них — слава богу!
Фирсов опять мотнул головой, отбиваясь от мошки:
— Дядька Иван! А я ведь опять к тебе с просьбой! Пожил бы ты там? А мы бы зимовье разобрали, связали в плоты и переправили. На кой оно здесь? Все равно сожгут, не браты, так краснояры.
— Сожгут! — согласился Похабов. Спросил нетерпеливо: — Что краснояры-то?
— А подступили. Давай орать, чтобы острог нам не ставить! Кто-то сдуру пальнул. Ну и мы тоже. Отбились, прогнали их. Бунаков грозил в Тобольский город и в Москву писать. Пусть пишет! Мало мы писали? Двадцать лет пишем. У меня наказная память от воеводы, а Бунаков похвалялся, что у них нынче воеводой князь! Пусть перепираются!
— Что стоим? Пошли в избу! — пригласил Похабов.
Молодые казаки похватали кафтаны, мушкеты и прытко кинулись к зимовью, их рубахи были облеплены гнусом.
В избе с малым оконцем было сухо и сумеречно. Блуждая по темным углам, под кровлей ненавязчиво гудели комары. Очаг был разложен посреди двора. Дымок наносило в избу через окно.
Казаки побросали в сиротский угол ружья и кафтаны, сели на лавку. С парящим котлом в руке вошла Савина. Черноглазые ясырки из-за печки украдкой поглядывали на молодых казаков, тихо и смешливо переговаривались.
— Лесу мало! — обстоятельней заговорил Фирсов. — Каждое дерево, пока свалишь, обтешешь — день прошел. Вот и подумал: «Спрошу-ка дядьку, если не разгневается, так мы его зимовье разберем, переплавим и там поставим».
— На что гневаться? — проворчал Похабов. — Мало ли приходилось топором махать?
— Спасибо на добром слове! Ты уж тогда сплыви со всеми животами к новому острожку да поживи там, покарауль. А мы скопом все разберем и перетаскаем.
Молодой пятидесятник начал строительство нового Балаганского острога не с бани, не с избы, как обычно, а с проездной башни. Подгребая с другого берега, струг Похабова подошел к невысокому яру, над которым возвышалось новое строение. Мимо этих мест, между устьями притоков Уньги и Белой, он проходил не раз. Здесь были остатки старого промышленного зимовья, неизвестно кем и когда поставленного.
Сувор с Горбуном с обидой и недовольством перетаскали пожитки хозяев от струга к башне. Молчаливыми взглядами укоряли хозяина за то, что их, дворовых, он отдал казакам в работные.
Савина хлопотала возле струга. Похабов при сабле и пистоле с важностью осматривал башню, степенно отвечал на поклоны молодых енисейцев. Многие из них выросли на его глазах. Приятный ветерок обдувал берег. Гнус здесь не злобствовал, как на Осиновом острове.
— Солнце еще высоко! — посоветовал он казакам. — Подкрепитесь и плывите обратно. Я уж со своими дворовыми устроюсь и управлюсь.
— Девок на острове не осталось? — скалился молодой казак, весело поглядывая на ясырок.
— Не пялься! Эти не для тебя! — вскрикнул Сувор, заносчиво оберегая хозяйское добро. Шрамы на его лице налились кровью, синие пороховые пятна на щеках делали его похожим на татуированного тунгуса.
— Сибирские девки даром не любят! — посмеивался Похабов, поглядывая на молодых. — Их на саблю добыть надо или купить!
Казаки уплыли. Сын боярский с дворовыми устроился на ночлег в сторожевой башне. Савина с девками приготовила ужин, поставила тесто. Еще не зашло солнце, а все они утомились от дел и от переезда. Спать легли засветло, все рядом, как в юрте.
Горбун сидел у стены возле мушкетов и длинноствольной крепостной пищали, лениво, напоказ, поглядывал в бойницу и в облом, вздыхал, кидая косые взгляды на хозяина. Наконец решился заговорить:
— Всю зиму думаю, как жить, когда закончится кабала?
— Добрые мысли! — зевнув, поддержал его сын боярский. — Кабы прежде почаще о том думал, и кабалы бы на себя не дал.
— Оно, может быть, и лучше, что дал, — осмелев, чуть громче сказал Горбун. — Ты грозился нас на пашню посадить. Взял бы на себя землю, здесь или в Братском. Отдал бы за меня ясырку и посадил бы пахать в вечное холопство, с потомством. С хорошим хозяином куда как легче, чем вольному.
Похабов презрительно хмыкнул в бороду.
— Мунгалка за меня пойдет! — самоуверенно заявил Горбун. — А что? Горб у меня мал. Можно сказать, нет горба, спина кривая. А кобель я — ого!
— Про пашню — дело надумал! — одобрил его Похабов, зевая и крестя бороду. — Получишь волю, проси у приказчика данную на землю. А девка не про тебя! — сказал как отрезал.
— Да на кой она мне, воля? — обиженно вскрикнул Горбун. — То я не помирал от голода в гулящих-то.
— А что? Взять бы нам землю да осесть? — смешливо взглянул Иван на Савину. — Работники есть. Сами просятся.
— Только не здесь! — жалобно возразила она. — Ни кусточка, ни деревца, глазу остановиться не на чем. Уж лучше в Нижнем Братском, на Оке или еще где.
Иван с благодарностью придвинулся, обнял Савину под одеялом. Она согласна была на все, лишь бы быть рядом с ним.
— Куда уж нам, старым, пашню поднимать да дом строить! — пробормотал и сонно пригрозил Горбуну: — Смотри у меня! Забрюхатишь девку — ятра оторву!
— То без меня некому брюхатить! — со слезой пискнул Горбун. — А мне бы подошла. Люблю веселых. Нипочем не женюсь на злющей, хоть бы и на русской.
Прошел месяц июнь. Молодые казаки поставили острожную стену и две башни. Сын боярский с утра до вечера похаживал вокруг них и давал советы, заставлял своих дворовых рубить избу, чтобы не обленились.
Так спокойно не жил Иван и на Осиновом острове, а лучше, чем там, не жил нигде. Но, бесовским промыслом да Божьим попущением, нападала на него тоска, и едва Фирсов озаботился тем, что кончается ржаной припас, он вызвался сходить в Братский острог.
Дмитрий опять несказанно обрадовался предложенной помощи. Написал челобитную енисейскому воеводе, где жаловался на красноярцев, написал грамотку брату Арефе в Братский.
Утром Похабов усадил в струг Савину, ясырок и кабальных мужиков. Судно понесло течением. При деле сразу полегчало на душе старого сына боярского.
С реки Иван не заметил возле Братского острога ни души. Но едва его струг причалил к берегу, сверху стал спускаться Арефа Фирсов. За ним семенил долговязый Распута, размахивал руками, что-то навязчиво доказывал казаку. Арефа горячился, то и дело останавливался, переходил на крик. Распута, пощипывая редкую бороденку, глядел в сторону, кивал и снова настойчиво в чем-то убеждал посаженного на приказ казака.
Так и встретили сына боярского служилый да пашенный. Не успел Иван вылезть из струга, непоседливый, как брат, Арефа кинулся к нему за судом:
— Дядька Иван, ты приказчиком в слободе служил, ты все знаешь! — стал рассказывать о споре с пашенным.
По наказу воеводы при Братском остроге ставили казенную мельницу. Арефа велел каждому пашенному приволочь по бревну. Распута не отказывался участвовать в строительстве мельницы, но доказывал, что тягло должно раскладываться по дворам, а не по людям.
— Дело непростое, — важно нахмурился Похабов и озадаченно почесал затылок. Ему хотелось отделаться от споривших. — Обычно тягло на двор кладут, с захребетников и подворников — подушные берут.
Распута угодливо заулыбался и развел руками, дескать, то и я говорю.
— Это по-божески? — вспылил Арефа. — Для них, для пашенных, мельница, а казаки — надрывайся. Да и некому у нас строить.
— Почему для пашенных? — плутовато ухмылялся Распута. — Муку всем молоть надо. Служилые будут молоть бесплатно, а с нас и государю, и воеводе, и острогу — всем дай!
— У них на каждом ручье по мельнице. И никто с них податей не платит! — пожаловался Арефа.
Вконец запутавшись в тяжбе, Иван с важностью пошевелил усами и бровями, строго поглядел на одного и другого. Распута почтительно согнулся в пояснице и осклабился. Но сын боярский хорошо знал, какое упорство скрыто за внешней угодливостью. Он с недовольным видом крякнул, хмыкнул и сказал:
— Возьми моих бездельников. Пусть мельницу ставят!
— А кабальных истязать, это по-божески? — взревел Сувор, вылезая из струга.
— Отсидели уж зады! — проворчал Похабов. — Помогите добрым людям во славу Божью! — спор между пашенным и приказным решен не был, но утих. — Как там Огрызковы сыновья? Живы-здоровы? — спросил Распуту.
— Вчера видел! — ответил тот.
Иван передал Арефе грамоты брата и попросил:
— Дай мне коня, съезжу я к ним. — И как только казак указал на спутанных лошадей, приказал Сувору, все еще пылавшему от негодования: — Федька! Пойди оседлай и приведи! После перетаскаешь добро в избу или в балаган.
За два с лишним года Первуха со Вторкой срубили пятистенок, огородили двор пряслами, подвели под крышу амбар. Конюшня, лабаз и баня уже требовали ремонта. Льгота кончалась, а братья жили промыслом, но не пашней.
Оба они были дома, и далеко по округе разносился перестук отбиваемых кос.
Племянники бросили работу. По-хозяйски ослабили подпругу коня. Вторка принес корытце овса, высыпал в кожаный мешок и надел его на конскую морду. Встрече с дядькой племянники обрадовались, но дичились его еще больше, чем прежде, следили за каждым своим словом, будто гость был из начальствующих. «Волчата, — думал Иван, с тоской заглядывая в узкие глаза. — А то и волки уже!»
Солнце катилось на закат. Жара к вечеру стала злей. Конь хрумкал овсом, тыкал мешком в землю, подергивал кожей на боках и хлестал себя хвостом, отбиваясь от гнуса.
— Что в избу не зовете? — пожурил племянников Иван.
— Грязно там! — буркнул Первуха. — Солнце скоро сядет и овод сгинет. У костра веселей!
— У костра так у костра! — согласился Иван, присаживаясь на землю. — Какая пашня без семьи? — окинул взглядом двор. — А я вам невест добыл! — сбил на ухо шапку.
Племянники впились в дядьку настороженными глазами, замерли, как хищники при виде добычи.
— Нерусские? — тихо спросил Вторка.
— Откуда взяться русским девкам в братской степи? — посмеялся Похабов. — То ли мунгальской, то ли даурской породы! Откуда-то из-за моря. Хорошие девки, веселые!
— Нам нерусских не надо! — разочарованно буркнул Первуха. — Таких и сами добудем!
— Ты погляди-ка на них? — сын боярский раздраженно сбил шапку на лоб и обиженно замигал. — Да у моих девок носы длинней ваших! Дворовые слюнями истекли, поглядывая на них, в вечное холопство просятся.
— Господь не велел потомкам Иуды и Израиля мешаться с другими народами! — жестко объявил Вторка. — За тот грех потомство царя Соломона наказывал. Самсон женой-инородкой был предан врагам на поругание.
— Девки доброй волей крестились! — неуверенно пробормотал Иван. Обидчиво усмехнулся: — Вам-то Иуда с Израилем с какого боку родня?
— Через Спасителя мы приняли крещение в их Господа Саваофа! — поддержал брата Первуха, показывая, что знает о вере больше, чем три раза окунуться в воду во имя Святой Троицы.
— Ну, думайте сами, как жить, — тоскливо развел руками Похабов. — Все хочу, чтобы как лучше. Только никак не пойму.
— И не поймешь! — перебил его Вторка. — Ты так не жил. Не был газаргуй[263], ерэмэл[264]. Только здесь мы свои по Закону Божьему. — Возводя узкие зеленые глаза к небу, перекрестил грудь: — Бог сказал: какой бы веры ни были мать или отец — дети святы.
Иван почувствовал, что задел племянников за то больное, о чем между собой они говорят много и часто.
— Наш дед был хороший человек! Под конец жизни он все понял! — стыдясь вспыльчивых слов брата, миролюбиво вспомнил старика Первуха. — Он сказал: «Человек без единокровного народа, без родной земли не человек, а бузар. Дерьмо!» Так оно и есть. Только мы тогда деда не понимали.
— Ну смотрите! Вам жить! — замигал выгоревшими ресницами сын боярский. — Надумаете вернуться на Байкал — посажу на вашу данную Горбуна с Сувором и девок за них отдам. Эх-эх! — добавил с укором. — Будто у меня или у вашего отца была родная земля? Еще деда оторвали от родных могил.
— Это другое! — нетерпеливо отмахнулся Вторка. Вскочил, побежал к ручью за смородиновым листом.
Глядя ему вслед, Иван Похабов с тоской подумал: «Угрюмка вырос как дикая трава. Эти и того хуже». Он поднялся, взглянул на закат. Последние лучи солнца золотили кроны сосен на гривах.
— Поеду! Успею еще в острог засветло.
В обычных хлопотах прошел день и другой. Иван переговорил с Савиной и решил до срока дать волю своим кабальным людям. Сувор с Горбуном захотели сесть на пашню при Братском остроге.
Вспоминая разговор с племянниками, старый Похабов на легкой лодке переправился через реку, навестил монахов. Те благословили его помыслы, перекрестили девок-ясырок по уставу, обвенчали их с Горбуном и Сувором. При том слезно умилялись, хвалили мужей и посаженого отца, поскольку сожительствовали с ясырками многие промышленные и казаки, но мало кто соглашался венчаться.
Вскоре был собран хлебный припас для Дмитрия Фирсова. Арефа дал в гужи двух коней. И ушел бы Иван на другой день к новому острожку, но с Падуна прискакал казак и донес, что порог проходят отряды енисейцев пятидесятника Якова Похабова и московского дворянина Ерофея Заболоцкого с мунгальскими послами от русского царя.
Арефа отправил к Падуну казаков и лошадей сколько смог их собрать. Не усидел на месте и старый Похабов, оседлал коня и пустил его рысцой берегом, возле реки.
Помощь отрядам пришла вовремя. Измученные люди только прошли Падун. Они были мокры с головы до ног и сушились на солнце. Яков Похабов узнал подъезжавшего отца, поднялся ему навстречу. Он был в сухой одежде, одет не броско, но не бедно. По лицу сына не видно было, что утомлен переходом. По его приказу вскочили два босых полуголых казака, приняли повод и помогли старому сыну боярскому сойти с коня.
Якунька поклонился отцу на казачий манер. Тот обнял его и перекрестил. Приметил, что рубаха на сыне льняная, чистая. «Женился! — подумал. — И жена при нем!» Он не ошибся. Яков поманил от дымокура молодую женщину с лицом, плотно обвязанным шелковым платком так, что видны были только голубые глаза. Молодуха смущенно поклонилась свекру в пояс, зарделась от пристального его взгляда.
— Чья такая? — крикнул ей на ухо старый Похабов, стараясь перекричать шум воды, и трижды поцеловал сноху в щеки, укрытые шелком.
— Томского сына боярского Петра Бунакова дочь! — звонким голосом ответил за жену Яков и добавил: — Нынче Илимский острог Енисейскому не кланяется — другое воеводство. Тесть служит там стряпчим при воеводе Оладьине.
— Слыхал! — одобрительно кивнул Иван. — Добрый был казак. — Усмехнулся, вспомнив распри с красноярцами. Выходило, что спорил на Осе со свояком. Не дай бог, в недобрый час и повоевать придется с молодыми Бунаковыми. Новый Балаганский острог был красноярам поперек горла.
Похабов оглядел сушившихся людей, заметил лица стариков из первой стрелецкой сотни: Василия Черемнинова, Михея Шорина.
Подергивая редкой бородой, шлепая босыми ногами по камням, Черемнинов подошел к Похабовым, присел рядом с ними, кручинно свесив седеющую голову.
— Ладно Михейка, бессребреник, к пасынкам идет, ты-то чего опять в Братский? — весело крикнул ему Похабов. — Своя земля возле Енисейского, десяток ясырей в пашне, сыновья?
— Что с того, что земля? Служить не стану — отберут в государеву десятинную. Старая баба померла, сыны — ублюдки. Говорят, служи, батя, пока не помрешь, а то нас податями замучат, — прошепелявил Василий на ухо сыну боярскому.
Босой, полуодетый, но с саблей на боку из круга сушившихся казаков поднялся Федька Говорин. Старый Похабов хохотнул, крикнул ему:
— Однако недолго тебя жаловал кабацкий голова?
— Кого там! — просипел Федька, присаживаясь. — Две недели погулять не дали. Воевода в Краснояры с рожью отправил. С тобой спокойней и веселей!
В отряде Якова шли разные люди на перемену братским годовалыцикам и казакам Колесникова на Верхнюю Ангару. Среди разношерстной толпы Похабов высмотрел простоволосого, высокого и кряжистого детину с мокрой сосулькой бороды, с мокрыми же прядями волос по плечам. Когда тот натянул на голову черную скуфью, понял, что это белый поп. С попадьей и детьми он шел на службу в Братский острог, был на полголовы выше молодого Похабова и шире в плечах. По всей Ангаре и по Байкалу крупней и мощней этого попа был только Оська Гора.
— Ну и кулачищи у тебя, батюшка! — хохотнул Похабов, принимая благословение. — Такого попа нам и надо!
— Кабы не батюшка, еще неизвестно, отбились бы мы от шишей на устье Илима, или нет! — одобрительно прокричал атаман. — Якунька Сорокин напал с полусотней казаков. Хотел мушкеты, зелейный и хлебный припас пограбить.
— Якунька всегда был умишком слаб! — удивленно покачал головой Иван. — Однако на тебя-то он с чего напал?
Молодой атаман махнул рукой, дескать, потом, в другом месте все расскажу. Похабов знаками велел своим казакам впрягать коней в струги и тянуть их гужом к острогу. Казаки и стрельцы стали надевать на себя непросохшую одежду, потянулись берегом налегке, поспешая за стругами. Плечо к плечу шагали отец с сыном. Как только стало возможным говорить без крика, Яков начал рассказывать:
— Ты не знаешь, что деется на Ангаре и на Лене? — покосился на сына боярского. — Хорошо живешь! Ерошка Хабаров, у которого на Куте воевода Головин солеварню и пашню отобрал, своим подъемом собрал сотню охочих людей и три года назад ушел на Амур по Олекме.
— Слыхал! — кивнул Иван.
— Слыхал, да не все! — усмехнулся Яков. — Прошлый год, по жалобам якутских и амурских служилых, он вернулся в Илимский за приставом с московским дворянином Зиновьевым. Сам едва ли не в кандалах, а так складно брехал, что в Илимском и в Енисейском острогах толпы промышленных, гулящих и казаков его на руках носили. Про Даурию выспрашивали, а он говорил: «Чего нищенствуете? Идите на Амур. Там богатство за человеком гоняется, а не человек за ним!» Сказывал, что старый стрелец Алешка Олень и пасынки твои, Емеля с Петрухой Савины, — там.
А сам Ерофей был в шелковых одеждах, сабля каменьями разукрашена, аршинная шапка из черных соболей. Воевода против него — босяк. Пашков поскорей его с Зиновьевым из Енисейского острога выпроводил, потому что заводилась смута от прелестных Ерошкиных сказок. — Лицо Якова напряглось и побагровело. Он опасливо оглянулся на шедших казаков. — В тот же год и побежали люди всяких чинов: в одиночку и ватагами. Сперва из Илимского и Якутского уездов. После и из Енисейского.
Прошлый год бежали казаки Проньки Кислого. С ними шестьдесят казаков и пашенных. Потом бежал Васька Черкашин с полусотней. Служилые Давидки Егорова Кайгорода и Федьки Баранова бежали, но их поймали и били. Илимский воевода послал в погоню за беглецами стрелецкого сотника Анциферова! — Яков опять зыркнул по сторонам и придвинулся к отцу: — Ушел он в Дауры со всем отрядом. Знаешь хоть, — пытливо и недоверчиво взглянул в глаза отца, — что сорок служилых Верхоленского острога собрали круг, со знаменем и с хоругвями самовольно ушли к Бекетову.
Иван Похабов в недоумении замотал головой. Он не слышал этого, но, зная ум Петра Ивановича, не поверил сказанному.
— Нынче по всей Лене смута, — с горячностью продолжал сын. — Михейка Сорокин ей главный заводчик. А с ним, по слухам, три сотни служилых, гулящих и пашенных. Грабят торговых, осадили Илимский, идут в Дауры, на дальнюю государеву службу.
А Якунька Сорокин шел из Енисейского с рожью впереди меня. На устье Илима его встретил брат Антипка. И решили они моих людей сманить в Дауры, а припас отобрать. С помощью Божьей да со стрельцами Заболоцкого, — кивнул в сторону шедшего позади посольского отряда, — отбились мы. Но смута среди наших казаков! — Якунька повел глазами по сторонам. — Пока со стрельцами, держу всех их в страхе! — сжал кулак. — Батюшка помогает! Дай ему Бог! — размашисто перекрестился. — Печенкой чую, терпят пока. Думают, ты нас, атаман, на Витим выведи. А дальше мы и сами уйдем!
Крякнул Иван, запустив пятерню в седую бороду:
— Вот те и кумовья Сорокины! Тридцать лет в одних службах. Седина в бороду — бес в ребро! Не утешились старики. Понимаю! Всех нас манила Сибирь волей, а захомутала службой. Ну, Михейка! Долго терпел. — И встрепенулся с усмешкой, взглянул на сына: — А ведь нынче Афонька Пашков про меня никак не мог не вспомнить?
— Есть и тебе от него грамота, и Митьке Фирсову!
Старый Похабов снова покачал головой. Всколыхнулось в душе что-то давнее, несбывшееся, забытое, что до конца не было вытравлено ни ласками Савины, ни посольством в Мунгалы. Вспоминались смутные мечтания молодости о вольной земле, о подвиге и свободной жизни, которая так не сложилась.
Судьба сполна одарила его высоким чином и должностью, какие в молодые годы на ум не приходили, дала сына, добрую, любимую женщину, каких он не был достоин по грехам своим, недодала самую малость, ради которой взбунтовался Михейка Сорокин.
— Ну, Михейка! — снова пробормотал он.
— Я зачем все так подробно рассказываю? — с обидой в голосе сказал сын. — Афанасий Филиппович возвращает тебе казачье головство. А мне велел во всем тебе прямить, пока не уйду за Байкал. Над всеми людьми и острогами по эту сторону — ты снова голова. Думай, как искоренить смуту.
— Буду думать! — равнодушно ответил сыну старый Похабов. Широкой ладонью сбил на ухо шапку: — Раз уж снова поставлен на головство, надо сходить к московским стрельцам, — оглянулся на посольский струг.
Дворянин по московскому списку и московские стрельцы шли берегом. Два важных посла сидели в струге с царскими подарками. Еще двое стояли на корме и на носу, ловко орудовали шестами. Спотыкаясь на окатыше, острожный конь тянул судно против течения реки.
— Так это мои послы? — удивленно взглянул на сына старый Похабов. — Те, которых я в Москву возил от царевича Цицана!
— Твои! — смешливо кивнул Яков. — Возвращаются на родину с почетным караулом.
— Долго, однако, гостили у царя!
Арефа Фирсов, оставленный братом на приказе, и прежде предлагал Ивану Похабову занять в остроге избу приказчика. Теперь, получив наказную память от воеводы, приказал казакам перетаскать туда пожитки казачьего головы. А тот, оказывая почести царским послам, поселил их в своей избе вместе с Ерофеем Заболоцким. На другой день посольский отряд ушел к Балаганскому острогу. Послы спешили в родные края.
В съезжей избе атаман Яков Похабов читал вслух грамоты и наказные памяти воеводы. Здесь собрались лучшие люди, казачья старшинка и прибывший поп. Все почтительно слушали молодого Похабова. Слушал его и казачий голова. Раздумывая о своем, он недоверчиво хмыкал.
«А самому казачьему голове во всем радеть пользе и прибыли государевой, сменять и сажать приказных, смотреть накрепко, чтобы служилые и промышленные люди зерни и карт не держали и русским бы промышленным по зимовьям и иноземцам грабежа и насильства и утеснений не чинили. А будет кто табак при себе держать, того бить нещадно батогами. А промышленных и торговых людей, самовольно являющихся в братские улусы и тунгусские угодья, гнать и наказывать, праздно шатающихся гулящих людей к делу принуждать».
Казачий голова хмурил бровь: стояла перед его глазами мстительная ухмылка Афанасия Пашкова, не вязавшаяся с его разумными наказами.
— Ну и ладно! — нетерпеливо поторопил сына. — Рыба стынет, — кивнул на разваленного осетра, уставившего длинный нос в красный угол.
— Во славу Божью! — зычно пророкотал поп и перекрестил чарку.
Прибывшие люди не успели выпить за здоровье друг друга, как за дверью возле крыльца съезжей избы раздался пьяный вопль:
— Похаба, выйди! Что спрошу?
— И кто это так непочтительно? — рассерженно вскинул голову атаман Яков.
— Федька Сувор! Бывший мой кабальный, — смущенно пробормотал Иван. — Уже пьян, стерней!
— Пошли казаков! — строго приказал Яков. — Пусть дадут батогов!
Иван молча поднялся из-за стола. Сутуля широкие плечи под низким потолком, вышел за дверь. За ним сорвался сын. Два подначальных ему десятских, дожевывая на ходу, послушно двинулись за атаманом.
Иван выпрямился на крыльце, расправил плечи, широко расставил ноги, загородив вход в сени. Возле крыльца стоял Федька Сувор. Его изувеченное лицо в растрепанной рыжей гриве волос пылало от пьяного разгульного негодования.
— Чего тебе? — громко спросил Иван бывшего дворового. Осмотрелся по сторонам. Горбун выглядывал из-за амбара, плутовато щурился и смеялся над пьяным Сувором.
Федька, сильно качнувшись, в пику бывшему хозяину тоже уперся руками в бока и с важностью объявил:
— Люди сказывают, коли посадил нас на землю, то должен дать завод на пятнадцать рублей каждому!
— Подь сюда! — поманил его Иван. — Дам!
Федька доверчиво шагнул за посулом. Старый Похабов коротким ударом звезданул его прямо в пылавший лоб. Сувор неловко взмахнул руками и осел на землю, мотая головой с бешеными глазами. Очухавшись, выхватил засапожный нож, с ревом ринулся на сына боярского. Иван схватил метлу на крепком березовом черенке, провернул ее как саблю, выбил из неверных рук засапожник и стал охаживать Федьку помелом.
Выскочившие во двор казаки заломили руки пьяному буяну. Яков пристально, с упреком глядел на отца. Казачий голова, не поднимая на него глаз, сердито бросил метлу и поправил растрепавшиеся по плечам волосы.
— Дурак! — плюнул в сторону скрученного Федьки.
— За такую дурость по закону, нашим мудрым государем данным, надобно вешать на суку, чтобы другим неповадно было! — громко объявил Яков всем сбежавшимся на шум и тихо укорил отца: — А не бесчестить свои седины дракой!
— Дурак он и есть дурак! — неприязненно отмахнулся Иван. — Его хоть за ятры подвесь — не поумнеет. Вон заводчик! — указал на Горбуна, прятавшегося за стеной амбара.
— Взять его! — приказал атаман Яков.
Казаки схватили Горбуна под руки, бросили в ноги молодому атаману.
— Другим в науку! — строго изрек тот. — Пьяного, как протрезвеет, бить кнутом, а подстрекателя повесить!
— Невинен, батюшка! — взвыл Горбун, царапая землю. — Не губи, христа ради! — вскочил на трясущиеся ноги. Из штанины потекло.
Казаки захохотали. Усмехнулся и молодой атаман. Горбун, уловив перемену в его настроении, снова упал на четвереньки, завертелся чертом, выстукивая лбом о землю на все четыре стороны.
Сувор со скрученными руками как зверь вращал окровавленными глазами и поносно орал:
— Биты уже! Казнить смертью только государь может, не вы. Или забивай кнутом, или давай пятнадцать рублев!
Яков тряхнул плетью, двинулся грудью на буянившего.
— Со своими дворовыми сам разберусь! — осадил сына казачий голова и приказал казакам: — Обоих в казенку!
Врубленная в стену тюрьма была набита скарбом прибывшего отряда. Бывших дворовых пришлось посадить на цепь в пустовавшей аманатской избе. После утренних молитв, до завтрака, казачий голова посочувствовал смутьянам и пошел взглянуть на них. Распахнул подпертую дверь. Горбун и Сувор сидели на нарах с печальными лицами.
— Протрезвели? — строго спросил Похабов, постукивая батожком по голяшке сапога. — Сказывайте, что вчера бунтовали?
— Не пил, не буянил! — завыл Горбун, потряхивая цепью. — Почто страдаю?
Федька воротил набок опухшее лицо. Под его глазами вздулись и расплылись синяки.
— Ничего не помню! Пьяный был! — прошепелявил ссохшимися губами.
— Что я тебе задолжал? — строже спросил казачий голова. Резче застучал батогом по голяшке.
— Это я у тебя в кабальных должниках! — шмыгнул носом Сувор. — Чего уж там!
— А чего орал?
— Говорю же, пьяный был! Кого спрашиваешь?
— Отпусти этого! — указал казаку на Сувора.
Ушлые глаза Горбуна забегали, руки затряслись. Он завопил так, что казак, снимавший цепь с Сувора, поморщился от звона в ушах.
— Федька свое получил! — потянул за цепь Похабов, выволок упиравшегося Горбуна из аманатской избы, несколько раз вытянул вдоль спины батогом. — Сказано, лучше бы не родиться тому, через кого приходит соблазн. В другой раз станешь кого подстрекать — удавлю! — Бросил цепь и кивнул казаку: — Отпусти и этого!
Поднималось солнце. С реки веяло свежестью и прохладой. Прибитые утренним холодком, сонно погуживали комары. Яков сидел на крыльце приказной избы в накинутом на плечи кафтане, снисходительно посмеивался, наблюдая, как отец творит расправу.
— Палача не завели! — буркнул сыну Иван и бросил батожок под крыльцо.
— Когда уходим, голова? — спросил Яков, показывая, что эти дела его не касаются.
— Как отдохнут твои люди, так и пойдем!
— Тогда сегодня пусть отдыхают! Завтра будем грузить струги!
— Завтра так завтра, — согласился Иван и добавил, усмехнувшись в бороду: — Коли молодой жены не жаль.
— Пусть привыкает! — жестко ответил Яков.
Сверх своего хлебного оклада казаки атамана Якова везли двести пудов ржи для атамана Колесникова, за Байкал. Пороги были пройдены. До Верхнего острога казачий голова дал им в гужи по коню на струг. Облегчение было явным, и пока никто из бурлаков не роптал на чужой груз.
Прибывший с отрядом белый поп зычным голосом отслужил молебен об отплытии, окропил суда и людей святой водой. Атаман Яков махнул рукой ертаулам, и первый струг двинулся против течения реки. За последним судном с рожью для строителей Балаганского острога шли Иван Похабов с Савиной.
За время отсутствия головы казаки Дмитрия Фирсова собрали избу. По недостатку леса частокол был поставлен только местами и всего в полторы сажени. Оглядывая строение, старый Похабов проворчал:
— Равнина! Без надолбов никак нельзя! — Притом понимал, каких трудов стоило казакам Фирсова доставить сюда лес. — Ладно уж! Как дойдут руки, так поставим! — скупо похвалил строителей.
Он велел отряду Якова париться в бане и отдыхать, сам стал выспрашивать у Фирсова, какие суда и люди проходили мимо острога. Надзор за воровским тёсом был возложен на него. А время для движения промышленных и воровских ватаг было самым подходящим.
Казаки Якова и строители Фирсова не раз видели русские струги, шедшие вверх по реке. За занятостью они не могли гоняться за ними. У казачьего головы не было надежды, что дозорные, оставленные им на Иркуте, смогут остановить множество людей, уходивших вверх по Ангаре и, скорей всего, за море. Надо было укреплять зимовье на Дьячьем острове и острожек на байкальском култуке.
Иван Похабов дал наставления казакам Фирсова и с отрядом Якова двинулся дальше к Иркуту. Он беспокоился и спешил. В зимовье на Дьячьем острове было оставлено всего только трое служилых, среди них молодой Никитка Фирсов. Иеромонах Герасим со своими вкладчиками защитить их не мог.
Не зря дурные предчувствия томили в пути старого Похабова. Едва сводный отряд дошел до скита, вместо молебна и благословения казаки были ошеломлены известием, что зимовье на Дьячьем острове занято людьми русской породы, невесть откуда прибывшими. Старцев они не почитали, подарков и поклонов черному попу с его вкладчиками не давали, но с иконы Богородицы, подаренной сибирским архиепископом, тайком отколупали драгоценные камни.
— Грех-то какой? — крестился Герасим, оглядывая енисейцев.
— Казаки хоть живы? — стал пытать его и вкладчиков Иван.
— Ничего не знаем! — винились они. — Давно никого не видели. А пришлых бродников было не меньше тридцати.
Вечерело. На повороте реки в лучах заходящего солнца кроваво багровел стрежень. Дойти до устья Иркута засветло отряд не успевал. Иван велел всем стругам переправиться на другой берег и разбить табор.
Как только енисейцы и московские стрельцы с послами переплыли реку, сделались сумерки. Старым казакам здешние места были хорошо знакомы, и они предлагали напасть на зимовье ночью.
— Что там за люди — мы знаем со слов скитников! — разумно воспротивился им Яков. — Среди ночи ненароком можем побить своих. Надо дождаться утра и узнать все явно.
Как ни торопился казачий голова, как ни беспокоился за оставленных им годовалыциков, но вынужден был согласиться с сыном и велел ночевать на берегу.
Чуток старческий сон. Только поблекло звездное небо перед рассветом, он поднял верного десятского Дружинку с проворным молодым казаком, отправил их на остров с наказом: в ссоры не вступать, все высмотреть тайно и вернуться.
Они вернулись на стан на утренней заре. У молодого казака борода висела сопревшей апрельской сосулькой, волосы были мокрыми. Дружинка доложил, что в сумерках тайком они подошли к Иркуту против острова. Сколько ни прислушивались, не услышали ни звука, не учуяли дыма. Тогда старый десятский велел молодому переплыть протоку. Тот поплыл нагишом. Остров не обходил, уж больно лютовали на рассвете комары, но в зимовье, в баню заглянул и не нашел там ни души. А зола в очаге была теплой. То ли все ушли, завидев казаков, то ли спрятались где-то на острове.
Выслушав их, старый Похабов взглянул на сына.
— Идти надо! — сказал тот.
Остров был пуст. Лабаз и изба обобраны дочиста. Из железа в зимовье не осталось ни гвоздя, ни крючка.
— В Дауры побежали! — добродушно посмеивались казаки, осматривая остров.
Судя по следам, здешние беглецы еще вечером заметили отряд и ушли вверх по Иркуту.
— Да их с полсотни! — со странным восторгом разглядывали вытоптанный берег казаки.
В избу идти никому не хотелось, хоть там не ел гнус. Задымила баня. Далеко по реке стали разноситься голоса служилых. Савина хлопотала о выпечке хлеба, привычно обживала знакомый остров. За ней послушно ходила невестка и помогала как могла.
Отец и сын Похабовы сидели возле дымокура. Яков помахивал у лица веткой.
— Ладно! — озабоченно рассуждал Иван. — Петруха Тальнин да березовский казак бежали с ватагой. Но Никитка-то Фирсов, сотников сын?
— Что сын? — лениво возражал Яков. — Илимский сотник бежал! Ты глянь-ка на морды моих казаков, — кивнул за плечо и криво усмехнулся. — Послушай, что говорят. Дай волю — сами побегут!.. Дураки! — пришлепнул овода на щеке. — Брешут да смущаются слухами!
— Почем знаешь, что брешут? — пытливо взглянул на сына старый Похабов.
— То я на Витиме не был, то я про Дауры не слыхал, — зло хмыкнул Яков. — Промышленные давно выведали, что в тех местах китайские товары дешевы, а соболь хорош. Только люди Хабарова там беспрестанно воюют и голодают. С ним, с Ерофеем, в Москву отправлены не только даурские мужики и бабы, но и Коська Москвитин с жалобами на самого Хабарова. Сказывал он, разделилось хабаровское войско на два полка, и воевали они меж собой, и голодали, и Хабаров велел по своим из пушек стрелять.
Мы хоть за государево жалованье служим! — строго взглянул на отца. — А они, — кивнул в верховья Иркута, куда ушла ватага, — за пустые посулы!
— Умен! — одобрительно покачал головой Иван. — Среди моей родни таких не было. В мать, однако! — Нечаянно вспомнил Меченку и спросил сына: — Она не так далеко отсюда. Хочешь проведать?
— Как прикажешь! — буркнул молодой атаман. — Ты — голова, не я!
— Вот ведь как все обернулось! — тихо и задумчиво вздохнул Иван, опуская глаза. — Иные казаки били жен за всякое дурное слово. Детей драли в науку. А те нынче и матерей любят, и отцов почитают.
— То я тебя не почитаю! — смутился Яков, бросив на отца быстрый взгляд. — Мать сама себе судьбу выбрала: то в монахини собиралась, то с молодым слюбилась. И зачем мне возле нее срамиться? Состарится — не брошу! А полюбовного ее молодца знать не хочу.
— Да! — буркнул отец и стал тихо оправдываться, уловив в словах сына намек на вину, от которой не отнекивался. — Жалел я ее. И сейчас жалею, хоть она и стоит поперек моей жизни, как камнебой поперек реки. Бывало, постегаю слегка, а душа болит, — снова вздохнул. — Так вот все и обернулось. А зимовье надо укреплять! — суетливо спохватился, раздосадованный нечаянным откровением. — Без этого теперь никак нельзя! Коли побежали толпами по Иркуту — все сметут на своем пути. И скит не пощадят. А будет здесь острог и другой на Байкале — можно удержать.
— Изба сопрела! — поддержал отца Яков.
— Давно ли перебирал? — обернулся к зимовью старый Похабов. — Правда, наспех, из сырого леса, лишь бы перезимовать.
— За беглыми погоню пошлем? — спросил Яков.
— Не догонят! — сердито мотнул головой Иван. — Только утомятся.
Яков поддакнул отцу:
— Не угнаться!.. Я схожу к Яндохе, узнаю, кто и когда проходил по реке.
На другой день караульные заметили малый четырехвесельный струг, плывущий с Байкала. По наказу атамана спустились на лодке к устью Иркута, спрятались под нависшим над водой тальником. Струг все ближе подгребал к левому берегу, к устью. Здесь и наткнулся на караульных.
— Да это же Ивашка, старший Перфильев сын! — вскрикнул Дружинка.
В стружке было только двое гребцов. На дне, на залатанном парусе, лежал на спине еще один казак и косил глазами на енисейцев.
— Слава богу! — бросив весло, размашисто перекрестился Иван Перфильев. На красном, обожженном солнцем лице лохмотьями висела сухая кожа. Глаза из-под собольей шапки светились синими каменьями. — С кем пришли? — спросил десятского.
— С Похабовыми, — ответил тот. — Ваське Колесникову хлеб и перемена!
— Вон что! — Ивашка поскоблил облупившуюся кожу на щеке. — А нас Бекетов за помощью послал. Оголодали мы, заплутали. — Кивнул на лежавшего казака: — Его тунгусы ранили. Пограбить нас хотели.
Увидев два судна, поднимавшихся Иркутом, на берег острова стали выходить отдыхавшие казаки. Они узнали енисейцев, весело вытянули их лодку с людьми на песок. Раздвигая столпившихся людей, к ней подошли Похабовы.
Ивашка по-родственному откланялся крестному, обнял атамана. Служилые осмотрели раненого казака, стали менять ему повязку из листьев. Голова и атаман повели молодого Перфильева для разговора.
Из распахнутых дверей бани клубился дым, кисло и сытно пахло опарой, которую Савина выставила на солнце. Ивашка Перфильев повел носом, сглотнул слюну и пожаловался:
— Со второй Святой недели мукой толченую рыбу приправляли. Тем и живы.
— Садись, рассказывай, пока каша подходит! — кивнул на изрубленный пень казачий голова. Вокруг них рассаживались десятские и старые казаки.
Ивашка Перфильев пожаловался:
— Колесниковские люди указали нам путь на Иргень-озеро ложно.
— А мы что вам говорили! — возмущенно затряс бородой Дружинка. — Дальше Табуная они не ходили!
Старый Похабов нетерпеливо махнул рукой, чтобы десятский помолчал. Перфильев продолжил:
— Петр Иванович с людьми ставил острог в баргузинском култуке, а меня послал к озеру. Отправил со мной колесниковских вожей, которые хвалились, что знают путь. И завели они моих людей невесть куда. Только летом все мы, чуть живы, выбрались к Бекетову ни с чем. А у него зимой казаки и охочие оголодали. Верхоленцы взбунтовались, хотели уйти в Дауры к Онуфрию Степанову.
— Постой! — взмахом руки остановил крестника Иван. — Откуда у вас верхоленцы?
— Самовольно присоединились к нам в этих самых местах, — неохотно ответил Ивашка. — Отряд в четыре десятка — больше нашего. И решили мы принять их ради дальних государевых служб. И помощь, и польза явная.
Яков Похабов обвел строгими глазами собравшихся вокруг них казаков, впился в товарища пристальным взглядом:
— Енисейский воевода получил от Курбата Иванова челобитную с жалобой, что бекетовские казаки еще прошлой зимой присылали верхоленцам подговорную грамоту, звали их на службу в Дауры и подстрекали к бунту!
— Я этого не знаю! — равнодушно пожал плечами Ивашка. — Пришли да пришли. Попросились к нам, мы сообща не отказали. Про бунт не допытывались.
— Расскажи им про медовую жизнь в Даурах! — Торжествующим, пылким взглядом Яков снова окинул своих казаков, ловивших каждое слово молодого Перфильева.
— Сам я там не был! — опять уклончиво пожал плечами Ивашка. — Со слов только знаю.
— Все равно расскажи! — приказал Яков и пронзительно свистнул, созывая всех своих людей.
— Ешьте, милые! — подошла Савина с котлом парящей каши и щедро полила ее конопляным маслом.
Казак, спутник Перфильева, дернулся было с места.
— Сиди, милый! Ешь во славу Божью! — остановила его Савина. — Раненому уже унесла молодая! — кивнула на Якова.
На призыв атамана со всех сторон острова сходились казаки, занятые кто рыбной ловлей, кто починкой одежды и оружия. С любопытством все тесней обступали прибывших.
— Слушайте! — громко приказывал Яков. — У казачьего головы Бекетова казаки бунтовали.
— Не бунтовали! — осторожно поправил атамана Иван Перфильев. — От голода роптали. Против Петра Ивановича никто дурного слова не сказал.
— Все равно бунтовали! — упрямо тряхнул головой Яков. — Не против головы, так против наказной памяти. — Победно поглядывая на всех и посмеиваясь, объявил: — Коська Москвитин против Хабарова говорил, голодали они там непрестанно. А где на Амуре много хлеба, там сотнями и тысячами нападают служилые китайского царя Богды. Все они с ружьями и с пушками. А иные ружья у них о четырех стволах. Скажи им, — снова резко обернулся к молодому Перфильеву, — чтобы смут не заводили по прелестным сказкам!
Ивашка Перфильев, обжигаясь, мотал головой, шепелявил ртом, набитым горячей кашей, торопливо оправдывался:
— О Даурах ничего не знаю. Завели меня колесниковские вожи в безлюдные горы, еле выбрался. А как выбрался, так Бекетов послал к вам, ваших вожей и видальцев просить.
Дружинка выругался:
— Уж лучше воевать, чем терпеть обиды в посольстве! — Старый служилый первой енисейской стрелецкой сотни понимал, что ему с Сенькой Новиковым придется плыть к Бекетову.
Солнце покатилось на закат. Устало огрызались поперечные казаки, не желая верить бекетовцам. Атаман Яков спорил с ними до хрипоты и осмеивал прелестные сказки, невесть кем придуманные. К толпе подошел Сенька Новиков.
— Голова, благослови баню! — протянул Ивану Похабову березовый веник.
Казачий голова отказался от чести и ушел к реке в тень додумывать свои мысли.
Сенька неуверенно протянул веник Якову:
— Благословишь, атаман?
— Ты старше! — отшутился тот. — Мне в пекло рано!
Казак потряс веником и пошел к бане снять первый пар. За ним потянулись другие. Яков вкрадчивым кошачьим шагом двинулся за отцом, сел рядом с ним. Иван сказал, не оборачивая головы:
— Нельзя бросать Петра в нужде! Уж если он просит помощи, то его людям горче горького!
— Нельзя! — согласился Яков. — Но против воеводы и его наказной памяти тоже не попрешь! Неизвестно еще, что ертаулы скажут, — кивнул в верховья Иркута, куда были отправлены его люди не в погоню за воровской ватагой, а к верному князцу Яндохе, чтобы узнать, кто и куда шел.
— А что они скажут? — крякнул запершившим горлом казачий голова. — Петру легче не станет! — Взглянул на сына с укором и добавил: — Васька Колесников не пропадет! — Он сгреб со щеки горсть ослабевших в тени оводов, бросил их в воду. — Ваську в дверь не пустишь, он в окно залезет, за стол не посадишь — из печи свое возьмет.
Ертаулы вернулись на другой день и привели отощавшего иркутного годовалыцика Никитку Фирсова. Старый Похабов облегченно перекрестился. Больше других он беспокоился за сына первого енисейского сотника, который родился после гибели отца.
— Вот! — вместо приветствия казак показал голове запястья рук, вспухшие и истертые. — На цепи вели!
Под его глазом темнел синяк, но опухоли уже не было.
— Беглых не догнали! — доложил ертаул. — Этот шел нам навстречу. Яндоху с людьми беглые не грабили.
— Хотели пограбить, да Яндоха — не дурак! — поправил ертаула Никитка. — Увидел на мне цепь и велел своим конным мужикам отбиваться дубинами. А меня беглые хотели утопить, но только побили и отпустили!
— А Петруха с Березовским?
— Ушли в Дауры! — стыдливо отвел глаза молодой казак. — Противились. Может, для виду.
— Крапивное семя! — выругался Иван. — Проведут ведь воров мимо моего острога. А чего это они по Иркуту пошли? Бекетова на Селенге боятся?
— Где-то там, на Байкале, тропа есть через горы на Чикой-реку! — неуверенно ответил Никитка. — Среди беглых будто есть бывальцы, которые по ней ходили в реку Амур.
Всю ночь Иван Похабов бессонно ворочался под стругом. С горечью думал о том, что никто из казаков не осудил беглых, и о своем старом товарище Бекетове. Только когда стала редеть темень, он забылся недолгим, но глубоким сном.
Утром после молитв и завтрака Иван велел сыну следовать за ним на низ острова. Оставшись вдвоем, сказал строго, как о решенном:
— Нельзя Петра оставить в нужде!
— Ты — голова! Приказывай! — вяло возразил Яков.
— Перед воеводами как-нибудь оправдаемся! Перед Господом — ума не хватит! — сбил шапку на ухо отец и приказным тоном объявил: — Я с десятком казаков останусь здесь, укреплю зимовье, обнесу его тыном. Ты со своими казаками по моему указу возьмешь Дружинку с Сенькой и пойдешь со всем хлебным припасом к Бекетову. Перед воеводой сам отвечу!
— Как скажешь! — пожал плечами Яков и принужденно зевнул. Попинал носком сапога песок. — Но грамоту воеводе я отправлю, что ты меня принудил против наказной памяти идти к Бекетову, а не к Колесникову.
— Отправь! — согласился отец и взглянул на сына сузившимися глазами.
— Мы люди служилые! — чуть смутился, но не опустил глаз Яков. — Мы Господу через старших по чину служим!
— Пиши! Чего уж там! — мягче согласился Иван. — Хоть я от своих слов никогда не отказывался. Да и в свидетелях все казаки. Смотри только, не осудят ли они тебя? С ними службы нести, жить и умирать заодно!
— Мы — служилые! — резче обронил Яков и упрямо отвернулся. — Не все казачьи обычаи — нам указ!
Иван со вздохом пожал плечами:
— Собирай круг! — приказал и двинулся к зимовью. — Говорить будем!
Зашумел остров, засуетились, забегали люди. Вышли караульные с мушкетами, рыбаки с мокрым бреднем. Поклонившись на четыре стороны, казачий голова объявил, что казаки Петра Бекетова терпят нужду за морем.
— И решил я, Иван Похабов, послать к нему на помощь сорок казаков с их хлебным окладом и двести пудов ржи, что послана воеводой Колесникову. А перед воеводой ответ за мой наказ держать мне, казачьему голове.
На другое утро Иван Перфильев со своими вестовыми казаками собрался плыть по наказу Бекетова и с его отписками в Енисейский острог. Он брался передать и грамотку от молодого Похабова. Прежде того Яков подал ее отцу:
— Почитай! Отписал воеводе, что иду к Бекетову по принуждению!
Иван только посмеялся и, не читая, передал грамоту Перфильеву:.
— Уж я-то против сына зла не сделаю! Один раз погрешил подозрением — всю жизнь за тот грех расплачиваюсь.
К полудню казаки атамана Якова, старый стрелец Дружинка и казак Сенька Новиков двинулись бечевником к истоку Ангары, к Байкалу. С ними ушли московские стрельцы и послы царевича. Иван Перфильев с товарищами поплыл вниз по реке. Старый Похабов оставил четверых казаков перебирать зимовье. Остальных с хлебными окладами послал на перемену годовалыцикам Култукского острога. Сам переправился на другой берег к скитникам.
Пониже прежней кельи Герасима и могилы Михея Омуля, у поворота реки они поставили избу, наполовину врытую в яр. Возле нее — срубили часовенку. Ни тына, ни караульных в скиту не было. Иван тихо вошел в часовню. Там тесно молилось с десяток калек.
Таежная жизнь старит быстро. Не так уж много старше Герасима были его вкладчики, но выглядели совсем ветхими. Скитники, лобызая икону Богородицы и Честной Крест, расходились. Герасим вышел последним. Подпер дверь батожком, повел Ивана в свою келью.
— Ну вот, батюшка! — говорил ему на ходу казачий голова. — Хотят или не хотят наши воеводы с московскими дьяками, а острог здесь ставить придется: воровские ватаги торный путь проложили.
— Вот ведь грех-то какой! — суетливо всхлипывал монах. — Жемчуга с лика Богородицы содрали! Не на острове острог надо ставить — здесь. И не острог, а город. — Монах вдруг замер на месте, затих на полуслове, к чему-то прислушиваясь. — Колокола все громче, все явственней звонят! — прошептал, пристально глядя на Ивана.
Похабов натянул поглубже шапку. Досадливо проворчал, обернувшись к часовенке:
— Так нет еще церквей!
— Будут! — невозмутимо ответил монах. — Во имя Спаса Господня! Разрядный поп в ту церковь уже рукоположен. Значит, скоро.
— Благословишь ли острожек на острове? — вкрадчиво спросил казачий голова.
— Благословлю! — со вздохом согласился монах.
Казаки под началом Ивана Похабова в три недели поставили тын, перебрали старую избу, срубили съезжую, подновили лабаз и поставили государев амбар. Теперь на острове при нужде можно было отсидеться в осаде.
На этот раз казачий голова оставил на устье Иркута пятерых годовальщиков, дождался перемены и ясака из Култукского острога. Как и опасался, воровская ватага не только не прошла тайком мимо острожка на Байкале, но и пыталась осадить его. Получив отпор, беглецы кинулись на подворье государева пашенного и слегка пограбили его: отобрали бочонок вина, два мешка ржи, увели двух бычков и сманили за собой ясырей. Большего вреда они причинить не успели: култукские казаки отбили двор пашенного.
Дела в верховьях Ангары были закончены. Похабов стал собираться к Дмитрию Фирсову.
— Где зимовать будем? — допытывалась Савина, глядя на Ивана виноватыми глазами, оправдывалась: — Стара уже, устаю жить по балаганам да под стругом. Кости болят.
— В новом Балаганском острожке, даст Бог, и зазимуем! — хмурил повинные глаза Иван Похабов. — Горяч Митька не в меру! Может с балаганцами мир порушить. С красноярами — и того хуже.
Тихонько постанывала и тайком вздыхала Савина:
— Опять в сырой избе жить! А дрова далеко.
— Не заморожу! — отшучивался Иван. А на душе было тягостно, и он предложил, отводя глаза: — Может быть, тебя в Енисейский отправить? На другой год, поди, пришлют замену, вернусь.
— Нет! — решительно ответила Савина. — Без того чуть не всю жизнь тебя прождала.
Не пожалел сил Дмитрий Фирсов, на голом месте срубил острожек, ладный, как пасхальное яичко: две башенки, две избы и амбар. Вместо рва, отрыть который не хватило сил, и надолбов, на которые не хватило леса, оставил прясла, как на поскотине, чтобы всадники не могли беспрепятственно подъезжать к самому тыну.
Дмитрий встретил Ивана Похабова с Савиной, провел их в сырую избу, где сильно пахло смолой и глиной. Посередине ее из речных камней была сложена печь.
После бани за соборным столом молодой пятидесятник смущенно признался казачьему голове:
— Я ведь краснояров повоевал!
— Как это? — вскинулся Иван. — Опять напали?
— На меня не нападали! — уклончиво ответил Фирсов. — Приехали наши, братские мужики. Донесли, что краснояры с них ясак требуют на себя. А они за этот год уже дали нам больше прежних лет. Я собрал казаков да с братскими же мужиками гонялся за ворами. Они заперлись в своем острожке и смеялись над нами. — Дмитрий, свесив повинную голову, глубоко вздохнул: — А тут, как на грех, Арефа из Братского послал служилых с рожью. Подмога. День держали краснояров в осаде, с полпуда пороху сожгли, выломали ворота и взяли их всех. Двоих ранили, но легко.
— И где они теперь? — строго спросил Похабов, прикидывая, как может обернуться для него и для Митьки эта война.
— Отпустил с Богом! — покаянно завздыхал Фирсов. — Ни ружей, ни рухляди у них не брал. Весь живот с собой взяли.
Похабов озадаченно крякнул, почесал затылок, не зная, что сказать, ошалело водил глазами по сторонам.
— Вот те крест, дядька Иван! — слезно воскликнул Дмитрий. — За свой грех сам отвечу. Худого про тебя никому не скажу.
— Что уж теперь?! — хрипло буркнул Похабов. Молча налил полную чарку крепкого вина. Влил его в бороду, вытер усы ладонью. Посидел с выпученными глазами, прислушиваясь, как, обжигая нутро, катится оно по брюху. Вспоминая наказ Петра Бекетова, просипел:
— Кабы все это войной с балаганцами не обернулось!
— Я ж за них и воевал! — слезно воскликнул Фирсов. И поправился: — Сил не было терпеть.
— Еще с хрипуновских времен, лет уж двадцать, больше, наши с красноярами жаловались друг на друга в Москву. А ты, выходит, разом все решил. Удалец-молодец! Отец твой был осторожней. Уж и не знаю, чем это обернется, как аукнется, — добавил, мягче взглянув на молодого приказчика.
Положившись на Господа, они оставили до поры этот разговор. Дмитрий Фирсов сдал острог и поплыл на приказ в Нижний Братский.
Осень вызолотила береговой кустарник и степь. Октябрьские ветра оборвали иссохший лист. Намерзли забереги. Над черной рекой закурился туман. Иван Похабов в Балаганском острожке по утрам оглядывал Ангару. Вместо сала и льда, которых ждал со дня на день, увидел на другом берегу едва приметное мельтешение. Сначала он принял его за братские стада, погоняемые всадниками. Окликнул из избы старого ленивого казака. Тот неохотно поднялся на башню, долго вглядывался в даль.
— Воинские люди! — прошамкал, дожевывая утренний хлеб и стряхивая крошки с бороды. — Далеко-то я хорошо вижу. Это под носом все стало расплываться.
Вскоре и сам Похабов разглядел, что на берег высыпало с полсотни братских всадников с луками и колчанами за спинами. Заметались у воды растревоженным ульем.
— Будто нас зовут?! — пристальней всматривался за реку. Бормотал в бороду: — И чего им надо? Краснояры ушли, зимовье на Осиновом срыли. Если икирежи или балаганцы с Курбаткой поссорились, то мы им не подмога. — Помолчав, буркнул: — Понадобится, у порогов переправятся. Я в эту пору струг посылать не буду.
На святых бессребреников и чудотворцев Кузьму и Демьяна Ангара встала, покрывшись белым неровным льдом. Кроме караулов и заготовки дров, никаких дел по острогу не было. От безделья годовалыцики стали ссориться между собой и с казаками Федьки Говорина.
Иван с Савиной жили отдельно, в приказной избе. Савина готовила еду на всех, долгими вечерами пела вполголоса или слушала, как гудит ветер. После Михайлова дня казачий голова стал принуждать годовалыциков молиться по утрам и вечерам. Старый стрелец осерчал и пригрозил:
— Вот уйду в монастырь или в скит, там и буду отмаливать грехи по уставу!
Людей, с которыми воевал на Селенге, казачий голова стал беспрестанно гонять по застывшим притокам за дровами. Вскоре в острожке выросла поленница вровень с тыном, а казаки стали роптать, что дров хватит на всю зиму. Ни работать, ни молиться подолгу они не хотели. Федька Говорин расповадился матерно орать, что наработался летом, а в зиму желает отсыпаться, нести караулы и ходить за ясаком. Но посылать людей по улусам и стойбищам было рано.
На другой день в полдень вздорный казак, стоя в карауле, пронзительно засвистел, призывая Похабова. Казачий голова накинул кафтан, влез на проездную башню, взглянул, куда указывал казак. Вдоль берега по льду тянулась цепочка каравана из полутора десятков нарт.
— Кто бы мог быть? Для промышленных не время! — озадаченно пробормотал Похабов. — Митька, что ли, рожь послал?! — в сомнении шевельнул бровями. — Где столько людей набрал, однако?
— Весь енисейский гарнизон! — ругнулся Федька, все еще злой на Ивана за понуждение к молитвам. — Разве смена Бекетову?
— За Байкал, не к нам! — поддержал караульного казачий голова. Он стал пристальней вглядываться в идущих. С недоумением затоптался на месте, узнав Сувора с Горбуном, потом Первуху со Вторкой, других пашенных и служилых Братского острога. — Ничего не пойму! — тихо выругался.
Неторопливо и рассеянно он спустился с башни, вошел в избу, обмотался кушаком, опоясался саблей. Подумав, сунул за кушак заряженный пистоль.
Караван приближался. Налегке и сбоку от тянувших нарты людей шагал Арефа Фирсов. Балаганские казаки кинулись навстречу прибывшим. Те оживленно заговорили с ними. Арефа, не останавливаясь, побежал к Ивану Похабову, ждавшему гостей у ворот острожка. Лицо молодого казака было перекошено. Он непочтительно подтолкнул старого казака в ворота и стал запирать их, закладывая брусом.
— Чего там? — спросил Федька, свесившись со смотрового помоста башни.
— Братские пашенные и казаки! — запыхавшись, крикнул Арефа караульному и недоумевающему голове. — Взбунтовались, захватили оружие, бегут в Дауры!
— Вот так молодцы-удальцы! — весело хохотнул Федька Говорин и призывно замахал руками.
Тут только старый Похабов пришел в себя, закряхтел, зарычал, взбежал на башню, бросил к ногам Арефы мушкет караульного казака, сам скатился вниз. Из зелейного погребка выволок две крепостные пищали: одну в два пуда весом, другую в полтора, вынес кожаный мешок с порохом, бросил его Арефе. Вдвоем они затащили ружья и порох в приказную избу.
Федька поглядывал сверху то на Похабова, то на подходивших казаков и пашенных. Из другой избы вышел хмурый и заспанный старый стрелец. Удивленно уставился на Ивана и Арефу.
— Чего это вы? — спросил позевывая.
— В Дауры все бегут! — запальчиво вскрикнул Арефа.
Старик просиял посеченным лицом и весело вскрикнул:
— Вот так молодцы!
— И ты побежишь за ними, дурак старый? — Иван метнул на товарища злобный взгляд.
Стрелец ничего не ответил, громко окликнул Федьку, спрашивая, что там за тыном.
— Идут! — весело отвечал тот. — Баню топить надо!
Клацнул отброшенный в сторону брус. Заскрипели ворота. Иван бессильно охнул, пропустил Арефу в приказную избу и заперся изнутри.
— Что шумят? — спросила Савина, глядя на мужчин большими умными глазами.
Иван не ответил. Арефа торопливо заговорил:
— Брат, Митька, послал меня уговаривать их в пути! Куда там! Слушать не хотят. И здешние уйдут! — безнадежно махнул рукой. — Распуту пограбили. Мы так же вот запирались, — окинул тоскливым взглядом избу. — Десятинный хлеб, казну они не тронули, и за то спасибо. А ружья почти все забрали.
Молодой казак опустился на лавку, посидел молча, свесив голову. Устало поднялся.
— Пойду! Братан велел среди них быть. У тебя все равно грабить нечего. Разве вино, что поставил к Рождеству?
Потолкавшись среди бунтовщиков, послушав их прелестные речи, Арефа вскоре вернулся, снова сел в угол, мстительно посмеиваясь:
— Воли хотят! Будет им воля с колодками на шее! Твои все уйдут! Федька подстрекает отобрать у тебя бочонок с пивом. Говорит, за печкой стоит! Из съезжей избы уже вынесли иконы и хоругвь. Круг завели. Баню топят.
Вечером, в сумерках, к приказной избе подошел старый стрелец, окликнул Ивана. Голова вышел в сени, но дверей не отпер.
— Казаки приговорили, чтобы тебя не трогать, не бесчестить! Надумаешь с нами идти, дадим две доли из добытого на погромах, атаманом поставим. А порохом и пивом поделись!
Вскипел было Иван, заскрипел зубами, но понял, что плетью обуха не перешибешь, сдержал себя.
— Порох не дам, он — казенный. А пиво все берите!
Старый стрелец потоптался возле крыльца, сходил к товарищам, посоветовался и вернулся.
— Давай весь бочонок! Согласны. Избу твою, и животы, и казенное добро не тронем.
Поверил им Иван, спрятал пистоль за печкой, наказал Арефе караулить Савину, вышел к бунтовщикам при сабле, опоясанный поверх кушака шебалташем с золотой пряжкой. Казаки глядели на него кто смущенно, кто хмуро. Горбун с вызовом. Лицо его напряглось и обострилось, глубже пролегли морщины от носа в уголки губ.
— Хоть бы поклонился! — взглянув на него, Похабов брезгливо скривил губы.
— Сполна отработали! — вскрикнул Горбун. — Доплаты требуем за батоги.
— Заткнись, урод! — сквозь зубы процедил Сувор, осадив бывшего дворового. — Язык вырву! — Он обернулся к голове, сказал, глядя мимо: — Ты на нас, Иваныч, не серчай. Мы государю нашему измен не чинили. Идем служить ему на дальней, лихой окраине! А то, что воеводам наша воля не по нраву, — кто они такие, чтобы нами повелевать? Шел бы с нами? Будем жить по правде, а не по прихотям боярским.
— Развелось по Сибири московской дворни! — громко поддержал пашенного Федька Говорин, показывая, что он заодно с ними.
— Где они прежде были? — шепеляво вскрикнул с другого боку старый стрелец. — Это мы Сибирь на саблю взяли!
Слабели в душе сына боярского злость и обида. Он понимал этих людей, со многими ходил в бой и делил последние сухари. Зная их, не верил, что и в благополучной земле они смогут жить праведно, как прельщались по своим грехам. Бросив неприязненный взгляд на Горбуна, Иван пошел искать племянников.
Первуха со Вторкой сидели возле дымившей бани, настороженно глядели на дядьку раскосыми глазами. Иван подошел, сел рядом, не показывая зла и обид, спросил с печалью в голосе:
— Вы-то куда?
Первуха метнул на него быстрый взгляд. Не увидев в лице дядьки ничего, кроме сострадания, виновато пробубнил:
— Сам знаешь, какими уродились: ни родины, ни роду, ни племени! Хотели на земле осесть, корни пустить. Распута всех под себя подмял.
— Абрамово потомство не раз теряло родину и мешалось с другими народами! — подсказал брату Вторка, блеснув глазами. — Найдем или возьмем на саблю! А всю жизнь ради брюха извиваться змеем, как их племя в Египте, — этого нам не надо!
— Оставайтесь со мной. Пашите. Вон земли сколько! В обиду не дам! — неуверенно предложил Иван.
— Ага! — усмехнулся Вторка. — Опять воевода тебя куда отправит или помрешь, и заявится какой-нибудь выкрест, на наши корма!
Хотелось казачьему голове плюнуть себе под ноги от бессилия доказать им, молодым, то, чему его долго учила жизнь. Но он безнадежно вздохнул, по-стариковски тяжко поднялся.
— Спаси вас Бог! — прошептал одними губами и поплелся к приказной избе.
Утром острог опустел. Стало так тихо, что даже чудно было лежать на печи без всяких человеческих звуков. Похабов поднялся, приволакивая ноги, вышел и стал запирать ворота. Послышались одинокие шаги. Он выглянул, придерживая закладной брус. Возвращался Арефа со вспухшим лиловым синяком под глазом. Он увидел Похабова и просипел, обдавая паром горячего дыхания:
— Нельзя острожек оставлять! Сожгут!
— Сожгут! — равнодушно согласился Иван и тоскливо усмехнулся: — Плохо было с красноярами, без них того хуже. Ржи у меня осталось с полпуда.
Надо было идти в Братский к Митьке Фирсову. Как он там? Надо было караулить Балаганский, надо было идти по следу беглецов, к Иркуту, уговаривать и убеждать их вернуться. Подходила пора отправлять людей в улусы и в угодья за ясаком. Но один не пойдешь, и Савину одну не бросишь.
Томила безысходность. Знал казачий голова, что беда не ходит одна! Смиренно ждал других несчастий и дождался. Как раз перед Крещением с другого берега по льду на острог двинулись бесчисленные стада братского скота. Сотни всадников с луками и колчанами за спиной, с дубинами и пиками поперек седел гнали табуны, стада к левому берегу Ангары. Иван с Арефой молча глядели на надвигавшуюся лавину. Противиться такой силе казалось делом бессмысленным.
Но вот Похабов разглядел среди всадников знакомый тучный торс Бояркана, и озорная, отчаянная мысль пришла ему в голову. Он усмехнулся и, не оборачиваясь к Арефе, пробормотал:
— Поди-ка, принеси все ружья. Савине скажи, чтобы заперлась в избе.
Сын боярский обернулся. Арефа тупо глядел на него мутными, растерянными глазами.
— Иди-иди! — поторопил. — Повоюем еще, даст бог!
Кони первого табуна, с заиндевелыми мордами, выбрались на берег и стали хватать сухую траву с обдутой ветрами земли. За ними выходили годовалые бычки. Они останавливались, уставившись на острог. Их подпирали другие стада и табуны. Скот окружал прясла.
На берег выехали первые всадники. Не обращая внимания на казаков, понеслись галопом, заворачивая скот к верховьям реки. Один за другим на берег выезжали балагаицы и муигалы с двумя, тремя лошадьми в поводу, груженными разобранными юртами и домашним скарбом. Те и другие носились по берегу, отгоняя от реки все новые и новые стада, чтобы дать проход другим, толкущимся среди льдов.
Не ошибся Иван, вблизи узнал Бояркана явно. И князец узнал его. Арефа принес карабин, две ручных пищали и два крепостных ружья, составил их на поленницу. От разгоравшегося на ветру трута Похабов запалил фитиль крепостной пищали, положил ее ствол промеж заостренных острожин, прочно зацепил крюк, поднялся в рост.
Глядя на него, братские и мунгальские мужики луков с плеч не снимали, но неспешно пустили коней к острожку и закружили возле прясел. Раздвигая их коней, Бояркан, в тяжелой шубе до пят, вывел своего жеребца в первый ряд. Как ни был стар князец, но не сел на кобылу или на мерина.
— Что же ты, брат, не упредил о приезде? — крикнул ему Похабов. Молодецки выпятил грудь, с удальством уперся рукой в бок, поставил ногу в ичиге между заостренных острожин.
Пристально глядя на старого казака, Бояркан остановил жеребца у самых прясел. На оклик Ивана не отозвался. За его широкой спиной плясали на ветру кони молодых дайшей. Все пристально и неприязненно глядели на двух казаков.
— Куда путь держишь? — по-бурятски спросил казачий голова.
— Встреч солнца! — по-русски ответил князец. И добавил по-бурятски: — В Хангайские горы, где родился великий Мунгал, где рос и набирался сил Буха нойон бабай!
— Зачем меня бросаешь? — заносчиво укорил его Похабов. — Сам говорил, нам судьба жить рядом!
— Так говорил старый боо! — Бояркан растянул в усмешке выстывшие губы. — А он помер. Пошли со мной! Дам коней сколько выберешь!
— Я казачьему царю служу, — напомнил Иван. — И ты шертовал ему! Грех рушить клятвы!
— Я не давал клятвы, что мой род станет хазак, как Васка Ларионов Куржумов. — Князец разъяренно сплюнул на землю: — Собачья кровь!
Иван Похабов знал, что Куржумов сын служил в Верхоленском остроге десятским, слышал и о том, что нынче он на Амуре в хабаровском войске. Если были распри между хубуном и его племянником, то не в этом году.
— Васьки Куржумова нет на Зулхэ, он в Даурах! Что тебе до него? — спросил князца, допытываясь до причин откочевки. — Если казаки обижают, так я напишу царю и он их накажет!
— Не было клятвы портить степь острогами! — яростней закричал князец.
— Ты сам просил поставить его, я и поставил! — принужденно рассмеялся Иван.
— Сам просил, сам сломаю! — ударил плетью по пряслам Бояркан.
В стороне в двадцати шагах от его воинских людей из земли торчал камень, гладкий и круглый, как огромный человеческий череп. Иван присел на колено, прицелился и приложил тлевший фитиль к запалу. Ухнула тяжелая крепостная пищаль. Кабы не крюк, сбросила бы стрелявшего со стены. Чугунное ядро ударило в камень, выбив осколки, завыло где-то в небе. Кони балаганцев и мунгал шарахнулись в стороны. Закусив удила, выгибая шею дугой, отпрянул от прясел жеребец князца.
Бояркан ударил его пятками в бока, выругался и поставил на прежнее место. Похабов выхватил саблю. Холодное январское солнце замерцало на булате отблеском свежей крови.
— Может быть, и сломаешь! — крикнул. — Только много твоих дайшей погибнет, баатар. Не помериться ли нам силой рук, молодым в пример, а старикам в почесть? Твои люди пусть будут живы, а мой острог цел. Моя голова — твоя петля. Твоя голова — моя петля! Так задумано Богом и Вечно Синим Небом! — Похабов похлопал ладонью по золотой пряжке шебалташа, надетого поверх кушака.
Разъяренный Бояркан тяжело соскользнул с жеребца, не дожидаясь помощи своих молодцов, скинул шубу, крытую китайским шелком. Поверх халата на его широкой груди висела толстая серебряная пластина с бляхами. На боку — кривая сабля.
Похабов резво соскочил с тына на землю по волосяной веревке. С обнаженной саблей в руке двинулся к пряслам. На миг почувствовал, будто отсек всю прежнюю жизнь сибирских служб и вернулся в глупую, бесшабашную юность. Подобравшись, как медведь перед прыжком, хотел перемахнуть через изгородь, чтобы не кланяться вражьему войску. Но напомнили о себе годы: ноги стали тяжелыми, тело неповоротливым. Перескочить через прясла он не смог, пришлось неуклюже перелазить через них. Сын боярский встал перед князцом. У Бояркана глаза слились в две щелки, он выхватил саблю. И сошлись старики. Громко зазвенел булат.
Примериваясь к противнику, раз и другой ударил Похабов. Почувствовал, как быстро выдыхается и тяжко машет саблей Бояркан. Рыча, он нанес еще несколько ударов, увидел, как по широкому лицу князца потек пот. Почувствовал, что сам выдыхается и уже не тот, каким был даже совсем недавно, на Селенге. Изловчившись, изо всех сил ударил князца по нагрудной пластине. Бояркан качнул тяжелой головой на короткой шее, толстые ноги, противясь удару, неуклюже отступили на шаг и князец сел, упершись руками в стылую землю.
В тот же миг Похабов ощутил удары черенками пик под колени. Балаганцы сбили его с ног, повисли на плечах, вывернули саблю из рук. Другие бросились к Бояркану и поставили его на ноги. Князец заревел разъяренным быком, стал охаживать плетью и тех, кто помогал ему подняться, и тех, кто держал Похабова. Они разбежались по сторонам от скрученного сына боярского.
Бояркан со звоном бросил свою саблю в ножны, повернулся к Ивану широкой спиной и двинулся к жеребцу. Двое косатых молодцов опасливо накинули шубу на его плечи, подсадили в седло. Князец потянул узду, разворачивая заплясавшего под ним жеребца.
— Куда? Яяр ахай![265] — в бешенстве закричал сын боярский. — Галди шамай! Яба гэмээ эдлэг![266] С меня царь снимет голову за твою откочевку, но и твоя дурная башка слетит с плеч! Ты это знаешь!
Иван сорвал с себя шебалташ, яростно швырнул его вслед удалявшемуся Бояркану на взбитую копытами землю. Князец неприязненно обернулся, отвязал от седла большой кожаный мешок, швырнул за круп жеребца.
— Сарю почесть! — прорычал и пришпорил коня.
Табуны, стада, отары шли и шли в полуденную сторону мимо острожка. Покатилось на закат низкое январское солнце. Похабов тяжко поднялся, подобрал саблю и сбитую с головы втоптанную в землю шапку, поплелся к воротам. Из них высунулся веселый Арефа Фирсов.
— Отбил-таки острог, дядька, милостью Божьей! — часто и мелко закрестился озябшей, подрагивавшей рукой. — А я уж думал, придется кончину принять!
— Поживи, молодой еще! — буркнул сын боярский.
Вошел в избу. Бросил саблю на лавку. Савина стояла на коленях под образами. Обернулась на стук двери. Глаза ее были полны слез. Увидев Ивана, поднялась, повисла на его шее, завыла.
— Ну, будет! — Он устало погладил ее по плечу и начал выцарапывать из бороды колкую сухую траву.
Вошел Арефа, положил на лавку мешок, брошенный Боярканом.
— Кажись, рухлядь! — развязал бечеву.
В мешке были соболя, по-промышленному увязанные в сорока. На прощание балаганец дал щедрый ясак, вдвое больше последнего.
С неделю трое острожников тем и занимались, что спали да ели. Мужчины между собой почти не разговаривали, будто стыдились всего пережитого. Савина выглядела вполне довольной жизнью, хлопотала, как прежде, подолгу молилась утрами и вечерами.
— Ну, и зачем я последнюю рожь доедаю! — не выдержал Арефа. — Отпусти меня в Братский, я мешок ржи привезу. На рыбу уже глядеть тошно.
— Сходи! — равнодушно разрешил казачий голова.
Арефа быстро собрался, укрепил нарты, выбрал и подогнал под себя лыжи. Вернулся он через месяц, в конце марта. Сытая лошадка, запряженная в сани, привезла два мешка ржи. Через день Арефа хотел отправиться обратно, к брату, но после полудня, к вечеру, ворвался в избу с перекошенным лицом:
— Дядька! Балаганцы возвращаются!
Похабов схватился за шапку, вскарабкался на поленницу, сложенную возле острожной стены. С полуденной стороны к острогу приближались стада, мотали гривами кони в табунах, виднелись явно братские всадники. Среди них мельтешили погонщики непонятного вида.
Арефа прикладывал руку ко лбу, волнуясь, вглядывался в даль.
— Иные мужики одеты как-то чудно?! — бормотал щурясь. — Будто казаки. Едут без седел. Смотри! — вскрикнул. — Это же наши, беглые!
Вот уже и Похабов разглядел в одном из верховых старого стрельца с растрепанной седой бородой. Больше всех ему хотелось увидеть Бояркана и племянников. Уж их-то Иван узнал бы в любой одежде. Но он высмотрел только бывших своих дворовых и выругался:
— Даурцы хреновы! Вон, Сувор с Горбуном! — указал рукой на всадников. — Однако ты не один вернешься в Братский, — обернулся к Арефе.
Скот запрудил округу острога. Всадники боязливо подъехали к воротам. Русские спешились, крестились, клали на часовенку низкие, покаянные поклоны. Похабов, опоясанный саблей, с пистолем за кушаком, высунулся из ее оконца над проездными воротами, насмешливо оглядел прибывших.
Старый стрелец смущенно прятался за спинами молодых казаков. Сувор воротил набок лицо, метал на казачьего голову резкие, хмурые и непокорные взгляды, готовый всякий миг перейти от покаяния к скандалу.
Беглецы вытолкали вперед Горбуна с ласковым заискивающим лицом. Тот осклабился, показывая щербины. Он потерял в бегстве передние зубы.
— Здоров будь, Иван Иваныч! — заговорил вкрадчиво и шепеляво. — Твоими молитвами да своими великими трудами мы уговорили-таки многих балаганцев вернуться в свою степь. Вдруг еще кто одумается и придет. А дольше звать их обратно — сил нет. Настрадались! Оголодали!
— Так вы и ушли, чтобы братов вернуть? — громко насмехаясь над беглецами, казачий голова свесил бороду над воротами.
— Для того и ушли! — задирая голову, бесстыдно оскалил щербины Горбун. — Хотели государю послужить.
Вместо узды на его коне был надет недоуздок, наспех связанный из бечевы, ноги Горбуна обернуты шкурами, содранными с падали. Казачий голова окинул бывшего своего кабального человека внимательным взглядом и язвительно захохотал, потрясенный его наглостью и бедностью.
— Скажи уж, смуту учуял! Поживиться хотел! А кое-кто оказался проворней — сапоги и те снял с горбатого.
Казаки и пашенные робко, подобострастно засмеялись, поддерживая насмешку головы. Их обветренные лица смягчились.
— Не серчай, Ивашка! — сиплым голосом окликнул его старый стрелец. — С повинной пришли. Свой грех отслужим.
— Драть тебя, курвина сына, некому! И не батогами, а кнутом, — со вздохом укорил его Похабов. — Но, имея христианское сострадание, прощу! — обернулся и окликнул Арефу: — Открой ворота! Пусть заходят, христа ради!
Казаки и пашенные стали отгонять в табун балаганских лошадок. Братские мужики закружили по черному ноздреватому льду, пробуя его на прочность. Не задерживаясь, погнали через реку скот и коней.
— Вдвое против прежнего ясак дадут! — пообещал за них стрелец с таким видом, будто сделал добро.
— Топите баню, избу, грейтесь! — позволил казачий голова. — Нынче накормлю всех кашей, как отец блудного сына. Зарезал бы тельца, да не имею. Выставил бы пиво, да вы его на строгой неделе поста выхлебали! — с укором напомнил про рождественский бочонок.
— Нам бы погреться, попариться да переночевать, — закивал повеселевший Сувор. — Завтра в Братский уйдем. — Помявшись, смущенно спросил Похабова: — Не слыхал, как наши бабы? Бедствуют или уже живут за кем?
— Собирался отдать их за верных казаков! — съязвил Похабов.
— Они же венчанные? — вскрикнул Горбун. — В крепостном столе не записаны.
— Что с того? — ухмыльнулся голова. — Я им крестный отец, за кого хочу, за того отдам. А вы их бросили! — Взглянув на Сувора, он пожалел простодушного беглеца и признался: — Не знаю, что с вашими бабами. Арефу спрашивайте! — указал на молодого казака. — Скажите лучше, где сыновья Огрызковы?
— Волдыри обратно не пойдут! — безнадежно отмахнулся Горбун. — Еще и других удержат.
Вернувшиеся, служилые Братского и Балаганского острогов да пашенные люди, набились в выстывшую избу, затопили печь. Похабов сел в красном углу, как в прежние времена, никого ни о чем не расспрашивал. Беглецы сбивчиво, споря, перебивая друг друга, говорили сами, будто жаловались на выпавшие несчастья:
— На пути к Иркуту встретили мы две промысловые ватаги без грамот. Ограбили их.
— Братов на Куде пограбили! Это плохо.
— Своего пашенного в воду посадили. Заслужил.
— Меня два раза в воду бросали! — пожаловался Сувор. — Бог спас. Меж собой драки завели. Тьфу!
— Не мы! — горячо оправдывались другие. — Федька Говорин и Огрызковы болдыри.
У Похабова от их выкриков и споров голова пошла кругом.
— Говори! — приказал старому стрельцу.
Тот придвинулся к нему на лавке под правую руку, со вздохами стал рассказывать:
— Пришли мы на Иркут. За два дня съели весь припас ржи у тамошних казаков. Прискакали Яндохины тубинцы, твои верные ясачники. Стали просить у нас помощи, чтобы отбиться от мунгал и балаганцев. Пошли мы на них войной, а тех одних только воинских мужиков было сотен пять и больше. Надрали они нам спины. Троих убили до смерти, — тоскливо замолчал стрелец, гоняя желваки по обтянутым кожей скулам.
И увидел вдруг Иван, как устал от жизни его старый товарищ. Вздохнул и сам свесил голову.
— Знать бы, для кого укреплял зимовье на Дьячьем острове?
Прибывшие оживились, загалдели.
— Сколько раз тебя добрым словом вспомнили за труды твои! Кабы не зимовье с тыном, нам бы не уйти живыми. Иркутные Яндохины мужики с нами укрывались и отбивались. Потом балаганцы между собой передрались, чуть не половина со своим скотом повернули в обратную сторону. Пришли к нам мириться. С ними мы и вернулись Божьим промыслом.
— Про Бояркана что слышали? — вкрадчиво спросил Похабов.
— С мунгалами ушел! Балаганцы жаловались, будто он силой понуждал их идти в Ургу.
Казачий голова с заледеневшими глазами положил на стол тяжелые ладони с растопыренными пальцами:
— Бог вам судья! Беритесь за прежние службы. Сам я на вас жалоб писать не буду и Митьке Фирсову накажу, чтобы простил. А вы уж грех свой отслужите!
— Арефа говорит, Митька наших жен Распуте отдал захребетницами! — тоскливо пожаловался Сувор, будто просил помощи. — Оно, конечно, прокорм. И мы их бросили. Грех на душе. Но если живут уже с кем, ты уж нам их верни своей властью!
— Сами возвращайте! — отмахнулся Иван.
— А я свою брюхатой оставил! — беззубо затрясся от смеха Горбун, поглядывая на Сувора. — Не прельстились, поди, Митькины кобели.
Глава 15
Беглецы Братского острога ушли по пористому льду реки. Казачий голова милостиво дал им лошадь с санями, на которой привез хлеб Арефа. В Балаганском остроге под его началом остались три казака, бегавших с бунтарями, да Арефа Фирсов. При нынешнем малолюдстве на Ангаре и Лене это был гарнизон. Все четверо были посланы Похабовым за ясаком.
Вскрылась и очистилась ото льда Ангара. Сочно зазеленела степь. Савина выглянула из острога и ахнула, всплеснув руками:
— Ой, Ваня! Красота-то какая?!
— Весна! — поддакнул Похабов. — В лесах уж комар лютует, а здесь хорошо… Эвон! — воскликнул, прикладывая руку ко лбу. — Кажись, наши едут.
Верхами возвращался Арефа Фирсов с товарищем. Они расседлали коней у ворот острога. Арефа отвязал от седла мешок, тряхнул им, показывая, что удалось собрать в улусах.
— Теперь веселей заживем! — ворковала Савина, перетирая рожь на ручной мельнице. — Хорошо с тобой вдвоем, — улыбалась Ивану, — но сильно уж пусто.
— А говорила, век бы так жила, никого другого видеть не хочу! — добродушно журил ее Иван.
Молодые казаки бегали с березовыми ведрами на ближний ручей, радовались возвращению, предвкушали баню, чистую одежду и квас. Празднично было на душе у Похабова, пока Арефа возле Белой речки не бросил ведра. Он что-то выколупал из земли, с радостным криком поднял над головой будто сонную, не оттаявшую еще змею. И у казачьего головы беспокойно застучало сердце.
— Иваныч! Твой шебалташ! — Молодой казак бросился к Похабову, остановился перед ним, удивленно пробормотал: — Твой ведь?!
Раненым зверем застонал казачий голова, узнав свою опояску. Кожа позеленела от сырости, потускнело золото, но это были все те же бесовские личины с въевшейся в них грязью. Теперь обе головы казались живыми, а косатый степняк пуще прежнего смеялся над остроголовым бородачом.
Похабов выругался, сплюнул, слезно прохрипел:
— Видать, не отвязаться от них до гроба!
— А я что? — стал растерянно оправдываться Арефа. — Поднял, вижу — твоя!
— Закинул бы куда подальше! — с укором ругнул казака, но взглянув на него, устыдился своего невольного гнева. Посмотрел ласковей, вздохнул: — От судьбы не уйдешь! Не твоя вина. Не серчай на меня, старого!
Праздник есть праздник, на Святую Троицу жители острога наварили и напекли еды. Сын боярский выставил бочонок со сбитнем, приготовленным Савиной. Служилые напарились в бане, оделись в чистую одежду, помолились в съезжей избе, застеленной свежей травой и ветками берегового кустарника.
Утром, перед праздничной молитвой, караульный окликнул сына боярского. Похабов выглянул из-за тына, посмотрел, куда он указывал, и заметил плывущую лодчонку с одним видимым гребцом на веслах. Он не пытался обойти острог другим берегом, но правил прямо к нему.
— Гостя Бог послал на праздник! Надо встретить! — сказал Иван Савине, гремевшей горшками. Покряхтывая, опоясался саблей и вышел за ворота.
Прибывший гость оказался вестовым с Иркута. Тамошний десятский прислал с ним собранный ясак, отписку о бунтовщиках и балаганцах, об осаде острова — о том, что уже было известно Похабову от вернувшихся казаков и пашенных.
— Поспел! — радовался вестовой, вытирая лоб рукавом. — Вчера до самой ночи греб и сегодня с самого рассвета на веслах. Все не с комарами праздновать Святую Троицу.
Служба есть служба! Как ни обжились за зиму Иван с Савиной в Балаганском острожке и даже привыкли к равнине, казачьему голове пора было явиться в Братский. Оставив на приказе Арефу Фирсова, он поплыл туда с Савиной, чтобы навести порядок после бунта.
Издали, с реки, Иван Похабов увидел двухсаженные стены Братского острога. Дмитрий Фирсов, несмотря на бунты, расширил и укрепил его. По углам высились четыре глухих квадратных башни. Над воротами проездной — часовня.
— Куда с добром поработал! — похвалил молодого приказчика казачий голова.
Он по-хозяйски обошел строения. Под тремя глухими башнями были жилые избы.
Под четвертой — тюрьма. Посередине острога — пустошь под основание церкви. Обжившийся здесь разрядный поп Иван, в зипуне и скуфье, строго покрикивал на трех казаков и на двух пашенных людей, ворочавших камни.
Год был трудным: даже среди верных братских родов примечались признаки измены.
— Не нравятся мне казаки! — жаловался Похабову Фирсов. — Думал, бывшие бунтовщики покаются и других станут удерживать от бегства: ведь я, по малолюдству, даже не наказал их! Но Бог не вразумил бунтовщиков. Они же и подстрекают к новому побегу в Дауры.
— Кто? — спросил казачий голова.
— Старым казакам неймется, что уж говорить о молодых, — уклончиво ответил Дмитрий, не желая наушничать.
— Еть их! — понял, о ком речь, и тихо выругался Похабов. — Песок уж сыплется. А туда же. Однако думаю, что за этот год ясак мы соберем сполна. А как дальше — не знаю!
— Придет перемена — хочу в Енисейский сплыть, если отпустишь! — опасливо передернул плечами Дмитрий Фирсов. — Сколько ни царапай пером, а языком правильней скажешь!
— Ой смотри, паря! — покачал головой Похабов. — Попадешь под горячую руку — или наградят, или на дыбе вздернут за то, что у краснояров острог отбил.
— Ясак с Уды идет сполна! — тоскливо повел глазами Дмитрий Фирсов. — Москва должна быть довольна. А то, что воеводы меж собой грызутся, Сибирскому приказу на руку.
Подступало время, когда обычно выходили из тайги и сплавлялись по рекам промышленные ватаги с добытыми мехами. Но на этот год ни стругов, ни плотов не было до середины июля. Только на Первый Спас из-за поворота реки течение вынесло малый стружок с двумя торчащими из него головами. Судно подошло к берегу против острога, караульный весело закричал:
— Кого река к нам принесла? Баб!
Иван вышел из ворот, спустился к Ангаре. Еще издали узнал Меченку и поспешил к пристани, гадая, что за беда могла привести ее. Услышав караульного, из ворот острога выбежала Савина, взглянула под гору из-под руки, засеменила вниз по спуску следом за Иваном.
Пятно на щеке Пелагия не скрывала, не прятала. Оно стало больше и темней. На Ивана равнодушно глядели знакомые, но поблекшие глаза. Заметил он, что губы бывшей жены посечены мелкими морщинами. Удивлялся про себя: не то чтобы она сильно постарела лицом, но казалась какой-то другой, погасшей и сразу стала походить на старуху.
Ни лучик не блеснул в ее глазах, когда увидела Савину. Равнодушно и устало дала обнять себя. Без радости, без зависти или злорадства ткнулась в ее полное плечо. Шмыгнула носом:
— В Енисейский, в монастырь плывем! — указала глазами на спутницу, которая была и вовсе дряхлой старухой. — У нее муж помер, и у моего Оськи отошла душа от тела. Устала я! — пожаловалась и прерывисто вздохнула. Чуть дрогнули в повинной улыбке губы. — Сама грешна и вас много лет понуждаю жить во грехе. Потерпите еще. К зиме или помру, или постригусь. Живите с Богом, не поминайте лихом.
— Зимуй с нами! — заголосила Савина, обливаясь слезами.
— Нельзя! — равнодушно ответила Меченка, поправляя платок на голове. — Без того про нас много плохого говорили. Вместе жить — только подстрекать к злобе и сплетням!
Казачий голова с неделю удерживал старух при себе, дал им отдых. К тому времени в Братский пришли вестовые из Илимского острога. Воеводу Оладьина сменил бывший его стряпчий, управлявший хозяйственными делами, Петр Бунаков. Старый казак, да еще свояк искал опоры за Ангарой и мирного решения споров о ясачниках, которые самовольно перекочевали в его уезд.
Дав отдохнуть вестовым, Похабов уговорил их не возвращаться прямым путем через волок, а плыть через пороги до устья Илима и проводить до тех мест двух баб, едущих в Енисейский острог.
Перед расставанием на берегу Меченка положила поясной поклон бывшему мужу, как чужого поблагодарила за заботы. Скорая на слезы Савина опять зарыдала в голос. Меченка отстранилась от подруги, поклонилась и ей.
Илимские казаки столкнули на воду легкий струг, сели за весла. Савина с Иваном вернулись в острог оба с тяжестью под сердцем, будто проводили покойника. Полные плечи женщины то и дело подрагивали, она хлюпала носом, терла глаза концами платка. Избегая разговоров, они молчали до самой ночи, каждый со своей тоской и виной на сердце.
Заморосил сентябрь, вызолотился лес, поползли туманы, цепляясь за верхушки сосен и елей. Чуть не до полудня висели над Ангарой и клубились низкие тучи. Вот и помчалась осень навстречу зиме. На Никиту-гусятника на распаленном коне к острогу прискакал Федька Сувор, покрутился у ворот, пока не впустили. Взъерошенный и мокрый, заскочил в калитку, кинулся к приказной избе, заколотил пяткой в запертую дверь:
— Иваныч! Люди идут по Ангаре!
Покашливая, Похабов отпер дверь. Его седые волосы спутались с растрепанной бородой. Глаза, набухшие от сна, глядели на пашенного строго и неприязненно.
— Что так долго спишь? — ухмыльнулся Федька, вытирая рукавом лицо. — Днище ходу от Оки табор стоит, и костров там бесчисленно.
— Поди, перемена! Как раз время, — зевнул Иван, крестя рот.
— Да столько народу разом я и в Енисейском не видел! — напирал Федька, напоказ отряхивая полы мокрого зипуна. — Там костров сто.
— Заходи! Сушись! — впустил пашенного казачий голова. — Дождит. Вот я и разоспался. А тебе чарочку бы?
— Ой не помешает для согрева! — весело блеснул глазами Сувор. — Всю ночь в седле и на веслах.
— Пусть даже полсотни костров, — рассуждал вслух Похабов — все равно мужиков двести, а то и триста. Браты у реки ночевать не станут. Тунгусы в эту пору сиднем сидят по своим шатрам: их олени в тайге. Наши, должно быть, идут!
— Старая, налей-ка гостю чарку!
Савина поднялась рано, топила печь в отсыревшей избе и шебаршила корзинами в чулане. Вышла на зов Ивана, разложила в жарком месте брошенный мокрый зипун гостя, приветливо приняла поклон от бывшего дворового.
— Сперва накормить надо, — заглянула в печь, — после вином поить.
— Нет! — замотал бородой Сувор. — Ты уж, хозяюшка, сперва налей. Я выпью во славу Божью. А поесть всегда успею.
Казачий голова перекрестился на образа, расправил пятерней волосы и бороду, накинул кафтан.
— Пошлю, однако, казаков, поглядеть кто идет! — сказал Савине.
Сувор не ошибся. К Братскому острогу двигался полк в шесть сотен человек. По словам ертаулов, бурлаки тянули три коча, которые в прежние годы дальше Шаманского порога не поднимались.
Казачий голова остановился посередине острога, возле церкви со стенами, поднятыми в рост человека. Старые стрельцы Василий Черемнинов, Михей Шорин и острожный поп с унылым видом оглядывали промокшее от дождей строение. Среди стен и башен острога было не только сыро, но и сумеречно.
— Васька! — окликнул Иван товарища. — Ты старей всех. Говорят, полк идет Ангарой. Сплыви-ка с кем-нибудь, встреть по-христиански!
Лицо попа покривилось, он неприязненно взглянул на сына боярского и закричал, размахивая мозолистыми руками:
— Зимой все на посылках, летом на промыслах, думаешь ли храм возводить?
— Думаю, батюшка, думаю! — не снисходя до брани, проворчал Похабов. — Сам видишь, какое у нас малолюдство. Вот придет подмога, достроим, даст Бог! — возвел глаза к серому небу в квадрате высоких стен, снял шапку и перекрестился, задирая голову.
Храм во имя равноапостольного князя Владимира-крестителя строился медленно. Казачий голова никак не мог ускорить работу и стыдливо избегал встреч с горячим священником.
Судов в караване было около полусотни. Столько Ангара не видывала со времен первых, вольных промышленных людей. Бурлаки тянули тяжелый коч, украшенный зелеными ветками. На носу в кресле, застеленном медвежьей шкурой, сидел московский дворянин — бывший воевода Енисейского уезда Афанасий Филиппович Пашков.
Василий Черемнинов и Михей Шорин, ходившие встречать гостей, вернулись. От них Похабов узнал, что Пашков сдал воеводство и, как когда-то покойный Яков Хрипунов, принял на себя казачье головство. Чего угодно ждал Иван от тщеславного воеводы, но не этого.
Его брови взлетели под шапку, он рассеянно ругнулся:
— Оптыть! Сдурел московит или че ли?.. Пошли, батюшка, встречать гостей, — кивнул острожному попу.
— Как молебен отслужить, так сразу батюшка? — зловредно проворчал тот. Но скинул зипун, ополоснул руки и надел рясу.
Иван затянул кушак, сунул за него пистоль, опоясался саблей, подтянул ремни шебалташем, стал спускаться к пристани, чтобы встретить бывшего воеводу в должности казачьего головы. Плечо к плечу рядом с ним степенно шел дородный острожный поп Иван. Он гулко кашлял, прочищая горло, и помахивал кадилом. А суда все подходили и подходили к пристани. Народу прибывало и прибывало. Конца же каравану не было видно.
От людей шел пар. Лица бурлаков были красны и потны от трудов и усталости. Дюжий детина возле струга скинул шапку, на лбу его багровым рубцом со стянутой кожей обнажилось клейменая буква «веди». Вор. «Вон уж кого шлют в службу!» — отметил про себя Иван.
Коч Пашкова приближался медленно. Казачий голова, поп, пятидесятники и старые казаки стояли, поджидая его. Иван снова взглянул на клейменого детину. Тот подтянул бечевой к берегу знакомый стружок в две пары весел. Остановив на нем взгляд, Иван обмер: в лодке, съежившись под мокрыми лавтаками, сидели Меченка и ее спутница.
В один скачок Похабов оказался рядом с ними. Вскрикнул, таращась на старух:
— Что вернулись?
— Дворянин отобрал нас у илимских казаков! — безучастно к своей судьбе пробормотала Меченка.
Спутница хохотнула, показывая беззубые десны, и шепеляво пошамкала:
— Грозит отдать замуж за своих служилых!
— Куда лезешь, старый? — клейменый детина схватил Похабова за локоть.
— Пшел, бл…н сын, пока башку не срубил! — взревел казачий голова, отталкивая ссыльного. — Ужо научу, как кланяться сыну боярскому!
Детина опешил от яростного крика, выпустил из рук бечеву. Похабов обернулся к попу и старым казакам. Бросил пятидесятнику:
— Васька! Встретишь воеводу с батюшкой и будешь на приказе, пока не вернусь! — Сунул в руки Черемнинову связку ключей от амбара, кладовой, сундука с казной и грамотами, выкинул из стружка на берег пищаль и чужой котел, столкнул его на воду, сел за весла и погнал лодку вниз по течению реки.
Едва его суденышко поравнялось с кочем Пашкова, казачьи головы пристально и неприязненно взглянули друг на друга — один сверху, другой снизу — и разминулись. Разглядел Иван, что Пашков одет в немецкий короткий кафтан и опоясан европейской шпажонкой, пригодной в здешних местах разве что рыбу печь на рожне. Щеки бывшего воеводы покрывала коротко остриженная борода, из-под носа на подбородок свисали длинные, как у ляха или у черкаса, усы.
Стружок промчался мимо коча. Похабов всем телом налегал на весла и гнал его по реке до самой ночи, пока не послышался гул порога. В сумерках ему пришлось приткнуться к берегу для ночлега. Старухи привычно развели костер, заварили в котле мучную кашу, бросили в стылую осеннюю реку плетенную корзиной корчагу, чтобы поймать рыбки.
К полуночи унялось бусившее небо, почернело и вызвездило. Трое путников привычно сдвинули костер, смели угли, настелили лапника на прогретую землю и легли отдохнуть. Проснулся Иван от того, что ему припекло ноги. Он поднял голову. Рассветало. Потрескивал костер. У огня сидела старуха-вдова. Губы ее беззубо шевелились иод самым носом. Казалось, в пустых глазницах мерцают отблески углей. Неторопливо и рассеянно она чесала гребнем редкие седые волосы.
Едва схлынул с реки туман и поднялось солнце, Иван столкнул на воду лодку. Меченка страдальчески взглянула на него, крикнула, махнув рукой вверх по реке:
— Иди уж! Сами сплывем, даст Бог. А нет, так судьба наша такая!
Иван упрямо мотнул головой и сел за весла. Он выгнал стружок на стрежень. После дождей бурлил и бесновался Падун, но хорошо просматривались сверху три знакомых прохода между камнебоев. В один из них Иван пустил лодку кормой вперед.
Стружок несколько раз захлестывало волнами, но гребец удерживал его от столкновения с камнями. Когда суденышко закружило в стоячей воде, Похабов, наслаждаясь покоем, направил его к берегу. Рассеялся туман, ясное солнце светило так весело, будто все беды остались позади. Иван вышел на сушу, скинул кафтан и отжал одежду. Женщины развели костер. Стадо винторогих баранов поглядывало на людей со скалы. Над бурлящей водой порога кружили птицы, высматривая оглушенную рыбу.
— Ну и ладно! Дальше сами управитесь! — взглянув на солнце, Похабов перепоясался кушаком, накинул на плечи подсохший кафтан. — А я пойду, однако!
Пелагия с болью взглянула на бывшего мужа, в ее выцветших, водянистых глазах блеснула прежняя бирюза.
— Спаси тебя бог, Иван! — шевельнулись ее губы. Она поклонилась в пояс, смахнула слезы, всхлипнула, потянувшись к его уху, прокричала сквозь шум воды: — Прости, что жили не так, как надо. У Господа встретимся. Я за тебя здесь и там буду Бога молить.
Беззубая старушка, которую Похабов помнил бойкой казачкой с острым, насмешливым языком, тоже поклонилась. Слова бывшей жены колко сдавили сердце. Слезы покатились по седой бороде. Он отмахнулся, отворачиваясь, без слов пошел в обход скал в обратную сторону.
Никого не встречая, сын боярский добирался до своего острога день и другой. Вечером ловил и пек рыбу. Когда завиднелись на горе башни, вычистил сапоги и кафтан, сбил на ухо шапку. В виду ворот приосанился, двинулся с важным видом хозяина. Они были распахнуты. Толпы людей суетливо сновали взад-вперед, таскали бревна с реки, где был зачален плот. На Похабова никто не обращал внимания. Свои казаки делали вид, что не замечают его.
Он вошел в проездные ворота. Стены церкви подросли на полсажени. Дородный поп громовым голосом покрикивал на незнакомых служилых, а те неловко примеряли новый вытесанный венец. Пятидесятник Черемнинов метнул на Ивана быстрый и настороженный взгляд, насупился и отвернулся.
Сын боярский молча постоял возле стен церкви, поклонился попу.
— Будь здоров, Господь с тобой! — торопливо ответил тот и опять закричал на работавших.
На крыльце приказной избы сидел дворовый мужик русской породы. Кто он — видно было по лицу и одежде, по наглым и пристальным глазам. Похабов хотел пройти мимо, но дворовый вскочил и загородил грудью дверь. Иван отшвырнул бы холопа, но за спиной раздался голос Савины.
Он обернулся. Она смущенно глядела на него и мяла в руках подол передника.
— Я перенесла наши животы в казачью избу! — проговорила робко и испуганно.
Похабов нахмурился, грозно обернулся к дворовому. На крыльцо приказной избы вышел бывший воевода Пашков в неопоясанном камзоле и высокой собольей шапке. Дворовый человек угодливо осклабился и переломился в пояснице.
— Выселил мою бабу, пока я был в отъезде? — хмуро спросил Иван вместо приветствия.
Из приказной избы вразвалку вышли два дворовых мужика мунгальской породы. Их хозяин, не оборачивая головы, буркнул что-то русскому холопу. Тот в один прыжок прошмыгнул мимо него в сени, выскочил с грамотой, подал ее Пашкову.
— Шляешься где попало вместо того, чтобы службы нести! — начальственно проворчал дворянин, развернул грамотку, вернул мужику, указав глазами, чтобы тот отдал сыну боярскому. — Пока свой дом не построю, здесь буду жить. У меня семья большая! — заявил, брезгливо растягивая губы в усах.
Иван принял от мужика грамоту, сел напротив крыльца, привалившись спиной к поленнице, стал читать, шевеля губами.
— Эвон что! — кивнул Савине. — Нового воеводу прислали, — метнул взгляд на Пашкова в окружении дворовых. Тот отвернулся и скрылся за дверью. Дворовый русской породы снова сел на крыльцо.
В наказной памяти казачьему голове Похабову новый воевода приказывал во всем прямить казачьему голове Пашкову, который с полком идет в Даурскую землю. А ему, Афанасию, велел помочь Похабову собрать ясак по Ангаре. Ни слова не было сказано, кому под чьей властью быть и кому где зимовать.
Закончив читать, Иван свернул грамоту, сунул ее за пазуху, поднял глаза на Савину. Она смущенно переминалась с ноги на ногу и пугливо поглядывала на него.
— Оно и лучше так! — пробормотал повинно. — Пойдем зимовать в Балаганский.
— Хлеба там мало! — напомнила Савина.
— Возьмем хлеб! — поднялся сын боярский, обернулся к амбару с навешанным замком. — Васька! — окликнул Черемнинова.
— Чего? — неохотно отозвался тот, показывая, что занят делом.
— Вели двум казакам снести в струг два мешка ржи да перетаскать мои животы. Савина покажет что. А я пока коней в гужи выберу. В Балаганском буду зимовать! — давал наказы старому товарищу, сожалея о том, что отпустил в Енисейский острог с ясаком и отписками Дмитрия Фирсова. — Здесь ты сядешь на приказ.
Черемнинов помялся, бросая косые взгляды то на Похабова, то на дверь приказной избы, неохотно пошел отпирать амбар.
В Балаганском остроге жизнь потекла обычной чередой дней. Арефа Фирсов за лето поставил здесь вместо прясел надолбы в один ряд. Его младший брат Никита после смены на Иркуте остался при нем. Как оказалось, Афанасий Пашков привел с полком государевых пашенных людей. Не дав им отдыха в Братском, отправил в Балаганский острог рубить себе избы в зиму.
У служилых рожь кончалась. Два мешка, привезенных Похабовым, они съели еще до ледостава. Иван послал в Братский за хлебом и солью Арефу с казаком. Они вернулись очень быстро, не только без припаса, но и голодными.
— Как не дает? — взревел голова. — Это государев хлеб с братской пашни!
— Черемнинов ключи от амбара отдал Пашкову, — оправдывался Арефа. — А тот сказал: «Нет лишнего: ни ржи, ни соли!» И слушать нас не стал. К нему в избу не войдешь — караульный на крыльце. Ни видеть, ни слышать нас не желает.
— Да кто он такой? — затопал ногами Похабов. — Мать его, курву… Поганая порода. Отец был всем иудам иуда, чертям пожива. И этот.
Порыкав, как зверь, побегав в ярости по избе, казачий голова решил:
— Завтра идем в Братский! Без ржи не вернемся!
— Одумайся, Иванушка! — тихонько завсхлипывала Савина. — Пожалей молодых. Дай им отдохнуть с дороги! Жили ведь и еще поживем на рыбке.
Похабов строго взглянул на возроптавшую женщину, но оставил Арефу Фирсова на приказе, а с собой взял его младшего брата. Они переменили лошадей и в тех же санях отправились в обратную сторону по не заметенной снегом колее.
Еще издали приметил Иван, как будто что-то новое в Братском остроге. Подъехав ближе, разглядел, что на склоне под острожной стеной стоят две избы. Это были не обычные приострожные избенки, а хоромы: один дом рублен в пять стен, другой крестовый. Над высокими стенами острога выше угловых башен поднялась маковка церкви с желтым крестом.
— Да уж! — крестясь и кланяясь, пробормотал казачий голова в обметанную куржаком бороду. — Шесть сотен человек — не тридцать пар рук. Понастроил Афонька изрядно!
Вокруг стен, вроде посада, было поставлено и врыто множество балаганов и землянок. Из них в синее небо поднимались дымы. Острог был многолюден и среди зимы. Он словно кичился своей силой: ворота проездной башни были распахнуты. От реки поднималась к ним торная дорога, загаженная конскими катышами.
Никто не вышел встречать казачьего голову, никто из пашковских людей не поклонился прибывшим, глядели пристально и угрюмо, но не останавливали.
Бросив у ворот подводу с невыпряженными лошадьми, Похабов, крестясь и кланяясь, вошел в острог, первым делом направился в церковь. Снова крестясь и кланяясь, переступил порог притвора. Никитка робко двинулся следом.
Церковь не отапливалась. Печей в ней еще не было. На Святой неделе поп Иван в душегрее под ризами читал Псалтырь. Со стен свисал заиндевевший мох. Над сбившимися в кучу людьми поднимался пар.
Похабов, распахнув шубу, упал на колени и трижды гулко ударил лбом о тесовый пол. Поднялся, быстрым, цепким взглядом окинул молившихся. Попадья и монахи-скитники пели на клиросе. Против струганых царских ворот в первом ряду стоял Афанасий Пашков в богатой собольей шубе. Рядом с ним, плечо к плечу, сын со снохой. За его спиной тесно толпились дворня и казаки. В последнем ряду стояли новокресты. Они боязливо озирались по сторонам, помахивали перстами со лба на пояс и кивали головами, как кони на подъеме в гору.
Раздвигая их широким плечом, Иван протиснулся к алтарю, встал справа от Пашкова, поклонился попу. Тот, не прерывая чтения густым голосом, поднял голову и взглянул на Похабова с укором, дескать, куда лезешь не по чину.
«Сын ты бл…н!» — презрительным взглядом ответил ему казачий голова. Он был так зол, что если бы смог, то непременно пробился бы к Пашкову и толкнул его плечом. Лет на десять моложе, в той же должности, хоть и в дворянском чине, бывший воевода не удостоил Ивана взглядом.
Едва поп закончил читать и закрыл Псалтырь, Похабов, позвякивая сосульками в бороде, приложился к трем образам — других еще не было — да к Честному Кресту, где должно быть распятью. Опять раздвинул плечом тесный круг безмолвно притопывавших от стужи людей, двинулся к выходу. Никитка остался в церкви.
По острогу носились незнакомые служилые. Похабов поймал за рукав одного из них, строго спросил:
— Где приказный, пятидесятник Черемнинов?
Казак молча указал на угловую башню, где прежде была приказная изба, занятая Пашковым, водя по сторонам пугливыми глазами, опять куда-то побежал. Казачий голова по-хозяйски распахнул дверь, ввалился в тесную острожную избу с облаком стужи, раскатившимся по полу.
Старый пятидесятник, сгорбив спину, дремал у огонька. Он узнал вошедшего, подслеповато замигал. Лицо его напряглось, глубже врезались в кожу морщины.
— Ну, рассказывай, Васенька, как живете тут без меня? — уселся в красный угол Иван, распахнул, но не снял шубу, бросил на лавку шапку.
— Живем! — неохотно и тоскливо пробормотал пятидесятник. — Не голодаем, — повел глазами на старого товарища. В них блеснула скрытая вина. — Порядок опять же. При порядке что не жить? — сказал громче и повел ухом к двери, как показалось Похабову.
— Отчего же тогда рожь да соль не шлешь в Балаганский? Голодом нас моришь?
— Лютует голова! — понизив голос и вжимая голову в плечи, приглушенно оправдался Черемнинов. — Двоих своих казаков до смерти кнутом забил. За дело, конечно! — спохватился, опять боязливо зыркнув в сторону закрытой двери. — У него всяк человек знает свое место. А ключи от амбара он у меня забрал.
— Так с вами и надо! — злорадно рассмеялся Похабов. — Поди, круги-то теперь не заводите? — спросил так громко, что старый стрелец зажмурился и глубже втянул голову в плечи.
— Я уж кого! — ответил тихо и уклончиво. — Сижу в тепле, сыт — и слава богу! А хлеб только через самого.
— Я бы еще Афоньку не просил, чтобы он дал мне мои оклады! — рявкнул Похабов, багровея обветренным лицом. — Кто здесь на приказе? Я или он?
— Почем я знаю, кто? — огрызнулся Черемнинов, злобно сверкнув глазами. — Он — сила! А за тобой кто?
— Ты за мной по крестоцелованию! — все больше распаляясь, закричал Похабов. — Бери целовальника, пойдем к амбару. Собью замок и отсыплю сколько надо.
— Не пойду! — насупившись, буркнул Василий.
— Тогда я один пойду! — вскочил Похабов, запахивая шубу. Нахлобучил шапку. — А тебе — Бог судья! Да черт милостивый при сковороде.
— Что буянишь-то? — тоже подскочил пятидесятник. — Отпиши воеводе челобитную. Чтобы все по закону!
— От голоду передохнем, пока воевода нас рассудит! — хлопнул дверью Иван. — Никитка! Мать твою! Куда делся? — заорал на крыльце громовым голосом.
Суетливо бегавшие по острогу люди замерли на местах. Несколько человек остановились у приказной избы. Похабов широким шагом двинулся к амбару, ощупал заиндевевший замок на поблескивавших инеем скобах. Давно ли сам проверял его на прочность? Бросил под ноги шубу. Оставшись в кафтане, вынул из-за спины дорожный топор. Раз и другой звонко ударил обухом по скобе. Чувствовал спиной, как стекается к амбару изумленный народ.
— А ну, зовите писчика и целовальника! — обернувшись, крикнул в толпу. — Я здешний приказный, казачий голова Иван Иванов Похабов, буду брать рожь для Балаганского острога.
Слушая его, служилые в замешательстве топтались на месте. Вдруг толпа расступилась, будто волна схлынула с берега, обнажая пустошь. От церкви к приказной избе двигался окруженный дворней и наушниками казачий голова Афанасий Пашков. Среди его молодцов выделялся дородностью и холопской важностью служилый со свернутым набок носом. Пашков шел впереди, покрытый высокой собольей шапкой, под ней властно мерцали водянистые немигающие глаза. По щекам темнела куцая, ровно остриженная бороденка.
Похабов напоказ повернулся к нему спиной, еще раз и другой ударил обухом по железным скобам. Пашков остановился против крыльца приказной избы. Из нее, сутулясь, вышел хмурый Василий Черемнинов. Дворня плотней окружила хозяина, ожидая его приказа на расправу, злобно глядела на Похабова. Иные поигрывали топорами и кистенями. Впереди всех, фертом, стоял кривоносый.
— А не хочешь, чтобы я тебе башку отрубил? — крикнул Пашков.
Похабов в ярости воткнул топор в косяк, выхватил из ножен саблю.
— А может, попробуем кто кому? — играючи со свистом махнул клинком с боку на бок и презрительно взглянул на игрушечную шпажонку бывшего воеводы. — Или ты только кнутом махать горазд?
Пашков не снизошел до ответа, блеснул змеиными глазами. Рыкнул:
— Взять его! — ткнул пальцем с перстнем, блеснувшим драгоценным камнем.
Широким шагом на Похабова двинулся кривоносый. Дворня и служилые, стараясь обогнать его, тесня друг друга, с воем ринулись к амбару. Со всех сторон на Ивана сбегались казаки с кольем. Растревоженным ульем загудел острог.
Похабов заревел, заплясал на месте, отбивая удары. Почувствовал, как быстро уходит сила рук и как неловко крутится его отяжелевшее тело. Он перекинул саблю из правой руки в левую. Выхватил из-за кушака пистоль, шоркнул по нему рукавом, накручивая пружину. Поймал на конце ствола выпученные глаза бывшего воеводы, радостно и зло спустил колесцо, брызнувшее снопиком искр. И уже когда вспыхнул порох на полке, понял, что взял высоковато.
Прогремел выстрел. Толпа нападавших отпрянула. Пороховой дым закрыл крыльцо приказной избы. Едва он схлынул, Иван увидел сбитую с Пашкова шапку, его самого, пугливо переломленного в пояснице, и расщепленную пулей ветровую доску. Сын боярский захохотал, перекинул саблю в правую руку.
— Живым взять! — срывающимся, петушиным голоском крикнул Пашков.
Иван захохотал громче. Но толпа ринулась на него с такой яростью, что в следующий миг сбила с ног, вывернула из руки саблю. Кто-то пнул его в скулу, и рот наполнился кровью. Кто-то уже сидел на спине. Похабов напрягся всем телом и понял, что той силы, которая выручала в прежние годы, уже нет. «Вот она, старость!» — подумал сдаваясь. Опал, расслабился.
Без шапки, со снегом и кровью в бороде, его подволокли к Пашкову, бросили в ноги, задрав голову за волосы. Сын боярский только рычал и вращал окровавленными глазами.
Что говорил дворянин — он не слышал. Поволокли вдруг в кузню. Его, Ивана, служилый, бегавший в Дауры, не поднимая глаз, надежно заковал ему запястье. Четверо молодцов во главе с кривоносым поволокли казачьего голову не в тюрьму, а в аманатскую избу. Распахнули дверь, втолкнули внутрь. Губастый пашковский молодец, заскочив туда же, выбил мох из дыры в стене, просунул в нее конец цепи.
Иван отдышался, лягнул его в бок, рванул на себя цепь, но она была уже заклинена с другой стороны. Казак вылетел из избенки, матерно заорал, угрожая кистенем. Но внутрь больше никто не сунулся. Дверь закрылась.
Тяжело дыша, Похабов сел на нары. Резко пахло псиной и дымом. Оконце, затянутое бычьим пузырем, едва пропускало свет. Угли чувала высвечивали лица узников.
Не поднимая головы, Похабов осмотрелся затравленным зверем. Увидел на нарах троих. По тому, как они сидели, узнал братских аманатов. Четвертый, на корточках, горбился у чувала. Рядом с ним лежали две собаки, вечные спутники тунгусов.
Звякнув цепью, Иван хотел прислониться к стене, но разглядел на нарах пятого узника. Он лежал на груди, был долгобородым и длинноволосым, голова покрыта скуфьей, тело — поповской однорядкой. Его живые пристальные глаза пытливо разглядывали сына боярского. Едва их взгляды встретились, лежавший шевельнулся и прерывавшимся от боли голосом укорил:
— Гордыня тебя мучит, служилый! Того, губастого, почто пнул? Ему Господь, по грехам, готовит кончину тяжкую!
— Ты кто такой, чтобы учить меня? — взревел Похабов, снова впадая в безудержную ярость.
— Аз есмь протопоп Аввакум, сын Петров! — твердо ответил тот, не поднимаясь с нар. Голос его будто окреп и помолодел.
Иван разглядел сына Петрова. Как ни измождено было лицо назвавшегося протопопом, ему не было и сорока лет.
— Хрен ты козлиный, а не протопоп! — обругал его, успокаиваясь. Привалился спиной к стене, вытянул ноги к чувалу.
Тунгус, сидевший на корточках, отстранился от собак, стал неторопливо и умело подКладывать дрова на пламеневшие угли. Разгоревшийся огонь высветил немолодое плоское лицо с пучком волос на подбородке.
— Абачейка что ли? — окликнул его Похабов.
Тунгус обернулся к нему.
— Тебя-то кто велел аманатить? — медленно подбирая слова, спросил по-тунгусски. — Твои мужики ясак давали исправно.
Тунгус пробормотал под нос, но Похабов его понял.
— Малый поклон принес! Всего пять соболей! Казак-мата говорит — надо сорок!
— Мне сроду и пятью никто не кланялся, — скривил разбитые губы сын боярский. Уставился на братских мужиков. — А вы кто? — спросил щурясь.
— Князец Бахай с братом Толтохаем и Конко Акалкан! — ответил за них назвавшийся протопопом.
— Он что, сдурел? — снова закричал Похабов и, звякая цепью, стал бить кулаком в стену. — Самые верные улусы зааманатил. Слово и дело государево объявляю! Зовите Афоньку, курвины дети! — стал бить в дверь пяткой.
Едва он затих, умаявшись шуметь, заговорил лежавший на животе. Длинноволосый глядел на буянившего сына боярского внимательно и незлобливо, даже с насмешкой.
— И его гордыня гложет!
— Да кто ты такой? — опять вспылил Похабов.
— Протопоп Аввакум! — терпеливо ответил лежавший. — Знавал царские милости, а нынче муки принимаю во славу Божью! Хотели меня в Москве силой расстричь в распопы, но сам царь слезно умолил обо мне Никона. В прежнем сане увезли в Сибирский приказ. Потом в Тобольск. Потом в Енисейск. Хотели на Лену везти, но отдали Пашкову в Дауры, мучить в пути. А я терплю за истинную веру!
— Вон что? — презрительно хмыкнул Иван, успокаиваясь. — Опять царская дворня меж собой грызется! — Повеселев, насмешливо взглянул на протопопа: — Говоришь, царя видел? А правда ли, что он бороду сбрил и оделся в немецкое платье?
— Бедненький! — вдруг со слезами в голосе, умиленно, всхлипнул Аввакум. — Сам восхотел Никона-антихриста на патриаршество. А тот спутался со дьяволом, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою! И поклоны, и аллилуйя, и одежку по римской бляди царя носить понуждает! Ох, Русь! Чего-то тебе захотелось немецких обычаев? Не до нас положено, лежи оно так веки вечные.
— Выходит, не лгут послухи! — облизывая разбитые губы, вздохнул Похабов. — То-то царская дворня, как и Афонька Пашков стараются ему угодить!
— У святых согласно, трижды воспевающе, со ангелы хвалим Бога, — распаляясь, все громче говорил протопоп крепнувшим голосом, — мерзко Богу четверичное воспевание. В покаянной молитве сократил поклоны с семнадцати до четырех, антихрист, бл…н сын, собака косая, дурак!..
Казачий голова с любопытством уставился на опального протопопа. Был он тощ, как постник, невысок и даже тщедушен с виду, но так разгорячился, что голова тихо рассмеялся:
— Однако луженая у тебя глотка!
Услышав насмешку, протопоп сконфуженно умолк.
— Тебя-то за что в аманатскую бросили? — участливо спросил Похабов потеплевшим голосом.
— Когда поднимались через Шаманский камень, приплыли сверху люди иные и с ними две вдовы. Одной лет шестьдесят, другой больше. Плыли в монастырь, постриг принять. А Пашков давай их возвращать. Захотел замуж отдать за казаков. Я ему стал говорить: «По правилам не подобает таковых замуж отдавать». Он, осердясь, стал мучить меня. Сбил с ног, чеканом трижды по спине ударил, а после — семьдесят два удара кнутом. Здесь, в Братском, в тюрьму кинули. И сидел до Филиппова поста в студеной башне без платья. Мышей скуфьей бил. И все на брюхе лежал. Спина гниет.
— Так уж и семьдесят два? — недоверчиво уставился на протопопа Похабов. — Я знаю, что такое пять ударов. Ты хлипкий, и с трех бы отдал Богу душу.
— Как били, так и не больно было с молитвой, — теперь уже протопоп насмешливо взглянул на сына боярского. — После на ум взбрело, грешному: «За что же Сын Божий попустил так больно меня бить? Ведь я же за вдов Его заступился? Не весть что согрешил?» Тут и заболело все. Так-то мне и надо. С говенной рожей со Владыкой судиться захотел.
Похабов смущенно умолк. Ни Меченка, ни вдова ни словом не обмолвились о своем заступнике, о его муках ради них. И свои нынешние унижения показались ему вдруг пустячными и суетными.
В сомнении склонился он над протопопом, поднял однорядку. Под ней спину покрывала рубаха, заскорузлая от гноя и крови. На коже не было живого места.
— Да, батюшка! — удивленно качнул головой сын боярский. — Уж не знаю, святой ты или бесноватый, но пострадал за мою венчанную жену. И пострадал напрасно. Все равно я ее у Пашкова отобрал и за Камень переправил. И на кой тебе за этого ряженого козла муки принимать? Горбатого могила исправит!
— Что мне грешный человечишко Пашков? — опять задиристо вскрикнул опальный протопоп. — Я против дьявола стою за человечью душу. Мне еще предстоит этого Афоньку в послушники постричь. На брюхе будет покаянно ползать у ног моих. Ради того Бог благословил мучиться и не рассуждать много.
— Ладно, ладно! — миролюбиво проворчал Похабов, не желая распалять больного попа к спорам. — У тебя своя судьба. Отойдет душа от тела, вдруг и вспомнишь пред Его очами грешного раба Божья Иоанна, сибирского казака. А то, что за старух вступился, буду жив, и я за тебя помолюсь.
За стеной кто-то потянул цепь. Рука сына боярского по самое запястье была притянута к бревенчатому срубу. Иван громко чертыхнулся и невольно припал к стене. Послышались шаги. Раскрылась дверь. В аманатскую втиснулся кривоносый казак. Опасливо, вдоль стены, чтобы Похабов не достал его ичигом, протиснулся к чувалу. Аманаты оживились, выставили свои чарки. Казак наполнил их крепким хлебным вином. Вытряхнул из мешка на бересту кусок коровьего масла, так же боком проскользнул к двери.
— Передай Афоньке, — крикнул вслед Похабов. — Государево слово и дело объявляю!
Аманаты выпили вино, стали есть масло, откалывая его кусками.
— Так вот и мучают! — жалостливо взглянул на них протопоп. — Масла дадут, а то и окорок. А хлеба не дадут.
— Им без хлеба хорошо! — пояснил Иван, сидя с задранной рукой. — А тебя, видать, за человека не признают.
— Не ведают, что творят! — вздохнул Аввакум. — Бесчинщики! От страха перед Пашковым меня мучают. Заговорить боятся. А я гляжу на них и по лицам вижу, какая судьба им уготована!
Говорил протопоп тихо и печально. Приглушенно чмокали аманаты, а Похабову все чудилось, будто кто-то стоит за дверью, слушает. Подходили со многим шумом шагов, уходил один.
И правда, бесшумно распахнулась дверь, двое казаков с инеем в бородах, не поднимая глаз, поставили у входа кресло, набросили на него медвежью шкуру. Ослабла цепь. Вошел дворовый мужик. Тот самый, что стоял рядом с Пашковым, когда Иван стрелял. За ним втиснулся и сам бывший воевода в богатой шубе. Сел в кресло. Мотнул головой, и дворовый шмыгнул за дверь, тихо затворил ее за собой.
— Сказывают, слово и дело против меня объявляешь? — принужденно растягивая губы в насмешке, спросил Пашков, вперившись в сына боярского немигающим взглядом.
— Объявляю! — прохрипел тот, ненавистно щурясь и сжимая ноющие зубы.
— На этого, — Пашков кивнул на Аввакума, — в Тобольском за полгода четырежды объявляли слово и дело государево, а вот ведь не в Москву везу, за Байкал, — скривил губы под ровно остриженными усами.
— Пять! — сипло поправил его лежавший протопоп. — Пять раз объявляли!
— А знаешь, кто он? — ухмыльнулся Пашков, блеснув глазами. — Колдун и убивец. Сам про себя говорит, будто убил твоего друга Петра Бекетова. И ладно бы просто убил. А то ведь три дня не давал никому подойти к телу, любовался, как собаки грызут его. Вор он, твой Бекетов: в Дауры сбежал с полком и с казенным добром, однако своими заслугами известен по всей Сибири.
— Брешешь! — растерянно передернул плечами Похабов.
— А ты его самого спроси! — мстительно оскалился Пашков и непринужденней развалился в кресле.
Сын боярский медленно обернулся к протопопу и вперился в него мутными глазами.
— Увы мне, грешному! — страстно воскликнул тот и слегка перевернулся набок. Слезы текли по его щекам. Но влажные глаза горели угольями: — Едва владыка съехал в Москву по делам Софийского собора, архиепископского двора дьяк Иван Струна вражду со мной затеял. Некий человек с дочерью кровосмешение сотворил. А он, Струна, полтину взял и, не наказав, отпустил его. А после саму дочь с женой обвинил. Вернулся архиепископ Симеон и по моему обвинению Струну велел сковать.
— Ну, знаю Струну! — грозно рыкнул Похабов. — Дальше что?
— А тот Струна на воеводский двор бежал, сказал на меня слово и дело государево. Воеводы отдали его сыну боярскому Петру Бекетову, в приставы. Его и моей душе тут грех и горе, — в отчаянии застучал лбом о нары опальный протопоп. — Архиепископ со мной стал Струну проклинать но правилам, в неделю православия в главном соборе. Бекетов же ворвался в церковь, браня меня и архиепископа. Лаял матерно. Взбесился, как пес. Выбежал из храма и, жалея Струну, принял смерть злую.
И три дня мы со владыкой Симеоном не давали честным гражданам взять тело, да, было так! — воскликнул протопоп, бесстрашно глядя в глаза Похабову. — А на четвертый со владыкой слезами тело его омыли, отпели и погребли. Увы мне! Было такое плачевное дело! — ткнулся лбом в нары узник.
«То ли бес, то ли святой?» — таращился на постника Похабов. Ближайшего товарища погубил проклятьем, притом так искренне каялся и лил слезы, что смирял первую ярость в сердце сына боярского.
Не сводя глаз с Аввакума, он потянул на себя позвякивавшую цепь. Одним рывком перехватил ее петлей. И шепнул на ухо бес, как удобней удавить колдуна-убивца. Обернулся вдруг Иван к Пашкову.
Бывший воевода страстно подался вперед, как рыбак на рыбью поклевку. Рот его был сладострастно разинут, глаза горели. «Черт!» — мелькнуло в голове сына боярского. Будто узрел в один миг, как, удавив протопопа, выйдет из аманатской другом бывшего воеводы. Выпьют они по чарке, и кончится давняя распря. Жестко взглянул в глаза протопопа и оторопел: не было в них ни слез, ни страха. Он пристально и насмешливо глядел на сына боярского, будто успел прочесть в его глазах все то, стыдливое и сокровенное, что промелькнуло перед взором. Похабов утробно рыкнул и опустил руку с цепью.
Пашков разочарованно сглотнул слюну. Откинулся в кресле и блеснул тоскливым взором.
— Бог ему судья — не я! — еле ворочая языком, прохрипел Иван. Разжал пальцы. Звякнула о нары цепь.
— Ну, и что скажешь против меня? — насмешливо спросил его Пашков утомленным голосом. — Что ты вместо того, чтобы встретить в остроге, как подобает, бежал с бабами для блудного греха? Что, не сдав дел по нижнему острогу, бежал в верхний, а вернувшись, едва не застрелил меня и порубил моих дворовых?
— Ты мои пожитки из избы выкинул? — удивленно поднял брови Похабов.
— Я этого не делал! — усмехнулся Пашков. — Это они, — повел глазами за дверь. — Самовольно. Доложил бы мне вместо бегства, я бы их выпорол. Эй! — распахнул пинком дверь. — Приказывал я вам выселять из приказной избы сына боярского?
Губастый и кривоносый вытаращили на Пашкова испуганные глаза, боязливо завинились, тут же превращаясь из злобных псов в трусливых шавок.
Печенкой почувствовал Похабов, что Пашков вымогает его повиниться и тем кончить распрю. А сам был так потрясен наглостью, с которой бывший воевода переиначил все бывшее между ними, что, не находя слов, склонил голову и пробормотал:
— Может, и зря так осерчал! Видать, бес подначил!
— Кто без греха? — вкрадчиво, с пониманием подхватил его Пашков. — Острог я у тебя не принимал. Правь как знаешь! Я перезимую и уйду.
Запор-то на амбаре зачем было рубить? Сказал бы. Я тебе ключи отдам. Ваське Черемнинову веры нет. Пропьет!
«Правильно говорит, — размягчаясь душой, согласился Иван. — Васька может и пропить!» Замороченный ласковыми словами, вдруг усомнился: и чего так осерчал на бывшего воеводу?
Странный клекот послышался под боком. Сын боярский обернулся к протопопу, будто на отточенные тесаки, наткнулся на пронизывающие глаза Аввакума. Изможденный постник смеялся над ним, как прежде не смеялся никто, даже Пашков:
— Так же вот и дьявол смущал Господа нашего: «Не признаешь меня? Не признавай! Поклонись только, признав, что моя власть выше. И отдам тебе весь мир!»
Пашков не удостоил протопопа ни взглядом, ни словом.
— Снимите цепь! — приказал вставая. — Раскуйте казачьего голову.
Губастый выдернул цепь из дыры. Кривоносый подхватил Похабова под руку, помог встать. Оглушенный всем пережитым за день, Иван попытался важно поднять голову. Но шея не держала, а ноги расползались, как у петуха, наклевавшегося бражной гущи.
— Ловок ты, Афанасий Филиппович! — бесстрашно бросил вслед Пашкову Аввакум. — Малодушных смущаешь, слабыми страхом телесным повелеваешь!
— Чтоб ты сдох, бесовское отродье! — не оборачиваясь, выругался бывший воевода.
Похабов вздрогнул, будто протопоп метнул ему в спину нож. Распрямился за дверью аманатской избы, тряхнул цепью на запястье и так звезданул кривоносому под глаз, что тот сел, обидчиво окинув взглядом Пашкова.
— Зря ты его побил! — добродушно укорил бывший воевода сына боярского. — Коземка — казак добрый, из самых верных!
А дальше, как во сне, все пошло и случилось так, как в один миг привиделось в аманатской избе. Похабов сидел за столом в хоромах, выстроенных возле острога, пил вино и не пьянел. Дворовые мужики, подобострастно улыбаясь, принесли его саблю, шапку и пистоль. Он о чем-то говорил с Пашковым, а в ушах звенел смех узника.
— Зря ты этих князцов зааманатил! — пожурил бывшего воеводу. — Верные они. Ясак давали исправно. Кабы смута не началась среди их родов.
Понимать-то понимал казачий голова, почему те были зааманачены, но не говорил вслух. Не то чтобы боялся, но, поклонившись раз, потерял всякую охоту к буйству и правде.
— Отпусти! — соглашался Пашков. — Ты на приказе. Твоя воля!
И оба помалкивали о том, как теперь возместить этим мужикам за бесчестье. Вошел дворовый, доложил, что приказная изба помыта и протоплена. Баня подходит.
— У меня заночуешь или к себе пойдешь? — спросил Афанасий Филиппович.
— К себе! — взялся за шапку Похабов. Хмуро поблагодарил за хлеб-соль. Спохватился, поймав себя на том, что часто кивает. Скрипнул зубами, снова озлившись на протопопа. Выругался: — Такого казака погубил, сын бл…н! Петруха первым на Оку пришел, первым взял здесь ясак с братов и вышел в их степь. Помяни, Господи, — перекрестился на образа. От выпитого покачивало, а голова была трезвой и мерзко пустой.
— А понадобятся мои люди припас доставить в Верхний острог, дам сколько надо! — прощаясь, пообещал ему вслед бывший воевода.
Покачиваясь, Иван подошел к острожным воротам. Скрипел снег под ичигами. Он пнул пяткой в калитку.
— Кто? — крикнул караульный.
— Издали глядеть надо! — взревел сын боярский. — Я те, курвин сын, глаза-то прочищу!
Клацнул закладной брус. Калитка распахнулась. Иван прошел к приказной избе, распахнул дверь. На лавке напротив печи боязливо сидели Никитка Фирсов и Василий Черемнинов. Не понимая, что делается, таращились на вошедшего.
Иван молча сбросил шубу на лавку, поверх кинул саблю и пистоль. Не перекрестив лба, полез на теплую печь. Тяжек был прожитый день.
На рассвете с похмельной головой он поплелся в выстывшую баню, долго и брезгливо сдирал с себя щелоком телесную грязь. Помылся. На душе не полегчало. С мокрой, заледеневшей на морозе бородой сел в красный угол на казенный сундук. Не поднимая глаз, стал давать наказы:
— Ты, Васька, не приказчик, хоть и седина в бороде!.. Никитка, сядешь на приказ, пока не пришлю Арефу. На рожон против Пашкова не лезь, но и свою службу знай. За каждый мешок ржи и соли ответишь спиной. Драть буду нещадно, хоть ты и сотников сын.
Оба! Нагрузите мне рожью две подводы, — бросил Никите через стол ключи. — Ты, Васька, пойдешь к Пашкову и попросишь для меня четырех его казаков. Свои все на службах. Кроме тебя! — метнул злой взгляд на старого товарища.
— Так он и даст мне! — вскрикнул пятидесятник, заерзав на лавке. — На крыльцо не пустит.
— Даст! Скажешь, я послал! — твердо приказал Иван.
К полудню три подводы стояли у реки. Двое саней были нагружены рожью и солью, третьи шли с овсом для коней, с одеялами и пожитками. Четверо пашковских казаков топтались возле них, поджидая сына боярского. Ни взглядом, ни словом никто не напоминал ему вчерашнего буйства. Пашков прислал пирогов, хлеба и флягу горячего вина в дорогу.
Иван, прежде чем спуститься к обозу, подошел к аманатской избе. Отпихнул караульного, открыл дверь. Со скучающими лицами к нему обернулись аманаты. Протопоп лежал на брюхе, как и вчера. Ничто здесь не переменилось, разве собаки теперь были не на полу, а на нарах и выкусывали блох в шерсти.
Аманаты глядели на сына боярского пристально, чего-то ожидая от него. Протопоп же глянул мельком, будто не узнал. Уставившись в одну точку, шевелил губами: творил молитвы утренние, а то и всю пятисотицу читал по памяти.
— Вам воля вернуться по улусам и угодьям! — с важным видом объявил заложникам Похабов. — Помните, не я вас аманатил, но я освободил, — протянул им флягу с вином.
Перед носом опального протопопа вывалил хлеб, пироги и бросил на нары пустой мешок. Аввакум на угощение глазом не повел, хотя вчера при Иване к маслу не прикоснулся.
— Ты не в моей власти! — сказал протопопу потеплевшим голосом. — Ничем другим помочь не могу.
— Надо мной одна власть! — отчужденно буркнул Аввакум, не поднимая глаз.
Браты и тунгус выпили, захмелели, заспорили между собой. Никто не спешил покидать избу. Не спешил уйти и Похабов, все хотел сказать попу что-то важное и не знал что. Наконец пробурчал с виноватой усмешкой в усах:
— Гляжу на тебя, чего ради себя и других мучаешь?
Протопоп поднял глаза, в которых тлели огоньки претерпеваемой боли. Бесстрастно и тихо ответил:
— Кто изволит Богу служить, о себе не подобает заботиться. За мирскую правду подобает душу положить, яко же Златоуст за вдову и за Феогностов сад, а на Москве, за опритчину, Филипп.
Аввакум умолк, снова зашевелил губами. А Похабов все стоял, покашливая и переминаясь с ноги на ногу. Протопоп опять поднял глаза, теперь уже пронзительные, без следа боли:
— Вот ты вчера подумал: «Стоит ли страдать за дурака с выщипанной бородой, в немецком кафтанишке, с фряжской шпажонкой на боку?» А ведь он заставил тебя поклониться дьяволу, который верховодит его душой! Пристало ли мне с ним мириться?
Будто палец сунул в рану зловредный попишка. Иван побагровел и выскочил из избы, хлопнув дверью.
— Аманатов отпустишь, как только захотят уйти! — закричал на караульного так, что тот боязливо отступил.
Не перекрестившись на крест церкви и часовни над воротами, выскочил из острога. Быстрым шагом спустился к реке. Оправдывал себя на ходу, мысленно споря с протопопом: «Жизнь прожил не кланяясь. От царя кнуты принял — не покорился ему и не покаялся, не то что Истомкиному выблядку! Не было такого!» И сам же по себе вздыхал: «Старый стал!»
Увидев обоз из трех саней, Арефа Фирсов выскочил из острога в одной шапке, побежал встретить, глазам не верил, ощупывая мешки с рожью.
— Баню топи! — приказал сын боярский. — Привечай давай гостей!
В острожке по всем дням поста сквернились рыбой. Не чаяли уже и на Страстную неделю, перед Рождеством, попоститься хлебом. Накинув шубейку, из ворот вышла Савина. Глядела на Ивана, как всегда, любуясь и сияя глазами. Стеснялась незнакомых казаков.
Вечером, после бани и ужина, Иван возлег рядом с ней на печи и покаянно зашептал:
— Измучил я тебя. Как только Пашков уйдет из Братского — повенчаемся. Церковь там построили, служит уже поп Иван.
Савина крепче прижалась к его плечу, спросила вдруг:
— У тебя живот не болит? А у меня болит. Отсель и досель, — взяв его ладонь в свою, погладила ей под грудью, крепкой и полной, как у зрелой бабы. — И брюхо растет! — призналась смущенно.
Иван тихо хохотнул:
— А как родишь на старости лет, будто Сара от Абрама?
— Боюсь, сил не хватит! — вздохнула она. — Всю жизнь хотела от тебя родить, да Бог не дал.
Так, посмеявшись, оба забыли обычную пустопорожнюю нелепицу полночного разговора.
Пашковские казаки возвращаться не спешили. День и другой жили при остроге, стараясь быть полезными. Один признался:
— У головы все бегают. Не дай бог, наушники заподозрят в лени. Забьет! У тебя хорошо, спокойно. Нам бы послужить так хоть до Крещения.
— Боятся, зато все в покорности! Как вас еще держать? — мстительно проворчал Похабов. — По совести да по крестоцелованию уже и старикам не служится. Немецких обычаев возжелали! Терпите теперь!
Проворчать-то проворчал, но пашковских казаков пожалел. Людей в острожке не хватало, и он отправил их со своими служилыми за ясаком. Только к Маслене выпроводил в Братский острог с пустыми подводами.
Ясак за тот год со степи и с карагасов был взят с недобором. Не было надежды, что с Иркута и байкальского култука пришлют больше обычного. Ходившие в улусы казаки в голос уверяли, будто среди ясачных мужиков зреет новая смута. И пришлось Ивану добавить в казну соболей из мешка, брошенного Боярканом.
Признаки смуты примечались в каждом взгляде приезжавших князцов. Казалось, дух измены витает в самом воздухе.
Вскрылись притоки Ангары. Выплеснули на пористый почерневший лед лаву из мутной воды и ледяного крошева. Вскоре разорвала покров и сама Ангара. Казачий голова с нетерпением поджидал, когда из Братского острога уйдет многочисленный полк Пашкова. Присутствием его в здешних местах он тяготился.
Как только кочевавшие тунгусы донесли, что по реке поднимается четыре десятка судов, Иван Похабов засобирался смотреть лес в верховьях Белой реки. Чтобы не услышала чего лишнего Савина, взял ее с собой, посадив в седло. На другой уже день женщину так растрясло, что она стала охать, хватаясь за живот.
— Неужто и впрямь забрюхатил? — забеспокоился Иван, но возвращаться не спешил.
Погода стояла ясная. Буйно зеленела весенняя степь. Пашенные люди запахивали целину и радовались, что на полях нет ни пней, ни деревьев с кустарником. Телег пока ни у кого не было. Чтобы не мучить Савину верховой ездой, надо было съездить в острог за санями. Иван тянул время, не желая оставлять ее одну, садился на коня, отъезжал на видимое расстояние, оглядывал издали Ангару и снова возвращался. Так он пробездельничал целую неделю, пока полк не прошел мимо Балаганского острожка.
Вернувшись, голова стал собираться в Братский острог со всем своим имуществом и ясаком. Из казаков в помощь себе никого не взял. Река неспешно понесла струг к устью Оки. Иван с кормы только подгребал, поправляя ход лодки, иногда садился на весла и всю дорогу выговаривал свои мысли.
— Были бы у нас с тобой дети, я бы их на службу не пустил, а посадил бы на пашню. Жаль, твои сыновья на земле не осели и михалевские казачат. Куда нам податься? Разве к Тереху Савину в подворники? — грустно посмеивался. — Ой, девонька, зря ты со мной связалась. Подумай еще, надо ли венчаться со служилым?
Савина всхлипнула, вспомнив о сыновьях. Один был на дальних службах, другой на промыслах, тоже где-то возле Даур. Она ткнулась лбом в грудь сына боярского:
— Сама судьбу выбрала!
Иван, оглядывая берега реки с нависшим над водой лесом, продолжал рассуждать:
— Может быть, обвенчаемся и вернемся в Енисейский? Я напомню новому воеводе, что Сибирский приказ ставил меня в Маковский, да не вышло. Вдруг твой Петруха одумается, бросит промыслы, сядет на землю, и мы бы с ним. Я ведь твоим сыновьям не чужой.
— У тебя ничего не болит? — опять обеспокоенно спросила Савина, оглаживая располневший живот.
— Как не болеть? Все кости ноют! — отмахнулся Иван.
Казачий голова вернулся в Братский острог неожиданно для тамошних годовалыциков. Освободившись от лютой власти, казаки веселились: пьянствовали, дрались, играли в карты и кости. Унять их, старых и заслуженных, молодой Никитка не мог.
— Узнаю! — строго приветствовал Похабов товарищей по службам. — Готовьте спины. А батогов на всех хватит.
На другой уже день он по-хозяйски осмотрел острог, поставленный Дмитрием Фирсовым на месте прежнего, сгнившего. Частокол был высок и крепок. Некоторые башни, рубленные из сырого леса, успели просесть. Пустовавшие хоромы Пашкова, в которых зимовали он и его сын с женой, были поставлены в опасной близости от частокола. Мельница не достроена.
Жесткой рукой казачий голова стал наводить порядок. Он осмотрел пустовавшие дома Пашкова. Велел казакам раскатать их по бревнам и огородить острог двойным палисадом. Не успели служилые разобрать сени, в приказную избу ворвался поп Иван, размахивая пудовыми кулаками, громогласно заорал, что Пашков отдал эти дома церкви.
— Среди ясачных смута, батюшка! — попытался вразумить его Похабов. — Хоромы близко от стен. Вдруг нас осадят, а дома подожгут? Сгорим вместе с острогом. Никак нельзя без палисада.
Белый поп не желал слушать сына боярского, ревел о своей правде, призывая свидетелей из казаков, и буянил.
— Не подожгли же прошлую зиму? — язвил, надвигаясь молодецкой грудью на Похабова.
Ни продажа, ни дарение никак не были записаны в приказных книгах. Вразумить попа, что у Пашкова был полк, а нынче при остроге полтора десятка служилых, Похабов не мог. Он и сам стал сердиться. Тогда поп Иван в ярости пригрозил:
— Причащать тебя не буду!
Сын боярский только кряхтел и мотал головой. Понимал, что по его словесной клятве про прежнюю жену венчать его с Савиной буйный поп не станет. Осерчав, голова сам стал кричать на неподвластного ему попа:
— Чего орешь, батюшка? Кто в остроге приказный? Я или ты? Будешь буянить, вышлю вместе с ясаком!
Казаки, посмеиваясь, прислушивались к распре двух Иванов. Работали они неохотно, к осени ждали перемены и, как водится, жили одним днем. Закончив день, на покаянной вечерней молитве казачий голова порадовался, что, на посмешище казакам, его распря с попом не завершилась кулаками.
С ясаком и с отписками для воеводы он отправил в Енисейский острог Никиту Фирсова с вестовым казаком, который ковал его на цепь. Пашенный староста Распута чуть не каждодневно приезжал в острог, привозил подарки, отчитывался за свое хозяйство и за людей, работавших у него, зазывал сына боярского в гости. Наконец Похабов собрался объехать пашенных.
Верхами, в сопровождении самого старосты, он добрался до его дома и ахнул. Двор у Распуты был с хоромными строениями в три избы, связанные сенями. Под ними три подвала. Два крыльца, амбар, конюшня, теплый скотник.
— Крепко живешь! — похвалил пашенного. От бани и обильного угощения отказался за множеством дел. Едва успел перекусить, как ко двору Распуты подъехал Федька Сувор, заводчик прежней острожной смуты и бегства в Дауры.
— Подворник, поди, твой? — спросил старосту, кивая на прибывшего.
— Нет, — отвечал тот. — Этот сам живет. Еще и нанимает работников.
Федька приехал не случайно. Он услышал от соседей, что Похабов объезжает пашенных, и стал звать его к себе. Приметил Иван, что бывший смутьян стал каким-то гладким и холеным: даже попорченное шрамами и пороховыми пятнами лицо румянилось и белело. Вел он себя так весело и непринужденно, что сын боярский подумал, что тот пьян. Обычно всякий пашенный встречал приказчика настороженно, ожидая от него обмана, или сам старался его обмануть.
— Что не жить? — весело балагурил Федька, сидя на коне. — Работай, гуляй только по праздникам, и здесь будут тебе Дауры!
Подъезжая к его двору, казачий голова понял, отчего тот так самодовольно посмеивался всю дорогу. У Федькиной жены, его крестницы, из-под душегреи выпирало брюхо. Их двор был намного бедней, чем у Распуты, но не беден в сравнении с другими. Добротная, хоть и тесная изба, конюшня, амбар, скотник. Два коня, корова, телка, двухгодовалый бык.
— У кого коня взял? — удивленно спросил Похабов.
— У братов купил! И бычка, — посмеивался Федька.
По здешним ценам все это стоило не меньше пятнадцати соболей.
— Промышляешь зимой?
— Промышляю мало-мало! — признался Сувор.
Они вошли в чистую избу. Жена весело поглядывала на крестного узкими глазами и пекла пресные лепешки. Пахло вареным мясом. Федька горделиво усадил за стол сына боярского, хозяйским взглядом обвел потолок и стены.
— Однако радостно! — похвалил сам себя. — Каждое бревнышко вот этими руками положено.
И понял наконец Иван Похабов своего пашенного человека: он не был пьян! Через бега и невзгоды пробилась-таки крестьянская кровь, та самая, что, доставшись и ему, Ивану, от деда-бобыля, все чаще томила душу в преклонные годы. И позавидовал вдруг бывшему своему кабальному человеку, да еще и беспутному.
— Хорошо живешь! — сдержанно похвалил.
— Хорошо! — согласился Федька. — Мне бы полдесятка коней да десяток коров, да всякую мелочь… Ничего! — беспечально тряхнул головой. — Разживемся!
Как и наказано было воеводой приказчику, сын боярский объехал все пашенные дворы. Жили в них по-разному. Большинство только числились в пашенных на государевой десятинной службе, на самом деле жили одним днем, работали на своей земле, но под началом у Распуты, чтобы выплатить отсыпную десятинную рожь. Другие обживались. Только трое пили и гуляли с самой Пасхи. Пришлось в науку дать им батогов рукой жалостливой. Еще один хлебный обротчик[267], будучи пьяным, продал свою избу такому же обротчику. Тот пообещал рубль, а дал ему, пьяному, полтину и забрал дом. Пришлось всыпать батогов обоим.
Возвращался Иван в острог в добром расположении духа. Зашел в избу. Савина сидела на лавке, в ее глазах блестели слезы.
— Что опять? — испуганно спросил Иван.
Она указала глазами на свои голые ступни на тесовом полу. Они были пухлыми, как подушки. Всхлипнула:
— Сдается мне, не переживу я зиму! И живот болит. Мочи нет терпеть. Плохо мне, Ванечка! Прости уж, не могу даже накормить, — подняла виноватые и жалостливые глаза. — Как жить-то станешь без меня?
— Плохо! — пробормотал Иван. Вспомнил про пашенного Антошку Титова, коновала, который лечил травами и даже бабам, сказывали, при родах помогал. Нынче казачий голова грозил побить его батогами за то, что тот курил табак. Да делать нечего, послал к нему вестового, позвал в острог. Заодно велел привести горбуновскую женку, свою и Савины крестницу, чтобы поухаживала за ней, пока хворает.
Коновал приехал на другой день, не припоминая голове прежних угроз, стал щупать вздувшийся живот Савины, то и дело вскрикивая «но!» да «тр-р!» Елозил по бабьему животу оттопыренным ухом.
Постукивая кнутовищем по голяшке ичига, десятский ввел горбуновскую женку с побитым лицом. Та со слезами кинулась к больной Савине.
— Не пускал ее Горбун! — сердито передернул плечами десятский. — Орал, будто ты ее на свою постелю затребовал. Пришлось постегать, а он бабу побил! — кивнул на бывшую ясырку.
Горбуниха, поплакав с Савиной, смахнула слезы с раскосых глаз и принялась за стряпню. Антошка-коновал замучил больную женщину ощупыванием. Она постанывала, а Похабов начал уже сердиться. Наконец тот отстранился, покачивая головой и пожимая плечами:
— Кабы у телки или у жеребушки так случилось, проткнул бы кожу до кишок и гной бы выпустил. Это он ни есть, ни дышать не дает.
— Делай как знаешь! — охнула Савина. — Сил нет боль терпеть. Кажется, брюхо вот-вот лопнет.
Коновал достал угольков из печи, налил в чарку крещенской воды, нашептал на нее, опрыскал Савину, потребовал поганое ведро и две чарки вина: одну себе, чтобы рука не дрогнула, другую бабе, чтобы не померла от испуга.
Выпив без закуски, коновал маленьким ножом проткнул Савине живот пониже пупка. И потек из раны гной с кровью. Да так много, что Иван отводил глаза ко святому углу, накладывал на себя крест за крестом и все винился перед Господом за насмешки над престарелыми библейскими стариками, которые услышал нечистый и посмеялся, как водится, громче всех.
Как только вытек весь гной, коновал залепил рану подорожником и потребовал с сына боярского за лечение шесть чарок, то есть полкружки крепкого вина.
— Упадешь! — недоверчиво взглянул на него Иван.
Но Савине стало легче. Она свободно задышала и даже забылась во сне, а когда открыла глаза — попросила есть.
— Заслужил награду! — согласился сын боярский. Налил Антошке во флягу семь чарок. Пригрозил: — Завтра опохмелишься — не замечу, запьешь — дам батогов!
Коновал вскарабкался на коня, уехал подальше от острога и от казачьего головы. Савина утром поднялась и захлопотала, как прежде, будто беда миновала бесследно.
В августе дальние караулы донесли Похабову, что от Падуна поднимается сотня русских людей, и он выслал к ним казаков с лошадьми помочь дотянуть струги гужом. Сам же встречал прибывших у пристани, под острогом.
Пришла перемена годовалыцикам, на которую Похабов не надеялся. Половина прибывших была из пашенных людей, присланных в Братский и Балаганский остроги. Четыре десятка служилых, пришедших на перемену годовалыцикам, едва хватало для обычных служб. Большей частью это были казаки из ссыльных и наверстанных голодранцев. Из старых стрельцов пришел один Алешка Олень, служивший прежде на Амуре.
Василий Черемнинов объявил, что хочет остаться еще на год, и Похабов выпроваживать его не стал. Остался при нем еще на год и Арефа Фирсов.
Пятнадцать служилых и всех пашенных людей казачий голова отправил в Балаганский острог. Оттуда и из Братского собирались вернуться в Енисейский всего полтора десятка служилых. После бунта и бегств гарнизон поредел больше чем на треть. Как рассказывал Алешка Олень, в Илимском, у Петра Бунакова, было того хуже.
Иван перекрестился, помянув заупокойной молитвой Петра Бекетова, чем удивил даурца Алешку Оленя.
— А как он в Тобольский попал? Я уходил с Амура — там был, живой, — покачав головой, старый стрелец поскреб затылок и тоже перекрестился в помин. — Наверное, из Якутского через Мангазею ушел!
Дав передохнуть людям, Похабов стал принуждать их укреплять острог, который прибывшим казался неприступным. Холодало. Надвигалась осень. За ней уже виднелись белые уши зимы, а присланные казаки не имели обуви, кроме чуней и бахил, в которых пришли, то и дело отлынивали от работ, попадались голове на игре в зернь. Все жестче творил расправу сын боярский. Без батога уже не выходил из приказной избы.
С осенними туманами с Байкала сплыли десять служилых Якова Похабова. Кормщиком у них был казак Сенька Новиков, отправленный казачьим головой с Иркута в помощь Бекетову. О службах атамана Якова Сенька рассказывал неохотно и уклончиво. Из сказанного старый Похабов понял, что сын гак и не помог Бекетову, но в точности исполнил наказ воеводы. О том, что с ясачной казной Яков вернулся в Енисейский острог через Ленский волок и был отправлен в Москву, он уже знал от прибывших сменщиков.
За Байкалом шла нескончаемая война. Возле Селенги был вырезан весь посольский отряд Ерофея Заболоцкого. Кто напал на них? О том гадали и говорили по-разному.
Едва Иван проводил служилых с Баргузина, к нему прибежал коновал Антошка Титов и стал слезно жаловаться на попа Ивана, который отобрал у него телегу с копной сена. За что отобрал, какие грехи отпустил за это сено, Похабов дознаваться не стал, велел казакам до выяснения правды выпрячь из груженой телеги казенного коня. Острожный поп ни просить, ни ругаться со служилыми не стал: сам впрягся в оглобли и притащил телегу с сеном к дому.
И почувствовал Иван Похабов, как опостылело ему его головство, а перемены опять не прислали. Правда, он о ней и не просил из-за болезни Савины, а воевода медлил, получая с Ангары ясак с прибылью.
Худо-бедно, но к холодам голова укрепил острог и начал достраивать мельницу. В ноябре встала Ангара. И вдруг новая вода хлынула по застывшей реке, взломала лед и утихомирилась, покрывшись так, что ни на лыжах не пройти, ни на санях не проехать.
На второй неделе Филиппова поста Похабов начал отправлять отряды служилых собирать ясак по улусам и угодьям. Перед Страстной неделей Аманкулов внук привез ясак сам. Иван отдарил его и проводил с честью, другим в пример.
Савина опять слегла, и вскоре ей стало хуже, чем прежде. Похабов спешно собрался в Илимский острог на ярмарку прямым путем, надеялся найти там доброго лекаря. В остроге оставалась казачья сгаршинка, среди ясачных народов не было явных примет к смуте.
На санях, вдвоем с Арефой Фирсовым, он поехал через Ангару и все удивлялся в пути, что санный путь был уже кем-то проложен. После переправы кони пошли волоком и опять по следу. Служилых в Илимский острог Похабов не посылал, пашенные, по указу, без согласия приказчика не могли удаляться от своих домов дальше, чем на пятнадцать верст. «Кто бы это мог быть?» — постегивал коня сын боярский.
Он догнал-таки шедших впереди и узнал своих пашенных, отправившихся на ярмарку без спросу. Ладно бы были добрые и зажиточные люди, но шли те, кто не вылезал из долгов казны. Ивашка Садовников вел за собой казенную корову, данную ему на подъем. Тимошка Савельев, оброчник Распуты, вечно жаловавшийся на бедность, волок за собой две овцы, явно на пропой. С ними Агнашка Дементьев, да Сережка Фомин, да Максимка Иванов, Ивашка Павлов — голь пропойная. Последний тащил на продажу образ Казанской Богородицы в медном окладе.
Постегав беглецов кнутом, Иван повернул их обоз обратно к Братскому острогу. Служилые не ждали его раннего возвращения и шумно гуляли среди поста: играли в карты, дрались на саблях и ножах. Съезжая изба была обрызгана кровью.
— Вяжи их! — приказал казачий голова пашенным людям, которых вернул с половины пути.
Те, сами побитые, топтались на месте, боялись подступиться. Но на этот раз Иван Похабов не остался один, как прошлый год в Балаганском остроге. Казаки Федька Шадриков да Арефа Фирсов встали за него и за обиженных старшинкой казаков. Буянов заперли в аманатской избе. Заводчиков драк, стариков Черемнинова и Оленя, Иван велел посадить на цепи. И начал бы он среди них сыск, но Савина была совсем плоха.
Иван спешно запряг свежего коня. Только отвязал вожжи от коновязи, из-за острожной башни вышел поп Иван. Похабов чертыхнулся про себя: примета была плохой.
— Куда спешишь? — участливо спросил поп.
— А венчаться, батюшка! — резко ответил Похабов, вращая озлобленными глазами. — Давно коришь, что живу невенчанный со вдовой, а сам не венчаешь! — Он упал в сани, хлестнул коня по крупу и помчался рысью под гору, к наезженной колее. За рекой уже, верхом на запаленной лошадке, его догнал Арефа Фирсов. На выбеленных морозом ресницах казака сосульками висели слезы. Взглянул на него Иван и понял — умерла Савина. Отмучилась! Померк свет в глазах. Устало, по-стариковски, он опустил плечи. С самой весны торопился, латал прорехи в делах, и вдруг стало некуда спешить. Рассеянно развернул коня. Арефа пристегнул к оглобле своего, оседланного, сел в сани рядом с ним.
Втянув голову в тулуп, Похабов задремал. А после, свернувшись клубком на соломе в санях, уснул. Потом, как тягостный сон, были похороны. Собрались казачьи ясырки, жены пашенных, с которыми Савина была добра. Обмыли тело, сшили саван, беспрестанно читали молитвы кто что знал. Федька Шадриков с Арефой да Сувор собрали нужных людей, выкопали могилу в мерзлой земле, вытесали гроб.
Иван только сидел на лавке напротив тела, положенного на стол, и продолжал спать с открытыми глазами. На третью ночь пришел поп, хотя его не звали из-за неприязни к казачьему голове, и отпел вдову по уставу. Тело предали земле. Душа, отделившись, витала рядом, и чувствовал ее Иван, и мысленно разговаривал с ней.
В острог приехал Горбун. Вместо того чтобы зайти в избу, стал орать возле церкви, что казаки его жену на постелю емлют. Народ сновал мимо, стыдливо поглядывая на крикуна. Первым не выдержал его брани поп Иван, вышел из церковной келейки, схватил крикуна за шиворот, выволок за острожные ворота, заложил брусом калитку и велел караульному не впускать вздорного пашенного.
Горбуниха обеспокоенно забегала по избе. Иван с кряхтеньем слез с печи, с трудом очухался.
— Иди с Богом! — поблагодарил бывшую ясырку. Дал ей холст, из которого Савина так и не сшила сарафан, отдал крестнице шубу покойной, проводил до острожной калитки и все озирался, удивляясь многолюдству в остроге. Он не сразу понял, что Рождество уже отгуляли, долбят проруби ко Крещению, а поп готовится святить воду.
На Крещение Похабов отстоял службу, окунулся в ледяной проруби. Прояснилась голова, и он вернулся к делам: стал считать, какие роды сколько ясака дали. И оказалось, что один только удинский улус дал по пяти соболей с мужика.
После Крещения приехали братские мужики, сидевшие с ним в аманатской избе при Пашкове, привезли пять лис, и те поротые. В том был какой-то умысел: то ли насмехались, то ли надеялись на милость бывшего узника.
Впервые после похорон Савины вскипела кровь. Сын боярский бросил лис на землю, затопал ногами от гнева:
— Если нет рухляди, коней ведите! В Илимском за них дают до двадцати соболей и больше!
Он велел казакам посадить князцов на цепь, кормить вдоволь, а вина не давать. И оказалось вдруг, что старые стрельцы, о которых он забыл, все еще сидят скованными.
Под горячую руку Иван вымучил с братских заложников коня и еще трех лис да трех бобров и отпустил их без подарков. Арефа стыдливо донес, что ходившие в улусы за ясаком взяли на себя большой поклон. Из-за него и передрались перед Рождеством.
Иван освободил злых, обиженных стариков, отпустил братских князцов и начал сыск среди казаков. Опять жег виновных, хлестал батогами, вымучил-таки из вчерашних голодранцев сорок соболей добрых. Бывало, воровали новоприборные служилые люди, но так явно и много красть боялись. Наверное, думали, что за своими бедами казачий голова забудет службу.
Из Балаганского острога донесли, что из улусов не вернулись толмач Ивашка Байкалов и служилый Яшка Васильев. Посланных за ними казаков тоже перебили. Поднималась степь, а свои острожные служилые поглядывали на Похабова злобно, разговаривали с ним сквозь зубы. На ночь он запирался в избе, саблю и пистоль клал под бок. Арефа с Федькой жили с ним. Казаки их сторонились, называли наушниками.
Острог притих. Никто приказам казачьего головы не противился, никто ему не прекословил, но в каждом взгляде, в каждом слове служилых Иван видел скрытую угрозу и злорадство. Верные люди боязливо доносили, что служилые пишут на приказчика жалобу. Среди пашенных, говорили, лютует и подстрекает против него Горбун.
Едва растаял снег на яланных полянах, к крайним по Оке пашенным дворам большим скопом подступились воинские браты. Они никого не убили, но пограбили дома и угнали весь скот. Тот же Антошка-коновал с женой и детьми попрятал все добро и прибежал в острог.
Казаки кругов не заводили, но собирались по трое-четверо, горячо спорили о чем-то. Стоило показаться казачьему голове, Арефе или Федьке, все умолкали, глядели на них цепными псами.
Против дайшей Иван Похабов послал отряд из десятка служилых под началом пятидесятника Черемнинова. Казаков не было с неделю, вернулись они ни с чем и без двух новоприборных, битых Похабовым при дознании. Черемнинов немногословно оправдывался, что те бежали в Дауры, при этом язвительно ухмылялся и глядел в сторону.
Вскрылась Ангара. Как только сошел лед, Похабов отправил в Енисейский острог с отписками для воеводы старого стрельца Алешку Оленя. Он писал о смуте, просил помощи и замены. Худо-бедно, ясак за нынешний год был собран, и казачий голова мог уйти на покой с честью.
Едва уплыл Олень, острожный гарнизон как-то чудно повеселел. Казаки стали задирать Арефу с Федькой. И тут случилась беда, которая, как известно, не ходит одна, а признаки ее Похабов наблюдал всю зиму.
С женой за спиной да с новорожденным младенцем в острог примчался Федька Сувор на запаленном коне. Он бросил свой двор и скот, издали завидев войско конных людей числом в полтысячи.
На другой день прибежали пограбленные пашенные. Обливаясь слезами, приехал Распута на двух подводах со всей своей семьей и челядью. И осадило Братский острог многочисленное войско. Всадники издали пускали стрелы в осажденных, верхами носились возле надолбов, но протиснуться сквозь них на лошадях ближе к стенам не могли, спешиваться боялись.
Казаки и пашенные отвечали редкими выстрелами мушкетов и пищалей, стреляли во всадников из луков. Старый Похабов то и дело появлялся в самых опасных местах. Жесткой рукой он навел порядок в перенаселенном остроге и его оборону. При этом не чувствовал ни страха, ни ярости, ни злости, ни сострадания — спокойно оборонялся, не прячась за стеной. Пущенные в него стрелы сбивали шапку, в трех местах продырявили кафтан, но не задели тела. Он бесчисленно отбивал их на лету своей саблей и втайне желал принять славную кончину в бою.
Для нападавших острог с надолбами в два ряда и стенами в две с половиной сажени был неприступен. Все, что они могли, это на виду у осажденных резать их скот и пировать. При этом сожгли государев амбар на берегу Оки со старыми парусами и веревками, спалили недостроенную мельницу.
Через неделю войско снялось и ушло вверх по Оке. Казаки сделали вылазку. Пашенные под их прикрытием побывали на своих дворах. Уже тому, что браты не пожгли их, все были рады и просили попа отслужить благодарственный молебен.
После осады заметно переменились лица служилых. Теперь все хотели услужить казачьему голове, старались угодить ему. Даже поп Иван повинился в былой своей горячности:
— Кабы ты не настоял пустить дома на надолбы, един Бог ведает, устояли бы мы против врага за грехи наши тяжкие… А новопреставленную Савину я в алтаре поминаю!
Казачий голова обошел пашенные дворы, пометил, кому какая помощь нужна, все силы бросил на покосы и на посев озимой ржи. В хлопотах прошло лето. Ожидая перемены, Иван все чаще посылал ертаулов к Падуну и наконец дождался: они донесли, что идет отряд в полторы сотни человек под началом присланного сына боярского Якова Тургенева и молодого сына боярского Ивана Перфильева.
— Слава Тебе, Господи! — облегченно перекрестился Иван. В том, что идет перемена и ему тоже, он уже не сомневался. В помощь отряду казачий голова отправил казаков с лошадьми, приоделся и стал ждать их у ворот.
Топилась баня, караульные бездельничали. При той силе, что шла на подмогу, никто не смел напасть на острог. Иван вспоминал добром Савину, умевшую встретить гостей. Теперь ему приходилось погонять нерадивых казачьих жен. Из остатков ржи он велел наварить каши, напечь свежего хлеба и накрыть стол.
Первым, по-родственному, ему откланялся крестник Ивашка Перфильев. Заматеревший, обветренный, с умными глазами, с неторопливыми речами, он порадовал старого Похабова. Немолодой уже сын боярский Яков Тургенев прибыл ему, казачьему голове, на перемену.
Поп Иван прямо на берегу отслужил молебен о благополучном прибытии. Годовальщики узнавали среди прибывших знакомых, спешили выспросить новости, перешептывались во время молебна, суетливо крестясь и кланяясь.
Поп Иван тряхнул кудлатой головой и строго взревел:
— Трепещите! Яко с нами и среди нас Бог! — и добавил мягче: — Стыдитесь! Наговориться можно и после.
Как водится, начальные люди зашли в приказную избу, положили поклоны на образа в красном углу, выпили по чарке во славу Божью и первыми пошли в баню.
Вечером, распаренные и усталые, они долго сидели за столом при свете горевшего жировика, угощались. Тургенев неторопливо и как-то неохотно рассказывал о Енисейском остроге. Ивашка Перфильев помалкивал, кидая на крестного оценивающие взгляды. Похабов рассказывал об осаде, упреждал и жаловался:
— Как ясак соберете за следующий год — не знаю! В этот год еле-еле собрал, без прибыли. Вел сыск среди своих казаков. Они едва не взбунтовались. А браты как побежали в Мунгалы три года назад, так и бегут до сих пор.
Тургенев, слушая жалобы казачьего головы, будто весь превращался в слух. И снова как-то чудно поглядывал на Похабова крестник.
— Что, постарел? — с пониманием усмехнулся Похабов. Ивашка молча и смущенно кивнул.
В Енисейском остроге опять поменялся воевода. На смену прежнему пришел московский дворянин первой на Москве фамилии Максим Ртищев. Иван удивился, что родня наставника нынешнего царя служит в воеводах.
— Поди, Енисейский стал важней Тобольского? — спросил по невежеству.
Крестник, опустив глаза, тихо ответил:
— В опале Ртищевы у царя. Вот и прислали!
Иван равнодушно приглядывался к новому приказчику острога. Борода его была коротко стрижена, длинные, как у ляха, усы, немецкий кафтан, легкая шпага на боку, глаза круглые, нос длинный, как у латинянина. Все, как у Пашкова, только Афонькиной спеси не замечал голова в присланном сменщике.
Прежние службы их не сводили. Иван слышал от кого-то, что в калмыцкой степи бунтовали подначальные Тургеневу казаки — этому или другому, он не знал и не спрашивал.
На другой день, согласно наказной памяти нового воеводы, казачий голова повел Тургенева смотреть острог. Сдал оружие, ясачную казну и отсыпную рожь.
Новый приказчик ни к чему не придирался, но долго и внимательно вчитывался в записи казенных книг. Иван Перфильев был прислан на приказ в Балаганский острог, который тоже был под властью Похабова. С тридцатью служилыми и пашенными крестный с крестником отправились туда на трех стругах.
— Родство родством, а служба службой! — хмуро приговаривал казачий голова. И все удивлялся, отчего Ивашка кидает на него чудные, испытующие взгляды.
Балаганский острожек с пашней он сдал ему в два дня. Здесь только, оставшись наедине, молодой Перфильев осторожно заговорил о том, что его мучило с самого выхода из Енисейского острога.
— Читай! — подал свернутую трубой грамоту.
Это была наказная память ему, сыну боярскому Ивану Перфильеву, в которой говорилось, будто прежний братский и балаганский правитель так озлобил подвластный ему народ, что на него разом подали обидные челобитные пашенные и служилые люди, поп и ясачные мужики, а балаганцы откочевали из степи из-за причиненных им обид… И приказано было Ивану Перфильеву, в приставах, доставить сына боярского Ивана Похабова в Енисейский острог на дознание.
Иван прочел грамоту, хмыкнул в бороду:
— После осады острога все они от прежних слов откажутся! Было дело, сердились, на то и подначальные.
Ивашка глубоко и безнадежно вздохнул:
— Всем ты хорош, крестный! Но не понимаешь самого простого. Я бы и раньше сказал тебе об этом, но боялся, что раскричишься на весь острог, станешь правды требовать. Вдруг слово и дело государево объявишь!
— Ну и ладно! — смиренно пожал плечами Иван Похабов. — Оставил меня Дух Святой, как-то пусто стало на душе, будто у покойника. Вдруг и в почесть пострадать невинно, во славу Божью. Я свое отвоевал. Поеду в Енисейский, пусть ведут сыск!
— Ни мне, ни Якуньке, сыну твоему, этого ну совсем не надо. А тебе самому так и вовсе, — обидчиво поморщился крестник. — Думаешь, Тургенев или воевода поверили тем обидным челобитным? Да ни одному слову! Мы — здешние, а они, временные да опальные, и без твоей подсказки понимают, что ясак им нынче не собрать. Вот и обвинят тебя во всех грехах. А пока идет сыск, их вышлют на другие службы без наказания. Вот и все! — горячась, просипел Ивашка.
Похабов, тупо покряхтывая, метелкой сжал бороду в кулак:
— Что тебе надо от меня, старого?
— Перво-наперво никому не говори и не показывай виду, будто знаешь, что я тебе сказал, — приглушенно прошептал Иван Максимов сын. — Я пошлю с тобой приставами своих людей. Они довезут тебя до устья Илима, а то и до Илимского камня. Оттуда иди к воеводе Бунакову. Он тебя Ртищеву не выдаст. Зимуй там. Остальное мы с Якунькой сами сделаем, и тебя оправдают.
В Братский острог старый Похабов вернулся, спокойный и равнодушный, в сопровождении молодого Перфильева. Посидел на могиле Савины, отстоял молебен, собрал пожитки и приготовился к отплытию. Много лет было отслужено и пережито в здешних местах, но не западали они в душу. И вот теперь связала с ними могила. Кабы Похабов возвращался зимой, то непременно откопал бы тело и увез его в Енисейский острог. Но ждать зимы он не мог — крестник требовал, чтобы плыл немедля.
Тургенев отправлял с ним грамоты и отписки. В охрану и в гребцы дал ему двух енисейских казачьих детей под началом новоприбывшего, верного ему, десятского. Крестник тоскливо поглядывал на крестного и указывал глазами на того десятского, по прозвищу Торопец. Приказчик Тургенев к его приставам добавил своих людей.
Иван не спорил и не горячился: еще раз сходил на могилу, слезно попрощался с Савиной и сел в струг. Понесла его Ангара в свои низовья вместе с желтым листом. Вскоре, словно шум тайги при ветре, послышался Падун. После ночлега Похабов благополучно провел струг через порог. И стал он примечать, что казаки и впрямь ведут себя как приставы: с ним не заговаривают, как обычно, и подчиняются ему с оглядкой на десятского.
На устье Вихоревой реки Иван направил судно к берегу. Десятский стал противиться:
— Шаман бы поскорей пройти!
— Я сказал, к берегу! — строго приказал гребцам Иван. И те покорились. Засопели, отводя глаза. Приткнулись к берегу, где он указал. Вытянули струг на сушу.
— Ночевать здесь будем! — распорядился сын боярский и пошел искать могилу Вихорки Савина.
Он давно не был в этих местах и долго бродил, прежде чем нашел холмик с поникшим черным крестом. Обошел его трижды, перекрестил, опустившись на колени. Краем глаза уловил за спиной мелькнувшую тень.
«Хоть стар, — подумал о себе, — да учен!» Он не подал виду, что заметил следившего за ним десятского. Но если до сих пор сомневался, стоит ли бежать в Илимский острог, тут решил — уйду! Подстрекал бес для науки обойти затаившегося десятского да пугнуть. Но он удержался, перетерпел, помня наказы крестника. Вернулся к табору. Улегся в стороне от костра с коротким мушкетом, с пистолем да с саблей под боком.
Утром в тумане проходили Шаман. И опять сын боярский сидел на корме и громко подавал команды неохотно подчинявшемуся десятскому. За порогом повел струг к острову, указывая спутникам:
— Ночевать здесь будем!
Торопец подчинялся с таким видом, дескать, чудит старик, ну и пусть почудит! Гребцы вышли на берег. На обустроенном стане с ветхим балаганом стали разводить костер. Похабов подхватил карабин и при сабле, с пистолем за кушаком пошел искать могилу Якова Хрипунова. Нашел ее, присел рядом, пробормотал:
— Так-то, кум! Вот и я уже старей тебя. — Опустив голову, пожаловался: — Чует сердце, грядут времена, до которых лучше не доживать!
И вспомнился ему вдруг опальный протопоп. Похабов часто вспоминал его после смерти Савины. Шевельнулся под сердцем соблазн отдаться власти и пострадать за правду. Подумав, он опять пожалел Ивашку Перфильева, которому обещал сбежать, представил себе сына Якова, который непременно чертыхнется, не добром вспомнив старого поперечного отца.
— Пойду, кум, на старости лет скитаться! — сказал вслух. — Сперва к свату Бунакову, а дальше видно будет. Сюда уже не приду, наверное. В другой раз увидимся перед очами Господа. Моли Бога за меня, грешного!
На устье Илима сын боярский опять стал править к берегу. Десятский хмурился, но не перечил. Енисейские молодцы, плутовато поглядывая на Похабова, выскочили на сушу, вытянули нос струга, побежали к лесу за хворостом.
Все вещи, которые хотел взять с собой Иван, с утра были уложены в кожаный мешок с лямками для плеч. Он выбросил его на сушу. Подхватил карабин и на глазах изумленного десятского двинулся по тропе.
— Ты куда? — закричал тот.
— Схожу в Илимский, воеводу проведаю! — буркнул Похабов, не оборачиваясь.
Торопец догнал его в мокрых бахилах с комьями грязи на ступнях. Гулко шлепая ими по галечнику, схватил за рукав. Похабов обернулся с разъяренным лицом, выхватил саблю и приставил клинок к горлу десятского.
— Тебя не учили, как со старшими говорить? — сверкнул глазами.
Десятский отпрянул. Стал звать казаков. Те отзывались из кустарника, но на берег не выходили. А Похабов, сутуля широкие плечи, все дальше удалялся по тропе илимского бечевника. Он знал, стрелять в него приставы не посмеют, а силой вернуть не смогут.
Глава 16
Он неторопливо шагал вдоль берега и часто присаживался для отдыха: спешить было некуда. К вечеру беглый казачий голова заметил, что догоняет промышленных людей. Они тянули вверх по Илиму тяжелогруженый, до самых бортов просевший в воду струг. В это время добрые промышленные ватаги ставили зимовья, готовили в зиму припас, а эти еще только шли к Илимскому волоку.
Ивану не хотелось ни догонять их, ни ночевать рядом с незнакомыми людьми и вступать с ними в разговоры. При низком солнце, когда еще можно было идти, он увидел в стороне от бечевника старый балаган с провалившейся кровлей из бересты, подошел к нему, сбросил на землю мешок, карабин и стал готовиться к ночлегу.
Полезных мыслей в голове не было, за полночь мучила душу всякая нелепица, как роившаяся мошка перед дождем. Уснул он поздно, а проснулся на восходе солнца с тяжестью в груди. Поникшую траву густо выбелил иней, с Илима веяло сыростью и стужей. Похабов не спешил, но на повороте реки все-таки обогнал ватажку, опять маячившую впереди. Известно, пеший ходит вдвое быстрей, чем бурлаки в постромке.
По делам службы сыну боярскому не раз приходилось наведываться в Илимский острог. Но впервые он пришел сюда один, да еще с мешком на плечах. Острог стоял на берегу под горой, на которую уходил мощенный гатью волок. Над стенами и башнями возвышался купол церкви. Колокольня была рублена восьмиугольником, покрыта шатром. По углам острога — четыре башни, одна проезжая, с часовней над воротами. На берегу — пивная варня, солодовня и баня. По другую сторону острожной стены, к горе — дома служилых и пашенных.
Иван перекрестился на распятие, неумело писанное красками на часовне. Ворота после полудня были раскрыты. Седая борода, кафтан, шапка сына боярского, мешок и короткий мушкет привлекли внимание острожных зевак.
— Кого надобно, дед? — удивленно разглядывая его, спросил молодой воротник.
— Воеводу! — коротко ответил Иван и, упреждая расспросы, сам спросил: — Недавно, поди, в остроге, коли меня не знаешь?
— В воеводской должен быть! — ответил воротник, умолчав о службе.
Наметанным глазом Иван высмотрел новую приказную избу с сенями.
Хоть и стояла на дворе осень, возле нее толпилось много народу. К таможенному столу, как водится, была очередь. С промышленных и торговых судов за волок в Купу илимская таможня с целовальником брали по гривенному. С хлебного припаса, если он был больше пятнадцати пудов ржи на человека, отсыпали десятину в казенный амбар.
Таможенный голова оказался старым знакомцем Ивана. Будучи занят неотложными делами, удивленно уставился на него, обвешанного оружием. Похабов спросил воеводу. Таможенник указал глазами в сторону и снова опустил нос к бумагам.
Воеводское место в избе было огорожено решеткой. За судным и кабальным столами никого не было. Не было и воеводы. Иван прошел на государев двор, где тот жил. Промеж горниц были темные сени с крыльцом. Без шапки, щурясь ласковому осеннему солнцу, на нем сидел Петр Бунаков и будто прощался с летом.
— Похаба, что ли? — поднялся навстречу, тоскливо замигал, ликуясь со щеки на щеку: — Однако мы с тобой не помолодели!
— Ну, здравствуй, сват! — Иван сбросил с плеча мешок. Приставил к стене карабин.
Бунаков кликнул дворового. Как из-под земли выскочил стриженый мужик остяцкой породы с кедровым крестом на груди. Весело взглянул на сына боярского.
— Принимай гостя!
— Заходи ус! — прошепелявил дворовый, подхватывая мешок и мушкет. — Коли в мыльню желаешь, то там вода теплая, — приветливо засюсюкал. — Сказу, стобы пустили. Если в баню — велю затопить!
— Лишь бы поскорей грязь смыть! — буркнул Похабов и, заметив на себе туманный взгляд воеводы, добавил: — Неделю в пути.
Мыльня была поставлена на ряжах здесь же, возле угловой башни. Из задних сеней к ней был переход.
Вечером, при свете жировиков, душно вонявших рыбой, старая жена Бунакова все спрашивала о дочери. После второй чарки он стал степенно рассказывать о казачьих и улусных бунтах, о выходе балаганцев из степи, о том, что замыслили против него новый приказчик с енисейским воеводой.
Старый казак Бунаков только крякал, мел бородой по столешнице да поругивался:
— Если вести сыск по правде, то с Васьки Колесникова надо начинать, а то и с ваших с красноярами распрей! О том всякий тунгус может сказать. А спрашивают с нас!
Потом воевода долго молчал, лениво пожевывая груздочки с брусникой, вздыхал и охал.
— Крученое твое дело! — признался. — Хоть енисейский воевода мне не указ и в опале у царя, а все же — Ртищев. Ворон ворону глаз не выклюет. С ними спорить — себе дороже. А правды не докажешь.
Сват снова замолчал, и Похабов понял, что тот побаивается.
— Выдать я тебя не выдам! — пообещал Бунаков, не поднимая глаз. — Но и у себя в остроге долго скрывать не смогу. Когда еще правда победит. Ветхозаветный Яков у Бога был в любимцах, а сколько мук претерпел от родни и в Египте? — вскинул тусклые, виноватые глаза. — Нам промысел Божий не понять.
Ивану Похабову стало неловко в чужой избе: никогда прежде и никому он не был обузой. «Вот она, старость лихого человека, — подумал. — Мало жизнь прожить, надо еще и претерпеть ее до конца».
— Старые служилые, у кого сыны в службу не поверстаны, на землю садятся, деревеньками обзаводятся. Но тебе одному куда? Зимуй, прокормлю, — неуверенно объявил старый товарищ. — А там видно будет!
Иван хорошо понимал свата. Доведись ему самому укрывать опального, тоже думал бы, чем это может обернуться.
— И на том спаси, Господи! — поблагодарил со вздохом. Пробормотал с усмешкой: — В Дауры, что ли, податься?
— То и дело бегают! — с горячностью отозвался воевода, будто тайком поддерживал его помыслы. — Иных беглецов вешаем и порем, других прощаем. А они, проклятущие, народ рассказами смущают.
Уронив голову на руки, Похабов горько рассмеялся.
— Ты чего? — вскинул удивленные глаза воевода.
— Старые промышленные, кого ловил на воровском тесе, ужо встретят меня в Даурах. Со смеху, поди, в штаны наложат! Прости, Господи! — размашисто перекрестился, косясь на образа.
— Всякое бывает! — вкрадчиво заметил Бунаков. И в словах свата Иван почувствовал желание поскорей спровадить гостя.
— Ладно! Бог не оставит! — зевнул. — Знаю, в тягость я тебе, а все равно не бросишь в нужде. За неделю-другую осмотрюсь, решу, где укрыться, чем кормиться. — Вздохнул всей грудью: — Совсем мало нас, старых, осталось. Иные к Господу отошли, другие, калеки, на пашне доживают. Эх! Как вспомню Петра Бекетова, так душа кровью обливается. За что Господь покарал такой кончиной? Слыхал, поди? — взглянул на воеводу.
Бунаков выпучил глаза на гостя:
— Какую кончину? Свят. Свят… — торопливо закрестился. — Утром был у меня, хворый, кручинный, но живой. Воевода Ртищев вытребовал его из Якутского для сыска.
— Петруху? — теперь выпучил глаза Похабов. — Нынче утром живой был? — затряс головой, смахивая с глаз хмель и сон. — Ничего не пойму! Битый Пашковым протопоп слезно каялся, что сам загубил его в Тобольском, сам отпел и похоронил. Для чего на себя наговаривал такое?
— В посаде у пашенного живет, — пожал плечами Бунаков. — С утра собирался плыть в Енисейский.
Утром до молитв и завтрака Иван Похабов вышел из воеводской избы. Возле гостиного двора были устроены лавки купцов, да так тесно, что между ними и двоим не разойтись. Несмотря на раннее утро, здесь уже толпились торговые и промышленные люди. Судя по шапкам, в большинстве были устюжане.
Острый глаз сына боярского цепко высмотрел среди них старого сибирского промышленного в ичигах, в кожаных штанах да в такой же рубахе, шитой по-тунгусски. Иван пригляделся к нему со спины, подумал, что человек этот сильно похож на Илейку Ермолина, только плечи не так прямы и спина просевшая. Из любопытства подошел к нему, взглянул сбоку и удивленно вскрикнул:
— Илейка или че ли?
Тот пугливо обернулся. Его лицо было густо иссечено глубокими морщинами, вытесанными долгой жизнью без крова. Илейка глянул на сына боярского, и крупные, как горох, слезы покатились по редкой бороде. Потискав Похабова сильными еще руками, он отстранился. С двух сторон от них уже стояли устюжане и терпеливо ждали, когда нечаянно встретившиеся старики освободят проход.
— После найдешь меня! — отмахнулся от расспросов Иван. — Боюсь Бекетова упустить.
Над рекой курился, перекатывался клубами туман. Из-за горы поднималось солнце. По волоку, кто гужом, кто бечевой, промышленные и торговые с криками тянули свои струги. На Илиме возле судов тоже толклись люди. Бекетова Иван узнал издали. Его струг явно готовился к отплытию: двое казаков укладывали мешки, старый сын боярский надзирал за ними с суши.
— Живой? Петруха? — запыхавшись, Иван сгреб товарища в объятья. — А я уж, грешный, другую зиму поминаю тебя среди упокоившихся.
— Что так? — отстраняясь, спросил Петр Иванович. Волосы и усы его были белей снега. Когда-то сиявшие белизной глаза подернулись старческой розовой паутинкой усталости.
При нем были два знакомых енисейских казака, уходивших с головой за море. Увидев сына боярского, они вышли на берег, поклонились.
— Все перебиты или померли от голоду! — опустил погасшие глаза Бекетов. — Не сильно ты ошибся. А я, к своему несчастью, жив. И они, — кивнул на казаков. — Все, что осталось от полка. Воевода зовет. Грозит за утрату казенного добра с пеней взыскать в Енисейском с семьи. В моем окладе который год уже бывший таможенный подьячий… А на Тугирском волоке обокрали меня до нитки. — Бекетов обидчиво поджал губы под белыми усами, равнодушно взглянул на слезы, висевшие в бороде товарища. — Жив! Прогневил Господа, а чем, не пойму. Завидую теперь павшим в бою!
Задерживая намеченное отплытие, все четверо присели на берегу, у воды. Похабов только тут увидел топтавшегося возле них Илейку. Кивнул ему, чтобы садился рядом, пока он наговорится с товарищем.
— Слыхал от Пашкова, что ты в Дауры ходил! — пробормотал, не зная, как обнадежить Бекетова. — Я ведь тоже в бегах. Ртищев велел явиться на сыск. Крестник уговорил скрыться. Енисейцы сказывают, Максим Перфильев с Иваном Галкиным маются старыми ранами, молят Господа прибрать их души. За что про что нам всем так?
Глаза Бекетова прояснились. Он торопливо заговорил о том, что было на уме:
— И Ваську Колесникова за Байкалом, на Прорве-реке, его же енисейские служилые ограбили, побили, со всей казной бежали в Дауры. А мои оголодали на Селенге. Верхоленцы ушли самовольно, потом охочие люди. Мои казаки, двадцать семь сабель, собрали круг, тоже решили идти, спасаясь от голода. Приплыли плотами к десятскому Онуфрию Степанову, в хабаровское войско. Тот сам голодает и непрестанно воюет. И велел он мне, казачьему голове, быть у него по словесному челобитью до государева указа. Под знамя меня выводил, грозил побить, а назад не пускал. Воевал я с богдойцами за один прокорм. А как смог вернуться на Тугирский волок, там обокрали меня мной же нанятые ярыжники. Я им еще двадцать рублей за работу дал.
Бекетов по-старчески занудно стал перечислять меха, шубы, шелка — все, что у него украли. Илейка, слушая, сопел все громче и громче. Не выдержав, ахнул:
— Вот так за прокорм воевал! Ни на Лене, ни на Ангаре, на погромах сроду столько не брали. И дворянин Зиновьев ехал на Амур для сыска над Хабаровым с двумя стругами, через два месяца возвращался с пятью.
Бекетов неприязненно взглянул на старого промышленного, ничего не ответил. Поднялся.
— Однако пора! — обернулся к Ивану: — Теперь уж, поди, только перед Господом увидимся! Прощай, что ли, брат!
— И эта встреча чудо! — всхлипнул Иван. Обнял товарища. — Кто первый перед Ним предстанет — тот и молись за нашу старость!
Поплыл струг, взмахивая веслами, как птица крыльями. Постояв, Похабов обернулся к Илейке.
— А я слыхал, ты с Васькой поверстался в казаки по Верхоленскому острогу? — спросил, оглядывая давнего знакомца. — Хохотал, помню, до упаду! — признался с грустной улыбкой.
— Служил в казаках, — нахмурив лоб, признался Илейка. — Последние годы при Якутском остроге.
Скинул Похабов шапку, перекрестился на восход солнца, вспоминая друзей-товарищей.
— Все хотели быть в первых, — озлился вдруг Илейка. — Я этот самый волок открыл. Кто помнит о том? Разве Господь? — Он тоже перекрестился и знакомо засопел: — Однако такая встреча! Надо бы выпить.
Иван мог попросить вина у воеводы, но вернулся на гостиный двор, к лавкам, выбрал новый, толстого сукна зипун, примерил его и спросил сидельца, сколько даст в обмен на его дорогой кафтан.
Сиделец долго рядился, жаловался, что зипуны в спросе, а покупатель на кафтан еще невесть когда найдется, между тем прощупал все швы. Сторговались они на рубле с двугривенным в продажную и покупную пошлины.
— В кабак не пойдем, однако! — опасливо остановил Похабова Илейка.
— Драться будешь? — усмехнулся Иван.
— Давно уж пьяный не дерусь, — оправдался Илейка. — Нынче, как выпью чарочку, так плачу. — Засопел, воротя нос, и оправдался: — Там, в кабаке, подсядут всякие знакомые, ни выпить, ни поговорить не дадут.
— И то правда! — согласился Иван.
— Я тебя вон там подожду, — Илейка указал на берег с нависшим над водой кустарником. — Костерок разведу. Посидим возле дымка, подальше от чужих глаз.
С седой бородой, в грубом зипуне нараспашку, в красной шапке, с золотыми бляхами шебалташа поверх шелкового кушака, Похабов обращал на себя взоры здешних проходных людей. Изредка он встречался со знакомыми. Те кивали и кланялись ему с почтением, с недоумением глядели на зипун.
Половой, узнав бывшего братского приказчика, казачьего голову, против указа воеводы налил ему в кувшин кружку хлебного вина на вынос.
Илейка терпеливо ждал возле небольшого костерка. Его узловатые, натруженные пальцы рук сжимались и разжимались. Он взглянул на Похабова тоскливым и пристальным взглядом пропойцы, повеселел, увидев кувшин, достал из-за пазухи чарку, искусно вырезанную из березового капа.
— Во славу Божью! — перекрестился на церковную маковку, возвышавшуюся над острожной стеной. Выпил не поперхнувшись, благостно помолчал и снова заговорил: — Как расстался с братаном, так все думаю, кто кого предал и бросил? — И опять озлился вдруг, бросая тоскливые взгляды на кувшин. — Кости болят, ночами не спится, мерзну зимой и летом, прежней силы нет!
— Старость не радость! — степенно согласился Иван. — Сказывают, у покойников ничего не болит и не мерзнут они. Только говорят все послухи. Хоть бы одного Лазаря послушать.
Илейка уставился на него туповатыми глазами и захохотал, придвигая чарку. После другой, за помин душ товарищей, спросил, пошмыгивая носом:
— Ты-то как жил? Тогда еще ходил в сынах боярских да в атаманах.
Иван помолчал, пригладил пальцами седую бороду.
— В воеводы не вышел, а казачьим головой служил. — И развязался хмельной язык, запросила выговориться душа, рассказал о построенных острогах, о кончине невенчанной жены, о брате, не умолчал и о том, что нынче, без вины, в бегах.
В глазах Илейки затеплилось понимание. За свою долгую и многотрудную жизнь кое-какой умишко нажил и он.
— Долгонько будешь правду искать! — с сочувствием покачал головой на крепкой еще, бурой, как кора, шее. Подбросил хвороста в костер. — Много промышленных зарекались тебя убить, да и я, по грехам, то злился, то каялся. Всякое было. Служил ты воеводам, как пес. Иному казаку, бывало, покажешь пару соболей и иди на все четыре стороны. Ты же всю десятину возьмешь, да еще лучшей рухлядью, все животы перевернешь, с лишнего пудика ржи и то отсыплешь. Но чтобы ради корысти, против закона — такого на тебя никто не скажет.
Что о том? — встрепенулся вдруг. — Я и сам служил, то и другое пережил. — Илейка хлюпнул носом и сказал трезвеющим голосом: — Знаю, ты не предашь, хоть бы и себе в оправдание! Скажу тайное. Я тоже в бегах. В ватажке у меня все старые сибирцы и один, как я, беглый казак. Заявились мы промышлять соболя возле Верхоленского острога. И будем там промышлять зиму, а потом уйдем в Дауры, другим путем, где нет застав.
— Слышал ведь от Петрухи — война там! — шевельнул плечами Похабов.
— Ну и пусть! Нам война в обычай. Зато хлеба наедимся. Даст Бог, чего-нибудь добудем на старость. А помрем на Великом Тёсе — знать, судьба! Наши кости, крест или холмик станут затесью на великом пути в Ирию. Вдруг и сами дойдем! — восторженно прошептал, молодея лицом.
Удивленно, в оба глаза глядел на него Похабов. Илейка был ему ровесник. Но Животворящий Дух, покинувший его, Ивана, все еще переполнял старого бродягу.
Похабов, покачивая головой, вспоминал, как, сам исполненный этого Духа, бросался в сечу с рейтарами под стенами Кремля без всякой надежды выйти из боя живым. Как голодал в войне со шведами под Новгородом и ждал казни в застенках Троицкого монастыря. Бывало страшно, но будущая жизнь влекла, а Господь обнадеживал. И вдруг все пропало. И встала впереди только тьма.
— Однако! — пробормотал. — Завидую тебе. Еще чего-то хочешь. А я, видать, исполнил, что было назначено Господом. Лежать бы на печи, молиться о кончине безболезненной и непостыдной, гроб да крест себе тесать, как делают пашенные старики. Не судьба! — вздохнул кручинно. — Исполнить-то свое исполнил, а что Бог смерть не пошлет, не пойму. Ходит где-то рядом, холера, и не берет. Правильно Петруха сказал: по грехам не принял Господь наши души в бою. — И вскинул пытливые глаза на Илейку: — Вот ты видел беспечальным ну хоть одного старика из старых казаков или из промышленных?
— Счастливые, кто дошел до Ирии или на пути помер! — с уверенностью отвечал Ермолин. — Я из Якутского бежал, хотел выйти на Амур Олекмой. А там, на устье, застава на заставе. Пошел на Киренгу. Возле Никольского погоста, где с братом зимовье срубили, нынче скит черного попа Ермогена. При нем с десяток убогих, кто не дошел и не помер. Хотел причаститься, да на исповеди себе в оправдание говорил: ладно я, раб Божий Илейка, вор, убивец, клятвопреступник, вас-то за что Бог не милует? А он, Ермоген, мне говорил, дескать, сказано Спасителем — кабы вы были от мира сего, сей мир бы вас любил. Но вы не от мира сего, и сей мир любить вас не может.
С тех пор все думаю, зачем он мне так сказал? — На бесхитростном лице Илейки плутовато блеснули глаза. — А как дойдем?.. Тебе и помирать расхочется!
— Никак ты зовешь меня бежать на Амур? — с любопытством уставился Иван на своего старого знакомца, с которым за всю прежнюю жизнь не говорил столько, сколько за двумя чарками.
Илейка долго пучил глаза на старого беглого сына боярского, потом откинулся на спину и захохотал. Рассмеялся и сам Похабов. Старики, не сговариваясь, залили костер, с ополовиненным кувшином пошли к промышленному стану.
Илейкина ватажка была ни велика и ни мала: шесть промышленных да он сам. Передовщик — вологжанин с бельмом на глазу, опасливо взглянул здоровым глазом на гостя. Двое прикрыли лица конской сеткой, хотя гнус не лютовал.
К осени народу возле острога собралось множество. Все спешили. На волок выходили по очереди. Захмелевший Илейка стал нахваливать своим спутникам Ивана и обещал дать за него поруку. Промышленные помалкивали, оглядывая старого служилого.
Ночевал Похабов у воеводы и поделился с ним соблазном уйти на промыслы в верховья Лены. Сват его поддержал:
— К Покрову придут посыльные из Енисейского, будут пытать, где ты. Скажу, на промыслах. Могу отправить тебя в Верхоленский острог с грамотками. Быстрей доберешься. Завтра же твою ватажку пустят на волок без очереди и досмотра.
Последняя мысль Петру Бунакову очень понравилась. Едва Похабов дал согласие, он поднял среди ночи писчика и велел ему делать списки с грамот, присланных из Тобольского города. Уже то, что он так спешил избавиться от опального свояка, вынуждало Похабова покинуть Илимский острог.
На другой день утром он пришел к бездельничавшей ватажке с дворовыми людьми воеводы. Сам нес только мушкет да грамоты с печатями. Дворовые тащили на себе мешки со снедью и пожитками.
— Иду с вами до Верхоленского, посыльным от илимского воеводы, — показал ватажным грамоты. — А потому собирайте животы, идем на волок без очереди и без досмотра.
Скучавшие люди радостно закрестились. Удача для них была явной. Не протрезвевший еще Илейка снова стал похваляться и куражиться, ударил себя в грудь мосластым кулаком:
— Я здесь был первым! Меня на волоке все почитать должны!
Ватажка вышла на Лену, когда по ее берегам уже намерзли ледовые забереги, а по воде то и дело плыли одинокие льдины. Крутые, часто скалистые горы сжимали русло реки. В одних местах они напоминали байкальские кручи, в других распадались просторными лугами.
Возле Верхоленского острога передовщик стал ругать тамошних казаков. Река здесь была узкой, обойти острог или проскользнуть мимо него незамеченным не было никакой возможности. Лед заберега в иных местах намерз до семи шагов. Струг все чаще приходилось проталкивать шестами.
Ватага проходила мимо заставы ранним утром. Напротив острожка уже стояли казаки и поджидали их судно. Служилые были незнакомы Похабову. Илейка же прятал от них свое лицо и сторонился встреч.
Иван показал казакам грамоты илимского воеводы и, пока те осматривали струг, с уверенностью человека, привыкшего повелевать, пошел к приказному. При встрече с ним он нимало удивился, увидев в кафтане и шапке сына боярского братского мужика. Приглядевшись, узнал заматеревшего Куржумова сына, новокреста — Василия Ларионова. Тот и в молодости больше походил на Бояркана, чем на отца, теперь еще больше стал похож на своего дядю.
— Слыхал о тебе от Бекетова! — польстил ему Иван. — Сказывал, что с тобой на Амуре служил!
Куржумов сын, щуря узкий глаз, с непомерной важностью взглянул на старого сына боярского, неспешно и строго осмотрел печати, принял грамоты воеводы. Чисто, но гортанно ответил:
— С Петром Ивановичем бились мы против богдойцев явно и не один раз. И выходили с Амура вместе. Только я в Москву, к царю! — как Бояркан в молодости, подрагивая тучными гладкими щеками, он повел плоским носом в одну сторону, в другую, указывая гостю высоту своих заслуг и нынешней должности. — А Петр Иванович — скрылся в Якутский острог! — дрогнули в ухмылке полные губы.
Поглядывая на приказного, Похабов не стал напоминать, что когда-то сопровождал его на Тутуру, знал отца и дядю. Подумал: «В почесть ли новокресту родство с ними?» Что-то в широком Васькином лице сильно отличало его от братских мужиков. Уже спускаясь к реке, к ожидавшим промышленным, Иван понял что: настороженная, плутоватая ухмылка на полных губах, под редкими усами и подвижные, бегающие глаза.
Ссылаясь на заморозки, ватага не пожелала задерживаться при остроге. Служилые предупредили, что в улусах неспокойно, что этим летом браты отбили у них и угнали табун казенных коней. За малолюдством казаки не устроили погоню.
Верхоленские улусы и прежде были немирными. Нынче же, когда мунгалы караванами везли в братскую степь товары и зазывали братов в подданство к своим царевичам, острог жил в постоянной опасности нападений.
Дальше двигались, отталкивая густо плывшие льдины и поколачивая забережный лед. Когда река встала, передовщик с товарищем ушли в братский улус мятежного, немирного рода. Как оказалось, больше половины людей из ватаги и сам он промышляли в этих местах уже несколько лет. Похабов и пятеро его спутников разбили табор, стали ждать, когда окрепнет лед.
Вскоре к стану подъехали братские всадники. Они весело приветствовали промышленных, без всякой неприязни дали им коней. Только здесь Иван с Илейкой узнали, что у передовщика и его верных спутников неподалеку отсюда было зимовье, которое никто не сжег, хотя при нем остался на лето один старик. Ватага, пополненная беглыми казаками, привезла рожь, соль, крупу и конопляное масло. Передовщик платил здешним братам ясак соболями и жил среди них безбоязненно. Узнав об этом, Иван долго хмыкал и грустно посмеивался:
— Вот ведь как Бог завязал? Всю жизнь ясак брал, теперь плачу!
Старик, живший в просторном зимовье, был намного старше и дряхлей Ивана с Илейкой. Все, что ему было по силам, — это поддерживать огонь в печи и варить кашу. Этим он и занимался. Промышленные, добравшись до обжитых мест, отдохнули, отмылись и стали готовить припас в зиму. Иван с Илейкой взялись таскать и колоть дрова.
В хлопотах дней и долгими вечерами старому Похабову пуще прежнего стало казаться, что нынешняя его жизнь всего лишь тягостный сон. Занимаясь каким-то пустячным делом, он иногда будто просыпался, сам себе удивлялся и снова упокоивался в своем живом еще теле. «Не умрешь — не родишься!» — то и дело бормотал запавшие на ум слова Герасима. Его прежняя воинская жизнь отсыхала, отпадала как старая шерсть и забывалась. В другой, смутно и неприязненно чудившейся ему жизни не представлялось ни служб, ни войн, ни тайных троп в неведомые земли.
На Евдокию, когда закончились промыслы, Похабов узнал, что ватага добыла соболей мало. Но это нисколько не опечалило его. Староватажные оставили в зимовье беглых казаков со стариком и снова уплыли за съестным припасом. Похабову на четверть пая положили семнадцать непоротых, немятых соболей и три лисы. К осени вернулся передовщик со спутниками, привез рожь, крупы и соль. Еще одну зиму ватага промышляла на том же месте.
Весной за добытое на промыслах передовщик купил у братов коней. В этих местах они ценились намного дороже, чем в степи или у окинцев. Купить своего коня Иван не смог, рухляди не хватило. Передовщик же купил трех и предлагал поменять любого из них на его винтовой мушкет.
Бывший казачий голова всю прежнюю жизнь почитал оружие за святыню, покупал, но никогда не продавал его из боязни, что проданное, как преданное, оно обязательно отмстит прежнему хозяину. И как ни торговался передовщик, как ни уговаривал беглого сына боярского, тот не захотел расставаться с мушкетом, пистолем и саблей.
— Даст Бог кончину — возьмешь из мертвых рук даром! — отвечал, равнодушно разглядывая бельмо в глазу.
Едва оттаяли солнечные поляны, промышленные заспешили со сборами, чтобы успеть переправиться через Ангару по льду. Старик не пожелал уходить из этих мест. Промышлявшие с ним связчики переговорили между собой и решили не неволить его. Полагаясь на Господа, простились и оставили старика в зимовье с припасом ржи.
Соблазн остаться здесь на миг охватил Похабова. Подумав, он понял, кто нашептывает о покое. Втайне это было желание запоститься голодом до смерти, а значит, погрешить перед Господом, помогавшим в прежней жизни.
Промышленные люди на лошадях выбрались из тайги. Лес расступился широкой долиной, с двух сторон окаймленной невысокими склонами с лесом по краю. Четыре дня путники то шли по ней, держась за подпруги, то сидели на конских спинах среди мешков. Наконец ватага стала подходить к местам, знакомым Ивану Похабову. Вдали засеребрилось покрытое льдом русло Ангары. Старый сын боярский, дремавший в седле, встрепенулся. Впервые после похорон Савины что-то смутно затомилось в его душе и обнадежило, словно весенним ветерком пахнул на него отнятый Животворящий Дух.
В виду реки передовщик открылся беглым казакам, что собирается идти к Байкалу Иркутом, и начал путано рассказывать, как ходят туда.
— Нельзя там переправляться! — стряхивая сонный морок с глаз, сказал Иван. — Казаки из острожка увидят. А Иркут в низовьях сильно извилист. Я знаю прямой путь.
Сказав так, он повернул коня вдоль берега, принимая на себя бремя власти. Ватажка послушно потянулась за ним. А бывший казачий голова вдруг почувствовал себя вором в родном доме. Сердце, бившееся ровно и безучастно, стало волноваться и покалывать.
Оглядываясь на холмы, между которых вытекал на равнину Иркут, Иван спустился к берегу Ангары, велел готовиться к переправе. Сам спешился. Выстукивая лед посохом, первым пересек реку, помахал спутникам, чтобы те шли по его следу.
Все переправились с лошадьми. Передовщик недоверчиво таращил бельмо на старого сына боярского, но не перечил, взглядом спрашивая, что дальше. Похабов приказал становиться на ночлег.
Горел костер. Стреноженные кони всхрапывали и выискивали свежую зелень в сухой траве, промышленные пекли рыбу на рожнах. Илейка, покряхтывая, устраивал балаган. А небо хмурилось, ночью мог пойти снег.
— Теперь нам погода нестрашна! — ежась от сырости, ворчал Похабов и оглядывал примолкших спутников. — Уберег бы Бог от встречи с казаками… А здешние места я знаю. К Байкалу ходил не раз.
— Я и дальше ходил! — вперился в него передовщик лешачьим глазом. — Но Ангарой и Ламой, вдоль берега.
Похабов не стал рассказывать о своих хождениях за море, иовел взглядом на низкое небо. В сумерках вечера поблескивали снежинки. Промышленные жались к костру. Старый сын боярский накинул на плечи шубный кафтан, вывернутый мехом наружу, стал сушить старый зипун. Покашливая от едкого дыма, пробормотал при общем недоверчивом молчании:
— Вы вот что! Завтра сделайте-ка дневку, а я съезжу в скит, все высмотрю и узнаю. — Не дождавшись ни согласия, ни осуждения, добавил: — Из ружей не стреляйте, казаки услышат. Дымных костров не жгите.
Утром он поднялся раньше всех, раздул огонь, оседлал коня. Оставив на стане карабин, с пистолем за кушаком, с саблей на боку переправился в обратную сторону, на правый берег Ангары. Едва он отъехал к реке, молодой промышленный боязливо спросил передовщика:
— Не донесет?
Тот кивнул на Илейку Ермолина. Старик, услышав сказанное, распрямил широкую спину, сипло посмеялся:
— На кого доносить? С вас-то что взять? Разве коней! А нас, — указал глазами на беглого товарища, — и самого Похабу на цепь — да в Енисейский, под кнуты. Потому, что нагрешили! — заявил с важностью, нахмурил бровь и стал обыденно ворчать, поучая молодых: — Все выгод ищете. Прежде народ другой был. Бывало, сперва старику поклонятся, потом попу. Старых промышленных про тайный тёс воеводы как ни пытали, молчали или несли какую-нибудь нелепицу. За честь почитали не только под кнуты лечь, души положить за други своя.
Землянок в скиту прибыло. Вокруг часовни торчали из земли их покрытые дерном крыши. Все строения были обнесены пряслами. А на карауле не было ни души, видно, скитники во всем полагались на Господа.
«Молятся!» — подумал Иван и привязал коня к пряслам. Крестясь и кланяясь, потянул на себя тесовую дверь часовни. В лицо ударил теплый дух постного масла, смолы, спертый запах человеческих тел.
Герасим в скуфье подслеповато жался к оконцу, совершал «От Матфея чтение». На вошедшего никто не обернулся. Похабов встал у двери и наравне со всеми начал отбивать поклоны. Это была непомерно долгая, по какому-то празднику, литургия на антиминсе.
Через час старый Похабов уже нетерпеливо переступал с ноги на ногу, сердился и подумывал тихонько уйти. Герасим на виду у всех стал творить то, что попы делают при закрытом алтаре. Он поднял руки, и Иван почувствовал вдруг, как сквозь тесовую крышу на него и на всех теснящихся в часовенке сошел Дух. Похабов впервые ощутил его так близко, недоверчиво мотнул головой и удивленно уставился на Герасима. Радостно входил в грудь, искрился показавшийся сперва спертым воздух. Молившиеся калеки преобразились в молодых и красивых. Пропала привычная тяжесть в теле и сонливость в голове.
Окончание литургии, причастие и благодарственные молитвы радостно и незаметно промелькнули перед глазами беглого сына боярского как счастливый юношеский сон. Наваждение прошло. Люди радостно оживились, прикладываясь к иконам. Герасим бережливо защипнул горевшие лампадки, оставив только одну.
— Не узнал, батюшка? — протиснулся к нему Иван.
— Теперь узнал! — приветливо ответил монах, как будто они расстались вчера.
— Опять прохожу мимо! Недалеко отсюда, — стал оправдываться Иван. — Так и не срубил я тебе город.
— Садись, что ли! — скитник кивнул в угол, на лавку. — Теперь я здесь ночую.
Похабов прокашлялся:
— Вижу, жив-здоров, ну и ладно! Еду, думаю, как не завернуть. Давно не виделись. — И вдруг спросил, удивленно таращась на монаха: — А что это было?
— Господь был среди нас! — как об обыденном, ответил Герасим и добавил: — Как всегда при таинстве причастия.
Похабов покачал головой, почесал затылок, проворчал:
— Вот ведь. Никогда так не пробирало. В Тобольском в Софии причащался… в Москве.
— Это когда же ты частокол на острове поставил? — спросил Герасим, не желая говорить о том, что потрясло старого сына боярского.
— Да лет уж семь тому, больше!
— Вот ведь как время летит! — монах вздохнул с легкой печалью.
— А я нынче в опале, — стал рассказывать о себе Иван. — Бегу в Дауры! Свидимся еще — нет ли, не знаю! Все вспоминаю наши разговоры в Москве, в Троицком монастыре. Наставлял ты меня с Ермогеном служить. Двум царям служил верой и правдой, хоть и поругивал их. Ни чином, ни должностью не был обижен. Сын дальше пойдет — умен! А мне, видать, пришло время пострадать.
— Это уже как Господь решит! — мягко и уклончиво подсказал Герасим. — Он дает страданий по силам. В Даурах — тоже служба! — обронил, будто исподволь благословил.
— А еще думал всю эту зиму и прошлую, не сделать ли вклад в скит, не остаться ли с тобой до кончины. Но нет в душе призвания, пусто в ней, как в лабазе весной, а без призвания как?
— Это ты правильно сказал! — рассеянно согласился Герасим, думая о чем-то своем. — Бог призовет — придешь!.. Давеча я молился-молился да и задремал на коленях у креста. И явился во сне Господь, обернутый в плащаницу. Самого не разглядел. Не посмел поднять глаз. Любовь от Него идет, как свет, как тепло от печи. Куда там свет, — поморщился, — пуще во сто крат. И слышу: «Скоро уже! Острог поставят, а там и город!» Я ему, в слезах: «Благодарю Тя, Господи! Не зря жизнь прожил!» — Монах всхлипнул, часто замигал, смаргивая ресницами счастливые слезы. — А Он мне: «Герасим! Тебе в тот город надо душу вложить — монастырь построить!»
Очнулся я. Испугался. Сколько ни слал поклоны, челобитные воеводам да сибирскому владыке — не было ответа. Острога и того не построено — твое зимовье только. Думаю, сколько же нам жить-то надо, чтобы и монастырь, и город увидеть? Сто лет, что ли?
— Инок Тимофей не дожил. Однако случилось, как пророчил: на месте его кельи нынче Спасский монастырь. — Иван перекрестился, вспомнив первого енисейского молельника.
— Нам надо дожить! — вздохнул Герасим и поднял на Ивана лучистые глаза. — А ты, никак, помирать собрался? — спросил с насмешкой.
— Да, пора бы! — пожал плечами Похабов. — Я еще при царе Борисе родился. Что попусту воздух портить да хлеб переводить? Отверг Бог от лица своего по грехам моим, Святого Духа отнял.
— Когда придет твоя пора — Господь сам решит! — резко осудил монах тайные помыслы старого служилого как нелепые. — И Дух прав обновит в утробе!
— Так ты благословишь идти в Дауры? — вкрадчиво спросил Иван.
— Ступай куда знаешь! — досадливо поморщился Герасим. — Все одно придешь, куда Господь приведет! — И добавил с укоризной, разминая пальцы изработанных рук: — Всю жизнь от меня бегаешь, как юнец от могилы. А тут, может быть, вся твоя подлинная слава и явилась бы!
Не облегчил душу Герасим, как хотелось Ивану, не стал зазывать беглого в скит, только укрепил его в решении идти на Амур. Больше идти все равно некуда. И возвращался Похабов со спокойной радостью в груди. Удивленно хмыкал в бороду, снова и снова вспоминая то, что нечаянно восчувствовал в скиту. В сумерках опять засеребрились в воздухе снежинки, да так празднично, как кружили только в молодости.
Добравшись до стана, он объявил, что утром можно отправляться к Иркуту стороной от казачьего зимовья. Служилые там если и ждут промышленные ватажки, то с реки, нартами.
Уснул он поздно. Долго лежал под шубным кафтаном, глядел в небо, прислушивался к треску костра и чему-то все улыбался, лелея в душе нечаянную радость. Утром, к удивленью своему, он почувствовал себя отдохнувшим: спина и суставы ныли, но голова была свежа. «Не иначе как Герасим благословил!» — подумал с благодарностью.
После завтрака и молитв он нагрузил коня, взял его в повод и повел припорошенными полянами напрямик к видневшимся холмам. Конек шумно втягивал воздух чуткими ноздрями, с опасливым всхрапыванием проваливался сквозь наст в просевшие сугробы. На вытаявших полянах с хрустом хватал на ходу прошлогоднюю смерзшуюся траву. На солнцепеках под ней уже набирала силу сочная зелень.
Скрываясь за деревьями, ватажные вышли к долине Иркута. Свежих следов людей и скота не было. Горы все тесней сжимали падь притока. По его берегу тянулась широкая тропа. По сторонам белели старые скотские кости.
Ватага ночевала. Осторожно, крадучись, шли люди, опасались встреч с братами, мунгалами, казаками. С каждым часом оживала река, местами бурная вода подступала к тропе. И в самом узком месте, где она проходила у воды и под скалистым склоном, промышленные столкнулись с четырьмя казаками. Служилые оказались на открытом, незащищенном месте. Но разъехаться с ними можно было, только мирно договорившись.
— Пропусти! — приказал Похабов передовщику и указал рукой на крутой склон, покрытый лесом. — В гору за нами не полезут!.. Если не дураки!
Где на четвереньках, где цепляясь за деревья, промышленные и беглые с лошадьми стали карабкаться на крутой склон. Поднялись они саженей на десять. Дальше лошади не шли.
Казаков ничуть не испугало, что воровская ватажка заняла высоту. Они положили на бок своих лошадей, выставили из-за их хребтов стволы мушкетов и готовы были принять бой, а проходить мимо не желали.
Похабов чертыхнулся, щурясь, высмотрел атамана и узнал сына Якуньку. Похоже, сам бес устроил эту встречу. Отчего Герасим не предупредил, что тот на Дьячьем или в култуке?
Опоясанный саблей, упершись руками в бока, Яков стоял поперек тропы. На его голове лихо сидела сбитая на ухо шапка сына боярского, с запястья левой руки свисала плеть: ни дать ни взять — Ивашка Похабов лет тридцать назад.
Старый казак хмыкнул в бороду: «Вот оно, наказанье Божье!» Сколько раз так же сам стоял поперек тайных троп, останавливая промышленных.
— Идти надо! — проворчал, обернувшись к кривому передовщику. — Договариваться! — Бросил ему карабин.
— Посули десяток соболей! — опасливо просипел тот. — Если коней потребуют — одного дадим.
Тяжелым, медвежьим шагом Иван спустился со склона, двинулся к Якову. У того руки опускались, глаза выпучивались, он разинул рот как юнец и вскрикнул:
— Тятька? Ты это? Или нечистый? — Размашисто перекрестился.
— Я это, живой! — Иван тоже, напоказ, перекрестился, подошел на пять шагов к изумленному сыну. Остановился. — Ивашка Перфильев, поди, говорил, что меня повезли в Енисейский с приставами?
— Слыхал! — торопливо обронил сын, то и дело сглатывая слюну. — Мы с ним думали, ты в Илимском ждешь. Знаю, что оговорили. От Тургенева прошлой зимой последние браты ушли.
— Оговорили! — равнодушно согласился Похабов. — Только где она, прощеная или покаянная отписка? Примешь меня в зимовье без указа, а я тебя под батоги подведу?
Яков замялся, засопел, затоптался на месте.
— Я к зиме сюда пришел!.. Скройся пока у брата, у Огрызка, — предложил. — От него иду. Справно живет, пятерых ясырей держит, двух подворников.
— Считай, что сговорились! — усмехнулся в бороду Иван. — Ате, — кивнул на гору, — промышленные. Я с ними промышлял в верховьях Лены. Обеднели там промыслы, они за Байкал идут. Пропусти нас с миром. Разбогатеют, на обратном пути десятину дадут, — добавил смущенно и неуверенно. — Так и тебе, и всем нам будет лучше.
Яков побледнел, опустив глаза, постукивая плетью по голяшке сапога, неохотно согласился:
— Идите! С култукскими встретитесь, на нас не ссылайтесь. Договаривайтесь как знаете!
На глазах у людей старый казак и сын разошлись с миром. Прощаться при свидетелях не стали: пристально взглянули в глаза друг другу и направились каждый в свою сторону. Яков поднял казаков, те сели на коней и проехали под едва державшимися на склоне ватажными людьми, под их елозившими копытами лошадьми.
Промышленные спустили коней на тропу. Илейка тяжело дышал. Задыхаясь, спрашивал:
— Не Фирсов ли сын в атаманах? Я всех енисейских помню!
Иван молчал. Промышленные с недоумением вертели головами, не понимали, как можно разойтись с казаками без поклонов и подарков.
— Приворотное слово знаю! — буркнул Похабов, не желая говорить.
Перед байкальским култуком, на выходе из пади, он повел ватагу крутым правым берегом речки. Дождавшись полночи, когда караульные спали, прошел с ватагой мимо сторожевой башни. Ни огонька, ни искорки не мелькнуло в ней. Скорей всего, караульных там не было: урочное время для переходов промышленных ватаг еще не наступило.
Знакомым путем Иван обошел прибрежные луга под склоном горы, в сумерках рассвета перевалил через седловину Шаманского хребта. Поворачивать к брату он не стал, хоть чуял носом дымок и запах жилья. Провел ватагу лесом, возле гор.
— Спаси тебя Господь! — выехал вперед кривой передовщик, когда они снова выбрались на тропу крутого берега Байкала. — Прошли все заставы. Отсюда — вольная земля. Дальше знаю как идти. — Сказал и с повинным лицом признался: — А я, грешным делом, все боялся, что приведешь нас к казакам, чтобы свои грехи искупить!
Промышленные спешились при высоком солнце, надумали отдохнуть. Передовщик опять стал распоряжаться, показывая, что вынужденно подчинялся в пути беглому казаку, а теперь берет на себя все бремя власти.
— Ржи у нас мало! — объявил, обводя ватажных круглым выпуклым глазом. — Теперь до самого Амура, кроме мяса и рыбы, питаться нечем. Разве заболонь, корни да грибы. А тут недалеко живет государев пашенный по прозвищу Огрызок. Промышленным в помощи не отказывает, только плати.
Ехать к Угрюмке Иван отказался. Вдвоем с Илейкой они остались караулить ватажное добро, спутали коней и прилегли отдохнуть на припекавшем солнце. Байкал блистал гладью воды в цвет неба и сливался с ним на восходе.
Ватажные вернулись только к ночи. Их кони были нагружены мешками с рожью. Они привезли коровьего масла, сушеного творога. К зависти Илейки, все были в изрядном подпитии и ругали пашенного.
— По целковому за пуд ржи рядился! Как в Якутском в голодный год.
— На полтине сошлись. Зато теперь не бедствовать до самых Даур, — отбрехивался передовщик с помутневшим глазом. Другой его глаз, с бельмом, был плутовато прикрыт веком.
Почти всю жизнь Иван прослужил рядом с промышленными, перевидал их тысячи, порой принимал за глупцов, которым, кроме как разбогатеть, ничего не надо. Удачливы в промыслах были многие, а распорядиться добытым добром мало кто умел. На их трудах богатели служилые, пашенные, торговые люди да кабацкие откупщики.
За время своих промыслов Похабов узнал о промышленных людях больше, чем за все прежние годы службы. По-другому понимал теперь первого своего товарища, друга молодости Пантелея Пенду. Только в старости стал догадываться, ради чего тот бродяжничал и претерпевал невзгоды, как тунгус.
Илейка, ссылаясь на свое чутье, верил, что все безвестно пропавшие промышленные и казаки нашли дорогу в благодатную землю, куда он с братом искал путь всю прежнюю жизнь. Теперь они безбедно живут там по праведной благочестивой старине, а не по царским указам. Страна эта могла быть на севере или на востоке, может быть, на Амуре, а то и дальше.
Иван слушал старого бродягу и завидовал ему, бормотал, поддакивая:
— Блажен, кого не покинул Свят Дух. С ним и гибель, и страдания — в радость, без него богатство и сытость — в тягость.
Дорога была торной, избитой сотнями копыт. По сторонам желтели обглоданные ветви деревьев, старая трава была выщипана и вытоптана. С такого пути не сбиться и слепому. Днище ватажные ехали верхами в виду Байкала. Больше обычного болела у Ивана Похабова спина, он то шагал рядом с лошадью, то садился в седло или ложился лицом на гриву. Мало ли что болело в прошлой жизни? Он ждал, когда переможется и утихнет боль.
По той же тропе вдоль каменистой горной речки ватага стала удаляться от Байкала, поднимаясь в горы. Иногда Ивану казалось, что боль проходила, и он злорадствовал, оборачиваясь к плещущему морю, будто это Байкал не отпускал его. «За горой не достанет!» — думал и надеялся, что там полегчает.
Багровел закат, разлившись по бескрайней глади воды. Лошади вынесли всадников на белки высоких гор. Отсюда море казалось не таким уж великим, но узким и длинным озером. Ватага переправилась через заснеженные хребты, и пропал с глаз Байкал.
Всадники спустились в низину. Здесь было теплей. Свежая трава густо лезла по солнцепекам. Кони жадно хватали ее губами, весело с хрустом жевали, а Похабов еле переставлял ноги, держась за подпругу. Сабля в ножнах то и дело западала между сапог, он часто спотыкался и отставал. Никогда никому в жизни Иван не был обузой, и вот издевался бес, мстил за прошлые удачи и зароки не ходить за Байкал. Безнаказанно кусала за пятки собака-старость.
Промышленные вышли к горной реке. Кривой передовщик, размашисто крестясь, обвел спутников круглым выпученным глазом, с умилением в голосе объявил:
— Река Чикой! По ней, даст Бог, выйдем на Ингоду, а там, на конях или плотами, открыт путь к Амуру. Ты нас сильно задерживаешь! — осуждающе уставился на Похабова. Один его глаз горел, другой был тусклым, как ледышка. — Ни разу на рысь не перешли, все только шагом.
Иван, лежа на животе, напился воды. С трудом перевернулся на спину, и показалось ему, будто боль стихла, свернулась, как змея перед броском.
— Бросьте, если задерживаю! — сказал, равнодушно глядя в небо.
— Не по-христиански — бросать товарища! — неуверенно пробормотал передовщик, отводя в сторону выпуклый блестящий глаз.
— Старика бросили в зимовье. Вот и меня бросьте! Дальше все равно не пойду, пока спина не отпустит! — сказал и желчно усмехнулся в бороду. — Лягу и буду ждать. Или исцелюсь, или Бог призовет. И так, и эдак хорошо!
Илейка, старчески покряхтывая, распряг и стреножил его коня.
— На Ингоде, слыхал я, казаки острог ставили, — проворчал, шмыгая носом. — Если изловят, то, при их малолюдстве, служить заставят. Но там Дауры близко. Все равно убегу!
— Иди! — поторопил Иван. — Зачем будешь сидеть при мне — ни сын, ни брат! Сколько я тебе зубов повыбивал, помнишь?
— То я тебе не выбивал? — Илейка растянул губы в смущенной улыбке, показывая наполовину беззубые десны. Виновато вздохнул: — Мне надо к брату! Сказано, прежде должно прощать и помогать брату!
Старческая слеза блеснула в глазах Ивана, он проговорил мягче:
— Иди! Отдохну и догоню. Я крепкий! Зимой хуже было. Отлежался у огонька. А брата надо искать!
— Как догонишь? — виновато проворчал Илейка. — Конь-то не твой, передовщика! Далеко ли уйдешь пешим?
В здешних местах свежая трава по берегу и на полянах была уже объедена скотом. В отдалении виднелся тунгусский балаган, маленький и ветхий. Ночевать в него ватажные не пошли. Они разложили костер у воды, разбили стан по-промышленному.
Сговорившись с передовщиком, Иван Похабов выменял у него коня с седлом за свой винтовой карабин. Промышленные не противились тому, чтобы оставить его. Упорствовал один только Илейка Ермолин. Ради него и торговался Иван, чтобы старик не мучился.
К ночи спину скрутило пуще прежнего. Похабов не мог двигаться даже тихим шагом. Спутники привели его под руки в пустовавший балаган, уложили на брошенные кем-то невыделанные шкуры. Какой ни ветхий, но он был покрыт берестой, защищал от дождя и ветра. К ручью можно было сползать на брюхе.
— Догонишь! — говорили промышленные, смущенно прощаясь.
— Авось свидимся и на этом свете! — всхлипнул Илейка и смахнул слезу. — Ты уж нас перед Богом не ругай. Сам видишь, не увезти тебя, и стоять на месте не можем!
Иван кряхтел от боли и поторапливал:
— Иди! Вдруг дойдешь! Пантелею Пенде — поклон! И Ваське Бугру с Федоткой Поповым!
— А помрешь, умоли за нас Господа, чтобы в Дауры дойти! — прощаясь, напутствовал его кривой передовщик.
Ушли ватажные. Стало тихо и спокойно. Неподалеку от балагана радостно фыркал конь и валялся на спине, призывая дождь. Постанывая, Иван сложил под бок топор, саблю, пистоль, патронную сумку с шебалташем. Походный котел был под рукой. Промышленные оставили ему с полпуда ржи да гривенницу соли. Что еще надо старику?
И вот лежал он, глядя в небо через щели между листами бересты, ничего не ждал, только прислушивался к боли, то просыпавшейся в теле, то унимавшейся. И сам засыпал, снова просыпался. Есть не хотел день и другой. Выпил воду из котла, сползал к ручью, приволок свежей и снова лег.
Спал он долго. Сквозь сон слышал, как стучит дождь. Потом палило солнце и гудели мухи. Боль унялась, позволяла осторожно переворачиваться с боку на бок. В очередной раз выплывая из снов, Иван почувствовал, что рядом кто-то сидит и смотрит на него. Не открыв еще глаз, потянулся к пистолю и услышал знакомый голос:
— А, ерээбши, дуу![268] — И выругался: — Галди шамай!
Иван открыл глаза. Перед ним сидел Бояркан в простой и даже изношенной одежде. От прежнего князца, с которым он расстался возле Балаганского острога, остались толстая седая коса да тучное, неповоротливое тело. Бояркан был одет как простой пастух, в засаленный, расползающийся по швам халат. Голову его покрывал войлочный шлычок. И только пояс поблескивал тусклым серебром чеканки. Из-за него торчал нож, тоже оправленный серебром. Дырявые, без всяких украшений гуталы на ногах были сильно поношены.
— Вижу, не за подарками приехал! — Бояркан насмешливо скривил губы, опушенные белыми усами.
Сначала Похабов подумал, что умер. Боль в пояснице убедила, что жив и не спит.
— Ахай? — удивленно уставился на князца.
— Ахай-аягтай![269] — передразнил его бывший князец. — За моей головой пришел или свою принес? — снова спросил с насмешкой.
— Свою! — шевельнулся Иван и заскрипел зубами. — Ерборхо![270] — указал глазами на нож за его поясом. — Ты-то откуда здесь взялся? К мунгалам ведь уходил!
— Я и живу у мунгал! — с напускной важностью заявил князец. — Делом занят. Скот пасу. Тебе-то что здесь надо?
— В Дауры к маньчжурам шел! От воеводы бежал. Грозил он мне башку отрубить. Уходить, думаю, надо, не то и твоя слетит с плеч! Лежу вот, старый, больной, жду, когда умру.
— Уж и зарезать некого попросить! — сварливо проворчал Бояркан. — Опять ко мне приперся! Уй, надоели все! Галди шамай!
За балаганом послышался топот. С водопоя в гору поднималось стадо. Тревожно заржал Иванов конь.
— Жена жива? — с пониманием спросил он князца.
— Умерла жена! — снова ругнулся Бояркан. — Сыновья и племянники разбежались, все воюют. С кем воюют, за кого, понять не могу. Внучки мунгал рожают. Все хорошо! Наконец-то никаких забот нет, только смотри за скотом да поглядывай в Вечно Синее Небо! — Он опять выругался и, скосив узкий глаз на Похабова, спросил: — Тебе что, хребет переломили?
— Спина болит! — пожаловался Иван. — Растряс в седле старую задницу.
— Обычная болезнь у стариков! — посочувствовал Бояркан. — Свежую теплую шкуру с мездрой и жиром надо приложить.
Он с кряхтеньем приподнялся, на четвереньках выполз из балагана. Скот вздыхал и топтался где-то рядом. Слышалось протяжное блеяние овец и гнусавое меканье баранов. В открытый проход всунулась бесноватая козлиная голова с дурными шаманскими глазами. За рог ее держал тучный кулак Бояркана.
Вскоре он с кряхтеньем вполз в балаган с окровавленными руками и с козлиной шкурой. Приказал:
— Ложись на живот!
Скрипя зубами и постанывая, Иван перевернулся. Бояркан рывком задрал подол его рубахи, шлепком прилепил к пояснице теплую еще шкуру, остро пахнущую свежей кровью и шерстью. Толстыми пальцами в сгустках крови подхватил шебалташ, бросил взгляд на золотые бляхи.
— Все не можешь ни продать, ни выбросить? — проворчал и закрепил шкуру опояской.
— Никак не отвяжется, бесовская хреновина! — прокряхтел Иван, перебарывая боль. Пот выступил на лбу. — Выбрасывал! Нашли, вернули! Дарил, не брали!
Князец поворчал что-то под нос, опять выполз из балагана. Пахнуло дымом, стал потрескивать костер. Потом потек сытный мясной дух. Боль в спине утихала, будто зарезанный козел вытягивал ее своими дурными и насмешливыми глазами.
Мясо Иван ел, лежа на животе. Оба старика ночевали в балагане, который принадлежал Бояркану. Князец лег на спину на сухую бычью шкуру и вскоре захрапел.
Чикойская ночь была черна. Заслоняя звезды, виделись очертания гор. И небо здесь мерцало совсем не так, как над Байкалом или над Ангарой. Чувствуя слабеющую боль, Иван взмолился в ночи, соглашаясь принять любую кончину, но не здесь, а там!
Он проснулся на боку. Не помнил, как перевернулся во сне. Оттолкнулся руками от зловонных шкур. Спина еще побаливала старой раной, но эту боль можно было терпеть. Иван осторожно поднялся на четвереньки. Рассветало. Бояр все так же лежал на спине, но не храпел. Его брюхо вздымалось и опускалось с легким посвистом. Князец задышал ровно, зачмокал губами, разлепил узкие глаза.
— И правда полегчало! — удивленно взглянул на него Иван.
— Козел хорошо спину лечит! — зевнул Бояркан и перевернулся на бок. — Волк — еще лучше!
Опираясь на черенок топора, Похабов выполз из балагана, встал на ноги. Пахло утренней степью, лесом и скотом. Его конь весело пасся с десятком других, вольных. Затухающим костерком тлело небо на восходе. Иван перекрестился и поклонился, претерпевая тупую боль. Почитав молитвы утренние, сказал в голос:
— Все! Вернусь!
— Как там скот? — сипло и сонно спросил Бояркан.
— Пасется! Весь на виду!
— Хочешь есть — вари мясо! — опять зевнул князец. — В реке лежит!
Разминая спину, Иван побродил возле балагана. Опустился на четвереньки перед кострищем, разворошил угли, нашел тлеющий огонь, стал раздувать его, нодкладывая сухую траву, бересту и щепки.
Котел был покрыт изнутри толстым слоем жира. В нем черно копошились мухи. Похабов выскреб вчерашний жир в огонь, спустился к реке к остаткам туши, придавленной камнями. Сотни рыбешек метнулись в стороны от его тени и снова вернулись к мясу.
Иван умылся, вычистил песком ко гел, наполнил его кусками козлятины, залил водой, то и дело выбрасывая рыбешек. Заковылял обратно к балагану.
Завтракали молча. Насытившись, Бояркан стал вытирать руки о траву, спросил про спину. Козлиную шкуру Иван не снимал, и она топорщилась на нем раздувшимся животом.
— Легче! Уходит боль! — с благодарностью ответил князцу. — Как смогу ходить, вернусь на Байкал. Там умирать буду!
— Здесь тесно, там тесно! — проворчал Бояркан. — Горы высокие, лес густой. Хорошо умирать в степи. Видно далеко. Дышать легко. — И вдруг предложил: — Давай вернемся в степь? Тебе яму сделаем. Умрешь первым — я тебя закопаю. Я умру — увези меня на лысый холм. Ворон прилетит — пусть клюет, он умный! Волк, лисица — пусть грызут! Я в них буду жить.
На третий день Иван стал ходить и сгибаться без боли. Снял присохшую шкуру, обмылся в реке, опоясался кушаком, стал неспешно собираться в путь и, будто бы случайно, оставил в балагане шебалташ.
Посмеиваясь над стариковской хитростью, Бояркан выволок его из-под крова, бросил на зипун, как дохлую змею, помог Ивану заседлать отдохнувшего коня, дал ему в руки волосяную веревку на шесте.
— Зааркань мне вон ту кобылу! — указал на крепкую лошадь. — Раз я больше не хубун и не баатар, могу и на кобыле поездить!
Вдвоем они поймали и оседлали резвую кобылку. Поели баранины и каши из немолотой ржи. Иван привязал к седлу шубный кафтан, мешок с остатками зерна, котел. Бояркан набил седельные сумки пожитками и вареным мясом. Оба старика вскарабкались на лошадей и, стремя в стремя, двинулись на закат.
— На кого скот оставляешь? — полюбопытствовал Иван. До последнего он не верил, что балаганец поедет с ним.
— Хозяин найдется! — коротко ответил тот.
Тем же путем, которым пришла ватага, они отправились в обратную сторону. Мясо, которое Бояр взял с собой, быстро кончилось. Старики стреляли из лука в тощих любопытных коз. Сколько ни варили их мясо, оно было сухим и жестким. Они подолгу жевали его, крошили ножами. Дикая козлятина быстро приелась. От ржаной каши в животе Бояркана так урчало, что его кобыла шарахалась и прядала ушами.
Открылся Байкал. Под солнцем сверкала голубая, как небо, вода. Дышалось легко. Иван почувствовал себя помолодевшим, стал забывать про тупую боль в пояснице. И полуденным маревом замельтешила перед его взором какая-то смутная надежда на будущую земную жизнь.
Густыми кедрачами старики спустились к берегу. Легкая волна набегала на гладкие камни, бренчала окатышем. Тысячи уток и гусей весело кормились на отмели, ныряли и хлопали крыльями, ничуть не пугаясь всадников.
Иван спешился, пустил в птиц одну стрелу, другую. И только когда подошел к воде, стая неохотно отплыла от берега, оставив двух барахтавшихся подранков.
— Есть будешь? — брезгливо спросил Бояркан, глядя на подбитых птиц, и сплюнул, показывая, что лучше умрет, чем положит в рот такое мясо.
Оба они держали путь к Угрюму, к его жене, доводившейся Бояркану родственницей. Обоим было стыдно заявляться с пустыми руками, да еще голодными. Похабов с сожалением пощупал жирные тушки уток, выпотрошил их и привязал к седлу. Придерживая лошадей, готовых перейти на тряскую рысь, старики поехали по тропе вдоль берега.
Иван рвал на ходу деревенеющие побеги сосны, с тоскливым видом жевал их. Бояркан, хмурясь, терпел голод и ворчал:
— Пусть басаган кормит дядю! Не то умру возле ее дома, яба гэмээ эд-лэг!
К вечеру они переправились через одну, потом через другую речку, кишевшие рыбой. Навстречу на резвом коньке выехал мужик русской породы, одетый в халат и лисью шапку, уставился на стариков пристально и неприязненно. Сабля на боку и пистоль за кушаком Похабова сбивали его с толку.
— Кто такие? К кому? — окликнул едущих срывающимся голосом.
Старики подъехали стремя в стремя. Похабов молча хлестнул плетью по крупу его конька. Он скакнул в сторону. «Подворник или обротчик», — подумал. Сколько таких, то кичливых, то пресмыкавшихся, вставало на его пути. Не понравился ему и этот человек. Плохо начиналась встреча с братом.
Старики молча подъехали к воротам. Иван с удивлением окинул взором двор. Три избы были связаны сенцами с коровником и конюшней. Амбар был добротный, крытый драньем и берестой.
На крыльцо вышла постаревшая братская бабенка с головой, обмотанной белым шелком, с иссеченным морщинами лицом. Взглянула на всадников из-под руки. Кого-то гортанно окликнула.
Из-за дома выскочил верткий молодец с черным, лоснящимся от солнца лицом, сухощавый, как тунгус, мордастый и непомерно широкоплечий. Он приветливо окинул всадников узкими глазами, распахнул ворота.
— Я — дядя твоей матери! — строго рыкнул Бояркан. — Почему она не научила тебя приветствовать старших?
— Дарова! — спохватился молодец.
— Абдай?1 — радостно вскрикнула старуха, подбежала к Бояркану, схватила его за ногу в стремени, прижалась к ней щекой и громко завопила.
Бывший князец подобрел, с кряхтеньем перекинул через круп кобылы толстую ногу, не ожидая помощи, кулем свалился на землю, степенно отстранился от племянницы.
— Спрашивал, кто такие! — испуганно лопотал подворник. — А они за плеть!
Спешился и Иван. Глазом не повел на говорившего. Узнал племянника — Третьяка. Тот вырос и сильно переменился. Теперь он стоял и пялился на родственников, не зная, как их встретить, приветить.
— Отец живой? — спросил Иван по-русски.
— Живой! — ответил молодец, переступая с ноги на ногу, распахнул дверь, приглашая в дом. Где-то там зашумели, забегали. С крыльца соскочила женщина мунгальской породы, стала разводить очаг посреди двора. Подворник поддал своему коньку пятками под бока, ускакал с озабоченным лицом. Вскоре он вернулся с хозяином.
Плечи брата обвисли. Он больше прежнего приволакивал ногу. Бороду стриг. Среди седой щетины и морщин прежние шрамы уже не бросались в глаза. На приехавших Угрюм поглядывал не так, как раньше: даже начальственный холодок появился в его взгляде.
— Все ездишь? — спросил брата вместо приветствия.
— Все езжу! — ответил Иван.
— А! Хубун? Сайн байну! — Сел на крыльцо. — А я как знал, что гости будут, бычка свежую. Вари, жена, мясо!
— Вари давай, да побольше! — поддакнул Бояркан и тоже сел, поджав под себя толстые ноги.
— Вели баню затопить! — хмуро приказал Иван. — Мы давно в пути.
Угрюм окинул насмешливым взглядом зипун и выгоревшую на солнце потрепанную шапку брата, приказал подворнику:
— Затопи!
Он жил небедно, имел ясырей и ясырок, держал работных из гулящих русских людей, запахивал государеву десятину. Сено косили казаки. Они же охраняли его покосы и поля от потрав.
Пришел его день, Угрюм торжествовал. Кем были они и кем был он? Кем теперь стал он и кто они, видно было по одежде. В каждом его слове, в каждом взгляде была победа над своим жалким прошлым.
Он ни о чем не спрашивал гостей, а те ни о чем не спрашивали его. Да и не было возможности спросить. Угрюм говорил и говорил, не закрывая рта: рассказывал об урожае, о скоте и покосах, о том, что собирается расширять запашку. Сам сидел во главе стола. По правую руку сын, по левую — дочь, дородная девка с круглым лицом и большими, раскосыми, как у матери, глазами. За тем же столом сидели подворники и ясыри.
Иван с Боярканом отъедались. Булаг то и дело подкладывала им лучшие куски. Хозяин ел мало, чаще подливал себе в чарку из кувшина. И все говорил.
— Казаки сватаются! — хвалился, ласково поглядывая на дочь. — Не отдам за казака. Только за пашенного. Найду зятя доброго, чтобы со мной жил, чтобы ему все передать… На этого нет надежды, — с кривой усмешкой кивнул на молчавшего Третьяка. — Все одно сбежит в Дауры, за братьями.
Весной проходили тут. Ржи просили. Чуть не сманили. Еле удержал. Так-то вот. Работал-работал Огрызок, да и всем нужен стал. Казаки приходят — накорми. В Дауры бегут — дай ржи! Гости все время в доме.
— Да замолчи ты, бабануур хун!1 Дай поговорить с гостями! — вскрикнула жена, не в силах терпеть его болтовню. Она стала расспрашивать дядю, откуда и куда он держит путь.
Неохотно, сдержанно, тот отвечал с напускной важностью:
— Родственники ушли к мунгалам, за Байкал. Там пастбища хорошие, скот плодится быстро. Хорошо там жить, но меня, старого, гложет тоска по родной степи. Встретил я там старого казака, и решили мы вернуться туда, где видели небо в молодости.
— Шапку-то серебряную с камнем где утерял? — захмелев, ухмыльнулся Угрюм.
— Зачем покойнику серебряная шапка? — презрительно взглянул на него Бояркан. — Какой-нибудь жадный дархан снимет и продаст! Я свою шапку племянникам передал. И власть передал, чтобы в старости быть свободным.
— Голыми пришли, голыми уйти надо! — поддержал приятеля Иван. — Я свое головство тоже сдал! Послужил государю на совесть, вольный теперь!
Угрюм озадаченно замолчал, не поверил сказанному братом и князцом, но не знал, как возразить. Поводил мутными глазами по обильному столу, опять залопотал, похваляясь своей усадьбой. Притом перемежал русскую речь с бурятской.
— Нет бы сразу отдать за меня Булаг, — икнул, содрогнувшись телом. — Когда я у тебя в дарханах служил да красивым был. За одного отдал, потом за другого! Все равно мне досталась. Сама пошла за Медвежьего Огрызка, по доброй воле!
— Да замолчи ты! — опять сварливо вскрикнула Булаг. — И не думала идти за тебя, за болтуна с мохнатым лицом! Хотела отцу и матери сына родить, старость их украсить. Думала, скоро умрешь. Кого медведь драл — долго не живут. А он, гляди-ка? Живет и живет! Так и состарилась с тобой, гаатай!
Видно, спор был давний, семейный. Раздражение жены ничуть не смутило Угрюма. Он только посмеялся и стал похваляться, как сытно живут у него работники и ясыри: палкой со двора не прогонишь!
— Наконец-то наелся после дороги! — сытно икнул Бояркан, глядя на пьяного зятя в один глаз. — Дуудэй1 в пути чуть не уморил своей казачьей кашей. Завтра мы еще отдохнем, ты коней наших хорошо покорми, а потом поедем своим путем! — Бояркан сполз с лавки на пол, сел, прислонившись спиной к печке, и стал подремывать, показывая, что не хочет ни говорить, ни слушать.
В пути через горы о многом было переговорено между стариками. Рассуждали и о том, не дожить ли отпущенное Богом возле Байкала рядом с родными людьми или хотя бы перезимовать. Из последних слов Бояркана Иван понял, что оставаться дольше чем на другой день он не желает, да и сам все больше склонялся к тому, чтобы зимовать в скиту у Герасима.
Ночевали гости на свежей соломе, под навесом, в душной избе не остались. Бояркан долго ворочался, не мог уснуть. К утру начал так громко храпеть, что Иван встал, обулся, привычно сунул за голяшку нож, обмотался кушаком, надел патронную сумку и саблю, перехватил их ремни шебалташем, с пистолем за кушаком тихо вышел со двора.
Гладь Байкала алела на востоке. Иван обошел стороной соровые озера с поднявшимися со дна кувшинками, вышел на сухой песчаный берег, зашагал по нему к горному мысу, на котором шаманили тунгусы.
Мыс был безлюден, чумов возле него не было. На капище болтала раздвоенными копытами шкура изюбря, висевшая на жердях.
Перевалив через невысокий скальный хребет, он сел у воды, долго смотрел на свой острог за заливом под склоном горы, который стал еще красивей, чем был прежде. Впервые со времени кончины Савины Иван стал думать, как прочно устроить дальнейшую жизнь, чтобы ни от кого не зависеть и не быть кому-то в тягость.
Рыба безбоязненно ходила у самого берега. Утки опасливо поглядывали на сидевшего человека. Богата, обильна, красива была здешняя земля. Живи да радуйся! Славь Господа! Или своих божков! Но мира не было. По злобе и зависти все воевали против всех и всех боялись. Острог давал мир здешним народам. Вот только он, Иван, его строитель, оказался вдруг чужим и лишним.
Похабов раздраженно крякнул, сгреб пальцами песок, бросил его в прозрачную воду, отпугнув уток и рыб.
«Кабы было всем хорошо, не бежали бы в Дауры и к мунгалам!» — осадил свои обидчивые мысли. И встали перед ним две судьбы: унизительная старость в подворниках у брата и монашеская доля в скиту. Туманно маячил третий путь: висеть обузой на сыне и мотаться за ним по дальним службам.
«Жизнь прожил, никому не кланяясь, не заискивая, пока был в силе. Пришло время главного испытания — не согнуться в немощи!» — подумал, и вспомнился насмешливый лик непокорного протопопа. Похабов поднялся и пробормотал в сторону своего острога:
— А что было греховного, Божьим попущением, то можно отмолить только в скиту. И все тут!
Он вернулся. Во дворе хмурые подворники под началом Третьяка раскидывали прошлогоднее запревшее сено. Бояркан сидел на медвежьей шкуре, мелкими глотками попивал топленое молоко. Булаг пекла пресные лепешки на летнем очаге, глядела на дядю влюбленными и виноватыми глазами, во всем старалась угодить старику.
Угрюм уже изрядно опохмелился, лежал в тени под навесом и кичливо хвастался достатком. Бояркан презрительно поглядывал в его сторону сквозь щелки глаз. Иван присел рядом с ним на шкуру. Булаг молча подала чашку с молоком.
— А я вот гляжу, пистоль у тебя ладный! — залопотал Угрюм, кивая брату. — Мне бы такой в самый раз в хозяйстве — часто один по округе езжу. Дорого ли купил?
— В Москве восемь целковых отдал! — грубовато приврал Иван.
— Дорого! — стал торговаться Угрюм. — За десять у промышленных можно мушкет купить. Так у него ствол во! — развел руками. — Полпуда железа. А в этом кого?
— Дешевле не отдам. Много чего давал тебе без благодарности. Оружие — не дам!
— Видел мой табун? — заговорил Угрюм про другое. — Всем табунам табун. Потому что я хозяин! А кобылка братская хороша!
— Хороша, да не про тебя! — отрезал Иван. — Мы с Боярканом дальше поедем.
— И куда вы поедете? — с усмешкой прошепелявил Угрюм.
— От тебя подальше! — неприязненно буркнул князец по-бурятски.
— Когда? — спросил его Иван, привычно оглядываясь на солнце.
— Сегодня уйдем!
— Чтоб тебе медведь язык откусил! — взорвалась Булаг с красным от жара лицом. — Без языка совсем хороший был бы муж. Хозяин еще лучше!
Угрюм не снизошел до склоки с женой. Однако сказанное гостями его озадачило и слегка вытрезвило.
— Я думал, зазимуете! — пробормотал.
— Выжил гостей, болтун! — обернувшись, крикнула Булаг.
— Поговори у меня! — огрызнулся Угрюм. — Вот куплю у братов молодую ясырку да забрюхачу. Будет у меня две жены, как у того святого, который за каждую по семь лет работал.
Булаг сверкнула узкими глазами, в раздражении бросила в котел нож:
— Будет тебе ясырка! — пригрозила. — Проснешься пьяный: ни языка, ни яиц!
Она окликнула дочь. Та вышла из избы. Черные волосы были заплетены в одну толстую косу, большая голова повязана лентой. Дородная девка ласково взглянула на отца, играючи подняла его на ноги, потянула за собой:
— Пойдем, тятя!
— Пойдем, милая! — податливо согласился Угрюм. — Пусть они хоть все до одного разбегутся, а я всегда буду с тобой.
Со светлой завистью взглянул вслед брату Иван. Ведь была и у него дочь, любил, ласкал, жалел и потерял, как теряют детей многие служилые, мотаясь по дальним государевым службам. Возить за собой, как Иван Галкин, — мучить. Оставлять — потерять!
По слезной просьбе Булаг они с Боярканом остались еще на ночь. На рассвете другого дня оседлали своих отдохнувших коней. Угрюм спал.
— Как гулять — так три дня! — виновато оправдывалась Булаг, провожая родственников. Ее заботами их седельные сумки были туго набиты снедью.
Старый сын боярский правил коней стороной от сторожевой башни. Он не хотел видеться с казаками. Возле Иркута на волоке всадники встретились с тункинскими братами. Иван надеялся отдохнуть у них, но приметил в лицах мужиков неприязнь. Балаганцы на пути к Байкалу сильно пограбили здешние роды. Он поговорил с пастухами и проехал мимо.
Вскоре старики догнали добрую полусотню всадников: балаганцев, эхирит и мунгал, о которых предупреждали тункинские браты. Они гнали стада и табуны к Ангаре. Это были беглецы, возвращавшиеся на прежние кочевья. К ним пристали бедные мунгалы со своим скотом.
От них узнал Иван, что сын прежнего Алтын-хана, Лоузан, сманивал бурят в свои войска, обещая очистить степь от казаков. С многотысячным войском подступал к Томскому городу, к русским крепостям, к Удинскому и Братскому острогам. Но в нынешнем году старый Алтын-хан умер. Мунгальские царевичи передрались за власть, и воевавший с русскими людьми царевич Лоузан отправил посольство к царю. Он соглашался назваться его младшим сыном и велел мунгалам жить в мире с казаками.
Одни стада и люди догоняли других. Поток возвращавшихся в степь становился все больше. Браты, кочевавшие по долине в низовьях Иркута, боязливо отступали, уводя свои стада в горы. Препятствовать этому движению не могли ни они сами, ни казаки.
Бояркана узнавали, вокруг него складывался круг подданных. И сам он начал исполняться прежнего княжеского достоинства, хоть был покрыт простецкой шапкой. Вскоре доброжелатели подарили ему высокую шапку из соболей и смеялись, что она высока и велика, как казачья копна сена.
— Живи с нами! — предлагал князец Ивану. — Умрешь, закопаем, не обманем, и крест поставим! — Но, говоря так, он уже сам все понимал по-другому и вздыхал: — Молодым кажется, что земля для того создана, чтобы по ней ездить, на нее смотреть! В старости узнаешь больше! — щурился, оглядывая людей, бросивших его в тяжкие времена. — Какой ни есть, но это твой народ, надо жить с ним и для него. Как ни бедна твоя земля, надо кормиться от нее и беречь. Что за человек без своей земли и без родственников: мешок с кишками, а не человек!
— Наверное, так и есть! — соглашался Иван Похабов, оглядывая знакомые места. Стада разбредались по долине. Старики верхом на лошадях подъехали к реке ниже укрепленного Дьячьего острова. На другом берегу мельтешило много людей, там напротив устья Иркута казаки рубили острожную башню.
Двое остановили коней возле воды. Похабову надо было туда, за Ангару, к своим. Бояркан вел людей и стада к переправе ниже поворота Ангары.
Пришло время расставаться. Оба старика понимали, что в Среднем мире им уже не встретиться.
Иван Похабов снял шебалташ, пристально осмотрел потемневшие бляхи: на одной голова бородатого остроголового молодца, на другой круглая, щекастая голова степняка с толстой косой. Чей-то кулак держал ее за косу. Может быть, степняк схватил так себя сам: попробуй пойми теперь, что хотел сказать мастер много веков назад.
Иван размахнулся и швырнул шебалташ насередину Иркута. Бляхи блеснули, как рыбья чешуя, и погрузились в воду. Сыромятный ремень какое-то время держался на плаву. Вот он змеей заскользил вглубь в одну сторону, замер, будто передумав, заскользил в другую и, погрузившись, пропал с глаз.
— Не должен выплыть, галди шамай! — ругнулся Бояркан, страстно следивший за брошенной опояской.
— Прощай, брат! — с просветленным лицом обернулся к нему Иван Похабов. — Все-таки мы не убили друг друга в этой жизни! Твоя гарса далеко. А я пойду на остров, в свое зимовье!
Стада возвращавшихся кочевников паслись в долине несколько дней. Затем, к облегчению казаков, ушли в низовья. В зимовье на острове Иван застал двух казаков: старого пятидесятника Дружинку с новым прозвищем Даурец и немолодого уже Коську Москвитина. В прошлом году они вернулись с Амура, а несколько дней назад по указу нового воеводы Ивана Ржевского прибыли сюда с шестью десятками казаков, чтобы помочь поставить острог сыну боярскому Якову Похабову. Яков же начал рубить острожные башни против устья Иркута, на верхоленской стороне Ангары, не дожидаясь указа воеводы.
— Упросил-таки Герасим? — качая головой, удивлялся новостям Иван. — Все сбылось, как говорил!
В старом укрепленном зимовье, уже изрядно обветшавшем, он пил отвар из березового гриба, слушал новости из Енисейского острога, в котором давно не был, и новые, здешние.
— С внуком тебя, Иван Иванович! Жена родила Якуньке сына, ладного, крепкого казака, — беззубо посмеивался старый Дружинка, глядя на потрепанного с виду сына боярского. — Ржевский, как принял приказ по Енисейскому, так всех вас, братских, оправдал перед государем: и тебя, и Федьку Шадрикова, и Арефу Фирсова. Ты теперь волен с нами остаться или вернуться в Енисейский.
— Вернулся уже! — пробормотал Похабов, привычно вытягивая руки к огоньку дымокура. — Дальше идти некуда! — А сам думал, отчего при встрече весной Якунька ничего не сказал про внука? И Герасим об этом ни словом не обмолвился, только посмеивался, будто знал наперед, как все обернется. Водя по сторонам разъеденными дымом глазами, он спросил про другое: — Нынешний воевода не сын ли ляху Ржевскому, который под Москвой воевал за казаков?
— Мы его о том не спрашивали, — похохатывая, отвечал Коська. Лицо казака было в отметинах и шрамах, как у драчливого пса, руки посечены, два пальца отрублены.
Ни про Петруху со Вторкой, ни про Федьку Говорина оба даурца ничего не знали. Полк Михейки Сорокина в три сотни человек был перебит на пути к Амуру. Пропадали бесследно и малые, и большие отряды. Но кому-то Божьей помощью и в одиночку удавалось добираться до войска Онуфрия Степанова. Всякому живущему своя судьба!
На другой день товарищи переправили Похабова с его конем на правый берег Ангары. Здесь, на яру, неподалеку от старой кельи, почти квадратом были заложены четыре башни. Две из них уже подводили под кровлю. Судя по всему, в нижней части под ними были избы. Тына еще не выставляли. Вокруг сновали незнакомые казаки, явно не енисейские, присланные из других мест.
Наконец объявился свой человек.
— Дядька Иван? — удивленно воскликнул и обнял старого Похабова Анисим Михалев, можно сказать, пасынок. — Гляжу-гляжу, что за дед с саблей расхаживает? Едва узнал. Прости, дорогой!
— Что так мало наших? — спросил Иван, поликовавшись с ним щека на щеку.
— Мало! — согласился Анисим. — Старые енисейские за Байкал рвутся, на Лену, в полночный край. Здесь не разбогатеешь. А брат Гаврилка со мной. Он с твоим Яковом к Яндохе поехал. Решили проведать, узнать, не сделали ли ему обид. На днях братские и мунгальские люди большим скопом вышли из Иркута.
— Вот ведь! — недовольно крякнул старый Похабов. — А я на внука хотел посмотреть.
— Так я тебя сведу! — весело подхватил его под руку Анисим.
Он привел старого казака в добротный и просторный балаган, обложенный дерном. Возле двери на солнце сидела сноха со спящим младенцем на руках. Она узнала свекра, хоть тот был одет не по чину, поклонилась без прежнего смущения, откинула конскую сетку с тунгусской берестяной коробки, в которой спал внук. В его маленьком личике уже различалась родная кровь.
Посмотрев на внука, Иван смущенно провел рукой по кушаку. Одарить было нечем. Пощупал пистоль — не то.
— Доброго казака родила! — сказал снохе, снимая с плеча саблю. — Это ему отдела! Чтобы помнил!
Задерживаться возле острога Похабов не стал, хотел сесть на коня, но раздумал и повел его в поводу к часовне. Этого коня он решил дать вместо вклада в скит Герасима и там заночевать. Беглецкая жизнь закончилась, опасаться было нечего. Может быть, впервые в своей долгой жизни он был истинно свободен. Новые чувства переполняли грудь бывшего сына боярского. Дышалось легко и привольно. С тихой радостью Иван вскидывал глаза к синему небу и видел его таким, каким оно представлялось ему только в тесных застенках перед казнью. Будто впервые глядел на реку и вдыхал запах хвойного леса.
Монах, увидев его без сабли, ни о чем не стал расспрашивать, принял и благословил.
— Радость, радость-то какая! — ворковал, сияя глазами, и при этом по-хозяйски осматривал коня. — Все сбудется! На месте пустоши стоять монастырю во имя Вознесения Господня. Сколько лет просил архимандритов и митрополитов, а твой крестник, Ивашка, поклонится в Софийском соборе и привезет грамоту с благословением владыки. Нам теперь — только работать.
Иван не стал спрашивать, откуда Герасим знает про все это. Он привык ко многим тайнам и чудесам в жизни старца. По-стариковски проворчал в бороду:
— Шустры молодые — не нам чета! — Да спросил как о пустячном: — Когда привезет?
Герасим повел в сторону сияющими глазами, пожал плечами, разглядывая конские зубы, погладил лошадку по скуле и с уверенностью в голосе ответил:
— Все равно когда-нибудь привезет! Это предрешено задолго до нас с тобой!
Старый Похабов не стал допытываться и об этом. Ему с лихвой хватало того, что неподалеку от скита Якунька Похабов ставил государев острог.
Иеромонах повел его к пустоши, откуда видны были поднимавшиеся башни и стены, стал показывать, где надо копать ямы, где закладывать камни под основу будущего монастыря. Он возлагал на Ивана большие надежды и ждал от него помощи.
— Ну, вот и привел Бог! — с облегчением, как после дальнего пути, согласился бывший казачий голова и оглядел пустошь в лучах заходящего солнца. На месте каменистой поляны с вырубленным кустарником почудились ему златоглавые церкви, каменные храмы, зазвучал в ушах колокольный перезвон. Только на миг явилось взору и пропало это видение, но открывшаяся красота стоила трудов. Он весело обернулся к монаху и восторженно прошептал, будто боялся спугнуть в самом себе все запомнившееся: — Видать, вышел срок. Слава богу, свела нас с тобой судьба в начале жизни, слава богу, свела под конец!
— Какой же это конец? — стал посмеиваться монах. Это только начало! Не как вечные кочевники пройдем по этой земле, но заложим краеугольный камень будущего города. Блаженны начинающие великое дело, — стал креститься и кланяться на меркнущий восток, — они не увидят его конца, не усомнятся и не потеряют веры. И не отнимется от них Духа Святого, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже с Отцом и Сыном споклоняема и славима, глаголавшего пророки. Из всех жителей этого города мы — счастливей всех.
И началась новая жизнь Ивана Ивановича Похабова, та, которой прежде он не понимал: жизнь как радость спасения. Утром после молитв келарь выставил на стол под берестяным навесом котлы с ухой, за каждый сели по четыре вкладчика. Хлебали уху без хлеба чинно, неторопливо, и никогда в прежней жизни она не казалась Ивану такой вкусной.
За одним котлом напротив него сидел старый промышленный со всегдашним беспричинным весельем в лице, с редкими, торчавшими через один зубами в улыбчивых губах. После завтрака Похабов взял заступ и стал копать землю, где указал Герасим. Мелкими шажками, по-стариковски приволакивая ноги, к нему подошел все тот же веселый вкладчик с разинутым ртом. Рядом неспешно работали какие-то старики и калеки. Своего прошлого они не вспоминали, о прежней жизни не тосковали и не спрашивали.
Бывший промышленный под боком у Ивана хрипел надорванной грудью, быстро уставал копать землю и ворочать камни, в изнеможении падал на них. С радостью, которая поначалу казалась Похабову придурочной, глядел в небо.
— Скоро уже! — бормотал, переводя дыхание. — Призовет Господь, и вы с отцом Герасимом будете поминать меня за обеднями и панихидами и читать Псалтырь до сорокового дня! Хорошо-то как! Никогда прежде так хорошо не было!
Иван тоже поднял глаза к синему небу в осенней дымке, где что-то высмотрел его помощник, не смущаясь счастливых слез, катившихся по щекам. Там, словно паруса стругов, ветер нес белые облака к Байкалу. На работавших людей, на поникшую траву и желтый лист струилась, веяла с них любовь и радость, которых Похабов не ведал в своей прежней жизни.
Он знал суровый лик Нерукотворного Спаса, который повелевал: не сделаешь так, как Я приказал, напущу на тебя мор, голод и плен вражий, искореню потомство твое. И вот вместе с блаженным стариком Иван разглядел среди облаков и синевы снисходительную улыбку Отца, с любовью глядевшего на своих детей. Он сам стыдливо всхлипнул и смахнул навернувшуюся покаянную слезу, понимая, что в прежней жизни не любил так ни своих детей, ни Савину.
Его тело отдохнуло и наполнилось новой силой. Похабов встал, подхватив заступ, огляделся, примечая, как прекрасна нынешняя осень. Другой такой он не помнил или не замечал в суете служб. Потоптавшись вокруг вывороченного камня, округленного и сглаженного рекой тысячи лет назад, когда она еще текла здесь, потрогал его рукой и восчувствовал время, в котором он труженик и путник. Вкладчик с веселым лицом тоже поднялся и взялся за заступ. Надо было передвинуть этот камень сажени на три, где ему предстояло по-новому лежать и служить веками.
Вернулся из-за Ангары сын Яков и пришел в скит навестить отца. Положив поклоны на крест часовни, присел рядом с ним. Помолчав, буркнул:
— Говорят, другую неделю придуряешься здесь? Поработал во славу Божью и хватит. Воевода зовет в Енисейский по наказной памяти. Велит восстановиться в головстве и служить при нем.
Старый Похабов взглянул на сына со снисходительной и ласковой улыбкой. Такого лица у него Яков не видывал. Он начальственно блеснул глазами, но, зная упрямство отца, стал прельщать его:
— Что с того, что старый? Ты теперь будешь с важным видом сидеть в приказной избе да поучать молодых. Воеводам от тебя ничего другого не надо.
— На кой мне все это? — улыбчиво возразил старый Похабов. — В Енисейском ни тебя, ни Михалевых, ни Савиных. Старые товарищи перемерли или ушли дальше.
Атаман вдумчиво выслушал отца и согласился с ним.
— Ладно, отпишу воеводе, что выходишь из государева оклада по ветхости. Здесь возьму землю, своим подъемом посажу на ней пашенных и ясырей, правь хозяйством. Ты еще здоровый старик, слава богу. Казак! Что юродствовать-то, хоть бы и во Христе?
Старый Похабов смущенно вздохнул, поднял глаза к небу, с радостным душевным томлением вспоминая, как в соборной молитве нисходит Дух.
— Ну что ты все время лыбишься, как блаженный? — ругнулся Яков. — Тебе же добра желаю. Без того камнем на сердце лежит мать-покойница. Старости ее не поддержал, как должно сыну.
Иван пристально взглянул на него чуть затуманившимися глазами, перекрестился.
— Я на службах был! — стал оправдываться сын, и лицо его скривилось от внутренней боли. — Она хворая в Енисейский сплыла со льдом. Старуха, что с ней была, — замерзла в лодке, а мать, говорят, сильно кашляла, но поселилась в женском скиту в холодном балагане. На второй неделе поста отошла — антонов огонь спалил кровь. Ты еще, не дай бог, помрешь здесь. Что люди скажут? — Яков опять приглушенно выругался, обидчиво и беззвучно шлепая губами. — Хитро, однако, Бог положил: кто первый помер — тот и прав, кто жив — тот и дурак, и грешный, и виноватый!
— Бывает! — неохотно поддакнул старый Похабов. — Лет тридцать назад я и сам бы так говорил, молодым стариков не понять, сколько ни толкуй.
Я здесь останусь, во вкладчиках, — объявил решительней и строже. — А ты иди своей дорогой, не оглядывайся на меня. Служи!.. Дай-ка, сынок, благословлю тебя, как меня когда-то в Верхотурье дядька Кривонос напутствовал в сибирские службы. Царствие Небесное, — снова перекрестился, помянув своего станичного покровителя и наставника. — Сильно мне его благословение помогало.
Матерый атаман смутился, что отец назвал его, как никогда прежде, сынком. Старик тоже смутился своих слов и чувств. Поднялся, перекрестил сына:
— Будь ты моим словом крепким укрыт в ночи и в полуночи, в часе и получасье, в пути и дороженьке, во сне и въяве — сокрыт от силы вражьей, от нечистых духов обережен, от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, во сне от сгорания. А придет час твой смертный, ты вспомни, мое дитятко, про нашу любовь родительскую, про хлеб-соль, обернись на родину славную, ударь ей челом семирежды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.
— Иди! — мягко подтолкнул к острогу смущенного атамана.
А острог жил своей жизнью. Казаки подводили под кровлю другую башню, под которой был устроен государев амбар. Яков спешил срубить к зиме избу приказчика. Пустошь жила по-своему, не вмешиваясь в острожные дела. С сыном Иван виделся редко, а прошлая жизнь безболезненно забывалась, как отслужившая срок листва.
На Преображенье Господне к острогу подошли струги, плывшие с верховий Ангары. Казаки, по своему обычаю, веселились на светлый праздник. Скит радовался ему и отмечал Преображение по-своему. Опираясь на посох, кланяясь монаху и вкладчикам, к пустоши подошел Афанасий Филиппович Пашков. Он заметно постарел и обветшал на дальних службах.
Бывший воевода долго и слезно молился в часовенке, сделал вклад деньгами, просил иеромонаха Герасима и всех вкладчиков молить Бога за него, грешного. Ивана Похабова он не узнавал, а тот о себе о прежнем не напоминал и с состраданием поглядывал на служилого. Да и трудно было узнать бывшего сына боярского. Обычная хмурость, обремененность заботами сходили с его лица. Разглаживались морщины, ярче и радостней светились глаза. А у Пашкова лицо было таким, каким Иван видел его первый раз возле стола дьяка Сибирского приказа: то заискивающим, то высокомерным.
— Как пес служил государю, — жаловался, взывая к состраданию всех, с кем встречался взглядом. — И вот награда! Призывает государь для сыска. Обвинили, что войско погубил. Будто я себя самого или сына единородного щадил? — Он смахивал слезы с глаз и сморкался в кулак. — Сами чудом живы. Такую уж службу дал нам Господь на Шилке-реке. Такая наша доля!
Пашков со своими людьми уплыл вниз по реке. А перед Рождеством Богородицы Ангара несла мимо острога струг протопопа Аввакума. Непокорный поп к берегу не приставал. Он спешил в Енисейский острог и дальше, в Москву.
Совсем облетел лист с деревьев, легла на землю трава, прибитая заморозками. Над студеной водой клубился туман. Старый Похабов увидел издали, как два казака подплыли к стругу на легкой лодчонке и повернули обратно. Аввакум в распахнутой овчинной шубе победно поднялся на корме в полный рост, Животворящим Крестом благословил возведенные башни острога.
Иван спустился к воде напротив пустоши, пристально глядя на проплывавшего протопопа. Струг шел под яром вблизи берега. Узнал ли Аввакум во вкладчике бывшего грозного казачьего голову Ивана Иванова Похабова, нет ли? Взглянул на него с дерзостью победителя и поднял руку со сложенными в двуперстие пальцами, будто хотел сказать: «Умри за букву в имени Господнем, за всякий обряд, до нас заложенный!» И перекрестил скитника.
Иван склонил голову в казачьем, не монашеском, поклоне. Струг проплыл мимо. Провожая его глазами, он почувствовал, что кто-то беззвучно встал за спиной. Обернулся — Герасим.
— Опальный протопоп! — указал глазами на удалявшееся судно. — Лет уж пять назад слезно каялся, что погубил моего друга, бросил его тело собакам, а после отпел и похоронил. А тот был жив и служил в Даурах. Зачем такое на себя наговаривал? Не пойму!
— Не всем дано помнить только прошлое, — вздохнул монах, и лицо его выдало претерпеваемую муку. — Иным Господь дает помнить будущее. Бывает, одно с другим путается в голове и на языке. Видать, скоро встретятся и все случится, как говорил! — Перекрестился с грустным видом. Рассеянно перекрестился на туманный восход и старый Похабов. — Счастливые греки строили Царьград, закладывали его основу. А их пророкам уж ведомо было, что случится через тысячу лет. И были первостроителям всякие знаки к тому.
Иван настороженно обернулся к Герасиму, обеспокоенно спросил:
— Примечаю, батюшка, что ты с такой же вот тоской глядишь на наши труды. Уж не случится ли что? Вдруг зря строим: не привезет Ивашка Перфильев разрешительной грамоты?
— Растет яблонька, радуется солнцу, и вдруг самое красивое, самое здоровое деревце обрезают, — попытался что-то туманно пояснить ему монах. — За что про что? Оказывается, садовод-хозяин прививает почку, чтобы плоды были сладкими.
Поскольку Похабов никогда не был так умен, чтобы понимать намеки, то смотрел на Герасима пристально и требовательно, не как вкладчик, а как грозный казачий голова. Он не любил сомнений и в новом своем служении. Монах смутился, покачал головой, снова вздохнул и неохотно сказал:
— Язык мой — враг мой!.. Ну, призовет меня Господь неизвестно когда, а через два года после того сгорит наш монастырь. Ну и что? Новый построят! Ты закладывал основу каменную, твои труды не пропадут. Твоей душе радоваться в веках!
Словарь устаревших русских и инородческих слов, использованных в романе
Аба — отец (бур.).
Абдай — дядя (бур.).
Ак — Эй! (эвенк.).
Алтын — три копейки, шесть полукопеек, называемых денежками.
Аманат — заложник.
Андаги — соболь (эвенк).
Антиминс — платок с вшитыми в ткань частицами мощей, с изображением Христа во гробе, на котором велась литургия вне церкви.
Арза — молочная водка двойной перегонки.
Аринцы — кетоязычный народ, в XVIII веке полностью ассимилированный сибирскими тюрками, предки нынешних хакасов.
Арха — молочная водка, тарасун у бурят.
Атха шутха! — ругательство героев в бурятском эпосе.
Ахай — старший брат (бур.).
Баабай — предок (бур.).
Байгал-далай — старое бурятское название Байкала.
Баатар — в бурятском эпосе звание героя и предводителя.
Бабануур хун — болтливый человек (бур.).
Басаган — девушка (бур.).
Баюн — обычно старик, которого брали в промысловые ватаги для развлечения сказаниями и былинами.
Бердыш — боевой топор на длинном черенке, совмещенный с копьем.
Бикит — дом из бревен (эвенк.).
Бира (эвенк.) — река.
Богда, Богдыхан — китайский император (сиб.).
Богдойцы — китайцы (сиб.).
Богдан — богоданный сын — сын жены, не родной отцу.
Болдырь — полукровка (сиб.).
Боо — шаман (бур.).
Боол — дубинка, нижний сучок дерева (бур.).
Братина — сосуд для соборного застолья.
Бузар — нечистоты (бур.).
Бурхи — грязь (бур).
Бэюн — зверь (эвенк.).
Братан — старший брат.
Братаниха — жена старшего брата.
Брательник — младший брат.
Брательничиха — жена младшего брата.
Бус — мелкий дождь (сиб.).
Буха нойон баабай — бык, мифический предок бурят.
Бэртэнги — искалеченный (бур.).
Вадеми — убьет, добьет (эвенк.).
Ватага — промысловая артель.
Ветка — легкая лодка.
Вира — плата за убийство.
Вож — проводник.
Выростки — казачьи дети шестнадцати-семнадцати лет, начинавшие государеву службу.
Галди шамай! — А, чтоб тебя! (бур., бранное).
Гарса — брод через реку (бур.).
Горячее вино — хлебная водка.
Государево слово и дело, слово и дело — форма объявления дела государственной важности, по которому объявившего требовалось доставить в Москву.
Гривенка — мера веса 400 граммов, сороковая часть пуда.
Гужом — конной, оленьей тягой.
Гуталы — бурятские кожаные сапоги.
Гэр — дом. Жаа гэр — маленький домишко (бур).
Дайша — воин, воинственный (бур.).
Далай — море (мот., бур.).
Дархан — кузнец (бур.).
Дедушка — водяной дух.
Дикое поле — пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
Дуроу ниилэхэ — душа в душу, дословно стремя в стремя (бур).
Дуу, дуудэй — братишка (бур).
Дуумгэй — младший брат (бур.).
Дю — чум (эвенк.).
Заа — хорошо, ладно (бур).
Зайгуул — бродяга, проходимец (бур).
Елеунэ — эвенкийское название реки Лены.
Ертаул — разведчик.
Ефимок — талер с выбитым на Московском денежном дворе клеймом. Приравнивался к рублю.
Животы — движимое имущество.
Жупан — короткий кафтан, обычно голубого цвета, в XVII веке распространенный в Речи Посполитой и среди казаков.
Зааманатить — взять в заложники.
Заплечник — палач.
Зипун — верхняя одежда из домотканого сукна.
Зулхэ — бурятское название реки Лены.
Илэ — человек-эвенк (эвенк.).
Илэл — люди, самоназвание эвенков.
Кабала — письменное долговое обязательство.
Камлать — шаманить с бубном, призывая духов.
Камчатый — китайского шелка.
Капище — место языческих молений и жертвоприношений.
Кистень — боевое холодное оружие. Короткий черенок, цепью или ремнем соединенный с металлическим шаром.
Клепало — кусок дерева или камень, используемый вместо колокола.
Клепцы — охотничьи ловушки для промысла.
Корольки — стеклянные бусы.
Кортома — традиция русских сибиряков на период отсутствия продавать жен во временное пользование (обычно женщин нерусского происхождения).
Кошт — расходы на содержание, иждивение.
Кружка — емкость в десять чарок, 1200 граммов.
Култук — мелководный залив; заглушка для вентеря.
Кутной угол — хозяйский угол в крестьянских избах, правый от входа.
Кушак — широкий матерчатый пояс.
Куяк — шлем, каска.
Кыштымы — роды и племена, зависимые от инородцев.
Лавтак — шкура или ее часть.
Лама — эвенкийское название Байкала.
Литвины — православные русичи, подданные дворянской республики Речи Посполитой.
Лучи — русичи в эвенкийском произношении.
Лыпа — посох с насаженным коровьим рогом (альпеншток).
Мангадхай — в бурятском эпосе антропоморфное многоголовое чудовище, олицетворение несчастий.
Мата — уважаемый (эвенк.).
Меноэн — зимнее стойбище (эвенк.).
Мерген — охотник (тюркск.), охотник-добытчик и один из титулов предводителей у бурят.
Мощаница — полость с вложенной частицей мощей святого.
Мурэн — большая река, бурятское название Ангары.
Нагородни — укрепление на крыше избы.
Надолбы — бревна, вкопанные вокруг острога или крепости так, что между ними может пройти человек, но не может проехать всадник.
Наказы — письменные распоряжения и наставления начальствующих лиц.
Обротчики — безземельные, лично свободные, наемные работники, платившие подушный налог зерном.
Одекуй — крупный бисер разного цвета.
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
Отписки — письменные отчеты.
Охабень — старинный кафтан с четырехугольным отложным воротником.
Пальма — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насажанный на длинное древко.
Паняга — заспинная доска с петлями для груза.
Пегие люди, или остяко-самоеды — устаревшее название селькупов, сибирского народа самодийской языковой группы.
Пенный — обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
Повязка — девичий головной убор.
Подьячий — в XVI–XVII веках чиновник, ведавший делопроизводством.
Поклоны — подарки царю.
Покрута — наем в промысловую ватагу с половины, трети или четверти добытого меха.
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
Полуденник — южный ветер.
Полуженники — частично оплатившие затраты на промыслы или промышляющие за половину ужины по уговору.
Половой — прислуга в кабаках и гостиницах.
Полпиво — слабый хмельной напиток.
Поминки — подарки служилым людям.
Поприще — кроме современных значений, древнерусская мера пространства 20 верст (21,3 км) — дневной переход.
Прибранные новоявленно — принятые на службу из не служивших прежде.
Послух — по древнерусскому праву — свидетель, который, в отличие от «видальца», не являлся очевидцем происходившего.
Поющая стрела — гуннские стрелы, издающие звук в полете.
Примучил — вынудил.
Приставы — охранники, лица, сопровождавшие преступника или подозреваемого.
Причт — штат священников и церковнослужителей при церкви.
Пыжица — рубаха из шкуры оленя.
Разрядный — утвержденный в должности или в чине Сибирским приказом.
Сайн байну! — монгольское и бурятское приветствие.
Самоеды, самодийские народы — общее устаревшее название племен ненцев, энцев, нганасан и селькупов.
Сары — эвенкийские меховые зимние сапоги.
Сверх указного государева числа — сверх штата.
Связчик — напарник по промыслам.
Сиротский угол — угол возле входной двери, обычно слева.
Складни — походные иконы.
Складники — промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.
Скорбут — цинга (устаревшее название болезни).
Слобода — в Восточной Сибири в XVII веке административный центр нескольких пашенных деревень.
Слободчик — организатор и основатель или руководитель слободы.
Сонинг — герой, предводитель (эвенк.).
Старшинка — выборные чины станичного и войскового правления.
Стольник — младший придворный чин в России XVII века (стольник — окольничий — боярин).
Стоячий тын — частокол, забор из врытых в землю бревен.
Стрелка — песчаная коса.
Стружки-однодневки — легкие, наспех сделанные лодки.
Сувор — человек с изуродованным лицом.
Сусленки — платные бани при острогах и слободах с продажей легкого хмельного напитка.
Сусло — хмельной квас.
Сын боярский — в XVII веке в Сибири средний служилый чин выше казака или стрельца и ниже дворянина.
Тайбола — самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге (устар.).
Тать — вор, разбойник.
Товарищ — у казаков — соучастник по общему делу равных.
Требы — жертвоприношения.
Туесо — берестяная посуда.
Тунгусы — название эвенков в русских документах XVII века.
Ужина — полный пай, вносимый промышленным в снаряжение ватаги и полная доля из добытого меха.
Урман — дикие, необитаемые места в тайге.
Уруул — пришлый (бур.).
Урыкит — эвенкийское традиционное место летних стойбищ.
Уста — кузнец, мастер (тюркск.).
Утуг — отстой для скота под открытым небом.
Хазак-мангадхай — русич, русский (бур.).
Хорзо — молочная водка после тройной перегонки (бур.).
Хубун — титул главы родоплеменного объединения у бурят в XVII веке.
Целовальник — выборная должность людей неслужилых сословий (черносошных крестьян, посадских), ведавших доходом с кабаков, сбором пошлин, выполнявших судейские и полицейские функции.
Чарка — сосуд для питья и мера жидкости около 120 граммов.
Чаровать, узорочить — привораживать с помощью снадобий.
Челобитные — письменные прошения.
Черкасы — запорожские казаки.
Чибара — раб, дословно — лысый, остриженный (эвенк.).
Чувал — очаг с дымоходом.
Чукульмы — эвенкийские женские легкие меховые сапоги.
Чуница — самостоятельное подразделение промысловой партии от трех до пяти человек.
Шебалташ — кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивались рог с порохом, мешочек с пулями, огниво.
Шертовать — присягать.
Шитик — тип судна, киль и часть шпангоутов которого делались из цельного дерева. Обшивка бортов крепилась — «шилась» — корнями деревьев, кустарником.
Элеунэ — река Лена.
Эсэгэ Малаан, сын Вечно Синего Неба — мифический небожитель бурятского эпоса, покровитель людей.
Этыркэн — старик, дед (эвенк.).
Эхириты, булагаты — бурятские племенные союзы.
Юркий — табуированное название соболя среди промышленных в XVII веке.
Юрол — благопожелания (бур.).
Ямы — ямские станы.
Ясыри — рабы-пленники (тюркск.)
Первопроходцы
1. Мне отмщенье и аз воздам
Весна случилась ранней и такой жаркой, что, взламывая лед, запрудилась заторами, забуйствовала не достоявшая свой срок река Лена. Вода поднялась на пять саженей и подступила к воротам Ленского острожка. Уж этого никак не ждали: место выбирали долго и осмотрительно, после того, как поставленное сотником Бекетовым зимовье, подмыло и свалило первым же паводком. Но, поплескавшись у ворот с навешанной над ними караульней, вода стала спадать, оставляя на мокром песке берега топкий, липучий ил и весенний сор. Оголодавшие казаки поспешно поставили сеть в речной заводи. Едва заалели за дальними увалами первые лучи солнца, Пашка Левонтьев и Мишка Стадухин столкнули на воду берестянку, поплыли снимать улов. Но дело оказалось непростым. Пашка, с боярской важностью восседая на пятках, удерживал веслом верткую лодчонку, Мишка бросил под ноги полдюжины бьющихся рыбин и замычал, замотал головой, сунул за пазуху остуженные руки: сеть была забита травой, ветками и всяким сором. Пашка невозмутимо взглянул на подвывавшего товарища, резким движением весла выровнял корму, чтобы Мишка мог тянуть к берегу полотно со всем уловом и сором. Выбирать ее как есть было небезопасно, от непомерной тяжести сети утлая берестянка могла черпнуть бортом и утонуть.
Круг солнца в цвет начищенной меди, оторвался от увалов, пожелтел и растекся по ясному небу, по речной глади. Над сырым берегом замельтешило марево, застрекотала сорока, вздымаясь и опадая над лодкой, гулко застучали ставни и двери. Из острожной калитки вышел казак, высмотрел рыбаков на воде, припадая на ногу, заковылял к тому месту, куда выгребал Пашка. Берестянку мотало, забитая сором сеть цеплялась за дно. Мишка Стадухин то и дело совал за пазуху красные осклизлые ладони, отогревал дыханием немеющие пальцы, приглушенно ругал водяного дедушку.
Хромой казак, переминаясь, выждал, когда лодка подойдет ближе. Едва смог дотянуться до нее, согнулся коромыслом, схватил за нос, потянул, одышливо лопоча:
— Новый письменный голова Васька-то Поярков чего удумал! Отпускает Парфенку в Илимский!
Стадухин пытливо вскинул на него приуженные ломотой глаза. Казак закивал с блуждавшей улыбкой в рыжеватой бороде:
— Отпускает!.. И без досмотра! Неужто опять вывернется? — Дурашливо округлил смешливые синие глаза, будто с весельем удивлялся верткости сослуживца. — От Пояркова откупится и воевод обманет!
— Не голова, башка баранья! — гневно выругался Мишка, забыв про остуженные руки, перекинул через тонкий борт ногу в промазанном дегтем бродне, встал на дно по колени в воде, сунул сеть принесшему весть казаку и выскочил на берег.
В Ленском остроге было известно, что нынешний царь Михайла Федорович Романов наконец-то узнал о великих беспорядках на реке Лене и послал на свою дальнюю вотчину двух воевод в чинах царских стольников. Как положено кремлевским чинам, они двигались к месту службы только летом, вникали в дела Сибирской украины, творили в пути суд и управу. Зимовали в Тобольском городе, потом в Енисейском остроге, теперь, по слухам, стояли в Илимском, отправляя вперед своих людей и прибранные в пути отряды. Их письменный голова сын боярский Василий Поярков прибыл в Ленский осенью и по сию пору принимал дела у сына боярского Парфена Ходырева, который после атамана Ивана Галкина два года сряду сидел здесь на приказе.
Казак Семейка Дежнев, принесший весть, с комом сети в руках неловко переступил на раненую ногу, по щиколотку утонувшую в вязком намытом иле, потянул спутанную сеть, бормоча с покривившейся улыбкой: — «Ворон ворону глаз не выклюет!»
— На все воля Божья! — наставительно изрек Пашка, неспешно вылезая из лодки. Он распрямился в полный рост, снял шапку, обнажив красивую, ровную лысину, степенно поклонившись на засиявшее солнце, прочертил перстами ровный крест: со лба на живот, с плеча на плечо.
— Ну, уж нет! — Мишка блеснул затравленными глазами, скакнул на месте со скрещенными на груди руками. — Под кнут лягу! «Государево слово и дело» объявлю, — заскрипел зубами, — но на этот раз Парфенка не отбрешется. — Вот вам крест! — Выпростав из подмышки красную ладонь, сведенную в куриную щепоть, торопливо и небрежно перекрестился. — Не по-христиански это замалчивать грехи власти и потакать подлым.
— То он не объявлял против нас «слово и дело», — со смешком напомнил прошлое Дежнев.
Семейка хоть и знал вздорный нрав земляка-пинежца Мишки Стадухина, но когда шел к реке с плохой вестью, думать не думал, что тот так взбесится.
Глядя на его побагровевшее лицо, смущенно пожал плечами:
— А что? Васька Поярков всех отпускает. И Постника Губаря с ясачной казной, — опять невзначай уколол Стадухина.
Семейку пригнала в Сибирь безысходная бедность, приставшая к его роду еще при дедах. О богатстве и славе он не думал, уходил с отчины, надеясь заработать денег и поднять дом до достатка прожиточных соседей. Но и в Сибири едва кормил себя поденными работами, нигде не мог зацепиться. В Тобольском городе дошел до такого отчаяния, что поверстался в службу на Енисей с половинным стрелецким жалованьем — лишь бы быть сытым. И с тех пор, как целовал Честной Крест во храме Святой Софии, носило его по разным острогам и зимовьям, будто святой покровитель пинал под зад: из Енисейского гарнизона ушел на Лену с сотником Бекетовым, с приказным сыном боярским Ходыревым гонялся за беглыми ясачными тойонами, ходил через горы на реку Яну с десятником Митькой Зыряном на перемену тамошнему служилому Постнику Губарю — и все в половинном окладе.
Следом за Постником Митька Зырян с отрядом вышел на Индигирку и отправил его, Семейку, с казаком Гришкой Фофановым-Простоквашей и с двумя промышленными людьми обратно в Ленский острог с ясачной казной и с выкупленной у тунгусов якутской девкой, дочерью ленского князца-тойона. В пути Семейка был ранен янскими тунгусами, пытавшимися пограбить малочисленную ватажку. Казну он сохранил, а награды не выслужил, даже добытое в походе потерял — так уж нелепо вязали ему судьбу незрячие девки Доля с Недолей.
Смененный Митькой Зыряном Постник Губарь вернулся на Лену богатым и знаменитым, дал Ходыреву поклон черными соболями, гулял, похваляясь удачным походом, посмеивался над Мишкой Стадухиным, который перед выходом на Яну ходыревской хитростью переметнулся в другой отряд.
— Постник повезет ясак воеводам в Илимский острог! — монотонно бубнил Дежнев, вытягивая сеть. — Свой и зыряновский, который я привез. Митьку Копылова с его людьми Васька Поярков освободил от своего сыска и отпускает на воеводский суд.
Стадухин исподлобья метнул на земляка разъяренный взгляд, сорвал с головы сермяжную шапку, выбил о колено, и, выдергивая ноги из грязи, вороном заскакал к острогу.
— Дурная башка! — Сочувственно посмотрел ему вслед Пашка Левонтьев, смахнул с лысины вялых после ночной стужи комаров, надел шапку и приказал Дежневу: — Помогай теперь разбирать сеть за земляка. Выбирай рыбу.
Ленский острог был небольшим укреплением, поставленным казаками под началом атамана Галкина: три избы, часовня, два амбара, крытые тесом, караульня над воротами. Стадухин ворвался в съезжую избу, не стряхнув с бродней песка и речной грязи, с перекошенным лицом бросился к столу письменного головы:
— Отпускаешь Парфенку, да? Говорят, без досмотра. А у него ворованных соболей и шуб без счета. Объявляю «государево слово и дело»! Я свидетель, как в позапрошлом году он подговаривал якутов убить копыловских служилых. Против него тогда восстали все казаки. Говорили: хочешь наказать томичей — убей сам, но не дозволяй инородцам. И то, что нынешней зимой на Алдане перебито сорок казаков и промышленных, — тому он заводчик… На нем грех!
— А ты там был нынешней зимой? — ломая бровь, строго спросил тобольский казак Курбат Иванов, прибывший с Поярковым и случившийся тут же.
Стадухин не снизошел ни до ответа, ни до взгляда в его сторону, но пристально глядел на письменного. Рассеянная улыбка в его стриженой бороде даже не покривилась от гневных слов казака, только зеленоватые глаза, блеснув, стали холодными и блеклыми, как лед.
— Зачем же сразу «слово и дело»? — Письменный голова отодвинул по столешнице бумаги, почесал пером ухо. — Езжай на Ленский волок, скажи все царским воеводам Петру Петровичу Головину и Матвею Богдановичу Глебову. От них суд и управа.
Опешив от неожиданного предложения не досказав, что накипело против Ходырева, Стадухин вперился в Пояркова изумленным и недоверчивым взглядом, растерянно задергались рыжие усы, выделявшиеся в русой бороде.
— С кем плыть? С Парфенкой?
— Хочешь — с ним или с атаманом Копыловым. — В глазах письменного головы блеснула скрытая насмешка, губы в стриженой бороде неприязненно покривились. — Можешь — с Постником Губарем: один разве только к зиме до Куты доберешься. Да и небезопасно нынче. Отпускную грамоту я тебе напишу, ступай с Богом!
В добрых словах письменного головы что-то кольнуло Стадухина под сердце, и подумалось вдруг, что Ходырев и Поярков похожи друг на друга, как братья. «Земляки, наверное!» Побуравив сына боярского остывающими глазами, он покряхтел, покашлял, побледнел и снова стал наливаться густой краской. Не зная, что сказать, бросил презрительный взгляд на Курбата Иванова, пытавшегося встрять в разговор, развернулся, вышел с какой-то смутной догадкой. Конечно, он не мог идти в одних отрядах ни с Ходыревым, против которого собирался объявить «государево слово и дело», ни с томским атаманом Копыловым, с которым воевал на Алдане. Но на Ленский волок собирался его старый товарищ казачий десятник Постник Иванов Губарь. С ним отчего бы не сходить, если приказный даст отпускную грамоту.
Желтый песчаный берег, освободившийся от опавшей воды, толстые, приземистые, безмерно сучковатые и кривые сосны вдали от реки. Прежний бечевник — тропа, которую проложили бурлаки прошлым летом, был смыт паводком вместе со станами и балаганами, завален плавником. Уже к полудню работные люди, нанятые приказчиками именитых купцов, меняли бахилы на сухие, промазанные дегтем, так как прежние размокали и висели на ступнях комьями липкой грязи. Ну, да Бог не без милости! Почти каждый день к полудню, а то и раньше, вздымая против течения резкие плещущие волны, начинал дуть пособный ветер. На стругах поднимали паруса, помогали им веслами, и они ходко шли против течения реки.
Горы подступали к берегам все ближе и тесней, становились выше и скалистей. Стадухин с шестом в руках вглядывался в трещины на отвесных скалах, видел очертания воинов с саблями и пиками, женщин и детей, бегущих от боя. По тунгусским поверьям, в каждой горе жил дух, иные из них, доброжелательные к людям, такими картинами на камне предсказывали будущее и упреждали от опасностей. Михей высматривал знаки, загадывая исход своего поединка с Парфенкой, но глаза отмечали только невесть чего ради дравшихся воинов и женщин.
Кончалась короткая шаткая весна, подступало жаркое лето. День был долог, короткая ночь сумеречной, нетемной. Солнце ненадолго пряталось за увалы, покрытые низкорослой лиственницей и, будто натыкаясь там на колючий сухостойный лес, вскоре опять поднималось на небо. Река все круче поворачивала на закат.
Бурлацкий передовщик из первых промышленных людей, осевших на Лене, степенный и важный, с пышной бородой в пояс, каждый год водил суда на Куту. Он хорошо знал бечевник и вытребовал своим бурлакам плату вдвое против того, что сулили служилые Ходырева и Копылова. Торговые люди согласились, потому что спешили, Постник — потому что был богат. Работные, нанятые бурлацким передовщиком, днем и ночью тянули суда против течения, отсыпаясь во времена густых туманов и противных ветров. Казалось, они и останавливались только для того, чтобы наловить рыбы и заварить мучной каши — саламаты.
Стадухин в бурлацкую бечеву не впрягался, занимаясь более легким делом — стоял в струге на шесте и садился за весло, когда нужно было переправляться на другой берег или грести против течения. Постник, кичась богатством, добытым на дальней государевой службе, с неделю сидел на корме, обложившись шубами, напоказ отдыхал, с важностью поглядывал по сторонам, от путевого безделья маялся охотой поговорить, мучил Михея рассказами об Индигирке и Яне.
На другой неделе ему удалось купить у встречных торговых людей полведра горячего вина. Тут Губаря и вовсе разобрало. Прикладываясь к берестяной фляге, он похохатывал, поддразнивал товарища, угрюмо работавшего шестом: знаю, мол, вас, пинежцев, ярых да завистливых.
— Скажу тебе, Мишка, прямо, ты — казак добрый, но только тогда, когда надо воевать. А для начального человека этого мало. Если он умный, — Постник слегка выпячивал грудь, показывая, кого имеет в виду, — то воевать и не надо вовсе: можно словом и лаской убедить диких мужиков идти под государя для их же пользы и ясак взять вдвое. Они же все хотят мира и порядка.
Посапывая и поклевывая носом, Губарь многоумно помолчал, со вздохами в другой раз приложился к фляге, крякнул, предложил Стадухину:
— Выпей!
— Не буду! Жарко!
— Вот ты отказался идти со мной на Яну, а я, грешным делом, даже обрадовался. А почему? А потому, что когда ходили с тобой на Вилюй — кто был начальным? Я! Десятник Постник Иванов Губарь! — Похлопал себя по опадающей груди. — Кто уговорил якутов, тунгусов и долган мириться? Опять я! А как стрельба началась, так Мишка всему голова … Это неправильно! — Икнул, по-гусиному выгибая шею.
Стадухин вина не пил, разве пару раз пригубил для виду. Подначки товарища до него не доходили — голова была занята другим. Пьяными откровениями Постник напомнил, как восемь лет назад сотник Бекетов отправил на Вилюй служилых и промышленных людей под началом Дружинки Чистякова, чтобы взяли ясак с тамошних якутов и тунгусов да с мангазейских промышленных людей, осевших в тех местах. Все они пропали. Михей вызвался идти искать с отрядом служилых и промышленных людей под началом казака-десятника Постника Губаря.
В тот год возле острожка на Лене собралось до сотни беглых енисейских и мангазейских казаков, гулящих и промышленных людей. Бекетов ломал голову, как их выпроводить куда подальше. И поплыли они одним караваном с Михеем и Постником вниз по Лене. С частью постниковского отряда прошли мимо устья Вилюя, зимовали в долганской земле, в Жиганах, срубив там зимовье. На Вилюе люди Постника и Стадухина узнали, что пропавший отряд Дружинки Чистякова столкнулся с мангазейскими служилыми под началом Степана Корытова. Мангазейцы считали Вилюй своим уездом, имели наказную память от мангазейского воеводы и требовали отдать им собранный Дружинкой ясак. Енисейцы отказали. Тогда люди Корытова взяли на себя еще один ясак с тунгусов и якутов, а те в отместку убили двух их сборщиков. Разъяренные мангазейцы напали на енисейцев, отобрали казну, струг, припас, пригрозили бросить их на пустом месте при восставших инородцах и, по слухам, вынудили плыть с ними на Алдан.
Постник Губарь с Михеем Стадухиным, узнав все это, замирили восставшие роды, поставили на Вилюе укрепленное частоколом зимовье, перезимовав, вернулись в Ленский острожек, не заходя в Жиганы. Здесь Михей узнал, что та самая толпа беглых, гулящих и промышленных людей, которая прошлой весной плыла стругами за его отрядом и зимовала в Жиганах, построила кочи, прислала к Бекетову выборных людей, они вытребовали у ленского приказного отпускную грамоту и поплыли в низовья Лены для прииска новых земель. Во главе отрядов заявились идти хорошо знакомые Стадухину беглые служилые: енисеец Илейка Перфильев и мангазеец Иван Ребров. С ними самовольно ушли некоторые люди из отряда Дружинки Чистякова и он сам. Иван Ребров левой протокой ленского устья дошел до моря и открыл реку Оленек, прослужил там четыре года, затем проложил морской путь на Яну, а нынче был где-то на Собачьей реке. Илья Перфильев открыл реку Яну, впадавшую в море по правую руку от устья Лены, объясачил тамошние народы, вернулся в Ленский острожек в собольих онучах, в двух шубах, с двадцатью сороками соболей и лис помимо государевой казны. А Мишка Стадухин в то же время бесславно воевал на Алдане с русскими людьми Степана Корытова. Мангазейцы отбились и ушли бы с Лены, но сменивший Петра Бекетова атаман Иван Галкин собрал сорок служилых и промышленных людей. Среди них оказались братья Хабаровы, Семен Шелковников пришедшие на Лену в самый разгар войны. Плечом к плечу все они бились в отряде десятника Семена Чуфариста. Мангазейцев разбили наголову. С обеих сторон было до десятка убитых. Степана Корытова пленили и за приставами повезли в Енисейский острог. Но мира, порядка и справедливости, ради чего была пролита русская кровь, Бог не дал. Зимой объединились отложившиеся якутские роды, загнали казаков в Ленский острог и держали в осаде два месяца.
Тем же летом служилые выпытали у промышленных людей слухи про юкагирскую землю. Для ее прииска атаман Галкин отпустил туда отличившихся в войне с мангазейцами десятников Устина Никитина и Семена Чуфариста со служилыми и промышленными людьми, дал казенный коч, снасти, отпускную грамоту и наказную память, но проводить отряд не успел. На перемену ему из Енисейского острога был прислан сын боярский Парфен Ходырев.
Сказывали казаки, что при сдаче острожка Иван Галкин назвал Ходырева овечьим сыном. Неприязнь между ними началась в давние времена, когда никому не известный Парфен в чине сына боярского прибыл в Енисейский острог с новым воеводой. Его отец из новгородских детей боярских по московскому списку забрел в Сибирь по бедности и служил до сносу, но ни за ним, ни за его сыном подвигов не было. Парфен же явился в Енисейский с жалованьем, равным жалованью известного по всей Сибири атамана Ивана Галкина. Казаки и стрельцы, узнав о такой несправедливости, взбунтовались. Воевода вынужден был пойти на уступки, уравнял жалованье Парфена с жалованьем других детей боярских. Тогда Ходырев самовольно ушел в Томский острог и вернулся оттуда в Енисейский опять без заслуг, но с прежним высоким жалованьем.
При сдаче Ленского острога атаман Галкин укорил сменщика, что тот служит языком, вылизывая зады воеводам и дьякам Сибирского приказа. Затаив на него злобу, Ходырев объявил «государево слово и дело» против десятников Никитина и Чуфариста с их казаками за убийство мангазейских служилых и промышленных людей. Обвиняемых за приставами возили в Енисейский острог, там атаман Галкин оправдался сам и помог оправдаться им. Но Ходырев как доносчик отвертелся от первого кнута и был всего лишь сменен на приказе через полгода. Но отряд Чуфариста из-за его козней и сыска так и не ушел в юкагирскую землю. В нем числился Мишка Стадухин. Это была не первая из неудач, преследовавших его на ленской службе, и не последняя по вине Парфена Ходырева. Как-то спокойно и презрительно, с затаенной усмешкой, сын боярский раз за разом обманывал Михея, будь казак в ярости или спокоен. От бессилия против хитроумия приказного ненавидел его Стадухин так, что убил бы, будь тот какой-нибудь нерусью. Нос репкой, морда круглая, борода редкая, глаза с лисьей раскосинкой. Завидев его, Михей багровел, а Ходырев знай себе посмеивался, чем пуще прежнего озлоблял казака. Задним умом Михей понимал, что в ленских неудачах виноват не только Ходырев: портила жизнь какая-то нечисть, а Бог, по грехам, попускал, но, как водится, во всех несчастьях винил Ходырева.
Четыре года назад, опять при атамане Галкине, который вернулся на приказ в Ленский острог, Михей Стадухин с отрядом был отправлен на Вилюй разбирать жалобы якутов на тунгусов и зимовал там. В то время нежданно-негаданно Постник Губарь с отрядом служилых и промышленных людей своим подъемом купил коней, хлебный припас, перевалил Янский хребет и открыл верховья Яны, куда прежде не добирались служилые люди. Объявился Постник на Лене через два года с богатым ясаком, привез слухи о неведомой земле к восходу и о серебре, оплатил долги, стал собираться в новый поход. Ушел бы с ним Мишка Стадухин, но в тот год на смену атаману Ивану Галкину, торжествующе посмеиваясь, опять явился Парфен Ходырев, по всем приметам, в огне не горевший, в дерьме не тонувший. Галкин прилюдно спросил его, чисто ли вылизал зад новому енисейскому воеводе? На этот раз Ходырев посмеялся со всеми вместе, никак не ответив на обидные слова и Стадухин сдуру решил, что тот покаялся. Если бы Парфен стал отговаривать его от похода с Постником, он бы не послушал и ушел самовольно, но Ходырев лишь мимоходом обронил:
— Зачем тебе, старому казаку, Яна? Она давно объясачена и Перфильевым, и Ребровым, и Губарем.
Стадухин насторожился, ожидая очередного обмана, но зловредный сын боярский предложил:
— Отправлю казенным подъемом отряд в верховья Алдана для прииску новых земель. Вот те крест! — Перекрестился. — Отпущу тебя!
Алдан! Богатейшие места. Много лет енисейские и мангазейские промышленные дрались за них между собой, с якутами и тунгусами. Алданские якуты беспрестанно вели там межродовые войны и отбивались от тунгусов, призывая на помощь казаков и промышленных людей. Все хотели мира, порядка и справедливости, но устроить их никто не мог.
Парфен прельстил Михея волей и казенным подъемом. Постник шел на Яну всего лишь на перемену людям, оставленным Ильей Перфильевым, кабалился, снаряжаясь за свой счет. Крест, наложенный приказным на грудь, смягчил давнюю неприязнь казака. Сын боярский не обманул Стадухина: он уже шел по Алдану с большим отрядом, но вместо прииска неведомых земель пришлось воевать с томскими казаками атамана Дмитрия Копылова. Прошлым летом скандальные томичи проплыли мимо Ленского острога, прихватив с собой десяток таких же буйных красноярских казаков-самовольщиков. Они поднялись по Алдану и поставили Бутальское зимовье, навели порядок среди ясачных и промышленных людей. Но Ходырев не простил Копылову неподчинения и обидных слов…
Михей Стадухин очнулся от воспоминаний, стоя с шестом на носу струга. Постник с лицом, умученным вином и солнцем, молчал, о чем-то думая, сопел и мотал хмельной головой. Вздохнул раз, другой, третий, вскинул на товарища соловые глаза, признался:
— На Индигирке жалел, что нет тебя рядом! Говорил своим: «Мишка врага за версту чует. А с вами я, как пес, всю ночь не сплю».
Караван торговых стругов обыденно поднимался против течения реки. Дни были жаркими, где-то горела тайга, дым сгонял к воде тучи мошки. Постник, тяжко всхрапывал, свернувшись среди собольих шуб, облепленное гнусом лицо было синюшно-серым. Стадухин смахнул с него мошку, надел на пьяную голову сетку из конского волоса. Когда десятник очухался и содрал ее с себя, бурлаки дружно загоготали:
— Такую морду портками надо прикрывать!
Короткими светлыми ночами Стадухин смотрел в небо без звезд и до боли в груди думал, что если управы на Ходырева не будет и от воевод — уж лучше зарубить его и принять царский суд, чем мучиться тем бессилием, каким страдал последние два года. Он бы вызвал Парфена на Божий суд, но понимал глубинным умом, что «сын овечий» не только не выйдет на поединок, но и сумеет посмеяться над незадачливым казаком.
— Треть пути пройдена! — бурлацкий передовщик указал рукой на невидимое еще устье Олекмы и трижды наложил на грудь крестное знамение.
На Олекминской таможне сидел таможенный голова Дружина Трубников, на которого у Стадухина не было надежды. Будучи на приказе в Ленском, Парфен Ходырев правил им, как хотел. По слухам, все нужные приказному люди проходили Олекму беспошлинно. Торговые и промышленные, возмущаясь ленскими беспорядками, выбрали сюда целовальником промышленного человека Юшку Селиверстова. Стадухин знал Юшку еще по Енисейскому посаду. На Лену тот пришел с промышленными и торговыми людьми при первом правлении атамана Галкина, ходил в походы с Семеном Чуфаристом, воевал с мангазейцами. После той войны разрозненные якутские роды, платившие ясак, отложились от присяги, объединились, напали на острог и держали его в осаде, пока не вышли из тайги промышленные люди. Среди них за версту был слышен трубный рык Юшки Селиверстова. Малорослый и худосочный с виду, он имел непомерно громкий, густой голос, которым любовался и похвалялся, а потому говорил много, часто, без всякой нужды. Злой и шумный, как дворовый пес, Юшка драл луженую глотку за свою и мирскую правду. За это не раз был бит, но за то же избран в таможенные целовальники. Сытая царева служба многих правдолюбцев делала ворами. Но Юшка сидел на таможне недавно, мог еще не потерять совести и не спеться с таможенным головой. В прежние годы он был зол на Ходырева, что тот не давал отпускной грамоты Юшиной промысловой ватаге и, вымогая взятку, продержал ее возле острога до самой осени.
В виду Олекминской таможни Стадухин даже заволновался, предвкушая встречу с целовальником, но был приятно обрадован, когда тот, все такой же крикливый и по-куньи подвижный, налетел на приткнувшиеся к берегу торговые струги. Осмотрев их, стал путаться в дела служилых, пытался даже пощупать опечатанные Поярковым кожаные мешки с государевой казной, хотя не имел на это никаких прав.
— Пошел вон! — цыкнул на него Постник. — Мишка, поддай ему шестом!
Но Стадухин глядел на целовальника приветливо.
— А ты с чем едешь? — спросил тот, любопытствуя наперекор Постнику.
— С ложкой, плошкой да с мирской правдой! — ответил Стадухин и показал отпускную грамоту письменного головы Пояркова.
— Да ты чо? — возмущенно вскрикнул Постник. — С какого рожна целовальник сует нос в казачьи дела?
Юшка бросил на десятника мимолетный презрительный взгляд, вернул Михею отпускную.
— На кого управу ищешь? — спросил приглушенным доверительным голосом.
— На сына боярского Парфена Ходырева! — ответил казак, пристально глядя в небесно-голубые Юшкины глаза с младенчески чистыми белками.
Они вмиг сузились и покрылись красными прожилками, веки набухли, выдавая непрощеную обиду.
— К тебе есть разговор, — добавил казак, почувствовав, что может найти в Юшке поддержку.
— Вам кого ни посади на приказ — всеми недовольны! — посмеялся Постник, слышавший разговор. — Вот как сядут на Лене два стольника, не видавшие жизни горше, чем в царских палатах, с умилением вспомните Парфенку.
— Хуже не будет! — огрызнулся Стадухин. — Сколько народу при нем погибло? Столько за всю прошлую войну с якутами не убили.
Селиверстов как строптивый конь скосил глаза на Постника, подергал кадыком, но удержался от ответных слов. Закончив дела, он передал зашнурованную книгу с висячей печатью таможенному голове. Тот вслух прочитал записи о собранных пошлинах, прилюдно приложил к листу печать и, расправив бороду, закрыл книгу. Дело было сделано. Целовальник отвел Стадухина в сторону, оба сели на сухую вросшую в берег лесину, Юшка навострил уши.
— Парфенка идет за нами, отпущенный на Ленский волок письменным головой. По моим догадкам, при нем не один сорок черных соболей и лис, с которых десятины не плачено. Тебе он их, конечно, не предъявит, но с ним пойдут торговые люди, дававшие ему посулы. Не прями ворам: ты Честной Крест целовал.
— А кому я прямил? — задиристо встрепенулся Селиверстов.
— Про тебя ничего плохого не слышал! — сдержанно ответил казак и поправился: — Пока ты здесь в целовальниках. — А то, что Ярко Хабаров — Парфенкин человек, через эту самую таможню беспошлинно возил рухлядь сороками сороков да тысячи пудов хлеба, — знаю от верных людей.
Селиверстов бросил на служилого резкий, пронзительный взгляд, выпятил грудь и рыкнул так, что с другого берега отозвалось эхо:
— Этот год с его обоза по приказу Парфена Васильевича я взял шесть рублей за перегруз!
— Что шесть рублей? — тоскливо усмехнулся Стадухин. — Они их сотнями делят меж собой.
Струги пошли дальше к устью Витима знакомым путем длиной в сибирское лето. Оглядывая берега, Михей вспоминал места, где плечом к плечу с Ерошкой Хабаровым отбивались от якутов, покаянно вздыхал, что теперь, из-за Парфена Ходырева, вынужден говорить против него. Лето шло на жару, во всю силу лютовала мошка: утром и вечером мельтешила возле земли, при потеплении вставала на крыло, набивалась в балаганы станов. Если по берегам реки ее продувало ветром, то из лесу люди выскакивали окруженные серыми шарами. При полуденном солнце даже на середине реки с гудением носились оводы.
Камень осыпей и галечник по берегам стали меняться песками с золотыми блесками. Янтарной стеной стояли на яру стройные и высокие сосны. Был близок Витим. Здесь при моросящем дожде и клочьях тумана, висевших над водой, торговый караван догнал олекминский целовальник Юшка Селиверстов. Он так громко орал с другого берега, что был услышан, узнан по голосу и переправлен к стану.
На берег высадился до язв изъеденный гнусом голодранец в зипуне с подпалинами и с грязью на полах. Не приветствуя казаков, торговых и работных людей, отыскал глазами Стадухина и раскатисто протрубил на всю долину реки:
— Думаешь, показал мне поклажу торговых Парфенка Ходырев? Накось выкуси! — Нацелил фигу на Губаря, разумно спрятавшего соболью шапку на время дождя и оттого опростившегося. — Из пищали грозил застрелить, ногами топал, приказывал работным утопить меня, подговаривал торговых и промышленных людей не показывать своих животов и плыть мимо таможни.
— Кто? Парфенка орал? — изумленно уставился на целовальника Михей.
Сколько знал зловредного приказного, тот ни на кого голоса не повысил: только ухмылялся и облизывал усы, как сытый кот.
— Еще как орал! — разъяренным петухом вытянул шею Юшка.
Стадухину стало легче, будто кто сдвинул с груди камень, теснивший с первых стычек с приказным.
— А Дружинка Трубников что? — спросил, невесть чему посмеиваясь.
— А стоял, будто в штаны наложивши. И казаки рядом с ним. Я один против всех собачился, а после — звериными тропами — упредить воевод, кто и как к ним едет.
По берегам с двух сторон в реку падали частые ручьи. Одни были с солоноватой водой, другие со сладкой. Бурлацкий передовщик похвалялся, будто знает их наперечет, советовал, из которых брать воду для варки рыбы и саламаты, чтобы беречь соль, из которых пить и готовить отвары трав.
Постник Губарь, отлежав бока, стал ходить пешим за стругами, удить рыбу. Как-то даже сменил Михея на шесте, и Стадухин ушел вперед с долгобородым передовщиком, чтобы без остановки стругов взять ведро воды из сладкого ручья. Вдруг спутник замер, напружинился, тихо вынул из-за спины стрелу. Михей проследил за его взглядом. Молодая изюбриха без опаски объедала береговой кустарник и в лучах восходящего солнца казалась золотисто-рыжей. Она шаловливо вытягивала шею, баловалась, как девка, мотая безрогой головой. В груди Стадухина защемило что-то несбывшееся и безнадежно переболевшее. Передовщик положил стрелу на лук и стал бесшумно натягивать тетиву, Михей взял его за локоть, мешая стрелять.
— Ты что? — вскрикнул долгобородый, ошалело уставившись на казака.
Изюбриха резко обернулась, неспешно зашла за куст, постояв, легко взбежала на яр, затаилась за раскидистыми ветвями сосны, с любопытством высматривая идущих людей.
— День скоромный, неделю идем на рыбе! — громче закричал передовщик.
— По два раза на дню бороду стираю — воняет ухой!
— Жалко! — смущенно признался Михей. — Экая коза, ну прямо как девка, — пробормотал, выглядывая изюбриху среди ветвей.
— Тьфу! — неприязненно выругался передовщик, резким движением вырвал локоть из пальцев казака, зашагал вперед быстрей прежнего, показывая, что не желает идти рядом с ним.
На Куту струги прибыли в июле, когда осинники сбрасывали первый желтый лист. Стадухин отметил про себя перемены — не новый уже причал со стороны Лены, конюшни, крытые сеновалы, балаганы работных людей. На месте прежней избы, срубленной атаманом Галкиным, стоял острожек, или зимовье, обнесенное тыном. На другой стороне притока виднелись дымы солеварни, поставленной Ерофеем Хабаровым и его верным братом Никифором. Там причал на сваях был крепче и просторней казенного. Прибывшие с низовий струги выгребали к берегу против острожка. Иссохшая трава была здесь выщипана лошадьми и густо завалена конскими катыхами. С казенного причала в привязанные суда грузили пятипудовые мешки с мукой. Изрядно выбеленные грузчики работали без шапок в неопоясанных рубахах. Широкоплечий верзила с прямой спиной показался Михею знакомым. Приглядевшись, он узнал старого енисейского и ленского скандалиста Ваську Бугра, окликнул его. Тот обернулся всем телом, щурясь протии солнца, высмотрел Стадухина, весело гаркнул:
— Мишка, что ли, стрелец?
— В Енисейском мы назывались стрельцами, — перепрыгнул со струга на причал Михей. — Здесь — казаками, а жалованье то же.
Встречая прибывших, на берегу толпились служилые и любопытные работные люди, а Стадухин с Ермолиным-Бугром тискали друг друга в объятьях.
— Побелела борода или в муке? — смеясь, отстранился Михей.
— Откуль знать! — пробурчал Васька, обнажая щербины зубов. — Не девка, на себя не любуюсь!
— Куда муку грузишь?
— Вверх Лены! Новый воевода отправил туда полсотни енисейских, березовских и тобольских казаков с пятидесятником Мартыном Васильевым ставить острог в устье Куленги. Мы им оклады повезем.
— Я-то думал, ты нынче всему волоку голова! — посмеялся Стадухин.
Бугор отмахнулся от насмешки, пристально оглядывая товарища по прежним походам.
— Ты тоже не похож ни на атамана, ни на богатого, — съязвил. — Поди, и полуштофом не порадуешь ради встречи! А то надышался рожью — в горле сухо! — пожаловался.
— Не порадую! — развел руками Стадухин. — Разве Постник разгуляется, он при рухляди, — указал глазами на спутника.
Бурлаки каравана обошли казенный причал, приткнули струги к берегу, вытянули их носы на сушу и с облегчением в лицах попадали на вытоптанную землю. Юшка Селиверстов окинул задиристым взглядом острожек и гаркнул раскатистым голосом:
— Что так близко от воды поставили?
Ему никто не ответил. Неторопливо и степенно на берег высаживались торговые и служилые. С важным видом людей при исполнении государева дела к ним подходили казаки-годовальщики, здешний приказный, сын боярский Иван Пильников. От конюшен сбегались работные, со стороны солеварни, густо пускавшей дымы, шагали какие-то люди.
— Я — целовальник Олекминской таможни! — ударил себя в грудь Селиверстов, явно обиженный невниманием усть-кутских людей. — Своей рукой рухлядь пересчитал, печати на мешки наложил.
— На Олекме, может быть, ты и целовальник, — небрежно окинув взглядом его потрепанную одеженку, проворчал сын боярский, — а здесь говно!
— За моей подписью проездные грамоты! — громче вскрикнул оскорбленный Селиверстов, топорща тощую бороденку. — Приткнешься еще, спросишь! Говорить с тобой не стану.
Кичливо, напоказ, последним сошел на берег Постник Губарь. Взгляды всех здешних людей были прикованы к нему, оттого на Юшку с его громогласными речами никто не обращал внимания. Несмотря на июльскую жару, на Постнике были надеты две собольи шубы, две шапки и штаны из черных спинок. По щекам десятника обильно тек пот, капли сверкали на мокрых бровях, но выглядел он молодцевато, ожидая заслуженных восторгов. Тесня усть-кутских казаков, его окружили работные, ахали, гладили соболей, дули на подпушек. Постник милостиво дозволял оглядеть и пощупать себя, похохатывал и не спешил отвечать на расспросы любопытных. Казаки-годовальщики, теряя степенство, тоже с восхищением разглядывали первопроходца. Среди людей, прибывших из Ленского острога, были приказчики московских купцов, именитых царских гостей[271], которые везли на Русь скупленных соболей. Рухляди у них было куда больше, чем на Постнике Губаре и в его мешках, но на них сметливо поглядывали только здешний целовальник и сын боярский.
Душа Губаря алкала праздника. Одурев от путевого безделья, он был пьян без вина, но хотел крепко выпить. Вино и рожь были здесь вдвое дешевле, чем в Ленском остроге, а соболя дороже. С другого берега Куты к прибывшим переправились полдюжины тамошних работных людей. Среди них Стадухин узнал долговязого и длиннобородого Никифора Хабарова, высокого и дородного Семена Шелковникова, с кем, бывало, отбивался от наседавших врагов, сидел в осадах, ходил на погромы и прорывы. С Семеном и Никифором Стадухин всегда ладил, с Ерофеем же в мирное время часто ссорился, но его среди встречавших не было.
— Здорово живем, людишки торговые? — фертом вышел навстречу друзьям. — Ерошка здесь?
— Нету! — хмуро ответил Никифор вместо приветствия. — В Енисейском зимовал, говорят, тамошний воевода не отпускает. А у нас перемены, — пожаловался, теребя узловатыми пальцами концы кушака. — Новых воевод царь прислал, своих стольников…
— Знаем! — Стадухин сверкнул глазами и бодро тряхнул русой бородой с золотившимися на солнце усами. — Их письменный голова, Поярков, у нас на приказе.
— Изверг! — пожаловался Никифор приглушенным голосом. — Проезжал тут, все высмотрел, выспросил. Я как дурак расхвастался, вот, дескать, какая от нас с брательником царю польза. А он воеводам отписал такое, что нынче, едва взошла озимая рожь, приехал енисейский пятидесятник Семейка Родюков с дозорной памятью, потребовал от имени стольника Головина данную грамоту на пашни и солеварню. Я ему говорил, что енисейский воевода словесно разрешил нам попробовать, родится ли здесь хлеб озимый да яровой, будет ли прибыль с соли. А он, Родюков, с целовальником Васькой Щукиным по воеводскому указу поля и солеварню описал в казну. Три десятины озими, десятину яровой. Кому выгода? — обиженно засопал Никифор. — Семейка, — кивнул на Шелковникова, — нынче целовальник на нашей солеварне.
— Ну и дела! — Стадухин, скинув шапку, почесал затылок. — Вот Ерошка-то лаяться будет! Держись, Семейка! — подначил Шелковникова. — А то и в драку полезет.
— А я что? — Семен равнодушно повел широкими, обвисающими от тяжести жил плечами. — Я в целовальники не просился — мир выбрал. Проторговался на Куте, просил воевод поверстать в казаки, челобитную отправлял. Родюков привез ответ, что по царскому указу промышленных, гулящих и торговых в казаки не верстают, только ссыльных… Воров! — Насмешливо поглядел на Стадухина, гулко хохотнул и почесал дородную грудь под шелковой рубахой.
Михей уставился на старого товарища, желая понять, над кем тот смеется. Не понял, помолчав, тоже хохотнул. Пронырливый и юркий Ерофей Хабаров возил рожь из Енисейского в Ленский барками в тысячи пудов. Они с братом держали на Ленском волоке три десятка коней с работными людьми. В прошлом году, подняли на Куте первую пашню. Незадолго до того начали варить соль сотнями пудов. Ерофей хватался сразу за десятки дел, и всюду за его спиной тенью и надежной каменной стеной стоял брат Никифор, упорно исполнявший начинания проворного брательника. Без него, без Никифора, Ерофей никогда бы не смог развернуться и на четверть.
С Парфеном Ходыревым Ерофей Хабаров был в большой дружбе. С его помощью, по словам олекминских годовальщиков, часто уклонялся от податей и налогов. Из-за этого обычно и ругались старые товарищи, не раз выручавшие друг друга в боях. Козни хитрого приказчика, путавшегося с проворным торговым человеком, бесили Стадухина. Он не завидовал Ерофею, не хотел для себя его суетной жизни, но возмущался беспорядками, которые тот заводил. Хабаров каждый год судился с людьми, которым давал в долг, и с теми, у кого был в должниках. При торговых сделках в две-три тысячи рублей он не имел своего дома: только заимку на Куте, поставленную прошлой осенью, да тесное зимовье при солеварне. Зачем, для чего нужна была Ерофею Хабарову такая беспокойная жизнь? Этого Стадухин понять не мог.
— Я Ерошке с Никифором не враг! — пояснил Семен Шелковников, смущенно глядя в сторону. — Отсудят свое — верну солеварню в целости, не запущу. — Вскинув глаза на Стадухина, спросил: — Ты-то с чем приехал? С казной?
— Со «словом и делом» на вашего благодетеля Парфенку Ходырева!
— Нашел благодетеля, — хмыкнул Семен и равнодушно повел плечами: — За всякого мздоимца под кнут ложиться — спины не хватит. Много их!
— Не за Парфенку! — обиженно вскрикнул Стадухин. — За правду, Христа ради! — Размашисто и злобно перекрестился.
Юшка Селиверстов, оттесненный от стругов и досмотра, с разгневанным лицом прибился к говорившим, краем уха услышал разговор и громогласно объявил, чтобы слышали все:
— Против Хабаровых ничего плохого не скажу, хоть и взял с ваших барок шесть рублей за перегруз. А Парфенка Ходырев — вор! Ладно мне, целовальнику, он и таможенному голове не предъявил рухлядь для досмотра.
Семен шевельнул выгоревшими бровями, глубоко вздохнул и отмолчался, с любопытством уставившись на Постника Губаря. Сын боярский Иван Пильников разгонял толпу, чтобы не мешала осматривать струги, при этом громко ругал судовых плотников, прибежавших смотреть на счастливчиков с низовий Лены. За конюшнями на покатах стояла пара больших восьмисаженных, двухмачтовых кочей, уже обшитых бортами.
— Кому строят? — спросил Стадухин, кивнув в их сторону и взглянул на Никифора, все так же теребившего опояску.
— Для них же! Для новых воевод, — проворчал Хабаров. — И избу для ночлега проездом. Станут кремлевские сидельцы в этой ночевать, — указал глазами на зимовье, укрепленное тыном.
Бурлаки в тот же день получили расчет и загуляли вместе с Постником, хотя, по слухам, работного и служилого люда на волоке было много и найти какие-либо заработки не предвиделось.
Дальше вверх по Куте струги каравана, с которым шли Губарь, Стадухин и Селиверстов, тянули кони. Их вели под уздцы работные люди Ерофея и Никифора Хабаровых. В верховьях Куты небо заволокло черными тучами и заморосил безнадежный дождь. Уныло попискивали комары, кони прядали ушами и мотали головами, над их мокрыми спинами клубился пар. Сутулясь и невольно втягивая головы в плечи, обозные люди понуро брели берегом реки. А дождь сеял и сеял, не унимаясь, два дня сряду. В верховьях, перед волоком, мешанный с туманом дым, стелившийся по промозглой земле, показался путникам домашним уютом. Здесь в крепенькой избе с трубой из глины жил служилый енисейский годовальщик. Он встретил прибывших без обычной суетливой радости, но пугливо озирался при приветствиях и разговоре, будто долго сидел в осаде.
— Здорово служится, Ивашка! — зычно окликнул его Селиверстов.
Годовальщик вздрогнул, как от удара батогом, уставился на него:
— Юшка, что ли? Беглый енисейский посадский?
— С какого ляда беглый? Я ушел на Лену с отпускной грамотой, нынче олекминский целовальник. Иду к воеводам с жалобами на вора Ходырева.
Годовальщик боязливо полупал глазами, озирая говорившего, зябко поежился и тихо проворчал:
— Ага! Парфен Васильевич даст в поклон соболей черных, — оглянулся по сторонам. — Воеводы в Енисейском меняются, а он при всех сидит и жалованье у него — ого! По слухам, имеет родню в Сибирском приказе.
— Не может такого быть! — вразнобой, в два голоса взревели Стадухин с Селиверстовым. — Царь своих верных воевод прислал для порядка… Да кто он против них, сын овечий?
Годовальщик со своими домыслами о горькой житейской правде качал головой, часто мигал, водил печальными глазами, терпеливо пережидая брань, только лицо его все пуще напрягалось и делалось цветом в порченный, перекаленный кирпич. Налаявшись как псы, Юшка с Мишкой уставились друг на друга, выпытывая один у другого в глубине глаз недоговоренное. Помолчав, разбрелись по разным углам. Обозные тесно набились в избу и сушились.
Неподалеку от старого зимовья, поставленного Васькой Бугром с товарищами, служилые люди, наверстанные воеводами, рубили две избы для их ночлега. Другой воеводский отряд, тоже рубивший избы для стольников и подновлявший гать, встретился на Муке-речке. От этих людей Стадухин с Селиверстовым узнали, что новые воеводы не отпустили атамана Копылова в Енисейск, но взяли его под стражу, чтобы за приставами вернуть в Ленский для сыска. Эта новость обнадежила Михея с Юшкой.
Наконец, их обоз прибыл в просторный Илимский острог, переполненный разным народом, как улей пчелами. Воеводы, царские стольники Петр Петрович Головин и Матвей Богданович Глебов со своими людьми творили здесь суд, управу, разбирали многие жалобы. Постник Губарь с казной был принят ими без задержки и обласкан чаркой горячего вина. Юшку с Мишкой к воеводам не пустили. Того и другого рассеянно слушал дьяк Евфимий Филатов, устало вздыхал и неприязненно морщился. Казак с целовальником не успели от души выбранить Парфена Ходырева, а дьяк уже стал выпроваживать их к писцам. Юшке велел наговорить жалобную челобитную на государево имя, что бывший ленский приказный Ходырев подговаривал торговых людей противиться таможенному досмотру, Михея равнодушно спросил, сам ли слышал, что Парфен подговаривал якутов убить служилых людей? Стадухин признался, что он только послух, а те, что слышали, — на дальних службах. Евфимий недоверчиво покачал головой и отпустил его.
С перекошенным лицом Михей выскочил из посадской избы, занятой дьяком и писцами. На этот раз он был зол на самого себя за то, что в ярости нес всякую нелепицу. Раздосадованный, сел у коновязи, в стороне от суетившихся людей, попинал вытоптанную землю пяткой сношенного бродня. Не в силах унять переполнявшие чувства, вскочил на натруженные ноги, стал вышагивать перед избой взад-вперед, дожидаясь Юшку. Наконец, тот вышел с озадаченным видом, шмыгнул носом, печально замигал обиженными глазами в красных прожилках, которые глядели куда-то поверх головы спутника. Претерпев ради правды долгий, трудный путь, голод и непогоду, после разговора с дьяком он понял, что может быть наказан за самовольное бегство с Олекмы.
— Если Парфенка и от них отбрешется, — яростно блеснул глазами Стадухин, — вот те крест, — размашисто перекрестился, объявлю «государево слово и дело». Если и царь не поверит, значит, Парфенка черту служит! Безгрешно убью гада!
— Как так? — Не слушая, Юшка вертел головой, разводил руками и таращил туманные глаза. — Подговаривать торговых не покоряться целовальнику, говорю, царев закон нарушить… А он мне — где отпускная грамота?
Вокруг них, как мошка перед дождем, мельтешили незнакомые служилые люди. Постник Губарь продал собольи штаны и гулял на питейном дворе с каким-то сбродом, в который раз рассказывая, как подносил ему чарку сам воевода-стольник и какое у него вино. Он не забыл своих связчиков, увидев их печальные лица, велел поднести им по чарке. Мишка с Юшкой, думая о своем, терпеливо послушали самохвальство товарища и тихо ушли, не пускаясь в загул за его счет. Слушателей у Губаря хватало. Знакомцев и сослуживцев они не встретили ни в остроге, ни в посаде. На закате дня оба наловили в Илиме мелкой рыбешки, испекли на костерке и устроились на ночлег под старой переломленной баркой.
Наконец в Илимский острог прибыл Парфен Ходырев и прямо с обоза был принят воеводами. Стадухин, узнав об этом, взмолился о справедливости в острожной церкви. Илимский белый поп дьячил. Литургию вели черные попы, следовавшие за воеводами в Ленский острог. К одному из них он подошел на исповедь. У аналоя с жаром заговорил о наболевшем. Монах прервал его, стал пытать о крови, зависти, корысти, рукоблудии. Михей отвечал ему все резче и злей, пока не вспылил:
— Ты кто такой? Я Богу исповедаюсь! Ты только — свидетель, а не сам Господь!
Монах вздохнул, покачал головой и не благословил к причастию. Казак выскочил из церкви, не достояв до конца литургии, нахлобучил шапку, выругался, узнал у илимских казаков имя монаха. Того звали Симеоном.
Бог не без милости, казак не без удачи! На другой день по острогу пронесся слух, что воевода Головин выявил в собранной Ходыревым казне утайку. Про Стадухина с Селиверстовым вспомнили: прибежал посыльный, объявил, что Юшке и Михею надлежит быть свидетелями при вскрытии амбара Ерофея Хабарова. Своего дома при посаде у Хабаровых не было, но здесь жил их приказчик по имени Федька и был запертый хабаровский амбар, за которым тот присматривал. Возле него уже собрались посадские люди. Одни, защищая Федьку и Хабаровых, кричали, что без хозяина срывать замок нельзя, другие ругали Ерофея, что пишет кабалу на пятнадцать рублей, а дает десять, и оправдывали воеводский приказ. Енисейский пятидесятник показал спорящей толпе дозорную память от воеводы, затем при хабаровском приказчике, целовальнике и многих свидетелях вскрыл амбар. Целовальник, приказчик, пятидесятник и казак Стадухин вошли внутрь. Толпа любопытных так заслонила раскрытую дверь, что под кровом стало темно. Казаки отогнали зевак и начали разбирать сложенное Хабаровым добро. Кроме законного товара, сбруй, седел, топоров и неводных полотен, масла и жира в бочках в холщовом мешке были найдены три сорока собольих пупков, три бобра, неполный сорок соболей неклейменых. Федька тут же заявил, что это его рухлядь, купленная у тунгусов. В углу амбара обнаружили ящик, опечатанный печатью Ерофея Хабарова. Ее сорвали, ящик вскрыли и увидели колоды игральных карт.
— Запрет на игру есть! — заспорил хабаровский приказчик. — А на торг картами — запрета нет.
Наконец, в одной из бочек были найдены одиннадцать сороков неклейменых соболей стоимостью, на вскидку, от пятидесяти до пятнадцати рублей за сорок. Толпа зевак ахнула, Федька, по виду и сам удивленный, засопел, не зная, что сказать. Стадухин с Селиверстовым, окрыленные досмотром, стали кричать в две глотки, что соболя принадлежат Парфену Ходыреву. Все изъятое было вынесено наружу и предъявлено любопытным. Услышав к ночи, что Парфен Ходырев взят под стражу, Михей и Юшка решили, что свой долг исполнили.
— Даже дышать легче! — признался казак целовальнику.
Постник Губарь, прогуляв собольи штаны, разумно вытрезвел, продал одну из шапок, шубы и скупал на гостином дворе ходовой товар, который в Ленском остроге оценивался втрое-вчетверо дороже. Он тоже считал свою службу исполненной и собирался в обратный путь. Но дело с Ходыревым вскоре приняло новый оборот: его стал выгораживать черный поп Симеон, один из четырех духовных служителей, посланных Патриаршим приказом на Лену. Монах так резво взялся за дело, что Парфена выпустили на поруки. Селиверстов от новости сник, а Стадухин пришел в такую ярость, что прилюдно облаял черного попа, не пустившего его к причастию, по догадке обвинил, что тот подкуплен хитроумным сыном боярским, и даже на Господа зароптал: куда, мол, смотрит, попуская явному беззаконию?
Поп Симеон с крыльца церкви пригрозил срамословившему его казаку вырвать поганый язык, и когда за Стадухиным пришли приставы, он безропотно сдался, готовый принять муки за правду. Но те привели его не в острожную тюрьму, не в пыточную избу, а в посадский дом, горницу которого занимал письменный голова Еналий Бахтеяров. У ворот дома позевывал караульный с бердышом на сыром березовом черенке. Хозяева, сотворив вечерние молитвы, укладывались ко сну на полатях и печи. По лавкам и по полу вповалку лежали люди, одни похрапывали, другие тихо переговаривались, кто-то заунывным шепотом вещал соседу историю своей жизни, приведшей в Илимский острог. Приставы указали Михею на дверь, завешанную зипуном, и стали готовиться ко сну.
В горнице сумеречно светилось настежь распахнутое оконце, среди лета затянутое бычьим пузырем. Над ушатом, потрескивая и шипя падающими головешками, горела лучина. От ее огня на стенах скакали тени в шаманской пляске. За столом сидел писец с пером в руке и, что-то вычитывая, подслеповато водил носом по бумаге. Бахтеяров, вынырнув из темного угла, взглянул на вошедшего ласково, и пока Михей крестился на темные образа с тлеющей лампадкой, все чесал бороду, будто примерялся к чему-то. Казак насторожился, догадываясь, что письменному голове что-то надо, нахлобучил шапку, взглянул на Еналия прямо и вопрошающе. Тот усадил его возле писаря, стал вкрадчиво расспрашивать о службах. Голова не любопытствовал о пропаже томских служилых на Алдане, чему Стадухин был свидетелем, но наводил вопросы на черного попа Симеона, которого Михей прилюдно лаял.
В запале пережитой ярости казак опять выбранил попа и выложил, что тот не пустил его к причастию, вымогая посул. Сказал так и заметил вдруг, что писец, сидевший сбоку, скрипит пером, а Бахтеяров плутовато щурится и одобрительно кивает головой с длинным и плоским, как у селезня, носом. Стадухин, распаляясь, стал рассказывать, что хотел исповедаться, но Симеон не пожелал слушать о грехах и выпытывал всякие глупости, чтобы выгораживать Парфенку.
— Этому попу в греховных снах не виделось, столько баб и ясырок перещупал Ходырев! — возмутился в голос. — А Парфенке грехи отпущены!
Стадухин говорил громче и громче, а когда в сердцах признался, что плыл из Ленского, чтобы объявить «государево слово и дело» против приказного сына боярского, писец, откинув прядь волос за плечо, сунул мизинец в ухо и затряс ладонью. Возле печки в избе приглушенно заворчали и заворочались отдыхавшие люди.
— Какие одиннадцать сороков рыжих соболишек? — приглушенно буркнул письменный голова. — Восемьдесят сороков одних только черных лис забрали при досмотре!
Стадухин на миг замер с разинутым ртом, торопливо вспоминая, отправлялась ли когда-нибудь государю такая казна? Изумленно кашлянув, заговорил тише, опять про злыдня Парфенку. Но письменный голова, шмыгнув длинным носом, перевел разговор на попа.
— Да вор он, вор! — сдерживая голос, отмахнулся Михей. — Меня про блудные помыслы пытал, а с Парфенки убийства, кражи, клятвопреступления снял. — Скрипнул зубами и стал перечислять, от кого что слышал про иеромонаха Симеона.
Бахтеяров, переломившись в пояснице, как перед начальствующим, алчно буравил его взглядом. Едва Стадухин перевел дыхание, выбранившись для облегчения души, вкрадчиво спросил, будто селезень клювом прошлепал:
— Скажешь то же самое, если воевода поставит перед собой тебя и монаха?
— Скажу! — молодецки приосанившись, пообещал Михей.
— Вот это по-христиански! — одобрительно залопотал письменный голова.
— Нас государь послал в дальние свои вотчины, чтобы навести порядок. А без вас, без здешних служилых и промышленных сибирцев, без вашей помощи, что мы можем?.. Грамоту разумеешь? Прочти, что записано с твоих слов, и приложи руку. Ишь, поп-то чего удумал? — проговорился, когда казак поставил подпись.
— Против стольника Петра Петровича грозит объявить «слово и дело». И Ходырев ведет себя дерзко. Видать, высоко, — поднял перст к низкому потолку и пуще прежнего прогнулся в пояснице, — кто-то его покрывает!
Стадухин вышел и направился к реке, где под разбитой баркой ждал Юшка. В жалобной челобитной, которую подписал, не было явной лжи, но как-то смутно и стыдно было на душе, будто в ответ на оплеуху схватился за нож.
На другой день его позвал посыльный от воеводы Головина. Михей крякнул, отряхнул сор с кафтана в подпалинах, перекрестился, укрепляя дух, и, придерживая саблю, зашагал за верстанным казаком.
— Я за тебя Николу молить буду! — крикнул вслед Юшка.
На крыльце съезжей избы, занятой воеводой, стоял письменный голова Бахтеяров. Он пытливо оглядел подошедшего казака и шепнул:
— Не трусь! — Хотя сам, по виду, изрядно чего-то боялся.
— А чего я буду?.. — дерзко хмыкнул Стадухин, задрал бороду, расправил рыжие усы и шагнул за дверь.
В избе за столом, покрытым скатертью, сидел главный воевода Петр Петрович Головин с холеной бородой, рассыпавшейся по дородной груди. Кафтан его был расшит золотой нитью. Ни кивнуть, ни качнуть головой он не мог: на ней трубой была насажена высоченная боярская шапка. Воевода только водил глазами, с важностью моргал и хмурил брови. На лавке против него сидели черный поп Симеон в скуфье и Парфен Ходырев в шапке сына боярского, обшитой соболями. Лицо бывшего приказного было перекошено злобой. Он бросил на казака такой испепеляющий взгляд, что Стадухин наконец-то полностью уверился — не зря плыл в Илимский. По лицам попа и сына боярского догадался, что писец уже прочел им жалобную челобитную, потому воевода и поставил их всех перед собой. К этому Михей был готов, этого добивался.
— Эх-эх! — поп мельком скользнул по его лицу печальным взглядом. — Буйная, да дурная твоя головушка! Не ведаешь, что творишь чертям на радость, наговорил ведь на меня напраслину. И кто же с тебя такой тяжкий грех снимет?
— Ты и снимешь! — огрызнулся казак. — Полсорока соболей выложу в поклон, еще и расцелуешь. — Скинул шапку, стал класть поясные поклоны на образа.
Воевода величаво помалкивал, властно водя вылупленными глазами с одного на другого. Положив последний поклон, Михей нахлобучил сермяжный шлычек и добавил, ответив презрительным взглядом на ненависть Ходырева: — За каждое свое слово готов лечь под кнут, ради правды! Они о прибылях только и думают, — объявил громче и резче, — а там, кивнул на полночь, — из-за того невинная кровь льется по сей день.
Поп печально завздыхал. Ходырев же заорал дурным голосом:
— Да это же один из самых вздорных заводчиков и смутьянов. Про кровь говорит, а сам по локти в ней. Да ты с Иваном Галкиным православных мангазейцев смертным боем бил!
И то, как Ходырев кричал о давнем, начальствующими людьми разобранном, самим казаком перед собой отмоленном, напрочь успокоило Стадухина. Он снисходительно усмехнулся и почувствовал, как ровно и спокойно забилось сердце, будто сняли с груди камень. Томившие злоба и ненависть прошли, ему стало даже жаль Парфенку.
— Не откажешься от слов? — строго спросил воевода и взглянул на казака потеплевшим взглядом.
— Не откажусь! — твердо ответил он. — Зови заплечника, испытай кнутом.
— Вешать надо таких смутьянов, не кнутом бить! — хрипло выкрикнул Ходырев и пригрозил, указывая глазами на воеводу: — Они как пришли, так и уйдут, а я останусь.
— За приставами вернешься в Ленский острог для сыска! — членораздельно и властно приказал Головин. — Перевел глаза на Стадухина. — Тебе без палача верю. Кто мне верно служит — тех не забываю!
— Лена давно ждет порядка, — по-своему понял его Стадухин. — Наведешь — все тебе прямить будут: и служилые, и промышленные, и инородцы.
Он вышел из съезжей избы. У коновязи стоял Юшка Селиверстов с уздой, накрученной на кулак. За его плечом мотал головой казенный конь. По лицу Стадухина целовальник понял — их правда взяла, и затрубил на весь острог:
— Есть справедливость и на этом свете!
И показалось казаку, будто солнце засветило ярче, веселей защебетали птицы, гнус не донимал как обычно, дышалось легко и свободно, как в юности, на отчине. Теперь прежние злые помыслы об убийстве Парфенки казались смешными.
Ночевали они с Юшкой около барки, которую проезжие люди потихоньку растаскивали на дрова. Возле Илима скопилось много промысловых и торговых ватаг, ждущих своей очереди выхода на волок. На берегу пылали и тлели их костры, алыми звездочками отражаясь в ночной реке. Обыденно гудели комары, привычно ныли и чесались открытые места кожи, поеденные мошкой. Ночь была темна. С шапками под головами, лежа в разные стороны ногами: один на лапнике, другой на бересте, Мишка с Юшкой укрылись верхней одеждой и смотрели на звезды. Стадухин улыбался им, думая, что исполнил волю ангелов, глядящих на него сквозь распахнутые небесные оконца, и признавался, что никогда не смог бы простить Ходыреву обид, не отмстив за них. Задумано ли так звездами и Господом, сказавшим: «Мне отмщенье и аз воздам», или был мучим бесовскими страстями? Как знать? Оправдывая себя, казак думал, что когда-нибудь эти звезды и Господь скажут, зачем все было: ненависть, голод, холод, кровь, вечные распри между людьми?
На другой день Юшку били батогами за то, что бросил таможню, а не отправил жалобную челобитную. Олекминский целовальник обиженно покряхтывал и оправдывался: «Мало Парфенка перехватывал тех челобитных и отбрехивался?» Бит был Юшка жалостливо, для порядка, другим в поучение и после наказания глядел на свидетелей горделиво, как претерпевший не по грехам, но за правду, Христа ради. Обоим, олекминскому целовальнику и ленскому казаку, было предписано возвращаться к прежним местам служб с торговыми людьми царского гостя[272] Гусельникова и гостя царской сотни Усова (купца второй гильдии) при их стругах, с их приказчиками и работными людьми, на их кормах. В пути им предписывалось досматривать, чтобы незаконного торга не было, а служилые люди на Куте и Лене торговым ватагам насильств и обид бы не чинили.
Приказчики Василия Гусельникова многие годы шли по Сибири за первыми промышленными и служилыми людьми, торговали в Ленском остроге едва ли не со времен его основания сотником Петром Бекетовым. По соображениям Михея Стадухина, сам купец, не показывавший носу на Лене, приходился ему дальней родней. Гусь лисе не товарищ, большой пользы от того не было, но при его судах могли быть земляки-пинежцы и даже знакомые люди, от которых можно узнать новости с родины. По слухам, торговые караваны Василия Гусельникова и Алексея Усова благополучно прошли Шаманский порог на Илиме и со дня на день должны были подойти к острогу. С теми спокойными мыслями Михей Стадухин на редкость крепко уснул. Под утро ему снились родниковая вода и кровь, выступившая на старой зажившей ране. Так уж было дано с юности, что глубокий сон обходил его стороной, особенно при многолюдье. Он как-то ненадолго, по-волчьи, впадал в забытье, растекаясь бодрствующим внутренним взором, чувствуя чужие страсти, злобу и ненависть. А тут, как чудо, рядом с острогом, со многими ватажками, душа будто в небе отдохнула и весь следующий день томилась и чего-то ожидая.
Михей то и дело посматривал на реку. Пинежцы подошли после полудня. Среди людей с обожженными солнцем, изъеденными гнусом лицами, он узнал гусельниковского приказчика Михайлу Стахеева, еще один человек показался знакомым. Волнуясь, подошел к стругам, причалившим к берегу.
— Мишка, что ли? — спросил кто-то и знакомым движением руки смахнул испарину со лба.
— Тарх? — вскрикнул казак, глазам не веря, и в следующий миг тискал в объятьях брата. Рядом с ним смущенно и радостно топтался молодец с родным, до боли знакомым лицом.
— Не узнаешь Гераську? — смахивая слезы, кивнул на брата Тарх. — Да и как узнаешь, если он после твоего ухода родился?
— Брательник? — Михей обнял младшего с шелковистым пухом на щеках и понял, что тот похож на деда. Едва он стряхнул с бороды радостные слезы, отступил на шаг, чтобы полюбоваться братьями, взору предстало чудное видение в образе зрелой женщины со стройным, как у девки, и крепким, как у женщины, станом. По обычаю сибирских баб голова ее была плотно обвязана льняным платком, так что виделись только глаза с изъеденными гнусом, вымазанными дегтем веками. Когда их взгляды встретились, женщина неспешно развязала узел платка и скинула его на плечи, бесстыдно обнажив гладко причесанную голову с двумя косами..
Михею, без вина пьяному от встречи с братьями, почудилось, что, окунувшись в синеву ее глаз, душа взмыла к небесам. Она глядела пристально, с насмешливым вызовом, как прелюбодейка, выставляя себя во всех грехах и пороке.
— Кто такая? — изумленно пробормотал Михей, и будто из погреба услышал ответ Герасима:
— Томская посадская. Шла на Русь с отпускной грамотой. Я ее в Обдорском сговорил идти на Лену стряпухой.
— Два раза вдовела. Дети померли! — Горделиво приосанилась женщина, блеснула глазами, не опустив их под пристальным взглядом казака: — Гераська меня гулящую подобрал! — Едко усмехнулась.
— Вон что! — рассеянно пролепетал Михей негнущимся языком. — Вольная, значит! Вот бы мне такая сыновей родила! — И спохватился, что непослушный язык прилюдно несет нелепицу, виновато улыбнулся, добавил. — На Лене будешь первой красавицей!
Вызывающе прищуренные глаза женщины вдруг подернулись паутинкой боли, блеснули невзначай навернувшейся слезой. Она поморщилась, вымученно улыбнулась, смущенно опустила голову.
— А что? — Михей расправил грудь, уперся руками в бока. — Я на полном окладе, со мной не пропадешь. Отец в мои-то годы уже всех нас, сыновей, имел, — указал на братьев, — а я все холостой и бездетный. — Будто даже пожаловался на долю.
Герасим, что-то бормоча, взял женщину за руку, потянул от очарованного брата. Она строптиво стряхнула его руку, опять попыталась сделать глаза дерзкими, даже подперла рукой крутой бок, будто собиралась плясать, но в следующий миг смутилась, опустила голову и ушла.
— Нельзя ей под венец! — взволнованно заговорил Гераська.
— Это почему? — чего-то недопонимая, спросил Михей, глядя в спину удалявшейся женщины. — Эй, красавица, — окликнул. — Как зовут-то?
— Арина! — не оборачиваясь, ответила она и зашагала берегом.
— Несчастья приносит мужьям, — пугливо лопотал Герасим, переминаясь с ноги на ногу и бросая болезненные взгляды то на Арину, то на брата. — Она не только стряпуха… От самого Обдорского под одним одеялом со мной, во грехе.
— В Енисейском едва отбились от женихов, — хохотнул Тарх. — Воевода ей двадцать рублей сулил. Не осталась!
— Она же тебе стара! — удивился Михей, ничуть не смутившись тем, что услышал. — Разве среднему ровесница? — обернулся к Тарху, статному, широкоплечему мужу с окладистой бородой.
— Я ей не по нраву! — вздохнул тот, тоже любуясь стряпухой. — По греховной слабости пригрел бы, конечно, да Гераська ее чем-то прельстил. Других к себе не пускает.
— Я тебе ясырку найду! — переводя разговор в смех, пообещал Михей. — Говорят, они в блуде слаще.
Обожженное солнцем лицо Герасима с шелухой отставшей кожи на носу и по щекам налилось краской, он закряхтел, закашлял, перебирая ногами, как зловредный петух, торопливо соображал, что сказать.
— Так ведь грех братнину полюбовную вдову за себя брать! — вскрикнул обиженным голосом.
— То, что там грех, — Михей, смеясь, обнял младшего и кивнул на закат, — у нас, — указал на восход, — в почесть! Ох уж это скандальное новгородское отродье, — рассмеялся. — Едва встретились — сразу спор. Ладно, сама судьбу выберет!
Он присел возле струга братьев. Обозные люди торопливо обустраивали стан. Тарх суетился среди них, Герасим развязывал узлы на мешках с поклажей. Глаза Михея сами собой отыскали Арину, месившую тесто в березовом бочонке.
— Вольной воля! — пробубнил над ухом младший брат, проследив за его взглядом. — В нашем товаре и твоя доля. — Мы с Тархом отцов дом продали…
Между тем все струги торгово-промысловой ватаги купца Гусельникова были вытянуты на берег. Приказчик Михайла Стахеев махнул рукой Михею Стадухину и стал переодеваться. Он каждый год возил на Лену ходовой товар, рожь и пшеницу. Герасим с Тархом пристали к его торгово-промысловой ватажке в надежде на помощь и науку. Оба приглядывались к сибирским порядкам, к покупателям, надеялись на помощь брата, служившего в Ленском остроге. Встреча с ним в Илимском и его покровительство были большим счастьем.
Михей подошел к земляку-приказчику. Последний раз они виделись прошлой осенью. Стахеев как всегда был весел и словоохотлив. Стадухин заметил на его лице крап оспинок.
— Где успел переболеть? — спросил вместо приветствия.
— Пустяки! — смеясь, отмахнулся земляк. — Принудили отдохнуть в Тобольском. Заперли в избе. Отоспался на год вперед! — отвечал, переодеваясь из дорожного платья в дорогой кафтан, обшитый по обшлагам собольими спинками, заломил шапку, шитую из меха черной лисы, кивнув земляку, направился в острог к таможенному целовальнику.
Юшка Селиверстов, сидя в стороне и примечая рассеянность Михея, напомнил о воеводском наказе, затем встал с рассерженным лицом, раскатисто выругался и по-хозяйски стал оглядывать струги пинежцев, чтобы товаров с них не выносили да всяких ярыжек не подпускали. Он нес службу за двоих. Приказчик Стахеев вернулся с лучившимися глазами и привел илимского таможенного целовальника. Тот бегло осмотрел товары, имущество ватажных людей. Юшка укорил его за недогляд, потребовал развязать мешки, дотошно ощупывал их и всюду совал нос. Когда досмотр был закончен, он с видом человека, исполнившего долг, заулыбался, заговорил душевней и ласковей. Обозные люди развели костры, на стане запахло свежим хлебом и печеной рыбой.
Братья Стадухины сыны Васильевы сели в стороне. Михей виновато спохватился:
— Расскажите, что там, на отчине?
— Сперва мать померла, потом отец, ты о том уже знаешь, — повздыхав, стали рассказывать братья. — Перед кончиной передали тебе, старшему, свое благословение. Мы похоронили их рядом с дедами.
Михей встал, скинул шапку, трижды перекрестился, кланяясь на восход.
— Дом продали! — продолжил Тарх. — Герасим товар купил, у него торг лучше получается… А на отчине новости такие: считай полдеревни в Сибири. В иных домах одни бабы, ждут мужей и сыновей, другие брошены или проданы. Вот и мы подумали, что дому гнить? Вернемся богатыми — новый срубим. И времена там тяжкие — царевы холопы не дают жить по старине, заводят порядки латинянские. Сколько себя помним, царь все с ляхами воюет, а их на Руси все больше и больше. Приезжают с царскими грамотами, ведут себя по-хозяйски. На что уж устюжане были московскими пособниками в войнах с Новгородом, и те валом пошли в Сибирь от нынешних порядков, чтобы переждать лихие времена. Вот и все новости! — Тарх пожал плечами и опустил голову.
— Правильно, что дом продали, — одобрил братьев Михей. — Подати скопятся — не рассчитаемся. Даст Бог, разбогатеем, выкупим. Герасим, по его словам, собирался торговать в Ленском остроге под покровительством Стахеева. Тарх хотел идти на промыслы, торг был ему не по душе.
Спать братья легли в сумерках, когда затих стан. Герасим с Тархом забрались под перевернутый струг. Вечер был теплым. Михей, с утра ждавший чуда и с тем проживший день, привычно улегся под открытым небом в стороне от стана, положил под бок саблю, поглаживая пальцами ножны, поднял глаза на зажигавшиеся звезды. Смолоду, и даже в Сибири на службах, он думал, что все люди могут, как он, чуять злой умысел, но ленятся бодрствовать ночами. Поздно уразумел, что таким даром или наказанием наделены немногие. Чутье хорошо помогало при малолюдье, но в острогах и городах делалось мукой, истязало бессонницей, пока, к счастливому облегчению, само собой не притуплялось. Михей привычно растекся душой по округе и содрогнулся от бессмысленного многоголосья. Только возле реки, томилась, истекала слезами какая-то печальная дума. Стадухин стал мысленно читать вечерние молитвы, чтобы отвлечься и уснуть. Помогло. Печальная песня выткалась на звездном небе обликом Арины. Сонно и счастливо, любуясь им сквозь ресницы, Михей улыбнулся, впадая в сладкую дрему. В очередной раз приоткрыв глаза, увидел смутное очертание облика в аршине над собой.
— Спишь? — прошептала она, клонясь. — А я не могу. Разбередил ты мне душу.
Михей сел, радостно прислушиваясь к звукам ночи, к ее шепоту, сладостно втянул в грудь дурман реки и женщины. Все это казалось ему счастливым видением, которого ждал прожитый день. Он взял ее за руку и тихо рассмеялся.
— Пойдем куда-нибудь! — предложила она, не высвобождая руки из его ладони.
Он легко поднялся, перекинул через плечо сабельный ремень, наспех опоясался и повел Арину сперва к реке, потом к березовому колку, возле которого они с Юшкой ночевали под баркой.
— Моему первому сыну было бы лет пятнадцать, — приглушенно рассказывала она. В ее голосе дрожали слезы, готовые сорваться в плач. — От другого мужа тоже был сын. Нет уж никого в грешном мире, всех Бог прибрал, а у меня душа окаменела — хотела абы как дожить до кончины. А ты сыновей попросил — и оттаяло что-то. Больно стало! — Она тихонько заплакала. — От Гераськи берегусь да отмаливаюсь: не хочу детей. А от тебя опять захотела! — Она остановилась, хлюпнув носом, положила руки ему на плечи, взглянула в упор.
В редкой темени сибирской ночи с гнусавым пением комаров Михей увидел, что лицо ее вытянулось, глаза в темных глазницах удивленно расширяются, губы дрожат. И в этот миг почувствовал на спине опасный, настороженный, любопытный и пристальный взгляд. С досадой обернулся. В десяти шагах, у реки стоял странного вида мордастый мужик с узкими плечами, с мокрой бородой, распадавшейся на брылы. Ноги его были непомерно короткими и кривыми, чуть не до колен свисало брюхо. Маленькие колючие глазки бесстыдно разглядывали уединившуюся парочку. Михей хотел уже цыкнуть на пялившегося, но тот, вытянув короткую шею, издал два коротких и один длинный рык. Стадухин опознал вылезшего из реки медведя, закрыл спиной Арину, издал тот же звериный рев. Медведь скакнул на четыре лапы и бросился в воду. На разбуженных станах захрустел хворост, занялись гаснувшие костры.
— Мама родная! Как сердце-то бьется! — охнула Арина и стала оседать на землю.
Михей подхватил ее, невольно обвисшую, прижавшуюся высокой грудью к его щеке, припал губами к ее губам. Подрагивая от невольного, невымещенного испуга, с помутившимся рассудком заурчал, как медведь, стал раздевать ее, путаясь в складках незнакомой одежды, добираясь до сокровенной плоти. Остатками здравого ума чувствовал, что она не противится и даже помогает его рукам. И припал к ней, как истомившийся жаждой путник к роднику: пил и пил, радовался, что пресыщение не наступает и таяла, отпускала душу застарелая шершавая тоска по несбывшемуся.
Арина застонала, напряглась, опала на выдохе и обмерла, перестав дышать. Михей отстранился, забеспокоившись — не померла ли? Но ресницы ее дрогнули, она открыла глаза и тихо рассмеялась.
— Летала среди звездочек. Одна, тепленькая такая, угодила под сердце. Сыночек! Я знаю, — всхлипнула, хлюпнув носом.
— Хорошо бы! — переводя дух, прошептал Михей. — Мне-то как сына хочется! — И рассмеялся, привлекая ее к себе.
Она молчала, не отвечая на его ласки, по ее щекам текли слезы, и он ощущал их вкус на губах.
— Плохо, что медведь нас повенчал — первый пособник лешему! Кабы, не пришлось сыночку всю жизнь лешачить. — Помолчав в задумчивости, добавила: — Хоть бы и так, лишь бы нас с тобой пережил. Не дай-то Бог еще раз… — Вздрогнула, всхлипнув громче, договаривать не стала, но спросила с опаской: — Почему ты на него по-медвежьи взревел?
— Не знаю! — искренне признался Михей. — Само получилось.
На стан они вернулись при свете дня и занимавшемся солнце. Ватажные жгли костры и ругали сбежавшую стряпуху. Герасим с одеялом на плечах, заспанный, неумытый, насупившись, сидел возле перевернутого струга, с укором глядел на приближавшуюся Арину. Ласково посмеиваясь, она подошла к нему, наклонилась, погладила нечесаную голову:
— Не печалься, мой хороший! У тебя, даст Бог, вся жизнь впереди, а у меня последние бабьи годочки.
— Я и говорю. — Тарх ткнул в плечо меньшого, стараясь развеселить: — Если у них что сладится — слава Богу, а не сладится — вернется, от нее не убудет…
— Что уж тут? — часто и громко завздыхал Герасим, перебарывая слезы и дрожь в голосе. — Ушла так ушла. Отпускай не отпускай!
— А у тебя на висках проседь! — Арина обернулась к Михею, окинув его светлыми глазами без тени бессонной ночи: — Я вчера и не заметила.
— На ощупь седины не видно! — с укором проворчал Герасим и снова хлюпнул носом.
Арина снова рассмеялась, опять потрепала его по волосам и, не обращая внимания на укоризненные взгляды ватажных, пошла к котлам.
— Руки-то помой после прелюбодейства! — буркнул гусельниковский покрученник.
— Даже искупалась в реке, не видишь, что ли? — ничуть не смутившись, с вызовом ответила стряпуха и стала готовить завтрак.
За голенищем ложка, за пазухой плошка… На случайных казенных харчах ленский казак Мишка Стадухин чувствовал себя счастливым юнцом, которому будущее грезится одним только счастьем. Все свободное время они с Ариной проводили вместе. Удивляя своего полюбовного молодца с проседью на висках, она иногда разглядывала его, как жеребца на торгу.
— Ты чего? — смеялся он.
— Чудно! — шептала, оглаживая его грудь с восхищением и затаенной горечью. — Увидела тебя, подумала: сильный, смелый, ни перед кем шеи не согнет. А ночью в лесу — забоялась, почувствовала в тебе зверя. Думать не думала, что ты такой нежный, ласковый. — Прижалась щекой к груди. — Детей тебе рожу сколько успею. Дом построим. Что еще надо?
— Венчаться надо! — Михей глубокомысленно поскоблил грудь ногтями. — Если здесь сговоримся, то на исповедь иди к старому попу. К монахам не ходи.
— Ой, боюсь, боюсь! — Арина закрыла лицо руками. — Ты ведь ни разу невенчанный?
— Нет!
— А я два раза! Третий — грех, а больше нельзя. Кабы несчастья на тебя не навлечь. Может быть, не надо, а? — попросила жалобно. — В Сибири не обязательно жить по закону. Вон сколько распутства кругом. Поди, Бог нам простит?!
— Надо! — сказал, как отрубил Михей. — Нагулянным детям счастья не будет! А от страхов твоих отмолимся, я — заговоренный! — признался приглушенным голосом. — Товарищей рядом ранили-переранили, а у меня ни царапины, только одежа издырявлена. — Опасливо зыркнув по сторонам, прошептал ей на ухо: — Я чую, когда в меня стрела или пуля летит.
— Не говори так! — вскрикнула она, боязливо распахнув голубые глаза, закрыла его рот ладошкой. — Чур нас, чур! Господи, помилуй! Жить с тобой долго и счастливо, помереть в один час…
— Я еще богатым стану! — пообещал Михей, ласково снимая ее теплую ладонь со своих золотистых усов. — Не таким, чтобы очень — деньги меня не любят, но прожиточным. И еще знаменитым атаманом! Знаю, это мне на роду написано — на всю деревню и родову уродился один с рыжими усами. За тем в Сибирь шел. Только отчего-то не спешит ни богатство, ни слава. — Вскинул смеющиеся глаза к небу: — Раз тебя прислали, значит, скоро уже… — Подумав о своем, хмыкнул в бороду, удивляясь превратностям судьбы: — Сколько русских девок и баб видел по Сибири, ни одному жениху, ни одному мужу не позавидовал — все были не мои. Тебя увидел — будто узнал. Вот ведь!
Арина уткнулась лицом в его грудь, тихо, беззвучно заплакала.
— Поздно вернулись, голубчики! — гаркнул Юшка Селиверстов, увидев подходивших к стану Михея с Ариной, его голос раскатом грома отозвался с другого берега реки. — Проспали свое счастье! Теперь я пойду до Олекмы с твоей родней. — Ожидая спора, Юшка буравил Михея пристальным испытующим взглядом и доил жидкую бороду, как сосок на козьем вымени. Стадухин принял весть без перемены в лице, и он успокоенно рассмеялся: — Тебе велено идти с усовскими торговыми людьми.
Тлели угли костра, пахло свежим хлебом. В невесть кем и когда сложенной из речного камня каменке мужчины пекли тесто, загодя поставленное стряпухой. Она по-хозяйски оттеснила их, не глядя по сторонам, принялась за обычное дело. Михей присел у костра на корточки, вытянул ладони над огнем.
— Ну и ладно! — покладисто согласился с Юшкой. — Иди с моими, а мы пойдем с усовскими. Чьи у них приказчики?
— Старший — холмогорец, младший — устюжанин! Вчера только пришли.
Юшка чуть тише зарокотал какими-то обвинениями и оправданиями, которых казак не слушал. Перемолчав целовальника, поднял смиренные и бессонные глаза на братьев, спросил:
— Как ночевали?
— Слава Богу! — приветливо кивнул Тарх и чуть было не спросил старшего о том же, но спохватился на полуслове. Ватажные поняли несказанное, приглушенно загоготали. Рассмеялся и Михей. К нему подошел Герасим с пламеневшим лицом, присел рядом, неловко обнял.
— Дай Бог и тебе счастья! — притиснул его к себе Михей. — Осчастливил ты меня. С тех пор, как ушел из дому, так хорошо не было.
— Живите! Спаси вас Господь! Чего уж там! Знал ведь, что не себе везу стряпуху. Пусть хоть для брата.
Ранним утром пинежцы с олекминским целовальником Юшкой Селиверстовым ушли на волок. Михей с Ариной, бездельничая, посидели возле гаснущего костра, поговорили о пустяках и отправились на табор усовского обоза. Весело глядя на казака и женщину умными глазами, их приветливо встретил старший приказчик по имени Федот Попов. Он был высок и строен, борода ровно подстрижена. Другой приказчик того же купца, Лука Сиверов, как и положено торговому человеку, поглядывал на служилого настороженно, женщины старался не замечать, на вопросы Михея отвечал кратко и ясно, своих вопросов не задавал. Федот же, напротив, ненавязчиво любуясь Ариной, спросил, жена ли она казаку, сестра ли?
— Невеста! — ответил он. — Хотел подать челобитную, да воеводский писарь меньше полтины не возьмет, а кабалиться в Илимском, не с руки.
— Я могу написать даром! — предложил Федот.
— Ага! — Настороженно шевельнул усами Михей, понимая, что, приняв помощь от торговых людей, вынужден будет покрывать их беззакония. — Я тоже грамотный! Да вдруг ошибусь в царевом титле… Под кнут идти! На кой оно?
— Я не ошибусь! — заверил Федот, но настаивать на помощи не стал.
— Успею, подам в устье Куты. Там у меня — друг целовальник. На Лене, бывало, спина к спине сидели в осаде или рубились с рассвета до ночи. После он торговал, а разбогатев, не скурвился, как другие. Нынче, правда, проторговался и служит в целовальниках на бывшей хабаровской солеварне.
— Уж не Семейка ли Шелковников? — удивился Федот.
— Семейка!
— Так это же мой друг! Мы с ним под началом Пантелея Пенды первыми на Лену вышли. Не слыхал?
— Как же? — Теперь Михей исподлобья метнул на приказчика удивленный взгляд. — Пантелея Демидыча все знают.
— Живой?
— Не было слухов, что помер. В Ленском давно не был, но Постник Губарь сказывал, видел на Индигирке…
— Вот бы кого мне встретить! — с таким жаром воскликнул приказчик, что ленский казак почувствовал в нем своего, искреннего человека, какие редко встречаются среди торговых людей.
Как ни много промысловых и торговых ватаг скопилось под волоком, но после ухода воевод с их людьми острог и посад казались опустевшими, а округ притихшим. Приказчики усовского обоза будто нарочито ждали, когда схлынет этот затор. Не спешил в Ленский острог и Михей. Кормились они с Ариной в обозе. Она опять варила и стряпала, он отгонял от стругов ярыжек и служилых, искавших выгод. Федот Попов привел на табор двух гулящих людей, которые хвалились за месяц привести струги с верховьев Куты к Ленскому острожку и рядились за работу дорого. Поговорив с ними, Михей уличил обман: дальше Николиного погоста плеса Лены они не знали.
Стадухин нашел в вытоптанном прибрежном осиннике брошенный балаган, подновил его и уводил туда Арину от костров и многолюдья стана. Обозным нравилось, что служилый не лезет в их дела, и отношения казака с торговыми людьми потеплели. Он же, к своему счастью, рядом с женщиной спал так крепко, что не чувствовал около себя никого, кроме нее. Они старались уединиться всякий свободный час, который могли провести вместе. На баню или мыльню денег не было, мылись в реке. Не желая носить штанов, как русская женщина, Арина мазала ноги дегтем до самой промежности, но это мало помогало — мокрец да мошка и с дегтем разъедали кожу до язв. Михей где-то добыл тайменьи кожи, отмездрил и задубил их, сшил возлюбленной портки и заставил надевать под поневу. Мимо его глаз будто во сне прошел досмотр товаров, приказчики получили отпускную грамоту, им назначили очередь выхода на волок. Стадухин в который раз поплелся в острог по своему делу и столкнулся с письменным головой Бахтеяровым, который отстал от воевод, выполняя какие-то наказы. Голова полюбопытствовал о делах, морща утиный нос, посмеялся над просьбой о венчании.
— За бабий подол держась, будешь теперь зевать на приострожных службах. А я думал отправить тебя на дальние, на прииск новых земель.
— Отправь! — Стадухин напрягся вдруг и впился в него цепким взглядом. — Жена тому не помеха!
Бахтеяров опять посмеялся и, лукаво щурясь, спросил:
— А добудешь соболей, про меня не забудешь?
— Я никогда не забываю ни добра, ни зла! — резче ответил казак.
— Про зло помню, — хохотнул голова. — Заварил ты кашу с Ходыревым и Копыловым. Дай Бог, расхлебать. — Плутовато, напоказ вздохнув, опять прищурился: — Сам напишу и приму челобитную от имени воевод. Они мне не откажут. А про соболей помни — замолвлю за тебя словечко.
Глаза Стадухина вспыхнули, он неволей доверительно придвинулся к письменному голове.
— Отправь искать новую землю! — попросил. — Уж я воздам и тебе, и казне.
К вечеру на стан обоза прибежал посыльный и велел Михею идти к Бахтеярову, чтобы приложить руку к челобитной. «Не забыл! — удивился Стадухин. — Не тянул, как обычно, для пущей важности, набивая цену».
После отъезда на волок монахов они с Ариной тихо обвенчались в острожной церкви, не рассиживаясь с причтом, вернулись на табор усовского обоза. Полтину на венчание дал Федот Попов, и Михей взял, пообещав вести струги по реке. Праздновать свадьбу было не на что, не с кем и ни к чему.
Пришел черед и усовским людям идти на волок. Вздувая жилы и мотая головами, кони потянули их струги к верховьям Куты. Незадолго до усовского обоза здесь прошли воеводы с таким войском, что от стана до стана трава была выщипана их лошадьми, а возле них зловонно смердило людскими нечистотами. Возницы брезгливо плевались и волокли струги на продуваемые безлюдные места. Обогнать же воевод на волоке было делом немыслимым.
— Разве в устье Куты задержатся?! — рассуждал Стадухин, отвечая на расспросы обозных людей.
Арина кашеварила у костров, поглядывая на мужчин пустыми, незрячими глазами. За неделю совместного пути она никого из них не помнила ни по лицам, ни по именам, все были для нее просто обозными. Но ее лицо всякий раз вспыхивало и расцветало, когда на глаза попадался муж. Глупо и счастливо улыбаясь, они до неприличия долго глядели друг на друга, не замечали, что в их присутствии возле костра наступает напряженная тишина. По строгому наказу старшего приказчика Федота Попова никто из обозных не смел ни шутить, ни осуждать вслух казака со стряпухой. Зато когда те не могли слышать, давали волю языкам и потешались над голубками.
Сена, приготовленного казаками для воеводского табуна, казенным коням не хватало, их погонщики растащили несколько копен, поставленных хабаровскими работными. Возницы с руганью накинулись на годовальщика, сидевшего в зимовье. Тот устало отбрехивался, обещая заплатить из казны Хабаровым и их людям. Зато дома, срубленные для воеводских ночлегов, пустовали, и годовальщик разрешил ночевать в них без платы. Стадухин покружил возле изб зимовья и напросился в амбар.
— Там крыша течет, в стенах дыры — пальцы лезут. Его рубили еще голодранцы Васьки Бугра, проложившего Ленский волок. — Годовальщик и дольше отговаривал бы казака: после проезда воевод на него напала охота говорить. Стадухин же резко спросил, обрывая на полуслове:
— Пустишь?
— Ночуй, если приспичило!
— Приспичило! — Казак усмехнулся и пошел обустраивать ночлег.
Два одеяла да верхняя одежда — все пожитки, что были у них с Ариной. До сумерек надо было принести бересты на подстилку, лапника и травы, чтобы постель была мягче. Мошки в амбаре было больше, чем в лесу, пришлось устраивать дымокур. Но и он не помог. Гнус выгнал обоих на продувное место, под чистое небо с выткавшимися звездами. Выкатилась ущербная луна, желтая и ясная. Положив под бок лук со стрелами, саблю, Михей не заметил, как уснул и почувствовал тычок в бок.
— Медведь! — испуганно прошептала Арина.
Сердце женщины колотилось, она прижималась к мужу. Пока Михей выбирался из глубин сна, успел увидеть в лунном свете вытянутую горбатую тень убегавшего зверя, услышал хруст веток.
— Открываю глаза, а он ноги нюхает! — взволнованно стрекотала женщина.
— И чего они к нам привязались?
Стадухин, удивляясь, что так глубоко спит под боком жены, слегка обеспокоился безопасностью ночлегов, о чем прежде не задумывался.
— Не помню, чтобы встречи с ним были к худу! — пробормотал сонным голосом, крепче обнимая Арину. — Заяц выскочит — не к добру! А медведь — как встречный человек: сразу не поймешь, что у него на уме.
Той ночью, глядя на звезды, Арина удивленно призналась ему:
— Ведь мы совсем недавно сошлись?.. А мне чудится, будто век живем. А прежняя моя жизнь будто приснилась. Осенит вдруг: у меня же были мужья, дети, полюбовные молодцы: ни лиц не помню, ни как с ними все было. И родить от тебя хочется, как молодой, и жить долго.
— Роди! — сонно поддакнул Михей. — Поп в Ленском, поорет для порядка, что зачали в пост. Пусть! У него служба такая. Семейка Дежнев привез с Яны ясырку — у той брюхо из-под шубы выпирало. Поп заартачился — не стану крестить болдыря, во блуде зачатого. Семейка — челобитную на государево имя! Поп без поклонов и бабу окрестил, и младенца, и венчал их вместе с приплодом. У нас все проще.
Помолчав, добавил к сказанному:
— Чудно! Я ведь тоже все забыл! Были какие-то, а помню только тоску… Тебя увидел — будто Илья молнией по башке звезданул! Отыскал-таки суженую.
Он говорил искренне, но душевная радость, которой жил последнее время, порой омрачалась вспоминаниями о службе. И на этот раз с реки повеяло вдруг стужей, от которой побежали по спине мурашки. С тех самых пор, как ушел в Сибирь, он верил, что станет богатым и знаменитым, хотя о богатстве не сильно-то переживал: душа алкала подвига, который не засунешь в кожаный мешок с дорогой рухлядью, смутно рвалась в неведомые края, где казак надеялся обрести славу. Мечталось подвести новую землю под высокую государеву руку, дать тамошним народам мир и порядок, вернуться к родовым могилам, срубить дом и передать славу внукам, чтобы помнили.
Без Арины Михей уже не представлял себе счастливой жизни. Не хотел думать и о том, как оставит ее одну при Ленском острожке. Таскать же за собой русскую женку по урману, как ясырку, было делом редким даже среди промышленных. При непрестанных походах и воинских стычках для служилых людей это было и вовсе делом невозможным.
— Бог не оставит! — пробормотал он со вздохом и неловко перекрестил грудь, лежа на спине.
2. Кремлевский порядок
В 1639 году Ленский уезд Енисейского острога государевым указом был объявлен Якутским воеводством. Узнав про многие беспорядки на реке Лене, царь Михаил Федорович послал туда воевод в придворных чинах. В те же годы на Русском севере была признана вредной для государства и прекращена монопольная торговля англичан, необдуманно заведенная при Иване Грозном. Царский гость Василий Гусельников и устюжский купец московской гостиной сотни Алексей Усов приложили много сил и денег к изгнанию иностранцев, изрядно вредивших русским купцам. Только после этого осторожный Алексей Усов решил завести торговые дела на Сибирской окраине.
Устюжанин Лука Сиверов был его человеком, выросшим в торговых рядах. Обычные купеческие дела в русских городах повзрослевшему сидельцу изрядно наскучили, душа его желала большого и вольного дела. Лука был верен хозяину, помышлял о Сибири, но не знал ее. Усову нужен был опытный, бывалый приказчик и вскоре он познакомился с торговым человеком Федотом Поповым, холмогорцем. Средних лет, с умным лицом и честными глазами, Федот много лет торговал в Тобольске и Тюмени, занимался промыслами, непонаслышке знал окраинную Сибирь. За разговорами о ходовом сибирском товаре и тамошних сделках купец приметил в матером сибиряке страсть не к наживе, а к поиску неведомых земель. Внимательно слушая рассказы холмогорца, он кивал и думал, что такие люди больших денег искони не наживали, но, бывало, прокладывали пути к неслыханным богатствам тем, кто шел следом. Уже при первых встречах Усов стал думать, сколько денег можно вложить в человека, прочно обосновавшегося в Сибири и тосковавшего без большого, рискованного дела.
Федот понимал, что купец готов раскошелиться на сибирское предприятие, и был непрочь вольно торговать и промышлять от его имени, под его защитой. При обычных в то время сделках хозяин и приказчик оговаривали кроме возвращения долга — половину, а чаще — две из трех частей прибыли. Именитый гость царской сотни удивил бывалого сибирского торговца необычным предложением: дать товар на две тысячи рублей в долг с обычным ростом — рубль с десяти. В первый миг Федот был ошеломлен неслыханно выгодным предложением. Это и насторожило его. Торговые люди и приказчики рисковали жизнью, купцы — деньгами. При рукобитье обычно оговаривалась немилость Божья: пожары, потопления, грабежи, неудача в торге, чтобы в таких случаях купцам ни с живых, ни с родственников погибших своих денег не требовать.
— А если потонем с товаром? — спросил Федот.
— С утопленников какой спрос? — принужденно рассмеялся купец.
— А если товар утонет или пограбят, а мы живы?
Купец усмехнулся и пожал плечами, дескать, уговор есть уговор. Выходило так, что Усов давал приказчику свой товар под обычную кабальную запись. Федот думал день и другой, его не торопили с ответом. На третий холмогорец пришел в богатый дом гостя царской сотни, они ударили по рукам и запили уговор заморским винцом. Усовский обоз пошел за шумным поездом стольников Головина и Глебова. Приказчики Федот Попов с Лукой Сиверовым не спешили обгонять его, выспрашивали о воеводах и их людях у местных жителей. Всякая метла метет на свой лад, приноравливаться к прежней власти, когда ее должна сменить другая, не было смысла.
Едва воеводы выехали из Енисейского острога, Попов с Сиверовым привели туда свой обоз. Здесь Федот встретил Ярка Хабарова, знакомого по давней мангазейской смуте, где они оба, молодые промышленные люди, были в одном полку.
— Нынче вспоминаю добрым словом тогдашнего врага нашего Гришку Кокорева, — с первых слов стал ругать Головина Ерофей. — Тот по пять раз в год именины справлял, требовал подарков, но шалил в сравнении с нынешними. В Енисейском явился ко мне стольников холоп и потребовал займа на воеводу в полторы тысячи рублей!
Брови у Федота Попова взлетели под шапку. В пути к Енисейскому острогу он был наслышан, с каким размахом развернулся Хабаров на Лене, но не думал, что тот ворочает такими деньгами. Свое предприятие, которое до сей поры казалось Федоту очень весомым, показалось ему вдруг слишком мелким для нынешних торговых дел за Енисеем.
— Не дал! — продолжал браниться Ерофей. — И вот, сижу при остроге. От енисейского воеводы одна проволочка за другой. Печенкой чую — стольниковы козни.
Про козни Хабаров говорил сгоряча. Попов знал, что он ждет обозы с рожью, чтобы барками переправить хлеб в Ленский острог. В прошлом Федот и сам отправлял рожь из Тобольска в Енисейск. Это был простой способ удвоить усовские деньги, но скучный и долгий.
Лука Сиверов, осмотревшись между Обью и Енисеем, кое-что уразумел в здешней торговле. Часть усовского товара они с Федотом продали в пути и на всю выручку купили ржи. В Енисейском остроге она стоила втрое дороже против Тобольского города. На Лене же, по рассказам Хабарова, шла от пяти рублей за пуд. Но торговля рожью была прибрана к рукам московскими гостями, оказавшимися проворней Алексея Усова. Убедившись в том на Енисее и Ангаре, Лука Сиверов в Илимском остроге стал предлагать дешево распродать усовский товар и вернуться за новым в Тобольск.
«Торговые пути прямыми не бывают, как не бывает искренней дружба торговцев», — думал Федот Попов, с сочувствием поглядывая на Луку. Их струги неспешно плыли по Куте к Лене-реке. Их вел здешний казак Михей Стадухин. Обозные люди сидели на веслах. С Поповым и Сиверовым на дальние промыслы плыли пять своеуженников со своим денежным и хлебным вкладом: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов. Всех их Федот знал до предприятия и ручался за каждого. Приторговывая в пути, они выбирались на Сибирскую окраину промышлять соболя. С Федотом же отправился на Лену его племянник Емельян Степанов.
Емелька был молодым, огненно-рыжим, конопатым весельчаком и всю дорогу потешал обозных людей. Его большой губастый рот чаще всего был разинут от смеха или удивления. С первого взгляда юнца можно было принять за скомороха: уже один его вид вызывал смех. Но, приглядевшись, люди отмечали, что Емелька не только весел, но по-своему красив. Девки к нему льнули, и он вел себя с ними как избалованный вниманием красавец.
В устье Куты струги причалили к острожку. На казенном причале их поджидали казаки-годовальщики. Михея Стадухина здесь знали, он то и дело отвечал на приветствия. Прежде чем начать досмотр товаров, годовальщики во главе с приказным озабоченно расспросили его о делах, касавшихся служилых людей, чесали затылки и качали головами. Покончив с досмотром, Федот спросил приказного, не уехал ли куда с солеварни целовальник Шелковников.
— Здесь! — равнодушно отмахнулся тот, все еще что-то подсчитывая в уме.
— Собирался плыть в Ленский с жалобами. — Глаза его прояснились, он чему-то едко усмехнулся и выругался, помянув черта.
Попов окликнул племянника Емелю. С разинутым ртом, с сияющими глазами, тот весело, с прибаутками, сел за весла, переправил дядьку через Куту и вернулся к острожку. Федот помахал ему рукой и зашагал по ухабистой дороге к дымам солеварни. Друзья встретились возле хабаровской заимки, крытой дерном. Срублена она была наспех, чтобы перезимовать, и оставалась такой третье или четвертое лето. Высокий, дородный, чуть сутуловатый Семен так тиснул Федота в объятьях, что тот крякнул:
— Медведь! — Отстранился, смеясь вывернулся из дружеских рук. — Пуще прежнего разъелся на казенных харчах.
Он пристально вгляделся в круглое лицо целовальника, густо обросшее бородой. Заметив в ней проседь, сетку морщин возле глаз, вздохнул: — Однако мы с тобой не молодеем! Лет десять не виделись?
— Заходи в избу! — чуть не волоком потащил его Семен, усадил на лавку.
Из-за выстывшей печи вышла немолодая уже девка тунгусской или якутской породы с черной косой на спине. Голова ее была непокрыта, на худых плечах висела застиранная мужская рубаха с закатанными рукавами. Девка равнодушно взглянула на гостя, стала выставлять на стол глиняные чашки, берестяные туески.
Наглядевшись на друга юности, Семен встал со скрипнувшей лавки, согнулся в низкой двери, придерживая шапку, и вернулся с глиняным кувшином.
— Ягодное винцо! — Поставил на стол. — Недобродило еще. Кабы нас с него не пронесло. А другого нет! — простодушно развел руками.
Федот вынул из-за кушака березовую фляжку с горячим вином. Узкие глаза ясырки с забубенной тоской скользнули по ней. Она что-то шепеляво гыркнула, и Семен ответил по-русски:
— Ставь чарку!.. Только не мешай говорить. — И пояснил, обернувшись к Федоту: — Хабаровская девка. Никифор на заимке бросил… Ну, за здравие да за встречу, что ли! — Поднял наполненную чарку, наперстком утонувшую в широкой ладони. Перекрестив бороду, оттопырил нижнюю губу, влил в рот, водка булькнула глубоко в горле, Семен посопел, поводил бровями, кашлянул: — Хороша! — Не закусывая, перебарывая жгучую горечь, сипло заговорил:
— Понимаю! Мне тоже мелкий торг наскучил. Столько лет потратил попусту. А тебе, с твоим-то умом… Зачем? Для чего? Рухлядь промышлять — не те наши годы, да и надоело. Хотел в службу поверстаться — не взяли, воеводы набрали полк в четыре сотни окладов по Казани и Тобольску. А я бы государю послужил. Это дело непостыдное!
Федот чуть заметно кивнул, тень снисходительной улыбки пробежала по губам.
— Торг торгу — рознь, — возразил осторожно. — Одно дело при лавке сидеть, другое — открыть путь в Китай или Индию. Тут тебе и слава, и богатство.
— Нынче про то много слухов, — заскрипела лавка под Семеном. На полуслове его оборвала ясырка со злым лицом. Она что-то гыркнула, он добродушно хохотнул и взялся за флягу: — Устала ждать. Душа по второй горит.
Целовальник по-хозяйски разлил остатки вина и подвинул девке кувшин с вином:
— Не отстанет, пока все не выпьет. Пусть дрищет! Вдруг и обойдется: у них кишки крепче наших.
Девка сладострастно осушила чарку, смахнула со стола кувшин, ткнулась в него плоским носом, облизнулась, окинула гостя подобревшими глазами и вышла. Семен степенно поднялся, притворил за ней дверь.
— Сбила с разговора, — наморщил лоб, вспоминая, о чем говорил.
— Про слухи, — подсказал Федот.
— Да! Этот год, по слухам, сплыл по Витиму промышленный человек, который жил на великой реке Амур в ясырях у тамошних князцов. Ватажку его перебили, а он как-то отплакался, кому-то хорошо послужил, и его отпустили живым. Тот промышленный сам видел богдойцев, ездил к ним для торга с хозяевами. Народов, говорит, живет по Амуру множество, и все немирные. Иные, как богдойцы, владеют огненным боем. Ружей у них много, есть даже в четыре ствола, а порох и свинец дешевые. Добром, говорил, мимо тех людей с товаром не проплыть — пограбят! А если с войском идти, так надобно не меньше тысячи сабель. Ну, и какие с того барыши?
Федот лукаво посмотрел на друга. Он слышал про выходца с Амура в Илимском остроге.
— Я тебя про другой путь выспрашивал. Сказывают, к восходу от Лены есть река, которая падает устьем как Лена, а верховья в Китае.
— Есть такой слух, — согласился Семен. — Елисейку Бузу с казаками и промышленными посылали на ту реку, но он обогатился, не дойдя даже до верховьев Яны. Постник ходил через верховья Яны сухим путем на Собачью реку — Индигирку. Где она начинается — неизвестно, про устье тоже ничего не слышал. Я хоть и сижу на Куте, но от проезжих людей много чего знаю: все смутные слухи идут через послухов от якутов и тунгусов. Никто из наших промышленных и служилых людей той реки не видел или помалкивают о ней.
В разговоре с другом, в расспросах о Лене Федот окончательно убедился, что опоздал с торговлей в Ленском остроге и тех прибылей, которых ждал, не получит. Темнело. Семен поднялся, достал с полки смолистую лучину, закрепил над ушатом, почиркав кремешком по железной полоске, раздул трут и зажег огонь.
— Говорят, собираешься в Ленский? — разглядывая широкую спину товарища, осторожно спросил Федот.
— Собираюсь, — коротко ответил Семен. — Может быть, с тобой и уплыву.
— А что там?
— Семейка Чертов, енисейский казак, объявил против меня и Пильникова «слово и дело»!
— За что?
— Говорил нам, что сено у него забрали хабаровские работные. Требовал сыска. Но сено не они взяли, а воеводские служилые. Я Черту сказал: езжай к воеводам, ищи управу. А он собрал против меня все, что мог слышать и придумать по своей догадке… Отбрешусь! — буркнул в бороду. — А нет, так я за нынешнюю службу не держусь.
— Мишка Стадухин плывет со мной до Ленского. Добился-таки управы на бывшего приказного, — с намеком на разный исход таких дел взглянул на друга Федот.
— Слыхал! — Снова сел за стол Семен. — И Ходырева, и атамана Копылова повезли для сыска. С Копыловым Ивашка Москвитин ходил на Алдан. И пропал там с красноярскими казаками. Атаман говорил, будто отправил его с людьми через горы к Ламе. Прошлый год от тунгусов был слух, будто казаки на Ламе собирают ясак на государя. Даст Бог, вернется. — Помолчав, Семен шлепнул широкой ладонью по колену: — А что? С тобой и уплыву. Ночуй, завтра решим… Могу дать совет! Один из кочей чем-то не приглянулся воеводам, они его оставили Пильникову, а приказному нужны струги, он с радостью поменяет коч на твои. Ниже Витима лес худой, если надумаешь плыть к морю, то в Ленском острожке кочишко будешь покупать втридорога. Так что подумай!
На другой день Федот Попов поменял три своих струга на восьмисаженный крытый палубой коч с двумя мачтами и шестью парами уключин. Обозные люди грузили в него товары с пожитками, хлебный и соляной припас, а Михей Стадухин артачился:
— Да это же тяжелая кочмара *(двух — трехмачтовое плоскодонное поморское судно до тридцати пяти метров длиной). Ладно бы струги, а ее я не возьмусь вести по Лене. Нанимайте бывальца.
— Ты же не раз ходил и вниз и вверх?! — удивился его отказу Федот Попов.
— Я и сам по этой реке плавал, правда, много лет назад.
— То-то и оно, что много лет! — укоризненно мотнул головой казак. — Коварная река. В иных местах против свального течения на стругах не выгрести, куда уж на кочмаре. Стрежень каждый год меняется, я не помню правильный путь, и бурлаки больше бахвалятся, чем знают. Занесет в протоку, неделями будем выбираться. — И предложил: — Здесь, на Куте, есть один верный человек, который каждый год водит суда вверх-вниз. Всякий раз собирается вернуться на Русь, нынче опять запоздал. Он путь знает.
Федот подумал, что казак хочет помочь приятелю вернуться в Ленский острог и при этом заработать, но Михей, словно угадав его мысли, досадливо обронил:
— Лучше я дам тебе кабалу на заемную полтину, чем посажу кочмару на мель.
Вскоре он привел к приказчикам хмурого промышленного человека с нечесаной бородой в пояс. Бывалец явно пропился и смущался своего вида, но цену за работу просил непомерную. Михей Стадухин его же и осадил, взывая к совести. Поторговавшись, ударили по рукам. Задатка бурлак не просил, это понравилось приказчику. Коч и струг, отчалив от казенного причала, закачались на быстром течении Лены. Федот, вздыхая о былом, высматривал переменившиеся берега реки. Его взгляды то и дело натыкались на следы бечевника, станы, торчавшие из земли остовы разбитых стругов. Река была не той, какую он помнил. Течение воды то замирало, как в старице, то неслось с такой скоростью, что некогда было оглядываться по сторонам. Федот чесал затылок и удивлялся тому, как все стало непросто или как прямил Господь его ватажке в давние годы.
Через пару дней долгобородый передовщик бурлаков пришел в себя. Морщины на его лице разгладились, мешки под глазами опали. Он сутками стоял на рулевом колесе коча, зычно кричал, когда надо было ставить парус или выгребать своей силой. Пособный ветер дул ночами и, порой, до полудня. Пока он не стихал, нанятый кормщик маячил на коче, затем, при противном ветре, когда суда еле двигались, передавал управление Михею Стадухину, натягивал на лицо сетку из конских волос и ложился спать на корме. Между тем среди островов и проток реки несколько раз плутал и сам передовщик бурлаков, при явном мастерстве пару раз сажал коч на мели, но при этом удачно снимался с них. В Ленский острог спешили все, а кормщик, судя по радению, больше всех.
Перед Витимом река круто завиляла среди отвесных скал. На корме коча как всегда маячил долгобородый передовщик, Федот с Емелькой сидели на носу, Михей с Ариной, отмахиваясь от мошки, лежали на мешках с рожью. Кормщик, вдруг заорал дурным голосом. Стадухин пулей подскочил к нему. Долгобородый указал рукой на реку. Там среди глади была видна голова плывущего медведя. Емелька прибежал с пищалью, Федот раздувал трут. Кормщик подтолкнул Михея к рулю, выхватил у Емельки пищаль с тлевшим фитилем. Медведь обернулся, тоскливо зыркнув колючими глазками на догонявшее его судно. Он был так беззащитен, что у Михея заныло сердце. Казак взглянул на Арину, на ее лице тоже была безысходная печаль невольного свидетеля убийства.
И тут, зашуршав песком под днищем, коч сел на мель вблизи намытого течением острова. Собравшиеся на одном борту люди повалились с ног. Перед тем как вместе со стрелком оказаться в воде, пищаль гулко ухнула пустив по реке клубы дыма. Медведь вскоре выбрался на сушу, оглянулся, привстав на задние лапы, как показалось Стадухину, благодарно ощерил зубы, прытко скакнул и скрылся в береговом кустарнике. Кормщик с мокрой косицей свившейся бороды стоял по колено в воде, сжимал в руках разряженную пищаль и разъяренно глядел на Михея. Он готов был разразиться бранью, но вместо того подхватил плывший суконный колпак, обшитый по краю беличьими спинками, и швырнул его в казака. Отжав его, Михей беззаботно покрыл голову и с насмешкой укорил:
— Однако бурлачишь ты лучше, чем стреляешь!
К застрявшему кочу подплыли струги, на веслах сидели обозные своеуженники. Осташка Кудрин спрыгнул в воду, обошел коч, глубокомысленно почесался и крикнул:
— Не сильно сели! Руби жердины, вдруг без перегрузки снимемся.
Вскоре коч вывели на проходную глубину, а к вечеру завели в протоку, решив заночевать и запастись едой. Арина молилась, Михей посмеивался, вспоминая лица попадавших за борт спутников. Шепотом она спросила его:
— Ведь ты нарочито спас нашего медведя? Я узнала его!
Стадухин вместо прямого ответа стал туманно рассказывать, как при осаде Ленского острога якутами, весенняя льдина принесла к воротам тушу медведя, умершего от ран. Запах от нее был изрядный, но осажденные тем и питались.
— С тех пор воротит от медвежатины, — признался со смехом. — Разве лапы, печенные на углях.
Протока оказалась рыбной. Утром коч и струги отправились в дальнейший путь с волосяными веревками за кормой. На них били хвостами три осетра по два аршина и больше. Кормщик ни в чем не уличал казака, но бросал на него недоуменные и колючие взгляды. Курносый Емелька, громко чмокая, обсасывал осетриную голову и божился, что для него осетрина лучше всякого мяса.
Перед устьем Олекмы торговую ватажку нагнали суда Ерофея Хабарова, плывшие под кожаными парусами, вздутыми попутным ветром. Ерофей фертом стоял на носу ертаульного струга и насмешливо оглядывал попутчиков. Он спешил в Ленский острог с богатым грузом и был полон ярости против бесчинства воевод. Федоту приветливо помахал рукой. Высмотрев на коче Семена Шелковникова и Михея Стадухина, закричал:
— Бежать хотели от Ярка? Под землей сыщу! — Потряс кулаком и захохотал, молодцевато сбив шапку на затылок, показывал, что не гневается на старых друзей, невольно принявших участие в его разорении.
— Остыл уже! — проворчал Семен. — Наорался, поди, на Пильникова, прежде чем разобрался, кто его пограбил. И оглядывая обгонявшие караван струги Хабарова, крикнул: — Рожь везешь? Рублей на тыщу?
— Поболе! — горделиво ответил Ерофей.
Не останавливаясь для разговоров, его струги обогнали суда Попова и Сиверова.
— Юшку лаять будет за всех нас, — зевая, пробормотал Стадухин. — А что мы так медленно плывем? — громко спросил передовщика, усаживаясь за загребное весло. — Вели-ка нашим лодырям пошевеливаться.
— На кой? — услышав его, отмахнулся Шелковников. — На таможне с Ярком ругаться? Все равно там придется ждать.
В Ленский острог струги Попова прибыли с ранними заморозками. К этому времени крепкие промысловые ватаги, сумевшие получить отпускные грамоты, уже разошлись по тайге, но народа возле острога было много: служилые, гулящие, промышленные. Далеко по реке разносился перестук топоров и оклики работных. На берегу сох сплавленный с Витима строевой лес, на воде покачивались плоты сучковатых, корявых сосен с близких песчаных боров. В воеводстве прочно утверждалась новая власть. На досмотр товаров к усовским стругам вышел сын боярский, которого Михей Стадухин окликнул Дружинкой.
— Как тебе на новом месте, при новых воеводах? — насмешливо спросил его казак.
Бывший олекминский таможенный голова равнодушно взглянул на него, вздохнул и, не ответив, отвел глаза. Досмотр был произведен быстро. Приказчики в пути не торговали и потому оплатили только пошлину за прибытие.
— Ярко Хабаров обогнал нас. Прибыл ли? — вкрадчиво спросил таможенного Федот Попов.
— Прибыл! — снова со вздохом ответил сын боярский. — Уже сидит на цепи в старой казенке! — Хмуря брови, пояснил: — Матерно лаял нового воеводу. — По лицу и по словам таможенника непонятно было, осуждает он Хабарова или одобряет.
Федот отметил это про себя и подумал, что надо бы дать ему подарок в почесть, хоть тот и не делал никаких поблажек. Усовские приказчики подписались под описью, целовальник сунул перо за ухо и заткнул чернильницу, болтавшуюся на поясе в кожаном мешочке. Дружина Трубников, будто угадав мысли Федота, сказал:
— К главному воеводе не попадете. Занят! Идите на поклон к Матвею Богдановичу Глебову. С ним и говорить проще. — Вымученно улыбнулся, невольно выдавая какие-то свои тяготы.
Острог был непомерно мал для людей, прибывших этим летом. Часть тына они уже разобрали. В десяти саженях от него рубили новую проездную башню, ставили стену из здешней сучковатой и приземистой сосны. Неподалек, за старым почерневшим тыном, курились дымы юрт, балаганов и землянок. Всюду деловито сновали люди, все были чем-то заняты. Лука Сиверов ушел на гостиный двор присмотреться к торгу. Михей Стадухин отправился в острог. При судах остались своеуженники и Емеля Степанов. Федот с Семеном Шелковниковым пошли на поклон к воеводе Глебову. В съезжей избе его не оказалось, а беспокоить стольника на дому, где он остановился, прибывшие не решились. Дьяк и письменные головы тоже были заняты и не приняли их.
Рядом со съезжей избой стучали топорами странного вида плотники, делали прируб из сырого леса. Лица их были изнурены, рубахи не опоясаны. В стороне бездельничал казак при сабле.
— Арестанты! — догадался Федот и указал на них Семену.
Тот вдруг остановился посреди узкого прохода, перегородив его широкими плечами, уставился на стоявшего к нему спиной. Окликнул:
— Ивашка, что ли?
Плотничавший невольник обернулся на голос обветренным, посеченным глубокими морщинами лицом. Семен взревел как медведь и стал тискать его в объятьях. Федот не сразу понял, кого он облапил. Скучавший рябой охранник повеселевшими глазами наблюдал за встречей друзей, жевал лиственничную смолу, не мешая чужой радости, не двигался с места.
— Дай поговорить с родней! — обернулся к нему Семен, заслонив спиной Ивашку Москвитина. Теперь старого дружка обнимал Федот.
С радостным лицом он вынул из кармана пару алтын, протянул охраннику. Тот взглянул на монеты и добродушно рассмеялся:
— Не в Енисейском! Здесь за такие деньги ничего не купишь.
— Дай гривенный! — подсказал Семен.
Москвитин подобрал шапку и зипун.
— Пойдем к стругам! — потянул его к реке Семен.
Охранник поднялся, опираясь на суковатый черенок, прихрамывая, шагнул к узнику, подал ему кушак.
— Не бойся, не сбежит! — буркнул Семен. — К вечеру вернется.
— Да куда бежать-то? — рассмеялся рябой казак и взялся за топор, оставленный Иваном.
— Сказывали, ты с Копыловым уходил? — не дав прийти в себя товарищу, на ходу расспрашивал его Семен. А сам тащил друга под руку, да так быстро, что тот едва успевал переставлять ноги. — Как под стражей-то оказался?
— А в награду! — сипло ответил Иван. — Митька Копылов с Парфенкой Ходыревым тоже под стражей, но их кормят.
— Голодный, поди? — посочувствовал Федот.
— Не был бы голодным — не махал бы топором! — неприветливо огрызнулся Москвитин и устыдился: — Прости, Христа ради! Обида сердце гложет. — Посыпались из него торопливые слова: — На Алдане напал на нас Парфен Ходырев. Побил десятника Петрова с его людьми. А Митька-атаман не велел нам воевать со своими, и пошли мы вверх по реке. Потом Копылов приказал мне принять два десятка томских служилых и с красноярцами идти за горы к океану-морю, про которое слышали от ламут. Ну, и шли вверх по Мае, переволоклись через хребет в верховья Ульи, сплыли до моря, в устье срубили зимовье. Рыбы там, что плавника…
— Погоди! — остановил разговорившегося друга Федот. — Расскажешь на месте, а то наши, обозные, умучают расспросами.
Иван замолчал, обиженно засопел, свесив голову.
— За что новый воевода в тюрьме держит? — Семен тут же спросил про другое.
— За то и держит и под батоги ставит, что был свидетелем и послухом, как Митька-атаман с Парфенкой воевали. Про новые земли, про океан-море не спрашивает. На одиннадцать сороков соболей — ясак с тамошних народов, в один глаз посмотрел и велел бросить в амбар. Соболишки, конечно, похуже здешних, но все равно по ленским ценам рублей по пятнадцать за сорок.
Обозные люди под началом расторопного Емельки Степанова, после досмотра отогнали суда ниже острога, туда, где еще не был вырублен низкорослый ивняк, и обустраивали стан. Федот с Семеном привели Ивана Москвитина к их костру, усадили на лучшее место. Федот велел племяннику накормить гостя хлебом, напоить квасом, заварить для него толокна с медом. Поругивая Ходырева, Копылова и новых воевод, которые, не накормив — не напоив, после дальних служб, безвинно засадили в тюрьму, Иван принялся за еду. Насытившись, прилег у огня. От острога к стану с озабоченным видом пришел Лука Сиверов, огляделся, поскоблил носком сапога оттаявшую после полудня землю.
— Что там, на гостином? — спросил его Федот.
— Товара, такого как у нас, в избытке, — вздохнул приказчик, присаживаясь. — Покупателей нет. Хотим, не хотим, а зимовать придется. Землянки надо рыть. На гостином дворе жить — в конец разоримся.
От народа, бегавшего вокруг острога, отделились трое и направились к костру усовской торговой ватажки.
— Михейка Стадухин, — издали узнал одного из них Емеля.
— Семейка Дежнев, караульный, — указал на другого, прихрамывавшего, Иван Москвитин. — Наверное, за мной.
Федот удивленно взглянул на Семена Шелковникова:
— До вечера сговаривались?!
Третий, в мягких ичигах, в волчьей парке, судя по одежде, был промышленным человеком. Его почтенная белая борода висла по груди едва не в пояс, седые волосы лежали по плечам. Со волнением вглядывался Федот в обветренное лицо, что-то знакомое было в походке, во взгляде, но узнать промышленного он не мог, пока под боком не вскрикнул Семен:
— Пантелей Демидыч!
— Пенда! — ахнули разом Попов с Москвитиным и вскочили с мест.
Годы немало потрудились над сибирским первопроходцем. Он стал похож на старый кедр с окаменевшим комлем, со скрученным ветрами стволом, но с живой зеленой верхушкой.
— С Индигирки вышел! — коротко ответил на расспросы старых друзей. — Отправил с Семейкой рухлядь, — кивнул на хромого казака, — чтобы по моей кабале оплатил, как чуял — не дошла.
— Не со мной! — пояснил казак. — С промышленными, которые сопровождали. Пропились в Жиганах. Я с казаком Простоквашей был при казне от Митьки Зыряна.
— Вот уже и ты берешь деньги под кабалу! — с грустью заметил Федот, оглядывая Пантелея. — Помню, учил: шапку, саблю и волю не закладывать!
— Здесь все не так, как там! — чуть заметно поморщившись былому, одними глазами улыбнулся и кивнул в сторону заката промышленный. — В старое время с ума сходили от бесхлебья, нынче годами живут на рыбе и мясе. Про посты одни только разговоры, дескать, в походе Бог простит… Другое все стало! — блеснул ясными глазами, оглядывая Москвитина. — Сказывают, на Ламе был, устье Амура видел?
— Был! — кивнул Иван и уставился на конвойного: не за ним ли пришел.
— Семейка Дежнев, земляк мой! — указал на казака Михей Стадухин. — Купил узникам хлеба, те и рады, божились без него работать, а не бегать христарадничать.
Федот Попов во время разговоров несколько раз бросал на Михея быстрые скользящие взгляды, отмечая про себя, что у того сильно переменилось лицо. От самого Илимского острога казак пребывал в радостном умилении. Теперь его брови хмурились, глаза смотрели пронзительно, желваки вздувались. Казачий десятник Москвитин стал обстоятельно рассказывать, кивая на свидетеля Стадухина, который с Парфеном Ходыревым гнал в верховья Алдана томичей и красноярцев, как атаман отправил его, Ивана, со служилыми людьми за горы к океан-морю. Как поднимались по Мае и переволоклись в Улью-реку, что течет по другую сторону гор к морю, как срубили в устье той реки зимовье по-промышленному.
— Значит, по ту сторону гор, что идут от Байкала, тоже океан? — спросил Пантелей Демидович, внимательно слушавший десятника.
— Океан! — мимолетно кивнул рассказчик. — Ламуты там другие, не те, что в верховьях Яны, а язык, говорят, схож. Железа не знают: ножи костяные, топоры каменные. Рыбы, зверя там много, живут у Бога за пазухой, понять не могут, зачем пришлым людям что-то платить, если их, пришлых, можно грабить. Ну, и собирались по две-три сотни, когда еды много, нападали на зимовье. Бегут толпой, боевого порядка не знают. Взяли мы аманатов, думали, сговоримся жить в мире. А они еще чаще стали нападать. Как-то подошли скрадом, когда мы строили кочи на плотбище, закололи караульного, давай сбивать колодки с аманатов. Другой караульный при зимовье застрелил их лучшего мужика. Они, как дети, побросали топоры, луки, стали плакать над убитым. Тут мы скопом зааманатили еще семерых и одного знатного мужика. И слышал я от них, будто к закату от устья Ульи живут бородатые люди — дауры, которые говорят им, будто они казакам — братья.
Пантелей недоверчиво хмыкнул и нетерпеливо переспросил:
— Видел их?
— Год просидели возле зимовья при непрестанных нападениях. Потом построили кочи, разделились на два отряда. Я поплыл на полдень, куда указывали аманаты. Места там бедные кормами. Дошли до косы, за которой видно устье большой реки и повернули назад, чтобы не помереть с голоду. Дауров не видел, но слышал о них много… А воеводы решили, что те места государю не надобны: соболь, дескать, желтый.
— Зато за четыре года ты получишь одного только денежного жалованья — двадцать рублей, — посмеиваясь и загибая пальцы, стал вслух считать Семен Дежнев, — да муку, крупы, соль… да три десятка служилых, что были с тобой, затребуют столько же, а прибыли государю добыли на сто тридцать рублей. Я писать-читать не умею, а считать горазд! — похвалился, беспечно улыбаясь. — Елисей Буза привез нынче одних только черных соболей и лис восемьдесят сороков. Торговые люди оценили их по полусотне рублей за сорок…
— Послан был искать реку с истоком в Китае! — Ломая бровь и морщась, Пантелей презрительно скривил губы в белой бороде. — Но из-за черных лис, просидел в низовьях Яны и Индигирки.
Говорившие и слушавшие смущенно умолкли. Чтобы поддержать прервавшийся разговор, Попов спросил:
— Ярко Хабаров не голодает в тюрьме?
Стадухин желчно усмехнулся, Дежнев рассмеялся:
— У Ярка полгарнизона в кабале. Захочет запоститься — не сможет!
Рябой половинщик, карауливший заключенных, опять разговорился, отвлекая обозных от Москвитина. Он ходил с Митькой Зыряном в Верхоянское зимовье, на перемену отряду Постника Губаря, с которым по бесовскому прельщению не ушел Михей Стадухин. Собирался своим подъемом: брал под кабалу деньги на двух коней, порох, свинец, рожь, невод. Поход начался удачно, но Семейку Бог не миловал: его кони сдохли сам на Яне захворал. Митька Зырян, боясь, как бы немирные народы не отбили ясачной рухляди, выдал Дежневу и Фофанову-Простокваше их паи из добытых мехов и велел возвращаться в Ленский острог с государевой казной. В помощь отправил с ними двух промышленных людей и девку якутской породы, выкупленную казаками у янских инородцев. Родня той девки по имени Абаканда числилась в верных ясачниках и кочевала неподалеку от Ленского острога.
Бог не без милости! На Янском хребте на отряд из четырех человек напали ламуты. Казаки, промышленные и якутская девка отбились. Но Семейка получил две раны в ногу коваными наконечниками боевых стрел. Девка помогла ему залечить раны так, что при ходьбе перестала сочиться кровь. Но казак, не устояв перед соблазном, забрюхатил ее в пути, а Митька велел взять с родни выкуп вдвойне. Дежнев в целости сдал казну Парфену Ходыреву. Поклонов дать было не из чего — рухляди едва хватило, чтобы рассчитаться по кабале и за выкуп ясырки. Так и остался казак после дальней годовалой службы без денежки в кармане на прежнем половинном жалованье. Больной, без гульного отпуска, был поставлен в караульные службы, на которых разве только с голоду не помрешь.
— Семейка не пропадет — хозяин! — опять усмехнулся Стадухин. — Нынче живет с Абакандой, пестует якутенка. Корову купил с половинного-то жалованья, да при гарнизоне…
Дежнев непринужденно рассмеялся, откинув голову.
— Не случилось ли с Ариной разлада? — пристально глядя на Михея, спросил Попов. — Так хорошо жили, душа радовалась, глядя на вас.
— С чего бы? — насторожился Стадухин.
— Подошел к костру, глаза злющие, лицо сикось-накось!
— Пока я ради правды ходил в Илимский, Васька Поярков отправил морем на устье Индигирки Федьку Чурку со служилыми, торговыми и промышленными. Я с Федькой в Енисейском гарнизоне служил. Теперь понимаю, что Васька выпроводил меня с умыслом, чтобы не пустить на прииск новых земель. Постник Губарь неделей раньше нас получил наказную память, ушел на Яну. Без меня!
— И слава Богу! — стал утешать его Федот. — Тебе же Господь дал покладистую красивую жену?
— Жену дал, — натянуто улыбнулся Михей, глаза его подобрели, сам обмяк, не уловив в голосе приказчика насмешки. — Теперь дом строить надо. А при остроге жалованье только на прокорм. В хорошем походе, бывает, за зиму богатеют…
Семен Шелковников, не слушая рассказов о дежневской службе и венчании, смотрел на угли костра остекленевшими глазами. Едва затянулась пауза, пробормотал:
— Ну и что с того, что народу много? Это хорошо!
На стане мало кто понял, кому он говорит и зачем. Но Семен уставился на Ивана Москвитина, желая продолжить прерванный рассказ.
— Что с них, диких, взять? Поставил бы острог крепкий. Придет время, поймут выгоду, благодарить станут, что силой подвели под государеву руку.
— Говорил я так воеводам, — обиженно заводил носом Иван. — Всего-то полсотни служилых надо, чтобы был порядок. Кормов там много… Как-то невод бросили — вытянуть не смогли, резать пришлось, освобождая от улова. И рыба большая, такой в Сибири нет…
— А воеводы что?
— Воеводы? — презрительно скривил губы Москвитин. — Им Лама не нужна, им нужен Парфен Ходырев. Огнем пытали и против него, чтобы обвинить, и за него, чтобы оправдать. Головин обвинял Ходырева во всех смертных грехах, Глебов его оправдывал, а я перед ними с вывернутыми руками и окровавленной спиной. — Москвитин злобно усмехнулся, махнул рукавом по носу. — Спорили меж собой, спорили, Головин как заорет: «Не с того ли жаль вам Ходырева, что я ныне про его воровство сыскиваю, а вы от него имаете посул? И взяли уже с Парфенки тысячу рублей?» Вскочил с кресла да Матвея Глебова — стольника, как треснет по голове ларцом, в котором государева печать. Тот повалился на лавку. Головин давай его бить, а дьяк Филатов насел со спины и оттягивал за волосы, а Васька Поярков разнимал. — Москвитин мотнул головой с выстывшими глазами, горько добавил: — Хоть бы меня развязали, потом дрались.
— Вот ведь, Парфенка, сын бесов, — удивленно ругнулся Стадухин. — Уже и царского воеводу подкупил.
— Помянете еще своего Парфенку добрым словом! — вытягивая к огню ладони, пригрозил Москвитин.
Собравшиеся у костра смущенно притихли. На другой день усовские приказчики опять пошли в съезжую избу и были поставлены перед Петром Петровичем Головиным. Главный якутский воевода-стольник ласково принял их поклоны, расспросил о товарах и даже посмеялся над купцом Усовым, что зловредный промышленный человечишка Хабаров привез товара в Ленский острог вдвое больше, чем именитый гость царской сотни.
— Еще и меня, главного воеводу, лает, что не даю ему с Ходыревым всю Сибирь под себя подмять.
Увидев Головина в добром расположении духа, Попов осторожно заметил, что видел бывшие хабаровские поля по Куте. Посетовал: «Хорошо бы иметь свой хлеб на Лене» — Важное, государево дело! — согласился Петр Петрович. — Оттого и велел я выпустить буяна под залог. Смутьян, но хозяин и польза от него. Просит землю по Киренге — дам! Соль для него самого с бывшей его солеварни дозволил брать, — говорил, оглаживая бороду, любуясь своим добросердечием.
Раскосый мужик в долгополой льняной рубахе, с большим кедровым крестом на груди то забегал в дом по какой-то надобности, то выскакивал из него, то, схватив метлу, начинал скрести возле печи и всякий раз подталкивал приказчиков с места на место. Бросив подметать, поднес воеводе квас в кружке.
Набравшись духа, Федот Попов попросил за Ивана Москвитина:
— Не знаю, тяжки ли вины его, друг-товарищ юности. Мы ведь с ним промышляли соболя на Нижней Тунгуске, когда здешние народы про русского царя не слыхивали.
Сказал и почуял, как под боком опасливо засопел, заелозил сапогами Лука. Тень набежала на лицо главного воеводы, глаза гневно блеснули.
— В том его вина, — сказал грозно, — что покрывает и сына боярского Ходырева, и атамана Копылова. Неужели томским да красноярским казакам нет служб возле своих острогов, что они заводят порядки на Лене и Алдане?
Федот почтительно склонил голову, соглашаясь, что вина на друге есть, и больше не упоминал о нем. Остыв от мимолетного гнева, воевода спросил приказчиков, при остроге ли они намерены торговать или где-то в другом месте.
— Осмотримся, решим, — уклончиво ответил Федот. — Скорей всего, придется и промышлять, и торговать на дальних окраинах.
Воевода милостиво отпустил приказчиков, но не успели они отойти от съезжей избы на десяток шагов, их догнал раскосый мужик, мельтешивший при воеводе, пристально и нагло глядя в глаза Федоту, потребовал сто рублей на устройство тюрьмы. Попов поскоблил щеку под стриженой бородой, вынул кошель из-под полы и высыпал на ладонь десять битых ефимков.
— Все, что имеем. Не расторговались еще, — пожаловался.
Мужик без благодарности сгреб деньги и шмыгнул за стену избы. Сиверов всхлипнул:
— Нам так вовек долгов не выплатить! Столько уже истрачено в пути!
Федот ниже опустил голову, пожал плечами, пробормотал, оправдываясь перед связчиком:
— Хабаров отказал. Дорого ему обошелся отказ. Авось все окупится.
Лука некоторое время обиженно молчал, разглядывая работных и служилых людей, расширявших острог, потом решительно заявил:
— Лучше синица в руке, чем журавль в небе! — Не поднимая глаз, развернулся и, сутулясь, зашагал к торговым рядам гостиного двора.
После полудня на стан пришел Иван Москвитин с красноярскими казаками Втором Гавриловым и Андреем Горелым. Оба были его товарищами по последнему ламскому походу. С ними он строил новый государев острог, дожидаясь воеводского суда и московского развода по походам атамана Копылова. Головин освободил Ивана из тюрьмы, но отпускной грамоты ни ему, ни его казакам не давал, вынуждая служить при гарнизоне. Среди суетившегося народа Москвитин отыскал Федота, глаза его блестели, как в далекой юношеской поре.
— Пантелей Демидыч зовет на питейный двор! — Обернулся к Гаврилову с Горелым. Их уже окружили поповские своеуженники, расспрашивая о Ламе. Иван весело отмахнулся: — Пускай поговорят! — На пару с Федотом стал искать Семена Шелковникова. Тот бездельничал, досадуя, что его не принимают ни воеводы, ни письменные головы, не мог понять, отчего их дворня поглядывает на него злобно и насмешливо.
— Суета сует! — проворчал, поднимаясь навстречу старым друзьям. — Чего- то бегают, кричат!
Трое старых друзей отправились на питейный двор, который был и здесь откуплен ловкими торговцами. Время больших барышей ушло: одни люди пропились и работали на поденщине, другие разбрелись на промыслы. Семен, презрительно озирая толпы служилых и гулящих, вполголоса поругивал здешние порядки. Похоже, он уже жалел, что приплыл сюда, чтобы упредить «слово и дело» придурошного усть-кутского сплетника.
— Кого-то все бегают, ругаются!.. Казака Пашку Левонтьева знаете?
— Который на Николу Угодника похож? — рассмеялся Москвитин.
— Его! — проворчал Семен. — Давеча, на литургии черные попы стали ругать служилых, что притесняют диких, вместо того чтобы лаской призывать к вере, а он им: «Ваше монашеское дело свои души спасать да за нас, грешных, молиться, а вы в мирские дела лезете, властвовать хотите!» Поп, который у них за главного: «Кто сказал?» Пашка ему: «Я!». «Выдь из храма!» Пашка ему: «Я этот храм строил, а потому — не тебе, пришлому, указывать в нем!» Служилые тоже зароптали: «Кто де вы такие, нас гнать из нашей церкви?» — А, тьфу! — Семен сплюнул под ноги. — Даже во храме Божьем суета!
Кабак был полупустым, а цены на горячее вино, брагу и сусло оставались впятеро выше енисейских. За выскобленным столом сидел Пантелей Демидович без шапки, с седыми волосами, рассыпавшимися по плечам и спутавшимися с белой бородой. Рядом с ним Михей Стадухин, дальше — его улыбчивый земляк Семейка Дежнев, напротив — Ерофей Хабаров. Все о чем-то неторопливо беседовали. Федот замялся в дверях: он предполагал поговорить со старым Пендой, но возле него собралось много людей. Увидев вошедших, Пантелей махнул рукой, приглашая за стол. Трое перекрестились на закопченный образ, подсели на лавку. По лицу Хабарова Федот понял, что прервал его на полуслове. Окинув пришедших небрежным взглядом, Ерофей сбил на ухо соболью шапку и, обернувшись к Стадухину, со злостью заговорил:
— Да ты перед ним, должно быть, на брюхе ползал, иначе не выпросил бы дальнюю службу. Я же Христа ради — перекрестился, смахнув шапку с головы, — правду в глаза говорил…
Ломая бровь и вздувая грудь, Стадухин отвечал:
— У тебя одна правда — мошну набить. Ты Бога-то не гневи, призывая во свидетели.
— Ишь! — переводя глаза с Попова на Шелковникова, пояснил Хабаров. — Не успел приплыть в Ленский, уже выхлопотал дальнюю службу.
— Куда? — через стол спросил Федот.
— Ленские ясачные якуты откочевали, по слухам, на Оймякон — это где-то встреч солнца от устья Амги, места дальние, никто из промышленных и служилых людей там не был. Воевода велел вернуть беглецов и подвести под государеву руку тамошние народы, — обстоятельно отвечал Михей, косясь на Хабарова. — Прошлый год Поярков послал за беглецами казака Елисея Рожу с людьми. Нынешним летом они вернулись с Амги побитыми.
Федот кивнул, не совсем понимая, где Оймякон.
— Весной пойдешь? — спросил.
— Соберусь и уйду нынче, на конях. Пойдешь со мной своим подъемом? — спросил, в упор глядя на приказчика. — На новом месте товар, бывает, втридорога уходит.
— Я вызнал, что тут и к зиме коня не купишь дешевле, чем за двадцать пять рублей, — посмеялся Попов. — А мне их надо десяток. За эти деньги я три коча построю и продам с прибылью.
— Хороший купеческий коч в Ленском рублей двести, — поддержал его Пантелей, сдержанно молчавший при разговоре. — Казенные, худые, — пятьдесят-шестьдесят.
— Думай, холмогорец! Охочих много! Семейка, хромой, бедный, и то слезно просится и Гришку Простоквашу за собой тянет, — кивнул на Дежнева, — Пантелей Демидыч со мной идет, Ивашкины товарищи, — перевел взгляд на Ивана Москвитина.
Федот вскинул глаза на старого промышленного:
— А я думал звать тебя плыть дальше по Лене.
— Я ее всю прошел с Ивашкой Ребровым, — равнодушно ответил Пантелей.
— На Оленеке промышлял, на Яне, Индигирке. Другой раз идти туда не хочу.
— Моих друзей берешь, а меня у воеводы не выпросишь? — Москвитин обидчиво прищурился, тоскливо взглянул на штоф и вздохнул: — Хоть куда ушел бы, одолжившись под кабалу, лишь бы подальше от стольников! Иначе придется махать топором за прокорм.
— То не просил? — налившись краской, рассерженно рыкнул Стадухин. — Едва не вытолкали из съезжей…
На столе стоял непочатым штоф стоимостью не меньше двух рублей, стыла печеная нельма на берестяном блюде. Половой принес и поставил перед подсевшими еще три чарки, надеясь, что стол разгуляется хотя бы на полведра. Но собравшиеся только говорили, не прикасаясь ни к вину, ни к закуске.
— Я нынешний год никуда не пойду! — с важным видом продолжал рассуждать Хабаров, и Федот понял, что он за этим столом не случайный человек: — Мишка, — кивнул на Стадухина, — зовет на Оймякон, воевода дает землю по Киренге вместо отобранной. Там лучше! На Куте сколько засеял ржи и пшеницы, столько его люди собрали. Но упорствует стольник, чтобы я отсыпал в казну с пятого снопа. Хрен ему в бороду! С десятого можно. И зерно на посев мое. Мне его посулы без надобности.
— Сколько соболей обещал в казну? — спросил вдруг Стадухина.
— Сто! — напрямик ответил тот.
— А вернуться когда?
— К Троице!
— Денег дам до Троицына дня без роста! — ухмыльнулся и плутовато прищурился Хабаров.
— Пятнадцать пишем, десять даем? — насмешливо торгуясь, спросил Стадухин.
— С пятидесяти по пяти!
— Так еще по-божески! — потянулся к штофу казак, чтобы разлить по чаркам за уговор. — Подумаю, вдруг найду кто даст выгодней… Пока Головин у тебя всех денег не отобрал, — язвительно хохотнул.
«Чудны дела Господни!» — насмешливо поглядывая на собравшихся, думал Федот Попов. Не в церкви, в кабаке происходил зачин на выбор судеб сидевших здесь людей.
Из другого угла пристально, не мигая, на них смотрел какой-то пропившийся ярыжка с голыми плечами. Федот раз и другой обернулся на его слезливый взгляд. Глаза пропойцы будто липли к лицу, но не было в них ни униженной просьбы, ни холуйского умиления, не было злости или зависти, разве любопытство да глубокая, лютая тоска-печаль. Не удержавшись, Федот снова повел глазами в его сторону и опять натолкнулся на такое сочувствие, от которого у самого едва не навернулись слезы.
— Чего пялится? — сердито заерзал на лавке Семен Шелковников. — Должник твой, что ли? — гневно спросил Хабарова.
Тот обернулся всем телом, грозно взглянул на пропойцу. Глаза ярыжки не мигнули, не дрогнули, лицо никак не переменилось.
— Опохмелиться желает! — самоуверенно буркнул Ерофей.
Москвитин помалкивал, глядя, как Стадухин разливает вино, Дежнев смущенно улыбался, Пантелей Пенда степенно молчал, Хабаров весело и зло балагурил. Они еще не выпили во славу Божью, только потянулись к вину. Федот краем глаза уловил, как пропившийся поднялся с чаркой в руке, и осторожно, будто боялся расплескать ее, двинулся в их сторону, без приглашения подсел на пустующее место с краю и поставил на стол чарку, которая оказалась больше чем наполовину наполненной вином.
— Чего тебе? — скривил бровь Хабаров, ожидая просьб, перекрестил бороду и влил в рот вино.
Попов тоже выпил, крякнул, перекрестился, приветливо взглянул на пьянчужку, переводившего глаза с одного на другого. Взявшись за штоф, хотел уже плеснуть ему, но тот закрыл чарку ладонью и мотнул головой.
— Не надо вашей, горькой, — пробормотал, икая. — Бедные вы, бедные!
— Чего мелешь, полудурок? — цыкнул на пропойцу Хабаров.
Распахнулась тесовая дверь, вошел тобольский казак от новой власти, Курбат Иванов. Важный и кочетоглазый, строго оглядел сидевших, небрежно поманил полового, стал громко выговаривать, чтобы слышали все:
— Указом воевод наших — зерни и блядни по кабакам не держать. Кто начнет ночами из своих подворий ходить и ночевать безвестно и рухлядь какая новая объявится в ночных приносах, с тех сыскивать строго!
— Не тебе нам об этом говорить, сын блядин! Кто ты на Лене и кто мы? — выкрикнул Хабаров.
Курбат не снизошел до склоки, бросил на него снисходительный взгляд и повернулся, чтобы выйти.
— Не ругай бедного, — всхлипнул пропойца. — Он много чего государю выслужит, а наградят батогами. Забьют до смерти! — Пьянчужка икнул, дрогнув всем телом, слезы покатились по воспаленным щекам. — Бедные вы, бедные!
— Ты хоть знаешь, с кем сидишь, полудурок? — прикрикнул на него Хабаров.
Тот мотнул головой и качнулся, едва не соскользнув с лавки.
— Знаю только, что сейчас вы рядом, — указал глазами на Ивана Москвитина, — а скоро друг в друга из пушек стрелять будете. И ты, — поднял больные глаза на Хабарова, — за все свои заслуги великие помрешь в нищете и долгах!
— Кто я — тебе безвестно, а то, что когда-нибудь помру, — знаешь? — стал забавляться Ерофей.
— Да! — кивнул пьянчужка. — На печке помрешь, в чине сына боярского, в долгах и бедности.
— И с чего же, дурак, мне, промышленному человеку, дадут средний чин? — расхохотался Ерофей.
— Не знаю! — изумленно уставился на него пропойца, снова икнул, смахнул со щек слезы.
— На печи, говоришь, да еще на своей — это хорошо! — повеселев, расшалился Ерофей.
— Почто вам такая награда за все ваши труды и муки? Один только отойдет к Господу возле родины, в разрядном атаманстве, в славе и достатке. А намучается-то, не приведи Господи! — скользнул воспаленным взглядом по Стадухину и затряс плечами, будто сдерживал рвавшиеся рыдания.
— Почем знаешь? — неприязненно процедил Москвитин, шумно вдыхая после выпитого.
— Открылось вдруг, — опять содрогнулся пропойца. — И тебе не будет награды…
Про Москвитина знали многие в остроге и сочувствовали ему. Слова пьяного Ивана не удивили.
— И про меня открылось? — спросил Пантелей Пенда со щербатой улыбкой в белой бороде.
— Открылось! — кивнул ярыжка. — Найдешь свою землю и слезами ее окропишь, яко Иов тела сыновей своих.
Перевел глаза на Попова, но тот замахал руками:
— Ступай с Богом! Не надо мне твоих слов.
— За то и выпьем! — хохотнул Хабаров. — Ладно, до самой старости доживу, наверное, и помру не от голода.
— Эй, гуляка! — окликнул ярыжку Семен Шелковников. — Долго ли мне в целовальниках ходить?
Пьянчужка неспешно обернулся к нему, мигнул, блеснув размытой, мутной слезой, ответил со всхлипыванием:
— Последний день! В казачьем чине город заложишь на краю земли и помрешь там.
— Тьфу на тебя! — выругался и перекрестился Семен.
— Не ошибся! — громче захохотал Хабаров. — Все когда-нибудь помрем. Или я вечный? — спросил со скоморошьей строгостью, думая, что тот уже забыл, о чем пророчил.
— Нет! — все так же печально пролепетал пьяный. — На печке отойдешь к Господу, в своей деревеньке.
— Слыхали! — Забавляясь, Хабаров с важностью обвел собравшихся смешливыми глазами.
С другого края стола на пьяного с любопытством поглядывал Семейка Дежнев, но никак не мог поймать его скользящий взгляд, а сам заговорить не решался. Стадухин глядел на ярыжку строго и важно, до вопросов не снисходил, уверенный, что напророченное одному из сидевших разрядное атаманство и достаток — это его, Мишкина, судьба.
Время шло, разговора, которого ожидал Попов, не получалось. Впрочем, и того было достаточно: Пантелей Демидович с ним не останется, а мог бы быть передовщиком в его ватаге. Ясно было и то, что со Стадухиным он, Федот, со своим товаром неведомо куда, да еще на лошадях, не пойдет. Федот накрылся шапкой и тихо вышел из кабака.
«Спаси Бог друга Семейку, что надоумил выменять добрый коч! — с благодарностью подумал о Шелковникове, крепче утверждаясь в решении плыть дальше. — А зимовать придется в Ленском».
Уже на другой день на усовский стан пришли приставы от воевод за Семеном Шелковниковым.
— Слава Богу! Вспомнили! — обрадовался целовальник усть-кутский солеварни и бросил в сторону лопату, которой долбил яму под землянку в промерзающем берегу. Усовские приказчики и своеуженники готовились к зимовке, он помогал им, ожидая, когда о нем вспомнят в съезжей избе.
Осенние дни коротки. Возле острога и на берегу реки еще в сумерках начинали стучать топоры да заступы. Возле острожных дымов и костров сновали озабоченные делами люди, расширяли стены, копали ров, ставили надолбы для защиты от конницы. В двадцати верстах выше по течению реки, на другом берегу Лены по указу Головина закладывался новый государев острог, за один только казенный прокорм там уже строили третью тюрьму и пыточную избу.
К вечеру на усовский стан пришел пристав, сказал Федоту Попову, что Семейка Шелковников посажен в тюрьму и просит передать парку с меховым одеялом. Федот завернул в одеяло каравай хлеба. На душе было тревожно, и позавидовал он Михею Стадухину с его четырнадцатью казаками и промышленными людьми, которые уходили в неведомый край. Покрученников Михей не брал. Все его казаки и промышленные уходили своим подъемом, в большинстве одалживаясь у торговых людей. Немногие расплачивались за снаряжение мехами, добытыми в прежнем походе. Все богатство добытое Пантелеем Пендой за семь лет скитаний, было потрачено им на сборы и все равно не хватило десяти рублей ходовых денег. Старый промышленный тоже выдал на себя кабалу.
Лука Сиверов торговал на пару с Емелей, племянником Федота Попова. Веселый, рыжий, рот до ушей, он зазывал покупателей одним своим видом. Народу же возле острога становилось все меньше, и это тревожило торговых людей. Четыре сотни служилых, прибывших с воеводами, как-то незаметно растеклись по зимовьям и улусам. При гарнизоне их оставалось меньше полусотни.
Перед самой шугой по выстывавшей реке с густой, тягучей водой после многолетнего плавания в Ленский острог вернулся казак Иван Ребров. Он открыл морские пути на Оленек и Индигирку — те самые, на которых прежде него побились суда многих неудачливых промысловых ватаг. Спасшийся в таком походе торговый человек Епифан Волынкин был в большой вере у главного воеводы и уверял, будто морем на восход пути нет, что там круглый год льды. Теперь, после возвращения Реброва, Волынкин говорил, что Ивашке правил черт или водяной дедушка. Но купцы и торговые люди почитали Реброва за святого. Его рассказы о морских и речных скитаниях, о народах по ту и другую сторону от Лены собирали по пол-острога слушателей.
Наконец река, поскрежетав шугой, салом и отдерными льдинами, встала. Из ближайших улусов то и дело возвращались служилые, ходившие за ясаком. Новости, которые они привозили, настораживали. По их рассказам, среди ясачных якутов появились признаки смуты. По слухам, ходившим среди приострожного сброда, воевода Головин приказывал казакам, отправляемым в улусы, переписывать ясачных мужиков, их сыновей, рабов-боканов и скот, которым якуты владели. Старые казаки, служившие на Лене со времен Бекетова и Галкина, узнав об этом, предрекали от переписи бунты и воины. Когда заговорили о признаках смуты, их выборные люди пошли к воеводам.
Головина в старом Ленском остроге не было. Казаков встретили воевода Глебов и письменный голова Бахтеяров. Они подтвердили, что Головин по царскому указу отправил служилых переписывать якутских мужиков, боканов и скот. Старые казаки стали собирать круги и, дождавшись возвращения Головина, отправили к нему выборных людей, среди которых были уважаемые всеми Иван Ребров и Родька Григорьев. Воевода-стольник посмеялся над их опасениями, заявив, что якуты одного имени его боятся и не посмеют бунтовать. Казаки стали убеждать его отложить перепись на другое время, поскольку нынче есть приметы к шаткости. Не только старые казаки, но и преданные воеводам якутские князцы-тойоны Логуй и Ника говорили, что у якутов ум худ, переписи они боятся. Но Головин вдруг рассердился, стал кричать, что здесь, на Лене, одна правда — его, и выгнал всех. А Родьку Григорьева, говорившего больше других, пообещал вразумить кнутом: бунты, дескать, ты сам и заводишь…
С каждым днем все крепче становились холода, все плотней сгущались тучи на низком небе. Как-то само собой получилось, что торговые и служилые люди перестали обращаться к воеводе Матвею Глебову, к дьяку Филатову и к письменному голове Бахтеярову. Без всяких указов главным в правлении воеводством стал Петр Петрович Головин, при нем стали выдвигаться письменный голова Василий Поярков да сын боярский Алексей Бедарев, давно и незаметно служивший на Лене. Вдруг стали входить в силу и другие неизвестные прежде служилые: Васька Скоблевский, Данилка Козица. Среди торговых людей всеми делами стал заправлять гусельниковский приказчик Михей Стахеев. С ним торговые мирились по прежним заслугам, но не могли понять, какого рожна получили неограниченные права, заняли лучшие места в торговых рядах Епишка Волынкин и Матвей Ворыпаев. Все воеводские дела стали вершиться только через их людей: как они нашептывали Головину, такие решения он и принимал.
Но даже их, воеводских ушников, пугали новости из улусов. Возвращавшиеся оттуда служилые говорили, что якуты стали заносчивы и непослушны, будто нынче мирятся между собой непримиримые прежде роды. Много слухов было о приближении к острогу левобережных племен. Но Головин никому не верил, считая доклады служилых кознями старых казаков, Матвея Глебова и черных попов. Приезжавших в острог якутов он велел кормить и поить по-прежнему, те точней и подробней доносили о сговоре сородичей против казаков, о нападении на промышленных людей, но и они не могли убедить воеводу Головина не спешить с исполнением царского указа о переписи. От советов окружения главный воевода отмахивался, дескать, в мыслях своих все ясачники думают об измене, но боятся.
Вопреки общим опасениям, на Рождественской святочной неделе он стал заводить пиры при съезжей избе. За них платили приглашенные, а не явиться нельзя было без наказания или отмщения. Гости веселили воеводу: по его указу дрались на деревянных мечах, напивались до беспамятства, а после, обласканные Головиным, шлялись по острогу, бражничали, избивали неугодных и опальных.
Лука Сиверов, как змей на сковороде, крутился среди ушников и обласканных и как-то умудрялся оставаться в стороне от неугодных, не выходя в доверенные люди. Худо-бедно, но он торговал и зимовал с прибылью, а Федот Попов уединился на стане, во всем полагаясь на него и племянника.
Беда не заставила себя ждать. В острог стали возвращаться побитые переписчики с вестями о бунтах в улусах. Обозлившись на казаков, объединялись прежде воевавшие между собой якутские роды и племена. В начале второй Святочной недели послухи и очевидцы прискакали с вестью, что восставшие уже в трех верстах от Лены с войском до тысячи человек. Торговые люди спешно переносили товары за частокол. Среди студеной ночи, когда от холода с грохотом трескался лед реки, караульные казаки кликнули: «Сполох». В ворота острога уже колотили пятками и громко вопили под стенами торговые, промышленные и работные люди. Воеводы, письменные головы, казаки вышли на стены и увидели, что острог окружен заревом костров.
Срочно стали считать людей, способных к обороне, провели смотр гарнизона. При остроге оказалось всего сорок служилых, три десятка торговых и промышленных людей. Во время смотра Головин стал кричать, что якутская измена учинилась из-за Матвея Глебова и Евфимия Филатова, которые учили якутов бить служилых людей и целовальников, грабить и бежать на дальние окраины воеводства. В пособничестве Глебову он прилюдно обвинил своего исповедника черного попа Симеона и черного дьякона Спиридония. За черных попов вступился было сын боярский Григорий Демьянов. Головин ударил его чеканом по голове, велел подручным отстегать служилого батогами и отволочь в тюрьму. К утру в ту же тюрьму был брошен письменный голова Еналий Бахтеяров со всей семьей.
Осаждавших действительно было до тысячи всадников, вооруженных луками и пальмами. Ни они, ни осажденные не решались нападать первыми. Но якуты с каждым днем теряли силы: их кони перекопытили землю вокруг острога и доедали остатки сухой травы. На их станах стала разгораться прежняя межродовая усобица. Через неделю из собравшегося войска не осталось и половины. В очередной раз перессорившись между собой, нападавшие стали разъезжаться по улусам, надеясь самостоятельно защититься от казаков. Зарево костров за стенами острога уменьшалось на глазах.
Головин торжествовал и еще ожесточенней продолжал следствие над неугодными. Под домашний арест был взят дьяк Филатов. В пыточной избе перед креслом главного воеводы на поперечной балке висел с вывернутыми руками Семен Шелковников. Сквозь спутанные волосы и бороду глаза его угольями жгли стольника, а тело уже не содрогалось от кнутов Василия Пояркова.
— При Хабарове на солеварне с выварки соскребалось по полтора пуда соли, при тебе по пуду, — в десятый раз пытал целовальника воевода. — Кто тому подстрекатель: Хабаров или Бахтеяров?
Семен скрипел зубами, с ненавистью глядел на воеводу и молчал, трижды ответив перед тем, как при нем делался соляной рассол.
— Значит, дьяк Филатов?
— Семейка Чертов, за кружку браги брал треть варки! — просипел целовальник, шепелявя разбитыми губами.
— Огня ему под живот! — закричал Головин. — Смеяться над государевым стольником?..
За острогом из стана осаждавших ушли последние тойоны, бросив безлошадных бунтовщиков. Кто не успел убежать — тех переловили служилые. По приказу главного воеводы они и промышленные громили якутские крепости по улусам, вели в острог пленных. Выбрав лучших из них, Головин велел для устрашения повесить на надолбах два десятка мятежников, других бил кнутами, допытываясь, кто из служилых подстрекал к бунту. Тела умерших от пыток повесили рядом с казненными. Бунт был подавлен. Головин ласкал верных ему тойонов, продолжал дознание среди служилых, торговых и новокрестов. Тюрьмы были переполнены.
Острог притих. Промышленные люди обходили его стороной, торговали только те, кто был в вере у главного воеводы: Матвей Ворыпаев, люди купцов Василия Гусельникова, Василия Шорина, Кирилла Босова. На удивление Федоту Попову, в их числе как-то держался Лука Сиверов. Еще до осады острога бывшие в немилости торговые люди сговорились со вскрытием реки плыть в низовья Лены. Купец Андрей Дубов строил, а Федот Попов имел коч. Вокруг них стали объединяться торговцы помельче. Опальный мореход Иван Ребров примкнул к ним, возмущаясь, что после семи лет воли на дальних службах полгода отдыха в Ленском остроге оказались для него тюрьмой. После осады и расправы над бунтовщиками Дубов, сумевший не провиниться в глазах главного воеводы и его ушников, сходил на поклон и выпросил наказную память торговать и промышлять на Оленеке под началом служилого Ивана Реброва.
Федот Попов предполагал зарабатывать на всем: торговать, промышлять рухлядь и ловить рыбу на продажу. Тут между ним и младшим приказчиком Лукой Сиверовым произошел тихий разлад. Лука желал торговать при остроге, а со временем надеялся возить сюда рожь. Приказчики поделили товар купца Усова и бывшие у них деньги. Попов взял на себя три четверти, Сиверову досталась четверть. При рукобитье они составили грамоту, что с купцом Усовым каждый держит расчет по отдельности. Отпускную грамоту Федот Попов получил от таможенного головы Дружины Трубникова и с нетерпением ждал, когда очистится река, чтобы спустить на воду свой добротный коч, груженный товаром на тысячу двадцать пять рублей. С Федотом уходили в плавание племянник Емелька Степанов, пять прежних своеуженников и двадцать три покрученника, набранные из гулящих людей, готовых идти хоть к чертям за их меднокаменные ворота, лишь бы подальше от воеводской власти.
Едва сошел лед, три купеческих коча под началом Ивана Реброва были готовы к отплытию. Последнюю новость из острога принес Андрей Дубов. Он ездил звать попа для молебна, но вернулся один. Воевода Головин засадил под домашний арест стольника Глебова, дьяк Филатов из домашнего ареста был брошен в тюрьму. Все черные попы и дьяконы сидели там же, службы в церкви прекратились, и только на крестины или отпевание усопших приставы приводили из тюрьмы закованного в цепи иеромонаха, который делал свое дело, погромыхивая железом. Торгово-промысловому отряду Ивана Реброва пришлось идти в плаванье без молебна о благополучном отплытии.
Федот Попов плюнул в сторону острога и выругался. Река, на которую он попал в молодости одним из первых русских людей, степенно понесла его коч в полуночную сторону, к Студеному морю.
3. Великий Камень
Той осенью, когда из-за указа о переписи ясачного населения начиналась очередная ленская смута, Михей Стадухин ушел к восходу от Алдана на неведомую реку. В прошлом туда самовольно откочевал род ленских якутов, за ними был послан казак Елисей Рожа с небольшим отрядом. Его люди встретили пограбленную ватажку торгового человека Ивана Свешникова, от нее узнали, что якуты и тунгусы в среднем течении Алдана убили тридцать пять служилых и промышленных, в устье Маи еще двенадцать. Казаки не отважились идти дальше и вернулись, Елисей Рожа, оправдываясь перед воеводами, просил полсотни служилых для нового похода. Тут начальные люди острога и вспомнили про Мишку Стадухина с его непомерным желанием отправиться в неведомый край, а он ухватился за намек о дальнем походе, как таймень за наживку, и заглотил ее до самых кишок.
— Обещаю в казну сорок соболей добрых! — дал посул в съезжей избе.
— Мало! — сморщил нос Бахтеяров. — Одни только вожи того стоят. Меньше сотни явить никак нельзя.
Лукаво поглядывая на казака и посмеиваясь, Еналий намекал, что нимало потрудился перед воеводами, расхваливая Михея.
— Сто так сто! — согласился Стадухин и сник, торопливо соображая, сколько же их надо добыть, чтобы отдать посул и расплатиться за снаряжение.
Его не смутило и то, что воеводы позволили взять в поход всего четырнадцать казаков и только своим подъемом. Получив дозволение на сборы, он вспомнил об Арине и на миг ужаснулся, что вынужден бросить ее среди незнакомых людей. Но неведомое и заветное так манило, что душа казака пела и ныла одновременно. Оставлю жену Герасиму: брат есть брат, решил он, не смущаясь их прежней связи. Но Герасим с Тархом, узнав, что старший идет в дальний поход, стали проситься с ним: один торговать, другой промышлять. Не взять их Михей не мог, и в суете сборов мысленно оправдывал себя, что все казачки ждут мужей со служб, Арине это не впервой. Останься он при остроге — все равно пропадал бы месяцами, за одно только жалованье разбираясь с обычными тяжбами якутов и тунгусов об угоне скота, разбое и межродовых обидах. А из дальнего похода можно вернуться богатым, построить дом. К тому же венчанная жена — не девка-брошенка, останется на его хлебном и соляном содержании. И все же мучила казака совесть, язвила душу.
Хоть бы и на дальнюю службу, а желавших идти на неведомый Оймякон, оказалось не так много. Из отряда Елисея Рожи не пошел никто. Михей позвал Ивашку Баранова с Гераськой Анкудиновым, проверенных в совместных службах, но те отговорились, что собираются на Яну с сыном боярским Власьевым. С Василием Власьевым Михей встречался на Куте и здесь, в Ленском, при съезжей избе. Знал, что воевода Головин проездом через Казань прибрал его в полк и Власьев с большим отрядом ходил с Куты в верховья Лены на братов, а нынче получил наказную память идти в Верхоянское зимовье на перемену Митьке Зыряну.
— Ничего не пойму! — затряс бородой Стадухин: его товарищи не могли испугаться сказок Елисейки Рожи. — На восход от Алдана никто не ходил, а Яна давно объясачена!
Иван Баранов насупился, попинывая ичигом мерзлую землю, шмыгнул носом, Герасим Анкудинов с чего-то обозлился, сверкнул глазами.
— Тебя обманули, как верстанного придурка, — презрительно сплюнул под ноги. — Власьеву казенных коней дают, хлебный оклад годом вперед! А тебе что?
Михей долго и тупо смотрел на казаков, накручивая на палец рыжий ус, соображал, что могло их злить. Поморщившись, досадливо оправдался:
— Так ведь на неведомые земли, чтобы подвести под государя тамошние народы… Ну, ладно, не хотите на Оймякон — идите на Яну!
Из гарнизона с ним вызвались идти Ромка Немчин и Мишка Савин Коновал. Услышав про Оймякон, стали проситься половинщики: Семейка Дежнев и Гришка Фофанов-Простокваша.
— Ладно он, — Стадухин кивнул на Простоквашу, — ты-то куда, хромой?
— Что с того, что прихрамываю, от других не отстаю, — не смущаясь, отвечал Дежнев, глядя на земляка младенчески голубыми беспечными глазами. — А с тобой идти на конях, верхами. Сам сказал!
На конопатом посеченном мелкими морщинами лице не было ни заискивания, ни просьбы, дескать, откажешь — от меня не убудет, а на тебе, земляк, грех.
— Не плачьтесь потом! — отмахнулся Михей, соглашаясь взять обоих раненых в предыдущем походе.
К нему примкнули томские и красноярские казаки Ивана Москвитина: в другие места их не пускали, а строить новый острог они не хотели. Ушел бы и сам Москвитин, но сыск по делу атамана Копылова не закончился. Просился на Оймякон Пашка Левонтьев. Этот справный казак слыл на Лене за мученика от ума: он подрезал бороду и волосы, стараясь походить на святого угодника Николу летнего, в трезвости был молчалив и задумчив, всюду таскал с собой кожаную суму с Библией. Временами Пашка запивал и с причудой. Поскольку выносить вино из кабака дозволяли только по разрешению приказного, Пашка, крестя бороду, опрокидывал в рот чарку и быстро уходил в уединенное место, где разговаривал сам с собой. Таким образом, он частенько пропивался, и потому искал служб подальше от кабаков.
Мишку Савина-Коновала Стадухин знал давно. У того и в молодые годы лицо было похоже на личину, вырубленную из смолевого пня, а нынешним летом красы прибавилось: какой-то якут ткнул его пальмой и от уголка рта к уху протянулся грубый багровый рубец. Коновал бездумно должился у торговых людей, стаивал на правеже. Найти заимодавца ему было трудно, но Михей ценил его как хорошего лекаря. Казак Федька Федоров Катаев, брат небедного торгового человека, сдавленно похохатывая, спросил Михея, будто прокудахтал, не найдется ли и ему службы в оймяконском отряде.
— Почему не найдется? — вглядываясь в козьи с придурью глаза, ответил Стадухин, торопливо прикидывая, что Федька обязательно нагрузится товаром, хоть царь и не велит служилым торговать.
Этот указ обыденно нарушался, но при случае мог обернуться против атамана. Денег спутникам по походу Катаевы не дали, но Федька собирался своим подъемом. Хлебный оклад на казаков годом вперед Стадухин все же вытребовал. Еналий Бахтеяров с прежними ухмылочками напомнил про обещанных соболей и дал ему двух якутских вожей, по слухам, знавших путь на Оймякон. Они были врагами самовольно откочевавшего рода якутского тойона Увы и считались надежными.
Казаки получили хлебное и соляное жалованье на себя, венчанных жен и прижитых детей. Кроме пропитания в походе каждому нужно было по две лошади, оружие, порох, свинец, прочая справа рублей на пятьдесят. Если красноярцы и томичи кое-что имели от прежних служб, то дежневский дружок Гришка Простокваша был должником, деньги нашел с трудом и меньше, чем надо. Ромке Немчину и Мишке Коновалу торговые люди и вовсе не занимали. Чтобы поддержать их, казаки решили взять общую кабалу.
Семейка Дежнев, Пашка Левонтьев, Втор Гаврилов, Андрейка Горелый привели торгового человека Никиту Агапитова. Глядя вприщур на известного ленского казака, купец согласился дать денег по общей кабале, если к четверым просителям примкнет сам Стадухин. До весны, до Николы вешнего, давал без роста, а после — два годовых рубля с десяти. Кто вернется живым — с того спрос, перед кем кабалу выложат — тот платит. Проще было с промышленными людьми. Желающих идти на неизвестную реку было много, надежных и проверенных — мало. Помимо казаков Михей набрал из них десять охочих людей, среди которых были крепкие своеуженники.
Герасим, глядя на сборы и долги, которыми обрастал старший брат, стал сомневаться, стоит ли идти в поход, дотошно выспрашивал служилых и промышленных, как и чем можно расторговаться среди отложившихся якутов и дальних, не присягавших царю тунгусов. К тайной радости Михея, он стал склоняться отдать часть товара братьям и заняться рыбной ловлей со своеуженниками Федота Попова.
Старший Стадухин, волнуясь, хотел уже предложить Герасиму взять на себя опеку Арины, но он где-то что-то вызнал и заявил, что в Ленском ему быть — только проживать привезенное добро. Едва Тарх с Герасимом поняли, что должны взять с собой лошадей и пищали, младший опять стал донимать атамана расспросами, удивляясь непомерным ценам на здешних коней.
— Их тут больше, чем на Руси! — пытал Михея, будто подозревал в злом умысле. — Там за жеребца два с половиной аршина в холке просят два-три рубля. Здесь не кони — мохнатые карлы, голова огромная, брюхо до земли — рядятся по двадцать пять — по тридцать рублей…
— Тут пуд муки пять рублей! — не понимал замешательства брата Михей.
— Рожь, понятно, она на Лене не родится, а коней вон сколько. Вдруг где — то в улусе сторгуемся хоть бы по десять рублей?
Но старшему Стадухину было не до поиска, он носился по острогу и посаду, стараясь увести отряд до холодов. Кроме обыденных хлопот камнем лежала на сердце дума о жене: взять с собой не мог, оставить в остроге боялся. Когда Семейка Дежнев предложил поселить Арину с его женой Абакандой у якутского тестя Абачея, Михей от радости так притиснул земляка, что тот придавленно пискнул. Доля казачки — годами ждать мужа. Арина сама выбирала судьбу, но при расставании заливалась слезами, как девка:
— Год выдержу, дитя под сердцем, — прижала руку мужа к животу. Михей, погладив его, приложился ухом. Ничего не услышал. — Задержишься дольше — заведу полюбовного молодца, — пригрозила, — не гневись потом!
Стадухин поежился, посопел, признался:
— Не могу служить при гарнизоне! Судьба мне стать знаменитым разрядным атаманом с жалованьем втрое против нынешнего. Ты уж потерпи. Тебе не впервой… Хотя в Томском, наверное, было легче, — обвел глазами якутскую юрту из жердей, обложенных дерном.
Вдоль наклонных стен были устроены нары, оконце затянуто бычьим пузырем, посередине горел очаг, дым щипал глаза и уходил чрез вытяжную дыру. Юрта была соединена крытым переходом с коровником. В ней сильно пахло скотом, но запах не был приторным. Мечталось Михею, чтобы его дети явились на свет в просторной русской избе, но с первенцем, похоже, не удалось.
— Потерплю! Потерплю! — обильно присаливая его бороду, шептала Арина. — Лишь бы вернулся цел. Молиться буду!
При проливных осенних дождях вода в Алдане поднималась несколько раз и за лето смыла следы прежнего бечевника. Берег был завален вынесенным с верховий плавником. Два с половиной десятка казаков и промышленных, два якутских вожа заново торили путь для коней и медленно, как бурлаки, продвигались вверх по реке. Лошадей жалели, не перегружали, верхом ехали только якуты. Против устья Амги отряд застала шуга.
— Зимовье там было доброе! — указал за реку неторопливый, вдумчивый казак Втор Гаврилов. — Прошлый год якуты или тунгусы спалили. А то бы в баньке попарились.
Вскоре Алдан покрылся льдом, топкие берега отвердели, караван стал двигаться быстрей. Долина реки повернула на полдень, куда ходили атаман Копылов с Иваном Москвитиным. Томские казаки вспоминали свое зимовье, срубленное в устье Маи. По слухам, оно тоже было сожжено. Пантелей Пенда, невольно слушая, как спутники бранят здешних якутов и тунгусов, молчал — молчал, неприязненно щурясь, да и выругался:
— Кабы служилые меж собой не дрались, и другие народы жили бы мирно.
В общие разговоры он не втягивался, равнодушно переносил тяготы пути, не ругался для поддержки духа, не ярился, как Мишка-атаман. Присматриваясь к нему после долгой разлуки, старший Стадухин удивлялся переменам. В верховьях Лены, еще слегка выбеленный сединой, он был разговорчив, светился изнутри, прельщал слухами о старорусском царстве, скрытом в тайге, весело уходил в неведомое с Иваном Ребровым. Теперь это был седой молчун с душой, запертой на семь замков.
Счастливые ночи, проведенные с женой, не прошли бесследно: способность старшего Стадухина чувствовать опасность сильно притупилась. Если среди острожного многолюдья это было благом, то в походе пугало. Атаман выбивался из сил от настороженного волчьего сна, перессорился с доброй половиной отряда, беспричинно вскакивая среди ночи. Застав караульного спящим, бил, мешал отдыхать другим. За месяц пути Божий дар стал восстанавливаться, Михей все реже проверял караулы, стал высыпаться, его затравленные глаза начали очищаться, отпускало постоянное раздражение. Но все равно он вставал первым, а ложился и утихал последним.
— Почечуй у него в заду или что ли? — ворчали за глаза казаки и промышленные, вымещая неприязнь на Тархе с Гераськой, на атаманском земляке Семейке Дежневе.
Пантелей Демидович, слушая их ропот и ругань, долго терпел и отмалчивался, прежде чем вступиться:
— Кабы не Мишка, вас бы давно перерезали. Балует караульных, один за всех службу несет, а вы, на него надеясь, хотите Бога обмануть!
Первой пала одна из лошадей Пенды: не сдохла, но сломала ногу. Мишка Коновал ощупал ее, безнадежно шевельнул рубцом на щеке, мозолистыми пальцами погладил конскую морду. Старый промышленный без видимой скорби зарезал кобылку, мясо отдал в общий котел без платы. Но когда атаман стал распределять его груз по другим коням, начался раздор. Брать лишнего не хотел никто, а громче всех возмущались братья, жалея своих измотанных переходом лошадей. Герасим слезно отбрехивался, Тарх метал искры из прищуренных глаз, скрипел зубами, гонял желваки по скулам. Предприятие было не только государевым, но и торгово-промышленным, а где торг и прибыль, там всяк сам за себя. Промышленные люди и половина служилых, поднимавшихся за свой счет, настаивали на порядке, чтобы мясо кобылы оценить по ленским ценам и кто его возьмет, тому вести груз по тем же ценам.
Пашка Левонтьев, кого — то смешивший в будничной суете похода, кого-то беспричинно сердивший, лежал в кукуле — мешке из оленьего меха, обнаженной лысиной к огню, до споров и распрей не снисходил, душевных разговоров не вел, но, полистав раскрытую Библию, поучительно изрек густым голосом:
— «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха» — Полистал еще, не найдя ответа, как делить мясо и груз, перекинулся к костру боком, захлопнул книгу и положил себе под голову.
— Что сказал мир — то благословил Бог! — поддакнул Михей, благодарный Пашке за поддержку. Не желая противиться соборному решению, выругался: — Жрать скоро станем врозь, каждый из своего котла!
Старый Пенда бросил на него сочувственный взгляд и сказал, что дарит мясо в общий котел, а за перегруз заплатит соболями. Михей сжал зубы, ниже опустил голову: братья своим молчанием принимали унизительное предложение. Лошадей берегли все — они достались дорогой ценой, но требовать плату за помощь товарищу ему было стыдно. На другой день он стал жаловаться Пантелею на нынешние нравы, с тоской вспомнил времена войн при атаманах Бекетове и Галкине, когда все были за одно и всякий защищал товарища как самого себя, делился последним. А нынче даже неловко встречаться с тем же Ярком Хабаровым, с которым голодал в осаде и ходил на прорывы.
Пантелей, придерживая перегруженного коня в поводу, безучастно отвечал:
— Давно ты не был на дальних службах. Люди сильно переменились. От бесхлебья или от богатства, которое легко дается, оскудели душами: нынче кабальный кабального кабалит и ищет себе во всем выгод.
Михей разразился новой бранью, но старый промышленный с отрешенным лицом повел коня под уздцы и не проронил больше ни слова осуждения или согласия.
Когда не пуржило, на восходе из-за увалов едва не к полудню выползало холодное солнце с розовыми кругами вроде ушей. Ветер наметал острые снежные заструги под заломы и торчащие льдины. Наконец, якутские вожи указали устье речки, впадавшей в Алдан с восточной стороны. Берега ее были покрыты густым ивняком, по которому вести лошадей трудней, чем по бурелому. Речка вывела на каменистое, обдутое ветрами плоскогорье, которому, казалось, и конца нет. Здесь лошади пошли быстрей, а ночью хорошо выпасались, наедаясь сухой травой.
День убывал. На ночлег становились рано, долго обустраивали стан на холодной земле. Среди карликовых берез и стланца собирали много хвороста, подолгу жгли, прогревая неприветливую землю. Луна окольцованная радужным сиянием, серебрила равнину, вытягивая длинные тени. Подступы к табору хорошо просматривались, караульные, сидя спинами к огню, мучительно боролись со сном.
— У нас леса! — укладываясь на войлочные потники, вспоминал Семейка Дежнев, поглядывая на Стадухиных, взглядами призывал их в свидетели. — По Сибири тайга, не то что здешняя мертвая пустошь! Сюда, наверное, и волки не забредают. Какая тут рухлядь? — Подразнивал атамана, будто тот обещал ему богатство и легкую зимовку.
— Есть зайцы, куропатки! — хмурясь, обрывал беспутные разговоры старший Стадухин. — Дальше, к восходу, — вскинул бороду на вожей в парках — санаяхах, — говорят, есть головной соболь.
Будто в насмешку, в пяти шагах от костра из-за камня выскочил заяц, заверещал, заходясь лешачьим хохотом, прижав к спине уши, помчался во тьму. Не дождавшись погони, остановился, поднялся на задние лапы, заманивая в ночь. Мишка Коновал, кривя рваный рот, поднял лук, пустил в него тупую стрелу. Заяц подпрыгнул, вскрикнул младенцем, задрыгал длинными задними ногами. Герасим принес его и стрелу. Мишка одним рывком корявых пальцев содрал шкуру, насадил тушку на прут, стал печь на углях.
Михей тоскливо наблюдал за братьями из-под прищуренных век, то и дело ловил на себе их укоризненные взгляды: куда, мол, ты нас завел? Озирая бескрайнюю равнину слезящимися глазами, иной раз начинали роптать и бывалые казаки. Из-за дороговизны ржи взяли ее втрое меньше нужного по енисейским меркам, надеялись на подножный корм, но здесь и зайцы с куропатками были редкой добычей.
Верст триста отряд шел горной пустыней. Оголодав, казаки и охочие решили зарезать самого слабого коня. Таким оказался мерин Герасима. Брат соглашался, что животина со дня на день сдохнет и придется скверниться падалью, но когда указали на нее, стал торговаться.
— Режьте! — приказал Михей, нахлестывая плетью по ичигу. Сдерживая гнев, отвел младшего в сторону, обругал, но вразумить не смог.
Казаки и промышленные навязчиво расспрашивали якутских проводников о местах, куда они вели отряд, но те и сами не знали, есть ли в тамошних реках рыба, а в лесах зверь, слышали только, что скот выпасать можно. Им было известно от сородичей, что за плоскогорьем — ручей, бегущий летом встреч солнца. По нему ход на реку Оймякон.
— Раз якуты ушли туда с Лены, значит, места благодатные, — утешали себя путники.
Наконец, начался спуск в долину. Чаще встречались лиственницы в руку толщиной, среди них много сухостойных, дававших хороший жар в кострах. Выбеленная снегом трава была выше, чем на плоскогорье. Якутские вожи уверенней повели отряд вдоль промерзшего ручья по желтой обдутой ветрами долине. Время от времени они останавливали лошадок и к чему — то прислушивались.
Холода крепчали. В эту пору в Ленском остроге даже пропойцы не выползали из землянок без шубных кафтанов, здесь стужа была еще злей. В день явления иконы Казанской Божьей Матери промышленные и служилые сотворили утренние молитвы, очистили ноздри лошадей ото льда и ради праздника сидели у костров дольше обычного. Пашка Левонтьев, шмыгая носом и часто мигая слипавшимися ресницами, по слогам читал Новый Завет. Русские и якутские люди с молчаливым почтением слушали его и оглядывались на коней с заиндевевшими мордами. Над ними курился пар, значит, в полную силу холода еще не вошли.
Хворост вокруг табора был собран и выжжен, надо было двигаться дальше. Отдав возможное празднику, все ждали атаманского приказа собираться в путь. Но старший Стадухин медлил, всматриваясь в причудливое облако, ползущее с низовий. Его не торопили, наслаждались теплом догоравших костров, жались к огню, монотонное бормотание Пашки убаюкивало. Никто, кроме атамана, не желал ни высматривать облако, ни вдумываться в смысл Завета.
Якуты лежали с таким видом, будто никуда не собирались идти. Непоседливый атаман окликнул их. Только после третьего подзыва они поднялись, переваливаясь с ноги на ногу, пастушьей походкой, подошли. Стадухин указал вдаль. Сощурив глаза в щелки, якуты долго глядели, куда таращился «башлык». Наконец, старший, с волосатым подбородком и выбеленными инеем усами, разлепил смерзшиеся губы:
— Скот гонят!
К ним подошел Пантелей Пенда в волчьих торбасах и волчьей парке, шитой на сибирский манер вместе с шапкой, молча встал за плечом атамана, всмотрелся, прошепелявил в обледеневшую бороду:
— Скот! Но чудно как-то.
— Не пасут, на нас гонят! — уверенней добавил вож.
Стадухин крикнул, чтобы люди ловили и грузили коней. Скот могли гнать только якуты, упорно вытеснявшие тунгусов с их промысловых угодий. Из-за этого между ними были постоянные войны с перемириями для торговли и обмена пленниками. В здешнем краю добывали руду, плавили и ковали железо одни только якуты, а нужда в нем была у всех.
Вскоре из студеного облака выскочил всадник на приземистой мохнатой лошадке и снова пропал. Затем показались быки, идущие впереди стада. Скорей всего, кочевал тот самый якутский род, что самовольно ушел с Лены, не выплатив ясак. Промышленные и служилые вьючили коней и собирали по стану последние пожитки, а Михей с Пендой и вожи все стояли и разглядывали долину.
— Похоже, гонят их всех! — буркнул в бороду Пантелей, резко развернулся и кинулся ловить своего коня. Якутские вожи, опасливо переминаясь на коротких ногах, впервые на пути от Ленского острога в один голос стали поторапливать атамана:
— Собираться надо, башлык!
— Идите! — отпустил их Стадухин, обшаривая глазами округу в поисках удобного места.
Предчувствие не обмануло его. Из пара, висевшего над стадом, выскочили два оленных всадника, пронеслись возле бычьих морд, размахивая длинными луками. Они явно пытались завернуть скот в другую сторону или повернуть вспять.
— Держи огонь! — сипло приказал Стадухин. — Готовь ружья!
Стрелки грели стволы, от углей костров зажигали трут, фитили держали за пазухой в сухих местах. Завьюченные кони, хоркая заледеневшими ноздрями, двинулись навстречу стаду и вскоре были замечены приближавшимися людьми. На запаленном коне к ним поскакал якут с пальмой в руке. Разворачиваясь в полусотне шагов, прокричал:
— Помогай хасак! — Повернул в обратную сторону и пропал с глаз в хмари, где уже виднелись головы равнодушно идущих быков и очертания носившихся вокруг них конных и оленных всадников.
— Пантелей Демидыч! — окликнул старого промышленного атаман. — Бейся с охочими по левую руку, я с казаками уйду вправо, — махнул, указывая место. — Надо пропустить скот и задержать тунгусов.
Пенда кивнул, услышав его. Герасим с Тархом потянули своих коней в другую сторону. Михей гневно взглянул на них, но прогонять братьев было поздно. На низкорослых мохнатых лошадках якуты отгоняли наседавших тунгусов: стреляли в них из луков, размахивали рогатинами, громко кричали. Нападавшие верхами носились на оленях и ловко пускали стрелы между ветвистых рогов.
Чем ближе подходило стадо, тем отчетливей виделось, что происходило вокруг него. Около сотни пеших и конных якутов, баб с детьми, отступали, обороняясь. Тунгусов было больше, они мельтешили на оленях, как мухи возле тухлого мяса. Казаки дали залп, ослепив себя пороховым дымом. Едва он рассеялся, Михей увидел, что урон нападавшим нанесен небольшой.
Неожиданно появившиеся казаки только удивили тунгусов грохотом пищалей. Те, что были ближе, отхлынули, но вскоре опять напали на якутов. Пантелей Пенда заставил одного из промышленных отогнать груженых коней, сам с шестью товарищами дал залп с другой стороны пади. Привычные к огненной стрельбе якуты победно закричали, пешие побежали к казакам, конные носились вокруг сбившегося в кучу скота, загоняя его между служилыми и промышленными. За стадом сколько хватало глаз лежали туши побитых коров и бычков. Тунгусы отступили на полет стрелы и съехались в толпу. Их разгоряченные олени гулко клацали рогами и громко хоркали. В центре что — то кричал и размахивал руками мужик в меховой парке, украшенной бубенчиками. Его густые распущенные по плечам волосы черными волнами свисали по груди и по спине.
— Главного надо убить! — просипел Семейка Дежнев.
Его пищаль почему-то не прострелила заряд во время залпа. Он положил ствол на костыль, с помощью которого шел, тщательно прицелился, выстрелил. Рассеялся дым. Длинноволосый мужик, прежде сидевший на олене, теперь стоял на ногах и все так же размахивал руками, ругая или призывая к чему-то своих сородичей. У ног его дергался, скреб землю рогами и копытами раненый олень. Семейка резко вскрикнул. Стадухин подумал — от досады, приказал, чтобы готовили ружья к новому залпу.
Тунгусы были одеты по — разному: одни в меха, другие в кожаные халаты поверх меховой одежды. Выслушав длинноволосого, всадники развернули оленей к стаду и во весь опор ринулись на якутов, а те, разъяренные боем, бросились им навстречу, защищая женщин и детей, торопливо бежавших к русичам. Стадухин помахал им, приказывая открыть простор для стрельбы, и дал еще один залп по рогатой лаве.
Пока казаки перезаряжали ружья и рассеивался пороховой дым, якуты беспрестанно пускали стрелы в сторону противника. Грохотали ружья промышленных на другой стороне ручья. Оттуда тоже доносились победные якутские крики. Под боком атамана снова завопил Дежнев. Последний скот прошел мимо казаков. Разгоряченные всадники спешились, закрыли собой брешь между русскими отрядами. Тунгусы, отступив, носились на оленях потревоженным ульем, кружили на месте. Михей обернулся к стонавшему Семейке Дежневу с лицом залитым кровью. Казак выдернул изо лба стрелу с костяным наконечником, приложил к ране пригоршню снега, закряхтел и закорчился от боли. Вторка Гаврилов, опасливо оглядываясь, вспарывал ножом его штанину. Из нее торчала другая стрела.
— Ну и везуч земляк! — выругался Михей, заряжая пищаль. Немеющие от холода пальцы едва ощущали тепло ствола.
Тунгусы снова развернулись лавой, стреляя на скаку, с криками ринулись на промышленных. Прогрохотал новый залп. Едва рассеялись клубы дыма, якуты вскочили на лошадок и яростно погнали врагов.
Михей Стадухин наконец — то осмотрелся. Многие из его казаков были ранены, убитых не было. Тунгусские стрелы достали Герасима с Тархом: один со стонами баюкал руку, другой зажимал плечо окровавленной ладонью. Их кони с торчавшими из боков стрелами кружили на месте, вставали на дыбы и громко ржали, разбрасывая поклажу. Вместо того чтобы пожалеть раненых братьев, Михей в сердцах обругал их:
— Пенду бросили, коней не отогнали, не положили на землю… Титьку вам сосать, а не промышлять.
Раны у братьев и у казаков были неопасными. Больше всех досталось Семейке Дежневу.
— Раззява! — обругал его Михей.
— Судьба такая, — морщась от боли, необидчиво просипел казак.
— Вертеться надо, а не пялиться на стрелков, — сгоряча поучал атаман, сверкая живыми глазами в обметанных инеем ресницах. — Ваше счастье, что у тунгусов костяные наконечники.
Отведя на них душу, он побежал к отряду промышленных людей. В окружении толпы якутов те разглядывали как диковинного зверя длинноволосого тунгуса в парке с бубенцами, того самого, который распоряжался вражьим войском. Локти пленного были связаны, со спутанных, забитых снегом волос по лицу текли ручейки и застывали сосульками, грудь пленника часто вздымалась. Якуты кричали на него, плевались, промышленные не подпускали их.
— Кто взял? — кивнув на ясыря, спросил Пантелея Стадухин.
— Я высмотрел, послал двоих, как только под ним убили оленя. Они пробились вместе с якутами. А кто руки вязал — не знаю. — Пенда протер разгоряченное лицо сухим снегом, блеснул помолодевшими глазами: — Однако, кабы не якуты, нам бы не отбиться!
Гнавшие тунгусов всадники вскоре вернулись на запаленных лошадках, привезли трех раненых врагов, мешками бросили их с коней, с печалью сообщили сородичам и казакам, что в бою побито полтора десятка коров и бычков.
Пришлось разбить новый стан неподалеку от старого. Мишка Коновал вынимал наконечники, чистил раны, присыпал их выстывшей золой с погасших костров. Михей Стадухин с Пантелеем Пендой бросили седла у занявшегося огня, с важностью приняли якутского родового князца Уву. Тот, оборачиваясь к проводникам, сказал, что на них напали тунгусы с реки Момы и еще какие-то ламуты из-за гор, незнакомого племени. А якуты никому вреда не чинили, просто выпасали скот. Люди Увы оказались тем самым якутским родом, за которым воеводы послали казаков на Оймякон. Михей не стал стыдить и ругать беспрестанно благодарившего его тойона, не пытал, зачем бежали, напомнил только про ясак и велел выдать его вдвое, с чем Ува согласился, снял с себя соболью душегрею и протянул Стадухину в поклон.
— «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых», — изрек Пашка Левонтьев с таким видом, будто был всем судья, похлопал рукавицей по суме с Книгой и присел на корточки у костра.
С ним никто не спорил, но слышавшие его неприязненно умолкли и засопели. У Пашки и в остроге не было близких друзей. Прежний белый поп при встречах с ним багровел и метал глазами искры, с первых служб его невзлюбили прибывшие с Головиным монахи, которых Пашка прилюдно корил за какое — то несогласие.
— Запишу в ясачную книгу, в поклон царю! — хмурясь, оправдался атаман.
Старший из вожей, немного говоривший по-русски, строго поглядывал на тойона и уже беззлобно ругал его за былые обиды. Ува с благодарностью кланялся вожам, просил казаков зимовать поблизости, а весной обещал уйти на Лену. Он ничуть не сомневался, что тунгусы вернутся, чтобы отбить своих пленников.
— Мы под них выкуп возьмем! — Михей снова оглянулся на важно восседавшего шамана. — Молодцы! — одобрил промышленных. — Я боялся, не удержитесь. Мои-то вас бросили, а гнать назад было поздно. — Отыскал глазами Тарха с Герасимом. Якуты уже поймали их раненых лошадей, успокоили, распрягли, умело вытащили наконечники из-под шкур.
Устыдившись невольного гнева, Михей вернулся к братьям, миролюбиво приказал Герасиму со смерзшимися слезами в пухе юношеской бороды:
— Подь сюда, покажи, как окровянили.
Герасим высвободил руку из рукава, с обидой показал брату рану.
— Царапина! — перекрестил ее Михей и густо присыпал золой. — Лишь бы отравы на стрелах не было. К ночи почуешь.
Тем временем якуты лечили раненых по-своему: зарезали подстреленного бычка, вынули из него внутренности, а в теплое парящее брюхо положили раздетого мужика, который от потери крови уже не открывал глаз, лишь постанывал с синюшным лицом. Другие везли к стану разделанное мясо убитого скота и оленей, варили в котлах, пекли на углях грудинки, печень, мозговые кости. Сюда же возили хворост и обряжали убитых для ритуального костра. Затевался пир: праздничный, по случаю победы, и одновременно погребальный.
— Оймякон где? — выспрашивал беглого тойона Михей.
Тот указывал в низовья долины, говорил, что места там бесплодные: соболей и лисиц нет, холода лютые, зато снега по верховьям речек нет и хорошо выпасать скот.
— На Лене лучше было. Зря ушли, — сокрушался. — Весной вернемся, будем платить ясак и жить по царскому закону. Думали, здесь никого нет, а тут и тунгусы, и урусы. Нет уже мест, где можно жить спокойно.
— Какие урусы? — насторожился Михей, слегка напугав тойона.
Тот стал путанно рассказывать, что видел на Оймяконе остатки русского стана. Судя по следам, промышленные люди пошли на реку Мому.
— Что за река? Куда течет? — стал нетерпеливо выпытывать атаман.
Казаки и промышленные, бросив дела, придвинулись к ним.
— Как Оймякон! — Ува махнул рукой на север, стал оправдываться, что сам там не был, но слышал от тунгусов.
— Кто бы мог быть? — Стадухин обернулся к Пантелею. — Поярков говорил, в эту сторону никого не пускали.
Старый промышленный мотнул головой, показывая, что ничего не знает. Михей уставился на тойона, тот, вздыхая и почесываясь, опасливо пожаловался:
— Там якуты воюют между собой. — Повел носом на закат. — Холопят друг друга, грабят, здесь тунгусы и ламуты, урусы везде ясак требуют. Возле острогов хотя бы не воюют, не грабят.
Пантелей Пенда усмехнулся, пролопотал скороговоркой:
— То наши друг друга не грабят: чуть отъедятся — поедом жрут один другого!
— На то и царь, — нравоучительно изрек Стадухин, — чтобы дать всем закон, мир и порядок!
Старый промышленный, глядя на пламя костра, презрительно хмыкнул в седую бороду. Втор Гаврилов, молча и внимательно слушавший говоривших, обернулся к Андрею Горелому, спутнику по москвитинскому походу:
— Якуты говорили про разных тунгусов: мемельских и приморских — ламских. Этот не из тех ли, что были на Улье? — указал глазами на длинноволосого.
— Похож! — согласился красноярец. — Одет иначе.
Стадухин, услышав их, перевел взгляд с одного на другого, стал выспрашивать тойона про тунгусов в кожаных халатах. Их среди пленных не было. Вторка с Горелым тоже заговорили про всадников в кожаных халатах.
— Похожи на ламутов из-за Камня! Может быть, здешние аргиши[273] ближе тех, которыми мы ходили?
Вечером тяжелораненого якута вытащили из выстывшего брюха бычка. Его лицо порозовело, ресницы запавших глаз стали подрагивать. А к русскому стану прибежала молодая якутка с ужасом в лице, глаза ее казались закрытыми, глубоко запавшими, как у покойницы, рот разинут. Она кинулась к Пантелею Пенде, мертвой хваткой вцепившись в его парку, спряталась за спиной. К русскому стану смущенно подошли два якутских мужика, потоптавшись на месте, попросили вернуть женщину: ей надлежало сгореть на костре вместе с убитым мужем.
— Кто пожалеет бабенку и выкупит? — спросил спутников Пантелей, не пытаясь отодрать якутку от парки. — Мне дать нечего.
— А что они хотят? — смешливо покряхтывая, отозвался Федька Катаев из круга притихших казаков и промышленных. Он вел трех лошадей и все были целы, имел при себе ходовой товар.
Пантелей переговорил с якутскими мужиками, потом с вожами.
— Топор, четыре пригоршни бисера, ведро муки на поминальные лепешки. За выкуп отдадут женщину в вечное холопство.
Федька переглянулся с Герасимом.
— Дорого? На Лене молодую ясырку можно купить дешевле.
— Заплати! — стыдливо попросил Тарх Герасима, поскольку якуты мотали головами, не желая торговаться, а Федька — платить по их требованию.
— На кой она тебе? — проворчал младший, но, взглянув на лицо якутки, пожалел ее, со вздохами пошел за бисером и мукой.
Едва он отсыпал оговоренное, женщина отцепилась от Пенды, бросилась к нему. Герасим застонал от боли свежей раны и толкнул ее Тарху. Она поняла и крепко ухватилась за рукав среднего Стадухина.
В ночи якуты сложили ритуальный костер. Две пожилые женщины покорно взошли на него. Сухих дров было мало, огонь долго чадил, старухи кашляли, но не кричали. Скорей всего, они угорели, надышавшись дымом, потому что не издали ни звука, когда занялся большой огонь. Утром, разворошив головешки и угли, якуты выбрали черные тела, срезали с костей несгоревшее мясо, бросили в кострище, а кости сложили в мешок.
Еще раз плотно подкрепившись, люди тойона Увы погнали стада в обратную сторону, а десять якутских всадников с заводными лошадьми остались возле стана, чтобы разделать убоину. Этого мяса должно было хватить всем. Тойон некоторое время оставался с казаками, хотя аманатить его Михей не собирался, потому что бежать ему было некуда. К тому же тунгусы могли вернуться, и без помощи казаков удержаться против них якуты не могли. Ува просил атамана поставить зимовье поблизости от выпасов. По его словам, там он спрятал четыре сорока соболей и с радостью отдаст их в казну.
Семейка Дежнев, и прежде прихрамывавший, теперь передвигался на двух палках. Один из его коней был убит, идти пешком он не мог. У Гришки Простокваши были прострелены руки. Из-за ран пришлось зарезать другого коня Герасима, просить людей отряда и якутов взять на своих лошадок стадухинский товар. Удача обходила пинежцев: прибыли от торга и промыслов не было, а убытков уже хватало. Казаки и промышленные люди хмуро поглядывали на атамана: немилость Божья к отряду настораживала их, а то, что вышли живыми с беспокойного Алдана и отбились от тунгусов, за удачу не принималось.
Михей Стадухин решил не дожидаться, когда тойон привезет обещанные меха, но с ним, с двумя казаками и Пантелеем Пендой поехал в места выпасов с брошенными юртами. Ни птиц, ни зверя, ни следов живности не встречалось на побелевшей равнине — вокруг была мертвая земля с редколесьем из карликовых берез и кривых лиственниц толщиной в конское копыто. Но ертаулы случайно вышли на многолюдный тунгусский стан. Людей и оленей здесь было втрое меньше, чем при нападении на якутов, и все равно много для одного кочевья. Это была часть войска. Стадухин вопрошающе взглянул на старого промышленного с обледеневшей бородой. Пенда пробормотал сквозь смерзшиеся усы:
— Заметили. Станем убегать, догонят и убьют. Надо идти послами!
Красноярские казаки Втор Гаврилов с Андреем Горелым, покряхтывая от стужи, согласились, что иного пути нет и следом за Стадухиным и Пендой направили своих коней к враждебному стану. За их спинами рысил на жеребчике тойон Ува. Навстречу им выехали оленные всадники, молча окружили и сопроводили до чумов. С достоинством победителей казаки, Пантелей и Ува спешились. Михей указал старому промышленному, чтобы тот шел впереди: вид у него был начальственный и по-тунгусски он говорил свободно. Степенно обогревшись возле огня, Пенда стал спрашивать, откуда пришли и зачем напали на якутов. Из беседы с лучшими мужиками выяснилось, что они хотели пограбить их и освободить своих людей из рабства. Дело было заурядным: тунгусы имели рабов из якутов, а те — из тунгусов. На пути сюда встретились с ламутами — тунгусами с другой стороны гор, кочующими до моря, и объединились в один отряд. Но те после боя спешно ушли, оправдываясь, что по большому снегу путь через горы непроходим. Послы предложили побежденным дать посильный ясак и помириться с якутами.
— Впредь платите только нам, — сказал Пантелей. — Мы ваших соболей передадим царю, а он прикажет своим людям защищать вас от врагов.
Посоветовавшись, мемельцы выдали два десятка соболей и два половика, сшитых из собольих спинок. Это был не выкуп за трех ясырей и не откуп за нападение на якутов, но они сказали, что другой рухляди нет, обещали добыть и привезти весной. Собравшиеся на стане роды были бедны. Только один чум владел железным котлом, остальные пекли мясо и рыбу на углях или варили в глиняных и деревянных горшках, бросая в воду раскаленные камни. И все же мир был налажен. Их люди верхом на оленях сопроводили всадников до русского стана и забрали своих пленных. От ясыря с длинными волосами по имени Чуна они отказались, как от чужака сказали, что он — ламский шаман.
— Вот те раз! — удивился Втор Гаврилов. — А одет как алданский.
Герасим и Федька Катаев, увидев послов, закрутились возле них, предлагая товар. Федька азартно приценивался к собольим лоскутам на одежде гостей. Тунгусы изумленно щупали котлы и топоры, глядели на бисер. Ничто другое их не интересовало, но и за этот товар дать было нечего.
— Дед! Скажи, пусть припомнят, где спрятали соболишек! — просил Пенду Федька. Он пытался говорить с пришлыми по — якутски, ухмылялся, по обыкновению кудахтал, размахивал руками, принужденно похохатывал. — Приезжайте для торга весной! — предлагал гостям.
Пантелей хмыкнул в бороду:
— Приедут! Не с соболями для мены, так с родней для грабежа. Ты им показал неслыханное богатство.
— Брешут, что бедны, — Федька поперечно подмигнул Гераське. — У якутов покупают железо втридорога против нашего.
Шаман Чуна, которого тунгусы не взяли, на расспросы казаков отвечал охотно, он говорил по-тунгусски, язык его был понятен Пантелею, некоторым казакам и якутам. На ночь шаману связывали руки, надевали на ноги колодку, вечерами он привольно сидел у костра, непринужденно говорил, смахивая с глаз нависавшие волосы. Его узкие немигающие глаза смотрели на окружавших по-змеиному холодно и пристально, тонкие губы были улыбчивы, что никак не вязалось со взглядом. По утрам и вечерами он протяжно пел, раскачиваясь телом, иногда просился плясать. От него ватажные узнали, что с верховий здешних рек в полуденную сторону, за горы, много проторенных путей.
— Море где-то близко! — смежив веки, вздохнул Андрей Горелый.
Красноярские казаки, поглядывая на полдень, вспоминали сыск над атаманом Копыловым и десятником Москвитиным. Кто мог знать, когда волоклись за Камень дальним и трудным путем, чем все обернется? Иные удрученно молчали, глядя на угли костра.
— Чем дальше на полдень, тем ближе пекло! — жестко посмеялся Вторка Гаврилов.
— Не бес тому виной, воеводы! — сурово глядя на угли, прошипел Мишка Коновал. Лицо его было коричневым, как кора лиственницы, на нем ярко белел рваный шрам от уголка скошенного рта к уху.
Казак сказал то, что было на уме у всех. Пантелей усмехнулся, качнув седой головой, атаман метнул на Мишку недовольный взгляд, но промолчал.
— К полуночи — море, к полудню — море, — заговорил старый промышленный. — Похоже, Великий Камень тянется среди океана на восход. А сколько, того никто не знает.
— По мне, тянись он хоть до края света, — раздраженно буркнул Втор Гаврилов. — Зарекаюсь подставлять спину за правду. Добуду кое-какое богатство, вернусь в Красноярский, напрошусь в пашенную слободу и иди она к бесу казачья служба.
— Не может того быть, чтобы чему-то не было конца! — пропустив мимо ушей сказанное красноярцем, заспорил Михей Стадухин и с пониманием взглянул на Пантелея. — Даст Бог, дойдем!
Красноярские казаки пустились в воспоминания о Ламе, в который раз пересказывая о богатствах полуденной стороны Великого Камня. Промышленные, раззадоренные их сказками, стали расспрашивать Чуну о путях к морю и племенах, живущих там. По словам ламута, его народ был многочисленным: и сидячим по избам, называвшим себя мэнэ, и кочующим на оленях — орочи. Ни те, ни другие не слыхивали, чтобы платить кому-то ясак или выкуп за пленников, а потому, за него, за Чуну, родственники ничего не дадут. И зверя в его земле множество, есть соболь.
— Заманивает, — посмеивался Михей, соскребая сосульки с рыжих усов. — Думает, прельстимся: единоплеменники нас перережут, а его освободят.
Пантелей соглашался, что ясырь так и думает, но кивал на Втора Гаврилова и Андрея Горелого, ссылался на рассказы Ивана Москвитина. Судьба десятника, небрежение воевод к его сказкам о Ламе и десять сороков дешевых соболей из одиннадцати привезенных не прельщали Михея Стадухина, мысль о том, что можно, по попущению Божьему, вернуться должником, — ужасала. Он внимательно слушал рассуждения товарищей, забывая о насущном, потом спохватывался о делах дня, допытывался у Чуны и тойона Увы, где найти лес повыше и потолще.
Якут пытался убедить ватажных, что в лесу жить опасно: враги могут подкрасться незамеченными, дерево упасть на головы, прельщал зимовкой на равнине. Отчаявшись, указал падь, укрытую с севера горами. Она была в днище пути от якутских кочевий.
Ватага казаков и промышленных людей с аманатом Чуной двинулась в ту сторону и вышла к реке, покрытой льдом. Чтобы перевезти груз и раненых, пришлось должиться конями у якутов, все, кто был в силах, шли пешком. За Тархом, переваливаясь с боку на бок, семенила якутка в мужских торбазах, с ее выстывших губ не сходила счастливая улыбка. Она восторженно озирала низкое небо, запорошенную снегом траву, не жаловалась на усталость и крепко держалась за парку промышленного. На станах женщина старалась быть всем полезной, чинила одежду, со знанием дела и с удовольствием пекла мясо.
Ватага нашла излучину застывшей речки, в которой росли высокие лиственницы. Лес был укрыт горами от северных ветров и узкой полосой тянулся вдоль одного из берегов версты на полторы. Как бы он ни был мал, зимовать здесь было приятней, чем на равнине. Ертаулы подняли на крыло куропаток, видели зайцев, но не нашли даже застарелых следов соболя. Это был Оймякон.
Тоскливо оглядевшись, Михей Стадухин стал оправдываться:
— Воеводы приказали рубить здесь государево зимовье, укрепить частоколом. — При общем молчании добавил, просипев простуженным горлом: — Укрепимся и поищем промысловых мест.
— Бывало хуже! — пробубнил Пантелей Пенда из меховой трубы, в которой укрывал лицо. Смахнув ее на плечи, огляделся, отметил, что здесь холодней, чем на равнине.
Казаки и промышленные люди выбрали бугор для зимовья, развесили на деревьях мешки с мукой, заветренным мясом, стали строить балаганы и греть землю. Михей Стадухин с топором в руке обошел лес и сделал зарубки на деревьях, которые приказал не трогать.
— Хочешь плыть по реке! — одобрительно кивнул Пантелей.
— Как знать! — уклончиво ответил атаман. — Много коней потеряли.
На новом стане закурились дымы костров, бойко застучали топоры. Чуна закричал, как раненый зверь, завыл, схватившись за голову.
— Тунгусу легче убить человека, чем срубить дерево, — пояснил Пантелей, участливо подошел к Чуне, долго говорил с ним, в чем-то убеждая.
Вернувшись, пояснил спутникам:
— Чуна просит не рубить деревья, пока не выпроводит из них души. — Вопросительно взглянул на старшего Стадухина.
— Кого их, диких, спрашивать? — возмущенно запричитал Простокваша, кивая на свои раненые руки. — Не замерзать же из-за одного дурака.
— Вот-вот! — закудахтал Федька Катаев. — У них одно на уме, как нас извести. — Обернулся к Пашке Левонтьеву: — Что там в Законе Божьем сказано?
Пашка призадумался, пошмыгивая носом, с важностью изрек:
— «Не участвуй в делах зла!» И еще: «Пришельца не обижай».
Какое — то время казаки и промышленные лупали обметанными куржаком ресницами, вдумываясь в сказанное, начали было спорить, но атаман спросил:
— Как будет души выпускать?
— Плясать, наверное, петь! Как еще?
— Пусть попляшет. Подождем! — разрешил.
Перечить ему никто не стал. Люди вернулись к кострам, присели у огонька, наблюдая за ясырем. Обходя от дерева к дереву, вытаптывая вокруг них снег, Чуна о чем-то лопотал, раскачивался всем телом, мотал долгогривой головой, и его густо выбеленные изморозью волосы трепались по плечам, как кроны на ветру. Казаки и промышленные стали мерзнуть без дела, одни жались к кострам, другие притопывали, втягиваясь в танец ламута. Якуты жалости к деревьям не имели, они всякий лес готовы были выжечь дотла, чтобы расширить пастбища, но и вожи, вовлеченные шаманом в пляску, мотали головами, дрыгали ногами, как кони, и гортанно ржали. Танец Чуны завлекал. Люди у костров сначала со смехом, потом с каким — то остервенением в лицах стали дергаться, подражая ламуту.
— Чарует! — просипел Пантелей выстывшими губами, вынул из-под парки кедровый нательный крест, навесил поверх одежды.
Стадухин стряхнул с глаз чарование, перекрестился, стал сечь одно из деревьев, от которого отдалился Чуна. Его топор звенел и отскакивал от промерзшего комля. Застучали другие топоры, и вот, со скрежетом и хрустом, завалилась на бок вековая лиственница.
Чуна упал в снег, долго лежал, как мертвый. Пантелей Пенда, воткнув топор в пень, волоком подтянул его к костру, уложил на теплый, прогретый лапник.
— Никому из вас не будет счастья! — щуря больные глаза, впервые пригрозил шаман. — Лес мстит жестоко, страшней, чем люди.
Зима разошлась во всю силу. От стужи трещали деревья и грохотал лед в реке. День был короток. Избенка из неошкуренного леса росла на глазах. Чуна бездельничал, лежал возле костра, не желая даже подкидывать щепу, только придвигался к гаснущему огню или отползал от него, когда поднималось пламя.
Долгими ночами над станом мерцали холодные звезды, ярко светил месяц — золотые рожки, высвечивая кроны деревьев в кухте. Из-под лапника и потников дышала теплом прогретая кострами земля. При свете огня черные опухшие лица спутников были похожи на звериные морды. При общем усталом молчании Пашка Левонтьев с клоком светлой оленьей шерсти в бороде монотонно, по слогам читал церковно-славянское письмо и скороговоркой повторял прочитанное просторечием. Сквозь заиндевевшие смерзавшиеся ресницы Михей смотрел на звезды, осторожно вдыхал носом колкий студеный воздух, вполуха слушал Пашку, мысленно растекался по окрестности и, не чувствуя опасности, сонно думал о неведомой земле, воле, славе, счастье. Здесь, на Оймяконе, все было не то и не так. Мысли его путались с Пашкиным чтением, среди звезд выткался неясный лик Арины, в ушах зазвучали неразборчивые слова ее молитвы.
Люди были сердиты, он это хорошо чувствовал и понимал их: подошло время промыслов, но ватага еще только рубила зимовье. Поблизости соболей и лис явно не было. Многим уже казалось, что лишь чудо поможет добыть кое — какую рухлядь, чтобы хоть как покрыть убытки. По утрам и по вечерам люди страстно молились святым апостолам Петру и Павлу, покровителям промыслов. В том был намек и укор атаману.
Только от старого Пенды не было ни похвал, ни осуждения. «То ли равнодушен ко всему, — гадал атаман, — то ли так надежно заперт?» Пантелей спокойно переносил тяготы будней и чем откровенней связчики показывали недоверие атаману, тем чаще говорил о душевном, звал идти на Ламу.
— Со слов тойона Увы, Оймякон впадает в Мому, куда она течет, никто не знает, — отговаривался Михей и чувствовал приятное волнение, которое принимал за вещий знак. — Если благополучно перезимуем и не даст Бог добычи в этом краю, построим струги, поплывем в неведомое, как Илейка Перфильев, Ивашка Ребров.
Все ждали от Пенды рассказов про удачные промыслы, скитания по неизвестным землям, но он упорно помалкивал, а при настойчивых расспросах как — то нехорошо усмехался.
— Вот бы кому язык огоньком развязать! — Покряхтывая и похохатывая, обмолвился Федька Катаев.
Пантелей выплюнул из-за щеки ягодный лист, поднял парку и подол заячьей рубахи, показал живот. Казаки и промышленные, удивленно переглянувшись, вопрошающе уставились на него.
— Спина кнутом исполосована, зато над огоньком не висел! — пояснил Пенда.
Бывальцы были наслышаны о первопроходцах, кончивших земные жизни в пыточных избах под кнутами приказных и воевод. За слухами и догадками о несказанном ими была чарующая тайна, а Пантелей Пенда был одним из ее жрецов.
— Язык наш — враг наш! — поддакнул Пашка, поглаживая кожаный переплет Библии. — Гроб смердячий!
Пылали костры, сизый дым поднимался к небу ровными воронками, от прогретой земли шел жар и оседал куржаком на одеяла. Утомленные работами, люди быстро засыпали. Якутка лежала рядом с Тархом в меховом мешке-кукуле, сквозь выбеленные инеем ресницы глядела в низкое небо и улыбалась своей новой жизни. Над ее лицом поднималось и осыпалось льдинками облачко пара.
Пашка, закрыв Книгу, которую обычно читал перед сном, втянулся в глубину оленьего кукуля. Михей Стадухин в полусне привычно растекся по сугробам, обращаясь в большое бесплотное ухо. Внутренний взор его скользнул по уродливым пням, корявым сучьям, щепе, по замершим в студеном безветрии деревьям и остановился на соболе с бьющейся куропаткой в зубах. Зверек воровато оглянулся и поволок птицу под пень. Михей приятно удивился, что лес не так уж пуст, в следующий миг услышал осторожные шаги. Промороженный снег был сыпуч и беззвучен, звуки походили на человечьи, но вместо образа идущего ему чудилась какая — то тень. «Кто бы мог быть?» — встревоженно подумал он, напрягся и в лунном серебре полярной ночи смутно увидел то ли зверя, то ли человека. Открыл глаза, скинул одеяло.
— Не враг это, спи! — пробормотал лежавший рядом Пантелей.
— Злого не чую, — прошептал Михей. — Но кто?
— Леший!
— Они спят с Ерофеина дня!
— Значит, сендушный забрел из тундры! — Пантелей высунул нос из волчьего кукуля, сшитого по-тунгусски, прошептал тверже: — Не буди людей, без того злы!
Михей лег на спину, взглянул на низкие звезды.
— А что ему надо? — спросил шепотом.
— Они же любопытные, как медведи или козы! — Старый промышленный зевнул и перевернулся на другой бок.
Придвинувшись к нему, Михей Стадухин прошептал:
— Ты тоже видишь кожей?
— Вижу! — помолчав, неохотно ответил Пантелей. — Могу в черед с тобой караулить подходы… Умаялся ты!
Опять стали смерзаться ресницы атамана. Залучились, закачались звезды, среди них ясно выступило лицо Арины, будто, как когда-то на Илиме, она смотрела на него через костер. В полусне, укрываясь с головой, он опять услышал ее голос с неразборчивыми словами. С тем и уснул. Проснулся, почувствовав себя отдохнувшим, будто высвободился из объятий жены. Бросил взгляд на небо. Была ночь, но звезды перевернулись. В Енисейском остроге в это время рассветало. Тлел костер. Свернувшись улиткой, едва не тычась носом в угли, над ними клонился Семейка Дежнев в обнимку с пищалью. Железный ствол ружья, покрытый узором изморози, розовато отсвечивал.
— Спишь в карауле? — тихо укорил Михей.
Семейка вздрогнул, обернулся.
— Не сплю, — промямлил, сглатывая слюну. — Греюсь! Околел. Всю ночь ходил, где ты указал.
Зашевелились разбуженные люди, громко зевали, с недовольным видом поглядывая на небо и атамана.
— Догреетесь в преисподней, — проворчал он, вставая. — Вот как перебьют сонных, — пригрозил.
— Так нет никого! Кому бить? — продрав глаза, заспорил Семейка, обыденно пререкаясь с земляком.
— Аманат тихонько встанет и убьет твоим же ножом.
— Я ему ноги связал хитрым узлом!
— Тьфу на вас, неслухи! — беззлобно выругался Михей, окончательно разбудив стан. — Сходи погляди, — указал кивком в сторону порубленных деревьев.
Сгреб в кучу тлевшие угли, бросил на них бересту. Она задымила, стала скручиваться, потрескивать, но не загоралась. Семейка Дежнев, оставив у костра пищаль и опираясь на палки, заковылял в указанную сторону. Поднялось пламя. С одеялами на плечах служилые и охочие стали жаться к огню. Якутка отошла на десяток шагов, набила котел сыпучим снегом.
— Сендушный приходил! — возвращаясь, дурашливо крикнул Семейка. — Нога босая, как у зверя, и кора на осинах погрызена. — Слава Богу, — перекрестился, не снимая собачьей рукавицы, — ни видели, ни слышали: встречи с ним не к добру.
— Девка у нас, — кивнув в сторону якутки, поддакнул дружку Простокваша. Он стоял в карауле перед Семейкой, потому оправдывался и за себя тоже. — Сендушный до них охоч, крадет собак и баб, а так безвредный…
Все с любопытством уставились на Пантелея Пенду, но он по обыкновению молчал, перемалывая крепкими зубами лиственичную смолу.
Строилось государево зимовье торопливо, небрежно, вкривь и вкось, из сырого леса и гнилых валежин: лишь бы пережить зиму. Щели в ладонь забивали мерзлым мхом. Накрыли сруб жердями и корой, закидали избу снегом. Частокол ставить не стали: атаман не требовал, сами укрепляться не желали. Но сразу принялись за строительство бани. Отмывшись, люди два дня отдыхали с просветленными лицами. Раненые лечились. Коновал присыпал им раны травяной трухой из мешочков.
Здоровые казаки и промышленные стали проситься на разведку промыслов. Михей отпустил сначала промышленных, потом половину казаков. Аманата Чуну держал в зимовье вольно, колодки надевал только на ночь, утром освобождал. Якутка варила и пекла мясо, радовалась, когда ее хвалили, и так ласково глядела на всех глубоко запавшими под лоб глазами, что подстрекала мужчин к похоти. Только при виде ламута на лице ее мелькала болезненная тень воспоминаний о прошлой жизни. Но и ему она не показывала неприязни, не обделяла едой.
Служилые и охочие, отпущенные Стадухиным на промыслы и проведывание новых земель, поездили по округе порознь и вскоре объединились в две чуницы под началом казака Андрея Горелого и промышленного Пантелея Пенды. На лошадях с недельным припасом ржи и мяса они отправились в верховья Оймякона. Падь, где было поставлено зимовье, на аршин завалило снегом, в избе стало теплей. Бывшие при ней кони зарывались в сугробы едва не по самые лопатки, копытили траву. Михей указал на них брату Герасиму:
— Понял, чем якутские карлы лучше русских лошадей в два с половиной аршина в холке?
Тот обидчиво шмыгнул обмороженным носом, поперечно проворчал:
— Не стоят они тех денег, что потеряли.
Братьям не повезло: из шести лошадей три пали. Но Герасим с Федькой ездили на стан к якутам, с выгодой продали часть товара. Рана младшего зарубцевалась, он стал проситься на промыслы с дружком Федькой и с казаками. Тарх, оставив выкупленную якутку на старшего брата, держался поблизости от Пенды, учился у него.
— Можешь идти с ними, только как-то не по-христиански промышлять в разных чуницах с братом, — укорил младшего Михей.
Семейка Дежнев, возившийся у очага, смешливо взглянул на молодого земляка, мимоходом встрял в разговор:
— Федька менять и торговать горазд, глядишь, вдвоем втридорога товар сбудут.
Он все еще ходил на раскорячку, сильно припадая на обе ноги, но уже без палок, работал при зимовье. Рана на его лбу зарубцевалась. Над Семейкой смеялись, что ламуты вскрыли ему третий глаз. Он тоже смеялся, устав отмаливать свое забубенное невезение, смиряясь с долей. На промыслы не просился, показывая, что калеке только и остается что топить избу.
Вскоре с заводными конями в поводу вернулись двое промышленных и приволокли по льду застывшей речки тесаную лесину с длинными обрубками сучьев. Отогреваясь возле очага, жаловались, что намучались с ней в пути. Эту колоду велел тянуть к зимовью старый Пенда, по его словам, из нее должна получиться хорошая основа для шитика. Михей понял, что, прельщая спутников походом на Ламу, Пантелей Демидович непрочь сплавиться по неведомой реке. Со слов вернувшихся, по ту сторону гор было теплей, но снега больше. Там водился соболь. Люди Пенды и Горелого рубили станы, спешно секли кулемники по ухожьям.
Разошлась по промысловым местам и вторая чуница. В зимовье со старшим Стадухиным остались хромой Дежнев, безрукий Простокваша, заумный Пашка Левонтьев, якутка и аманат Чуна. Пашка стоял в караулах, днями рубил дрова, все свободное время читал. Все слушали его и молчали, убаюкиваемые монотонным голосом. Напрягая морщины между бровей, чутко прислушивался к чтецу Чуна. И только якутка с отрешенным видом, лежала на нарах и чесала брюхо.
Михей попытался добыть одного-единственного соболя, крутившегося возле лабаза, делал все как все, может быть, даже лучше. Но соболь либо не шел к его клепцам, либо вытаскивал приманку. Стадухин втайне злился на него, хитроумного, и на себя самого. Против одного юркого зверька выставил десяток ловушек, и все зря: одни захлопывались пустыми, с других пропадала приманка или соболь к ним не подходил. Атаман сдался, пожаловавшись земляку на неудачи в промысле. Семейка Дежнев, ковыляя, обошел путик, поставил и насторожил все по-своему, через неделю принес придавленного соболька и ободрал при тоскливом молчании Стадухина.
В марте потеплело. На обдутых ветрами равнинах и холмах быстро таял редкий снег, выпасы желтели прошлогодней травой. После полудня по долине реки сугробы становились вязкими, а по ночам покрывались крепким настом. Подъехать к зимовью на конях было невозможно, но на оленях или собаках под утро подойти могли. Караульные спали, когда им казалось, что снег непроходим.
В это самое время на зимовье набрела ватажка промышленных людей из восьми человек. Оставляя после себя глубокий лыжный след в отопревшем рыхлом снегу, они подошли к жилью на десяток шагов и с изумлением уставились на дым. Выскочившие из избы казаки были поражены встречей не меньше, чем пришельцы. Те и другие, постояв друг против друга с разинутыми ртами, разом заголосили, выспрашивая, кто они такие и откуда взялись?
Раздвинув Семейку с Пашкой, вперед вышел Михей Стадухин, велел прибывшим сбросить лыжи и войти в зимовье.
— Кто передовщик? — спросил.
— Я! — Отозвался скуластый, как ерш, муж со шрамами обморожений на лице. — Енисейский промышленный Ивашка Ожегов.
Как и спутники, одет он был по-тунгусски. Скинув башлык, обнажил голову с длинными спутавшимися с бородой волосами. Ответив атаману, захлебисто закашлял. Набившись в зимовье, гости развязали кожаные узлы на одежде, разделись. Черными неуклюжими потрескавшимися пальцами Ожегов достал мешочек, вытряхнул из него отпускную грамоту енисейского воеводы Веревкина, дозволявшего промышлять соболя по Олекме.
— Как здесь-то оказались, да еще пришли с восхода? — строго спросил Стадухин, предъявив наказную память от воевод Головина и Глебова.
Гости притихли, заговорили почтительней.
— Неудачно промышляли зиму на Олекме. Весной переволоклись через гору, построили струги, поплыли по неведомой речке. В низовьях узнали, что зовется Амгой, а промысловые места заняты енисейцами и мангазейцами. Переправились через Алдан, шли встреч солнца, промышляли неподалеку отсюда — две недели ходу. Речка там, под полночный ветер. Оголодали и решили выбираться в Ленский острог.
Хотя пришлых было вдвое больше, чем зимовейщиков, а Семейка Дежнев и Гришка Простокваша еще не оправились от ран, гости с опаской и предосторожностями показали добытые меха.
— Негусто! — разглядывая связанные бечевой сорока, посочувствовал Стадухин. — А соболя добрые, головные. Такие в Ленском по рублю.
— По рублю нипочем не дадут, — улыбаясь, заспорил Семейка Дежнев. — Обязательно сбросят по полуполтине. А у вас есть рухлядь без хвостов и пупков.
Ожегов торопливо собрал меха в мешки.
— До Ленского еще добраться надо.
— С таким богатством, — Семейка окинул их добычу смешливым взглядом, — наедитесь ржаной каши с коровьим маслом и пойдете в покруту.
По приказу Стадухина он выложил перед гостями каравай оттаянного хлеба. Выпекали его по уговору только на субботы и воскресенья. Рыбы в промерзшей реке не было, по нужде привычно сквернились в пост зайцами и куропатками. Муку, как водится на промыслах, берегли. Передовщик кочующей ватажки отщипнул кусочек от краюхи, благостно пожевал, за ним потянулись к хлебу другие. Поев, покидав в рот последние крошки, Ожегов степенно ответил Семейке:
— Это уж как Бог даст! Порох, свинец истратились, неводные сети перервались. Перед уходом из зимовья тушки соболей варили — экая гадость… Волчатина после соболятины, прости, Господи, ну очень вкусна.
— Нам тоже удачи нет, — сочувствуя пришлым, пожаловался Стадухин. — Наказ воевод выполнили, но рухляди не добыли и теперь хотим искать новых земель, распускаем лес, со дня на день заложим шитик и со льдом поплывем на реку Мому. Слыхали?
Переглянувшись, гости не ответили, только удивленно посмотрели на Михея.
— А мы слыхали! Нас всех с вами, будет добрая ватага. Дорога дальняя, край неведомый, лишние люди не помешают.
— Что хотите с нас? — настороженно блеснул глазами и снова закашлял скуластый передовщик. — Покруту?
— Со дня на день вернутся с промыслов казаки и промышленные. Соберемся, решим! А пока помогите строить судно, сторожить зимовье и аманата, — кивнул на равнодушно слушавшего гостей ламута.
Горелый с Пендой и промышленными людьми вышли к зимовью на той же неделе. Все были живы. Кроме мехов они привезли мешок мороженых соболей, которых собрали на обратном пути, забивая клепцы. По грубой прикидке, добытая рухлядь вместе с неошкуренным мешком не покрывала долгов большинства казаков и промышленных. Пантелей обрадовался, что народу прибавилось, стал уверенней зазывать на Ламу, в места москвитинского зимовья, но идти туда напрямик через горы, путями, известными аманату Чуне.
Михей Стадухин еще надеялся, что ламуты привезут выкуп за пленного. Если нет, то соглашался навестить их, пограбить в отместку за прошлогоднее нападение на якутов. Но не больше: все понимали, что другой зимы в этих местах не пережить. Не было на Оймяконе человека, кому бы так же, как ему, не терпелось вернуться в Ленский острог. Но, наверное, никто другой так не страшился вернуться должником. Кони отряда паслись в якутских табунах, за них не беспокоились. Не будет в них нужды, якутские мужики отгонят на Лену вместе со своим скотом и долгов убудет.
Втор Гаврилов, спутник Ивана Москвитина, угрюмо прислушивался к разговору, в котором и Михей, и Пенда то и дело ссылались на него и Андрея Горелого, сам же помалкивал.
— Да скажи что-нибудь! — вспылил атаман.
Втор вздохнул, расправил бороду:
— Меня уже наградили за Ламу: по сей день спина чешется. Что же я буду другой раз напрашиваться?
Сторонникам похода за Великий Камень возразить казаку было нечем. Умолк и старый промышленный, свесив белую бороду. Семейка с Гришкой Простоквашей шкурили привезенных соболей, им охотно помогала якутка.
По обычаю старых промышленных тушки надо было сжигать при общем молчании, но народа в зимовье так прибыло, что сделать это с честью Семейке с Федькой не удавалось и они зарывали ошкуренных соболей в снег. Михей Стадухин неподалеку от того места вытащил из плашки задавленного зайца и беззаботно шел к зимовью с добычей в одной руке с топором в другой. Вдруг в пяти шагах от него поднялся медведь, торопливо дожевав ошкуренного соболя из дежневской хованки, уставился на атамана. Мгновение человек и зверь пристально глядели друг на друга, Михею показалось, что он узнал того, который подходил к нему с Ариной на Илиме и Куте, которого спас от убийства на Лене. Но медведь так отощал, что под свалявшейся шерстью угадывались ребра: видно, поднялся из берлоги давно и бедствовал без кормов. Окинув его сочувственным взглядом, Стадухин бросил мерзлого зайца. Зверь, на лету, схватил его, с хрустом сгрыз, снова уставился на человека голодными глазами, и казак почувствовал, что для исхудавшего медведя он — продолжение съеденного. Не сводя с него глаз, зверь стал приседать перед броском.
— Чего удумал? — Михей отвел в сторону топор, готовясь защититься. И в этот миг за спиной раздался такой пронзительный вопль, от которого он невольно скакнул, обернувшись спиной к медведю. Чудно раздув шею и щеки, кричал Пантелей Пенда. Краем глаза Михей увидел, как зверь шарахнулся в сторону. Обернулся — он убегал.
— Зачем подставляешься? — на глубоком вдохе прерывисто спросил Пантелей.
— Да вот, бес попутал! — смущенно пожал плечами Михей.
— Бывает! — согласился старый промышленный. — Хорошо, я был рядом. В нем одних костей и жил пудов десять. Задавил бы.
— Что ты ему сказал? У меня до сих пор в ушах звенит.
— Чтобы проваливал!
— Что за язык такой чудной?
— Чандальский!* — неохотно ответил Пантелей. — Скажи Семейке, чтобы не бросал тушек возле зимовья.*(по поверьям промышленных людей XVII века, чандалы — древнейший сибирский народ, впадающий зимой в спячку) Слегка сутулясь, старый промышленный пошел к зимовью. Помахивая топором, Михей догнал его, спросил полушепотом:
— Ты и с чандалами знался?
— С кем только не знался, — досадливо огрызнулся Пантелей. — Не верь никому! Особенно людям и медведям!
В апреле на открытых местах лесного берега речки появились проталины. В полдень припекало солнце. К зимовью приехали на оленях родственники Чуны. Пять мужиков в кожаных халатах, с черными, лоснящимися от солнца лицами спешились на противоположном, открытом берегу и по мокрому льду переправились к жилью. Полтора десятка сопровождавших их сородичей остановились там же, сложили на землю луки с колчанами стрел. Послы безбоязненно подошли к караульным, их обыскали, подпустили к зимовью, показали живого аманата с колодкой на ноге.
— Здоровые черти! — буркнул Горелый, оглядывая гостей. — Один к одному тамошние сонинги.
Ламуты принесли три пластины, сшитые из собольих спинок. Выкуп не мог быть так мал, можно было понять, что это подарок в поклон. Стадухин ждал, решив, что гости будут торговаться за шамана, за побитый якутский скот, за раны русичей и убитых якутов. Пантелей Пенда сидел в темном углу, переводил строгие глаза с одного посла на другого. Пашка Левонтьев со звучным хлопком закрыл Библию, ламуты вздрогнули, обернувшись к нему, оглядели углы избы и попросили разрешения говорить с Чуной. Атаман обернулся к Пантелею за советом.
— Не нравится мне что-то! — пробормотал тот. — Добавь-ка людей на охрану!
— Там десятеро! — пожал плечами Михей, но выслал из избы еще пятерых.
И тут с другого берега невскрывшейся речки послышались якутские крики «Ур!..Ур!» Безоружные ламуты вскочили с мест, отбиваясь от казаков, кинулись к двери, перепрыгнули через сидевших снаружи, побежали к оленям. Караульные дали по ним три нестройных выстрела. Как оказалось, фитили были запалены только у них. Когда рассеялся пороховой дым, ламуты уже мчались на оленях на расстоянии полета стрелы. Чуна в деревянной колодке бежать не пытался, но по его лицу было понятно, что родичи сказали ему что-то важное.
Прискакавшие по проталинам якуты спешились, скользя ногами по сырому льду, переправились с конями через реку в то время, когда Михей Стадухин орал на своих и раздавал тумаки. Это были вожи, отпущенные им зимовать с единокровниками. Они сказали, что ночью ламуты напали на станы Увы, перебили много коней. Возмущенные зимовейщики, забыв споры и обиды, хотели преследовать врагов по горячим следам.
— Погодите! — крикнул Пантелей, удерживая рвущихся в погоню. — Если их всего сотня, как говорят якуты, то они пришли освободить Чуну, а коней били с умыслом. Побежите для мщения, они вернутся и отобьют шамана. Думать надо!
Стадухин властно окликнул людей, тряхнул за шиворот непослушных крикунов, велел накормить якутов.
— Горелый! Бери под начало промышленных людей и двух служилых. Возьмешь свинца, пороху, остатки толокна, пойдете к якутам, защитите их, соединитесь с ними и преследуйте ламутов как умеете. Ловите лучших мужиков, требуйте выкуп сколько дадут. — обвел строгим взглядом слушавших его людей: — Главным будет Андрейка. Во всем слушаться его и Пантелея Демидыча. Я с казаками жду вас здесь. Будем строить коч, караулить Чуну и якутский скот. Не вернетесь к Николе, пошлите вестовых, а то мы уплывем, куда Бог выведет.
Отряд из двух десятков промышленных с двумя казаками, Андреем Горелым и Втором Гавриловым, ушел вверх по Оймякону. Тарх увязался с ними, Герасима Михей не отпустил, оставив при себе. Впрочем, младший и не рвался за Камень. На быстрое возвращение отряда никто не надеялся. Конным догнать оленных всадников по насту, лежавшему по ложбинам, было делом невозможным: олени с широкими раздвоенными копытами не проваливались, как кони. Горелый и Пенда соединились с двадцатью якутскими всадниками и повели всех на реку Охту, где, по слухам от Чуны, еще не было русских людей.
Весна уже явно теснила зиму. Промерзавшая до дна речка, томясь подо льдом, пробивалась из щелей и трещин, в полдень журчала ручьями. У ее берегов появились широкие пропарины, но рыба в них не ловилась, не было даже ее запаха. Якуты, опасаясь новых нападений, пригнали свои стада ближе к зимовью. И они, и казаки питались мясом убитых коней. Стадухин с казаками и промышленными людьми поспешно строил коч из подручного леса, ждал вестей от Горелого, но их не было. Якуты тоже ждали возвращения лучших мужчин, без них боялись удаляться от зимовья, хотя по первой зелени трав им пора было кочевать в обратную сторону к Ленскому острогу.
В мае, на Еремея-запрягальника, речка наконец-то очистилась от льда, бесилась и пенилась весенним паводком. В этот день вернулся отряд Андрея Горелого. Все были живы, ранены двое — он сам и ожеговский промышленный. К их седлам были приторочены мешки с сухой рыбой и рыбной мукой.
— А мы, вас ожидаючи, совсем оголодали, — признался атаман.
Андрей Горелый со Втором Гавриловым сошли с низкорослых лошадок, затоптались на месте, разминая ноги.
— Как якуты? — спросил атаман.
— Все живы! — неохотно ответил Горелый, мотнул головой и устало поморщился. — Только нас ранили.
Зимовейщики топили баню, варили заболонь и корни, обильно приправляя их привезенной рыбной мукой. Прибывшие не спешили рассказывать, где были, что видели: разговор предстоял долгий. Пока грелась вода и калилась каменка, они с любопытством разглядывали судно, обшитое тесаными досками.
— Добрая ладейка! — неуверенно похвалил Пантелей Пенда. В сказанном был намек, что плоскодонный коч маловат для ватаги.
Стадухин стал было оправдываться, что из здешнего леса невозможно сделать больше того.
— Надо бы нос и корму накрыть: все-таки от волн защита, в дождь можно обогреться и просушиться. — Придирчиво обстучал борта старый промышленный. Люди, бывшие с ним по ту сторону гор, сдержанно хвалили работу плотников.
Наспех срубленная зимой изба светилась щелями и не могла вместить всех. Ясным вечером, переходящим в светлую ночь, ватага сошлась у костра. Втор с Андреем Горелым сняли с бани первый пар, бок о бок сели на колоду. Казаки — зимовейщики ждали от них подробного рассказа. Привезенный с Охоты мех — три десятка плохоньких, коричневых соболей, пара пластин сшитых из спинок, был осмотрен и ощупан. Выкуп за Чуну не взяли.
— Бога прогневили, что ли? — вздыхали, печалясь невезению.
Немногословный Втор Гаврилов больше помалкивал, говорил Андрей Горелый, его связчики глядели на пламеневшие угли и поддакивали.
— Ламуцких мужиков на Охоте кочует множество. Не обманул Чуна, — указал на ухмылявшегося аманата.
Тот без цепи и колодки вольно сидел у костра как равный.
— Ездят на оленях тропами давними, пробойными, кони по ним идут легко. Соболя и всякого зверя там много, реки рыбные, — увлекаясь, заговорил громче. — Лис хоть палкой бей. По следу глядеть — волки с ними живут мирно, рядом ходят. Все сыты.
— На Улье тоже рыбы много, но не так! — степенно поддакнул Втор.
— Правду говорил Чуна, — Горелый опять кивнул на заложника. — Есть ламуты сидячие, живут в домах, селами, что наши посады. Припас у них рыбный: юкола, икра, рыбная мука в амбарах, с осени в зиму рыбу в ямы закладывают. Железо у них — редкость: копейца и ножи костяные, топоры тоже костяные, бывает, каменные. Бой лучной, это вы видели. Лихо носятся на оленях, аманатить себя не дают.
— А сидячих что не брали?
— Как где ни покажемся — мужики, старики, дети бегут в лес и упреждают соседей. Врасплох их не взять. А если варят рыбу из ям — к селению не подойти от вони: лучше броней защита. Что удалось собрать по пустым избам, то привезли. Другой рухляди не было.
— Не дошли устья Ульи, где зимовали с Ивашкой Москвитиным? — нетерпеливо спросил атаман.
— Не дошли! — согласился Горелый, тряхнув пышной, промытой щелоком бородой. — По всем приметам, недалеко были. Но близко к морю собралось ламутское войско сотен в семь, стреляли по нам со всех сторон и принудили повернуть в обратную сторону.
— А бородатых мужиков видели, про которых Ивашка говорил? — с любопытством поглядывая на Пантелея Пенду, спросил Михей Стадухин.
Казаки и охочие люди, вернувшиеся из похода, сконфуженно обернулись к старому промышленному. Пантелей закряхтел, прокашлялся, будто проснулся, и равнодушно ответил:
— Видели боканов. Иные на тунгусов походят, другие на братских людей, только бороды гуще… Ты вот что, — встрепенулся, обращаясь к атаману. — Нас родичи Чуны преследовали до самых верховий Оймякона. Могут ночью напасть на якутов и на зимовье. Надо выставить крепкие караулы и помочь отогнать скот к Алдану. Без нас ламуты не дадут им кочевать.
Видимо, Пантелей сказал главное, что было на уме у всех вернувшихся. Они громко загалдели, перебивая друг друга. Одни оправдывались, другие кого — то ругали, а Михею чудилось, будто в чем-то укоряют его.
— Наверное, Чуна прошлый раз предупредил сородичей, чтобы не давались в аманаты? — спросил, с подозрением уставившись на пленника.
Глаза ламута сомкнулись в тонкие щелки, губы расплылись в самодовольной усмешке, он понял, о чем речь.
— Мы за Камнем так же думали, — признался Горелый.
— Зачем? — удивился Стадухин, пристально глядя на аманата.
— Одного выкупят, потом будут многих выкупать! — медленно, членораздельно ответил Чуна на сносном языке, чем удивил всех так, что у костра долго стояла тишина.
— Вот те раз! — хмыкнул в бороду атаман и прикусил рыжий ус. — Заговорил?
Короткой и светлой майской ночью казаки выставили караулы со всех сторон. Тарх Стадухин с десятью промышленными отправился на стан к якутам. Пантелей не ошибся. Ранним утром, когда головы бодрствующих становятся непомерно тяжелыми, Михей почувствовал хорканье оленей и ярость, волной накатывавшуюся на зимовье, сбросил одеяло, поднял спавших.
— Семейке с Простоквашей оставаться! Ты — старший! — бросил Дежневу. — Головой отвечаешь за аманата. Ворвутся ламуты, живым не отдавай! — Подхватил заряженную пищаль, первым выскочил из зимовья. Глухо и грозно шумела весенняя река. Уныло пищали комары.
В это время потяга воздуха нанесла на Втора Гаврилова, чутко дремавшего в дозоре, запах оленей. Он раскрыл слипавшиеся глаза и увидел на пустынном месте странное мельтешение. Втор тряхнул головой и разглядел рогатые головы людей. Под его рукой тлел трут. Казак запалил фитиль пищали и на всякий случай пальнул по яви или по утреннему мороку. Еще не рассеялся пороховой дым выстрела, к караульным подбежали отдыхавшие в зимовье, тоже стали стрелять. Вскоре донеслись отзвуки выстрелов с якутского стана. Ламуты не ждали караулов так далеко от зимовья и еще не успели спешиться. Обстрелянные, они развернули оленей и поскакали вспять. Явных признаков боя не было. Михей обежал ближайшие секреты. Втор Гаврилов, стоя в полный рост, забивал в ствол новый заряд.
— Палил картечью! — Обернулся к атаману: — Должен переранить оленей и людей! — Положил ствол на сошник, подсыпал на запал пороха из рожка, стал всматриваться. — Явно слышал человечьи вопли.
Стадухин проломился сквозь кустарник, вернулся:
— Двух оленей убил. А людей нет! Похоже, похватали и увезли.
Со стороны якутских выпасов раздался новый залп, потом все надолго стихло. Из розового тумана над увалами выглянул край солнца, желтый луч стрельнул по равнине. Стадухин оставил в дозоре троих, остальных отпустил досыпать.
К полудню от якутов пришли посыльные, сказали, что утром отбили два приступа. Все их люди были живы, скот цел. Тойон Ува, дождавшись своих молодцов с Охоты, готовился к перекочевке. Михей Стадухин хотел отправить с ними Дежнева и Простоквашу, дескать, им в обычай выходить с казной. Но те уперлись, не желая возвращаться, их паевых мехов не хватало, чтобы расплатиться с долгами. Смешливый половинщик, услышав атаманский наказ, вдруг напряженно замолчал, глаза его сузились в острые щелки, лицо окаменело трещинами ранних морщин, в следующий миг он метнул на атамана такой непокорный взгляд, что Стадухин с недоумением рассмеялся и выругался: «Решайте сами, кому возвращаться или кидайте жребий!»
Со словами: «Не будет с вами счастья!» самовольно вызвался идти на Лену остроносый и застенчивый, но прожиточный казак Дениска Васильев. Семейка тут же успокоился, подобрел, заулыбался, стал дурашливо жаловаться:
— Покойникам и тем радостней лежать в здешней мерзлоте, чем жить на белом свете больному да хворому.
Стадухин, посмеиваясь резким переменам в его лице, стал писать челобитную воеводам и благословил Васильева на возвращение с оставшимися ватажными конями.
4. Соперники
Разбушевавшийся Оймякон с таким рокотом перекатывал по дну камни, что люди у воды кричали, чтобы услышать друг друга. По наказу атамана ертаулы сходили в низовья и вернулись озадаченные: расширяясь, река оставалась такой же бурной. На сходе ватага спорила: сплавлять коч по большой воде до проходных глубин — страшновато, ждать, когда река войдет в берега, — невмочь. Атаман намеренно ни к чему не принуждал, ожидая соборного решения.
— Мало голодали? — со скрытой насмешкой съязвил Пантелей. — Поголодаем еще. Вода упадет, будем поднимать ее запрудами и парусом, безопасно потянемся по камням…
— Нет уж! — возмущенно рыкнул Коновал. Рубец на коричневой щеке побагровел, драная губа задергалась. — Хаживал по мелям, знаю! Сплетем веревки покрепче и, как Бог даст, сплавимся по большой воде!
Ватажные загалдели, большинством поддержали казака.
— Как скажете! — согласился атаман. — Что мир решил, то Богу угодно!
Пришлая ватажка Ивана Ожегова захотела присоединиться к его людям и попытать счастье на неведомых землях. При предстоящих трудах их руки были нелишними. Из березовых корней, конских хвостов и кож казаки и промышленные наплели веревок, с молитвами столкнули в бурлящий поток тяжелое плоскодонное судно и бесившаяся река замотала его как щепку.
Все понимали, что хлебнут лиха при сплаве, но надеялись, что это продлится недолго. Спускать и протягивать коч через буруны приходилось едва ли не на карачках. Веревки то и дело рвались, ломило кости от студеной воды, в которую часто окунались и влезали по пояс. Атаман, сам мокрый, отводил душу на нерадивых, те ругали судьбу. И только Чуна невозмутимо лежал в мотавшемся суденышке, беззаботно глядел в синее небо с ясным солнцем, чесал длинные волосы костяным гребнем. Иногда в опасных местах среди бурунов и камней он вскакивал, начинал плясать и петь, призывая в помощь прямивших ему духов.
— Где правда? — глядя на него и выстукивая дробь зубами, скулил Федька Катаев, которому за нерадение часто доставалось от Стадухина. — Мы надрываемся, а ясырь бездельничает.
Спутники сопели, кряхтели, но не отзывались — принуждать аманатов к работам было не принято.
В очередной раз спустив судно до тихой заводи, люди попадали от усталости, надрывно сипели, хрипели, а Федька вдруг громко захохотал. Кудахчущие смешки были у него в обычай, а такой редок.
— Он чего? — удивленно приподнялся на локте скуластый передовщик приставшей ватажки.
Его связчик Ивашка Корипанов дышал захлебисто, грудь под мокрой кожаной рубахой ходила ходуном. Чуть успокоившись, перевернулся на бок, ткнул Федьку.
— Эй? Ты чего?
От тычка Федька захохотал громче и засучил ногами в раскисших бахилах. Глядя на него, стали похохатывать другие казаки и промышленные.
— Умишком оскудел или что?! — Старший Стадухин окинул его хмурым, неприязненным взглядом, отжал мокрую бороду.
Не унимаясь, Федька стал тыкать пальцем в лежавших рядом с ним Ожегова и Корипанова.
— Мы-то на государевом жалованье… Они за что купаются?
Промышленные смущенно переглянулись, кто-то должен был ответить взбесившемуся казаку.
— Воля сытой не бывает! — буркнул Пантелей Пенда и скрюченными пальцами распушил свившуюся в веревку бороду. — В хлеву, оно конечно, легче.
Пашка Левонтьев отряхнулся, как помятый петух, вытянул шею, поучающе изрек:
— В поте лица своего надлежит добывать хлеб свой! — Мокрые лохмы над его ушами торчали рожками, на лысине блестели капли речной воды и пота.
Федька вымученно улыбнулся, сжал губы. Ожидая продолжения спора, измотанные люди переводили глаза с него на Пашку, с Пашки на Пенду и заметили вдруг, что могут разговаривать без крика. Река менялась.
Старому промышленному доставалось не меньше, чем молодым спутникам, и уставал он так же, но не роптал. Казаки и промышленные примечали, что при однообразных тяготах пути он отпускал свое тело на труды, уносясь куда-то душой. При этом глаза его, как у слепца, неподвижно и мутно темнели в провалах под бровями и оживали, когда промышленного окликали.
— Вот и я говорю! — обрадовался поддержке атаман, мотая слипшейся бородой. — Здесь уже легче, чем в верхах. Может быть, осталось-то потерпеть пять-десять верст. Не бывает рек без конца бурных.
Он настороженно разглядывал притихшего Федьку с удивленно застывшим лицом, Гераську, уткнувшегося в мох. Плечи брата подрагивали, младший то ли трясся в ознобе, то ли плакал. Мишка Коновал, всегда беспричинно усмехавшийся большим шрамленым ртом, с обычным своим видом смотрел на пройденные буруны.
— Если невмоготу, — подобрел атаман, — можно отдохнуть. — Пошлем ертаулов посмотреть, далеко ли тихая вода.
— Ясыря! — тыча пальцем в аманата, очнулся и опять закудахтал Федька. — На кой он нам, если под него ни выкуп не дают, ни ясак?
— Ты Чуну не ругай! — осадил казака старший Стадухин. — Его водяной дедушка любит. Может быть, ради него коч цел. Чудом провели через камни… Пусть сидит и камлает.
Река стала шире, сжимавшие ее горы — ниже, а вскоре, камни сменились зеленевшим сопочником. Из малинового туманного востока выползло низкое солнце и закатно замаячило за кормой. Наконец-то коч привольно поплыл по быстрому течению реки, гоняясь за своей тенью. Он уже не застревал на перекатах, но цеплялся за песок и окатыш, если на борт взбиралась вся ватага. А потому половина стадухинских людей бежали берегом, другие, с шестами и веслами, не меньше их уставали править судном. Казаки и промышленные поочередно менялись, и только Михей Стадухин с Чуной, постоянно оставались на судне.
Лес по берегам становился гуще верхового, по всем приметам в нем должен был водиться соболь, на отмелях виднелись лосиные и оленьи следы. В заводях кормились утки и гуси, большие стаи плавились по стрежню вместе с кочем. После голодной зимы ватажные отъедались птицей. Атаман обеспокоенно осматривал берега: от самого зимовья ватага не встретила ни одного человека, а тойон Ува говорил, что на Моме много народу. Между тем все еще Оймякон или уже Мома оставались пустынными, необжитыми, и чем легче становился путь по неведомой реке, тем чаще заводился разговор о том, куда она ведет.
— Вода мутная, течение быстрое, похоже на Индигирку! — оглядывался по сторонам Пантелей Пенда. — Но я ходил тундрой, промышлял на краю леса.
Старший Стадухин окликал Дежнева:
— Ты в Верхнем Индигирском у Митьки Зыряна служил. Похожа река на Собачью?
Дежнев, щурясь, вертел головой, прикладывая ладонь ко лбу, дурашливо округлял глаза в цвет неба и отвечал, желая порадовать земляка-атамана:
— Индигирка шире, берег похож, но лес реже.
Он со своими бедами до сих пор хромал, хотя раны затянулись. По соображениям атамана, земляк был здоров, но прикидывался больным, а Дежнев с укором вздыхал и набожно возводил глаза к небу на его ругань:
— Тебя Бог милует, а ты меня коришь, не зная, каково страдать Христа ради. Грех! Грех! Ну, да ладно. Бог простит! Ангела тебе доброго! — На его лице, посеченном веселыми морщинками, Михею чудилась насмешка и даже похвальба своим терпением.
— Вокруг чужой женки козлом скачешь, как работать — так калека!
Казаки тоже подзуживали Семейку. Самый отъявленный лодырь и плут, Федька Катаев, божился, что видел его бегущим, когда тот, голодный, догонял раненую куропатку. А как, дескать, заметил его, Федьку, так опять захромал. Благодаря легкому характеру насмешки и ругань отскакивали от Семейки, как сухой горох от стены, и не портили его пожизненной радости. Бездельем он не томился: даже сидя в коче, перебирал вымороженные шкурки, связанные в сорока, те, что с жиром на мездре, скоблил коротким широким ножом. Его неспешность в делах и неунывающий нрав злили атамана, носившегося по кочу в предчувствии какой-то беды. Еще зимой от него обособились братья. Они ждали от старшего поблажек, но он знал, какими распрями это может обернуться. Время от времени пытался заводить душевные разговоры — не получалось. Братья пугливо поглядывали на него и доверительно жаловались Дежневу, с которым были в большой приязни:
— И спать-то по-людски не может: ляжет последним, вскочит первым… Даст Бог вернуться в Ленский — больше с ним не пойдем.
— Так ведь власть, соблазны, — с пониманием утешал их Семейка. — Не по благочестивой старине — помыкать слабыми, но здесь над ним никого, кроме Господа! Вот и лютует Его попущением. Разве я нарочно под стрелы лез? Судьба — принять муки. А он всю зиму попрекал. Терплю вот Христа ради. Это вы — люди вольные, промышленные, а я — служилый.
Река стала еще глубже, уже вся ватага набивалась в коч, судно проседало по самые борта, но люди не били, не мочили ног.
— Течение быстрое! — оглядываясь по сторонам, настойчивей упреждал Пантелей Пенда. — Сильно походит на Индигирку.
Дежнев и Простокваша, ходившие с Постником Губарем, в один голос оправдывались:
— Здесь все реки одинаковы: камни, мхи, болота, деревья чуть толще казачьего уда.
Старший Стадухин ненадолго успокаивался, но уже вскоре, сверкнув глазами, хватал шест, несся с ним на нос коча, тыкал в дно по одну, по другую сторону бортов, что-то заподозрив, оглядывался.
— Семейка! — опять звал Дежнева.
Тот, шлепком сбив шапку до бровей, покладисто вертел головой, чесал затылок.
— Не-ет! — отвечал позевывая. — Собачья ширше!
Слова земляка успокаивали атамана. Он бросал шест на место, вставал к рулю, оттеснив Пантелея Пенду.
— Подгребай, бездельники! — окликал казаков, сидевших на веслах. — Разворачивает поперек течения.
И плыли они так еще два дня. После купаний в верховьях радовались отдыху, пригревавшему солнцу, беззлобно посмеивались над атаманом, которому не сиделось на месте. Вдруг с тупого носа коча раздался его душераздирающий крик. Как ни притерпелись казаки и промышленные к беспокойному нраву Михея Стадухина, к его непомерной ярости во всяком деле, но в этом вопле им почудилось отчаянье раненого. Выпучив глаза и разевая рот в двуцветной бороде, он смотрел вдаль и указывал на берег. Там среди редколесья виднелось русское зимовье с частоколом и крытыми воротами, над которыми возвышался Животворящий крест.
— Да это же Зашиверское! — весело вскрикнул Семейка Дежнев, хлестнув себя ладонью по шапке. — То самое, что Губарь ставил. Я тут был с Митькой Зыряном! По Индигирке плывем, братцы! Вот ведь как водяной дедушка глаза отвел!
Атаман метнул на него бешеный взгляд, застонал, сощурив глаза, провел ладонями по лицу, сгоняя прилившую кровь, обернулся со скорбными неподвижными глазами.
— Ну что с того, что сразу не узнал реки? — виновато развел руками Семейка. — Назад бы все равно не повернули, сюда же и пришли бы.
Как-то разом осунувшись, Стадухин скомандовал сиплым голосом:
— Греби к берегу!
Его спутники кто с радостью, кто с тоской глядели на крест с явно жилым приближавшимся зимовьем. Судно было замечено. На берег вышли три бородача, одетые по-промышленному: один с саблей на боку, двое с топорами за поясом. Коч встретил ленский казак Кирилл Нифантьев. Он был из отряда Постника Губаря, с которым, на беду свою или к счастью, не ушел в свое время Михей. Узнав его и Семена Дежнева, Кирилл крикнул:
— Нам на смену посланы?
— Плывем своим путем! — уныло ответил Стадухин, подергивая рыжими усами. И добавил, хмуря брови: — По сказкам якутского князца думали, что по реке Моме, оказалось — по Индигирке.
— Заходите в зимовье, сколько набьетесь, — рассмеялся Кирилл, оглядывая три десятка гостей. — Чего гнус-то кормить?
Потеряв обычную резвость, Михей сошел на берег, за ним попрыгали на сушу казаки и промышленные.
— Аманата ковать или как? — спросил Вторка Гаврилов.
Михей отмахнулся, морщась:
— Пусть гуляет! Куда ему бежать?
Зимовье было обычным казачьим пятистенком. На одной половине, в казенке, жили аманаты, на другой — служилые и охочие люди. В сенях стояли три пищали, в полутемной комнате с маленьким оконцем сильно пахло дымом и печеной рыбой. В казенке на лапнике равнодушно сидели три тунгуса, прикованные цепями к стене. Зимовейщики раздули огонь, сбегали с котлами за водой.
— Квасу давно нет! — со вздохами оправдался Кирилл. — Хлеба тоже. Кормимся рыбой и птицей. Ушицы поедите? — спросил неуверенно.
— Сыты! — смиренно отказался атаман. — Хлеба у нас тоже нет. Последнюю саламату перед Пасхой выхлебали.
На расспросы Кирилла он отвечал небрежно и кратко:
— По наказной памяти нынешних воевод зимовали на Оймяконе. Стужа там лютая, место голодное. Андрейка Горелый, — кивнул на казака, — с промышленными людьми и якутами ходил за Камень, на Ламу, к тамошним ламутам, они им зад надрали. Слава Богу, вернулись живы. По наказу наших воевод плывем искать новых земель и народов, а тут вы…
— Ну, а мы как ушли с Постником с Яны, так здесь служим.
— Губарь рассказывал, — рассеянно обронил Михей.
— На Яне зимовали в перфильевском Верхоянском зимовье, — Кирилл перевел глаза с атамана на казаков и промышленных, которые внимательно слушали. — Якуты там жаловались на юкагиров, что грабят, холопят. Весной, в конце мая, на конях и волоком перешли мы с ними из Ондучея в Товстак, потом на Индигирку, повыше здешних мест. Построили струги, с боями сплыли до юкагирских земель, поставили зимовье. В зиму было несколько осад — отбились, взяли аманатов. Осенью на стругах ходили вверх по Индигирке, врасплох на рыбалке, захватили юкагирских мужиков князца Иванды, — мотнул бородой в сторону горницы и сидевших там тунгусов, — взяли под них ясак сто десять соболей.
— Где же те люди? — со скрытой обидой спросил Михей. — Ни одной души не видели, чтобы спросить про реку.
Кирилл уныло рассмеялся и продолжил прерванный рассказ:
— Потом Постник с ясаком пошел в Ленский, и осталось нас здесь шестнадцать человек. А как на перемену прибыли Митька Зырян с Семейкой, — указал на Дежнева, — стало еще меньше. Здешние ясачные юкагиры куда-то ушли. Зырян поплыл за ними вниз по Индигирке и, по слухам, за полднища до моря поставил зимовье на земле олюбленских юкагиров.
— То-то мы никого не видели, — досадливо крякнул Михей.
— Выходит, так! — кивнул Кирилл. — Хотите быть первыми — плывите дальше. Юкагиры сказывают, к восходу есть река шире здешней. Народов на ней много, и кочующих, и сидячих. А падает она, как Лена, в Студеное море… Пойдете? — Хохотнул, подняв брови, обнажая желтые зубы под усами.
— Теперь туда ближе, чем обратно… Да несолоно хлебавши, — разглядывая заложников, пробормотал Стадухин. И спросил: — Не страшно втроем при трех аманатах?
— Страшно! — посуровев лицом, признался Кирилл. — Нас пятеро: другие рыбу ловят. Юкагиры откочевали, когда вернутся неведомо. Захотят отобрать сородичей силой — нам не устоять. Перебьют. Оставил бы с полдесятка промышленных. Здесь промыслы добрые, соболь хорош, зимовье готовенькое. А дальше к полночи — голодная тундра.
Михей обернулся к Пантелею Пенде, вопросительно взглянув на него затравленными глазами. Тот разлепил сжатые губы, равнодушно согласился:
— Кто хочет, пусть здесь промышляет. Я с тобой пойду!
Стадухин обвел усталым взглядом людей, сидевших вдоль стен.
— Есть желающие помочь годовщикам?
— Мы бы остались, — за всю пришлую ватажку ответил Ожегов. Косматая борода на скуластом лице топорщилась путаными прядями. Он чесал и приглаживал ее, пропуская сквозь скрюченные пальцы, пристально вглядывался в глаза атамана. Никто из его людей не спорил, хотя Иван говорил без совета с ними.
— Ну и с Богом! На коче тесно.
— Остались бы, да не с чем, — не мигая, поджал губы передовщик и, не дождавшись предложений, попросил: — Дай пороху, свинца и соли. Поделись!
— Даром, что ли? — сощурившись, захихикал Федька Катаев.
— Задаром только в острогах бьют! — хмыкнул в бороду веселый от встречи со знакомыми людьми Кирилл Нифантьев и беспечально пригладил кабаний загривок волос, нависший между плеч.
Сдержанный смешок прокатился по зимовью.
— Ладейку строили для реки! — тихо, но внятно проговорил Пантелей Пенда из угла. — Если идти морем — нам половины людей хватит, не то потонем.
— Служилых оставить не могу, а промышленным — воля! — объявил атаман и заметил, как просияли лица братьев. — Неужто и вы останетесь? — тихо спросил Тарха.
— Нам никак нельзя вернуться без добычи! — смущенно ответил тот. — Государь жалованья не платит.
— На новых-то землях, где допреж ни казаков, ни промышленных не было, продадите товар вдвое против здешнего, — стал неуверенно прельщать Михей и вспомнил, что то же самое говорил в Ленском остроге.
— Что за товар? — привстал с лавки Кирилл. — Прошлый год были люди купца Гусельникова.
Михей удивленно выругался:
— Везде успевают, проныры пинежские! — Глаза его остановились на беззаботно улыбавшемся Дежневе. — Одного казака могу оставить!
Добродушное лицо Семейки резко напряглось, глаза сузились.
— Нет! — просипел он, до белизны пальцев вцепившись в лавку, и метнул на атамана такой леденящий взгляд, что тот недоуменно хохотнул. — Зря, что ли, коч строил?
Михей перевел взгляд на Гришку Простоквашу. Тот громко засопел, неприязненно задрав нос к потолку. Герасим, заводивший глазами, как только зашла речь о товаре, стал громко перечислять, что им взято для торга. Федька Катаев, кудахча, вторил о своем. К ним придвинулись зимовейщики, а промышленные приставшей на Оймяконе ватажки стали рядиться.
— Вы бы дали нам по две гривенке пороха, да по три свинца, да соли по полпуда…
— Чего захотели, — загалдели казаки. — Соли самим мало.
— Вы по морю пойдете, напарите…
Торговались долго. С рыбалки вернулись двое зимовейщиков. Бросили в сенях невыпотрошенную рыбу и ввязались в спор, будто соль, порох, свинец нужны были им самим. Чуна, вольно сидевший среди казаков и презрительно поглядывавший на прикованных аманатов, сказал вдруг:
— На Погыче-реке народу много, народ сильный, перебьет нас без ружей!
На миг в зимовье наступила такая тишина, что стал слышен комариный писк.
— Охтеньки! Опять заговорил! — недоуменно пробормотал Вторка Гаврилов.
— Молчал-молчал, слушал-слушал и затолмачил! — Коновал поднял густые брови, растянул половину рта в удивленной улыбке. — Хоть возвращайся на Охоту.
После полудня все сошлись на том, что Михей Стадухин возьмет на себя четыре сорока ожеговских соболей за выданный ватажке припас и расплатится по общей кабале. Герасим за время похода продал половину товара, частью дал в долг под кабальные записи ожеговским и своим людям, он хотел остаться на Индигирке, чтобы получить долги после промыслов. Михей согласился, что это разумно: искать должников по Сибири, перепродавать кабальные записи — дело суетное, соглашался и с тем, что Тарху безопасней остаться здесь, но ныла под сердцем обида, что братья молчком винят его за прежние неудачи. «Силком счастливым не сделаешь!» — подумал и благословил их.
Ночевали казаки и промышленные возле зимовья: кто на коче, кто у костров. Стадухин, услышав про новую реку, оживился, повеселел. Светлой северной ночью, как всегда, он успокоился последним, а одеяло сбросил первым. Розовело редколесье, небо было голубым и ясным, сон атамана недолгим, но глубоким. Михей сполоснул лицо, положил семь поясных поклонов на лиственничный лес, разгоравшийся под солнцем в цвет начищенной меди, и стал будить товарищей. Промышленные спали, пряча от гнуса вымазанные дегтем лица. Иные закрывали их сетками из конского волоса. Все слышали атамана и наслаждались тем, что больше ему неподвластны. Проводить судно поднялись только трое, среди них два отчаянно зевавших брата. Тринадцать казаков, аманат и Пантелей Пенда оттолкнулись шестами от берега, коч подхватило течение реки. Братья вернулись в зимовье, а промышленный, глядя вслед удалявшемуся судну, спустил портки и стал мочиться. Стадухин склонился к воде, высматривая посадку, распрямился и крикнул ему, заправлявшему кушак:
— Дерьма-то вполовину убыло!
Скальный порог они прошли не замочив ног. За ним потянулись узкие полосы леса, вклинившиеся в тундру. Налегая на весла, гребцы спешили на полночь, Стадухин, как всегда, поторапливал, бегая с кормы на нос:
— Веселей, братцы! Лето коротко, а нам надо поспеть на Алазею-реку, где до нас никто не бывал!
И шли они так до Олюбленского зимовья, поставленного на тундровом берегу неподалеку от моря. Светило солнце, по берегам зеленел пышный мох, старицы и озера были черны от птиц, покачивался на ветру прибрежный ивняк. Близость моря ощущалась по менявшимся запахам и цвету неба, которое поднималось все выше и становилось ярче. Прохладный, не речной ветер разгонял гнус.
Против зимовья, к которому спешил отряд, стоял коч не больше четырех саженей длиной, борта из тонких полубревен притундрового леса на аршин возвышались над водой, нос судна был обвязан потрепанными связками прутьев: по виду коч недавно выбрался изо льдов. Распахнулась дверь избы на берег вышел ленский казак Федька Чукичев. Свежий ветер трепал его богатую, в пояс, бороду, покрытые собольей шапкой длинные волосы, в глазах служилого лучились самодовольство и дерзость, с какими обычно возвращались из дальних странствий казаки и промышленные люди.
«А уходил простым, неприметным, — окинул его завистливым взглядом Стадухин. — И в ленских службах не из первых».
— Мишка, ты, что ли? — узнал его годовальщик.
Федор прибыл на Индигирку с отрядом Постника Губаря. Как и Кирилл Нифантьев, он был из тех людей, с которыми в свое время не пошел Михей, прельстившись Алданом. Встречи с ними казались бы ему бесовской насмешкой, не пошли Господь Арину. Память о временах, проведенных с ней, грела душу, она же мучила повседневной тоской. «Ждет, что вернусь к осени», — думал с душевной болью, удаляясь от жены все дальше и ради нее тоже. Понимал, что никому из его удачливых товарищей не довелось пережить такого счастья, какое пережил он. Этим утешалась зависть к ним, но не душа.
Бок о бок с Федькой Чукичевым к реке вышли его сослуживцы: Иван Ерастов по прозвищу Велкой и Прокопий Краснояр. Как и Федька, они были одеты в дорогие меха. Третий, со знакомым лицом, выглядел проще. Где-то на Куте или в Илимском Стадухин видел его среди людей Головина, наверстанных в Тобольске.
— Откуль плывем? — задрав нос, спросил Федька еще не приставших к берегу казаков.
— С верховий!
— А туда каким хреном?
— Конями с Алдана через Оймякон.
— С Охоты и с Ламы! — добавил Андрей Горелый, с любопытством разглядывая наряженных в меха казаков. — Слыхали?
Федька с Прокопом переглянулись, заблестели глаза на вычерненных солнцем лицах, которые, казалось, ничем нельзя удивить.
— Ивашка Москвитин оттуда вернулся, — пояснил мало знакомый Михею служилый и добавил: — Я говорил!
Коч причалили к берегу, с него сошли все прибывшие.
— И куда? — не отставал с расспросами Чукичев. — Мы перемены не ждем.
— Напоили бы, накормили, после расспрашивали! — с напускной важностью ответил Стадухин. — Сами-то куда собрались? — указал на потрепанный коч. — Или пришли откуда?
— Вчера только с Алазеи от Зыряна, — ответил Федька, пропустив мимо ушей предложение накормить. — Кабы не вы, ушли бы к Лене… Я с Прокопкой и еще двое, везем ясачную казну.
В тундре гром и молния в диковинку. Однако Стадухину показалось, что над ним так громыхнуло, что дрогнули колени. Он перекрестился, усилием расправил перекошенное лицо, попросил:
— Задержитесь, расскажите, где были, а я скажу о своем.
Рыба и утятина: печеная, вареная, вяленая, тухловатый душок юколы, саламата из привезенной сменщиками муки — по понятиям отдаленных зимовий, здешние насельники пировали с прибытием смены и окладов. Потекли неторопливые рассказы людей Стадухина о голодном и холодном Оймяконе, о сытой реке Охоте, где рыбу ловить не надо, сама на берег лезет. Для себя они узнали, что смененный на Яне сыном боярским Василием Власьевым казак Елисей Буза сплыл в Янский залив и нынешним летом собирался вернуться морем на Лену. Он добыл тысячу и сотню соболей для одной только казны да двести восемьдесят собольих спинок, заимел четыре собольих шубы, девять собольих кафтанов. Будь Буза пронырлив, вроде Парфена Ходырева, с таким богатством мог бы в Москве поверстаться в придворный чин.
В прошлом году с Лены на Индигирку посылали пятидесятника Федора Чурочку, с которым Михей Стадухин служил в Енисейском гарнизоне. Под его началом шли три коча промышленных и торговых людей. За Святым Носом, что тянется в море между Яной и Индигиркой, буря выбросила его суда на камни. Люди пошли на Индигирку пешком и погибли. Спасся только один промышленный. Михей смахнул с головы шапку, перекрестился. Он рвался в этот поход, ругал судьбу и ангела, а вышло, что в одно и то же время Бог миловал Бузу богатой добычей, Митьку Зыряна — новой рекой, его, Стадухина, удерживал, а Чурку со спутниками призывал через погибель. В прошлом Митька Зырян со служилыми и промышленными людьми сплыл сюда с аманатами с Верхнего Индигирского зимовья. Но объясаченные им юкагиры бежали еще дальше, на реку Алазею. Зимой его казаки и промышленные построили из плавника два струга. Едва потеплело и разнесло льды, зыряновский отряд из девяти служилых и шести промышленных отправился искать бежавших ясачников на неведомой реке.
Их суда вышли из Индигирского устья в море, с попутным ветром за сутки добрались до устья Алазеи, шесть дней поднимались в верховья до кочевий юкагирского тойона Ноочичана. С тем князцом пришлось воевать. Ему на помощь приходили чукчи: народ сильный, воинственный, многочисленный. В боях с ними все митькины люди были переранены, уже теряя надежду отбиться, им удалось застрелить упрямого тойона Ноочичана. Его люди не покорились казакам, но поспешно ушли дальше, бросив раненым одного из своих знатных мужиков. Отряд Зыряна добрался до мест, где сходились тайга и тундра, поставил укрепленное зимовье с острожком. Зимой на собачьей упряжке к ним приехал главный алазейский шаман, стал ругать, что живут на его земле и требуют ясак. Исхитряясь, служилые поймали его и приковали к стенке зимовья. Юкагиры несколько раз подступали к острожку, пытаясь освободить шамана, потом смирились и дали ясак — семь сороков соболей добрых.
Той зимой к ним опять приезжали чукчи на оленях. Поймать кого-нибудь в аманаты перераненым людям Зыряна было не по силам, но поговорить удалось. Зимовейщики узнали, что чукчи живут в тундре промеж рек Алазеи и Колымы, что с Алазеи на Колыму на оленях три дня хода. Про русских служилых и промышленных людей они не слышали и не понимали, почему должны давать царю ясак. Да и взять-то с них было нечего — соболей в тундре нет.
— Значит, Колыма! — свесил голову Стадухин. — А сколько до нее идти морем — никто не знает. — Помолчав, встрепенулся: — Это хорошо! И когда собирается туда Зырян? — Рассеянно оглядел его людей.
— Мы из зимовья уходили — коч смолил! — Казак Ерастов-Велкой, икая, разглядывал котел с остатками выстывшей саламаты. — Должен ждать меня с мукой на устье Алазеи. Людей у нас мало, аманатов много.
— Ну и ладно! — Михей обернулся к своим казакам, внимательно слушавшим алазейских служилых. — Андрейка! Ты ранен, — обратился к Горелому. — Бери-ка Гришку Простоквашу, Семейку Дежнева, всю нашу казну и плыви с Федькой в Ленский. Зачем казенных соболишек вести на неведомую реку в другую сторону?
— Мне-то в Ленском что надо? — Дежнев побагровел и бросил на атамана пронзительный взгляд. — На правеж за кабалу? С голым задом в работники к тестю-якуту?
— Под бок к жене! — засмеялись казаки. — С Простоквашей уходил от Зыряна, с ним от нас вернешься! Вдруг воевода наградит!
— Ага! Батогами!.. — Семен заводил выстывшими глазами и резко вскрикнул: — Нет! Пока не добуду богатства — на Лену не вернусь!
— Какой от тебя прок? Кашу варить, так не из чего, — съязвил Стадухин.
— Не поеду! — резче вскрикнул Семейка. — Лучше здесь останусь. Сгожусь при малолюдстве.
— Сгодится! — согласился Ерастов со сдержанной радостью. — На Алазее каждому промышленному рады… Заодно и я с вами туда уплыву, покажу короткий путь протокой.
— И то правда! — согласился Михей и обернулся к Дежневу: — Ты с Митькой служил, как-то ладил с ним, не то, что я.
— Да с ним служить легче, чем с тобой! — успокаиваясь, огрызнулся Семейка.
Пособный ветер отогнал льды от устья Индигирки. Дорожа каждым часом, оба коча стали готовиться к морскому плаванию. Стадухин скрипел пером, отписывая челобитную ленским воеводам. Закончив, перечитал вслух, при свидетелях и очевидцах опечатал казенные меха. Горелый потребовал Чуну, чтобы отвезти воеводам, Михей отказался выдать аманата, заявив, что тот нужен ему как толмач.
Алазейский казак Ерастов загрузил на стадухинский коч мешки с мукой, привязал к корме стружок, на котором собирался возвращаться. Одиннадцать казаков, Пантелей Пенда и Чуна взошли на борт, шестами и веслами вытолкали судно на глубину. Ветер рябил воду устья реки, коч схватил его кожаным парусом, поплыл в полночную сторону. За ним пошел зыряновский коч с Федькой Чукичевым, Андреем Горелым, Гришкой Фофановым-Простоквашей, со стадухинской и зыряновской казной, с челобитными от атаманов.
Вскоре суда разошлись. Чукичев направился основным руслом, Стадухин — указанной Ерастовым проходной протокой — к восходу. Гребцы налегали на весла, за кормой, натягивая веревку, болтался и задирал нос пустой стружек. У края высокого синего неба сияло солнце, сливаясь с ослепительно синей водой. Вдоль бортов тянулась болотистая, кочковатая тундра с сотнями малых озер, они были темны от птиц. Где-то беспрестанно кричали журавли. Стаи уток и гусей поднимались с протоки, с вопрошающими кликами носились над мачтой, снова садились на воду впереди судна. Мишка Коновал и Ромка Немчин стреляли по ним из луков, стараясь бить точно по курсу. Затем, свесившись с бортов, подбирали добычу. Стадухин приглушенно ругал их, не желая останавливаться ради упущенных подранков и потерянных стрел.
Казалось, совсем недавно наступило лето, были пройдены студеные буруны верховьев Оймякона. Но вот уже местами по-осеннему желтели равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, все сильней раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и безоблачное небо над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с полуночной — колыхалась яркая синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в дымке виднелись горы.
Стадухинскому кочу повезло: дул юго-запад, попутный для плывших на Алазею и противный для возвращавшихся на Лену. При том устойчивом ветре судно шло полные сутки. Солнце присело над тундрой, но светлый день без признаков сумерек продолжался до его нового восхода. Около ясной полуночи Пашка Левонтьев, с обнаженной покрасневшей от солнца лысиной, сидел под мачтой на лавке-бети, молча перелистывал Библию, что-то выискивая глазами. На корме стоял Пантелей Пенда, его белая борода флагом указывала восток. Михей с шестом в руках измерял глубины: шли в изрядном отдалении от берега, но под днищем была опасная мель.
— Вот оно! — торжествующе изрек Пашка, потрясая перстом. — Не дал Чуну Андрейке Горелому, оставил как равного а во Второзаконии сказано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь все ниже и ниже». Говорилось это для атамана, но так, чтобы слышали все. Стадухин не оборачивался, занятый важным делом: положив шест поперек судна, что-то долго высматривал по курсу, потом также громко ответил:
— Чуна — ясырь, а не пришелец! — Махнул рукой, подзывая к себе казака.
Пашка закрыл книгу, положил на беть, не спеша подошел к нему.
— Гляди-ка, что там, если еще не испортил глаз чтением? — И тут же окликнул Ерастова. Все трое уставились вдаль. — Похоже, коч и две лодчонки…
— Митька! — радостно вскрикнул зыряновский казак. — Ждет меня с мукой.
Стадухин указал направление. Пенда окликнул дремавших казаков, они потянули возжи *(тросы, с помощью которых управляли прямым парусом) Скрипнула мачта, слегка накренилось судно и послушно пошло куда смотрел атаман. Мореходы не ошиблись: в заливе стоял на якоре коч Дмитрия Зыряна, его люди ловили рыбу. На веревках, натянутых от мачты во все стороны, качалась распластанная юкола.
— Собирается в поход, запасается кормами! — разглядывая судно, язвительно проворчал Михей.
Вдали от алазейского коча сновали две легкие лодки, с бортов торчали удилища. Смурная тень скользнула по лицу Стадухина: издали он узнал Ивана Беляну и Селивана Харитонова из отряда Постника Губаря. Те тоже узнали его, помахали в ответ на приветствие. Самого Зыряна не было видно. Семейка Мотора в лодке поднял руку ко лбу, присмотрелся. Они с Михеем хорошо знали друг друга по Енисейскому гарнизону.
— Где Митька? — издали крикнул ему Стадухин, приложив ладони к бороде.
Беляна что-то жевал, его неухоженная борода с блесками чешуи равномерно шевелилась. Он покосился на корму, показал знаком: спит!
— Так разбуди, я муку привез.
Беляна смутился, торопливо дожевывая и опасливо зыркая в одно и то же место.
— Не велел! — ответил негромко и бросил за борт рыбий хвост.
— Зажрался? — обернулся к Ерастову Стадухин. — Хлеб ему не нужен? — Обидчиво заерепенился. — Раз не хочет встретить по добру — таскайте мешки со струга. Не буду приставать к борту!.. Демидыч, становись на якорь.
— Вы что там? — возмущенно закричал Ерастов своим казакам. — Мухоморов нажрались?
Но Зырян не показывался, а Стадухин не соглашался приткнуться к его борту, чтобы перегрузить муку. Поругивая атаманские склоки, казаки помогли алазейцу перекинуть пятипудовые мешки в струг.
— Друг твой, Митька, прячется от меня, — Стадухин обернулся к Дежневу с раздосадованным лицом. — Ты с ним как-то ладил, а у меня в общих службах что ни день, то драка.
— Ладил! — похвалился Семейка. — Он сильно поперечный.
— Помню! — выругался Михей. — Что ни скажешь, сделает наперекор — даже если себе самому во вред.
— Разом вспыхивает, зато и остывает быстро, — добродушно усмехнулся Семейка. — Если с умом — с ним всегда можно договориться: давай совет наоборот, сделает как надо!
Стадухин неприязненно фыркнул:
— Я бы еще перед ним хвостом не мел! Вот и плыви, калека, растолкуй, как умеешь, что при нашем-то с ним малолюдстве лучше бы не ходить поодиночке в неведомые земли к сильным народам, а быть заодно. — Наклонился за борт к Ерастову, раскладывавшему мешки в струге: — Возьми Семейку, поможет выгрести!
— Послал бы двоих! — Казак вскинул на атамана потное, злое лицо.
— Ромка! — Михей окликнул Немчина, — сходи с Семейкой. — И спохватился: — Нет! Нашу ветку возьми, а то Митька обратно не пустит, пока силой не вызволю! — Снова выругался. — Как же, алазейский хозяин, вынуждает идти на поклон!
Стадухинское судно встало на свой якорь. Струг с хлебом и болтавшейся берестянкой обошел коч, обвешанный юколой, затем Дежнев и Немчин показались на нем среди алазейцев.
— Надо бы и нам запастись кормами, — пробормотал Стадухин. — Митька знает, что делает.
Другой лодки на коче не было. Служилые стали удить рыбу с бортов. Вскоре Семейка Дежнев один сел в берестянку, перекидывая весло с борта на борт, стал возвращался. Причалил к борту, придерживаясь за него, встал в рост на шаткой лодчонке.
— Почти уговорил Митьку! — Смешливо взглянул на атамана. На красном иссеченном ветрами лице его глаза казались белыми и бездонными. — Ни слышать про нас не хотел, ни знать. Говорил, Алазея и Колыма — его реки, потому что первый услышал про них. Я ему пригрозил: снимемся, говорю, с якоря, уйдем вперед — и твоя река станет нашей!
— Правильно сказал! — похвалил земляка Михей. — А что Немчин? В аманатах или винцом угощается?
— Откуда у них вино? Уговаривает… Все согласны с нами, но боятся спорить с Митькой, а он бахвалится. Велел передать — только с тобой будет говорить, если сам придешь!
— Так и знал! — Михей мотнул головой с заледеневшими глазами, приосанился. — Не может жить мирно, хоть убей зловредного!
— Ерепенитесь, как юнцы, — хмурясь, укорил Пантелей.
Михей постоял, глядя на чужой коч и разъяренно шевеля рыжими усами.
— Можно и съездить, коли зовет, — согласился, пнул что-то подвернувшееся под ногу.
— А еще говорил, чтобы мы оставили ему двух служилых аманатов караулить, — добавил Семейка.
— Дулю ему на гладкое пермяцкое рыло! — рыкнул Стадухин. — Вылезай давай! — поторопил земляка.
Семейка, морщась, неловко перекинул ногу с берестянки на коч.
— Не дразни его редкой бородой! — посоветовал. — Не любит! И не грози — упрется!
— На ветке не поплыву! — вдруг передумал Стадухин. — Под борт к Зыряну встанем! Командуй, Демидыч! — приказал Пантелею Пенде.
Старый промышленный, раздраженно покряхтев, велел поднять якорь и на веслах подвел коч к другому судну. Снова бросили якорь, стравили трос из конского волоса и приткнулись к борту. Казаки ворчали — таскали мешки с мукой ради бахвальства атаманов. Два судна мягко сошлись и счалились. Знакомые и земляки стали перескакивать друг к другу. Селиван Харитонов с Иваном Беляной весело скалились, глядя на Стадухина. Мотора подогнал к борту лодку со свежим уловом и влез на коч. Старые сослуживцы не виделись несколько лет. Дальняя служба не переменила его, Семейка Мотора выглядел таким же тихим и покладистым, чему способствовали маленький скошенный подбородок и верхняя губа, грибком нависавшая над ним. Негустая борода не скрывала их и придавала казаку добродушный вид.
Стадухин, не приметив в людях Зыряна большого зла и укоров из-за лишних трудов с перетаскиванием муки, слегка подобрел, добросердечней поприветствовал ленских казаков, оценивающим взглядом окинул их коч. В простой замшевой рубахе и нерпичьих штанах, заправленных в чирки, Зырян сидел на корме под рулевым веслом и с важностью кремлевского служки буравил Стадухина пристальным взглядом. Михей усмехнулся, приосанился, крикнул с напускным весельем:
— Встречай дорогого гостя! — Сбил шапку на ухо, поправил саблю и перескочил на другой борт. — Добрые у тебя ноги, — потрепал пеньковую растяжку мачты. — Будто новые. Где взял? Ты ведь пятый год в дальних службах.
— У меня и якорь железный! — прихвастнул Зырян, напряженно разглядывая Стадухина водянистыми глазами. Ветер трепал три тощих и длинных пряди бороды, свисавших со щек и подбородка.
— И где же добыл такое богатство? — не унимался Михей, разглядывая новые снасти.
— На Индигирке у промышленных должились.
— Федька в Олюбленском про промышленных не говорил. Чьи были?
— Прошлой весной на Индигирку пришла ватажка Афонии Андреева.
— Гусельниковские покрученники, что ли?
— Они! — круче задирая нос, неохотно отвечал Зырян.
— Вот ведь! — рыкнул Стадухин. — Успевают, как вороны на падаль. Мишка Стахеев ушел из Илимского немного раньше меня, а его люди уже здесь. Вдруг придем на Колыму, а они там! Что делать будем, а? Как славу делить? — наконец-то оставил окольные пустопорожние разговоры и заговорил о главном.
Обветренное лицо Зыряна покрылось бурыми пятнами. Он резко ответил, дергая себя за метелку бороды:
— Десятину возьмем! А если они ясак на себя брали — пограбим!
— Дело говоришь! — согласился Михей, радуясь, что какой-никакой разговор получается.
— Нынешним летом Афонька пошел вверх по Алазее в тайгу для промыслов, — продолжал десятник, все так же подергивая себя за бороду. — Но кто их, промышленных, знает…
Всем своим обликом и словами он показывал неприязнь к Стадухину, но по его ответам Михей понимал, что согласен на сговор, только хочет настоять на чем-то своем. И давний соперник, прищурясь, заговорил:
— Пойти-то можно и вместе, только кто будет главным? У тебя наказная память от нового воеводы, у меня от Галкина и Ходырева. Ты из первых на Лене, а я здесь, — распаляя себя, переходил на крик. — Это мои юкагиры бежали на Колыму, кому из нас брать с них ясак?
— Тебе, раз аманаты у тебя! — перебил его Стадухин, не дав раскричаться до визга. — От нападений отбиваемся вместе. Но кого я зааманачу, с того сам буду брать.
— Не бывает так, чтобы между двумя отрядами не было споров, — с усилием остудив себя, процедил Зырян. — Ладно! Уговор при всех моих и твоих людях: ты сам по себе, я — сам, а при нужде друг другу помогать. Только у меня на Алазее людей мало. Афоня отказался сесть в зимовье на краю леса, дальше пошел. Вдруг вернутся беглые юкагиры или чукчи придут? Аманатов отобьют, Велкоя с Селиванкой за ятра повесят на нашем тыне, — кивком указал на казаков Ерастова и Харитонова которые, должны были вернуться в Алазейское зимовье.
— Сам думай, как вам быть, а то ведь я могу и один уйти на Колыму, — с усмешкой пригрозил Стадухин и мягче добавил: — Хотя вместе надежней.
— Оставь двоих и пойдем! — Предложил Зырян и с напряженной неподвижностью в глазах и так дернул себя за бороду, что оттянулась нижняя губа, оскалив зубы.
Помолчав для пущей важности, Стадухин сказал:
— Бери Семейку Дежнева. Если Федька согласится — могу и его оставить. Больше никого не дам! — Отыскав глазами Катаева, спросил: — Пойдешь, коли хорошо попросят?
— Нет! — замотал головой казак и почесал промежность. Люди с двух судов приглушенно хохотнули.
— Ромка? Останешься?
Немчин неопределенно пожал плечами, не возражая против предложения.
— Там промыслы добрые, соболь хороший! — стал прельщать Селиван. — В укрепленном зимовье впятером от сотни отобьемся. И Афоня поможет, если что.
Ромка молчал. Те и другие решили, что он согласился остаться на Алазее. На том два атамана сошлись, хотя понимали, что распрям между ними быть, а уговориться обо всем, что может случиться в пути, — невозможно.
Еще один светлый и долгий северный день два счаленных коча простояли рядом. Семейка Дежнев распрощался со стадухинскими казаками, с Пендой и Чуной, простив обиды, обнял земляка-атамана и уплыл на зыряновской лодке в Алазейское зимовье. Немчин же в последний миг заартачился и отказался. Зырян не стал спорить против уговора, но метнул на Стадухина такой взгляд, что тот сжал зубы и пробормотал:
— Начинается!
Ветер по-прежнему дул на восход, но небо покрылось низкой рваниной туч, стали простреливать короткие и хлесткие дожди. Люди Дмитрия Зыряна спрятали в мешки сушившуюся юколу, молча сбросили с борта швартовы попутчиков и подняли якорь. О выходе не договаривались. В это время стадухинские казаки выбирали неводные сети.
— Как всегда! — обругал десятника Стадухин. — Митька по-другому не может.
Как только сети и берестянка оказались на его коче, казаки стали выгребать на безопасные глубины. Невозмутимый Пантелей Пенда взялся за руль, не доверяя никому шест, атаман сам щупал дно, гребцы, наваливаясь на весла, пели молебен Николе Чудотворцу. Молитва была услышана: сквозь зарозовевшие тучи на воду упал желтый луч солнца. Атаман перестал ругаться, лица гребцов потеплели, Чуна вытянул руки и запел протяжную песню. Пока выгребали на безопасное расстояние от мелей, коч Зыряна убежал на полторы версты. Но вот и Пенда велел поднять парус, он вздулся, брызги от волн стали захлестывать нос судна. Вдали от невысокого пустынного берега с крапом озер и проток оба коча шли сутки и другие. По правому борту виднелась желтеющая тундра, по левому — плавучие льдины и далекие горы с белыми вершинами, долинами, закрытыми туманом.
— Туда не ходил? — Обернувшись к Пантелею, атаман указал рукой на горы.
— Нет! — коротко ответил старый промышленный, бросив мимолетный взгляд за льды. — А хотелось! — Помолчав, разговорился: — Иногда разводья бывают такими широкими, что льда не видно. Можно дойти! Но при перемене ветра в любой день, может зажать, как плашками, и не выпустить несколько лет сряду. А что там: какая еда, есть ли дрова? Того никто не знает — одни слухи.
— Какие слухи? — полюбопытствовал Стадухин, но Пантелей, вглядываясь в даль, не ответил.
Суда сближались, потом стали обгонять друг друга, обходя плавучие льды и мели, которые вынуждали держаться дальше от суши. Озер на берегу виделось множество, но ничего похожего на устье реки высмотреть не удавалось. Суша круто поворачивала на полдень. Дул все тот же устойчивый ветер с запада. По разумному решению надо было идти в виду берега на веслах, но коч Зыряна пошел на восход в открытое море.
— Судьбу пытает, дурья башка! — выругал соперника Стадухин и с тоской в лице взглянул на Пенду: — Неужели отстанем?
— Куда? — невозмутимо спросил тот и усмехнулся в белые усы: — К водяному дедушке?
— Что делать?
— Приспустить парус. Станет пропадать земля — грести к ней!
С печальным видом и затравленными глазами Стадухин велел казакам слушаться кормщика и сел за загребное весло.
— Камлай хоть, что ли? — окликнул дремавшего Чуну. — Проси у дедушки пособного ветра!
Между тем зыряновский коч превратился в точку и пропал из виду. При боковом ветре и пологой волне стадухинские казаки сутки шли на гребях. Узкой полосой темнел вдали едва различимый берег. Вскоре он снова повернул к востоку. С судна стали примечать устья речек, падавших в море, заливы, но из-за мелей не могли войти в них, чтобы пополнить запас пресной воды и рыбы.
Юкола кончилась, бочки были перевернуты вверх дном. Аманат лежал, глядя в небо, Пантелей жевал невыделанную сыромятую кожу, казаки с укором поглядывали на атамана, не давшего запастись рыбой на Алазее. Зыряновского коча не было видно, а он велел идти вдали от суши, убеждая озлившихся от голода людей терпеть, при том громко расспрашивал Чуну про реку, о которой ламут слышал от своих стариков и называл ее Погычей. Чуна упорно повторял, что та река шире Индигирки.
— А это что? — указал Стадухин на очередной видимый залив. — Ручей! Ближе чем на полверсты не подойти.
Щеки его ввалились, губы истончали, глаза на изможденном лице горели и беспокойно бегали. Он чувствовал, что на судне зреет бунт. Уныло розовели стыки туч, крутые, резкие волны мелководья монотонно хлестали в борт, обдавали брызгами и раскачивали судно.
Мишка Коновал сорвался первым, сплюнул кровью на ладонь и заорал, кривя распоротый рот:
— Уморить хочешь, соперничая с Митькой?
Обернувшись к смутьяну, Михей хотел обругать его, но за спиной казака встали Артюшка Шестаков, Сергейка Артемьев, Бориска Прокопьев — те, ради кого он брал на себя другую кабалу. Пашка Левонтьев и тот смотрел с осуждением, двумя руками прижимая к животу суму с Библией. Поймав скользящий взгляд атамана, многоумно изрек:
— Сказано Господом: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покаялся, прости ему».
И он укорял, хоть не показывал явной неприязни. Другие, казалось, уже готовы были схватиться за ножи. Стадухин, с изумлением разглядывая лица спутников, обернулся к другому борту. Рассудительный и немногословный Втор Гаврилов отвернулся, Ромка Немчин стыдливо потупился, показывая, что заодно со всеми. Пантелей Пенда равнодушно шевелил бородой, перемалывая зубами кожу. И только, когда рука атамана потянулась к темляку, он окинул бунтарей взглядом глубоких глаз, выплюнул за борт жвачку и внятно произнес:
— Подведу сколько смогу к суше. Спускайте ветку, плывите за водой. Только коч на месте не удержать: его выкинет на мель и будет бить волнами, пока не замоет бесследно. Это я знаю! А на той суше, — указал на берег, — дай Бог каждому по сухой кочке, чтобы, сидя на ней, помереть от стужи и голода, а не утонуть в болотине. А если перетерпим день-другой — дойдем до реки!
Вдруг всем стало очевидно, что на пустынном берегу, где невесть чего больше — воды или суши, их ждет верная смерть. Потеплели взгляды, опустились плечи, громко засопев носом, с виноватой улыбкой сел за весло Мишка Коновал. Федька Катаев вытягивал губы, облизывая их сухим языком.
Обессилев от голода и усталости, люди еще полдня гребли при полощущем парусе. Небо прояснялось, сквозь тучи пробивалось солнце. Из последних сил гребцы обошли торчавшие из воды камни и увидели ободранные волнами гладкие стволы деревьев, которые белой полосой тянулись по черте прибоя.
— Должно быть, устье реки! — торжествующе вскрикнул Стадухин. — Не так ли, Пантелей Демидыч?
— Похоже! — не выказывая радости, ответил кормщик.
Глубина позволила приблизиться к берегу и подойти к губе, откуда был вынесен плавник. Желтое, мутное, растекшееся по небу солнце снова закрылось тучами, стал накапывать дождь. Коч вошел в губу, илистую, извилистую и мелководную. Она была забита свежим и гниющим плавником. Над судном носились чайки, мерзко орали и пачкали гребцов пометом. Здесь, в безопасности, усталость придавила путников пуще прежнего, но чувство безнадежности переменилось тихой, выстраданной радостью: тут можно было укрыться от ветров, а вода под днищем кишела рыбой. Левый берег со множеством черных торфяных болот был все той же низинной тундрой, тянувшейся от самой Индигирки. Правый — выше и суше, с редкими мелкими скрученными ветрами лиственницами. Гребцы подогнали коч к устью небольшой речки, где береговой обрыв переходил в невысокие тундровые холмы. Свесившись за борт, Коновал зачерпнул пригоршней воду, пробовал на вкус. Речка не походила на многоводную Колыму, но сулила отдых, питье и еду. Оставалось только найти место с сухим крепким берегом, чтобы пристать и высадиться.
Коч вошел в протоку, окруженную ивами. Здесь было тихо: зеркальная гладь без морщинки, склонившиеся к воде кусты. Послышался звон ручья. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Тучи рассеялись, ярче заблестело солнце и над протокой изогнулась радуга. На усталых лицах гребцов появилось восторженное ожидание чуда.
— Это знак! — изрек Пашка Левонтьев, скинул шапку и задрал перст к небу.
Снизившаяся чайка дриснула на его голое темя. Гребцы устало загоготали.
— И это знак! — ничуть не смутился Пашка, вытирая лысину рукавом. — А красота-то прямо как на Руси.
Вода протоки сверкала под очистившимся солнцем, в ней отражались влажные ивы. Заскрежетав кустарником, трущимся о борта, коч приткнулся к суше. С озер донеслись тревожные крики уток. Добыть дичь здесь было не трудно, но о ней не думали. Стадухин подхватил пищаль, первым ступил на землю, склонился над ручьем, успел выпить несколько пригоршней, пока не сошли его спутники и припали к воде.
— Сладкая-то какая?! — задыхаясь, оторвался от замутившегося ручья Пашка и стал плескать на голову, уже изрядно облепленную комарами. Стадухин, отдышавшись, вытер бороду, пересек ручей, свернул в кустарник, поплыл над ним с пищалью на плече. Плотное облако комаров роилось возле его шапки. Вдруг он пропал, будто провалился, через некоторое время замычал и распрямился с зеленью в бороде.
— Идите сюда! — махнул рукой. — Много дикого лука. Сочный еще, в сыром месте.
Радуга поблекла и рассеялась. Небо с растекшимся по нему солнцем поднялось, стало безоблачным. Отмахиваясь от комаров, мореходы ползали на четвереньках по сырой поляне, пока не наелись лука. Поднялись с размазанным по лицу гнусом, вернулись к кочу. Двое казаков на берестянке завезли невод, другие потянули его и вытащили полную мотню рыбы. Здесь был и жирный голец, и чир, муксун, даже несколько нельм.
— Живем, братцы! — Мишка Коновал поглядывал на атамана с кривой виноватой полуулыбкой и выбрасывал из невода бьющуюся рыбу.
Неподалеку от него раздували костер.
— Так что ты говорил про брата? — с мстительной усмешкой Стадухин спросил Пашку, поровшего жирных гольцов.
Смахивая плечом комаров с лица и не поднимая глаз, тот заученно проговорил: — «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя».
Атаман хмыкнул в усы, скаредно проворчал:
— Грамотей! Ужо испекут черти язык твой на сковороде!
Сытые согревшиеся казаки ласково поглядывали на атамана, но виниться за обиды в пути стыдились. Стадухин с хмурым лицом велел вытянуть коч на сушу и бросить жребий на караулы. Пантелею Пенде выпало стоять первым. Изнуренные многодневной сыростью, люди сушились и наслаждались теплом. Спать укладывались тут же, возле огня. Лежа на теплой, прогретой земле, Михей закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному плеску, растекся духом по земле и воде. Злобы не было, души спутников томились тоской и раскаяньем. В округе тоже не чувствовалось ничего враждебного.
Проснулся атаман от оклика, приподнялся на локте. Старый промышленный указывал в сторону моря. Михей встал босыми ногами на меховое одеяло. Вода в реке была темной, осенней, тихой. В отдалении сипло тявкал песец, над станом с шумом пролетела какая-то птица. Океан был рядом, светилась его полоска за устьем губы, там чернела точка и как неуклюжий клещ шевелила лапками весел. Похоже, сюда же шел коч Дмитрия Зыряна.
Михей подбросил дров на угли, сверху накидал зеленых веток ивняка, вскарабкался на груду выброшенных рекой деревьев. От разгоравшегося костра густыми клубами повалил дым. С коча заметили сигнал, выстрелили из пищали. Судно долго боролось с отливом, но шестами и веслами его подогнали к стану. Голодные продрогшие люди бросились к костру.
— Какая рыба? — жалостливо всхлипнул Мотора на вопрос об остатках припаса. — Хотели войти в речку, только милостью Божьей да по молитвам снялись с мели.
Теплый ночлег и обильная еда помирили даже атаманов. Караульные поделили время надвое. Все стали отсыпаться и отъедаться. Стадухин каждый день ходил к морю, высматривая дальнейший путь. Сделав запас кормов, атаманы со старыми казаками отправились в устье губы вместе: дул встречный ветер, сквозь тучи мутно светило солнце, путь на восток был забит льдом. Обточенные волнами лепешки с нудным скрежетом терлись друг о друга, подступая к самой губе.
— Прогневили Господа! — чертыхнулся Зырян. Он входил в свое обыденное озлобление от того, что время шло, а они стояли на месте. — Хоть поворачивай вспять!
— А вдруг опять переменится ветер? — все еще выискивая глазами проходные разводья, пробормотал Михей.
— Подь ты со своей Колымой! — выругался Зырян, бросив взгляд за стадухинское плечо на Семена Мотору. — Пойдем в верховья, там лес, вдруг чего сыщем.
— Иди! — не оборачиваясь, пробубнил Михей с озабоченным лицом. — Бог — судья! А я подожду. В десять стволов и сабель большой народ под государеву руку не подвести, зато могу открыть новую реку. — Подумав, окликнул Мотору: — Семейка! Мы с тобой на Витим ходили, на Алдане воевали, может, останешься?
Старый ленский казак взглянул на Михея с пустой, натянутой улыбкой, потом на льды, почмокал нависшей губой с редкими усами и отмолчался. Стрелец Беляна с окаменевшим лицом повернулся к нему спиной.
До Семенова дня оставалось две недели, уже чувствовалось приближение недолгой северной осени, которая быстро переходит в зиму: ярче желтела тундра, сбивалась в стаи, вставала на крыло перелинявшая водоплавающая птица, кружили журавли, выпал и растаял снег. Снегопад не был в диковинку даже в июле, но если Стадухин еще надеялся добраться до Колымы, то добрая половина его отряда думала иначе. Казаки торопились найти места, богатые соболем, груды плавника по берегам были порукой, что в верховьях есть лес. Где лес — там соболь. В тундре водились только песцы, шкуры которых скупались торговыми людьми за бесценок.
Снова чувствуя на себе недобрые вопрошающие взгляды спутников, атаман объявил:
— Будем строить зимовье из плавника, не нам, так другим сгодится, и будут благодарить нас перед Господом, а Он наградит. Вдруг сами вернемся, если не дойдем до Колымы.
Казаки согласились, что зимовье в этом месте никому не повредит, и им тоже. Сообща выбрали сухую возвышенность и заложили избу. Она была поставлена и обнесена частоколом за неделю. Ветер не менялся, льды не разносило. В середине второй седмицы, когда взялись устраивать лабаз и баню, к зимовью на плоту приплыли Мотора с Беляной.
— Здесь Колыма, братцы! — закричали, не успев перевести дух. — Поширше Индигирки, поуже Лены. А эта — одна из проток ее дельты.
Сидя в избе возле очага, посыльные рассказали, что когда тянули бечевой коч, из тундры выскочили мужики, похожие на чукчей: в костяных и деревянных латах, с тяжелыми луками. Зырян с Моторой дали залп картечью, пятерых сбили с ног, но не убили. Казаки и промышленные не приметили в напавших страха от грохота и дыма. И уходили они, явно заманивая за собой в болота. Готовые ко всяким хитростям, люди Зыряна преследовать их не стали, но дошли до самой реки с устьем полноводного притока по правому берегу. Зырян отправил в его верховья ертаулов. Они вернулись, выбитые немирными мужиками, сказали, что, наткнувшись на селение, видели юрты, крытые мхом и кожами, вроде якутских, много собак и оленей. Какие народы живут, не узнали, но заметили на краю селения избу с бойницами, вроде нашего зимовья. Зырян со слов ертаулов понял, что своими силами селение под государя не подвести, послал казаков к Стадухину за обещанной помощью, велел сказать, что Колыма-река здесь, дальше плыть не надо. Весть эта была принята с радостью, потому что по берегам протоки появились забереги, мели стали покрываться льдом. Уже и сам беспокойный атаман, поглядывая в устье губы, тоскливо помалкивал. А то, что до холодов поставили зимовье с частоколом, было удачей.
— Не откажем в помощи, братцы? — повеселев, обратился к спутникам Стадухин. — Вдруг и сами чего добудем!
Казаки решили оставить в зимовье Пантелея Пенду и Втора Гаврилова, а Чуну взять толмачом. Бежать ламуту было некуда, в аманатах у казаков жить лучше, чем в рабах у колымских мужиков. На ламута давно не надевали колодок и относились как к равному, а он уже изрядно говорил по-русски. Отряд из десятка казаков отправился в верховья реки пешком по проложенному бечевнику и в три дня добрался до зыряновского стана. За время, которое здесь ждали подмоги, появилось подозрение, что беглых алазейцев приютило то самое селение колымских людей. Казачий десятник держал при себе одного из индигирских аманатов, оставленных сородичами. Тот не меньше казаков возмущался, что брошен родственниками, и надеялся отыскать их здесь.
Соединившись, два отряда двинулись вверх по восточному притоку. Устье его было равнинным, покрытым редким низкорослым лиственничным лесом, вдали синели горы. С каждой пройденной верстой обрывистые берега становились все выше, с них свисали к воде подмытые течением, падающие деревья в три сажени и больше. Если бы Зырян решил тянуть за собой коч или струги, бурлакам пришлось бы туго, но люди шли налегке. Отряд был замечен на подходе к селению, встречен парой нестройных ружейных выстрелов и градом стрел из бойниц крепости.
— Вот те раз! — выругался Зырян. Скрываясь за деревьями, подбежал к Стадухину, разъяренно вскрикнул: — При ружьях! — Михей пытливо взглянул на него, по лицу понял, что тот тоже обеспокоен тем, что они здесь не первые из русских людей. — Наверное, какую-то промысловую ватажку пограбили! — пронзительно взвыл десятник. — Мой аманат не ошибся, воочию узнал беглых родственников. — Скрипнув зубами, усилием сдерживая гнев, вскинул на Михея приуженные глаза: — Как брать будем?
— С налета умоют кровью! — поцокал языком Стадухин. — Придется защиту рубить.
В два десятка топоров казаки и промышленные навалили реденькую засеку на краю перелеска, укрылись за ней. Из расщепленных лиственничных стволов сделали щит на полозьях. Наблюдая за их работой, из бойниц время от времени неумело постреливали из пищалей и прицельно пускали боевые стрелы. Уже вблизи крепости, когда стало ясно, что осажденным не удержаться, часть защитников бросилась в заросли берегового кустарника, другие вышли, показывая пальцами на язык. Зырян выскочил из-за щита и в запале стал хлестать двух мужиков батогом.
— Вон аж куда прибежали! — удивленно проворчал под ухом Стадухина Семен Мотора.
Приступ обошелся без большой крови и этим обе стороны были довольны. Беглые юкагиры дали соболей за прошлый год вдвое против прежнего. Зырян потребовал от них вместо брошенного аманата — тойона Шенкодью. С колымских мужиков казаки тоже взяли заложника. Посовещавшись между собой, колымцы выдали сына своего тойона и сотню соболей. На том распря была закончена. Клятв на верность государю и вечное холопство ни с тех, ни с других не брали.
Пока Зырян выспрашивал колымцев и беглых юкагиров, откуда у них ружья и как называется река, на которой стоит селение, Михей с двумя казаками пошел по юртам, брошенным детьми и стариками, поискать вещи и следы пропавшей промысловой ватаги. А пропадало их за Леной много. Жилье было бедным. Если какие-то семьи имели железные котлы, то женщины и старики прихватили их, как и все ценное. В двух юртах нашлись половики, сшитые из собольих спинок, казаки забрали их как погромную добычу. В третьей пришельцев приветливо встретила молодая женщина, в ней нетрудно было узнать рабыню. Язык у колымцев был свой, Чуна их не понимал. Мишка Коновал поманил женщину, она поняла его и увязалась за казаками, как прикормленная собачонка. Михей Стадухин тайком бросал взгляды на ее круглое узкоглазое лицо и с удивлением находил в нем сходство с Ариной.
«Бес прельщает!» — думал. Втайне раз и другой перекрестился. Но глаза сами по себе отыскивали женщину.
Возле последней юрты повизгивал медвежонок, привязанный к пню волосяной веревкой. Рядом с ним валялись иссохшие рыбьи хвосты. Петля натерла на шее зверя кровавую рану и причиняла ему боль. Стадухин подошел, наклонился, заглянул в маленькие затравленные глазки зверя, протянул руку. Медвежонок заурчал, словно жаловался, но не отпрянул, не укусил. Вспомнились Илим, Кута и Лена, медведь, крутившийся возле него с Ариной в самые счастливые ночи.
— Видать, на днях забьют! — буркнул Коновал. — А на кой? Здесь лосей много, да здоровущие!
— Нельзя есть тварь с когтями. Бог не велит! — с обычной важностью изрек Пашка Левонтьев и пригладил отросшую бороду.
— Будто не ел печеных лап? — неприязненно огрызнулся Коновал.
— Грешен! — не смутившись, ответил казак. — Но после каялся!
— И волосы подрезать в круг грех, и бороду равнять! — язвительно кривя губы, напомнил Коновал.
— Грех! — степенно согласился Пашка. — А Никола Угодник на иконах отчего такой? Тоже грешен?
Стадухин мысленно чертыхнулся неуместному спору. Пашка был хорошим казаком: работящим, нескандальным, нежадным. Презирая власть как величайший христианский грех, не пытался верховодить и перед начальствующими не гнулся, но был поперечен, как Зырян. Михей не помнил, чтобы его за это колотили, так как он ни на чем не настаивал, считая, что если высказал свое — нет на нем общего греха.
Не поднимая головы, Стадухин снял веревку с окровавленной шеи медвежонка и перевязал ее под лапы. Зверек будто понял человека и послушно пошел за ним.
А возле захваченной крепости казаки и промышленные затевали спор.
Издали слова их были неразборчивы, но по голосам можно было догадаться, что спорили из-за добычи. К Стадухину бросился Федька Катаев с подсыхавшей кровью на щеке.
— Митька как все поворачивает? — слезливо закричал без обычного кудахтанья. — Все добытое на погроме им, а нам кукиш? За что кровь проливали? — Болезненно сморщился, щупая рану.
— О чем спор? — раздувая ноздри, стал напирать на Зыряна Стадухин.
Медвежонок, почуяв недоброе, терся о его ногу.
— Алазейские юкагиры — наши? — закричал Митька, сверкая глазами.
— Уймись! — громко оборвал его Мишка Коновал. — Возле коча поспорим, не здесь!
Стадухин метнул на Зыряна злобный взгляд, шмыгнул носом и сипло спросил:
— Крепостицу жечь будем?
— Зачем жечь? — опять беспричинно раскричался Зырян, еще не остыв от спора. — Раскатаем по бревнам на плоты.
Казаки и промышленные разобрали укрепление, связали бревна, поплыли по Анюю с ясаком, аманатами, с погромной женкой Калибой и медвежонком. Колымские мужики не возмущались, что у них уводили рабыню и зверя: радовались, что не увели собак. А спор между стадухинскими и зыряновскими служилыми продолжался из-за анюйского аманата — кому под него брать ясак?
Плот Зыряна обошел остров в устье Анюя и беспрепятственно поплыл по Колыме, а плот со стадухинскими людьми попал в водоворот. Справа яр, вода глубока, шестами до дна не достать и не угрести, а весел не тесали. Стадухнцев пронесло мимо берега, завернуло и повлекло против основного течения реки к прежнему месту. Казаки плескали шестами и ничего не могли поделать, в то время как с Митькиного плота доносились дружный хохот и язвительные советы — хватать водяного за бороду.
Стадухин лег на живот, стал осматривать глубину. Вода была чиста и прозрачна. По песчаному дну ходили большие рыбины, другого не было видно. Пашка, задрав бороду, по памяти читал молебен Николе Чудотворцу, Мишка Коновал хлестал шестом по воде и матерно ругал водяного. Неизвестно что помогло, но плот, сделав три круга, сам по себе освободился и подошел к зыряновскому кочу. Оставленный на реке без охраны, он стоял среди зарослей ивняка, сбегавших по отмели. На одну из них были вытянуты плоты. Михей вышел на берег и отпустил медвежонка. Зверек не убегал от людей. Атаман огляделся.
Розовела вечерняя гладь воды, вдали синели горы. На противоположном берегу стоял лиственничный лес. К добру ли, к худу, на самой высокой верхушке сидел тундровый ворон величиной с гуся и пристально наблюдал за прибывшими.
— Там острог надо ставить! — сказал вдруг Стадухин, указывая на лес и ворона.
Казалось бы, ничего обидного не промолвил, но зыряновские казаки и промышленные загалдели. Вдали от инородцев Митька опять вспылил, дав волю обуревавшему его негодованию.
— Ты кто такой, чтобы указывать? — пронзительно закричал, надвигаясь на Стадухина левым плечом. — На кой ляд ставил зимовье на протоке?
Увидев здешние места в лучах закатного солнца, стадухинские казаки взглядами и вздохами мягко корили атамана за то, что обосновались не там, где надо.
— Просидели бы у костров, погоды ожидаючи, — оправдался он. — А мы избу срубили. Царь-государь за труды наградит и воеводы пожалуют…
— Пожалуют! Батогами в полтора аршина…
Мало того что свои люди беспричинно бередили душу, еще и Зырян сыпал соль на рану. Зима на носу, а его ватажка не имела крова над головой, только собиралась рубить зимовье. Вместо того чтобы просить помощи, соперник орал непотребное, самому непонятное.
— Вот и руби где знаешь! — выругался Стадухин, намекая, что будет зимовать у себя.
— Это мы еще поглядим, — с вызовом отбрехивался Митька, уже не за правду, а по вредности. — Мы с ясаком и аманатами пойдем дальше к лесу. Алазейские мужики говорили — на Колыме много всякого зверя!
— Иди-иди! — отбрехивался Стадухин, понимая, что бессмысленная брань — только предтеча главного спора. — Половину ясака с анюйцев и аманата от них оставь мне!
— Вот тебе! — вскрикнул Зырян, выставив дулю.
Стадухин саданул его кулаком в грудь. Митька отступил на шаг, замотал головой, с дурными глазами схватился за саблю, но выхватить из ножен не успел.
— На кулачках… Божий суд! — закричали служилые и промышленные двух ватажек, хватая его за руки. — До первой крови!
Атаманы побросали на землю оружие, стали кружить друг против друга, нанося удары по плечам и по груди, пока Зырян не плюнул кровью и не опустил руки. Покрутив языком во рту, вытащил зуб.
— Не бил по морде, — оправдываясь, вскрикнул Стадухин. — Сам язык прикусил.
— Зуб у тебя еще в море шатался! — насупленно пробубнил Мотора.
Драка между казаками была не первой. Митька не испугался, но как-то разом успокоился и шепеляво, с насмешкой сказал, обращаясь к своим промышленным:
— Бес ему правит! — И сплюнул еще раз, мирясь с поражением.
Ясак с беглых алазейских юкагиров за прошлый и нынешний годы он взял на себя. По новому уговору после кулачного поединка ясак с колымского рода два отряда делили поровну, и еще взятые на погроме три пищали, два собольих половика, ясырку и медвежонка. Сын колымского князца Порочи остался у Стадухина: Беляна с Моторой убедили Зыряна, что нового аманата лучше держать в зимовье, а не таскать за собой вместе с алазейским. О Калибе спора не было, Михей не ввязывался, хотя втайне желал, чтобы девка осталась в его зимовье. И когда Коновал спросил, согласен ли, что Зыряну достанутся две погромные пищали, а им одна и девка, Стадухин молча кивнул. Про медвежонка не вспомнили, и он вслух посочувствовал зверьку:
— Шел бы к родне!
Наблюдавший казачьи распри Чуна растянул в улыбке тонкие губы:
— Куда ему идти? Он должен зимовать с матерью, а ее убили. Строить медвежий дом его уже никто не научит. Для него же лучше — если убьют и съедят… Был медведем — станет человеком!
Осенние ночи из сумеречных превратились в темные. Утрами воздух был чист. Над тундрой еще звучал тревожный журавлиный крик. Со свистом рассекая воздух крыльями, неслись и неслись куда-то стаи птиц. На верхушках окрестных сопок лежал снег, вода в заводях покрывалась корочками льда. У ног Стадухина розовела та самая река, которую он искал, о которой много думал в прежней жизни, а на душе было муторно: при множестве немирных народов отряды глупо разъединялись. Вскоре протока покрылась морщинистым льдом, который, местами тянулся от одного берега к другому, мох стал хрусток, а заиленный берег тверд.
Мечтая о теплом, протопленном жилье, казаки подходили к знакомым местам, уже видели тын и мирно курившийся дымок, когда Михей резко остановился и приказал: «Стой!» Отряд замер. Медвежонок, который шел без привязи, то отставая, чтобы подкрепиться ягодой, то нагоняя людей, ткнулся носом в ногу и заурчал. Стадухин сам не понял, что насторожило его, пристально вглядывался в окрестности, пока не приметил чужих выстывших кострищ с запахом свежей золы. Пронзительно свистнул. На плоскую крышу избы вскарабкался Вторка, узнал своих, махнул рукой. Вблизи знаков боя было много: вытоптанный мох, стрелы, торчавшие из тына. Отряд вошел в ворота, у распахнутых дверей зимовья казаков встретил Пантелей Пенда.
— Кто? — спросил Стадухин, не успев перекрестить лба.
— Чукчи! — обыденно ответил старый промышленный. — Заходите, грейтесь. Есть печеная рыба и гусятина.
Клацая деревом, звеня металлом, казаки составили в угол пищали, побросали сабли и топоры, обступили очаг, снимая сырые парки и бахилы. Михей затворил ворота, заложил их изнутри, оставив медвежонка за тыном. Вошел в зимовье последним.
— Пришлось повоевать! — неохотно ответил Пантелей на его вопрошающий взгляд. — Случайно вышли на нас два десятка мужиков, хотели пограбить. Дня три как отбились…
— Пантелей Демидыч на хитрость взял! — охотней рассказал Втор. — Постреляли мы друг в друга, попускали стрелы, а он схватил большой железный котел — и за ворота. Я подумал, вместо куяка прикрыться или что? А дед швырнул его на лед протоки и обратно за тын. Гляжу, мужики сломя голову бросились за котлом. Лед под ними провалился, потонули, бедные. Остальные бежали. А мы без котла теперь.
— Лед окрепнет, пробьете прорубь, найдете! — хмуро оправдался Пантелей, не желая вспоминать об отбитой осаде.
До темноты люди отдыхали и устраивались: отвели место аманату, вырубили для него колодки, сделали нары для девки. В сумерках Михей выглянул за ворота с надеждой, что медвежонок ушел. Но он, наевшись ягод, разрыл место, куда сваливали рыбьи и птичьи потроха, клацал зубами, разгоняя ворон и песцов, считавших тухлятину своей добычей. Стадухин выставил караул, вернулся под теплый кров. Пантелей Демидович лежал на нарах, закрыв глаза и округлив белую голову руками со сцепенными пальцами. Атаманское место было рядом с ним. Михей присел на одеяло, стал рассказывать о скандале с Зыряном. Пенда слушал, не открывая глаз. И только, когда атаман спросил, прав ли был в споре с Митькой, тот сонно ответил, что уходит к нему.
— Чем тебе у меня плохо? — удивился Михей.
— У вас служба, у меня — промысел! — Усмехнулся Пенда, показав щербины зубов в бороде. — Раз уж добрался до новых мест — промышлять надо и дальше идти. — Помолчав, душевней добавил: — Кабы кто знал, как надоело убивать, давить, шкурить живую тварь Божью. А надо!
Стадухин смутился, будто был уличен в недостойном. Он скрывал, что с детства до нынешней поры не притерпелся смотреть, как режут скот, умерщвляют пушного зверя, мясо которого бросают воронам или сжигают. Другое дело добыть готовый мех на погроме, в виде ясака или при мене.
— Один пойдешь? — спросил и стал невпопад пугать немирными народами, заломами на реке, мерзлотными ямами, медведями-шатунами, дурным осенним лосем, который ударом копыта может переломить хребет.
Пантелей терпеливо слушал его со снисходительной улыбкой в бороде. Нарту и лыжи он сделал загодя. На другой уже день собрался и ушел к основному руслу реки. Медвежонок за ним не увязался, а бродил возле зимовья, спешно набирая жир ягодами и мышами, бросался на куропаток, гонялся за нагловатыми песцами, вертевшимися у тына в поисках поживы. При открытых воротах стал забегать в тесный дворик, путался под ногами, но не царапался, не кусался, и его терпели. С каждым днем он становился все сонливей, сворачивался то возле поленницы дров, то в другом неподходящем месте, откуда его прогоняли. Однажды заскочил в избу, забился под атаманские нары и надолго затих. Михей тому не препятствовал и даже огородил драньем. Казаки ворчали и смеялись, но дух от зверя не был приторным, к нему быстро привыкли, предполагая, что атаман держит медвежонка на черный день.
Кончилась короткая северная осень. Завыла ветрами, замела метелями полярная зима. Пока холода не вошли в полную силу, казаки ловили рыбу, морозили и складывали в лабаз, густо обгаженный чайками. Анюйского аманата ночами держали в колодке. От Чуны уже не прятали оружия, бежать из этих мест одному невозможно. Днем по желанию аманаты работали наравне со всеми, хотя их не принуждали, и каждый на свой лад, прельщал Калибу, чтобы жила с ним в женках. Казаки считали это справедливым, на Лене почетных аманатов содержали с женами, а для укрепления здоровья каждый день давали по чарке горячего вина, чему завидовали служилые. Здесь же, кроме рыбы и птицы, кормить было ничем. Прислушиваясь и принюхиваясь к медвежонку, спавшему под нарами, Чуна навязчиво напоминал Михею:
— Вырастет, забьешь, шкуру дашь мне! А я сошью тебе такой кукуль или кухлянку, в снегу тепло спать будешь.
Атаман ничего не обещал ламуту, но и не отнекивался, только пожимал плечами, о том, как распорядиться медведем-пестуном, не думал, радовался, что Чуна свободно говорит: хороший толмач в отряде — ценная редкость.
Попав из одного рабства в другое, Калиба посвежела, в ее глазах появился живой блеск. Она гневно пресекала попытки Чуны и сына колымского тойона принудить ее к сожительству. Приметив это, казаки наперебой стали звать ее к себе. Она же знаками показывала, что не желает жить ни с кем из них, и бросала на Стадухина тревожные, чего-то ждущие взгляды. Это никого не удивляло: ясыри быстро понимали, кто в окружении главный, и всеми силами служили ему, добиваясь покровительства. Бывало, пока начальный человек в силе, служили преданно. И опять Михей Стадухин маялся, переглядываясь с погромной женкой. Умученный снами, в которых был с женой, стал прельщаться, пусть через грех, но остудить истомившуюся душу: не думал, не гадал, что память о прежнем счастье так же мучительна, как несчастье. И попутал бес, да еще в субботу, после бани. Зимовье было жарко натоплено, казаки и аманаты сидели возле пылавшего чувала, пили травяной отвар. Последней мылась Калиба. Михей отметил про себя, что людей в избе убыло.
— Куда разбежались? — спросил, обернувшись к двери.
Вошел Федька Катаев, взъерошенный, как кот после драки. Окинул сидевших шальными глазами.
— Худа! — Присел к огню, к оставленной чарке с остывшим напитком. Помотал головой, пришел в себя, как обычно похохатывая, добавил: — Пока в парке — ничего, — округло повел ладонями, изображая женские прелести. — А голая что жердина.
Стадухин стыдливо выругался:
— Девку в бане разглядываете?
— Надо же знать, — ухмыльнулся Федька. — Возьмешь в женки, а там… — приставил две фиги к груди и перекрестился.
Михей встал, накинул на плечи меховой кафтан, вышел. Окрестности были покрыты снегом. В сумерках полярной ночи из приоткрытой банной двери поднимался густой пар. Согнувшись коромыслами, в нем что-то высматривали два казака. Стадухин подошел тихо, они оглянулись, смутились, вернулись в избу. За клубами пара при свете горевшего жировика виднелась Калиба. Она нагишом сидела на лавке, поливала себя водой, как ребенок фыркала и смеялась. Мокрая и обнаженная ясырка ничуть не походила на Арину. Наверное, ей, непривычной к бане, было жарко, оттого распахнула дверь. Михей хотел ее прикрыть, но вместо того, нагнувшись, вошел и затворился. Ничуть не смутившись, Калиба взглянула на него мокрыми сияющими глазами, покорно улыбнулась. Разопревший от жара каменки, очарованный женским смехом, блеском глаз, Михей распахнул кафтан. Она прильнула к нему мокрым телом, показывая свое расположение. Тут в голове Стадухина как-то разом все прояснилось. Он почувствовал, что вскипевшая было страсть так же быстро остыла, будто ластилась к нему не обнаженная женщина, а зверушка. Стыдливо прокашлялся, пролепетал что-то про дверь, отстранился, вышел, стал истово креститься и кланяться на восход с благодарными молитвами святому покровителю, что не допустил греха.
С таким же пламеневшим лицом, как Федька Катаев, он вошел в зимовье, сел за оставленную чарку. Сидевшие кружком казаки дружно заржали.
— Чего? — отстраненно спросил он.
— Прельстился! — не мигая, спросил Мишка Коновал. Его губы и рубец на щеке оставались неподвижными.
— Нет! — неуверенно пролепетал Михей.
Казаки засмеялись громче. Только Коновал пристально буравил атамана глазами. Михей не понял, отчего им весело, но в душу запала какая-то заноза. Как во сне он выставил и проверил караул, вернулся, при свете углей и чадившего жировика лег, забыв прослушать окрестности. Из угла тенью поднялась Калиба с распущенными по плечам сырыми волосами, юркнула к нему под одеяло и прильнула, как там, в бане.
— Вот и поделили ясырку! — зевая, пробормотал Втор Гаврилов.
— И медведя атаман подгреб под себя, и девку! — вздохнул Коновал. — Ничего, добудем потолще!
— О греховном думаете, греховное творите! — нравоучительно проговорил Пашка Левонтьев, придвинулся к очагу, подбросил дров на угли, вспыхнуло пламя, высветив избу. Лежа на боку, он раскрыл Библию, долго шелестел страницами. — Вот оно! — сказал и стал читать по слогам: «Господь прогнал от вас народы великие и сильные и перед вами никто не устоял до сего дня.»
— Многочисленней бурят не было никого! — заспорил Коновал.
Пашка не ответил, продолжая читать:
— «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и они к вам, то знайте, что Господь Бог не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш.»
Он громко захлопнул книгу, казаки с недоумением зароптали:
— Своих-то женок где брать? Или оскопиться, как ты?
Чей-то всхрап усмирил полусонный говор. В трубе чувала загудел ветер. Под боком атамана лежала опытная женщина и старалась, чтобы ему было хорошо. Только все получилось вымученно и бесстрастно, не так, как с Ариной и даже с теми женщинами, которые были до нее. Но утром он не вскочил, как обычно, а поднялся со всеми вместе, когда сменился ночной караул.
— На пользу атаману баня! — с клекотом в горле проурчал Федька Катаев.
Стадухин зевал, потягивался и не чувствовал обычного желания схватиться за дела, намеченные с вечера. На Федьку он не сердился: никто из казаков не брал Калибу на саблю. Коновал первым позвал за собой, потому и язвил, срывая досаду. «Ладно хоть до поста! — оправдался перед собой атаман. — Да вот ведь — на светлое воскресенье… Надо в баню сходить перед утренними молитвами».
К следующей ночи Калиба натаскала сухого мха, сделала постель мягкой и удобной, по обычаю народов, живущих скопом по нескольку семей, завешалась лавтаком и вечером, уже по-хозяйски, устроилась под атаманским боком. Жалея женщину, Михей не прогнал ее, но стал жить как с женкой.
5. Серебряные слухи
К филипповкам стужа вошла в полную силу, но таких лютых холодов, как на Оймяконе, не было, не было и тамошнего безветрия. После пург, во время которых Стадухин лежал и слушал окрестности, недолго держалась безветренная погода, мерцали низкие звезды, в полнеба полыхали разноцветные огни сияния. Голодный тундровый ворон, посидев на лабазе, спланировал к отбросам, густо истоптанным песцами. Из-под крыши зимовья вылетели взъерошенные синицы. Очаг горел не угасая, в избе было тепло и сухо, пахло дымом, рыбой и нерпичьим жиром.
При общей тишине атаман резко вскочил с нар без сна и вялости в лице, сунул ноги в торбаза, торопливо накинул песцовую парку, сшитую Калибой.
— С нерпятинки несет! — прокудахтал вслед Катай.
Но Стадухин тут же вернулся и поднял всех в ружье. Высыпавшие из избы казаки уже и сами слышали хриплый лай множества собак. Атаман выставил оборону и вглядывался из-за тына в сумеречные снега, покрывшие тундру и реку. На небе успокоенно мерцали звезды, луна освещала серебристую даль. К зимовью на собачьих упряжках подошли юкагиры и начали табориться. Атаман со Втором и Чуной вышли к ним, узнали, что пришел род, объясаченный Зыряном на Индигирке. Беглецы, поссорившись с анюйскими родственниками и явились под защиту казаков, поскольку дали ясак. Нежданные гости поставили чумы неподалеку от тына, и прежняя тишина была порушена: крики людей, детский визг, собачий вой не смолкали сутками. От беспокойного соседства разбежались даже песцы, которых казаки добывали поблизости от жилья, завздыхал, заскребся и заворочался под нарами пестун.
Казаки ругали Зыряна: ясак взял он, индигирский аманат был у него, стало быть, его люди должны защищать юкагиров, а они пришли в зимовье, где содержался заложник от их нынешних врагов. Завидев его, юкагиры кого-то громко ругали, сын тойона с важной сдержанностью не отвечал им, только задирал нос. Атаман не знал, что делать с беспокойными соседями. Чуна, уже слегка понимавший язык гостей, тоже не мог дознаться, почему они пришли сюда, а не к Зыряну.
Из-за пришлых индигирцев Стадухин перестал чувствовать округу, ощущая себя слепым и беззащитным. Сумрак полярной зимы то и дело менялся непроглядной мглой, одна метель — другой. Зимовье замело под крышу, утеплив снегом. Враги могли явиться неожиданно и напасть с любой стороны. Михей опять не спал ночами, проверял караулы и злил казаков придирками.
Вскоре выяснилось, что приход юкагиров не был случайным: на второй неделе поста караульный застучал прикладом в крышу и выстрелил. Стадухин вскочил, протер глаза, казаки оделись и похватали ружья. Дымы зимовья и чумов, мешаясь со снегом, ложились на землю. На юкагирском стане выли собаки, кричали мужики и визжали женщины. Погода была самой разбойной: порывы ветра поднимали сухой снег и колко швыряли в лица, с трудом проглядывалось, что вокруг чумов носятся нарты с впряженными оленями, и верховые мужики. Все на ходу стреляли из луков по стану. Досадуя, что заспался с ясыркой, атаман огляделся: бой шел в отдалении, стрелять из-за частокола не было смысла. Стадухин окликнул Вторку с Федькой. Два казака с выбеленными бородами, с пищалями наперевес послушно вынырнули из-за его спины, следом увязался Пашка Левонтьев в нахлобученной до глаз шапке. Прикрыв запал полой парки, он на ходу подсыпал на него порох из рожка. Михей, отрывисто покрикивая, приказал двоим остаться и смотреть за колымским аманатом, а Пашке быть рядом. Подбегали другие казаки. Чуна с непокрытой головой и рассыпавшимися по плечам, выбеленными волосами топтался с тяжелым тунгусским луком, колчан с длинными стрелами болтался за его спиной. Своим видом он просил разрешения участвовать в бою.
— Покамлал бы на погоду! — крикнул ему Стадухин.
— Бубна нет! — сжимая в нитку щелки глаз, оправдался Чуна и тряхнул тяжелым луком. Михей кивнул и во главе семерых казаков побежал к юкагирскому стану.
Приблизившись на выстрел, четверо дали залп. Пороховой дым смешался со снегом, унесся по ветру. Михей даже не уловил его запаха. Пока стрелявшие перезаряжали ружья, другая половина отряда подбежала ближе к нападавшим. Порыв ветра ненадолго подмял снежную завесу, и они увидели, что находятся среди врагов. Чуна сорвал с оленя мчавшегося на него всадника, схватил быка за рога и вскочил в седельце. Но олень строптиво упал, перевернулся на спину и стал валяться в снегу. Казаки, не имея возможности стрелять, стали отбиваться стволами и прикладами пищалей. Нападавшие отхлынули от стана, юкагиры выскочили из чумов, стали стрелять из луков. По оклику атамана, бежавшего впереди, четверо дали другой залп. Чуна же продолжал барахтаться в снегу с непокорным оленем.
Бой длился недолго. Подхватив убитых и раненых, нападавшие умчались на другой берег протоки. Воодушевленные казачьей поддержкой, юкагиры стали собирать собак в упряжки, чтобы гнаться за противником. Стадухин, опасаясь вражьей хитрости, заставлял их защищать стан. С недовольным видом юкагирские мужики подчинились, зарезали раненых оленей, начали варить мясо. Среди казаков убитых не было, но на двух казачьих куяках вражьи стрелы с костяными наконечниками пробили железные полосы — полицы. Такие луки могли быть только у чукчей. Последним в зимовье приплелся Чуна, бросил в угол колчан, скинул парку, обнажив бок, разодранный то ли вражьей рогатиной, то ли оленьим рогом, присыпал рану золой, лег вниз лицом. Длинные, мокрые от тающего снега волосы рассыпались по земляному полу. Мишка Коновал порылся в мешках, пошуршал сухими листьями.
— Приложи! — протянул ламуту горсть сухой травы. — К утру затянет.
Шаман не пошевелился, чтобы подлечить рану.
— Из-за царапины так опечалился? — толкнул его Михей.
Не поворачивая головы, Чуна пробормотал:
— Олень сказал, чтобы я на него не садился, потому что стал русским!
— Еть их в нюх! — озадаченно поругивался Втор Гаврилов, рассматривая подобранный вражий лук. — Покрепче трехслойного тунгусского.
Калиба еще только начинала говорить по-русски, чаще общалась знаками. Вместо того чтобы учить ее языку, казаки потешались, и женщина, глядя на Михея невинными, как у телушки, глазами, под общий хохот произносила какую-нибудь нелепицу или брань. А надо было расспросить ясачников, что за народ напал на стан. Михей подергал за рукав Чуну, ламут замычал, задрыгал ногами, не желая вставать. Пришлось вести на стан свою погромную женку. Знаками и словами, которые она знала, Стадухин велел ей спросить про оленных мужиков. Калиба поняла.
— Чаучу! — ответила, не обращаясь к юкагирам, и указала на закат.
— Чухчи! Чухчи! — возбужденно лопотали юкагиры, рассматривая упряжь, снятую с убитых оленей. Михей понял, что на стан нападал отряд из нескольких народов, среди которых были и оленные чукчи, где-то поблизости их много: сидячих, безоленных, кочевых.
Возмущенные юкагиры настойчиво тянули казаков к собачьим упряжкам, предлагая погоню. Пурга стихала, засветлела полоска неба над нагорьем. Воинственно настроенных мужиков было до полусотни, следы нападавших еще не замело, был соблазн догнать врагов, пока те не озлобились поражением, взять заложников и подвести роды под государеву руку. Оставив в зимовье четверых казаков, Стадухин приказал держать колымского аманата в колодках. Чуну, все так же лежавшего вниз лицом, принуждать не стал, но взял с собой Калибу — с юкагирами она говорила свободно. Ко всему, не хотелось ее ковать, а сговора с анюйским аманатом он опасался.
Собаки по окликам возниц поняли, куда надо бежать, и с хрипом взяли полузаметенный след. Двигаться по нему было легче, чем по сугробам. В первых трех упряжках за спинами погонщиков сидели казаки с пищалями. За ними неслись около двух десятков нарт с юкагирами. В суете боя, разборок и сборов только здесь Михей почувствовал голод. Метель унялась, мерцали низкие звезды, разноцветными огнями полыхало небо. Он отыскал глазами Кичиги — в это время, по ленским порядкам, из кабака выталкивали засидевшихся гуляк, а поп у церкви бил в клепало. Голод почувствовал и Мишка Коновал, вытащил из-за пазухи юколу, не успел разломить, как возница, буркнув что-то злое, вырвал ее из рук и сунул себе под парку.
«Сразу бить или потом?» — взглядом спросил казак, обернувшись к атаману на ближайшей нарте. Рубец на его щеке казался огромным кривым ртом. Но Михей куда-то пристально глядел из-под обметанных инеем бровей. Мишка повел носом и уловил запах дыма, затем различил островерхие крыши чумов. В ночи показался стан, и выглядел он слишком мирным для людей, вернувшихся с набега. Шарахнулось стадо оленей, жавшееся к дымам, завыли собаки. Юкагиры, не останавливая упряжек, стали пускать стрелы по чумам. Из-за приоткрытых пологов полетели ответные. Завизжали раненые собаки. Прибывшие окружили стан и начали громко переговариваться с осажденными. Те перестали стрелять, и через некоторое время для переговоров вышли два мужика и старик. Оглядев их, Стадухин приказал Коновалу:
— Ловите того, что похож на шамана!
Казаки кинулись к послам, схватили мужика в песцовой парке. Калиба свободно говорила с ним и, улыбаясь Михею, объясняла жестами, что этот род не участвовал в нападении, что погромщики проехали мимо них. Полузаметенные следы указывали, что так оно и было, но юкагиры галдели, в чем-то упрекая колымских мужиков, а те вяло отговаривались. Окинув взглядом стан, Стадухин затребовал сто соболей и аманата. Калиба долго не могла понять и объяснить, чего он хочет. Казаки содрали со старика соболью рубаху, показали сшитые в одно полотно шкуры и на пальцах — сколько их надо дать. Вскоре Калиба смогла объяснить атаману, что собрать сотню соболей колымцы не могут. Стадухин решил, что гоняться неизвестно за кем по едва заметным следам — дело безнадежное, и велел возвращаться. Заложник остался у казаков, соболью рубаху они прихватили с собой.
Едва юкагирские упряжки повернули в обратную сторону, небо снова прилегло на головы путников, затянулось новыми тучами, и разыгралась метель непроглядней прежней. Ничего не стало видно, только слышались отрывистое дыхание собак и поскрипывание нарт. Потом и эти звуки пропали. Вскоре Стадухин понял, что его упряжка отбилась, а возница заплутал, доверившись собакам, которые своим умом должны были вывезти нарты на стан. Изрядно устав бессонной ночью, атаман уткнулся носом в ворот парки и задремал. Когда он проснулся, все так же мела метель, нарты стояли, возница спал, завернувшись в кухлянку, собаки лежали в снегу, уткнув носы в хвосты. Михей толкнул юкагира, тот приподнял голову.
— Что стоим? — спросил, кивая на собак.
Погонщик указал пальцем в небо.
— У-у-у! — погудел, вытянув губы с ниткой усов.
— Заплутали, отбились! — чертыхнулся Стадухин, улегся поудобней, закрыл глаза и не почувствовал вокруг себя ничего живого, кроме равнодушно дремавших собак.
Впрочем, какое-то странное ощущение все-таки было: спокойная, как у Бога, бесстрастная сила то тлела гаснущим угольком, то пропадала с левой стороны от нарт. Михей понял, что нечто живое и разумное очень далеко от них, но ближе ничего не было. Он растолкал возницу, указывая направление. Тот неохотно поднял собак и, покрикивая, заставил их тянуть нарту куда указал казак.
Двигались они долго. Косо секущий снег бил по щекам, закрывал все впереди. Голодные собаки шли неохотно, то и дело ложились, выгрызая лед из когтей. Путники поднимали их пинками и заставляли бежать дальше. В очередной раз Михей разгреб ногами снег и обнаружил под собой лед. Между тем жизнь, которая не складывалась в его голове ни в какой образ, приблизилась настолько, что он чувствовал ее даже лицом. И вдруг она оказалась рядом. Стадухин с недоумением вглядывался в летевший снег, пока из него не появился человек огромного роста. «Не ошибся!» — обрадовался атаман. Юкагир весело залопотал, размахивая руками, будто встретил единокровников.
— Веди собак за мной! — приказал верзила и повернулся широкой спиной.
Они вошли под неярко освещенный кров, нарты проскрипели полозьями по каменному полу и остановились. Собаки в постромках попадали где стояли. Закрылась дверь, окончательно отделив заплутавших путников от метели и снега. Человек сбросил с головы шапку, шитую заодно с паркой, и оказался русобородым длинноволосым молодцом вполне русского вида. Стадухин радостно наложил на себя крестное знамение, выискивая глазами образа, и не нашел их. Детина понял его, указал рукой восток. Михей сбросил шапку, семижды поклонился, затем стал стягивать обледеневшую парку. Под кровом было тепло. Здоровяк, который был на голову выше атамана, провел гостей в другую комнату, поменьше, усадил за стол, на котором в деревянных блюдах лежали вареное мясо и рыба. Юкагир с жадностью набросился на еду, Михей, глядя на него, почувствовал, что сильно проголодался. Рыбу он ел каждый день, в зимовье она была основной едой, а потому подналег на сочное волокнистое мясо. «Сумели же запастись в зиму сохатиной», — подумал.
— Это кит! — добродушно улыбнулся молодец.
В помещение вошла девка с непокрытой головой, с косой, выпущенной сбоку поверх песцовой парки. Одета она была как дикая, в меховые штаны, в простую и удобную одежду без казачьего самохвальства, молча села в стороне, с блуждающей улыбкой стала ненавязчиво разглядывать гостей. Никакой угрозы, дурного умысла Михей не чувствовал, расспросов ждал после еды или после отдыха. Насыщаясь, разглядывал хозяев и отметил про себя, что по покрою одежды они не походят ни на кого из известных ему народов.
— Зачем нам на кого-то походить? — добродушно посмеиваясь глазами, детина вопросом на вопрос удовлетворил любопытство казака. — Как удобно, так и одеваемся.
Глядя на него, юкагир чему-то засмеялся, икнул, срыгнул воздух из кишок, стал клевать носом, потом откинулся на лавке, свернулся калачом и засопел. Михея после еды тоже придавила вязкая усталость. Он раз и другой зевнул, хозяева поддержали:
— Отдыхайте с дороги, собак мы накормим!
«Что за люди?» — засыпая, подумал Михей и провалился в глубокий сон.
Проснулся он от чавканья, чувствуя себя отдохнувшим. Юкагир опять ел. Мясо и рыба на столе были теплыми, хотя по ощущениям спали они долго. Потянувшись до хруста в костях, Михей напился из кувшина теплого отвара, по вкусу походившего на брусничный. Есть не хотелось, но надо было подкрепиться в дорогу, и он тоже принялся за еду. Когда насытился, стал ждать хозяев, складывая в голове, что должен сказать о себе, а чего говорить не надо. Вошел все тот же высокий молодец, ни о чем не спрашивая, объявил, что выведет их к устью Колымы.
«Ну и ладно! — подумал Михей. — Оно и лучше, что хозяева не любопытны. Наверное, промышляют без отпускной грамоты».
Они опять вышли в прихожую, где стояла нарта. Сытые отдохнувшие собаки завертелись вокруг юкагира. Он стал впрягать их в постромки. Собаки нетерпеливо повизгивали и скребли лапами каменный пол. Ворота распахнулись. Пурга унялась, дул несильный ветер, мела поземка. Молодой бородач встал на лыжи, повернулся к упряжке широкой спиной, на которой висел кожаный мешок, поправил длинный нож на поясе и быстро побежал по крепкому насту. Из-за поземки ног его не было видно, собачьи спины и хвосты двигались за ним и отставали. Михей с погонщиком то и дело соскакивали с нарты, облегчая собак, нагоняли, но не перегоняли.
«Ловок и силен, однако!» — отметил про себя атаман.
Бежали они долго. Снова стал чувствоваться голод, промышленный остановился и указал рукой на крест, поставленный на входе в протоку. Зимовье было неподалеку. Молодец сбросил с разгоряченной головы шапку, длинные русые волосы покрылись куржаком. Легким движением плеча он смахнул со спины мешок, развязал, достал связку из трех черных лис. Ленская цена им была рублей по десять.
— В подарок! — протянул Михею и добавил: — Не говори никому про нас!
— Уже понял, что промышляете без отпускной грамоты, — с восхищением разглядывая дорогих лис, кивнул Стадухин. — Бог вам судья и помощник, а я не враг. Благодарю за помощь, если что — приходите! — взглянул снизу в васильковые глаза, опушенные заиндевевшими ресницами. И спохватился: — За кого Бога молить? Имя не спросил.
— Молитва найдет без имени, — рассмеялся детина и без всяких признаков усталости побежал в обратную сторону.
Михей отметил про себя, что с первой встречи тот над чем-то посмеивался.
Атаман с юкагиром пропадали двое суток и явились в зимовье, когда погромленный род колымцев привез соболей и девку якутской породы. Некоторые шкуры были без хвостов, без лап и пупков, но и такие черные с проседью соболя по ленской оценке стоили рублей по двадцать за сорок. Казаки стали просить Стадухина отпустить взятого накануне аманата. Он подумал и согласился, что на десятерых зимовейщиков держать много заложников небезопасно.
На Страстной неделе юкагиры шумно засобирались и, ничего не сказав казакам, ушли. Зимовейщики не расспрашивали, куда они кочуют в самые холода: освобождение от них было благом. Якутская девка прибилась к Коновалу: то ли сама, то ли по жребию или розыгрышу, Михей не допытывался.
Калиба все лучше говорила и понимала по-русски. Как-то вечером нашептала Михею, что прежде чем попасть к анюйским колымцам, три зимы жила у чаучей, так она называла чукчей, не тех, что приезжали на погром с западной стороны, а кочевавших за горами и на реке Погыче у народа хор-олень. Стадухин снова услышал знакомое гортанное слово, и оно отозвалось в нем беспричинным юношеским волнением.
— Погыча! — похлопал по плечу Чуну. — Погыча! Ты тоже говорил про Похачу.
— Похача! — равнодушно прошамкал ламут. — За Камнем… Деда дед ходил. — Перевернулся на другой бок, задышал глубоко, сонно.
Михей смотрел на тлевшие угли в очаге и видел светлую реку с веселым гостеприимным народом вроде того дородного молодца, который вывел из пурги. Будто ждет он крепкой, справедливой власти, порядка на своей земле. Думал и о том, что строительство зимовья у моря, в тундре, не было ошибкой: пусть Митька заберет Колыму — он найдет другую реку, лучше и богаче.
Как водится, от скуки и безделья казаки потешались над женками, словами и знаками выспрашивали, сколько у них было мужей. Калиба долго не могла их понять. Ромка Немчин ткнул пальцем в сторону Михея, выставил девять других.
— Ну? Сколько Михеек?
Калиба морщила лоб, долго и тупо смотрела на Ромку, потом, просветлев лицом, указательным пальчиком прошлась по его растопыренным, потом еще.
— Сколько? — Ромка скинул чуни, показывая пальцы рук и ног. Калиба покачала головой и потрясла волосами, собранными в пучок. Казаки хохотали, женщина невинно смеялась.
— Нашли потеху, жеребцы! — укорил товарищей Втор Гаврилов. — Это мы, придурошные, все чего-то ищем, грабим, кровь льем, на рожон лезем, а бабы знай себе рожают. С кем сытней, безопасней, с тем и живут, пока очередному муженьку такие же удальцы глотку не перережут.
Казаки смущенно притихли, раздумывая над словами старого красноярского казака, повидавшего Сибирь. У Стадухина же прежние мужья Калибы любопытства не вызывали, он выспрашивал ее про Погычу. Есть ли там лес, промышляют ли чукчи соболя? Но женщина упорно отвечала, что на Погыче живут не чаучу, а хор-олень люди. Чукчи на лодках и оленях ездят за море, привозят мясо, кожи и моржовые головы, которые у них покупают разные народы, из моржовых костей делают поручи, куяки, обитые костяными пластинами, шлемы, латы, оружие, подбивают полозья нарт. Луки делают из китового уса.
В феврале несколько дней сряду розовел восход, затем, прорвавшись сквозь сумрак, брызнул первый яркий луч и показался край солнечного круга. Через неделю тундра была залита ярким светом, он резал прищуренные глаза, по щекам казаков текли слезы, застывали ледышками в бородах. Сверкал снег, кричали одуревшие от солнца куропатки, куропачи, с налитыми кровью бровями, теряя осторожность, бросались даже на людей, тявкали песцы, в поисках поживы низко над крышей зимовья кружил ворон, под нарами ворочался и всхрапывал атаманский пестун. Вскоре, выворотив загородку, он высунул длинные когти. Это был уже не медвежонок.
— Мишка! Застрели! — заорал Ромка Немчин. — Он же нас передавит.
Стадухин потрепал медведя по загривку, заглянул в его глаза. Зверь еще сонно, но уже пристально присматривался к нему. В какой-то миг в его взгляде появилась угроза.
— Я те поскалюсь, сын блядин! — Стадухин звезданул его кулаком по лбу и почувствовал, что тот смирился, стал ластиться. Он вывел пестуна за ворота и отпустил: — Отъедайся! И шел бы ты к своим, да подальше… К едреной матери. Не доводил бы до греха! — пробормотал вслед.
В апреле ночь стала коротка. После долгого дня и заката над долиной реки делался сумрак. Чуна подолгу где-то пропадал и один только раз вернулся с добытой нерпой. Его отлучки стали беспокоить атамана. Как-то он пошел следом, издали увидел ламута. Тот сидел на обкатанном волнами топляке, который вмерз в береговую полосу льдов, неотрывно смотрел вдаль и не услышал подошедшего казака.
— Что сидишь? — спросил Михей, присаживаясь. — Высматриваешь землю за морем?
— Думаю! — ответил ламут.
— И о чем твои думы?
— О казаках!
— Охтеньки! — рассмеялся Стадухин. — Хорошее или плохое?
— О том и думаю, — обернулся к нему ламут, его зрачки холодно сверкнули в щелках глаз. — Называете себя холопами царя, говорите, что служите ему, а никогда его не видели. Врете, наверное!
— Бога мы тоже не видим, но служим Ему! — стал снисходительно поучать атаман. — Наш царь — такой же раб Божий, как все христиане. Мы через него Богу служим.
— Ваш Бог служил своему народу и принял за него муки! — язвительно усмехнулся Чуна и с перекосившей скуластое лицо насмешкой так взглянул на Михея, что у того пробежал холодок по спине. — Я служу своему народу, для него призываю в помощь духов, хоть они меня мучают. Всякий мэнэ и ороч[274], юкагир и чукча служит своему народу, рабы — себе и хозяевам: боятся их, ненавидят, потому и служат. Как можно служить царю, которого не видел? Как раб! Вы правильно называете себя холопами!
— Бога и царя надо любить! Они шлют нас на окраины, чтобы делать мир по всей земле! — стал оправдываться Стадухин, бросая на ламута колкие взгляды.
— Если Бог и царь шлют вас делать мир — зачем деретесь между собой? Если посылают грабить — понятно, почему деретесь… Кто такие казаки? Не пойму! О том и думаю.
— Сказал бы ты так воеводе, он бы тебя вразумил кнутом! — озадаченный правильной и неглупой речью Чуны, Стадухин попытался перевести разговор в смех.
— Потому рабы мало говорят, но много думают и сильно ненавидят хозяев.
Михей крякнул, раздраженно мотнул головой, спросил злей:
— Если ты верно служил своему народу, отчего твой народ тебя бросил? Выкуп-то за тебя не дали!
— Я сказал своему народу, чтобы не давали. Если дадут за одного, после казаки и якуты будут ловить других, требовать еще. Потом весь народ станет платить, чтобы жить. Я сказал родственникам — узнаю, кто такие казаки, с чем идут к нам, вернусь и скажу, что с ними делать: воевать или давать ясак.
— Вот как! — хмыкнул Михей. — А я думал просить тебе жалованье толмача. Толмач второй человек после атамана.
— Если стану служить царю, буду его рабом, как ты, тогда надо отречься от своего народа. Ваш Бог так не делал, потому Он Бог!.. Когда люди начинают заботиться о себе больше, чем о своем народе, духи наказывают их. Когда-то медведи были людьми, но захотели жить каждый для себя и превратились в зверей…
— Атаман! Гости едут на Пасху! — прибежал посыльный.
— Кто бы это? — вскочил Стадухин, с облегчением прерывая разговор, который втягивал его в беспросветную душевную трясину.
Солнце уже оторвалось от гор, но не вышло на полуденную высоту. Снег был розовым и твердым, воздух прозрачным. Все зимовейщики высыпали из избы, щурясь, глядели на черные точки, ползущие с верховий протоки. Их глаза различали нарты без собак и оленей, людей, которые, судя по движениям, приближались на лыжах.
— Похожи на наших! — бормотал Вторка Гаврилов, всматриваясь из-под руки. По его щекам текли слезы. — Против зыряновских — вдвое больше. Промышленные, что ли?
Не чувствуя злого умысла, Стадухин все же скомандовал приготовиться к обороне.
— Аманатов привязать, — приказал и неуверенно добавил: — на всякий случай!
— Кабы хотели напасть, не шли бы напрямую среди дня! — заспорил Федька Катаев.
Стадухин толкнул его к двери.
— Проверь пищаль, натруску, погляди, не отсырел ли фитиль!
— Ай, еть твою! — заорал Коновал. — Мишка, убей зверя, не то сам порешу! Штаны порвал, гаденыш! Пшел, зверюга! — огрел медведя прикладом пищали.
Медведь отскочил в сторону и затрусил в тундру. Михей бросил на него мимолетный взгляд, досадливо передернул плечами, не ответил казаку. Снова стал всматриваться в приближавшийся отряд. Идущих уже можно было пересчитать: шли два десятка и еще двое. Не видеть зимовья они не могли и явно направлялись к нему. Кто-то издали узнал Пантелея Пенду, потом Митьку Зыряна. Караульный с нагородней крикнул:
— Семейка Дежнев ковыляет!
От нетерпения и непонимания Стадухин забегал вокруг зимовья.
— Баню топить! Уху варить! Калиба! — окликнул женку. — Принеси воды, надо встретить гостей горячей щербой. С дороги будут много пить.
Женщина поняла его, подхватила два котла, широко расставляя ноги, тундровой походкой засеменила к промерзшему ручью. Михей бросил вслед неприязненный взгляд: зиму проспал с ней под одним одеялом, но ничуть не привязался. Никто не знал его беды, кроме этой погромной женки, а она удивляла, что не переметнулась к кому-нибудь из казаков. Атаман потерял мужскую силу. Только утрами, после ярких снов, в которых был с Ариной, что-то мог, и то недолго: пока перед внутренним взором стоял облик жены. Но женщина зачем-то делила с ним постель и ничего не требовала.
Приближались шаги, скрип нарт и скрежет лыж, уже слышалось разгоряченное дыхание путников: девятнадцать русских промышленных и казаков, три аманата подошли к зимовью. Дежнев похудел, лицо его было обожжено солнцем, на переносице и глазах до висков — нездоровая белая полоса кожи от повязки, но все те же насмешливые, по-кошачьи круглые синие глаза, от которых по щекам разбегались лучики морщин. Лица его спутников были черными и опухшими от мороза и солнца. Стадухин, выпятил грудь, упер руки в бока, встал впереди казаков, опоясанных саблями.
— Митька вернулся — понимаю! Промышленные, невесть откуда взявшиеся, — тоже понимаю! Тебя-то, земляк, каким хреном с Алазеи принесло и куда рука делась? — кивнул на пустой левый рукав его парки. — Ничего не пойму!
— Куда тебе! — вместо приветствия с вызовом ответил Зырян. — Ужо, расскажем — шапка с головы слетит!
Семейка Дежнев по обычаю дружелюбно глядел на земляка и улыбался, не поминая прежних обид. Михей тоже забыл, чем тот его сердил в походе.
— Грейтесь, сушитесь. Скоро баня подойдет. — Великодушно принял соперника с его людьми.
Аманаты, не дожидаясь приглашения, вломились в зимовье, припали к очагу, отогревая замерзшие руки. Служилые и промышленные бросили на караульных увязанные по-дорожному нарты, скинули и вывернули мехом наружу отсыревшие парки, развели костер в указанном месте, поскольку в избу все войти не могли. Аманаты, слегка обогревшись, тоже скинули верхнюю одежду. Один из них оказался девкой тунгусской породы.
— Чья женка? — загалдели стадухинские казаки.
— Я — толмачка! — с важностью ответила женщина на сносном русском языке.
Калиба с якуткой, прятавшиеся от шумного многолюдья, весело залопотали с гостьей. Пенду, Зыряна, передовщика промышленной ватаги и земляка Дежнева Стадухин повел в зимовье для разговора. Они расселись по лавкам, ожидая бани и угощения. Левая рука Дежнева была обмотана кожей и подвязана к шее.
— Опять ранен? — сочувственно морщась, спросил атаман.
— Железной стрелой меж вен! — беспечально ответил Семейка, будто был укушен оводом.
От торопливых расспросов Михей удерживался, а гости не спешили говорить о себе. Зимовейщики с веселыми лицами суетились, бегали из дома во двор, обнесенный частоколом. В избе закипел котел с рыбой, Вторка Гаврилов снял его с огня, стал разливать жирный отвар по кружкам, гостеприимно приговаривая:
— С мороза да с дороги ничего нет лучше горячей щербы!
Подошла баня. Пенду, Зыряна и передовщика пришлой ватаги благословили снять первый пар, остальные сушились, обогревались и ели у костра. Первым из бани вышел Пантелей, пар клубился над его жилистым распаренным телом. Он неспешно развязал мешок, притороченный к нарте, достал чистую нательную рубаху. Михей подхватил его под руку, повел в зимовье. Вскоре из бани вышли Зырян и дородный, спокойного вида передовщик. Истомившиеся ожиданием новостей казаки усадили их возле очага. Атаман протиснулся в красный угол, сел под образками, стараясь не уронить степенства, заговорил о промыслах.
— Далеко ли ходили? Как промышляли?
— Митька, — Пантелей Пенда кивнул на Зыряна, — срубил зимовье на Колыме в устье притока, с верховий которого есть волок на Алазею, и сидел там всю зиму, а мы от него рубили станы, тропили ухожья. Хорошо промышляли, соболь добрый, черный, лиса красная. Река вскроется, придут торговые ватажки, не задержатся, — усмехнулся в белую бороду, — будет на что купить порох, свинец, сети, муку… Потом можно дальше идти…
— А что дальше? — Стадухин с нетерпеливым любопытством глядел на старого промышленного.
— На восход — горы! — шевельнул плечами Пантелей. — К полудню — становой хребет — Великий Камень!
— Всю зиму думаю! — с жаром признался Стадухин. — По ту сторону реки падают в океан, по эту — в Студеное море, — обвел взглядом сидевших людей.
От сказанного им красные распаренные глаза Пантелея, заблестели:
— Спрашивал про то колымских мужиков — никто из очевидцев не доходил до конца Камня. Говорят, он Необходимый! Может, так и есть?! Давно иду встреч солнца, состарился в пути, а конца Сибири все нет.
— Что Камень? — нетерпеливо перебив невнятный разговор, вскрикнул Зырян. В пыжиковой рубахе с распахнутым воротом, с красным лицом и мокрой головой он заерзал на лавке и предложил Пантелею: — Расскажи про воеводский указ!
— Что мне ваши указы? Я не служилый! — отмахнулся старый промышленный.
— Как узнаешь — с голым задом побежишь искать Нерогу! — ухмыльнулся Зырян, насмешливо глядя на Стадухина.
— Что за Нерога? — спросил Михей, пристально всматриваясь в лица гостей. Остановил взгляд на передовщике промышленной ватаги.
Белокурый, похожий на русобородого молодца, который вывел из метели, тот смутился и повел дюжими плечами. Вместо него бойко заговорил Семейка Дежнев:
— Служил я на Алазее с четырьмя казаками, сторожил аманатов и молил Бога, чтобы не быть погромленным по малолюдству, тебя вспоминал добром, — кивнул Стадухину, — ты задом чуял врагов. — Рассмеялся. — Но Бог милостив… Еще по осени, в сентябре, пришла к нам ватага торговых и промышленных людей Афоньки Андреева, — указал на дюжего бородача в льняной рубахе. — А с ними, верхами на оленях, ленский служилый Гришка Кисель. С седла не слез, спросил про Митьку Зыряна. Я сказал, что уплыл на Колыму. Гришка заматюгался и заплакал так, что слезы ручьями потекли по бороде.
— Отчего? — не удержался Стадухин, поторапливая многословного земляка.
— А вот слушай! — снова рассмеялся Дежнев, довольный общим вниманием. — От юкагирского аманата, привезенного Постником Губарем, воевода Головин узнал, что где-то в здешних местах, на реке Нероге, есть серебряная гора. Будто дикие мужики к той горе ездят, по висячим серебряным камням стреляют из луков, сбитые собирают и плавят руду. В прошлом году отправил он к Зыряну на Индигирку таможенного целовальника Епифана Волынкина. Помнишь?
Стадухин кивнул, внимательно слушая земляка.
— И велел передать Зыряну, чтобы Митька строго пытал юкагиров о серебре. А если Бог даст удачу, обещал тем, кто найдет руду, такое государево жалованье, какого ни у кого на уме нет. И велел, оставив людей немногих, идти с Индигирки на реку Нерогу со всеми служилыми. Но коч Волынкина с торговыми и промышленными затерло льдами, он отправил Гришку Киселя с воеводским наказом в Олюбленское зимовье. Тот застал там только Лаврена Григорьева. Лаврен провел расспросы среди аманатов и понял, что на Индигирке серебра нет, а если есть, то где-то на Алазее или дальше. Гришка с муками добрался до Алазейского зимовья, но Зыряна опять не застал, — снова хохотнул Дежнев, окинув взглядом важно восседавшего десятника, а тот самодовольно ухмыльнулся.
— Мы с Ивашкой Ерастовым, сидя на Алазее, от своих аманатов не узнали ничего разумного. А среди зимы явился к нам беглый юкагирский князец Шенкодья со своим родом, сказал, что вы доплыли до Колымы и зимуете. Перед Пасхой, как окреп наст, с Алазеи на Колыму собралась идти ватажка этих вот торговых и промышленных людей, — Семейка указал на Афанасия Андреева. — Они в покруте у купца Гусельникова. Как услышали про серебро, так насели на меня, бедного, чтобы вез приказ воеводы к Митрию Михалычу Зыряну, а они бы меня проводили. Взяли мы у Шенкодьи вожей, пошли нартами и дошли за неделю…
Семен Дежнев перевел дух, вытер пот со лба. Зырян впился пристальным, злорадным взглядом в лицо Стадухина, чего-то ожидая.
— Отчего свое зимовье бросил? — спросил Михей так, будто весть о серебре и воеводском наказе его не заинтересовала.
— Напали юкагиры трех родов. Мы лучшего мужика, брата тойона, убили, взяли в аманаты его сыновей. Весной они собрались в пять сотен и осадили, — неохотно отвечал Зырян, опуская потускневшие глаза. — Две недели держали в осаде. Мы, отстреливаясь, сожгли свой порох, и тот, что Афонька принес, пошли на прорыв, пробились саблями и топорами, надумали идти к тебе. Скоро сюда приплывут торговые люди, купим что надо и пойдем искать Нерогу.
— Отчего бы торговым здесь быть? — удивился Михей. — Еще прошлым летом о Колыме знали только на Индигирке.
— Нынче приедут, — смущенным голосом заверил атамана передовщик Афанасий. — Все, кто на Яне и Индигирке зимовали, товар держат под ваших соболей.
— Да уж! — почесал затылок Стадухин, вскинул глаза на земляка: — И тебя на прорыве ранили?
— Слава Богу, в левую! — улыбнулся Дежнев.
— На тебе уже живого места нет — весь в ранах!
— Правая здорова! — Семейка тряхнул кулаком. — Я ей тойона Алая убил, потому колымцы от нас отстали.
— А зимовье?
— Подпалили!
— Зиму-то мы в нем пережили, — начиная сердиться, резче заговорил Зырян, теребя вислые сосульки редкой бороды.
Михей его не слушал, торопливо думая о своем. Летом он хотел плыть к Арине. Ясак был собран, после расплаты по кабале кое-что оставалось на безбедную жизнь при остроге. И возвращаться было нестыдно: все-таки они с Митькой первыми из служилых дошли до Колымы, хотя собранным и добытым здесь и на Оймяконе Ленский острог не удивишь.
Еще ничего не было решено, но у Стадухина захолодело в груди от предчувствия, что он может не вернуться к жене и нынешней осенью. Михей оглянулся на своих казаков и понял по их лицам: откажется от поиска серебра — проклянут. А если найдут серебро без него, Михея Стадухина, будут до скончания века смеяться и язвить, как Постник и его спутники.
— Государю послужить — дело Божье! — рассеянно пробормотал, растягивая слова. — И государь тех служб не забудет, наградит! — Поднял туманные глаза на Зыряна, который опять глядел на него с вызовом, как перед дракой:
— И куда идти?
— Как сойдет лед, ты по наказу воеводы оставь в зимовье при наших общих аманатах и казне казаков сколько нужно и пойдем вверх по Колыме.
— Дай, бабка, воды напиться, а то жрать хочется, аж переночевать негде, — принужденно рассмеялся Стадухин, не сводя разгоравшихся глаз с Зыряна.
— Порох, свинец, неводные сети — все наше… И коч твой, конечно, спалили вместе с зимовьем?
— У нас есть рухлядь. Приедут торговые — купим и возместим, — не моргнув глазом, отговорился десятник.
— Добро! — хлопнул ладонью по колену Михей. — Идем одним отрядом, а чтобы не было распрей, как прошлой осенью, атаман должен быть один. Кто?
— Это правильно! — загалдели настороженно слушавшие казаки. — Опять передеремся без единой власти.
— Я! — так же пристально глядя на Стадухина, ответил Зырян. — Семейка ясно сказал, кому воевода послал наказную память искать серебро.
— Тебе?
— Мне!
— Тогда ищи! Зачем ко мне пришел?
— За подмогой по воеводскому указу!
— Где он, тот указ?
Все слушавшие казаки и промышленные настороженно притихли. Смутился и Зырян, заерзал на лавке.
— Я же говорил — у целовальника Волынкина, — промямлил Семейка Дежнев, обсасывая рыбью голову. Отложил ее на бересту, вытер руки мхом, бороду рукавом. — Он прислал на Индигирку Гришку Киселя передать наказ по памяти. Тот на Алазею пришел и говорил слово в слово!
— Епифанка! Ушник воеводский, — загалдели казаки, поддерживая Стадухина. — Да он мать обманет и по миру пустит. Вдруг удумал хитрость — потом отопрется.
— Совсем сдурели от бесхлебья! — закричал Зырян, багровея обветренным прожженным солнцем лицом. — Зачем ему баламутить два острога, при свидетелях посылать служилых людей за полтыщи верст?
Стадухинские казаки опять притихли, не зная, что возразить. А Зырян стал напирать.
— Моих людей два десятка, твоих один. Половину оставишь в зимовье! Без наказной памяти понятно кому быть атаманом?
— Я серебро искать не пойду! — сказал помалкивавший Пантелей Пенда.
— В зимовье останусь летовать, торговых дождусь.
Стадухин взглянул на него с благодарностью.
— Семейка! Останешься? — спросил Дежнева. — Ты же хром на обе ноги, теперь еще и однорук.
— Пойду за серебром! Если сюда зимой дошел, летом что не идти?
— Что скажете, братья казаки? — Стадухин обернулся к зимовейщикам.
— Идем своим отрядом, чтобы Зырян нас не неволил! — за всех ответил Мишка Коновал, подергивая розовым рубцом на коричневой щеке.
— Будут или не будут нынче торговые — неизвестно, — заговорил рассудительный Втор Гаврилов. — По христианскому милосердию припасом мы с вами поделимся, но по нашей цене!
— Вот наш ответ! — обернулся к Зыряну Михей. — Где она, Нерога, ни вы не знаете, ни мы. Припас наш. Ваших аманатов нам караулить или как?
Из промышленных людей Афони Андреева двое были ранены при осаде и просились летовать в зимовье. Старшим Стадухин оставил Втора Гаврилова, который не рвался в верховья Колымы, при нем — трех охочих. На том споры закончились. Приятных новостей не было, душевного разговора не получилось ни со старыми казаками Беляной и Моторой, ни с земляком Дежневым. На другой день люди Зыряна и промысловой ватажки выбивали изо льда плавник, строили свой балаган рядом с зимовьем. В ворота сунулся и грозно уставился на них стадухинский медведь. Не случись рядом атамана, гости убили бы его.
— Забьем, чтобы вреда не сделал! — настойчиво кудахтал Федька Катаев.
— Пусть погуляет! — потрепал зверя по загривку Михей. — Не голодаем.
Он высматривал Пантелея Пенду, но среди строивших балаган его не было. Отогнал медведя от зимовья, по свежевыпавшему снегу взял след старого промышленного и вышел к берегу моря. Пестун увязался за ним. Он то и дело останавливался, принюхивался, что-то выискивая в тундре, над ним с криками носились птицы, но медведь не обращал на них внимания. Старый промышленный сидел на вмерзшей лесине и смотрел на льды, как Чуна, и был не далеко от того места, которое облюбовал ламут. Стадухин подсел к нему, помолчал, тоже вглядываясь вдаль, потом заговорил:
— Земля там, на краю, или облака? До Рождества заплутал я с диким мужиком и где-то в той стороне был принят голубоглазыми людьми. По сей день вспоминаю, дивлюсь встрече и никому про нее не сказываю. Чудно как-то…
Пантелей вопрошающе обернулся к Михею.
— Дюжий бородатый молодец, — продолжал он, — накормил, напоил, обогрел, дал отдых, вывел сюда, одарил лисами и просил никому про них не говорить. Сперва я думал — промышленные без отпускной. А после-то вспоминал и чудно: он со мной и с юкагиром вольно разговаривал, а рты-то ни мы, ни он, не открывали. Это мне только после вспомнилось. И девку-красавицу при нем видел, с меня ростом, а то и выше. Кто такие?
— Чудь! — не задумываясь, ответил Пантелей. — Жилье каменное?
Стадухин, поерзав, почесал бороду.
— Стол деревянный, тесаный, пол каменный, стены — не понять… Но не из бревен.
— В пещерах живут. Давно под землю ушли и в наши дела не путаются.
— Вон что? А я-то голову ломаю…
— Их не найти. Мимо пройдешь — не заметишь, глаза отведут. Случайно, из-за метели, наверное, подошли. А они пожалели, не дали замерзнуть под дверьми. Со мной так же было. Жил среди них с неделю, после отпустили, тоже просили никому не говорить. И как скажешь? — Усмехнулся. — За длинный язык многие на дыбе души отдали.
— Вот ведь, — вглядываясь в даль, вздохнул Стадухин. — А я думал — морок. И много ты таких людей встречал?
— Много всяких по Сибири! — оборачиваясь ко льдам, ответил промышленный. — Тех, кого мне надо, никак не найду.
— А эти что, не русские?
— На нас похожи, говорят по-нашему, только сильно умные, среди них жить сам не захочешь, разве рабом или скоморохом. Они мне в голове что-то поправили. До того все спутников искал, слухи собирал, а после всякая охота в связчиках пропала, лешим стал: где можно быть одному, там с другими не путаюсь. Хуже всего, стал забывать, что ищу, а на месте сидеть не могу.
— Помню твои прелестные сказки в верховьях Лены! — Стадухин с грустью улыбнулся, разглаживая пальцами рыжие усы. — Покойника мог оживить и сманить в урман.
Чуть дрогнули губы Пантелея, он снова обернулся, живым блеском сверкнули глаза, будто прощались с чем-то давним, отсохшим, отмоленным.
— Из-за них все во мне переменилось! Прежде хотел знать больше, чем дозволено! — Вздохнул и опять отвернулся, высматривая за льдами то ли горы, то ли облака. Из трещины между береговым и приподнятым приливом льдом вырвался звук, похожий на хохот.
— Ишь, водяной слушает и потешается!
Сказать большего Пенда не пожелал. Пока они разговаривали, медведь неподалеку что-то скреб когтями.
Бырчик была выкуплена промышленными у индигирских юкагиров. Она знала несколько языков и быстро научилась говорить по-русски. Ватага Афони Андреева держала ее вместо толмача и брала с собой на поиск серебра. Калибу Михей оставил в зимовье без всякого сожаления. Вполне довольная сытой и свободной жизнью с казаками, она не рвалась идти за ним. Как только он сказал ей, что уходит, девка перестала лазить к нему под одеяло.
Три с половиной десятка служилых, промышленных и аманатов толклись возле зимовья, теснились, с нетерпением ожидая вскрытия реки. Осмотрев рассохшийся за зиму коч, Стадухин послал людей копать корни, резать тальник и сочить смолу. При многолюдье судно подновили в два дня и надежно закрепили на покатах. Сделано это было вовремя. Вскоре по льду побежала вода, вскрылась и заторосилась протока, паводком подтопило избу. Это сочли плохим знаком, обыденные распри стихли, и начались другие недовольства.
— Мишка! — С воплями прибежал Катаев. — Сколько будешь мучить честных христиан? Не хочешь убивать, посади медведя на цепь. Он мне рубаху порвал и бок оцарапал.
— Дразнил, что ли?
— Юколу из рук вырывал — я его пнул, а он меня подрал и рыбу отобрал, — слезно жаловался Федька.
Утешить казака было нечем.
— Что вяжешься к людям? — ругался Михей, сажая зверя на аманатскую цепь. — Шел бы куда-нибудь, жил бы своим умишком, чего мне с тобой возиться?
— Убей, сними шкуру и продай мне! — навязчиво советовал Чуна.
— Сам убей и возьми даром! — ругнулся Михей. — Будто я кому-то запрещал, но все отчего-то орут и принуждают к убийству меня…
Ко всем неприятностям бесилась погода: ветер менялся снегом, снег — дождем, дождь — солнцем и ветром другого направления. Заскрежетали, зашевелились льды в море. Сдавленные ими волны стали крошить припай. Прилив забил протоку крошевом, она несколько раз прудилась, поднималась, снова входила в прежние берега. При всем обилии рыбы место для зимовья было не лучшим.
— Перенесем! — отмахнулся Стадухин от пустячных забот. — До осени дожить надо.
А весна брала свое. Сошел снег, оголив желтую тундру. Медведь возбужденно бегал вокруг зимовья, морда его была в пере. Надрывно кричали гагары и гуси, над нерастаявшими еще озерами кружили утиные стаи, чайки носились над жильем и вставал на крыло оттаявший комар.
Сборы были недолгими. Предвкушая встречу с погромившими его колымцами, Зырян грозился взять ясак втрое. Вторка наотрез отказался оставить при зимовье медведя, хоть бы и привязанного, предложить ему забить зверя Стадухин счел для себя дурным знаком. «Высажу где-нибудь, подальше от людей», — решил и, зля спутников атаманской прихотью, затащил зверя на коч. Люди обыденно чертыхались, возмущались его упрямством. Помалкивал только Мишка Коновал. С блуждающей улыбкой в драной бороде, с очистившимися глазами, он казался помолодевшим, а страшный шрам не портил его лица. Мишка радостно прожил весну с якуткой, после работ уединялся с ней и не вмешивался в суетные споры. Никого не спрашивая, ни с кем не советуясь, он привел ее на коч. Глядя на них, улыбавшихся друг другу, никто не осудил, не напомнил законы старых промышленных ватаг, которые давно и явно попирались. К тому же Афоня Андреев, передовщик гусельниковской ватаги, для общей нужды брал с собой толмачку Бырчик. Чуна тоже пожелал идти в поход, сидячая жизнь ему опостылела.
Казаки и промышленные поправили упавший крест в устье протоки, помолились, весело внесли на судно оружие, меховые одеяла, сети, котлы, бросили жребий — кому идти в бечеве, кому на шестах, почитали молитвы и пошли к основному руслу Колымы. Стадухин пробовал приспособить медведя для бурлацкой бечевы, но из этого ничего не получилось. Тогда он, чертыхаясь, привязал его цепью к мачте.
В сыром зимовье стало тихо и просторно. При четырех аманатах и Калибе здесь жили пятеро промышленных людей и казаков. Входило в раж светлое полярное лето. Однажды проснувшись среди светлой ночи, Вторка Гаврилов нашел под одеялом невинно жавшуюся к нему Калибу. Казак повеселел, а вскоре перешел с ней в балаган, построенный людьми Зыряна.
Прошел месяц. На западе, против мыса с крестом, показался парус. Зимовейщики заволновались, забегали, развели сигнальный костер. С судна дали холостой залп, показывая, что заметили дым. Коч был большой, восьми саженей длиной, сделанный и снаряженный надежно, дорого, не так, как казенные суда. На носу, обвязанном потрепанными вязанками тальника, в синем суконном кафтане стоял известный на Лене торговый человек Михайла Стахеев, приказчик и родственник именитого купца Гусельникова.
«Подомнут пинежцы Колыму под себя!» — смеялись встречавшие его люди, балагурили и кричали Стахееву:
— Хлеб везешь ли?
— Есть мука, — степенно отвечал Михайла, оглаживая бороду. — Но мало.
— В неводных сетях, в порохе и свинце нужда!
— Знаем в чем у вас нужда. Поможем.
Коч приткнулся к берегу против зимовья. С борта резво соскочили мореходы в промазанных дегтем бахилах и броднях, схватились за пеньковый трос, вместе с встречавшими вытянули нос судна на сушу. Тут же с него стали прыгать собаки, истосковавшиеся по земле, забегали вокруг зимовья, облаивая чаек. Окинув взглядом зимовейщиков, Стахеев просиял лицом, изрытым оспинками, раскинул руки:
— Пантелей Демидыч! Живой, слава Богу! Тебе первому товар покажу, ничего не утаю.
Народа на коче было много. Возле зимовья опять стало шумно и суетно, как до ухода отрядов Стадухина и Зыряна. Кроме помощников Стахеев вез на Колыму новую промысловую ватагу покрученников. Всем им, торговым и промышленным, не терпелось увидеть добытую здесь рухлядь. Первым взошел на судно Пантелей Пенда с мешком соболей, увязанных в сорока. Они тут же пошли по рукам торговых и промышленных людей. Осмотрев привезенный товар, Пантелей отложил пять пудов ржаной муки, пуд меда, неводную сеть, порох, свинец, средней руки топор, короткий нож. Долго торговался за фузею — пищаль с кремневым замком вместо обычного фитиля, от бисера и корольков отказался. Торговые люди рядились за свой товар вдвое и втрое против немалых ленских цен, но не могли сдержать восхищения колымскими соболями и лисами:
— Не зря шли, едва не были затерты льдами…
В обмен на фузею Пантелей отдал фитильную пищаль и доплатил сорок соболей. За все остальное, кроме ружья, расплачивался не торгуясь, только хмыкал в бороду да как конь гривой, мотал седой шевелюрой. Стахеевские покрученники вынесли купленный товар на берег. Пенда велел Калибе нести котел, топить нерпичий жир, со знанием дела замесил тесто и стал печь пресные колобки. Пока Втор Гаврилов торговался и менял своих соболей на нужный товар, была приготовлена саламата на всех и медленно стыла, покрываясь темной, густой пленкой. Коч простоял в протоке два дня, на третий Стахеев забегал с обеспокоенным видом.
— От безделья прибыли не дождешься! Что-то надо делать, — кинулся за советом к Пантелею.
Укрывшись от ветра за стеной избы, старый промышленный грелся на солнце, пока не озверел гнус.
— Что ты за человек? — Торговый присел рядом с ним и огляделся по сторонам. — Много лет знаю, а не пойму… Всегда среди первых, но ни богатства не нажил, ни дома, чести и славы не ищешь.
Пантелей приоткрыл смеженные веки и снова закрыл их с легким вздохом.
— Слышишь, дед, что говорю?
— Слышу!
— А что молчишь?
— Что тебе надо?
— Зачем попусту сидеть-то? Плыви со мной в верховья. Товар распродадим, даст Бог, успеем вернуться в Жиганы, новый возьмем в зиму. Ты и реку знаешь, и по морю много ходил.
Пантелей шире открыл глаза, пристальней взглянул на приказчика:
— Поплывешь встреч солнца — пойду, хоть и обещал Мишке ждать.
— А что там?
— Не знаю!
— Зачем идти невесть куда, невесть зачем, когда на этой реке еще ни промышленных, ни торговых людей нет, а народов множество?
— Плыви, торгуй! — равнодушно зевнул промышленный, удобней устраиваясь под солнцем.
— В долю взял бы, — стал прельщать Стахеев. — Пришли бы в Ленский… Тьфу ты! Нет уж Ленского острога, Головин перенес его на другой берег. Теперь на Лене новый Якутский острог. Ты бы в Якутском дом купил, зажил бы.
— И так живу. — Пантелей плотней сжал веки, делая вид, что дремлет.
— Ничего не пойму! — сквозь зубы выругался приказчик, вскочил, побежал ко Втору Гаврилову. Стал просить у него Калибу в толмачки.
Ясырку он тоже прельщал богатством, но она только смеялась и бросала на Вторку ласковые взгляды.
На четвертый день торговые люди потянули тяжелый коч вверх по протоке. Через три недели, довольный собой, Стахеев вернулся на том же судне, но без ватаги промышленных людей.
— Догнал Зыряна со Стадухиным и Афоню Андреева, — весело рассказывал в зимовье. — Ходили по притоку Колымы в верховья до самых гор, тамошние народы ясачили, серебро искали — не нашли. Порох, свинец купили весь.
Промышленные: афонины, зыряновские и те, что со мной пришли, хотят на прежнем погорелом месте зимовать большой ватагой. Тамошних юкагиров побили, новых аманатов взяли.
— Что там Мишка с Митькой? — спросил Пантелей. — Мирно живут?
— Кого там! — хохотнул торговый. — Каждый день дерутся. Кабы дикие не нападали — поубивали бы друг друга. Прямо как наши якутские власти: Головин засадил в тюрьму стольника Глебова с дьяком и письменным головой, туда же упек черных попов. Властвует один. И хорошо! Такого порядка как при нем, на Лене еще не было: никто ни с кем не воюет, все живут мирно. А то прежде как? Один в одну сторону тянет, другой в другую, как Мишка с Митькой.
Гусельниковский приказчик с подручными людьми дождался южака, отогнавшего льды за мыс, и уплыл в обратную сторону, к Алазее и Индигирке. Жизнь в зимовье пошла прежним чередом. Нападений не было, зимовейщики подолгу спали, ловили рыбу, линявшую птицу, изредка добывали оленей, бежавших к морю от ревущих туч овода.
В поисках серебряной горы русские отряды шныряли по притокам Колымы, воевали, брали заложников, пытали их по царскому указу. Ясыри говорили разное, чаще — нелепицу, понуждая служилых и промышленных людей забираться в притундровый лес с его болотной сыростью, в дебри жаркой северной тайги. Выбирались оттуда злыми, изъеденными гнусом и с каждым днем теряли веру в сказки о серебре.
Стадухин оставался при коче, на котором хранился припас двух отрядов и промысловой ватаги. Сочувствуя Коновалу, он оставлял его при себе. Якутка готовила еду. Стоило судну надолго встать у песчаной косы, которых по реке было много, Михей отпускал медведя, надеясь, что тот уйдет навсегда. Что не жить — щурился на блестящее синее русло реки, на голубую гору вдали, рыжие камни под днищем коча. Среди них плавно и безбоязненно шевелилась рыба.
Зверь вырос. На плаву его приходилось ковать к мачте цепью. Погромыхивая ею, он скакал на месте от безделья и сытости. Косолапые выпады были мгновенны, невозможно было предугадать, в какой миг где он окажется. Якутка и Федька Катаев, которого он почему-то любил задирать, терпя атаманскую дурь, обходили его кромкой бортов. Женщина помалкивала, казак вопил и злословил, если Михей отпускал зверя на берег, не сходил с судна. Коновал жестко избивал медведя при каждой попытке броситься. Михей не вступался за своего зверя, понимал, что иначе нельзя. Он рос, становился сильней. Время от времени замирал, вглядываясь в глаза атамана, как тот, что встретился на Оймяконе, пытался высмотреть слабосилие и готовился к броску. Михей, уловив миг, бил его по морде накрученной на руку аманатской цепью, смирял, понимал, что вынужден будет убить, и оттягивал тот день, ссылаясь на всякие вымышленные причины. Порой медведь уходил в тайгу на сутки и дольше, возвращался посмирневшим, влезал на борт и ложился возле цепи.
Однажды понадобилось сплавиться вниз по реке. На коче были трое мужчин и якутка. Они оттолкнули судно от берега, быстрое течение подхватило и вынесло его на стрежень. Впереди маячил обычный для Колымы желтый песчаный обрыв с нависшим лиственничником. Дальше завиднелся и стал слышен надвигавшийся залом, который не могли видеть из-за поворота и мыса. Михей понял, что тяжелый коч почти неуправляем, взялся за весло сам и посадил за другое якутку. В четыре весла они попытались отгрести от обрыва к песчаной косе, но судно несло к залому, ощетинившемуся против течения сотнями древесных стволов, под которые с грохотом уходила вода. Коч налетел на них бортом, как разъярившийся глупец на тесаки. Его стало переворачивать и захлестывать. Медведь, посаженный на цепь, скреб когтями борт и барахтался в воде. Стадухин кинулся к нему, освободил. Зверя понесло под деревья. «Судьба твоя такая!» — без жалости подумал атаман и бросился спасать судно. Топорами, тросами и жердями мужчины протолкнулись на стрежень. Коч снова понесло, разворачивая в водоворотах, но на этот раз на песчаную косу.
— Гляди-ка, живой! — вскрикнул Федька, указывая рукой на берег.
Стадухин увидел медведя, сушившегося на солнце. Им удалось причалить в удобном безопасном месте и крепко привязаться. Медведь долго не возвращался. Приближение зверя Михей почуял во время отдыха. Он нехотя приподнялся на локте, задрал сетку с лица. Но из кустарника выскочил лось, перекинул через борт рогатую морду с вислой губой и замер, уставившись на человека. Атаман цыкнул. Зверь удивленно вскинул рога и снова проломился сквозь береговой кустарник. К радости бывших на судне, медведь не вернулся ни этим, ни другим днем, но, чертыхаясь и кляня юкагирских послухов, из тайги выполз Зырян со своими людьми, следом за ними — Пашка Левонтьев с Семейкой Дежневым и стадухинскими казаками. Все были черны от дегтя, опухшие и до язв изъеденные гнусом. Чтобы не злить Митьку, Стадухин не стал спрашивать про серебро.
— Там не твой медведь смородину жрет? — Дежнев махнул рукой в сторону берега. — Сладкая да крупная, не чета нашей. И много. Насушить бы в зиму.
— Мы уже наелись до оскомины! — мирно ответил атаман, ни словом не помянув медведя.
От поисков серебра отказались. Афоня с промышленными людьми решил рубить свое промысловое зимовье. Зырян напирал на Стадухина, что государев острог должен стоять ближе к волоку на Алазею. Михей же спорил, что надо строить ближе к морю. Тянули жребий из шапки, гадали на Пашкиной Библии, выпадало то так, то эдак. Переругавшись, служилые и промышленные решили призвать человека, стороннего ватажным распрям, — шамана Чуну. Ламут камлал без бубна, плясал, разговаривал с деревьями, кидал жребий. С его руки три раза сряду выпадало одно и то же место — на колымском берегу против устья Анюя с островом. Спорщики молчали: кто с недоверием, кто с недоумением. Первым откликнулся Стадухин:
— А что? Если на острове делать ярмарки — удобно собирать пошлины.
Промышленным людям место не нравилось из-за редколесья. Семейка Дежнев со смешком заявил:
— Ярмарку торговые сами выберут, нас не спросят!
— По воеводскому указу пошлины и десятину надо брать на месте! — с прежней яростью раскричался Зырян. — А будут здесь ярмарки или нет — по воде писано!
Но оба они, Семейка насмешкой, Зырян криком, оттолкнули от себя часть промышленных людей. Непокорного тойона со среднего течения реки побили и зааманатили, но не покорили. Мир с ним мог быть порушен в любое время, поэтому стадухинские казаки и большая часть промышленных людей поддержали шаманский жребий. Пашка молчал, с умным видом оглаживая Библию в кожаной сумке. Зырян тряс сосульками бороды и тормошил его:
— Ты почитай, почитай им, что там сказано про диких, — тыкал пальцем в суму, перевешанную через плечо казака.
— Надоели! — проворчал Пашка с недовольным видом. — Через жребий Бог указал!
Митька Зырян в сердцах плюнул, стал бросать в струг одеяла, котлы и ружья. Мотора с Беляной тоже грузились, чтобы плыть с ним выше по течению реки к Алазейскому волоку. Дежнев смущенно топтался на месте, не зная, к кому примкнуть.
— Иди-иди! — отмахнулся от него Стадухин.
Семейка улыбнулся земляку, собрал свои вещи на коче и перенес их в струг.
Едва речная волна стала выбрасывать на берег желтую хвою, Михей Стадухин с Федькой Катаевым на легкой берестянке поплыли левой протокой в зимовье. Пройдено было не больше трети знакомого пути, но изумленному взору атамана открылась изба, обнесенная надолбами. Из-под плоской крыши из волоковых окон на две стороны курился дым. Казаки вскоре были замечены, к воде вышел Втор Гаврилов, Пантелей Демидович с фузеей в руке ждал возле жилья.
— Погромили? — крикнул Михей, торопливо подгребая к берегу.
— Чукчи сожгли! — смущенно ответил Втор и виновато прищурился. — Мы ушли целыми, животы свезли: не могли тушить и отбиваться разом. Но аманаты бежали…
Опустив голову, атаман устало выругался. Федька вышел на берег, вдвоем со Вторкой они вытянули лодку так, что Михей сошел с нее, не замочив ног.
— А вы сыскали серебро? — Втор переминался с ноги на ногу и мотал нечесаной бородой с запутавшимися в ней чешуйками.
— Нет! — резко ответил Стадухин и стал выбрасывать набитую птицу, котел, одеяла, два боевых тунгусских лука. Федька в драной парке подхватил саблю, на одно плечо взвалил пищаль, на другое — снизку уток.
Подошли промышленные, оставленные Афоней, взяли выгруженное добро, понесли к избе.
— Брешут про серебро! — на ходу отвечал Михей, не спрашивая про убежавших аманатов. — То там укажут, то в обратной стороне. Насмехаются!
— От Анюя не спали, — зевнул, усевшись на чьи-то нары, обвел равнодушным взглядом потолок в саже, закопченные стены, прилег, не сняв сапог. Федька тоже отказался от еды.
Калиба озадаченно поглядывала на атамана и Втора. Прибывшие быстро уснули и спали долго. Когда стали потягиваться и зевать, им принесли еды. Пантелей развалил испеченного в глине, густо парившего гуся. Сказов, от которых бы стыла кровь в жилах, не дождались ни те, ни другие.
— Серебро-то что? — опять спросил Втор.
— Бес его знает, есть ли оно! — выругался Михей.
Федька обиженно шмыгнул носом:
— Хотели завести нас в гиблые места и уморить…
— Наказ воеводы исполнили — искали, — тряхнул бородой Стадухин. — Узнали, что притоки падают из рыбных озер. Собирайтесь, пойдем вверх. Там казаки с промышленными топорами машут, острог строят.
Федька, быстро переменившись в лице, закудахтал с обычными смешками:
— Много споров было, но заложили против Анюя. А Зырян ушел на прежнее погорелое место.
— Знать бы наперед, что вы там, не строили бы эту избенку, — метал по углам виноватые взгляды Втор. Поднял голову, взглянул на Стадухина, напряженно кривя губы. — Твоя-то сама ко мне пришла, не сманивал, — обмолвился с виноватым видом и снова опустил глаза.
— Забери! — отмахнулся Михей, окинув рассеянным взглядом невинно улыбавшуюся Калибу. — Собирайтесь, а то холодает.
— Мы тут как раз пару стружков сделали для рыбалки, да ладненькие такие, — веселей засуетился Втор.
Собрались быстро, подперли колом дверь и поволокли лодки вверх по протоке к реке. Мужчины тянули бечевы, Калиба стояла на шесте. Хрустел под ногами примороженный ночью мох, хлюпал ил и плескалась стылая вода. Листва с берез облетела не вся и ярко желтела в лучах осеннего солнца, парившего над розово-рыжей осенней дымкой. Редкие тени скрученных приземистых деревьев шевелились на воде. В сумерках развели костер из сухого плавника, бросили жребий и выставили караул. К утру протоку от берега до берега сковало тонким льдом. Пришлось разбивать его шестами и веслами, пока не вышли на узкую полосу незамерзшей воды, по ней добрались до коренной Колымы. На месте будущего острога уже были срублены стены съезжей избы, пахло дымом, смолой и свежим, выпавшим ночью, снегом. При поднявшемся солнце он быстро таял, шлепался с ветвей лиственничной поросли, шевелил склонившийся к воде кустарник. Издали лес казался темно-красным, а дымы костров — синими.
Все темней становились ночи, короче и пасмурней дни. Поставив тын, промышленные разошлись по станам. Казаки продолжали укрепляться, заново аманатили подведенные под государя роды колымцев и анюйцев. Так прошла еще одна зима. После вскрытия реки к острожку сплыли казаки и промышленные люди с добытыми мехами. Афоня Андреев с толмачкой Бырчик решил вернуться на Лену. Если бы не ложные слухи о серебре, Стадухин отправился бы туда еще прошлым летом. Его казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков напросились сопровождать казну. Остальные о возвращении не думали. Михей брал с собой обжившегося среди казаков ламутского аманата Чуну. Его надо было поставить перед воеводами, да и сам он хотел увидеть главный казачий острог.
Из зыряновских людей решили вернуться Зырян за правдой от воеводы и Семейка Дежнев из-за ран. На всех был один коч, сделанный на Оймяконе. Занятые войной и укреплением ясачного зимовья, другого в верховьях реки не построили. Из прежних служилых первопроходцев здесь оставались Втор Гаврилов, Мишка Савин Коновал, Пашка Левонтьев, Ромашка Немчин, Сергейка Артемьев, Федька Катаев. Поскольку Стадухин с Зыряном не смогли поделить открытую ими реку и готовились к возвращению, соборным решением двух казачьих отрядов на Колымский приказ был избран грамотный Втор Гаврилов. Под ним оставались два острожка, зыряновские казаки Семейка Мотора с Поспелкой Беляной, а также, сидевшие на Алазее Лавр Григорьев, Иван Ерастов, Селиван Харитонов, Макар Тверяков, Михейка Семенов.
Дел для них для всех было много. По слухам от промышленных ватаг, пришедших сухим путем с Алазеи и Индигирки, там стояло много кочей торговых людей, державших свой товар для Колымы. Летом здесь ожидалась богатая ярмарка. Общим решением казаки и промышленные взялись готовить для нее место на острове против устья Анюя.
В очередной раз оголилась от снега тундра, наполнившись кряканьем, курлыканьем, гоготом, воплями. Оттаяли озера, но на морском побережье лежал лед, на нем мирно дремали нерпы и в поисках поживы бродили медведи. Только в конце июня налетел южак. Заскрипели крыши изб, затряслись стены, ветер бушевал трое суток сряду, разбил льды у берегов, отогнал крошево на север и стих, сменившись плотным туманом.
6. Приострожные службы
Выжидая подходящей погоды, Стадухин с казаками, промышленными и толмачкой Бырчик простоял в колымской протоке до Купалы. Только к этому времени задул попутный ветер и при низком облачном небе, тяжко переваливаясь с волны на волну, с борта на борт, плоскодонный коч двинулся на закат дня. Борта его были сшиты ивовыми прутьями и березовыми корнями из толстых тесаных полубревен топольника. Он был сделан для плаванья по реке, но дошел до Колымы и теперь держал курс к низовьям Лены. Пантелей Пенда называл этот коч ладейкой и ловко правил им в море. Теперь на его месте стоял Афоня Андреев в оранжевых, задубленных корой, ровдужных штанах. Немногословный, неторопливый, добродушный, с блуждавшей улыбкой в бороде, он повел судно так круто к северу, что вскоре пропала из вида полоска суши с застрявшими льдинами и грязной рябью мелководья.
Зырян дергался, проталкивался меж гребцов, давал советы и чертыхался, взывая к разуму плывущих. Афоня ни словом, ни взглядом не отвечал на его брань, даже не кривил тихой улыбки в бороде и уголках глаз. Вздорный казак кинулся к Стадухину, сидевшему на носу судна с шестом поперек колен. Тучи рассеялись, небо и море слились в единую синь в цвет глаз Арины. Завороженный, Михей глядел на запад, всем телом ощущая, как сажень за саженью, верста за верстой приближается к жене. Попутный ветер вздувал парус, журчание воды под днищем, скрежет льдин по бортам сливались в одну радостную песню. Он улыбался, сидя спиной к спутникам, слышал позади шум, но не хотел вникать в суету и портить радость души. Зырян схватил его за плечо, затряс. Второпях и страстях десятник где-то обронил шапку, голова его торчала из парки выдернутой из земли репкой, глаза горели.
— Ты погляди, погляди, куда правит! — визгливо вскрикнул и стал тыкать пальцем в сторону пропавшего берега.
Стадухин досадливо обернулся, смурнея, поднял на соперника потускневший взгляд, долго не мог понять, что ему надо. Когда дошло-таки, мотнул бородой:
— Афоня хороший мореход, он знает, что делает! — Нахмурился, сердясь, что оторван от созерцания синевы.
Зырян не мог смириться с тем, что находится на чужом судне, правит им не сам и даже не казак, а промышленный. Стадухин старался не слушать ругани, но бес, от сотворения невзлюбивший все светлое и радостное, уже нашептывал, что Арина, переменившая в жизни трех мужей и несколько полюбовных молодцов, женщина знойная, если и прождала обещанный год, то дольше не стерпела. Русские жены при остроге были едва ли не у одного из десяти служилых, другие им завидовали, прельщали и переманивали. Промышленные щедро расплачивались за ласки в гульные летние месяцы.
— Тьфу тебе в рыло! — плюнул за плечо Михей.
Краем глаза увидел невозмутимое лицо Афони на корме, на душе посветлело. Успокаиваясь, подумал, если жена и пригрелась возле какого-нибудь молодца, то, вернувшись, возьмет ее за руку, как возле Илимского острога, уведет и простит. Что уж там? Сам грешен. И припадет к ней, как долго носимый ветрами в море и спасшийся припадает к роднику. Иначе быть не может, лишь бы была жива и здорова. Только об этом молил Господа, а с ее грехами обещал разобраться сам и ответить за них перед Его светлыми очами.
Земляк Семейка Дежнев и десятник Митька Зырян еще в прошлом году отправили против него жалобную челобитную, но Михей на них не сердился, поскольку считал, что не погрешил против воеводской наказной памяти. На каждое из их туманных обвинений у него на уме были ясные ответы, а в душе уверенность, что в следующий поход пойдет с жалованьем атамана или хотя бы с надбавками пятидесятника и, конечно, с Ариной. О награде не сильно-то думал, она должна была прийти сама собой, как расплата за службу. Если воевода велит ехать с казной в Москву — это ему без надобности. За царской наградой пусть отправляются жалобщики Митька с Семейкой. Он им об этом так и сказал. Дежнев в ответ посмеялся, Митька почему-то рассердился, стал орать, доказывая, что он первым услышал про Колыму и нашел ее.
— Не скажи тебе, что Колыма за дельтой, уплыл бы дальше! — язвил и насмехался.
— Воеводы и дьяки рассудят! — мирно отвечал Стадухин. — Я им про вас дурного говорить не стану.
А кочишко бежал и бежал на закат, петляя между льдами, обходя вытянувшиеся в море мели. Незлобливый и бесхитростный Афанасий Андреев был хорошим мореходом, знал путь к Лене, водил суда до Индигирки. Михей доверился ему и не мешал советами, Зырян терпел, но когда понял, что проскочили устье Алазеи, опять разразился бранью. Стадухин узнал места, которыми, по подсказке казака Ивана Ерастова, вышел с Индигирки. Афоня согласился, что, скорей всего, это и есть одна из проток реки. Вода в бочках кончалась, птицу съели и дожевывали юколу. Как ни жаль было терять попутный ветер, но нужда заставляла пополнить припас. Промеряя глубины и осторожно приближаясь к устью реки, с судна заметили три коча, стоявших на якорях: один добротный, восьмисаженный, от носа до кормы крытый палубой, два поменьше и попроще. Со смоленого борта большого судна взметнулся сизый гриб порохового дыма. Стадухин дал ответный холостой выстрел. Афанасий велел спустить заполоскавший парус и выгребать к судам своей силой. Вскоре он подвел ладейку к восьмисаженному борту и ткнулся в него, как щенок в сучье вымя.
— Петруха! — вскрикнул Стадухин, узнав известного ленского промышленного и торгового человека Новоселова, который, подслеповато щурясь, то одним, то другим глазом высматривал прибывших. — С чьим товаром, куда?
Рядом с Новоселовым стояли знакомые сослуживцы Федька Чукичев и Гришка Фофанов-Простокваша, не задержавшиеся на Лене.
— Однако быстро вас отпустили! Наверное, с наградой? — ответил на их приветствия Михей.
— Был Петруха, да вышел! — с напускной важностью отвечал Новоселов. — Нынче Петруха Иванов — таможенный целовальник, — похлопал себя по груди, покрытой суконным кафтаном, — с наказной памятью от воеводы быть на Индигирке, Алазее и Колыме. Так-то вот!
— Как посмели избрать? Говорили, ты в немилости у Головина.
— Теперь в милости за то, что был в немилости у прежнего! — с гордостью отвечал Новоселов. — По нашим жалобам царь-батюшка сменил изверга Головина и призвал в Москву для сыска. Нашлась на него управа.
— Эвон, что? — перепрыгнул на его коч Зырян. — Тебя целовальником, а приказным кого?
— Нынче на Якутском воеводстве Василий Никитич Пушкин, дворянин по московскому списку, правит по совести и правде, лукаво косясь на индигирского и алазейского приказного, — продолжал Новоселов. — А меня избрали целовальником за прежнее непокорство воровской власти.
— Приказным-то кого? — громче и злей спросил Зырян.
— А тебя! — захохотал целовальник. — По твоей жалобной челобитной везу тебе наказную память.
Митька расправил плечи, прихлопнул шапку, метнул на Стадухина победоносный взгляд и восторженно рыкнул. Михей с облегчением рассмеялся: если бы на приказ поставили его, пережить такую милость ему стало бы не по силам.
Пока Стадухин с Зыряном и с Новоселовым переговаривались, привечали, пытали друг друга, казаки и промышленные переходили с борта на борт, искали знакомых и земляков, выспрашивали новости Лены и Колымы. Чуну и Бырчик, говоривших по-русски, усадили в тесный круг. От Чуны вскоре отстали, Бырчишку же засыпали расспросами и едва не на руках носили. Вскоре Михей услышал ее заливистый хохот. Мелькнула мысль, что девку напоили, но было не до нее.
На встречных кочах везли много ходового товара и ржаной муки. Петр Новоселов с торговыми и промышленными людьми ждал попутного ветра, чтобы идти с Индигирки на Колыму. От него казаки узнали, что оставленных Зыряном на Индигирке и Алазее Лавра Григорьева и Ивана Ерастова в прошлом году сменил Андрей Горелый. И те, с собольим ясаком в семь сороков, вернулись на Лену, рассказали там о великой реке Колыме. С их слов и по челобитной Митьки Зыряна нынешним летом на новооткрытую реку отправилась морем большая ватага промышленных людей с передовщиком-мезенцем Исаем Игнатьевым.
— Они же, Ивашка с Лаврушкой, Колымы в глаза не видели, — хохотали стадухинские казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков.
— Зато я на нее насмотрелся! — оправдывал сослуживцев Зырян.
Ленские торговые и промышленные люди, плывшие с Новоселовым, алчно ловили каждое слово очевидцев о богатствах открытой реки, расспрашивали о промыслах и колымских народах, с горящими глазами щупали добытых соболей и лис. Новоселов, Зырян и Стадухин спустились в жилуху с тремя ярусами узких нар, с печуркой из обожженной глины. Целовальник достал из кожаного чехла грамоту с висячей воеводской печатью. Зырян внимательно осмотрел ее и протянул Михею. Стадухин медленно по слогам стал читать, Митька с задранным носом и круглым, напряженным лицом слушал колдобистые, нескладные кремлевские слова, с каждым новым добрел и расслаблялся.
— Так-то вот! — улыбался, ощущая свое превосходство, при особо важных наказах грамоты без обычного запала задирал перст.
— Как править будем? — спросил Новоселов с лукавыми искорками в глазах. — Я — торговыми и промышленными, ты — казаками.
— По совести! — Зырян поднял бровь, глубокомысленно раздаивая сосульки бороды. — Не даст Бог попутного ветра — сухим путем уведу на Колыму и послужу государю. А Мишка пусть везет казну в Москву, хвастает, что первым открыл реку. — Обернулся к Стадухину, выхватил прочитанную грамоту из его руки, показал кукиш и выскочил из жилухи.
— Семейка! — окликнул Дежнева. — Пойдешь вспять на Колыму, без Мишки?
Казак-пинежец, мирно беседовавший с мезенцами, задумался.
— Кабала на мне, — пробормотал. — Своя и общая… Что добыл — придется отдать. С неделю разве погуляю. Вот ведь! — Вскинул на Зыряна потускневшие глаза. — А что? Можно и вернуться! Кабы вы с Мишкой не собачились по пустякам, чего не служить?
Таможенный целовальник Петр Новоселов был послан на дальнюю окраину, чтобы на месте брать государеву десятину лучшими мехами. Воеводы знали, что промышленные стараются продать их на пути к острогам, а торговые — провезти мимо них. Предъявив Афоне наказную память, Новоселов с видом начальствующего человека потребовал показать все меха, добытые его людьми. Осмотрев их, отобрал десятину, при свидетелях сделал записи в окладную книгу и положил к казне. Зырян опечатал мешки присланной ему печатью. Казенные и десятинные меха были переданы Стадухину для доставки в Якутский острог.
От новоселовских людей колымцы узнали, что в прошлом году с промышленными людьми ватажки Ожегова и Корипанова в Жиганы вернулись братья Михея Стадухина. Герасим с Тархом в тот же год добрались до Якутского острога, другие промышленные зимовали в Жиганском, пропились и до сих пор бедствуют там на поденных работах.
Закончив дела, Стадухин с Андреевым слили остатки воды и стали готовить к спуску легкую лодку с бочкой. Михей окинул спутников пытливым, настороженным взглядом: Афонины промышленные веселились, Чуна протяжно пел, Бырчишка скакала, как коза. Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков масляно глядели на нее и хлопали в ладоши. Михей с Афоней с пониманием переглянулись и заспешили: купили по пуду ржаной муки на каждого из своих людей, боясь прогневить Господа, вина решили не брать. Другой товар не был нужен: в Жиганском остроге все стоило дешевле. Лишь перед самым отплытием, удивив передовщика, Стадухин перескочил на торговое судно и вернулся с берестяной фляжкой горячего вина.
Принужденные окликами, казаки и промышленные неохотно сели за весла, коч пошел в глубь протоки запасаться водой, рыбой и птицей, которая теряла перо. Бырчик в нескладной мужской одежде, с выпиравшим из-под штанов брюхом висла на всяком из недовольных гребцов, Афоня бросал на нее тоскливые взгляды, но не корил, не окликал, претерпевая трезвое раздражение. Чуна плясал под приглушенный хохот, но вскоре стал печален, сел в стороне и завел длинную, протяжную, как волчий вой, песню. Встали на якорь. Плыть за водой могли только двое: передовщик и Михей. Ловить рыбу и птицу, собирать плавник спутники не желали.
— Гульной день, давай! Намучились! — Оглядывались на едва видимые торговые суда.
Афанасий Андреев не пил ни вина, ни сусла или бражки. От них ему делалось плохо. Стадухин мог пить помногу, но недолго: уже на другой день его воротило от винного запаха. Втайне он даже завидовал веселившимся, но торопился на Лену, боясь упустить ветер и удачу. Чуна умолк, оборвав песню на вздохе, свесил голову, посидел минуту-другую, повел по сторонам злыми, сжатыми в щелки глазами и закатил оплеуху ближайшему из сидевших промышленных людей. Его связали. Он не противился, ткнулся носом в мешок с рожью и затих. На другой день все хмуро работали, оглядываясь на торговые суда, то и дело намекали Стадухину, что готовы перекупить его фляжку.
— Знаем, у тебя есть! — канючили. — Отдал бы за перекупную цену, чего добру пропадать?
Бывший атаман сердито молчал, губы его были сжаты, глаза холодны, под облупившимся носом задиристо топорщились рыжие усы. Он чувствовал, что ветер может перемениться, и виноватых в том нет. Так и случилось. На другой день новоселовский караван судов снялся с якорей и ушел в море. Запас воды, еды и дров пополнялся несколько раз, так как в протоке пришлось простоять полторы недели.
Наконец, снова задуло с восхода. На судне подняли парус и продолжили путь вдоль унылого тундрового берега. На пятый день добродушное лицо Афонии посуровело, он что-то напряженно высматривал вдали и наконец указал Стадухину:
— Святой Нос! Гиблое место. Многие суда здесь побились, и твой сослуживец, Федька Чурка, на берег выбросился.
Обойдя мыс, Афоня незлобливо чертыхнулся. Прямой путь к западу был забит льдом. Казакам и промышленным пришлось сесть за весла и продвигаться, отталкивая льдины шестами. В заливе за Носом им встретился знакомый коч торгового приказчика Стахеева. Судно болталось на якоре, дожидаясь попутного ветра, чтобы плыть на Колыму. С него махали шапками, подзывали. Понятно было, что встреча не могла обойтись одними приветствиями и обменом новостей.
— Прошлый год у нас был, — весело загалдели казаки и промышленные, глаза их заблестели. — Неужто, успел обернуться за товаром?
Как ни спешили Михей с Афанасием, как ни ценили каждый день и час пути, но пройти мимо не могли. Сжав зубы, Стадухин согласился переменить курс. Афоня подвел суденышко к смоленому борту добротного купеческого коча, при резкой волне отмели ткнулся в него тупым носом.
— Чтоб вина никому не покупать! — прикрикнул казак на служилых и промышленных. — Кто ослушается, в кровь морды разобью!
Стахеев смиренно поклонился земляку и заговорил с печальным видом:
— Здравствуй, Михеюшка! Ангела тебе доброго, дорогой сродник!
— Что за беда? — Стадухин перескочил на его судно.
— Пограбили меня мои же покрученники! — качая головой, стал жаловаться Стахеев.
Вокруг него толпились подручные и торговые люди. Среди них Стадухин высмотрел Федьку Голого, прибыльно торговавшего на Лене. «Маловато народа, чтобы вести тяжелый коч!» — отметил про себя и настороженно спросил:
— Ты в какую сторону?
— На Колыму! Там у меня ватага промышляет. Живы ли?
— Живы были, когда уходили! И что теперь? Искать грабителей?
— Да где ж их сыщешь? — всхлипнул пинежец, зарозовев оспинками по щекам. У Стадухина отлегла от сердца тревога. — Все равно объявятся в Якутском, мимо не пройдут. Пусть воевода взыщет. А ты свези ему мою жалобную челобитную.
— Добро! — повеселев, согласился Михей и, обернувшись к передовщику-мореходу, приказал покрепче пришвартоваться. — Только пиши быстрей, каждый час дорог.
— Да у меня все написано. Нацарапаю, что с тобой грамотку шлю, и ладно.
Афанасий Андреев перешел на борт стахеевского коча, поприветствовал знакомых и встречных.
— А что это вдруг покрута взбунтовалась? — полюбопытствовал.
Стахеев стал обстоятельно и нудно рассказывать:
— Я в немилости у нового воеводы оттого, что был в милости у прежнего. Пострадавшие от Головина теперь взыскивают с нас, с тех, кто с ним ладил. Вернешься, даст Бог, пойдешь на поклон к Пушкину, помни! А покрученники мои взбунтовались, что их Головин заставлял строить острог за один только прокорм, а я при нем прибыли получал, вот они и решили взыскать с меня ходовым товаром. Серебро искать соблазнились, дураки. Государю, мол, послужим, он нас простит, а от вас, торговых, не убудет. А то, что мы ради прибылей круглый год маемся под парусом да на нартах, того им, завистникам, не понять.
— Ты давай-ка побыстрей, — поторопил земляка Студухин.
— Заемную грамотку на себя дали? — не обращая на него внимания, продолжал спрашивать передовщик.
— Дали! — тяжко вздохнул Стахеев и опять поднял руку с пером, обмокнутым в чернила. — Да когда теперь с них взыщешь. А меня на Колыме ждут. Следом плывут Епифанка Волынкин с Богдашкой Евдокимовым, Федотка Попов в устье Лены ждет своего приказного, посланного в Якутский за дозволением промышлять и торговать. Через год-другой на Колыму каждое лето будут приходить по десятку кочей. Успевать надо, а тут беда…
— Пиши, пиши! — сердито взглянул на разговорившегося приказчика Стадухин.
Стахеев опустил нос к написанной челобитной, снова обмакнул перо, старательно дописал несколько строк и присыпал их сухим песком. Михей с беспокойством зыркал по сторонам, приглядывая за своими людьми. Лица казаков ему не нравились. Бырчишка открыто выспрашивала, есть ли вино.
— Я вам сторгуюсь, дети блядины, так сторгуюсь, вы у меня водяному дедушке будете петь и плясать! — пригрозил рыкающим голосом.
Два коча недолго простояли рядом. Как ни просили люди Стахеева и Голого показать добытые на Колыме меха, Стадухин потряс перед ними паевым сороком черных соболей и велел выгребать из залива. Промышленные и казаки неохотно скинули швартовы, оттолкнулись шестами от купеческого коча. Афоня вскрикнул, тревожно озираясь по сторонам:
— Девка где? — Бросив руль, перемахнул на другое судно и вытащил из-под палубы упиравшуюся толмачку. — Спряталась, стерва!
Бырчик была пьяна и кричала, что желает вернуться на Колыму.
— Оставь ее нам! — смущенно попросил передовщика Стахеев. — Дадим хорошую перекупную цену товаром. Мы ведь одного купца пайщики и покрученники, чего там?
— Не продается! — рыкнул Афанасий и вместе с царапавшейся девкой перескочил на свой коч.
Прижав ее к себе одной рукой, встал к рулю, а едва суда разошлись на десяток саженей, отпустил вопившую толмачку, не вступая с ней в споры. Промышленные и казаки помалкивали, но глядели на него с укором.
— Куда спешим? — приглушенно роптали, выгребая. — Льды кругом. Постояли бы, рыбки наловили, в мясоед последнюю юколу доедаем, вода кончается.
— Вода в устье Яны солона и рыбы нет! — терпеливо отвечал Афоня.
— Постояли бы недельку-другую, — канючили казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков. — Сам говорил, что прямым сухим путем Лена ближе.
— Гребите, пока Бог дает путь! — ругнулся Михей. — Радуйтесь и терпите.
— И на Семейку Дежнева зря ты взъелся. — не унимался Артюшка, а Бориска смотрел за борт и громко сопел. — Его Бог любит, оттого ему раны и неудачи, а нам облегчение! — Лица казаков были трезвы и печальны. — Еще на Оймяконе приметил, — продолжал корить Артюшка, — пока он сидит в зимовье — нам Бог помогает, как ты его выпроводишь — не с воза упадем, так бык обгадит!
— Не за столом воздух испортишь, так в церкви! — хмуро буркнул Бориска и опять отвернул нос.
— Что мелете! — вскипел Стадухин, понимая, что казаки недовольны только тем, что не дал купить вина. — Мы с Алазеи на Колыму без Семейки дошли при попутных ветрах, не зная пути.
Артюшка с Бориской не нашлись как возразить. Помолчав, один прогнусавил:
— Знаем, что у тебя вино есть.
Стадухин, задетый за живое, напрягся, вспоминая, что в земляке Дежневе сердило его? Не жаден, не завистлив, покладист…
— Вас пошлешь куда — три раза сбегаете, а он только кобылу запряжет. Облаешь — лыбится, будто дразнит, — проворчал, глядя на зарябившую от ветра воду. Про вино умолчал.
Они шли в виду берега. Красный солнечный блин присел по курсу судна, выкрасив гребни волн. Вместе со скрежещущим крошевом льда коч сносило к закату. Ничего не оставалось, как со спущенным парусом отдаться течению. Михей сменил на корме Афоню, гребцы прилегли отдохнуть, на судне стало тихо.
Стадухин долго смотрел на север, где розовели льды. Когда обернулся по курсу — возле мачты стоял медведь и как-то чудно глядел на него. Михей от удивления разинул рот, дернулся, чтобы перекреститься, — зверь стал скакать на месте, как тот, который не вернулся после купания при заломе. Вглядевшись пристальней, Стадухин заметил, что медведь как-то странно худ и неуклюж: шкура висит, как на жердине, и скачет не так прытко, как тот, и морда неживая. Зверь догадался, что уличен, встал на задние лапы и откинул мохнатую голову за плечи. Из прореза высунулось смеющееся лицо Чуны.
— Ты когда шкуру добыл и как утаил от Петрухи? — слегка заикаясь, спросил Михей. Не дождавшись ответа, мотнул головой: — Вот так да! Я думал — оборотень или водяной потешается.
Впереди открылся узкий проход между льдами и сушей, но Афоня упреждал, ближе чем на две версты к берегу не подходить.
— Что там мельтешит? — Стадухин указал шаману в сторону берега.
Тот долго всматривался, прикрывая лоб ладонью:
— Олени пьют. У них бывает нужда в морской воде.
— Мне тоже показалось, что олени, но стоят по лытки в версте от суши, а то и дальше.
— Мелкий берег. Опасный, — ответил из-за спины проснувшийся передовщик. — Иное суденышко выкинет, люди сутками бредут до сухого. Гиблое место! — Размашисто перекрестился и вытянул руку, указывая курс.
Стадухин опять промеривал глубины шестом, разглядывал разводья и заметил впереди темное пятно. Вскоре стало ясно, что какое-то суденышко идет под веслами.
— Видать, знак! — Афоня перекрестился и стал будить спутников, приказывая сесть за весла.
Пришлось отойти от ледового поля. Коч стало мотать волнами с борта на борт. От нудной качки гребцы зачертыхались. Стадухин тоже тихонько ругнулся. Уже был ясно виден струг в три пары весел. Они шевелились, как лапки жучка, упавшего на спину.
— Пройти мимо — Господа прогневить! — поддержал его передовщик, не отрывая глаз от приближавшегося суденышка. И проворчал: — Сдурели! На стружке льды обходить?
— Вдруг нужда какая? Или ветром унесло?
Передовщик пожал широкими плечами, казаки и промышленные стали подгребать к плывущим. С коча уже видно было, что люди на струге не терпят бедствие, но пробираются к Святому Носу вдоль кромки льдов.
— Да это же Ивашка Баранов с Гераськой Анкудиновым! — вскрикнул кто-то из промышленных.
Стадухин пробрался на нос судна, стал узнавать и других сидевших за веслами в струге. Все они были из отряда сына боярского Василия Власьего, посланного на Яну перед оймяконским походом. Струг подошел к борту коча.
— И откуда же вы, удальцы, плывете? — весело глядя на казаков, спросил Стадухин.
— С Янского зимовья! — небрежно ответил Герасим Анкудинов, поднимаясь на ноги. Иван Баранов угрюмо помалкивая, кивнул старому товарищу.
— А мы с Колымы-реки! — торжествуя, приосанился Михей.
— Слыхали! Туда и гребем! — зашумели в струге.
— На стружке, на Колыму? — язвительно хохотнул Артемка и с видом бывалого человека окинул шестивесельный струг презрительным взглядом. — Можно заживо отпеть, как покойников! Про Федьку Чурку слыхали?
— Слыхали!
— На том самом мысу, на Чуркином разбое, со слов Петрухи Новоселова, Андрейка Горелый разбил коч и кочмару в две мачты, едва жив сухим путем ушел на Индигирку.
— Он от нас узнал про Горелого! — с вызовом, сплюнул за борт Герасим Анкудинов. — Встретим попутный коч, пересядем! — Блеснул холодными глазами. — Нынче на Яну торговые и промышленные носа не кажут, все идут на Колыму!
Люди в струге сложили весла, встали, распрямились, придерживаясь за борт, в пояс поднялись над ним, разминали затекшие от долгого сидения ноги, но на судно не перешагивали.
— Так-то! — опять рассмеялся Михей. — Я вас звал на новые земли! Должиться боялись. Вот вам и государев подъем! — Он чувствовал себя победителем. От душевной раны, которой страдал много лет, отсыхала последняя короста.
— Однако нас сносит в обратную сторону! — резко дернул бородой Герасим Анкудинов.
Струг раз и другой ударило о борт коча, янские казаки сели и разобрали весла, показывая, что им некогда заниматься пустопорожними разговорами.
— Чьим наказом плывете? — торопливо спросил Стадухин, теряя напускную важность.
— Сносит! — оглядываясь на берег, согласился с товарищем Иван Баранов. Гребцы стали отталкиваться руками от борта. Никто не отвечал на вопрос. Подавшись вперед, Михей торопливо спросил:
— Петруха Новоселов сказывал, что воевода в гневе отозвал Власьева с Яны. Так ли?
— В тюрьме ему место! Казенных коней якутам продал, нас принуждал в нартах ходить гужом! — скаля зубы, со злым удальством откликнулся Анкудинов, резко оттолкнул корму, его гребцы взмахнули веслами.
— Кто сейчас на Яне? — торопливо крикнул Стадухин.
— А никого! — обернулся Герасим. — Ясачные разбежались, соболь выбит, делать там нечего. На Колыме государю послужим. Нынче все про нее говорят.
— Беглые, что ли?
Гребцы, налегая во всю силу, дружно захохотали в девять глоток.
— Удальцы! — восхищенно крикнул вслед Михей. — Спросят про вас на Лене, что сказать?
— Властью брошены, пошли самовольно на государевы дальние службы! — гаркнул Анкудинов и повернулся спиной к старому товарищу.
— Вот ведь! — уважительно пробормотал Стадухин. — Настоящие казаки: полны штаны достоинства — даже муки не попросили.
Ветер то терялся, стихая, то усиливался порывами и скручивал парус. Несколько раз его поднимали и снова спускали. Коч медленно, но упорно продвигался к янскому устью. После встречи с беглыми казаками и анкудиновского плевка на воду водяной дедушка сильно осерчал: стадухинский коч то пробивался сквозь ледовое крошево, не замеченное издали, то шел под парусом по открытой воде при недолгом попутном ветре. Но войти в устье Яны Афоня не смог. Гребцы тихо поругивали Гераську — явно навлекшего вынужденный голод и жажду. Шел редкий дождь, просекаясь колкими снежинкам, с левого борта виднелась тундра. Резкая мелководная волна швыряла коч, заваливая то на один, то на другой борт. По курсу в холодном тумане показалась такая же земля, что и с левого борта, с грязной водой мелководья. Она тянулась на север.
— Узнаю! — разлепил губы передовщик. — Устье Омолоя недалече, — указал Стадухину на долгий мелководный мыс. — Становись на шест, попробуем обойти!
Гребцы обреченно зароптали, волна стала бить в борт, окатывая их брызгами.
— Здесь бы выгрести! За мысом к Омолою выбраться легче! — утешал и настораживал их передовщик-мореход. — Там хоть и замороз возьмет — можно сушей выйти на Лену. А здесь застрять — мелководная волна если не разнесет в щепы, то забьет илом, засосет по борта, а берег — не спасение.
Гребцы, ежась от сырости, тоскливо посматривали на мокрую грязно-желтую тундру с ржавыми озерами. Высаживаться на нее никому не хотелось. Мыс тянулся непомерно долго, и наконец показалась коса. Коч обошел ее. Здесь не было волн. Вдали от мелей мореход повел судно в полуденную строну. Будто смилостивившись над утомленными людьми, из-за туч пробился робкий луч солнца.
— Что там впереди? — крикнул Стадухин, указывая в даль.
Снова казаки и промышленные вглядывались с такими лицами, будто подплывали к старому Ленскому острогу. Мелькнула и пропала какая-то тень. Выбирая полыньи и открытую воду, коч то приближался, то отгребал от берега. В устье Омолоя, наконец, разглядели стоявший на якоре двухмачтовый коч с высокими бортами. Стадухин велел пальнуть холостым зарядом из пищали. С коча дали ответный залп. Кренясь и раскачиваясь, потрепанное суденышко подошло к нему.
— Эвон сколько рож-то знакомых! — хохотнул бывший атаман, едва ворочая иссохшим языком, и с удальством сбил на ухо шапку.
На борту встреченного судна толпились два десятка торговых и промышленных людей, с любопытством разглядывали наспех построенный казенный кочишко со снастями из кож и кореньев. Михей перелез к ним на палубу, попав в объятья Федота Попова и его конопатого племянника Емельки. Огляделся, выискивая знакомых попутчиков от Илимского острога. Все прежние своеуженники были здесь: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов.
— Другой приказчик где? Лука? — полюбопытствовал.
— Мы с ним разделились в Ленском, — охотно ответил рыжий как солнце Емелька Степанов.
Жаждущие слышать от очевидцев о реке-Колыме, они щедро поили и кормили встреченных людей. На их просторном коче стало тесно. Федот с племянником подхватили под руки Михея, потащили в жилуху для расспросов и бесед. О себе говорили кратко и неохотно, что после расставания зимовали в Ленском, претерпели от власти тяготы и унижения. Весной с торговыми и промышленными людьми ушли на реку Оленек, которая по другую сторону от ленской дельты. Но промысловых мест оказалось мало. Роды, дававшие прежде ясак Ивану Реброву, пришлось заново подводить под государеву руку. Федот Попов с племянником да гусельниковская ватага приказчика Бессона Астафьева воевать не хотели и этим рассердили других, их вытеснили в тундру, где всю зиму пришлось одним отбиваться от нападений. Ни промыслов, ни торга не получилось. Кое-как перезимовали и летом поплыли на другую сторону Лены, здесь услышали о Колыме. Федот, не распродав товар, остался, а Бессон с их общей десятинной податью ушел в Якутский острог просить отпускную грамоту на дальние реки. Вдруг там возместятся многие убытки купца Усова. Стадухин печально косился на чарку настоящего горячего хлебного вина, от одного вида которой уже празднично кружилась голова. Но путь был не закончен. Поколебавшись, он сказал, что пить не может по зароку. Розовощекий Емельян, уже поднял чарку и скорчил обиженное лицо:
— Если кишки болят, так выпьем за здравие, на пользу!
— Не может, значит, так надо! — оборвал племянника Федот и опустил на узкую столешницу свою чарку.
Емельян помялся, крякнул и выпил один. Михей, не сводя тоскливых глаз с наполненной чарки, стал рассказывать о богатствах Колымы, о слухах и догадках про неведомую реку Погычу, про Большую Землю, что виднеется за льдами от Святого Носа до Колымы и дальше. Потом велел привести аманата Чуну, который наравне со всеми выгребал против ветров. По лицу ламута видно было, что он еще не успел приложиться к чарке. Михей придвинул ему свою:
— Прими угощение от моих друзей!
Чуна острым, сметливым взглядом окинул стол, молча поднял чарку, понюхал, шевельнув крыльями приплющенного носа, облизнулся, как кот, и стал пить мелкими глотками, благостно смеживая щелки глаз. Поставил пустую чарку на стол, глубоко вздохнул и сел, ожидая, когда заискрятся, запоют воздух и стены. Федот с Емелей начали расспрашивать его о Великом Каменном поясе, с которого в разные стороны света текут в океаны реки. Чуна, восчувствовав волну хмеля, повеселел и стал вдохновенно говорить.
— Успеем ли? — вздохнул Федот. — Прибудет Бессонка с отпускной грамотой на Алазею и Колыму, а там уже на Погыче ярмарки. — Пристально всмотрелся в глаза Стадухина. — Ты вот что, если встретишь его в Якутском, передай, чтобы просился на Колыму и Погычу.
От Федота Попова люди Стадухина и Андреева узнали, что Омолой безрыбен, как и Яна. Рыба ловилась только в устье, и то плохо. Опять купили ржи, заправились водой, нарубили дров из плавника, набили птицы, слегка отъелись и спешно вышли в море. Выбравшись из ленской протоки на большую воду устья великой реки, Стадухин скинул шапку и страстно помолился. Путь до Ленского острожка был не короче пройденного, но известен и нахожен. Прощаясь с морем, он достал зарочную фляжку и вылил вино за борт, в благодарность водяному, что не сильно вредил в пути. Продрогшие казаки и промышленные от такой расточительности зароптали.
— Хватило бы и половины!
— Теперь-то можно бы и вовсе не лить!
Стадухин с усмешкой вытряс за борт последние капли и спросил:
— Кто знает, что больше никогда не пойдет в Студеное море?
Спутники угрюмо молчали, налегая на весла, передовщик Афанасий, глядя на них, добродушно посмеивался. В Столбовом зимовье служил Дружинка Чистяков, бежавший когда-то с Вилюя на Оленек. Служил «не в прием» — денежного жалованья не получал, но до прошлого года присылали хлебный оклад, потом перестали. Старый казак попросился идти с оказией в Якутский острог, хлопотать о жалованье у нового воеводы.
— Возьмем! — согласился Михей. — Не теснимся! — Вспомнил, что когда-то завидовал этому беглецу, бежавшему с Вилюя в Жиганы к вольнице Ивана Реброва. Но, встретив обветшавшего казачьего десятника, пожалел его.
По Лене казаки и промышленные поднимались то бечевой, то своей силой и парусом. Под бахилами хрустел мох, звонко ломался лед заберега. До Жиганского ясачного зимовья оставалось верст сто, когда пошла шуга. Путники вытянули коч на сухое, возвышенное место, сделали лыжи, нарты и пошли пешком. Время от времени они ночевали на станах и в промысловых зимовьях, по которым оседали старики и люди, потерявшие надежду разбогатеть. Они кормились рыбой и зверем, делали лыжи, нарты, лодки для продажи проходившим ватагам, охотно вспоминали о прежних скитаниях по Сибири, но уже никуда не рвались. Михей с любопытством всматривался в их лица и, к удивлению своему, находил в них что-то общее со старым сибирским бродягой Пантелеем Пендой.
Наконец, показалось Жиганское зимовье. По левому берегу Лены, в устье притока Муны стояли две избы, в них просторно жили семь ленских казаков-годовальщиков. Вокруг изб теснилось множество землянок, избенок, лачуг, балаганов, в которых временно ютились торговые, промышленные и гулящие люди: одни наживали богатство, другие проматывали его долгими зимами. Здесь Стадухин встретил двух Иванов: Ожегова и Корипанова, оставленных на Индигирке. Оба пришли сюда небедными, начинали, как водится, с бани и сусленок и вот другую зиму перебивались на подворных работах за пропитание.
— Опохмели, атаман! — кинулись к Стадухину.
— Когда последний раз брагу пили? — рассмеялся Михей. — Может быть, накормить?
От них он узнал, что его братья, Тарх с Герасимом, хорошо промышляли и торговали на Индигирке, с ожеговской ватагой выбрались на Лену, на лыжах и нартах ушли дальше. По летним слухам с верховий реки — торговали и рыбачили при Якутском остроге.
Среди таких же гулящих людей Михей встретил спутника по давнему походу на Вилюй промышленного человека Ивана Казанца. Он из первых строил Жиганское зимовье. С Перфильевым и Ребровым не ушел, имел здесь дом, всегда полный проезжими людьми, жену-якутку. Бездетная и некрасивая, она много лет как-то удерживала Казанца при себе. В государевом зимовье прибывших с Колымы окружили почетом и вниманием, едва не на руках носили, угощали дармовой выпивкой, выспрашивая о далекой реке, при этом паевые меха казаков и промышленных людей каким-то образом стали утекать в другие руки. Почувствовав, как затягивает ласковое болото, Стадухин уже на третий день приказал казакам и Чуне собираться в Якутский острог. Дружинке Чистякову гулять было не на что, ему не надо было напоминать о выходе, а промышленные Афони Андреева возвращаться не спешили, брюхатая толмачка скрывалась по избам и балаганам. Умучавшись искать и гоняться за ней, Афанасий решил идти с казаками.
В пути к острогу они вспоминали расспросы жиганских любопытных людей про «рыбий зуб» — моржовые клыки, которые прежде никому не были нужны, а нынче на них появился большой спрос. У костров рассуждали, что если бы вместо серебра искали рыбий зуб, то могли бы найти его у чукчей, глядишь, и везли бы с собой богатство вдвое против нынешнего. Михей опять спешил, да так, что казаки лаяли его, Чуна отлынивал и противился, обветшавший Дружинка кряхтел и охал, пытаясь вызвать сострадание. Спокойно претерпевал тяготы пути один Афанасий.
— Еще полночь, зачем так рано будишь? — возмущались Артемка с Бориской, едва он сбрасывал одеяло и начинал раздувать костер.
— Нутром чую, утро! — Михей возводил глаза к небу, на котором не было ни звездочки, ни лучика, и не мог доказать, что время подниматься, чтобы выйти с рассветом, он это чувствовал, дольше лежать не мог, топил лед в котле, грел застывшую, испеченную или сваренную вечером рыбу.
Спутники, ругаясь, кутались в одеяла, спали до рассвета. Чуна, почитая Стадухина за атамана, некоторое время послушно поднимался, сидел, жался к огню и чесал длинные волосы. Когда разлад с казаками стал очевиден, затыкал уши и спал, пока бывший атаман не толкал в бок.
— Выходить пора, а вы только поднимаетесь! — корил связчиков, и весь путь к Ленскому острожку был непрерывной руганью. Несколько раз Михей грозил идти на пару с Афоней, хотя оба понимали, что с большой казной и богатой долей наверняка будут пограблены встречными русскими людьми или инородцами.
И вот на Казанскую Богородицу показался старый Ленский острог. Когда-то подновленные Головиным стены были разобраны, за ними остались три казенных избы, часовня, два амбара, крытых тесом, на берегу реки — старая баня. Не было многих изб в посаде, дымов курилось меньше, чем при атамане Галкине, и тишина была такая, что Стадухин засомневался: не ошибся ли в счете дней и праздников. Нарты прибывших обступили какие-то заспанные, потрепанные ярыжки. Выцарапывая сосульки с усов, Михей всматривался в их лица и не находил знакомых. Наконец появился служилый в казачьей шапке, раздвинул сгрудившихся людей и раскинул руки:
— Мишка, друг, ты ли?
— Я! — потеплевшим голосом ответил Стадухин, тиская в объятиях Семена Шелковникова. — В казаки поверстался или что?
— В служилых! — по-медвежьи рыкнул Семен. — Иван Галкин освободил из тюрьмы, новый воевода, Петр Никитич, поверстал в казаки, в десятниках служу… Расступись! — грозно окликнул толпившихся людей. — Заходите в съезжую избу! — Повел за собой прибывших.
— Про Арину слыхал что? — нетерпеливо спросил Стадухин.
Семен подхватил бечеву его нарты, с хрустом сорвал с места, обернулся:
— Слыхал! И даже видел на Рождество Богородицы. Приезжала от Абачеевской родни за хлебным жалованьем, плакалась, уходил на год, а уплыл в другую сторону, на неведомую реку.
На Лене уже всякий ярыжка знал об открытой Колыме. Слова товарища приятно польстили Стадухину, но душа затрепетала.
— Там и живет? — спросил волнуясь.
— Там, с якутами! Дежневская Абаканда уже якутенка родила, не стерпела. Похоже, опять брюхата. Твоя-то ничего, ждет, сына растит, не слыхать, чтобы гуляла. Разве там, у якутов, тайком, — весело гоготнул. — Чай не колода, баба все-таки!
— Сын-то мой?
— А то чей же? — громче рассмеялся Семен, смущая Михея. — Оклад на него даю, как на твоего. Абаканда и другого хотела на Дежнева записать, хоть родила прошлый год. Два года носила, что ли? За дураков нас держит!
Семен велел занести нарты в сени. Путники вошли в жарко натопленную избу с кислым запахом браги, скинули шапки, помолились на образа, стали снимать шубные кафтаны и парки. Стадухин распахнул верхнюю одежду, но не раздевался. Все та же хабаровская якутка, которую видел у Семена на Куте, расставила чарки по столу, выложила стопку пресных ржаных лепешек.
— Тут без вас Головин-то разошелся: пол-острога в тюрьмы пересажал, заставил строить Якутский. Черных попов и тех упек. Симеон сидел в холодной, Стефана с Порфирием водили в цепях на панихиды и крестины. Но нашлись люди, не побоялись кнутов, переправили царю жалобную челобитную. Есть правда и на этом свете — нашлась на Головина управа. Пока ехал сюда новый воевода с государевым указом, в Якутский прибыл из Енисейского наш атаман Иван Галкин, освободил заключенных, меня из тюрьмы вытащил, а изверга Головина усмирил. Теперь все, что были раньше в чести, у нового воеводы в немилости, а страдальцам он прямит…
— Выпьем, что ли, во славу Божью, за Матерь Нашу Небесную, Заступницу за народ русский! — Поднял чарку.
Шелковников был в легком приятном хмелю и в охоте поговорить. Стадухин же ерзал на лавке, торопливо соображая, как поскорей уйти к Абачееву роду. Несколько раз, прерывая рассказы десятника, спросил, на прежнем ли месте юрты? Едва начались расспросы о Колыме, сослался на своих казаков, желавших попить бражки в честь праздника.
— Отдам тебе на хранение опечатанную казну, аманата Чуну и свои меха, — сказал Семену. — Сбегаю, повидаюсь с женой?
— Празднику не рад или брага кисла? — проворчал Шелковников. — Нынче погулял бы, завтра в бане помылся, потом — к жене. Если три года ждала — два дня перетерпит… У Дежнихи, поди, и мыльни-то нет. — Но увидев лютую тоску в глазах товарища, согласился: — Ну, если так, приму твою рухлядь… Нынче вокруг Ленского и Якутского спокойно, никто не шалит. По всей Лене мир!
Прихватив пару красных лис, Стадухин бросил на нарту саблю, сунул за кушак топор, встал на лыжи и налегке побежал в улус. Он остановился, чтобы перевести дух, только тогда, когда увидел островерхие крыши четырех урасов — юрт, крытых дерном, соединенных между собой переходами. Над двумя курился дым, вокруг них была черная земля, перекопыченная скотом. Возле одного дыма баба в мужских торбазах и малице неуклюже махала топором, рубила сухостой на поленья. Михей приближался, сердце колотилось все быстрей, гулко стучала кровь в голове. Незлобно залаяли собаки. Бычки и телки разом повернули головы в сторону идущего. Та, что рубила дрова обернулась, выронила топор, села на вытоптанную, выветренную землю, и Михей узнал Арину. Она глядела на него пристально и настороженно, пока не поверила, что это он, когда узнала, задрала голову и по-песьи завыла.
— Ой, обомлела, обмерла вся! Подумала — казак с дурной вестью! — заголосила, не в силах встать на ноги. — Да где ж ты пропадал-то? — Слезы ручьями текли по ее обветренным, поблекшим щекам.
— Жива, слава Тебе, Господи! — Не сбросив лыж, гремевших по мерзлой земле, он поднял ее, стиснул в объятьях, и пропало отчуждение первого взгляда на подурневшее, искаженное плачем лицо.
Она потянула его за наклонную дверь ураса. Он шагнул, споткнулся, взмахнув руками. Чертыхнулся, сбросил лыжи, перешагнул высокий порог, попав в теплый полумрак жилья. Горел очаг, дым уходил в вытяжную дыру. Вдоль стен почти по всей окружности были устроены нары, заваленные одеждой и шкурами. Другая низкая дверь вела в крытый переход. Арина приподняла шубенку. Под ней мирно спал двухгодовалый ребенок. Он открыл глаза, перевел их с Арины на Михея и почти без младенческой картавости спросил:
— Кто это?
— Да отец же твой! — снова залилась слезами Арина.
Михей пристально вглядывался в лицо ребенка, и чем дольше смотрел, тем больше узнавал свое, кровное, перенятое от отца с матерью, от дедов и бабок родовой деревни.
— Наш! Наш! — шептал восторженно, не зная, что делать, как привечать ребенка. Окинул взглядом убогое жилье, где он был рожден. — Ничего, милая, ничего, теперь у нас будет дом.
— Да хоть бы так! — Она все никак не могла остановить слезы. — Только не уходил бы надолго.
— Постараюсь! — бормотал он и как в снах обнимал жену, боясь пробуждения. Только теперь перед глазами мысленно маячил Великий Камень с падающими реками, Каменный Пояс, о конце которого никто ничего не знал. В снах этого не было.
И стали сбываться они. Михей спал и спал, будто отсыпался за все годы, которые мучился бессонницей и видениями. Просыпался, чувствуя с одного бока тепло женского тела, с другого — сына. Ласкал жену, гладил сына, снова засыпал. Сколько времени прошло с тех пор, как попал под якутский кров — не думал, не помнил, пока не услышал крики за стеной из жердей и дерна.
— Валяешься! — вломился в жилье сын боярский Василий Власьев, которого, по слухам, Головин сажал в тюрьму. Борода его была бела от куржака, усы слегка покрывали толстые, бугристые губы.
За ним осторожно вошли Ивашка Ерастов, бывший служилый с Алазеи, и какой-то новоприборный казак. Последним смущенно переступил порог Семейка Шелковников, отвел глаза, виновато укорил сдавленным голосом:
— Ну, ты что? Казну бросил, седьмой день как ушел… Воевода гневается, что пропал, не стояв перед ним.
— Как седьмой? — продрав глаза, сел на нарах Михей. Помнил, что ел, спал, ласкал жену и снова спал, но не мог поверить, что прошло так много времени.
— Думал, третий. Завтра бы вернулся, — пробормотал, винясь.
— Одевайся давай! Велено доставить живым или мертвым! — хмуря брови, объявил сын боярский. — А урасы обыскать: нет ли спрятанной рухляди.
— Две лисы принес на подарки. Все записано в окладную грамоту.
— Смотри! — приказал казакам Власьев.
Двое вышли, чтобы обыскать другие юрты, Шелковников с сыном боярским присели. Стадухин торопливо оделся, удивленно бормоча, что никак не могло пройти шести дней. Арина жердиной стояла у чадившего очага с сыном на руках, испуганно водила большими глазами.
— Ничо, ничо! — мимоходом успокаивал ее Михей. — Сдам казну, вернусь. Переедем в старый Ленский или в новый, как прикажут. Свою избу срубим.
— В новом оставят на службах! — подсказал Шелковников. — В старом нет окладов впусте. Избу тебе купить бы здесь да перевезти в новый и собрать. Так дешевле и быстрей.
Вошли казаки, Ерастов положил перед Власьевым девять соболей и двух лис. Тот посмотрел их на свет, поскоблил пальцем мездру, строго и вопросительно взглянул на Стадухина.
— Соболи не мои! Хозяина! Наверное, ясак за другой год собирает! А лис я принес. Внесены в окладную опись.
— Воевода разберется! — Толстые губы Власьева под мокрыми, оттаявшими усами презрительно дрогнули. — Приказано привести со всеми животами.
— Ну и ладно! — тряхнул смятой бородой Стадухин, окончательно приходя в себя. Распаляясь обычной злостью, блеснул глазами: — Тайком ничего не вез, мне бояться нечего.
Возле урасов стояли закуржавевшие лошади, запряженные в сани, опустив головы, переступали мохнатыми копытами, выискивая на земле случайные стебельки. Стадухин сел на смятое сено за спиной сына боярского. Лошадка напряглась, сорвала прихваченные морозом полозья, поскрипывая, потянула их по земле, по снегу, затем по льду застывшей реки. Следом шла лошадь Семена Шелковникова. К его саням была привязана нарта Стадухина с казной, паевыми мехами и дорожными пожитками. Наконец они переправились через реку по испачканному катыхами зимнику. В ранних сумерках на левом берегу величаво красовался крепкий и большой острог с частоколом высотой в две с половиной сажени, с угловыми башнями на сажень выше, с проездной — посередине заплота, высотой сажени в четыре.
— Когда успели? — ахнул Стадухин, разглядывая строения.
— Два года уже стоит! — скривил мясистые губы сын боярский, и с пережитой болью в голосе добавил: — Алексейка Бедарев начальствовал, выслуживался. За полгода острог поставил. Попил кровушки, Иуда!
— Слыхал на Яне, что Головин тебя звал для сыска, — посочувствовал ему Стадухин.
— Дурак он, этот Головин! — выругался сын боярский. — И казаки на Яне — подлые. Отписали жалобную челобитную, будто казенных коней для своей корысти продал. Да они бы перемерли там в зиму, а я, радея за государево добро, даже за дохлого коня взял с якутов двадцать соболей.
— Прибранное лучше отдать добром! — усмехнулся Михей.
Власьев обернулся к нему всем телом.
— От кого слышал?
— Недалеко от Янского устья встретил твоих казаков. Среди льдов на шестивесельном струге шли на Колыму. Не знаю, дошли ли по молитвам?
— Гераська Анкудинов?
— Он! И еще восемь!
— Меня оговорили и службы бросили, воры! — желчно скривился Власьев.
«Почему все хвалят нового воеводу?» — думал Стадухин, дожидаясь в сенях воеводской избы, когда позовут. К атаманам Бекетову и Галкину казаки ходили без проволочек, когда была надобность. При Ходыреве терся холуй из ясырей, который, бывало, не пускал, когда тот спал. В избе Головина дневала и ночевала охрана. Нынешних же караульных, похоже, и самих за дверь не пускали. Они вызвали лупоглазого молодца с бритым подбородком, тот молча выслушал Власьева, окинул Михея небрежным взглядом и ушел.
Шелковников куда-то пропал. В сени робко вошел Ерастов, приехавший верхом. Трое просидели на лавке больше часа, мимо сновали какие-то холопы, привезенные с Руси и Литвы. Наконец усатый молодец в жупане объявил, что воевода Василий Никитович примет их в съезжей избе. Стадухин с Власьевым и Ерастовым поднялись с лавки, перешли туда, где со скучающим видом сидели за столами письменные, таможенные головы, писари. У дьяка и воеводы были отдельные комнаты.
— Отчего их так много? — спросил Михей сына боярского. — Со всего воеводства собрали, что ли?
— Теперь их всегда много при воеводах, — опасливо озираясь, тихо ответил Власьев. — Целый двор, как у царя.
И опять они ждали, сидя на лавке. Наконец дверь к воеводскому столу распахнулась, другой молодец в жупане, с выбритым лицом, мельком взглянул на ждавших и небрежно махнул им рукой. Воевода с коротко стриженой бородой, с длинными, как у ляха, усами сидел в богатой шапке из черных лис, поверх немецкого платья на плечи была накинута соболья шуба. С неприязненным видом он таращился на Стадухина, пока тот отвешивал поклоны на образа и думал, чем мог прогневить, кроме задержки у жены. Едва нахлобучил шапку и опустил руки, воевода желчно вскрикнул:
— Где шлялся?
— Взяли у венчанной жены в постели! — Угодливо ухмыльнулся Власьев, стараясь смягчить гнев и перевести в смех. Отчасти ему это удалось: усы воеводы дрогнули, но глаза продолжали строжиться. Сын боярский с учтивым поклоном выложил на стол двух красных лис и девять соболей.
— Что скажешь? — покосившись на мех, спросил воевода.
— Заспался с дороги! — пожал плечами Стадухин. — Пришел в Ленский на Казанскую, жена с сыном неподалеку. Забежал. Думал, третий день, сказали, шестой…
— Шестой! — передразнил его воевода с корчами на гневном лице. — Беглых из Янского зимовья встречал?
— Кого это? — не сразу понял Стадухин.
— Кого, кого… — проворчал Пушкин и резко кивнул дьяку. Тот неторопливо развернул список, прочел ровным голосом:
— Ивашку Баранова, Гераську Анкудинова…
— Встречал неподалеку от Святого Носа, — не дослушав, перебил его Стадухин, обернулся к Власьеву с удивленным взором: когда успел донести? Вспомнил про своих казаков и Афоню. — Жаловались, — сказал воеводе, — что остались без приказного и кормов у них нет. Яна — река безрыбная. Плыли на Колыму.
— Почему не вернул? — яростней вскрикнул Пушкин.
— Не было в моей наказной писано, чтобы в янские дела вмешиваться, — начиная сердиться, резче ответил Михей.
— Удержишь их! — промямлил Ивашка Ерастов с каменным лицом. — Разбойник на разбойнике.
Воевода не повел ухом в его сторону, а Стадухин опять удивился: отчего Ерастов волочится за ним и Власьевым?
Четверо молодцов из воеводской прислуги внесли стадухинскую нарту, развязанную и распотрошенную. Вместе с ней в комнату втек едкий путевой запах костров и пота, кислый дух наквасы и кож.
— Показывай казну! — приказал Пушкин желчным голосом.
Михей вынул из-за пазухи свернутую трубкой грамоту, полученную от Зыряна и Петра Новоселова, положил на стол. Снял с нарты кожаные мешки. Печати на них были целы — предъявил их. Воевода тряхнул серебряным колокольчиком, вошли таможенный и письменный головы. Один смотрел печати, другой читал грамоту. С разрешения дьяка печати сломали, вывалили на стол соболей и лис, увязанных в восемь сороков.
— Что сулил казне за поход? — не глядя на Стадухина, спросил воевода.
— Два с половиной сорока!
— Всего сотню? Помнится, где-то записано — полторы?
— Сотню! — тверже объявил Михей. — С Оймякона и того много: места бедные, нежилые.
Тем временем воеводские люди пересчитали рухлядь, сверили с описями и ясачной книгой, о чем-то говорили, склонившись к столу.
— Четыре сорока соболей с Индигирки присвоил незаконно! — усмехнулся воевода, пристально глядя на терпеливо ждавшего разбора Стадухина.
— Незаконно не присваивал! — скрипнул зубами казак. — Коней, порох, свинец, сети, хлеб — все своим заводом брали, у торговых кабалились.
— Не велено казакам торговать! — напомнил Пушкин, отодвигая в сторону паевую долю Михея.
— А кабалиться в путь велено? — спросил Стадухин. Глаза его начали разгораться.
Воевода посмотрел на него долгим, пронизывающим взглядом:
— Смотри у меня! Я не Головин. У меня батоги в полтора аршина, и бью не хуже мастера.
Он постучал колокольчиком по столу. Вошли два молодца в жупанах, уставились на него, как псы на хозяина.
— В казенку, пусть остынет! — указал на Михея и отвернулся, разглядывая привезенных соболей.
Стадухин стряхнул с себя холопские руки, с пламеневшим лицом пошел впереди приставов. Они за его спиной посмеивались, что ведут в самую лучшую и теплую. Привели в свежесрубленную тюрьму, забрали саблю, нож, кушак, открыли толстую тесовую дверь в темную камеру. Михей привалился спиной к стене, медленно сполз, скрежеща кожей парки, сел на земляной пол. Вспоминая встречу с воеводой, удивлялся: не спорил, не буянил, словно был очарован ласками жены, но вместо награды попал в застенок. За что, про что? Тупо глядя в темень, почувствовал шевеление, перевел глаза, понял, что не один.
— Помнишь меня? — спросил чей-то голос. — Гришка Татаринов, на Куте встречались.
Стадухин тряхнул головой, огляделся. В камере разъяснились полдюжины теней. Под боком у него сидел казак. Глаза только начинали привыкать к мраку.
— Ты-то за что? — спросил рассеянно.
— При тебе в верховья Лены Мартынку Васильева посылали, его сменил Курбатка Иванов.
— Помню! — поддакнул Стадухин. — При Пояркове и Головине терся.
— Дотерся! — выругался Гришка. — Выехал с казной на Куту, оставил в острожке десяток служилых, а браты их обложили. Мы с Васькой Бугром собрали сотню промышленных, отбили их, братов заново подвели под государя. А Курбатка стал требовать, чтобы новый острожек ставили по воеводскому указу. Отказали! Так он в благодарность — послал жалобную челобитную. Мы с Васькой и подвернулись под руку новому воеводе, здесь, в Якутском.
— Васька-то где? — тряхнул бородой Стадухин, окончательно приходя в себя.
— Ночевал! Увели незадолго… А тебя за что?
— Свои животы отдал промышленным на Индигирке. Они мне — четыре сорока соболей по уговору. А воевода забрал, не пойму зачем?
— Дал бы сорок в поклон — не забрал бы! — сипло буркнул знакомый голос из другого угла.
Озадаченно помолчав, Стадухин спросил:
— Зараза, что ли?
— Я! — ответил Пашка Кокоулин, желчный и своевольный казак, часто не ладивший с приказными.
— Еще чего! — приглушенно ругнулся Стадухин. — Уходил своим подъемом, сто соболей явил, под добычу кабалился.
— Все так думали, потому сидим. Плетью обуха не перешибешь! — кто-то гнусаво и жалобно просипел из тьмы, потом закашлял. Глаза привыкли к сумраку, Михей всмотрелся узнал сжавшегося в комочек Дружинку Чистякова. — Со мной новый воевода и разговаривать не стал — сразу велел бросить в тюрьму.
— Каждому начальствующему дураку кланяться — спину сломаешь! — сипло буркнул Зараза. Он был непомерно широкоплеч для своего роста и сильно сутул, будто тяжесть жил и плеч гнула к земле.
Дверь распахнулась, осветив сидевших, вошел Бугор без кушака.
— Васька? — не вставая, окликнул его Стадухин.
Бугор присел рядом.
— Давно не виделись… Сказывают, новую реку открыл?
— За то и наградили! — горько усмехнулся Стадухин. — Ты-то чего опять учудил?
— Отказался острог ставить для Курбатки, потом пьяный письменного лаял! — рыкнул казак. — Не сдуру! За дело! Я первый на Лену пришел, Ленский волок открыл. А он кто?
— Не первый, — не удержавшись, съязвил Михей, — но прежде меня. А наградили поровну.
В одной тюрьме со Стадухиным оказались в общем-то самые отъявленные дебоширы из старых ленских казаков, не имевшие ни домов, ни семей. Они придвинулись к нему, стали расспрашивать о дальних реках и Колыме. От вынужденного безделья Стадухин говорил им больше, чем другим, рассказывая, вспоминал, как летними ночами скользит по верхам Великого Камня солнце, как золотисто-желта и богата птицей тамошняя тундра, как на восходах и закатах розовеют песчаные косы и водовороты Колымы. Сам с горечью думал, что если бы не Арина, то лучше бы не возвращаться в этот завшивевший от новой власти край.
На другой день казак повел заключенных за острожную стену. Казенного кормления им не полагалось, узники питались от даров или подаяний. Стадухина встретил Семен Шелковников с хмельными казаками Артюшкой Шестаковым и Бориской Прокопьевым. Они гуляли, собирая вокруг себя толпы слушателей. Все трое сочувствовали Михею и Дружинке, обещали замолвить слово перед начальствующими, передали каравай хлеба, две печеные рыбины. Ваське Бугру приносил еду брат Илейка. Иные из заключенных просили милостыню, потом соборно ели собранное.
Проходили день за днем, о Стадухине будто забыли, а ему все очевидней представлялась справедливость нынешнего положения за давний грех — свидетельство против черного попа, который, по слухам, тоже принял муки в якутской холодной тюрьме. Если на Илиме и Лене это было неприятным воспоминанием, то здесь, в застенке, грех предстал во всей своей ясности. Уже отпустили Ваську Бугра с Гришкой Татариновым, зачем-то держали Пашку Кокоулина-Заразу, вскоре добавили знакомого по службам казака Артемку Солдата. Через неделю о Михее вспомнили. Вместе с приставом за отпертой дверью улыбался в бороду Семейка Шелковников.
— Воевода велит поставить перед собой! — пророкотал обнадеживая, и подал саблю.
Кушак и засапожный нож вернул караульный тюремщик. Семейка повел товарища в съезжую избу. Здесь на писарской половине важно восседал Чуна в добротном русском кафтане, рядом — колымские казаки Бориска с Артюшкой, при них, опять и зачем-то, алазеец Иван Ерастов. На этот раз ждать не пришлось. Безбородый и оттого безликий молодец в жупане позвал всех к воеводе. Стадухин вошел, неспешно положил на образа поясные поклоны, нахлобучил дорожную шапку и перевел на Пушкина по-волчьи спокойный, пытливый взгляд.
— Что? Поумнел? — с начальственной насмешкой спросил тот.
Михей не ответил, ожидая дальнейших расспросов. За стол сели два писаря, разложив бумаги, стали точить перья, мешать чернила. Воевода с важным видом развалился в кресле, письменный голова начал расспрос. Писцы заскрипели перьями. Воевода внимательно слушал, время от времени сам спрашивал. Чуна то и дело выгибал спину, мучаясь сидением на лавке. Семен Шелковников восседал не шелохнувшись, как колода, спокойно поглядывая на воеводу и письменного голову.
Наконец, тяжко отдуваясь, голова прочитал написанное и велел Стадухину приложить руку. Все было как говорилось, и он поставил свою роспись пером писаря, обмакнутым в чернильницу. Воевода спросил Бориску с Артюшкой, с чьих слов, видимо, загодя были сделаны записи. Те подтвердили, что все сказанное Стадухиным — правда. Воевода почему-то вопрошающе взглянул на Ерастова — тот учтиво закивал. Михей, глядя на него, не бывавшего на Колыме, пожал плечами, но, помня воеводский урок, вопросов не задавал. Пушкин постучал колокольчиком по столу, согнувшись дугой, из-за двери угодливо выглянул безликий холоп, что-то понял, ухмыльнулся, и в другой раз вошел с подносом, на котором стояли кувшин, чарки и блины с черной икрой. Не выказывая обиды, Стадухин не стал отказываться от чарки, перекрестившись, выпил во славу Божью. Второй воевода не предложил и отпустил его.
— Иди! Целовальник вернет животы! Даю гульной месяц, потом явишься на службы. Да не проспи под подолом у жены! — властно хохотнул.
Стадухин, не смущаясь и не улыбаясь в ответ на начальственную шутку, шевелил рыжими усами, дожевывая блин с икрой. Хмель ударил в голову, опасаясь шалых слов, он молча вышел в сени. Таможенный голова повел его в казенный амбар, вернул нарту с животами. Михей пересчитал рухлядь — четырех сороков соболей не было. Кроме них, все было возвращено, даже две лисы и девять соболей, забранных при обыске в урасе. Хмель воеводской чарки все еще кружил голову, он сжал зубы и опять удержался от вопросов. Воротник, служилый при острожных воротах, со скрипом раскрыл перед ним острожную калитку, Михей вышел, волоча за собой нарту. Остановился, раздумывая, какое нынче время дня и куда идти. Небо было низким и хмурым: не понять, полдень или сумерки. Оглядевшись, увидел Арину. С выбившимися из-под башлыка волосами она подбежала к нему в торбазах и длиннополой кухлянке, с беззвучным плачем повисла на плечах и тут же отстранилась, смущаясь чужих глаз.
— А я с Нефедкой у Гераськи остановилась! — страдальчески взглянула на мужа. — Больше не у кого. Он же брат тебе! — Всхлипнула, будто в чем-то оправдывалась. — И живет с тунгуской.
— Ну и ладно! Пойдем к нему! Веди, что ли! — сказал и спохватился: — Постой! Мы теперь не бедные. Надо что-то взять в дом. И сыну тоже.
— Так лавки на гостином дворе закрыты! — Арина потянула мужа за рукав, оттаскивая от кабака. — Хочешь вина взять — я схожу, попрошу.
— Вот еще! Мужней бабе в кабак!
— Тогда Гераська сбегает! — с опаской глядя на мужа, стала перечить Арина, и Михей отступился, увидев в ее глазах затаенный страх.
— Я — старший! — пробормотал соглашаясь. — Может и он купить чего надо. Отдарюсь рухлядью.
Дом Герасима в четыре квадратных сажени считался просторным среди временного жилья торговых людей. Добрую треть занимала печь, сложенная из речного камня и глины. Стены были не новы. «Из старого Ленского привез», — подумал Михей, прикидывая, какой дом будет строить сам. Эти мысли донимали его годы дальних служб, но тут, на Лене, все складывалось иначе.
— Ну, здравствуй, брат! — Перекрестившись на образа, Михей стряхнул ледышки с усов.
Герасим метнул на него испытующий взгляд, будто хотел вызнать мысли, и принужденно улыбнулся, тайком глянув за спину старшего на Арину. В лице ее нашел поддержку, заговорил свободней, но с тем же холодком, который появился между ними на Оймяконе.
— С жильем тебя! — Раздевшись, Михей снял со снизки в кожаном мешке пару черных соболей. — Это — подарок в почесть!
— Грейтесь пока, а я схожу к соседу, баньку затоплю, — засуетился Герасим.
— Не помешала бы, — поддержал Михей. — От самых Жиган без бани. В улусе только ополоснулся талой водой. — Он взял на руки Нефеда, глядевшего на отца с теплой печи пристально и пугливо. — Здравствуй, сынок!
От младшего брата Михей узнал, что Тарх в нынешнюю зиму ушел с ватагой пинежских промышленных, а Герасим остался при остроге. Богатства, о котором мечтал, добравшись до Лены, он не нажил, но худо-бедно торговал всяким товаром, а больше — рыбой, которую ловили нанятые гулящие люди.
Бежать в кабак за вином ему не пришлось. После бани, распаренный и разомлевший, Михей заклевал носом, и застолье отложили на другой день. Проснулся он раньше всех, лежал, прислушиваясь к дыханию Арины, вспоминал оймяконские, индигирские, колымские мечты о доме — и вот вынужден был все менять. Строить можно было только при Якутском остроге, и сделать это надо за гульной месяц. Михей думал о том, что строевого леса поблизости нет, его сплавляли с Витима, и Семейка Шелковников прав: придется покупать в Ленском посаде чужую избу со всеми впитавшимися в нее грехами, грязью, прижившейся нечистью, разбирать, везти сюда и ставить для временного житья. Услышав шевеление брата, Михей осторожно высвободился из объятий жены, поднялся, вышел за дверь. Была метель. Он привычно обтерся свежим колючим снегом, положил три поклона на невидимое солнце, оделся и ушел по намеченным делам.
За месяц неподалеку от брата старшим Стадухиным была собрана избенка с печкой и банькой. Прежним хозяином она рубилась из здешнего леса: низкорослого, корявого, сучков на венцах было больше, чем ровной древесины. Клейменой рухляди в мешке убыло, но появился свой кров.
Заканчивались гульные дни, текла обычная приострожная жизнь: днями Михей обустраивал дом, по воскресеньям с женой, братом и сыном ходил в церковь. Издали глядя на Симеона, всякий раз отмечал про себя, как тот постарел и подобрел: от прежнего властолюбия в лице и повадках не осталось следа. Выстрадав душевный покой и человеколюбие, монах смотрел на прихожан ласково и кротко, слушал их не перебивая и в лице его было столько сострадания, что у Михея пуще прежнего затомилась душа. Перед Рождеством, на Страстной неделе, он переборол себя, пошел к нему на исповедь и, поклонившись, попросил прощения.
— Бес так озлил тогда, не думал, что язык мелет. Теперь уже и Ходырева жаль. Вор, конечно, но все равно лучше нынешней власти, прости, Господи!
— Размашисто перекрестился.
Симеон взглянул на него без осуждения, будто пытался вспомнить, кто таков. Вспомнил, поклонился:
— И ты прости мою горячность!
Они поликовались со щеки на щеку, щекоча друг друга бородами. Михей завсхлипывал, вместо исповеди понес какую-то нелепицу. Симеон с пониманием перекрестил склоненную голову и отпустил к причастию. На другой день Стадухин выложил в поклон монастырю две пары соболей. Симеон спросил, что осталось в мешке. От кого-то он знал про отобранные сорока и жалобную челобитную, отправленную царю. Выслушав, принял только двух соболей, чем опять выжал из служилого нечаянную слезу. Отшутился:
— В другой раз, как разбогатеешь, одаришь монастырь, а мы за тебя помолимся!
Вышел срок идти на службы. Воевода при встрече первым делом обругал Михея, показывая, что отправленная им жалобная челобитная мимо него не прошла.
— Да ты хоть весь оклад пусти на жалобы, царь меня будет слушать, столбового дворянина, а не жалобщиков, — прорычал, шевеля длинными ляшскими усами. — А оклад еще получить надо, — желчно усмехнулся. — У меня такой закон: хочешь денежного жалованья — отступись от хлебного, хочешь дальней службы — отступись от годового хлебного и денежного.
Наученный опытом, Михей Стадухин отмолчался, только в карауле пожаловался старому ленскому казаку Илейке Ермолину, когда оба томились обыденным бездельем, стоя возле проездной башни:
— Головина ругают! — Сплюнул, свесившись за стену. — Вынуждал кабалиться, но денег за службы не вымогал. И мир сделал: в улусах порядок, какого никогда не было. Я Парфенку Ходырева ругал: хитер, подлюшничал своей выгоды ради, но разве сравнишь с нынешней властью?
Илейка был трезв, тих и немногословен. Повздыхал, шевеля густыми бровями, поводил по сторонам красным носом с глубокими рытвинами и весьма разумно заметил:
— Сам ничего не пойму! Всю жизнь шел по Сибири, воли искал, от тобольской власти бегал, Енисейский, Братский, Верхоленский строил. По началу вроде бы для себя, для своей защиты, а после оказывалось — на свою шею. Но так, как здесь, нигде не было! — Опасливо зыркнул по сторонам. — Нам-то без них хорошо, а им без нас никак… Мы от них, они за нами. Наверное, не там воли искали. Люди говорят, на Амур бежать надо!
В отместку за жалобу воевода посылал Стадухина в частые острожные караулы и на самые неприличные службы: мирить повздорившие якутские роды, якутов с тунгусами, тунгусов с ламутами. Но после служб казак жил вполне счастливо: свой дом, жена, сын. От благополучия стал слабеть слух, которым и мучился, и спасался на службах, здесь привыкал спать глубоко и спокойно. Между тем все ощутимей давила грудь смутная кручина, что неволей, терпением нелепицы повинностей и самодурства начальствующих можно было жить и на отчине, где земля на сажень пропитана потом предков.
«О такой ли жизни помышляли во времена Бекетова и Галкина?» — все чаще думал, озирая с караульни высокий, крепкий, красивый острог, крашеный купол Михайловской церкви, гостиный двор, амбары за стенами, Спасский монастырь, восемь тюрем и пыточную избу. Втайне он был доволен, что не срубил просторный дом на века, для детей и внуков, как хотел это сделать еще недавно, и смутно подумывал, как бы уйти на дальние службы с женой и сыном. И опять вставала перед глазами Колыма с песчаными косами и водоворотами. Вершины гор, Великий Камень, до конца которого никто не доходил. Воспоминания волновали, и отступалась тоска, порождаемая бессмыслицей нынешнего благополучия.
Возле съезжей избы мел двор Дружинка Чистяков. Деля судьбы многих служилых, доживших до старости и ничего не скопивших, он скитался меж дворов, побирался и зарабатывал пропитание поденными работами. Иногда Христа Ради ночевал у Стадухина. Михей советовал ему проситься в монастырь.
— Пробовал! — отвечал Дружинка. — Там без вклада жить на тех же работах, да еще молиться по ночам велят. А я, если не посплю — работать не могу. Не по силам мне монашеская жизнь!
Казак Иван Пинега колол дрова. Он тоже был в опале и без жалованья, за прокорм работал при воеводском доме бесправней любого пушкинского холопа. Глядя на них с караульни, Стадухин невольно отмечал, что немилостью Божьей оказался не в самом худшем положении.
Прошла зима. При мартовских оттепелях ярче засияло солнце. В эти дни по мокрому зимнику принесла нелегкая торгового человека Никиту Агапитова, у которого перед выходом на Оймякон казаки брали общую кабалу. Кабалились — Стадухин, Втор Гаврилов, Семейка Дежнев, Андрей Горелый, Павел Левонтьев, но по приезде заимодавца при остроге оказался только он, Михей. По словесному уговору отдать долг должны были Горелый и Фофанов-Простокваша по их возвращении с Индигирки. Но тогда заимодавца не было, он торговал на Илиме и Ангаре.
Добравшись до Якутского острога, Никита Агапитов первым делом предъявил Стадухину кабалу, в которой записано — брать плату с того, кого из заемщиков застанет, где кабала ляжет на стол, там по ней спрос. За четыре года кроме долга набежало двенадцать рублей роста. Таких денег у Михея не было. Просить у Герасима огромную сумму он не мог, потому что забрал свою долю на Индигирке. Ждать Никита не желал, оправданий не слушал, требовал от воеводы суда и правежа. Дело принимало дурной оборот: дом Стадухина мог быть продан, семья обречена скитаться по чужим углам. Однако и тех денег не хватило бы в уплату долга. Михей заметался по гостиному двору в поисках нового заимодавца, но никого из знакомых не встретил. Ерофей Хабаров с рожью мог появиться разве к Троице, когда вернется Михайла Стахеев, знал один Господь. В отчаянии казак вспомнил о Боге, взмолился и пришел в церковь. На святого Феофана службу вел иеромонах Симеон. Слезно молясь, с печалью в сердце, казак думал о народной примете — если на Феофана занедужит конь, то к летним работам не годен. На исповеди пожаловался Симеону, тот повздыхал, посочувствовал, пустил к причастию.
На другой день, по суду и к злорадству воеводы, известный ленский казак встал бы на правеж — битье батогами по ногам, пока кто-нибудь не оплатит долга, но нежданно за него вступился монастырь и оплатил кабалу. Стадухин вернулся домой, сел на лавку, незряче уставился в пол. Арина спросила, отчего глаза вымороженные. Он не хотел посвящать ее в свои беды. Шила в мешке не утаишь — о правеже и выкупе говорили, но жена, в бабьих хлопотах по дому, не понимала, на краю каких бед стояла семья. Михей поднял растерянные, будто выцветшие, бледно-синие глаза, помолчав, ответил:
— Как-то в Енисейском спорил с тамошним белым попом… Он меня поучал молиться за обидчиков, просить им здравия и благополучия, говорил, будто от такой молитвы горящие угли им на голову…
Арина хохотнула, пошевеливая кочергой в печи, обернулась раскрасневшимся лицом:
— У кого совесть есть — тому, может, и угли, а у кого нет — тому как с гуся вода!
— Вот я и заспорил, — рассеянно продолжал Михей, все так же глядя под ноги. — Не может справедливый Бог потакать тому, чтобы человек просил у Него добра, а на уме держал зло. Он все видит… Я Симеона в Илимском сильно обидел. — Замотал бородой, болезненно щуря глаза. Подумав, добавил: — Правда, он тогда был другим.
Промелькнула короткая весна, наступило жаркое лето. Торговый человек Бессон Астафьев выпросил у воеводы наказную память на себя и Федота Попова: торговать и промышлять на Колыме, искать новых земель к восходу. На крепком, исправно снаряженном коче с ним уходил на Колыму передовщик Афанасий Андреев. Покрученников у них было вдвое против прежнего, желавших идти — еще больше.
Стадухин, возвращаясь с караулов, едва волочил ноги, не в первый раз удивлялся, что от скитаний по болотам не уставал так, как от безделья караула. Возле избы сидел Дружинка, явно с просьбой. Стадухин подумал про ночлег.
— Афоня тебе друг, а Бессонка — в приятелях, попроси взять меня? — заговорил вкрадчивым, дребезжащим голосом. Увидев округлившиеся глаза Стадухина, замахал руками: — Нет! Не в поход! Довезти до Столбового зимовья. Там мне все знакомо, там не пропаду, проживу без жалованья и послужу ради угла за печкой.
— До Столбового что не попросить, — согласился Михей. — Тут тебя никто не хватится: пропал да и пропал!
Дружинку взяли. На другой день воевода объявил, чтобы с тем же судном плыли до устья Алдана таможенный целовальник с казаком Михеем Стадухиным встречать там выходившие из тайги промысловые ватаги и брать с них десятину лучшими мехами.
Зимой Афоня вывез из Жиганского зимовья толмачку Бырчик с новорожденной дочкой. Попав в Якутский острог, окруженная новым любопытством здешних людей, она опять загуляла и перед самым выходом астафьевского коча сбежала.
Вернулся Стадухин только к Троице. Острог гудел от новостей, казаки, промышленные и гулящие собирались десятками, горячо обсуждали слухи и спорили. За время отлучки Михея с Амура вернулся Василий Поярков с полудюжиной спутников. С казаками и промышленными он дошел до устья и дальше, до москвитинского зимовья на Улье, оставил там полтора десятка своих казаков и пришел через горы известным путем. Люди догадывались, что бывший письменный голова вовремя почуял, как свирепеет народ от злодеяний Головина и хитроумно отправился в многолетний поход. Ходил он не Олекмой, как заявлялся, а Витимом, потерял три четверти отряда убитыми и уморенными голодом, вернувшись, сам угодил в пыточную избу. Вскоре при ликовании многих прошедши его пытки был выслан в Москву на сыск по расследованию сибирских дел Петра Головина.
— Есть правда и на этом свете! — злорадно потрясал кулаками Семен Шелковников, рассказывая Стадухину про амурские дела Пояркова. — Сколько народу погубил, Ирод!
— То меня Васька кнутом не хлестал! — защищая Пояркова, спорил Ерофей Хабаров, приплывший следом за амурцами со своей Киренги реки. — На Амуре — не то что на Колыме, — бросал на Стадухина насмешливые взгляды со скрытой тоской. — Там, сказывают, города с воинскими полками, огненный бой лучше нашего.
— Врет он ради оправдания! — ругал Пояркова Шелковников. — Олекмой не пошел, крепких князцов Батоги и Левкоя испугался…
Хабаров пригнал в острог барки с рожью и пшеницей, бойко торговал, собирал долги, хвастал, что развернулся шире, чем на Куте, бил челом новому воеводе, чтобы вернули солеварню, отобранную Головиным в казну и изрядно одряхлевшую без хозяйского надзора.
— Тьфу на твою солеварню! Будь она неладна, — ругался Шелковников. — Из-за нее кожу со спины спустили…
Праздник есть праздник. Острожные и пришлые не только обсуждали новости, но и гуляли: пели, плясали, пили, к прибылям откупщиков. Как искони водится на Руси, в разгар веселья души гуляк просили удальства, которое переходило в драку. На этот раз, против проездной башни стенка на стенку пошли служилые и промышленные люди. Казаки дрались беззлобно, промышленные — остервенело, с затаенной ненавистью. Молодые задирали в первых рядах. За ними стояли матерые мужи с проседью в бородах. Промышленные со злорадством теснили казаков к реке и многих спихнули в Лену. Но у самой воды встали ленские старики: Семейка Шелковников, Васька Бугор с братом Илейкой, пятидесятник Шаламка Иванов да Степка Борисов с товарищами. Ерофей Хабаров, хоть и промышленный человек, бился за казаков плечо к плечу со стариками, с которыми не раз ходил в бой при Бекетове и Галкине. И сколько ни старались промышленные столкнуть их — отскакивали с разбитыми лицами.
С башни любовался побоищем воевода Василий Никитович. Он то громко подбадривал дравшихся, сидя в кресле, то вскакивал и так перегибался через острожную стену, что холопы придерживали его за куцые полы немецкого кафтана. Запал у бойцов кончался. Иные уже обнимались, мирясь друг с другом. Воевода, разгоряченный зрелищем, приказал дать залп. Ухнули со стены тяжелые крепостные пищали, выпустив в небо сизые грибы холостых выстрелов. Казаки и промышленные, охая, обмывали в реке синяки и ссадины. Из калитки вышел холоп с бритым лицом, пригласил старых казаков и именитых торговых людей к воеводскому столу, накрытому против съезжей избы. Бойцы степенно вошли один за другим, положив поклоны на крест церкви, расселись против развеселившегося воеводы, отхлебнули из чаши, пущенной по кругу за воинское братство. Их обнесли чарками с крепким хлебным вином. Выпили, закусили во славу Божью.
— Хорошо дрались, молодцы-удальцы! — хвалил воевода. — Не чета молодым…
— Нас тоже учили! — степенно поддакнул Хабаров, показывая расположение к нынешней власти.
Воевода же дергался в кресле, будто сидел на гвоздях.
— А кто не утешился? — спросил, обводя пристальным петушиным взглядом разбитые губы, пухнущие лица. — У кого душа горит к бою — напою до упаду!
Старые казаки переглянулись, понимая, что Пушкин хочет устроить потешную драку. Илейка Ермолин задиристо оглядел сидевших товарищей, но вздохнув, опустил глаза и смущенно кашлянул в горсть.
— Устали мы, Василий Никитич! — разумно ответил Ерофей Хабаров с плутоватой лестью во взгляде. — Да и поздно после чарки. Винцо дух усмирило, силу ослабило, жилы разомлели.
— По другой добавлю! — не унимался воевода, подстрекая к новой драке.
— Вот ты, жалобщик! — ткнул перстом в Михея Стадухина. — Выбери кого на поединок — штоф поставлю!
— Тут мои товарищи! — стал отнекиваться Михей. — Вместе воевали, в походы ходили. Мне с ними драться нельзя: я, по грехам своим, шибко злопамятный.
— А против него кто выйдет? — злей и яростней стал выкрикивать воевода. — Не оставлю милостью.
— А я! — поднялся и поклонился Степка Борисов. Шмыгнул разбитым носом, встал за спиной Михея, начал задирать, тыча кулаком в плечо.
Не вставая с лавки, Стадухин развернулся, ткнул ему пяткой под колено, Степка свалился под общий хохот.
— Это не драка! — разочарованно закричал воевода.
— Все равно завалил! — поперечно вскрикнул Степка, намекая на обещанный штоф.
— А покажите-ка вы свою удаль! — уже злобно сверкая глазами, приказал воевода сидевшим торговым людям.
Посмеиваясь, те послушно встали с мест. Холопы раздали деревянные сабли, они сошлись, стали развлекать воеводу, как скоморохи. Старые казаки стыдливо поглядывали на них и угрюмо помалкивали, Михей чувствовал, как выветривается из головы хмель, застолье ему не нравилось. Пуще прежнего раззадоренный, Пушкин стал размахивать латинянской шпажонкой и снова вперился в него сердитым взглядом.
— А против меня выйдешь, жалобщик?
Михей с насмешкой подумал, что с таким брюхом только в кресле сидеть, но ответил угодливо:
— С начальствующими драться нельзя: Бог велит почитать власть! Да и рука у меня зашиблена.
— Потерпишь, — злорадно дернул усами Пушкин и затоптался возле кресла. — Видел, как махал у реки.
Холопы уже совали Михею шпагу со сточенным концом, под руки стаскивали с лавки. Скрипнув зубами, он бросил шпажонку на стол, взял березовый батожок, в три удара выбил шпагу из руки воеводы. Лицо Пушкина перекосилось.
— Гнать взашей! — топнул ногой в сафьяновом сапоге.
Холопы опять подхватили Михея под руки. Он не противился. Подвели к воротам, вытолкнули через калитку. Вслед бросили шапку, и, что нимало удивило казака, соболью шубу. Выбивая из шапки пыль о колено, Стадухин с сожалением подумал, что надо было поддаться, да сильно уж стыдно перед товарищами. Разглядывая шубу, заметил, что она не новая, но двадцать пять рублей стоит. Один сорок соболей воевода ему все-таки вернул. Казак перекинул ее через плечо и пошел в монастырь, чтобы отдать долги.
Вскоре Михей узнал, что бывший аманат Чуна принял крещение и зачислен в оклад толмача. Потом дошел слух, что Семен Шелковников собирает отряд из казаков и промышленных людей. Не прошло и недели после Троицы, как Стадухина сняли с караула и велели идти к воеводе. В съезжей избе с важным видом сидели на лавке кряжистый Семен Шелковников, Чуна в русском кафтане и лисьей шапке, казаки Артюшка Шестаков и Бориска Прокопьев.
— На Ламу собираешься? — окинув взглядом дьяка и писарей, тихо спросил Семена Михей.
По лицу товарища видно было, что тот понимает, зачем их позвал воевода.
— Хотелось бы! — неопределенно ответил Шелковников, указывая глазами на воеводскую дверь. — Взял бы и тебя, — смущенно передернул плечами, — да воевода не позволит, прогневил ты его.
Холоп открыл воеводскую дверь, пригласил ждавших. Все пятеро вошли, степенно крестясь и кланяясь на образа, расселись против воеводского стола. Письменный голова с дьяком посетовали, что Андрюшка Горелый с Гришкой Простоквашей на Индигирке, и стали расспрашивать Чуну про Ламу. Спросили и Михея, что говорили вернувшиеся с Горелым люди, не прибавили ли, не утаили чего бывшие сослуживцы и Чуна? На том его отпустили, отправив обратно в караул.
На другой день он узнал, что воевода позволил Семену Шелковникову набрать сорок человек служилых и промышленных людей, обещал дать хлебный оклад за другой год и три казенных шестивесельных струга. Такой щедрости от Пушкина никто не ждал. По острогу покатились домыслы досужих людей, что про Ламу вспомнили из-за моржовой кости. Незадолго был объявлен царский указ: рыбий зуб заморный и свежий, где бы кто ни добыл, купит казна, а на сторону продавать нельзя. Вызнав у Семейки, с каким наказом посылают за Камень, Михей отмяк душой и успокоился: как ни завлекал его Чуна сказами о богатствах своей земли, идти в ту сторону ему не хотелось. В другие места под началом Семена Шелковникова пошел бы и не собачился, деля власть. Все, что мог сделать для старого друга, — предупредил:
— Не верь Чуне! Хоть и новокрест, а от своего народа не отречется. Он умный! За единокровников, за свою землю Закон Божий против тебя же обернет.
Шелковников с отрядом уплыл к Алдану. Ни духом, ни взглядом не позавидовал ему Стадухин, но самого пуще прежнего стала томить острожная жизнь.
— Отчего опять глаза вымороженные? — беспокоясь за мужа, выспрашивала Арина. — Тусклые, как у старика.
Она жила всласть, ей каждый день — в радость: был достаток, рос сын, муж со службами не исчезал надолго. О большем она не мечтала. А Михея уже перестали расспрашивать о Колыме-реке даже новоприбывшие торговые и промышленные люди. Да и надоело ему рассказывать одно и то же. Вернулся с промыслов Тарх. Промышлял он неудачно и добытыми мехами едва оплатил долги. Братья сошлись у Герасима. Душевного разговора не получалось. Младшие натужно отвечали старшему на расспросы, глядели в сторону.
— Не пропаду! — уклончиво пожимал плечами Тарх. — Буду зимовать у Гераськи в работных.
— Служить не хочешь? — спросил Михей, понимая, что помочь брату не может: разве накормить, если оголодает, да пустить жить в дом.
По осени в Якутский острог вернулся гусельниковский приказчик Стахеев со связчиками. Глаза земляка-пинежца горели, обветренное лицо светилось, на нем не было следов былых печалей, когда его пограбили покрученники.
— Жалобную челобитную воеводе я передал! — приветствовал его Михей и завидовал не богатству, которое привез торговый, а его духу. О добытом не спрашивал.
Тарх рыбачил с наемными людьми Гераськи, жил у него. При встречах кланялся, ни о чем не просил, в дом старшего брата заходил только по праздникам, Михей сердился на обоих: «Что за кровь? Будто никто, кроме меня, их не обижал? Почему я в опале?» Сначала он покупал рыбу у Герасима, всякий раз смущая его. Тот предлагал взять даром, Михей сердился. Потом стала ходить в лавку Арина. И чудилось казаку, что бывшие полюбовники как-то странно переглядываются. «Сам не без греха, — вспоминал колымскую женку, — а бабе в соку перетерпеть три года и вовсе невмочь. Уж не взыскал бы, простил. Зачем опасается меня брат?»
Настала зима. На небе, затянутом низкими тучами, неделями не показывался даже тусклый солнечный круг. Арина с Михеем просыпались ночами, прислушивались к вою ветра, к потрескиванию дома. Она шептала благодарственные молитвы, что есть кров, не голодают, а он с тоской вспоминал зимовье и приятное ощущение безлюдья на сотни верст. Легко и привольно было на душе от того чувства удаленности. Как-то не удержался, спросил ластившуюся к нему жену:
— Что вы с Гераськой переглядываетесь, будто что-то было промеж? Не утерпела, поди? Так оно и понятно, лучше с ним, чем с кем другим.
— Терпела! — без обиды ответила Арина. — Соблазнял бес, но устояла… Сын грудной помогал. С ребенком легче. Звал Гераська к себе, как дом построил, но не ради блуда: жалел меня и племянника. Теперь боится, наверное, что ты узнаешь, осерчаешь. Не он один звал, — прерывисто вздохнула, вспомнив былое. — Васька Власьев прельщал. Когда ты был в тюрьме — обещал умолить воеводу, чтобы отпустил.
— Не позорил? — строго спросил Михей.
— Нет! — твердо ответила Арина. — Говорил со смехом, намеками. А я как гляну на его вислые губы, так мороз по коже. Прости, Господи! — Тихонько хохотнула, крепче прижимаясь к мужу.
Михей тоже вздохнул, закрыл глаза, рассеянно прислушиваясь к звукам посада, в который раз подумал: «Все хорошо, слава Богу! Отчего же, Господи, так тошно?»
Ранней весной про него вспомнили. Воевода прислал дворового холопа, Арина испугалась, захлопотала, бегая вокруг печки.
— Неужели опять в тюрьму или на дальнюю службу? — завсхлипывала, опасливо поглядывая на ждавшего пристава.
— В тюрьму — не за что! — неуверенно пожал плечами Михей, чувствуя на душе холодок волнения.
Холоп, пялившийся на Арину, высокомерно хохотнул:
— Начальствующие сажают по своему желанию! Попадешься под горячую руку — и дальше упекут.
Михей не снизошел до того, чтобы препираться с ним, подневольным, но считавшим себя на десять голов выше казака, цыкнул на заголосившую жену, придерживая саблю, впереди пристава зашагал в съезжую избу. Что-то переменилось в ней с весенним солнцем. Письменный голова встретил его ласково, взял под руку, повел к столу дьяка. Тот взглянул на старого казака с любопытством и без проволочек привел к воеводе. Снова появились писари с чернильницами, со связками гусиных перьев, суетливо расселись, зашелестели бумагами. Начался расспрос, как показалось Михею, о том же, что и в первый раз, когда его привез в острог Василий Власьев. Но теперь казака слушали внимательней, вопросы задавали дьяк и воевода.
Михей отвечал. Говорил, что видел и слышал про Великий Необходимый Камень, который идет в океан-море, а конца ему никто не знает, про то, что слышал о народах живущих к восходу: кочующих и сидячих чаучу — чукчах, оленных — хор — коряках, о Большой земле, что видна за льдами к полуночи от Святого Носа, Индигирки и Колымы. Отвечая, удивлялся, отчего этим людям понадобились слухи. Подвохов не чувствовал, про власьевских беглецов из Янского острога не спрашивали. По его догадкам, воевода задумал отправить отряд на Погычу сказы о которой в прошлом году пропустил мимо ушей, и уже прикидывал в уме: сами ли прикажут плыть туда или принудят проситься на дальнюю службу. К его разочарованию, записав ответы, воевода велел налить чарку и отпустил из съезжей избы.
Летом, еще до Троицы, с Колымы вернулась ватага промышленных людей. Она зимовала на Омолое, поэтому пришла вместе с выходцами из тайги. Колымский таможенный целовальник Петрушка Новоселов и Вторка Гаврилов отправили с ними зыряновского казака Селиванку Харитонова с казной. От Андрейки Горелого, тоже с казной, вернулся Гришка Фофанов-Простокваша. Как ни собачился Михей с Гришкой на Оймяконе, а на Колыме с Селиванкой, здесь встретились родней братьев. Он затащил сослуживцев в дом, выставил полуштоф, и посыпались из гостей новости.
— Ты уплыл — Семейка Дежнев с Митькой Зыряном вернулись, — рассказывал Селиван. — Сели в твоем Нижнем острожке. Вскоре напали чукчи, перелезли через частокол, уже ломились в избу. Семейка принял в лоб боевую стрелу…
— Опять?! — хлопнул себя по ляжке Михей.
— Но, раненый, заколол князца… И отступили вражьи дети!
— Молодец земляк! Казак! Хромой, сухорукий, а как подопрет за себя постоять — ловок, как бес!
— А Зырян помер от ран, Царствие Небесное, — перекрестился.
— Ну и судьба, однако, и Зыряну, и Семейке! — Тоже крестясь, подавил тайный вздох Стадухин. — В лоб, вторая рана? К чему бы? И ты, увечный, — взглянул на Гришку Простоквашу, — опять и обратно с казной. Третий раз уже!
— Помнишь мезенцев Исайки Игнатьева? — продолжал бередить душу Селиван. — Прошлый год пошли погулять к восходу от устья Колымы. И дал им Бог разводье между берегом и льдами, плыли по нему до большой губы, торговали там без толмача, немо, меняли свой товар на моржовый клык и безделушки из кости.
— Привез? — дернулся на лавке Стадухин.
— Полтора пуда!
— Клыки по гривеннице и больше воевода взял в казну. Сулил заплатить по двадцать рублей за пуд.
— Пуд костей из-за моря — пять пудов ржи! — почесал затылок Михей. — Не шибко-то!..
— Надо было чукчей воевать, — с горячностью вскрикнул захмелевший Селиван и ударил кулаком по столу. — А мы только отбивались! Дескать, что с них, тундровых, взять. Ты их чуял, караульных гонял и правильно делал. Зырянка дал всем спать вволю — и упокоился.
— Ну да! — задумчиво пробормотал Михей, смущенный похвалой бывшего спорщика. — Подвести бы их под государя, брать ясак моржовой костью. Царю выгода, всем прибыль и не нападали бы. Только зачем им наша власть? Их все боятся, никто не грабит.
В избу вломились Васька Бугор со Степкой Борисовым, не перекрестив лбов, напустились на Стадухина:
— Почто Селиванку с Гришкой к себе увел, один расспрашиваешь? Казаки недовольны. Пусть все слушают! — Ругались они без злобы и тоскливыми глазами пропойц косились на остатки вина.
— Пусть слушают! — согласился Михей и отпустил товарищей к собравшемуся у избы народу.
Томно и радостно, как у молодого, билось сердце. Он потоптался возле выстывшей печи, накрылся шапкой, пошел за толпой казаков и гулящих людей, под руки тащивших Харитонова и Простоквашу в кабак. Домой вернулся поздно. В сумерках открыл незапертую дверь, с трудом перекинул ноги через порог, придерживаясь за стену, добрался до лавки и упал. Арина подложила ему под голову меховой жилет, укрыла шубным кафтаном.
Входило в раж знойное лето. Со всех сторон в острог стекались промысловые ватаги, по реке сплавлялись барки с рожью и товарами. Лавочные сидельцы на гостином дворе бойко зазывали покупателей. Ворота острога были закрыты, на башнях стояли служилые с мушкетами и фузеями, у калитки маячил воротник.
Караульный казак Михей Стадухин, скрываясь от палящего солнца под шатровой крышей четырехсаженной башни, с тоской глядел вниз, на суетившихся людей. Гулял Ивашка Ерастов — алазеец. На жаре его сильно развезло, мотало из стороны в сторону, сабля то и дело попадала между ног, он спотыкался, вис на руках товарищей. Возле него пчелиным роем крутилась острожная служилая и гулящая голь, которой торговые люди и рубля не дадут под кабальную запись. По слухам, воевода обнадежил Ерастова, что даст ему отпускную грамоту на Колыму и Погычу. Почему ему, этого прибывшие с Колымы понять не могли. Ивашка вывез с Алазеи богатую казну, которую, по его словам, добыл с промышленными людьми где-то возле Камня. Для людей, бывавших на Алазее и Колыме, его сказки казались нелепыми. Поверить им Михей не мог, думал про себя: «Если воевода решил выпроводить из острога полсотни отъявленных дебоширов, то не может быть, чтобы за казенный счет!» И лежала на сердце обида, что никто из начальствующих не предлагает идти на Погычу ему, Михею, принесшему весть о неведомой реке. Похоже, принуждали просить об этой милости, отказавшись от денежного и хлебного жалованья.
Сын боярский Василий Власьев готовился идти на смену Втору Гаврилову, которого казаки снова избрали на приказ после гибели Зыряна, и ожидая просьб, с ухмылками поглядывал на Стадухина. Того же дернул бес прилюдно посмеяться над ним, что прельщал Арину. Теперь молчал, глядя на его сборы, с надеждой, что позовут. Не звали. Из толпы старых казаков, то расступавшихся перед Ивашкой Ерастовым, то плотно обжимавших и поддерживавших его, доносились возмущенные выкрики. На них напирали казачья голытьба и гулящие люди. Михей прислушался. Васька Бугор из окружения Ерастова препирался с таким же забулдыгой Степкой Борисовым:
— Да нам воевода дал роспись судовой снасти и ставные матки*(компасы). Государевым подъемом пойдем. А вы кто? Вошь в кармане, блоха на аркане?
— То вы лучше нас? — кричал в ответ Степка. — Почему Ивашка решает, кому идти, кому нет? Он Колымы в глаза не видел. У нас истинный колымец — Селиванка Харитонов.
Ругань перешла в ор, вот уже самые вздорные замахали руками, сильно пьяные повалились, кто держался покрепче, невзначай топтали их, потчуя друг друга кулаками. В стычку ввязывались новые люди. Вскоре у проездных ворот дрались до полусотни доброхотов. Сидельцы спешно закрывали лавки, промышленные и торговые, обступив дерущихся круговой стеной, азартно подначивали их.
Острог притих: десяти караульным справиться с разъяренной толпой было не по силам. Злорадно посматривал вниз и Михей Стадухин, хотя с иными служил, воевал, сидел в осадах. Слышал, что Ивашка Ерастов просил воеводу отпустить на Погычу, но о том, что челобитная принята к делу, что таможенному голове велено покупать у торговых чего в казне нет, узнал только сейчас от пьяных казаков. Кровь ударила в голову не от жары, от возмущения. Едва дождавшись смены, он оставил пищаль в караульне и побежал в съезжую избу, узнать все из первых рук.
— Да! Велел взять к делу! — неопределенно ответил письменный голова, отводя глаза. — С Власьевым идут на Колыму два десятка служилых и промышленных людей.
— Это же я привез весть о Колыме! Власьев дальше Яны не был, а на нее ходил сушей, Ивашка Ерастов сидел на Алазее в зимовье. Кабы не мой Семейка Дежнев… — в возмущении ругал казака и смутно наговаривал на него.
Письменный слушал молча, с усталым лицом и сонными глазами.
— Нынче на Погычу многие просятся. Всех отпустить — на Лене служить некому.
— Не может того быть, чтобы государь велел голь и пьянь слать на дальние службы, а справным казакам щупать мешки у торговых и промышленных, — злей и громче заспорил Стадухин, багровея от гнева.
— Справные с Васькой Власьевым смолят коч и шьют парус, — резче ответил письменный голова и отвернулся, показывая, что не желает говорить.
Михей рыкнул в бороду, не перекрестив лба, выскочил из съезжей избы, обругал кого-то в караульне, напустился на воротника, не ко времени запершего калитку, выскочил из острога, оглядывая берег разъяренными глазами, и увидел Арину с березовыми ведрами на коромысле. Стройная и статная, она шла к воде, привлекая взгляды промышленных и торговых людей. Любуясь женой со стороны, Михей обмяк, поправил шапку, саблю на боку, приосанился и степенно пошел к дому. «Своя изба, красивая ласковая жена, сын — что еще тебе надо, пес? — насмешливо корил себя и беса, подначивавшего бежать на край света, глядеть, где кончается Необходимый Камень. — Не о нынешнем ли счастье мечталось на Оймяконе?»
Вернулась жена с реки. Михей сидел с сыном на коленях, забавлялся. Арина метнула на него колкий взгляд:
— Опять глаза вымороженные, прости, Господи, — перекрестилась на образ в красном углу.
— Посиди-ка на стене, как ворон на колу! — буркнул Михей. — Иной раз смена тянется, что зима.
Драка возле острога была предтечей других событий. То, что воевода принял челобитные от тридцати семи казаков во главе с Иваном Ерастовым, еще не было согласием отпустить их на Погычу за счет казны. Проходили день за днем, в надежде на скорый выход Ивашкины люди пропились, а явного ответа от воеводы все не было. После полудня на летние Кузьминки казаки отправили к нему Ерастова с выборным Василием Бугром. Воевода их не принял, а дьяк с письменным головой ничего разумного не сказали. Васька стал орать, что государево жалованье не плачено за четыре года. Письменный пытался его вразумить: следствие по делам воеводы Головина не закончилось, а за нынешний год жалованье дадут к сентябрю или с выходом отряда на дальнюю службу. Но Васька разъярился и уже не хотел никого слушать. Казаков вытолкали из съезжей избы, потом из острога, у ворот которого собралась толпа зевак, завистников и людей, отправлявших челобитчиков к воеводе. Вскоре все они стали лаять начальствующих и требовать жалованье.
Был долгий, светлый вечер последнего июньского денька, добропорядочные люди, позевывая, закрывали ставни домов, воевода отдыхал. Сипловатый голос Василия Бугра зазвучал громче, похоже, он успел принять чарку от доброжелателей. Его поддерживали другие голоса. К полуночи острожные ворота распахнулись, из них вышел сам воевода в окружении караула. Толпа бунтовщиков опасливо отхлынула. В переднем ряду оказались Бугор со Степкой Борисовым, которого Ерастов не хотел брать в отряд. Воевода ткнул в них перстом и приказал хватать. На Ваське повисли четверо караульных. Пока тот отбивался, как медведь от собак, воевода хлестал его батогом по широкой спине. Затем стал сечь Степку. С третьего удара батожок сломался. Пушкин бросил его под ноги и повернулся к острожным воротам. Толпа застыла в недоумении. Васька что-то орал и грозил, Степка злобно щурился вслед бросившим его караульным. Толпа, придя в себя, загудела, сжалась вокруг побитых и взревела от негодования. Без суда, под горячую руку прилюдно побить старых, заслуженных казаков не позволял себе даже стольник Головин. «Упьются и передерутся!» — подумал Михей, глядя на бесновавшихся людей. На душе было муторно.
Государев кабак толпа не тронула, но погромила несколько торговых лавок, ринулась к пристани, на виду острожных людей захватила коч торгового человека Василия Щукина по причине, что тот был в милости у воеводы, и с криками: «Молодцы-удальцы! Послужим государю на дальней окраине!.. Вору Ваське Пушкину больше не служим!» — беглецы оттолкнулись от берега и поплыли вниз по Лене. Воевода негодовал, полуодетый грозил со стены, топтал соболью шапку, но ворот острога открывать не велел. Возле них, взывая к властям, вопили пограбленные торговые и промышленные люди, заливался слезами купец Щукин, с утра считавший себя богатым и удачливым. Остановить беглецов было некому.
— Ваську Власьева ко мне! — закричал воевода на холопов и немигающими змеиными глазами вперился в Михея Стадухина, оказавшегося под рукой.
Посыльные разыскали Власьева на плотбище, он готовил коч к отплытию. Сын боярский, запыхавшись, прибежал в острог, встал перед разъяренным воеводой. Обругав его за медлительность, Пушкин дал на сборы два дня и приказал вернуть беглецов.
В отряде Власьева было двадцать человек, среди них в большинстве новоприборные казаки и промышленные. И воевода, и сын боярский понимали, что они бессильны против полусотни головорезов, прошедших через войны, осады и дальние походы. Взгляд Пушкина опять остановился на Михее Стадухине.
— Послужишь мне, жалобщик? — спросил гневно.
— Чего не послужить? — с бесшабашной удалью ответил Михей. — Скоро два года, как сижу возле бабьего подола.
— Дам коч, жалованье вперед! Найди людей: служилых и промышленных, сколько знаешь…
— Отпусти на Погычу, для прииска новых земель, — подсказал Михей.
Воевода грозно нахмурился, но, подумав, согласился:
— Ваське Власьеву плыть приказным на Индигирку, Алазею и Колыму, тебе для прииска новых земель и рыбьего зуба. Одному ему все равно не управиться. Вместе догоните беглецов, вразумите государевым жалованным словом… И вернете, — добавил неуверенно. — Или хотя бы грабить не давайте.
Все бывшие в остроге люди понимали, что вернуть беглецов силой невозможно, что, не имея никакого припаса, они будут чинить на пути большие беспорядки.
— Чтоб им всем передохнуть, прости, Господи! — выругался и перекрестился воевода.
Обойдя свой дом стороной, Михей забежал к братьям. К счастью, оба были в избе. Старший положил на образа три торопливых поклона, едва удерживаясь от суетности и торопливости, опустился на лавку.
— Слышали про беглецов? — повел глазами по потолку.
— А то как же?! — усмехнулся Тарх. — Мимо нас проплыли. Атаманом выбрали Ивашку Ретькина, есаулами пятидесятника Шаламку Иванова, Ваську Бугра. Люди-то какие: десятник Иван Пуляев, Павел Кокоулин-Зараза, Артемка Солдат, — с восхищением перечислял брат. Видно, о том они и беседовали с Герасимом, когда вошел Михей.
— Меня воевода посылает на Погычу, наказную пишет, — Михей постарался сказать это как можно спокойней и даже с печалью. — Велел людей набрать, сколько надо, чтобы плыть казенным кочем. Мимо вас пройти не мог, вам первым говорю, — вскинул блестевшие глаза. — Пойдете своим подъемом?
Герасим улыбнулся, опустив гривастую голову:
— Промышляли на Оймяконе и Индигирке. При остроге на одной рыбе больше зарабатываю, и не мерзну, не голодаю, — перебирая пальцами отросшую бороду, кивнул среднему брату, призывая к совету.
Тарх, отводя глаза, сказал, что до зимы будет неводить рыбу с Герасимом.
— Понятно! — Старший встал с лавки с непоблекшей радостью в лице.
Он не надеялся на братьев, просто не мог не предложить им дальний поход. Не откладывая, обошел знакомых служилых и промышленных людей, без труда собрал два десятка удальцов, готовых идти за ним хоть на следующий день. Оставалось самое трудное, что камнем лежало на сердце: сказать все Арине. Надо было как-то объяснить ей, что он не может дольше служить при остроге и жить той счастливой жизнью, какой прожили полтора года. Михей ожесточил душу, напустил на себя печаль и задумчивость, переступил порог, перекрестился, опустился на лавку. Арина окинула его мимолетным взглядом и спросила вдруг:
— Жалованье выдали?
— Кто сказал? — удивился Михей. — Рано еще.
— А что глаза блестят?
— С чего бы им блестеть? — уклончиво пробурчал, вздыхая. — Воевода велит идти на дальнюю службу.
Арина резко обернулась с большими беззащитными глазами, лицо ее вытянулось, губы задрожали, беззвучные слезы покатились по щекам.
— Я же служилый! — стал оправдываться Михей. — Да и не так долго, как прошлый раз.
— Как не долго? — вскрикнула она и зарыдала, не спуская с мужа мокрых глаз. — На три года?
— Не на три, — опустил голову Стадухин. — Хотя за год обернуться трудно. — Наверное, года полтора.
— Опять ждать! Хоть об стену трись — прости, Господи! Бабий век короток. У меня же последние годочки.
Михей молчал. Арина упала на лавку. Глядя на мать, заголосил Нефед. Отец с сердечной тоской отметил про себя, как он вырос за эти полтора года. Сел рядом с женой, стал гладить ее по спине, обнимал сына. Арина зарыдала громче, потом утихла, села, закрыв лицо мокрыми ладонями.
— Не вернешься через год — заведу полюбовного молодца! — пригрозила, хлюпая носом.
Бабье горе со слезами легчает. Выплакавшись, смирилась, лежала рядом с мужем на холодной печи, глядела в низкий потолок незрячими глазами. До слез было жаль ее Михею, а все же легчало на душе, и вставал перед глазами берег студеного моря, терявшийся во льдах, никем не обойденный Великий Камень, Погыча, которая могла быть всего-то в трех днищах пути от знакомого устья. Не даст Бог прохода во льдах, можно посуху, как-нибудь… «Если удастся добраться до Колымы к зиме, то следующей осенью вдруг и вернусь, — обнадеживал себя. — Ведь дал же Бог за лето приплыть с Колымы на Лену».
Проснулся он рано, бесшумно соскочил с печи, оделся, сунул краюху хлеба за пазуху, накинул шапку и убежал на плотбище конопатить рассохшийся коч. К полудню был в съезжей избе. По лицам писарей и письменного головы понял, что воевода к нему благосклонен. Вошел дьяк, внимательно оглядел его, спросил:
— Когда будешь готов?
— Как дашь снасти, припас, так и поплыву. А коч завтра спущу на воду!
— Хорошо! — похвалил. — Расторопен. Новых парусов нет…
— Старый залатаю!
— Я воеводе говорил, чтобы поставил тебя в оклад десятника. Он одобрил. Вернешься, даст Бог, не забудь про меня!
— Не забуду! Я памятливый на добро и на зло.
В поздних сумерках лета Михей возвращался домой. Он устал, но усталость была не той, что после караулов. Кроме работ с кочем успел побывать у Симеона, испросил молебен о благополучном отплытии, обещал монастырю вклад соболями или рыбьим зубом за молитвы о своем многотрудном деле. Оставалось последнее и самое главное, о чем ни словом не обмолвился на исповеди. Он остановился против дома Герасима, постояв, повернул к нему.
— Ты вот что, — смущаясь, сказал брату. — Если Аринке станет невмочь ждать меня — приласкай ее. Уж лучше ты, чем кто другой. Вернусь ли на другой год — не знаю, а она баба знойная, в самом соку, — махнул рукой, скрыв в полутьме нависшие на ресницах слезы. — Сам знаешь!
Герасим молчал, опустив лохматую голову. О чем думал, одному Богу известно.
7. Встреч солнца
Удачи в торге и промыслах не было, и, вспоминая прошлое, Федот Попов мучился догадкой, что лишился милости Божьей с тех самых пор, как выменянный на Куте коч пристал к причалу Ленского острога. На Оленеке половина его покрученников перешла в другие ватаги, оставшиеся ругали передовщиков, что промышляют не как все: не ловят заложников, не требуют выкупов и обещаний безопасности в промыслах. Попов же без утайки откладывал десятину лучшими мехами, если нападали — давал отпор, но в отместку не бил, не грабил, не требовал поклонов-подарков. В помыслах о выпавших неудачах Федот читал Библию. Однажды в жарко натопленной жилухе по его спине пробежал озноб: осенило, что бесовским прельщением он принял уговор с купцом Усовым с греховной уверенностью в милость Божью. «Не та ли самонадеянность была причиной нынешних бед?» — подумал с волнением. Когда знаешь, за что карают, можно претерпеть многое. Федот был осторожен, старался не рисковать. С Оленека в Якутский острог не вернулся, положившись на товарища Бессона Астафьева, приказчика самого удачливого в Сибири купца Гусельникова. Дожидаясь его, торговал с мелкими промысловыми ватажками, выбиравшимися с восточных рек. К его кочу подходили торговые суда с целовальником Новоселовым. Федот предъявил отпускную грамоту четырехлетней давности, данную на реку Оленек. Сначала целовальник грозил, потом просил зимовать на Яне, в конце концов уговорил доставить в Нижнее усть-янское зимовье казака Кузьму Лошакова. Янский приказный Федоту понравился, и он принял его на борт с казенным грузом. К судну подходили янские казаки, пытались пограбить. Федот со своеуженниками дал им отпор. Казаки, смирив гордыню, попросили ржи под кабалу. Ржи им Федот не дал, но по христианскому милосердию накормил.
Наконец, уже в августе встретил знакомого казака Стадухина, от него узнал путь к Колыме, получил верные сведения о ее богатствах и решил, не дожидаясь Бессона, отправиться туда без отпускной грамоты. Но идти за Святой Нос было поздно. С попутным ветром Федот пришел к Нижнему усть-янскому зимовью, высадил Лошакова, вытянул коч на сушу и отпустил промышленных в брошенное казаками Среднее зимовье.
Зима не баловала богатыми промыслами, их и не ждали. Янские якуты, тунгусы и ламуты с верховий реки вернулись в ее среднее течение, как только узнали, что казаков там нет, вреда промышленным они не чинили, но к Нижнему зимовью для торга не приходили. Река была безрыбной, кормового зверя добывали редко. После Евдокеи-свистуньи, поделив добытые меха по паям, промышленные горько шутили, что прожили зиму ради брюха, едва покрыв расходы на прокорм. Но впереди была Колыма, а путь к ней выведан от очевидцев.
В середине июня Янский залив очистился от льдов. Возле тундрового берега чернела вода, мелкая рябь волн манила в неведомое. Помолившись Всемилостивейшему Спасу, Пресвятой Богородице, Николе Чудотворцу, святым покровителям, мореходы одарили водяного дедушку топленым жиром, полив его на воду у смоленого борта, выбрали якорь и подняли ровдужный парус. Он наполнился попутным ветром, и судно, чуть кренясь на борт, пошло встреч низкого солнца. Из-за мелей пришлось удалиться ко льдам. Ветер то усиливался, то слабел, полоща оленьими кожами. Коч беспрепятственно обошел Святой Нос. За ним путь на восход был шире и чище. То под парусом, то своей силой на веслах коч полторы недели пробивался сквозь льды. За Долгим мысом в устье Хромы стояло судно. При безветрии ватажные подвели к нему свой коч и встретились с неутомимым и оборотистым гусельниковским приказчиком Михайлой Стахеевым. Его люди возвращались с Индигирки на Лену и ждали попутного ветра. На борту была промысловая ватага, зимовавшая на Колыме.
Федот задержался, расспрашивая о новой реке. Наслушавшись прелестных сказок, его промышленные заторопились. Индигирка уже не привлекала их. Но ветер переменился, Стахеев на прощанье помахал Попову и повел свой коч на закат. Тот же резкий порывистый ветер с запахом талого льда и гниющих водорослей заставил ватагу Федота отстаиваться между Святым Носом и Индигиркой.
— Долго миловал дедушка, но осерчал, — беспечально посмеивался за его спиной племянник Емеля. — Видать, гусельниковские переманили удачу.
Стоять пришлось до середины августа. Люди не голодали, но, теряя надежду добраться до Колымы одним летом, уже помышляли о промыслах на Индигирке, которая, по слухам, была и рыбной, и зверовой. Противный ветер принес с Колымы другой коч, на нем с ясачной колымской и алазейской казной плыли Селиван Харитонов и Гришка Простокваша. Встреча была недолгой. От них Попов узнал, что целовальник Петр Новоселов вмерз в устье Алазеи, но со своими людьми на лыжах добрался до верховий Колымы и построил там укрепленное зимовье.
Коч с казаками, торговыми и промышленными ушел с попутным ветром на закат дня, оставив поповских людей в унынии. Еще в прошлом году о Колыме рассказывали первопроходцы, нынче торговые люди уже налаживали там ежегодные ярмарки. Но прошла неделя, установилось недолгое безветрие, потом нанесенные льды потянуло на восход. Выискивая проходные полыньи, следом за ними двинулся коч Федота Попова и прибыл в устье Стадухинской протоки перед самым ледоставом. Тут усовский приказчик и мореход наконец-то поверил в милость Божью. Он был доволен прожитым летом и еще не знад, что, возле Святого Носа, где так долго стоял, одна буря меняла другую, шторма раскидали по замерзающему морю полдюжины кочей, шедших на Яну и Индигирку. Среди них не раз прощался с жизнью и покаянно молился новый приказный Тимофей Булдаков, посланный с государевой казной и товарами на Колыму.
В Нижнем остроге, у Втора Гаврилова, летовали знакомые янские беглецы, чудом добравшиеся сюда на струге. Герасим Анкудинов с Иваном Барановым и их товарищи били челом государю, чтобы служить здесь в прежних окладах. Ожидая ответа и прощения, иные из них промышляли соболя, Герасим с Иваном, без жалованья, «не в прием», несли охочую службу по колымским острогам. Втор Гаврилов не сильно пытал Федота Попова, почему явился без отпускной грамоты, согласился, что если Бессон Астафьев не привез ее этим летом, то до следующего сюда уже не доберется. Целовальник сверил описи товаров, привезенных Федотом, пересчитал меха, вычел десятину из купленных и отпустил ватагу на все четыре стороны: промышлять, торговать, нести службы. Промысловых мест было много. В верховьях Колымы, выше острожка, поставленного Петром Новоселовым, и вовсе никто не бывал.
— Пантелей Демидыч с вами уходил, — вкрадчиво спросил Федот. — Жив ли?
— Был этим летом! — ответил Втор. — Промышлял своим подъемом с ватагой купца Свешникова. На Троицкой ярмарке взял припас в зиму, после Петровок ушел — он не любит многолюдья.
— Вот бы кого отыскать, — с облегчением вздохнул Федот. — Я ведь давно его знаю.
— Добрый промышленный! — согласился приказный. — Воин искусный. Только лешак! — И пояснил, отвечая на удивленный взгляд Попова: — По нужде пристает к ватагам, а так все один. Прошлым летом в одиночку ходил в верховья Анюя, плутал в горах, отбиваясь от тамошних юкагиров с писаными рожами, привел их за собой: гнались чуть не до зимовья.
— Давно с ним не виделся! — с грустной улыбкой Федот опустил глаза к полу.
— Встретишь, мимо не пройдешь.
Поповская ватага отдохнула, напарилась в бане и соборно решила идти в верховья — строить зимовье, обустраивать станы, сечь кулемники и готовиться к зиме. Здешние промышленные люди хвалились, что по многу добывают доброго головного соболя, но поповские своеуженники, распаленные сказами людей Исайки Мезенца и Пустозера, ходивших к востоку от устья Колымы, уже мечтали о следующем лете.
«Вот оно, долгожданное! — думал Федот. Он был весел и оживлен, радостно глядел на синий венец гор, присыпанных снегом, на желтую листву, густо колыхавшуюся у кромки берега. — Вышли-таки на край изведанной земли, отсюда на восход дольше двух дней никто не ходил».
Ватага приняла в покруту, на свой прокорм, с третьей доли добытого, часть беглых янских казаков. Взял их Федот с умыслом, чтобы иметь при себе служилых людей. Парусом и бечевой ватага потянула коч к Среднему зимовью, где обжился на приказе и прижил сына от якутки здешний первопроходец Мишка Савин-Коновал. Оттуда ватага пошла в верховья. Пока позволяла река, промышленные старались уйти дальше всех.
— Нагляделся на своем веку на сибирские реки, — весело озирался по сторонам Федот, — походил в бечеве. Но такого…
— Залом за заломом, водоворот за водоворотом! — разинув рот, оглядывал плес Емеля. — Без казаков, поди, и не угребли бы!
Ивану Баранову эти места были знакомы, он вел судно, указывая, где тянуть бечевой, где садиться за весла, между делом рассказывал, как ходил с тремя промышленными до гор, но перевалить не хватило сил: места голодные, безлесые, рыбы в ручьях нет, кормиться нечем. Не имея съестного припаса, пришлось вернуться. Расспрашивая юкагиров о Погыче, Баранов слышал, что та река падает на восход, и, чтобы попасть в ее верховья, надо идти с Колымы на полдень. Свешниковское зимовье ватажные увидели с воды. Казак привел сюда поповскую ватагу до ледостава. Бурлаки стали раздувать костры, чтобы обсушиться и погреться, Федот поднялся на яр, где его ждали двое промышленных людей. Поприветствовав их, спросил про Пантелея Пенду:
— Здесь ли?
— Был, но ушел на дальний стан. Кулемы сечет, — небрежно ответил конопатый промышленный в песцовой шапке и душегрее. Нетерпеливо спросил: — Какой товар везете? А то мы купим!
Промышленные стали торговаться за неводные сети, сбивая цену, предрекая, что зимой их сгрызут мыши. Попов посмеялся, сдвинул шапку на брови и велел бурлакам разбирать бечевы. Стоять несколько дней, чтобы найти Пантелея Демидовича, он не мог. Тусклое осеннее солнце по нескольку раз за день накрывали тучи, холодный дождь то и дело просекался сырым снегом и переходил в густые снегопады.
— Дядька! Давай выкупим якутку?! — стал канючить Емеля. Если какая блажь западала племяннику в голову, он был настырен.
— И на кой она нам? — пытался вразумить его Федот.
— Всего за два сетевых полотна отдадут. А девка еду готовит, одежду шьет… Своенравна, в женках ни с кем из них жить не хочет.
— Понятно! — посмеялся Федот. — Свешниковские из-за нее перессорились и сами готовы приплатить, чтобы избавиться. А ты — два полотна! Зачем нам раздоры?
— Я ей приглянулся! — самоуверенно признался Емеля. — Если позову, пойдет — выкупи из моего пая?
Девкам Емеля действительно нравился и сам до них был сильно охоч. Из-за этого бывали неприятности: последний раз его били зимой из-за ясырки. «Вдруг остепенится, кобель?» — подумал Федот.
— Я сам спрошу, пойдет ли к тебе в женки? Если согласится — оплачу выкуп.
Якутка оказалась хороша и опрятна, понимала русскую речь, хотя говорить стеснялась. Федот спросил, указывая на Емелю, улыбавшегося во всю свою красу. Она, чуть смутившись, кивнула. Дальше пришлось торговаться с промышленными.
До Новоселовского стана поповская ватага дойти не смогла: по реке пошла шуга. Пришлось вытащить коч на берег и строить свое главное зимовье. Люди привычно обустраивались, готовились к холодам и промыслам. На этот раз все делалось веселей, помимо насущного много говорили о следующем лете, о моржовом клыке — рыбьем зубе, о Необходимом Каменном поясе. При низком солнце далекие вершины горного хребта алели свежими снегами. Иван Баранов неназойливо советовал идти туда:
— Весной, когда наст крепок, купить бы собак да нартами с хорошим припасом на лыжах перейти на ту сторону.
— И что там? — спросил Федот, понимая, что казак прельщает сухим путем.
Вопрос приказчика смутил Баранова, он хмыкнул от непонимания, потер переносицу, посмотрел на белые вершины гор так, будто там скрывалось чудо, которому обыденной цены нет, и спохватился:
— Промышленные продают собак по пятнадцать рублей, совсем сдурели. И юкагиры, глядя на них, заламывают цены.
— Завести четыре суки, доброго кобеля, можно не промышлять?! — Удивленно хохотнул Емеля. — В год по десять щенков от каждой. Дядька, давай собак разводить!
— Оставлю тебя с якуткой, разводите собак и якутят! — ворчливо пробурчал Федот, все еще недовольный прихотью племянника.
Зима была удачной, промыслы покрыли долги отчаявшихся людей. Ссор из-за якутки не было. Федот воспарял духом. После Евдокеи-свистуньи Иван Баранов стал настойчивей зазывать на Погычу сухим путем через горы: пешком, без ездовых собак. По его словам, остатков поповской муки могло хватить на путь туда, а уж там Бог не оставит. Но как ни старался беглый казак — отмалчивались и отговаривались даже его товарищи по побегу. Пример Исайки Мезенца с Семейкой Пустозером был у всех на слуху: никому не хотелось тащиться пешком невесть куда, непонятно зачем, всем казалось предпочтительней плавание при попутном ветре, с которым через два-три дня можно попасть на неведомую реку.
Коч стали готовить еще при первых весенних проталинах. Едва почернел лед судно было просмолено, стояло на покатах с подновленными мачтами и залатанными, промазанными жиром парусами. Как только открылась река и схлынул паводок, ватажные весело спустили его на воду и следом за редкими льдинами поплыли к Нижнеколымскому острогу. Из притоков, нижних зимовий туда же стекались промысловые ватаги и казаки. Иные торговые люди зимовали при остроге, другие приволокли товар сухим путем с Алазеи и Индигирки. Торговля шла на острове в устье Анюя, что сначала показалось Федоту неудобным: амбары и гостиный двор возле острога, а лавки и балаганы за рекой. На ярмарку прибывали разные народы с Колымы, ее притоков и других рек. Одни приплывали на лодках, другие приезжали на оленях: и ясачные, и дикие-вольные мужики. Для государевой прибыли на ярмарке никого не ловили в аманаты. Высокомерные чукчи с выбритыми макушками, разных родов юкагиры с татуированными скулами, ходынцы — народы с верховий Анюя с лицами, размалеванными яркими красками — явные враги во многих поколениях, здесь терпели друг друга ради торга и мены.
Лавочные сидельцы втридорога сбывали топоры, ножи, железо в прутах и полосах, бисер и стеклянные бусы. Целовальник взимал покупные и продажные пошлины, платы за прибытие и отъезд, брал с промышленных десятину. Втор Гаврилов делал записи в прошнурованную книгу. Казаки следили за порядком, а удержать его было трудно. Как приказный с целовальником ни запрещали торговым людям продавать вино и брагу, те тайком спаивали, и не только казаков с промышленными. Ясачные и вольные мужики, прибывшие на ярмарку с дальних рек, вдруг начинали петь и плясать, шумно веселиться в своем кругу, затем веселье переходило в насмешки чукчей над юкагирами и наоборот, потом в драки. Если споры промышленных людей кончались мордобоем, то обиды диких — поножовщиной. Казаки надевали боевые рукавицы, растаскивали зачинщиков и трезвили купанием в студеной воде. Это была их главная летняя служба.
Здесь Федот Попов встретил Пантелея Пенду. Борода и волосы старого промышленного были белы, лицо — коричневей лиственничной коры, морщины глубже прежнего врезались в дубленую кожу, но сам он оставался прямым и крепким, ясные глаза смотрели пытливо и весело.
— Вот уж и у тебя в бороде заиндевело, — окинул взглядом Федота, — а Сибирь до конца не пройдена. — Подумав, тряхнул белой бородой: — И слава Богу!
Федот рассмеялся, своя седина его не печалила, а чем пристальней вглядывался в лицо Пенды, тем меньше замечал в нем внешние перемены.
— А ты все такой же! Сколько ж тебе лет? — спросил. — Это сколько их прошло, когда я был юнцом, а ты матерым казаком.
— Не считал! — улыбнулся Пантелей, обнажая щербины под белыми усами. — Хожу да хожу, пока Господь не призовет. А силы уже не те, — подавил вздох.
«Боится немощи, — подумал Федот, уловив муть, мелькнувшую во взгляде, — мало ли старых сибирских бродяг униженно доживают свой век по монастырям и промысловым зимовьям».
— Иди ко мне, — предложил, — я тебя не оставлю. В юности Бог свел и теперь вот… Значит, для чего-то это нужно! — Приветливо разглядывая старого товарища, стал рассказывать о своих скитаниях и помыслах.
Пантелей слушал внимательно, не перебивал, не переспрашивал. В запертом остроге бойкие зимовейщики топили баню, торговали брагой, сусленками и квасом. Герасим Анкудинов в кожаной рубахе до колен с недовольным видом сел на колоду поблизости от говоривших, потянул носом хмельной дух и обругал Семейку Дежнева. Он зимовал у Втора Гаврилова не в прием, без жалованья, за один прокорм гонялся за беглыми ясачниками, привел в зимовье новых аманатов, но взять с них было нечего, кроме обещаний родственников, да и то не ему, Герасиму, а государю. А Семейка Дежнев помимо служб умудрился в зиму добыть соболей и теперь сулил ему, Герасиму, дать заем под кабалу за обычный рост.
— От таких цен на брагу в Ленском остроге живот бы скрутило, в Енисейском помер бы, — возмущался. — А здесь веселятся, платят и даже запивают.
Бессон Астафьев на Колыме не объявился, по слухам, не было его зимой на Индигирке и Алазее. В лучшем случае он мог прийти к осени. Не имея на руках никаких грамот, кроме прежней, Федот Попов обратился ко Втору Гаврилову с просьбой отпустить его ватагу на поиск Погычи. Степенный приказный, как показалось Федоту, тянувший свою лямку честно и без кичливости, задумался, не намекая на посулы, велел прийти на другой день. Утром он встретил Попова в съезжей избе вместе с казаком Семеном Дежневым.
— Ивашку Баранова берешь? — спросил вместо приветствия, будто просьба была уже удовлетворена.
— Зимой промышлял у меня, но в море не просился, — уклончиво ответил Попов.
— Не верю беглым, хоть помощь от них явная! — почесал за ухом приказный, пристально взглянул на Семена с нависшими на глаза волосами, под которыми тот скрывал шрамленый лоб. — Сговорились с ним с сорока семи соболей в казну…
— С сорока пяти! — поправил Дежнев.
— С сорока семи уговорились, — настойчивей повторил Втор, — что пойдет с тобой служилым государевым человеком. Поможете ему в казенных делах, а он будет вам прямить. Читать-писать Семейка не умеет — тебе быть целовальником. А погрешите перед Господом и государем — спрос с обоих равный.
Это было обычное напутствие. Против Семейки Дежнева Федот не имел возражений, помнил его по встречам в Ленском остроге: приветливый, улыбчивый, со скромным лицом, среди первых пришел на Колыму и с тех пор служит, видимо, кое-что скопил на черный день, если дает займы.
Едва по зимовью разнесся слух, что холмогорец Попов получил от Вторки наказную память идти на Погычу, к Федоту побежали люди. Покрученников он не брал, хватало своих. Но и среди своеуженников набиралось несколько десятков доброхотов. О том, чтобы разместить этакую ораву на одном коче, не могло быть и речи. Федот никому не отказывал идти следом, но своим подъемом и на своих судах. С собой же брал кроме промышлявших с ним людей только Пантелея Пенду.
В начале июля колымские протоки полностью очистились ото льда. Следом за Федотом Поповым и Семеном Дежневым пошли еще три судна с пятьюдесятью своеуженниками. Все они беспрепятственно сплыли до зимовья, поставленного Михеем Стадухиным, запаслись юколой и птицей, с неделю ждали, когда очистится ото льда морское побережье. Наконец задул южный ветер с запахами оттаявшей земли. Люди заволновались, прислушиваясь, как в стылой воде скрежещут льды. Ветер отгонял их в полуночную сторону, к далекой блазнившейся земле, о которой среди промышленных ходило много всяких слухов.
За спиной Федота Попова молодой промышленный с пронзительным голосом, захлебываясь, рассказывал, будто слышал, что кто-то, блуждая во льдах, вышел на ту землю и был встречен русскими людьми. Будто его отогрели, накормили, напоили, дали рыбьего зуба, песцовых шкур, вывезли на оленях к матерой земле и наказали, чтобы никому не говорил о встрече. Федот обернулся. Удерживая рукой шапку на голове, чтобы не сорвало ветром, говорил казак из янских беглецов. Товарищи слушали его без любопытства, будто знали об этом. Лишь один недоверчивый устюжанин спросил, от кого говоривший слышал про Большую землю? Казак назвал имя, устюжанин презрительно хмыкнул и снова уставился в даль, на скрежещущие, удалявшиеся от берега льды.
— Полуденник — ветер ненадежный! — крикнул Федоту Пантелей Пенда, чтобы быть услышанным сквозь свист и скрежет. — Подолгу не дует и может перемениться на полуночник.
Между берегом и льдами было уже саженей сто.
— Неужто упустим удачу? — с тоской взглянул на старого товарища Федот.
Тот передернул мосластыми плечами под волчьей паркой, шмыгнул обветренным носом, качнул седой головой с треплющимися волосами, смешавшимися с бородой:
— Лучше выждать!
Федот обернулся к окружавшим его людям, по лицам понял: если задержится еще на неделю — быть великому крику и склокам.
— Может, попробуем? — с просьбой взглянул на Пантелея.
Тот опять неуверенно пожал плечами:
— Вы с Семейкой начальствующие, решайте! — колко заблестела синева его выцветающих глаз. — Подавит льдами, на все лето морока.
Южак стал утихать, и ватаги с кочей начали требовать от Федота и Семейки выхода. Дежнев взглянул на Попова, спрашивая согласия. Федот вопрошающе — на Пантелея.
— Лучше обождать! — ответил тот и не был услышан.
— Чего ждать? — наперебой закричали своеуженники. — Боитесь? Так мы без вас уйдем!
— Пусть целовальник со служилым в конце каравана тащатся!
Федот понял, что остановить их уже не могут ни целовальник с казаком, ни боковой ветер, при котором кочи почти неуправляемы. Он и сам всей душой рвался на восход по черной полоске открывшихся прибрежных вод.
— Если что, вытянем кочи на лед! — опять просительно взглянул на Пантелея.
Тот не отвечал. Глубоко вздохнув, Федот обнажил голову, размашисто перекрестился. Толпа промышленных людей радостно взревела, сорвала с голов шапки и громко запела: «Отче Никола, моли Бога о нас!» Высокий, молодой и чистый голос из толпы отчетливо пропел:
— «Преславный отче Никола, и к чудному заступлению твоему вседушно претекаем»!
Пантелей Демидович тоже перекрестился, поклонился на восход, нахлобучил шапку и взошел на борт поповского судна. За Колымой берег был иным, чем за Индигиркой: здесь виднелась гряда гор, каменистая тундра местами переходила в яр. Промеривая глубины шестом, коч Попова шел на веслах. Другие суда двинулись следом. Полярное лето было в разгаре. Солнце ходило по кругу, приседая за дальние увалы, и наступала светлая, как день, полночь.
Караван шел сутки и еще почти до полудня. Как и предсказывал Пантелей Пенда, ветер переменился, льды, теснясь и скрежеща, двинулись к берегу, который далеко от суши переходил в такую отмель, что вытащить на него кочи было делом многотрудным. При том резкая мелководная волна била о дно, крушила, переворачивала все, что попадало на ее гребни. Пантелей чертыхнулся, велел разворачиваться и грести в обратную сторону. Студеный ветер усилился, льды стали прижимать суда к отмелям, люди на них беспорядочно метались, упираясь веслами то в дно, то в лед. Белая борода и длинные волосы старого промышленного флагом трепались возле руля. Громким спокойным голосом он отдавал команды. Теперь ему верили и беспрекословно подчинялись. Никто уже не думал ни о губе с моржовой костью, ни о неведомых землях. Спасаясь, люди пытались вернуться в колымскую протоку и укрыться от бурь.
Лед обступил суда со всех сторон, скрежеща, царапал и выдавливал округлые, как яйца, сжимал плоскодонные корпуса. По нему можно было перебежать на берег, но спасать себя, похоже, было рано. Пенда высмотрел большую крепкую льдину, большими трудами подвел к ней коч, велел ватаге высадиться, долбить прорубь, вставить заводное бревно, чтобы воротом тянуть судно на лед. Глядя на них, другие стали делать то же самое. Плавучий лед ненадежен, но на какое-то время суда на нем спасались от разбоя.
Через три недели в протоку вернулись все четыре коча, они были изрядно потрепаны, но целы. Люди от усталости валились с ног на холодную тундровую землю и радовались, что вернулись живы. С неделю они отдыхали, отпивались жирной ухой, отъедались вареной и печеной рыбой: горячую пищу в море готовить было некогда.
Задул ветер с запада, но не очистил путь на восход. Желавших плыть к Погыче убавилось. Половина покрученников Федота Попова наотрез отказались пытать удачу еще раз. Его коч с поредевшей ватажкой, с Пантелеем Пендой и казаком Семеном Дежневым, ожидая разводий, простоял в протоке до августа. К этому времени вдоль коренного берега появился широкий проход, но до ледостава оставалось две недели. Плыть в неведомое малой ватажкой, без надежды вернуться, если зимовка в тундре, окажется невозможной, соглашался один Пантелей Пенда.
В августе попутные ветры привели к протоке суда с Индигирки и Лены. Пришел и долгожданный коч приказчика Бессона Астафьева. На его борту вернулась к прежним местам промыслов ватага Афанасия Андреева. Еще до дружеских объятий Федот понял по лицу Бессона, что отпускную грамоту от воеводы он получил.
Короткое полярное лето пронеслось без пользы для всех ходивших морем на восток. Многие решили для себя, что этот путь непроходим, и успокоились. Иван Баранов, терпеливо перенесший невзгоды плавания, опять вразумлял, что весной по насту идти через горы надежней и безопасней. Ссылаясь на рассказы «писаных рож», звал на Погычу с верховий Колымы. Другие участники неудачного похода ругали непутевое лето, льды и верили, что в другой раз им повезет.
Морской поход не смутил и Федота Попова. Для него, притерпевшегося к невезению, это была лишь первая попытка прорваться к новым, неизвестным землям. Сухой путь на полдень, куда звал Иван Баранов, не привлекал ни его, ни других торговых людей: много ли товара возьмешь в нарты сверх необходимого в пути? А добрая упряжка ездовых собак на Колыме оценивалась дороже казенного коча. Федоту Попову и Бессону Астафьеву нужна была великая река, истоки которой находятся в Китае, Индии или, по меньшей мере, в старорусской Сибири, слухи о которой никогда не унимались.
Впереди была зима, промыслы на обустроенном месте, если зимовье и станы не сожгли инородцы. Можно было идти дальше, не привязываясь к прежним местам, заново рубить жилье, сечь кулемники. Такие промыслы сулили прибыли богаче прошлогодних. Пантелей Пенда остался промышлять с ватагой Федота Попова. Иван Баранов решил служить при Нижнеколымском острожке без жалованья, так как ответа на челобитную янских казаков не было. Семен Дежнев просил Втора Гаврилова отпустить его на службы в верховьях реки и оставил ему челобитную с просьбой другим летом вернуться на Лену и дальше, на Русь. Поскольку Господь явно не миловал казака на сибирских службах, израненный, не наживший богатства, он надеялся добыть соболишек и вернуться на отчину. Осенью Втор Гаврилов отправил его на Алазею собирать ясак с юкагиров.
И снова бурлаки тянули поповский коч в верховья Колымы. На стоянках Федот делился с Пантелеем давними помыслами. Он верил, что первые ватаги, которые проторят путь в Китай или Индию, получат самые большие прибыли и славу.
— Китай-то мне зачем? — равнодушно пожимал плечами Пантелей, помешивая веткой угли в костре. — Чужбина она и есть чужбина. Богатство?
Мало я его за свою жизнь добыл? Как пришло, так ушло! Слава только смолоду прельщает, в зрелости понимаешь — самое большое, чего можно добиться — уважения, может быть, даже любви и доброй памяти своего народа, но не купцов, не царя с боярами: что нам до того, что они станут вдесятеро богаче прежнего?
— Так и будешь искать Ирию, — со скрытой насмешкой улыбнулся Федот, жалея старика. — Столько лет ходишь. Не нашел ведь!
— Много всего находил! — не поднимая глаз, отвечал Пантелей. — Встречал жилые русские деревни. Старики говорили, еще их деды приплыли лет сто назад. — Помолчал, глядя на угли, и обронил с досадой: — Скрытно живут. Откупаются, ясак платят, поклоны, как инородцы… Лишь бы не трогали. Не по мне это. Встречал других: мимо их селений промышленные и служилые проходят, не замечая, те умеют отводить глаза и нашим, и диким. Их не обманешь — они помыслы чуют, поэтому служилых близко не пускают.
Федот приглушенно хмыкнул, бросив на промышленного недоверчивый взгляд.
— Что у них не остался?
— Кем? — жестко усмехнулся старик, обнажив в белой бороде желтые щербатые зубы. Глаза его блеснули холодом. — Придурком? Прислужником? Подай, принеси, прибери?.. И брошенных городов по тайге много. Древние стены мхом поросли, среди улиц вековые деревья. А построено было по-нашему, по-русски. Тунгусы говорят, до них, встарь, там жили белые бородатые люди, с их пришлыми предками не воевали, а почему бросили обжитые места — не знают. Зачем-то и куда-то ущли.
Из недолгих прежних встреч Федот не понимал, насколько изменился Пантелей за годы странствий. Нынешние душевные разговоры открывали ему другого, омертвевшего изнутри человека без радостей, страданий, смеха и слез.
— Сибирь велика! — соглашался, перебарывая непонятный, суеверный страх. — Не слышал, чтобы кто-нибудь прошел ее всю. Бессонка с Афоней тоже ищут сибирцев, сверх ходового товара взяли дорогие компасы-маточки в костяной оправе, льняные рубахи, сапоги красной кожи. Спросил: «Зачем это промышленным, диким подавно?» Сказали: «Найдем Сибирскую Русь, продадим втридорога!» Как знать? Вдруг так и будет!
Тем летом, когда кочи Попова и Дежнева пытались пробиться к неведомой Погыче, вниз по Лене мчался подлатанный четырехсаженный коч Михея Стадухина, а сам он в поношенном кафтане, при сабле, фертом стоял на носу судна и покрикивал:
— А подналяжем! Да еще! — Про себя же думал, что медлить нельзя, раз обещал жене вернуться на другой год.
Как в прежнем походе, он с первых дней плавания изматывал людей, но они не роптали, понимая, что вышли поздно и надо спешить, чтобы к осени добраться до златокипящей Колымы. Михей подбирал их сам. Многим желавшим идти на Погычу вынужден был отказать: воевода вскоре забыл словесный посул, данный сгоряча: «бери людей, сколько надо», письменным указом позволил взять только девятерых, и то охочих. Корм и жалованье получил один Стадухин, большую его часть оставил жене. Но на этот раз он шел в поход без кабалы, с небольшим долгом Спасскому монастырю. Среди прибранных им охочих людей был прежний олекминский целовальник, беспокойный и задиристый Юрий Селиверстов. Стадухин взял его мореходом, а спутники крикнули целовальником. Зная Селиверстова по прежним службам, Михей не противился их выбору, а воевода утвердил. Юша с первых дней повел себя вполне покладисто, во всем прямил казачьему десятнику и умело правил судном, что быстро оценили гребцы. Их ладейка скоро догнала крепкий коч Власьева с целовальником Кириллом Коткиным на борту. Сын боярский повелительно замахал рукой, призывая Стадухина пристать к нему, но гребцы и кормщик решили не останавливаться. Михей, свесившись за борт, крикнул:
— Говори, что надо!
Не услышав ничего вразумительного, отмахнулся. Гребцы азартней налегли на весла и стали обгонять коч.
— Знаю его, — задергал бедняцкой бородой Селиверстов, и зычный голос целовальника растекся по реке раскатами грома, — заведет волынку — кто у кого в подчинении. Слава Богу, идем не его, а воеводским указом.
Обогнав коч Власьева на три корпуса, Юша ухмыльнулся, обернулся, выгнулся дугой и покрутил концом смоленого троса на уровне среднего места. Гребцы дружно захохотали, сын боярский погрозил кулаком. Задул попутный полуденник, на судне Стадухина подняли парус, измотанные люди получили отдых. Селиверстов же бессменно стоял у руля, умело правил, никого не поднимая и не дергая: появлялась нужда подтянуть вожжи или варовые ноги — растяжки мачты, умудрялся делать это сам или с помощью Михея, на которого напала путевая непоседливость. К радости гребцов, коч Власьева, маячивший за кормой, пропал из виду. За бортом тянулись желтые песчаные отмели, берег с обрывами, поросшими мелким лиственничником, завалы плавника, нагроможденного весенним паводком. Вечерело. При присевшем солнце заалели верхушки редких вгрызавшихся в тундру деревьев, искривленных холодами и ветром, зарозовела белая от испарений полноводная река, степенно несущая свои воды к океану. Сквозь туман расплывчато мерцал костер на берегу. Коч был замечен, со стана закричали. Это были знакомые казаки, возвращавшиеся с Алдана. Стадухин с Селиверстовым предполагали плыть круглосуточно, но вынуждены были пристать на зов. Едва их ладейка приткнулась к берегу рядом с такой же наспех сделанной в пути, к ним сбежались якутские служилые и завопили, что пограблены беглыми казаками Ретькина и Бугра.
— Что взяли? — посочувствовал Михей.
— Парус, варовые ноги!
— Следом идет сын боярский Васька Власьев с наказом сыскивать с них, ему жалуйтесь. Доведется догнать беглецов мне, сам отберу ваше добро! — пообещал Стадухин, желая поскорей отвязаться от жалобщиков.
— Ты-то куда идешь, чьим наказом? — загалдели с берега, почуяв заминку в его ответе.
— С наказом воеводы — на Погычу! — с важностью ответил Михей и велел выгребать на стрежень.
К Красным пескам Жиганского зимовья он хотел пристать только для того, чтобы узнать новости о беглых казаках. Коч обступили торговые и промышленные люди, стали громко жаловаться на грабежи, рассказывали, что казаки оставили Жиганы всего четыре дня назад. Громче всех кричали торговые Тихон и Матвей Колупаевы. У них силой забрали коч, рожь, масло, крупы, товар на одну тысячу двести рублей. Взамен беглецы дали на себя кабальную грамотку и уплыли, сманив нанятого ими якута-толмача Аребутку.
— Сын боярский Василий Власьев идет следом, — опять стал отговариваться Михей. — Он отправлен приказным на Индигирку и Колыму. Ему все скажите.
— Догонишь, и ты взыщи! — безнадежно требовали пограбленные.
— Постараюсь!
О том, что у него воеводский приказ остановить беглецов, Стадухин помалкивал, опасаясь долгих разбирательств и многих просильщиков. От расспросов отмахивался, но когда подошел Ивашка Казанец, первостроитель Жиганского зимовья и товарищ по давнему походу на Вилюй, вынужден был выслушать его. Казанец с застенчивым и скромным лицом попросил взять с собой.
— Ты хоть знаешь, куда я плыву? — вопрошающе усмехнулся Стадухин.
— Слыхал от таможенных, что на Колыму и дальше, — вид у Казанца был тоскливым, как у пропойцы, ищущего опохмелки. — Помнишь, казачья служба мне в обычай! Грамоту знаю, царю челобитные писал.
— И что не живется? — сочувственно рассмеялся казак, — За челобитные хорошо платят.
— Вместо того чтобы заплатить, стараются напоить, — слезно посетовал Казанец. — А я слаб отказывать. Возьми, а то сопьюсь до смерти! На Колыме, поди, и жалобщиков меньше, и вина нет.
— Писарь нужен! — задумался Стадухин. — Только без жалованья, на пай, как все охочие.
На том они ударили по рукам и составили письменный договор, по которому Иван Казанец обязывался служить два года всякую службу без жалованья.
От Жиганского зимовья Стадухин отправился к устью уже с десятью охочими людьми. Коч быстро бежал под парусом по широко разлившейся реке, где не замечалось течение воды. Возле Столбового зимовья Михей спросил тамошних служилых про Дружинку Чистякова, добрался ли? Казаки ответили, что старик напросился к беглым казакам идти на Погычу.
— Опять в бега! — удивился Стадухин. — А жаловался, что немощен! Удалец! — Не удержался от похвалы сослуживцу. — Вот она, казачья доля!
Стоило его кочу войти в знакомую ленскую протоку, которой выходили в море суда, идущие встреч солнца, путь преградили льды. Их пригнал сильный ветер с востока.
— Беглецов-то нет! — щурясь, озирал окрестности Селиверстов. — Успели проскочить или утопли! — Размашисто перекрестился, подергивая бородой. — Не дольше, чем на три дня отстали от них.
Ожидая перемены ветра, люди Стадухина с неделю бездельничали, а он носился по кочу, по ледовым и береговым окрестностям. По ту и другую сторону от протоки была убегающая к горизонту тундра, к полудню — едва заметный хребет, над ним висело желтое холодное солнце, впереди сколько хватало глаз отсвечивали льды. В этом месте его и нагнал Власьев.
— Ну, что, поспешник? Далеко уплыл? — злорадно окликнул Стадухина.
В другое время Михей не удостоил бы его взгляда, но беда понуждала мириться. Поскольку ветер не менялся, по его разумению, надо было просекаться сквозь льды, двум ватагам сделать это легче, чем одной. Но Власьев ни словом, ни взглядом не выдавал беспокойства и терпеливо ждал перемены ветра. Вымученно улыбаясь, Стадухин предложил ему объединиться для прохода в море.
— На кой? — скривился в усмешке сын боярский. — Если и пробьемся многими трудами, там придется ждать пособного ветра. В том, что льды не пускают, нашей вины нет.
Стадухин в ярости натянул шапку до ушей, ни с чем убежал к своему судну. Подоив тощую бороденку, Юша Селиверстов неуверенно поддакнул, что просечься можно и своими силами, а там, в море, как Бог даст: глядишь, и удастся угрести против ветра по разводьям. К беспокойству атамана охочие относились с пониманием: попусту проедать припас никому не хотелось, они брали его в долг, под кабалу. Михей стал мириться с мыслью, что нынешним летом до Погычи не дойти, но к Колыме готов был ползти на карачках. Под насмешки власьевских людей его спутники целый день просекались и расталкивали битый лед, а продвинулись на сотню шагов. Хуже того, они наткнулись на большие, цельные льдины. Селиверстов объявил, что, пожалуй, быстрей тянуть коч воротом. Охочие долбили проруби, вставляли ворот, четырехсаженное суденышко ползло по льду к морю. Так, передвигаясь с места на место, они изодрали якорный трос и даже варовые ноги, утеряли якорь, но вышли на воду залива.
— Так-то вот! — торжествуя, погрозил в сторону власьевского коча Стадухин.
Ветер не менялся. Великим трудом Селиверстов сумел обойти мыс и привел коч в Янский залив. В устье, укрываясь от ветра и льдов, стояли два торговых коча. Попутные ветры пригнали их с Колымы. Мореходы были измотаны, кочи побиты льдами и волнами. На одном из них возвращался на Лену целовальник Петр Новоселов. Стадухин кинулся к нему узнать колымские новости. Несмотря на жарко горевший чувал, в подпалубной жилухе было сыро, люди вповалку лежали на нарах и были не краше покойников, но Петра Новоселова Михей узнал с трудом. Тот выглядел дряхлым старцем.
— Мишка? Ты ли? — Взял казака за руку, не поворачивая головы. — А я захворал, и сильно, — пожаловался. — Ослеп совсем. Молюсь, чтобы в пути не помереть, добраться бы хоть до Жиган и сподобиться христианского погребения.
— Смена идет! — не зная, что сказать, попытался утешить его Михей. — Сын боярский Василий Власьев и целовальник Кирилл Коткин стоят у Крестового острова в протоке, ждут попутного ветра и разводий.
— Даст Бог, встречусь! — всхлипнул Новоселов, растирая впалый живот. — Тут тоже болит!.. Зыряна убили, Вторку выбрали на приказ, вместо себя я оставил торгового Третьяка Заборца…
— Слыхал! На все воля Божья! — перекрестился Михей, жалостливо поглядывая на целовальника. — А у меня из-за встречных ветров беда: якорь потерял, шейму изорвал, уже и узлы вязать не на чем.
— Проси промышленных, — посоветовал Новоселов. — Не должны отказать: хлебнули бед, но возвращаются с прибылью, тебя с Зыряном и всех ваших добром поминают, что Колыму открыли… Помог бы и ты мне? — Крепче сжал руку Михея. — Мы бы пошли к Омолою, пока Бог дает попутный ветер, да нельзя не навестить Усть-Янское ясачное зимовье. Сходи, передай Козьме Лошакову грамоты и наказы.
— Схожу! — согласился Стадухин. — Тут уже близко. И вам при таком ветре до Омолоя недолго плыть. Там, если что, доберетесь нартами до Жиган… Беглых казаков не встречали? — спросил, спохватившись.
Какое-то время в жилухе было тихо, все настороженно молчали.
— Виделись! — неохотно ответил Новоселов. — Ивашка Ретькин с промышленными на гребях пробивался к Святому Носу.
— На двух кочах?
— Один видели!
— Должно быть два. Один в Якутском у торгового Щукина отобрали, другой у Колупаевых в Жиганах.
— Ретькин не сказал, что в бегах, говорил — на Погычу. Хлеба у них много, нам дали на саламату.
По лицам промышленных и целовальника Михей понял, что о беглой полусотне им ничего не известно.
— Чудно, однако! — Поежился. — Мы не могли не заметить. Разве на Яну ушли, или… Ветер-то силен.
— Всяко бывает, — суеверно закрестились промышленные и торговые, слушавшие разговор целовальника с казаком.
Промышленные поделились с бедствующими смоленым пеньковым тросом, снялись с якорей и ушли по ветру. Стадухин со спутниками направился к Усть-Янскому зимовью. Там возле изб, казенных амбаров и бани сгрудились полдесятка балаганов, над которыми курились дымы. Заметив коч, из жилья высыпали люди. Издали Стадухин узнал Ваську Бугра: прямой, как колода, с широкими угловатыми плечами, с которых свисали руки, не задевая туловища, он был приметен. Долговязый, нескладный Артемка Солдат и согнутый Пашка Кокоулин-Зараза тоже узнавались издали.
— Отсиживаются, голубчики! — рассмеялся Стадухин, повеселев после забот тяжкого пути. — Ишь что удумали: вперед меня — на Погычу! — Селиверстов подвел коч к берегу, Стадухин закричал: — Васька? Много ясака взял с погычинских мужиков?
Зараза смотрел на прибывших исподлобья, без тени улыбки. Солдат удивленно хлопал длинными руками по ляжкам. Васька стоял, как бодливый бык. За их спинами толпились два десятка беглецов, знакомых по службам на Лене. Михей высмотрел Ивана Пинегу, служившего при избе Пушкина:
— А тебе воевода грозился самолично спустить кожу со спины.
— Кабы ему, кровопивцу, государь спины не распустил, — угрюмо отозвался Пинега.
Стадухин отпустил своих людей греться, сам как служилый при исполнении пошел в зимовье к приказному передать грамоты с Колымы. Возле балагана столкнулся с Дружинкой Чистяковым, рубившим дрова.
— Что здесь, что в Якутском! — смеясь, указал глазами на топор и колоду.
— А я думал, с Ретькиным ушел на Погычу.
— Перешел на коч к Ваське с Шаламкой, нас и разнесло! — как об обыденном, ответил старый казак и оправдался: — В Столбовом каждым куском попрекали.
Козьма Лошаков встретил Стадухина как родственника: потискал в объятьях, смахнул с глаз счастливые слезы. Совместных служб у них не было, а радовался Козьма, что в зимовье появился служилый с наказной памятью от воеводы. Когда узнал, что следом идет сын боярский Василий Власьев, и вовсе просиял, признался:
— Что с ними, с беглыми, делать — не знаю! Казаки-то старые, заслуженные, требуют с меня казенный коч, харч грозят взять силой. — Опасливо зыркнул на оконце, затянутое пузырем, зашептал: — Сами одной рыбой живем. Пришлось дать невод — ловите, питайтесь… Не знаю, вернут ли? Теперь вернут! — сказал уверенней и стал рассказывать, что до восточного ветра, перед самой бурей пришли к нему три десятка беглых, сказали, будто в заливе их кочи взял замороз. Пока прорубались к берегу, ветер взломал лед, один коч выбросило на мель, другой унесло невесть куда. На нем, с пятидесятником Ретькиным, дюжина охочих… — Отдохнули они у меня, отъелись рыбкой, пошли снимать коч, а его нет, унесло льдами. Вернулись, сидят теперь по балаганам.
— Ретькин на Погычу бежал! — Нахмурился Стадухин. — Даст Бог, догоню, ты помоги мне!
— Голодранцы грозят, — не любопытствуя просьбой, опять стал жаловаться Лошаков, — и меж собой спорят. Бывает, дерутся. — Тревожно вздохнул, перекрестился. — Ну, да теперь есть на них управа. Ты скажи им государево слово. Скажи!
— Скажу! — пообещал Стадухин. — И ты мне помоги, — повторил громче, — дай шеймы сколько не жаль и якорь… Да ноги бы. Мы свои сняли, когда коч по льду тянули — изодрали в клочья.
— Все дам! — поспешно пообещал приказный. — От этих утаил, спрятал, чтобы силой не отняли, тебе дам якорь железный в полтора пуда, шеймы семнадцать саженей, ноги варовые — две: все что есть казенного — бери!
Сговорившись с приказным и повеселев, Михей пошел к балаганам беглых казаков.
— Здоров будь, Васенька, старый пьяница! — Обнял Бугра. — Выпить хочешь?
— А есть чего? — казак бросил на Михея тоскливый, испытующий взгляд.
— Нету!
— Зачем дразнишь? — Сморщил лоб. — Поди, слыхал? Ивашка Ретькин бежал на Погычу с хлебом, под который все кабалились в Жиганах. То ли бросил нас, то ли унесен Божьим умыслом!
— Какая Погыча при противном ветре?! — неприязненно сморщился Никита Семенов, много лет служивший при гарнизоне, не выбиваясь при разных воеводах ни в любимцы-ушники, ни в опальные. — Если живы, то выбираются к какому-нибудь зимовью. — Размашисто перекрестился, показывая, что не имеет зла на пропавших.
— А мы без коча остались. — Василий сжал в кулаки натруженные, потрескавшиеся ладони, пропустив слова Семенова. Видно, спор о Ретькине еще не унялся. — Сидим вот, ждем служб хоть бы за прокорм. Кузька обещает разослать по Яне и Индигирке… А ты с наказной?
— А то как же? — сбил шапку на ухо Михей. — Иду на Погычу указом воеводы!
— Ух ты! Как получил-то этакую милость? Вроде не был в чести у злыдня… Много посулов явил?
— Нисколько не явил! — с важностью ответил Стадухин. — Обещал вас, беглых, догнать и вразумить… Может быть, на Погычу увести, но не самовольно, а государевым указом!
— Ух ты! — опять просипел Бугор. — А почему злыдень отправил тебя, а не Ерастова? Сказывают, ты на него жалобную подавал?
— Писать не писал, — не смущаясь, признался Стадухин, — а словесно вразумлял. Сбаламутил он вас, а сам в бега не пошел.
— Говорил, будто посуху за Колыму ходил!
— Брехал!
Переговорив с товарищами, Стадухин созвал в круг всех ютившихся возле зимовья, опустив ладонь на рукоять сабли, с важным видом от имени воеводы сказал им государево слово, предлагая вернуться в Якутский острог с покаянием. Сказать-то сказал, что было велено, сам не понимая, как они могут вернуться и зачем. Беглецы слушали его с пониманием, что говорит нелепицу не по своей дурости, а по воеводскому указу. Приняв обычный вид, Стадухин хмыкнул в русую бороду, расправил золотившиеся усы, добавил от себя:
— За мной идет на колымский приказ сын боярский Васька Власьев. Подадите ему покаянные челобитные, он замолвит за вас слово перед воеводой, а тот перед государем. Служб на Яне, Индигирке и Колыме всем хватит.
— Мы царю не изменяли! — зашумели беглые. — Мы супротив вора Пушкина пошли на дальние государевы службы.
— Сам-то на Погычу идешь, вдогон Ретькину, — вздорно вскрикнул Иван Пинега, — а нас зовешь здесь служить!
— Не я зову! — степенно ответил Стадухин. — Прибудет Васька, так же вам скажет. Он на приказе, не я! А будет у вас коч и харч, идите за мной на Погычу охочими, без жалованья. На свою ладейку и пятерых не возьму. Тесно!
Если призыв воеводы вернуться с покаянием в Якутский острог беглецы сочли за обычную казенную глупость, то над словами Стадухина задумались, стали переспрашивать и спорить. Между тем Михей с Юшей и охочими людьми починили коч, оснастили его железным якорем. Ветер на море переменился и потянул льды в другую сторону, на восход, стал забивать ими Янский залив. Селиверстов высмотрел разводья и повел коч к Святому Носу. Была середина августа, еще не пропала надежда добраться до Колымы. Переменившийся ветер очистил ото льдов протоку Лены. С тем ветром коч Василия Власьева пронесло мимо Янского устья к Святому Носу. Там возле Чуркина разбоя два судна опять встретились, ожидая разводий, и борт о борт простояли неделю. Стадухин то истово молился, то лаялся, то ублажал дедушку водяного топленым рыбьим жиром — ничто не помогало, утекали последние бесценные дни короткого лета. Сначала тихо, за спиной атамана, потом громче зароптали охочие люди:
— Зачем жилы рвали? Власьевские без трудов оказались здесь же.
Ветер стал прижимать льды к берегу. Стоянка судов становилась не только бессмысленной, но и опасной. Позже всех это понял Михей и разрешил обеспокоенному Юше Селиверстову возвращаться в Янское зимовье. Власьевский коч пошел следом, два судна не без труда, но пробились к устью Яны, для зимовки. Власьев по-хозяйски обосновался в ясачном зимовье Козьмы Лошакова. Его люди вместе с лошаковскими разошлись на службы по ясачным зимовьям. Сын боярский тоже говорил беглецам государево слово, но служить ему подал челобитную один только Дружинка Чистяков. Ему было все равно, кому и где служить, лишь бы быть сытым.
Беспокойный Стадухин звал беглецов идти на Индигирку сухим путем. Предлагал строить там другой, большой коч и всем отрядом в четыре десятка служилых и охочих плыть на Погычу. Его поддержали почти все беглые казаки, но свои охочие люди бросали колючие, недоверчивые взгляды, ставили в заслугу Власьеву, что без натуги подошел к Святому Носу и вернулся к Яне теми же трудами.
Из-за казенных варовых ног, троса и якоря, данных Стадухину Лошаковым, между ним и сыном боярским начались споры. Власьевская власть была выше лошаковской, поскольку воеводским указом в подчинение к нему отходила и Яна. Но Стадухин воеводским указом шел за Колыму, на новые земли, неподвластные сыну боярскому, и прибыл в зимовье первым. Не оказать ему помощи Лошаков не мог. В спор атаманов втягивались все бывшие там люди. Власьев со Стадухиным собирали их, читали свои наказные грамоты. Служилые, охочие и беглые судили, кто из них прав. Один по праву распорядился казенным добром, другой по праву получил казенную помощь. Одному подвластны известные реки: Яна, Индигирка, Алазея и Колыма, другой отправлен прибрать под государеву руку новые земли и на них имел единоличное право собирать ясак, скупать и добывать рыбий зуб. Полная власть над неведомым давала Стадухину поддержку беглых казаков. Не зазвав их к себе в службы, Власьев стал требовать толмача-якута Аребутку взамен снастей, данных Лошаковым. Беглые своего толмача не дали. Он нужен был и Стадухину.
Власьев с Лошаковым вскоре помирились и тихо сошлись. Проживая в одном зимовье, они держали за печкой бочку браги, приторговывали, стараясь хоть так привязать к себе ленских казаков. Михей заспешил. Юшу Селиверстова с охочими он оставил при коче, чтобы пригнали его на Колыму следующим летом, сам уходил с Яны ради ленских беглецов, чтобы построить с ними новый коч. Имея два судна и наказную память от воеводы, он мог набрать на Колыме людей столько, сколько понадобится, и подвести под государя любой сибирский народ. К тому же Стадухин лучше других понимал, что легче двигаться, чем сидеть на месте, ожидая ненадежного полярного лета. Каждое свое решение он оговаривал со спутниками, среди которых были ходившие сухим путем с Яны на Индигирку, терпеливо слушал их советы и старался быть осторожным.
Октябрь-ноябрь — лучшее время для перехода: речки покрылись льдом, но еще не промерзли, не кипят, снег неглубок. Пока были проходимы хребты, отряд беглых казаков двинулся к верховьям Уяндины, впадавшей в Индигирку. Но случилось так, что уже к этому времени под волоком намело сугробы в пояс, снег от стужи был сыпуч, лыжи тонули в нем так, что путники увязали в нем до колен и выше. Путь, который бывальцы проходили за четыре недели, на этот раз дался за семь. Только к Михайлову дню, когда добрые люди уже промышляли соболя, измотанный отряд занял брошенную избенку какой-то ватажки.
Еще не поздно было начать промыслы. Отдохнув, казаки стали готовиться к зимовке, а Стадухин с Бугром отправились к Среднему ясачному зимовью, узнать индигирские новости. Там они встретили знакомых казаков: Федьку Чукичева и Пашку Левонтьева, посланных с Колымы Втором Гавриловым. С одним из промышленных людей жила знакомая якутка, выкупленная Тархом на Оймяконе. У очага баловался полуголый якутенок трех-четырех лет, покрытый треухом, спадавшим ниже поясницы. На руках женщины был грудной ребенок.
Случилось, что беглые казаки со Стадухиным явились на Индигирку в трудные времена. В отсутствие приказного Андрея Горелого юкагиры напали на Нижнее зимовье, убили казаков Сидора Филиппова и Пятелку Балдина, пограбили казну, забрали из аманатов своих детей, а бывших поблизости от зимовья промышленных избили. Чукичев с Левонтьевым ждали осады, Андрей Горелый собирал по реке промышленных и служилых, чтобы дать отпор.
В жарко натопленной избе индигирские служилые с радостью приняли гостей. Рассказывая о бедах, поили жирным отваром ухи, угощали вареной рыбой и мясом. Михей косился на якутенка, приглядываясь, не Тархов ли? Федька с Пашкой, узнав, что поблизости от зимовья стоит большой отряд ленских казаков, взмолились:
— Помогайте, братцы! Бог вас наградит!
— Поможем, конечно! — хмуро пообещал Стадухин, боясь поднять глаза на Бугра. — Вот ведь что бес удумал: только собрались промышлять… Кабалились в поход.
— Что на погроме возьмем — все ваше! — заверил Федор.
— Чем можем — поделимся, — поддакнул Пашка, разглаживая ладонью лысину. — А нападали алазейские князцы Манзура и Мымкок. Тайком построили крепость, теперь у них есть пищали, порох и свинец — у нас украли и научились стрелять. — И добавил ласково: — Мы с Горелым тебя вспоминали добром: как ушел — Нижний на Колыме беспрестанно осаждают, Алазейское зимовье два раза жгли.
Но Стадухину было не до воспоминаний, он пожаловался с горькой усмешкой:
— Андрейка везуч! К нему Бог милостив! Едва ушел из Якутского, явился Агапитов и по общей кабале на мне все доправил.
— Не сильно-то милостив. — Прикрывая бороду ладонью, Федька подкинул дров в пылавший очаг. — На Индигирку шел с промышленными двумя судами, за Носом попал в бурю, пришлось выброситься на берег, один коч разнесло в щепки, другой можно починить летом. Хорошо, у промышленных были нарты, собаки, лыжи. Дотащились до Нижнего зимовья… Едва Горелый ушел из Нижнего к нам — там случились осада, убийства.
— Разве что жив! — согласился Михей. — И то слава Богу! — И спросил, отстраняясь от забот: — Соболь-то есть?
— Меньше, чем на Колыме, — хмуро ответил Чукичев, — но есть, вылинял. Уже промышляют.
Посыльные вернулись к отряду, собрали казаков в круг, рассказали об алазейской и индигирской беде, о просьбе здешних служилых людей. Беглые уже подновили избенку и баню, сделали запас дров. Одни ругали Горелого, что попустил ясачным напасть, другие поносили приказного Власьева, который обязан был воевать и подводить бунтовщиков под новые присяги государю, а не пить брагу на Яне. Осталось невысказанным — зачем прельстились зимними индигирскими промыслами и не зимовали на Яне? Но, отказать в помощи терпящим бедствие беглецы не посмели.
Через день отряд двинулся к Среднему индигирскому зимовью, соединился с немногими людьми, приведенными Горелым, и пошел на юкагиров за шиверы. Воинское дело всем было в обычай. Бунтовщики действительно построили крепость. Едва отряд казаков и промышленных стал подходить к ней, его осыпали градом стрел, подкрепляя оборону выстрелами из пищалей. Стадухин увел людей за редкие деревья, велел сечь засеку на краю леса. Под ее прикрытием казаки и промышленные поставили тын в сорока шагах от юкагирской крепости, затем начали собирать такой же в двадцати шагах. Казаки злились из-за долгой осадной работы, рвались на приступ. Михей убеждал, что все окупится: поваленный лес пойдет на строительство коча, он берег порох, свинец и людей. И все же Матюшку Медного убили из пищали. Как только казаки выставили острожную стенку в двадцати шагах от крепости, идти на нее за щитами не пришлось: юкагирские тойоны вышли из укрытия. Горелый взял толмача Аребутку, отсиживавшегося в лесу и отъевшегося на индигирских кормах так, что переваливался с ноги на ногу, как пузырь. Вдвоем с ним пошел договариваться о мире. В крепости укрывалось до двухсот мужчин, женщин и детей. Как обычно после погрома, они дали двойной ясак и детей в аманаты. Мир был восстановлен. Отряду Стадухина достались несколько собольих половиков, душегрей, юкагирская крепость, срубленный лес и многие благодарности Горелого с Чукичевым. Андрейка грозил написать воеводе, как Власьев попивал брагу, когда на подчиненной ему реке лилась русская кровь. Но по лицам товарищей Михей видел: ни добыча, ни благодарности и угрозы Горелого никому не в радость. До Рождества две недели, с Рождества до Святого Крещения на всякое убийство запрет. Для промыслов оставалось меньше двух месяцев.
В пути с Яны на Индигирку среди беглых казаков случались раздоры и драки, но Стадухину удавалось удерживать мир. От зимнего невезения ссоры стали чаще и злей. Осерчав на придирки Артемки Солдата и Павла Кокоулина, обособились Иван Пинега и Никита Семенов, к ним примкнули недовольные Митька Васильев и Федот Ветошка. Вскоре после Евдокеи-свистуньи, когда была поделена добыча, они переругались со всеми и ушли в Среднее зимовье к Федору Чукичеву.
Оставшиеся со Стадухиным беглецы в начале марта заложили остов коча и стали распускать на доски срубленный зимой лес. В апреле по обнажившемуся льду реки Бугор с Казанцем ходили искать кокоулины[275] и наткнулись на следы ватаги, незадолго прошедшей в ясачное зимовье. Неделей позже на стан вышли трое власьевских людей, посланных просить у Горелого и Чукичева толмача. От них Стадухин узнал, что весной власьевский коч раздавило льдами, а его ладейка осталась цела благодаря стараниям Юши Селиверстова. Власьев с охочими людьми и Дружинкой Чистяковым по мартовскому насту за четыре недели перешел на Индигирку и собирался идти дальше, на Колыму. Якорь и корабельные снасти его люди волокли нартами. На удачливых власьевские охочие не походили. Юшка Трофимов ругал приказного придурошным, сказал, что на волоке тот до смерти забил казаков Парфена Григорьева и Кузьму Ферапонтова.
— Не до смерти! — смущенно поправил спутник. — Но побил. А те пошли назад и замерзли.
Новости с Яны показались Стадухину хорошими, но его казаки ругались, что пошли на Индигирку в зиму, хвалили власьевских людей и с неприязнью поглядывали на недостроенный коч, вымещая на нем свои неудачи. Михей чувствовал недосказанное. Власьевские ушли в Среднее к Чукичеву, но вскоре вернулись с Иваном Пинегой и Никитой Семеновым.
— Мишка, отдай нам Аребутку! — стали требовать толмача.
— А хрена моржового? — вспылил Бугор. — Мишке до Аребутки дела нет, это мы его брали в Жиганах!
— И мы тоже! — заспорили отколовшиеся беглецы.
Опять назревал скандал. Стадухин не вмешивался, только призывал решить все миром. В большинстве своем беглые оставались на его стороне, они не отдали толмача, но некоторые приветливо встретили Семенова с Пинегой. Утром он понял почему. На рассвете ушли не только отколовшиеся ранее, но и обособившиеся красноярцы: Мишка Шадра, Пронька Трофимов, Тимоха Васильев, ссыльный Маклушка Семенов. А власьевский охочий Юшка Трофимов наперекор им, остался у Стадухина. Отряд поредел на семь человек.
— Скатертью дорога! — кричал вслед Бугор. — Васька Власьев покажет вам Кузькину мать!
Михей выспрашивал, чем его люди недовольны, но не мог добиться ясного ответа.
— Погыча все окупит! — ободрял верных. — Придем первыми — возьмем свое. Я знаю, я был на Колыме!
Как и прежде, он работал дольше всех, ложился спать последним, поднимался первым. Короткими ночами, в которых страшился своих мыслей, понимал, что в срок не вернется, а значит, может потерять Арину. «На все воля Божья!» — скрипел зубами, глядя в низкий, черный от сажи потолок. А утром, вырвавшись из пригрезившихся объятий, шумел, скрывая на делах дня томивший душу ужас: «Да как же я жить-то буду без нее? Лучше и не возвращаться вовсе!»
Уже смолили коч, тесали весла и шесты, а мира в отряде не было. Теперь против всех собачился Пашка Кокоулин. Сутулый, широкоплечий, жилистый, со сломанным носом, щучьим лицом и полуседой шевелюрой, он во всех бедах винил Бугра, а тот орал, втягивая казаков в раздоры. Отчего, почему появилась между ними неприязнь, Стадухин понять не мог. Долгим светлым вечером уставшие люди отдыхали возле разобранной юкагирской крепости. Караульные бодрствовали. Вдруг раздался выстрел. Казаки похватали оружие, готовясь к обороне. Стадухин взобрался на остатки заплота, недоумевая, почему не почувствовал опасности. Караульные, десятник Иван Пуляев с казаком Василием Владимирцем, волокли по земле Пашку Кокоулина с заломленными за спину руками. Тот выкручивался и лягался. Возле заплота его бросили к ногам атамана.
— Аребутку склонял к содомскому блуду!
— А кто свидетель? — заорал Пашка, скаля зубы.
— Я видел, как обхватил его сзаду и крутил. Якут тебя — сковородой по морде. А ты в него стрелил! — взволнованно кричал Пуляев.
— То-то поглядывал на толстого масляными глазами, — насмехался Бугор.
— Вот кто на всех навлекает гнев Божий. Утопить гаденыша: камней в карманы и в реку!
Чуть утих ор, Стадухин, склонившись над Пашкой, спросил:
— Хотел украсть толмача для Власьева?
— На его засраный зад прельстился! — просипел Кокоулин, злобно скалясь. — Да пошли вы… Сажайте в реку!
Казаки приговорили: перед убитым толмачом, до того, как хоронить, Пашку бить батогами. Чтобы никто не срывал на нем зла и не жалел, палачом избрали пришлого Юшку Трофимова. Кокоулин был бит, толмача похоронили как новокреста. Пашка отлежался после батогов и бежал, прихватив пищаль, пай рухляди и свои вещи.
— К Власьеву подался! — указал на пустые нары Стадухин.
Отряд избавился от очередного скандалиста, но склок и раздоров меньше не стало. А Пашка битья не простил: перед тем как уйти совсем, в одиночку крутился по лесу, приходил тайно к летовью, стрелял в бывших друзей из пищали и лука, прострелил руку Ивашке Пуляеву, ранил Ваську Владимирца и Юшку Трофимова. Отмстив за обиды, ушел с концами.
Едва Индигирка вошла в обычные берега, с парусом из отмятых и сшитых кож, с растяжками мачты, сплетенными из березовых корней, новый коч поплыл к морю. Этот путь был знаком Михею Стадухину. В Нижнем ясачном зимовье, у Андрея Горелого, отчасти оправдались надежды охочих людей купить хлеб. Здесь стоял торговый человек Надей Свешников с ватагой промышленных людей, возвращавшихся на Лену. Дела их были закончены, на шестисаженном коче они ждали, когда очистится ото льдов устье Индигирки. Муки у Свешникова было мало, другой товар Стадухина и беглых казаков не привлекал. Купец уверял, что прошлым летом отправил на Колыму судно с двумястами пудами ржаной муки, с подсолнечным и конопляным маслом, с медом. Его приказчик Федька Федоров передал через промышленных людей, что в зиму продал только половину.
— Это какой Федька? — насторожился Стадухин. — Катаев, что ли? Который со мной с Оймякона пришел?
— Он самый! — обрадовался купец. — На Колыме нанял в свой оклад гулящего, теперь служит у меня.
— Купи-продай! — чертыхнулся Михей, но вынужден был признать, что Федька грамотен и при уме.
— Братцы! — вскинул бороду и ласково застрекотал купец. — Дешевле семи рублей за пуд хлеб вы не купите ни здесь, ни там. Я отдам по шесть весь, что у меня здесь, и тот, что у Федьки, но остатки возьмете у него на Колыме.
Свешников уже высмотрел добытых соболей и приценился к ним. Цену на мех для Индигирки и Колымы называл обычную, не рядился, не придирался к пустякам. Зимовейщики Горелого подтвердили, что осенью покупали рожь по семь с полтиной за пуд. Предложение было заманчивым.
— Думайте, решайте, каждый сам за себя! — обратился к спутникам атаман.
Беглецы, отъедаясь купленным хлебом, подобрели, заленились. Ласковые слова и посулы купца расслабили души. Один только Бугор спорил и упреждал наперед меха не отдавать: мало ли что может случиться.
— Все равно придется зайти на Колыму, — неуверенно рассуждал Михей. — Тот хлеб, что есть, съедим за неделю. Новый привезут с Лены не раньше августа. С чем плыть на Погычу?
— Как знаете! — Упрямился Бугор. — Я куплю по восемь за пуд на Колыме, а не здесь по шесть — от топора уши…
— Свежая рухлядь дороже, — возражали ему. — С каждым годом мездра желтеет, соболь дешевеет…
— И купцу выгода — взять у нас рухлядь этим годом и увезти на Лену… И нам выгода…
— Как хотите! — упорствовал Бугор.
Все отдали своих соболей под свешниковскую кабалу без роста до Троицына дня, а после, как принято, гривенный с рубля. К той кабале купец приложил отписку Федьке Катаеву, чтобы отсыпал муки по уговору. Уже разбивались на парочки журавлиные и другие шумные птичьи стаи, очистились ото льда протоки дельты, суда разошлись по разным сторонам. Казакам возле моря пришлось ждать проходных разводий. Зеленела тундра, скрежетали льды, кричали гагары и гуси. Путь к Алазее открылся только в июле, но ветер дул с восхода и стадухинский коч продолжал болтаться на устье.
— Торговых черти любят! — завистливо щурился на закат Василий Бугор.
Помня прошлогодний урок, Стадухин не принуждал идти против ветра на гребях. Казаки съели купленный хлеб, ловили рыбу, стреляли гусей и уток, которых вокруг было великое множество. Наконец ветер переменился. Мореходы пропели молебен на удачный путь и подняли парус. Он вздулся и весело потянул судно на восход. Места были знакомы Стадухину. Несколько раз он попадал в тупиковые полыньи, но выбирался и снова шел в виду берега к знакомой дельте и вот берег круто повернул к полудню.
— Близко уже! — обнадеживал товарищей, сутками выстаивая на корме. — Почему-то прошлый раз быстрей добрались, хоть и шли впервой.
И снова пришлось отстаиваться, дожидаясь перемены ветра. Пошло на закат короткое северное лето. Михей уже метался по судну, бранился, но впереди был целый месяц. При удаче и Божьей милости от Колымы до Погычи он надеялся дойти за неделю, брал себя в руки, успокаивался, но в лицах товарищей примечал леность и неверие.
Задул попутный ветер, коч побежал на восход. Вскоре показался знакомый крест. Это была губа колымской протоки. Возле зимовья, кем-то восстановленного, расширенного и укрепленного, стояли два гусельниковских коча, но ожидаемой радости не случилось. По словам торговых и промышленных людей, Федька Катаев зимовал в Нижнем у Втора Гаврилова. Мука у гусельниковских людей была, и поход до Погычи мог бы продолжиться, если бы казаки не отдали своих соболей Свешникову. Выкупать его кабалу гусельниковские приказчики не пожелали, под новую запись рожь не дали.
Была и другая новость, вынудившая подниматься к Нижнему острогу. Двумя неделями раньше, Юшка Селиверстов с подручными охочими людьми привел с Яны старый коч. Бугор, не пожалев своих соболей и лис, поменял их на муку. Отряд поел хлеба. Стадухин оставил Василия с Артемом Солдатом при коче, с остальными налегке пошел вверх по протоке. За годы после его отъезда на Лену Нижнеколымский острожек был расширен и обнесен новым частоколом. Теперь это был острог с двумя избами, баней, государевыми и гостиными амбарами, хотя по старинке назывался ясачным зимовьем. Вытянутый на берег, здесь стоял знакомый коч. Из-под него, с долотом в руке, выскочил Юшка Селиверстов и бросился на шею Стадухину, а у того бурлило в горле, чтобы беспричинно обругать целовальника.
— Да как ты умудрился прийти раньше меня? Я же сутками льды высматривал, — вскрикнул вместо приветствия.
— Как полынья раскрылась, так и пошел! — ответил Селиверстов, обидчиво хмуря брови, и стал жаловаться: — Власьев-то отобрал у меня и якорь, и шейму. Уж я его лаял прилюдно, грозил жалобами — не отдал, пес!
— Пес! — согласился Стадухин, раздумывая, ругаться или радоваться тому, что Селиверстов ждал его в Нижнем, а не у моря. Жаль было железный якорь, смоленый пеньковый трос остался только тот, что дали на Яне промышленные люди.
После гибели Зыряна в Нижнеколымском острожке сидел на приказе Втор Гаврилов, избранный служилыми людьми. Из прежних оймяконских спутников Стадухина при нем служили Сергейка Артемьев и зыряновский казак Семейка Мотора. Вести посыпались на прибывших одна хуже другой. В сравнении с ними отобранный якорь и варовые ноги казались пустяком. Федька Катаев с мукой и товарами ушел на Анюй для торга и мены с инородцами. Колыма опустела: девяносто торговых, промышленных и гулящих людей ушли на Погычу с целовальником Поповым и казаком Дежневым.
— Кто отпустил? — закричал Стадухин, срывая с головы шапку.
— Я! — невозмутимо отвечал Втор.
— Да кто ты такой, чтобы отпускать людей прибирать царю новые земли? — казак в бешенстве стал бить шапкой по колену. Его товарищи с окаменевшими лицами рассаживались по лавкам, напряженно молчали, наблюдая перепалку.
Опомнившись, Стадухин до бровей насадил шапку на разлохматившуюся голову. Гоняя желваки по скулам, вынул из кожаного чехла наказную память воеводы, подал Втору. Тот почитал, шевеля губами и удивленно вскидывая брови, пожал широкими плечами, с упорной невозмутимостью ответил:
— Кабы успел прийти до выхода тех шести кочей, шел бы вместо Семейки и указывал. Раз не было ни тебя, ни Зыряна, — махнул рукой, крестя грудь, — наказную дал я, потому что принужден начальствовать над Колымой.
— Отначальствовал! — вскрикнул Стадухин. — Придет Васька Власьев, заменит!
— Вот уж не буду просить остаться. Было бы кому сдать — нынче уплыл бы на Лену.
При угрюмом молчании товарищей Стадухин попрепирался со Втором и вышел. Его люди молча двинулись следом к старенькому кочу.
— Ничего не поделаешь! — громогласно успокаивал их Юша Селиверстов.
— Да и что нам те семь кочей? Придем позже, но с воеводской наказной грамотой и подомнем всех под себя.
— Мне позже нельзя! — признался Стадухин, устало переводя дух. — Мне надо быть первым!
— Это уж как Бог дает! — громче прежнего стал разглагольствовать Юшка, озирая притихших беглых казаков. — Нет худа без добра! Догоним Федьку, заберем хлеб, — почесал затылок. — Вот только близко ли он? Этим летом на Погычу не успеть.
— Отчего ты сказал семь кочей? — запоздало спохватился Стадухин. — Вторка говорил — шесть.
— Так седьмой самовольно ушел, — хохотнул Селиверстов, радуясь, что говорит новость. — Герасима Анкудинова, беглого с Яны, знаешь?
— Как не знать? За него принял гнев от воеводы.
— Силой захватил торговый коч, пограбил острог и со всей колымской рваниной ушел следом за шестью.
— Молодец-удалец! — остывая, похвалил Герасима Стадухин. — Нет бы нам пограбить в протоке гусельниковских да плыть дальше…
— Без меня, что ли? — насупился Селиверстов.
— Вот и я говорю, нельзя, — вздохнул Михей. — И без тебя нельзя, и Стахеев — родня. Седьмая вода на киселе, а все ж! — Поднял голову с потускневшими глазами. При хмуром небе усы его были в один цвет с бородой. — Что делаем? Федьку с мукой ищем?
Посоветовавшись, казаки решили спустить коч на воду, идти на Анюй. На Малом, на Большом ли Анюе был Федька или уже подался к Среднеколымскому зимовью, о том Втор Гаврилов не знал.
— Ваську Бугра с Солдатом бросаем? — Михей обвел стылыми глазами смущенные лица спутников и ответил за них: — Терять еще время никак нельзя. Не пропадут с голоду, рыбы много, уток добудут.
— Хлеб-то Васькин съели! — стыдливо пробормотал кто-то из беглых. — А он нас упреждал.
— Тьфу! — выругался молчаливый Евсейка Павлов, вспомнив купца Свешникова. — Погнались за дешевизной! Бес попутал!
— Слишком часто путает! — скаредно просипел Стадухин, поднялся, щуря гневные глаза. — Попаримся в бане, выспимся и пойдем на Анюй!
— Эхма! Не льды, так болотина! — привычно ругали долю путники.
Чавкая промокшими бахилами, тянули коч против неровного течения реки. Тундровый берег менялся крутыми ярами, песчаные отмели — заломами. Одна радость: рыбы, дров и пресной воды было вдоволь, не то что в море. На галечниковых косах разгуливали глухари, вытягивали шеи, разглядывая людей. Легко добывалась водоплавающая и боровая птица, мясной зверь. Не голодали. На Анюе, уже изрядно измотанные бурлацкими постромками, казаки стали думать, стоит ли тащить коч против течения. Река была без обычных извилин и излучин, берега высокие, крутые. Не послать ли ертаулов до первых юкагирских кочевий да выспросить про Федьку?
Август перевалил на другую половину, кончился полярный день, к полуночи наступали сумерки, реку накрывало густым туманом, резко холодало, к утру иней выбеливал густые заросли черной смородины с огромными гроздьями крупной спелой ягоды.
Михей оставил людей возле коча и пошел вверх по Анюю с Казанцем, с пятого на десятое понимавшим юкагиров. Никого не встретив, они шли весь день, переночевали у костра, двинулись дальше и услышали лай собак, что удивило. Юкагирские собаки не лаяли, а выли, как волки. Вскоре они вышли к чуму, крытому берестой. Молодой туповатого вида ходынец с размалеванным красками лицом, разинув рот, пялился на гостей. Казанец словами и знаками стал выспрашивать про русский коч. Ходынец, озадаченно глядя на него, долго мигал пухлыми веками, чмокал раскрытым ртом, сглатывая слюну, и указал рукой вверх по течению. Кое-как от него добились, что туда прошли не струги промышленных людей, а торговый коч. По указу Стадухина писарь стал выспрашивать, бывал ли ходынец в верховьях Анюя и где его исток? Инородец простодушно закивал, удивленно разглядывая пришельцев.
— Спроси про Погычу! — приказал Михей.
Иван Казанец стал расспрашивать, мужик, внимательно слушая, указал в верховья.
— Пахача! — лепетал, чмокая губастым ртом и приговаривая: — Чондон, Нанандар!
Писарь все-таки добился от инородца, что тот сам на Пахаче не был, но слышал о ней.
— Мы тоже слышали! — разочарованно посмеялся Михей и протянул мужику горсть корольков. Стал думать с Казанцем идти ли дальше искать Федьку или ждать. Решили идти.
Бывший казак, нынешний торговый приказчик не заявлялся у Втора промышлять на Анюе, но при нужде мог и зазимовать. Его коч, плывущий по течению, Михей с Иваном увидели на другой день и сочли это за удачу. Федька приветливо встретил бывшего атамана, почитал грамотку Свешникова, поглядел на его кабальную запись, виновато завздыхал, водя по сторонам плутоватыми глазами.
— Нет муки! — развел руками. — Берите другим товаром: неводные полотна, бисер, корольки, колокольчики.
— Да подь ты… со своими колокольчиками! — вспылил Стадухин. — Мы ради хлеба за тобой гонялись!
Зная вздорный характер атамана, Федор ни спорить, ни оправдываться не стал.
— Кабы знал весной, что мука обещана, не мотался бы по рекам, дождался бы вас и уплыл на Лену.
— Так возьми в долг у других торговых и отдай нам. Это справедливо!
— Ага! Под кабалу по восемь рублей за пуд? Дешевле не дадут.
— Дай кабалу! Свешниковскую тебе вернем — продашь если что!
— Он дал на себя, пусть сам расплачивается! — осторожно заспорил приказчик. — Да и нет уже ни у кого излишков на продажу. Федотка Попов с Бессоном Астафьевым весной дорого скупали. Гераська Анкудинов грабил.
Течение реки несло торговый коч к устью, Михей опять думал, что делать? Срок, в который обещал Арине вернуться, вышел. Нутром чувствовал, что теряет жену, а на его неоткрытую землю уже ушли семь кочей.
Ватажка беззаботно коротала время возле причаленного судна. Весть о муке опечалила всех, но люди смирились с очередной неудачей, понимая, что до замороза невозможно найти новую землю и обустроить зимовку, а быть застигнутыми холодами в гиблых местах никому не хотелось.
— Надо искать промыслов! — заговорили без споров.
Бывший казак, чувствуя вину, торопливо закудахтал:
— Зимовье Афони Андреева впусте. Ясачные анюйцы его не сожгли. Просите у Втора промышлять и собирать ясак по Анюю.
Стадухин, вспоминая неудачи и тяготы прошлой зимы, встрепенулся и снова стал распаляться на Гаврилова:
— Захотим, останемся. Вторка нам не указ!
Катаев уплыл к Нижнему острогу, пообещав передать Бугру с Солдатом, где искать спутников, а Втору Гаврилову — что Стадухин будет промышлять на Анюе. Отряд Михея не спешил подниматься по притоку, простоял на таборе день и другой, мирно переговариваясь и решая, как жить зиму. К вечеру к ним сплыл струг торгового человека Анисима Мартемьянова с тремя покрученниками на веслах. Дородный передовщик, кряхтя, выбрался из лодки — борода в пояс, из кольца в кольцо, как бараний лавтак, суконная новгородская шапка, кафтан. Подошел к костру, степенно поклонился сидевшим, расспросив, кто такие и куда держат путь, стал предлагать колокольчики и топоры.
— Муки бы посулил! — загалдели казаки.
— Муки у меня — зиму пережить, и то впроголодь, — признался. — Промышлять придется.
К костру подошел один из его покрученников, присел на корточки.
— Не узнал? — спросил Стадухина, вытягивая к огню ладони.
— Ивашка Баранов, что ли? — вскинул глаза Михей. — Переменился в бегах.
— И ты не покрасивел! — буркнул беглый янский казак.
— Что с Гераськой-то не ушел? Опередил он меня, самовольщик!
— Служили с ним при зимовье без жалованья, — не поднимая глаз, приглушенно отвечал Баранов. — Отправили покаянную челобитную. Но Гераська возомнил себя атаманом. — Иван поднял на Стадухина озлобившиеся глаза и мрачно процедил сквозь зубы: — Ненавижу властолюбцев! Спаситель на них проклятье наложил… Нет греха поганей. Человекоубийство отмолить легче, чем соблазн повелевать людьми.
Охочие и беглые казаки смущенно умолкли. Стадухин покряхтел, повертел головой, пытаясь найти поперечные слова.
— Узнаю по речам Пашку Левонтьева. На Индигирке бунтовавших юкагиров бил по головам Книгой. Вразумлял!
Анисим тихо рассмеялся и стал оправдывать покрученника:
— Зол не только в словах, но в бою и в работе! И товарищ верный, спутник надежный. Ходил с Поповым прошлым летом, а нынешним не пошел.
— Я его давно знаю! — отмахнулся Стадухин и спросил Баранова: — Говорят, вас море не пустило прошлым летом, а нынешним что с Поповым не пошел?
— Сон был! — уклончиво ответил беглый янский казак. — Мать-покойница упредила не ходить. — В его взгляде мелькнуло что-то темное, непрощеное.
— Мать надо слушать! — согласился Стадухин и перестал расспрашивать.
— Ты на Колыме казак известный! — плутовато щурясь, польстил ему Анисим. — С тобой можно идти туда, где промышленные люди еще не шалили.
— Можно! — с важностью ответил Стадухин. — На Погычу идем воеводским наказом, да вот беда, хлебный припас издержали. Дал бы нам пудов сто, мы бы тебе потом заплатили лучшими соболями.
— Дал бы! — угодливо кивнул торговый, разглаживая по животу густую бороду. — Да нечего! И на промыслы с вами пошел бы, и на Погычу своим подъемом!
— У меня два коча, — Стадухин окинул торгового светлеющим взглядом, обернулся к спутникам: — Что, братцы, возьмем?
— Со своим хлебом! — откликнулись беглые казаки.
— Мог бы и подъем дать нам в долг! — густым голосом пророкотал Селиверстов, выдвигаясь из-за казачьих спин. — С виду — не беден!
— Не только с хлебом, — не удостоив его взгляда, продолжил Анисим. — Есть догадка, — шмыгнул красным носом и бросил быстрый настороженный взгляд на Баранова, — будто Анадырь и Погыча — одно и то же и берет начало за горами, — указал в сторону хребта в осенней дымке.
— Что за Анадырь? — встрепенулся Стадухин, оглядываясь на Казанца. — Нанандара? Нам про реку говорил ходынец.
— Анадырь-Нанандырь! — кривя губы в бороде, проворчал Баранов. — Из верховий Колымы есть тропы-аргиши на Погычу и Чендон. Посуху идти надо.
— Про Чендон тоже слышали! — Напомнил про встречу с ходынцем Казанец и переглянулся со Стадухиным.
— Если не строить зимовья, то можно сходить поискать! — рассеянно пожал плечами атаман.
— С Колымы, не с Анюя! — поперечно напомнил Баранов.
— Ходили по осени на Индигирку! — загалдели беглые казаки. — Разбогатели, аж животы к спинам присохли.
Самые беззаботные рассмеялись.
— Осталось-то, по сказкам, всего три дня парусом! — вразумляя их, зарокотал Юша Селиверстов.
Ватага вывела коч в среднее течение Малого Анюя, где прошлой зимой промышлял Афоня Андреев. Зимовье действительно было целым. Кочевавшие здесь роды исправно платили ясак, промысловые угодья между ним и промышленными были поделены. Люди вытянули коч на сухое, протопили отсыревшую избенку и стали готовиться к промыслам. Стадухин с Юшкой Трофимовым и Евсеем Павловым пошел в верховья притока смотреть места и аргиши. Они шли по берегу, пока не увидели полтора десятка юрт. Над ними курились дымы, маня теплом и отдыхом. В стороне на возвышенности стояла крепость, сложенная из бревен и камней. Завидев людей с ружьями, мужики, бабы и дети побежали к ней.
— Кто разрешил? — выругался Стадухин. — Я с Зыряном одну крепость разорил, они другую поставили. Уговаривались, чтобы ясачным жить без укреплений!
Неласково встречали гостей анюйские юкагиры. Едва трое подошли на выстрел, из щелей полетели стрелы с тупыми наконечниками.
— Втроем не взять! — вопрошающе взглянул на казаков Юшка Трофимов.
— И не обойти лиходеев. Там стланик, здесь река, — побурчал Евсей.
Обледеневший мох холодил животы, они лежали и думали, что делать. Стадухин, щурясь, крепкими зубами перемалывал ветку.
— Вернемся! — Сплюнул. — Придем, выбьем и зазимуем в крепостице… Кто зачинщик, против того Бог!
К радости анюйских юкагиров пришельцы повернули назад. Через неделю к селению подошли двадцать человек, вооруженных пищалями, саблями и топорами. Как в прошлый раз, постреляли для острастки и ворвались в крепость. Анюйцы повозмущались, ссылаясь, что давали ясак и аманатов, а крепость построили для защиты от ходынцев, но по требованию атамана вынуждены были ее оставить. Жечь крепостицу Стадухин не стал. Охочие и промышленные из ее бревен за неделю срубили просторную избу с нагородней, баней, обнесли частоколом и поставили рогатки со стороны горного склона. Другого ясака и поклонов с анюйцев они не брали.
8. Где никого допреж
В те дни когда на Яне Михей Стадухин и Василий Власьев еще только говорили беглым казакам государево слово, а потрепанные кочи Федота Попова вернулись из неудачного похода, на Колыме собралось до четырех сотен русских людей, это была сила, способная защитить себя от немирных инородцев. Добрая половина ватаги, ходившей с Поповым и Дежневым к востоку от Колымы, хлебнув лиха в море, думать не хотела о новом походе. Другие были раззадорены неудачей, дескать, гладка дорога только в ад. Отступники не смутили Федота, он знал, что следующим летом наберет людей сколько надо, и после окончания промыслов заложил остов третьего коча. Пригодного для строительства леса было много, судно делали крепким и надежным, чтобы кроме товара и съестного припаса можно было взять на борт до двух десятков человек.
В то время как Михей Стадухин с беглыми казаками плыл к устью Индигирки, отряд Василия Власьева и Кирилла Коткина сухим путем шел к Верхнему колымскому зимовью, суда Федота Попова и Бессона Астафьева по большой, пенящейся водоворотами воде неслись к Нижнеколымскому острогу. Астафьевские промышленные люди возвращались с промыслов тоже на трех кочах.
На приказе сидел казак-первопроходец Втор Гаврилов. Челобитную с просьбой повторно отпустить на Погычу торгово-промысловую ватагу из шести кочей он принял благосклонно, но с усмешкой почесал косматый затылок, когда приказчики попросили отправить с ними государевым служилым того же Семена Дежнева. Еще по весеннему насту Дежнев вернулся с Алазеи с ясаком от тамошних юкагиров и четырьмя десятками своих соболей. Втор Гаврилов посочувствовал невезению товарища, но, как положено, взял с его добычи десятину. С простреленными ногами и рукой, с двумя рубцами на лбу, скрутившими кожу так, что выцветшие в цвет соломы брови задирались шалашиком, придавая лицу то ли удивление, то ли умиление тому, что до сих пор жив, Семен окончательно потерял веру в милость Божью. Еще в октябре, после прошлогоднего плавания, он подал Втору челобитную грамоту с просьбой отпустить на Русь. Приказный отнесся к ней с пониманием, но прошлогодний посул в сорок семь соболей был записан в окладную книгу, а после возвращения из неудавшегося похода взят не был. Приняв челобитную Попова и Астафьева, Втор стал уговаривать Семена еще раз попытать счастье.
— Что с того, что не повезло в прошлом году, нынче с Федоткой и Бессонкой просятся полсотни своеуженников и покрученников. Даст Бог, найдете богатые земли, государю послужите, себе что-то добудете.
Переминаясь с ноги на ногу, прерывисто и сипло набирая грудью воздух, Дежнев взглянул на товарища сквозь нависшие на глаза волосы, рассеянно пожевал и выплюнул рыжеватый ус.
— Я свое выслужил! Вернусь с тем, что Бог дал по грехам моим, построю дом…
— Какой дом? — то улыбаясь, то досадливо хмурясь, заводил беспокойными глазами Втор. — На тебе неправленная кабала за семь лет, а я должен взять прошлогодний посул. Вернешься голодранцем и сразу — на правеж. Забыл, как это там делается? — Втор мотнул косматой бородой на закат.
Дежнев помрачнел, резко вскинул голову, смахивая челку и обнажая отчаявшиеся глаза:
— Побойся Бога, мы ведь с тобой много лет выслужили. Неужели возьмешь с моих крох еще сорок семь соболей?
— Не самому же расплачиваться? Попов с Астафьевым сильно хотят, чтобы с ними шел ты. А то ведь Семейка Мотора просится, обещает в казну сто соболей.
— Припер! — С претерпеваемой болью в лице Дежнев опять шумно вздохнул и согласился: — Дам больше Моторы, но прошлогодний посул — не в счет?
— Зачтется в нынешний! — кивнул Втор. — Даст Бог, вернешься небедным, и я с честью отпущу тебя на Лену. Если, конечно, меня не переменят, — оговорился. — Устал от этой службы, — пробормотал, оправдываясь.
Семен метнул затравленный взгляд на целовальника Третьяка Заборцева, смущенно помалкивавшего при разговоре казаков, снова пожевал ус и пообещал против сотни соболей, явленных Семеном Моторой, — полторы, с тем, чтобы идти к Погыче с усовским приказчиком Поповым и с гусельниковским Астафьевым. На другой день он продал всех своих соболей Федьке Катаеву, а деньги вложил в поход. Отступать было некуда. Семен Мотора, узнав, что Дежнев обещал против его посула полторы сотни, нахлобучил шапку и хлопнул дверью съезжей избы. Но в тот же день ко Втору прибежал Герасим Анкудинов и предложил отправить его вместо Дежнева, пообещав казне двести соболей. Услышав об этом, Семейка Дежнев побагровел от негодования и стал ругать Втора, что принуждает к посулу, который невозможно выполнить.
— Или забыл, как Гераська Анкудинов с Ивашкой Барановым грабили торговых людей? — напомнил приказному.
Втор, виновато посмеиваясь и почесывая пятерней бороду, сослался на то, что не может не принять челобитную на царское имя и радеет за государеву выгоду. Колымский целовальник Третьяк Заборцев опять отмолчался. Страсти разгорались. Кабальный должник Дежнева Герасим Анкудинов, почуяв заминку, предложил Втору отпустить его за двести сорок соболей. Потом набавил еще сорок. Покладистый Семен Дежнев разъярился, брови его распрямились, шрамы на лбу побагровели, он стал лаять приказного: тот не мог не понимать, что собрать столько соболей невозможно даже в самом богатом краю.
— Ты же знаешь, что государь не получит с Гераськи ни хвоста! Зачем потакаешь? — кричал. — Он и тысячу пообещает, что ему? По прошлогодней кабале не может со мной расплатиться: всего-то двенадцать рублей десять алтын с полуполтиной. Тебе бы как приказному поставить его на правеж, а не принимать несбыточные посулы.
Намеки на попустительство по службе не смутили Втора, он только приговаривал, что радеет за государеву прибыль, хотя глаза его блуждали и беспокойно прыгали по рубленым стенам. Пригрозив ему жалобой, Дежнев выскочил из съезжей избы, заплатил писарю, и тот написал с его слов от его имени жалобную челобитную царю. Жаловался казак на Герасима Анкудинова, обвинив его не только в старых и нынешних грехах, но и в своих догадках. Втора Гаврилова с Третьяком Заборцевым он не упоминал, но из челобитной было ясно, что приказный и целовальник потакают беглому янскому казаку. С пламеневшим лицом при свидетелях Дежнев подал челобитную колымскому приказному. Тот почитал, покряхтывая и досадливо качая головой, укоризненно взглянул на старого товарища, постыдил за смутные догадки, будто Герасим набрал три десятка самых беспутных людей, грозит торговых и промышленных бить, грабить, идти на Погычу самовольно, а там бить и грабить иноземцев, с которых Дежнев собирается взять прибыль; будто торговые и промышленные Гераську с его людьми боятся и оттого идти с ним, с Семеном, на Погычу не хотят.
— Кто же тебе поверит, что шесть десятков хорошо вооруженных людей боятся трех десятков босяков? — Втор вскинул обиженные глаза и жалостливо посоветовал: — Может, перепишешь?
За написание челобитной было заплачено по ленским ценам — рубль. Так просто выбросить на ветер еще один Дежнев не желал.
— Отправляй, как есть! — уперся, бодливо глядя на приказного сквозь челку.
— Тебе ответ держать, — вздохнул Втор и подписал челобитную.
Дело было сделано. Тяжба между Дежневым и Анкудиновым проходила на слуху колымского сброда и становилась посмешищем. Гераська при Семене ворвался в съезжую избу, молодецки подпер бока кулаками, спросил, сколько соболей он явил по последнему слову, и пообещал к тому посулу на семьдесят больше. Втор Гаврилов положил на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами и объявил:
— Не верю! С караваном пойдет Семейка не за двести восемьдесят, как явил, а за двести восемьдесят пять. У него кое-что есть на черный день, а на тебе неправленая кабала и связчики на подбор: вошь в кармане, блоха на аркане. Что с вас взять?
Торговые люди, снаряжавшие кочи своим подъемом, с облегчением вздохнули и поддержали приказного. Поход намечался отчаянный, без богатой добычи из него лучше бы не возвращаться ни Дежневу, ни Попову, ни Бессону Астафьеву, поскольку они вкладывали в предприятие все, что имели.
Бессон погрузил на свои суда нераспроданный товар. Вместе с медными котлами, топорами, пешнями, колокольчиками, одекуем, пользовавшимися спросом у диких народов он надеялся с выгодой продать за Камнем тринадцать компасов в костяной оправе, бараньи кафтаны, одеяла, варежки, чарки, рыболовные снасти, рубахи ярославские, красные кожи, медные пуговицы, холст, восковые свечи, перец, неводное прядево, шесть гладких пищалей, три винтовые, порох. Двести пудов муки брали на себя его покрученники и своеуженники. Все это по таможенной оценке стоило тысячу семьдесят три рубля. Целовальником от торговых и промышленных людей снова выбрали Федота Попова. Один из бессоновских кочей брался вести бывалый мореход и передовщик Афанасий Андреев, другой — сам Бессон, третий был доверен казаку Семену Дежневу.
Но распря между колымскими служилыми людьми на том не закончилась. Анкудиновский промышленный Пятко Неронов за двенадцать дней до похода подал Втору жалобную челобитную, что Семейка Дежнев бранил его нептребной бранью, Сидор Емельянов и Иван Зырянин жаловались, что Дежнев грозился их побить. Все они просили царского суда и старались задержать казака на Колыме. Семен же перед выходом подал исковую челобитную на целовальника Третьяка Заборцева, в которой требовал уплаты за семьдесят соболей. К отплытию были готовы шесть судов с грузом и с шестью десятками мореходов. Но желавших идти на Погычу было больше. Герасим Анкудинов, грозя Семену Дежневу, метался по низовьям Колымы, прельщая торговых людей снарядить его в поход.
20 июня на Мефодия-перепелятника, шесть судов при обычных торжествах и напутствиях пошли от Нижнего острожка правой протокой. Вблизи моря караван догнал большой коч, народу на нем было вдвое, против разумного. Он пристал к борту бессоновского судна, которое вел Семен Дежнев, на корму перескочил Герасим Анкудинов, объявил, что идет на Погычу своим подъемом, а представить государеву служилому наказную память или отпускную грамоту отказался: я, дескать, и сам служилый. Коч у Герасима был добрый и крепкий, явно принадлежащий торговым людям. Как он оказался у него, Анкудинов говорить не желал, на расспросы зловеще посмеивался. На его судне теснилось три десятка самых неудачливых колымских беглецов, крикунов и пропойц.
— Что с ними делать? — растерянно развел руками Дежнев, спрашивая совета у целовальника.
— Что поделаешь? — нахмурился Федот и глубже натянул шапку. — Не пустить следом не можем… Пусть идут куда хотят, за то им самим ответ держать: мы их к себе не принимали.
Наконец задул попутный ветер, между коренным берегом и льдами появилась широкая полынья.
— С Богом, что ли? — Волнуясь, Федот Попов взглянул на старого промышленного Пантелея Пенду. Тот огляделся по сторонам, скинул шапку, обнажив бронзовое лицо в сугробе седых волос, и согласился, что день для выхода благоприятный. Герасим Анкудинов со своими удальцами стоял в стороне и предусмотрительно не выходил в неведомое первым.
На шести кочах были подняты железные и каменные якоря. Скинув шапки, мореходы запели молитвы, обычно читаемые перед выходом. Суда покачивали мачтами, течение реки и отлив несли их к морю. Ватага Герасима Анкудинова тоже выбрала якорь, сбилась в кучу, луженые глотки беглецов заголосили, прося заступничества и доброго пути у Николы Чудотворца. Федот нахлобучил шапку, махнул рукой Пантелею Пенде, чтобы старый мореход шел первым. Ертаульный коч выгреб на ветер, белая борода Пантелея затрепалась на пол-аршина впереди лица. Его люди потянули фалы-дроги, над судном поднялся и вздулся смазанный жиром кожаный парус. Чуть зарываясь в волну тупым носом, обвязанным пучками прутьев, первый коч двинулся к восходу, за ним потянулись поповские суда, следом пристроились бессоновские. Герасим Анкудинов скромно пошел в конце каравана и вскоре вызвал одобрение опытных мореходов: его судно, приспустив парус, легко перекатывалось с волны на волну и не отставало. Вдали, по правому борту, среди черных туч розовели тесные просветы. По жавшемуся к воде небу неслись сырые облака, оседали влагой на одеждах и парусах. Ветер был свежим с коварными порывами и завихрениями, срывавшими брызги с волн.
— Не нравится он мне! — Федот с беспокойством оглянулся на судно, которое вел племянник Емеля. Сказать вслух, что такой ветер зачастую переходит в бурю, опасался и с надеждой посматривал на корму впереди идущего ертаульного коча, то опускавшуюся, то задиравшуюся на пологих волнах. Трепавшаяся на ветру борода Пантелея Пенды стала мешать старому мореходу, и он затолкал ее за пазуху.
Промышленные люди сидели вдоль бортов, опасливо поглядывали на отдалявшийся берег, для укрепления духа читали молитвы. В большинстве они выбирались на Колыму морем, но управлять судами могли немногие. Вскоре раздался утробный вопль: Емелькина якутка исторгла из себя съеденное утром. Следом, сплевывая тягучие слюни, свесилась за борт юкагирка Афанасия Андреева. Прожиточные своеуженники взяли в поход женщин, на что в старые времена среди промышленных людей был запрет. Их стало выворачивать первыми. Шутили над женками недолго. Лица одних промышленных были свежи, у других напряглись и посерели. Приглушенные, стыдливые звуки рвоты стали раздаваться с других судов.
А ветер усиливался, круче и выше поднимались волны, пенились белыми гребнями. Кочи стало разносить, но все они были видны друг другу. Герасим Анкудинов, восхищая опытных мореходов, не только держался на плаву, но с удальством болтался неподалеку от Дежнева и покрикивал, мстительно подначивая казака. Вскоре пропали даже розовые блики среди туч, без видимого солнца караван шел к восходу дольше двух суток. Наконец на тундровом берегу показался крест. Промышленные, ходившие в эти места с Мезенцем и Пустозером, радостно закричали, указывая вход в залив, где можно спрятаться от бури, которой все ждали и опасались. С востока проход в него был укрыт скалами, по правому борту суда защищал от ветра низкий и плоский остров. Они обошли его и оказались в просторном заливе с полоской битого льда на воде. На песчаной косе лежали обкатанные прибоем стволы деревьев. Удивленные появлением судов, низко над мачтами носились многочисленные утиные стаи, занудно кричали бакланы.
— Губа! — Федот Попов указал спутникам на плавник. — Где-то река с лесом, а значит — с соболями, — смутно намекнул на возможное окончание морского похода и добавил тверже: — Надо освежить запас воды.
— Слава Богу! — с облегчением воскликнул Дежнев, скинул шапку и перекрестился на восход. Его судно шло под веслами рядом с поповским кочем. — Тут нам буря не страшна!
— Здесь у нас была мена! — торопливо рассказывал пустозерский промышленный. — На острове много костей: оленьи рога и бычьи головы, — он осмотрелся по сторонам, желая с чем-нибудь сравнить, и указал на бочку с водой: — Такие и поболе! Из земли торчит шерсть неведомых зверей, под толстой кожей старое дохлое мясо: с голодухи съешь — помрешь!
Семь кочей протиснулись сквозь битый лед и неспешно вошли вглубь губы. Оголодавшие анкудиновские беглецы бросили якорь и стали ловить рыбу. Гусельниковские суда остановились неподалеку от них. Федот Попов повел свой коч дальше. Емеля и Пантелей пошли за ним. В поисках устья реки они осматривали мелководные заливы и потратили много времени. Бессоновские суда и анкудиновсие беглецы нагнали их через сутки в виду отмелей густо заросших тальником. Сначала показалось селение с кожаными лодками на песчаном берегу, с полуземлянками из плавника и костей, затем открылось устье реки, загороженное двумя песчаными косами. С отчаянными криками с озер налетели чайки, из воды высовывались черные и глазастые нерпичьи головы.
Было тепло, сеял мелкий дождь. Река впадала в губу многими заболоченными рукавами. Устье густо заросло ивняком. Легкие лодки с судов Попова поднялись до пресной воды и наполнили березовые бочки. В то же время промышленные люди Бессона Астафьева с казаком Дежневым высадились на сушу, чтобы осмотреть селение. Едва они подошли к нему, из-за землянок полетели камни и стрелы. Промышленные отступили, для острастки дали залп. Порезать кожаные лодки здешних жителей Семейка не дал. Под насмешки Анкудинова его люди вернулись ни с чем.
— А дозволь нам сходить на погром! — молодецки подбоченясь, крикнул Герасим и широким жестом указал на своих голодранцев, ловивших рыбу.
Их коч был обвешан распластанной юколой из жирных гольцов. Но Дежнев, не удостоив беспокойного соперника взглядом, приказал дожидаться возвращения судов целовальника.
Река оказалась явно не той, какую искал Федот Попов. Заправившись питьевой водой, он вернулся к кочам каравана. К тому времени кожаные лодки жителей исчезли. Дежнев снова послал на берег отряд промышленных, чтобы взять аманатов. Вместе с ними пошли на погром анкудиновские беглецы. Но землянки с кровлей, обтянутой толстыми кожаными ремнями, были покинуты. Из зарослей ивняка то и дело выскакивали толпы мужиков, похожих на чукчей с Чукочьей реки, в сторону охочих людей летели камни и тяжелые стрелы с костяными наконечниками.
— Недружелюбно встречают! — с удрученным видом развел руками Дежнев и велел возвращаться. Идти на приступы и аманатить ему явно не хотелось.
Анкудинов со своими беглецами обшарил землянки и вынес несколько мешков вяленой рыбы.
— Давай, веди нас! — корил Дежнева. — Ты государев человек, не я!
Его люди, понуждая других промышленных следовать за ними, несколько раз высаживались на берег, пытались преследовать здешних мужиков, но те растекались по зарослям ивняка и тундре, преднамеренно завлекая в сырые болота. Дежнев посмурнел, раздосадованным голосом стал пытать промышленных, ходивших сюда с Мезенцем и Пустозером:
— Однако вы были здесь не с мирной меной?
Те уверяли, что в прежнем походе не пытались аманатить и почти, не грабили.
К этому времени установилась благоприятная погода. Рассеялись тучи, небо стало прозрачно-голубым, по вершинам далекого хребта катилось ясное солнце, ветра не было, не было даже легкого движения воздуха. Пока охочие двух ватаг и приставшие к ним беглецы думали, как подвести под государя здешний народец, на небе показалась тучка, все замерло: умолкли крикливые гагары и чайки, рыба перестала плавиться и пускать круги по воде, стало тяжело дышать. Задуло с полудня, со стороны гор, да так резко, что люди на судах вынуждены были схватиться за шапки. Ветер резко усиливался. Кочи поволокли за собой якоря по дну и стали продвигаться к выходу из губы.
Пенда сунул шапку за пазуху вздувшейся камлеи, длинные волосы и борода превратились в треплющийся белый флаг. С дежневского коча сорвало лодку. Она заскакала по воде, едва касаясь гребней кормой и носом. Пантелею с его людьми удалось вытянуть якорь и развернуть коч по ветру. Погоняемый им, он без паруса помчался в открытое море. Другие последовали его примеру и были выброшены из губы ураганом. Тут уже никто не думал, куда и как плыть: все заботы были о том, чтобы удержаться на плаву. Буря отнесла суда ко льдам. Опытные мореходы иногда заходили в них, спасались от волн. Такие заходы требовали большого умения и немалого везения. Пока Пантелей не решался на это, гребцы устало висли на веслах, стараясь не упускать друг друга из вида, держались возле льдин.
Буря, резко начавшаяся при ясном солнце и безоблачном небе, так же неожиданно закончилась. При безветрии еще долго гуляли волны и скрежетали льды. Вдоль берега открылось широкое разводье чистой воды. Отдохнув, мореходы опять налегли на весла, выгребая ближе к суше. Остались за кормой скалистые сопки мыса, мимо которых кочи вынесло из губы. По левым бортам до видимого края расстилалось море с плавающими льдами, по правым, в полутора верстах, сколько хватало глаз виднелась тундра, изрезанная мелкими речками и озерами. Подойти к берегу не позволяла глубина. Задул легкий попутный ветер, потрепанные кочи подняли паруса и продолжили путь на восход. Впереди опять шел поповский коч под началом Пантелея Пенды, борода старого сибирца колыхалась, указывая направление. Замыкал караван Герасим Анкудинов.
— Еще верных трое суток прошли от губы, — с недоумением переговаривались на судах. — Где Погыча?
Всем было ясно, что сутки в море не мера пути: волны, ветер, течения могут как погонять, так и сдерживать, и все же со дня на день ждали увидеть устье реки и конец плавания, но в море падали только ручьи и мелкие речки. Пропадала за кормой равнина, которой, казалось, нет конца, берег стал круче и скалистей.
С моря было замечено селение, неподалеку от него устье небольшой реки. С берега веяло прелью гниющих растений и свежей сыростью пресной воды. Жители толпились возле землянок, настороженно следили за судами. Кочи вошли в залив, встали на якоря, спустили лодки с пустыми бочками и подарками для инородцев. Но едва гребцы приблизились к суше, жители беспричинно напали на них. С кочей стали стрелять, лодки спешно набрали воды в бочки и вернулись.
— Мезенец с Пустозером озлили их всех, что ли? — злей прежнего ругался Федот Попов, рассерженно оглядывая берег. — Отчего никто не хочет торговать?
— Вот и я думаю, неспроста это! — поддакнул Дежнев с кормы своего судна. — Третье селение проходим — везде одно и то же.
Рыба в море не ловилась, вдали от судов удивленно фыркали нерпы. Промышленные стреляли по ним, пуская по воде веретена порохового дыма, который расправлялся в редкие облака и полз по ветру. Все видели, что явно ранили морских зверей, но добыть их не могли. Анкудиновские беглецы опять голодали. По христианскому милосердию поповским и астафьевским людям пришлось делиться хлебом. Кочи подошли еще к одному селению с землянками из камней и костей, у воды лежали большие байдары. На приглашение торговать и эти жители стали пускать стрелы, метать камни из пращей. Взять у них аманатов или ясырей не удалось.
— На кой они нам? — вразумлял попутчиков Пантелей Пенда. — Надо идти, пока Бог дает попутный ветер. Не упомню такого везения, как нынешнее. Не упустим его — дойдем до Погычи!
Дежнев охотно соглашался, что задерживаться из-за пустячного торга и ясака не стоит. Анкудинов зловредно корил всех, что не радеют государю, не подводят под высокую руку здешние народы, но вынужден был идти за шестью кочами. И снова они шли в виду берега, пока не открылся другой залив, перегороженный торчавшими из воды камнями. Место походило на губу, образованную устьем большой реки. Она расширялась, имела несколько глубоких заливов. Здесь тоже были селения. Кочи с трудом отыскали устье небольшой каменистой речки без признаков леса. Она не могла быть Погычей. Это так расстроило мореходов, что лежбище моржей и заморная кость, найденная при отливе, не сильно обрадовали, Пантелея Пенду они и вовсе рассердили. Его внимательные, глубокие глаза нетерпеливо заметались по скалистым берегам, по морю и небу с золотой паутиной солнечных лучей.
— Надо спешить! — поторапливал он. — Здесь явно нет соболя. А ветер попутный! — Глаза его горели, пальцы рук судорожно сжимались в кулаки.
Федот понимал причину беспокойства старого промышленного. О том, что до ледостава уже вряд ли удастся вернуться на Колыму, догадывались многие, но вслух не говорили. «Соберем кость на обратном пути!» — решили передовщики и согласились, что иного пути, как на восход, у них нет.
Суда вышли из залива при низком солнце, тусклой медью мерцавшем сквозь тучи, снова подняли паруса. Вершины Великого Камня, маячившего за тундрой, здесь подступали к самой воде, волны бились о черные неприветливые скалы, крутые и отвесные. Между тем пропали отблески солнца, потемнело сырое, серое небо и легло на воду, на мотавшиеся мачты. Попутный ветер усилился, поднимая крутую волну, и началась буря. Шторм не унимался трое суток.
Изнемогая от усталости, Федот передал руль своеуженнику Осташке Кудрину и прилег. Спал он глубоко и не сразу очнулся, когда почувствовал, что его трясут за плечо. Открыл глаза, увидел в сумерках склонившегося над ним спутника с мокрой, выбеленной солью бородой.
— Необходимый Камень то ли кончился, то ли повернул к полудню. Нас уносит на восход, к островам.
Федот поднялся, схватившись за растяжки мачты, стал смотреть за корму — черные скалы удалялись. Коч Герасима Анкудинова болтался в полете стрелы, зарываясь носом в волны. Время от времени они захлестывали его борта. Шапками и кружками беглые мореходы отчерпывали воду. Сам Герасим неутомимо маячил на корме. Другие суда разбросало по сторонам, но все они были видны. Федот достал из сундука маточку-компас, посмотрел на заплясавший наплав. Суда несло на юго-восток. Герасим помахал ему рукой, указывая на острова. Целовальник отодвинул плечом Осташку, встал к рулю, приказал измотанным пугливо озиравшимся людям поднять парус. Гребцы перестали грести против ветра, отдаваясь волнам. Иные пытались и не могли отодрать от весел скрюченные пальцы. Кочи Попова и Емели с приспущенными парусами пошли к островам, Дежнев и Анкудинов последовали за ними. В отдалении вели свои суда Бессон Астафьев и Афанасий Андреев, с полуночной стороны приближался коч Пантелея. Был август, круглосуточный день менялся ночными сумерками. При неясной видимости суда вошли в укрытую от волн бухту, борт к борту встали на якоря. Гребцы попадали возле своих мест, не имея сил сушиться.
— Караул по часу, — присел на корме Федот. — Я первый! Все отсырело, надо бы фитили просушить, да дров нет. — Подумав, он решил не мучить людей, не отправлять на берег за плавником. — Суши фитили и подсыпку за пазухой! Отдыхать всем!
На его судне были две фузеи с кремневыми замками. Он поставил их рядом с собой, проверил кремешки, подсыпал сухого пороху на запалы. До берега было саженей двадцать, глубина позволяла не опасаться отлива, но принуждала следить за якорным тросом. Перебарывая усталость, Федот разглядывал угрюмые безлесые скалы. Суша походила на остров, хотя могла быть продолжением Камня, возле которого так долго и трудно шли на восток. Льдин на воде не было, но много их лежало на суше: принесенные ветрами, выброшенные прибоем, одни чернели обкатанными боками, другие поблескивали сколами. Федот то и дело ронял голову на грудь, перед взором пролетала какая-нибудь нелепица, из чего он понимал, что недолго спал, заставлял себя встать, ходил по борту, перешагивал на другие суда, осматривая их. Укрывшись парусами, одеждой, одеялами, повсюду корчились люди: храпели, сипели, кашляли, стонали. Пару раз перевернув склянку песочных часов, Федот разбудил Семена Дежнева и с наслаждением укутался в сырое одеяло. Пока он стоял на часах, рубаха и кафтан подсохли на теле, вскоре потеплело и стало греть одеяло. Федот вытянул ноги и провалился в глубокий сон. Проснулся он от того, что его опять трясли за плечо. На карауле стоял бессоновский своеуженник Елфим Меркурьев. Спросонья, он показался Федоту веселым и удивленным: смотрел куда-то за борт, указывая одной рукой, другой толкал целовальника.
Попов поднялся щурясь. Рассвело. Из-за низких туч не понять было, какое время суток. На берегу толпились полтора десятка людей в одежде из кож и птичьих перьев. Их лица были покрыты узором татуированных родовых знаков, как у тунгусов, а из губ ниже уголков рта торчали клыки. Федот крякнул от удивления, протер глаза. Береговые люди не показывали признаков враждебности. Судя по всему, они приплыли на кожаной лодке, которая вверх дном сушилась на камнях. Попов, с укором взглянув на Елфима, перекрестился.
— Могли перерезать! — шепеляво пробормотал, мысленно вспоминая сказы бывалых сибиряков времен своей юности про людей безголовых, одноногих и одноруких, со ртом меж лопаток.
— Руками машут, торговать зовут! — смешливо взглянул на него Елфим.
— Буди Семейку! — приказал целовальник, стряхивая с глаз остатки сна.
Любопытство оказалось сильней усталости. Один за другим поднимались промышленные и беглецы Герасима, продирали глаза, таращились на инородцев, а те миролюбиво махали руками и показывали причудливые раковины.
— Спусти-ка нашу лодку, — приказал Федот племяннику, — возьми бисера, корольков да посмотри их товар. — Обернувшись к Дежневу, который, задрав нос, сквозь нависшие волосы таращился на диковинных людей, спросил с усмешкой: — Аманатов брать будешь?
Семейка потеребил бороду, не находя прямого ответа, глаза его растерянно потускнели.
— Так ведь не знаем, что у них, сколько и чьи, — пробормотал, неуверенно ежась и оправдываясь.
Сквернить первую встречу с неведомым народом ему явно не хотелось. На пару с Елфимом Меркурьевым в лодку сел бессоновский промышленный Фома Семенов.
— Буду глядеть на вас с коча! — напутствовал их Семен Дежнев, — если что, пальну картечью.
В другой лодке с разинутым до ушей ртом плыл племянник Попова Емелька Степанов. С судов за ними наблюдали с ружьями при тлевших фитилях. Это ничуть не смущало зубатых людей: похоже, они не знали огненного боя. Емелю с покрученником и Елфима с Фомой тесно обступили, едва они вышли на сушу, и восторженно завыли, увидев бисер и стеклянные бусы, стали совать свой товар: раковины, шкуры птиц, стрелы, наконец, догадались предложить несколько моржовых клыков средней и малой величины. Мена стала налаживаться. Посланные вскоре вернулись, а зубатые все не расходились, восхищенно разглядывая бисер и корольки.
— Зубы у них ненастоящие! — поднимаясь на борт, пояснил любопытным Емеля. — Дыры в губах, в них вставлены кости… Показали нам, что вокруг вода. Значит, мы на острове.
— А товар бросовый. Кроме моржовой кости, брать нечего.
Инородцы, поняв, что торг закончен, сели в лодку и стали выгребать из залива, бесстрашно болтаясь на волнах.
— Вдруг рыбий зуб привезут на мену, — разглядывал полученные клыки Елфим. — Маловаты. А меньше брать не велено. Я им показывал, что большие нужны, похоже, поняли. Бисер-то охотно берут.
Фома Семенов, поглядывая на Емелю, прыскал со смеху:
— На Емельку пялились, улыбались душевно, в зятья примеряли. Может, высадим? Приплывем лет через двадцать, а тут все рыжие.
— А что? — с удальством отвечал Степанов. — Высаживайте, если дядька позволит!
— А якутку кому?
— Не пропадет! Женка добрая и не брюхатится.
— Выбираться надо, чтобы не зимовать среди камней! — не принимая веселья, напомнил Федот.
— Куда? — с горькой усмешкой спросил Фома. Улыбка, мерцавшая в уголках его глаз, пропала, они застыли прямо и неподвижно, как у слепого.
За Федота ответил Пантелей:
— Да теперь уже только в одну сторону. Обратный путь заказан: через две недели в устье Колымы встанет лед.
Люди смущенно примолкли, услышав то, что было у всех на уме. Нечаянное веселье стихло. Такого долгого пути к Погыче никто не ждал. Зубатые люди наведывались в залив несколько раз. При высокой волне и сильном ветре, они бесстрашно ходили по морю на больших кожаных лодках. В каждой было по десятку гребцов, слаженно работавших веслами. Бисер и корольки потрясли их красотой, Емеля — своим видом, но больших моржовых клыков они везли мало.
Едва стих ветер и улеглись волны, семь кочей вышли из залива на гребях и направились на закат дня, к темневшей полоске коренной земли. В туманной хмари снова завиднелись вершины гор. Льдин в море было мало. Дождавшись попутного ветра, суда подняли паруса. В сумерках августовской ночи на руле впередиидущего коча стоял сам Федот Попов. Его покрученник, стоявший на носу судна, вдруг завопил. К нему кинулись все, кто бодрствовал. Люди не сразу поняли, что видят, а потому крестились, вглядываясь в неведомое. На воде лежал огромный кит. Он не шевелился и не пыхал воздухом. Впереди него другое чудище шевелило лапами и тянуло тушу в ту же сторону, куда шли кочи. Федот повел судно в обход кита, и его люди увидели, что чудище — это огромная кожаная лодка, в которой сидело больше полусотни человек. Они слаженно гребли веслами и тянули за собой тушу. Ни такой огромной рыбины, ни такой лодки никто из мореходов прежде не видел. В виду догнавших их кочей дикие бросили весла, ощетинились копьями и костяными луками, показывая, что готовы обороняться. Судя по виду оружия, это были чукчи. Несколько стрел воткнулись в борт. Федот велел не отвечать стрельбой и пройти мимо. Суда обошли инородцев с их добычей, те снова налегли на весла, продолжая тянуть тушу к берегу.
Скалы стали приближаться. Кочи правили к тем местам, откуда были унесены к острову. Здесь оказалось много плавучего льда, иные заливы забиты им. У черных скал, покрытых мхом, суда кидало придонными волнами, они то и дело рыскали, не слушаясь руля и весел. Гребцы, выбиваясь из сил, мысленно молились и высматривали расселины, по которым можно выбраться на сушу. Здешний берег круто уходил на юго-запад, а суда сносило ветром прямо на камни. Гребцам приходилось налегать на весла, чтобы не быть выброшенными на них. Своей силой быстрей всех ходил коч Анкудинова. Благодаря многолюдству он вырвался вперед, высматривая место возможной стоянки. Вдруг ладное торговое судно так резко остановилось, что сорвалась с варовых ног и упала к носу мачта, сидевшие за веслами повалились.
— Отпрядыши! — закричал Федот, махая рукой, чтобы другие держались дальше от берега.
Очередная волна сперва отхлынула, обнажив черное днище коча, затем приподняла его над подводным камнем, и бросила к скалам. Судно стало тонуть. Гребцы, кто стоя, кто сидя, изо всех сил налегали на весла, пытаясь выброситься на мель. Следующая волна прошлась по палубе.
— Помогайте, братцы! — закричал Герасим.
Его люди побросали весла, стали отвязывать лодки, но они не могли уместить и четверти ватаги. Между тем шесть кочей сбились в кучу и качались на волнах, отгребая от скал. Семейка Дежнев вертел головой по сторонам и кричал:
— Спасать надо!
Федот обернулся к Пантелею. Тот передал руль кому-то из подручных людей и встал на носу с шестом. К нему под борт подвел судно Афанасий Андреев, с того и другого спустили лодки. Два коча с большими предосторожностями приближались к тонущему судну. Анкудинов резал на нем тросы и кидал в свои лодки, набитые мокрыми, продрогшими людьми. Они подгребли к ближайшим судам Попова и Дежнева, освободились от груза и спасаемых, по одному гребцу в каждой вернулись к полузатопленному кочу, который со скрежетом било о скалы. Федот спустил на воду свои легкие берестянки, они засновали по пологим волнам, вывозя терпящих бедствие. Последним поднялся к нему на борт Герасим Анкудинов. Злой, как бес, отыскал дурным взглядом одного из промокших, стучавших зубами товарищей, резким ударом хлестнул по лицу.
— Я зачем тебя ставил на шест? — заорал, размахивая руками.
Побитый спрятался за спинами столпившихся людей, выискивая защиты от разъяренного атамана.
— Что бросили? — через борт спросил Анкудинова Дежнев.
— Одеяла, одежка, харч, парус… Пока волна не уляжется, как достанешь? Якорь! — отчаянно вскрикнул и хлестнул себя по лбу мокрой ладонью. — Железный, два пуда!
— Якорь бросать нельзя! — согласился Федот.
Два перегруженных людьми коча, его и Дежнева, отгребали от берега к другим качавшимся на волнах. Анкудинов схватил за ворот незадачливого впередсмотрящего с набухавшим синяком под глазом.
— Плыви за якорем! Ишь, успел одеться…
— Один, что ли? — жалобно вскрикнул тот, оглядываясь на товарищей. — Я же мокрый. Околею!
Одному снимать якорь даже Герасиму показалось делом невозможным.
— Со мной пойдешь! — рявкнул и стал спускаться в лодку, привязанную к борту.
Ценный якорь был вывезен. Посиневшие от холода люди втянуты на борт поповского коча, им дали сухую одежду и отдых. Шесть судов с предосторожностями продолжили путь, выискивая место для стоянки. Запас дров кончился, сушиться было нечем. Между тем пришлось идти на гребях вдоль берега еще день и другой, пока караван не вошел в просторный залив. Берега его были низменными, покрытыми тундровым мхом. Укрывшись от ветра и волн, кочи встали на якоря. От бортов к суше засновали лодки с бочками для пресной воды, затем с плавником. На небольших, но многочисленных береговых озерах еще кормились утки. Промышленные набили птицы, наловили рыбы, на судах задымили очаги, люди стали готовить горячую пищу.
Отдохнув, мореходы повели суда вдоль берега в поисках устья большой реки. Просторный залив с редкими вольно плавающими льдинами открылся за мысом, кочи вошли в его спокойные воды. В одной из бухт гребцы заметили много больших байдар и полтора десятка полуземлянок, сложенных из камня, на скале стояла крепость из китовых костей. Против нее кочи остановились. Песок и окатыш были в аршине под плоскими днищами судов. Якорей не бросали, удерживаясь на отмели шестами. Семен Дежнев, вздыхая и почесываясь, нехотя стал готовиться к встрече с инородцами, чтобы говорить им государево слово и требовать ясак.
— Может, для начала поторговать?! — тоскливо взглянул на Федота Попова.
Тот, пожав плечами, ответил:
— По мне, так и вовсе никого ни к чему не принуждай. Захотят, сами попросятся под государеву руку.
Но чукчи, увидев кочи, выскочили из землянок в деревянных и костяных латах с копьями и луками, воинственно закричали, размахивая оружием.
— Ну! Иди давай! — Анкудинов с поповского судна опять подстрекал колеблющегося Дежнева. — Говори государево слово! А мы, если что, — на погром!
— Сперва торг! — твердо объявил Дежнев, тряхнув челкой. — Потом, как Бог даст!
Федот сложил в лодку ходовой товар: бисер, корольки, топоры, железные полицы, которыми якуты и казаки укрепляли щиты. Со своим товаром также собрались плыть своеуженники: Осташка Кудрин и Юшка Никитин. Все вооружились, надели брони и шлемы: вид береговых чукчей не предвещал доброжелательной встречи. Племянника Емелю Попов оставил при своих судах за старшего. Трое с товаром сели в лодки. Двое из них, не замочив ног, высадились на сушу с мешками, один вернулся с пустой лодкой на привязи, затем переправил на берег еще двух своеуженников. С бессоновского коча к тому же месту поплыли для торга Фома Семенов и Елфим Меркурьев. Остальные, с ружьями наизготовку наблюдали за берегом. Над людьми Дежнева тоже курился дымок тлевших фитилей.
Сошедшие на сушу сложили часть товара и отошли к лодкам. Не бросая оружия, к обменному добру подошли два десятка мужиков, загалдели, обнадеживая торгом, но вместо того чтобы положить против понравившихся вещей свои, стали метать в гостей камни, копья и стрелы. С судов загрохотали выстрелы, по воде заклубился пороховой дым. Три десятка анкудиновских беглецов яростно завыли и стали прыгать за борт, в студеную воду. По пояс мокрые, выскочили на сушу, две толпы сшиблись с яростью и лязганьем оружия. Чукчи не выдержали рукопашного удара, побежали к землянкам. Вольница ринулась следом за ними. Дикие укрылись за камнями, стали осыпать нападавших стрелами. Пущенные из тяжелых костяных луков, они пробивали брони. Камни, брошенные пращами, гнули куяки и сбивали людей с ног.
Федот Попов был ранен в первые минуты боя, поскольку оказался впереди всех. Осташка Кудрин подтащил его к лодке, побросал туда же товар и стал торопливо выгребать к кочу, с которого уже не стреляли, но бегали вдоль бортов и тушили стрелы с огнивом. Чукчей отогнали от селения. Одни из охочих людей рубили и резали их лодки, другие обшаривали жилье, хозяева осыпали их градом камней. Долго держать такой удар беглые казаки и промышленные не могли и стали отступать к воде с добычей: одеялами, копьями, с рыбой и мясом. Кроме всего нехитрого добра на погроме были взяты три женщины. Одна отдалась без сопротивления, две другие визжали и вырывались. Кто на лодках, кто по пояс в студеной воде — погромщики кинулись к судам. Семейка Дежнев продолжал стрелять, не подпуская чукчей к воде. К нему присоединились люди Афанасия Андреева и Бессона Астафьева. Как только ходившие на берег поднялись на суда, они стали отгребать от берега.
Погода портилась. Ветер усиливался, но был пособным. На судах подняли паруса и стали уходить на полдень. Увидев отдалявшееся селение, одна из ясырок бросилась в воду. Она не утонула, но погрузилась по грудь и, помогая себе руками, стала выбираться к суше. Другая, глядя на нее, перестала вырываться. Ее держал за руку Фома Семенов, он добыл девку в бою. Третья, приветливо улыбаясь, что-то лопотала. Кочи все дальше и дальше уходили от немирного селения. Федот Попов, превозмогая боль, вспорол ножом кожу на бедре, вынул костяной наконечник. Емелина якутка пережала ему какие-то жилы и остановила кровь. Рану в неудобном месте, как могли, перетянули лоскутами разодранной льняной рубахи. Попов, бледный от потери крови, едва дополз до своего места в жилухе и слег.
За мысом пологий берег опять повернул к закату и стал едва виден в редкой темени подступавшей ночи. Ветер плескал крутыми, невысокими волнами, которые шумно шлепали по бортам. Пантелей попытался поставить коч на якорь. Герасим Анкудинов, сменивший на корме поповского судна Осташку Кудрина, сделал то же самое и выпустил трос на всю длину, но якоря волочились по дну.
— Людей много, выгребем! — бесшабашно крикнул, кося плутоватыми глазами на корму дежневского коча.
Меняя друг друга, гребцы всю ночь удерживали суда в виду темневшей полосы суши. К утру разъяснились невысокие извилистые берега, обсыхающие при отливе отмели. Промокшие и продрогшие люди увидели, что находятся в широком заливе, который мог быть и губой. Еще сутки суда продвигались на веслах, но ничего похожего на устье реки не было. Впереди шел поповский коч с Герасимом Анкудиновым на корме, за ним следовал Семен Дежнев, подобравший половину его людей. Вдали показалась гора с черными скалами, подступавшими к полосе прибоя, за ними тянулась долгая песчаная отмель. Вблизи гребцы увидели с десяток лежавших на ней моржей, еще столько же плескалось в воде.
— Вот ведь соблазн! — крикнул Герасим, указывая на них. — Одного зверя хватит, чтобы насытиться всем. Отощали на рыбе, — потрепал ослабший кушак.
— И то дело! — согласился Емеля, услышав его с другого коча. Он держался ближе всех к берегу, окликнул Юшку Никитина: — Пальни картечью по башке, только наверняка. — Тихо подвел коч к отмели, так, что под днищем зашуршали песок и окатыш. Непуганый морской зверь таращился на него, как на диковину. Юшка с двух саженей выстрелил в клыкастую морду. Дым рассеялся, зверь бился на небольшой глубине. Другие скрылись под водой, лежавшие на песке ползли к морю, помогая себе клыками.
Емелины гребцы шестами и веслами вытолкали коч на безопасную глубину и встали на якорь. Рядом с ними становились другие. Промышленные люди и казаки стали спускать лодки, чтобы набрать берегового плавника. Осташка Кудрин с Юшкой Никитиным, по пояс мокрые, пытались вытянуть на песок тушу моржа. К ним присоединился десяток доброхотов с других судов. Едва ли не с первых шагов отмель потрясла высадившихся на нее людей. Те, что вытягивали на сушу убитого моржа и елозили ногами, вскоре бросили тушу, стали рыться в песке и окатыше. Осташка распрямился, ополоснул находку в воде и поднял над головой.
— Заморная кость! — закричал. — Коричневая, сама дорогая!
Пока он размахивал зубом, показывая его Емеле, другие находили клыки крупней: в четверть пуда и больше.
— Да тут ее столько, что можно загрузить все кочи! — плясали, без вина пьяные. — Даже искать не надо!
Своеуженники, покрученники, беглые казаки высаживались на берег, выкапывали желтые и коричневые клыки. Ласковая волна прилива весело бренчала окатышем. Те люди, что были в мокрой одежде, выстукивая дробь зубами, вскоре бросили увлекательное занятие и стали собирать сухой плавник. В стороне от кошки — заливаемой приливом отмели — развели большие костры, приплясывая, сушились возле огня, пекли мясо убитого моржа, насыщались. Буйное веселье стихало, угасал счастливый день, сквозь поблекшую синеву неба проклюнулись первые робкие звезды. В сумерках даже самые ярые из казаков и промышленных бросили рыться в песке и стали готовиться к ночлегу, понимая, что рыбий зуб, валявшийся под ногами, только тогда станет богатством, когда его доставят хотя бы на Колыму, а путь туда закрыт по меньшей мере до следующего лета.
— Семейка подведет Погычу под государя, — опять стал язвить Анкудинов, — перезимуем и вернемся богатеями…
— Зимовать придется, но не здесь! — угрюмо отозвался Пантелей с кормы своего коча. Он наблюдал веселье со стороны, не принимая участия в добыче клыков.
Обогревшись, мореходы стали таскать и перевозить сухой плавник на суда. Среди обкатанных волнами лесин встречалась древесина невиданных пород. Собранная кость лежала грудами возле гаснущих костров, грузить ее на кочи не спешили. Анкудиновские удальцы с частью промышленных людей решили ночевать на суше, лежали у костров усталые и счастливые. Береговой ветер выстилал пламя по земле, уносил дым в море.
Отбитым у чукчей ясыркам дали волю. Они не ушли к погромленному селению, но умело и с удовольствием пекли мясо на углях, а после того, как съели за один присест по полпуда, повеселели. Одна из них оказалась рабыней и показывала, что довольна пленением, другая, чукчанка Иттень, тоже не рвалась к родне, от которой была увезена не так далеко. Знаками показывала, что у нее есть муж, а детей нет. Обе ясырки легко сошлись с Емелиной якуткой и Афониной юкагиркой.
Наевшись и отдохнув, люди невольно стали думать о будущем. На берестянке на берег выплыл Пантелей Пенда, подошел к огню, окинул взглядом кучу клыков, молча постоял возле бессоновской лодки, груженной отборным рыбьим зубом.
— Караул не выставили?! — укорил, бросив острый взгляд на Герасима.
— Сейчас, кинем жребий! — С грубой беспечностью казак сплюнул на тлевшие угли и приказал беглецам поделить ночь.
— Рыбьим зубом сыт не будешь, — не присаживаясь, проворчал старый промышленный. — Надо искать лес, промышлять соболя.
— Гоняйся за ним, мерзни! — огрызнулся бессоновский Фомка Пермяк. — А тут богатство под ногами.
— Сколько весу в сороке соболей? — спросил вдруг Пантелей.
— Кто их взвешивал, сорока-то? — Фома вскинул на него удивленные глаза.
— А пуд кости почем? — кивнул в сторону груженой лодки.
— Мы свою продали на Колыме по двенадцать рублей! — настороженно ответил кто-то из промышленных, ходивших с Пустозером и Мезенцем.
— Пуд рухляди дороже, чем полсотни пудов этой самой кости! — Пантелей едко усмехнулся в седую бороду. — В бурю, бывает, муку за борт мечут, чтобы удержаться на плаву, — намекнул, что морской поход не закончен. — Не добудем соболей — на обратном пути кость заберем. Зачем сейчас грузиться, не пойму?
— А как придем в Китай или Индию да поменяем на серебро и золото?! — с вызовом ответил Бессон Астафьев.
— Вернетесь и нагрузитесь, если будет нужда! — скаредно пробурчал старый промышленный, отошел в сторону, зацепил бечевой до звона высохшее обкатанное прибоем бревно, столкнул его на воду, сел в лодку и потянул к своему кочу, качавшемуся на ночной волне вблизи берега.
Поповские покрученники и принятые на их суда анкудиновские беглецы загалдели, они тоже хотели перевезти добытые кости на суда, но им благоразумно воспротивился Емеля Степанов, ссылаясь на дядьку и Пенду:
— Без того еле выгребали! Кто знает, что впереди?
Семен Дежнев, понимая, что Бессон Астафьев уже решил загрузиться, стал возражать и жаловаться:
— Я половину анкудиновских утопленников принял, по самые края бортов в воде. Малыми волнами, и то захлестывает…
По наказной памяти Втора Гаврилова властью были наделены он и тяжело раненый целовальник. Все вдруг вспомнили, что этот покладистый казак и есть начальствующий.
— Пусть чукчей под государя подводит! — в очередной раз съязвил Герасим, но его никто не поддержал ни смешком, ни взглядом.
Емеля по своему обычаю прихорашивался перед новыми девками и смешил их, не желая вникать в споры. Своеуженников сердили его пустопорожние разговоры, они ждали мудрого слова, поскольку наказная память Втора была у раненого Федота, а вместо себя он оставил племянника. Раз и другой спросили Емелю, что делать?
— Обратно нынче не пойдем, — не отрывая одурманенных глаз от девок, отмахнулся он и подмигнул хохотавшей якутке. — Летом, когда льды разнесет, кость заберем!
Бессон нахмурился, засопел с недовольным видом. Емелю настойчивей поддержал Семен Дежнев.
— Здесь заморная кость никому не нужна, раз валяется, что камни. Ну и пусть лежит. — Помолчав, со смешком добавил: — Если по двенадцать рублей за пуд, это мне сколько надо, чтобы один только посул отдать… Двадцать пять? Я читать-писать не умею, а считать-то куда как горазд!
— Каких двадцать пять? — возмущенно вскрикнул Бессон. — Меньше!
Дежнев, озадаченно шевеля губами, позагибал пальцы, смущенно рассмеялся:
— Все равно много!
— Мы тебя одежкой и товаром догрузим! — хмуро буркнул Бессон Астафьев, показывая, что коч, которым управлял Дежнев, принадлежит ему.
— Если себе и Афоне положу пудиков по пятьдесят — оно и лучше: не будем парусить. Прошлой ночью еле отгребли от скал.
Елфим Меркурьев, подбросив дров в костер, смахнул рукавом выступавшие от дыма слезы, хлюпнул носом и тихо изрек:
— Обогатится не тот, кто больше добудет, а тот, кому даст Бог вернуться первым и сказать про эту кошку.
Семен, почувствовав поддержку, встрепенулся, по его обветренному лицу разбежались смешливые морщины. В свете костра они казались глубже и резче.
— И воевода наградит, и царь милостью не оставит! Но хорошо бы и на Колыму вернуться не с пустым брюхом. Вам что? А я пошел почти с трехсот соболей.
— Нам что?! — качая головой, с горечью в голосе передразнил его Бессон Астафьев, но не стал делиться заботами.
Ночью его люди возили на суда отборную кость. Утром стало видно, что загрузили они не по пятьдесят пудов: кочи заметно просели. Днем бессоновские покрученники перенесли к Дежневу легкие, но объемные мешки с товарами, одеждой и снова принялись рыться в песке и окатыше. Было бы трудно оторвать их от этого занятия, но неожиданно на стан напали чукчи. С копьем, торчавшим из спины, пал на колени анкудиновский караульный. На отдыхавших у костров людей обрушился град камней. Охочие похватали ружья и куяки. На этот раз в ближний бой чукчи не шли, но издали метко пускали камни и стрелы. Анкудинов с Дежневым и Андреевым собрали стрелков в два отряда, под их прикрытием лодки стали возить на кочи раненых. У кого не было при себе пищалей, кинулись в студеную воду, выбрались на суда и стали стрелять оттуда. Фома Семенов-Пермяк на берегу, забивая в ствол новый заряд картечи, заметил, что ясырка Иттень топчется возле него.
— Беги к своим! — крикнул в запале и махнул рукой в сторону нападавших. — В тебя стрелять не будут!
Чукчанка поняла его, замотала головой, прижалась к спине промышленного. Как с заплечным мешком, он вернулся с ней на бессоновский коч. Последними уходили Дежнев с Анкудиновым. Обстреливаемые суда выбирали якоря, с берега в них летели камни и стрелы.
Семен смахнул кровь со щеки, удивленно хохотнул, воскликнув:
— Легко отделался на этот раз!
Коч с Емелькой на корме поднял парус и развернулся. Зубы сжаты, губы — в нитку, выпиравшие скулы покрыты кучерявой рыжей бородой. Окинув кормщика случайным взглядом, Дежнев не ко времени подумал: «Надо же уродиться таким пугалом!» И в который раз удивился, как Емелю преображает улыбка. На судне Федота Попова громко распоряжался Герасим Анкудинов. Коч схватил ветер и, вздрагивая, зарываясь тупым носом в крутые короткие волны, пошел на восход. Всем было ясно, что устья большой реки в заливе нет. Дежневский коч слегка отстал. Его гребцы налегали на весла и ругались:
— Хоть бы по косточке взять напоказ. Все бросили!
Камни не долетали до них. Вскоре стали падать в воду стрелы. Дежнев обежал борта, сбил тлевшее огниво. Лодок у нападавших не было, они подкрались к стану по суше и кочи не преследовали. Суда выгребли из залива при попутном ветре и снова пошли на юго-запад в виду пологого тундрового берега. На пятый день был праздник Покрова Богородицы. На безоблачном небе ярко светило солнце, осенняя тундра желтела так, будто возвращалось лето.
— Даже не пахнет снегом! — переговаривались гребцы, оглядываясь по сторонам. — А без него Покров не к добру!
— И не к худу! — спорили другие.
Остановиться, устроить дневку и праздновать у общего костра не было возможности из-за сырого заболоченного берега с сильным запахом гниющих трав, подход к нему загораживали вязкие отмели, за мысом он круто поворачивал на закат. Рябила вода, указывая мелководье. В черед читая молитвы кто какие знал, люди вели суда на гребях. Вдруг завиднелся такой же низменный берег с другого борта: караван оказался в очередном заливе. Он сужался, и вскоре в воздухе почувствовался запах реки. По всем приметам где-то неподалеку было устье. Ясырка Фомы стояла на носу коча, глядела вперед, крылья ее приплюснутого носа раздувались.
— Что там? — не отрываясь от весла, спросил промышленный.
Она поняла нового муженька, ответила коротко и приглушенно, но была услышана:
— Нанандара!
— Анадырь?! — удивленно и радостно закричали гребцы.
— Анадырь! — трубно гаркнул Афоня с кормы на ближайшее к нему судно. Оттуда слово полетело по каравану.
— Большая река — это хорошо! — озираясь, пробормотал Дежнев. — Однако отчего на душе так тошно, прости, Господи? Да еще в Покров! — Он взглянул на чистое безоблачное небо, отметил про себя тишину и недвижный воздух, тяжко выдохнул его из груди.
Чукчанка на афонином коче что-то обеспокоенно залопотала, указывая рукой по ходу судна на маленькое черное облачко. Фома не понимал, улыбаясь, глядел на нее и мотал головой с мягкой досадливой улыбкой на лице. Впереди резко сморщилась вода и по ней, выгибаясь, прошло веретено смерча. Чукчанка метнулась к мачте со спущенным парусом, прижалась к ней и обхватила двумя руками. Вздулись кожаные рубахи гребцов, полетели за борт шапки. Дежнев вспомнил, что все это уже было в губе Мезенца и Пустозера: тревожная тишь, солнце и тяжесть в груди. Ветер задул с такой силой, что против него невозможно было протянуть весла. Суда сами по себе развернулись, стали заваливаться на борта. Шедшие первыми — оказались последними. Отставших уносило на восход. Пантелею удалось развернуть коч кормой к ветру. Его гребцы рвали жилы, но не дались подставиться боком к резким вздымавшимся волнам. Другие суда сбило в кучу затем стало разносить. На коче Дежнева с хрустом переломилась мачта и улетела за борт вместе с увязанным парусом. Она сработала как плавучий якорь, и вскоре его судно оказалось отставшим от других уносимых ветром, а чукчанка — под лавкой, крепившей мачту. Коч Бессона Астафьева резко остановился и развернулся боком к ветру, явно сев на мель. Афанасий заставил своих гребцов идти на помощь. Они неуклюже помахали веслами, их коч как слепец ткнулся носом в борт бессоновского и тоже встал.
Ветер сорвал с головы Семена шапку, унес вслед трем быстро удалявшимся судам. «Плохая примета!» — успел подумать он. Людей у него было много. В трудный час это помогло. Они держали весла по двое, с трудом протягивали их над водой. Брызги, сорванные с волн, хлестали ливнем и быстро вымочили всех. Благодаря волочившейся мачте, распластавшемуся по воде парусу и сдвоенной силе гребцов Семену удалось подойти кормой к афониному кочу. С обоих судов швыряли за борт заморные кости, чтобы сорваться с мели. Едва Дежнев причалил, люди стали перегружать ему самый ценный товар. А он закрепил трос на утке, напрягаясь всем телом, держал его конец в руках. Афоня, Бессон, промышленные и анкудиновские беглецы перескакивали с борта на борт с пятипудовыми кожаными мешками на плечах: спасали муку. Другие продолжали метать в воду моржовые клыки. Но добрая варовая пенька — лучший из бывших на судне тросов — недолго удерживала напор ветра. Второпях никто не подумал о волочившемся парусе. Он проплыл под бортом и заломил нос коча на сторону. Очередным порывом ветра трос разорвало. Дежнев шлепнулся задом на лавку, а когда поднялся на четвереньки, два бессоновских коча отдалялись. Виновато глядя на оставшихся и махавших ему людей, Семен показал конец, который все еще держал в руках.
Главный пайщик и гусельниковский приказчик Бессон Астафьев случайно остался на уносимом судне, с ним — с десяток промышленных с других кочей, спешно перегружавших товар и муку. Часть дежневских и анкудиновских гребцов оказались на застрявших судах. Все спуталось. А ветер дул и дул. Ко всем неприятностям быстро темнело. Три коча, уносимые ветром, были уже едва видны. Дежнев передал кормовое весло Бессону Астафьеву, тот, смахивая рукавом со щек слезы и брызги, сам стал управлять гребцами. Больше всего они боялись сесть на мель, отгребая от низменного берега, волочившиеся мачта с парусом сильно тому мешали. По наказу Бессона Дежнев обрезал растяжки и освободился от них.
Под утро ветер ослаб, волны стали положе, уже не слышался плеск береговых накатов. Рассвело. Вокруг судна было одно только море без льдин. Обессилевшие люди покорились судьбе, отдавшись воле волн и ветров: забились кто куда мог, завернулись в одеяла, одежду, уснули на мешках с товаром и мукой.
Федот Попов очнулся от сна и бреда. В жилухе было сыро, на всех нарах спали, укутавшись в одеяла и кафтаны: сипели, храпели, кашляли. Качало. За бортом слышался плеск воды и скрип трущейся обшивки. Федот сполз в узкий проход между нар, на четвереньках выбрался наверх. Небо было низким, пасмурным, в воздухе висела невидимая влага. По одну сторону виделось только море, с другого борта был причален коч, сделанный на Колыме, который вел Емеля. Он и скрипел. Еще раз окинув взглядом свое судно, Федот разглядел на корме равномерно вздымавшийся бугор из шубы и одеяла, под ними был живой человек. Целовальник, перебирая руками лавки и варовые растяжки мачты, заковылял к нему и был услышан. Из-под меха высунулась смятая распластавшаяся по щеке к уху борода Герасима Анкудинова.
— Не помер? — обыденно зевнул он, крестя рот. — Даст Бог, поправишься. А нас носит невесть где.
Федот спросил про бурю, в какую сторону гнала суда. Постанывая, вытянул из-под бети сундук, в котором хранился компас-маточка. Вынул его из кожаного чехла — за слюдой закачался наплав, указывая стороны света.
— Туда грести надо! — указал на юго-запад. — Пусть люди отдохнут — и с Богом!.. Пенда где?
— Хрен кто знает! — шевельнул смятой бородой казак, намереваясь зевнуть, но вместо этого вздохнул. — Как разнесло, так больше не видели. Только с Емелей как-то удержались.
Промышленных и беглых казаков не будили, они проснулись сами, подкрепились юколой и мукой, разведенной в пресной воде, расчалили суда, разобрали весла, неспешно пошли в указанную целовальником сторону. Без особой надежды гладили гребями воду, пока не увидели за бортом траву, потом плывущее дерево, указавшие близость земли. Весла стали подниматься и опускаться быстрей, лица людей повеселели. По молитвам сквозь тучи робко заблестело солнце. Запас пресной воды кончился, расстелили парус и собирали дождевую.
Сначала со стороны заката завиднелись темные пятна, издали похожие на облака, потом они превратились в венчики горных вершин, которые долго не приближались. Герасим, стоявший на руле поповского коча вместо кормщика, правил к ним. Следом вел судно Емеля. Лишь на другой день из морской дали показалась полоска земли. Кочи подошли к крутому скалистому берегу, похожему на мыс, где разбились анкудиновские беглецы. Здесь было много бухт. На корму опять выбрался Федот Попов, тощий, осунувшийся, но уже явно выживший, осмотрелся по сторонам. Легкий ветер шевелил отросшую и побелевшую бороду.
— Где сможем — надо приставать! — приказал и, сочувственно оглядев беглого казака, обвисавшего на руле, сменил его: — Отдохни! Как-нибудь справимся! — Обернулся к другому кочу. Емеля помахал ему рукой.
При устойчивом ветре с севера суда шли вдоль каменистого безлесого берега, пока Федот не высмотрел укрытую бухту с отмелью и грудами выброшенного прибоем плавника. При отливе, который был здесь полноводней, чем в Студеном море, ему удалось провести судно между камней на тихую воду. Под днищем захрустели песок и окатыш, нос коча выполз на сушу и на миг застыл в радостной и опасливой тишине. Емеля тоже провел судно возле мыса и ткнулся в берег неподалеку от дядьки. Покачиваясь на ослабевших ногах, казаки и промышленные сходили на сушу, падали на колени, отбивая обетное число поклонов, хотя никто не знал ни того, где они, ни какие народы живут поблизости. Господь уберег от потопления, и это было чудом.
— Умолила Пречистая Сына за нас, грешных! — Молились со слезами.
Якутка со стонами сползла с опостылевшего судна, легла на песок. Едва оправившись от первой радости, спасшиеся нашли ручей и долго не могли напиться сладкой водой. Отдохнув, развели костры из плавника, пробовали ловить рыбу — не поймали. День прошел в обыденной суете стана, на другой, после молитв и благодарственного молебна, Федот стал говорить покрученникам, своеуженникам и людям Герасима Анкудинова:
— Новый год начался радостью и бедами, все бабье лето проболтались в море, дождями и снегом раны омывали. Теперь распогодилось. Устье Колымы уже льдом забито, а здесь лето.
Его люди молчали, беглые, потупившись, вспоминали свою недолгую радость на кошке, мечты о богатстве и благополучии дальнейшей жизни. Бес, искони ненавидящий всякое счастье, посмеялся над всеми: одни заплатили жизнью за недолгое чувство удачи, другие — ранами и муками.
— Хорошо бы вернуться на Анадырь, там зимовать! — хмуро, без былой удали сказал Герасим и пожал плечами: — Да будет ли попутный ветер? И сколько туда идти? Един Господь знает, где нас носило.
Спасшиеся скромно и уважительно стали советоваться. Федот внимательно слушал их.
— Мне бы ваши заботы! — горько усмехнулся. — Коч потерял. С Пантелеем Демидычем треть товаров, без которых ни на Лену, ни на Русь лучше не возвращаться. Прости, Господи! — перекрестился, глядя на угли костра.
— Я так думаю, — осторожно заговорил Емеля с некрасивым, изможденным лицом, — раз не потопли милостью Божьей, пошлем ертаулов осмотреться, где можно зимовать. Если есть лес и соболь — останемся до весны.
— Неизвестно, как здесь встретят, — поддержал племянника Федот. — Но попробовать надо.
Глаза его запали под лоб и высвечивались оттуда, проникая в самую душу. Он пытливо оглядел подначальных и анкудиновских людей, добавил строже, показывая, что не потерпит споров.
— А зимовать придется! Торговать, менять всем воля, а понуждать к ясаку запрет, — строго взглянул на Герасима.
Тот понял его по-своему, пробормотал, оправдываясь:
— Не бывает так много народу в голодных, безлесых местах, как было на кошке! Чую, случаем ввязались в чью-то войну. Будь у нас острожек — отбились бы.
— Кто не желает мирно зимовать со мной — иди пешком куда знаете! — строже добавил Федот. — Припас рыбы, мяса пополним, мука есть, отъедимся, отдохнем, оглядимся, что за места… Однако, лето да и только, — блеснул запавшими глазами, задирая голову к светлому небу.
В те же дни Бессон Астафьев, потерявший два коча, высмотрел среди камней, защищавших берег от прибоя, проход и решил выброситься на сушу. Но на гребне волны утробно хрястнул остов судна: кто стоял на ногах — повалился, кто лежал — покатился. Другая волна сбросила коч с камня и придвинула к берегу. Двадцать четыре промышленных, беглых, приказчик с казаком, чукчанка и юкагирка выбрались на сушу мокрые, но живые, а брошенное полузатопленное судно билось в полосе прилива, как рыбина на кукане. Спасшиеся, лязгая зубами, собрали сухой плавник, высекли огонь и развели костры.
— Потонет мука, пропадем! — высморкался в руку, смахнул слезы и снова кинулся к судну Бессон. Волны прибоя захлестывали его по пояс. Он добрался до коча, вскарабкался на борт. — Спасай добро, братцы! — слезно крикнул, обернувшись.
Но начинался отлив, волны не могли уже утянуть судно на глубину, метавшегося Бессона не слушали, взоры спасшихся обратились к казаку. Семен, подставляя огню отжатый кафтан, бросил на суденышко мимолетный взгляд и пролепетал посиневшими губами:
— Да ну его!.. Уйдет вода — вытащим воротом!
Бессон, при раздраженном молчании промышленных и казаков вернулся с самым ценным грузом — мешком компасов.
— Нет бы муки прихватить! — проворчал Фома. Слегка обогревшись, в одних ровдужных штанах, ежась и втягивая голову в голые плечи, побрел к судну. За ним потянулись другие.
К счастью, на берегу было много плавника, выброшенного волнами. Жгли его, не заботясь о завтрашнем дне. На раскалившихся камнях пекли лепешки, осматривались. Место походило на слабо защищенный от ветров залив с низменными берегами, на закате виднелись безлесые горы. В поисках питьевой воды ертаулы ушли вглубь и обнаружили устье небольшой реки. Поев горячих лепешек, чукчанка с юкагиркой побрели вдоль мокрой полосы отлива с пенившимся белым валом наката, собирали морскую капусту, рыбешек, черные раковины моллюсков, морских ежей и крабов. Вернувшись, посекли ежей, высасывая икру, напекли, натолкли своей еды, стали потчевать мужчин. Пренебрегая насмешками товарищей, Фома с Елфимом благодарно приняли ее от женщин. Пожевав одно, другое, Пермяк важно изогнул бровь, подул на горячую раковину, перебрасывая ее с руки на руку, попробовал, облизнулся, заел морской капустой:
— А что? Лучше, чем голяшки от сапог!
При полном отливе коч оказался на мели. Бессон обошел его и с печальными вздохами смахнул слезы. Дежнев крякнул и принужденно хохотнул.
— Вдруг наладим? — указал глазами на пробоину в четверть днища.
Вид полузатопленного судна не обнадежил. Бессон с Фомой осмотрели его изнутри.
— Становой брус переломлен, кокоулины!.. — опять безнадежно всхлипнул приказчик, окинул взглядом безлесый берег и остатки плавника. — Не наладить!
Семен Дежнев, почувствовав его отчаянье, беспечально улыбнулся:
— Одной муки пудов полста! Тепло, не то, что на Колыме. Отдохнем, отъедимся… Вдруг в верховьях лес! — указал в сторону устья речки.
— Какой отдых? — раскричался Бессон, выпятив на него бороду. — За неделю сожжем все вместе с кочем и околеем, чуть прижмут холода. Возвращаться надо! Искать Афоню…
— Правильно говоришь! — ничуть не обидевшись на крик, ласково поддержал его Дежнев и беззаботно спросил, оборачиваясь к людям за спиной: — Цела ли накваса? Где-то видел бурню. Поставим тесто, напечем хлеба, а там, глядишь, Бог надоумит, что делать!
— Идти надо, — громче загалдели спасшиеся, — к Афоне, на Анадырь!
Коч разгрузили и вытянули воротом за полосу прибоя. Едва просохли на ветру подпалубная жилуха и кладовая, обмазали глиной размытый чувал, развели огонь. Ночи были холодными, по долине дул сильный ветер, гасивший костры. Ертаулы сходили вверх по реке. Она текла с гор, а на них, сколько хватало глаз виднелись только карликовые березы. Наладить коч было нечем. Быстро холодало, забереги схватывались льдом, который не таял к полудню. Вскоре покрылась льдом река. Бессон заспешил и разрешил драть обшивку коча, чтобы делать лыжи и нарты, предложил брать в долг спасенный товар.
— Берегом надежней, не заблудимся! — зароптали было анкудиновские беглецы.
Бессон опять сорвался в крик:
— Много груза утянем тундрой? Мой коч побили, теперь товар мне одному волочь?
Первыми оделись в красные сапоги и льняные рубахи своеуженники Елфим с Фомой, затем одолжился Дежнев, взяв на себя кроме рубахи овчинный кафтан.
— На полночь идти надо, прямиком! — поглядывая на компас, настойчиво повторял Бессон. С ним уже никто не спорил.
Тянуть нарты по льду реки было много легче, чем по камням и мерзлому мху сырого берега. Весь груз, снятый с коча, разом увезти невозможно, ясно было, что придется его челночить. Нарт делали много, с расчетом, чтобы не перегружаться, досок с расшитого коча хватало. В тех местах, куда выбросило коч Федота Попова, даже потеплело, будто с большим запозданием стало входить в раж бабье лето. Дул холодный ветер, но, спрятавшись за камнями, можно было погреться на солнце. Спасшиеся сложили каменку и напекли хлеба. В заливе ловилась рыба, ватажка добыла жирного сивуча. Его мясо дурно пахло, но это не претило часто голодавшим людям, не раз отъедавшимся нерпами.
Федот с Емелей отправили в разные стороны ертаулов высмотреть места промыслов. Те вернулись на другой день и подняли ватагу в ружье: за ними гнались здешние люди и обстреливали из луков. Промышленные и беглые казаки отбились, выставили караулы, но желания остаться в этих местах для зимних промыслов убавилось.
— Не судьба! — с бесноватым блеском в глазах пробормотал Федот Попов. — Знать, на роду нам писано обойти Каменный Нос!
Емеля опасливо уставился на дядьку и пожал плечами: ему место нравилось. Он поежился, сконфуженно кашлянул:
— Если попробовать договориться о торге и мене?..
Дядька его не услышал, соображая о своем, промышленные молчали, беглые думали.
— А что? — Федот вскинул брови и обвел спутников диковатым взглядом.
— Пока ветер пособный, льдов нет, пойдем дальше, вдруг обойдем Каменный Нос.
Удивляя Емелю необычной сговорчивостью, покрученники и беглые казаки покладисто столкнули кочи на воду и отошли от стана на два полета стрелы. Полуголые инородцы в высоких собачьих торбазах высыпали на берег, победно кричали и потрясали луками.
— Куда плывем? — подступились к Федоту ватажные.
— Не ждать же попутного ветра, чтобы вернуться на Анадырь. Куда-нибудь выведет Господь! Найдем безопасный залив, просушим днища, просмолим, наловим рыбки…
Мягкая осенняя оттепель позволяла не спешить с зимовкой, попутный ветер гнал судно вдоль скалистого берега.
Федот разглядывал заливы, и грудь его наполнялась приятным волнением. Емеля бросал на дядьку настороженные взгляды, молча удивляясь свечению его глаз. Стараясь не отдаляться от берега, Попов смело вел кочи на полдень, с восторгом разглядывал снежные вершины остроконечных гор. Одна из них, непомерно высокая, курилась, как в сказках давно упокоившихся баюнов его юности. Суда обошли на веслах каменный мыс и оказались в большом заливе, укрытом от северного ветра. Лес по берегам был невелик и редок: приземистые, скрученные ветрами березы. Федот приткнул нос коча к ровному песчаному берегу, рядом причалил Емеля. Было время отлива: вода отступала, суда обсыхали. Ертаулы спустили лодки, пошли против течения искать сладкую воду. Поблизости оказалось несколько ручьев, рыбы в заливе было много. Забросив невод, мореходы одним уловом обеспечили себя едой на несколько дней, неподалеку от костров добыли медведя. Здешняя земля и вода кормили щедро. Никто не беспокоил пришельцев, хотя следы людей встречались. Ертаулы поднялись на лодках выше по реке и вернулись с радостной вестью.
— Там соболя, что мышей в брошенном зимовье, хоть лес редок! — говорили окружившим их спутникам.
Федот, слушая их, досадливо морщился и поглядывал по сторонам.
— Надежное счастье легко не дается! — с сомнением покачал головой.
Его слова возмутили некоторых промышленных и казаков:
— Не упомнить, сколько раз прощались с жизнью, самого еле отмолили, а ты говоришь…
— Бесовские соблазны приходят через сердце, — обиженно укорил кто-то из анкудиновских беглецов и перекрестился.
Федот смущенно улыбнулся. Найти эти места было непросто, но не для одного удачного промысла столько лет он претерпевал неудачи и тяготы, не для одних дикоживущих вез товар с Руси. Его неуверенно поддержали своеуженники, имевшие свои паи в товаре и снаряжении, а большинство промышленных и беглых казаков желали подняться по реке и готовиться к зимовке.
— И правильно! — согласился Федот. — Зачем толочься на одном месте? Кто желает — устраивайся здесь. Я оставлю вместо себя Емелю и с доброхотами поищу промыслов дальше.
Емеля уставился на дядьку с разинутым ртом, но, полупав рыжими ресницами, согласился, что в два зимовья промышлять сподручней, если, конечно, здешние люди не будут нападать.
— Найдем места богаче — вас переманим, не найдем — вернемся! — весело загалдели своеуженники, оглядывая озадаченных спутников.
— По желанию идти! — выкрикнул Герасим Анкудинов за всех своих беглецов. — Нам за ваш хлеб расплачиваться, и на Колыме всем задолжали.
— Пусть так! — согласился Федот, пристально глядя на казака. — Только старшим будет Емеля. Хлеб-то наш! — напомнил.
Остаться решили два десятка покрученников и беглых казаков во главе с Емелей и Герасимом Анкудиновым. Пять своеуженников и четверо покручеников решили попытать счастья дальше. Под началом Федота они просушили, просмолили днище малого построенного на Колыме коча, с приливом столкнули его на воду и на веслах вышли из залива.
Ветер не менялся, дул с северо-востока. Парус напрягся и повлек судно вдоль скалистого берега. На пути встречались заливы. Спутники советовали войти в них, осмотреться, но Федот упрямо гнал судно к полудню, укрываясь только на ночи. А они становились такими темными, какими на Колыме не бывали среди зимы. Вскоре в виду острова показался долгий и узкий каменистый мыс, за которым виднелось море. Между ним и островом вода бурлила беспорядочными волнами. Коч обошел мыс и круто повернул к полночи-северу. По курсу видна была только вода. Мореходам показалось вдруг, что их кормщик и главный пайщик засветился.
— Обошли Необходимый Нос! Не могло не быть ему конца.
— Дальше-то что? — обступили его спутники. Ветер сносил судно в открытое море.
— Пойдем своей силой в виду берега. А что? Колыма подо льдом, а тут осень!
— Попробуй угреби! — поворчали покрученники, но вынуждены были согласиться, что другого пути нет. Уйти своей силой в обратную сторону было еще трудней.
Промышленные стали выгребать вблизи пологого берега с плешинами низкорослого ивняка, с горной возвышенностью вдали. Темными ночами он едва просматривался, но слышался по шуму наката волн. В сумерках с судна высматривали удобную стоянку и ночевали, выставив караул. Через несколько суток вошли в устье полноводной реки, прикрытое насыпью из окатыша, бросили якорь, как всем казалось, в безопасном месте. И здесь суша вблизи моря оставалась пологой и пустынной, как тундра. Вдали виднелся низкорослый ивняк и топольник. Места, где остались Емеля и Герасим, тоже не походили на промысловые, но соболь был, были лисы, волки, медведи. Пятеро промышленных пошли вверх по реке и к вечеру вернулись радостные — промыслового зверя много. Сторожившие судно наловили рыбы, выпотрошили, распластали и развешали для просушки. На берегу догорал костер, на котором пекли и варили ужин.
На судне были приняты меры предосторожности: двое сидели возле якорного троса, остальные отдыхали. Безлунная ночь была темна, дотлевал погасший костер, при отливной волне резко усилился ветер с суши. Коч стало раскачивать с борта на борт. Караульные, сидевшие у якорного троса, решили разбудить отдыхавших, но когда вернулись к носу судна, обнаружили, что якорный трос уходит в воду отвесно. Тут только они заметили, что мерцавший в ночи костер быстро отдаляется. Усиливающийся ветер уносил коч в открытое море. Якорь болтался в глубине, не доставая дна, борт захлестывало волной, ветер срывал брызги с гребней волн, судно так раскачивало, что могло быть опрокинутым.
Светлячок тлевшего костра вскоре пропал из виду. Промышленные бросились к веслам, выправляя коч на волне, с него сорвало спущенный, но не закрепленный парус, он заполоскал на ветру, сбив с ног Осташку Кудрина. Федот Попов с мокрой бородой стоял у руля и кричал, чтобы принесли огня. Кто-то из его подручных, спрятавшись от ветра в крытом носу судна, высек и раздул огонь, вынес на корму горящий жировик в светильнике. При мечущемся в горшке огоньке несколько голов склонились над компасом. Судно несло на запад. Выгрести к берегу своей силой промышленные не пытались: вытянули и отвязали железный якорь, соорудили плавучий, прикрепили его к якорному тросу. Коч перестало разворачивать и захлестывать. Мореходы стали отчерпывать воду. И носило их так неизвестно где четыре дня сряду, на пятый среди плеска волн послышался скрежещущий гул наката.
— Не знаю, что безопасней, — признался Федот, смахивая с лица соль мокрым рукавом кафтана, — болтаться среди волн или идти к берегу.
— Бочки сухие! — пожаловались спутники. — Глотки тоже. Войти бы в речку да напиться.
— Вошли уже! — огрызнулся Федот. Он все еще сердился на караульных, не уследивших за якорным тросом.
Старые товарищи по многим походам оправдывались и обвиняли его, передовщика, что по приливу не завел коч дальше в реку, где можно было набрать пресной воды. Волнение не утихло и на другой день, но в тумане показался пологий берег с высокими галечниковыми отмелями, по которым гуляли темно-свинцовые волны. Федот всматривался в полосу прибоя и не мог оторвать от румпеля окостеневших скрюченных пальцев.
— Эвон что там? — крикнул Осташка, тыча рукой куда-то в сторону берега, где то взлетал на волнах неуклюжий коч, то проваливался так, что видимым оставался только конец мотавшейся мачты.
— Свои! — сгрудились на одном борту промышленные.
Их тоже заметили, пальнули в небо холостым зарядом. Людям Попова не скоро удалось высечь огонь, запалить отсыревший фитиль, чтобы дать ответный выстрел. Встреченное судно шло в опасной близости берега. Вскоре стало ясно, что коч не из своих, разбросанных бурей, и держится против волны, стараясь устоять против каких-то известных меток.
— Прилива ждут! — догадался Федот и крикнул связчикам: — Выгребай, чтобы не разнесло.
На встречном судне стали указывать в сторону берега, призывая следовать за ними. По понятным только им приметам тамошние мореходы уловили начало прилива и пошли к проходу за высокую отмель, намытую волнами из песка и галечника. Коч Федота направился следом. Оба судна вошли в просторную лагуну, люди увидели устье реки, густой, вечно зеленый лес с желтым крапом осенних лиственниц и берез. Обессилевшие гребцы повисли на веслах, как уснувшие рыбины на снизках. Через некоторое время, подгоняемые приливом, суда счалились. На встреченном коче было десять казаков и промышленных людей. Видно, они долго голодали: у всех огромные запавшие глаза, истончавшие губы.
— Не с того ли света, братцы? — суеверно крестясь, стали спрашивать спасшиеся.
— Тьфу ты! — шепелявя, ругнулся один из десятка с густой проседью в бороде. По виду он был старшим. — Думали, Семейка окладной хлеб послал.
— Какой Семейка? — насторожился Федот, думая о Дежневе.
— Атаман Шелковников с Ахоти! А вы кто?
— Ленские промышленные! — ответили с поповского коча.
— И мы ленские! — прошепелявил все тот же седобородый. — Меня — Лексейку Филиппова с Ермилкой Васильевым, с двадцатью служилыми и промышленными Семейка Шелковников послал к восходу искать новых земель. У нас здесь зимовье, — кивнул в сторону леса. — Думали сходить на восход, посмотреть место для другой зимовки, но запоздали, попали под встречный ветер. Он и пригнал обратно.
— Жив Семейка? — подался вперед Федот Попов.
— Прошлый год летом, когда нас посылал, был жив!
— Вода есть? — нетерпеливо зароптали люди Попова, раздраженные долгим разговором.
— С полбочки, пейте во славу Божью… Вдруг у вас хлеб или какая другая еда? — безнадежно спросили, с тоской оглядывая остатки болтавшейся юколы. Но люди Попова кинулись к бочке, крепко привязанной к основанию мачты и обтянутой кожей.
— Есть! — испив первую пригоршню, с глубоким выдохом ответил Федот.
— Давай! — вскрикнул казак. Лица его спутников повеселели, глаза загорелись.
Подкрепившись мукой, разведенной в воде, люди десятника Филиппова сели за весла. Коч Федота Попова последовал за ними. С приливной волной суда поднялись по речке. Выше устья стояло укрепленное тыном зимовье. Из него выбежали пятеро с ружьями. Двое махали шапками с нагородней. Зимовейщики с Ермилом Васильевым и посланные ими товарищи с Алексеем Филипповым прожили здесь год без хлеба и круп, на рыбе, мясе, древесной заболони, травах и корнях. Филиппов с товарищами возвращался пустым и оголодавшим, мечтая вволю поесть хотя бы сушеной рыбы. Встреча с кочем Попова, припас ржаной муки на нем казались им чудом. Чем больше узнавал Федот от здешних людей о местах, куда был выброшен судьбой, тем печальней становились его глаза, угасая, как светлячок костра, удалявшегося памятной ночью. Отряд Семена Шелковникова переволокся за Великий Камень путем, разведанным Иваном Москвитиным, и добрался до его зимовья на реке Улье. Там жили и собирали ясак оставленные Иваном люди. Позже вышли с Амура остатки отряда письменного головы Василия Пояркова. Поярков оставил семнадцать своих казаков и охочих во главе с Ермилом Васильевым.
Отряд Семена Шелковникова пришел им на смену, соединился с оставшимися там людьми и, бросив старое зимовье, двинулся дальше, на восход, в богатые и густонаселенные места. На многорыбной реке Ахоти, переименованной русскими людьми в Охоту, при непрестанных нападениях тамошних ламутов Семен со своими людьми построил острожек и отправил половину отряда под началом Ермила Васильева и Алексея Филиппова дальше на северо-восток. Так два десятка казаков и промышленных оказались в Тауйской губе, поставили на одной из впадавших в нее речек укрепленное зимовье, подвели под государеву руку ближайшие народы и брали с них ясак.
В зимовье был большой припас красной рыбы, икры и ягод. Люди Ермила радовались, что едят хлеб, люди Попова — что в очередной раз спаслись в бушующем море. В печали был один Федот. Выслушав рассказы шелковниковских и ермиловских казаков, он понял, что жестоко обманут ложными предчувствиями. То, что, скорей всего, он первым из русских людей обошел Необходимый Великий Камень, попав с его полуночной стороны на полуденную, ничуть не радовало. Дальше на закат был разведанный голодный край, потом река Амур, с которой живыми вышла горстка людей из полка Пояркова. Где-то в той стороне находился Китай. По рассказам поярковских казаков, войти в страну через Амур не удалось целым полком. А после всего пережитого ватагой Попова, на путь в обход Великого Камня мог прельстить торговых людей только враг рода человеческого.
Долго хмурился и молчал Федот, перемалывая в голове тяжкие думы. Ничего не оставалось, как вновь спасшимся от потопления, служить и промышлять при зимовье до весны, а потом возвращаться на восход к своей ватажке.
— Думайте решайте! — объявил вольным своеуженникам. — Какова милость Божья ко мне — знаете, вдруг с кем другим будете удачливей. Летом известным сухим путем можете уйти на Алдан и Лену. По словам здешних людей, — указал на зимовейщиков, — путь труден, но не опасен. Мне же без богатства возвращаться нельзя! Последняя надежда — соболя и кошка с заморной костью.
— Моржей и здесь много! — загалдели зимовейщики. — Оставайтесь, промышляйте!
На что Попов только усмехнулся в побелевшую бороду, блеснул леденеющими глазами, вздохнул и вспомнил жалостливый взгляд блаженного в кабаке Ленского острога, от пророчества которого открестился. «Может быть, зря!»
9. В немилости Божьей
Печалясь о несбывшемся, Федот Попов с девятью своеуженниками промышлял соболей и лис, нес обычные казачьи службы на Тауе в ермиловском ясачном зимовье, на южной стороне Великого Камня. Там отпраздновал зимнего Николу. В тот день с восточной стороны Камня два с половиной десятка промышленных людей с казаком Дежневым тянули нарты к Анадырю, а Стадухин с охочими и беглыми казаками промышлял соболя в верховьях Анюя на северо-западе. Стужа на Николу, «волчьего свата», вошла в полную силу: грохотал лопавшийся лед, трещали деревья по низинам. Ватажные разошлись по станам, атаман с тремя подручными людьми забивал мхом закуржавевшие щели зимовья. Все четверо так увлеклись работой, что не заметили приближавшихся людей. Распахнулась дверь, впустив в избу густые клубы, раскатившиеся до самого очага. Стадухин кинулся к сабле, брошенной на нары. Но дверь закрылась, едва осел студеный пар, из него показались головы в песцовых шапках. В обмерзших бородах краснели носы, в глубинах выбеленных ресниц остро сверкали влажные глаза. Михей узнал Василия Бугра и Артема Солдата, оставленных сторожить коч.
— Совсем сдурели? — в сердцах закричал на них. — Хоть бы у Вторки в остроге зимовали, если не сиделось в зимовье! — Бугор, разъяренно глядя на него, мычал и вращал выстуженными глазами. — Как живыми-то добрались? — мягче спросил атаман, помогая товарищам раздеться.
Оба казака сбросили рукавицы, свесили бороды над очагом, стали горстями отдирать сосульки и сплевывать льдинки с усов. Наконец Василий распрямился, обернулся и разразился такой бранью, что бывшие в зимовье люди облегченно захохотали.
— В Нижний выбрались — нет! Говорят — ушли на Анюй. Доперлись до устья — нет! Подсказали — в Афонином зимовье. Приходим — хрен ночевал… У головешек погрелись!
— Сожгли?
— Чтобы другие не подселились… Но нас не тронули, думали — промышленные!
— И то слава Богу! — успокаиваясь, перекрестился Стадухин.
— Хлеба давай! — потребовал Бугор, обрывая пустопорожний разговор.
Муку в зимовье берегли к Рождеству и уже поделили, но отказать прибывшим казакам не могли. Развязали мешок, выложили свежеиспеченный и замороженный каравай:
— Ешьте вволю! Что уж там!
Глаза на выстывших лицах потеплели. Казаки смахнули шапки, обнажив потные макушки с мокрыми завитками волос, положили чувственные поклоны на образа в восточном углу. Бугор с Солдатом застали Стадухина за сборами. Он, Иван Казанец и торговый человек Анисим Мартемьянов готовились к походу за хребет разведать слухи об оленных и собачьих тропах — аргишах на реку Погычу. Мартемьяновский покрученник, беглый янский казак Ивашка Баранов, пришел со стана с мерзлыми соболями и должен был вернуться с паем муки. Он неприязненно поглядывал на заимодавца, фыркал и злословил, что Анисиму через горы идти нельзя: морда у него лопатой, ноги короткие — не помрет, так будет обузой. Долгобородый Анисим от невежливых слов покрученника, строптиво топнул ичигом.
— Что каркаешь, беду кличешь?
— Упреждаю! — невозмутимо повел бровями Баранов, и Стадухин неожиданно поддержал его:
— И то, правда. Когда шли по болотам, сильно отставал и морда была, что рыбье брюхо.
Обида заклокотала в горле торгового человека, хотя сметливый ум подсказывал, что Иван с Михеем правы. Мартемьянов побаивался неведомого пути и вызывался идти лишь потому, что первым объявил о нем.
— Пес ты смердячий! — без зла обругал Баранова. — Голь перекатная! Иди сам, если тебе моя морда противна! А я утяну хлеб на станы.
Беглый казак не снизошел до перебранки, но, одобренный взглядом Стадухина, стал собираться. Бугор с Солдатом тому поспособствовали: зимовье не оставалось впусте. Михей с Иваном и писарем сходили в ясачное селение, взяли двух проводников с упряжками собак и двинулись в верховья Анюя. Вернулись они через месяц на Святой неделе. Все трое были чуть живы: черные от обморожений, осунувшиеся от голода, половины собак в упряжках не было. За них предстояло недешево заплатить ясачному роду. В зимовье вернувшихся встретили Анисим Мартемьянов с Юшей Селиверстовым, спешно затопили баню, а когда вернулись — трое связчиков и два вожа лежали на земляном полу, тупо глядя в потолок.
— Ну что, нашли? — не в силах сдержать любопытство, затоптался возле них Юша и уставился на Стадухина немигающим взглядом.
Анисим с виновато опущенными бровями короткими, толстыми пальцами теребил бороду, овчиной лежавшую на дородной груди.
— В пекло попасть легче! — сипло прошипел Стадухин и перекрестился.
— Надо весной по насту идти, — добавил Казанец простуженным голосом.
Баранов только кряхтел, выцарапывая сосульки из бороды, и благодарственно косился на образок Николы Чудотворца, поднатужившись, прошепелявил:
— Морем, однако, легче!
— Собаки пропали? — громче и напористей стал расспрашивать Селиверстов.
— Места гиблые! — Стадухин неохотно разлепил губы в коростах. — Ни дичи, ни рыбы. Пришлось скверниться в пост, иначе перемерли бы!
— Значит, не нашли! — пророкотал Юша, бросая на Мартемьянова гневные взгляды. — Я говорил, морем идти надо. Всего три дня хорошего ходу… Может быть, четыре или пять…
На другой день Стадухин наградил и отпустил вожей. На расспросы промышленных людей отвечал, что там, в верховьях, плоскогорье со множеством одинаковых круглых сопок, снег, лед и камень, среди них можно блудить всю зиму и вместо Погычи выйти на свой же след. Отдохнув, он перестал думать о сухом пути: караулил зимовье, принимал рухлядь, разбирал ссоры промышленных.
В те же дни ватага Бессона Астафьева с казаком Дежневым подошла к третьей гряде безлесых сопок. Пока речка, по которой двигались, тянулась верховьями к северу, шли по ней. Едва она повернула на полдень — перевалили через хребет, и попали в другую безлесую долину. Бессон поглядел на маточку, спросил ясырок про Анадырь. Те уверенно указали в ту же сторону, что и наплав компаса. Но и эта долина оказалась непопутной. Опять пришлось лезть в гору, тянуть груженые нарты, возвращаться за другими. Подножного корма почти не было, да и варить мясо было не на чем, питались одной мукой, и она убывала на глазах. Измотанные люди каялись, что пошли к Анадырю прямым путем, а не берегом моря. Один Бессон упорствовал, поглядывая в чертову банку с пляшущим наплавом. Ватажные роптали и грозили отобрать у приказчика компас, заодно выбросить дюжину других, взятых для продажи.
— Вдруг и они не чуют, что Анадырь где-то сбоку? — задыхаясь и пыхая клубами из обледеневшей бороды, пролепетал Семен, упав рядом с приказчиком на сыпучий снег, повел глазами в сторону женщин. — Всего неделю носило море, а идем девятую. Не может такого быть!
— Афоня нас искать не станет! — также тяжко дыша, отвечал казаку Бессон. — Сидит на Анадыре, промышляет. Хлеба у него должно остаться больше нашего. — Болезненно морщась от общей неприязни и подозрительности, поторопил: — Идти надо! Где-то рядом уже!
В то, что конец пути близок мало кто верил. Вид маточки в руках торгового человека злил, ясыркам перестали доверять даже их мужья: Фома с Елфимом.
— Похоже, они других сторон не знают, кроме полуночной! — жаловались на женок.
— Если выживем, на правеже выстою, но сделаю вклад в церковь! — не снимая меховой рукавицы, перекрестился Дежнев и всхлипнул: — Не дойду! Кости крутит, старые раны открываются.
Не только он, еще семеро промышленных были обессилены переходом и едва волокли ноги, из-за них и громоздкого тяжелого груза ватага двигалась медленно. И снова пришлось лезть в гору. За ней открылась тундровая равнина, кое-где поросшая одинокими малорослыми лиственницами. Блуждающими, испуганными глазами измотанные путники обшаривали лед обдутых озер. Вверху посвистывал ветер, внизу полосами змеилась поземка. Под снегом угадывалась вихляющая речка. Она тянулась почти в ту сторону, куда указывал компас, но ничего похожего на великую реку не было.
И снова волоклись по льду на север. Налегке возвращались за оставленными нартами с гусельниковским товаром. Ночевали в снежных ямах, отрытых в сугробах. Жгли маленькие тундровые костры под котлами, у которых в черед отогревали руки, в теплой воде разводили ржаную муку, присаливали и поливали постным маслом. Но на этот раз обдутый ветрами лед речки вывел к застывшему заливу, который был похож на те места, где остались кочи. Девки уверяли, что это и есть Анадырь. Вскоре путники наткнулись на занесенные снегом завалы плавника: где-то вверху был лес. Отогревшись у большого костра, они нашли поблизости от стана брошенную землянку.
Жилье был нерусским: вход сверху, в кровле, под ним очаг, по стенам ряды нар, разделенные позеленевшими от сырости кожами, и всюду сидячие, стоячие, подвешенные к потолку людские скелеты в кожаных одеждах: тоскливо, холодно, страшно, но лучше, чем в снежной яме. Чукчанка с юкагиркой ничуть не удивились костям и осматривали землянку с радостью. Их стали расспрашивать, чья она? Женщины без сомнения ответили — откочевавших оленных анаулов.
Осенив стены и кости Животворящим Крестом, путники из последних сил натаскали плавника, растопили чужой очаг. По стенам заплясали тени, из темени безмолвно скалились человеческие головы. Но землянка стала наполняться теплом. Приятный запах дыма глушил чужой, враждебный дух. Ночевали как есть: наводить порядок не было сил. Утром пренебрегли неодобрением женщин, вынесли и с честью сложили в стороне от землянки скелеты. Два дня отдыхали и отъедались остатками хлеба, на третий Бессон объявил:
— Дальше надо идти, искать Афоню или какое-нибудь селение. Иначе не перезимовать.
— И то правда! — глядя в сторону, пробормотал Елфим. — Муки осталось на неделю, если по горсти на брата.
С ними соглашались все, кто мог идти. Семен Деженев и семеро хворых спутников, полагаясь на Господа, предпочли принять кончину в тепле, вместо того чтобы опять волочься по тундре.
— Ну и ладно! — без упреков согласился Бессон. — Хлеб поделим, товар оставим при вас, налегке пойдем.
Они собрались — пятнадцать промышленных и трое беглых анкудиновских казаков. Ясырок тоже поделили, они нужны были, как толмачки тем и другим. Фома оставил хворым свою чукчанку, Елфим забрал юкагирку.
— Это справедливо! — порадовались больные промышленные и Семен Дежнев. — Если задержитесь вдруг, она нам поможет: ей такая жизнь в обычай и места знакомы.
Из другого угла кто-то нечленораздельно буркнул:
— Застанете перерезанными — она!
Люди Бессона Астафьева ушли, семеро с Дежневым и чукчанкой остались в землянке. Муку приказчик поделил по совести. Съели ее быстро. Иттень стала ходить с луком на охоту, приносила зайцев и куропаток. Где она пропадала, с кем могла вернуться, об этом вслух не говорили. Через три недели в землянку приползли трое безоружных: Фома с Елфимом и анкудиновский беглец. Отогревшись, сказали, что кочей не нашли, но были пограблены дикими. Без еды и одежды идти обратно смогли только трое, остальные лежат в снежной яме, ждут помощи.
К утру Дежнев собрал необходимое из пожитков и товаров Бессона. С Фомой и Елфимом, с пятью спутниками при ружьях и топорах пошел спасать товарищей. След Фомы и Елфима задуло. В поисках той самой ямы, где были оставлены немощные товарищи, проблуждали два дня. Искать дольше не было сил, и они вернулись ни с чем, рассуждая, либо Бессон и его спутники погибли и их замело снегом, либо всех увели в рабство.
В чужом жилье было тепло и сухо. Елфим с тоской поглядывал на веселую и полную сил чукчанку. Она приволокла по льду нерпу, мужниным ножом вскрыла жирное брюхо, набросала в котел куски сала, мяса и вырезала печень. Жарко горел очаг, а над крышей жилья, переливаясь разноцветными огнями, в полнеба мерцала полярная ночь.
— А у меня женку отняли! — виновато пробормотал Елфим, разглядывая чукчанку. Обернулся к Фоме, указав на нее глазами: — Не убегает!
В феврале из-за гор, за которыми бедствовали люди Дежнева, яркими лучами брызнули первые солнечные лучи, а в начале марта после Евдокеи-свистуньи из багровевшей над хребтом студеной хмари всякий день стало появляться солнце. Выкатываясь на чистую синеву неба, оно слепило, выжимало слезы из глаз, хотя воздух еще колко входил в грудь и обжигал нутро. На лабазе, густо обгаженном птицами, распушенным шаром сидел ворон, по-хозяйски оглядывал окрестности, время от времени издавал истошные кошачьи вопли. Если у кого-нибудь из зимовейщиков кончалось терпение, то прежнего ворона менял другой, будто дожидавшийся своей очереди.
Ватага Стадухина заканчивала промыслы, со станов сходились люди, лица их были черны от солнца и ветров, лоснились от жира потому, что, опасаясь обморожений, они не умывались и в зимовье первым делом топили баню. Ватага добыла соболей вдвое против Индигирки, но все надеялись на большее, под те мечты кабалились. С неделю люди радовались встрече, многолюдью, рассказывали о зимовке, промыслах, подсчитывали прибыли, расплачивались друг с другом, с торговым человеком Анисимом Мартемьяновым. В зимовье не голодали: в сенях поленницей лежали мороженые зайцы, в лабазе — куропатки и рыба, но припас стал быстро убывать. Стадухин объявил:
— Отмылись, отдохнули, пора позаботиться о пропитании! — И стал распределять, кому добывать мясной припас, кому заниматься подледным ловом, на разговоры о хлебе наложил строгий запрет.
В хлопотах о еде ватага пережила весну. В мае вскрылась река и коч, пригнанный Селиверстовым с Яны, поплыл к Нижнему острогу. Стадухинские люди с нетерпением ждали вестей о Дежневе, Попове и Астафьеве, о беглом казаке Герасиме Анкудинове, но первой новостью была та, что острог находился в осаде от чукчей. Вокруг горели костры и паслись олени, несколько стрел на излете воткнулись в борт стадухинского коча.
— Вот тебе и бражка! — с кислой улыбкой в глубине глаз пробубнил Василий Бугор, привычным движением вскинул на руку полупудовую пищаль, подсыпал пороху на запал.
Беглые казаки и промышленные стали готовиться к бою, надевать доспехи какие у кого были. Селиверстов, раздаивая тощую метелку бороды, назойливо советовал подойти к берегу выше острога, Кирюшка Проклов — высадиться ниже. Был обычный бой, в котором сожгли много пороху. Из беглых ленских казаков от ран погибли двое. Чукчи подобрали их куяки, ружья, сели на оленей и умчались в тундру. Преследовать их по тающим болотам никто не решился.
Среди осажденных тоже были беглые ленские казаки, переметнувшиеся к Власьеву: Никита Семенов, Иван Пинега. К удивлению Стадухина, среди них же оказался и старый сослуживец по енисейскому острогу Дружинка Чистяков, отколовшийся от беглецов еще на Яне. Все они благодарили спутников по побегу, вовремя прибывших к острогу, а в весеннем нападении винили Пинегу. Дружинка поглядывал на Стадухина с заискивающей тоской выцветших глаз, будто просился на ночлег.
Новостей было много. Василий Власьев сухим путем вышел с Индигирки на Колыму, обосновался в Верхнем Новоселовском острожке и отправил оттуда в Нижний целовальника Кирилла Коткина с беглыми казаками, приказав им принять дела у Втора Гаврилова. На прошлогоднюю ярмарку все они опоздали. Но в начале зимы Пинега ходил на Чукочью реку с власьевским и коткинским товарами, наменял у тамошних людей моржовых костей. Вернулся через месяц, в сопровождении двадцати мужиков, похвалялся, что убедил чукчей идти под государя. Но весной с той же Чукочьей реки пришли шестьдесят мужиков и осадили острог, чтобы пограбить понравившийся им товар.
Втор Гаврилов с Третьяком Заборцевым сдали власьевским поверенным Нижний острог, три ясачных зимовья, аманатов, коч с парусом и снастью, старый кочишко, на котором только по реке ходить, два карбаса, медь, железо, бисер, корольки и еще до осады, по льду, ушли к морю, чтобы с торговыми кочами поскорей вернуться на Лену. Втор Гаврилов взял с собой моржовую кость, выменянную Пинегой у чукчей, ясак и грамоты от нового приказного. Зыряновский казак Иван Беляна предупредил Стадухина, что Власьев на него зол за беспричинное нападение на анюйских ясачных мужиков и отписал воеводе, будто анюйцы, согнанные со своих угодий, ясак за этот год не дали.
Михей понимал, что вмешался не в свое дело, но вместо того чтобы повиниться, во всеуслышанье заявил, что ему с его наказной памятью никто на Колыме не указчик, и велел своим промышленным не предъявлять Коткину добытых соболей: у него был свой целовальник Селиверстов. Новых товаров на ярмарку еще не привезли: сушей из-за осады острога, морем из-за раннего времени года. Хлеба здесь не было. Не задерживаясь, Михей с товарищами поплыл к оставленному кочу, надеясь встретить там торговых людей и поменять добытую рухлядь на хлеб. Здесь в зимовье ждали попутного ветра и проходных разводий несколько торговых и промышленных ватаг. Самые отчаянные уже ушли к Индигирке на оставленном коче Стадухина. Среди них были Третьяк Заборцев и Втор Гаврилов, прослуживший на Колыме семь лет.
— Как это, на моем коче? — чуть не задохнулся от негодования Стадухин.
Глаза его вспыхнули такой злобой, что сообщивший об этом неповинный торговый человек испуганно поежился и отступил, бормоча:
— Власьев разрешил, дал наказную, что коч — казенный.
— Понятно, что не торговый, но охочие и беглые строили его не за жалованье… Ну Иуда! — взъярился Михей. — Много вреда сделал мне без отмщения. Воздам!
Возвращаться в Нижний искать правды у Кирилла Коткина, или плыть в Верхний к Власьеву не было времени. Иван Казанец, рассеянно проговаривая продиктованное атаманом, помогая себе языком и бровями, старательно написал воеводе жалобную челобитную, в ней Михей ругал Власьева и Втора Гаврилова, незаконно отпустившего караван Дежнева на Погычу.
С неделю ватага простояла, запасаясь юколой, и вот задул западник. Путь на восход был все еще закрыт льдами, но этот ветер принес с Индигирки добротный торговый коч брата нынешнего колымского целовальника, Матвея Коткина. Среди его покрученников был Тарх Стадухин, на том же борту оказался свешниковский приказчик Федька Катаев с грузом ржаной муки, перекупленной на Индигирке.
— Вот и животы приплыли! — со злорадной усмешкой воскликнул Михей, расправил по щекам золотистые усы и перепрыгнул на коткинский коч.
Сколько ни возмущался Федька, что рожь не свешниковская, а купленная им для торга, разъяренная стадухинская ватажка дочиста ограбила его. Торгового человека Матвея Коткина с покрученниками силой пересадили на старый коч, а на его добротное торговое судно перекидали все ненужное для похода.
— Меняю два малых суденышка на твое ладное! — весело злословил Михей на укоры Коткина. — Другое заберешь у брата!
— Мой брат — целовальник! Он-то причем? С приказного свой коч спрашивай! — жалобно плакался пограбленный торговый человек.
Стадухин радовался новому судну, случаем добытому припасу для похода, на который имел наказную память от воеводы. Призывы пограбленных к совести и справедливости слушал то злорадно улыбаясь, то начальственно хмурясь. Тарх вынужден был перейти к брату, поскольку его хозяин глядел на него зверем и клял все пинежское отродье, но пока отряд Стадухина не ушел, вынужден был считаться с силой. На просторном купеческом коче ценой не меньше двухсот рублей, с припасом хлеба и с воеводской наказной памятью.
Михей Стадухин ждал разводий, чтобы уйти к Погыче, пытал брата о новостях Якутского острога. Тарх смущенно вздыхал, конфузливо улыбался и отводил глаза, между его бровей все глубже и отчетливей напрягалась складка. Он не решался сообщить главного, пока брат не спросил в упор.
— Была жива-здорова, когда уходил! — промямлил, поднимая унылые глаза. — Пожар там спалил двенадцать домов и Гераськин, а твой обгорел не сильно. Гераська худо-бедно торгует. Любит его Бог… А я неудачно промышлял.
— Не могла Арина бросить Гераську? — крестя грудь, Михей впился в брата испуганными глазами. — Пригрела?
— Я не хотел быть им обузой, — снова опустил глаза Тарах. — Раз ты Матвея пограбил, мне с ним жизни не будет. Придется промышлять с тобой…
Старший нетерпеливо кивнул и переспросил, всматриваясь в ускользающие глаза брата:
— Кому не захотел быть обузой? — Поскольку Тарх мялся и думал, как сказать, приглушенно вскрикнул: — Арина живет с Гераськой?
— Живет, а как, не знаю! — пуще прежнего смутился Тарх. — Не по дворам же ему скитаться. Помогает ей. Дом твой подновил, Нефедку учит… Куда уж родней? Племянник все-таки! — Набравшись духу, зыркнул исподлобья и с дрожью в голосе добавил: — А спят вместе или порознь, того я не знаю!
— Так оно и лучше, — побелел Михей, тряхнул головой, скинул шапку, перекрестился на восход. По его обветренным щекам покатились слезы. Он смахнул их рукавом, нахлобучил шапку и больше не заводил разговоров об Арине.
Ветер разнес льды за губой. Стадухин с беглыми казаками и промышленными болтался возле устья, высматривая проходные разводья, а Федька Катаев с Матвеем Коткиным на его старом кочишке поплыли в Нижний жаловаться. Перед самым уходом оттуда сплавились на струге скандальные ленские казаки, переметнувшиеся к Власьеву на Индигирке: Федька Ветошка с Пашкой Кокоулиным. С ними выбрался из Среднего зимовья тамошний служилый Пашка Левонтьев. Власьев послал их для служб при ярмарке, но они узнали о стадухинском походе и приплыли самовольно со своим хлебным и путевым припасом, для этого кабалились у торгового Михейки Захарова.
— Мишка, возьми! — запросились, не каясь, не кланяясь, будто требовали возвращения долгов.
— Содому нам не хватало! — буркнул Бугор без прежнего запала. Он был отходчив.
Длиннорожий Кокоулин вперился в него хищным взглядом щуки. Ветошка напряженно молчал с окаменевшим лицом и поджатыми губами. Левонтьев смахнул с головы шапку, шершавой ладонью разгладил лысину, блестевшую капельками пота, со снисходительной улыбкой в уголках глаз, поучающе изрек:
— Господь велел прощать братьев семьдесят раз, помноженных на столько же, — похлопывал по известной всем суме с Библией и вскарабкался на борт.
— Возьми! — вступился за них добродушный и мягкий Иван Казанец.
Угрюмый Евсей Павлов, посопев обветренным носом, взглянул на атамана и согласно кивнул.
Печалясь утратой жены и от того подобревший, Михей Стадухин с неперегоревшей тоской в глазах вспомнил совместные походы при атамане Галкине и, к неудовольствию некоторых, тихо зароптавших, махнул рукой:
— Как решат раненые Заразой, так и будет!
Кирилл Проклов, Юша Трофимов, Иван Пуляев, которому Кокоулин прострелил руку, досадливо уставились на Пашку: спина колесом, широкие плечи, натруженные ладони со взбухшими жилами. Зараза с вызовом глядел снизу, выпытывая, что у них на уме.
— Молчите? — С грубой беспечностью вскинул жесткую бороду и желчно усмехнулся, шевельнув выгоревшими усами. — Когда вы меня били, я тоже молчал, а после задумал мщение, что били не за тот грех, напрасно позорили. Слава Богу, тебя, Васька, не высмотрел — убил бы под горячую руку. А сейчас ни на кого зла не держу.
— Он еще нас и прощает! — возмутился было Бугор, но осекся и презрительно бросил:
— Да хрен с ними!
То же самое приговорили другие раненые Кокоулиным-Заразой. Вместе с ними набирался отряд почти в три десятка человек. С такой силой нестрашно было отправляться к сильным народам, не знающим власти русского царя. Путь очистился попутным ветром с запада. Вольница казачьего десятника почитала молебен об отплытии, испросила милостей у Николы Чудотворца — заступника скитальцев, и подняла парус. Погода была ясной. Над тихим морем голубело небо без облаков, по синим хребтам в дымке неспешно катилось желтое солнце. Здесь берег выглядел веселей, чем между Колымой и Индигиркой: синие горы вдали, каменистая тундра, промытый галечник, на который набегала волна прибоя.
Клокотала вода под днищем коча, отдалялась суша. Погода не менялась до светлой полуночи, только рассеянное солнце собралось в красный круг, присело за гору и в его лучах зарозовели верхушки Великого Камня. Юшка Селиверстов весело приплясывал у руля, обитого жестью, указывал, кому и как пособлять движению судна. Купец Анисим Мартемьянов, спрятав пышную бороду за пазуху, клал поклон за поклоном на манящий восход, на крест, поставленный на носу коча. Плутовато поглядывая на него, Селиверстов окликал Кокоулина, дремавшего на носу коча:
— Здесь нет грязного мелководья… Пашка! Следи за цветом воды, по нему глубина видна. Хорошо смотришь?
— Хорошо смотрю!
— Шестом мерить не ленись!
— Две сажени! Дно вижу.
— А ты проверь. Чистая вода сильно скрадывает.
Зараза ткнул шестом по борту, поднял, осмотрел намокшую метку:
— Три аршина с пядью!
— Так-то! — торжествуя, рыкнул Селиверстов.
Ветер был ровен, коч быстро бежал вдоль берега сутки и другие. Юша дневал и спал возле руля. Если впереди блестели льды, загодя обходил их, удивляя бывалых людей искусным умением управлять судном. Михей Стадухин прохаживался с борта на борт, его усы золотились в лучах летнего солнца. Вдали показался русский крест. Промышленный, бывший в этих местах с Мезенцем и Пустозером, сказал, что там остров перед губой. Уже то, что коч больше суток шел с попутным ветром, было удачей. Стадухин положил на береговой крест семь поясных поклонов и скомандовал:
— Вперед! Даст Бог, зайдем сюда на обратном пути.
Из залива перед островом задул несильный, но пронизывающий ветер. В глубине его плавали льдины. Коч обошел остров приблизился к льдам, розовевшим от присевшего солнца. Впереди по курсу дремотным горбом вырисовывался мыс. Из губы потянуло теплым ветром с запахом морской травы и перепревшей гнили. Он рябил воду и разгонял волну, а вскоре стал срывать брызги с гребней, они заливали судно. Наконец ветер окончательно взъярился, так что стало трудно держать коч на курсе. Против мыса плясала бестолковая толчея волн, коч заливало сразу с двух бортов. Ветер был прежним, парус вздут, но до края залива шли так долго, что казалось, будто судно стоит на месте.
— Водяной тешится, держит за днище! — трубно, как морж, ревел Селиверстов. Оставив руль, перегнулся за борт, прислащенным голосом попросил: — Ты, дедушка, нас пропусти, а мы тебя маслицем попотчуем!
Михей Стадухин вылил на воду корец льняного масла, оно растеклось по воде и быстро пропало за кормой.
— Вон что! — Селиверстов хлестнул себя ладонью по лбу. — Ветер попутный, но течение встречное.
К зависти плывущих, следом за маслом атаман вылил за борт чарку водки, но и это не помогло, коч будто держали за днище. Гребцы стали помогать парусу силой. Судно побежало быстрей и наконец обошло глубоко вдававшийся в море мыс. За ним потянулась долгая отмель. Пришлось на версту удалиться от берега.
— Там мы с Мезенцем и Пустозером меняли рыбий зуб! — указал за мыс бывалый промышленный.
— Вперед! — мельком оглянувшись, скомандовал Стадухин. — Нам нужна Погыча.
Ветер усилился и выл в снастях на разные голоса. Временами он становился тише. Пропало солнце за низкими быстро обложившими небо облаками, на судно обрушился холодный секущий дождь. Юша маячил на корме, над промокшими плечами его кафтана курился пар.
— Гляди на воду! — кричал на нос судна. — Или меряй глубину, не ленись!
Беглый ленский казак Евсей Павлов с шестом в руках, втянув голову в плечи, тоскливо осматривался по сторонам. Море было серым, пологие спины волн катились вдаль, берег с крутым галечниковым валом едва виден, а под днищем всего два аршина. Надо было уходить еще дальше. Коч в очередной раз провалился между волн и, задев дно, скрипнул становым брусом. Юша разразился бранью. Поднялись двое казаков в кожаных плащах, потянули смоленые возжи-фалы, судно взяло курс круче к северу, в неведомое. Вскоре смурное небо разродилось июльским снегом. Он засыпал коч, выбелил парус, палубу, шапки и плечи людей, ложился на черные спины волн и пропадал в них. Но ветер не менялся.
Небо разъяснилось так же быстро, как и затянулось облаками. Снова светило солнце. Глубины позволили приблизиться к берегу. Безделье пути начинало томить оказавшихся не у дел людей. Михей Стадухин почувствовал их озлобление, приказал помогать парусу веслами и рассадил гребцов по паре на каждое. Они наваливались, помогая ветру перебарывать козни водяного.
Встречались заливы, но устья большой реки не было ни на четвертый, ни на пятый день. Люди стали волноваться. Юшка Селиверстов, теряя бравый вид, опасливо вертел красным мокрым носом и тряс свившейся в сосульку бородой. Михей Стадухин все так же упрямо командовал:
— Вперед!
На этот раз Тарх старался во всем прямить старшему брату, поблажек не ждал. Зная беду, которую Михей молча переживал, опасался, как бы старший не забыл, что отвечает перед Господом не только за себя, но и за жизни всех плывущих на судне.
Широкая волна попутно накатывала с запада и так поднимала коч, что становилась видна тундра. Берег был прямым и обрывистым, пристать к нему негде. Наконец вдали показалась сопка, перед ней ровный, устланный промытой дресвой берег, который небольшой бухтой углублялся в тундру. Потревоженные косяки гусей кружили над судном. Надрывно кричали чайки и гагары. На берегу валялся обкатанный прибоем плавник. Дрова на судне кончились, из бочек выскребали последние чарки воды. Спутники Стадухина стали роптать — семь суток безостановочного плаванья утомили их.
— Горячей каши поесть бы! — бросали укоризненные взгляды на атамана.
А он с удивленным лицом разглядывал каменные столбы за мысом. Таких скал было много по Яне и Индигирке, но эти поражали сходством с людьми. «К чему бы?» — суеверно думал Михей. Услышав просьбу спутников, согласился пристать к берегу. За мысом, слегка закрывавшим от западных ветров, была ровная усыпанная дресвой поляна. С востока бухту прикрывала сопка с каменными столбами. Из тундровых озер в море падал небольшой звонкий ручей. С шуршанием и скрежетом нос коча вылез на берег.
— Гиблое место! — приглушенно прошипел Юша Селиверстов, опасливо оглядываясь по сторонам. Старший Стадухин не стал выспрашивать, что пугает морехода, спрыгнул на берег, всей грудью вдохнул манящий запах пресной воды, но направился к скалам.
Ручей оказался сладким, по мокрой полосе отлива торопливо бегали кулики, выклевывая корма, выброшенные морем, на ветру покачивались метелки травы, вдали, на дюнах, маячили пасущиеся дикие олени. Над озерами кружили утки. Краем глаза Михей отмечал, что здесь можно запастись кормами, но сам как очарованный ходил от одного каменного столба к другому. Вглядываясь в них, старался понять к добру или худу стоят на пути и в какую стародавнюю пору чьи-то руки подправляли их, пытаясь о чем-то предупредить путников. Если о том, что впереди опасности и тяготы, так, где их не было? Если это стражники, на границе иной, неведомой земли, так туда и следовала ватага с наказом якутского воеводы. Едва он перевел взгляд под ноги — увидел под береговым обрывом занесенную песком бахилину.
— Гляди-ка, что нашел? — подошел к нему Пашка Левонтьев с деревянной ложкой. Холеная борода его была мокрой и благоухала свежестью пресной воды. — Были они здесь!
— Дальше ушли! — завистливо блеснули глаза атамана. — Молодец, однако, Семейка Дежнев, не убоялся, — кивнул на каменный столб.
Пашка тоже окинул скалу мимолетным взглядом, равнодушно пожал плечами, самоуверенно изрек:
— Ересь!
— Как знать?! — Со вздохом тряхнул бородой атаман и расправил рыжеватые усы.
Как-то неожиданно быстро закончились светлые ночи, Камень и море стали накрывать редкие сумерки. Было тихо и холодно. К утру приморозило и вода в питьевой луже возле ручья покрылась льдом. Здесь ватага простояла день, запасаясь птицей, дровами и водой. На другой, с непонятной тяжестью под сердцем, атаман приказал продолжить путь. На выходе из бухты обернулся к столбам, ему показалось, что каменные личины хохочут. При слабом ветре, помогая парусу веслами, ватага удалялась от берега. Широкая полоса отмелей вынуждала уходить от суши дальше и дальше.
Селиверстов на корме бегал от борта к борту, журавлем перегибался к воде, требовал постоянных промеров. В трех верстах от берега под днищем было всего полтора аршина воды. В случае бури здесь невозможно было ни вытащиться на берег, ни найти хоть какой-нибудь закрытый от волн залив. В полуночной же стороне за плавучими льдами ясно виднелась черная полоска гор с белыми плешинами снега. Море было тихим, но желтое стылое солнце начинало кутаться в громоздившиеся на горизонте облака. Они наливались красным и розовым светом, а цвет воды становился серым и тусклым. Селиверстов замер, уловив какие-то перемены, настороженно вытянулся, как суслик у норы, и трубно заорал:
— Спускай парус! Разворачивай!
С ним не спорили, не пререкались. Гребцы одного борта наваливались по двое на весло. Коч развернулся, в это время ветер широкой полосой прогнал рябь с севера, а в следующий миг обрушился на судно с такой силой, что бедняцкая борода Юши Селиверстова залепила ему глаза. Анисим Мартемьянов двумя руками отмахивался от своей, будто пытался освободиться от накинутого на голову мешка. Под спущенным парусом, на веслах, коч пошел в обратную сторону, боясь быть выброшенным на мель.
— Навались, братцы! — ревел Селиверстов. — Не успеем — подавит!
До того как ветер пригнал лед, они обошли мель и приткнулись к берегу в той же бухте, из которой вышли. Коч мотало с борта на борт. Казаки и промышленные спешно высадились, нашли обкатанный плавник, подвели под днище мотавшегося судна, воротом вытянули его на сушу. Ветер выл среди дюн и камней голосами нечисти. Временами он стихал, крытые палубой носовую и кормовую жилухи и кожаный парус, натянутый между ними, резкими иглами сек холодный дождь. Буря стихла на третьи сутки к утру.
В августе ночи стали темными. Старший Стадухин до рассвета лежал на узких нарах с открытыми глазами, прислушивался, как успокоенно плещет о берег волна. Едва рассвело — поднялся, выбрался наверх. По бортам лежали надувы снега, корма обросла острыми застругами льда. Море выглядело мрачным и холодным, вдали, за мысом, на черном после отлива песке тугими кожаными кулями лежали моржи. Их было десятка полтора. Еще столько же плескались у берега.
— Охтеньки! — страстно пробубнил под ухо Бугор. Он следом за атаманом вылез из жилухи и кинулся обратно, будить товарищей.
Промышленные и казаки крадучись высмотрели моржей, стали собираться на промысел. Одни ушли берегом, другие уплыли на двух легких лодках. Загрохотали выстрелы, ранеными быками заревели морские звери.
— Почти весь август впереди! — обнадежился атаман, глядя на подступившие льды. Селиверстов озадаченно отмолчался. Глаза его съежились и запали под лоб, обычно напористое лицо было настороженным.
После выстрелов большая часть зверей ушла в море. Казаки и промышленные свежевали туши, пекли мясо на кострах, хвастали добытыми головами. Федька Ветошка выворотил из песка заморный клык, потом другой. Спутники перестали гоняться за подранками, начали лопатить отмель и вскоре перерыли ее всю. Старший Стадухин, неприязненно морщась и стараясь не смотреть на туши с отрезанными головами, вынужденно подошел к кострам промышленных. Обмывая окровавленные руки в морской воде, Тарх тихо посочувствовал брату:
— Не отпустило? Через войны и убийства прошел, а к крови не привык… Отец, Царствие Небесное, жаловался, не мог тебя заставить рубить кур и гусей.
— Война — другое дело! — стыдливо поморщился Михей, вернулся к кочу и опять пошел к каменным столбам, предчувствуя, что радость добытчиков обманчива, стрельбой и кровью они спугнули удачу, баловавшую неделю сряду: милость Божья иссякает, а водяной дедушка взбешен. Битые льдины покачивались у самого берега, к востоку не виделось ни одной проходной полыньи.
— Придется сходить сушей, поискать устье Погычи! — хмуро сказал спутникам атаман, не разделяя их веселья, вымученно взглянул на скромного Казанца. — Мне нельзя оставить коч. Станут добычу делить, передерутся… Ивашка! — окликнул Баранова. — Иди с писарем, поищите реку или добудьте языков. Вы у нас самые мирные.
Оба Ивана были людьми покладистыми, нежадными до добычи. Пока их товарищи добирали с отмели заморные кости, они опоясались саблями, заткнули за кушаки топоры, с пищалями на плечах пошли морским берегом на восход. Прибой выбросил на сушу еще одну тушу моржа. Как ни холодна была вода, она уже вздулась, пустив дух. Промышленные отсекли голову, разделывать же ее не стали, в ожидании ертаулов бродили по тундровым озерам, били гусей и уток.
Через трое суток на четвертые вернулись израненные ертаулы. Казанец был бледен от потери крови, Баранов, опираясь на пищаль, едва волок ноги. Они привели двух мужиков со связанными за спиной руками. Пленники были одеты в оленьи кухлянки и узкие нерпичьи штаны, какие носят чукчи, но не были чукчами, которых колымские казаки и промышленные хорошо знали. Баранов сдернул с плеча пленного плащ из моржовых кишок, бросил на землю и опустился, не имея сил двигаться. Виснувший на нем Казанец со стоном упал. Ертаулов подхватили под руки, обмыли, перевязали раны, увели на коч.
Пленных с почетом развязали и накормили. Съев за один присест пуд моржового жира и мяса, они повеселели, не показывая удивления, с любопытством разглядывали бородатых людей.
Баранов с Казанцем лежали на лучших местах в жилухе. Беглый казак болезненно щурился, претерпевая боль, рассказал, что они шли возле моря двое суток, реки не встретили, но увидели две юрты при большом оленьем стаде. Мужики не подпустили их к себе для разговора, сразу стали отбиваться. Пришлось идти на погром, силой брать пленных.
— Язык у них свой, — постанывая, заговорил Казанец. — Не похож на чукотский. Называют себя хор. В пути сказали, что чукчи — их главные враги и часто бывают в тех местах, куда они пригнали своих оленей с дальних рек. Ждали нападения от них, а пришли мы.
— На погроме взяли это! — Баранов вытянул из-за голяшки ичига нож. Он пошел по рукам казаков и промышленных людей.
— Мой! — вскрикнул Анисим Мартемьянов. — Афоньке Андрееву продал. Помню, рядились из-за этой вот щербины, — указал пальцем на незашлифованную поковку.
Ясырей стали расспрашивать знаками и словами, какие кто помнил после стычек и встреч с чукчами. Сыто срыгивая воздух, они охотно отвечали, что бородатых людей их родичи видят часто. Прежде они жили в этих местах, но когда сюда стали пригонять свои стада чукчи и юкагиры — ушли за море. Бывает, и сейчас приходят, между собой говорят непонятно. Сменят изодранную обувь и опять уйдут. А недавно они были выброшены на мель в больших деревянных лодках. Родичи их пограбили и убили.
— От них получили? — показал нож Михей.
Пленники невинно закивали.
— Неужто весь полк перебили? — Михей Стадухин опасливо перекрестился при общей тишине.
— Не может того быть! — зашумели спутники. — Без малого сотня хорошо вооруженных…
— В море всяко бывает! — задергал себя за бороду Селиверстов. — Могло кочи побить о камни, кто живой из студеной воды выбрался — голыми руками бери.
Мореходы узнали от пленников, что с восточной стороны больших рек нет, — указывали на юго-восток, дескать, там есть, — Нанандара, Чендон. Оттуда они и пришли.
— Погыча? — нетерпеливо спросил Михей.
— Пахача! — замахали руками в ту же сторону.
На расспросы о Великом Камне пленные показывали, что чукчи приходят сюда с Нанандары на больших байдарах. На тех реках много разных народов и они беспрестанно воюют между собой.
— Выходит, дальше надо плыть! — приглушенно пророкотал Селиверстов.
— Какие там три дня? При хорошем ветре верст с тысячу прошли за семь-то суток, а до реки, дай Бог, еще столько же… Если не больше!
Погас чувал. В жилухах, под парусом было жарко и душно от множества сгрудившихся тел. Казаки и промышленные спорили, ссылаясь на прежние слухи и домыслы. Два Ивана, Казанец и Баранов, терпеливо ждали, когда им дадут раскрыть рты. Старший Стадухин водил глазами с одного говорившего на другого, озадаченно чесал за ухом. Взгляд его остановился на Казанце. Он цикнул на разговорившихся спутников, призывая к тишине.
— Указывают, — постанывая, заговорил раненый, — что прямой путь далек, туда и обратно кочуют все лето, а берегом они не ходят из-за чукчей.
Кокоулин, выставив челюсть с бородой, показал пленникам заморный моржовый клык, стал выспрашивать знаками, есть ли такая кость там, откуда они пришли? Коряки замахали руками, показывая, что этого добра там много.
— Как много? — оживившись, набросились с расспросами казаки и промышленные, пытали знаками, словами и решили из ответов, что клыков на морских отмелях так много, что им можно загрузить десять судов размером с коч. Заморная кость там никому не нужна, поэтому ни во что не ценится.
В расспросах громче всех шумел Юша Селиверстов: он то ерзал и злился от непонимания, то тряс бородой, вскакивал и крутился возле пленных, как петух с отрубленной головой.
— Пахача, Чендон, Нанандара там? — тыкал пальцем на юг. — Кочи пограблены где? Говорят, там же! — перебивал споривших. — Не по мелководной же речке они волоклись? Надо плыть на восход?..
Коряки, услышав знакомые названия рек, опять замахали на юго-восток, знаками уверяли, что костей там много.
— Где-то рядом конец Камню! — громогласно вещал Селиверстов. — Или он поворачивает к полудню.
Михей Стадухин помалкивал, вызывая недовольство спутников. Его туманный взгляд блуждал по говорившим и спорившим, ум цепко отслеживал сказанное. Он остро чувствовал, как редеет запал, на котором уходили с Колымы и шли к восходу, гадал, что сломило людей: буря с отгонными льдами или известие о гибели колымских кочей? Ночью атаман долго не мог уснуть. Кутаясь в одеяло из волчьих шкур, поднялся на корму. Ярко светила луна, низкие рваные облака стелились над морем, оно было тихим, берег пустынным: ни моржей, ни шумных, крикливых гагар, ни гусей. Из черной воды беззвучно высовывались морды любопытных нерп и так же тихо исчезали. Сна не было. Михей сменил часового, мешавшего ему думать, и дождался рассвета. На востоке, на черте видимого берега и моря, разорвало тучи и открылось громадное темно-красное солнце, зарозовел плавучий лед, закрывший путь. С полуночной стороны ползли темные тучи, вскоре они плотно прилегли на воду и заморосил дождь. Перемежаясь со снегом, он шел всю неделю.
Глядя на грязно-желтую, раскисшую тундру в холодном тумане, слушая нестерпимые вопли гагар, которые то каркали, то хохотали человеческими голосами, стервенели лица мореходов, все злей и отчаянней споривших о реках, с которых прикочевали коряки. Одни заводили разговоры о том, что никакой Погычи нет, но за кормой оставлены лежбища моржей с заморным рыбьим зубом. Вместо того чтобы идти в никуда, надо вернуться и взять богатство из-под ног. Немногие хотели идти дальше, спасать людей Семейки Дежнева, если некоторые остались живыми.
Хлеб был съеден, рыба в море не ловилась, моржовое мясо и жир с удовольствием ели только пленные коряки, казаки и промышленные питались птицей. Не дожидаясь улучшения погоды, Михей собрал людей в круг, стал спрашивать каждого: ждать ли разводий и ветра, чтобы идти дальше, или возвращаться? Из расспросов понял, что заводчиком возвращения был Юша Селиверстов и его поддерживали многие. Стадухин стал путанно говорить, что не может того быть, чтобы коряки поголовно перебили почти сотню ушедших к Погыче. Надо идти на помощь и зимовать.
— Они же живут! — поддержал брата Тарх, указывая на коряков. — Почему мы не можем?
— Они к зиме откочуют… Не дураки оставаться в голодной тундре.
— Зимовать, так в заливе, открытом Мезенцем и Пустозером, — загалдели сторонники Селиверстова. — Сказывают, там голец жирней, чем в колымской протоке, птицы больше, чем на Колыме и Индигирке. Чтобы не поморить себя голодом, хотя бы туда вернуться…
— Оттуда при доброй погоде сушей добраться до Колымы легче, чем строить зимовье, — криво усмехаясь, осадил крикунов атаман. Усы его словно выцвели без солнца, свисли к подбородку и были в цвет бороды. — Или вперед, или назад, так решать надо!
— Все перед походом брали кабалу в надежде на богатые промыслы. Если жить зиму ради брюха и ждать другого лета — пропадем в долгах. А здесь — какой соболь? Лучше вернуться на известные места и по пути выбрать кость, — разумно рассуждал торговый человек Анисим Мартемьянов, взволнованно теребя пышную бороду.
— Выбрать, сколько нагрузим, — с задором задергался целовальник и мореход. — И плыть в Якутский, просить хорошие кочи, хлеба. От коряков явственно знаем, что моржей и заморной кости там много.
Не желая дальнейшего спора, атаман бросил шапку на одну сторону, целовальник — на другую. Рядом с атаманской упали шапки Тарха, Василия Бугра, Евсея Павлова и Юши Трофимова. Последний поперечно проворчал:
— Вдруг Бог даст еще семь дней разводий и попутного ветра?
— А как не даст? — вскрикнул Селиверстов, задирая на Трофимова острую бороду.
Анисим Мартемьянов, вложивший в поход все, что имел, покачал головой с потупившимися глазами и пробубнил, что покойникам прибыли не надобны.
— Как всегда! — смиряясь, выругался Бугор. — Не башкой думаем — брюхом!
Атаман перевел взгляд на раненых Ивана Казанца с Иваном Барановым, оставшихся в шапках.
— Да ну вас! — обиженно выругался беглый янский казак. — Говорил, на полдень от Колымы идти надо. Они туда же указывают, — кивнул на пленных.
Пашка Кокоулин, побуравив лицо старшего Стадухина неподвижным взглядом, подхватил топор и стал злобно рубить плавник, показывая, что говорить не желает.
— Ты же атаман, — тихо укорил брата Тарх. — Заставь! Принудь!
Михей горько рассмеялся:
— Зимой передерутся, перережутся от тоски и безделья. То я их не знаю!
— Что мир решил — то Богу угодно!
На небе висело красноватое в дымке солнце. Над бухтой кружили гусиные стаи, сбиваясь в тысячные косяки, на озерах пожелтевшей тундры сипло верещали утки. За кормой вытянутого на берег коча тускло розовела полоса нагнанного льда. С непонятным волнением в груди Стадухин сходил к каменным столбам. В скальные щели набился снег, теперь явно виделось, что носатые люди смеются. Он покачал головой, повздыхал, смиряясь с очередной неудачей. Вскоре задуло с востока — спутники, каменные столбы, море и сам Илья пророк были против похода к Погыче. Коч столкнули на воду, Селиверстов направил его в узкое разводье и вскоре льды за кормой сомкнулись, отрезав обратный путь. Весла громыхали по плавучим лепехам, судно обжимали источенные бока льдин, которые шевелились и скребли смоленые борта. Раздвигая их шестами, коч вывели на проходимую глубину. Селиверстов велел поднять парус. Судно двинулось в обратную сторону, на закат. Коряки со связанными ногами удивленно переглянулись, разом перекинулись за борт и, как дождевые черви в норы, ушли в черную воду. Атаман, глядя на сомкнувшиеся над ними льдины, печально обернулся к Бугру:
— Еще двое за нас с тобой! Только не смирились, как мы.
— Плохая примета возвращаться с полпути! — не ко времени возмутился Васька, кряхтя и напрягаясь на весле. Его никто не услышал.
Ветер менялся, гонял льды вдоль берега, то и дело приходилось просекаться. Оказалось, что по мелким заливам и устьям речек, мимо которых прошли с попутным ветром, много станов. Их жители, высмотрев терпящих бедствия, нападали, чтобы пограбить. Стадухин со своими людьми отбивался, ходил на погромы, находил в юртах моржовые кости, подбитые ими лыжи и нарты. Не раз его спутники встречали на коренном берегу и островах залитые водой землянки, укрепленные толстыми деревьями и костями. Они были не такими, как жилье здешних жителей, и, по их словам, оставались с давних времен от бородатых зверобоев, живших у моря. Воевать было некогда. Устав от тягот пути, нападений и погромов, Стадухин не аманатил, не требовал ясак, не говорил государева слова и не звал под царскую руку.
— Другим летом! — оправдывался перед спутниками.
Путь на восход от Колымы был пройден всего за семь дней, в обратную сторону, только до Чаунского залива, богатого рыбой и птицей, шли две недели. Здесь ватагу стали догонять холода: розовое от вечернего солнца разводье к утру покрывалось тонким льдом: зима уже откровенно запускала когти в недолгую полярную осень. Дальние вершины Великого Камня белели снегами. Кажется, за одну ночь пожелтели листья на прибрежном ивняке и березках, в другую — покрылись инеем. Каждый день был дорог. Спутники Стадухина отъелись, пополнили припас рыбы и воды в Чаунском заливе и заспешили к Колыме знакомым путем. Юша Селиверстов, удивляя мастерством, словно загодя чуял перемены ветра и вел судно в такие дни, когда другие мореходы обычно отстаивались.
Седьмого сентября, перед Рождеством Богородицы, едва ли не в последний день, когда еще можно было войти в дельту, потрепанное штормами и льдами судно приткнулось к берегу Стадухинской протоки. Запах прелого ивняка, торфа, винный дух гниющего плавника, вид курной избы, из волоковых окон которой шел дым, ненадолго сделали лица людей радостными и оживленными. Здесь стояли знакомый коч Федьки Катаева и еще три торговых судна. Федька по-хозяйски вышел из зимовья.
— Что, Михайла, дошел ли до Погычи? — спросил, приветливо улыбаясь, будто не помнил ни злых слов, сказанных в начале лета, ни отобранной у него муки.
Стадухин поприветствовал его, но не ответил: походя в суете сделать это было непросто, но спросил о том, чем мучился весь обратный путь:
— Из дежневского полка кто вернулся?
— Не слыхал, — насмешливо прокудахтал Федька. — Оголодали, поди, в море? — продолжал расспрашивать о походе. — А у меня хлеб, мед, постное масло… Поменяю на рыбий зуб и соболей!
Из зимовья вышли три торговых человека. Двое прибыли на Колыму в прошлом году, их лица Михей помнил смутно, дел с ними не имел, третьего вовсе не знал.
— Ржи можно купить, — ответил осторожно. — Проелись. Почем продашь?
— Девять рублей за пуд! — злорадно сверкнул глазами Федька.
— Что так дорого? Летом по пяти рядились. Теперь промышленные ушли, спрос малый. Зачем ее в зиму гноить?
— До весны продам! — уверенно заявил бывший казак.
Про муку, которую отобрали по кабале на купца Свешникова, он не упоминал, про насильственный обмен кочей помалкивал. Потрепанное судно было вытянуто на берег. Люди разбрелись. Закурилась баня. Моржовые клыки были перенесены в избу. Юша Селиверстов неотступно находился при них, пересчитывал и взвешивал. Кости оказалось меньше десяти пудов. После вычета десятины и вклада в Спасский монастырь, который, моля Бога о помощи, соборно обещали в трудные дни, было добыто по двенадцать гривенок на каждого — пуд муки по ярмарочнм ценам.
— Надо ржи купить на всех! — подступились к атаману спутники по походу. В их лицах уже не было радости, что Божьей милостью вернулись живы.
— Надо! — согласился он.
— Так скажи Юшке, — с вызовом глядя на него немигающими глазами, поторопил Пашка Кокоулин.
Стадухин в сопровождении беглых казаков вошел в зимовье. Целовальник долго спорил и отнекивался, говорил, что кость государева, другим продавать ее не велено, убеждал потерпеть ради воеводской награды, которая будет больше, чем выгода со здешнего торга.
— Воевода если и пришлет награду, то через два-три года, — зловредно прошипел Пашка Кокоулин. — А есть хочется сейчас.
— Вы же хотели у государя прощение выслужить! — напомнил беглым Селиверстов.
— В другом месте выслужим! — отрезал Кокоулин.
Они с Ветошкой, давно отколовшиеся и переметнувшиеся к колымскому приказному Власьеву, решили вернуться к нему на службы. По общему тебованию Юша вынужден был отдать паевую долю. Большей частью ее выкупил случившийся здесь торговый человек Михайла Баев, родственник и приказчик купца Александра Баева. То, что он недавно прибыл на Колыму, видно было по его восторженному лицу, какие бывают у приезжих, еще не остывших от слухов и домыслов. С довольным видом оглядев предложенные на мену клыки, он согласился дать муку дешевле других торговых людей. С ним Стадухин и ударил по рукам.
В зимовье было тесно и многолюдно. Торговые люди Анисим Костромин и Михайла Захаров быстро собрались и на своих кочах отправились к Нижнему острожку. Беглые казаки, озлобившиеся на Стадухиных из-за неудачного похода, ушли с ними. Народу убыло наполовину. И тут, будто в отместку за летний грабеж, из Федьки посыпались колымские новости, одна хуже другой. Еще 20 июня, перед выходом Стадухинского отряда казаки поймали на Анюе мужика с размалеванным лицом. «Писаные рожи» — ходынцы иногда бывали на нижнеколымских ярмарках, а этот сказал, что пришел с Анадыря через горы. Его сородичи издавна выбирались сюда известными им аргишами. Эта весть быстро облетела русские остроги и зимовья. Состоятельные торговцы Матвей Кашкин, Матвей Коткин, Анисим Костромин, Михей Захаров загорелись идти на Анадырь сухим путем. Чтобы избежать беззакония, они подали челобитную сыну боярскому Василию Власьеву с просьбой отпустить с ними служилого и объявили «прибыль государю» с новой реки — сорок соболей.
Приказный Василий Власьев в отсутствие Стадухина дал им отпускную грамоту и Семена Иванова Мотору, который был в должниках у Анисима Костромина. Те торговые люди с казаком и двумя десятками покрученников попытались пройти на Анадырь, но путь оказался дольше и трудней, чем думали. Съев припас, который несли на себе, они оголодали и вернулись. Стадухин был взбешен. Колымский приказный сын боярский Василий Власьев бесчинствовал, нарушая права, которыми наделил их якутский воевода. На Погычу и на все неведомые земли за Колымой мог отпускать людей только он, Михайла Стадухин, только он ведал сбором и добычей рыбьего зуба. Такое право ясно и понятно давала ему одному наказная память якутского воеводы.
Слухами от Федьки были смущены многие из отряда и потребовали от раненого Казанца писать царю жалобную челобитную. Громче всех, как водится, кричал и возмущался Юша Селиверстов. Под диктовку атамана Иван Казанец без подробностей написал про морской поход, что Селиверстов все знает про моржей, рыбий зуб и путь, а морское дело ему в обычай. Докладывая царю и воеводе, что в том походе участвовали беглые янские и якутские казаки и подали ему челобитные с просьбой служить на новой реке, Стадухин просил поставить их в прежние оклады, обвинял Втора Гаврилова, Василия Власьева, Семейку Мотору, торгового человека Анисима Костромина во всех предыдущих ведомых ему и предположительных грехах. Его спутники слушали написанное по-разному: одни с поддержкой, другие с унынием.
— В другой раз я с тобой не пойду! — объявил Иван Баранов, угрюмо помалкивавший при дележе кости.
Анисим Мартемьянов свой пай и взятый костью долг продал Михею Баеву, а тот передал Селиверстову, доверив продать в Якутском остроге по тамошней цене и привезти для него на Колыму ржи с ходовым товаром. Баев обещал дать подъем для зимнего похода на Погычу-Анадырь, или летнего на Чендон и Нанандару морем, как решит ватага. Двое промышленных, отчаявшись разбогатеть на вольных государевых окраинах, решили вернуться на Лену. Они остались в зимовье при Селиверстове ждать попутного судна, караулить кость с рухлядью.
Протока уже несла с верховий лепехи льдин и сало. Михей Стадухин, просмолив подсохший коткинский коч, во главе ватаги двинулся к Нижнеколымскому острогу, надеясь застать там Василия Власьева. Бес распалял его против зловредного сына боярского и подстрекал к мщению. Он был зол и на сослуживца Семейку Мотору, на товарищей, переметнувшихся к колымскому приказному, жаждал скандала, был готов к нему, но в остроге от колымской власти оказались только Семейка Мотора и Кирилл Коткин. Увидев Стадухина с ватажкой, целовальник не дал ему рта раскрыть: замахал руками и запричитал, что не желает лезть в дела служилых. Если казаки чем-то недовольны, пусть идут в Верхний острог к Василию Власьеву. Брат целовальника, Матвей Коткин, тоже был в остроге. С ватагой покрученников он собирался подниматься в верховья реки на стареньком стадухинском коче и был до слез рад, что может получить обратно свое крепкое, просторное судно в целости со всеми прежними снастями.
Михей Стадухин с товарищами, даже не облаяв целовальника, бросился искать Семейку Мотору. Тот заперся в чулане и через дверь оправдывался, что не мог ослушаться колымского приказного и слезных просьб промышленных людей, у которых в больших долгах. Торговый Анисим Костромин из-за спин покрученников бранил Михея, нес нелепицу и сыпал угрозами, на которые казак отвечать пренебрег. Получилось, что возвращению Стадухина был рад один только Матвей Коткин. Он и отвлек его от гнева, расхваливая возвращенный коч. Казак не сразу понял, о чем лопочет торговый человек, но кипевшая ярость стала утихать и начала тяготить многодневная усталость. Михей сел, тихим голосом велел собрать бывших в остроге людей. Это дело оказалось непростым и нескорым. Его товарищи и спутники по-хозяйски топили баню, устраивались на ночлег. Опасливо озираясь, из чулана вылез Мотора. Беглые казаки, вернувшиеся из морского похода, мирно беседовали и обменивались новостями с бывшими подельниками, переметнувшимися к Власьеву. Драк между ними не намечалось. Торговые люди Анисим Мартемьянов, Михайла Баев, Матвей Коткин, Матвей Кашкин, Михаил Захаров и Анисим Костромин бойко зазывали вольных людей к себе в покруту на зимние промыслы. Богатым из морского похода не вернулся никто, всем надо было как-то выживать. Михей с удивлением наблюдал острожную суету, не совсем понимая, что происходит. Оставленный товарищами, словно оглохший, тупо оглядывался, но теперь он был не один: за его спиной, как тень, маячил брат Тарх. Часть ходивших с ними людей рядилась в покруту к Матвею Коткину. Иван Баранов открестился от промыслов и к радости целовальника заявил, что останется служить при остроге без жалованья.
— Хоть голодать не буду! — бросил укоризненный взгляд на Михея.
— Вольному — воля! — пожал плечами Стадухин. — Хотя… Удивляюсь тебе.
— Я тебе тоже! — с непонятной неприязнью огрызнулся казак.
Никита Семенов, когда-то злобившийся на Солдата и Кокоулина-Заразу, мирно разговаривал с ними. Все бывшие в летних неудачных походах со Стадухиным и Моторой расспрашивали друг друга о пережитых трудностях. Михей был уверен, что зимой невозможно перевались через синевшие на востоке горы: он это уже испробовал. По здравому разумению, надо было зимовать на Колыме: если сухой путь и откроется, то с мартовским настом, а морем — не раньше июльских разводий. Ждать тех времен при остроге могли только служилые и некоторые из торговых людей. Наконец почти все люди, бывшие неподалеку от Нижнего, собрались. Михей Стадухин обратился к ним с государевым словом, предлагая не ссориться, а идти на Погычу-Анадырь вместе под его началом, поскольку у него одного воеводская наказная память и только он вправе быть приказным на Погыче-Анадыре. Государево слово было доброжелательно выслушано промышленными и беглыми казаками. Торговые люди Михаил Захаров и Матвей Кашкин зароптали, поскольку у них в должниках были многие из собравшихся.
— Не верю! Никому не верю! — непотребно ругался Анисим Костромин, не желая вдумываться в сказанное и читанное.
За Мотору яро вступился беглый казак Никита Семенов, который никак не походил на глупого и крикливого.
— В твоей наказной сказано идти до новой Погычи морем от устья Колымы для государева ясачного и поминочного сбора, для прииску и приводу под царскую высокую руку погыцких неясачных тамошних землиц иноземцев… В Семейкиной наказной колымский приказный велит ему идти посуху на реку Анадырь, путем, указанным ходынцем Ангаром…
— Покажи наказную! — потребовал Стадухин, глядя на Никиту с нетерпеливой досадой. — Разве неясно сказано, что все реки за Колымой — мои, что сбором рыбьего зуба могу ведать только я?
— Тебе покажи! — смелей заверещал Мотора, получив поддержку от некоторых казаков и торговых людей. — При всех изорвешь и отопрешься!
Промышленные и беглые настороженно водили носами от одного говорившего до другого, чесали затылки и бороды, стараясь понять, кто прав.
— Покажи! — стали требовать. — Пусть выборные прочитают.
Мотора молчал, Никита размахивал его отпускной грамотой, нес нелепицу, но читать не давал. Промышленные и беглые казаки выбрали от себя Казанца и Костромина. Первым читал торговый человек. Споткнувшись на одном месте, помычал и бойко залопотал дальше. Казанец это про себя отметил, читал то же самое внятно и неторопливо. Наконец, смущенно улыбнувшись, громко и ясно произнес то, что проглотил Костромин: «Отправляется посуху на ту же реку, что и Стадухин». Толпа возмущенно зарокотала, неприязненно поглядывая на Мотору и Костромина, вступивших в сговор.
— Пусть воевода спрашивает с Власьева, по праву или не по праву он дал Моторе отпускную на Анадырь! Она у него есть, путь он знает. — разумно рассуждал Никита Семенов. — Вдруг Анадырь и Погыча не одно? — указал на самое слабое место в наказной памяти Стадухина. — Столько лет прошло, как услышали про Погычу, а никто там не был!
— Столько лет никто не дошел до верховий Колымы, какой спрос с Погычи? — вскользь поддержал его Иван Баранов.
Бывшие враги из беглых ленских казаков Артемка Солдат и Пашка Кокоулин-Зараза одобрительно завыли. Почему Семейка Мотора не желает идти под его началом, Михею было понятно, но почему его поддерживают вчерашние товарищи — не понимал. Они не спорили, не драли глоток, но смущенно стояли за Мотору, а значит, против него, Стадухина. Добрая половина беглых ленских казаков оказалась на стороне Власьева. Всем остальным было все равно, под чьим началом идти на новые земли, лишь бы прийти. Не вмешивался в распрю и Пашка Левонтьев. Он стоял в стороне, поблескивая гладкой лысиной, внешним видом показывая, что служит за государево жалованье. Летом бес прельстил его бросить службу ради богатства, Бог — вразумил невезением! Поборов обиду, Михей все-таки подошел к Никите Семенову, спросил с насмешливой тоской в глазах:
— Ладно, крикуны с петушиными башками, но ты-то понимаешь, что правда за мной. Зачем лукавишь против Господа? — и обернулся к Левонтьеву за поддержкой. Тот глубоко вздохнул и возвел к потолку набожный взгляд.
Пристальные глаза Никиты засовестились, он опустил их и признался:
— Против правды, но не против Бога. Не любит Он тебя. Не будет с тобой удачи. Я это понял еще на Индигирке.
— А с Моторой?
— С ним, может быть, дойдем и что-то добудем! Так мне душа вещует.
— Душа не ангел! — обидчиво вздохнул Михей. — Через нее бес прельщает соблазнами, — и опять бросил скользящий взгляд на упорно помалкивавшего Пашку Левонтьева. — Ладно уж, поступай как знаешь. Не держу на тебя зла, но воеводе отпишу!
Промышленные, гулящие, беглые из разных ватаг и отрядов стали расходиться по местам промыслов. Спутники Михея Стадухина в большинстве своем пошли в покруту к Анисиму Мартемьянову и Михейке Баеву. Эти торговые, почитав наказную память якутского воеводы, не имели сомнений. Ватага Мартемьянова ушла на обедневшие промыслы Анюя, в прошлогоднее зимовье. Баев еще только присматривался к делам Колымы, уходить далеко от острога боялся. Среди беспокойного, вечно настороженного колымского сброда выделялись добродушным видом и спокойствием старые промышленные. Из них Михей с Тархом хорошо знали Ивана Ожегова и Ивана Карипанова. С тех пор как им удалось выбраться из Жиган, они прочно осели на притоке в среднем течении реки по левому берегу, построили просторное зимовье, завели жен, выкупленных из рабства у юкагиров, имели от них детей. Ни тот, ни другой о возвращении на Лену и Русь не помышляли, добывали рыбу и мясо на пропитание, промышляли соболей и лис, каждый год приезжали на ярмарку, покупали муку, крупы, самые необходимые вещи, излишки с упоением пропивали, наслаждаясь острожным многолюдьем, весельем и новостями. Оба по старой памяти подошли к Михею Стадухину, предложили испить чарку из их фляги. Пили они уже не крепкое вино, а брагу.
— Все воюешь? — стали расспрашивать. — Никак не угомонишься?
Не дожидаясь ответа, стали хвалиться:
— А мы со всеми в мире! Среди колымских и индигирских мужиков имеем кунаков, среди якутов тоже. Они меж собой спорят и к нам за судом идут. Зимовье на баб бросили — душа не болит. Никто не сожжет, друзья кругом. Лось нынче стал опасаться людей, но его много. Мясо, рыба не переводятся, муку, мед привозят! Если нам что нужно от власти, так попа — детишек окрестить, с женами венчаться. А в остальном — иди она, эта власть… Нужды в ней нет. И что бы раньше так не жить!
— Хорошо, что хорошо! — недоверчиво глядя на них, пробормотал Михей. — По вашему виду не скажешь, что разбогатели.
— Зачем нам богатство? Суета от него и грех, — в один голос заспорили с казаком Ивашки, радуясь, что удалось разговорить его. — Возвращались богатыми с Индигирки, знаем, что с того бывает! Пока гоняешься за богатством: мерзнешь, мучаешься, кровь проливаешь — веселей, чем богатому при остроге. Тьфу на него, на богатство! Лежи оно под ногами — не поднимем!
— Значит, ангелы у вас добрые! — расслабляясь душой рядом со счастливыми людьми, сочувственно улыбнулся Стадухин. — У меня другая судьба!
— И то правда! — согласились промышленные, мотая бородами, похмельно вздыхая.
С братом Тархом, тоже нежадным до богатства, Михей решил уйти в зимовье, к Юше Селиверстову. Василий Бугор, Евсейка Павлов и Юшка Трофимов пошли с ними, предполагая перезимовать на подножных кормах. У Бугра болела поясница, Трофимов с Евсейкой надеялись получить свое в новом походе.
Сами собой утихомирились страсти и распри, люди стали расходиться по бескрайней тайге, острог пустел, но тишина ничуть не радовала остававшихся в нем людей. О том, что за частоколом мало защитников, догадывались и немирные западные чукчи. Подходило время их набегов, беспокойных дозоров и караулов.
10. Скитальцы
В те весенние дни, когда Михей Стадухин с ватагой беглых ленских казаков еще плыл с Анюя к Нижнему острогу, осажденному чукчами, Федот Попов, перезимовав на другой стороне Великого Камня, готовился к плаванию в обратную сторону. Здесь, в казачьем зимовье на Тауе куда его выбросила буря, являлся ему во снах образ с лицом пропившегося пророка из ленского кабака: иногда глядел жалостливо, а то и отворачивал озлившийся взгляд. Сначала Федот думал, что эти видения — предвестники кончины и печально, но безбоязненно ждал ее. Потом пришло понимание, что отводимый взгляд блаженного предвещает новые испытания.
И вот потеплело, на открытых местах опали и растаяли снега, укрывавшие зимовье по самые крыши. В тени деревьев еще томились черные сугробы, на берегу моря громоздились блестящие льдины, сглаженные солнцем, прибоем и ветрами. Осенние шторма придвинули к берегу реки дюну, накидали в лагуну груды плавника, покрытого пористым соленым льдом. Но по соседству со льдами и сугробами в считанные дни пробилась зелень травы, густо поднялись синие, белые, красные, сиреневые и желтые цветы. В безветрие среди них деловито жужжали шмели, мирно порхали бабочки и вставали на крыло лютые полчища гнуса.
Казаки готовились к опасному времени, когда к нерестовой речке начнут выходить ламутские роды. Все понимали, что без нападений лето не пережить и зазывали Попова с его ватажкой промышлять поблизости другую зиму. Но Федот только качал побелевшей головой, щурил выстывшие глаза и сжимал губы. На другой стороне Носа его ждали племянник и покрученники, здесь он сам и его своеуженники променяли казакам на рухлядь почти весь товар.
Люди Попова запаслись пресной водой, вяленой рыбой и, молясь о встрече с ватагой, вышли в море с попутным ветром. При ярко-синем море и ясно-голубом небе было холодно, как в Студеном море, ночи сумеречны, но не темны. Коч под парусом долго шел в виду берега с белой, бегущей по нему волной прибоя. Желая сократить путь и поглядывая на компас, Федот стал править круче к полудню и вскоре потерял землю из виду. Со всех сторон были только медлительные, плавные и тягучие без ряби волны в цвет свинца. Коч скользил по ним, как по постному маслу, то зарываясь тупым носом в обгонявший накат, то задирая его.
Спутники Федота, тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели под мачтой, грызли вяленую рыбу и молились. Вскоре показались знакомые горы, сверкавшие снегами. Потом из сизой дымки стал вырисовываться берег. Он был белым от снега с черной полосой отлива-прилива, со льдинами, лежавшими на верхней границе. Промышленные пошли вдоль него к югу и вскоре узнали места, откуда были унесены ветром.
Погода баловала. Мореходы без мук обошли мыс, которым заканчивался Носище Великого Камня, и взяли курс на север. С гор дул западник, но он часто менялся на прижимной и попутный ветры. Чтобы не унесло в океан, Федот держал коч вблизи скалистого берега. Светлым временем суток шли своей силой и парусом, ночами, которые были здесь темней тауйских, укрывались в бухтах и заливах, обильных рыбой и птицей. Коч упорно продвигался к северу, а устья реки, где осталась большая часть ватаги, все не было.
— Уговаривались же с Емелей, чтобы крест поставил! — ворчал Федот.
— Ничего! — ободрялись промышленные. — Весь август впереди!
Поставить крест Емеля не забыл. С коча увидели его, вошли в устье реки, бечевой и шестами поднялись против течения и увидели другое судно, вытянутое на берег. Неподалеку от него стояла изба без частокола, над крышей курился дымок. Навстречу прибывшим вышел Емеля, в его огненной бороде сверкала белозубая улыбка.
— А мы-то ждем! — раскинул руки. — На гору лазили смотреть вас — не углядели… А Богдашка пропал вместе с пищалью. — Лицо племянника искривилось: глаза сузились в щелки, губастый рот сжался бубликом.
— Который? Анисимов? Искали?
— Кого там… До тундры ходили и соседи помогали, сказали, что коряки захватили в рабство.
Где-то выше по реке половина ватажки промышляла рыбу, а здесь сушили юколу, пекли икряной хлеб. Федот бегло осмотрел избу. Диких мужиков не было, но кроме двух привезенных женок, якутки и юкагирки, по- хозяйски суетившихся у каменки, увидел двух девок в долгополых камлайках и вышарканных бахилах.
— Обживаетесь? — указал в их сторону.
Якутка вместо приветствия схватила берестяную люльку с любопытно молчавшим младенцем, показала Федоту рыжего якутенка и рассмеялась.
Пока подходила баня, Емеля рассказывал о зимовке: о том, что со здешними народами не ссорились, жили в дружбе и приязни, соболей и лис добыли много. Не голодали, но хлеб съели, ходовой товар поменяли на рухлядь. Случилась только одна беда — Богдашка! И еще в ватаге назревал раздор: одни хотели промышлять следующую зиму, другие боялись, что люди Бессонки Астафьева соберут всю кость и вернутся на Колыму первыми.
— Мы тоже об этом думали! — поежился Федот. — Ладно, Богдашка — молод и глуп, но Пантелей Демидыч, старый мореход, не мог пропасть бесследно. — Перекрестился и вздохнул: — Хотя, по-всякому бывает!
Пока прибывшие парились в бане и отдыхали, посыльные собрали всех бывших вдали от зимовья. На умученных и озлобленных они не походили. Герасим Анкудинов со смехом обругал Федота, что долго выбирался к оговоренному месту и скандально заговорил о наболевшем:
— Вам что? У вас одни прибыли на уме, а нам, чтобы выслужить прощение, десятинной податью не отделаться. Подводить здешние народы под государеву руку ты не велел, Семейка Дежнев невесть где, своей отпускной грамоты у меня нет. Но если мы вернемся на Колыму с рыбьим зубом и с вестью, где его много, царь нас помилует и наградит!
Герасим уставился на Федота и злорадно улыбнулся, будто ждал от него поперечных слов, но Попов повел плечами, смахнул икринки с бороды.
— Может быть, и так! — Опечалился, что о пропаже коча и разметанном караване никто не вспоминает. — Давайте поговорим!
Промышленные и беглые казаки, выжидающе смотревшие то на него, то на Герасима, заспорили. Федот поморщился, поднял руку, прерывая гвалт:
— Давайте по кругу, как исстари принято. Только сперва скажу: вдруг на Анадыре живы наши спутники. Искать надо!
— Разве успели подняться в верховья, в тундре-то что им делать? — опять загалдели люди Емели и Герасима, видимо, зимой об этом много говорили. — Если потеряли кочи, то построили новые и плывут в обратную сторону… Кто первым вернется с вестью о заморной кости, тот и получит награду.
Как было принято со времен стародавних среди промышленных людей, сняв шапку и поклонившись товарищам, в черед, по кругу стали говорить все желавшие высказаться, другие терпеливо слушали их. Ничего нового и умного сказано не было. Все были уверены, что бессоновские промышленные с оставшимися у них анкудиновскими беглецами и люди Пенды где-то так же удачно промышляли, а к этому времени, скорей всего, загрузились костью и подались в обратную сторону. Надо их догонять, а не искать.
— Им шубки, нам облупки! — поддакивал Герасим каждому выступавшему.
Те, что были осторожней, считали, что до ледостава уже трудно дойти до Колымы: разве только при явной удаче. Не желая зимовать в тундре и среди мертвых камней, предлагали загрузиться костью и вернуться на здешние богатые промыслы, а весной по незамерзающему морю идти в обратную сторону до льдов и с первыми разводьями на Колыму.
До начала следующих промыслов оставалось больше трех месяцев. Голода в этих местах не боялись. По соображениям Федота, чем сидеть в зимовье и разбирать пустопорожние распри, стоило погулять по морю, поискать разметанные кочи и помирить спорщиков. Решившись на сборы, заметно повеселели даже противники похода за костью. Запас юколы и утятины был. Промышленные добыли сивуча, испекли мясо, наполнили все бочки водой, на двух кочах вышли из залива, обогнули мыс и подняли паруса. На удачу, ветер был попутным до вечера, когда солнце стало приседать за горы. Едва оно спряталось, пустив стрелы по морю, парус заполоскал, по волне пошла рябь — из падей задуло.
Суда вошли в залив и встали на якоря, пережидая посветлевшую ночь без звезд. Где-то фыркали сивучи, с пушечным грохотом бил хвостом по воде расшалившийся кит. «Доброе начало — полдела!» — переговаривались мореходы. Суда продвигались к северу медленней, чем были уносимы оттуда. Люди стали узнавать места, где приняли последний бой с чукчами, и поняли, что прошли мимо залива, в котором были разметаны бурей. Но возвращаться к Анадырю никто не желал — корга была рядом. Ее нашли. К радости ватаги заморная кость лежала в тех же кучах, как ее оставили. Темнели прошлогодние кострища с припасом брошенного плавника.
— Значит, промыслы на Анадыре хороши! — утешали спутники Федота, опасливо щурившего стылые глаза.
На этот раз были приняты все меры предосторожности. Люди с оружием обошли окрестности. По сырой пружинящей под ногами тундре, болотистым кочарникам и каменистым сопкам подкрались к селению из пяти больших землянок. Жилье было укреплено изнутри и снаружи плавником и китовыми костями. Опасаясь хитростей, промышленные и казаки осмотрели землянки. Они были оставлены не позже весны: зола в очагах вымокла, кожи подернулись плесенью. Неизвестно, надолго ли, но обжитое чукчами место было покинуто.
В засадных местах ватажные выставили караулы, и началась веселая работа. Заморная кость самого дорогого цвета лежала в песке и галечнике во много слоев. Люди рыли ямы в пояс и снова натыкались на старые кости, свозили их на кочи. Возвращение наметили на Семенов день, потом перенесли на Рождество Богородицы. Пропал гнус, к утру лужи покрывались льдом, появились забереги, застывала вода в лодках. Но днями над желтой тундрой висело желтое нежаркое солнце, голубая волна залива ласково гладила отмель, а на морской берег даже в тихую погоду накатывались хмурые валы прибоя. Федот поторапливал, пытался вразумить хотя бы своеуженников. Его не слушали, ругали, что он, приказчик и хозяин, свое получил, а им, особенно покрученникам, достанется только треть от ими же добытого. И случилось то, чего передовщик опасался. Задул ветер с моря, и залив в одну ночь, так забило льдом, что просечься сквозь него не было надежды.
— Как в мышеловке! — выругался Попов. Ближе к берегу на приливной волне колыхались мелкие лепешки, скребли обшивку кочей. Глядя на них, он приказал: — Выноси кость обратно. Будем вытягиваться на сухое.
— Может, на льдину? — виновато предложил Анкудинов. — Вдруг вынесет ветрами?
— А ниче, перезимуем! — посмеивался Емеля. В огненном шаре длинных пышных волос и бороды белозубо розовело обветренное, нечернеющее лицо.
— Девки говорят, кит выбросился, еще шевелится, — махнул рукой в полуденную сторону. Обуянные страстями промышленные и казаки, увидев лед до самого моря, наконец, поняли, в какой беде оказались. Кит давал надежду на уготованную помощь свыше.
Женщины с удобством устроились в чукотских землянках. Они жили дружно, собирали плавник, поддерживали огонь, каждый день ходили по берегу, собирали в полосе отлива морскую капусту, черные раковины моллюсков, рыбу. Тунгуска тоже родила младенца, трое были явно на сносях и с беззаботной радостью ожидали родов. Это никого из их мужей ни пугало, ни настораживало, но и большой радости у них не было.
— Если чукчи вернутся — за жилье придется драться! — оглянулся в сторону селения Осташка Кудрин. — Зарвались! Что не остановил? — упрекнул приказчика.
— То не вразумлял? — сплюнул под ноги Федот.
— Бес попутал! Не устояли! — покаянно признался Тимоха Мисин. — Мы — ладно! Своеуженники-то чего?
Ссоры не было, но в растерянных упреках спутников Федоту представился раздор, который может случиться зимой от голода и безделья. Кости пришлось вынести на берег и сложить кучами. Кочи вытянули за полосу отлива. Караулы удвоили. Свободные от них разделывали мясо кита, копали ямы в тундровом суглинке с кристаллами льда, складывали китовину и жир, пригодный для еды и обогрева. Перетаскали к землянкам даже кости, которые горели, если их мешать с жиром.
— Лучше лосятины! — хвалил мясо Емелька. — Мягче… Что не жить?
С ним соглашались женщины, любившие его больше своих сожителей. Они жевали с утра до ночи, смешивая мясо с жиром, одна за другой рожали писклявых младенцев, с гордым видом носили их в кожаных зыбках, присыпанных древесной трухой с сухим мхом и были вполне счастливы.
Холодало. Залив так и не очистился ото льда, но битые льдины смерзлись одним полем, при отливе-приливе скреблись и вспучивались, издавая то причудливые, то душераздирающие звуки. К кромке старого льда прирастал новый. В землянках возле очагов было жарко, а по углам поблескивал лед. К счастью, чукчи не потревожили их с наступлением зимы. Среди черных мрачных каменистых сопок и застывших болот завыли пурги, менявшие одна другую. Чтобы выжить, надо было беспрестанно отапливаться. За плавником ходили во всякую погоду и все дальше, вырубали его изо льда, откапывали из снега, волокли по припою.
После Рождества началось бедствие. Если женщины от мяса и жира толстели, то мужчины исхудали и стали плеваться кровью, у многих почернели десны. Уже не хлеб, а древесная заболонь снилась им ночами. Больные, способные ходить, выискивали среди камней промерзший тундровый ивняк, грызли его шатающимися зубами, наслаждаясь терпкой горечью коры.
В феврале из-за моря показался ослепительный краешек солнца, окрасил кровью лед залива и дальний разлив воды. Емеля умер, глядя на них с восторженной улыбкой. К тому времени его крупные красивые зубы наполовину выпали, но лицо застыло красивым: длинные волосы, перепутались с такой же длинной бородой и пламенели в солнечных лучах. За ним стали умирать другие, будто Емеля-весельчак сманивал их за собой. С непокорной руганью отошел и успокоился удалой казак Анкудинов. Долбить могилы в каменистой земле не было сил. Тела складывали в расселину и закидывали снегом.
На зависть больным и умиравшим, женщины и их младенцы выглядели вполне здоровыми. В погожие дни они ходили в тундру за куропатками. Возвращались с лицами, испачканными кровью, а свеженины приносили мало. В землянке, где лежали больные, стояла либо нестерпимая вонь, либо стужа. Женщины и промышленные, державшиеся на ногах, перешли в другую и в черед отапливали больных. Когда растаял снег, тела умерших приложили камнями и поставили крест из плавника. Споров не было, все живые молились и напряженно ждали, когда отойдут льды.
В мае из трещин между припойным льдом и ледовым полем вылезли нерпы. Федот пополз с пищалью, долго целился в маленькую голову зверя, который дальше всех отполз от трещины. Бил картечью. Едва отнесло дым — вскрикнул от радости. Зверь лежал в луже крови и дергал ластами. Свеженина поправила здоровье, дала сил дожить до чаячьих яиц, которые собирали с камней шапками, и увидеть, как июньские шторма ломают, ставят дыбом лед, закрывший выход из залива. Едва его изломало, обессиленные люди столкнули на воду кочи, стали грузить отборную кость. Федот внимательно смотрел на осадку, как только его большое, восьмисаженное судно просело на обычную глубину, приказал: «Все!»
— Из Нижнеколымского выходили с хлебом на четыре пальца глубже! — заспорил было Осташка Кудрин, его вяло поддержали покрученники. Федот упрямо замотал побелевшей головой.
Двое своеуженников умерли. Остальные по праву вкладчиков загрузили паевую кость в другой, малый коч. Мех тоже был поделен по паям. На судно Федота взошли десять, на другое — восемь человек: это были все пережившие зиму. Женщины, увидев сборы, похватали детей и разбежались, будто кто угрожал им неволей. Запас воды, мяса и жира был загружен. Вдали тягуче перекатывались черные морские волны. Едва отлив и ветер вытолкали из залива большую часть скрежещущих льдин, кочи двинулись за ними. С востока поднимался огромный вишневый круг солнца. Оторвавшись от бескрайних вод, он пожелтел и яичным желтком рассекся по небу. Помолившись на него, Федот велел поднять ровдужный парус, смазанный китовым жиром, обошел мыс и, щурясь на восход, взял курс прямо на солнце. Следом за ним двигался коч под началом своеуженника Осташки Кудрина.
Вскоре судам пришлось спустить паруса, а гребцам сесть за весла. Коч Осташки обошел большое судно Попова. Федот пристроился за его кормой. И так они шли весь день, продвигаясь от скалы к скале. Для отдыха пытались встать на якоря, но они волочились по дну, а усиливавшийся ветер уносил от берега в море. Держаться против него не было сил даже у Осташки на его малом судне. Ничего не оставалось, как опять отдаться воле Божьей. Призывая в помощь Николу Чудотворца, гребцы только удерживали суда носом к волнам, и снова их понесло в неведомое. Образ ленского пропойцы с холодным трезвым взглядом стоял перед Федотом почти в яви, забываясь, он в голос ругал его, накликавшего тяжкие судьбы.
Из свежего ветер превратился в сильный, потом сделалась буря. Парус накрепко привязали, из шестов соорудили плавучий якорь. Вдали то взлетал на гребне, то пропадал из виду коч Осташки и отдалялся, пока не слился со свинцовыми волнами. То усиливаясь, то стихая до умеренного, ветер не унимался неделю сряду. Вода была выпита. Спасала сырость: небо бусило, водяная пыль висела над морем, цепляясь за гребни волн, коч обгоняли низкие облака, их влага оседала на расстеленном парусе, ее приспособились собирать в бочонок.
Однажды за бортом показалась морская трава, потом еще: где-то поблизости была земля. По правому борту темными пятнами мелькнули острова, затем по курсу горбатой рыбьей спиной поднялись из вод и приблизились скалы, на которых лежали облака.
— Где мы? — бормотал Федот и носком сапога чертил по настилу карту побережья, как его помнил. — Острова или земля против Яны, Индигирки, Колымы. Потом острова с зубатыми людьми… Нос Необходимого Камня, свесившийся к полудню…
Кончилось вяленое мясо, запас дров сожгли вперемешку с китовым жиром, теперь мерзли и жевали сырые кожи.
— Новая Земля! — поддакнул передовщику Михейка Щербаков. Он был худ, как пугало, потерял половину зубов и с белой бородой походил на мосластого старика. Федот перевел взгляд на других спутников, с которыми делил невзгоды последних лет: впавшие щеки и губы, выбеленные солью бороды — они были не краше Михейки.
— Слыхал на Индигирке от связчика, Царствие Небесное, — Щербаков прочертил пальцами со лба на запавший живот да по задравшимся как вороновы крылья плечам, — будто выносило его к острову. И там по запаху дыма он вышел к земляным избам. Встретили бородатые люди огромного роста, обогрели, накормили, выслушали жалобы, дали отдохнуть и с неделю никуда не пускали, а после говорят по-русски: «Никому не сказывай, что встретил нас!»
— Про Новую Землю много слухов! — рассеянно пробормотал Федот, не поднимая глаз и продолжая что-то вычерчивать носком сапога. — Похоже, она тянется против Индигирки, Колымы и мыса, откуда Нос свесился на полдень.
— Земля или остров за островом? — высказал догадку один из сидевших на корме. — Китов много, подплывают близко, как бы шалостью не перевернули коч.
Федот скользнул по говорившему туманным взглядом, передал руль, присел на четвереньки и стал чертить по доскам пальцем.
— И куда нас выносит? — спросил ухмылявшееся видение. — Ведь ты на десяток лет вперед все знал, отчего молчишь? Помер, что ли?
— Ты с кем говоришь? — с дрожью в голосе просипел Щербаков. Худое лицо его вытянулось, губы подергиваались.
Федот поморщился, вымученно улыбнулся:
— Это так! Сам с собой!
Ветер стих, будто внял молитвам странников. Успокаивались волны, устало перекатываясь и подталкивая судно к земле. Из-за низких облаков тускло блеснуло солнце. Мореходы подняли парус: последний съестной припас. Стала быстрей приближаться суша. Федот пристально вглядывался в береговую линию, продолжал рассуждать вслух:
— Не пойму! Опять к Носу пришли или что?
— Там камни — выше! — неуверенно возразил Щербаков и заскоблил вислую седую бороду.
Перед ними расстилалась тундровая равнина с редкими черными скалами, подступавшими к воде.
— Может, выбросимся? — неуверенно зароптали гребцы.
— А там что? — устало спросил Федот. — Вдруг болотина, как между Яной и Омолоном.
— Утки, гуси…
Щербаков поплелся на нос судна мерить глубину, опустил шест и не достал дна. Можно было подойти ближе, ветер позволял двигаться вдоль берега под парусом.
— Обойти Нос в другой раз никак не могли, — вразнобой спорили промышленные, поглядывая на передовщика. — И земля была бы по другому борту, и шли бы на закат.
Федот молча хмурил лоб и продолжал что-то чертить. Вскоре показался залив. Вдали от берега виднелся низкорослый низинный лес. Впередсмотрящие указали на отмель. На ней виднелся русский коч полузанесенный песком и окатышем. Спутать его с каким-нибудь другим судном было невозможно.
— Эвон еще один!
Федот перевел глаза и перед намытой дюной увидел неясные очертания другого судна. Волны гнали его на ту же отмель, то и дело обнажая и скрывая черные камни в сотне шагов от суши. При свежем ветре отмель с рифами была ловушкой для судов. Надо было либо подставляться бортом к волне и силой выгребать против ветра, либо выбрасываться туда, где лежали чьи-то суда. Передовщик перекрестился, обернулся к спутникам. Они уже поняли, что иного выхода нет, и со страхом ждали чуда.
— Молитесь, братцы! — оскалив желтые зубы в белой бороде, оживился Федот. — Помилует Господь — выйдем целыми, дождемся противного ветра, поплывем в обратную сторону. Ну, а не помилует по грехам нашим… — Блеснул глазами и махнул рукой. — Парус привязать накрепко! — приказал скрежещущим голосом.
Лицо его напряглось, ожесточилось, пальцы крепче сжали румпель, он зловеще хохотнул, мотнул головой и прорычал со злым весельем:
— Вот ведь как забавляются Доля с Недолей! Расшалились стервы незрячие! Нет им угомону: то покажут богатства несметные, то костлявую морду, накось, мол, выкуси… А поглядим, как на этот раз! — прокричал, высматривая путь.
Не отыскав безопасного прохода между рифами, Федот хотел перескочить через них на поднимавшейся волне. Для этого надо было подойти к камням вовремя.
— Суши весла! — крикнул в их близости.
Не всеми была понята команда, сидя спинами к опасности, гребцы не видели того, что видел передовщик.
— Назад что есть мочи! — закричал он. — Теперь вперед изо всех сил! Господи, помилуй! Отче Никола, помогай нам!
— Отче наш! — сиплыми от натуги голосами запели гребцы, налегая на весла.
Под правым бортом хрястнуло, судно так тряхнуло, что двое сорвались с мест и улетели в воду. Весло от удара о камень выскочило из уключины, упало на спины людей, вцепившихся в лавки. Все это произошло в один миг, в другой под днищем зашуршал, заскрежетал окатыш. Волна отхлынула, еще раз ударив коч бортом о камни со стороны берега, затем бросила на мель и отошла, вздулась, набираясь новой, злой силы.
— На шесты! — закричал Федот. — Удерживай!
Гребцы уперлись веслами в мокрый песок и камни. Волна догнала, ударив разбитый борт, хлестнула щепками, обломками досок, приподняла полузатопленный коч и протолкнула к берегу на несколько саженей. Оставив половину людей на шестах, Федот приказал другим спасать добро. При отливной волне ватажные забегали взад-вперед, вынося на сушу мешки с рухлядью, порох и оружие. Наконец, коч удалось вытянуть на отмель. Он вздрагивал от волн, но уже не сползал с прибоем. К тому же начался отлив и захлестывало все реже. Продрогшие промышленные бросились собирать сухой плавник. Федот скинул мокрый кафтан, отжал, расстелил на камнях, вылил воду из сапог и пошел к увязшему в песке судну. Предчувствие не обмануло — это был коч, который вел Пантелей Демидович Пенда. Попов погладил ладонью обсохший борт, подумал: надо бы откопать, поискать остатки товара, тела погибших, перекрестился, поминая их как мертвых. Товарищи развели огонь и сушили одежду. Двое пошли искать пресную воду. Федот вернулся к костру, скинул рубаху, тоже стал сушиться. Тимоха Мисин вылез из жилухи с мокрым меховым одеялом в руках, со шлепком бросил его на песок. С трудом ворочая языком, Федот спросил:
— Как проломило?
— Днище и обшивка по борту — в щепки! — не глядя на переводщика, ответил тот.
— Залатаем! — Федот указал взглядом на другой коч. — Или сделаем один из двух.
— Ну и ладно! — неуверенно согласился Тимоха. — Хоть в том повезло.
Спасшиеся от потопления осмотрелись, куда были выброшены. При отливе обнажилась ручьями впадавшая в залив речка. «Пресной воды искать не надо», — обрадовался Федот, разглядывая равнинное русло, туманные вершины гор вдали. Двое промышленных, ушедших к реке, вдруг побежали обратно к костру, как не бегают, напившись воды.
— Люди! — закричали, размахивая руками.
Федот чертыхнулся, стал заряжать отсыревшую фузею. Его товарищи, накинув на себя сырую одежду, вошли по колено в воду и привычно заняли оборону под прикрытием разбитого коча. Из-за темневшей полоски прибрежного кустарника река вынесла большую, но легкую лодку с тремя гребцами. Коч и люди возле него были явно замечены ими. Суденышко приткнулось к берегу. Издали казалось, что гребцы покрыты бурками или епанчами. Приближались они открыто, спокойно и уверенно, не так, как крадутся или налетают враги, чтобы пограбить претерпевших бедствие. И чем ближе подходили при общем молчании спасшихся, тем очевидней становилось, что это русские люди. У одного белая борода в пояс, по плечам лежали волосы, как снег.
— Не Пенда ли? — вскрикнул Тимоха.
— Да это же наши!
Федот вышел на сухой окатыш и спустил пружину фузеи. Слезы текли по его обветренным щекам и висли в бороде.
— Опять свела судьба! — обнял старого друга. — Коч узнал и, грешным делом, помянул тебя как упокоившегося.
— Суечусь еще! — с шепелявинкой ответил Пантелей, и Федот заметил в его глазах блеск беспричинной младенческой радости.
Пенда сбросил епанчу из отмятой оленьей кожи, оставшись в ветхом кафтане. Его спутники, поповские покрученники Лука с Никитой, были одеты в причудливые парки из птичьих перьев.
— Кто жив-то? — Федот хлюпнул носом и смахнул слезы с глаз.
— А все живы!
— Милостив к вам Бог! — всхлипнул. — А нас после нынешней зимовки осталось меньше двух десятков из тридцати. Да и то… На другом коче, с Осташкой Кудриным, выжили нет ли, един Господь знает.
Пантелей и Никита с Лукой, опустив головы, наложили на грудь кресты.
— А мы целы! — весело повторил Пантелей.
— Даже с прибытком! — лукаво улыбнулся Лука Алимпиев. В его глазах тоже промелькнула радость, какая иногда высвечивается в глазах ветхих стариков, уже отстранившихся от суеты земной жизни. — Беглых с Лены сюда же выкинуло прежде нас. Вместе с вами набирается русское сельцо, можно закладывать церковь во имя Николы Чудотворца.
— Какие беглые? — удивленно переспросил Федот.
— А Ивашка Ретькин, пятидесятник с промышленными, — Пантелей присел на брошенный плащ. — Укрывались от бури во льдах, зимовали на острове, питались медвежатиной да тем, что море даст, наполовину перемерли. Выживших Бог привел сюда, потом нас, теперь вас прибавил. Село, и только! Говорю, пора храм рубить!.. Голодные? — участливо спохватился.
— Даже воды напиться не успели!
— Идите налегке. Опасаться некого. Лука, проводи! — приказал спутнику. — В лодке свежая рыба.
Пока люди Федота Попова отпивались пресной водой и отъедались рыбой, Пантелей обошел выбросившийся коч, осмотрел проломы бортов, сходил со спутниками вдоль берега, приволок толстые бревна из обкатанного плавника, указал, где копать яму для ворота. Вскоре проломленный коч был разгружен и вытянут на сухое.
— Мы не сделали этого сразу, вот и занесло, — указал на свой коч, наполовину зарытый в берег песком.
Выглянуло солнце, покатилось по небу, указывая время суток, зарозовели облака над морем, с отливом волны отступили и бренчали окатышем возле черных камней, о которые разбило судно. В лужах отливной полосы плескалась зазевавшаяся рыбешка, чайки с криками носились над обнажившимся дном, кормились, хватая добычу. Тлел костер, Пантелей рассказывал, как скитался в море, прежде чем выброситься в этом же месте.
— Как караулы выставлять? — сонно поклевывая носом, спросил Тимоха Мисин.
Федот вскинул глаза на Пантелея, спрашивая совета. Тот беззаботно рассмеялся:
— У нас врагов нет!
Его спутники заулыбались, вспомнив что-то свое.
— В прошлом году воевали с островными собачьими людьми! — пояснил старый промышленный. — Нынче мир.
— Чукчи или юкагиры? — поднял виснувшую голову Тимоха.
— Другие! — Пантелей рукавом смахнул с лица осевшую влагу. — Здешние на собаках не ездят, а собачьими зовутся, потому что говорят про себя, будто произошли от похотливой бабы, слюбившейся с кобелем. Тут тоже все меж собой воюют: род против рода, племя на племя, бывает, родственники и те проливают кровь. Видно, такими всех нас Господь сотворил, — со вздохом наложил на грудь крестное знамение. — А живем с людьми, похожими на чукчей. Они роднятся между собой, бывает, приплывают из-за моря одни к другим. Хорошо живем, лучше, чем с родней! На наших нападали собачьи люди, много мужчин убили. Мы постреляли поверх голов, разогнали. Больше враги не появляются…
— У ваших-то какой язык?
— Свой! Ни на чей не похожий! — ответил Пантелей, не желая рассуждать о догадках, откуда какие люди могли прийти.
— Нас на Каменном Носу тоже приняли как сынов Божьих, — вздохнул Михейка Щербаков. — Двух девок подарили. Соболей палками били возле лабаза, в зимовье давили, как мышей, — вспомнил с усталым умилением в глазах.
Спутники Пантелея Лука с Никитой похвастались:
— У нас женок всем хватает, можем и вас оженить. Они здесь верные, да послушные.
— А зачем плыли к нам? От кого узнали? — приподнявшись на локте, спросил Федот. — Сорока на хвосте принесла или как?
— Вороны накаркали! — без смеха ответил Пантелей. — Умные птицы, недаром их тунгусы, якуты и здешние инородцы уважают. Приходит родовой князец, мой тесть, и говорит, в орон кричит, будто к устью выбросило кита. Здесь кит — главная еда, жир запасают бочками, с ним рыбу, мясо, ягоды едят, как мы с хлебом. Вот и поплыли посмотреть!
— Хлеб-то у вашего народа есть? — вкрадчиво спросил Федот и почувствовал, как напряглись его спутники.
— Нет хлеба! — со вздохом, но беспечально ответил Пантелей. — Здесь и не слыхали про него. Зато рыбы всякой много, мяса, корни, травы… С голода не помрешь. Везде можно жить, где нет царского холопья, — беззлобно рассмеялся. — Если они и доберутся сюда, то не скоро. — Дадут нам пожить по-людски.
— Вон что? — Опустил голову Федот. — так вы возвращаться не хотите?
— А что там? — сладко зевнул и потянулся Лука.
— Колготня, ссоры, властолюбцы, кабаки, — с беззаботной улыбкой в уголках глаз поддержал его Пантелей и тихонько вздохнул. — Говорите, Камень обошли с двух сторон, больше искать нечего, надеяться не на что… На кой такая жизнь, если некуда идти? — Насмешливо, но пристально взглянул на Федота поверх костра, будто хотел влезть в душу. — Кому даст Бог вернуться и обмолвиться про нас, тому воеводских кнутов не миновать. А ради чего? Слава Богу, соболя тут нет, ни серебра, ни золота ни у кого не видели: тешиться богатством и властью не с чего.
— Тяжко стало жить с тех пор, как обошли Нос и встретили шелковниковских служилых. — признался Федот, понимая больше, чем сказал старый друг. — Душа не на месте — хоть ложись и помирай… — пожаловался со вздохом. — Много раз, молясь о спасении жизни, спрашивал себя, ради чего Бога искушаю? Не для богатства же! Хотя достатка все желают. Хотелось добыть славы, заслужить восхищение своего народа, может быть, любовь. Чтобы старые рассказывали, молодые помнили. Да вот ведь оказалось, всю-то жизнь бес манил ложными посулами.
— Понимаю! — при наступившей тишине прокашлялся Пантелей. — Сам грешен.
Потрескивали головешки костра, бусило сумеречное, опять затянутое облаками небо. Промышленные молчали, думая каждый о своем. Тишина напрягалась, начинала томить.
— Моржи здесь есть? — спросил Федот.
— Мало! — резко ответил Пантелей, метнув непрязненный взгляд на груду клыков. — И слава Богу! — Зевнул, прикрывая ладонью щербатый рот. — Сыт, свободен, чего еще надо? — Сказал и снова удивил Федота переменой души, которая теперь казалась раскрытой, тогда как на Колыме была заперта на семь замков.
— Долг на мне перед купцом Усовым, — вздохнул приказчик. — Теперь уже огромный. Без богатства лучше не возвращаться.
— Не возвращайся! На мне тоже кабала — брал десять целковых, теперь уже, наверное, больше тридцати.
— Мне бы столько! — сонно пробормотал Федот.
На другой день спасшиеся сложили пожитки и добытые меха в легкую просторную лодку, обшитую кожами, потянули ее бечевой против несильного течения реки. Тропа по берегу была нахожена и прорублена, люди ходили здесь часто. На ней встречались медвежьи следы, но они не смущали Пантелея со спутниками.
Селение стояло на берегу большого озера. Над его гладью клубился туман, вдали виднелись горы со снежными вершинами. У истока речки кособочилась просторная съезжая изба, к ней приткнулись несколько жилых, по-сибирски тесных и приземистых хижин с плоскими крышами, без частокола и нагородней. В стороне курились вытяжные дыры островерхих берестяных юрт. Дым очагов стелился по сырой земле, маня теплом, уютом, отдыхом. Федоту показалось вдруг, что он где-то возле Нижнеколымского острога. Заметив многих путников, шедших берегом, из юрт стали выглядывать люди. Бородатые русичи простоголовые, неопоясанные, безоружные побежали к приближавшимся. Артемка Федоров завопил, узнав Федота Попова. Обнимаясь, принимая приветствия от своих спасшихся покрученников, Федот с печалью приговаривал:
— Пантелей Демидыч куда как лучше меня сохранил своих людей.
— Нам не впервой! — блеснул молодеющими глазами старый промышленный.
Федот обернулся, проследив за его взглядом. На пороге избенки с плоской крышей и трубой, обмазанной глиной, стояла полуголая женка с выпяченной нижней губой. Ее черные волосы были не покрыты, но заплетены в две косы, как у замужней, на плечи наброшена отмятая кожа, колени обнажены. В Сибири инородки стыдились голых ног больше, чем обнаженной груди. Здесь, похоже, совсем не знали стыда наготы. Из чума вышел мужик, густо размалеванный красной и белой красками. Только зад да промежность были прикрыты шкурой мехом наружу.
— Писаные рожи? — спросил Федот Пантелея.
— Другие! — коротко бросил тот, не сводя ласковых глаз с женщины. — И язык свой, и нравы.
К прибывшим выходили женщины разного вида, по-разному одетые — одна в русской льняной рубахе ниже колен. Вблизи Федот рассмотрел, что венцы жилья положены без мха, как на амбарах, спросить отчего так не успел.
— Пришли! — Скинул шапку Пантелей и, обернувшись к гостям, объявил: — Становись где кому любо. Животы заноси в съезжую избу. Там тоже можно жить.
Федота он повел к себе. Избенка в четыре квадратных сажени оказалась очень чистой, не по-русски ярко украшенной изнутри. Во всем чувствовалась женская рука. Молодая женщина, которую Федот увидел первой, приветливо улыбнулась ему. Пантелей что-то ласково проурчал. Она, стоя спиной к гостю, скинула кожу и через голову надела мужскую рубаху. Рукава свесились до колен, женщина шаловливо протянула их Пантелею, чтобы закатал.
— Женка моя! — сказал он по-русски все с тем же светом в глазах, который удивил Федота при встрече. — В Сибири не нашел ни суженой, ни богоданной, да и ни к чему было, а тут зажил оседло, мирно… И счастливо.
Женка, лукаво поблескивая черными глазами, выставляла на стол угощения: распаренное холодное мясо, ягоду, рыбу. Вина в доме не было, не было и квасу. Она достала глиняный кувшин с морсом и села на лавку, наблюдая за мужчинами.
— Отведай здешней ягодки! — предложил Пантелей, наливая морс в чарки. — Баню истопят, попаритесь, а пока подкрепись… Эх! — повел замутневшими глазами. — Сам всю жизнь бродяжничал, и вы уже с сивыми бородами, а все никак не остепенитесь. Поживу, бывало, среди служилых и тягловых, и так тошно станет — думаю, уж лучше одному.
Осушив чарку, Федот вскинул на него глаза:
— Семейка Шелковников в казачьем чине поставил острожек с полуденной стороны Камня. Ивашка Москвитин, по слухам, на Амуре, с Хабаровым.
— Служат?! — Пантелей поставил пустую чарку и смахнул капли морса с белых усов. — Меняется мир, благочестивая старина попирается барством и холопством. Или это зачем-то нужно Господу, или пытает наш народ, как потомков Израиля в пустыне. Городовые казаки никогда казаками не были, а вольные еще в Смуту стали делиться на голь и домовитых: одни хотели свободы, другие — государева жалованья, чинов, власти.
— Ты знаешь, чего я искал! — буркнул Федот и взял с блюда кусок мяса. — Да вот изверился.
— Все мы что-то искали! — разбирая рыбью голову, снова переглянулся с женкой Пантелей. — Пора и пожить в радость!
— А здесь край земли известен?
— Этого никто не знает! — По взгляду Федота Пантелей догадался о недосказанном и громко рассмеялся:
— Я свое отслужил Господу, никуда больше идти не хочу. Дом, семья, дети, внуки — другого счастья нет! Это ж надо! — Со смешливым удивлением вскинул брови. — Один из сотен дожил до полной седины, терпел муки, и все для того, чтобы понять простое. Наверное, бес водил и потешался. Помнишь моего товарища, который осел в Туруханском монастыре?
— Как же? На твоей полюбовной девке женился.
— Был грех! — беззаботно кивнул Пантелей. — Так вот ему смолоду дал Бог понять то, на что я жизнь положил. Бывает и так… — А что? — Встрепенулся, молодея лицом. — Можно и здесь построить Ирию, жить по старине и справедливости.
Федот с недоверчивой блуждающей улыбкой в глазах всматривался в лицо пожилого человека и видел его молодым. Белая борода и волосы казались чужими, прилепленными.
— Жена, дети, дом, любовь близких — щедрый дар Божий, — согласился, смущенно опуская глаза. — Это хорошо понимаешь, когда прощаешься с жизнью. Только я уже старый, а ты еще старей!
— Какой же я старый? — рассмеялся Пантелей. — Ты, видать, еще не исполнил своего, не освободился от суетного. — Отложил рыбью голову, вытер руки. — Иные из моих чудом спасшихся тоже бесятся. Бывает, боюсь — рук бы на себя не наложили. Ивашку Ретькина жалко. Иной раз думаю: уж лучше бы ему вернуться к кнутам и воеводам. Нет воли без Духа! — Погладил растопыренной ладонью по столешнице. — В Мангазее девка у меня была, до сих пор снится!
— Помню! — улыбнулся Федот. — Красивая. Теперь уже старуха.
Мимолетная боль тенью мелькнула на расслабленном лице Пантелея, чуть нахмурившись, он сказал резче:
— Хороша была Маланья, да не про Ананью! Я не мог не исполнить своего, она не могла таскаться за мной по Сибири по сию пору.
Побездельничать Федоту со спутниками не удалось. В тот же день они развязали мешки, чтобы показать добытых соболей, лис, бобров, и увидели, что кожа плесневеет. Пришлось спешно мездрить, сушить и отминать рухлядь. Постепенно узнавал Федот, что еда доставалась здешним жителям не трудней, чем на Колыме, может быть, легче, они были приветливы и радовались, что в селении прибыло мужчин, способных защитить детей и женщин. Все жили мирно и дружно. Примечал Федот и то, что его разговоры о возвращении не прельщают многих спасшихся с ним спутников, которые имели паи рухляди и рыбьего зуба: они беззаботно раздаривали соболей, моржовую кость на наконечники и украшения. Попов не думал принуждать их к возвращению, не напоминал о крестном целовании, но стал беспокоиться, что не наберет гребцов, чтобы отправиться в обратную сторону.
— А сам не хочешь остаться? — осторожно спрашивал его Пантелей.
— Честной Крест целовал купцу Усову! — оправдался Федот. — Грех не вернуться, если могу отдать долг. Господь спросит!
— Понимаю! — согласился старый промышленный. — А как пытать станут, где был?
— Не скажу! Перед иконами, под пыткой солгу! Вот те крест, — размашисто перекрестился, преданно глядя в глаза старого друга.
— Еще юнцом удивлял ты меня умом и смекалкой… Если и скажешь: плыть далеко, рожь не вызревает, соболя нет. Песцы, так их на Индигирке и Колыме что комаров. Серебро не искал, не знаю. Дай Бог, чтобы не было, а кому там жить тошно, — кивнул на закат, — сюда бы бежали.
Вдруг он как-то разом осекся, помолчав, заговорил тише:
— Помню, рассказывал тебе, что жил у чуди, да не все… Знай, вдруг сгодится! В чудском доме привязался я к их старейшине: скажи да скажи, что и зачем на белом свете деется и для чего. Старец умный, красивый: белые волосы в пояс, борода до колен. И был мне сон. Видел кузню небесную. Великаны-богатыри, похожие на того старца, ковали огромную поделку. Грели ее в огне, били молотами так, что искры и оковалки летели по сторонам. Проснулся я в страхе, рассказал сон старцу и попросил растолковать. Он объяснил, что кузнецы — это Сварог с Семарглом, куют будущую Русь. Ей больно и тяжко, но нет другой судьбы, как терпеть, чтобы когда-нибудь подняться в былом величии. «А оковалки и искры, что отлетали от раскаленного железа?» — спрашиваю. «Это ты и мы, все беглецы, которые ушли! — отвечал он. — И вы нужны: вами русская земля возвращается, но не за вами правда».
— Так то же древние боги? — удивленно пожал плечами Федот.
— Я тогда так же спросил, а старейшина ответил: «Боги не старятся, они вечные — люди меняются, забывают былое, переменяют Богам имена! Придет век — вспомнят и про них, и про нас». Что слышал, то говорю, — шевельнул плечами Пантелей. — Наверное, правильней отдать долги. Бог решит, куда тебя: в поковку, в искру или оковалок.
Пуще прежнего разбередилась без того смятенная душа Федота, удивленно вглядываясь в старчески-детские глаза бывшего замкнутого таежного бродяги и лешего, он с сомнением заговорил:
— Помню, читал в Библии, как ветхозаветные старцы Абрам, Израиль и другие жили долго, насладились жизнью, благостно отошли к Господу и приложились к своим предкам. Мы многих похоронили в урмане, по островам и в море. Дело обычное, а все же хочется в конце оказаться на родине.
— «И скончался Абрам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему», — крестя грудь, поправил Федота Пантелей, и тот заметил, как в его открытом взгляде мелькнула давняя претерпевшаяся боль.
Бередить ему душу дальнейшими расспросами и разговорами Федот не стал. Раз и другой сплавлялся к морю с покрученниками, которым не давало покоя их богатство. Они осмотрели разбитые кочи и стали расшивать их. К ночи сидели у костра, глядели на набегавшие волны. Ветер дул с запада.
— Здесь у него свой порядок, как ни моли Илью с Николой, как ни задабривай водяного дедушку — не переменится, пока не придет срок, — щурясь на водную гладь, вздыхал беглый пятидесятник Ретькин. Он думал о возвращении задолго до Попова.
Его спутники квасили ягоды, делали винцо, которое помогало пережить пасмурные дни. Ретькину оно не помогало.
— Тошно! — жаловался. — Даст Бог выбраться, осяду где-нибудь на окраинных государевых службах и буду помалкивать про эти заморские земли.
Желавших вернуться среди бывших и прибывших набиралось всего четверо, Федот был пятым. Помня прежние бедствия пути, другие не рвались в обратную сторону.
— Маловато вас, — посмеивался над ними Пантелей.
— Боятся! — желчно поскрипывал зубами беглый пятидесятник и предрекал: — Дай срок — отъедятся, отоспятся, станут думать, закручинятся и побегут назад, хоть бы под кнуты: нам, русичам, не дал Господь жить ради брюха!
Как догадывался Федот, сам Ретькин кнутов уже не страшился. Но спасшиеся с ним люди обжились, имели жен, чернявых детишек, которых растили в русском духе, языке и вере. Ретькин же кипел непонятной Попову злостью на свое чудесное спасение, на землю и народ, среди которого жил.
— Чем они тебе не угодили? — спрашивал.
— Подговаривают воевать обидчиков, отбирать лодки, парки из птичьих шкур, ракушки, которыми украшаются. — Чужое все! И что тут ни делай, все делаешь для чужих, не для своих! — Оглядывая окрестности, пытался что-то объяснить. — Надо стать таким, как они, или уходить, иначе кручина высушит кости.
Оправдывая себя долгами, Федот его не понимал.
— Неужели по воеводским кнутам соскучился? — пытал, нехорошо посмеиваясь. — Бывает, чем жестче хозяин, тем больше его любят. Воевода Головин таких чуял и приближал.
— Что ты знаешь про Головина? — горячился Ретькин. — Ты только зиму с ним прожил. Пушкин пришел творить правду, всех страдальцев от Головина приблизил, а тех, кто верно служил, стал обирать и притеснять. Хорошо было при атамане Галкине, он никого не принуждал ломать перед ним шапку, но война была непрестанной. С Головиным и жить, и служить было тошно, но он сделал мир, какого до него не было, а все хотели, и больше всех якуты. Кто из казаков сидит при городах и острогах доброй волей? — спросил и сам же ответил: — Новоприборные, старые да увечные. Но там, — указал глазами на закат, — знаешь, зачем живешь, не то что здесь. — Сердито поглядел на Попова: своими вопросами тот распалял его, вынуждая в чем-то оправдываться.
Разобрав кочи, подельники Федота решили, что из них можно сделать один небольшой, но добрый и крепкий.
— Лето здесь сырое, зато зима мягче, чем на Лене, — присев на камни, рассуждал беглый пятидесятник. — Раньше Семенова дня ветер не переменится.
— Так это же совсем скоро! — встрепенулся Попов. — Надо торопиться. — Подумав, поправился: — Еще раз зимовать на Носу — не привели Господи! Да и не угрести впятером. Сманить бы еще столько же.
— Можно коч сделать сейчас, а уйти ближе к весне, только не опоздать, не утерять попутный ветер! — с тоскливым лицом проворчал Ретькин. — К тому времени обязательно кто-то на кого-то обидится, со всеми перессорится и будет пополнение. Зимовали на острове, знаем!
И снова они чертили на песке Новую Землю, высмотренную издалека, многочисленные острова, кто как их помнил. И всегда выходило по-разному. Федот выменял на бисер хорошо отмятую кожу, замесил сажу на клею, вываренном из рыбьих костей, начертил карту Великого Камня от Байкала до обойденного Носа с Индигиркой, Колымой, Мотыклеей, Ахотью-Охотой, с помощью Пантелея Пенды нарисовал берега Большой Земли, на которую был выброшен.
11. Обманная река
Зима, запершая кочи Федота Попова в заливе с песчаной отмелью, богатой заморными клыками, на Колыме переживалась со смутами и раздорами. Втянутые в них отпускной грамотой Василия Власьева, данной Семену Моторе, беглые казаки, торговые и промышленные люди боялись быть опоздавшими или обманутыми. Стадухин грозил не пустить власьевских самовольщиков с Колымы на Погычу — Нанандару — Анадырь, обещал взять в поход всех гулящих и промышленных людей подъемом Михайлы Баева и Анисима Мартемьянова. Его противники держали в напряжении своих должников, не давая им расходиться и спокойно промышлять, и все беспрестанно следили друг за другом.
Самого Михея Стадухина всю зиму мучили нехорошие предчувствия. На Николу студеного — волчьего свата в полусне-полуяви он сел на нарах. В зимовье были темень и холод, в очаге едва розовели подернувшиеся серым пеплом угли. Михей поболтал пятками, нащупал мешки с костью и с удивлением вспомнил, что давно уж нет под ним пестуна, а снился он не к добру. Казак перекрестился, сунул ноги в ичиги, подбросил щепок на угли. Прикрыв ладонью смятую бороду, раздул огонь. Закашлял, закряхтел Бугор, переворачиваясь с боку на бок, высунул нос из-под одеяла, спросил шепотом:
— Что опять?
— Или острог в осаде, или заговор против меня! — так же шепотом ответил Стадухин.
— Немудрено! — зевнул Бугор, открыв лицо со спутавшимися в ком волосами и бородой, сквозь них разгоравшимся огоньком очага отсвечивали глаза. — Сон видел, или что? — спросил громче и с хрустом в костях потянулся, выползая из-под одеяла.
С треском вспыхнула растопка, ярко высветив озабоченное лицо старшего Стадухина. Бугор, свесившись с нар, накидал на нее дров. Услышав голоса, в дверь зимовья протиснулся обледеневший, покрытый куржаком Юша Селиверстов. Он стоял в карауле с полуночи.
— Чую нутром! — ответил Бугру старший Стадухин.
— Если брат чует — надо идти! — пробормотал Тарх и тоже сел на нарах. — Уж я-то знаю!
— По такой стуже, в Нижний? — припав к огню, заскулил Юша необычным для него тонким голосом и, как червь из норы, стал выкарабкиваться из обледеневшего тулупа.
На Крещение Господне в зимовье приволоклись двое обмороженных гулящих и донесли, что ватаги торговых людей Костромина и Захарова сходятся в Нижнеколымский острог. С братом, с верными беглыми казаками Василием Бугром и Евсейкой Павловым, с охочими Юшкой Трофимовым, Иваном Казанцем, едва оправившимся от ран, атаман Стадухин ушел по льду протоки к Нижнему острогу. Под лыжами и полозьями нарт шелестел сухой сыпучий снег, хрустела затянувшаяся наледь, от стужи с грохотом трескался лед реки. Намаявшись волчьим сном ночлегов в снежных ямах, шестеро зимовейщиков с двумя возвращавшимися гулящими людьми подходили к острогу. В виду его они стали двигаться крадучись, высматривая, нет ли осады: возле тына было натоптано больше обычного, ворота распахнуты.
— Не пойму! — пробубнил Бугор в обмерзшую бороду, — то ли никого не боятся, то ли сдурели.
— Кабы чукчи острог не обобрали! — прогнусавил Казанец и шумно прочистил хлюпавший нос.
Караульные на тыне все-таки были, насторожившиеся путники их высмотрели, и те заметили приближавшихся людей, не узнать своих не могли, но вместо того чтобы встретить, забегали, стали запирать ворота. А когда те подошли — со скрипом и клацаньем заложились изнутри брусом.
— Кто на приказе? — заколотил пятками в калитку старший Стадухин. — От кого запираетесь, дети блядины? Я этот острог строил, я его от чукчей спасал, разнесу в щепки — не будет мне суда!
Бугор с Евсейкой и Юшкой, Тарх с Иваном, задрав головы, поносно орали на острожников. Михей выхватил из-за кушака топор, стал рубить самое слабое место, где с другой стороны, изнутри, калитка держалась на им же сделанных из сучьев навесах. Тарх топтался за спиной брата, шмыгал носом, с опаской поглядывал на тын. Бугор с Евсейкой тоже схватились за топоры. Полетела щепа. В четверть часа они бы вырубили места навесов и выломали проход. Над частоколом показалась покрытая лисьей шапкой голова Семена Моторы, рядом с ним мельтешили испуганные лица гулящих людей.
— Ты кого ворота-то ломаешь? — попытался строжиться Семен. — Сам потом делать будешь.
— Уже делал, когда ты с Митькой Зыряном меня ругал. Раком всех поставлю! — пригрозил, отступая от калитки и задирая голову. Он знал наверняка, что стрелять служилые и промышленные не посмеют.
Калитку открыли. Путники ворвались, злословя собравшихся в остроге людей. Народа здесь было слишком много для зимы. Среди них десяток переметнувшихся к Власьеву беглых ленских казаков.
— Вон что! — заскрипел зубами Михей Стадухин. — Тайком от меня на Погычу собрались!
— Не на Погычу, на Анадырь! — воротя нос, пробубнил Мотора. — У меня отпускная от приказного!
— Знаю, кто Ваське зад вылизал и выманил ее! — злословил Бугор, не меньше Стадухина возмущенный, что его не пускали в острог. — Знаем, кто тебя, дурака, долгами опутал и принудил ее взять.
— Сколько говорить — Анадырь и Погыча одно и то же! — потрясая топором, кричал Михей. — Сколько мою наказную читать? Всем новым землям за Колымой, всему ясаку и моржовому промыслу — я и только я начальный человек. Ваське дальше Колымы совать нос не велено!
Восемь пришлых по-хозяйски затопили баню. Им с радостью помогали зимовавшие при остроге гулящие люди.
— Где Ивашка Баранов? — остывая, стал выспрашивать Михей.
— Ушел в Верхний, — охотно делились новостями. — В Среднем на приказе Мишка Коновал. Михайла Баев неподалеку, на бедных ухожьях. Чукчей боится.
— Сходите к нему, скажите, что я пришел! — приказал Михей, взглядом и тоном подавая надежду, что не забудет услуги.
Никита Семенов, Артемка Солдат, Пашка Кокоулин, Федотка Ветошка как-то незаметно разошлись по службам. При Моторе остался один Пинега. Так же постепенно уходили промышленные люди. На Срететье Стадухин проснулся со странным ощущением, что вокруг пустота. Кинулся искать Мотору, его не было, не было никого из казаков, кроме Пинеги, и гулящих, которым обещал подъем Михайла Баев.
— Ушел! — в ярости закричал Стадухин. Кинулся искать воротника, и того не было. — Сговорились! — Недоумевал.
Солнце еще только розовило морозную хмарь востока. Снег был сыпуч, без наста, по нему далеко не уйти. Ватага Моторы могла двигаться только по обдутому руслу реки. Старший Стадухин разослал посыльных к промысловым ватагам Баева и Мартемьянова. Бросив промыслы, баевские люди вернулись в острог. Среди них на четверть были ходившие в морской поход. Баев не меньше Стадухина обеспокоился ранним бегством Моторы, с которым по власьевской отпускной грамоте ушли девять беглых казаков и три десятка промышленных.
Стадухин никому не отказывал. Баев одалживал под кабалу всех желавших идти на Погычу-Анадырь. Февраль был суров, но уже попахивало весной. Двадцать пятого, на святого Тарасия-кумошника, Михей Стадухин сдал в казну старый казенный коч со снастями, повел своих беглых казаков, три десятка промышленных и гулящих людей по Моториному следу. Шли они медленно, перетаскивая челноком груз Михайлы Баева. В пути к ним примкнула ватага своеуженников передовщика Василия Вилюя. Его люди внимательно следили за распрей Стадухина и Моторы, по уговору были предупреждены о выходе.
Анисим Мартемьянов со своими покрученниками зимовал в верховьях Анюя на обедневших, но знакомых ухожьях. Весь бывший у него припас муки он вложил в морской поход, а в нынешнюю зиму покупал ее у Баева и Федьки Катаева. Кабальных грамот у Анисима скопилось изрядно, а нераспроданного товара оставалось мало. Богатому одними грамотами, ему ничего не оставалось, как идти следом за должниками и ждать, когда они разбогатеют. К этому времени его ватажка закончила промыслы, он сам, обветшавший и обносившийся, сидел в зимовье, мездрил и вымораживал рухлядь, отбирал по цвету и увязывал в сорока соболей. Угощать прибывшую стадухинскую ватагу было нечем. Как водится, к весне промышленные кормились одной лосятиной.
Студеными мартовскими утренниками вдыхаемый воздух еще покалывал грудь, но с крыши зимовья уже свисали сосульки, стаей поднимались гревшиеся возле дымов птицы. По-весеннему ярко светило солнце, проседали сугробы на склонах и к утру покрывались настом. С дальнего мартемьяновского стана вернулись последние покрученники, увидев в зимовье Михея Стадухина, обступили его, стали рассказывать, что видели Семейку Мотору с беглыми казаками, торговыми и промышленными людьми. Они прошли к верховьям Анюя. Получалось, что ватага Моторы, снаряженная купцами Матвеем Коткиным, Матвеем Кашкиным, Анисимом Костроминым и Михеем Захаровым, намеренно обошла мартемьяновское зимовье. Промышленные думали, эта новость приведет Стадухина в ярость, но он злорадно посмеялся и сказал:
— Надо поторапливаться!
Как водится со времен стародавних, по окончании промыслов в зимовье начался дележ добычи. Она оказалась незавидной: соболь был выбит или ушел в другие кормовые места. Но свисавшие с крыши сосульки, весенние проталины и ясное солнце обнадеживали людей будущей удачей. В зимовье жглись прежние долговые записи, писались новые. Баев дешево скупал остатки неклейменой рухляди и дорого продавал муку. Как и у Мартемьянова, кабальные грамоты стали большей частью его богатства, которую оставить без надзора он не мог, хотел или нет, но вынужден был идти в неведомый край за должниками. Торг на промыслах оправдывал себя: чем везти товар морем из Якутского острога на Нижнеколымскую ярмарку, надежней было скупать его у мореходов и продавать на местах. По разумению Баева, Анисим Костромин и Михайла Захаров это хорошо поняли.
Баев отправил в Нижний острог своего доверенного со скупленными мехами, чтобы облегчить себя, раздал в долг все, в чем была нужда спутников. Но и оставшийся товар занимал полдюжины нарт. Стадухинский отряд, вдвое многолюдней моторинского, пошел в верховья Анюя по его следу. Студеными утренниками наст был крепок как камень. К полудню под ярким, слепящим солнцем он раскисал, лыжи и полозья нарт начинали облипать и вязнуть. К этому времени стадухинский караван выходил на брошенный стан Моторы с остатками дров, лапника, с его кострищами, что изрядно облегчало приготовления к ночлегу. Среди ночи обильней текла вода по промерзшей до дна речке. Пока по берегам был лес, на станах жгли жаркие костры и с опаской поглядывали на белый вздымавшийся кряж. Несмотря на помощь должников, Анисим Мартемьянов отставал, охал, часто садился, чтобы отдышаться. Кончились лиственнички, ватага вскарабкалась на продувное нагорье. Почти исчезла карликовая береза, вокруг были бескрайние снега и голые камни, между которыми свистел ветер. В виду последней полоски леса старший Стадухин призвал к себе Василия Бугра с передовщиком промышленной ватажки Василием Вилюем.
— Мотора недалеко, — указал на свежий след. — Знаете, что идет посулами и обманом торговых людей. Ладно промышленные, — кивнул Вилюю, — но и наши с тобой товарищи, — перевел глаза на Бугра, — все понимают, но идут с ним. Догоните налегке, вразумите казаков и промышленных: не ведают, что творят!
Идти налегке, с оружием и одеялом, да еще по застывшим следам было много легче, чем волочь нарты. Оба Василия с радостью согласились догнать отряд Моторы, попытаться убедить товарищей по побегу и промыслам стать заодно, по воеводской наказной памяти. Они ушли при редеющем сумраке ночи, когда в снежных ямах, укрывавших от ветра, раздувались малые костерки, а наверху, за гружеными нартами, поземка наметала усы свежих сугробов.
Стан был разбит среди пологих предгорных увалов с редкими, низкорослыми, скрученными ветрами, жалостливо торчавшими из снега лиственницами. Дальше простиралось продуваемое со всех сторон плоскогорье, которое никто из русских людей не проходил. Поднялось солнце, стало слепить белизной снега, сколько хватало глаз долина вспучивалась одинаковыми с виду круглыми сопками, среди которых легко затеряться. Из сугробов торчали и безжизненно мотались на ветру редкие сухие стебли трав и обглоданные ветки стелющейся тундровой березки. Слезящиеся глаза радовали только каменные столбы — кекуры, время от времени встречавшиеся на пути. Старший Стадухин невольно поворачивал к ним, останавливался, вглядывался в очертания камня с синими и красноватыми полосами. Столбы глядели на него дремотно и безмолвно, а он смутно чувствовал их душу, гадал по очертаниям, что предвещают: слишком уж много путаницы было в нынешнем походе, растянувшемся на несколько лет, и конца ему не виделось. Давно знавшие Стадухина люди не переставали удивляться его лености: он словно дремал с мстительной усмешкой на выстывшим лице, не спешил, не погонял спутников, позволяя отдыхать сколько хочется, и оживал лишь тогда, когда надо было копать снег, строить снежные юрты, добывая скудный запас дров, попутно его собирали по всему дневному переходу, везли за собой к ночлегу. Отдых на плоскогорье изматывал людей больше, чем сам путь. Редких березовых веток, отрытых под снегом, хватало на костерки размером с кулак, над которыми навешивали котлы и таяли воду. Одежду и обувь сушили на себе, прижимались друг к другу, делясь теплом тел. Вернулись Бугор с Вилюем, опустив головы, сказали, что убедить к возвращению не удалось никого: все в долгах у тамошних торговых. Михей снисходительно хмыкнул, уязвленно мотнул головой.
— Помыкают Моторой, бездельники! Он покладистый, терпит. Ну да ладно! Мы свое слово сказали, мы их позвали, нет на нас греха!
Он поднялся раньше всех, никого не будил, не бранил дремавших караульных: раздул костерок, глядел на огонь то печально, как обреченный на казнь, то мстительно. Яма с обтаявшими иглами снежных стен наполнилась благодатным теплом, от которого брат Тарх и спутники впали в глубокий благодатный сон. Стоило впередиидущим заплутать, Стадухин объявлял дневку, его люди отдыхали, пока соперники, намучавшись, не находили правильный путь. Из-за этого стадухинский отряд шел много быстрей и мог догнать Мотору за день, но не делал этого. И все же плоскогорье оказалось не таким безжизненным, каким выглядело издали, след людей Моторы то и дело пересекали олени, копытившие мхи. Из борозд выскакивали зайцы, прижав уши, уносились прочь. Из-под ног время от времени свечой взлетали куропатки, шумно трепыхались, стряхивая с пера снег, с испуганными криками уносились по ветру.
След Моторы вывел стадухинскую ватагу к двум чумам, обложенным снежными кирпичами. Из вытяжных отверстий курились редкие дымки, на шестах болтали камусами шкуры с розовой мездрой. Сколько хватало глаз, вокруг была равнина, ископыченная стадами оленей. Рогатые быки задирали головы, всматриваясь в приближавшихся людей, возле чумов обреченно толклись полдюжины мужиков с закинутыми на плечо скрученными в кольца арканами. Вблизи казакам и промышленным стали видны их лица, покрытые красками. Юкагиры-ходынцы, оглядываясь, как загнанные в западню волки, угрюмо отвечали Казанцу, что Мотора взял у них мясо трех оленей, двух вожей и ясак — соболий половик, шитый из спинок.
— Вот и попался! — пробормотал атаман в обмерзшую бороду. В глубине обметанных инеем ресниц жестко сверкнули синие глаза. Он приказал своим людям идти быстрей, впрягся с братом в первые нарты, стал отрываться от каравана и поторапливать отстающих.
— Живут же люди и здесь! — пуская клубы пара из обмерзшей бороды, кряхтел Тарх. — А сперва казалось, ничего тут нет кроме смерти.
— Приспособились! — пробурчал Михей, понимая, что брат все еще корит спутников по морскому походу.
Старшему было не до воспоминаний: в его груди разворачивалась прежняя пружина, не дававшая покоя ни ему, ни людям. Он снова покрикивал на товарищей, принуждая идти, пока те не увязали в раскисших снегах. Судя по следам, отряд Моторы был где-то рядом. Истекала обычная весенняя ночь. Небо без звезд было затянуто низкими тучами. Два беглых ленских десятника — Ивашка Пуляев и Шаламка Иванов — бодрствовали в карауле, не давая другу другу уснуть, прислушивались к звукам, скупо поддерживали огонь стеблями полярной березки. Его хватало, чтобы обогреть накрытую одеялом яму. Окрестности просматривались на полсотни шагов. Помня строгий наказ Стадухина, они время от времени высовывались, чтобы осмотреться. Послышалось хорканье оленей. Шаламка поднялся в пояс, надеясь добыть свеженины, но вместо выстрела охнул и сполз в яму со стрелами, торчавшими из груди и живота. Ивашка вскочил с пищалью, не целясь, пальнул картечью в ту сторону, откуда они прилетели. Кажется, в тот же миг загрохотали ружья из других ям. В ночи послышался топот удалявшихся оленей. Михей, скинув треух, бился лбом в затвердевший край ямы, стонал.
— Не почуял людей! Поленился встать, думал, стадо!
Осмотрели раненого Шаламку, вынули стрелы, остановили кровь. Раны были опасными, особенно — в живот.
— Ходынцы отмстили за Моторин грабеж! — хрипел Стадухин в бессильной ярости. В ночи никто не заметил, какого племени были нападавшие, но все понимали, что гнаться за ними — дело безнадежное и опасное. Скорей всего, они этого ждут.
Атаман крикнул, призывая к себе десяток казаков и проворных промышленных людей, велел налегке с оружием бежать за ним, остальным отдыхать. Ертаулы догнали отряд Моторы до полудня. Семен с людьми стоял на месте, будто поджидал. Выпятив верхнюю губу с сосульками, свисавшими с усов, бодливо уставился на приближавшегося сослуживца. А тот, щуря вспухшие веки, подступал пружинисто и неторопливо, как кот к загнанной в угол мыши.
— По какому праву берешь ясак с моих людей? — спросил. — Еще раз показать наказную якутского воеводы? — Надвинулся на казака так, что тот отступил. — Только я могу ясачить к восходу от Колымы!
— Наложили мы на твою наказную! — крикнул торговый Анисим Костромин, заслоняя Мотору. — Здесь не Лена!
За его спиной с тоскливым видом встал Никита Семенов. Стадухин, не глядя на служилых, хлестнул ладонью в меховой рукавице, Костромин повалился на снег, завыл. Никто из его должников не кинулся на помощь. Михея и Семейку плотным кольцом обступили беглые ленские казаки, загалдели, но дотронуться до Стадухина не смели. Ивашка Пуляев стал отталкивать их от атамана.
— Из-за вас ходынцы Шаламку подстрелили! Зачем грабили?
Казаки смущенно отступили: Стадухин был с наказом воеводы и при исполнении, они же, хоть и в милости у колымского приказного Власьева, но беглые. Промышленные люди отнеслись к ссоре атаманов как к обыденному делу, их не касавшемуся, отдыхали и мирно переговаривались между собой. После атаманской ссоры и брани Мотора отдал взятый половик. Утром его ватага ушла дальше с вожами, которых Михей отбирать не стал и по насту повернул в обратную сторону. Ждавшие его люди быстро сожгли все, что можно было собрать в окрестностях, ради дров переволоклись на три версты по следу, откопали новые ямы в снегу. Уйти дальше они не могли из-за большого груза, оставленного ертаулами. Ко всему прежнему прибавилась нарта с раненым Шаламкой. Стадухин дал всем отоспаться, сопернику оторваться — и двинулся по его следам, едва различимым на крепком, как камень, вылизанном ветрами снегу.
Все выше поднималось солнце, бескрайняя белизна выжигала глаза. Кроме ног и нарт впередиидущих, не за что было зацепиться взгляду. Один за другим путники надевали кожаные очки с тонкими прорезями. К полудню снег обдавал лица жаром, мок, раскисал, прилипал к лыжам, полозьям нарт. Ватажные подошли к ямам стана Моторы, стихли обыденные сопение, шуршание, скрип полозьев. Старший Стадухин сорвал очки, огляделся. При монотонной ходьбе с защищенными глазами ни сам атаман, ни его люди не заметили, что равнина переменилась. Оставленный стан Моторы находился возле горы. На ее оттаявших обнажившихся осыпях, гремели камнями снежные бараны. Впереди была узкая долина. Из ее белого полотна торчали верхушки мелких лиственниц и сухой осоки. Еще дальше, радуя обожженные глаза, чернели каменные вороха осыпей.
— Подналяжем, братцы! — весело крикнул атаман и зажал губы рукой. Покрытые коростами, они закровоточили, засолонили язык. — Там дров много. Переночуем у костров, погреемся! — пробубнил сквозь пальцы.
— Сам виноват! — укорил его Бугор, сочувственно глядя на окровянившуюся бороду атамана. — Как перед девками, разглаживал усы на ветру, а они должны закрывать губы.
Путники разобрали бечевы нарт, проваливаясь в снег, поволокли их к редколесью и большими трудами подошли к осыпям. Среди камней на разные голоса подвывал ветер. Привалы на плоскогорье были такой же мукой, как ночлеги, а тут, укрывшись, можно было даже подремать под солнцем. На восточной стороне, после полудня появились лужицы талой воды. Последними приволоклись к стану нарты Анисима Мартемьянова. Сам торговый и не оправившийся от прошлогодних ран Казанец, скорей, висли на них, чем толкали. Юшка Трофимов с угрюмым Евсейкой, хрипя, подтянули их к большому костру. Люди жались к огню, благостно впитывали в себя его жар.
На другой день Стадухин догнал ватагу Моторы в узкой пади с каменными осыпями, редкими зарослями низкорослых лиственниц и стелющихся берез. Взятые у ходынцев проводники указывали на лед и другие верные приметы верховий Анадыря. На стане пылали костры. Спутники Моторы отдыхали, сушились, кое-кто уже готовился к ночлегу. Беглые казаки Никита Семенов, Федот Ветошка, Артемий Солдат, Павел Кокоулин Зараза, Иван Лютко, Дмитрий Васильев, Кирилл Проклов, к злобе промышленных людей, играли в карты и бездельничали возле особого костра. Бугор бросил бечеву нарт, заковылял к ним, присел, вытянув ладони к огню. Товарищи по побегу раздвинулись, уступая место. Михей Стадухин, шедший с братом впереди всех, высмотрел Мотору среди промышленных людей, подошел, схватил его за грудки, закричал в лицо:
— Долго будешь юлить, лис старый? С убитым Зырянкой на Колыме заводил смуту и двоевластие, опять за свое?
Семейка стал вырываться, отбиваясь кулаками.
— Сдурел, что ли? — закричал.
— Нельзя двум отрядам одну землю под государя подводить! — Стадухин так тряхнул соперника, что с Моторы слетела лисья шапка.
Беглые казаки вскочили с мест, оставив у огня Бугра, подбежали к Семену. Вокруг него и Михея по-песьи крутился крикливый купец Костромин, орал, грозил, но, помня трепку, дотронуться до Стадухина не смел. Промышленные люди равнодушно глядели на драку и не вмешивались в спор атаманов. Подскочивших ему на помощь казаков тут же оттеснили стадухинские промышленные и служилые: Пуляев, Евсеейка с двумя Гришками. Михей скрутил Моторе руки, связал кушаком, толкнул к Евсейке. Вилюй с промышленными не дал казакам отбить их атамана. Старший Стадухин с начальственным видом подошел к костру, возле которого грелся Бугор, и под одобрительные возгласы моторинских промышленных забрал карты. Казаки вяло заспорили, что здесь воеводской власти нет, но в драку не полезли. Один только Анисим Костромин все бранился и грозил, пока против него не возмутились свои же промышленные люди. В моторинском стане был явный разлад. Все понимали, что Власьева могут сменить уже нынешним летом, а Стадухин с его наказной памятью от воеводы отбрешется. Поругавшись для порядка, смирились и беглые казаки. Мотора сидел связанным у стадухинского костра, обидчиво сопел. Михей ощупал его парку, отобрал отпускную грамоту колымского приказного, из-за которой был раздор. Мотора стал слезно лаять старого сослуживца. Анисим Костромин опять подскочил к атаманскому костру.
— Ты ее нам давал? — заорал в новом приступе ярости.
— Докричишься! — сдержанно пригрозил Стадухин. — Пограблю стервеца.
Промышленные люди Моторы, услышав угрозу, со смехом поддержали атамана:
— Только прикажи! Передавим кровососов! — И тут же стали задирать торгового человека, желая отобрать у него свои кабальные записи. Притих и Анисим.
К стадухинскому костру подошел Артем Солдат, присел на корточки, посопел, мирно попросил вернуть карты. Михей молча отдал их. Утром к нему подошли проводники Моторы, взятые от ходынцев, через Казанца растолковали, что на этой реке живут их враги — анаулы, с низовий им одним возвращаться опасно. Михей одарил их бисером Баева и отпустил. Временный мир между отрядами был установлен. Большинству людей было безразлично, под чьим началом идти на Погычу-Анадырь, лишь бы прийти. Зааманаченный Семейка Мотора поартачился день-другой и дал письменное согласие идти на новую землю и подводить ее под государя под началом Стадухина. Михей освободил его. Сотня русских людей шла по неведомой земле, везла раненого товарища, отдаляясь от труднопроходимого кряжа, разделявшего их с обжитой Колымой. Среди тундровых мхов и скал стали появлялись островки березняка, узкие полосы тонкого лиственничника. Объединившийся отряд спешил в среднее течение, к сплошному лесу, но его все не было, встречались только колки. Рассвет наступал едва ли не после полуночи, когда крепчал наст, Стадухин всех будил и первым впрягался в нарту. В долине реки уже встречался высокий строевой лес. Казаки и промышленные отдыхали у жарких костров, иногда находили следы соболя, но тайги, к которой стремились, все не было.
На вешнего Егория светлая безветренная ночь припорошила падь свежим снегом, а денек выдался ясный. На голубое безоблачное небо выкатилось желтое солнце, вершок выпавшего снега стал оседать и таять, обнажая наст и лед, нарты и лыжи легко скользили по ним. Стадухины шли впереди. Вдруг Михей остановился, уловив запах дыма, сорвал с лица очки и увидел избу с наметенным под крышу сугробом с одной стороны, с поленницей дров — с другой. В следующий миг он бросил бечеву нарты, размахивая руками, побежал вперед. Казаки и промышленные останавливались, кто-то, глазам не веря, крестил грудь, кто-то бормотал молитву от чарования, но никто не сомневался, что впереди русское зимовье. Из-под крыши из волоковых дыр мирно курился дым, возле избы не было ни следов, ни караула.
— Крепко спят, однако, — остановился рядом с Тархом Бугор, шмыгнул облупившимся носом, завистливо просипел: — Никого не боятся. Вечный мир у них или что ли?
Будто услышав его, дверь медленно растворилась, собрав в складку выпавший ночью снег. Наружу вышли двое, одетые в овчинные кафтаны. Михей Стадухин застонал и сел на лед. Его спутники, быстро оправившись от удивления, двинулись к зимовью. Тарх, перекинул через плечо бечеву, елозя ичигами, один подтянул к брату нарту. Бугор, на ходу громко и одышливо рассуждал:
— Встречал в неведомых местах русских людей! Живут порознь родами, молятся колесу, говорят, будто поселились в незапамятные времена… Брешут! Беглые от власти. Ясак дают, поминки, чтобы не мешали жить по-своему.
Михей дернулся на его голос, но не ободрился, снова уставился на избу, на выходивших из нее мужчин и женщин. Мимо проскрипели полозьями нарты с товаром, стихали скрип и скрежет обоза. Михей видел, как зимовейщики побежали к его людям, заметил неподалеку от избы остов строящегося коча. Едва ли не на четвереньках, последним из обоза Тарх подтянул к брату их общую нарту, развернул боком, переводя дыхание, смахнул со взмокшей головы шапку, тоже сел. Старший Стадухин дал ему отдышаться, поднялся с угрюмым видом, поднял бечеву. Тарх оттер рукавом вспотевший лоб. Вдвоем они одиноко прошли по льду реки мимо зимовья на взгорке и толпившихся возле него людей. Тарх ничего не говорил брату, только оглядывался, Михей, не поднимая головы, глядел под ноги. Они остановились сотней шагов ниже, вытянули нарту к невырубленному береговому ивняку. Старший, все так же молча, стал ломать сухостойные ветки для костра. Тарх спросил:
— Схожу узнаю, кто такие?
Михей его не услышал. Младший вздохнул, виновато пожал плечами и зашагал в обратную сторону к избе, к толпившимся людям. Среди зимовейщиков, весело отвечавших на вопросы прибывших, он узнал Дежнева, которого поминал в молитвах как погибшего. Семен радостно раскинул руки:
— Пинежцев прибыло!
— Слава Те, Господи! — троекратно ликуясь с ним, пробормотал Тарх. — Коряки сказывали, будто убит…
— Иные погибли, — дрогнули губы в рыжеватой бороде казака, болезненно прищурились, замутились глаза. Семен тряхнул головой, отмахиваясь от пережитого, веселея, добавил: — А мы, восемь ртов, выжили с Божьей помощью!
Прибывшие и зимовавшие все еще окликали друг друга, переговаривались, спрашивали, торопливо рассказывали о себе. Мотора с разобиженным лицом размахивал руками, что-то втолковывал Дежневу. Михей Стадухин, окаменев изнутри, бездумно и одиноко обустраивал стан, готовясь к ночлегу: наломал сухостоя, сложил шалашиком ветки в укрытом от ветра месте, распушил ножом пару черенков, почиркал над огнивом кремнем по обушку топора, раздул огонек. Когда густо задымила растопка, коснувшись его лица теплом, по щекам казака потекли безмолвные слезы. Ради этого дня он отдал все, даже любимую жену, но лукавый посмеялся и обвел вокруг пальца.
— Семейка Дежнев спасся! — подошел к брату и присел рядом с ним Тарх.
— Говорит, коч без паруса носило неволей по морю, потом выкинуло на камни, двадцать пять ртов выбрались на сушу, десять недель шли к устью Анадыря через горы. Зимовали тяжко, мерли от голода. Половина ушла искать аргиши и пропала. Зимовейщики думали, будто они привели нас сухим путем.
Не отрывая глаз от огня, Михей слушал брата. Тарху показалось, что золотившиеся прежде усы поблекли, стали в один цвет с бородой, а она посивела, по опухшему обветренному лицу брата глубже легли морщины. Сипло вдыхая и выдыхая потеплевший воздух, к ним подошел Бугор, выволок наполовину разгруженную нарту, развернул против костра, сел, скрипнув копыльями, заговорил, переводя дух:
— Говорят, ниже по реке леса еще меньше, а дальше тальник, и то нешироко, к морю тундра да камень. Соболя не промышляли! Больше нашего мук претерпели и ничего не добыли, кроме диких баб. Здесь все, кто живы из девяти-то десятков. И все за посулы бесовские. Вот тебе, Васенька, Юрьев день! Привела дурная башка стары ноги прямо в Ирию: ложись и помирай от радости!
Стадухин помотал бородой, помолчав, просипел:
— Ладно, мы с тобой грешные! Это сколько же добрых людей обманулось? Старый Пенда, Федот Попов, Афоня Андреев…
— Семейка говорит, был на одном коче с Бессонкой. Выбросились на берег, волоклись к Анадырю, здесь разделились. Еще сказал, Пенду и Федота буря унесла, Гераська Анкудинов о камни разбился…
— А ведь нынче Егорий, казачий праздник! — поднял выстывшие глаза Стадухин. — Веселиться надо!.. Что же это Господь попустил в такой день? К чему бы?
— Давно не прямит казакам! Прогневили! — буркнул в сивую бороду Бугор и размашисто перекрестился.
Подходили промышленные из стадухинского и моторинского отрядов, разводили костры. Дальше идти было некуда, а дежневская избенка тесна. Не было Семена Моторы с Никитой Семеновым, не было торговых людей: Костромина, Захарова, Мартемьянова, Баева. Не шел на поклон к анадырскому приказному Михею Стадухину земляк и товарищ по прежним походам Семейка Дежнев. Уже на другой день прибывшие стали обустраиваться: грели огнем, долбили мерзлую землю, расходились по притокам рубить лес. Как-то незаметно со стана исчезли беглые казаки, шедшие с Моторой. Вскоре Михей увидел, что они поставили балаган возле дежневского зимовья. Неприязни между промышленными двух ватаг не было. Все стояли заодно, помогали друг другу советами и силой. На Анадыре поднималось государево ясачное зимовье. Только двое земляков не были рады встрече: Стадухин не шел к Дежневу, чтобы предъявить наказную память воеводы, потому что все о ней знали. Семейка, издали узнав бывшего атамана, не шел к нему, а когда Семен Мотора, с которым он всегда был в приязненных отношениях, сказал про отпускную грамоту Власьева, изъявил готовность признать Мотору анадырским приказным.
Елфим Меркурьев, покрученник Бессона Астафьева, поливал слезами кафтан торгового человека Анисима Мартемьянова, у которого в прежние годы был в покруте и числился в кабальных должниках.
— Ни соболя, ни кормового зверя, ни белой рыбы, — жаловался, хлюпая носом. — Зимовали на заморной красной. Уж ее-то здесь всем хватит. А белую поймать не можем — неводные сети драные, чинить нечем.
— Привез неводного прядева! — утешал должника Анисим.
Тот опять жаловался, что по соборному решению был приставлен к остаткам товаров Афонии Андреева и Бессона Астафьева.
— А где тот товар? — всхлипывал. — В те поры подьячих не было, записывать, что кому отдано, — некогда и некому.
Анисиму нечем было обнадежить должника. Он и сам был в долгах, хотя имел долговые записи с половины отряда. Многие из пришедших промышленных людей не хотели верить, что соболя здесь нет. Слышали, что Дежнев взял с анаулов девять спинок, где-то же их добыли? Анисим Мартемьянов с тоской поглядывал на покрытую льдом реку, с содроганием думал, что с тех пор, как уплыл с Лены, его судьба плелась руками незрячей девки Недоли. Уединившись от многоголосой толпы, Елфим рассказывал ему о своих скитаниях, о том, как были выброшены волнами на сушу.
— Что не зимовали, не промышляли в тех местах? — любопытствовал торговый, разглаживая длинную, густую, как бараний лавтак, бороду.
— По берегу тундра, леса нет, — уклончиво отвечал Елфим: — Остатки коча сожгли и пошли на полночь, через горы, прямиком к Анадырю. После узнали от анаулов, что были рядом с Погычей. Вот ведь как бес потешается. Анадырь и Погыча — реки разные…
— Как зимовали-то? — настойчиво выспрашивал Анисим, что-то сравнивая и складывая своим торговым умишком против слов Меркурьева и его товарищей. — Говорил, в устье леса нет.
— Плавник есть! Кое-как обогревались. К весне четверо померли от голода и цинги…
Анисим опустил голову, смущенно перекрестился, спросил со вздохом:
— А чего те, пропавшие, искали у моря? — И сам себе отвечал: — Селений, кормов. Нерпы, бывает, выползают на лед из трещин.
— Наверное, так! — пробормотал Елфим, — Весной построили из плавника струги, пришли к лесу, стали строить зимовье — анаульцы напали, Семейке Дежневу грудь ножом поранили. Отбились мы, взяли аманатов для мира, подвели под государя, наложили ясак.
— Анадырь — не Погыча! — бормотал торговый человек, чувствуя в словах должника недоговор. — А на Колыме сказывали, Анадырь и Погыча одно и то же! — Бросил на Елфима колючий взгляд: — Ясака — девять соболей, сами ничего не добыли, а коч строили. Хотели морем вернуться?
— Кормовых мест искать надо, — неохотно ответил Меркурьев. — Все в долгах, как возвращаться без добычи? Доброй волей на правеж, что ли?
— И то правда! — согласился Анисим. — Нынче ваши кабальные грамоты за полцены не продать. Что на Колыме, что на Лене, кроме правежа, ждать нечего.
Пометывая на торгового человека быстрые затаенные взгляды, Елфим скороговоркой пробормотал:
— Даст Бог, расплатимся, и с лихвой. И ты вернешься небедным. Держись только нас с Семейкой Дежневым.
Сошел снег, открылась желтая тундра с черневшим льдом озер. Не дожидаясь их таяния, стая за стаей прилетали утки и гуси, кружили над зимовьями. Наконец вскрылась и загрохотала река, оттаяли промерзшие до дна притоки. Прибывшие люди стали сплавлять лес на избы и амбары. Мотора с беглыми казаками рубил их рядом с дежневским зимовьем, а его промышленные — частью там же, частью возле Стадухина. Слегка обустроив государево зимовье, они разбились на чуницы по родству-землячеству и разошлись искать места будущих промыслов. И опять Михей работал как одержимый, поднимаясь раньше всех. Иван Казанец, беглые казаки Бугор с двумя Гришками, Антоновым и Вахромеевым, Ивашка Пуляев завозмущались:
— В гроб загнать хочешь или что?
Михей ворчал, чего, дескать, возле дымного очага валяться, когда можно сложить печь? На время переставал поторапливать товарищей, таскавших камни с реки, самому же бес покоя не давал: сложив печку, принялся за амбар. Ложился, как всегда, последним, глядел в потолок из жердей, растекался чутьем по реке и тундре, чувствовал Семейкино зимовье и не мог понять, что идет с той стороны: ни зла, ни угрозы, ни зависти — то ли недоверие, то ли безверие… И сговор. Сговор он ощущал явно, часто поднимался среди светлой ночи, подбрасывал дрова в очаг, снова ложился, томительно дожидаясь, когда проснутся товарищи.
Как-то подскочил, почувствовав злое. Замер. Посидел с закрытыми глазами — к зимовью крались враги, их ненависть растекалась по тундре, как пролитое масло по столешнице, смешивалась с веселым духом вскрывшейся реки. Михей сунул ноги в ичиги, накинул на плечи кафтан, вышел с обнаженной саблей. Беззаботно светилось ясное весеннее небо, шумел Анадырь. Гришка Вахромеев в шубном кафтане спал, сидя на колоде. Пищаль с торчавшим из ствола тесаком была приставлена к стене. Не было видно караула и в дежневском зимовье.
— Хочешь, чтобы всех перерезали? — прошипел Стадухин и поддал ему пинком под зад.
Гришка вскочил, водя по сторонам ошалевшими глазами. Михей приглушенно обругал его, велел запалить фитиль и побежал в другое зимовье. Откуда-то из-под стенки дежневской избы вылез беглый Лютко, с которым служили еще в Енисейском гарнизоне, удивленно уставился на Стадухина. По смятому лицу видно было, что спал, но чутко.
— Нет никого! — сипло оправдался, заводил по сторонам заспанными глазами.
— Кого увидишь, сонный? — приглушенно ругнулся Стадухин и приказал:
— Буди всех!
Распахнулась дверь, вышел Семейка Дежнев в кафтане нараспашку, с саблей в ножнах.
— Берите ружья, идите за мной! — приказал Стадухин.
Высунулся полуодетый Мотора, бросил на Михея неприязненный взгляд, зевнул, крестя рот, и скрылся. Лютко и Дежнев с ружьями пошли за Михеем и Гришкой. На ходу к ним присоединились бывшие в нижнем зимовье люди. Стадухин повел их в тундру с оттаявшими кромками льдин на малых озерах. Громко хлопая крыльями, с них поднимались утки. Из кочкарника вдруг вскочили дикие мужики с луками и рогатинами. Стрелять не стали, пригибаясь, побежали вспять. Их было с десяток.
— Всего-то, — осклабился Дежнев. — Наверное, птицу промышляли! По виду анаулы. У нас с ними мир.
Преследовать их казаки не стали. Семейка Дежнев смущенно пожимал плечами:
— Прошлый год аманатил! Зимой на заморной рыбе сын тойона чуть не помер. Пришлось отпустить. Они слабы здоровьем. Им белая рыба нужна, мясо.
Стадухин блеснул злыми глазами, хрипло рыкнул и повернул в обратную сторону. Казаки потянулись за ним.
— Зачем тебе коч? — пытал Семейку на ходу.
— Мы не знали про сухой путь, — припадая на ногу, без неприязни отвечал земляку казак.
— Теперь знаете, все равно строите?
— Не бросать же! — опять то ли насмехался, то ли придурялся Дежнев, выводя из себя Стадухина. — Сгодится по реке плавать, инородцев под государеву руку подводить.
— Сколько ясака взял за нынешний год?
— За прошлый девять соболей! — поежился Семен. — За нынешний еще не приносили. Они не сами добывают: у ходынцев покупают.
— Почему других аманатов не требовал?
— Зачем? — Дежнев с невинной дурашливостью уставился на Стадухина.
— А если зимовье обшарю, не найду посулов? — Ярился Михей.
— Обыщи! — соглашался Семен, не переча против власти Стадухина.
А тот опять еле сдерживался, чтобы не схватить земляка за ворот: не перечил, но поддерживал Мотору, который, хоть и дал отписку, признавая единую власть, хоть не имел на руках отпускной грамоты, но не желал даже разговаривать с атаманом, только обиженно глядел на него при встречах. Стадухин не сомневался, что Мотора, Костромин и Власьев будут наказаны воеводой, как только дойдет жалобная челобитная. Воеводская и государева правда были на его стороне. Злило явное непонимание, упорное недоверие и скрытные насмешки Дежнева. Заново укладываясь спать, он бормотал:
— Разбило коч где-то к полудню от Анадыря. Бывает хуже… Пошли к нему прямиком, через горы не по берегу. Понятно, в октябре по застывшим рекам — легче. Возле моря прокормились бы, а так весь хлеб съели. На что надеялись? Дождались вскрытия реки, пошли вверх, к лесу, коч строили, чтобы вернуться морем. Узнали от нас сухой путь. Говорят, соболя нет, а на Колыму возвращаться не собираются. Зачем сидят? Чего ждут?
— Боятся правежа! — пробубнил из-под одеяла Казанец.
— А здесь что? На заморной рыбе ждать, когда Господь призовет?
— На дураков непохожи! — покряхтывая, поддакнул Гришка Антонов и стал собираться: подошел его черед менять караульного. — Раз Анадырь — не Погыча, значит, что-то вызнали у диких.
— Выходит, так! — Михей обернулся к Баеву, спросил взглядом, что тот думает.
Торговый человек не надрывался на общих работах, откупался товаром или снимал рост с кабал. Сначала он ночевал у Дежнева, но каждый день приходил на стан Стадухина, теперь перебрался к нему, но постоянно навещал другое зимовье. Должники у него были и здесь, и там.
— Зачем спорить с Моторой? — обернулся с затаенным укором и тоскливо взглянул на атамана. — Одним — Анадырь, другим — Погыча. Кому что нужней, то и бери! — виновато осекся и поправился: — Если здесь нет соболя — лучше Погыча. У тебя на нее права бесспорные. Но могут и солгать, чтобы нас выпроводить.
— Не видел, чтобы соболь водился в тундре, — просипел Бугор. — Разве мало-мало, где-то по лесным колкам у речек.
В конце июля, в разгар лета, отмахиваясь от ревущих туч овода, на стан вернулись промышленные и стали достраивать зимовье. Не бездельничал и дежневский лагерь. Закончив конопатить и смолить один коч, стали закладывать другой.
— Зачем? — бесился от непонимания Стадухин и тряс за грудки Семейку Дежнева. Тот терпеливо и снисходительно отвечал:
— Вдруг обратно морем поплывем!
— Ты же узнал от диких, что не каждый год лед относит от Носа?
— Вдруг отнесет! — с улыбкой отвечал Дежнев. — И соль кончается, надо плыть к морю парить. Скоро красная рыба пойдет, чем солить?
— Тьфу на тебя! — в бешенстве вскрикнул Стадухин. — Видел новгородских упрямцев, сам из них, но такой один на всю Сибирь.
Дежнев беззлобными глазами с состраданием смотрел на земляка, распаляя его страсти. Хворый Шаламка Иванов с тоской прислушивался к раздору, качал головой на истончавшей шее. Тяжело раненый, он изначально был положен в дежневском зимовье, здесь и отлеживался. В июне стал выползать, чтобы погреться на солнце. Его даже комары и оводы не донимали, как других. Михей взглянул на товарища, смутился, присел рядом, стал объяснять свою правду, надеясь на понимание. Шаламка глядел на него с такой тоской, что сжималось сердце. Стадухин почувствовал, что он уже далек от них всех, там, где споры и соперничество глупы, суетны. Ночью не услышал, как к зимовью подошел Дежнев. Караульный впустил его и разбудил Михея. Семейка со вздохами пошарил глазами по восточному углу избы, перекрестился и сказал, что Шаламка помер.
— Эка жалость! — крестя грудь, сел на нарах Михей. — Я радовался, что на поправку пошел.
— Я тоже так думал, — снова вздохнул Семен. — За полночь стал звать тебя. Не успел я одеться — отошел. Пойдешь, пока не остыл?
Шаламку похоронили, отрыв могилу в вечной мерзлоте, пожелали ему лежать целеньким и нетленным до Великого суда. На девятый день, на помин души, в верховья реки пошла красная рыба. Анадырь потемнел от рыбьих спин, казалось, будто шевелится дно. Запасали рыбу впрок, в большом количестве. По сказам зимовавших здесь людей, другой еды у них не было. Промышленные, ходившие в верховья по притокам, говорили, что встречались с ходынцами, выпасавшими оленей. Надо было их аманатить, подводить под государя. Те, что ходили в низовья Анадыря, видели анаульскую крепость из плавника и китовых костей. Для безопасных промыслов надо было ее разрушить, тамошних людей зааманатить. Но припас рыбы был важней. Пришлось старшему Стадухину отложить службы и запасаться кормами. Рыбу складывали в ямы, отрытые в вечной мерзлоте. Уснувшую, выбросившуюся на берег — отдельно, на черный день и для собак, взятых у ходынцев. Рыбачили смешанными чуницами по родству, землячеству и товариществу, которыми собирались промышлять соболя. И только дежневские, спасшиеся от потопления в море, держались обособленно. Неподалеку от зимовий казаки добыли медведя. Мясо испекли и съели за один присест. Оно пахло рыбой. Казалось, этим запахом пропитаны река, мох, древесина изб. Анисим Мартемьянов перебирая пальцами богатую бороду, брезгливо нюхал пышные пряди и жаловался:
— По три раза на дню стираю со щелоком, все равно воняет!
— Мишка! — Василий Бугор вернулся к реке с пустой корзиной и окликнул приказного. — На стане Моторы — анаулы.
— Почему к нему пришли? — чертыхнулся Стадухин, обмыл руки от слизи и икры.
Распаляясь, приказал Бугру с Казанцем идти следом, быстрым шагом двинулся на другой стан. Подручные едва поспевали за ним. Там служилые и промышленные тоже занимались заготовкой рыбы. Моторы не было. Перед Семейкой Дежневым стоял тойон-анаул. Как принято у тунгусов, лицо его было покрыто синим узором татуированных родовых знаков. По виду собравшихся Стадухин понял, что он принес ясак. Дежнев с важным видом принимал соболей и говорил государево слово.
— По какому праву? — закричал Стадухин, схватил его за ворот, отобрав рухдядь, вытолкал Дежнева из круга и велел взять тойона в аманаты.
Никто из дежневсих людей не пошевелился, чтобы исполнить приказ. Казанец с Бугром смущенно топтались на месте, не желая ссор. Самому атаману было не по чину бросаться в толпу инородцев, хватать мужика: тем самым он ронял достоинство начального государева человека.
— Зачем хватать! — вполголоса зароптал Солдат, а Зараза, уставившись щучьим лицом, презрительно буркнул:
— Кому надо — тот пусть имает!
Их поддержали моторинские беглые казаки и дежневские промышленные.
— Не гневись, Мишка! — прохрипел на ухо Стадухину Бугор. — Не позорь нас перед дикими.
Стадухин, скрежеща зубами, опустил голову, послал Казанца в зимовье за прошнурованной и опечатанной ясачной книгой. При всех собравшихся внес запись о принесенных соболях и дал тойону грамоту, что принял от него ясак за нынешний год. Затем, смягчив невольный гнев, подрагивавшим голосом сказал анаулам государево слово, наградил их стеклянными бусами. Дело было сделано. Гостей плотным кольцом окружили собравшиеся промышленные люди, стали расспрашивать о Пенжине. Слухи об этой реке появились уже здесь, на Анадыре. Как прежде на Колыме души сибирских странников волновала неведомая Погыча, так теперь их помыслы и разговоры были о Пенжине — реке, где соболя так много, что его бьют палками. От анаулов и ходынцев промышленные знали, что когда коряки приходят на Анадырь без войны, то привозят для мены много собольих шкур. Расспрашивали инородцев и о Погыче. Те указывали в ту же сторону, что и Пенжина, но ближе к восходу, и называли реку Похача. «Анадырь — не Погыча!» — скрипел зубами Михей и ловил на себе торжествующие взгляды обиженных на него беглых ленских казаков.
— Почему не ловили аманатов? — гневно закричал на Бугра, едва они отдалились от дежневского зимовья.
— На кого орешь? — вспылил старый казак. — Ты еще на Ангаре сидел, а я был на Лене, первым через нынешний волок прошел.
Сказал так и будто посыпал солью старую рану товарища.
— Да если бы я с Ярком Хабаровыми да с тем же Семейкой Моторой тебя, первого, — передразнил Бугра, подражая его голосу, нажимая на слово «первый», — не вытащил из-под якутов, давно бы сгнил под тамошними мхами!
— То я с братом, без государева жалованья, не вытаскивал вас. Да кабы не мы, вам, псам воеводским, на Лену ходу бы не было!
Два старых товарища и сослуживца, один с сивой бородой, другой с проседью, набычившись, жгли друг друга разъяренными взглядами, пока не кинулись в драку. Недруги потешались, глядя издали, как они потчуют друг друга кулаками. Подбежали друзья, растащили. Бугор решительно ворвался в зимовье, которое строил, плюнул на пол, сгреб одеяло, пищаль и ушел к Моторе с Дежневым.
— Иди-иди! — кричал вслед Стадухин. — Еще вспомнишь и пожалеешь!
Он не сомневался, что следом за Бугром уйдет Евсейка Павлов, но тот, на удивленье, остался.
В августе было не до анаулов и ходынцев — запасались в зиму птицей, били уток и гусей, менявших перо. Стало скрываться на ночь солнце, повеяло осенью, утренниками подмораживало, пропал гнус, кажется, в один день пожелтели березы, береговой кустарник и мох, дышать стало легче и привольней. Как ни тошно было Стадухину встречаться с Моторой и Дежневым, но снова понадобилось идти к ним. Он пришел, смирив гордыню, встал фертом против двери, заломил шапку.
— Эй! Сидельцы! Выходите, последний раз буду говорить государево слово!
Вышел Мотора, уставился на Стадухина с упрямой обидой. За ним высыпали дежневские сидельцы. На прокорме у Аниськи Костромина они строили коч и новую избу.
— Не должно быть на государевой землице инородческих крепостей! Идите за мной, разрушим и возьмем надежных аманатов. Под них будем требовать ясак.
— Нельзя той крепости рушить! — из-за спин товарищей подал голос Дежнев. — Коряки их побьют!
— Ты государев указ о крепостях знаешь? — строго спросил Стадухин, щуря глаз.
— Знаю! — громче заспорил Семейка, выходя в круг. — Только те, кто его писал, здешней жизни не нюхали, и ту крепость рушить нельзя, иначе придется охранять анаулов денно и ночно.
— Отказываетесь?
— Отказываемся! — поперечно ответил Мотора, тряхнув вислой бородой.
— Все тому свидетели! — пригрозил Стадухин и развернулся к своему зимовью.
Он долго не мог уснуть и забылся только под утро. Тарх, стоявший в карауле, обогревался у очага. Обернувшись к брату, мимоходом сообщил, что моторинские люди уплыли по реке. Видимо, собрались загодя, на рассвете сели в струги и коч, тихо проплыли мимо зимовья.
— На промыслы — рано! — удивился старший. — Куда бы это? Не на Колыму же к осени?
Он сказал так, думая о предстоящих делах дня, а их было много. Похлебав ухи, бросил ложку, резко встал, опоясался и хлопнул дверью. Вскоре его рык и ответный лай Бугра донеслись из другого зимовья. Тарх выскочил из избы, увидел брата, ругавшегося с беглым казаком. До новой драки не дошло. Поорав и помахав кулаками, атаман вернулся.
— Ушли! Мать их! Оставили полтора десятка калек да торговых. Сбежали на Пенжину. — Помолчав, рассеянно добавил: — Костромин увел, а Ваську бросили зимовье караулить.
— И хрен с ними! — ничуть не печалясь, посмеялся Гришка Антонов. — Всех соболей не переловят. А еды у нас теперь с лихвой: их ямы стали нашими.
— Нет у них прав на Погычу, и Пенжина моя по указу, — ударил кулаком по столу атаман. — Догоним, вернем! — обвел товарищей строгим взглядом и понял по лицам, что не пойдут. Смирился, опуская голову, пробормотал: — Может быть, и правда, к лучшему! Здесь кому-то надо службу нести.
— Конечно, к лучшему! — поддакнул Тарх. — Споров не будет.
Закончив необходимые для зимовки дела, атаман взялся за государеву службу: казака Гришку Антонова послал вверх по реке к ходынцам с миром, с предложением дать выкуп за смертельные раны Шаламки Иванова, а впредь платить ясак, Гришку Вахромеева — вниз, к анаулам. В срок не вернулись ни тот, ни другой. Старший Стадухин забеспокоился нехорошим предчувствием, хотя опасаться беды было рано. Промаявшись день и другой, он собрал людей. Десять промышленных с Васькой Вилюем вызвались плыть к анаулам. Сам передовщик хромал, повредив ногу при заготовке птицы, а стругов не было, предстояла пешая ходьба. Товарищи убедили Вилюя остаться в зимовье, вдевятером отправились в низовья, искать заплутавшего или загостившегося Гришку.
— Пригрела какая-нибудь девка, не спешит на работы и караулы, — смеялись, успокаивая атамана.
Тот криво улыбался и поторапливал с выходом. Сам с беглыми казаками Ивашкой Пуляевым и Евсейкой Павловым отправился вверх по реке, искать другого посыльного. Вернулись они с поклеванными и испачканными воронами останками на волокуше. Ходынцы с их стадами оленей откочевали, догнать их было невозможно. Спешные похороны убитого положили конец распрям между зимовьями. Стадухин оставил при поселении торговых людей, Вилюя с пятью промышленными, сам с Бугром, Евсеем и Пуляевым, с тремя десятками своих и моторинских людей двинулся вниз по реке. Среди них были те, что весной видели крепость и знали путь к ней. На подходе удалось поймать анаульского мужика, от него выведали, что Гришка и девять человек, посланных ему на помощь, убиты. Коричневое, в глубоких бороздах лицо Бугра стало серым. Угрюмый Евсейка присвистнул, Ивашка Пуляев витиевато выругался, Михей сжал зубы, закрыл глаза. Открыв их, процедил, не разжимая губ:
— Не верю!
Казанец переспросил анаульца, тот пролопотал ответ и показал знаками, что всех перестреляли из луков.
— Тела где? — просипел Стадухин.
Казанец долго пытал пленного, и тот ответил, что они лежат где убиты: в тундре, на мхах.
— Что будем делать? — спросил Михей, обводя товарищей пристальным взглядом. Обветренное лицо его было багровым, усы пламенели в русой бороде.
— Мстить надо! — опустив глаза, прохрипел Бугор. — Не то всех перебьют. — И сорвался в крик, буравя Стадухина неприязненным взглядом: — Упреждал — нельзя показывать наши раздоры!
Стадухин блеснул злобным взглядом, мотнул головой, не ответив, перевел гневные глаза на Евсея с Ивашкой.
— Похоронить надо, — пожал плечами один.
— Иначе никак нельзя, — пробубнил другой, отворачиваясь.
Промышленные поддержали их. Отобьем останки, высмотрим подходы, похороним, после решим, что делать.
— Ну, стервецы! — выругался атаман. — Мало что скрылись в такое время — еще и все струги забрали.
Бывальцы вывели отряд к большому заливу. Это была еще не губа Анадыря, но часть солоноватой воды из устья попадала сюда. Берег, по которому шли, был каменист. После чавкающей болотины, проседавшей под каждым шагом, качавшихся под ногами мха и кочек идти стало легче. Анаульская крепость была устроена на возвышенном берегу. Возле нее сгрудились до десятка чумов, у воды лежали лодки, обтянутые кожами. Издали учуяв чужаков, протяжно завыли собаки. Люди, суетившиеся возле чумов, опасливо потянулись к крепости: они ждали мщения, потому подойти незамеченными не удалось. Пленный указал, где лежат тела убитых. Скрываясь за камнями и кустарником, ватажные подобрались к укреплению на сотню шагов, издали увидели раздетых и обобранных товарищей. До них было до полусотни шагов открытой местности — верный выстрел. Последние из анаульцев спрятались в крепости и выставили из бойниц стволы ружей. Обернувшись к Казанцу, атаман кивнул на ясыря, приказал:
— Пусть скажет, чтобы дали забрать убитых!
Казанец передал приказ пленному. Лицо ясыря напряглось, окаменело, глаза смежились в щелки, накрывшись пухлыми веками, он молчал и думал. Поторапливая, Бугор потыкал его в бок острием ножа. Наконец решившись на что-то, анаулец встал в рост, закричал. Его услышали. Он обернулся к Стадухину и махнул рукой, показывая, что можно идти. Михей намотал на ладонь бечеву, которой были связаны руки пленного, подтолкнул вперед, скрываясь за его спиной, двинулся к телам. Едва подошли к месту, крепость окуталась дымами и прогрохотал ружейный залп, который не нанес вреда. Казаки, шедшие за ясырем к телам товаришей, попадали на мох, из-за их спин прогрохотал ответный залп. Пленный провернулся змеем, вырвал бечеву из руки Михея, вскочил и, пригибаясь, побежал к крепости. Преследовать его не стали, но ползком потянули мертвяков. Пока прикрывавшие перезаряжали ружья, анаулы пришли в себя и пустили из бойниц тучу тяжелых стрел. Первым, как подкошенный, упал на колени бежавший к ним ясырь. Две стрелы ушли в мох рядом с Михеем, волокшим один из трупов. Третья воткнулась в мертвое тело. Рядом вскрикивали и стонали товарищи. Наконец, промышленные перезарядились и дали другой залп. Из крепости перестали пускать стрелы. Казаки и промышленные добрались до прикрытия из камней. Пуляев, посмеиваясь, выдергивал стрелы из своей камлайки, задрал подол, обнажив живот, пошарил по бокам.
— Вот ведь! Ни одной царапины!
Повезло только ему и Михею, остальные были переранены, но легко. Тарху пришлось резать кожу на боку, чтобы вытянуть зазубренную костяную стрелу.
— Что прокричал им шельмец? — тяжело дыша, спросил Михей Казанца. — О том только и думал, пока полз.
— Вроде так и сказал, чтобы дали забрать тела, — внимательно разглядывая мертвеца, с недоумением поежился Иван.
— Родька! Вилюевский покрученник! — подсказал Бугор, опознав убитого. — Серьга была в ухе — мочка разорвана, а лицо вспухло.
— Раздели донага. Стервятники! — поморщился Михей. — В чем хоронить?
— Пред Богом, поди, все так предстанем! — перекрестился Пуляев. — Подумав, добавил: — Однако нехорошо предавать земле голыми. А что делать? Другой одежки у нас нет.
Тел было девять. Среди убитых не опознали первого из посланных — беглого ленского казака Григория Вахромеева.
— Расстреляли на подходе, — разглядывая раны мертвецов, морщился Бугор. — Видно, даже слушать не стали: подпустили на выстрел и убили.
Поругивая моторинских и дежневских беглецов, люди Стадухина уволокли тела к берегу Анадыря, похоронили на сухом месте, насыпали холм, поставили крест из обтесанного плавника.
— Вернемся еще! — пообещал Михей, кланяясь могиле. — Привезем одежду, перезахороним. В мерзлоте долго пролежите нетленными.
Помянув покойных печеной утятиной, стали думать, как брать крепость. И тут на них вышли шесть моторинских и дежневских людей. Они тянули бечевником груженый струг и вели за собой полдюжины собак. Михей налетел на них, как пес на соперника. Казаков Проклова и Ветошку бил, торгового Михейку Захарова таскал за ворот, тыкал носом в товар, Фому Семенова, Елфима Меркурьева, Парфена Михайлова материл, отводя душу за убитых и раненых. При молчаливом согласии промышленных людей, ходивших на крепость, вытряхнул из мешков груз, который был в струге. Спутники ахнули, Бугор, скорчив удивленное лицо, поскоблил редеющий затылок. В мешках были льняные рубахи, попорченные плесенью сапоги красной кожи, пеньковые веревки, позеленевшие медные котлы. Больше всего стадухинских людей порадовали окаменевшие мешки с заплесневелой ржаной мукой.
— Откуда? — завозмущались они, бросая на беглецов подозрительные взгляды.
— Остатки Бессона Астафьева! — заверещал Елфим Меркурьев. — Я к ним приставлен по соборному решению. На меня все записано.
— Семейка говорил — от голода мерли… А тут мука?
— Только сейчас отыскали, прежде не могли! — оправдывался Елфим, закрывая добро спиной.
После всего увиденного лежавшие на дне струга моржовые клыки ни у кого не вызвали любопытства. Даже старший Стадухин с его единоличным правом сбора и добычи рыбьего зуба не спросил, откуда взяты.
— Надо вернуться к могиле, откопать и приодеть покойных! — загалдели казаки и промышленные. — А то, нам во грех, что явятся к Господу с неприкрытым стыдом…
Атаман поднял руку, прекращая галдеж, стал пытать встреченных, откуда идут, где люди Моторы и Дежнева. Шестеро сбивчиво отвечали, что ватажные в пути на Пенжину наткнулась на непроходимый стланик, стали прорубаться, а их отправили в низовья реки за кормами и гусельниковскими остатками. Мука в мешках на три пальца покрылась зеленой коркой, внутри же оказалась съедобной. Стадухин забрал все, что везли в струге, и велел варить саламату. После рыбы и утятины — еды, на которой жили, это был пир в помин убитых.
Ватага Моторы застряла где-то на малом Майне. Как ни сердились обобранные Стадухиным казаки и промышленные, но весть о том, что ходынцы и анаулы убили одиннадцать человек, потрясла и напугала их. Они соглашались, что надо поскорей найти и вернуть людей Моторы, объединиться, разорить крепость и подвести под государя, иначе во время зимних промыслов анаулы перебьют всех.
Кончался сентябрь. По берегам реки нарастал лед, в черной воде плескались белые лепешки сала, застывали протоки и старицы, с хрустом проседал под ногами мох. Казаки Проклов и Ветошка вывели стадухинских людей к оголодавшим и умученным беглецам. Люди Моторы тянули струги в обратную сторону.
— Гнался за нами? — Неприязненно уставился на соперника Мотора, но, высмотрев рядом со Стадухиным своих людей, непонимающе заводил носом, задергал бородой.
Больше обычного хромая, к Михею подошел Семен Дежнев. Глаза его запали, шея истончала.
— Опять драться будешь? — спросил с обычной насмешкой.
Душа Михея перекипела, он не ответил земляку, приказал развести костер и варить саламату. О случившемся наперебой рассказывали его люди.
— Аргишей не нашли, а прорубиться сквозь стланик оказалось не по силам, — жаловались отправившиеся на Пенжину. — Там ни рыбы, ни утятины — зайцы да куропатки, за дикими оленями гоняться некогда. Кабы не добыли медведя — и к реке выйти не хватило бы сил… А в зимовье припас рыбы.
Старший Стадухин приметил в отряде Моторы обычные при неудачах распри и недовольство. В большинстве люди были рады мирному единению отрядов. Выслушав прибывших, остыл и Мотора, спросил, сколько человек охраняют избы, посетовал:
— А то ведь анаулов погромим — можем вернуться на гарь от ходынцев. Не погромим — будут нападать… А там такой стланик, — оправдываясь, указал на полдень, — к весне не прорубиться. Разве зимой, по снегам перейти? Иначе никак…
Отмахнувшись как от пустого, неважного по нынешним бедам, Стадухин объявил:
— Надо думать, как подвести анаулов и спалить крепость. Кабы они не ушли к зиме. Ищи потом!
Беда объединила. Забыв былые распри, уважительно и нешумно, как при благочестивой старине, высказались все по кругу, соборно приняли решение: полутора десяткам промышленных тянуть суда к зимовьям, защищать их, объединившись с тамошними сидельцами, остальным идти застывшей тундрой воевать немирных анаулов. Атаманом на поход кликнули Михея Стадухина. Земляка миролюбиво поддержал Дежнев, заметив, как напрягся и засопел Мотора. Все взгляды обратились к нему, покряхтев, согласился и он, что Мишка в воинском деле искусней.
— Мы те места знаем, — Дежнев обернулся к Фоме с Елфимом. — Зимой вода солонеет, думали, море рядом, а до него еще далеко. Помним, где много плавника.
Осада повторилась. Но на этот раз казаки и промышленные подходили к крепости по льду, скрываясь за щитами, которые на полозьях толкали впереди себя. Издали увидев врагов, анаулы снова заперлись. В полусотне шагов дали неумелый залп из ружей, осыпали щиты стрелами. Ватажные продвинулись к самой суше, запалили факелы, чтобы поджечь крепость. Ворота распахнулась, наружу вырвалось до сотни мужиков с копьями и кольем. Ватажные дали залп. Едва успели вставить тесаки в стволы, из порохового дыма выскочили анаулы. Отбиваясь саблей и топором, Михей видел краем глаза, как бьют дубинами Фому Семенова и Тита, как с саблей в одной руке, с топором в другой крутится сутулый Пашка Кокоулин, а его лицо заливает кровь. Казак Ивашка Пуляев с торговым Мишкой Захаровым спина к спине отбивались от дюжины наседавших врагов. Со стороны видны были только мельтешившие сабли, топоры, дубины, рогатины. Бой длился недолго, но был жарким. Анаулов загнали в крепость и пригрозили сжечь. Наружу вышел тойон с разбитым лицом, высунув язык, показал на него пальцем. Михей отыскал глазами запыхавшегося Казанца, мотнул головой, призывая толмачить. Его скользящий взгляд отметил окровавленный лед, брошенные щиты, среди анаульских тел полдюжины своих, распластавшихся без признаков жизни.
— Тот тойон, что приносил ясак, был Колупай, этот — Локк, — переводя дыхание и вытирая шапкой взмокший лоб, указал Стадухину Дежнев. — Они разнятся родами.
Локк предложил жить в мире, дал в заложники сына и племянника — сына сестры, обещал выдать пеню за убитых людей. Пока Михей с Казанцем вели переговоры, ватажные обшарили чумы и крепость, свалили в кучу полтора десятка пищалей. Половина из них была с разорванными казенниками. К Дежневу подвели длинноволосого мужика, его беззубое лицо в бороде сминалось в кулачок и расправлялось, как у старца.
— Не узнаешь? — он шепеляво всхлипнул и смахнул слезы с глаз.
Семен вгляделся в его глаза, что-то вспоминая.
— Из поповских, что ли?
— Богдашка Анисимов, покрученник Федота, — закивал моложавый старик. Указал на сваленные ружья, похвастал: — Я учил стрелять! Не то бы многих поубивали.
Стадухин перекинулся с ним торопливым словом и оставил разговор на другое время. Его люди подожгли крепость: одни грелись возле огромного костра, другие присыпали золой раны. Анаулы растаскивали своих убитых, промышленные и казаки — своих. Погибли четверо, среди них беглые ленские казаки Иван Пуляев и Кирилл Проклов, которого атаман побил при встрече на Анадыре, а теперь мучился совестью и просил у убитого прощения. У другого ленского беглеца, Павла Кокоулина, была разбита голова и сильно кровоточила рана на ноге.
— Не жилец, — крестясь, пробормотал Бугор.
Был убит торговый человек Мишка Захаров, имевший кабальные грамоты на моторинских людей. Анисим Костромин плакал, охая и баюкая ушибленную руку. Богдашка показал, где закопали убитого казака Григория Вахромеева, пришедшего к анаулам первым. Его тело уложили на волокушу, с четырьмя другими убитыми, анаульские собаки потянули их в обратную сторону к братской могиле, на шестой волокуше везли Павла Кокоулина-Заразу, еще живого, но совсем немощного. За русскими людьми доброй волей ушли одиннадцать женщин, которых анаулы отпустили вдобавок к выкупу за убийство русских людей. Это были плененные ими в междоусобицах или купленные у инородцев чукчанки и корячки. Григория Вахромеева и четверых убитых при осаде положили к прежним. А тех по обещанию одели в отбитую и другую одежку.
— Это сколько же наших-то осталось? — Лютко Яковлев с недоумением стал было оглядываться и загибать пальцы.
— Не считай? — рыкнул Стадухин. — Не кличь другой беды!
Все спешили вернуться в зимовье, понимая, что до холодов туда не успеть. На промысел никто не надеялся, но там был припас еды. Отряд с аманатами отправился в верховья реки по крепкому льду. После похорон убитых женщины заметно повеселели, стали ласково поглядывать на ватажных.
— У нас голодать не будете! — обнадежил их Фома Семенов. От жены — чукчанки он научился ее языку. — Это мы ветшаем без хлеба, а наши бабы от мяса и рыбы толстеют, — хлопал себя по тощим ляжкам и смешил.
Женщины переглядывались, о чем-то лопотали между собой и бодро шагали в новую для них жизнь. Возвращались прямиком, то по реке, то по застывшей тундре. Припас и Пашку Кокоулина иногда несли на руках, мотаясь среди кочек, или волокли по застывшим притокам и озерам. Взятые на погроме корма кончились через неделю, другую шли голодом, на случайной добыче. Легкие на ноги ясырки убегали вперед с луками, били куропаток и зайцев. Крупной дичи не попадалась. Ружья, топоры, котлы и одеяла ватажные несли на себе. Укутанный в меха, все никак не отходил к Господу и не мог встать на ноги Павел Кокоулин.
В пути, у костров, полуголодные люди Стадухина и Моторы слушали освобожденного Богдана и снова томились душами от сказов про богатства земли, до которой не так далеко: от устья Анадыря при попутных ветрах морем — недели полторы хода. Богдашка с упоением рассказывал о высоких курящихся горах, о соболе и лисах, которых били возле зимовий, о тамошнем гостеприимном народе, с которым не было ссор. Он, Богдашка, гоняясь за дикими оленями, разбрелся с товарищами и вышел на стан коряков. Те его не убили, но увели за собой на пастбища. От них он узнал, что где-то неподалеку есть бородатые люди. Оказавшись на Анадыре, бежал от коряков, но попал в плен к анаулам. Здесь увидел своего, русского человека, приплывшего к крепости за ясаком, убеждал диких не убивать, но его не послушали. Все остальное было известно. Промышленных интересовала земля, богатая соболем. Снова и снова они расспрашивали о ней. Богдан не знал, где сейчас бывшие с ним спутники, надеялся, что вернулись на Колыму. От коряков же слышал, что те разграбили два коча, а людей убили.
— Мы тоже слышали! — сказал Тарх, окинув взглядом спутников по морскому походу.
Старший Стадухин с состраданием поглядывал на стонущего Кокоулина, на казаков, шедших с ним с Яны на Индигирку и Колыму, ходивших морем на восход. Все они думали, что бежали с Лены за богатством и волей, но уже больше чем наполовину погибли за государево дело без всякого жалованья и благодарности. Что-то переменилось в их лицах: уставшие после перехода, они слушали сказы бывальца, ни о чем не спрашивая, не перебивая. Промышленные уставали не меньше, но их глаза горели, лица прояснялись, будто готовы были опять идти в неизвестное, голодать и умирать ради каких-то посулов, которыми прельщает не то Господь, не то бес или тот и другой разом. Ватаги вышли к зимовьям во время метели. Последние версты двигались по запаху дыма, нащупывая твердь под ногами. Караульный, топтавшийся возле стадухинской избы, разглядел их в десяти шагах — подскочил с пищалью наперевес, узнал своих.
Метель не унималась с неделю. Набившись в избы, прибывшие люди грелись, ели и отсыпались. Только перед Спиридонием-солнцеворотом все стихло, и разъяснились сумерки полярной ночи. Отъевшись красной рыбой, зимовейщики бездельничали, делили приведенных женщин и женихались. Перед Святой неделей в стадухинское зимовье пришли четверо промышленных из отряда Моторы: Матвей Ильин, Калин Куропот, Иван Вахов, Иван Суворов. Они степенно положили поклоны на образ в хозяйском углу, расселись у очага, свесив бороды, показывая, что явились для важного разговора. Повздыхав, Иван Суворов поднял глаза и пожаловался:
— Живем, как трава! Едим, спим. Иные девок брюхатят, и ничего им уже не надо… Все надежды на рыбий зуб. Дежневские шепчутся про богатую коргу где-то к полуночи.
— Ты — человек государев, — поддержал товарища Вахов. — У тебя наказная от воеводы.
— Будто раньше об этом не знали? — озлившись, дернулся было Михей, но взял себя в руки, показывая, что готов слушать.
— Знали! — покорно склонив голову, согласился Суворов. — Только кабалились на поход у Костромина с Захаровым. — Досадливо поморщился, мотнул бородой: что, мол, об этом? Выпалил наболевшее: — Мотора дальше Анадыря не пойдет: собирается искать моржовые кости. А мы думаем, — указал глазами на спутников, — наказная грамота на кость у тебя, да и сколько ее утянешь на Колыму, если возвращаться тем путем, что пришли? Ста рублями прежних кабал не выкупить.
— Понимаю! — посветлев лицом, согласился Стадухин, соображая, что от него хотят.
— Богдашка Анисимов сказывает про Нос Великого Камня. Мы ходили с Моторой в ту сторону, знаем, что пройти можно, но только санной дорогой.
Прислушиваясь, к промышленным людям придвинулся Михайла Баев, сметливо заводил глазами с одного на другого. Заерзал на лавке Тарх, пристально глядя на брата. Старший Стадухин молчал.
— По-любому получается: зуб собирать или соболевать на Пенжине можно только с тобой! — окончательно высказались посланцы и, переведя дух, вопрошающе уставились на Михея.
С некоторых пор он мысленно благодарил Бога, что в последнем морском походе не принудил спутников плыть дальше, путем, пройденным Семеном Дежневым. Какие бы богатства ни блазнились, но прийти на край Великого Носа вторым, после побывавших там Попова и Анкудинова с их людьми, ему не хотелось, обирать не им открытую коргу — тоже.
— На Пенжину пойду! — твердо сказал Михей и хлопнул ладонью по колену, обтянутому штанами из нерпичьей шкуры.
— И то хорошо! — согласно закивали выборные. — Никто из очевидцев там не был, а дикие сказывают про лес и великие богатства.
Так же степенно откланявшись на образа, они ушли. Едва за ними закрылась дверь, впустив раскатившееся по земляному полу облако, загалдели вилюевские промышленные, и стала зреть в душе Михея уверенность, что надо уходить. Теперь уже и терять-то было нечего, кроме жизни, а ей хозяин — Господь.
Ночью рядом с ним маялся бессонницей, ворочался с боку на бок торговый человек Баев. Стадухин сел, свесив ноги, тот открыл глаза, прошептал:
— О том же думаешь?
— О том! — одними губами прошлепал торговый человек.
— Пора готовиться. Пока соберемся — покажется солнце! А там — март — ни зима, ни лето, крепкий наст, — громче заговорил Михей.
— Я свое отходил, — покашливая, отозвался из угла Иван Казанец. Не спал и он. — Все! С низовий едва ноги приволок. Думаю, если даст Бог вернуться на Русь, подамся в монастырь. По грехам, бросил прежний достаток, другого Бог не дал. И Васька после погрома едва приволокся. Зря ты его обидел.
— Зря! — согласился Стадухин, откинулся на одеяло и уснул легко, как давно не засыпал.
— Я тоже дальше не ходок, — пробубнил слушавший спутников Анисим Мартемьянов. — Печенкой чую — нет иного пути, кроме обратного на Лену… Если еще даст Бог выбраться!
— А кабалы простишь? — усмехнулся в темноте Баев.
— На этом свете сам взыщу или те, у кого я в долгах. Ну, а кто не вернется — тем Бог судья! Замолвят доброе слово пред Пречистыми очами — и ладно. — помолчав, добавил: — Кабалы убитого Мишки Захарова и его остатки взял на себя Анисим Костромин. Вдруг вернет родне то, что покойный выстрадал на Колыме и Анадыре.
Стадухину не пришлось объявлять о новом походе. Эта весть разнеслась сама собой, закрутила людьми, будто не они выбирали судьбу, а судьба их. Верный Стадухину казак Евсей Павлов, охочий Юшка Трофимов и другие еще недавно рьяно рвавшиеся в неведомое вдруг остепенились, будто почувствовали край пропасти. Иные, дравшие горло за Мотору и Костромина, переметнулись к нему. Евсеей Павлов был скрытен, знал свою правду, не выдавая сиюминутных сомнений словами. Стадухин завидовал его рассудительности и спокойной уверенности в себе. Но нашлась управа и на этого казака.
— Евсейку от корячки не оторвать! — смеялись промышленные. — Глаза мутные, тупые, как у лося на реве.
— Зря избу рубит… Уйдем — все зимовье ему достанется.
Евсей Павлов высмотрел среди приведенных девок корячку, и она приняла его. Они пытались спать в зимовье, завешавшись медвежьей шкурой. Но корякская женка от Евсейкиных ласк имела обыкновение громко орать. Ни уговорами, ни руганью ничего поделать с ней не могли. Желая отселиться, Евсей строил отдельную избенку. Юшка Трофимов, бывший Стадухину верной опорой, тоже обабился: чего не смогли сделать лишения бродячей жизни — сделала чукчанка.
Новый дух накрыл оба анадырских зимовья. Даже беспросветная февральская метель сладкоголосо напевала про Пенжину, манила чем-то радостным. Повеселели лица людей и их разговоры. Полярная ночь была на исходе, уже разъяснивались над тундрой легкие белесые сумерки. Почуяв сборы в новый поход, сама по себе собиралась ватага больше полусотни удальцов. С Моторой и Дежневым желали остаться только три десятка, но среди них оказались все беглые казаки. «На что надеялись?» — гадал Михей Стадухин.
— Думают здешними службами получить прощение от государя? — спрашивал брата.
— Дальняя окраина! — разумно рассуждал Тарх. — Немирных народов мало, женок много, с голоду не помрешь… А что? Известят Колыму про рыбий зуб и выслужат прощенье.
— Не из вольных! — жестко посмеивался старший Стадухин. — Пантелей Демидыч называл таких городовыми.
Те, что собирались идти в полуденную сторону, опять должились у торговых людей порохом, свинцом, неводными сетями, возбужденно толклись возле стадухинского зимовья, укладывали пожитки в нарты. Дежневские и моторинские люди наблюдали за сборами кто с тоской и завистью, кто со скрытой насмешкой, и все помалкивали, будто знали свою им одним понятную правду.
Холода стояли лютые, с грохотом трескался и вспучивался лед реки, птицы облепляли крыши зимовий, а утрами, белые от инея, толстые от распушенных перьев, нехотя снимались с мест. Но кончалась северная ночь. На Сретенье алел восток, а на святого Луку показался ослепительно алый край солнца. Боясь прогневить Господа, Михей Стадухин с умиротворенным лицом вошел в дежневское зимовье, положил на образ Николы Чудотворца семь поясных поклонов, поклонился бывшим товарищам — казакам, испросив прощения за дерзкие слова и обиды. Ответа не было, они смущенно глядели под ноги. При общем молчании Стадухин нахлобучил шапку, вынул из-за пазухи отобранную у Моторы отпускную грамоту Власьева, положил на нары и закрыл за собой дверь с чувством исполненного долга. За ним в одной заячьей рубахе вышел Бугор.
— Не гневись, Мишка! Не по злобе остаюсь, нет уже духу идти в неведомое. Кончился! И кабалиться невмочь: прежних кабал много.
— Понимаю! — мимоходом обнял казака Стадухин и пронзительно свистнул. Из зимовий стали выходить по-походному одетые люди. Михей рассеянно обернулся к Бугру, все еще топтавшемуся на ветру в одной рубахе.
— Скажи — отчего казаки переметнулись к Моторе? С какого ляда вы здесь выслужите государево прощение?
— До седой бороды дожил — ни перед кем спины не гнул. А ты мне: «Васька, хватай!..» — Бугор сплюнул, выругался: — У Моторы все по старине, соборно и сообща.
— Это хорошо! — согласился Стадухин, присматриваясь к сборам. — При мирной жизни у него, наверное, лучше… Ну, дай вам Бог спокойной службы! Прощай, что ли, Васенька! — Еще раз обнял казака и зашагал к своим людям.
Шесть десятков промышленных, стоя возле стянутых ремнями нарт, скинули шапки, с их голов закурился пар, волосы выбелило куржаком. Призвав в помощь Господа, Богородицу, Николу Чудотворца и всех святых покровителей, они и торговый человек Михайла Баев двинулись под началом казака к застывшей и заметенной реке. Двоевластие кончилось. Одни с облегчением, другие с тоской глядели вслед удалявшейся ватаге.
— Вдруг вернутся? — Ефим Меркурьев метнул опасливый взгляд на Семена Дежнева. В нем была тайна, связывавшая всех спасшихся людей Бессона Астафьева.
— Мишка не вернется! — покаянно крестясь, пробормотал Семен. — Новгородец! Или лоб расшибет, или добудет свое.
12. Каждому свое
В то время когда Федот Попов с Иваном Ретькиным собирали небольшое четырехсаженное судно из трех побитых, а Михей Стадухин воевал с анаулами в низовьях Анадыря, коч торгового человека Алексея Едомского подходил к Жиганскому острожку. По парившей черной воде Лены плыли редкие льдины, оторвавшиеся от заберегов, со дня на день должна была пойти шуга, затем встать и покрыться льдом река. Бурлаки налегали на бечевы, шлепали бахилами по студеной воде в ожидании теплых ночлегов, бань с сусленками и уже не берегли ни одежды, ни обуви, ни сил: спешили, подгоняемые посулами передовщика. На этом судне возвращались в Якутский острог Юша Селиверстов, посланный Михеем Стадухиным с моржовой костью и промышленный человек Гаврила Алексеев, ходивший с ним и с Пустозером к востоку от Колымы. Понимая нужду и спешку стадухинского целовальника, Алекса Едомский еще на Колыме принудил его продать соболей по тамошней цене, и не за деньги, а под кабальную запись. Юша был зол на него и на колымского приказного Василия Власьева, который, дождавшись перемены, ушел к Лене на коче Кирилла Коткина и не взял Селиверстова с государевой казной, отговорившись теснотой.
В морском походе Юша часто ругался с хозяином судна, который мнил себя искусным мореходом только потому, что по доброй погоде и Божьей милостью привел коч на Колыму. При нынешних ветрах можно было прийти на Лену вдвое быстрей, если бы Алекса доверил управление судном ему, Селиверстову, или хотя бы слушал его советы. Но вместо того стадухинский целовальник наравне с бывальцем Гаврилкой стоял на шесте и шел в бечеве как простой бурлак. Люди торгового человека потешались над ним: спящему пачкали бороду, мочились в сапоги. Гаврилка в травле не участвовал, но и не заступался за своего связчика, бывшего целовальника.
В устье Яны из стадухинской казны пропало два зуба по две гривенницы весом, потом кабальная грамота на пять рублей, данная Селиверстову Едомским на Колыме. Юша счел бессмысленным заводить сыск на чужом судне при общей неприязни, угрюмо помалкивал и придумывал мщение. До Жиганского острожка они дошли едва ли не в последний день перед ледоставом. Бурлаки гурьбой бросились в баню, парить остуженные кости. Селиверстов, переругавшись с таможенными казаками и тамошним целовальником, велел им составить опись. О пропаже клыков не заикнулся, взяв недостачу на себя. Годом раньше Втор Гаврилов привез от Власьева рыбий зуб, выменянный Пинегой у колымских чукчей. Насельники Жиганского зимовья на удивление равнодушно отнеслись к новостям с Колымы и к добытой моржовой кости, все их помыслы и разговоры были об Амуре, об охочих людях Ерофея Хабарова. Здесь Селиверстов узнал, что власть на Лене переменилась: против воеводы Петра Никитовича Пушкина был объявлен сыск и его, как прежде Головина, за приставами увезли в Москву, сменив латинянским выкрестом Дмитрием Андреевичем Францбековым. «Выкрест так выкрест! — подумал Юша. — С нерусью иной раз легче сговориться, чем со своими начальствующими».
В острожке ему рассказывали, что в междувластие, когда на Ленском волоке уже наводил порядок новый воевода, посланный на смену Пушкину, Ерофей Хабаров сумел войти к нему в доверие, поверстался в казаки и получил наказную память идти на князей Батогу и Левкоя, которые отказали в ясаке письменным головам Пояркову и Бахтеярову. Своим подъемом Хабаров набрал полк из казаков и промышленных людей, двинулся на Олекму, где был встречен людьми воеводы Пушкина с приказом доставить его в Якутский острог на сыск по делу о незаконном винокурении. Но было поздно: Хабаров помахал перед посыльными отпускной грамотой от нового воеводы и ушел вверх по Олекме. По его отпискам, о которых говорили по всей реке Лене, князцы Левкой и Батога бежали без боя, бросив пять городов с пушками, ружьями, с золотой утварью и казной. В Жиганах рассказывали, что весной Ерофей приезжал в Якутский острог наряженный, как царский сын, обвешанный золочеными доспехами и оружием, набрал новых охочих людей и увел на Амур, обещая вызнать дорогу к китайскому хану Богде.
Люди, зимовавшие на поденных работах, считали себя обманутыми судьбой: все они проплыли мимо устья Олекмы, стремясь пристать к какой-нибудь ватаге, чтобы добраться до Колымы. В Жиганах бывалец Гаврилка загулял вместе с промышленными Алексы Едомского, Селиверстов же, едва обсохнув после бани, — стал искать нарты и работных людей. В пути он презрительно слушал их догадки, что Батога с Левкоем — князья старорусских сибирских городов, что Сибирскую Русь надо искать на Амуре. В подтверждение гулящие ссылались на передаваемые по Лене сказы Ерофея Хабарова о брошенных князьями городах. Селиверстов с ревностью рассказывал о Колыме, о богатых костью лежбищах моржей и опять примечал в лицах спутников тупое равнодушие. Входя в раж, он показывал самые крупные моржовые клыки, прикидывал их стоимость по ленским ценам и снова не видел в глазах бедствующих людей ни восхищения, ни зависти.
— То я Олекмы не знаю или Ярка Хабарова, — насмешливо язвил. — Брешет, будто над дураками потешается!
Гулящие с ним не спорили, только переглядывались меж собой, а то и посмеивались. Обоз благополучно и быстро добрался до Якутского острога, Юша расплатился с работными и предъявил груз таможенному голове. Тот без проволочек поставил его перед дьяком и новым воеводой. Взглянув на него, Селиверстов понял, что Дмитрий Андреевич по нутру своему никакой не служилый, а самый обыкновенный купчина: жадный и хитрый. «Такого лестью и уверениями не проймешь, — подумал, — но покажи ефимок — и он твой благодетель! Видать, Ярко это хорошо распознал и обвел выкреста вокруг пальца». Думая так Юша, плутовато щурился и прикидывал, как ладить с новой властью.
Францбеков был наряжен в короткий фряжский кафтан поверх камзола, шея обвязана шелковым платком, голова покрыта шляпой с пером. Подергивая длинными усами, он перебирал моржовые кости, глаза его горели, пальцы подрагивали. Примечая всякую мелочь, Селиверстов приглушенным и вкрадчивым голосом ворковал, как ходил с Мишкой Стадухиным от Колымы на восход, узнал о четырех реках, по которым живут народы многие, а по тамошнему морскому берегу заморной кости столько, что можно грузить десятки судов. Дать бы ему, Юшке, добрый коч, да парус, железный якорь, да троса пенькового по нужде, уж он бы в одно лето собрал бы и привез такой кости пудов триста.
— Допрая затея, допрая! — шепелявя, хвалил его воевода. — Васка Власьев наменял пут и просит сто слушилых на чукчей!
— Ох уж этот Васька! — стал ругать бывшего приказного Селиверстов и выложил жалобные челобитные Стадухина.
Начальствующие люди читали их с доверием, но опять, как среди гулящих, тянувших его нарты, Юша не замечал в их лицах должного восхищения его посулами, про себя же завистливо ругал Хабарова: «Врет ведь про города с золотом, и ему верят…Не слишком ли я скромен? Латинянам того не понять, у них совести нет».
— А это пустяк! — почтительно согнув спину, небрежно кивнул на привезенный груз. — Мишка Стадухин отправил для смотра. Сгодятся ли? — Льстиво осклабился, потом, помрачнев, вздохнул: — Да и не вся здесь кость: принудил бес связаться с ворами, которые тайно меняли соболей у колымских юкагиров. Обокрали меня в пути люди Алексы Едомского, полпуда кости да кабальных грамот на пятьдесят рублей.
Воевода вопросительно взглянул на дьяка, тот на письменного голову. Подьячий взвесил кость, перечитал описи Нижнеколымского и Жиганского острогов.
— Немедля отправим людей для сыска! — уверили воеводу.
С моржовой кости были взяты отправленные Стадухиным в казну две головы и четыре самых крупных зуба весом в двадцать пять гривенок, полпуда обетной кости переданы Спасскому монастырю. Четыре пуда, бывших у Селиверстова, воевода купил за двести двадцать шесть рублей. Ленская цена оказалась много выше, чем предполагали на Колыме. Юша не ждал такой щедрости, но виду не подал. В Жиганский острог он возвращался на оленьей упряжке, в лисьей дохе и собольей шапке, с должностной важностью в лице. С ним были посланы для сыска якутский таможенный голова и трое служилых. С помощью жиганских казаков они обшарили государево зимовье и жилье, нашли у кабацкого откупщика два моржовых клыка, которые Селиверстов опознал. Откупщик указал на торгового человека Алексея Едомского, у которого их купил. Тот орал под плетьми, что давал на себя кабалу только на пять рублей. Но над огоньком вынужден был признаться в пятидесяти и в том, что кабальные грамоты сжег. Было несовпадение: по описям нижнеколымского и жиганского приказчиков, у Селиверстова недоставало всего пять соболей. Едомский явил здесь на пять больше, чем указано в описи. Но Юша выкрутился как змей, сказав, что взял мех от Стадухина для его жены, а Едомский вынужден был признать, что беспошлинно поменял эту рухлядь в Янском зимовье на хлеб и масло, и оговорил знакомого торгового человека. На том сыск кончился. Селиверстов смотрел на пострадавшего передовщика ясными глазами, в которых леденела радость отмщения. Алексей Едомский, щуря свои красные и затравленные, при свидетелях отдал ему пятьдесят черных соболей, из которых пять были взяты в казну.
Довольный собой, Селиверстов укатил в Якутский острог. С ним вернулся изрядно пропившийся Гаврилка Алексеев. По наказу Стадухина Юша навестил его жену. В ее подновленном и расширенном доме явно по-хозяйски жил мужнин брат Герасим. Женщина встретила Юшу неласково, но деньги из пая мужа взяла. Не выдержав, разрыдалась, срывавшимся голосом стала спрашивать про Михея. Селиверстов как мог оправдывал его за то, что после неудачного морского похода ушел на Погычу сухим путем, предсказывал товарищу славу и богатство, если жена потерпит годик — другой.
— Уходил на год — на два! — вскрикнула она с укором. — Скоро четыре, как сбежал.
Селиверстов повел ясными глазами по потолку, повздыхал, подергал себя за бороду, стал пространно рассуждать о бабьей доле, потом, с прищуром предложил:
— Что тебе мучиться одной-то? Возьми меня на постой. Никто ничего не заподозрит: товарищ и связчик мужа вернулся.
Арина долго с недоумением смотрела ему в глаза, не совсем понимая, что предлагает гость, потом вдруг разьярилась и вытолкала из избы. Селиверстов фыркнул, отряхнул шубу, поправил соболью шапку и весело зашагал к острогу. «Униженные возвысятся!» — вертелось в голове поповское поучение. Так и выходило: обиды морского похода обернулись прибылью. Но была и задача, над которой он беспрестанно думал: поход не дал ожидаемой славы, на Лене говорили не о нем, а о Хабарове, восхищались не привезенной костью, а пустыми посулами Ярка.
Юша бывал в кабаке, пьяным не напивался, но, собрав любопытных, много рассказывал о новых реках и землях, о богатствах, которые ждут крепких рук и затрат на добычу, радовался, когда чувствовал, что захватил сказками богатых торговых людей. Они начинали верить и думать, сколько денег вложить в следующий поход. Юша не мелочился, распаляясь в помыслах о богатстве, понимал, что воевода против государевой прибыли своей корысти не упустит, и решил просить у него пять тысяч казенной ссуды, надеясь получить половину. От тех богатств, которыми ворочал в уме, захватывало дух. Помимо ссуды надумал просить добрый казенный коч, три десятка служилых и промышленных людей, оружия, хлеба, товаров, подарков для народа, алкавшего власти русского царя. При очередной встрече воевода доброжелательно выслушал его просьбу.
— Мноко припыль, мноко расхот! — прокудахтал улыбаясь и предложил подписать кабальную грамоту на пятьдесят рублей.
«Догадался, что неправдой взял деньги у Едомского», — холодея, подумал Селиверстов, растерянно подоил бороду и со многими вздохами подписал. Он ждал торга, предполагал, что воевода скостерит просьбу о пяти тысячах до пятиста рублей, но выкрест ни словом, ни взглядом не показывал, что удивлен суммой. Через две недели Селиверстов узнал, что жалобы на сына боярского Василия Власьева возымели действие, бывший приказный Яны, Индигирки, Алазеи и Колымы был выслан служить на Ленский волок. Весть эта обрадовала Юшу, и он решил напомнить о себе. Воеводский холоп доложил о нем, и Францбеков принял без проволочек, вперед ждавших приглашения. Его гладкие, пухлые, чисто выбритые щеки подрагивали, как бабьи груди. Селиверстов повторил сказанное при прошлой встрече, добавил только, что Мишка Стадухин ждет помощи, чтобы подвести под государя многие народы.
— Мноко припыль, мноко расхот! — согласился воевода, непонятно чему рассмеялся и положил перед Селиверстовым готовую, уже написанную кабалу на пятьдесят рублей. Свидетелями были вписаны его люди.
Острый клок Юшкиной бороды затрясся, он тоскливо взглянул на Францбекова и наткнулся на такой леденящий блеск глаз, что спорить не посмел. Подписал. Воевода убрал кабальную грамоту в сундук и сказал:
— Прафильно гофоришь! Там тепе лучший коч. Пойтешь целофальником к Мишке, а ему пыть прикасным на Анадыре. Потпери пятнатцать челофек… — Уточнил: — четырнатцать, ты — пятнатцатый!
— Мало! — осторожно запротестовал Селиверстов. — Надо бы добавить.
— Хфатит, чтобы доплыть до Колымы! — отрезал Францбеков. — Там найтешь пестельникоф.
Повздыхав, почесав затылок, Селиверстов согласился, что в походе до Колымы хватит и четырнадцати человек. Разговор был закончен, он откланялся. За дверью воеводской половины на лавке вдоль стены сидели полтора десятка промышленных и торговых людей, терпеливо ждали, когда он, Юшка, наговорится с воеводой. Селиверстов распрямил спину, взглянул на них с важностью, подошел к столу таможенного головы, перекинулся острожными новостями, чтобы знали, что он здесь завсегдатай. Напоминать воеводе о себе Юша стал реже, но когда приспевало, заходил без очереди и всякий раз подписывал кабальные грамоты на десять или двадцать рублей. Желавших плыть на Погычу было много. Гулящие ходили за ним толпами, он обнадеживал их туманными посулами, но ждал и искал других. Промотавшийся Гаврилка во всем прямил, охотно подтверждал его рассказы, подсаливая своими подробностями и домыслами. Среди зимы на поденных работах крутилась одна голь, найти прожиточных своеуженников можно было только после возвращения людей с промыслов. Селиверстов возлагал надежды на торговых, всеми силами завлекал их вложить деньги в новый поход, отбирал людей пристрастно и осторожно, прикидывал, с кого что взять. Между тем примечал и шаткость нынешней власти, узнал от свидетелей и участников, что Дмитрий Францбеков и его дьяк прилюдно дрались, втягивали в свои распри приострожный люд, потом помирились и ратовавшие за дьяка оказались одураченными. Приказчик дьяка, Афонька, прилюдно посмеивался: «Был де Головин, по головам бил, приехал Пушкин — стало пуще, а как Францбеков приезжал, так весь мир побежал». Селиверстов догадывался, что купцами уже доставлена в Москву жалобная челобитная на непомерные воеводские поборы, и спешил получить свое.
Даурский человек Дружина Васильев решил вложить в его поход две с половиной тысячи рублей с условием, что Селиверстов, вернувшись на Лену, даст ему пятьдесят сороков соболей по колымским ценам. Вычегжанин Евдоким Григорьев подписал складную запись, по которой обязывался вложить крупную сумму, чтобы отправить на Индигирку, Колыму, Чендон и иные сторонние реки своих покрученников. Торговый человек Евдоким Курсов вложил в предприятие Стадухина и Селиверстова занятые у родственников деньги, чтобы самому с братом идти к неведомым землям. Наконец определился и воевода, пообещав на поход больше двух тысяч рублей казенного подъема. Юшка ликовал и важничал. Своими сказками ему удалось-таки пронять торговых и промышленных людей. «Не для одного кота Масленица!» — ухмылялся, представляя смешливое лицо Хабарова с его напускной важностью.
В кабаке Селиверстов высмотрел бабу-юкагирку, вывезенную с Колымы. Изрядно спившаяся, потерявшая треть зубов, она толклась среди гулявшего сброда и бойко отвечала на соленые шутки. Юша подсел к ней, поднес чарку, вызнал, что служила толмачкой в промысловой ватаге пропавшего передовщика Афони Андреева.
— Я со льдом плыву на Колыму и дальше, на Погычу! — стал хвастать сильным голосом, который был слышен за дверью кабака. — Могу тебя взять: Митрий Андреевич мне ни в чем не отказывает, — разглядывая новокрещенку, прикидывал, что для сожительства мог бы купить моложе и краше, но ему нужен толмач, а хорошему толмачу платят, как передовщику.
Думал и о том, что хлеба юкагирка ест мало, довольствуется рыбой и мясом. Польза от девки представлялась явной, и он стал предлагать свое покровительство.
— Ставь полуштоф и считай, сговорились! — поняла его Бырчик, крещенная Матреной, ни словом не вспомнив про прижитую дочь, на которую могла бы вытребовать хлебный оклад.
В предчувствии скорого выхода Юша то расхаживал по Якутскому острогу, как петух по хозяйскому двору, то носился, как голодная курва. Не все складывалось так гладко, как хотелось. Весенний паводок поднял воду в реке на две сажени, но Якутский острог, поставленный воеводой Головиным, не подтопило. К этому времени Юша стал терять счет долгам перед воеводой и торговыми людьми. По его прикидкам выходило, что одних только кабальных грамот им было выдано больше чем на три тысячи. Но он отчего-то уверился в трехстах пудах заморных моржовых клыков, которые если еще не привез Стадухин, то вскоре будут добыты и долги окупятся.
Селиверстов снимал угол у торгового человека Евдокима Курсова, которого обещал взять с собой на Колыму пайщиком. В той же избе ютился брат Евдокима Терентий и четверо гулящих людей. Вести туда юкагирскую бабу с дочкой Юша не пожелал: дорого, но сговорился занять горницу у жены служилого Гришки Татаринова. Она с двумя дочерьми и ясыркой жила просторно, ждала мужа.
Глядя на свой пустеющий мешок с клеймеными соболями, Юша возлагал надежды на лето и дальнейшую жизнь за казенный счет. Между тем тучи над властью Францбекова сгущались: торговые люди, бывшие у него в немилости, становились грубей и заносчивей, часто собирались толпами, о чем-то оживленно говорили и умолкали при появлении Селиверстова, который слыл воеводским ушником.
Река вошла в прежние берега, но кочи промышленных и торговых людей стояли при остроге, ожидая воеводского разрешения на выход. Один только Андрей Горелый со служилыми и промышленными людьми снова был отпущен на Индигирку. «Что дал, что обещал воеводе?» — пытался вызнать Селиверстов. Ценное время утекало, а Францбеков медлил, безмерно обирая перед выходом всякую торговую ватажку. Не выпускал и Селиверстова, обещая казенный коч с припасом, вымогая новые кабалы. Примечая признаки к перемене власти, Юша и злорадствовал, и боялся не успеть.
В середине июля гнус и адова жара выгнали из тайги последние ватаги промышленных людей. С Шилки и Амура приходили нелестные вести о походе Хабарова. Желавших бежать туда убыло, а на Погычу — прибавилось. Селиверстов отказывал одним, обнадеживал других, вымогая кабалы под будущую прибыль, но с каждым днем становился суетливей и беспокойней, чаще бегал к воеводе, уже не глядя, подписывал кабалы на себя и замечал явное беспокойство во всех начальных людях острога. Только на закате лета в воеводских помыслах что-то переломилось. На Ильин день дьяк с важным видом зачитал Юше воеводскую наказную память, в которой он назывался не промышленным человеком, а охочим, отпущенным служить без жалованья на Колыму и дальние неприбранные реки. Селиверстов слушал дьяка, кивал, не во все вникая, и в мыслях уже правил кочем.
По крыше съезжей избы стучал ливень — святая ильинская вода. Лето кончилось, подступала осень с дождями и бурями. В оставшееся время добраться до Колымы было непросто. «Ничего, — утешал себя Селиверстов. — Лишь бы вырваться из острога!» По наказной памяти казна вкладывала в его поход больше трех с половиной тысяч рублей снаряжением, припасом и товарами. С Селиверстовым воевода отправлял на Колыму указы. Среди них был ответ на челобитную Михея Стадухина о помиловании и восстановлении в жалованье служивших ему беглых казаков, о высылке в Якутский острог Анисима Костромина, Семена Моторы, Никиты Семенова и бывших с ними беглых служилых. Михей Стадухин воеводским указом назначался анадырским приказным. В этом тоже была Юшина хитрость. Вместо власти над всеми землями восточней Колымы он посадил Мишку на одну реку. Не зная, как отнесется к такому повышению товарищ по прежним походам, готовил для него отговорку, что хотел добиться правды в споре с Семеном Моторой. К зависти торговых ватажек, Юша получил лучшее казенное судно с запасом парусов и тросов. На него понесли неслыханное количество хлеба, соляной припас, три пуда пороха, три — свинца, два мушкета, судовой инструмент, подарки иноземцам: сто пятьдесят железных стрел, полсотни больших и малых железных пластин, столько же топоров, четыре тысячи синего одекуя — товар от самого воеводы. Большую часть этого богатства Францбеков вымучил с торговых ватаг купцов Гусельникова и Босого. Сверх четырнадцати человек, по начальному уговору, Селиверстов упросил воеводу взять на хлебный и соляной оклад бабу-толмачку с дочерью и добился своего, хотя Бырчишку требовали вернуть гусельниковские люди.
Снова Юшка расхаживал по острогу гоголем, небрежно принимая поклоны зависимых людей. Из четырнадцати набранных семеро шли в поход охочими людьми с правами новоприборных казаков. Среди них был Гаврила Алексеев, которому за зиму изрядно надоела обжитая река Лена. Все они выдали Юше кабальные грамоты на себя. Другая половина промышленных людей числились своеуженниками, со своими паями. Чтобы уйти, иные из них кабалились на стороне. Как воевода вымучивал с Селиверстова долговые обязательства на случай удачного похода, так он тянул деньги с кого мог. Рука руку моет. Юша предполагал, что кабалами дает воеводе посул за то, что тот снабдит его казенным добром сверх письменного уговора, а он при удачном возвращении отдаст казне долг и десятину с добытого. Но латинянский выкрест тоже надумал хитрость и перед самым выходом вынудил Селиверстова подписать уговор, по которому обязывал кроме долга казне отдать ему, Францбекову, две части из трех от всего добытого. Скажи он о таком договоре сразу — Юша не подписал бы его под кнутом, но куда было деться, когда кабалы на себя уже даны? Селиверстов попьянствовал пару дней, ни с кем не делясь бедой, и нашел свое положение не таким уж плохим. Кто знает, что будет завтра, а сегодня он был на коне.
Только 24 июля Францбеков дал ему на руки отпускную грамоту и в тот же день выпустил из острога еще четыре коча торговых людей: Луки Влодимирца и Семена Иванова — приказчиков гостей Шориных, другие два принадлежали Прокопию Широкову и Шаньге. Их передовщики и приказчики были злы на Селиверстова, но знали его как умелого, удачливого морехода и надеялись следом за ним безостановочно дойти до Колымы. Эти кочи были не последними из ждавших отпуска. Дольше всех Францбеков держал суда всесильных московских купцов Гусельникова и Босого, приказчики которых всеми силами и покровительством хозяев уклонялись от воеводских поборов. Надежды тех, что пошли следом за Селиверстовым, оправдались. Словно черт правил казенным кочем, в четыре недели Юша привел караван к устью Яны. При недолгой остановке суда заправились свежей водой и загрузились дровами. Коч Селиверстова выбрал якорь, и не опомнившееся от передряг пути торговые суда вынуждены были следовать за ним к Святому Носу.
Осеннее море перекатывалось крутыми, хлесткими волнами мелей. На них лежали низкие рваные тучи. Ветер срывал водяную пыль с гребней, подвывал в снастях. Суда мотались на волнах, вскидывались и зарывались в них, но шли за кормой коча, на которой бессменно маячил Юша Селиверстов. На мысу их остановил ветер с востока, суда вынуждены были встать на якоря и ждать перемены. Беспрерывно падал снег, вокруг стоянки собирались льдины, с каждым днем их становилось больше. Юшка метался по кочу, трубным басом орал на подвернувшихся людей. Вскоре он утих и стал появляться в подпитии. Промышленные и охочие зароптали: тайноедение и тайнопитие почиталось за великий христианский грех.
— За один прокорм в пути кабалились, что ли? — Возмущались новоприборные охочие Иван Обросимов и бывалец Гаврила Алексеев. Их с опаской поддерживали своеуженники. В носовой жилухе недовольство высказывалось громче и откровенней, в кормовой было тихо. Там хранился ценный товар и припас, ютились Юша с толмачкой и ее дочерью. Вдруг и оттуда донеслась селиверстовская брань. Полуодетая толмачка выскочила со штофом в руке, драной кошкой перескочила за борт на льдину, прыгнула на другую и вскарабкалась на коч Луки Владимирца. Как ни орал Селиверстов, Лука наотрез отказался выдать девку и штоф. Юшка в ярости выволок на палубу Бырчишкину дочь и швырнул за борт. Побарахтавшись в ледяной воде, девочка вылезла на льдину и перебежала на торговый коч, к матери.
Суда простояли на одном месте десять дней. Юша то и дело взбадривал себя чаркой, чем все больше злил подначальных людей, выходил на корму осмотреться и лаял сбежавшую толмачку. При безветрии стали замерзать полыньи среди наносных льдин, у берегов нарастал лед. Если усиливался ветер и раскачивались волны, покров взламывался, пригнанные льдины с хрустом и скрежетом выползали на берег.
В канун Семенова дня, когда в Студеном море все суда спешат стать на зимовку, Селиверстов со вздохами и бранью решил повернуть в обратную сторону, к Нижнему янскому зимовью. Как только он приказал выбрать якорь, на торговых кочах сделали то же самое. Едва он двинулся по разводьям к устью Яны, они пошли следом. Сделано это было вовремя, потому что ветер усилился и началась буря. Льдины с треском и скрежетом бились, наползали одна на другую. Собаки промышленных людей выли, люди бранились. Селиверстов в обледеневшей парке, с красным носом и сосулькой бороды день и ночь стоял на руле, осипшим голосом приказывал то грести, то отталкивать льдины, то править парусом. За его кормой следовали торговые судна. По соображениям Юшкиных людей, им было легче. Но на них уже думали только о спасении жизни, бросали за борт тяжелый груз, чтобы облегчиться и задобрить разбушевавшегося водяного дедушку.
Снегопад то и дело переходил в такую густую метель, что с кормы не было видно носа судна. И все же Селиверстов привел коч к устью Яны. За ним в реку вошли три торговых судна. Здесь, в затишье, они целый день прождали четвертое, Шаньги, но оно так и не пришло. Приказчики московских гостей Шориных и Лука Владимирец плакали, печалясь о брошенных в море товарах. На другой день Юша решил, что ждать Шаньгу — понапрасну терять время, и пошел к Нижнему янскому зимовью. По его разумению, ничего не оставалось, как зимовать там. Торговые кочи двинулись следом.
Буря собрала возле государева зимовья больше сотни мореходов, шедших с Колымы и на Колыму. Кроме людей, прибывших с Селиверстовым, здесь стояли суда московских купцов Василия Гусельникова, Макса Бушковского, Григория Юрьева. Кочи Гусельникова вышли из Якутского острога позже Селиверстова: воевода держал их до самого августа, но благодаря задержке буря застигла их на Яне и они не потерпели убытков. Здесь стало известно, что коч Андрея Горелого, первым ушедшего из Якутского острога, выкинуло на берег в устье Хромы и раздавило. Тем летом Студеное море не жаловало ни торговых, ни служилых людей, а Горелый уже второй раз терпел разбой почти в одном месте. Коч Селиверстова с обледеневшими снастями и бортами приткнулся к берегу против зимовья, неподалеку от уже вытянутых на сушу судов. Голодные собаки промышленных людей соскочили на землю и поджали хвосты, не успев обнюхать меток: их окружила стая здешних, обжившихся промысловых псов. Из курившихся балаганов, с заметенных снегом судов к прибывшим потянулись торговые и промышленные люди, неволей застрявшие на Яне. Узнав Селиверстова, одни поворачивали обратно, другие глядели на него злобно и неприязненно. Приказчики, которые нынешним летом заискивали перед Юшей и просили его замолвить слово перед воеводой, вместо приветствия кричали:
— Не утоп, гаденыш? Не принял водяной дедушка из-за вони? Так мы ему в помощи не откажем!
Неласково встречала Селиверстова Яна, но это его не смутило. Потрепанный, но не сломленный он вытягивал шею и отвечал слегка осипшим голосом неприязнью на неприязнь. Купеческие приказчики, торговые и промышленные люди сдержанно позлословили и разошлись, нарочито, напоказ, стараясь оказать какую-нибудь помощь ватагам других прибывших судов. Селиверстову же помогать никто не желал. Его коч был вытянут на сухое своими силами. В переходе от Святого Носа многие товары и неводные сети вымокли, Юша велел развесить их на козлы для просушки, сам, сбросив обледеневшую парку, надел соболью шапку и с воеводской отпускной грамотой отправился в зимовье, где был уважительно принят все тем же янским приказным Козьмой Лошаковым, ожидавшим перемены. Ласковое слово и собаке приятно. Поубавив спеси и важности, Селиверстов рассказал о новостях Якутского острога, о своих нуждах и пригласил приказного на судно, где, запершись с Козьмой и двумя верными своеуженниками, загулял. Его люди стали колотить кулаками и пятками в дверь жилухи:
— Муки, масла дай!
Юша, чертыхаясь и злословя, выдал им пропитание на два дня. Не успел он с друзьями приложиться ко второй чарке, в дверь заколотил Гаврилка Алексеев:
— Вина давай! Не было уговора, чтобы кому хотел, тому наливал!
— Вы свое в Якутском выжрали! — не открывая, рявкнул Селиверстов.
Артем Осипов, один из его собутыльников, язвительно поддакнул:
— От самой Троицы гуляли впрок!
Люди на палубе попрепирались и ушли, но вскоре с их стороны послышались пение, хохот и громкие голоса.
— Муку на вино поменяли! — рыкнул Селиверстов. Хмельной, ринулся было разбираться, но осторожный янский приказный схватился за шапку.
Юша с двумя собутыльниками проводил его в зимовье, а на обратном пути, возле коча Луки Владимирца, увидел свою толмачку. Здесь тоже гуляли, радуясь чудесному спасению. Толмачка плясала возле костра.
— Пора и честь знать! — объявил ей мореход. — Погуляла — и будет!
Своим видом он показывал, что больше не сердится на сбежавшую девку, но Бырчик разразилась непотребной бранью:
— Пошел вон, недопесок! Не буду тебе служить!
— Куда ты денешься? — принужденно хохотнул Селиверстов. — В моей наказной грамоте записана!
— Сунь ее себе в зад! Мы не в остроге, а на воле! — выкрикнул кто-то из веселящейся толпы.
— Кто сказал невежливые слова про воеводский наказ? — рыкнул Селиверстов, двинулся грудью на гулявших, но остановился, словно уперся в скалу.
Люди, которым он не делал плохого, но провел сквозь льды, обернулись к нему с такой злобой, будто хотели разорвать.
— И на воле, языки укорчивают! — он неуверенно огрызнулся дрогнувшим голосом и отступил, вернулся на коч.
В носовой жилухе спали. Возле развешанного для просушки товара не было караула. Обругав бездельников, Селиверстов поставил протрезвевшего Артема Осипова, другому верному охочему велел его сменить в полночь. Перед сном пересчитал товар и не нашел неводной сети. «Вот на что гуляли!» — ожгла догадка. Голова вытрезвела. Он хотел будить Гаврилку, чтобы дознаться, кто унес и продал невод, но одумался вести сыск среди пьяных.
Утро показалось ему подозрительно тихим. Падал снег. На борту, под сугробом, в шубном кафтане дремал караульный. Только по пару дыхания можно было понять, что он жив. Сети и товар, развешанные для просушки, были завалены снегом, следов возле них не было. Селиверстов осушил чарку вместо завтрака, раздул чувал, обогрелся, повеселев, направился к зимовью. На берегу, возле судов купца Гусельникова, толпился народ, доносились громкие голоса. Любопытствуя, Юша повернул к ним. Припорошенные снегом, с хоругвями и иконами, здесь стояли промышленные и даже казаки. Именитый гусельниковский приказчик Михей Стахеев что-то резко выкрикивал. Половина толпы поддерживала его веселыми возгласами, другая нестройно возражала. «Круги завели!» — догадался Селиверстов и побежал в зимовье.
— Смута зреет под носом, — ворвался в избу. — У кочей круги!
Здесь сидели братья Курсовы. Увидев Селиверстова, они смутились, опустили головы. Юша подозрительно зыркнул на них — не жаловались ли? По виду не походило. Приказный глядел на него ласково, ответил печально:
— Что поделаешь? — Смущенно возвел глаза на образ Николы зимнего, в митре. — Гарнизона у меня нет! Поговорят, позлословят и разойдутся. Опять же на промыслы пора, а кормовых мест мало, соболь выбит. Не договорившись, нельзя расходиться.
Слова приказного успокоили Селиверстова. С утра он думал, как взыскать с гуляк неводную сеть. С них и взять-то было нечего, кроме промыслового завода. Не дать муки в зиму — не станут промышлять, просидят на поденных работах казне в убыток.
— Мы вот что! — смущенно пробубнил Евдоким, глядя в угол. — Зазимуем, однако. Вдруг мало-мало расторгуемся… И товар свой на берег снесем.
К полудню Юша придумал хитрость: с верными людьми переловил собак промышленных людей Тимофеева и Курочкина, пообещав девке чарку вина, взял под руку ясырку Истомы Аверкиева, с которой тот сожительствовал. Девку и собак он увел в аманатскую избу и сдал под запись янскому приказному. Его промышленные и охочие люди вернулись с кругов после полудня. Они возбужденно переговаривались и заговорщически посмеивались. Селиверстов тоже ухмылялся, ожидая, когда хватятся собак, сошел на берег, стал раскапывать занесенные снегом козлы.
— Девка где? — подбежал к нему Истомка.
— Невод где? — язвительно усмехнулся передовщик.
— Не сторож я твоему неводу! — закричал Истомка и схватил Юшу за грудки.
Тот бросил заступ, присел, нащупал в снегу под сапогом камень.
— И я твоей ясырке не сторож! — придавленно вскрикнул, распрямляясь, ударил промышленного.
Тот завопил, схватившись за голову, из-под шапки на брови скатился кровавый ручеек.
— Не бей нас! — закричал новоприборный Ивашка Обросимов, а его дружок, бывший спутник Селиверстова по морскому походу Гаврила Алексеев пригрозил:
— Доведешь до греха, удавим гаденыша! На Яне хоть заорись — воевода не услышит.
Истомка с пробитой головой поднялся на ноги, поплелся к гусельниковским кочам, Селиверстов подумал, — жаловаться приказному и мысленно посмеялся. Но вскоре к нему прибежала толпа торговых и промышленных людей с гусельниковских, шоринских кочей, с других судов. Размахивая руками, впереди шел Михей Стахеев и поносно орал:
— Товар и животы, что у тебя лежат, Митька Францбеков с нас брал, без того не выпускал из острога!
Истомка, подскочив сбоку, с полного маху треснул Юшу в ухо, да так, что тот повалился в снег. Верные Селиверстову охочие стали неуверенно защищать его. Их побили, связали и развели по разным кочам. При всех собравшихся гусельниковский и шоринский приказчики стали шнырять по Юшиному кочу, выискивая свое, взятое и вымученное воеводой. Ушли все. Побитый Селиверстов поднялся в жилуху, нашел ополовиненную флягу, выпил, расправил задиристо торчавшую бороденку и, мстительно скалясь, стал подсчитывать, сколько товаров насильно изъято. Выходило рублей на пятьсот…
— На девятьсот пятьдесят! — пролепетал, грозя в сторону торговых кочей.
Он хотел идти к приказному писать жалобную челобитную, но выпил вторую и третью чарки, после чего, покачиваясь, бормоча угрозы, растопил чувал и повалился на меховое одеяло. Жалобу можно было предъявить с утра.
Среди ночи снегопад прекратился, на восходе среди туч жалко зажелтело уходившее в зиму солнце. Селиверстов выбрался из жилухи, осмотрелся и не сразу заметил, что козлы пусты. Вчера, в ссорах, он не снял с них сетей и товара, сегодня их не было. Вокруг козел виднелись следы, тянувшиеся к кочу торгового человека Григория Юрьева, теми же следами была истоптана палуба. Свои, набранные в Якутском остроге люди разграбили казенный государев товар. Селиверстов негодовал: такие преступления не сходили с рук даже вдали от воеводской власти. Он сгреб снег пальцами, растер по лицу, утерся нутром шапки, отряхнул кафтан и широким шагом двинулся к избе приказного, писать жалобу на взбунтовавшихся людей. Козьма Лошаков поохал, посочувствовал, принял жалобную челобитную:
— Чем могу помочь со своими тремя казаками?
— Хоть муку и съестной припас, что не разграблены, прими в амбар под казенный замок! — попросил Селиверстов.
— Клади, приму! — согласился приказный. — Скажу казакам, чтобы помогли перенести… А ясырку, что ты привел, хозяин забрал. Она признала его и караульный отпустил. И собак промышленные увели. Не по праву взял, без суда и свидетелей. — Помолчав, полушепотом, оправдался: — Они ведь, торговые и промышленные, уже открыто грозят убить тебя, и нам говорят, если станем в том убийстве их обвинять — перебьют, как свиней перед Рождеством. А шоринский приказчик Семен Иванов еще и хвастал: «Не диковинно де вас убить, много де воевод по городам убивают, да от того де ничего не делается». Ой, зря ты их так раззадорил! — Боязливо отвел глаза. — Здесь не воеводский острог. Если станут заодно — перебьют нас и оправдаются.
Селиверстов раздосадованно рыкнул, побагровел, неприязненно взглянул на приказного, но ссориться с ним не посмел: не было у него никакой другой поддержки на Яне. Бунтовавшие люди, набранные в Якутском, хорошо это понимали и разъярились, узнав, что он свез весь съестной припас в государев амбар.
— Голодом уморить хочет! — кричали заводилы: Ивашка Обросимов и Гаврила Алексеев.
Толпа бывших спутников ворвалась в его жилуху, стала требовать назад кабальные грамоты, которые Юшка с них вымучил. Он и возразить не успел, как его повалили и били, пока не отдал, потом вытребовали хлебный оклад, чтобы идти на промыслы, а того, что хлеб взят в ссуду, под будущие прибыли, никто знать не хотел.
Коротка полярная осень. Резкими заморозками, менявшимися недолгой оттепелью, уже напоминала о себе зима. Немилостиво начиналась она для Селиверстова, но он не унывал. Той зимой, когда Селиверстов обхаживал воеводу Францбекова, а Михей Стадухин еще только думал о походе на Пенжину, Попов, Ретькин и их связчики, желавшие вернуться на Лену, из трех разбитых сделали небольшой надежный коч с двойной обшивкой бортов. Смешанное селение, в котором они жили, было на редкость мирным и спокойным, люди доброжелательными. Первое время это сильно удивляло попавших сюда русских людей: вечное бесхлебье, безбабье сибирских ватаг и отрядов обычно сопровождались дрязгами и ссорами.
— И у нас были ясырки, — с любопытством выспрашивал Ретькина Федот Попов. — От них еще больше раздора.
— Там одна на десятерых, редко — на троих, — отвечал обжившийся беглый пятидесятник. — И женки от разных народов — каждая со своей правдой, одна другую не понимает. А тут единоплеменницы, жен всем хватает, даже излишек. Хочешь — двух бери: они не против и между собой уживутся.
— Наши люди тоже сбродные, каждый со своим законом, — раздумывая, соглашался Федот. — Вдруг от того и мира нет?
Казак оказался прав, во время сборки коча к ватажке примкнули два одумавшихся покрученника. Когда работы были почти закончены, решил вернуться на Лену поповский своеуженник. Он ни с кем не ссорился, ничего не объяснял и не оправдывался, не просился, а предлагал себя в ватажку, зная, что не откажут по малолюдству. С ним набиралось восемь мореходов. Днем они неспешно конопатили новое судно, заботились об удобстве в плаванье, вечерами сидели у костра, любуясь кочем, глядели на дальнюю черную морскую воду. Путь к ней преграждали шевелившиеся льды. Как-то к ним тихо подошел Пантелей Пенда, присел, ласково пожурил:
— Полгода не прожили, а осторожность потеряли: даже не оглядываетесь. Зря! Зря! — Смешливо взглянул на Ретькина. — Отвыкайте от спокойной жизни. А надумаете вернуться — примем!
— Не прельщай! — вздохнул беглый пятидесятник и помотал головой, отстраняясь от навязчивых мыслей. — Со всех сторон в грехах: там долги, крестное целование, ясырка, здесь женка, детишки. Не пропадут, конечно, а все же душа мается…
Федот Попов опасливо передернул плечами, он боялся, что напоследок кто-то раздумает возвращаться и если понадобится выгребать своей силой или вытягиваться на лед — сил может не хватить. Потрескивал костер, от головешек высоко взлетали и отскакивали искры. Одни вычерчивали в темноте почти прямые полосы, другие кружили и метались. Пантелей наблюдал их с сосредоточенным лицом, и Федот почувствовал, что они думают об одном: о его вещем сне.
— Вот ведь, — кивнул старому другу, — искры лягут на землю пылью, головешки истлеют горкой золы.
— Те и другие одинаково станут землей, прахом, — вскинул глаза и живо отозвался Пантелей.
Федот повел взглядом на закат:
— Как там ни плохо, но есть надежда, что потомство, пусть и раскосое, не забудет нас, не отречется. А здесь… Не знаю!.. Сам говорил, чудь живет, не мешаясь с инородцами, не то что мы.
— Здесь только ради брюха и блуда жить! — вымученно воскликнул Ретькин.
— Мы даем надежду! — жестко отрезал Пантелей и откинулся на сцепленные под головой руки, молча вскинул глаза к небу.
То ли миловал Бог, то ли попускал по грехам, но наконец задуло с востока. После обычных сборов, старые товарищи помогли столкнуть коч на воду. Он был тяжеловат для восьмерых: из крепких досок, с толстыми, бортами, округлым, как яйцо днищем, которое должно выдавливать льдами, а не ломать. Как ни тесна была жилуха, но закрывалась не кожей, а дверьми, между нар маленький чувал с вытяжной трубой. Остатки товара, рухлядь и кость тоже были надежно укрыты. Коч закачался на приливной волне и под веслами легко обошел камни, побившие все три судна, из которых он был сделан. Был поднят парус, весело зажурчала вода под днищем, шестеро покрученников и беглый казак бездельничали.
— Несет к земле зубатых людей! — Федот указал Ретькину на приближавшуюся туманность по курсу и передал руль.
Он не ошибся, уверив спутников, что знает обратный путь. Вскоре показался знакомый остров. Коч обошел его. Мореходы узнали залив, в котором когда-то укрывались от бури, вошли, встали на якорь на месте прежней стоянки, спустили на воду ветку с березовым бочонком, чтобы набрать свежей воды. В это время ветер переменился, пережидая его, судно стояло в безопасности. Помня прошлую встречу, зубатые люди принесли для мены моржовые клыки, но коч был набит ими. Федот выменял на бусы четыре больших кости, другие брать не стал, но щедро одарил тамошних жителей. На другой день их явилось до полусотни, все требовали подарков. Получив их, но меньше, чем в прошлый раз, дикие рассердились, стали швырять камни. Промышленные дали холостой залп — они разбежались, но потом приплыли с луками и копьями, готовые к войне.
К счастью, ветер стал меняться, мореходы выбрали якорь, вышли на веслах из залива и подняли парус. Зарываясь скулой в унимавшуюся волну, коч пошел на север, к темневшей полоске плавучих льдов. Вскоре Федот велел спустить и надежно закрепить парус, идти по ветру дальше было небезопасно. Но льды все равно приближались, уже слышался их скрежет, в нем чудились людские голоса и устрашающие вопли. Разводий среди них не было, не виделось и суши. Мореходам хватало сил лишь на то, чтобы отталкивать льдины от бортов и не быть затертыми. Выгрести в обратную сторону против ветра они даже не пытались, а ветер все не менялся. Как ни старались люди уклоняться от скрежещущего белого поля, вскоре коч со всех сторон был окружен льдинами. Выбрав одну из них, покрепче и побольше, Попов и Ретькин сговорились вытянуть на нее судно воротом. Большими трудами коч выполз на лед днищем, при этом якорный трос так изорвался, что не было и сажени без узлов. Дрова быстро кончились, на исходе были еда и вода. От усталости равнодушные к дальнейшей судьбе, мореходы завернулись в меховые одеяла и залегли на нары. Некоторое время со сном боролся один Федот Попов, потом и он предал себя в руки Божьи. Время от времени кто-нибудь выбирался на свежий воздух, оглядывался по сторонам и снова запирался в сырой жилухе. Спутники высовывались из-под меховых одеял и шубных кафтанов, вопросительно глядели на него и снова безнадежно укрывались, сберегая живое тепло в теле. Иногда падал снег. Его набивали в бочки, заносили в жилуху. Сырости и холода прибывало, но снег таял и давал воду. И так носило льдину с кочем до середины августа. Терпящие бедствие понимали, что через пару недель устья рек покроются льдом, и если покажется земля, придется просекаться к ней или тянуть судно по льду.
— Там она, там! — глядя на карту, писанную на коже, Федот указывал на полдень и вглядывался в дымку окоема. — Встанет лед — сделаем нарты, пойдем пешком.
Лед крепчал и смерзался, но идти было рано: белое поле двигалось, с грохотом трескалось, льдины вставали дыбом, наползали одна на другую. Наконец вдали показалась черная скала, льдина с кочем медленно приближалась к ней.
— Ну, как всегда, слава Те, Господи! — Федот, крестясь, усмехнулся истончавшими губами. — Помучили, теперь приласкают.
— Кто? — сипло спросил Иван Ретькин, походивший на обряженный скелет.
— От самого Оленека все думаю, кто? — признался приказчик. — То ли ангел-покровитель так суров, то ли бес так добр.
— Из-за казака все беды, — прошамкал Митька, покосившись на Ретькина, и добавил: — Ради греховного властолюбия женку и прижитых детей бросил.
Федот качнул побелевшей головой. Митька его понял, покаялся, осклабив черные десны:
— И то правда! Кто без греха?
Милостью или попущением Божьим льдину с кочем вынесло прямо к камню. Оцинжавшие мореходы уже съели кожи, бечеву и окорачивали голяшки бахил. Федот опасался, что тайком начнут есть кожаный парус, сивучью кожу с картой клал под голову. Островок оказался невелик. Леса на нем не было, но в скалах скопился голубой пресный лед, из камней торчал выброшенный волнами плавник. Двое оцинжавших покрученников, устав бороться за жизнь, умерли в виду суши, радуясь, что их тела не будут брошены во льдах. Остальные, едва передвигая ноги, попытались вытянуть коч на сушу или закрепить за камни. Из этого ничего не вышло, только изорвали остатки варовых ног — растяжки мачты. Очередное несчастье сломило дух, хотя появились дрова и вода, в жилухе стало тепло. Покрученники злились на приказчика и казака за то, что те сманили их на возвращение, а теперь не дают варить парус и злополучную карту. Все их надежды были связаны только с выживанием, о спасении коча, рухляди, груза моржовой кости уже не думали. Беглый пятидесятник считал свое положение справедливым наказанием, стал покладист и покорен, беспрестанно молился. Один Федот делал вид, что верит в милость Божью и освобождение из ледового плена, укорял спутников за уныние:
— Умишком оскудели, что ли? После стольких мытарств сидим в тепле, есть вода, радоваться надо, а не гневить Господа. Окрепнет лед, сделаем нарты, пойдем на полдень, — тыкал пальцем в карту, писанную по коже сажей. — Где-то здесь устья Колымы и Индигирки.
И правда случилась удача: голодным людям удалось застрелить небольшого, слишком любопытного белого медведя. Откуда взялись силы: на берегу развели костер из плавника и сала. Покрученники стали печь в котле кровь.
— В ней душа зверя, грех есть, хоть бы печеную! — попробовал вразумить их Федот.
Его не слушали, едва почернела — остудили, стали с жадностью глотать. Иван Ретькин, с печалью посматривая на спутников, пек лапы, шепелявя, приговаривал:
— Зимовал на таком же острове, но не на этом. Там была изба под землей. Лет сто как брошена, а то и больше, но цела, потому что искусно сделана.
Федот принес другой котел, натопил воды из пресного льда, мелко нарезал мяса с ребер, стал ждать, когда закипит. Ретькин, обжигаясь, скоблил обгоревший ворс, сдирал кожу, осторожно сосал парившие хрящи, охал, крякал, прерывисто и гнусаво вспоминал пережитое.
— Медведи да тюлени — другой еды не было. Лапы и ласты делили по жребию, в очередь…
Федот благостно вдыхал запах горящего сала, насыщаясь им, морщился от неуместного рассказа и ждал. Когда мясо выварилось, опять ждал, остужая его, потом мелкими глотками пил отвар. Ретькин тоже приложился к его котлу. Митька, насытившись, отполз и со страхом в лице прислушивался к тому, что происходит в кишечнике.
— Господи, помилуй! — шептал. — Не устоял перед соблазном.
Вскоре все схватились за животы, постанывая, полезли на коч. Федот тоже мучился болями, но к полночи они отпустили. Ретькин сдержанно постанывал, свернувшись в узел, покрученники катались на тесных нарах и выли. Федот сошел на сушу, чтобы не слышать их мук, помочь им он не мог, раздул костер, разогрел и погрыз хрящи лап. К утру стоны стихли, рассвело. Федот со спокойным равнодушием подумал, что все перемерли и, оттягивая время, пошел по острову осмотреться, нашел пресный ручей, напился и умылся живой водой, остановился против чудной возвышенности, похожей на половинку шара. Вспомнил, что-то похожее видел на острове, открытом Мезенцем и Пустозером. Вскарабкался, увидел такое же, как там, брошенное жилье, сделанное не так, как промысловые зимовья, но крепко и надежно для многих поколений звероловов. Перебарывая страх, что остался один, он вернулся на судно. Казак Ретькин лежал с благостным лицом, он был мертв. Тело одного из спутников было скручено, как живому вывернуться невозможно: и грудь, и зад в одну сторону. Митька с Максимкой спали. Федот не стал их будить, нарубил плавника и растопил чувал.
На другой день трое вынесли на берег мертвых и уложили в расселину скалы рядом с двумя другими, умершими от голода, приложили тела камнями, почитали молитвы, вырубили и поставили крест из плавника. Сил прибыло, все трое перестали плеваться кровью и оправились от опухоли. Коч был накрепко приморожен к льдине, а ее вместе со звеневшим и трещавшим полем относило от острова к закату. Федот походил вокруг судна, постучал пешней, пробил лунку вершков на пять, до воды не добрался. За его работой пристально следили Митька с Максимкой. Взглянув на них, он отметил обострившиеся глаза с затаенной завистливой злобой, которую не раз видел у больных, раненых и обреченных на гибель. О том, чтобы вытянуть коч на сушу, нечего было думать. Выжившие запаслись дровами, водой, испекли остатки мяса и отдались судьбе. Вместе со льдами коч стал удаляться от острова. Со счета дней они сбились. По прикидкам должна была быть середина сентября. После очередного снегопада по небу блекло растеклось розовое солнце. Федот со спутниками ел, спал и набирался сил. Вскоре остров пропал из вида. Поскольку в чувале круглосуточно поддерживали огонь, дрова быстро кончились. Федот еще раз обошел судно, как коня по холке, похлопал ладонью по борту и стал рубить мачту.
— Отдохнем, обогреемся, — приговаривал, ни на кого не глядя, — сделаем нарты и пойдем к полудню.
Дров не жалели, сварили остатки медвежатины, стали расшивать доски с бортов, делать нарты. Все понимали, что не смогут взять с собой и десятой части добытой заморной кости. Студеное море забирало свое добро, дав поиграть с ним седобородым детям.
— Рухлядь надо брать — она легкая, — бормотал Федот. — Во льдах можно положить под себя, обогреться. — Если Бог даст быстро выбраться — вернемся за костью.
— Сколько нашей и сколько твоей! — нехорошо блеснул глазами Митька, а Максимка скривил губы.
— Знаете свой пай. И родственникам покойных надо отдать долги!
— Не про рухлядь говорю, про рыбий зуб!
— Грузите, сколько знаете, что уж теперь, — отвечал Федот, не подавая виду, что чувствует разлад. — Надо метки оставлять, чтобы вернуться, вдруг заметет след.
— Будем оставлять, — неуверенно поддакнул Митька, глаза его сделались прежними: усталыми и тоскливыми.
В тепле, с припасом пресного льда и остатками мяса идти никуда не хотелось. Сладко ворковал бес, прельщая отдыхом и сном, незаметно переходящим в безболезненную кончину. Жаль, конечно, что во льдах, без погребения, но не всем дается почесть в конце пути.
— Работать надо! — подстегнул себя Федот и оторвался от чувала.
Они сделали три нарты в полторы сажени длиной. Грузились по силам. Федот никого не неволил, не напоминал о прежнем уговоре и крестном целовании. Сам положил на низ пуда четыре лучших клыков, сверху — меха, увязанные в сорока. Мешки, в которых они хранились, съели во льдах. Получилась гора в рост. Он покрыл груз остатками паруса и перетянул нарезанными из него ремнями. Спутники так же нагрузились костью и паевыми мехами. Помолившись на восход, Федот поелозил ногами по льду, но не смог сорвать нарты с места. Спутники, не оглядываясь, протянулись на сажень и выдохлись. Пришлось разгружаться. Федот сбросил полтора пуда кости, снова перетянул поклажу ремнями, попил воды из топленого снега, напрягаясь, первым потянулся в полуденную сторону. Он быстро уставал прокладывать путь, связчики, меняя его и друг друга, выдыхались еще быстрей, потом припадали к нартам, отдохнув, снова брались за бечевы. И опять примечал Федот в их лицах гневно обострившиеся ноздри, набухшие веки, злобу в прищуре. Шли до сумерек. Выбившись из сил, остановились, поели холодного вареного мяса, сбросили с нарт поклажу. Мороз был несильный, обложившись рухлядью, Федот спал крепко. На следующий и третий день продолжалось то же самое, только убыло мясо, а матерой земли все не было. И еще, он стал выдыхаться чаще спутников и отставать. Между собой они не разговаривали: молча отдыхали, молча ели и ложились спать. После пятой ночи Федот проснулся от кряхтенья и скрежета. Митька с Максимкой, не глядя на него, собирали нарты, забирая остатки мяса. Часть моржовой кости с их нарт была брошена на лед. Ни слова не говоря, даже не взглянув на лежавшего товарища, они накинули на плечи бечевы и двинулись в полуденную сторону.
— Бросили! — Перекрестился Федот.
Он встал, собрал нарту, окинул взглядом оставленные моржовые клыки, сложил их колодцем и, налегая на бечеву всем телом, двинулся по следу связчиков. С облегченными нартами те шли быстрей, до полудня маячили впереди, затем пропали из виду. Федот остановился, достал компас-маточку, сверил направление. Покрученники уходили лишка к востоку. «Лучше бы к западу!» — глухо пробормотал. Попробовал сменить направление, но быстро выбился из сил. Тянуть нарту по следу было легче, и он вернулся на проторенный путь. Ночевал один. Набил флягу снегом, приложил к животу под одеждой. Подрагивали натруженные руки и ноги, знобило тело.
Утро было ясным. На востоке взошло солнце, бросив длинные тени от торчащих льдин. «Теперь Митька с Максимкой одумаются и возьмут круче к западу!» — с облегчением подумал Федот и долго молился на солнечный круг, дававший надежду. Солнце и белизна снега слепили, он старался глядеть под ноги, на ичиги. При разброде следов поднял глаза, увидел полынью с черной водой, перевернутые нарты, разбросанные мешки с рухлядью. Взгляд его не сразу отыскал валявшихся на льду Митьку с Максимкой. Оба были мертвы.
Только вблизи Федот разглядел белого медведя. Кровь на людях и звере была застывшей: по-видимому, встреча произошла еще вечером. По следам можно было понять, что покрученники увидели зверя на краю полыньи, бросили нарту и выстрелили из фузеи. Раненый медведь задрал обоих, разорвал ремни, раскидал одеяла, мешки, кости и теперь лежал, уткнув морду в лапы, то ли жив, то ли мертв. Для Федота его туша была надеждой на жизнь. Бросив рассеянный взгляд на тела спутников, он вытянул из-под ремней ружье, подсыпал пороху на запал, ощупал кремень, тихо взвел пружину. К медведю подходил крадучись, на всякий случай приставил ствол к его уху. Фузея громыхнула, дернулась медвежья голова, из дымившейся раны выступила тягучая кровь. Федот сунул руку в шерсть зверя, нащупал выстывавшее тепло, но когда вспорол брюхо и запустил ладони во внутренности под слой жира, оттуда запарило. На свернутой в несколько раз медвежьей шкуре разгорелся костер из нарты и сала. В котле варилось мясо с ребер, на шомполах пеклись его тонкие полоски. Первым делом хотелось наесться и сыто уснуть рядом с неприбранными телами. После всего, что было пережито, последняя пара голодных дней казалась пустяком, и все же он осторожно, небольшими кусочками валял печеное мясо во рту, сосал, глотая слюну, прислушивался к тому, что делается в животе. Здесь, в ледовой пустыне, всякая неосторожность могла обернуться мучительной смертью. Сгорела шкура, протаял лед, залив огонь, но мясо в котле успело свариться. Сделав глоток-другой отвара, Федот с сожалением бросил взгляд на котел и стал укладываться. К утру в кишечнике знакомо засосало. Он погрыз мерзлого вареного мяса и снова уснул. Поднялся поздно, снова развел огонь на новом месте, разогрел ужин, сварил впрок, наелся и опять улегся. Проснувшись вечером, почувствовал, что силы восстановились, надо было что-то делать. В сумерках развернул смерзшиеся тела головами к западу, обложил льдинами, связал бечевой крест из полозьев нарты.
Рассвело. Федот оставил часть кости, но прибавил к прежнему грузу мешки с рухлядью покойных, полпуда вареного и печеного мяса. Сверяя путь по компасу, отыскал глазами причудливо торчавшую льдину в полуденной стороне, перекрестился, дернул нарту, она подалась. Останавливаясь для отдыха, он шел день и другой, пока не заметил сухую траву на льду. Подолбил его топором и докопался до мха. Под ногами была суша. Матерая ли? — Огляделся. Получалось, что, глядя под ноги, прошел вдоль мыса. Радуясь открытию и всем телом ощущая под собой твердь, впрягся в нарту, быстрей зашагал прежним курсом, раздумывая, где находится. Вскоре завиднелся низкий тундровый берег. Лед стал крепче, переменился скрежет полозьев. Федот снова огляделся, разгреб ногами снег, сколол кусок льда топором, попробовал на вкус. Он был солоноват, но не морской. Путник понял, что находится в устье реки или протоки. Стал гадать, где? Навязчиво чудилось, что места знакомы и они западней Колымы. По приметам походило на устье Индигирки, но в голове не укладывалось почему мыс по левую руку.
В сумерках он хотел остановиться на ночлег, но разглядел очертания струга или коча, завалившегося на борт. Из последних сил вытянул нарту к тому, что принял за судно, и случилось чудо: остановился перед балаганом, собранным из расшитых бортов коча, в нем были очаг, волоковое оконце для вытяжки дыма, припас сухих дров и сложенные один на другой пять мешков смерзшейся ржи. По всем приметам это было устье Омолоя, где когда-то он долго стоял на якоре в ожидании Бессона Астафьева. Кто-то здесь выбросился на мель и оставил часть груза. В голове прояснилось, земля и море встали на свои места. Можно было идти к Нижнему янскому, где есть люди, или к брошенному зимовью на Омолое, где людей могло не быть. Благодарственные слезы потекли по щекам Федота, когда он раздул огонь в очаге.
— Благодарю Тя за милости Твои! — забормотал, хлюпая носом. — Мучаешь и спасаешь! За что не берусь — убытки, несчастья, гибель товарищей? — пожаловался.
Согрелся балаган, согрелся и он до того, что начал раздеваться. Сварилась каша из ржи. Насытившись, Федот уже думал о том, чтобы, оставляя метки, вернуться к полынье, от нее к брошенной кости, дальше к кочу, нагрузиться по силам и привезти сюда. С такими надеждами уснул при тлевших углях. За ночь балаган выстыл, но в нем вылезать из-под одеяла было приятней, чем под открытым небом. Первым делом Федот обошел окрестности, отыскал плавник из лиственниц, выброшенных течением. Нарубил веток, обстучал комель — дерево было просохшим или еще не напитавшимся влагой. Он натаскал дров, растопил очаг. К вечеру небо потемнело, закружились снежинки. К утру след припорошило, но он был виден. Федот наварил впрок каши, заморозил ее и потянул легкие нарты в обратную сторону. Кроме еды взял с собой только топор, засапожный нож и меховое одеяло. Едва вышел на хрупкий морской лед, прежний след стал теряться, приходилось часто останавливаться, подолгу высматривать старую колею. Небо разъяснилось и снова потемнело, опять с заката понеслись колючие снежинки, но он успел увидеть крест.
Тела товарищей под ледовым холмиком были прикрыты наметенным сугробом, казались собранными в последний путь и не мутили душу. Федот помолился, смахнул снег с порубленной нарты, нашел их ружье, котел, топор, моржовые клыки, обмел медвежью тушу, настрогал мяса, вырубил медвежий бок, чтобы развести на нем огонь «Что не сгорит, то останется в дорогу пропекшимся», — подумал, нащипал лучин с остатков нарты, развел костер. Затрещало, схватилось пламенем сало, черный сытный дым, пополз по льду. Снег повалил гуще и вскоре накрыл так, что пропал из виду крест. Разгребая сугробы ногами, Федот нашел одеяла покойных. Им они были не нужны, а ему облегчали ночлег. К утру снегопад поредел, в воздухе кружились редкие веселые снежинки, сквозь них тускло просвечивало солнце. Попов высунул нос из-под одеял, осмотрелся, затем тяжко поднялся, сбрасывая с себя сугроб, поискал глазами старый след и не увидел его. «Ну, вот и все! — пробормотал, разгребая снег над заметенным кострищем. — Милует Бог жизнью, да не милует богатством». Искать коч в бескрайнем ледовом поле было делом безнадежным.
Жира он не жалел, развел большой костер на льду. Когда огонь зашипел в проталине — передвинул его. Разогрел мясо, плотно поел, собрал нарту и двинулся на полдень. То теряя прежний, местами едва различимый, след, то снова выходя на него, Федот даже не думал о том, что может заплутать, присаживался для отдыха, глядел на компас и вдаль — не покажется ли мыс, вышел к заливу и вскоре был возле балагана. Здесь у очага он окончательно решил, что в одиночку коч не найти. Вывезенной с него кости и рухляди не хватало, чтобы вернуть даже половину старого долга, а купец по уговору потребует рост за тринадцать лет, и тогда остаток жизни пройдет на правеже. Со всей ясностью Федот понял, что если коч не найдется, то лучше ему не возвращаться не только на Русь, но и в Якутский острог.
— Зря не остался с Пантелеем! — пробормотал вслух, глядя на огонь.
Очаг постреливал искрами. Они бойко взлетали к черному потолку, падали на меховое одеяло и пахло паленой шерстью. Остро вспомнился разговор у костра за морем, при живых еще спутниках. Пришла догадка, что покойный Иван Ретькин боялся дожить до времен, когда внуки забудут русский язык и растворятся на чужой для него земле, в чужом для него народе. Отдохнув в балагане, Федот сложил в нарты рухлядь, фузею, одеяло, взял один моржовый клык, остальное спрятал и двинулся к зимовью, которое было головной болью якутских воевод. Соболя на Омолое не промышляли, не каждый год непогода собирала в этих местах торговые суда, а потому держать здесь служилых людей было накладно. Но иногда тут случались воровские ярмарки.
Погромыхивая полозьями, поскрипывая мерзлыми копыльями, нарта легко шла по крепкому речному льду. Ветер дул в спину. Федот узнал изгиб берега перед зимовьем, увидел дымы и окончательно уверился, что это Омолой. Вскоре его взгляду открылись три торговых коча, вытянутые на сушу. Одинокий путник был замечен, зимовейщики пошли ему навстречу. При виде жилья и людей силы стали оставлять Федота. К нему подбежали четверо: молодой с синими камушками восторженно блестевших глаз на радостном лице, другой был старше, с глазами добрыми, в которых примечалась тихая вселенская печаль, и еще двое мужей им под стать с ангельскими лицами и выбеленными стужей бородами.
— С праздником! — Подхватили бечеву нарты и легко потянули ее к зимовью.
— С каким? — спросил Федот. Свой голос показался ему чужим и незнакомым.
— Михайлов день! — С любопытством разглядывали его встречавшие, но не спрашивали, кто таков и откуда идет.
Он тоже разглядывал их, не находя в лицах ни степенной кичливости торговых, ни удали промышленных, ни важной заносчивости служилых людей. Все были одеты в неумело сшитые парки, штаны, ичиги из плохо выделанных шкур, но глаза и лица поразительно светлы.
— Казаки в зимовье есть? — спросил Федот. Прокашлявшись и затаив дыхание, ждал ответа, что он помер, и ни впереди, ни позади уже нет ничего.
— Только торговые, их работные да мы, гулящие! — приветливо улыбаясь, охотно ответил один из самозваных помощников.
— Это Омолой? — на всякий случай переспросил Федот.
— Омолой! — ответил другой и добавил: — Нас льды не пустили дальше, маемся тут.
Ноги Федота с каждым шагом наливались свинцом, а освободившиеся от бечевы плечи превращались в крылья, не от того ли, как во хмелю, ему казалось, что неправдоподобно искрится снег и лед под ногами? Гулящие привели его к знакомому Омолойскому зимовью. Возле изб толпились любопытные. Вблизи Федот узнал приказчиков купцов Свешникова и Босого. Они обступили его, степенные, важные, мнительные, ни словом ни взглядом не показывали, что знакомы. Среди них, как луна при солнце, поблекли и пропали «ангелы» в драной одежке. Со всех сторон посыпались вопросы. Федот водил глазами и не мог раскрыть рта, чтобы ответить.
— Человек едва на ногах держится, — подхватил его по руку Федька Катаев. Приказал кому-то внести нарту в сени, ввел Федота в жарко натопленную избу и стал выпроваживать любопытных. — Отдохнет, все скажет!.. Подтопите баню: со вчерашнего не должна совсем выстыть.
Против очага был неубранный праздничный стол с запахом печеного хлеба и кислой браги. Федот окинул его тоскливым взглядом и припал к горячим обводам чувала из обожженной глины. Катаев с улыбкой спросил:
— Хлеба? Браги? Или сперва попаришься?
— Не узнаешь? — просипел Федот. — Федотка я Попов, приказчик купца Усова.
Ахнул Федька Федоров Катаев, пристально вглядываясь в обветренное лицо пришельца, почесал затылок приказчик Кирилла Босого. От Юшки Селиверстова оба слышали, что кочи Федота Попова и Бессона Астафьева пропали, а люди погибли, теперь разглядывали пришлого как выходца с того света.
— Так оно и есть! — непослушной, тяжелой рукой, Федот отодрал шапку от волос и бороды, натужно перекрестился. — Может быть, Осташка Кудрин своих людей сберег и вернулся, а мои все погибли! — Зевнул от морившего тепла и положил на восток три поясных поклона. — Вдруг что слышали о нем? — спросил, с трудом ворочая косным языком.
Приказчики удивленно переглянулись, озадаченно помотали бородами.
— А знаете ли что про Луку Сиверова, приказчика купца Усова?
Во льдах он часто вспоминал бывшего связчика и надеялся, что Лука разбогател на приострожной торговле.
— Слыхали! — обыденно ответил Федька, и плутоватые лучики разбежались из уголков его глаз. — Проторговался, запил, хотел вернуться на Русь, но одумался и, по немощи, принял постриг в Спасском монастыре.
— Вон что! — Федот ниже опустил тяжелую голову.
В дом ворвались полупьяные работные, веселые и любопытные, выразительно покосились на кувшин с брагой. Катаев намазал икрой ломоть хлеба, подал Федоту. Он пожевал без жадности, до предложенной чарки не дотронулся. Работные люди весело выпили во славу Божью, подхватили его под руки, увели в баню. Отогревшись, Федот едва не уснул на полке, но теми же работными был одет и возвращен в избу. Только на другой день, проснувшись после полудня, он всласть напарился и насладился праздничным столом. Даже в первом, ярком хмелю на расспросы зимовейщиков отвечал туманно и осторожно, но доброжелательно слушал предложения скупить рухлядь за хорошую цену. По утрам его не беспокоили, давая покой после многих трудов. А он подолгу лежал, притворяясь спящим, думал. Едва поднимался, его, как милого гостя, усаживали за стол. От горячего вина Федот благоразумно воздерживался, хотя душа алкала праздника и забвения. Отдохнув, сходил в балаган, привез нартой остатки моржовой кости. Торговые люди пустили по рукам заморные клыки. Добыча восхищала их, хотя все понимали, что она не окупает затрат на предприятие, длившееся десять лет сряду. Попову сочувствовали, предлагали дармовую выпивку в утешение и за помин погибших, но стоило ему открыть рот, замирали, вдумываясь в каждое произнесенное им слово.
— Сколько же там животов? — спросил Федька, пристально глядя, когда он обдуманно рассказал о затертом льдами коче.
— Рыбьего зуба пудов полтораста! — ответил Федот таким же немигающим взглядом и уловил в глазах свешниковского приказчика мелькнувшую насмешку.
— Юшка Селиверстов хвастал, будто с Мишкой Стадухиным нашел отмели, где можно грузить костью многие суда. Не те ли, что к восходу от Колымы?
— Может быть, те, — принужденно зевнул Федот. — Я как мог загрузил пару кочей, и то переусердствовал, едва не потонул, — встал из-за стола. — В бури часть кости пришлось пометать за борт…. «Если бы Осташка вернулся, о том бы знала вся Лена», — подумал, а вслух сказал: — По уговору с погибшими две доли мои, третью надо отдать их родне. Согласен поделить все, что есть, на четыре части и отдать четверть тому, кто поможет отыскать брошенный коч.
— Тридцать пудов? — покряхтывая, поскоблил затылок Катаев и бросил на Попова плутоватый взгляд. — А как не найдется?
— На все воля Божья! — Федот развел руками как когда-то купец Усов и добавил: — Можно по-другому: плачу поденную тем, кто пойдет со мной, тогда ни с кем не делюсь.
— Чтобы вывезти сто пудов разом — человек двадцать надо, с нартами и собаками, — стал торговаться свешниковский приказчик. — Столько здесь нет.
— Посоветовал: — Иди с десятком. Не даст Бог найти, затрат меньше!
— Надежней играть в кости, чем сыскать твой коч в застывшем море, — насмешливо прищурился приказчик Босого.
Все они явно торговались, желая рисковать не меньше чем с половины. Но за время отдыха Федоту удалось осмотреться и вникнуть в их дела. Промысловая ватажка Босого, возвращавшаяся с колымских и индигирских промыслов, ушла в Жиганы сухим путем, при зимовье остались немногие люди, постоянно участвовавшие в походах двух приказчиков и чудная, по-монашески замкнутая ватажка гулящих, тех самых, которых Федот принял за ангелов. Шестеро тихих и набожных бродников с блаженными лицами пробирались на Колыму попутными судами и поденными работами. Катаев подобрал их в Якутском остроге, соблазнившись трудами за прокорм, уговорился, что будут исполнять всякие работы до Колымы-реки, а дальше вольны идти, куда пожелают. Но противные ветры и поздний выход с Лены остановили его коч на Омолое. Гулящие готовы были идти куда угодно, лишь бы не в обратную сторону.
При судах и товаре зимовали и работные люди. Они соглашались искать брошенный во льдах рыбий зуб, но кормов требовали изрядных: хлеба, мяса, коровьего масла и каждый день по чарке крепкого вина. Мука в зимовье была по колымской цене. И все же сказка Федота не давала приказчикам покоя, они снова завели разговор о моржовой кости и отпустили своих людей с четырьмя упряжками, больше на Омолое не было. Федот принял их помощь, в случае неудачи обещал расплатиться неклеймеными соболями. Привезенные им моржовые клыки и рухлядь остались в зимовье. Упряжки вернулись к Рождеству, в самые холода. Люди были поморожены, собаки обессилены, коч не найден. Федот отдал приказчикам два сорока соболей, попил после бани квасу, до Рождества держался, а после загулял. Работные люди, ходившие искать коч, бросали на него хмурые взгляды, а гулящие стали доверчивей, при случае заводили туманные разговоры о греховности нынешней власти и церкви. Один из них как-то оговорился, что царь, вступивший на престол после отца, похоже, не читал Закон Божий.
— В острогах за такие слова… — посмеиваясь, покачал хмельной головой Федот.
— Знаю! — беззаботно ответил немолодой уже беглец с печальными глазами и бородой, распадавшейся опавшими крыльями птицы. — Потому и не живу там.
Федька Катаев чаще и настойчивей говорил о кости и рухляди, готов был купить их за хорошую цену, чтобы перепродать. Ему выгодно было вернуться в Якутский с Омолоя, а не с Колымы. После Масленицы Попов окончательно вытрезвел и занялся делами: поменял что имел на малый, четырехсаженный коч, скупил у Катаева сто пудов муки, десять — меда и конопляного масла, неводные сети — товар, который приказчик вез на Нижнеколымскую ярмарку. При себе оставил только два сорока соболей на прокорм себя и гулящих людей, которых высмотрел при зимовье. Приказчики, глядя на них, посмеивались.
— Убогих Бог любит! Их берут для удачи в промысловые и торговые ватаги, но по одному.
— А я взял шестерых, — ухмылялся довольный сделкой Катаев, — и застрял на Омолое! Но не зря!
Блаженные люди на Руси ни в какие времена не переводились. Бог их любит, ради них помогает другим. Федот решил прибрать всех.
— Куда столько? — выспрашивали любопытные.
Кивая на Катаева, он отвечал:
— Не разлучать же ватажку! Лихих, умных, жадных до прибыли повидал, с ними Бог удачей не миловал. Вдруг с этими повезет.
В то время как Федот Попов зимовал на Омолое, Стадухин с полусотней промышленных людей вышел с Анадыря на лед Майна. Под конец февраля лютовала зима: таких холодов, какие случились перед Евдокеей, не было и на Крещение. Поповский покрученник Богдашка Анисимов звал идти на Нос берегом моря: это дольше, но надежней. Пути, каким его везли на Анадырь коряки, он не помнил. Но промышленные, пытавшиеся пробиться на Пенжину с Моторой и Дежневым, звали идти через горы. По их разумению, Нос, о котором рассказывал Богдашка, и Пенжина находились где-то рядом. Михею Стадухину не хотелось идти путем, пройденным другими русскими людьми, и перевес оказался на его стороне. Ватаге везло. На Майне встретились ходынцы, писаные рожи, которые следом за дикими оленями гнали свои стада в верховья Анадыря. В пути они были побиты и пограблены коряками. Промышленным не пришлось требовать вожей, двое из рода, отец и сын, узнав, куда идет ватага, вызвались вести их для мщения за убитых и плененных родственников. Ярко раскрасив лица разведенными на жиру красками, они добровольно присоединились к русскому отряду. Ватага продолжила путь на полдень. Низинные тундровые берега Майна вспучивались невысоким сопочником, сходились в пологие пади, снова распадались равниной. Река в этих местах промерзала до дна, как многие небольшие речки Сибири, густо паря вода текла по льду, застывала и тут же покрывалась новой, выдавленной из глубин земли. Она хлюпала под снегом у берега, а холод стоял такой, что промокшая кожа ичигов и бахил ломалась.
Горы по берегам становились все выше, и наконец ходынцы указали распадок, по которому с Пенжины ходили коряки. Морозы не отпускали, хотя по утрам светило солнце. Если на Оймяконе в стужу было безветрие, то здесь дул хиус. Не сильный, но холодный ветер вымораживал глаза, выбеливал кожу даже под бородами. Промышленные, ходившие с Моторой и Дежневым, не ошиблись: непроходимый осенью стланик был накрыт снегом и, несмотря на лютый холод, держал людей на лыжах. Время от времени наст проваливался, и не всегда под идущим впереди. Путник с лыжами падал в пустоты, в которых хорошо скрываться от ветра. Обилие сухих дров давало в них сносный отдых и ночлег: путники закрывали ямы нартами и разводили костры, которые быстро прогревали защищенное пространство. Ходынцы по утрам раскрашивали друг другу лица, промышленные не умывались, мазались бесцветным гусиным жиром. Старший из вожей утробно кашлял, то дрожал от холода, то потел. Ни зверя, ни птицы, никаких других кормов в снежной пустыне не было, глаза слепили студеный ветер и солнце. Здесь зароптали даже старые промышленные, пережившие многие тяготы:
— Перемрем все! Пропади они, Погыча и Пенжина!
Как и в походе на Анадырь, Михей почувствовал, что добрая половина отряда повернула бы назад, если бы не надежда на близкие перемены к лучшему. Михайла Баев в голос каялся и не с добром поглядывал на Стадухина, сманившего его на Анадырь с благополучной Колымы. Михей чаще всех шел первым, закрывая спиной брата, прокладывал след, на привалах ободрял спутников.
— Нам холода в обычай! — сипел в обледеневшую бороду. — Хиус в лицо — плохо, на Оймяконе было лучше, но мы легче терпим холод и голод, — кивал на ходынцев. — Господь нас миловал крепким здоровьем.
Тарх поддерживал брата:
— Семейка Дежнев аманатов не держит, что дохнут на заморной рыбе. А самому ему хоть бы что. Да еще изранен — целого места на теле нет.
Вроде бы все правильно говорили Стадухины, бодрились, укрепляли дух спутники, с сочувствием поглядывали на вожей, жалели и берегли их, прикрывая от ветра. Но в долине реки, о богатствах которой много говорили на Анадыре, от внутреннего жара сгорел старый вож. Захлебываясь кашлем, он до последнего вздоха наставлял сына, как должно мстить корякам. Вскоре потеплело, появились куропатки и зайцы, в остальном Пенжина оказалась такой же голодной, как Анадырь.
Промышленные не нашли благодатной земли и в низовьях реки, где она стала равнинной, не промерзающей. По берегам появились мелкие лиственницы, береза и тополь. Ветер временами усиливался, но уже не был так жгуч, как на плоскогорье. После тягот пути ватага вышла на след поднявшегося из берлоги медведя. Еще не отощавшего, его догнали, убили и съели за дневку. Отдохнув, вышли на корякское селение возле устья Оклана — притока Пенжины.
Это была большая изба, врытая в землю по самую крышу. Коряки яростно отстреливались, убили трех промышленных, многих переранили, двоих тяжело. Но после всего пережитого ватага дралась с таким остервенением, что удержаться в своей избе-крепости коряки не смогли и убежали. Для пришлых, голодных и обмороженных людей это была жизнь! За коряками ушли их собаки, равнодушно наблюдавшие за боем. Они не лаяли, не виляли хвостами, смотрели на людей пристально и выли, как волки. Промышленные обшарили избу, в которой смогли просторно разместиться всем скопом, в ней нашелся большой запас сушеной рыбы и вяленого мяса. После месяца трудного пути, за тепло и пищу люди готовы были сражаться до последнего вздоха. К тому же от Богдашки и ходынцев все знали, как жестоко коряки истязают пленных мужчин. Дым очага выходил через распахнутую дверь в потолке полуземлянки, стелился по избе. На лучшие места положили раненых. Промышленный человек Шарап Важенин вытягивал к огню руки в черных струпьях, щурил слезившиеся от дыма глаза. В бою за кров, тепло и еду погиб его брат. Плечом к плечу рядом с ним сидел Мишка Баев с разодранной щекой. Обветшавший, ничем не похожий на бывшего откупщика от ватажных работ, дурными глазами глядел на котел с варившимся мясом. Двое из погибших людей были его кабальными должниками.
— Теперь коряки мерзнут! — хлюпнул носом от едкого дыма, жалея врагов.
Его нечаянное сострадание возмутило Шарапа и других промышленных.
— А мы не мерзли? — зашипели со всех сторон, бросая на купца разъяренные взгляды. — Не ожесточишь сердце — погибнешь, а они тебя не пожалеют.
— У них родни много, приютят! — так же шмыгая носом, прекратил перепалку Стадухин, скользнул скорбным взглядом по метавшемуся в беспамятстве раненому, спросил: — Кто помнит, что нынче за день?
— Федул-ветряк! — подсказал кто-то.
— Вон что! Пришел Федул — тепла надул!
— Федул, чего губы надул?
— Кафтан прожег.
— Велика ли дыра?
— Один ворот остался.
— У нас не так ли?
— Не так! — возразил атаман-передовщик. — Надо воды нагреть, помыться, сил нет чесаться.
— Убитых обмыть бы, отпеть и предать земле! — подсказал опечаленный гибелью брата Шарап.
— Помоем, — согласился Стадухин. — Но после. Они уже не чешутся.
— Греются возле нашего огонька, — со слезой всхлипнул Шарап. — Радуются, что мы в тепле.
Сверху из дыры свесился караульный с рыбьим хвостом в бороде. Вынул рыбину, облизнулся, крикнул:
— Бегут с луками и пиками, человек до ста!
— Отобьемся! — мотнул головой Михей Стадухин, расправил по щекам рыжие усы, обвел товарищей молодецким взглядом. — По жребию! Половина со мной — остальным отдыхать и греться.
Нападение отбили. Взяли в плен раненого корякского мужика с обильной проседью в волосах, затащили в землянку, остановили кровь на плече, присыпали рану золой, перевязали кожаным лоскутом, стали выспрашивать о том, чему сами поверить не могли: Пенжина ли это, как утверждал ходынский вож? Коряк в драной парке хорошо понял Богдашку.
— Пенжина! — подтвердил.
Ходынский вож тоже его понял, залопотал, с ненавистью разглядывая пленного:
— Пенжина-Пенжина!
Мужик оказался разговорчивым, безбоязненно отвечал на расспросы и с усмешкой обещал, что через месяц соберется много коряков и всех пришлых перебьют. Огненные ружья не помогут: пока они стреляют два раза, коряки успевают выпустить по двадцать стрел.
— Спроси, где лес на избу рубили, — приказал Богдашке Михей. — Вокруг тундра да каменная пустошь.
Коряк без принуждения ответил, что лес есть в верховьях Оклана, пешком идти четыре дня. Промышленные разразились приглушенной бранью:
— Лучше здесь помереть, чем идти в обратную сторону…
— Не я про Пенжину нелепицы сказывал, — напомнил старший Стадухин, отвечая на негодующие взгляды. — Вы наговаривали про богатства, а от кого слышали, теперь не дознаться.
Подначальные люди смущенно притихли.
— Спроси про Погычу? — приказал толмачу.
Вож-ходынец и в пути не раз указывал, что река Похача за горами, на восходе, по другую сторону от Пенжины. Уязвленный, что ему не верят, с ненавистью взглянул на коряка. Богдашка спросил. Пленный указал в ту же сторону, что и вож, только, по его словам, там не было ни леса, ни соболя. При упоминании о Гижиге на черном, обветренном лице коряка появилось что-то вроде улыбки.
— Там есть все! — ответил Богдашке. — Соболь, лиса, медведь, летом много оленей.
Ночью, во время общего сна и отдыха, пленный тихо, с умением, удавился на той самой полоске кожи, которой ему перетянули рану. Проснувшийся ходынец стал пинать его тело с синим, будто в насмешку высунутым языком. Его оттащили. Останки пленного положили рядом с убитыми и умершими от ран.
Чтобы не заводить сырости в избе, ватажные мылись за стенами, поливая друг друга теплой водой, натираясь щелоком. Помывшиеся не успели просохнуть — опять пришлось отбиваться от нападения. Коряков с каждым днем становилось больше, они лезли в бой с отчаянным упорством, но промышленные успели похоронить убитых, отдохнули, отъелись, стали думать о будущем. Многим сидение в избе казалось бессмысленным, потому что подвести коряков под государеву руку было делом явно непосильным. По крепкому насту половина ватаги сделала вылазку на восход, к Погыче. Разведчики вернулись разочарованными: за горами, что виднелись с Пенжины, открылись другие, до самых вершин покрытые снегом, а путь к ним был безжизненной пустошью.
Стадухин дал ертаулам отдохнуть и послал их вверх по притоку Пенжины. Удавившийся пленник не обманул: там они нашли очень высокие тополя в обхват и больше. Потом была сделана вылазка вниз по реке. В двух днях пути от захваченной корякской избы промышленные увидели, что река несколькими протоками впадает в залив. При отливе чернели камни морского дна с застрявшими на них льдинами. За колышущимся крошевом из битого льда виднелось открытое море.
Весна брала свое. Все ярче светило солнце, опадали сугробы. В короткие сумеречные ночи было не до сна: коряки перестали лезть напролом, но делали по нескольку нападений в сумерках. Новые пленники, будто сговорившись, рассказывали прелестные сказки про Гижигу, а свою жизнь ни во что не ценили, почитая за геройство удавиться или зарезаться: брать у них заложников было делом бессмысленным.
— Ивашка Баранов тоже говорил про Гижигу, — вспомнил беглого казака Тарх. — Звал идти сухим путем. Не поверили! — Сжав губы, метнул испытующий взгляд на брата: — Может, зря?
— Про Погычу на Колыме много говорилось, — с горечью ответил Михей.
— А я, грешный, с чужих слов, брехал больше всех. — Покаянно перекрестился. — Вот она, рядом!
— Должно быть, голь, хуже Анадыря! — вздохнул Тарх, ходивший к восходу смотреть Похачу.
Ветер с полудня уже нес тепло, привыкшие к бродяжничеству люди чутко принюхивались к нему. Стоило им отдохнуть и отъесться, как снова кто-то прельщал их неведомыми и благодатными землями.
— Здесь не удержаться, ясак не взять, землю под государя не подвести и пушнины не добыть, — согласился с ними атаман. — Надо идти в лес, строить струги, искать другие места и народы!
— Где-то уже рядом! — брызгая слюной, беззубо шепелявил Богдашка. Смяв в кулак бородатое лицо с ясными глазами и облупившимся носом, он тоже ловил ноздрями весенний ветер. — Чую запах леса… А коряки пусть забирают свою избу, авось успокоятся и перестанут нападать.
Оставив захваченное жилье, ватага поднялась к топольнику, сделала засеку и заложила три четырехсаженных коча. Коряки с неделю не нападали, но не успокоились тем, что вернули свое жилье. Вскоре два десятка мужиков крадучись подошли к засеке и стали пускать стрелы по работавшим людям. От них отстреливались, ходили погромом, но они упорно выживали чужаков со своей земли. Промышленные люди ловили рыбу в полыньях, били из луков зайцев и куропаток, добывали много коз, тем и питались, дожидаясь вскрытия реки. Нападения не прекратились даже тогда, когда она очистилась ото льда. Ватажные торопливо достроили и просмолили кочи, козьими жилами сшили малые паруса из отмятых шкур.
В конце мая при большой воде суда спустили на воду и поплыли по течению. В устье притока остановились. Здесь были похоронены убитые товарищи. Промышленные люди думали, что воинственные коряки откопали тела и бросили воронам. Но, к неожиданной радости, кресты стояли целыми, могилы неразоренными. Ночи были светлыми, оттаял гнус. При ветре он прятался, но в затишье — бросался на людей темными роями, облепливал лица и одежду. При утреннем и заходящем солнце зеркально блестела река. Один ее берег чернел волнистой грядой оттаявших сопок, желтел галечниковыми косами с редкими кустами ивняка, на другом виднелся светлый ветловый лес. При розово-голубом закате, который вскоре переходил в такой же рассвет, суда подошли к устью обманувшей надежды Пенжины, о которой много говорилось на Анадыре. Михей с кормы поглядывал на брата. Тот с разинутым ртом озирался, любуясь пенжинским утром.
— Не зевай! — грубовато окликал старший, Тарх, смущенно опустив голову, начинал чаще шевелить шестом, промеривая глубины.
Не он один восхищался причудливым светом весны. Гребцы на веслах и люди, набившиеся между ними, молчали с такими лицами, словно входили в рай. Глядя на них, старшему Стадухину самому навязчиво казалось, что так оно и есть: незаметно, без мук, все перемерли и входят во что-то ясное, всегда помнившееся в глубине души, томившее ее. А если входят в этакую красу живыми, то впереди должно быть только счастье. Вот только гнус, будь он неладен, ел поедом даже на середине реки. Впереди показались отмели со многими протоками с застрявшими в них льдинами.
— Ушла вода! — обернувшись к брату, крикнул Тарх. — Придет!
Меньше всего Михей надеялся на каменные якоря и тросы, плетенные из корней. Как смог, принял меры предосторожности. Но когда на шитики пошли волны прилива, заохали люди, не раз прощавшиеся с жизнью в Студеном море. Суда сорвало с якорей и разбросало. Один из кочей так ударило о камни, что проломился борт. Полтора десятка промышленных выбрались из студеной воды на другие суда. Стадухин со смехом вытянул на борт мокрого Михайлу Баева. Разбитый коч строился под его началом, он был на нем кормщиком.
— Однако недолгая судьба твоему!.. — кивнул на беспомощно бьющееся о камни судно.
— Посмотрим, как другие, — рыкнул Баев, отжимая бороду и сбрасывая мокрую одежду.
Двум перегруженным судам все же удалось вырваться из полосы пятисаженного прилива и выйти на безопасные глубины. Шалил водяной дедушка после зимней спячки, потешался. Волны отлива помчали суда к полудню, им помогал усиливавшийся холодный ветер с севера.
— Зато гнуса нет! — осторожно бодрились мореходы.
Этот ветер пригнал темные тучи. Помрачнело, прилегло на воду небо, пропала из виду земля. Трое суток кочи болтались на тягучих серых волнах. Не зная, в какую сторону плыть, гребцы только удерживались на них, не давая захлестывать себя. На четвертый день, по молитвам морскому Николе, небо разъяснилось, показалось холодное красное солнце, рассеялись тучи и открылась сверкающая снегами гора с острой вершиной. На ней, как флаг, висело небольшое облако.
— Узнаю! — радостно закричал Богдашка. — Я эту гору видел с другой стороны. Неподалеку от нее мы хорошо промышляли с Емелей и Гераськой.
Ближе виделся горный хребет. Вся суша была белой от снега, чернела только прибрежная полоса отлива.
— Он! — не унимаясь, кричал Богдан, указывая на берег. — Конец Великого Камня. — Можно вернуться на Анадырь морем. Я знаю путь!
Но возвращаться уже никто не желал. Прежние жалобы и слабость вспоминали со смехом. Суда счалились, поскрипывая сырой обшивкой, качались на пологой, перекатывавшейся волне. Михей Стадухин понял, что пришел час, которого он ждал и опасался. Щурясь, долго глядел на розовевшие горы с острыми вершинами, затем обернулся к спутникам, громко объявил:
— Кто пойдет с Богдашкой — богатство добудет. Даст Бог, вернетесь на Лену, станете похваляться мешками с рухлядью, голытьбу брагой тешить, но слава достанется тем, что пришли туда первыми. А там, — указал на закат, — никто не был. Там можно с судьбой поспорить, народу и царю послужить. А они нас не забудут милостями.
— На кой с судьбой спорить? — не сводя глаз с черной полосы отлива, громко спросил Баев. — Все равно одолеет!
— Это кому как Бог даст! — строго взглянул на него старший Стадухин.
Снял шапку, стал креститься и кланяться на восход, мысленно упрашивая своих святых покровителей, чтобы с ним остался хотя бы десяток охочих людей. Промышленные перебирались с судна на судно, перетаскивали свои немногие пожитки. Ненадолго скрылось солнце за тучей и снова зарозовело. Двое топтались у счаленных бортов, не зная, на какую сторону перейти. Товарищи той и другой половины со смехом зазывали их. Наконец оба решились, и Стадухин подумал, что они непременно погибнут. На его судне оказалось чуть меньше половины ватаги. Он не ждал такого от людей, много говоривших и помышлявших о богатстве.
Суда расчалились. Бывшие связчики поклонились друг другу. Среди оставшихся со Стадухиными было много должников купца Баева. Они махали ему шапками, а он похлопывал себя по груди, напоминая о записанном долге. Баевский коч поднял куцый парус, обвисший при слабом ветре. Гребцы налегли на весла и повели шитик к видимому берегу. На стадухинском судне разобрали весла и своей силой пошли в другую сторону. Вскоре кормщик увидел знакомый мыс, далеко вдававшийся в море, от которого были унесены оба коча. Михей обошел его и так же в виду берега повел свое судно на полночь. Дул боковой западник, прижимая к скалам. Добытых шкур не хватило на добрый парус. Сшитый в одно лоскут лишь помогал гребцам при свежем попутном ветре. На третьи сутки горы стали отступать от берега, покрытого тундровой зеленью.
— Неужели опять болота? — стали тревожиться промышленные, разглядывая сушу.
Высмотрев далекий мыс по левому борту, Стадухин натянул шапку до ушей, молодецки выкрикнул:
— Умаялись грести против ветра? А как напрямик попытать счастье?!
Уставшие гребцы запели молебен морскому Николе, Стадухин взял курс на едва видимый мыс, судно оторвалось от близкого берега и пошло к полуночи. В пути пал туман. Михей поглядывал на маточку и вел коч в неведомое. Его люди за веслами чутко прислушивались к звукам и обрадовались, когда послышался шум приливной волны, гремящей окатышем. Услышал сушу и кормщик, послал брата на нос, мерить глубины шестом. Вскоре разъяснилось низкое небо, за крутым берегом из-за желтеющего окатыша показались зеленые верхушки деревьев. Тарх закричал:
— Лес, братцы! Похоже, хвойный, густой! Должен быть всякий зверь!
То, что мореходы приняли за берег, оказалось высокой и длинной отмелью, намытой волнами. За ней был широкий залив с устьем реки. Коч вошел в нее с приливом. Едва стала отходить в море вода, промышленные бросили каменный якорь, чтобы удержаться на месте.
— Не Гижига ли? — озираясь по сторонам, спросил брата Тарх и начал расспрашивать ходынца. Тот водил по сторонам плоским, раскрашенным носом, мигал невидимыми ресницами, вспоминая рассказы сородичей.
— Гижига!
— Ты здесь бывал?
— Нет! Слышал!
— Вот ведь, старый шкодник, что учудил! — опасливо корили водяного промышленные люди.
Другие страстно молились Николе Чудотворцу, благодарили за легкий путь, случайный выход в благодатное место.
— Если не Гижига, то лучше, чем Пенжина, — фыркнул Михей, оглядываясь по сторонам. — Зимовать можно.
Едва обнажились при отливе отмели реки, люди разошлись по суше и стали привычно обустраиваться: одни с треском ломали сухостой и раздували костры, другие разметывали сеть. Старший Стадухин выставлял караулы. Не надо было далеко идти от стана, чтобы увидеть, что Бог привел в места, обильные зверем и рыбой: рыбачившие хотели поправить выставленную сеть, а она оказалась забита рыбой.
— Похоже, не зря страдали! — с сердечной радостью перекрестился атаман и стал осматриваться, где поставить зимовье.
Едва скрылись последние нарты стадухинской ватаги в заснеженной долине Анадыря, в дежневском зимовье наладился покой, нарушенный прошлогодним нашествием промышленных людей. Почти все спасшиеся спутники Бессона Астафьева жили в одной тесной избе с корякскими, анаульскими, чукотскими женками и теперь могли расселиться. Моторинские и бывшие стадухинские казаки с оставшимися холостыми промышленными людьми тоже зажили просторно. Сходиться в задружные семьи и чуницы их принуждала только непомерная нужда в дровах, которых каждой избе требовалось много.
Первое время все жили мирно, хотя неделями выли пурги с секущим снегом, который, пробиваясь через малые щелки, наметал в избах сугробы, ветры срывали с крыш дранье, прикрепленное к земле ремнями из кож: конец зимы и начало весны выдались ненастными. Но люди не свирепели от вынужденного безделья. Разве невоздержанный Бугор поругивался со вспыльчивым Костроминым — тот давал товар в долг по дорогой цене: аршин холста два рубля, один кремешек для фузеи — полтина. Но зимовейщики знали, какими трудами и расходами все это было доставлено на Анадырь. Запаса красной рыбы с лихвой хватило до весны. За зиму она так приелась, что даже дикие женки жевали ее с таким видом, будто во рту были опилки. Едва пошли к северу дикие олени, мужчины и женщины отправились на промысел мяса. У важенок было время отела, люди и волки добывали их, изможденных родами, вместе с новорожденными телятами. Когда в вечной мерзлоте была вскрыта очередная яма с красной рыбой, возле нее, как обычно, закрутились собаки, купленные у юкагиров и перебежавшие от них. Студеной ночью они беспокойно завыли. Семейка Мотора, приподнявшись на локте, прислушался.
— На гон распелись или что? — сонно пробормотал, не желая выходить из зимовья. По общему молчаливому согласию караулов он не выставлял. Подкинул дров на тлевшие угли. перекрестился и с головой укрылся меховым одеялом.
Собаки бесились и другой ночью. Семен долго ворочался с боку на бок, потом скинул одеяло, сунул ноги в ичиги, подобрал полено, чтобы успокоить их. Скинув закладной брус, высунулся наружу и тут же прикрыл дверь.
— Медведь! — сипло прошептал, выглядывая ближайшую пищаль.
Бугор сбросил одеяло, схватил свою заряженную, прислоненную к стене, подал Моторе, выхватил из очага тлевший сучок. Семен прицелился, Василий приложил к запалу без подсыпки тлеющий огонь. Пищаль громыхнула. С нар вскочили полураздетые казаки, схватились за оружие. Мотора, отставив ружье с курившимся стволом, снова приоткрыл дверь. Пороховой дым рассеялся. Раненый медведь отбежал на сотню шагов и залег на открытом месте.
— Наш! — радостно вскрикнул Мотора. — Пусть полежит и отойдет с миром.
Зверь не успел растерять жир. Его мясо сильно пахло рыбой, но это никого не смущало. Рыбным духом в здешних местах были пропитаны земля, вода и воздух. Съели мясо быстро. Доедая, разговорились о том, что лето не за горами, пора подумать, как жить и для чего. Разговоры перешли в соборный совет, затем в сход.
— К морю плыть пора! — говорили дежневские бывальцы. — Достроить кочи, нагрузиться костью!
Прошлой осенью Фома Семенов с Елфимом Меркурьевым, с беглым Федотом Ветошкой отыскали остатки бессоновских судов. Они были обметаны песком и вросли в мель. Моржовую кость замыло в кочах, но она там была.
— Сколько ее? — рассуждал Семен Дежнев. — Пудов полтораста-двести… Мне одному надо тридцать по колымским ценам, чтобы расплатиться за посул. Да погибшим вернуть остатки, да Гусельникову потерянное добро… Уж если плыть, так на коргу, где нас побили чукчи. Там кости много. Сколько построим кочей, столько нагрузим.
— Нагрузим! — ехидно спорил Костромин. — А Мишка Стадухин вернется, предъявит наказную от воеводы и отберет.
Казаки и промышленные примолкли, раздумывая каждый о своем.
— Раз соболя нет, по-любому надо смолить кочи, — сипло пробубнил Бугор. — А Мишку обманули! — Кручинно вздохнул. — Про кость ничего не сказали.
— Да я бы ему все, как на духу, — начал оправдываться Дежнев. — Тамошней кости всем хватит. Но он, Мишка, и говорить со мной не хотел: только рыкал да размахивал кулаками.
— Стадухин до богатства нежадный, — опять завздыхал Бугор. — Ему надо было прийти первым. А тут ты! Вот и бесился!
— Мне через гору не уйти, — клацая костылями, выполз на середину круга Павел Кокоулин. Поводил по собравшимся немигающим щучьим взглядом. — Морем вдруг и даст Бог вернуться.
После войны с анаулами все думали, что он не жилец, но Пашка, пролежав зиму, выжил и начал ходить. Весной посыльные от объясачных Стадухиным анаулов принесли полтора десятка соболей без пупков и лап, предложили поменять сидевшего в аманатах племянника тойона на его дочь. Дело было обычным: через девку хотели породниться с казаками и наладить вечный мир.
— Ну как, Семейка? — окликнул Мотору беглый казак Никита Семенов. — Ты у нас главный государев человек. Оженим, что ли, для мира?
Смущенно посопев в вислую бороду, Мотора позыркал на присланную тойонскую дочь, пробормотал:
— Хороша! Если народ не против — возьму, а прежнего аманата отпущу. Зиму на наших кормах — хворал. Бабы у них живучей.
С зааманаченными прошлой осенью анаулами, зиму прожили мирно, их беспокойство было понятным: коротким летом надо успеть запастись кормами и каждый сильный мужчина на счету. По русскому закону почетного аманата принуждать к работам нельзя, а дармоед при зимовье в тягость. Беглые казаки и промышленные согласились поменять племянника тойона на его дочь. Дежнев долго выспрашивал анаулов про морской путь к полуночи, которым пришел в эти места. С помощью Казанца узнал то же, что слышал прежде: ходят за Нос только чукчи, от них известно, что обойти дальний мыс удается не каждый год, чаще пролив бывает забит льдами. Несколько раз спросив об одном, казак озадаченно потер переносицу и в раздумье покачал головой. Присланная девка оказалась бойкой, легко сошлась с женщинами, которых на стане было около десятка, приязненно возилась с их детьми и не чуралась обычной работы. Мотора, вздыхая, ходил вокруг нее, присматривался и все не решался взять в женки.
— Молода! — ворчал. — Мне бы постарше, постепенней.
— Смотри, а то я возьму! — грозил Никита.
На очередном сходе люди Моторы и Дежнева сговорились достраивать и конопатить кочи, заложить коломенку. По вскрытии реки и залива решили сходить к бессонкиным остаткам и дальше, к богатой костью корге, потом думать о возвращении на Колыму. Иных промыслов на Анадыре не было. Решить-то они так решили, но пока готовили к плаванью кочи, пошла на икромет рыба. Не запастись ей — обречь себя на голодную зиму.
— Вот это жизнь! — не то радуясь, не то злясь, ворчал беспокойный Бугор.
— За все прежние годы отоспался… Мишка Стадухин уже и мир бы наладил и кость привез, а мы только думаем, идти ли к морю, чтобы прибрать останки с побитых судов.
Василия поддерживал его недруг Анисим Костромин. Заодно с ними стали драть глотки беспокойные зимовейщики, которых подстрекал к промыслам купец Мартемьянов. Очередной сход решил отправить их к морю, искать прибыли, остальным запасаться рыбой и готовиться к зиме.
Лето было жарким. При высоком солнце возле изб носились ревущие тучи овода. Комары унимались только при ветре, набиваясь в избы. Оттуда их выживали дымокурами. Едва были просмолены кочи и заложена коломенка, к зимовью прибежали ясачные анаулы, которых побили ходынцы.
— Не дает Бог богатства! — Дежнев со вздохом воткнул топор в колоду и вытер взмокший шрамленый лоб. — Первое лето к зиме готовились, второе — от Мишки бегали, теперь война. Вековать нам здесь, что ли?
Сход приговорил Фоме Пермяку с больными и торговыми людьми сидеть при зимовье, караулить добро, баб с детишками, запасаться рыбой, остальным, объединившись с анаулами, идти на погром ходынцев.
— Догнать оленных людей в тундре почти невозможно, — чесал бороду Мотора. — Воевать с ними — того трудней. — Ему не хотелось отрываться от молодой проворной женки, к которой начал привыкать, но служба обязывала. На анаулов напали два сильных многочисленных ходынских рода, во главе которых стояли братья. — Родня! — рассуждал Мотора. Братья будут крепко стоять друг за друга.
Семен Дежнев, беглые казаки и промышленные под его началом ушли вместе с анаульскими мужиками воевать ходынцев. Отряд вернулся только осенью с аманатом от одного из ходынских родов — чуванцев. На нартах приволокли тела убитых товарищей. В боях с ходынцами погибли спутник Дежнева Елфим Меркурьев, приставленный к остаткам гусельниковских товаров, промышленные Иван Нестеров и Петр Кузьмин. Их похоронили возле зимовья. Ясачные анаулы были отмщены. Дежнев опять был ранен ножом, но неопасно. Фома с торговыми и калеками сумел запастись красной рыбой. Зима ожидалась не такой обильной, как прежняя, но и не страшила голодом. До холодов люди снова принялись утеплять избы, запасаться птицей и строить коломенку. Пропал овод, ослабели, заленились комары, вскоре исчезли и они. По берегам Анадыря появились забереги, лужи затянулись льдом. По хрусткому мху тундры прискакали на оленях ясачные ходынцы — чуванцы, с которыми воевали летом. Их погромили коряки. Семен Мотора снова стал собирать отряд. На этот раз караулить зимовье остались раненые и немощные под началом торгового человека Анисима Мартемьянова. С Моторой, Дежневым и беглыми казаками увязался Павел Кокоулин, уставший сидеть в зимовье наравне с женщинами.
Отряд вернулся в декабре, по заметенной снегом тундре, как это было год назад со Стадухиным. Наказного атамана Семена Мотору и его целовальника привезли на нартах вперед ногами. Оба погибли в боях. Многие были легко ранены, Анисим Костромин не мог ходить без помощи товарищей, Павел Кокоулин получил еще одну рану. Анадырь спал, покрывшись льдом. Выла метель, срывая с волоковых окон и труб дым очагов. Вернувшиеся были встречены теплом и ласками женщин. Убитых предали мерзлой земле, помянули белой рыбой, которая считалась лакомством, грибами, ягодой шикшей, собранными женками, и ягодным вином.
На Анадыре осталось три десятка русских людей. Опасаясь распрей и раздоров, они сошлись в одной избе и сообща решили, что впредь атаманом быть Семейке Дежневу и служить ему по наказной памяти Семена Моторы. В помощь и для совета от беглых казаков и промышленных людей избрали другого атамана — Никиту Семенова, чтобы им друг друга от греха удерживать. Наставляли их править по справедливости и заветам благочестивой старины, во всем советуясь с кругом. Дежнев поклонился товарищам с первым наказом:
— Будем зимовать, доделывать коломенку, а всякие раздоры решать мирно и сообща.
Никита Семенов с общего согласия предложил женке убитого Моторы, впредь жить с ним, и она с радостью согласилась.
13. По сторонам Великого Камня
Едва стадухинская ватага обустроила табор и люди насытились рыбой, атаман уснул на корме обсохшего коча, Тарх накрыл его меховым одеялом. Проснулся Михей, почуяв запах печеного мяса, сел, огляделся, соображая, где находится. Розовела река, над морем в низких облаках висело полуденное солнце. За время его сна промышленные обошли окрестности, добыли оленя, нашли ручей со сладкой водой, все выглядели довольными и отдохнувшими.
— Подкрепись, Мишка! — позвали к кострам.
Стадухин напился свежей воды, умылся в реке. Расправив мокрую бороду и рыжие усы, подцепил ножом шипящий кусок мяса.
— Следы людей есть, но никого не видели, — рассказывал Тарх. — Река рыбная. Прошлогодней тухлятины по берегам много. Есть лисы, соболь, медведи. Олени выходят к морю… Мы тут говорим между собой, даже если не Гижига, все равно можно зимовать. Не бывают такие места безлюдными, найдем кого под государя подвести.
— Добро! — промычал Михей, пережевывая мясо.
— Придут! — загалдели промышленные. — Погоди, пойдет на нерест рыба — явятся!
— Хорошо бы не коряки! — опять пробурчал Михей. — Если весной выжили с Пенжины, то теперь у нас сил втрое меньше.
Не внял Господь атаманским молитвам: на дым костров вышли пятеро мужиков с луками и рогатинами, остановились в полете стрелы, высмотрели судно, засеку, бородатых пришельцев.
— Коряки! — вскрикнул ходынец. Лицо его перекосилось, он схватился за лук, прицелился в шевелившийся кустарник.
— Поздно! — перехватил его руку Михей, удержав от напрасного выстрела. — Теперь придут, не задержатся. Надо ставить частокол и рубить избу. — Подумав, вытер рукавом усы, добавил хмуро: — Что делать? Коряки так коряки… Видать, судьба!
До Петровок промышленные люди успели поставить тын в полторы сажени высотой, срубили стены избы. Покрыться крышей и поставить нагородни не успели. Устье реки было не самым удобным местом для ловли рыбы, а время — для войн: всем надо было запасался кормами в зиму, но беспокойные коряки устроили нападение. Михей почувствовал их издали. Роились комары, моросил дождь. Порывы ветра хлестали им по заплоту и стенам, стелили по земле едкий дым. Стадухин, закрыв глаза, дремотно поклевал носом и встрепенулся:
— Крадутся! Человек полтораста… — Усмехнулся: — Дождь им не помеха.
— Задрал голову, подставляя небесной влаге лицо и бороду. Стены избы защищали только от ветра. — Берестой покрыться, что ли! — Ругнулся, поднимаясь на ноги: — Нельзя. Подпалят!
Не хватило трех или четырех дней, чтобы встретить приступ в готовом, укрепленном зимовье. Строили его с размахом, предполагая, что со временем разрастется в острог. Не повезло. У кого были кремневые ружья, подсыпали порох из натрусок, прикрыли запалы шапками, у кого фитильные пищали и мушкеты — запалили трут. Огненный бой не испугал нападавших, похоже, среди них были люди, воевавшие на Оклане. Коряки не полезли напролом, как при первых встречах, но, скрываясь за деревьями и кустарником, подошли на ружейный выстрел и стали осыпать стрелами недостроенное зимовье. Пущенные с огнивом, они не долетали до тына, мокрая трава мешала пустить пал. Три десятка корякских удальцов короткими перебежками подкрались шагов на тридцать. Промышленные дали по ним залп картечью, половину переранили, уцелевшие побежали обратно.
— Вот и языки! — указал на оставленных атаман и отставил перезаряженную кремневую пищаль, собираясь выйти из-за частокола.
Моторинские промышленные Матюшка Калин, Иван Суворов, Калинка Куропот вызвались идти с ним.
— Ты здесь нужней! — оттеснил брата Тарх, поправил топор за кушаком.
Михей молча согласился с младшим. Четверо приволокли двух мужиков. Один был ранен в ноги, другой в живот.
— Этого не надо было брать, — поморщился атаман. — У нас не выживет, а свои, может быть, и выходили бы.
— Не разглядели! — оправдался Тарх. — Видим — живой. Подхватили…
Ходынец, мстительно улыбаясь, стал выспрашивать пленных, что за река, на которой они находятся. Услышав ответ, обвел спутников победоносным взглядом:
— Гижига!
— Не ошиблись. Привел Бог! — перекрестился атаман.
Он привык к ходынцу, перестал его чувствовать, только следил, чтобы не мучил пленных. Но пока отдыхал после боя, тот бесшумно задушил раненого в ноги, другой умер сам. Коряки с прежним озлоблением стали нападать на недостроенное зимовье. В самую горячую пору стадухинский отряд сидел за частоколом и отбивал до пяти нападений в сутки. Охочие люди отстреливались, ходили на погромы, брали в плен мужиков и женщин. Михей говорил им государево слово, отпускал и аманатил, но не мог принудить к покорности и миру, потому что коряки не боялись смерти и охотно умерщвляли себя. Им сковывали руки и ноги, чтобы не могли чинить смертоубийство, они отказывались от еды и питья, ни с кем не разговаривали, по двое-трое суток сидели без движения, пялясь в одну точку, и умирали, а их сородичи при больших потерях продолжали осыпать зимовье стрелами, не оставляя каждодневных попыток сжечь его. Отряд Стадухина тоже нес потери. «Да сколько их и откуда берутся?» — удивлялись охочие. Никто из них не мог знать, что на другой стороне Анадырского плоскогорья, на Колыме-реке еще в прошлом году поменялась власть. После многих мытарств, трудностей и мучений пути, потеряв кочи на Индигирке, на смену Василию Власьеву пришел новый колымский приказный Тимофей Булдаков. Он обосновался в Среднем остроге, где сидел на приказе казак-первопроходец Мишка Коновал и служил не в прием беглый янский казак Иван Баранов.
От Стадухина и Моторы известий не было. Еще до их ухода с Колымы Иван Баранов подал Власьеву челобитную — идти своим подъемом с тридцатью промышленными и охочими людьми на Чендон-Гижигу, о которой слышал от инородцев. При этом он явил в казну двадцать соболей. Не принятое прежней властью прошение было передано новому приказному, и тот отпустил ватагу. Случилось так, что эти люди ушли с верховьев Колымы почти одновременно с полусотней Михея Стадухина, двинувшейся с Анадыря на Пенжину. В верховьях Гижиги ватага Ивана Баранова была встречена оленными ходынцами, которых беспрестанно притесняли коряки. Тойоны родов Ларчега, Тонгылыта и Чонога сами явились к пришельцам с просьбой о помощи, дали ясак и подарки русскому царю, присягнули на верность. Иван Баранов предложил писаным рожам выдать аманатов, и они с радостью согласились на это, чтобы иметь защиту казаков.
Еще сам того не зная, беглый казак Баранов с товарищами проложил главный путь с Колымы к Охотскому морю и нашел место для будущего государева острога. Его люди помогли ходынцам отбиться от нескольких воровских набегов, и стычки прекратились. Корякские роды оставили верховья реки не из страха перед пришельцами, но по зову единоплеменников, призвавших воевать в устье Гижиги. При непрестанных боях в низовьях реки в ее верховьях промышленные и охочие люди Баранова построили укрепленное зимовье, промышляли рухлядь и мясного зверя. Но промыслы разочаровали их: на Колыме соболя было больше. В конце февраля Баранов оставил в зимовье десять охочих людей, с остальными и с тойонами известным ему путем ушел в Верхний Колымский острог.
Снег был крепок, как камень, ветер лют, но он дул в спину. Баранов вернулся в мае без больших тягот и потерь, сдал Тимофею Булдакову тойонов с аманатами, явленных соболей и государеву десятину с добытого. Поход, к которому он стремился и призывал несколько лет сряду, разочаровал его. Река за Великим Камнем никого не удивила и не обогатила, сам Баранов не добыл ни славы, ни богатства, разве заслужил прощение за янский побег: колымский приказный обещал написать о нем якутскому воеводе. Никто не мог знать, что легкими стычками и спокойными промыслами в верховьях реки охочие люди обязаны неудачливой ватаге Михея Стадухина. Через несколько лет барановское зимовье получит разряд государевого, затем расстроится в острог. На тамошнем приказе выслужат средние чины знакомые Баранову и Стадухину казаки, куда как менее известные, чем они сами.
В низовьях Гижиги соболя было много, но коряки не давали отойти от зимовья даже на днище. Станов здесь не рубили, ухожий не тропили, промышляли только поблизости, на погромах у коряков отбивали мехов больше, чем добывали. Стадухинские люди зароптали. При очередном погроме вож-ходынец принял в грудь отравленную стрелу с костяным наконечником. Отмстив за родственников, с тяжкими телесными муками и с миром в душе он ушел к ним в Нижний мир. К тому времени, когда среди проталин зазеленела трава, других надежд, кроме безвестной гибели, не осталось даже у Михея Стадухина. Удержаться на Гижиге без сильного войска оказалось делом невозможным. То, что придется уйти, он понял раньше других и всю зиму с лютыми ветрами берег коч, жестко отбивая все попытки сжечь его.
На вешнего Егория собралась в круг потрепанная ватага. Как принято со времен ветхозаветной старины, атаман дал всем высказаться и всех выслушал. Его люди соборно решили плыть дальше на закат в виду берега, туда, где до сей поры русских людей не было, а тамошним народам нужны мир и государев порядок.
— Ну и ладно! — с облегчением согласился старший Стадухин. — Не дает Бог богатства, может быть, даст славу! Оставляем шесть могил — это плохо! Но они были первыми — Бог их наградит!
Еще в те дни, когда стадухинские охочие и промышленные люди, одурманенные пенжинскими рассветами, шли к морю на трех кочах, на другой стороне Великого Камня очистилось ото льда устье Омолоя и открылся морской залив. При безветрии, ясной голубизне неба и воды на пологих волнах степенно покачивались белые льдины, а над тундрой, с трех сторон окружавшей зимовье, блуждало оранжевое солнце. Здесь не были в диковинку ни ветхие отпускные грамоты енисейских воевод, ни кожи с росписями Бекетова и Галкина: торговые люди не спрашивали их друг у друга. Никто ни с кого не требовал ни покупных, ни продажных пошлин. Федот Попов собирался идти в море первым и пред уходом из Омолойского зимовья сказал, что отправляется искать потерянный коч. Служилых в зимовье не было, Федота не пытали, зачем взял так много хлеба и можно ли найти брошенное суденышко в бескрайнем Студеном море? Попов вывел купленный коч из устья реки и следом за льдами двинулся к северу. На борту у него был хороший припас еды и дров, березовые бочки полны питьевой воды. Гребцы, слывшие на Омолое блаженными, все свободное время молились или, собравшись кружком, вдумчиво читали толстую Библию, часто отрывались от чтения и подолгу спорили в поиске каких-то истин. Молодой устюжанин с не сходившей с лица восторженной улыбкой в кучерявившейся бороде, помалкивал, переводя синие глаза с одного говорившего на другого. Вологодский печальник с распадавшейся надвое бородой все свои рассуждения и замечания переводил на конец света. Нетерпеливый тотемец, что-то теребя беспокойными пальцами, опускал глаза долу, и возражал, не поднимая их на спутников:
— Рим тысячу лет ждал конца света, а дождался только своей кончины. Не о том говорим… — И толковал прочитанное как преступления властью Закона Божьего.
— И померший царь Михейка с отцом его, патриархом, русский народ не любили, и нынешний, здравствующий, не любит. Тридцать лет сряду воюет с ляхами, шведами, турками и ими же, выкрестами, себя окружает. Видать, Книгу Царств не читал, не знает, что бывает с царями, предпочитающими инородцев единокровникам.
— Я видел покойного Михейку, как тебя! — рассказывал беглец из посадских людей Москвы — печальник и скромник. — С виду черноглазый татарин, только говорил чисто. А здесь сказано, — почтительно кивал на Библию, — «не может быть царем инокровный».
— Грех хулить мертвых! — прислушиваясь к разговорам, укорил спутников Федот.
— Правда грехом не бывает! — поднял глаза вологжанин, и борода его трепыхнулась крыльями умирающей птицы.
Читавший Библию грамотей уважительно заспорил:
— Давид и Соломон были великими царями, но про их грехи все доподлинно сказано. — Погладил кожаный переплет Книги. — Тысячу лет люди читают и вспоминают о них… А про склоки и преступления других царей?! — недоговорив, покачал головой.
— В Книге Царств много чего о преступлениях власти! — поднял ангельские глаза тотемец. — Если бы цари да бояре Закон Божий читали, то боялись бы погрешать против своего народа, знали бы, как наказуется этот грех.
Обойдя стороной мелководье, далеко вдающееся в море, Федот, насколько смог вошел во льды, среди них дождался попутного ветра, высмотрел разводья и взял курс на восход. Он пристально разглядывал ледовое поле к полуночи, будто все еще надеялся найти брошенный коч, но ради него дальше на север не пошел. Поблуждав среди плавучих льдин, увидел и узнал черневшую вдали оконечность Святого Носа, стал пробиваться к ней. За кормой в розовой дымке сливались небо и море, от низкого солнца розовели плавучие льды и призрачные горы полуночной земли. Шестеро нанятых спутников, уверившись, что Федот не поведет коч в обратную сторону, к Лене, ни о чем его не спрашивали. Они не были мореходами и старательно исполняли наказы передовщика, а он, все еще присматриваясь к ним, порой ловил себя на догадке, что эти блаженные читают его тайные помыслы и соглашаются с ними. Гребцы каждый день варили кашу. В спокойные часы отдыха, садились кружком возле мачты, снова читали и обсуждали Библию или заводили разговоры про Сибирскую Русь и Великий Тес. По их догадкам, воеводы так и не выведали пути к Старой или Беглецкой Руси и от богопротивной власти туда ушли многие. Федот Попов за годы скитаний по Сибири не раз встречал людей, искавших Ирию, но впервые судьба свела его с целой ватажкой, и вся она оказались на его судне. Он слушал их с загадочным прищуром глаз, с улыбкой, скрытой бородой и усами. А они, наслышанные о его скитаниях, доверчиво тянулись к нему, ловили каждое оброненное им слово.
— Еще смолоду знал я промышленного, Пантелея Пенду, — однажды вспомнил Федот. — Как-то встретились на Колыме, и старик говорил, что нашел Тес в самом его начале или в конце. Будто это прямая дорога от Чердыни до Байкала. Может быть, и дальше, но идти через мунгал он не решился.
— Мудрый был человек! — со вздохом перекрестил грудь вологжанин. — Царствие Небесное!
— Почему же Небесное, — усмехнулся Федот, обводя пристальным взглядом замерших слушателей.
— В Жиганах говорили, погиб!
Попутчики были осведомлены о делах Колымы больше, чем предполагал Федот.
— Говорили послухи, не видальцы! — с той же загадочной улыбкой поправил спутника.
— А коч был твой? — впившись в него взглядом, чуть слышно спросил вологжанин.
— Мой! — согласился Федот, скрытно посмеиваясь одними глазами. — Да только Пантелея Демидыча и тех, кто с ним были, мертвыми я не видел.
Глядя на него, спутники настороженно молчали, и Федот, прекращая туманный разговор, велел спустить парус, сесть за весла, выгребать к берегу. Ветер сносил их к полуночным льдам и туманам. За Святым Носом путь к восходу был забит льдом. К этому времени закончились дрова, в тесной жилухе, куда могли вместиться для сна и отдыха только четверо, было сыро и холодно, ковш уже скреб по днищам березовых бочек с остатками воды, но никто не роптал, соглашаясь с кормщиком, что пока дается, надо идти, а голод и жажду можно потерпеть Бог миловал: одним ветром и открывшимися разводьями Попов привел судно к знакомой губе, в которую впадала река со множеством галечниковых кос. Небо затянуло тучами, по всем приметам ожидалась буря. В губе в защищенном от ветров месте коч встал на якорь и его накрыл густой июльский снегопад. Он ничуть не опечалил мореходов. Они запасались пресной водой, ловили рыбу, стреляли уток и гусей, которых было на диво много. Ватага отъедалась, отдыхала и благодарила Господа за милости. Всего провианта, которым запаслись, могло хватить недели на две, но Федот требовал больше и больше, будто собирался безостановочно плыть до самой осени. Спутники безропотно подчинялись ему, хотя стало трудно пробираться с кормы на нос судна.
Через две недели задул попутный ветер. Дождавшись, когда появятся широкие разводья, передовщик взял курс на восход. Два дня коч весело бежал под парусом, на третий солнце скрылось за тучами, хмурое небо прильнуло к морщившейся воде, ветер сделался порывистым, начал раскачивать волны, но Федот не принимал никаких мер к тому, чтобы укрыться от непогоды. Несмотря на беспрестанные молитвы его людей, очередная буря все-таки застала их в открытом море. С бесноватой одержимостью в глазах кормщик велел спустить парус, держаться на волнах веслами и отталкивать льдины шестами. Голос его становился все резче и громче. Он весело поглядывал по сторонам, смахивал с лица соленые брызги, иногда начинал петь и громко разговаривать с кем-то, видимым ему одному. Спутники, доверчиво смотрели на него, распевали молитвы, временами умолкали, прислушивались к голосу Федота и удивленно переглядывались. Кормщик не молился, а пел новгородские былины о буйном удальце и все чему-то посмеивался. Буря стала стихать на третий день. То поднимая на гребнях волн, то со скрипом и скрежетом опуская между ними, коч несло к востоку. Федот приказал поднять парус, оставил при себе двух помощников, остальным разрешил отдыхать. Потом отпустил и подручных.
Когда они проснулись, чувствуя себя отдохнувшими, судно почти не качало, под днищем журчала вода, парус был вздут. За бортами по всем сторонам не было ни суши, ни льдов. Низко над горизонтом висел огромный тускло-красный круг солнца. Передовщик все так же стоял у руля и улыбался. Вологжанин смущенно предложил сменить его. Федот равнодушно согласился, положил перед ним маточку, указал, куда вести судно, завернулся в одеяло и лег у ног сменщика. Спал он долго. Все шестеро спутников бодрствовали и беспрестанно молились. По правому борту показалась земля, это был не прежний пологий тундровый берег, а неприветливые черные скалы. Вологжанин попытался подойти к ним, но парус заполоскал, ему пришлось выровнять судно на прежнем курсе. Будить передовщика спутники не стали, и он беззаботно проспал почти сутки. Когда Федот поднял голову, сел и посмотрел за правый борт, на далекие скалы, все с облегчением вздохнули. Ветер опять был порывист и срывал брызги с волн. Попов сонно рассмеялся, повертел головой по сторонам, окинул взглядом небо.
— Похоже, скоро опять дунет во всю мощь, надо править к берегу! — Потянулся и встал.
— Я пробовал! — жалобно оправдался вологжанин, сжимая румпель окостеневшими пальцами. — Полощет! — кивнул на кожаный парус и указал рукой на тупой нос судна.
— Держи пока так! — беззаботно приказал кормщик. — А я поем. Есть хочется, будто гнус кишки погрыз!
Дожевывая юколу, он вернулся на корму, отстранил вологжанина от руля.
— Приспускай парус! — приказал. — Готовьтесь идти на веслах. Будем выгребать скулой к волне.
— Куда? — настороженно спросил кто-то из гребцов.
— Куда Бог выведет! Хватит гоняться за богатством! — воскликнул, задрав бороду к низкому небу, и распахнул руки, будто хотел обнять какую-то невидимую силу. — Надо слушать Господа, чего Он от нас хочет! Так ведь, братья? — обвел попутчиков глазами, светившимися силой и решимостью.
— Так! — согласились они и разошлись по местам.
Вести четырехсаженный коч своей силой в шесть пар рук было делом многотрудным. Гребцы запели, призывая в помощь Николу Угодника, обессиленные, выгребли к какому-то заливу и в нем укрылись. Вскоре засвистел ветер, началась буря страшней прежней. Ватажные радовались, благодарили Бога и Николу за помощь явную. Федот внимательно осмотрел берега бухты, велел спустить на воду лодку. Молодой непрестанно чему-то улыбавшийся устюжанин указал глазами на благодарственно молившихся. Попов опять рассмеялся и отмахнулся, как от пустого занятия, удивляя спутников:
— Иначе и быть не могло!
На пару с мезенцем он сел в лодку, выгреб к устью ручья, пригоршней попробовал воду на вкус.
— Сладкая! — крякнул от удовольствия и стал наполнять бочку. Он и на коч вернулся будто с присохшим к глазам беззаботным прищуром, весело объявил:
— Прошли мы мимо Колымы, братцы! Я здесь бывал, помню. — Непонятно чему хохотнув, добавил: — И мимо большого залива пронесло. Мыс там долгий — течения и ветры дурные. Ох, и помучались в прошлый раз, а теперь без сучка без задоринки. Бьюсь об заклад, после бури задует западник.
Шестеро спутников смотрели на него удивленно и настороженно, даже молодой устюжанин, поблескивая синими камушками доверчивых глаз, на этот раз не улыбался.
— Почему? — ласково и вкрадчиво спросил вологжанин, дернув кадыком на истончавшей шее. — Есть к тому приметы?
— Нет! — беззаботно ответил Федот. — Но если так случится — все скажу, ничего не утаю. — И возвращаясь к заботам дня, добавил строже: — Отдыхайте! Я постою в карауле, пока Бог дает силу: здесь нас в прошлый год пытались пограбить… Отдохнете, пополним припас воды и дров. Ишь, сколько плавника на камнях? — И опять удивил спутников, обронив: — Теперь спешить некуда!
На четвертый день буря стихла. Залив забило льдинами, но за ними видны были чистые разводья воды. Вскоре разъяснилось небо и с запада действительно задул умеренный ветер.
— Ну, вот и случилось! — торжественно крестясь, объявил Федот. — Теперь понятно, чего хочет от меня, грешного, Господь! Да и от вас тоже. Прошлым годом выбросило меня на Большую землю. Там уже много наших людишек и Пантелей Демидыч с ними. Звали меня остаться — не захотел: долгов убоялся. Но Господь от них освободил, и теперь я знаю, куда бы ни плыл, куда бы ни шел — все равно вернусь туда не своей, так Его волей. И вам уже не будет обратного пути. Так уж судьбой завязано, так нам всем на роду написано. Смиритесь или погубите души, как погубили их многие мои товарищи.
— Исполним волю Пославшего нас! — радостно закрестились товарищи, кланяясь на восход, встреч солнца.
Той весной, когда Федот Попов с шестью спутниками еще только готовился к выходу с Омолоя, с бедных янских промыслов в Нижнее государево зимовье вернулись охочие и промышленные люди, пограбившие Юшу Селиверстова и Артема Осипова. Как гуляки с больной головой бегут к месту бывшего веселья, так они, оголодавшие, кинулись к Селиверстову, будто не помнили осенних драк, грабежей и поносных слов. «Юша, дай хлеба!» — стали просить. Но Селиверстов ничего не забыл, он всю зиму думал о возмездии, о том, как принудить бунтарей к делу и взыскать убытки.
— За что вас кормить? — спросил загодя приготовленными словами.
За его плечом с важным видом стоял Артем Осипов. В стороне, будто открещиваясь, тоскливо и обиженно топтались братья Курсовы. Прежде всего вышедшие с промыслов люди обязаны были вернуть Юше кабальные грамоты. Селиверстов напомнил ленский уговор, что приверстанные в казаки без окладов служат ему, а своеуженники дают треть добытого. Осмотрев их добычу, он презрительно бросил связки соболей, белок и горностаев, волчьи шкуры даже разворачивать не стал.
— Не стоит того, чтобы кормить по прежнему уговору! — поморщился с недовольным видом.
К его злорадству, главные крикуны и заводилы Ивашка Обросимов и Гаврила Алексеев в один голос завопили:
— Ты в грамотку-то загляни, о чем договаривались в Якутском?
— И вы вспомните, как блюли крестоцелование! — язвительно укорил их Селиверстов. — Поскольку прежний уговор порушен, я волен поступить с вами, как с пришлыми. А вот Артемка, — указал глазами на верного ему охочего человека, безбедно зимовавшего при коче, — своих кабал не отбирал, казенного добра не крал, и я его кормлю… Хотите хлеба? Покупайте… Десять рублей пуд.
— Спятил, что ли? — громче заорали горлохваты. — На Колыме, сказывают, пуд по восьми рублей в долг.
— Туда и езжайте! — презрительно захохотал Юша, вспомнив урок, который дал ему латинянский воевода-выкрест.
Он хотел вытребовать с бунтовщиков добычу и кабалы, принудить безропотно подчиняться, идти куда укажет. И поскольку был уверен, что Францбекова непременно переменят, пустил слух, который думал использовать в будущем:
— Я явил в казну пятьдесят пудов рыбьего зуба, но с такими неслухами, как вы, терплю убытки.
— Да мы у других торговых хлеб возьмем по восьми рублей!
— Берите! — опять посмеялся Селиверстов и пошел в съезжую избу, показывая, что разговор закончен.
— Сами на Погычу пойдем! — крикнул вслед Гаврила. — Я за Колыму ходил больше твоего, путь знаю, торговые с честью возьмут нас к себе!
В негодовании охочий выдал то, о чем в ватажке сговаривались зимой: найти торговых людей и с ними идти на Погычу. Гаврила знает путь и выведет всех вперед Юши. Бывалец, ходивший в море с Пустозером и Стадухиным, стал обходить торговые суда, готовившиеся к плаванью, предлагал себя с ватажкой в покруту. Его слушали, кормили, поили, в то время как оголодавшие связчики втридорога покупали хлеб на паевые меха и грозили Селиверстову:
— Жалобу царю отпишем!
Смущаясь, к Юше подошел янский приказный Козьма Лошаков, со вздохами сообщил, что вынужден принять жалобную челобитную от его людей. Они писали якутскому воеводе об обидах и просили любых других служб, только не с Селиверстовым.
— Стахеев с приказчиком Босого переманивают, — попытался ободрить и обнадежить Юшу. — Напиши ответную, я — приму!
Между тем тяжба ватаги с передовщиком принимала дурной оборот. При том, что на Колыму с ее богатыми промыслами рвались все, в покруту к Селиверстову не просились даже самые промотавшиеся из янских гулящих людей: видимо, бывшие спутники запугали их. В негодовании Селиверстов носился по кочам, готовившимся к отплытию, поносно ругал своих беглых и потакавших им торговых людей. Они слушали его с насмешками и злорадными ухмылками.
— Думаете, здесь останусь? — раскатистым басом кричал Селиверстов. — Плохо знаете Юшу! — Бил себя кулаком в грудь. — Один уведу коч на Колыму и приду раньше вас, а там наберу людей сколько надо! — В расчете на будущих послухов добавил: — Я явил в казну пятьдесят пудов кости — я их привезу!
Про себя же думал: «Если Митьку Францбека сменят, не дам ему добытого: он снаряжал меня за казенный счет».
На весеннего Егория в Нижнем зимовье собралось много народу, люди гуляли, кликали весну, и только Селиверстов с верными людьми оставался в одиночестве. Их не звали, при встречах не здоровались. Юша с Артемкой Осиповым так и простоял в стороне, глядя на чужое веселье. Братья Курсовы, тоже сами по себе, занимались своими делами. Сошел лед с реки, очистился ото льда залив. Торговые суда одно за другим уходили с Яны к Святому Носу. Юша негодовал, призывал на них бурю, грозился вывести в море свой тяжелый коч с четырьмя подручными людьми, но вынужден был задержаться на Яне. Его бунтари также околачивались возле Нижнего зимовья. Они не нашли торговых людей, которые приняли бы к себе всю ватажку. Одно дело подразнить Юшу, отмстить за былое, другое — рисковать убытками. Не сразу, но бывальца Гаврилу взяли в покруту ради его сказок о походах к востоку, а с ним одного только Ивашку Обросимова. Остальным селиверстовским охочим и промышленным было отказано.
— Иуды! Вы же нас предали! — корили Гаврилу с Ивашкой бывшие связчики по промыслам. — Вы — главные заводчики против Юши.
— Что делать? — смущенно отвечал Гаврила. — Просил за вас всех, — не взяли. Просите сами!
— Как мы без тебя на Погычу пойдем? — бранились ватажные и в бессилии грозили написать о предательстве связчика царю.
— Пишите! — согласился Гаврила.
Они опять сбросились паевой рухлядью на один рубль, писарь, похмыкивая в бороду, изложил их жалобу теперь уже на Гаврилу, ни словом не упоминая ссоры с Селиверстовым. Приказный Козьма Лошаков почитав, рассмеялся:
— Кто же примет эдакую нелепицу? Порушив крестоцелование, хотели сами идти на Погычу, но не нашли ни коча, ни подъема, а во всех бедах виноват Гаврила, подбивший на побег. Пусть, де, царь за то Гаврилу накажет!
Но мех по уговору был отдан, писарю заплачено, заводилы уже чувствовали себя в очередной раз обманутыми и потребовали челобитную принять. Приказный почесал затылок, покачал головой, грамотку подписал. Юша не ошибся в ожиданиях: бунтовщики проели-пропили добычу и с покорностью вернулись на его суд, обещая впредь служить верно и бунтов не заводить. Из четырнадцати набранных им в Якутском остроге бросили его только трое да толмачка Бырчик-Матрена. Он вышел в море позже всех, надеясь нагнать торговые суда и прийти на Колыму первым. Вначале ему везло. Но попутный ветер, уносивший к восходу Федота Попова и торговые кочи, с каждым днем слабел, за Святым Носом он стал меняться, и Юша успел укрыться в безопасном месте. Артем Осипов по команде кормщика бросил за борт двухпудовый железный якорь, и тут их накрыл густой июльский снегопад.
— Оно и лучше! — петушился Селиверстов, стряхивая снег с бороды. — Един Господь знает, что сейчас терпят торговые суда и где прячутся.
Встречный ветер гнал льдины, они окружали коч. Стоять пришлось неделю и другую. На судне не голодали, не мерзли, стала заканчиваться вода в бочках — топили снег. Ветер все же переменился и отогнал льды. Юша дождался проходных разводий и повел коч на Индигирку. Не дойдя до ее устья, он опять укрылся, чтобы запастись свежей водой, птицей, рыбой и топливом. Здесь его нагнало казенное судно с Лены, им правил именитый мореход-первопроходец Иван Ребров. Когда Юша уходил из Якутского острога, мореход был в немилости у воеводы: не желая кланяться выкресту и о чем-то просить, нес унизительные караульные службы. Из того, что старый казак правил казенным судном, Юша понял — власть переменилась.
— Юшка, что ли? — Ребров подвел свой коч к его борту. — Однако недалеко ушел. Да и куда к лешему выпускать в море после Ильина дня?!
— На пятой неделе был против Яны! — прихвастнул Селиверстов. — Кабы не встречный ветер, добрался бы… А ты на Колыму?
— Туда, на приказ, менять Тимоху Булдакова! — степенно, но без гордыни ответил Ребров, будто шел на рыбную ловлю.
— Вот как?! — удивленно взглянул на него Селиверстов. — Торговые, с дружком твоим, Михейкой Стахеевым, моих людей на Яне к бунтам подстрекали. А я явил воеводе полста пудов рыбьего зуба. Ты на Колыму придешь, взыщи с них!
— Сразу взыщи! — ругнулся Ребров. — Лепятся все, как банные листы. Меня новый воевода послал не только на приказ, но искать новые земли, к полуночи от Яны и Индигирки! А твоего благодетеля-выкреста приставы повезли в Москву под белы рученьки. Проворовался. На Семенов день вступил в воеводство царский стольник Иван Павлович Акинфов. По нашим жалобам вел сыск и описал Митькины животы: рухляди на две тысячи рублей с лишком, денег — почти четыре тысячи, кабал тыщ на семь.
— Туда и дорога благодетелю! — не скрывая радости, просиял Селиверстов, смахнул шапку и размашисто перекрестился. — С меня только вытянул кабал на половину отнятого, Ирод!
Ребров встал на якорь неподалеку от Селиверстова. Бывшие при нем люди спустили на воду лодку с пустой бочкой, с другой стали выставлять сеть. Селиверстов громогласно давал им советы, потом переправился на казенное судно и стал навязчиво, в подробностях, рассказывать, как зимовал. Он так пристально смотрел Реброву в глаза, льнул к его лицу носом, что тот отстранялся, отходил, якобы по делам, Юша же следовал по пятам, беспрестанно жалуясь, ругая торговых и промышленных людей.
— Чем помочь? — двумя руками отстранил его от себя Ребров.
— О чем я тебе сейчас говорил?
— На Колыме разберемся, но и ты помоги мне, сходи в Нижнее Индигирское, к Коське Дунаю с Гришкой Татариновым, передай груз и наказы.
Пристально глядя на нового колымского приказного, Юша скрюченными пальцами подоил бедняцкую бороду и раскричался:
— Как колымский приказный, ты обязан мне помогать, а не принуждать к своим делам! У меня воеводский наказ подвести под государя новые земли!
— А у меня наказ найти их! — Ребров повел глазами в полуночную сторону с призрачной дымкой гор. — И на Индигирку с Алазеей, и колымские дела надо успеть принять. — Рассмеявшись, добавил: — У тебя наказ от прежнего вора Митьки, которого увезли за приставами, а у меня от нынешнего воеводы!
Суда простояли рядом двое суток. За это время Юшин голос так надоел ребровским людям, что они стали лаять его. Но установился свежий попутный ветер, и Селиверстов снялся с якоря.
— Ты первым пришел морем на Индигирку, нижние остроги ставил, ты — приказный, вот и плыви туда сам, по указу! — отказал в просьбе Реброву.
Тот чертыхнулся, но спорить не стал.
— Какие наказы! — оправдываясь перед собой, в голос рыкал Селиверстов. Его люди висели на вожжах, удерживая парус к ветру. Резкая, менявшаяся волна мотала коч, он зарывался в нее тупым носом и шел на восход. — Нам зимовать на Индигирке не с руки!
Ветер и льды вынудили его укрыться в устье Алазеи и простоять там две недели. В Стадухинскую протоку Селиверстов вошел при явной перемене ветра. Его рык был слышен за версту. Помощники суматошно носились по судну, то приспуская, то подбирая парус, и Юша подвел коч к самому зимовью, не намочив весел. За расширенным кем-то частоколом виднелись крыши двух изб и амбара. За время, проведенное Селиверстовым вдали от Колымы, здесь появилось несколько землянок и балаганов. Против них стояли три коча. На берегу толпились люди, изумленно наблюдавшие за галсами Юшиного судна. Все они ждали попутного ветра, чтобы вернуться на Лену.
— Удачлив, бес! — восхищались. — Искусен, как черт у котлов.
От них Юша узнал, что о Стадухине и Моторе известий нет. Два года — не срок, чтобы хоронить товарищей, но не было новых вестей и о Нанандаре — Анадыре, Чауне и Чондоне, за два лета никто туда не ходил, хотя про моржовую кость говорили и колымская цена на нее поднялась. Чтобы продолжить путь, Селиверстову хватило бы и своих людей, после бунта и покаяния они были терпеливы и верны, но он разумно опасался, что если не найдет Стадухина с его полусотней, то зимовка в неведомых местах может стать для него последней. Весть о походе Ивана Баранова на Гижигу не вызывала у Юши любопытства: вернувшиеся оттуда отдали посул, заслужили похвалу приказного, но богатства не добыли. К тому же идти за Камень в верховья Гижиги можно было только весной. Другая новость была не лучше: торговые кочи, зимовавшие на Яне, опередили его. Обстоятельства вынуждали идти к Нижнеколымскому острогу, а значит, зимовать на Колыме.
Мимолетным сном ночного караульного промелькнула короткая колымская осень. Едва не в один день пожелтели лиственницы и березы, заленился комар. В памяти служилых, промышленных и гулящих людей остались многолюдная летняя ярмарка с небывалым обилием товаров, снижение цен на хлеб, а пережитая зима запомнилась началом оскудения соболиных промыслов.
То же самое, только в разное время было на Лене, Яне, Индигирке: пока до Ангары и Енисея доходили слухи об их богатствах, промыслы истощались. Прибывшие люди обеспокоенно шныряли среди бывальцев, выспрашивали о землях и притоках, поили, ласкали, на руках носили старых колымских промышленных. Два Ивашки, Ожегов и Карепанов, постоянно жившие выше Среднего государева зимовья, были окружены почетом, тяжко пьяные, несли нелепицу о Погыче-Анадыре и Гижиге-Чондоне, на каверзные вопросы то помалкивали с видом знатоков, то сопели, под пристальным вниманием любопытных. Ожегов, с лицом в цвет перекаленного кирпича, осерчал, когда в десятый раз спросили про Анадырь.
— Я Мишке с Семкой говорил: на кой вам Погычи-Анадыри, если в верховьях Колымы никто не был? Тьфу на тамошние промыслы и богатство. Нам здесь всего хватает. Лосей много — сажень в холке, таких на Ангаре нет. Птицы, рыбы много, нынче за пуд ржи всего три соболя просили. Попа бы прислали и чего не жить?
— Так нет, — стал вторить товарищу встрепенувшийся Карепанов, — вместо попа шлют служилых, приказных, целовальников, чтобы наводили свой говенный порядок… Как наведут — уйдем на Анадырь или за Камень!
— Ты не шибко-то языком! — опасливо посоветовал кто-то из слушателей.
— Окоротят!
— Тут не Якутский и не Жиганский! — пуще озлился Ожегов. — Пусть тамошние холопы держат язык за зубами. Нам лучше с медведями, чем с вами, пугаными.
— Мы-то что плохого вам сделали? — зароптали слушатели. — Поим, кормим!
Ожегов поводил по сторонам соловыми глазами, не нашелся, что сказать. Иван Карепанов, клевавший носом, опять поднял голову:
— Пять соболей за пуд ржи! Чего не жить? Под конец за три отдавали. А им все мало! Смекаете? — Прищурил глаз и поднял палец. — Соболь — зверь умный! Станете давить без совести — уйдет! И мы уйдем, хоть хлеб подешевел! — икнув, пригрозил кому-то.
К беспокойству прибывших, почти все здешние люди говорили, что соболя стало мало. С одной стороны, боялись спугнуть удачу, с другой — мало на Лене и мало на Колыме сильно разнятся. Проворный Михей Стахеев к возвращению Селиверстова успел сбыть ленский товар, оставил на Колыме новую ватагу покрученников и подался в обратную сторону. Другие торговые, теряя надежду вернуться этим годом, подумывали о зимовке. Ярмарка сворачивалась, но колымский приказный Тимофей Булдаков был в Нижнем.
— Прими жалобную челобитную на Стахеева и торговых людей! — рыкнул Юша, входя в съезжую избу. — Из-за их козней не успел на Погычу по воеводской наказной.
Из-под нависавших на глаза мохнатых бровей Булдаков бросил на бывшего целовальника неприветливый взгляд и указал на образа. Селиверстов посопел с недовольным видом, смахнул шапку, трижды поклонился и перекрестился.
— Пиши! — равнодушно ответил. — Приму! — Булдаков ждал перемены и думал о возвращении.
— Отстал от меня хваленый мореход Ребров с двумя десятками гребцов против моих-то, — прихвастнул Селиверстов, поправляя шапку. — Шел менять тебя, но повернул на Индигирку к Гришке Татаринову и Коське Дунаю.
— С того надо было начинать! — ласковей взглянул на Юшу Булдаков и вернул наказную память, которую внимательно вычитывал. — До замороза осталось недели с две, пойдешь искать Мишку или зазимуешь?
Селиверстов замялся, показывая, что еще не принял решения, хотя от самого стадухинского зимовья тянул время, чтобы задержаться на Колыме. На ярмарку он опоздал, надо было готовить и отправлять людей на промыслы. Как только снесли в амбары животы торгового человека Евдокима Курсова, сам он, угрюмо и печально молчавший весь год, распрямился против Селиверстова и крепким голосом закричал:
— Да чтобы я еще раз с тобой рядом ближе чем за версту нужду справил… Да провалиться бы мне на том самом месте голым задом!
Юша только отмахнулся от надоевшего ему складника: пользу от него он уже получил, а его брат Терентий Курсов заявился промышлять с селиверстовской ватагой.
Именитый мореход Иван Ребров, к Юшиному злорадству, приволокся с Алазеи сухим путем. Его коч был затерт льдами в устье той реки. Только в конце ноября он добрался до Среднеколымского зимовья, оставил на тамошнем приказе Мишку Коновала, а на Святой неделе пришел в Нижний и принял дела у Тимофея Булдакова. На бывшего при Тимофее целовальника торговые люди подали жалобы, новый приказный заменил его Семеном Шубиным и стал принуждать Селиверстова как приверстанного в государеву службу идти в Верхний острожек на приказ: все равно, мол, бездельничаешь.
Юша ждал лета, ярмарки и вестей о Стадухине, по той причине оставить Нижний не хотел, стал совать всем наказную память Францбекова, напирать, что послан подводить под государя неприбранные земли, а не служить на обретенных. Не желая склок, старый мореход принудил Юшу к службе в Нижнем, а сам с целовальником Василием Клеуновым двинулся в Верхний.
Близилась весна. Сквозь морозную хмарь тускло светило холодное солнце, розовели снега и льды, укрывшие реку, синел хребет, за который ушли Стадухин с Моторой, к полудню верещали кедровки и грохотал трескавшийся лед, темнели обдутые ветрами галечниковые острова и прибрежные скалы. Ребров по-хозяйски осматривал заросли топольника и крепкий лиственничный лес, его коч остался на Алазее, нужно было строить новый.
В то время как Селиверстов вел коч с Яны на Колыму, поредевшая ватага Михея Стадухина при противных и боковых ветрах уходила от злосчастной Гижиги. Море было тихим и ласковым, на берегу рядом с выброшенным прибоем льдом зеленела трава и поспешно расцветали ярко-желтые и оранжевые цветы. За зиму люди сшили хороший парус из отмятых кож, но часто приходилось идти своей силой против ветра. Тем летом, приведшим Селиверстова с Яны на Колыму, ватага Стадухина пыталась закрепиться на двух реках и всякий раз сталкивалась с непокорными коряками. Из-за частых нападений заметно убыли порох и свинец, перед каждым выстрелом приходилось думать, стоит ли их тратить. Охочие все чаще отбивались из луков стрелами, пущенными в них коряками, и Стадухин, не желая терять спутников, все дальше уводил их в неведомое. Только оно все еще волновало и радовало ватажного атамана, давало ему силу. После Анадыря он часто вспоминал кабацкого пророка, посулившего славу, богатство и разрядное атаманство: рассеянные, воспаленные глаза гуляки, пьяные слезы: «А намучается-то, не приведи Господи!».
После Семенова дня, когда на другой стороне Великого Камня Юша Селиверстов собирал ватажку для колымских промыслов, здесь дули сырые ветры с частыми дождями. Стылая, черная вода густела, лениво перекатывалась с волны на волну, обдавала солеными брызгами Тарха, стоявшего на носу судна с шестом. Он пристально вглядывался в очертание берега. Ни споров, ни долгих разговоров не было: все понимали, что истекают последние осенние деньки, когда еще можно закрепиться на суше и зазимовать, позже обустроиться будет трудно. Многим из стадухинских спутников здешние места казались гиблыми: зимы с ледяными ветрами менялись сырыми, туманными, холодным летами. В недолгие ясные и теплые недельки лютовал прожорливый гнус. При незамерзавшем море в полосе прилива в июне лежали наносные льдины, озера оттаивали к июлю. Даже чистые раны здесь подолгу гнили не зарастая, а нанесенные костяными наконечниками с отравой губили людей мучительной смертью.
Утробно рокотал прибой, коч мотало. Шли мимо моржовых лежбищ. Их было много, иные по две версты длиной, но даже самые вздорные из промышленных людей уже не желали промышлять рыбий зуб, только издали высматривали клыки у моржей и спорили, какая им цена на Нижнеколымской ярмарке. В глубине души Михею Стадухину была неприятна охота на этих зверей. Он не говорил, что промысел зуба богопротивен, но вразумлял рассуждением, что тратить на добычу клыков порох и свинец — нельзя, а копьем или стрелой моржа не убьешь. К тому же никто не знает, куда приведет Бог, и грузиться впрок клыками опасно.
На Рождество Богородицы коренной берег круто повернул к полуночи. При повороте крутая зыбь прибойных волн ударила в борт, обдавая солеными брызгами, ветер стал прижимать к суше, изрезанной бухтами. В них можно было укрыться, но ватага спешила найти место для зимовки. На Федору-обдеру вошли в залив. До другого мыса было верст двадцать. При противном ветре Стадухин пожалел гребцов и повел коч вдоль низменного восточного берега. Западный был возвышенным, покрытым редким приморским лесом. Приближаясь к нему, Михей высмотрел лагуну, закрытую галечниковым валом, защищавшим устье какой-то речки от морских волн. На намытой дамбе стояли летники, возле них толклись люди, по одежде не походившие на коряков. Стадухин указал гребцам на берег, те обернулись по курсу.
— Ну вот! И лес, и народ ждет нас и государева порядка.
Покачиваясь на зыби, коч дождался прилива, благополучно вошел в лагуну, затем в устье реки. После короткого спора воды начался отлив, речка потекла к морю, под плоским днищем судна заскрежетал галечник, и вскоре оно оказалось на мели. Но едва коч обсох от летников, к нему побежали до полусотни мужиков. Из кедрового стланика выскочила добрая сотня таких же удальцов, ждавших нападения. Все они кричали, размахивали копьями и луками.
— Не коряки, явно! — С любопытством разглядывал их Михей. — По виду ламуты. И так много разом? Будто ждали.
— Наверное, издалека высмотрели, — подсказал Тарх, — хотят пограбить.
— Пожалуй, так! — согласился атаман. — Только вот, почему приняли за врагов, если мы первые?
— Они всех рады пограбить! — шмыгая носом, неприязненно выругался моторинский промышленный.
Михей повел бровями, соглашаясь, что может быть и такое, натянул глубже шапку, привычно скомандовал:
— Готовься к бою!
Укрывшись за бортом, его люди стояли в лужах холодной воды. Подпустив нападавших, дали залп. Стреляли поверх голов, для острастки. Дикие остановились, стали пускать стрелы из луков, но не удивились огненному бою.
— Стреляные, что ли? — посетовал атаман. — Явно ламуты: кожаные халаты нараспашку. Неужто мы и здесь не первые?
Нападения не прекращались пять суток сряду, пока охочие не пленили двух мужиков властного вида. С пятого на десятое по-тунгусски в отряде говорили все. Михей опять удивился: со слов ясырей выходило, будто они думают, что казаки вернулись после того, как были изгнаны. Атаман потребовал от заложников мира и прокричал о том нападавшим. На какое-то время они оставили ватажку в покое, и промышленные начали строить укрепленное зимовье.
— Миловал Бог! — поглядывая на брата, перекрестился Тарх. — Вдруг и дождемся лета. Зимой дикие не горазды воевать.
— Мы здесь не для того, чтобы зимовать! — поправил брата старший Стадухин. — Нам надо осесть надолго. — Помолчав, добавил: — А меня, грешного, так и подмывает плыть дальше.
Той весной, когда Селиверстов готовился вести коч с Яны на Колыму, а Стадухин еще только собирался оставить Гижигу, Анадырь очистился ото льда и стала спадать шалая вода. Пережитая зима была метельной, одну пургу меняла другая. В конце марта, оцинжав от красной рыбы, люди промышляли зайцев и куропаток, лечились и отъедались свежим мясом. Женщины ели его сырым и были здоровы. В заботах о выживании до строительства кочей не доходили руки, о них спохватились только со вскрытием реки. В конце июня к плаванию готово было только одно судно, его и спустили на воду. Женщины сшили парус из оленьих кож, мужчины сплели тросы из кож и корней.
На сходе казаки и промышленные решили, что к бессоновским останкам должен отправиться Семейка Дежнев со старожилами, знавшими, где их искать, и Никита Семенов с беглыми казаками, а от торговых людей — Анисим Костромин. Плыть к морю собирались пятнадцать человек. Другая половина мужчин оставалась при зимовье, охранять добро, женщин с детьми и аманатов, чинить сети, городить реку в шиверах и готовиться к путине. Дежнев и старожилы знали, что Анадырский залив освободится ото льда не раньше июля, потому не спешили. Василий Бугор с Павлом Кокоулиным ругали их, упрекая в лености, вспоминали Мишку Стадухина, не потакавшего лодырям. Никита Семенов разумно помалкивал, полагаясь на бывальцев, Семен Дежнев добродушно посмеивался над крикунами.
По спадающей воде коч сплавился по реке и вышел в залив. Он был чист ото льда. До остатков бессоновских кочей ватажка не дошла. В канун Петрова дня на морской стороне за устьем Анадыря люди увидели мыс, он был черен от моржей. Вода и суша на полверсты шевелились и плескались от множества зверей, уши закладывало от их рева. Дежнев ахал и хлопал себя по ляжкам, Бугор с Кокоулиным восторженно лаялись, Семенов с Костроминым глядели на явленное чудо, раскрыв рты.
— Можно и здесь поискать кость, братцы! — весело крикнул Дежнев. — Это лучше, чем шарить бессоновские остатки в студеной воде!
Он подвел коч к отмели, затопляемой приливом. Такое место промышленные люди обычно называли коргой. Ватажка вытянула судно на сухое место и закрепила. С края корги на песке грелись молодые самцы, еще не пытавшиеся собрать гарем из самок.
— Ступайте с Богом, не до вас! — словно гусей, стал сгонять их с лежек Дежнев, прихлопывая в ладоши.
Они не делали выпадов, не угрожали клыками, но сползли в воду, освобождая проход к матерым самцам. Семен поворошил носком ичига оттаявший под ними песок, нагнулся и поднял обломленный клык. Бугор восторженно заревел, стал рыться в песке и откопал череп с клыками. Куда делась зимняя нерасторопность? Десять дней сряду пятнадцать человек лопатили отмель. Неподолгу, в черед, отдыхали, наспех пекли на углях мясо, ели и снова копали окатыш на оттаявшую глубину. Ниже были вмерзшие кости. С ними не возились, брали то, что сверху. Росла и росла гора клыков против коча. Моржей не били: застрелили пару ревнивцев, не желавших уступать места, их жиром и мясом питались.
— Братцы! Не пора ли возвращаться? — забеспокоился Дежнев. — Не добудем в зиму рыбы — с голоду помрем.
— Успеем еще! — огрызались Костромин с Кокоулиным, продолжая ворошить песок и галечник.
Наконец забеспокоился и Никита Семенов, вскинул на Дежнева озабоченные глаза.
— Не утянем ведь против течения!
— Зачем тянуть? — Дежнев весело блеснул глубокой синевой в морщинистой сетке обгоревших глазниц, ополоснул руки, настойчивей скомандовал: — Все! Пора возвращаться! Без нас рыбой не запасутся… Но зачем тянуть? — повторил, плутовато оглядывая распрямлявшихся товарищей. — Если будем возвращаться морем — мимо не пройдем. Куда они денутся? — кивнул на кучи клыков.
— Ну, нет уж! — в голос заспорили спутники.
— На карачках, но притащу в зимовье и выкуплю кабалы у Мартемьянова, — рыкнул Бугор. — Он их не даст, если кости останутся здесь.
— И я не дам! — поддакнул Костромин, с вызовом глядя на Дежнева.
Тот перекрестился, поплевал через левое плечо.
— Больше двухсот пудов собрали. Еще жир, мясо, кожи!
Его опасения наконец-то дошли до спутников, они стали смущенно стряхивать песок с одежды.
— Не дай Бог — дунет! — Семен с опаской взглянул на небо. — Не угрести!
— Тогда грузим и возвращаемся, — мрачно глядя исподлобья, согласился Кокоулин, нагнувшись, выворотил последний клык, ополоснул в морской воде, бросил в кучу, сунул под мышки красные, мокрые руки.
На берег накатывалась степенная волна прилива. Не отдохнув после тяжких трудов, люди столкнули судно на воду, стали грузить его.
— Поспешим, братцы! — со страхом оглядывая высокое ясное небо, поторапливал Фома Пермяк. — Так же было, когда нас унесло.
— До озера дойдем, там безопасней! — вторил ему Дежнев, не любивший всякой спешки.
Бури не случилось, при безветрии они дотянули коч до озера.
— Бог милует! — сдержанно радовался и крестился Дежнев. — Если выберусь на Лену с богатством — сделаю вклад в церковь!
— Попы про нас забыли, — сварливо ворчал Костромин. — Ни в живе, ни в покое, поди, не поминают!
— Молчи! — опасливо шикнул на него Дежнев. — На всех беду накличешь! — Стал отвешивать поясные поклоны на восход и свой след, откуда шли: — Господи, помилуй нас, грешных!
До озера, возле которого он прожил первую и самую трудную зиму, вести груженый коч помогал прилив, течение реки ощущалось плечами только во время отлива. Дальше тянуть судно стало трудней. Полтора десятка казаков и промышленных людей, едва живые от усталости, но счастливые и радостные, продолжали путь. Василий Бугор на привалах падал, хватал воздух ртом в седой бороде и не вспоминал зарок — тянуть привалившее богатство на карачках. Кокоулин зажимал ладонью открывшуюся рану. Дежнев хромал больше обычного, опирался на посох, потом на костыли, вскоре стал постанывать:
— Все равно не поспеть к рыбе! Надорвем жилы. Надо отправить посыльного, пусть приведет подмогу!
— По жребию? — задыхаясь, спросил Бугор.
Дежнев окинул спутников пытливым взглядом: лучше других выглядели долговязый Артемка Солдат и крепко скроенный, осторожный Федька Ветошка. Будто получив от них поддержку, предложил:
— Иди ты или Пашка! Мы еще ничего!
— Я тоже ничего! — смущенно заспорил Бугор. — Иди, Пашка! Тебе тяжельше. Я что? Отдышусь и дальше. Поспать бы, да хлеба или белой рыбки. — Скривился: — Приелась моржатина.
Кокоулин приволокся к зимовью, когда мимо него в верховья реки шла на нерест рыба. Рана на ноге сильно кровоточила, Пашка опирался на сучковатые костыли и вблизи изб упал без сил. Его увидели беглые казаки Васильев и Лютко Яковлев, бывшие при аманатах. Юшка Трофимов и торговый человек Анисим Мартемьянов чинили сети, остальные запасались красной рыбой. Услышав от Кокоулина о найденной корге и богатстве, которое тянули к зимовью четырнадцать доброхотов, все зимовейщики побросали дела и побежали на помощь бурлакам. С женщинами, детьми и аманатами остались Казанец, Кокоулин и Мартемьянов. Глядя вслед, уходившим с ошалевшими глазами, купец с волнением прикидывал, сколько зуба возьмет с должников. Возле устья белой реки дежневские бурлаки окончательно выбились из сил, развели костер на сухом месте тундрового берега, пекли на рожнах мясо и красную рыбу, варили кашу из икры, отдыхали, ожидая помощи.
— Что добыли? — с ходу стал выспрашивать Данила Филиппов, прибежав первым. — Зараза сказал, пудов двести заморной кости?!
— Могли взять больше, тянуть не по силам! — Указал на привязанный коч Никита Семенов.
— Тамошнего рыбьего зуба всем хватит! — отвечал на его приветствия и расспросы Дежнев. — Мяса тоже! — Спохватился, приглашая прибывших к костру: — Ешьте! Глаза бы наши на него не глядели.
Артем Солдат со смехом задрал подол неопоясанной кожаной рубахи, показал ребра.
— Моржатина жирна, а отощали хуже, чем на заморной рыбе.
— Мешать надо: мясо жирное, рыба сухая. Бабы в зимовье делают варку — толченую с вареной.
Пришедшие на подмогу влезли на коч, пересмотрели добытую кость. Глаза их горели от долгожданной удачи.
— Зверя возле мыса несчитано, — посмеивался Дежнев. — За день можно запастись мясом на всю зиму.
— В другой раз женок возьмем, — щуря приуженные глаза, гоготал Фома Пермяк. — Отъедятся в зиму — двумя руками не обхватишь. Моя за один присест полпуда сметет.
Глядя на насытившихся помощников, Никита Семенов поторопил:
— Впрягайтесь, что ли! Чем быстрей доберемся до зимовья, тем лучше!
Два с половиной десятка бурлаков бечевой, шестами и парусом при попутных ветрах привели коч к зимовью. Нападений не было. Навстречу им выкатился Анисим Мартемьянов, на ходу он крестился и кланялся на восход, обметая чуни густой бородой. За ним толпой шли женщины с детьми. Из открытой двери высматривал прибывших Кокоулин. Коч притянули к берегу, не отдохнув, стали носить моржовые клыки в амбар. Анисим Мартемьянов подрагивавшими пальцами щупал заморные и свежие кости, бормотал благодарственные молитвы, приценивался. Пока казаки и промышленные разгружали судно, женщины развели костер, навесили котлы, стали варить привезенный жир.
— Рыба во всю идет! — жаловался Анисим. — А мы что можем? Только караулить. Много ли с бабами запасешь? — Бросил неприязненный взгляд на скакавших возле костра женщин. — Прошлогодние ямы оттаяли. Весной их мхом не завалили, они наполнились водой и обвалились. Надо новые долбить, а не с кем.
По оценке прибывших, зимовейщики с женщинами не так уж плохо поработали: рыба была свалена в короба, на вешалах сушилась юкола, в холодке стояли бочки, перепачканные икрой. Разговор о дележе добычи начался еще в пути, но, добравшись до зимовья, все решили заняться им после путины. Едва река снабдила людей основной едой, тундра покрылась шапками грибов. Их тоже запасали, потом ягоды, ставили вино к праздникам. В середине августа управились с насущными делами и решили, что плыть на коргу другой раз поздно.
— Мишки Стадухина на нас нет! — ворчал Бугор, хотя сам в низовья реки не рвался. — Соль парить надо!
— Пошлем полдесятка казаков, напарят.
— Не о том думаем, — кипятился Мартемьянов и в две руки пушил бороду. — Рыбий зуб взвесили, разложили по паям. По здешним ценам его оказалось на две с половиной тысячи!
— На три! — стали азартно рядиться казаки и промышленные.
Торговые люди, Костромин с Мартемьяновым не соглашаясь, приценивались, перевешивали клыки, напоминали, что на Колыму их везти не бесплатно, а здесь они что кочки или камни, бесполезный груз. После долгих споров сошлись на трех тысячах. Едва Дежнев напомнил, что надо отложить десятину казне, да про его и моторинский посулы, лица связчиков вытянулись, стали суровыми, как на иконах, в следующий миг они закричали:
— Что останется нам?
— Сам подстрекал на корге, чтобы сложить кучей, в зимовье не везти! — сердясь, выкрикивал Бугор.
Семен смущенно улыбнулся, вздохнул, повел глазами по потолку.
— Как скажете! — согласился. — Сколько положим в казну?
— Три пуда! — с вызовом выкрикнул Бугор. — Ей и того много! — Что мы от казны получали? А ничего! Который год без жалованья.
Бугра поддержали все зимовейщики, отмолчался даже Никита Семенов.
— Может быть, хотя бы, пудиков десять? — Смущенно предложил Семен и, услышав недовольный ропот, пожал плечами. — Как скажете. Три так три!
Глаза Бугра, на посеченном морщинами лице, потеплели. Делили привезенную кость поровну. По паям выходило около ста рублей на брата.
— Всего-то? — удивленно переговаривались беглые казаки и промышленные. — С чего думали, что разбогатели?
— Да там этих зубов тысячи пудов, — вразумлял их Дежнев севшим голосом. — Построим кочи, другим летом догрузимся. Даст Бог — вернемся на Колыму морем, а нет, так потянем через горы пудов по тридцать на брата. На ярмарке продадим вдвое дороже!
— Там и дадим десятину, — смиряясь, проворчал Бугор.
Весь его пай переходил к Мартемьянову в обмен на кабалы, данные перед походами на Погычу, потом на Анадырь. Где-то гуляли по рукам другие долговые записи, выданные в Жиганах, на Яне и Индигирке.
— Разве это богатство? — бормотал он, сжигая кабальные грамоты. — На Колыме соболей-рублей добывали больше.
— Так ведь там за ними бегать надо в самые холода! — терпеливо укорял его Дежнев. — А тут зиму брюхо чесали у очагов, женок тискали, богатство само пришло в руки за один месяц. В другой раз пойдем тремя кочами, возьмем втрое больше.
— Надо делать четыре! — буркнул Мартемьянов, разглядывая полученные клыки.
— Не выгрести во льдах по шесть пар рук на судно! — Дежнев болезненно поморщился, вспомнив былое, печально мотнул головой.
— Возле Носа против островов — как из трубы дует! — поддакнул Фома Пермяк, один из трех последних спутников по походу с Колымы.
После дележа и расчета души анадырских зимовейщиков привычно возалкали веселья, но поставленное вино еще только квасилось. Бугор, оттопырив губу, плеснул ложкой на язык, поморщился и сплюнул:
— Хмеля нет, но кислит!
От души веселились только женки, отъедаясь свежей рыбой и икрой.
— Ничего! — утешал себя Бугор. — Если даст Бог вернуться на Колыму, отгуляемся. Отчего-то богатство меня не любит, — жаловался Казанцу.
Стадухинский писарь не спорил, не торговался, равнодушно и даже с печалью глядел на дележ добычи, взял свою долю, и на его скупом улыбками лице чуть дрогнули уголки губ. Он расплатился с долгами, вздохнул, обернулся к Бугру и доверительно спросил с такой тоской в глазах, от которой у того похолодело в животе:
— Васенька? Неужто мы шли на край света только за богатством?
Беглый казак замер, изумленно глядя на него, потом охнул, сморщился, обхватил голову руками, застонал:
— Забыл! Совсем забыл, Господи! Как терпишь ты меня, погрязшего во грехах?
Весна застала Селиверстова в Нижнеколымском остроге в обычной для этого времени осаде от чукчей. Из старых казаков здесь был только Пашка Левонтьев, при зазимовавших торговых людях и целовальнике Семене Шубине ютились с десяток прожившихся гулящих людей. Застать острожников врасплох нападавшим не удалось. На подходе, вблизи надолбов, Юша, высунувшись из-за тына, и так потряс чукчей громовыми ругательствами, что пыла у нападавших убавилось. Пашка умело использовал заминку и устроил защиту силами бывших при нем людей. Вскоре олени перекопытили снежный наст, объели без того редкий мох, а из ближайших зимовий стали выходить первые промысловые ватажки. Чукчи сняли осаду и верхами ушли на свою речку. Пострадал один Пашка Левонтьев: тяжелая чукотская стрела, пущенная из бронебойного лука, сбила с него шапку и глубоко распорола холеную лысину. Товарищи смеялись и язвили, что сходству со святым угодником пришел конец. Пашка был не на шутку встревожен раной, каждое утро и на ночь посыпал ее свежей золой, перед сном прикладывал Библию. Селиверстов попытался собрать отряд для преследования, но люди за ним не шли.
— От государева дела отлыниваете! — грозил он жалобами и прельщал царской милостью.
— Нашей кровью хочешь выслужить себе милости! — досадливо ворчали гулящие и промышленные.
— Почему вашей? — кипятился Юша, удивленно вскидывая брови.
— Нам от царя с воеводами одна милость: кнут да дыба!
Как охочий, имевший наказ подводить под государя новые народы, Юша хотел наказать немирных чукчей, но воевать задарма не желали даже его повинные в янском бунте люди, а взять с чукчей на погроме было нечего. Их даже не пытались подводить под государя, поскольку соболей и лис они не добывали, выкупа за пленных не давали, предпочитая смерть позору неволи. Пока посулами и угрозами Юша пытался собрать отряд, оттаяла тундра, превратившись в бесконечное множество озер и сырых перемычек кочкарника, идти туда стало не только опасно, но и бессмысленно.
Очистились реки, южные ветры отогнали льды от морского берега, с Индигирки пришли первые торговые кочи. По слухам и предположениям, товаров на Нижнеколымскую ярмарку везлось так много, что ожидалось очередное снижение цен. Прожиточные промышленные люди не торопились расставаться с добытой рухлядью и выжидали. Селиверстов был обеспокоен таким поворотом торговых дел, спешно менял на хлеб рухлядь у тех, кому ждать ярмарки было невмочь, идти же по указу морем на Погычу-Анадырь не спешил. С верховий реки сплыл колымский приказный Иван Ребров и удивился, что Юша все еще при остроге. Сам с верными людьми он собирался за море, искать неведомые полуночные земли.
— Что сидишь? — спросил охочего.
— Тебя жду, — не растерялся Селиверстов. — Дай толмачку Алевайку. Она знает языки и море ей в обычай.
— Сдурел, что ли? — выругался Ребров. — Моя толмачка, живет у меня в женках, я ее всему учил?!
— Никто из моих толмачить не может, — стал скандально кричать Селиверстов, призывая в свидетели послухов. — Иные только по-якутски понимают! — Без толмача идти морем никак нельзя!
— Тогда сиди! — обругал его Ребров и занялся делами.
Угрожая отправить воеводе жалобную челобитную, Селиверстов побежал искать писаря. Приказный только презрительно плюнул ему вслед. В тот же день Юша положил перед ним жалобу, в которой оправдывался, что не пошел морем в места, о которых говорил в Якутском остроге, потому что нет толмача, и во всем обвинял приказного. Ребров прочитал челобитную, неприязненно рассмеялся, принял ее к делу с другими грамотами и передал Семену Шубину. Смененный целовальником Василием Клеуновым, Шубин собирался в Якутский острог.
Промышленные с дальних станов приносили вести, будоражившие души колымчан: будто в верховьях Анюя появились люди Михайлы Стадухина. Во что бы то ни стало Селиверстов решил дождаться встречи с ними. Его устраивало даже то, что Ребров отобрал у него казенный коч и ушел на нем в море. Вскоре с верховий Анюя приплыли на плоту беглый казак Данила Филиппов и торговый человек Анисим Мартемьянов. Ступив на берег, Анисим пал на колени и стал отбивать обетные поклоны. К ним сбежались бывшие в остроге люди, помогли вытянуть плот на сухое. Анисим же же, цепляя бородой намытый весной сор, все бил и бил лбом о землю, отсчитывая обещанные пять сотен. Данила Филиппов, низко сгибаясь в пояснице, семижды поклонился на крест над распахнутыми воротами и по просьбе собравшихся стал развязывать мешки с моржовыми клыками. Приострожные люди сгрудились и топтались возле них, едва не наступая Анисиму на бороду. Юша и ребровский целовальник Василий Клеунов не могли сдержаться и выждать, когда к ним в съезжую избу приведут прибывших, сами вышли на берег. Малорослый Селиверстов попробовал протиснуться вглубь толпы с одного бока, с другого, перескочил через Анисима и пробился в первый ряд, чтобы видеть все своими глазами. Данила подавал кости. Заморные, коричневые, с причудливым узором прожилок, они переходили из рук в руки, вызывая шумные восторги. Василий Клеунов распорядился нести весы и тут же взвесить рыбий зуб. Его оказалось сорок пудов с гривенкой. Тридцать шесть принадлежали Анисиму, который, отбив поклоны, распластался на земле и, вздрагивая всем телом, проливал радостные слезы. Пуд с гривенкой Семейка Дежнев отправил для показа властям, два пуда положил на хлеб и сусленки, два — принадлежали беглому казаку. С Анисимом и Данилой были доставлены с Анадыря первые грамоты и челобитные. Юша Селиверстов жадно выспрашивал про реку, Михайлу Стадухина, про коргу, найденную Дежневым. Данила, сам не ходивший на моржовый промысел, как умел, описывал лежбище моржей, простодушно отвечал на вопросы, наслаждался теплом и хлебом, который был в остроге даже весной. Вот уж истинно менялись времена: он по кусочку отщипывал от ломтя в четверть краюхи, расправляя усы, закладывал в рот, благостно щурился, неспешно жевал и бормотал:
— Полтора года ни крошки! Почти на одной заморной рыбе. Хлеб снился прелестней, чем девка в молодости.
Селиверстова его откровения не трогали, он спрашивал и переспрашивал про сухой путь, про залив и отмель с моржами, подливал прибывшим квасу, отламывал новый ломоть. Наевшись, казак привычно завернулся в просохшую парку, прогоркло вонявшую золой и потом, улегся на лавке. Отдохнув, с чувством и расстановкой парился в бане и все отвечал и отвечал то на глупые, то на каверзные расспросы, не понимая, с чего ему такая честь. Кость перевезли через горы нанятые Мартемьяновым ходынцы. Со всего груза Клеунов взял десятину лучшими клыками, принял в казну пуд с гривенкой для государя, затем собрал всех бывших возле острога торговых людей, и они оценили заморные клыки по пятнадцать рублей за пуд.
— Тысячу вложил, половину получил! — слезно всхлипывал Анисим. — Остальное в кабальных записях на людей, от которых другой год ни слуху ни духу. Такое наше торговое счастье!
Семен Шубин, готовившийся к плаванью на Лену на своем коче, купил у Анисима кость по колымской цене и стал уговаривать беглого казака плыть с ним в Якутский острог.
— Ага! — мялся Данила. — Доброй волей под воеводские батоги? Слыхал, против нас объявили сыск, у кого какое добро осталось — забрали в казну. А на мне кабала. Нет уж! С приставами отправят — сбегу… Лучше здесь, при гарнизоне, служить без жалованья.
— Дурак! — весело потирал руки бывший целовальник. — Тебе воевода все простит: чарку нальет, за кость заплатит. Что воевода? К царю поедешь, уж тот-то наградит…
— Кнутом?
— Ну и дурак! Атаманским жалованьем.
Нескоро удалось убедить Данилу, что он совершил геройство. Видя всеобщее расположение, казак поверил, что в Якутском остроге его могут принять без батогов. Он не скрывал пути на Анадырь. По его словам, выйти туда с верховий Большого Анюя проще простого: выше леса станет пропадать ключ — идти на полдень, чтобы солнце на восходе светило в левое ухо и тень по правую руку. И так до верховий Анадыря — реки горной, скалистой, с долиной глубокой. Она приведет к Семейке и Никите, их стороной не обойти. Правда, меж верховий Анюя и Анадыря плоскостина с одинаковыми пупами, меж которых можно плутать, пока не помрешь. Потому если солнца нет, лучше сидеть… А солнца может не быть долго, и дров на плоскогорье нет.
Промелькнуло короткое лето с ярмаркой. Как повелось, на нее съезжались не только колымские промышленные и ясачники, но и вольные инородцы с других рек. Расписанные лица ходынцев, татуированные родовыми знаками щеки анюйских и алазейских юкагиров были привычны для завсегдаев торгов и не вызывали любопытства. Ради торга здесь терпели и скандальных чукчей. Пуд ржаной муки уже отдавали за четыре хороших соболя. Залежалую, с жучком — за три.
Селиверстов прибыльно торговал, Семен Шубин с анадырской костью и беглым казаком Данилкой приближался к Лене. Коч Ивана Реброва носило неведомо где. Ко времени ледостава он не вернулся.
— Утоп! — забеспокоился Селиверстов. — Вот тебе, дедушка, и лучший, самый именитый из мореходов.
Но с Алазеи сухим путем вышел сменщик Ивана Реброва на Колымском приказе казак-пятидесятник Иван Кожин и принял Нижний острог. В это время на другой стороне Великого Камня густо парило не застывающее в зиму море. Осенью стадухинская ватага взяла от местных ламутов надежных аманатов и наложила на их роды ясак. На какое-то время нападения прекратились, избу с нагороднями укрепили высоким тыном.
Пришла зима. Жгучие ветры с гор наметали сугробы в рост человека, сырые, с моря, покрывали их настом. Чувал в зимовье топился беспрестанно. Ламуты ушли от устья еще до холодов. Михей Стадухин не чувствовал зла, но строго следил, чтобы караульные не теряли бдительности. Похоронив шестерых товарищей на Гижиге, он уже не верил самому себе. Стаял снег, очистилась река, злоба и ненависть затлели со всех сторон суши, только с морской веяло равнодушием и прохладой. Предчувствия не обманули атамана: забыв прежние клятвы, ламуты снова подступили к зимовью, а вскоре редкие постреливания из леса сменились осадой. Охочие привычно отбивались, ходили на погромы в ламутские селения, аманатили, принимали новые клятвы.
Среди лета Михей Стадухин решил осмотреть ближайшие реки. Он оставил в зимовье брата с надежными людьми, при тихой погоде и отливе с шестью товарищами вышел из устья реки в залив. Ветер сносил коч в открытое море, гребцам приходилось изо всех сил налегать на весла, чтобы удерживать судно возле берега. Они шли в полуденную сторону к следующей реке и вскоре увидели намытую волнами кошку из окатыша. С приливом вошли в лагуну и поднялись к устью. Еще издали место показалось Стадухину обжитым. Вблизи открылось множество пней, не почерневших на срубе, затем — обгоревшие венцы избы, щетинившиеся остатки частокола и надолбов.
— Эвон кресты у леса! — указал Матюшка Калин.
Михей перевел глаза, увидел их, не тронутые огнем: желтые, нестарые, одиноко скрытые зелеными ветвями деревьев. Коч подвели к берегу, бросили якорь, дождались отлива. Из лесу никто не выходил, места были пустынными. Судно обсохло, мореходы спустились на илистое обнажившееся дно, обошли не сильно заросшую травой гарь. Это было русское зимовье.
— Года два, не больше, как ушли или были перебиты! — при унылом молчании товарищей пробормотал Михей. — Может быть, незадолго до нас.
— С нашей стороны никто не мог прийти! — Матюшка скинул шапку, перекрестился. — Знать, оттуда приплыли! — Кивнул на полдень и направился к холмикам могил, из которых сиротливо торчали добротные тесаные кресты.
На уровне нижних перекладин на них были вырезаны крестильные имена усопших и убитых: «Яшка — сам помер», «Иван — убит», «Иван — убит», «Ермила — убит». Сначала надписи не сказали ничего, кроме того, что здесь были свои, русские люди. Михей склонился к одному из крестов, потрогал пальцами вырезы, прочитал вслух: «Ермила».
— Ермила! Ермила! — спохватившись, сипло забормотал севшим голосом.
— Не Васильев ли? Казак Ермила Васильев, уходил в полку Васьки Пояркова? Если он, то куда же нас бес привел? — Помолчав, нахлобучил шапку, горько усмехнулся: — И тут не первые! Вот ведь как нечистый посмеялся! Видать, набрехал ленский пропойца, пророча атаманство, славу и богатство. Ирод! — Он тяжко и прерывисто вздохнул: — Наатаманился я что-то! — Поскорей бы Господь прибрал, что ли! — Поднял лицо к низкому бусящему небу. — Там, поди, скажут, зачем все было… — Обвел спутников рассеянным взглядом. — Перед тем как отправить к чертям, должны же объяснить, кто так сладко прельщал. Иначе как?
На том разведка берега была закончена. Коч вернулся к зимовью и был поставлен на поката. Михей Стадухин как-то разом сник и замкнулся, стал подолгу валяться на нарах, никого ни к чему не принуждая. Когда чувствовал опасность, поднимал людей, без ярости отбивал нападения и снова ложился, рассматривая незрячими глазами расщепленные бревна кровли.
Безнадежная для Стадухина зима на южной стороне Великого Камня, на его северной стороне была полна радостных ожиданий для Юши Селиверстова. Обнадеживая людей дальним походом в неведомые земли, ссужая их хлебом, ему удалось собрать в покруту десяток гулящих людей. Со своими присмиревшими охочими и промышленными у него набирался отряд. К нему примкнул передовщик Степан Вилюй с вольной ватажкой своеуженников, чтобы идти на Анадырь, к брату Василию, ушедшему со Стадухиным. Это был уговор на весну, а до тех пор все они решили соболевать на небогатых промыслах, которые были на пути к Анадырю. Юша с нетерпением ждал наста и уже в феврале, на святого мученика Власия, стал собираться. Целовальник внес о том запись в книгу, а приказный выдал в разное время доставленные купцами указы воевод: и о высылке в Якутский острог беглых казаков, и о помиловании, о назначении казака Михея Стадухина анадырским приказным. Беглецы, служившие на Колыме, здешними властями не выдавались, поскольку были нужны на месте. Но указ есть указ: о том, что грамоты переданы Селиверстову, целовальник и приказный сделали записи, и дело было исполнено.
На Тимофея-весновея Юша с частью своих людей был в устье Анюя. Нанятые им гулящие под началом верного Артема Осипова потянули караван нарт с хлебом и товарами. В верховьях реки чуницы Вилюя и Осипова стали челночить их. Наст был крепок, как камень, ледяной ветер дул то в спину, то в бок. Селиверстов налегке прокладывал путь, вспоминая наставления Данилы Филиппова, часто сверял направление по компасу. За ним, не знавшим сомнений, медленно, но верно двигался караван нарт с товарами и мукой. Почти не блуждая, Юша вышел к каменистой пади с застывшим ручьем. Прежние путники поставили здесь крест.
В конце апреля, на мучеников Евсея и Савву Стратилата, ватага вышла к зимовью из пяти изб с полудюжиной амбаров. Селение не было защищено ни частоколом, ни даже надолбами от оленных всадников. Похоже, здешние люди жили привольно и безопасно, не выставляя караулов. Два десятка мужчин и два десятка женщин с прижитыми детьми высыпали из изб, с любопытством уставились на приближавшихся русских людей. Самые нетерпеливые бросились навстречу. Юша издали узнал сутулого Кокоулина, близоруко щурившегося Василия Бугра. Семейка Дежнев, сбив на лоб шапку и улыбаясь, зашагал навстречу. На подходе Федька Ветошка высмотрел из-под ладони впередиидущего и крикнул:
— Да это же Юшка, стадухинский целовальник!
Анадырцы и колымчане смешались. Зимовейщики с веявшим от них теплом жилья взяли из озябших рук бечевы нарт, поволокли к избам. Узнав, что везут хлеб, весело загалдели. Стадухинскую избу тут же освободили для людей Селиверстова, частью развели их по своим домам. Уставшим от долгого перехода радостная встреча, тепло, вареная красная рыба с душком казались намоленным счастьем. Над поселком завитал праздничный дух пекущихся лепешек. Последний раз здесь ели хлеб во времена двоевластия Стадухина и Моторы. Селиверстов сидел в казачьей избе, окруженный беглыми казаками, которых хорошо знал, рассказывал о Колыме, Лене, о Данилке Филиппове и Анисиме Мартемьянове, указавших путь на Анадырь.
— Значит, Мотора помер? — отогревшись, переспросил, хотя знал об этом от Данилки.
— Убит! — Дежнев со вздохом наложил крест на грудь.
Он не видел Селиверстова больше десяти лет, а до того встречались редко, но трубный, раскатистый голос запомнился ему со времен осады Ленского острога, когда Юша привел на подмогу осажденным промышленных людей. У Селиверстова же остались в памяти открытое лицо казака и светло-голубые глаза, светящиеся щенячьей верой в счастье. От прежнего новика с половинным жалованьем остались разве они, да и те были подернуты хмарью усталости. Скулы стянуло вечное бесхлебье, изуродованный шрамами лоб закрыт подрезанной челкой, свисающей на глаза, к тому же казак хромал, одна рука сохла и висла. «И дал же Бог добыть без малого триста пудов рыбьего зуба» — с завистью разглядывал его Юша.
— Прошлое лето не промышляли! — доверительно рассказывал Дежнев, искоса глядя на гостя сквозь пряди нависших волос. — Делали коломенку. И время было непутевым: то дождь, то снег…
— Могли бы зимой, через горы, отправить хотя бы государеву десятину, — вкрадчиво пожурил Селиверстов и, приметив перемену в лице Дежнева, сообщил: — Я привез наказную память воеводы, чтобы на Анадыре быть приказным Мишке Стадухину, а Мотору выслать в Якутский на сыск. Васька Власьев за самовольство уже наказан. — Поводив по сторонам глазами, громче спросил притихших людей: — Сколько отложили в казну?
— Три пудика! — вместо Дежнева ответил Никита Семенов, хмуро наблюдавший за гостем.
На Лене, Яне и Колыме ему не раз приходилось сталкиваться с напористым целовальником. До драк не доходило, и оттого на душе казака была досада. Давнее озлобление не унялось и при новой встрече. За сказанным об обвинении Власьева и Моторы должны были последовать другие дурные вести.
— Убытки казне! — посетовал Селиверстов. — Двадцать пять пудиков утаили, — с пониманием ухмыльнулся и предъявил казакам наказную память воеводы.
В красном углу, под образами, плечом к плечу сидели Никита Семенов и Семен Дежнев. Справа от Никиты — беглые казаки: Федот Ветошка, Василий Бугор, Евсей Павлов, Павел Кокоулин, Артемий Солдат, Дмитрий Васильев, Лютко Яковлев, на стороне Дежнева — торговые и промышленные люди: Фома Пермяк, Анисим Костромин. Остальные в другой избе привечали прибывших.
— Надо бы за Казанцем сходить, он горазд читать! — Дежнев схватился было за шапку. — Или ты, Пашка, прочтешь? — спросил Кокоулина.
— Казанец лучше! — отговорился беглый казак. Поднялся, горбясь, как рассерженный кот, покрылся шапкой, вышел и вернулся с Иваном.
Тот окинул сидевших подслеповатым взглядом, еще раз кивнул Селиверстову, взял грамоту, подошел к оконцу, стал читать медленно, вдумчиво, раз и другой перечитывая непонятное. В избе было тихо. Казаки с замершими лицами и тусклыми глазами о чем-то напряженно думали, Юша ерзал на лавке. При общем молчании Казанец свернул свиток и вернул Селиверстову. Семен Дежнев рассеянно пожал плечами, улыбнулся и первым нарушил недоуменное молчание:
— А я думал, перемену мне прислали! Устал… Пятый год здесь. Из Ленского ушел — тому тринадцатый!
— Я и пришел на перемену! — приглушенно рокотнул Селиверстов.
— Не понял! — фыркнул Федька Ветошка. — Мотора убит, Стадухина нет, тебя послали морем на реки, о которых мы слышали от коряков, — окинул озадаченным взглядом Ивана Казанца и беглых казаков, бывших в стадухинском походе.
— Ты Стадухину на перемену или что? — испытующе зыркнул на Селиверстова из-под бровей Пашка Кокоулин.
— У тебя наказ плыть морем, брать кость, прибирать новые земли! — хриплым подрагивавшим голосом пояснил Никита Семенов и сердито рассмеялся. — На Анадыре кого надо мы уже подвели под государеву руку.
Селиверстов вперился в него леденящим взглядом, будто тот сказал что-то непотребное. Смотрел долго и пронзительно. Никита отвечал таким же, пока Юша не перевел глаза в сторону.
— А то, что до прошлого года не могли никого послать на Колыму, нашей вины нет, — стараясь сгладить неловкость встречи, стал обстоятельно объяснять Дежнев. — Из девяти десятков ходивших в обход Великого Камня спаслось всего ничего, нынче остались — я да здесь двое. Один ушел с Мишкой… Этим летом мы собирались вернуться, делали кочи, — стал оправдываться. — А через горы на Колыму везти кости ни сил, ни кормов нет. Данилку и Аниську с ходынцами отправили подъемом Мартемьянова. Под них аманатов держим… И ходили-то на коргу один только раз.
— Много там кости? — вкрадчиво спросил Селиверстов.
— Всем хватит! — простодушно ответил Дежнев, а Никита Семенов засопел, раздраженно щурясь.
Юша стал дотошно выспрашивать, какая из себя корга. Ответы слушал внимательно и все качал головой, будто в чем-то сомневался. Вскинул глаза на Василия Бугра, перевел на Ивана Казанца, затем на Евсея Павлова, бывших с ним и со Стадухиным в последнем морском походе. На Ветошку глядеть не пожелал.
— Не та ли, на которой мы кость брали?
Ветошка раздраженно проворчал:
— Все они одна на другую похожи!
— За семь ден сюда не доплыть! — не с добром скривился Никита. — Что напраслину-то мелешь?
Селиверстов не удостоил его взгляда и ожидая ответа от бывших спутников, небрежно обронил, глядя на Казанца:
— При том ветре, что был, не спуская парус, больше тысячи верст могли пройти!
Бугор с остекленевшими глазами и удивленным лицом долго соображал, что ответить. Потом пожал плечами, прокашлявшись, кратко просипел:
— Коряки говорили: Нанандара далеко, а близко больших рек нет!
— Там были скалы у воды, за ними каменистая тундра, не так, как здесь, — наконец ответил Казанец. — И устья реки не могли не заметить.
— О чем говорите? — возмутился Дежнев, резким движением смахивая волосы с загоревшихся глаз. Они сверкнули пристально и напористо. — Если про ту коргу, с которой нас чукчи выбили, так прежде нее был каменный мыс, выперший в море, против него остров с зубатыми людьми. За мысом суша пошла на закат, и крепость там, на скале, из камня и китовых костей…
— Мы этих крепостей не меньше вашего видели! — не глядя на него, приглушенно пророкотал Селиверстов. В голосе Казанца он уловил неуверенность, отметил про себя, что в ватажке есть распри. Якобы примиряясь, терпеливо и снисходительно, как детям, стал объяснять: — Ну кто вы? Семейке Дежневу и Федоту Попову дал отпускную грамоту Вторка Гаврилов, который сидел на приказе без права, потому что Зырян погиб. Да и нет ее у вас, сами сказали, у Попова осталась. На Колыме говорят, Семейка Дежнев пять лет скрывается от служб, государев ясак не берет, народов под высокую руку не подводит. Власьев послал Мотору — его убили! Ты служишь по его отпускной, — усмехнувшись, кивнул Дежневу. — Мишка Стадухин ушел на Пенжину… — Выдержав долгую паузу, объявил: — Значит, мне должно править по его наказной памяти!
— Мишка — казак! А ты кто? С каких пор целовальники служилыми правят? — вскрикнул Никита. — Народ у тебя есть, хлеба много, — отрезал, неприязненно глядя на Селиверстова и обрывая туманный разговор. — Тропи путь на Колыму, вози кость, а мы будем ее добывать!
Юша с терпеливой важностью взглянул на него и покачал головой:
— И промышлять, и возить будем вместе! Дело государево, и вы мне в нем поможете. Я явил казне полсотни пудов, своих денег да заемных вложил без счета.
Беглые казаки притихли, стараясь понять, чего втайне добивается бывший целовальник. Селиверстов обвел их немигающим взглядом и решительно повторил:
— Мотора убит, Стадухин ушел, значит, мне быть приказным по его наказной памяти, потому что я нынче приверстан в служилые без государева жалованья.
— Читали твою отпускную грамоту! — опять возмутился Никита Семенов. — В ней ни слова о том, чтобы ты менял Мишку. — Голос беглого казака звучал громко и скандально. — Слышали от твоих промышленных, что Митька Францбеков — вор, за приставами в Москву отправлен на сыск, а потому нам его указы по среднему месту!
Семен Дежнев, положив руку на плечо товарища, стал успокаивать зароптавших казаков и Селиверстова:
— Добудешь свое! Мы поможем. Дали уже стадухинскую избу, амбар. Струги успевай делать сам. — Помолчав с напряженной улыбкой, добавил твердым голосом: — А на приказ у нас сход ставит!
Казаки, торговые и промышленные загалдели, поддерживая последние слова выборного атамана. Селиверстов, глядя на них, задумчиво доил бороду, до поры помалкивал, что у него есть и другие воеводские наказы, которые касаются здешних людей.
Если в казачьей избе случился не совсем приятный разговор, то по другим народ веселился. Среди набранных Селиверстовым людей у зимовейщиков было много знакомцев и земляков. Им показывали добытую кость, рассказывали о корге, куда приплывает так много моржей, что счета им нет. Прибывшие чувствовали себя дотянувшимися до богатств, которых искали. Зимовейщики раскупили привезенный хлеб по двойной против Колымы цене, покупали за кости порох, свинец, холст, топоры, неводные сети. Бисер, корольки, колокольчики оставались нераскупленными даже у Анисима Костромина, который жил на Анадыре четвертый год. Их было много среди товаров Бессона Астафьева, остатки которого брал на себя Елфим Меркурьев. Но его убили, и тот товар был сложен в амбаре, потому что никто не хотел связываться с гусельниковскими приказчиками и с разбором потерянного.
Селиверстов примечал, что никакой государевой службы на Анадыре нет. Ходынского аманата наградили бисером, топором и отпустили, как только узнали, что Филиппов с Мартемьяновым благополучно добрались до Колымы. Остались два аманата от воевавших между собой юкагиров. Родственники приносили под них ясак, сколько могли или считали нужным. Ходынцы же за этот год и вовсе ничего не дали, поскольку возили кость на Колыму. Семейка с Никитой их не неволили. У выборных атаманов не было ни ясачных книг, ни правильного счета. Просто все знали, какие роды сколько и что дали в казну. Не нравилось это Селиверстову, подначивал его бес взять власть в руки и навести порядок. Но, помня янский урок, он приглядывался к людям и понимал, что даже свои, приверстанные на Колыме, попав в дежневскую вольницу, не поддержат. Он дал всем отдохнуть и стал потихоньку понуждать к делам, чтобы леностью не распустить до греха неповиновения. Для начала решил построить струги, избу и амбар.
Весна брала свое. На потемневшем льду реки к полудню появлялись лужицы и ручейки. Поблизости от зимовья лес был вырублен. Селиверстовские промышленные по подсказке бывальцев ушли валить деревья, чтобы по вскрытии реки сплавить по воде. Главной заботой Селиверстова был коч или шитик. Он велел волочь по льду к зимовью отборные деревья, подарками и лестью упросил Бугра найти становую лесину и всеми силами склонял к себе бывшего спутника по походам. Не оставлял вниманием и других недовольных выборной властью. Был у него в том дальний умысел. Однажды он приметил, как Бугор, вспыхивающий от всякого пустяка, как береста от фитиля, в очередной раз переругался с Семейкой и Никитой. Юша выждал подходящее время и явился в казачью избу с грамотой, отправленной с ним для Стадухина. Еще после морского похода Михей посылал воеводе жалобную челобитную на Вторку Гаврилова, Мотору, Костромина, на переметнувшихся к Власьеву Семенова, Ветошку, Кокоулина, Васильева, но Бугра, Евсея Павлова и охочего Юшу Трофимова оправдывал, просил зачислить себе в службу. При всех собравшихся торжественным голосом Селиверстов прочитал воеводский ответ Стадухину и объявил, что Василию Ермолину Бугру, Евсею Павлову и Юше Трофимову воеводским указом велено служить Стадухину в прежних окладах. Не остывший еще от спора Бугор заорал:
— Вот вам крест, Аниську Костромина в колодках приволоку на Лену! Попил кровушки: гривенка пороху — по шести рублей.
Юша самодовольно почувствовал, что выбрал подходящее время, словно сухих веток подбросил на угли: все бывшие в избе стали лаяться между собой. Он же, посмеиваясь, вышел. Вскоре оттуда выскочил красный от негодования Бугор, хлопнул дверью, прокричал кому-то:
— Пупки моржовые! Под себя гребете, о себе только думаете!
Из ругани Селиверстов понял, что дежневские люди спелись с Костроминым и что-то неправильно поделили. Посмеиваясь, тайком потирая руки, он предложил спорщикам послужить ему. Так было положено начало новому двоевластию на Анадыре. В очередной раз отколовшийся Бугор забрал свои вещи и переселился в стадухинскую избу. Возвращавшиеся с вырубок люди Селиверстова строили свое жилье. Юша как мог потакал старому казаку. Дорого заплатив за горячность на Яне, он был осторожен в словах, поступках и с удовольствием пожинал плоды хитроумной сдержанности.
Обе ватаги жили раздельно, каждая своей жизнью. Дежневские люди конопатили и смолили коч с коломенкой, готовились к промыслу рыбьего зуба, к нересту красной рыбы. Перессорив беглых казаков, которых хорошо знал, Селиверстов задумал подчинить себе других. Он снова уловил в противном стане приметы к спору и закрутился возле их изб. Там шел сход казаков и промышленных. Юшу они к себе не пустили, он мог только наблюдать издали и догадываться, о чем шла речь. Против всех собравшихся, опираясь грудью на посох, стоял беглый казак Евсей Павлов и угрюмо слушал в чем-то обвинявших его. Сход решил наказать казака и приговорил сделать это Дежневу. Семен взял батожок, подступился к Павлову, все так же безмолвно стоявшему и опиравшемуся грудью на посох, замахнулся, чтобы нанести оговоренное количество ударов по спине. Но Евсей резко выпрямился, отбил посохом батожок, развернулся и, ни слова не говоря, пошел к избам Селиверстова. Его женка-корячка с младенцем на руках выглянула из открытой двери придела, прирубленного к избе, и поплелась следом за мужем. Власти в руках Селиверстова прибыло, он торжествовал. Пока люди Дежнева и Семенова с возмущением обсуждали Евсея, воспротивившегося соборному приговору, Юша вошел в их круг, размахивая воеводским указом с висячей печатью. Казаки и промышленные с удивлением уставились на него.
— Указ якутского воеводы, отправленный Ваське Власьеву. — Громким, раскатистым голосом Селиверстов стал читать, что воевода требует выслать в Якутский острог для сыска торгового человека Анисима Костромина, казака Смена Мотору, беглых казаков Никиту Семенова, Федьку Ветошку, Павла Кокоулина, Дмитрия Васильева.
— Митька Францбеков, что ли? Он сам под сыском, не пристало нам слушать его указы! — вспылил Никита Семенов.
Дежнев поморщился, попросил Ивана Казанца прочесть написанное. Тот почитал, подтвердил — так оно и есть.
— Ты единственный на Анадыре служилый с жалованьем. Тебе ответ держать! — уставился на Дежнева Селиверстов, пренебрегая выкриками недовольных.
Собравшиеся притихли. Все понимали, что за слова, которые Семен Дежнев скажет при свидетелях, придется держать ответ перед властью. Казак нахмурил шрамленый лоб, потупил глаза, но, тряхнув бородой, тут же вскинул их на Селиверстова:
— С этими людьми мы служили многие службы, кровь проливали. На сыск их не дам! — объявил твердым голосом.
— С Анадыря, как с Дона, выдачи нет? Так, что ли? — скривил губы Селиверстов.
— Сам сказал! Не я! — резко ответил Дежнев и развернулся к избе. Сворачивая грамоту, Юша трубно выкрикнул: — Кто мне послужит, за того замолвлю слово перед новым воеводой. Он меня послушает.
— Вези на сыск! — насмешливо выкрикнул Кокоулин. — Чую, иначе отсюда не выбраться: вдруг за приставами и доставят в Якутский живым.
Селиверстов ушел, помахивая грамотой, но вскоре в его лагерь перешли беглый казак Митька Васильев и охочий Юша Трофимов. Не задержался и Пашка Кокоулин, незадолго смеявшийся над Юшей: сутулясь и припадая на ногу, пришел к нему же. Но споры в казачьей избе не кончились, раззадоренные люди продолжали ругаться. День и другой от кого-то отбрехивался Федька Ветошка, потом хлопнул дверью, с пищалью на плече, опоясанный саблей, мелкими шажками в нерпичьих штанах с низкой мотней покатился к селиверстовскому стану, а вскоре с Кокоулиным и Васильевым подал Юше челобитную служить ему. Из десятка беглых казаков, бывших опорой Моторы, в лагере Дежнева остались Никита Семенов и Артем Солдат. От Селиверстова же ушел к ним Степан Вилюй с двумя промышленными людьми.
Вскрылась река, и едва вошла в обычные берега после половодья, Юшины покрученники пригнали плоты, срубили две избы и два амбара. Поставлены они были в стороне от Семейкиного зимовья, ближе к воде, рядом со стадухинской избой. Семен Дежнев, Никита Семенов и Анисим Костромин со своими промышленными людьми стали готовиться к плаванию на коргу. Дежнев всеми силами не показывал неприязни ни к перебежчиками, ни к самому Селиверстову, при встречах всем говорил приветливые слова. Никита Семенов был хмур, встреч избегал, но и он не говорил дурного. Увидев их сборы, Юша засуетился: его коч был только наполовину обшит бортами, но помог Бугор, потребовав у Дежнева:
— Семка, отдай коч или коломенку! Мы их строили, — указал на беглых казаков, тесавших доски возле селиверстовской верфи.
Сам Юша, ожидая очередного спора, мягко и вкрадчиво попросил:
— Выручай давай! Дело государево!
К немалому его удивлению, Дежнев согласился отдать коломенку:
— Бери! Если твои и мои люди будут охранять зимовье — можешь послать человек двадцать.
Селиверстов от такого предложения оторопел, оправившись, принял его со сдержанной благодарностью и важностью.
— Пусть твои караулят своих баб, мои пойдут за костью!
И все же на промысел моржовых клыков отправились по полтора десятка от ватаги, другие остались охранять селение и запасаться рыбой. Впереди шел коч Дежнева и Семенова с их промышленными людьми, за ними коломенка, отданная Селиверстову. Все переметнувшиеся к нему казаки были в ней. Ближе к морю на берегах реки лежали выброшенные течением льдины. Июльское солнце еще не растопило их. Мелководные озера на пустынных тундровых берегах были черны от уток и гусей. Над устьем Анадыря висели дымы. Это насторожило Дежнева. Его коч пристал к берегу. Ниже причалил коломенку Селиверстов и стал обеспокоенно спрашивать:
— Откуда быть кострам?
— Могут быть промышленные или чукчи, — оглядывался по сторонам Дежнев. Лицо его было озабоченным. — Юкагиры и коряки здесь тоже бывают.
Суда вышли в губу — дымы пропали, некоторое время чувствовался их запах, вскоре его разнесло. Залив был забит льдом, моржей на отмели не было.
— Рано пришли, — посетовал Дежнев. — Не вылегал еще зверь. Но так лучше копать заморный клык.
— Семка! — закричал Дежневу Бугор. — После нас тут кто-то был: костры жгли, пекли мясо!
Дежнев с Семеновым подошли к нему. На песке чернели чужие кострища, возле них валялись моржовые позвонки и кости ласт.
— Не только мы сюда ходим! — присвистнул Никита Семенов, сбил шапку на затылок, пошел смотреть места прошлых стоянок.
Бугор указывал селиверстовским промышленным места копок, рассказывал, где и сколько клыков нашли в прошлый раз. Юша с обиженным видом осматривал ямы, сокрушался, что до него перелопатили едва ли не всю коргу. Промышленные и казаки двух ватажек стали долбить не оттаявший еще песок, искать заморные кости. Сам Юша, сбросив кафтан, ковырял галечник палкой с обожженным концом, бил обухом топора и вскоре издал трубный рев, вывернув из мерзлоты моржовый клык. Беглые казаки, переметнувшиеся в его ватажку, собирали плавник, намереваясь греть землю. Все были заняты, никого не приходилось погонять.
Возле устья Анадыря в губу впадало несколько рек. Они были разделены холмами. Утрами, при низком солнце, по воде опять стелился дым и пахло гарью. Иные из казаков и промышленных забеспокоились, говорили, что кожей чуют чужих людей, требовали выставлять караулы. Караульные, томясь бездельем, то и дело бросали посты, подходили к товарищам, сами начинали рыться в песке.
— Надо идти, узнать, кто там! — не выдержал явного беспорядка Никита Семенов. — А то ведь подкрадутся для тайного убийства. Пока мы соберемся да вооружимся — половину перестреляют.
— Чукотские костяные луки бьют дальше и точней пищалей! — поддержал его Семен Дежнев.
— Что им здесь? — заспорил Селиверстов, неохотно распрямляясь в отрытой яме. Голос его отозвался от дальнего холма.
Никита Семенов опасливо оглянулся, вжав голову в плечи, поежился.
— Что и нам, — ответил приглушенно и неприязненно. — Зуб, мясо, жир, шкуры. Чукчи из них лодки шьют, из кишок — одежду.
— Пусть забирают мясо жир, шкуры, — прищурившись, Юша всмотрелся в редкий дымок, стелившийся по воде, чихнул. — Зуб — нам! А зверь еще не подошел, что народ баламутите?
Никита плюнул под ноги, Семен Дежнев заковылял к беглым казакам, переметнувшимся к Селиверстову. Они согласились, что надо идти к местам, откуда появляется дым. На корге остался Юша с промышленными людьми, приведенными им с Колымы. Все они страстно лопатили отмель, грели кострами песок и галечник, урывками спали у огня, хвастались найденными клыками, зачарованно любовались растущей кучей моржовой кости. Оторвать их от этого занятия было трудно. Дежнев с Семеновым повели беглых казаков и своих промышленных людей берегом моря. Ватажка скрытно подошла к сопке, над которой появлялся дым. Никита предложил обойти ее. Бугор с Заразой заспорили, призывая разделиться на два отряда: одним взбираться наверх, другим зайти с противной стороны. Семенов насупился, рассерженно мотнул бородой, но возражать перебежчикам не стал, с Дежневым и Костроминым скрылся за склоном, другие стали подниматься на гору. Бугор остановился на полпути, переводя дыхание, огляделся.
— Хорошее место! — пробормотал, отмахиваясь от гнуса. — Отсюда устья трех рек видать. Не могли нас не заметить.
Едва он это сказал, сверху полетели стрелы. Бой был так густ, будто метали их до сотни стрелков. Люди Бугра укрылись среди камней и мхов, дали залп. На них, размахивая копьями, побежали то ли коряки, то ли чукчи. Перезарядить ружья не удалось из-за близости врагов, одни торопливо вставляли в стволы тесаки, другие схватились за топоры и сабли.
— Коряки! — крикнул Кокоулин. — Одного застрелил явно! — Он вскочил, отбил разряженной пищалью копейцо нападавшего, взял его на тесак и завыл, заскакал, как подбитая птица.
Бугор отбивался топором и саблей, Солдат прикрывался от ударов прикладом пищали. Сверху прогремел нестройный залп, облако сизого порохового дыма понесло к морю. Вблизи Бугра упал коряк с простреленной головой, сильно обрызгав казака кровью. Другие побежали вкруг горы. Пашка, морщась от боли, перетягивал ногу и ругался:
— Нет бы в ту же самую, что прошлый раз, а то в здоровую… Как ходить теперь?
Его товарищи перезарядили ружья, побежали наверх. Бой шел возле землянок, покрытых мхом. Дежнев с товарищами выбивал из них оборонявшихся. До полусотни мужиков с женщинами и детьми, отстреливаясь, отходили к реке. Каменных юрт было полтора десятка. В каждой жило по нескольку семей. Отступив, коряки не раз поднимались с разных сторон, осыпая пришельцев стрелами, копьями и камнями. Но запас их скоро кончился, и они бросили селение.
Казаки и промышленные обшарили землянки и не нашли никакого ценного добра, кроме бабы. Ее, не оказывавшую сопротивления, не показывавшую страха или неприязни, вывел за руку Бугор. На удивление всем, ясырка заговорила. Перемежая русские слова якутскими, сказала, что была выкуплена у своего рода промышленными, имела детей, но они умерли, долго и счастливо жила с передовщиком. Прошлой зимой люди той ватаги стали умирать. Умер муж. Живые сели в лодки и уплыли неизвестно куда. Ее захватили чукчи, у них отбили коряки. Семен Дежнев рассеянно слушал якутку, перетягивая очередную неглубокую рану, его парка из оленьих шкур валялась у ног, по льняной рубахе расплывалось бурое пятно. Якутка надорвала рукав и помогла остановить кровь. Морщась и покряхтывая, Семен пожаловался:
— Угораздило надеть почти новую! Знал ведь — что ни бой, то рана!
— Зашьешь! — буркнул Бугор. — Кто-то из ваших вблизи от меня коряку голову прострелил. Я с ног до головы в крови, а коряка уже не починишь.
— Я целил, — постанывая, признался Дежнев. — На тебя трое шли.
— Ловок! — укорил Бугор. — Как мне башку не разнес? Бог пулю отвел.
— Все равно бы тебя убили… Стрельну, думаю, вдруг спасу!.. — как о пустячном, оправдался Дежнев, прислушиваясь к словам плененной якутки. — Слышите, что говорит, — поднялся, подбирая парку. — Жила с людьми Федота Попова, которых унесло к полудню. Наверное, он держал ее в женках и помер от цинги. Прижав перетянутую руку к животу, Семен положил поясные поклоны на восток об упокоении душ. — Дорого, однако, дался Великий Камень!
Ватажка переночевала в захваченных корякских землянках, на вражьем припасе сухого плавника и сухой оленины. Якутке дали волю. За коряками она не пошла, но тенью ходила за Бугром.
— Васька! Продай ясырку! — в смех предложил Селиверстов, когда отряд вернулся на коргу.
— Многогрешен, но людьми не торговал! — насупясь, ответил Бугор. — Переманишь лаской, забирай. — Он не сразу понял, что такими словами Селиверстов укорял ходивших на погром. Куча моржовых клыков в их отсутствие заметно увеличилась, а ясырка в здешних местах стоила меньше пуда кости.
Лето выдалось прохладным, от корги долго не относило лед. На икромет пошли кета и горбуша, а моржи все плескались возле берега, не желая вылезать на сушу. В реке ловили кижуч, чавычу, гольцов, попадалась и белая рыба: сиг, вострок, ряпуша, нельма, чир, горбун, валек. Но добывалась она трудно, отрывая от главного дела, и хватало ее только на еду. Дежневские и селиверстовские люди лопатили и лопатили песок с галечником, откапывая все новые заморные клыки. Время заготовки красной рыбы было упущено, все надежды на зимние корма теперь связывались с немногими оставленными в зимовье мужчинами и женщинами, да еще рассчитывали на мясо моржей. Их, выползших на берег, стреляли картечью. Зверь был живуч. Метили в голову и подходили близко, рискуя быть растерзанными теми самыми клыками, ради которых проливали кровь. Якутка варила рыбу и мясо, топила жир, веселя Бугра, съедала их в большом количестве. На обильных кормах она быстро толстела и семенила на коротких ножках, перекатываясь с боку на бок. Васька, глядя на нее, хохотал, она тоже смеялась, в глубоко запавших под лоб глазницах весело подрагивали черные ресницы.
Моржи полезли на сушу с Ильина дня, но вскоре похолодало, приливы снова понесли лед. Промысел оказался не таким удачным, как ожидали, но полторы сотни пудов моржового клыка Селиверстов добыл. Дежневская ватажка набила моржей, вырубив с голов клыки и накопала заморной кости чуть меньше. На этот раз кочи и коломенка с ценным грузом, с хорошим запасом жира и мяса были приведены к селению своими силами. Добравшись до зимовья, дежневская ватага без шума поделила добычу и занялась обыденными делами. Среди людей Селиверстова споры начались еще при возвращении, а при дележе случился скандал. На глазах спутников Юша отобрал в казну десятину лучшими клыками, чем вызвал недовольство переметнувшихся к нему казаков. Затем, опять же лучшей костью, отложил пятьдесят пудов, якобы явленных воеводе, все остальное предложил поделить поровну.
— Все по закону, данному нам государем и верными ему воеводами! — попытался оправдаться, увидев возмущенные лица казаков и промышленных людей.
Его торговые пайщики Савва Тюменец, Григорий Евдокимов и Терех Курсов тоскливо разглядывали кучи мелких клыков, которые на треть были обломками. Василий Бугор, услышав о «государевой справедливости», долго не мог вымолвить слова, только грозно мычал и пучил глаза. Федька Ветошка сначала приглушенно засрамословил, потом заверещал раненым зайцем, схватил Селиверстова за бороду и выволок из амбара. За Юшу попытался вступиться верный ему Артем Осипов, но был побит.
— Что разорались, как вороны на падали? — крикнул Пашка Кокоулин, исподлобья уставившись на расшумевшихся людей. — Юшка предложил поделить так, вам решать как.
— Десятину платить не будем, все равно возьмут на Колыме или в другом месте! — очухавшись, заревел Бугор.
— Не будем! — неуверенно поддержали его торговые и промышленные. — Юшка не приказный и не целовальник, такой же охочий, как мы!
Ветошка, по давней неприязни к Кокоулину, сверкнул глазами, бить раненого не поднялась рука. Молчун Евсейка Павлов презрительно глядел на споривших из дальнего угла. Он со своей корячкой спокойно и радостно пережил лето в зимовье, а вернувшиеся подельники опять втягивали его в обычные и надоевшие ему дрязги.
— Делим по справедливой старине! — орал Бугор, перекрывая голосом раскатистые Юшкины стоны.
Тот вернулся в амбар изрядно потрепанный, с затравленными глазами, сиплым голосом пригрозил:
— Напишу воеводе о самоуправстве… И про Семейку Дежнева, что коргу до нас перелопатил, три сотни пудов кости добыл и похваляется, что три пуда отложил в государеву десятину… Про все напишу!
Его угроз не слушали, разложили кость на тридцать пять паев. По жребию каждый взял свое. Селиверстов неприязненно покосился на кучку, в которой не было и пяти пудов, отряхнулся и громогласно потребовал вернуть долги. Опять начался дележ и спор. Покрученники отдавали две части из трех, своеуженники — треть. Торговые предъявляли должникам кабальные грамоты. Ветошка и Бугор расплатились за товары, сложили остатки в мешки и ушли к дежневским избам. Не дождавшись Ваську к ночи, утром туда же перешла якутка, отбитая у коряков и привязавшаяся к нему, хотя никакой надобности в ней у Бугра не было.
На другой день на стан Дежнева и Семенова пришли селиверстовские торговые люди Савва Тюменец с Григорием Евдокимовым. Переговорив с ними, Дежнев, Семенов и Анисим Костромин согласились, что охочее полуказачье, Селиверстов с Осиповым, принуждают людей к несправедливости. Они не осудили Ветошку, таскавшего Юшу за бороду и приняли беглецов, не поминая прежних обид. Утихли страсти и на селиверстовском стане, там тоже жизнь пошла своим чередом.
— Он склонял меня к предательству! — не мог остыть Бугор. — Кого вздумал пугать воеводской опалой… Меня, — бил себя кулаком в грудь. — Первого на Лене!
Со слов вернувшихся казаков Семейка с Никитой поняли, что Селиверстов не оставил умысла объявить коргу найденной им со Стадухиным и обвинить самовольных приказных Дежнева и Семенова с их воровским сбродом, что выбрали кость на себя. Бугор с Ветошкой и Евсейкой отказались подписывать ту жалобную челобитную. Торговым людям такой поворот в анадырских промыслах не нравился.
— Я этого козла давно знаю! — водя по сторонам настороженными глазами, скулил Анисим Костромин.
— То я его не знаю! — поддакнул Никита Семенов.
— Если упрется — в штаны наложит, но будет стоять на своем! Надо писать встречную челобитную.
Дежнев таращился в угол и яростно чесал бороду.
— Свидетелей-то у него нет! Разве Пашка-Зараза подпишется под ложью? — рассуждал, благодарно поглядывая на вернувшихся казаков. — Спаси вас Господь! Ты, Васенька, хоть и горячий, а не подлый. Ну чем мы тебя обделили? Пай давали равный, по жребию. Зачем сеешь раздор?
— Не могу терпеть несправедливость… Почто мне такая доля? — огрызнулся Бугор.
— После у Господа спросишь! — встревоженно оборвал его Костромин. — А пока надо писать встречную: не были Юшка с Мишкой на нашей корге. Он, луженая глотка, хочет весь зуб прибрать.
— Надо! — согласился Дежнев и вопросительно взглянул на Казанца.
— Есть бумага! — ответил тот. — От Стадухина осталась.
— Грех на нас! — со вздохом признался Бугор. — Одну жалобную челобитную от Селиверстова подписали: про то, что вы, Семейка и Никитка, не радеете государю и разогнали от зимовья ясачных юкагиров.
— Ты же знаешь почему! — вспылил Никита Семенов.
— Чтобы частокол не ставить! — громче и злей ответил Бугор.
— Там ругаются, здесь ругаются, заткнуть бы уши! — проворчал Ветошка.
— Вот построю избу, один буду жить. — Помолчав, добавил со вздохами: — Подписали по горячности. Злы были на вас, а он подсунул готовый лист. Сказано ведь, нельзя не быть соблазнам, но горе тому, через кого они приходят!
Выговорившись, Федька побагровел, засопел и умолк. Новая затевающаяся распря прекратилась в самом начале. Пока мужчины бранились, Васькина якутка с удобством устраивалась в избе, поддерживала огонь, варила рыбу, пекла икряные лепешки, но знаки внимания и заботы оказывала только седому Бугру.
Весна была голодной: последнюю рыбу доели на Сретенье, кормились зайцами и куропатками. Проваливаясь в раскисающие к полудню снега, дикие олени потянулись на север. Оленихи телились в самое неподходящее время. Волки и люди кормились ослабленными важенками и телятами, которых догоняли: одни на лыжах, другие на широких лапах. Люди радовались, что весна выдалась ранней и теплой. Еще не вскрылась река, а гнус ожил. Солнце палило по-летнему, журчали ручьи, вода бежала по льду, затем река взорвалась, Анадырь взбесился и стал подступать к избам. Насельники кинулись спасать свое добро, потом общее: выносили на возвышенное место ружья, одеяла, котлы, затем стали бегать, спасая добытую кость, хотя ей вода не вредит. Стадухин поставил зимовье в низине, близко к реке. Селиверстов расстраивался там же, и когда завалился амбар, в котором была сложена часть моржовых клыков, Юшин вопль перекрыл рев реки.
— Спасай добытое! — Носился он у кромки плещущей воды, хватал что подворачивалось под руку.
Дежневский амбар тоже свалило и унесло. Но из него успели вынесли больше половины кости. Люди обоих станов сновали по клокочущей воде, пока течение не валило с ног, потом с пригорка смотрели, как одна за другой развалились и поплыли по мутной воде шесть изб с амбарами. Кто-то беспрестанно молился, Селиверстов беззвучно плакал. Пашка Кокоулин с Артемом Осиповым утешали его:
— Кости тяжелые, далеко не унесет, а избы жаль, много трудов положено.
Беда не обошла стороной и дежневское зимовье, но все же ему досталось меньше, чем стадухинскому. Снесло две крайние избы и ту, что была поставлена первыми пришедшими сюда людьми.
— Любит тебя Бог! — Одышливо сипел за спиной Дежнева Бугор. — Мы еще с Мишкой о том говорили. Жив ли? Три года ни слуху ни духу. Дай Бог вернулся на Лену другим путем или дошел до Ирии, вестей не шлет, чтобы не набежали всякие селиверстовы…
— Не гневи Бога! — отмахнулся Дежнев. — Не искушай хоть в такой час. — Но, не сдержав любопытства, спросил со смущенной улыбкой: — Неужели Мишка так говорил?
— Так и говорил: «Наверное, Семейку Бог любит!» Завидовал!
— Мишка мне завидовал? — недоверчиво хохотнул Дежнев.
Побуйствовав, река стала входить в свои берега, течение успокаивалось. Люди расходились по сырым избам, среди обломков, ила и сора разыскивали остатки разметанного добра.
— Сорок пудов пропало! — выл Селиверстов в сторону уцелевших дежневских изб, будто они были виноваты в пропаже. — И казенный амбар смыло. В нем — восемь пудов. Я ведь под эту коргу явил пятьдесят. Что отдавать?
— Врет, подлый, и Бога во свидетели призывает, — возмущался Никита Семенов. — А Господь за его ложь карает нас всех. Утопить бы гаденыша, в воду посадить.
— Я тоже явил двести восемьдесят соболей, — бормотал Дежнев, нашаривая ногой моржовые клыки в стылой мутной воде. — Считать на кости — тридцать пудов. Что теперь, Бога винить?
— А мне Господь совесть разбудил! — плакал Бугор. — Сколько кровушки пролил? Сколько боли людям и зверям сделал? За что?
— На то их Бог создал, чтобы нас питать! — с кряхтеньем проворчал Никита, склонился, вытащил из-под ноги заморный клык, по виду четвертинный в пуд.
— Я прежде тоже так думал, — разглядывая найденную кость в посиневших руках товарища, продолжал жаловаться Бугор. — А нынче, после потопа, вспомню безголовых моржей — душа болит. Этот год ты меня на коргу не посылай, лучше избы рубить буду.
— Мы тем моржам кишки выпускали, — оправдался слушавший его жалобы Дежнев. — Что не собрали анаулы или ходынцы, то заберут коряки и чукчи.
— Моя кость! — закричал Селиверстов с берега.
Дежнев, Семенов и Бугор, бродившие в воде, обернулись. Они стояли на уровне его изб.
— Не могли твои кости поперек течения в реку сползти! — скаля щербатые зубы в бороде, съязвил Бугор. — Поди, не лягушки!
— Избы мои, и кости против них мои! — скандально закричал Селиверстов.
— Ну его! — отмахнулся Дежнев. — Выходи на сухое.
Трое вышли из реки. Юша потянулся к клыку в руках Семенова.
— Вот тресну по башке, поймешь, могла ли твоя кость оказаться против твоей избы! — пригрозил Никита. Клык не отдал. Три казака скинули промокшие бахилы, босиком пошли к уцелевшему жилью.
— Совсем сдурел! — сдержанно ругался Никита.
После наводнения на стан Дежнева вернулся с повинной немногословный Евсей Павлов. Встал против Семейки, молча протянул батожок.
— Там больше несправедливого! — пробубнил, склонив голову. — Хлещи, чего уж там!
Наказывать казака за давнее Дежнев с Семеновым не стали. От него узнали о челобитных, которые настрочил Юша и подписали верные ему люди. Никита пытался образумить Пашку Кокоулина с Митькой Васильевым, но его неловкая попытка поговорить с ними обернулась тем, что Селиверстов прибежал в казачью избу, размахивая написанной челобитной, в которой жаловался, что самовольные приказные подсылают своих людей, чтобы оправдаться в неотсылке казны. Сгоряча он зачитал и другой воеводский указ, по которому Дежнев обязан был выслать в Якутский острог всех беглых казаков.
— Прошлый раз ты читал, что мне с Евсеем и Юшкой Трофимовым велено служить Стадухину, — недоверчиво скривился Бугор.
— То был другой указ! — не смутился Селиверстов.
Казанец зашел со спины, посмотрел в грамоту через плечо.
— Верно! — сказал. — И тебя с Евсейкой требуют для сыска. — Только грамотка от воеводы Пушкина, за прошлые годы.
— Все равно, — тряхнул бородой Селиверстов. — Я вам указ доставил и зачитал, вы обязаны принять или ответить.
— Ответим! — решительно, без замешательства кивнул Дежнев, резко посуровев лицом. — Казанец отпишет, что я тех людей не отпустил и впредь не отправлю на сыск, хоть бы грозили кнутами.
— Иди отсюда подобру, пока не встряхнули! — пригрозил Бугор.
Селиверстов выскочил из казачьей избы, стал кричать на покрученников, собиравших разметанные избы и амбары. Велел им бросить насущную работу и смолить новый коч. Раздор усиливался. Митька Васильев и Пашка Кокоулин затребовали свои паи из уцелевших дежневских амбаров. При дележе ссора между ними и казаками обострилась. Двадцать пудов добытого взяла река, а они желали прежнего пая и не хотели слушать о переделе. После скандала, едва не дошедшего до драки, двое бывших товарищей забрали что им отдали и перенесли в свои избы.
— Юшка травит на нас! — с печалью качал головой Семен Дежнев.
— Травит! — поддакнул немногословный Евсей. — Нет врагов злей, чем из бывших друзей… Предавший редко винится, чаще оправдывается, обвиняя тех, кого предал.
— Знаем! — скрипнув зубами, согласился Семенов и обернулся к Дежневу.
— Однако нынешним летом ты на коргу не ходи, карауль добытое. По слухам, Юшка здесь останется: мало ли что удумает.
Река очистилась от весенней мути. Со дна были подняты последние клыки, которые удалось найти, с берегов собраны разметанные венцы изб и амбаров. Никита Семенов просмолил коч и спустил его на воду. Подходила пора плыть на летний промысел. Дежневцы соборно решили отправить на коргу одиннадцать казаков и промышленных людей, остальным — восстанавливать порушенное жилье и запасаться в зиму рыбой. Селиверстов спустил на воду новый коч и дежневкую коломенку. Как и предполагал Никита, по каким-то причинам сам остался в зимовье, назначив на промысел начальными людьми казака Павла Кокоулина и охочего Артема Осипова: одного на коч, другого на коломенку, но в подчинение к Павлу, чем вызвал обиду и недовольство верного ему человека. Они отправились в низовья не только без обычных торжеств и проводов, но ушли, когда дежневские люди спали. Никита Семенов, услышав шум, не поленился, поднялся, выглянул из двери и увидел их плывущими по реке. «Пройдоха!» — подумал о Юшке, но удивился, что казаки, Пашка с Митькой, пренебрегли плохой приметой. Узнав о том, Дежнев посмеялся:
— Нарвутся на чукчей или коряков, прибегут за помощью.
Коч Никиты Семенова вернулся перегруженный добытой костью. За ним тянулась селиверстовская коломенка. Возвращались они поздно, зимовейщики уже беспокоились. Заметив суда, Юша с облегчением перекрестился, велел своим людям бежать на помощь. Те пронеслись мимо усталых семеновских бурлаков, впряженных в бечевы, с лицами, изъеденными гнусом, с давленой кашей из комаров в бородах, на лбах и щеках. Сам Селиверстов шагал неспешно, заложив руки за спину. Проходя мимо дежневской ватажки, мимоходом спросил Никиту:
— Удачны ли промыслы?
— Слава Богу! — ответил тот с перекошенным лицом.
Большего сказать не успел. Селиверстов прибавил шагу, прошел мимо людей, ослабивших бурлацкие бечевы и как-то странно глядевших на него. Печальную новость сообщил ему Артем Осипов. Юша долго тряс головой, не в силах понять, что произошло. Потом сел на камни, обхватил голову руками и тихонько завыл.
За все годы на Анадыре это были самые удачные промыслы. Моржи рано выползли на берег. Пашка Кокоулин с Митькой Васильевым, с двенадцатью покрученниками добыли за месяц две сотни пудов моржовой кости. Коч был перегружен. Артему Осипову с его людьми везло меньше, они были не так проворны, но успели добыть больше ста пудов и добирали последнее. Груженые суда Никиты Семенова и Павла Кокоулина уже стояли на якорях, приготовленные к возвращению на станы. Артем Осипов сталкивал на воду и догружал коломенку. Вдруг Фома Пермяк завопил, указывая на маленькое темное облачко посреди чистого неба: «Тяни на берег! Крепи! Быть буре!» Семенов с недоумением окинул взглядом ясное небо, пожал плечами, но прислушался к совету бывальца. Пашка Кокоулин посмеялся над опасениями промышленного, вывел из-за отмели тяжело груженный коч и направился к устью Анадыря: он боялся сесть на мель при отливе. И тут при ясном небе завыл ветер, срывая песок и галечник с суши, картечью захлестал им людей.
— Держи коч! — закричал Никита, хотя благодаря отливу уже треть судна была на суше. Но его так раскачивало, что могло столкнуть на глубину. Кокоулина с Васильевым со всеми бывшими на их коче людьми пронесло мимо корги в залив.
— Вдруг на мель выкинет! — перекрестился, глядя вслед Фома Пермяк.
Никите с его промышленными пришлось потрудиться и помокнуть, но они удержали коч возле берега. После бури коломенку разгрузили, ходили на ней в виду берегов залива до самого моря, но унесенных не нашли. Будто в чем-то оправдываясь, об этом рассказывал Селиверстову его верный охочий Артем Осипов:
— Фомка говорил — семь лет назад из тех же мест их унесла такая же буря. Но выплыли! Даст Бог, и наши вернутся! Все-таки четырнадцать человек.
— Ага! — сипло прошепелявил Юша. — Придут голы-босы и станут требовать паи из нашей добычи.
Артем оторопел от незнакомого голоса и сказанных слов.
— Оставил меня Господь, Артемушка, оставил! — неловко поднялся с земли Селиверстов и по-стариковски пошамкал: — Теперь надо надеяться только на себя.
Унесенные ветром не вернулись ни через месяц, ни к тому времени, когда река покрылась льдом. Зычный Юшин голос стали забывать даже его люди. Примечали, он начал разговаривать сам с собой. Дежнев с Фомой утешали потерпевших, ссылаясь на свои бедствия и скитания, рассказывали, как десять недель шли к Анадырю.
— Ага! — бормотал Селиверстов. — Придут голы-босы! Покарал Господь! Две сотни пудов, половина моя.
Его люди перенесли зимовье дальше от реки, но оно, как прежнее, оставалось обособленным от дежневского. Частокол не ставили ни те, ни другие, подводить здешние народы под государеву руку было некогда. В это время рассорились два ходынских рода, во главе которых стояли родные братья. Тот и другой обратились к русским людям за помощью. На станах думали, кому помогать и как мирить. Узнав о распрях ходынцев, на них напали коряки, с которыми те часто воевали из-за оленных выпасов. Казаки и промышленные помогли ходынцам отбиться, после войны помирили братьев и вместо ясака потребовали перевезти свой груз в верховья Анюя. На том договорились крепко. Под уговор Селиверстов зааманатил одного из тойонов и стал спешно собираться на Колыму. Его люди щепали сырую осину, делали лыжи и нарты. Приметив сборы, Никита Семенов объявил:
— Юшка и прежде корил, что не радеем о государевой прибыли, придет в Якутский первым, так оболжет — под кнутами не оправдаемся. Надо отправлять казну!
Зимовейщики молчали, опустив головы, каждый думал о себе.
— Может быть, и пора! — неуверенно согласился Анисим Костромин. — Вдруг Мишка Стадухин вернулся на Лену, а мы не знаем. От его людей у меня кабал на тысячу. А если не вернулся, — опечаленно огладил бороду… — Эх! Сидеть бы в лавке при Якутском остроге, не мерз бы, не голодал, а был богаче.
— Воеводы обирают, головы, дьяки, писари! Мало их кормить, еще и кланяться надо, благодарить, что вреда делают меньше, чем могут. Шею бы уже сломал, — проворчал поперечный Бугор.
— Да уж! — ниже опустил голову Анисим. — Было время, сам продавал муку, потом покупал у вас, — поднял глаза на Тюменца с Евдокимовым, — по десяти рублей за пуд.
— Если привезем в Якутский казну — простят бегство с Лены?! — то ли спросил, то ли объявил молчун Евсей.
— Вам с Васькой уже простили! А как нам? — Никита Семенов кивнул на Солдата и Ветошку, жавшихся к огню чувала.
— Пятнадцать лет, как ушел с Лены! — вздохнул Дежнев. — Тамошняя кабала, наверное, утроилась… Мне без перемены нельзя бросать Анадырь: хоть Моторина отпускная грамота, но есть. Уйду, Артемка Осипов всех подомнет. Чую, будет хуже Юшки.
— Нас с тобой в Якутском не поставят ли на правеж за бессоновское добро? — напомнил Дежневу Фома Пермяк. — У гусельниковских людей руки длинные. Они с того света взыщут. А мы с тобой последние из живых.
— В ту пору некому было записывать, кто что из их товара брал, да и некогда, — пожал плечами Дежнев. — Но кто из нас что взял, отдадим костью по совести. И родственникам покойных надо доли вернуть.
На удивление промышленным людям, беглые казаки пожелали вернуться на Лену с частью казны, какую им по силам доставить. Только Никита Семенов отмахнулся: «Великому мужу и честь велика! Если вас простят — вернусь!»
— Мне-то чего бояться? — хорохорился Бугор. — Ни дома, ни богатой родни. Брат Илейка, по слухам, на Амур подался. Кнуты, батоги, тюрьмы — в обычай.
— Я тоже погожу! — опасливо поежился и раздумал идти на Колыму Артем Солдат. В отличие от других беглых он как-то незаметно, но с упорством рассчитался со здешними долгами, и пай моржовых клыков был у него весомей, чем у большинства казаков.
Ватажный сход решил отпустить вслед Селиверстову Василия Бугра, Евсея Павлова, Федьку Ветошку, промышленных Степана Вилюя, Петра Михайлова и Тереха Микитина, с ними отправить часть государевой казны и челобитные грамоты, упреждающие Юшины жалобы. По-хорошему и разумному, надо было дождаться хотя бы февральского наста. Но Селиверстов, зааманатив тойона Чечкоя с тремя его сородичами, напомнил об уговоре, и ходынцы взялись возить на оленях груз до верховий Анюя. Дежневским людям ничего не оставалось, как присоединиться к ним. Государеву казну Семен и Никита доверили Евсею Павлову, с ним отправили жалобные челобитные на Селиверстова и ответы на наказы воевод.
И опять Бог Юшу миловал: в пути не случилось ни злых метелей, ни долгих снегопадов. Русские и ходынские люди вповалку спали в чумах на двух станах, засыпали и просыпались под клацанье рогов пасущегося стада оленей. Погонщики возвращались по своим следам к чумам прежнего стана, запрягали свежих быков в другие нарты с костью, перевозили к переднему стану, разбирали старый. Караван продвигался медленно, но без прежних мук пешего перехода. На плоскогорье Селиверстов пришел в себя, как петух, отоспавшийся после бражной гущи, и над безмолвным простором заметенного снегами кряжа опять загремел его раскатистый голос. Он спорил из-за нанятых ходынцев, за всякую помощь в пути требовал с дежневцев платы. Против него стоял Васька Бугор, бил и встряхивал, беглые казаки грозили убить к злорадству селиверстовских покрученников, и те, назло хозяину, бескорыстно помогали им в пути. Ходынцы, как водится, молча злорадствовали всяким русским распрям. К Васькиной досаде, за ним увязалась ясырка. Как ни уговаривал ее остаться на Анадыре с любым казаком или промышленным — не захотела. Бугор выругался, проворчал, оправдываясь перед товарищами: «Не гнать же!» И вынужден был взять ее. Обузой в пути она не была. В мужских торбасах, в долгополой кухлянке, семенила за Васькиными нартами, старалась быть хоть чем-то полезной, но старый казак то и дело замечал на опавших щеках застывшие слезы, жалел, терпеливо поругивал. Несмотря на сносные ночлеги, он и сам задыхался, отставал, подстегивая себя бранью, во сне стонал, скрипел остатками зубов, понимая, что это его последнее пешее путешествие и оно в обратную сторону — на закат дней.
Через горы перевалили все живы, не растеряв груза, вышли на лед Анюя, в знакомые места. Дальше ходынцы не шли. Евсей наградил своих возниц бисером, топорами и отпустил. Была середина марта, собольи промыслы закончились, в Верхнем анюйском зимовье бездельничала ватажка гусельниковских покрученников. Петр Михайлов и Терех Микитин, избалованные анадырской жизнью, заскулили, жалуясь на тяготы пешего пути, их поддержал Степан Вилюй, промышленные стали уговаривать казаков ждать вскрытия реки, чтобы сплавиться с грузом. Но Селиверстов спешил в Нижний острог и, отдохнув пару дней, нанял гусельниковских промышленных тянуть по льду его нарты с грузом. Те были рады на его кормах поскорей уйти с опостылевших мест к амбарам с хлебом, к острожной бане с сусленками.
— Нельзя, чтобы явился без нас! — твердо объявил молчун Евсей. Он думал подолгу, но ошибался редко.
Хорошо зная Юшку, Бугор согласился:
— Нельзя! Оболжет, долго будем оправдываться! Ты вот что, — предложил Евсею. — Оставайся с казной, а мы, — кивнул Ветошке, — уйдем налегке. Надо быть при нем.
— Тогда и я пойду! — присоединился к ним Вилюй.
Казаки уложили в нарты пожитки и паевую кость. На другой день решили идти, не сомневаясь, что нагонят Селиверстова.
— Ты мою якутку возьми! — тайком предложил Бугор Евсею.
Женщина была занята работой — пекла мясо.
— На кой она мне? — хмыкнул тот, бросив на женку смурной взгляд. — От своей корячки едва сбежал.
Спутники приглушенно рассмеялись.
— Девка — золото! — стал расхваливать якутку Бугор. — Не хочешь — не бери! — досадливо поморщился. — Оставь при себе. Летом вернешь мне в Нижнем.
Якутка поняла, что говорят о ней, прислушиваясь к приглушенному говору, обеспокоенно заводила приплюснутым носом, к ночи залезла под Васькино одеяло и уцепилась за его рубаху.
— Боится, что сбежишь! — сонно гоготнул Евсей.
— Боюсь! — сказала она по-русски.
Утром в студеном мареве зарозовел восход, красное солнце пустило по снегам свои стрелы, поднялось над плоскогорьем, зазолотилось, стало слепить. Казаки сорвали с мест груженые нарты, сбросили шапки для молитвы. Из зимовья выкатилась одетая в путь якутка в торбазах, малахае, кухлянке-тагалан и встала рядом с Васькой.
— Ну, и куда ты в такой холод, дура? — перемежая русские и якутские слова, ворчал Бугор. — Сидела бы в тепле, весной, без хлопот сплыла бы ко мне с Евсейкой.
Женка молча заткнула ему за кушак сшитые волчьи рукавицы. Евсей опять приглушенно заржал, пуская пар из бороды.
— Умучаешься ведь… Оленей нет, чтобы везли! — безнадежно скулил Бугор.
По пористому раскисающему льду обе ватажки одновременно прибыли в Нижнеколымский острог уже при ярком солнце и пряных ароматах древесных почек. На приказе сидел казачий пятидесятник Иван Кожин, при нем служили старые стадухинские казаки Пашка Левонтьев с лысиной, обезображенной рваным шрамом, и Ромка Немчин. Мореход Иван Ребров, правивший Колымой до него, как ушел на поиск Полуночной земли при Селиверстове, так не возвращался. Были и приятные новости: Данила Филиппов, добравшись до Якутского острога, заслужил прощение и награду от нового воеводы. Федька Чукичев, служивший на Индигирке с Андреем Горелым, вышел в средний чин и воеводским указом ушел на Гижигу, в зимовье, срубленное Иваном Барановым, чтобы ставить там государев острог.
— Вот те и Федька! — посмеялся Бугор и тут же посмурнел, кручинно покачал головой: — Все же ушел на восход, а я вот возвращаюсь… Брата надо отыскать!
И он, и Евсей не ошиблись. Первое, что попытался сделать в Нижнем остроге Селиверстов, — объявил против беглых казаков «государево слово и дело», по которому колымский приказный за казенный счет обязан был сопроводить его и дежневских казаков в Якутский острог, но вместо того Кожин постарался выпроводить всех с Колымы вместе с моржовыми клыками. После непринятого «слова и дела» у Селиверстова начался спор с гусельниковскими покрученниками. В него опять были вовлечены все зимовавшие в Нижнем и сам приказный, изрядно уставший от напористого охочего. Только все скопом принудили Юшку расплатиться по уговору.
В середине мая вскрылась, к началу другого месяца очистилась и вошла в обычные берега Колыма-река. К острогу стали выходить промышленные ватажки. В конце июня с Анюя приплыл на плотах Евсей Павлов с двумя промышленными и грузом моржовой кости. Клыки опять пошли по рукам, к ним приценивались, выспрашивали о трудностях промысла.
— Что завидуете, придурошные! — вразумлял любопытных Бугор. — У иных из вас нынешний пай дороже, чем мои десять пудов, добытые за четыре года.
— Ты с долгами по кабалам расплатился! Зимами в избе сидел, по станам не мерз! — возражали ему промышленные.
— Лучше зиму по станам, чем один раз через горы! — открещивались дежневские промышленные, избалованные голодной, но легкой жизнью на Анадыре.
Желая поскорей выпроводить их, Кожин дал Селиверстову казенный коч, бывший при остроге. Но с ним и под его началом наотрез отказывались плыть на Лену дежневские люди.
— Из своего пая переплачу, чтобы твоей морды не видеть, — кричал Бугор на укоры и обвинения Селиверстова.
— Нельзя его упускать! — напоминал Евсей, назначенный старшим при казенной кости. — Лучше потерпеть и дойти до Лены вместе. Юшу водяные дедушки любят.
— Я без людей не останусь! — рыкал в ответ Бугру Селиверстов. — Вот выйдут с промыслов, еще и заплатят, чтобы увез на Лену. А тебя приставы задарма привезут на сыск. В тюрьме сгною! — грозил ненавистному казаку.
Людей он действительно вскоре нашел. С ним уговорилась плыть на Лену ватага торговых и промышленных людей передовщика Данилы Вяткина. Селиверстовский коч пошел к Стадухинской протоке, оставив при остроге людей Семена Дежнева. Евсей поругивал товарища за неразумные слова и печалился, что отстал от недруга. Но Степан Вилюй встретил на Колыме торгового человека из родственников. Тот имел коч, собирался возвращаться на Лену и за умеренную плату согласился взять государев и паевой груз. Возле зимовья они догнали Селиверстова. Юша стоял в ожидании разводий и попутного ветра, его судно было обвешано сушившейся рыбой.
— Встань где подальше, — скаредно попросил морехода Бугор, — чтобы хорька не видеть.
Но разминуться двум спорщикам не удавалось. Юшка с важным видом похаживал по казенному кочу, не оборачиваясь в сторону подошедшего судна, покрикивал на попутчиков. Сколько придется ждать, отстаиваясь в этом месте, никто не знал. Прибывшие тоже стали пополнять запас рыбы, сушить юколу. Бугор, хоть и просил найти стоянку подальше от Селиверстова, сам то и дело метал взгляды на его коч, щурился и вглядывался в тамошних людей. Иных он узнавал и окликал, те кивали ему, но не отвечали.
— Боятся Юшку рассердить! — приглушенно ругался Василий и орал во всю мощь: — Вятка! Ты с кем поплыл? С дерьмом собачьим! Явитесь в Якутский — он с вас мзду заломит втрое против уговора.
Селиверстов, побегав по корме, напыжился, нахохлился и ответил зычным голосом:
— Гузка ты гагачья! Борода белая, а ума не нажил. Провоз оговорен по рукобитью.
С неделю промышленные, торговые и казаки ловили рыбу, меняли воду на свежую. Все были заняты делом, и только Васька с Юшкой целыми днями лаялись, вспоминая былые обиды друг на друга, собирая всякие слухи и домыслы. Время от времени в их перепалку втягивался Степан Вилюй, отпуская в сторону Селиверстова язвительные замечания. Наконец задул полуденник. Льды стали отходить, открылся путь к Алазее, но Селиверстов медлил, не выбирая якорь. Наслышанный о его мореходном искусстве, родственник Степана Вилюя ждал непонятно чего, а люди ругали и поторапливали его. Не выдержав их раздраженной поспешности, он опасливо передернул плечами и согласился идти первым.
— А как обгоним хваленого да придем раньше! — с удальством поглядывал на море Бугор.
Гребцы разобрали весла, скинули шапки, запели молитвы Николе Угоднику, скорому помощнику и покровителю странствующих, с пением вывели судно на курс и подняли ровдужный парус, смазанный жиром. Ветер вздул его, зажурчала вода под днищем. На селиверстовском коче без суеты выбрали якорь и вышли из протоки. Над судном тоже взметнулся парус, и оно стало быстро нагонять оторвавшийся торговый коч. Бугор с Вилюем бросились помогать ветру силой весел, но Селиверстов догнал их, хитроумно закрыл своим парусом ветер так, что ровдуга соперников обвисла и заполоскала, громогласно захохотал, показывая Бугру срамные знаки. Его коч обошел соперников в такой близости, что задел концом реи. Посрамленные Вилюй с Бугром хлопали глазами, скрежетали зубами и беспутно срамословили.
— Водяной дедушка ему родня! — глядя вслед удалявшемуся судну, не смог скрыть восхищения Степан. — Правду говорят, нет морехода удачливей!
К вечеру Юшин парус был в версте от них.
— Ну и пусть! — смирился Бугор. — Нам идти следом безопасней.
При солнце и светлыми ночами селиверстовский коч долго маячил впереди, превращаясь в темное пятно, а другой, боязливо прижимаясь к мелководному тундровому берегу, ловил менявшийся ветер и выгребал своей силой, его парус то и дело полоскал. Впереди показались плавучие льды. С грехом пополам, этому кочу удалось миновать устье Алазеи, к Индигирке он пробивался на веслах, отталкивая льдины и уклоняясь от подступавшего ледового месива. Но морской Никола не оставил помощью, помог укрыться в протоке. Селиверстова там не было.
— У кого глаза моложе? — крикнул Бугор с носа судна, указывая на унылый тундровый берег.
Кормщик, бросив руль, подбежал к нему, всмотрелся из-под руки:
— Лодка под берегом! Похоже, казаки перебирают сеть.
Гребцы опустили весла, все вместе высмотрели шатер из кож, курившийся дым костра. Коч тоже был замечен и лодка стала выгребать к нему из-под берега.
— Гришка, что ли? — свесившись за борт, крикнул Бугор. Казак в лодке обернулся. — Это же Гришка Татаринов! — уверенней объявил Василий.
Лодка приткнулась к кочу, на борт взобрался якутский казак, со смехом обнял Бугра, весело поприветствовал Евсея и Ветошку:
— Здорово живете, беглецы? Слышал, разбогатели!
— Мы с Гришкой Верхоленский у бурят отбивали, людей Курбатки Иванова спасали от напрасной гибели, а после по его челобитной в тюрьме сидели! — хохоча, тискал казака Бугор. — Как здесь-то оказался?
— Служу в Нижнем индигирском с приказным Коськой Дунаем!
— Кто таков? — стали выспрашивать Евсей с Федькой.
— Сын боярский с Московии, из стрельцов. Пришел с новым воеводой. А я жду оказии на Лену, — закряхтел Татаринов, высвобождаясь из навязчивых объятий Бугра.
— Мы — на Лену!
— Значит, вас жду с челобитными от Коськи и индигирских промышленных.
Коч увели вглубь протоки, в безопасном месте встали на якорь, чтобы дождаться попутного ветра, запастись кормами и водой. Промышленные спустили за борт лодку, казаки, обступив Григория, выспрашивали о ленских новостях. Веки казака набухли, злобно обострились крылья носа.
— Курбатка из Верхоленского ездил в Москву с казной, вернулся сыном боярским, привез из Тобольского жену, двух сыновей и сел на Олекминский приказ. И у Головина, и у Пушкина, и у нынешних воевод в милости… Куда Бог смотрит? — напустился на Бугра, будто тот потакал несправедливости.
— Он добрый казак! — смущаясь злых слов товарища, стал оправдывать Курбата Василий. — И пострадали мы с тобой не сильно от его жалоб…
Григорий только пуще рассердился, стал злей ругать сына боярского.
— Давно это было, Бог с ним, — нахмурившись, осадил его Бугор. — Юшку Селиверстова не видел? Упустили!
Евсей, глядя на Татаринова, тер виски и рассуждал вслух, чем Юша может навредить:
— Мы прощены воеводским указом, правда, за Мишкой не пошли, жалованья не дадут…
— Мне бы брата найти! — завздыхал Бугор. — Со мной в бега не пошел — ладно. Служил бы в Якутском! Так нет. Говорят, подался в другую сторону, на Амур. Гришка не говорил о Лене ничего нового и вразумительного, переводя разговор на Курбата.
— Да я уже все забыл! — начал злиться и досадливо морщиться Бугор. — Скажи лучше, как сюда попал?
Татаринов повеселел, заулыбался:
— Шли из Якутского на шести торговых кочах. Против Святого Носа дунул полуденник, три унесло к Большой земле, — махнул рукой в полуночную сторону с едва видимой полоской белых гор. — Чуть стих ветер, купчишки заорали — скорей назад, пока льдами не затерло. А я им — нет! Пока не погляжу острова, назад не пойду. Два малых обошел на лодке, на один — средний, высаживался, кричал, звал людей, видел следы с аршин и пустую каменную избу. Еще бычьи копыта, во! — Развел пальцы на окружность малого походного котла. — Но торговые с кочей так вопили, что пришлось вернуться…
Судно с тремя беглыми казаками, с ватагой промышленных людей и грузом моржовых клыков с неделю простояло в индигирской протоке. Мореходы отъелись птицей и рыбой, дождались попутного ветра. Только в августе их коч обошел Святой Нос, прибыл в Янский залив и, не заходя в Нижнее янское зимовье, поспешил к устью Лены. Но Крестовая протока оказалась забитой льдом и не только она. Большими трудами мореходам удалось просечься к устью Омолоя. Там уже отстаивались три судна, два из них были казенными.
— Горелый! Ты, что ли? — не сразу узнал морехода Бугор.
— Не помолодел! Белый как лунь! — вместо приветствия ответил казак.
— В какую сторону?
— Опять на Индигирку! — с унынием ответил Андрей Горелый. — И снова нет пути. — Встрепенулся, приосанился: — Может и лучше, что на знакомую реку… Прошлый раз вы с Мишкой хорошо мне помогли.
— Нам и нынче пришлось укрываться на Индигирке, — отговорился Бугор, смущенно приняв благодарность за прошлое. — Приняли грамотки и отписки от тамошних Коськи Дуная и промышленных. Гришку Татаринова видел.
— А я везу им воеводский указ принять Колыму у Ивашки Кожина.
Эта новость Бугра не заинтересовала.
— Мишка вернулся ли? — Хлестнул себя ладонью по лысеющей макушке. — Слышал, Федьку Чукичева отправили на Гижигу. Что не тебя?
— Про Мишку ничего не знаю, а Федька нынче в чине сына боярского! — с натужной веселостью сообщил Горелый.
— Слыхал! А что не ты?
— Припомнили давленый коч! — вздохнул бывший спутник Стадухина по оймяконскому походу, злей добавил: — Чины выслуживают при острогах, а не на дальних службах!
Почувствовав, что казак не желает говорить о себе, Бугор стал выспрашивать ленские новости.
— С тех пор как вы бежали, переменили трех воевод! — отвечал Горелый. — Пушкина и Францбекова за приставами увезли для сыска. Последнего, стольника Ивана Павловича Акинфова и дьяка Осипа Степанова мирно переменили царский стольник Михайла Семенович Лодыженский и дьяк Федор Васильевич Тонков. Нынче они правят. Ничего плохого про них не скажу.
— Ляхи, что ли?
— Бояре! — с тоской в глазах пожал плечами Андрей. — Не балует, однако, погода! — пожаловался, оглядывая низкое небо. — А Юшка Селиверстов успел, проскочил в Лену. Удачлив!
На коче казачьего десятника Горелого на Индигирку шли торговые, промышленные и служилые люди. Казаки с государевым жалованьем могли переждать зиму на службах, а промышленным и торговым сидеть на месте и проедаться накладно. Промыслов на Омолое не было, на Яне — худые. Ватага с коча Андрея Горелого хотела выбираться на Индигирку сухим путем, и Бог послал им бывальцев, прошедших всю полночную сторону Великого Камня до устья Анадыря. Торговые выспрашивали про волоки, про зверовые места на Колыме и Анадыре, приценивались к моржовым клыкам, предлагали обмен на хлеб почти по якутским ценам, а они снизились вдвое с тех пор, как рожь стали сеять по Лене и Киренге. На другом коче на смену Семену Дежневу и по его челобитной, отправленной с Данилой Филипповым, шел посланный из Якутского острога стрелецкий сотник Амос Михайлов. Одну зиму он просидел в Жиганском остроге, другую вынужденно зазимовал на Омолое. По его словам, беглый ленский казак Данилка, вернувшись с Анадыря, был встречен воеводой с царскими почестями. Амоса послали на Анадырь, а беглеца Данилку — в Москву.
Анадырцы два дня пьянствовали, отвечая на расспросы и в почесть, потом стали торговаться на меха и кость. Якутка ни на шаг не отступала от Бугра, в ее запавших глазах настороженно подрагивали черные ресницы. Вина она не просила, если Василий наливал чарку — не отказывалась, но пила один раз, второй не брала. Потом глядела на огонь и тихонько пела запомнившиеся с детства песни. У нее было завидное для Бугра достоинство: не напиваться до беспамятства, и она строго приглядывала за гулявшим муженьком. А он плакал, поминая друзей, выспрашивая о брате.
— Семейка Шелковников на Охте помер, лет уж семь-восемь, — продолжал травить душу Горелый. — По ту сторону Камня прокормиться легко, трудно отбиться: тысячами нападают…
— Сколько же голов положено, — крестясь, всхлипывал Василий. — За что? За это, что ли? — косился на моржовые клыки.
— Иные в чины вышли: в атаманы, дети боярские, — терпеливо отвечал Андрей.
— На кой чины? — умиляясь своей пьяной жалости, Бугор смахивал слезы с бороды, трубно хлюпал носом, — И людей обижать — грех, и пресмыкаться перед начальствующими! Детьми боярскими — дворяне, теми — стольники и окольничие, а ими бояре так помыкают, как не смеют казаками и стрельцами. Бояре, сказывают, всю жизнь перед царем на карачках ползают… Для чего? — стучал кулаком по столешнице. — И что я с Мишкой разругался? Что не пошел с ним? Вдруг бы в Ирию попал?
— За такие слова в Якутском вытрезвел бы в холодной казенке, а опохмелили бы батогами, — со скрытым вздохом упредил беглого казака Горелый и добавил тише: — И меня бы тряхнули на дыбе, что слушал, а не донес.
— Знаю! — смиряясь, всхлипнул Бугор. — Понять не могу, зачем туда плыву. Брата надо найти. Не слыхал про Илейку-то? — перепросил в который раз, будто забывал прежние ответы.
— По слухам, на Амур подался. Туда многие бежали. Ярка Хабарова в Москву приставы возили, а он перед царем так отбрехался, что вернулся сыном боярским.
— Тьфу на них! — пьяно выругался Бугор и насторожился. — А на Амуре что?
— Война! — скривился Горелый. — Хлеба, говорят, вволю, добра всякого на погромах много берут. И на Руси — сколько себя помню, все война: то с ляхами, то с турками, то со шведами. Летом опять собирали деньги на ляхов.
— Тьфу! — опять ругнулся Василий и тихо, по-щенячьи заскулил. — Не хочу туда, а надо!
Вилюйские промышленные Петруха Михайлов с Терехом Микитиным гуляли с размахом, выспрашивали о Лене, откуда давно ушли. Новости их не радовали, возвращение не сулило ничего хорошего. По просьбам и посулам промышленных людей, застрявших на Омолое, они продали остатки паевой кости торговому человеку и решили вернуться на Колыму сухим путем.
В те дни, когда в ожидании попутного ветра на устье Колымы собачились Васька Бугор с Юшкой Селиверстовым, Михей Стадухин с братом и последними охочими сидел в укрепленном зимовье на устье Тауи и обыденно отбивался от нападения ламутов. После того как на ближайшей реке нашлись русские могилы и остатки зимовья, он как-то разом успокоился, уже не вскакивал по утрам, но подолгу лежал, глядя в потолок незрячими глазами, ждал, когда отдохнут и поднимутся другие. И в работах заленился: уже не хватался первым, но часто замирал в задумчивости с топором или с ложкой в руке.
Во времена, когда Юша Селиверстов вез с Анадыря на Колыму груз моржовой кости, его зимовье до самой крыши было завалено снегом. С горных вершин Великого Камня неделями дул, выл и буйствовал студеный северный ветер. Михей прислушивался и чудилось ему, будто хохочет бес, прельщавший обойти Камень, суливший славу и богатство, которые и нужны-то были не столько самому, сколько для жены и сына, а они были потеряны. Пусть не по самому краю, но он обошел Камень, пусть недолго, но был первым. Но теперь Дух, манивший чудесами благодатной земли, смущенно помалкивал, а то и корил пролитой кровью товарищей. «Ангел или бес?» — Теребил бороду казак, вспоминал Пашку Левонтьева, наставлявшего не верить сердцу своему, будто по словам Спасителя, через него прельщает бес. Время от времени его тяжкие мысли прерывались ощущением опасности. От этого становилось легче. Душа растекалась по округе, забывала саму себя, и старший Стадухин, позевывая, предупреждал:
— Крадутся в полуверсте. Хотят аманатов отбить, нас пограбить, железо забрать!
Его сердце остыло. Он давно не чувствовал неприязни ни к корякам, ни к ламутам, перебившим его людей. Выжившие товарищи в большинстве сроднились с теми и другими через ясырок и относились к их единокровникам снисходительно. Женщинами в ватажке менялись, их проигрывали и выигрывали, отдавали за долги, но в русских зимовьях им жилось лучше, чем в своих беспрестанно воевавших родовых селениях. Неприхотливые в обыденной жизни, они были сыты, рожали детей и радовались благополучию. Их детей в зимовьях ни в чем не ущемляли, они имели равные права с казаками и промышленными людьми. А единокровные народы, избалованные обилием еды в лесах и реках, шалили, не понимая выгод порядка, который кровью русских людей давал им русский царь.
Время от времени беды вразумляли ламутов: при очередном нападении коряков они прибегали за помощью. Служилые и промышленные прогоняли врагов, на какое-то время наступал мир, некоторые роды добровольно давали ясак и аманатов для верности. Но доброй памяти надолго не хватало, и снова начинались стычки. Когда шла на нерест рыба — они перерастали в непрерывные нападения. Аманаты рассказывали, что казаки, которые приходили в здешние места до стадухинского отряда, захватили их лучших соплеменников: Тавуна илкагирского и Лукача убзирского родов. За первого родственники дали выкуп соболями, второй приказал, чтобы за него не платили, но убивали чужаков. Весной его сородичи подожгли зимовье. Нападение было отбито, на погроме казаки взяли у ламутов много добра, а Лукач умер от печали. По туманным рассказам в плохих переводах на русский язык Михей Стадухин догадывался, что еще до встречи с людьми Ермила Васильева ламутам были известны казаки, огненный бой и многие русские обычаи. Ясного ответа на свои домыслы он не получал, но предполагал, что духом этой войны верховодит некий умный тойон или шаман, живший среди русского народа, знавший Бога и казачье воинское искусство. Все чаще ему вспоминался Чуна, плененный на Оймяконе, многие разговоры с ним. Семен Шелковников не внял советам и взял новокреста в отряд. «Как сложились их судьбы и службы?» — гадал атаман, и чем дольше жил в этих местах, тем бессмысленней представлялся ему нынешний поход. Он замкнулся от товарищей, зато мысленные споры с Чуной и ленским пропойцей, пророчившим разрядное атаманство, славу и богатство, стали навязчивой болезнью. Забываясь, Михей начинал спорить с ними вслух, ловил испуганные взгляды спутников, спохватывался, оправдывался, пытался смеяться над собой.
Когда снежная зима с ледяными материковыми ветрами стала меняться сырым, прохладным летом, голодной весенней порой, было затишье в нападениях. Среди осевших сугробов пробивалась зелень, спешно поднимались цветы, улавливая всякий случайный, рассеянный лучик солнца. Михей тесал весло в полусотне шагов от зимовья. На частоколе бочком сидел Тарх, одной рукой отмахивался от гнуса, другой болтал, раздувая тлевший трут из березового гриба. Из-за тына торчал ствол пищали. Брат был в карауле. Из лесу вышел медведь. Атаман, занятый веслом, не сразу почувствовал его приближение, обернулся, когда зверь показался из-за деревьев. Ощущения были причудливыми: взглянув на медведя, Стадухин ясно вспомнил Чуну, его лицо, спокойный голос, уверенный в своей правоте дух. Что-то похожее исходило от зверя. Михею показалось, что такого красавца он не видел во всю прежнюю жизнь. Медведь был почти двух аршин в холке, широкий лоб, свисавшие брылы, как шаманьи волосы, длинная шерсть на лапах колыхалась крыльями морских птиц, шевелилась в такт шагам. Сильный, здоровый, чистый, шерстинка к шерстинке, беззлобный от уверенности в своей силе, он надвигался на казака. Страха не было. Любопытней всего Михею казались маленькие глаза зверя, в которых высвечивался плутоватый и насмешливый ум шамана Чуны. На миг даже почудилось, что это он и есть в медвежьем облике. На глазах изумленного брата, глядевшего на них с частокола, Михей прислонил недотесаное весло к стволу дерева, легонько метнул топор, воткнув его в кору.
— Почему на этот раз уродился медведем, если жил для своего народа? — неожиданно для самого себя спросил и смешливо хмыкнул в бороду: — Прельстился жалованьем толмача?
Медведь, не сбавляя и не прибавляя шага, мотнул лобастой головой. В подслеповатых глазках вспыхнуло что-то недоброе, заставившее Михея потянуть нож из-за голенища. У зимовья закричали. Товарищи не могли стрелять, опасаясь попасть в атамана. Кто-то пальнул в воздух, истратив ценный заряд пороха и свинца. У зверя дрогнули тонкие черные губы под таким же черным носом, чуть обнажились зубы. Это было похоже на усмешку. Выстрел не испугал его.
— И впрямь Чуна! — удивленно пробормотал Михей, опуская нож лезвием книзу.
В лицо пахнуло жаром и едким запахом зверя, но он не почувствовал в нем злобы или угрозы. Скорей, от медведя струилась доброжелательность, смешанная с каким-то причудливым покаянием. Он поравнялся с человеком, легонько толкнул его боком и двинулся дальше к устью реки, подставляясь под выстрелы людей в зимовье.
— Не стрелять! — закричал Стадухин и с ножом в руке выбежал вперед, прикрывая собой зверя.
Медведь окинул его подслеповатым взглядом. Черные губы опять дрогнули. Михею показалось, что он шепеляво хоркнул:
— Узнал, казак? — Чуть косолапя, обогнул почерневший сугроб, скрытый от солнца ветвями, ушел за деревья, где выстрелы были неопасны.
— Ты что? Ополоумел? — слезливым голосом завопил с частокола Тарх.
— Наш атаман давно умишко потерял! — громко выругался Калинка Куропот, перебирая пальцами тетиву тунгусского лука с положенной на нее стрелой при железном наконечнике. — Пора менять!
— Кликните другого! — рассеянно ответил Стадухин. В мыслях и чувствах он был с медведем.
— Из кого? — Калинка вдруг сорвался на крик. — Нас осталось десяток калек.
Михей сунул нож за голяшку ичига, поднял глаза на обступивших его товарищей, перевел на брата с перекошенным лицом и пояснил:
— Я супротив них заговор знаю!
— Топор-то зачем бросил? — успокаиваясь, всхлипнул Тарх.
— Нельзя читать заговор с топором!
— Срамота! — сплюнул Калинка. — Вдруг кто выберется живым на Лену. Спросят про лихого казака Мишку Стадухина. Язык не повернется сказать — медведь задрал! Тьфу! — Еще раз в сердцах сплюнул под ноги.
Это было весной, а летом одна осада меняла другую, припас свинца и пороха кончался. Зимовейщики отстреливались из луков стрелами нападавших и берегли коч, который ламуты пытались сжечь. За него дрались жестоко, выходя из-за тына на погромы с саблями, тесаками, топорами. Мира и единства среди осаждавших не было. Если при стычках им не удавалось никого убить или хотя бы отбить аманатов и женщин, одни роды винили в этом других, те валили на соседей, плативших ясак, ясачники прибегали за защитой, просили помощи, потом снова изменяли. После очередного нападения Тарх твердо сказал, не глядя в глаза брату:
— Надо уходить!
— Надо! — пробормотал Михей и, помолчав, добавил: — Дольше сидеть — всем гибель!
Вера, с которой он шел и плыл сюда, пропала еще на пепелище Ермилового зимовья. Блазнившаяся слава поманила и ускользнула, как он сам из объятий любимой женщины, и достанется тому, кто пришел сюда первым: так заведено на Руси, а может быть, и на всем белом свете. Калинка Куропот, зазывавший Стадухина в этот поход с Анадыря, а теперь мучимый гниющими ранами, принял его печальную заминку за сомнение, бросил на него колючий и требовательный взгляд:
— Со дня на день ветер переменится!
Окинув виноватыми глазами товарищей, Михей кивнул, соглашаясь. Уже не было нужды собираться в круг, спрашивать каждого: по лицам все было понятно. Чтобы спустить коч на воду и выйти в залив, надо было отогнать осаждавших от зимовья, а их собралось сотни полторы. Ламуты прятались за деревьями и кустарником, присматривались, чтобы пойти на очередной приступ, поджечь или проломить частокол.
— Аманатов отпустим? — спросил брата Тарх.
— Полезут пуще прежнего…
— Надо отпустить одного с подарком, — тяжело дыша, подсказал Калинка.
— У нас есть две гривенницы бисера.
— Думаешь, станут делить и передерутся?
— А чем они лучше наших? — едко скривился промышленный.
— Пятерых с собой возьмем! — поддержал его Тарх. — После где-нибудь высадим. Как быть с женками?
— Сами решайте! — досадливо отмахнулся атаман.
Пытаясь отстраниться от своей безнадежной тоски по Арине, он пробовал сожительствовать с анадырской анаулкой, потом с ламуткой. С той и другой было плохо. Михей оставил их и больше не пытался сблизиться с женщинами, но не запрещал этого товарищам.
— Кто захочет идти с нами — заберем, кто нет — тем воля! — как о разумеющемся объявил Тарх.
— Можно попробовать, — поколебавшись, согласился Михей. — Наградим самого захудалого аманата, под которого родня не дала ясак.
Тарх снял колодки с одного из безучастно сидевших заложников, вывел к воротам, вложил ему в руку кожаный узелок с бисером и откинул закладной брус.
— Иди! — мотнул головой в сторону леса.
В щелках глаз ламута недоуменно блеснули черные бусинки. Сжав в руке узелок, он сиганул в сторону, как поднятый с лежки заяц, пригибаясь и виляя из стороны в сторону, побежал на полусогнутых ногах. Хитрость удалась, ламуты отступили вглубь леса и на кошку, где стояли их берестяные чумы. Воспользовавшись этим, ватажка собрала пожитки, охочие взвалили мешки на заложников, сами понесли к кочу раненых товарищей. Из семи ясырок две остались в зимовье: корячка и ламутка.
— Дура! — на прощание обругал женку Тарх. — Чем плохо было со мной?
Корячка что-то неприязненно гыркнула. Тарх подхватил пищаль, не оборачиваясь, пошел следом за товарищами к кочу, который стоял на покатах в двух десятках шагов. В нем укрывались трое, стерегли со стороны реки.
— Мы тут тоже говорим — уходить надо! — Стали помогать складывать добро. — Скоро начнется отлив!
Они приняли раненых, положили их на одеяла. Поднявшаяся вода стояла в реке, как в озере, замерев в противоборстве течения и прилива, чуть бугрилась волнами в месте спора. Рассеялись облака, обнажились синева и багрянец здешнего вечера. Солнце беспечно висело над розовеющей водой.
— Налегай! — скомандовал Михей и уперся плечом в борт.
Коч соскользнул на воду, закачался, оживая. Ламуты увидели, что пришельцы бросили зимовье, завыли, подступая к незащищенному частоколу. Несколько стрел чмокнули воду возле судна.
— Теперь вся рыба в речке ваша! — обернувшись к озиравшимся заложникам, съязвил Тарх. — Ешьте на здоровье!
— Вспомнят еще добрым словом, когда коряки придут! — Стадухины бросили на воду лаги и последними вскарабкались на борт.
Река потекла к морю. По пояс мокрые гребцы разобрали шесты и весла. Брошенные аманаты постояли в недоумении, поняли, что отпущены, и побрели к берегу. Едва на судне подняли парус — над зимовьем закурился дымок.
— Придурошные! — с сожалением выругался Калинка. — Могли бы от чужаков спасаться.
— От большой любви к нам! — усмехнулся старший Стадухин. — Ну, и куда теперь? — спросил с кривой усмешкой в седеющей бороде. Золотившиеся когда-то усы как-то незаметно вылиняли в один цвет с ней. — На Гижигу или Пенжину? Может быть, на Погычу?
— Лишь бы не в обратную сторону! — ответил Тарх, поглядывая на ясное солнце и непонятно чему радуясь.
— Бог выведет по грехам! — буркнул Калинка. — Кому что на роду написано — то и сбудется!
— Мое сбылось! — холодно скалясь, сквозь зубы процедил Михей. — Хоть бы вам выйти на Лену! — взглянул на брата. — Мне-то уже разве только на правеж к Господу!
— Великому мужу и честь велика! — с претерпеваемой болью в лице вздохнул Калинка, задрал полу кожаной рубахи, обнажив повязку из листьев. Она была напитана гноем и сукровицей.
А возле устья речки все выше поднимался столб дыма. Ламуты весело плясали возле горящего зимовья и победно потрясали оружием.
— Не глумитесь! — укорил говоривших Тарх. — Силком нас никто не гнал. Сами судьбу выбирали.
— Бог рассудит! — мотнул бородой Михей и приказал крепить парус.
Отмель, прикрывавшую вход в устье реки, удалось обойти на веслах при отливе. За ней ветер дул порывами, морщиня пологие спины волн узкими полосами. Парус мотало и полоскало, пришлось его спустить. Опять на веслах гребцы повели судно в виду сопок. На другие сутки обошли мыс.
— Ни воды, ни еды! — пожаловался брату Тарх. — Женки жуют кожу.
— Высматривай речку! — бесстрастно ответил Михей.
Так, останавливаясь, чтобы набрать воды, наловить рыбы, накопать корней, они неспешно плыли в неведомый край. Чаще всего дули гнилые ветры с востока: сырые с дождями и туманами. Раненые умирали, их предавали земле, на видном месте ставили кресты, которыми отмечали путь от самой Пенжины.
— Красота-то какая! — отвлекаясь от мрачных мыслей, указал на берег Тарх. — На наши родные места похоже.
Михей обернулся, неприязненно щурясь, проворчал:
— Ничего хорошего по эту сторону Камня нет. Глазу остановиться не на чем… Там Ангара, Индигирка, Колыма. А тут… — Шевельнул губами в бороде, будто хотел сплюнуть, но не решился рассердить водяного.
Ветер гнал волну с юго-запада. Скручиваясь белой трубой, она неслась вдоль высокого, ровного, покатого берега из песка и окатыша. На нем густо, без обычных криков, сидели чайки. По мокрой полосе бегали трясогузки, собирая выброшенные морем корма. Вода в бочке кончилась, одежда гребцов и женщин отсырела. А на берегу валялось много плавника. По верхней кромке мотались на ветру зеленая трава и кустарник. Впереди показался долгий мыс, похожий на вытянутую по воде в море журавлиную шею и голову с длинным острым клювом. В этом месте к берегу выходил хребет сопочника и заканчивался округлой горой вроде туловища птицы. За ним тянулась вдаль цепь безлесого отрога и уходила к едва видневшимся с моря снежным вершинам.
— За мысом должна быть речка! — указал Михей. — Он прикроет от волн, надо только подналечь на весла, чтобы не пронесло.
Коч обошел мелководье. За мысом глазу открылись зелень травы и высокий ивняк, низко спускавшийся к воде. Здесь не хлестал берег обычный пенистый бурун. По команде кормщика гребцы изо всех сил налегли на весла, но коч продвигался медленно, потому что ватажка уменьшилась наполовину и оставшимся в живых не хватало сил. К тому же тяжелый плоскодонный коч стал опасно раскачиваться, подставившись бортом к волне, его сносило за мыс, и вскоре стало ясно, что к устью речки не выгрести.
— Может, на берег выбросимся? — спросил брата Тарх. — А что? Не так уж и высока волна. Удержимся. Плавника много, подложим поката, вытянем за полосу прибоя. Он нам и поможет, попинывая в корму.
Старший Стадухин нахмурился предложение брата было опасным. Но надрывно пищали младенцы на руках оголодавших женок, обиженно грызли их иссохшие груди.
— Выброситься можно, только хватит ли сил потом столкнуться на воду?.. Хотя… Отлив.
— Сильно пить хочется! — зароптали спутники, глядя на заворачивавшиеся волны, бегущие по ровному, укатанному прибоем берегу.
— Господи, благослови! — пробормотал Михей, разворачивая нос судна к суше.
Коч резко ткнулся в окатыш. Четверо соскочили за борт, удерживая его за трос. Но другая волна, ударив в борт, повернула корму, третья захлестнула судно, вымочив людей. Женки с детьми быстро выбрались на сушу и отбежали на безопасное расстояние. Похрустывая окатышем, резвая бездетная девка взобралась наверх, замахала руками, радостно закричала. Ее поняли. Коч выбросился на кошку, за ней была река. Кое-как судно удалось закрепить. Волна не стягивала его обратно в море, но захлестывала корму и борт. Коч быстро наполнился водой и, полузатопленный, перестал дергаться. Михей поднялся на кошку. Она была широка, местами заросла кустарником, высоким пыреем и другими травами. Посреди реки на намытом островке виднелся русский коч по самые борта занесенный песком. Сверху открылись оконечность кошки и устье реки, впадавшей в море. До него оставалось версты полторы. Можно было без мук войти в реку, но бес попутал выброситься на сушу в самом неподходящем месте. Вода в реке оказалась даже несолоноватой. Путники напились, переренесли через кошку берестянку с изодранной сетью, чтобы наловить рыбы. Михей с Тархом стали разжигать костер. Едва он задымил, атамана окликнул промышленный и махнул рукой к полуночи. Он вскинул глаза, пригляделся. На дальнем конце кошки, возле леса, мельтешили четыре пятна, похожие на людей. Они приближались к костру.
— Вроде наши! — пристально вглядываясь, бормотал Тарх. — И коч наш, — кивнул на середину реки.
— Неужели до москвитинского зимовья дошли? — Михей с тоской в глазах скривил губы в бороде.
Четверо русичей, вооруженных мушкетами и фузеями, приблизились к обсохшему кочу, помахали шапками и вскоре подошли к костру.
— Куда же вы пристали? — весело укорил стадухинских спутников незнакомый служилый. — Заметет волнами, как этот, — мотнул бородой в сторону гнивших остатков коча на острове.
— Вы чьи будете? — строго спросил Стадухин.
— Якутского острога служилые. А вы?
— И мы Якутского, только плывем от Пенжины, а идем от Колымы!
Сивобородый присвистнул, сбил шапку на затылок, обнажив глубокие залысины. Михей назвался, тот дурашливо отшатнулся и открестился:
— Чур меня! В Якутском сказывали — пропал! — и продолжил приветливей:
— Оттуда еще никто не приходил. Вы — первые! А мы в трех верстах отсюда ставим ясачный острожек на месте сгоревшего, шелковниковского.
— Хоть так первые! — желчно усмехнулся старший Стадухин и спросил: — Семейка-то жив ли?
— Помер! Давно, еще в старом острожке, — обыденно ответил седобородый и строже добавил: — А нас послал приказный, сын боярский Андрей Булыгин. Видели, как вас куряло. Велел помочь провести коч в устье Охоты. Сами вы нипочем не пройдете.
Опустив глаза, Михей снял шапку, перекрестился, положив поклоны на восход. За ним стали поминать енисейского торгового, усть-кутского целовальника и якутского казака-десятника знавшие его люди. Тем временем гости со всех сторон осмотрели полузатопленное судно, плутовато поглядывая на ясырок, стали бойко отвечать на расспросы. Старший Стадухин слушал их и вспоминал пророчество хмельного бражника в ленском кабаке. Озадачив пришлых людей, говоривших о здешних делах, спросил вдруг:
— Ярко Хабаров жив ли?
— Уходили из Якутского, был жив! Поверстан в средний чин.
— Раз служит в детях боярских, судьба ему помереть от старости, — поморщился Михей, удивляя сказанной нелепицей.
Сивобородый с прищуром взглянул на солнце, потом на ясырок, чистивших рыбу.
— Долго еще простоим. Подкрепитесь, отдохните… Рыбы здесь много, хлеба нет…
— Мы про хлеб забыли. Последний раз на Анадыре ели.
— И мы в пост сквернимся, бывает, морских пауков варим. Ничего. Живы. А Бог милостив, простит!
— Что за народишки здесь по реке?
— А ламуты сидячие! То и дело бунтуют, собираются толпами сотен по пять и больше. Да ладно бы… — вздохнул сивобородый. — Огненного боя не боятся, наш строй знают.
— Откуда? — вскинул заблестевшие глаза Михей. — Мы тоже приметили.
Охотские служилые стали обстоятельней рассказывать, что в москвитинском зимовье на реке Улье Василий Поярков оставил семнадцать служилых под началом Ермила Васильева. На подмогу им пришел Семен Шелковников с большим отрядом. И был у него ламутский аманат…
— Чуна?! — Стадухин впился взглядом в говорившего.
— Задолго до нас это было, — смутился сивобородый. — Мы с воеводой Лодыженским из Тобольского пришли. По слухам, тот аманат бежал где-то в верховьях и верховодил бунтовщиками, собирал их тысячами. Летом Шелковников с полусотней охочих и служилых отправился сюда, на Охоту, где много рыбы, зверя и людей: места эти разведали еще люди Ивана Москвитина. Но здесь шелковниковских охочих уже ждали. Семейка со своими и ермиловскими отбился, поднялся по реке и поставил острожек. Закрепившись, отправил встреч солнца половину отряда под началом Алексы Филиппова и Ермила Васильева. Они дошли до реки Мотыклеи, где тоже много ламутов, поставили зимовье с частоколом, подводили под государеву руку тамошние народы и продержались года с два.
— Выбили их и сожгли! — перебил рассказчика Стадухин. — Мы в тех местах пережили три зимы, видели сгоревшее зимовье и крест Ермила, — опять скинул шапку.
— А Шелковников был здесь в непрестанной осаде. Когда стало совсем худо, отправил посыльного в Якутский с просьбой о помощи. На выручку пришел с отрядом казак Семейка Епишев. Писал воеводам, что его встретили десять сотен ламутов сбруйных и ружейных, в реку не пускали, не давали соединиться с Шелковником. Но Епишев все же прорвался, застал острожек целым. Говорил, будто вокруг стояли ламутские чумы, горели костры, женки готовили еду, мужики ловили рыбу. В острожке же чуть живы от голода сидели два десятка наших, а Семейка помер. Епишев освободил и накормил их, принял от целовальника двадцать два сорока ясачных соболей…
Тарх присвистнул:
— Хорошо, однако, сидели!
— Есть соболишко, — с пониманием кивнул сивобородый. — Похуже колымского, зато много. Только Епишев с казаками недолго продержался: из-за нападений бросил острожек и уплыл на Улью. Аманаты разбежались, ламуты острог сожгли и растащили. Мы заново строим, воюем, аманатим, и вам придется здесь зимовать. Через Камень идти поздно…
— Пора! — Сивобородый кивнул на стихающий спор воды в устье. — Отчерпаем воду из вашего коча — а там, вместе, даст Бог, столкнем его в море, пока не занесло песком.
14. Награды и счастье живых
Той осенью, когда остатки стадухинской полусотни встретились с ленскими казаками Андрея Булыгина, а Бугор пьянствовал на Омолое, Юша Селиверстов сумел пригнать коч к Жиганскому острожку и заставил своих людей вытянуть его на берег. Утром по реке пошла шуга.
— Головой думать надо! — хвастал удачей, гоголем похаживал среди служилых, торговых и гулящих насельников, выспрашивал ленские новости, об Анадыре же старался помалкивать, и в некогда ясных глазах его тлела розовая муть прожилок.
Добыча говорила за себя: шестьдесят восемь пудов рыбьего зуба, взвешенные жиганскими таможенниками, привели в изумление всех бывших здесь людей. Столько кости не провозил никто. Желавших угостить и разговорить Селиверстова было много. Но он удерживался от хмельного и уклонялся от бесед, с озабоченным видом ходил на реку, долбил пешней крепнущий лед, скупал нарты и нанимал гулящих людей, тянуть груз до Якутского острога. Новости же оттуда были двоякие: воеводу Францбекова увезли в Москву за приставами по жалобам о вымогательствах. Это хорошо! На то Юша и надеялся, когда уговаривался о дележе прибыли. Беда, что с тех пор воеводу Ивана Акинфова сменил воевода Михайла Лодыженский и, по слухам, у него были в чести торговые люди, грабившие Селиверстова на Яне. Юша ломал голову, как взять с них долг за отнятое добро. За годы, проведенные в походе, он так часто говорил про обещанные казне пятьдесят пудов кости, что поверил в это сам. И все же время от времени бес злорадно напоминал, что кроме кабал воеводе Францбекову им был подписан уговор на отдачу двух из трех частей прибыли. К тому же Юша обязывался привезти шестьдесят сороков колымских соболей по тамошним ценам, за которые взял деньги перед походом. Были и другие долги. По его мысленному рассуждению, если новый воевода возьмет в казну пятьдесят пудов кости, то он хотя бы вернет свои кровные вложенные в дело двести рублей, что-то останется от скупленных на Колыме соболей. Если воевода потребует все по письменному уговору — быть в долгах великих. «Каким местом думал, когда подписывал грамоту!» — язвил бес. Селиверстов в споре с ним пересчитывал, с чем бы мог явиться в Якутский острог, кабы не паводок да не угнанный ветром коч, и ревностно доказывал себе, что делал все правильно, но Бог попустил, а лютый взыскал.
Едва окреп лед, Юша ушел к Якутскому острогу с караваном собачьих упряжек. За нарты, труд и хлеб уговорился расплатиться деньгами, не скупился на задаток, не обманывал, но и не давал погонщикам передышки. С измотанными людьми и собаками он прибыл на место к Михайлову дню. Время было позднее, ворота заперты, но воротник с караульным казаком, узнав, какой груз и откуда, впустили всех. Погонщики подвели упряжки к съезжей избе, собаки легли на снег, Юша в изнеможении упал на тесовое крыльцо. На этот раз он не притворялся, силы оставили его. Собаки выгрызали лед из лап, погонщики едва передвигались от усталости. Был сумеречный вечер с низким серым небом, сквозь которое тускло пробивался свет зажигавшихся звезд. Воевода и служилые люди отдыхали. Ни одного знакомого человека Селиверстов не встретил. Таможенный казак бегло осмотрел груз, открыл съезжую избу, велел заволочь нарты в сени, выдал из казны рыбу на питание собакам и людям, отправил всех на ночлег в свободную тюрьму. А при остроге их было больше десятка. Селиверстову все это показалось плохим знаком, но спорить не было сил, к тому же казенка оказалась хорошо протопленной прислуживавшей якуткой. Отогревшись, его люди разомлели и опустились на земляной пол. Утром Юша почувствовал себя отдохнувшим и голодным. Он наелся холодной рыбы, сваренной якуткой, стал чистить и расправлять смятый кафтан, чтобы предстать перед воеводой в красной одежде. Голова его работала ясно, придумывая новые слова оправданий на разные случаи опроса.
— Где тут вчерашние? — рявкнул кто-то за тесовой дверью.
Селиверстов с готовностью распахнул ее, увидел незнакомого казака, привезенного новым воеводой, поскольку тот держался не по чину важно и самоуверенно.
— Кормите собак! — приказал и добавил, бросив уважительный взгляд на шапку, обшитую черными собольими спинками: — Спозаранку воют, запертые!
Погонщики стали одеваться, Юша вышел следом за ними. Не дождавшись посыльного от воеводы или письменного головы, встал у крыльца съезжей избы, напоминая о себе. Все для него было новым, будто ушел отсюда лет десять назад. Наконец, на холод выскочил служка в жупане, с лицом, похожим на моржовую морду без клыков, огляделся, поежился, задирая плечи к ушам, окликнул, дыхнув паром из-под усов, нависших до выбритого подбородка. Нарты стояли в сенях с оттаявшими, но не развязанными узлами ремней. Возле них на лавке сидел торговый человек со знакомым лицом. Соболья шапка лежала на его коленях, редкие русые волосы были аккуратно расчесаны на пробор и свисали до плеч, сквозь них просвечивали темечко и макушка. Приглядевшись, Юша узнал свешниковского приказчика Федьку Катаева из бывших стадухинских казаков. На вопросительный взгляд Селиверстова тот кивнул и рассмеялся:
— Гляди узлы! Не вскрывал ли кто твои животы!
— А ты кто такой? — заносчиво спросил было Селиверстов.
— Целовальник! — коротко ответил Федька и опять утробно хохотнул: — Был казаком на Оймяконе и Колыме, потом торговым, нынче выбрали целовальником. Чего только не случится на этом свете, — самодовольно ухмыльнулся и спросил: — Как там Мишка Стадухин, жив ли?
— Пропал! — неохотно ответил Селиверстов, осматривая узлы. Вскинул плутовато прищуренные глаза: — Мстить будешь за Мишкин грех?
— Нет! — резко ответил Федька. — Я на него зла не держу. Правильный был казак! — Перекрестился. — Теперь и не пойму, отчего его не любили: работал больше всех, под стрелы лез первым, чужого не брал…
Селиверстов почуял в Федькиных словах намек на свои грехи, прокашлялся, пожал плечами, отмолчался. Смотр привезенной кости и рухляди велся при таможенном и письменном головах, при целовальнике Федьке Федорове Катаеве. Последним пришел дьяк, потребовал наказную память, сверил ее с принятой от Францбекова. Таможенный голова, наглядевшись на отборные клыки, побежал к воеводе сообщить о прибытии охочего человека с Анадыря. Селиверстов при начальных людях старался помалкивать, только пометывал на них быстрые скользкие взгляды и гадал, как с него потребуют явленное при Францбекове. Примечая восхищенные лица служилых, надеялся, что возьмут десятину и отпустят. Казаки поставили кресло, накрыли его шкурами. В избу вошел воевода в куцем нерусском кафтанишке, при ляшских усах, с толстым, гладко выбритым подбородком, как это нынче было принято у большинства людей царских чинов. Дородный и одышливый, он важно сел на приготовленное место, с любопытством уставился на рыбий зуб и привезенную рухлядь. От его приветливого вида на сердце Юши потеплело. При воеводе, дьяке и целовальнике заново была пересчитана, перевешана кость, перещупаны соболя и лисы. Со всего привезенного вычли десятину. Федька привел торговых людей. Они степенно откланялись воеводе, оценили оставшуюся рухлядь и кость.
— Что у нас по Селиверстову? — не поворачивая тяжелой головы на короткой толстой шее, спросил письменного голову воевода-стольник.
Тот пошуршал свитками бумаг, обыденным голосом ответил:
— При сыске у прежнего воеводы Дмитрия Андреевича было найдено на его имя кабальных грамот на три тысячи шестьсот рублей с мелочью.
— Взыскать долг? — спросил воевода у дьяка.
— Пожалуй, так! — накоротке ответил тот, соглашаясь, что это справедливо, окинул взглядом моржовые клыки, переговорил с таможенным и письменным головами, те закивали. Федька Катаев с угодливым видом стоял в стороне, показывая, что готов согласиться с каждым их словом.
Селиверстов, беззвучно разевая рот, как вытянутая на сушу рыба, соображал, отчего должен оплачивать кабалы, вымученные с него Францбековым. Между тем казаки позвали погонщиков, сидевших на крыльце. Им за работу выплатили из казны по уговору. Довольные расчетом, они ушли, чтобы погулять перед постом.
— Собак самим кормить! — крикнул вслед казак, приходивший утром в тюрьму, даже при воеводе не терявший теперь уже напускной, скоморошьей важности.
А Юша все водил по сторонам побелевшими глазами и думал, что расчет случился для него не самый худший: взяли только долг Францбекову и десятину, о прибыли не вспомнили. Письменный голова долго считал, шевеля губами, потом громко объявил:
— Остается долгов одна тысяча триста девяносто шесть рублей три алтына и деньга.
Пучеглазый воевода пытливо, с угрозой, уставился на Селиверстова и тот, чуть заикаясь, объявил первое, что шепнул на ухо бес:
— Ваське Бугру и Степке Вилюю дал пятнадцать пудов для провоза… Идут следом!
— Зачем передоверил? — удивленно спросил таможенный голова. — У тебя был добрый казенный коч шести саженей.
— А как бы что-то не заладилось? — пролепетал Селиверстов, соображая, что Бугру с Вилюем раньше Троицы в остроге не быть, а, вдруг, и вовсе пропадут в море. — Остальное — на Анадыре, у охочего Артемки Осипова, которого оставил вместо себя. Не было оленей и собак, чтобы вывезти!
Его ответ показался начальным людям удовлетворительным. С сомнением кашлянув, воевода объявил:
— Подождем!
С одежки и шапки обмершего Селиверстова спороли соболей, оценив, бросили в общую кучу и отпустили. Растерянный, ободранный, он вышел на крыльцо съезжей избы и понял вдруг, что идти не к кому. В остроге не было ни одной доброй души, к кому бы он мог обратиться за помощью в немощи и нынешней бедности. Оглядевшись по сторонам, увидел бабу, рвавшуюся к съезжей избе. Не сразу узнал жену Михея Стадухина. Зато она узнала его и окликнула. Казак, не пускавший ее, оглянулся. Юшины глаза вспыхнули, он сбил на ухо ободранную шапку, расправил плечи и бодро двинулся навстречу женщине.
— Где Мишка? Живой ли? — с надеждой и отчаяньем в голосе вскрикнула Арина.
— Покойным никто не видел, — со вздохом ответил Селиверстов. — Разговор про него долгий, — поежился, показывая, что мерзнет.
— Пойдем к нам! — позвала она.
Обнадежившись, Юша двинулся за женщиной в посад. Арина ввела его в дом. В красном углу в шелковой рубахе, струящейся с широких плеч, по-хозяйски сидел младший брат Михея Герасим. На его руках барахтался младенец, по правую руку от него Мишкин сын, входивший в юношескую пору. Степенно крестясь и кланяясь на образа, Селиверстов опять торопливо соображал, что бы это могло значить. Заматеревший и кое-что наживший Герасим поднялся навстречу гостю, ответил на его поклон, указал на место за столом:
— Раздевайся, грейся, садись!
Пока Селиверстов топтался возле печки и снимал кафтан, он перекинул младенца с руки на руку, достал откуда-то березовую флягу в медных обручах.
— Выпьешь ли с дороги во славу Божью? — спросил и вскинул глаза на Арину.
Застывшая в распахнутой дохе, она так и стояла у двери в ожидании новостей. Герасим словно напомнил ей о госте. Она сорвалась с места, бросила верхнюю одежду на лавку, начала выставлять чарки, закусь.
— Подкрепись Христа ради! — усадила гостя за стол.
Юша сел, Арина взяла с рук Герасима запищавшего младенца, обнажила полную, налитую грудь, приткнула его к розовому соску. Селиверстов смущенно отвел глаза, она же не спускала с него своих, ждущих. «Младенец зачат явно после Михея, — отметил про себя Юша. — То ли роднятся, то ли во блуде живут?» Вздохнул, присматриваясь к дому. Решив, что все-таки живут, опечалился. Выпил, поел, стал рассказывать, что слышал о Стадухиных Михее и Тархе. Арина слушала молча, беззвучные слезы катились по ее щекам. Герасим тяжко вздыхал, опуская голову, Мишкин отрок шмыгал носом.
— Не десятком — полусотней ушли, больше. — стал утешать их Герасим. — Даст Бог, вернутся. Далеко ведь заявились, за Камень, в неведомое.
От этих слов Юша опять обнадежился погреться возле вдовы. Его оставили ночевать Христа ради. Еще два дня он протолокся в чужом доме, а после мягким, но твердым стадухинским голосом Герасим его выпроводил, и пришлось известному на Лене человеку идти в острог, просить службы ради пропитания и крова. Будто в насмешку над былыми заслугами, его отправили на верфь к судовым плотникам.
Но пережилась студеная, хмурая зима, промелькнула короткая весна, настало жаркое лето. Селиверстов быстро освоился на службе в корабельных плотниках, с месяц помахал топором и был поставлен десятником, к лету уже верховодил на верфи. Правда, его прежняя заносчивость пропала: как опустились плечи при объявлении долга, так уже не расправлялись и вместо былого бравого петуха он походил на курицу, суетливо озабоченную поиском пропитания.
Оттаявшая мошка погнала людей из тайги. С промыслов возвращались ватажки промышленных людей. После Троицына дня к острогу приплыли беглые казаки и Степан Вилюй. В животе у Селиверстова как-то нехорошо захолодело. Вскоре приставы привели его в съезжую избу и поставили перед воеводой. Там уже стояли Васька Бугор, Евсей Павлов, Федька Ветошка и промышленный Степан Вилюй. Седой и косматый, Васька обернулся к Селиверстову коричневым, обгоревшим, покрытым рубцами и рытвинами лицом, окинул яростным взглядом.
— Второй кнут мой! — заорал, не смущаясь начальных людей, и разорвал на груди кожаную рубаху. — Зови палача. Станет оправдываться после первого — бить обоих до суда Божьего!
— То есть пока кто не сознается во лжи! — С сочувствием и насмешкой взглянул на старого казака воевода, потом перевел строгий взгляд на Селиверстова.
Его подручный служка в жупане стал было вязать Юше руки за спиной, чтобы встряхнуть на матице избы — первый кнут доносчику. Он побледнел, смущенно поежился, виновато взглянул на взбешенного Бугра и признался:
— Бес попутал! Убоялся большого государева долга, оговорил Ваську. — И залопотал давно приготовленными словами: — Должников у меня много на Колыме и Анадыре. Они тому свидетели, — кивнул на казаков. — Если соберу свои долги, расплачусь и с государевыми. Отпустите, Христа ради! С прежним воеводой рассчитаюсь и казне великую пользу сделаю.
Казаки с Вилюем были поставлены перед воеводой и оправдывались не только по селиверстовскому ложному обвинению. Зимуя на Омолое, чувствуя себя богатыми, они хорошо погуляли, а двое промышленных людей, возвращавшиеся с ними на Лену, продали паевую кость и повернули в обратную сторону. Но Евсей Павлов, сопровождавший дежневскую казну, предъявил отпускную грамоту колымского приказного, где было указано, что десятину те промышленные оплатили в Нижнем остроге и она положена к казенной кости. Плата покупной и продажной пошлин, по их свидетельству, осталась на Проньке Аминове. Всех отпустили без кнута и батогов. Бугор, не остыв от страстей, в сенях пнул Селиверстова под зад. Тот рыкнул возмущенным голосом, но драки не случилось. В следующий миг Васька вопил и тискал в объятьях сына боярского, входившего в съезжую избу. Из его восклицаний Юша понял, что это Курбат Иванов, приглядевшись, сам узнал его, с недоумением пожал плечами и понуро вышел. Он помнил Курбата, казака по тобольскому окладу, знал, что тот долго служил в верховьях Лены, ставил там острог, из первых служилых ходил к Байкалу. Свесив голову и глядя под ноги, Юша вышел, вспоминая острожные слухи, что в среднем чине Курбат служил приказным на Олекме, не собрал объявленный посул и был в опале. С Юши, содрали все меха, которые чего-то стоили, но оставили на плечах суконный кафтан. Курбата, похоже, обобрали дочиста, описав в казну дом и все животы. Судя по одежде сына боярского, который вошел в съезжую избу, ему была оставлена только шапка. Сам опальный за великие долги, Селиверстов сочувствовал служилому, но поговорить с ним не случалось. Через неделю приставы снова привели его в съезжую избу. Перед письменным головой и дьяком стоял тот самый сын боярский Курбат Иванов в кожаной рубахе и чирках, сшитых из сношенных бахил.
— Гуляешь? — гневно пытал его дьяк.
— Жена с детьми меж дворов скитаются, милостынями живут, — смущенно оправдывался тот. — А Васька позвал в кабак по старой памяти. Не смог отказать товарищу.
Дьяк рассерженно кашлянул, перевел взгляд на Селиверстова, стоявшего перед ним с немигающими глазами и подрагивавшей бородой. Спросил, не переждав его поклонов, встречал ли Амоса Михайлова и где? Не совсем понимая, зачем понадобился начальным людям, Юша отвечал, что встречал в Крестовой протоке, в устье Лены.
— По свидетельству Ермолина и Павлова, сотник зимовал на Омолое, — хмуря брови и шелестя бумагами, поданными писарем, проворчал письменный голова.
— Третий год добирается к месту службы! — чертыхнулся дьяк и вскинул глаза на Селиверстова. — Говорят, ты мореход искусный и удачлив. Поплывешь Леной и Студеным морем на Колыму, потом пойдешь на Анадырь. Во всем будешь прямить Курбату — отправляем его на перемену Дежневу, — строгими глазами указал на бедно одетого сына боярского. — И будешь собирать там свои долги.
Дьяк встал и вышел, а письменный голова начал устно наставлять Курбата:
— Догоните Михайлова, отнимите у него прежнюю наказную память. Пусть служит на Алазее… Если доберется хотя бы туда. — Писец, скрипевший пером, поднял голову, присыпал сырые чернила песком.
Голова взял у него грамоту, стряхнул песок, стал внятно читать. Оторвавшись, устно добавил:
— В числе прибранных людишек возьмете казака Данилу Филиппова.
— Одной бедой с тобою связаны — оба в долгах, — тяжко вздыхая, обратился Юша к Курбату, едва они были отпущены. И добавил со злостью, сдерживая голос до шипения: — Лишь бы отсюда выбраться! — Вспомнив Студеное море, дальние реки, распрямил грудь и пророкотал так, что был услышан в съезжей избе, и на сторожевой башне: — Какой кочишко готовить к плаванию, не сказали? — И показалось ему, что беды, преследовавшие в прежнем походе, наконец-то отвязались.
В конце июля казенный коч с Селиверстовым на корме и с его подневольным приставом сыном боярским Курбатом Ивановым отчалил от пристани Якутского острога. Курбат вез на Анадырь жену и двух сыновей, еще не вышедших в служилый возраст. Данилка Филиппов, наслышанный от анадырских товарищей о грехах Селиверстова, неприязни к нему не показывал, а Курбат, как и Мишка Стадухин, жестко пресекал среди своих людей всякие споры и распри. На воде Юша вновь почувствовал себя человеком, каким его создал Бог. С мстительной усмешкой то и дело оборачивался к верховьям Лены, понимал, что обратно уже не вернется, но беспечально глядел на далекую размытую черту, соединяющую небо с водой, и с тихой радостью в груди думал: так бы вот плыть и плыть всю оставшуюся жизнь, и лучше всего одному. Хотя нет! Бабу бы! Русскую, добрую, покорную, тихую, ласковую.
— Ваську, дружка твоего, — обернулся к Курбату и голос его раскатился по воде до дальних берегов, — угораздило на старости лет связаться с якуткой. Тиха, покорна, как собачка, всюду за ним ходит. Васька в кабаке гуляет, она против крыльца сидит. Однако баба есть баба! Тишком да лаской принудила дом купить.
Курбат, вымученно улыбнувшись, покачал головой.
— Я думал, старого бродягу могила исправит. Однако ж, — обернулся к жене, чистившей рыбу, — на всех есть хомуток. Так, наверное, и лучше! — Помолчав, добавил: — Васька купил дом пропавшего Ивашки Ретькина. А тот, когда бежал, бросил женку тунгусской породы. Не гнать же! Васька ее пожалел и живет теперь с двумя. Обоих кормит.
Для Селиверстова эта новость была в диковинку. Покряхтев, то ли с осуждением, то ли с завистью, он проворчал:
— Куда попы глядят?.. Однако, как всегда, нас поздновато отпустили. Ладно хоть до Ильина дня. У моря будем молить Николу о попутном ветре. Пройти бы Святой Нос, там до Колымы недалече! — И громко, чтобы все слышали, похвастал, покосившись на Филиппова. — Оттуда мы с Данилкой приведем вас на Анадырь лучше всякого вожа.
В устье Алдана коч Курбата Иванова встретился со стругами служилых и промышленных людей, плывших с ясаком с Ламы из-за Великого Камня. Среди них были люди Михея Стадухина и его брат Тарх. Он узнал Селиверстова, подвел струг к корме казенного коча. спросил:
— Что там брат Герасим? Жив?
— Живой! Рыбой торгует, прижил младенца от Мишкиной жены!
Пропустив мимо ушей весть про младенца, Тарх радостно перекрестился:
— Слава Богу!
— Мишка жив ли? — спросил Селиверстов. — Шесть лет ни слуху ни духу!
— Живой был, когда уходили аргишами. Служит в Охотском острожке у Андрейки Булыгина.
— Что к жене и сыну не возвращается? — язвительно осклабился Юша.
— Больше половины ватажных погибли, — смахнул с головы шапку и перекрестился Тарх. — Брат кается, будто по его вине, отслуживает грех. Там война беспрестанная, а служилых мало… — И спохватился: — Торговый Мишка Баев, Богдашка — поповский покрученник, объявились ли?
— Не слыхал! — открестился Юша и спросил громче: — Много ли богатств добыли?
Тарх печально помотал головой.
— Есть соболишки, но не головные, как на Колыме. — Вскинул заледеневшие глаза: — Не за богатством шли, неведомых земель искали, хотели государю и тамошним народам послужить, удерживая их от братоубийства.
— Бог наградит! — скаредно рыкнул Селиверстов, повертел головой на изъеденной гнусом шее, зычным голосом велел выбирать якорь, а гребцам разворачивать судно по течению. Над его кочем вскинулся и вздулся парус.
Случайно встреченные люди со стругов вышли на берег, подвязали бахилы, впряглись в бурлацкие бечевы и потянули лодки против течения, к Якутскому острогу.
Чтобы удержать землю, прибранную для государя Семеном Шелковниковым, Андрею Булыгину пришлось заново с боями пробиваться на реку Охоту и подниматься к сожженному шелковниковскому зимовью. Ламуты нападали непрестанно, носились на оленях возле коча и засеки, стреляли с оленьих рогов, как с сошников, не только из луков, но из пищалей тоже. Десяток охочих людей, случайно прибывших со Стадухиным, были для Булыгина даром Божьим.
— Весной отпущу с наградой! — обещал им. — Отпишу благодарственную грамоту, рухлядью поделюсь, которую возьмем на погромах!
У отряда была мука — самая желанная награда для анадырских скитальцев. Они привычно встретили обычную для этих мест зиму, в сравнении с прежними почти мирную. Гулявшая по равнине река выносила столько плавника, что дров хватало, и очаг в зимовье горел сутками. Как только окрестности завалило снегом, оленные ламуты откочевали, поблизости остались только сидячие. Зимой никого из стадухинских людей не убили, никто не умер. Сливались в одно дни и ночи: сон и разговоры. Мело и пуржило неделями. Студеные ветры с Великого Камня выбелили густой топольник. Караульные менялись часто, возвращались обледеневшие, с сосульками вместо бород и шапок. В протаявшей дыре, под закуржавевшими бровями поблескивали вымороженные до голубизны льда глаза и краснел нос.
— Где-то в тех местах, откуда вас вынудили уйти, зимовали Алексейка Филиппов с убитым Ермилом! — слушая рассказы стадухинских людей, говорил им Булыгин. — Об этом мы слышали от Семейки Епишева. Вас и Филиппова выбили оттуда, Епишева — отсюда… Сам виноват! — беззлобно поругивался. — Удержаться легче, чем заново пробиваться на старое место и строиться на гари: все нынешнее лето — одна рука на топорище, другая на пищали… А Епишев распустил своих казаков кругами да советами: никого ни к чему не принуждал, к совести призывал. Они ему на шею сели, помыкали, даже били, вместо караулов в карты играли, ясырок друг другу продавали, блудили скопом. Двое остались у меня — спросите, расскажут. — Обводя своих казаков строгим взглядом, Булыгин жестко, как о непреложном, напомнил: — Где заводятся блуд, игра, тщеславные страсти, там гибель у порога! Всегда так было и будет!
— Мои не сильно-то и блудили! — перекрестился Михей Стадухин. — А как закрою глаза, встают один за другим, будто укоряют. И я все думаю — за что полегли?
— Божьего замысла нам знать не дано! — нетерпеливо дернулся Булыгин.
Была редкая тихая ночь без пурги. Все спали. Светила ущербная луна, на нагороднях маячил караульный, всматриваясь в серебристую гладь наметенных сугробов, льды за кошкой на морской и речной стороне. В зимовье пылал очаг, было тепло. На нарах и полатях в два ряда отдыхали свободные от караулов люди. Одинокие-холостые лежали открыто или под одеялами, те, что сожительствовали с женками, завешались кожами и шкурами. На аманатской половине приглушенно постукивали колодками заложники. Михей Стадухин лежал с закрытыми глазами, закинув руки за голову, дыхание было ровным и глубоким, как у спящего. Вдруг он пробормотал, не открывая глаз, шепелявя одеревеневшим языком:
— Крадутся! Копают ход к тыну. Мешки с берестой и жиром волокут.
Его словам никто не удивился. Приказный Андрей Булыгин сел, зевая, свесив ноги, спросил:
— Далеко?
— Шагов полсотни!
— С какой стороны?
Михей указал рукой.
— С полчаса провозятся! — крестя бороду, снова зевнул сын боярский, взглянул на склянку с пересыпавшимся песком, стряхнул сон с глаз и приказал отдыхавшим: — Одевайтесь, что ли! Будем обороняться.
— Шагов на пятнадцать подпустить и пальнуть картечью из крепостной пищали! — тоже поднимаясь посоветовал Стадухин.
— Однако у тебя дар! — с благодарностью взглянул на него Булыгин.
— Дар! — угрюмо согласился Михей. — А товарищей не спас! — Перекрестился, стал одеваться.
С тяжелой крепостной пищалью на плече он поднялся на нагородни, велел караульному запалить фитиль и отойти. Зацепил крюк пищали за венец, встал на колено, подсыпал пороху на запал, поманил караульного рукой в меховой рукавице, взял фитиль, пускавший искры по ветру. Долго целился с закрытыми глазами. Прогремел выстрел, от которого дрогнула изба. Караульный заскакал, захохотал. Прорытая ламутами пещера обвалилась. Как тонущие, в снегу барахтались людишки, сбивали друг друга с ног, цеплялись один за другого. Казаки на лыжах бросились ловить и вязать их…
Прошла зима. Опадали сугробы, обнажая тайные попытки нападавших: слежавшиеся мешки с берестой и жиром.
— Останься, Мишка! — стал просить Стадухина приказный. — С твоим даром полка стоишь!
— Останусь! — согласился старший Стадухин. — А людей моих отпусти. Много лет безвестны. Пусть идут на Лену кто хочет.
Пришла поздняя весна с рассеянным солнцем, такая же, как на Тауе, Ини и прежних реках на этой стороне Великого Камня. Остатки стадухинских людей известным путем ушли по каменистой долине реки к видневшимся вершинам хребта. Михей остался на Охоте отслуживать вины за неудачный поход на Погычу. Под раскидистыми ветвями тополей истлевали черные сугробы, рядом с ними торопливо распускались цветы. И опять, как на Тауе, Михей тесал весло на краю леса, в стороне от зимовья, и снова внутренним взором почувствовал близость зверя, вспомнил, что все это уже происходило. Ощущения были настолько похожи, что ему подумалось: либо шалит память, либо в эти места забрел тот самый медведь. Он обернулся без страха. Среди зелени ветвей и папоротника в рост человека скорей почувствовал, чем разглядел маленькие зоркие глаза в щелках глазниц, потом высмотрел человечью голову без шапки. Догадавшись, что обнаружен, из кустов вышел ламут в распахнутом кожаном халате, с распущенными по плечам густыми, будто присыпанными мукой волосами. Он был немолод, оружия при нем не было. В следующий миг Михей узнал постаревшего Чуну, удивленно мотнул бородой, прислонил к дереву недотесаное весло и воткнул в кору топор.
— Вот я и пришел! — буркнул гость по-русски.
— Давно не виделись! — поприветствовал его казак. Присел на свежий истекавший весенним соком пень, лицом к лесу, спиной к зимовью, кивнул на валежину против себя, приглашая к беседе.
— Дарова! — Припухшие веки Чуны смежились в две щелки. Он присел на корточки. — Поговорить пришел!
— Догадываюсь! — Михей сбил шапку на затылок и приготовился слушать.
— Как жив-здоров? Много ли соболя добыл? Еды всем хватает? Не хворают ли жена и дети? — как принято, издалека начал беседу шаман-новокрест.
Михей только кивал, не втягиваясь в пустопорожний разговор и Чуна, недолго помолчав, перешел к делу.
— Однако, все воюем, убиваем, в плен берем! — Пухлые веки ламута раздвинулись, обнажив пристальные зрачки, тонкие черневшие губы дрогнули в усмешке. Пучки волос в их уголках и на подбородке были белей снега.
— Хорошо научил воевать свой народ! — не то похвалил, не то укорил его Стадухин.
— Хорошо! — согласился Чуна, печально скривив губы. И добавил, не опуская взгляда: — Зря учил!
— Вон что! Неужели с покаянием? Хочешь сдаться в аманаты?
Ламут цокнул языком, резко мотнул головой, показывая, что аманатиться не желает, почесал затылок, запустив руку в длинные волосы.
— Силой меня не взять, — усмехнулся. — Духи научили умереть, когда захочу. Зачем вам падаль? А смерти я не боюсь, — распахнул халат. — Не веришь? Воткни нож в сердце!
На груди его среди других оберегов Михей заметил небольшой дочерна вышорканный кедровый крест.
— Народ жалко: мэнэ и орочи![276] Развоевались — не могу остановить. Духи говорят: если мой народ победит — его не станет! — Чуна смешливо смежил пухлые веки, из-за которых остро и пристально поблескивали зрачки.
— Нас победить невозможно! — пожал плечами Стадухин.
— Можно! — резче возразил ламут. — Ты все понимаешь! — Покачал головой, опуская взгляд долу. — Если мой народ победит, он будет воевать между собой, пока не истребится. И не станет моего народа: ни мэнэ, ни орочей. Духи так сказали. И я знаю, так будет.
— Могу взять тебя в почетные аманаты! — помолчав в раздумье, предложил Стадухин. — Воевода отправит к царю. Вернешься главным ламутом, ровней нашим боярам. Казаки по твоим указам будут помогать тебе править твоим народом.
— Э — э! — с укором посмотрел на Михея Чуна. — Ты тоже крестился во Христа-Спасителя, а предлагаешь стать Иродом. Зачем учил Закону Божьему?
Стадухин с непониманием взглянул на него, и Чуна продолжил с упреком:
— Помнишь Валаама, под которым олениха заговорила человечьим языком?
— Сказывали попы! Заговорила! А ты прошлым летом медведем обернулся, попугать меня хотел?
Губы ламута с белыми кисточками волос в уголках рта дрогнули, он пропустил сказанное про медведя и продолжил:
— Валаам был почетным шаманом своего народа. А Бог велел ему говорить хорошо о врагах, которые осадили его город. Ангел смертью грозил, если откажется. Безрогий олень заговорил человечьим голосом. Валаам испугался, стал ругать свой народ и хвалить врагов. И что вышло? Свой народ его проклял. Враги захватили город и убили. Правильно сделали. Лучше бы умер от меча ангела и не предавал своих. Тогда бы и Бог его похвалил. Зачем ему Бог, если нет его народа? Зачем он Богу без своего народа?
— Вот как?! — почесал бороду Михей. — Об этом тебе надо с попами говорить или с Пашкой Левонтьевым. Понимаю, что почетным аманатом к царю не пойдешь, нам в острог — не дашься. Чем могу помочь?
— А! Вот теперь правильно спросил, — со знакомой плутоватой улыбкой придвинулся к нему Чуна. — Берешь в плен моих людей, говоришь им государево слово, лучших куешь в цепи, других отпускаешь… Все правильно делаешь. Неправильное говоришь государево слово. Я пришел научить, как надо. Не говори: «в вечное холопство», «царь помилует», говори: «Царь войн и убийств не любит. Всех, кто воюет и убивает, его люди ловят и наказывают. Кто мирно живет, кто никого не грабит, тому от царя защита вечная». А чтобы его казаки за порядком следили — им есть надо! Правильно? — Чуна тихонько рассмеялся, потряхивая головой. — Вот, царь и просит от сильных мужчин по пять соболей в год, чтобы кормить казаков. Если они начнут сами охотиться, когда порядок наводить?
Теперь рассмеялся Михей, сдвинув шапку на брови.
— Можем и так говорить, кто нам укажет. Только есть государево слово, записанное на бумаге.
— Царь далеко! — досадливо отмахнулся Чуна. — Ламутов не знает. И слова его много раз переписывают другие люди. Делайте, как я говорю, и будет мир. Рыбы в реках всем хватит! — Он метнул на казака озлившийся взгляд, выругался по-русски и поднялся.
Больше шаман к острожку не выходил. Эта была их последняя встреча, хотя после раздумий Стадухину хотелось поговорить с ним. Следующим летом от пленных было известие, что Чуна ушел к предкам.
Нападать на острог ламуты стали реже. Один за другим роды мирились с единой властью, с ясаком и находили преимущества мирной жизни. После той встречи минуло больше двух лет. Из Якутского острога пришла смена Булыгину и его казакам. Не ожидая для себя ничего хорошего на Лене, после двенадцати лет скитаний перевалил на другую сторону Великого Камня и Михей Стадухин. Против устья Алдана на обустроенном стане бурлаков возвращавшийся с Ламы отряд встретил два приткнутых к берегу коча. На одном шли с Анадыря промышленные и торговые люди под началом беглого казака Никиты Семенова. На другом из Якутского острога на Колыму плыл отряд казаков и охочих людей под началом сына боярского Ивана Ерастова. Среди них было много старых служилых, знакомых Стадухину по временам Бузы, Постника и Зыряна.
— Мишка? Живой? — ахнул Никита, едва струги Андрея Булыгина приткнулись к берегу поблизости от кочей. С радостным лицом подошел, обнял, смахнул навернувшуюся слезу, пристально оглядел людей, высаживавшихся из стругов, выискивая уходивших с Анадыря на Пенжину, никого не узнал, вопрошающе вскинул глаза на Михея.
Тот смущенно потупился:
— За Пенжиной ватага разделилась надвое. Мишка Баев увел своих на богатые поповские промыслы, я — в другую сторону. Из них десяток вышли на Лену два года назад. Остальные погибли. Я — последний! — Виновато вздохнул: — Этими самыми местами гнался за вами, беглыми, чтобы остановить и вразумить, а наградят поровну! — Болезненно сощурил веки.
— Простят! — уверил его Никита. — Мы с Семейкой отправляли с казной Данилку Филиппова, потом Ваську Бугра с Евсейкой Павловым. Всех простили и наградили!
— Это хорошо! — без радости в лице согласился Стадухин и спросил: — Жив Семейка Дежнев?
— Был жив! — рассеянно ответил Никита. — Мотору убили, Заразу с Митькой Васильевым бурей унесло. Приходил на Анадырь твой Юшка Селиверстов, два года промышлял рыбий зуб, правил по твоей наказной, потом оставил ее охочему Артемке Осипову и ушел за наградой. Артемка оставил другому, сам со мной возвращался, да вот загулял в Жиганах. Как при тебе начались двоевластие и раздор, так тянутся до сих пор. Значит, не наша вина! А я с торговым Аниской Костроминым возвращаюсь. В Нижнем Колымском купили вскладчину этот самый коч за двести рублей, — указал на добротное торговое судно. — А Ерастов пытает меня про кость, будто оставленную Артемке Юшкой Селиверстовым. Из своего ли пая он платил за коч или из казны?
— И где нынче Юшка? Живой? — полюбопытствовал Стадухин.
— Прошлым годом встретились с ним в Нижнем. Воеводским указом был отправлен на Анадырь, собирать долги перед казной. С ним Данилка Филиппов и новый анадырский приказный Курбатка Иванов. Все переменилось и здесь, и там, — вздохнул, оглядываясь по сторонам. — А на Анадыре из беглых ленских казаков с Семейкой Дежневым остался один Артемка Солдат — последний. А из охочих — твой писарь Ивашка Казанец.
— Ну и ладно! — кивнул Михей с благодарностью за новости, сам уже прислушивался к спору Ивана Ерастова и Андрея Булыгина. Ерастов напирал, размахивая какой-то грамоткой, Булыгин ругался и отнекивался. О чем-то сговорившись, один пошел к табору, другой к Стадухину.
— Слыхал про твой поход! — приветствовал его Ерастов. — Вместо меня ушел на Колыму, мою судьбу перенял!
Михей мельком взглянул на шапку сына боярского, спрашивать, как выслужил чин, не стал. Недоуменно пожал плечами:
— Чужую судьбу не переймешь! Видать, так уж мне на роду написано!
— А я иду на Колымский приказ. Кабы ушел тогда, за беглыми казаками, неизвестно еще, был бы жив ли! — Перекрестился, скинув шапку. — Как Бог положит — неведомо. Про тебя знаю от твоих людей и брата. Воевода их не оставил милостью.
— За что? — удивился Михей.
— Ивашка Баранов ходил с Колымы за Камень тем же годом, что и ты. Зимовье на Гижиге срубил, привел в Верхнеколымское зимовье аманатов и писал воеводе: если бы ты в устье не воевал, то ему бы, Ивашке, в верховьях не удержаться. — Стадухин потупился, вспоминая беспрестанные нападения коряков на Гижиге. Ерастов же с важностью сведущего человека продолжал:
— Тебя Господь под стрелы ставил, чтобы ему путь облегчить. Он с того похода богатства не нажил — но получил прощение и в жалованье восстановлен. А теперь там государев острог. Федька Чукичев его поставил!
Михей снова опустил глаза:
— Вон как Бог удумал!
— Нынешний воевода строг, но справедлив. Кто верно служит — без награды не остается. Брат твой Тарх попросился в службу на Колыму и был принят в выбылый оклад. Я его с собой звал, но он ушел прошлым летом.
Это была еще одна неожиданная новость. Стадухин обеспокоился, отчего брат вернулся на Колыму, не присушил ли Великий Камень? На Охоте они сговаривались, если выберутся на Лену, то возвращаться на отчину с тем, что дал Бог. И Михей плыл по Аладану с мыслями: если простят — проситься на Русь. Глаза его помутнели от раздумий, нахлынули смутные догадки. А Ивашка Ерастов о чем-то назойливо бубнил, чему-то поучал:
— Господень замысел сразу не поймешь… Я, грешным делом, обиделся, что сам выпросил поход, а ушел ты. А вышло — зря сердился. Грех!
Стадухин, отмахиваясь от мошки, кивнул ему и отошел к костру, который развели спутники. В жаркий день в лицо пахнуло дымом, навязчивый гнус отстал. На воде он не был так зол, как возле леса.
— Ишь что сказал! — с раздосадованным лицом пожаловался на Ерастова Булыгин. — Юшка Селиверстов указал на своего охочего Артемку Осипова, что оставил ему двадцать пудов кости. Тот всю зиму гулял в Жиганах и нынче сусло допивает. А у Ерастова воеводский наказ — найти Осипова, сыскать с него казенную кость, а если встретит на пути другого сына боярского, который бы возвращался в Якутский острог, то возложить сыск на него, самому же без промедления следовать на Колыму, для смены тамошнего приказного Коськи Дуная. — Андрей тихо и безнадежно выругался, покряхтел, поморщился, вскинул на Михея разобиженные глаза. — Так и написано. Сам читал! Тьфу! Мать его еть! Придется в Жиганы плыть.
— Я с тобой не пойду! — твердо объявил Стадухин.
— Кого там! И так помог дай Бог. В долгу перед тобой на всю жизнь… Никитка! — обернувшись к другому стану, окликнул Семенова. — И что вы этого Артюшку под белы ручки не затолкали в какую-нибудь бочку да не вывезли?
— Он сам по себе вышел с Анадыря! — от другого костра ответил бывший беглый казак. — Мы Юшку встречали, Артюшка ему сказал, что оставил вместо себя с прежней наказной от Францбекова охочего Никиту Кондратьева. Про долг перед казной не говорили, мы тому свидетели.
— Тьфу! — опять выругался сын боярский. — Юшка Артюшке, Артюшка Никитке… Сколько лет прошло, как выкреста Францбекова увезли на сыск, все не могут разобраться с его хитрыми делами?
— Наши люди ездили в Москву с казной: Кирюха Коткин с Алешкой Филипповым, — от своего костра отозвался Ерастов. — Сказывали, Францбеков оправдался перед царем.
— Нерусь она и есть нерусь! — опять безнадежно ругнулся Булыгин.
Разговоры у костров притихли. Рассерженно потрескивал огонь, от брошенной на него свежей хвои густыми коромыслами гнулись к северу дымы. Морщась и отстраняясь от жара, Ерастов писал грамоту, в которой докладывал воеводе, что сыск по Артемке Осипову передает сыну боярскому Андрею Булыгину, встретившемуся в устье Алдана. Вскоре его люди оттолкнули коч от берега, выгребли на стрежень, развернулись носом по течению и подняли парус. Ветер был попутным. С Ерастовым ушел в Жиганы сын боярский Андрей Булыгин и два его казака. На стане остались выходцы с Анадыря и Ламы. На другой день оба отряда пошли вверх по реке натоптанным бечевником, ночевали на одних бурлацких станах. Михей шагал, угрюмо глядя под ноги, перемалывая в голове нескончаемые думы, а у немногословного в прежние годы Никиты Семенова то и дело появлялась охота поговорить.
— Расскажи, что за Камнем? — любопытствовал на ходу и у костров.
Его спутники невольно придвигались, чтобы послушать.
— Да ничего хорошего нет! — с горечью отвечал Михей. — Ваше счастье, что не пошли: живы, прощены и богаты.
— Моржи-то есть?
— Иные отмели версты на две черны от зверя.
— А что не промышлял? На Анадырь народ пошел за костью. — Стал рассказывать, как и где нашли коргу, как промышляли моржей.
Стадухин брезгливо морщил нос:
— Поди, весь берег в падали, летом не продыхнуть?
— Кого там! — с горячностью заспорил Никита, когда-то восхищавший его неторопливыми, разумными суждениями. — Моржей и китов добывают только чукчи. Коряки с анаулами иногда добивают передравшихся подранков. Из-за туш между собой воюют. Как только поняли, что нам нужны одни головы, — наступил мир: приходили, брали сало, мясо, шкуры. Песцы, медведи, чайки кишки съедали — все довольны, корга чистая… С Ламы, по вашим сказам, ближе кость возить, а вы отчего-то не промышляли.
— Пороху, свинца едва хватало, чтобы отбиться от коряков и ламутов, — неохотно отвечал Стадухин, не выказывая любопытства к добыче бывших товарищей по походам.
Обе ватажки прибыли в старый Ленский острог с первыми льдинами, поплывшими по выстывшей реке. Здесь они взяли казенных коней, потянули струги и коч гужом — конной тягой. Посыльный из Ленского налегке прискакал в Якутский острог с вестью о выходцах с Ламы и Анадыря. На подходе их уже ждали таможенные и гарнизонные казаки, посадские и гулящие люди. Острог заметно переменился за время странствий Михея Стадухина и Никиты Семенова: расширился, потеснив жавшиеся к нему посадские избы. Часть стен была положена городом. Пока коч и струги крепили к причалу, в первый ряд встречавших протолкнулся дородный торговый человек с почтенной бородой. Он держал за руку мальчонку лет пяти. За ним шла женщина, покрытая дорогим камчатым платком. Глядя на торгового, Михей чуть не открестился, подумав, что ему привиделся покойный отец. Потом увидел глядевшие на него из-под платка большие глаза, казавшиеся подслеповатыми от слез. В них тускло мерцала безысходная горечь. С первого взгляда Арина показалась ему постаревшей: сетка морщин опутала лицо, годы придавили плечи, уже не бросалась в глаза былая стать осанки, но это длилось один миг, в следующий она опять предстала такой, какую встретил на Илиме. Слезы ручьями покатились по ее щекам, когда Михей подошел к ней с повинной головой и встал, скинув шапку.
— Где же тебя носило столько лет? — вздрагивая и захлебываясь, пролепетала она. — Говорил ведь только на два… — И, уткнувшись лицом ему в грудь, зарыдала.
— Так уж вышло! Прости, Христа ради! — прошепелявил он одеревеневшими губами.
— Прости! — с укором отстранилась она и шмыгнула носом. — Сын твой, Нефед! — указала на молодого казака — новика.
Михей не замечал никого, кроме Арины и брата. Тут только перевел глаза, увидел стройного юнца, опоясанного цветным кушаком и саблей. Узнал в его лице свое, родовое, исконное, удивился, что тот уже приверстан в казаки, прикинул, сколько лет было, когда уходил последний раз и сколько скитался, обнял, чувствуя, как щеки под бородой щекотят горячие слезы. Сын отчужденно переминался с ноги на ногу, он помнил отца другим. Михей перешел в объятья брата Герасима. Тот передал мальчонку Арине, притиснул старшего, всхлипнул на ухо. Толпа на причале становилась все гуще. К реке бежал весь посад и свободные от служб острожные жители. Знакомые лица о чем-то спрашивали Михея, он кивал, отвечал невпопад, а видел одни только большие и влажные глаза Арины.
— Да иди ты с Богом! — толкнул его в бок булыгинский казак. — Без тебя сдадим казну и явим твою рухлядь.
Михей краем уха услышал, что народ требует показать ламские меха и анадырский рыбий зуб. Никита Семенов с настороженным лицом переминался возле коча, ожидая таможенного голову. Брат подхватил Михея под руку, повел к дому. Посад был новым, незнакомым. В каком-то месте ноги старшего Стадухина сами двинулись в сторону бывшего дома. Вспомнив, что Тарх говорил про пожар, он остановился, с болью в лице, отыскивая пепелище или пустырь. Герасим потянул за рукав, приговаривая:
— Твой-то не сильно погорел, я его подновил! А мой — дотла. Потом строил новый — пришлось продать. Наше дело торговое, лихое: сегодня богат, завтра гол, — говорил на ходу, смущенно оглаживая рассыпавшуюся по груди бороду.
Михей не понимал, что им за печаль до его избушки, которая с горючей тоской вспоминалась во время холодных и сырых ночевок. Герасим остановился против просторного пятистенка с тесовой двускатной крышей. Из дома вышла молодая женщина с раскосыми глазами, покрытой головой и черными косами по плечам.
— Нефедкина жена! — указал на нее Герасим и стал оправдываться: — Что с того, что молод? Служит. Оклад положен. Слюбились, и мы не стали вразумлять. Сами грешны, — смущенно вздохнул. — Пусть живут!
Молодуха на миг опустила глаза и снова с любопытством вскинула их на свекра. Вошли в дом. Он был новым и чужим. Большая печь, покрытый шелковой скатертью стол. Разве чуть уловимый запах жилья сохранял что-то от прежнего. Положив поклоны на образа в красном углу, Михей протиснулся в его остаток, переделанный в теплый чулан, узнал свою печь, возле которой прожил много счастливых ночей и дней. Все было печальным и жалостливым, корило за долгие скитания по чужбине. Он со вздохом закрыл чулан и одобрительно кивнул брату:
— Добрый дом срубил!
Герасим отчего-то мялся у стола, Арина чего-то смущалась. Михей не сразу догадался, что кому-то надо сесть на хозяйское место в красном углу, а кто здесь гость, кто хозяин, попробуй разберись. Арина по-матерински положила руку на голову мальчонки, которого вел за собой Герасим, приосанилась, взглянула на Михея строже и суше:
— Последний! — сказала со вздохом. — Отбабилась!
Домочадцы застыли, ожидая слова старшего.
— Все равно мой! — воскликнул он с напускным весельем. — Наша кровь!
— Поднял мальчонку на руки, щекотно ткнулся бородой в детскую щеку. — Гераська, садись-ка в хозяйский угол, — приказал и поклонился младшему брату: — Спаси тя Господь! Твоими трудами все живы и здоровы! — Обвел взглядом домашних: все в камчатых рубахах и платьях, легкими волнами струящихся с плеч, в добротной обутке.
— Ты старший и дому хозяин! — вяло запротестовал брат.
Михей взял его под руку, подтолкнул на хозяйское место. Герасим повздыхал, смущенно покрестился, сел. Бессильно опустилась на лавку Арина, не сводя с Михея туманных глаз. Весело зыркая на гостей раскосыми глазами, Нефедкина молодуха забегала от печи к столу. Распахнулась дверь, весело и шумно в дом ввалился рябой и поседевший Михей Стахеев, земляк, именитый приказчик купца царской сотни.
— Будь здоров, пропащий Лазарь! — вскрикнул. — Всей Пинегой встречаем и радуемся. Раненько тебя похоронили и сына в оклад поставили.
Арина со вздохом поднялась с лавки, стала усаживать гостей. Встал навстречу земляку и Михей Стадухин.
— Что белый? — с хмельным задором спросил Стахеев.
— На себя посмотри! — с грустной улыбкой огрызнулся Михей. — Эвон, половина Пинеги перебралась в Якутский острог. А я, грешный, думаю вернуться к отцовым могилам.
— Куда возвращаться? — насмешливо вскрикнул Стахеев, шлепнув ладонями по ляжкам, глаза его сузились, на скулах под сивой бородой заходили желваки. — Знаешь, что там? То-то и оно! А я знаю! — Безнадежно мотнул бородой и, трезвея, обронил: — Еще услышишь, как в Москву поедешь!
— Мне, по грехам, что здесь, что в Москве висеть бы на дыбе, — вздохнул и спохватился. — Что об этом? Гуляй, Пинега! Живой еще!
Сидели гости долго, разошлись поздно. В баню Михей так и не сходил, с тяжелой головой лег на лавку, привычно укрывшись паркой. Проснулся поздно. Открыл глаза. Через оконце струился дневной свет, Арина сидела рядом и, склонившись, смотрела на него спавшего. Лицо ее разгладилось и успокоилось, глаза высохли и высветились.
— Старый стал? — спросил он шепотом.
Она без смущения улыбнулась, легонько вздохнула:
— Красивый, — сказала в голос, не боясь разбудить домашних. — Лучше прежнего.
Встала, перекрестилась на образа, шаркая чунями по тесовому полу, вышла и притворила за собой дверь. Вскоре вернулась с запахом осенней прохлады, струившейся с одежды.
— Баню подтопила. Гераськины рубаху и штаны положила на лавку. Иди! А то смердишь кострами.
Михей сел, свесив ноги. Начинался новый день и — новая жизнь. Он усмехнулся баламутившимся мыслям: седой уже, возле своего острога, в своем доме, а вот ведь опять не знал, как обернется и чем закончится этот день. Он долго и неторопливо парился, выбивая из тела хмельной дух, потом терся щелоком и обливался теплой водой, сидел в предбаннике, остывая, попивая отвар шиповника, прислушивался к полузабытым звукам посада. После утренних молитв и завтрака стал беспокойно поглядывать в оконце, ожидая посыльного. Вынужденная тишина в доме напрягалась, грозя прорваться чем-то буйным и бессмысленным. Посыльного не было. Устав ждать и претерпевать гнетущую тишину, Михей поднялся, положил на образа три поклона, мысленно простился с братом, сыном, поцеловал в пухлую щеку невестку, подхватил на руки и подбросил к потолку племянника, записанного его сыном. Герасим удивленно пробубнил:
— Со вчерашнего присматриваюсь — Якунька-то на тебя больше походит, чем на меня.
— Одна кровь! — ответил Михей, поклонился Арине как чужой жене и пошел в острог.
К вечеру он не вернулся, но в дом с радостной вестью вбежал Нефедка, гаркнул с порога:
— Батьку в Москву отправляют! Дождется Булыгина из Жиган и пойдет с костяной и собольей казной. И Васька Бугор, Никитка Семенов, Евсейка Павлов — все с ним. Даже торговый, Костромин.
— Опять на год! — слезно всхлипнула Арина вместо того, чтобы радоваться.
— От царя без награды не возвращаются! — сверкая глазами, попытался оправдать отца сын.
Герасим стоял, прислонившись дюжим плечом к выстывшей печи, смотрел под ноги и накручивал на палец прядь бороды. После разбора, расспроса и воеводской чарки в съезжей избе старшего Стадухина зазвал к себе Бугор.
— Смотри, как живу! — хвастал или жаловался на пути к дому. — С малолетства скитался по чужим углам, удивлялся: как люди умудряются свой дом построить и на одном месте жить. — Он тяжело дышал, выгибался в пояснице, будто был мучим болью. — Я же зимовий рубил без счета, Енисейский, Братский, Верхоленский, Ленский, Якутский строил, а своей избы не имел. Под старость Бог вразумил… И наказал по грехам…
Он рассказал Михею печаль-кручину, как еще на Омолоне заметил, что нет прежней радости от вина, а похмелье муторное, непоправимое. Здесь, в Якутском, стало того хуже.
— От одной чарки сердце в ушах колотится, — пожаловался. — Ни спать, ни плясать. А деньги есть. От воеводской чарки не посмел отказаться — задыхаюсь теперь!
Для якутки, отбитой у коряков, он купил у казны избенку в посаде, оказалась пропавшего пятидесятника Ретькина, отобранная по царскому указу. В нем жила его бывшая женка-тунгуска. «Не прогоняй!» — попросила Василия.
— Что гнать, если живу просторно? Моя якутка — мирная, жалостливая: не противилась, чтобы и та жила. Между служб я избу перебрал, переделал, чтобы руки занять, о плохом не думать… Осталось печку сложить, да это уже другим летом: сейчас глина мерзлая. Так перезимуем… Мишка! — воскликнул с удивлением в лице. — С женками-то жить легче и веселей: что на одного дрова жечь, что на всех — один труд. А тебе кашу сварят, рыбу испекут. Обстиран, накормлен. Якутка коровье масло ест ложками и не дрищет… Тунгуска спит с собаками, псиной воняет. Все равно хорошо! А попы грозят лоб разбить! Магометанином ругают!
Василий уже знал и тяжело переживал, что его брат Илейка, не пошедший с ним в бега, убит в низовьях Амура. По Васькиному разумению тем и наказал его Господь, что не дал залить горе вином, принудил помнить о том ежечасно и мучиться.
Дом Бугра с плоской крышей, покрытой дерном, ничем не отличался от промыслового зимовья: отапливался очагом, сложенным из речных камней посередине жилья, из-под черного от сажи потолка дым уходил на две стороны в волоковые окна, земляной пол был покрыт лапником и сухой травой. Две широких лавки вдоль стен, стол в углу, кошма возле очага. От дыма сердито гудели разбуженные мухи. Якутка со слезившимися щелками глаз непрестанно курила короткую трубку, подсыпая в табак стружки, громко и надсадно кашляла. Зыркнув запавшими глазами в сторону гостя, одна из женщин налила воды в котел, повесила над огнем, другая принесла четыре рыбины и бросила в него головами вниз. Торчавшие хвосты стали чернеть и загибаться. Стадухин опустился на лавку, втянул носом привычные запахи зимовий, и ночлег в доме брата вспомнился ему как прерывистый волчий сон у костра. Но он недолго просидел так, вспоминая душевное тепло родни с блуждавшей улыбкой в бороде. Дверь в избу распахнулась, вошла Арина с головой, плотно обвязанной шелковым платком, окинула взглядом людей в сумраке и нависшем дыму, заметила Михея, кинулась к нему, не обращая внимания на хозяев.
— Чего удумал? — вскрикнула рассерженно, с едва удерживаемой слезой. — Или у тебя своего дома нет?
Пока Михей соображал, что ответить и как, она плюхнулась на лавку, ткнулась лбом ему в грудь и зарыдала.
— Жена! — с пониманием кивнул Василий. Поджав под себя ноги, он сидел на кошме возле огня и глядел на обуглившиеся рыбьи хвосты, торчавшие из котла.
— Неловко как-то, — пробормотал Михей. — И мне, и Гераське… Что уж, живите с Богом! Моя вина, бросил тебя. Думал, найду вольную землю за Камнем, заберу… Не нашел!
— И хорошо, что не нашел, — она хлюпнула носом, отрываясь от его груди. — Утешился, поди, больше искать нечего? — Отпрянула и решительно потянула за собой: — Пойдем домой!
Крепко сжимая его руку, обвисая на ней, она повела Михея. Встречные знакомые посадские люди ее не смущали. Здешнеие нравы сильно разнились с суровыми правилами Руси, где верные жены ждали мужей десятилетиями и почитались честные вдовы, не познавшие иных мужчин, кроме богоданного мужа. «Как вести себя? — лихорадочно соображал Михей. — Что сказать Гераське?»
— Меня ведь в Москву отправляют, — попытался вразумить жену.
— Когда? — насторожилась она.
— По зимнику!
— Не скоро еще! — отмахнулась, как от пустяка. — Нефедка сказал, без приставов, с казной!
— Все равно до лета!.. И грех на мне: я ведь доброй волей отдал тебя брату.
— С Москвы зимой, бывает, за полгода возвращаются! — о чем-то сосредоточенно думая, обронила она, никак не отозвавшись на признание. Видно, знала о нем от Герасима.
Не перекинувшись словом о будущем, они уже понимали, что возвращаются не для временного ночлега. Как на грех, к вечеру собралась вся семья. По поздней осени темнело рано. Огня в доме не зажигали, сумеречничали в ожидании ночи. Герасим с Нефедом сидели на лавке возле прибранного стола, о чем-то беседовали. В полутьме вечера лица их были неясны. Якунька забрался на колени к отцу. Поскрипывали полати. Молодая жена, ползая на коленках, стелила там постель. При всем внешнем покое в доме витал дух ожидания грозы. Арина и ворвалась в него, как молния. Не скинув верхней одежды, рухнула Герасиму в ноги, обхватила колени:
— Прости меня, старую похотливую дуру! Ничего с собой поделать не могу: не идет из головы и сердца вернувшийся муж.
Михей рыкнул, крякнул, сглотнул слезу и в следующий миг тоже опустился на колени перед младшим братом, вконец смутив его. Герасим вскочил.
— Чего это вы? — вскрикнул. — Ополоумели или что? Ладно уж! Чего там! — Громко всхлипнул и взревел, тоже заливаясь слезами.
Завыла Арина, ручьями потекли слезы по щекам Михея, громко заревела молодуха на полатях, приглушенно заголосили сыновья. Дом рыдал, облегчаясь от тяготившего всех предчувствия беды. Утешившись, Нефедка влез на полати. Арина, не находя себе места, соскользнула с печи на лавку, с лавки перебралась на печь, к Якуньке и Герасиму. Опять слезла на пол, где на сенном матрасе устроился Михей, приткнулась к его бороде мокрой щекой и влезла под одеяло. К полуночи, так и не засветив окна, дом умиротворенно уснул.
По заведенному порядку первыми поднимались женщины. Михей проснулся рядом с Ариной, раньше ее, чувствуя себя отдохнувшим. Они не посмели уединиться, но провели ночь обнявшись. Старшему Стадухину хватило и того, чтобы ощутить, как душа и тело напитываются живым теплом, счастливым покоем и тихой радостью обыденной жизни. С удивлением он отметил про себя, что ничего не видит и не чувствует дальше стен. Слышал, как в ночи ворочался с боку на бок, вздыхал Герасим, сонно жалел его, покаянно понимал, что если вчера был один мучим вопросом, как жить, то теперь все домочадцы боятся следующего дня и утра, хоть не просыпайся! Зевая, сползла с нар Нефедкина молодуха, бросила растопку в печь, поворошила выстывшие угли, пузырями надувая щеки, раздула огонь. Душисто запахло вспыхнувшей берестой. Она тихо вышла в сени, затем на улицу. По тесовому полу потек запах студеного осеннего утра: выстывшей земли и льда. Устыдившись долгого лежания, Арина вздохнула раз, другой и отлепилась от Михея.
— Что венчанного-то не приласкала? — с грубоватой принужденной насмешкой упрекнул ее Герасим.
Голос его был бодрым, хотя наверняка всю ночь не сомкнул глаз от дум. Зевая, откликнулся с нар Нефед:
— А чтобы ты не слышал!
— Я бы уши заткнул! Михейка, после двенадцати-то лет, вдруг бы помер под боком у венчанной жены!
— Живой! — отозвался старший.
Арина встала на лавку, заглянула на печь, с молчаливой благодарностью потрепала разметавшиеся волосы Герасима, плотней укрыла спавшего сына под его боком. Наступивший день перестал пугать мерещившимися страхами. После многих лет одиночества Михей восчувствовал полузабытое чувство крепости дома и силы семьи.
Тихо и счастливо он прожил в посаде до тех пор, когда окреп лед на реке и был проложен санный путь. На службы его не звали, жалованья не платили. Письменный голова не мог найти его в прежних списках гарнизона, отшучивался, что старшего Стадухина похоронили при прежних воеводах, в его выбылый оклад приверстали другого. О том, что воевода Пушкин отправлял Михея десятником, тоже не было записей. По всей письменной волоките выходило, что старому казаку надо либо ехать в Москву просить у царя должность, либо записываться в гулящие люди.
Вечерами в доме Стадухиных много думали и говорили, как жить дальше? Сообща решили, что попутно с Москвой Михей съездит на отчину, все вызнает и если можно всей семьей вернуться, то будет проситься на Русь. Тарх с Нефедкой наймут в свои оклады вольных людей, все приедут в родовую деревню, к могилам предков, выкупят отцовский дом и заживут по старине, как деды и прадеды. Вернуться можно было только всем родом, не иначе: как корявое, скрученное дерево на краю тундры сотнями корешков держится за ледяную землю, так здешние Стадухины уже срослись с ней многими связями, разодрать и разделить которые невозможно.
Из Жиган вернулся сын боярский Андрей Булыгин, сдал дела, недолго погулял, обоз с казенными мехами и костью под его началом отправился к Руси трудным, но коротким полуночным путем, нахоженным мангазейскими промышленными и казаками: по Вилюю на Туруханский острог и Тобольский город.
Вернулся Михей много раньше, чем его ждали. Уезжал в кафтане обшитом соболями, в собольей шапке и поддевке, приехал в сукне и волчьей шубе, но с атаманской булавой за кушаком, с мешком подарков для родни и оттаявшими глазами. Все бывшие при остроге пинежцы и сослуживцы не смогли втиснуться в стадухинский дом. Любители дармового угощения вскоре схлынули, остались любопытные до новостей. Они носились от Стадухиных в кабак, где скромно, без размаха, гуляли вернувшиеся из поездки.
— Рты вам в Москве позашивали, что ли? — возмущались, слушая их краткие ответы.
— Говорить не о чем! — опуская глаза, пожимал плечами Михей. — На Руси были поветрия и великий мор. Иные деревни целиком вымерли, другие поредели наполовину. А нынче смута: народ говорит — Бог наказал за то, что попы спорят, как креститься, в какую сторону вкруг алтаря ходить, каким крестам молиться, какие им шапки носить. Царь издал указ о жестком сыске беглых. Соловецкий монастырь заперся от него и патриарха Никона, молится по-старому. Народ власти противится, и не только народ, даже семьи боярского чина. Непокорных бьют, в монастыри и тюрьмы запирают, сжигают целыми деревнями. Иные сами себя жгут, запершись в церквях. Все всеми недовольны, против всех злы и ждут конца света, который, говорят, по числу Зверя — одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой от Рождества Христова. Пять лет осталось, поглядим, что будет. Нам, сибирцам, того не понять, как молились, так и молимся.
За зиму, которую Михей провел в разъездах, Герасим высмотрел казачку якутского вида и жил с ней невенчанный. Он предпочитал всем подвигам благополучие, уют и покой души. Оглядывая подновленный дом, Михей так остро чувствовал его желание сохранить семью хотя бы такой, какая есть, что в горле у него першило, а на глазах наворачивались слезы.
— Ты у нас самый правильный! — хвалил младшего.
Разрядное атаманское жалованье, которым царь наделил старшего Стадухина, было втрое против казачьего. Он получил в Москве плату за двенадцать лет дальних служб, был небеден, но возвращаться на Русь раздумал, среди домашних признался приглушенным голосом:
— Там жить, — все равно, что сидеть у костра на бочке с порохом! Все всем недовольны, по ямам и избам тайком ругают царя и патриарха, будто окружили себя обрезанными жидами и перекрещенными латинянами, хотят все вместе извести русский народ.
В отсутствие старшего Стадухина прежнего воеводу сменил новый стольник Иван Федорович Голенищев-Кутузов Большой. Как всегда при смене власти, какое-то время в остроге была неразбериха, в которую Михей не вникал, жил в семье, ожидая, когда позовут. В то самое время по церквям стали читать указ церковного Собора о лишении Никона патриаршего сана. Молчание вернувшихся из Москвы казаков стало обрастать сибирскими домыслами.
Наконец Стадухина позвали. К его счастью, ближних атаманских служб не было. После поездки в Москву ему сильно не хотелось оставаться при остроге, не хотелось и дальних служб. Его отправили приказным на Олекму. В пути из Москвы он много вызнал об амурских делах Ерофея Хабарова и Онуфрия Степанова. Ерофей служил на Лене в чине сына боярского, метался между службами и торговыми делами, по государеву указу пытался расплатиться с непосильными долгами, в которых увяз после похода. Его верного и стойкого казачьего десятника Онуфрия, убили на Амуре и охочие с самовольно бежавшими туда служилыми возвращались на Лену. Если прежде Михей боялся службы на Олекме, оттого что по той реке беглецы шли в Дауры и среди них могли быть старые товарищи, которых надобно ловить и отправлять на воеводский суд, то после гибели десятника-атамана Степанова на службу в Даурах набирали людей по жребию и отправляли неволей.
Соболь по Олекме был выбит. Три смены приказных начиная с Курбата Иванова оказались в воеводской опале за то, что не собрали обещанного ясака. «Что ж, Олекма так Олекма, — подумал Михей. — Не так близко, чтобы быть на глазах у начальствующих, и не так далеко, чтобы страшиться везти Арину с Якунькой».
В то лето, когда Андрей Булыгин и Михайла Стадухин возвращались на Лену из Охотского острожка, с полуденной стороны Великого Камня, Семен Дежнев на Анадыре наконец-то дождался перемены. Юша Селиверстов и Данила Филиппов привели к нему отряд из тридцати промышленных и пяти служилых людей, среди которых был колымский первопроходец Пашка Левонтьев. Вблизи зимовий с посохом в руке вперед вышел сын боярский Курбат Иванов.
— Хлеб идет! — завидев приближавшийся караван, радостно закричали по избам анадырские жители.
Из дежневских, стадухинских, селиверстовских зимовий выбегали полуодетые мужчины и женщины, возле них приплясывали босоногие детишки, которым, казалось, числа нет. Семен Дежнев с Никитой Кондратьевым, сменившим Артема Осипова, накинули парки, плечом к плечу пошли встречать приближавшийся отряд. Издали узнав Селиверстова, Кондратьев замахал руками, бросил на Дежнева небрежный взгляд и вырвался вперед: как Стадухин, а потом Селиверстов и Осипов, он был в разладе с людьми дежневского зимовья. И вдруг остановился, удивившись, что Юша наравне со всеми тянет нарты, а на идущем впереди шапка сына боярского. Кондратьев смутился, приотстал. Толпа зимовейщиков обогнала его. Семен Дежнев с радостью сдал Курбату свои избы и амбары, суда и одного аманата. У Никиты было семеро заложников. Он тоже сдал все, что было под его началом. Новый приказный без отнекиванья принял остатки добра Бессона Астафьева, которые никто не желал брать на себя. Обветшавшие, они лежали в амбаре, напоминая о давнем.
Первым делом Курбат Афанасьев Иванов покончил с двоевластием: отобрал у Дежнева наказную память Власьева, данную Моторе, у Кондратьева — указ Францбекова, присланный для Стадухина и запретил всякие вечевые решения, объявив, что советы слушает охотно, но решения принимает сам, по порядку, установленному государем и его верными боярами. С последними из промышленных людей, забредших в эти места во времена Стадухина и Моторы — Томилкой Елфимовым, Титом Семеновым, Тренькой Подберезником, Иваном Казанцем, с последним беглым ленским казаком Артемом Солдатом — Дежнев стал собираться на Лену. Из первых русских насельников Анадыря там остался один только Фома Пермяк со своей чукчанкой Иттень и детьми, которых она ему родила. Курбат привел с собой русскую жену и одного из сыновей. Другой умер в пути. Приняв зимовья, новый приказный пересчитал женщин: юкагирок, корячек, чукчанок, их оказалось двадцать шесть: в одиночку никто из здешних насельников не жил. Многие женки были крещены без попа самими промышленными, ими же венчаны ради благополучия потомства. Детей Курбат считать не стал.
— Ты лучше нас знаешь Закон Божий, можешь перекрестить! — посмеялся Дежнев, заметив, как Пашка разглядывает струганые кресты на женщинах и детях.
Левонтьев сильно переменился за годы, которые они не виделись: постарел, уже не ровнял бороды и не подрезал остатки волос. Они висели по его шее свалявшимися прядями. Некогда гладкая, холеная и блестящая лысина была обезображена шрамом.
— Чем я лучше? — он вскинул на Семейку глаза без былой самоуверенной ясности.
— Я думал, станешь попом! — сквозь нависшую челку с сочувствием взглянул на него товарищ по давним походам. — Всех нас сильно переменило прожитое.
— Одно дело спорить с попом, другое — быть им! — перекрестился Пашка.
— Это не по мне! И Книгу я продал Курбатке, чтобы не кабалиться в поход. Стал плохо видеть, буквы расплываются. Что ей лежать? Пусть другие читают, ума набираются.
— Тогда возьми мою женку, — в смех предложил Дежнев. — Послушная, добрая, собой хороша! Чего одному маяться?
— Возьму! — неожиданно согласился бывший обличитель блуда и кровосмешения.
Семен удивленно мотнул головой, стряхивая челку, пристально взглянул на товарища моложавыми глазами.
Оленные ходынцы, по уговору и за плату железом, всю зиму челночили моржовые клыки с верховьев Анадыря в верховья Анюя. А их было больше трехсот пудов. Весной, когда отряд Андрея Булыгина, сопровождавший казну Якутского воеводства, возвращался из Москвы, Дежнев и Солдат в Нижнеколымском остроге хлопотали о рыбьем зубе. К их счастью на приказе сидел дежневский товарищ по алазейским службам Иван Ерастов. Он принял Колыму у сына боярского Константина Дуная с казаком Григорием Татариновым. Ерастов ласково встретил Семена со спутниками, помог им отправить на Лену полторы сотни пудов моржовой кости на коче торгового человека Емельяна Ворыпаева. Но это была только половина груза: большего Емельян взять не мог. Перемены Ерастову не было, и он вынужденно зазимовал. С ним остались на зиму Дежнев с Солдатом, Иван Казанец и промышленные люди. При Нижнем также служил и зимовал казак Иван Пинега. Он и Солдат были последними из ленских беглецов, и оба хотели вернуться в Якутский острог. Здесь все еще служил опальный старик Дружинка Чистяков, подобранный беглецами в Столбовом зимовье. Он нес службы по разным местам то за жалованье, то не в прием, по-стариковски стараясь быть хоть чем-то полезным, и о возвращении не думал.
На Колыме Дежнев узнал, что его венчанная жена Абаканда умерла. Не любя суеты и спешки, он высмотрел вдову кузнеца Ивана Арбутова — крещеную якутку Кантемиру и при остроге безбедно дождался с ней лета.
Еще до вскрытия рек на перемену Ивану Ерастову пришел на лыжах с Алазеи сын боярский Федька Катаев. Спутник Стадухина и Дежнева по оймяконскому походу, бывший колымский торговый и бывший якутский целовальник, при воеводе Акинфове снова поверстался в казаки и даже вышел в средний чин. С тех пор как царским указом отменили запрет на торговлю служилым людям, воля ему стала ненадобна. Недоброжелатели злословили, что с братом Иваном он так выгодно торговал воеводским товаром, что получил выбылый оклад и чин. Ерастов сдал ему остроги, государевы зимовья, суда, аманатов, казенное добро и получил от нового приказного отпускную грамоту. В его распоряжении был казенный коч, он загрузил его остатками анадырской моржовой кости, взял на борт Дежнева с Кантемирой, Солдата, Ивана Казанца и с первыми разводьями двинулся в обратную сторону. Одним караваном с ним уходили торговые суда. На них возвращались на Лену целовальники Ерастова, с которыми он часто ссорился, и беглый ленский казак Иван Пинега. Плавание было трудным, в устье Индигирки коч Ерастова затерло льдами. Торговые люди и целовальники, шедшие одним караваном, бросили бывшего приказного, отказав ему в помощи. Глядя на удалявшиеся суда, Артем Солдат лаял бывшего подельника по побегу Ивана Пинегу, ничего другого попавшие в беду сделать не могли. Но людям Ерастова и Дежнева удалось прорубиться сквозь льды и продолжить путь. К зиме они добрались до Жиганского острога и привезли туда тело его первостроителя Ивана Казанца. Он умер в пути.
С богатой добычей и беспечальной вдовой Дежнев снова зазимовал и только другим летом прибыл в Якутск. Приострожный люд уже знал, с каким грузом возвращается старый казак-половинщик после двадцати лет скитаний: кроме государевой десятины он вез сто пятьдесят шесть пудов семнадцать гривен кости да в прошлом году переслал почти столько же. С таким богатством в Якутский острог не возвращался никто. Но не вся кость принадлежала Дежневу: пятьдесят восемь пудов он вез для родственников погибших товарищей, его личная доля была взвешена и вытянула на тридцать один пуд двадцать девять гривенок. Доля Артема Солдата — на двадцать семь пудов. Воевода скупил всю кость в казну, но государевых и занятых у торговых людей денег не хватило, чтобы расплатиться с анадырцами, поэтому Семен Дежнев не смог вернуть долги по кабалам и сделать обещанный вклад в монастырь. Заимодавцы же требовали денег с богатого казака. Семен просил выплатить половинное жалованье за двадцать лет, но такие выплаты решались только Сибирским приказом или самим царем. Воевода защитил Семена от правежа по кабалам и вместо полной расплаты обещал поездку в Москву с казной.
Михей Стадухин досрочно и с облегчением души сдал олекминские дела по присланному воеводскому указу, погрузил в струг ясачную казну, жену с Якунькой, житейский скарб, немногие нажитые на службе вещи и с ранней водой сплыл в Якутский острог. Главной новостью для него была та, что его сын Нефед с женкой без отцовского благословения уплыл на колымскую службу к дядьке Тарху.
Герасим по-прежнему жил в посаде, торговал и промышлял рыбной ловлей, он встретил родственников с большой радостью и не спускал с рук Якуньку. За время разлуки брат переменил прежнюю казачку на такую же болдырку, чисто говорившую по-русски. Бездетная, она дергалась, строптиво фыркала и язвила, примечая, что мальчишка называет мужа то отцом, то дядей: полукровные девки скандальны и заносчивы. Герасим за праздничным столом рассказывал про вернувшегося земляка Дежнева, жаловался на торговые дела. Олекминский атаман делился с братом своими заботами: явленный им посул со служб на Олекме удалось собрать с большим трудом. В следующем году такого ясака взять невозможно: промыслы истощились, пушного зверя не стало.
— А ясак требуют все строже: кабались, но отдай, что обещал! Что делать, не знаю! — Поднялся из-за стола, положил на образа три поклона и вспомнил про Дежнева: — Надо повидаться! Земляк все-таки. Не зазнался ли, как стал богат?
— Чем зазнаваться? — хохотнул Герасим, не спуская с колен Якуньку. — Что получил от воеводы, то отдал по кабале. Что сам давал в долг Анкудинову и Заборцеву — все пропало… Ох, и дурь эти ваши походы! — Метнул на старшего насмешливый взгляд.
— Дурь, она тоже от Господа, — пробормотал Михей, опустив глаза. — Или по Его попустительству.
Он часто приглядывался к младшему, который после оймяконского похода далеко от острога не хаживал, жил в тепле, сытости и не мог понять, зачем люди рвутся в дальние края, принимают муки, а если возвращаются с богатством, то пропивают его в печали по чему-то несбывшемуся. В бороде Герасима Михей приметил первый иней. Спорить с матерым мужем, объяснять ему, чего сам до конца не понял, не хотел, спросил только:
— Неужто Семейка не гулял по возвращении?
— Разочаровал голытьбу! — рассмеялся Герасим, оглаживая русую бороду. — В кабак не хаживал, никого не поил, угощения для расспросов не принимал. Да и с чего бы? Не вступись за него воевода — встал бы на правеж… Ко мне заходил ради землячества: один и с Кантемиркой. Сошлись, живут тихонько. Похоже, она брюхата.
— Крещеная якутка? — Вскинул глаза Михей.
Герасим кивнул.
— Вон что! А хотел на Русь вернуться! Меха и деньги копил. Живет где?
— Получил клеть в остроге.
Михей заспешил, схватившись за шапку, желание поговорить с земляком, с которым не ладил в походах, давно одолевало его. Нужда и гнус гнали из тайги промысловые ватаги. И те, что кое-что добыли, и те, что промотались, шныряли возле острога с глазами, алчущими радостей жизни. По Лене сплывали новички из служилых, промышленных, беглых, толклись в приострожной колготне с восторженными лицами. Надеясь на легкую поживу, возле них крутились ярыжки. Гостиный двор, кабак, мыльня, дома посадских людей были полны нахлынувшими людьми. Одни продавали и наживались, другие веселились и проматывали добытое. Острожные ворота и калитка были заперты. На проездной башне маячил караульный, тоскливо озирая суетящийся народ. Был светлый вечер с ясным солнцем на долгом закате. Стадухин с атаманской булавой за кушаком, с саблей на боку, широко расставив ноги, встал перед въездными воротами.
— Семейка Дежнев Анадырец в остроге ли? — спросил караульного, задрав голову.
— Здесь! У себя, — ответил тот и, свесившись на другую сторону башни, окликнул воротника.
Калитка распахнулась, Стадухин, скинув шапку, перекрестившись на Спаса, вошел. За его спиной клацнул закладной брус.
— Покажи, где живет! — приказал воротнику.
Тот указал на ряд врубленных в стену тесных казачьих изб. Подсказал, какая дверь. Михей постоял перед ней, пытаясь почувствовать, что там, и ничего не понял. Суетная поездка в Москву и год, проведенный с женой на Олекме, притупили чувства. Он постучал. Дверь открыла якутка средних лет, в русском платье, покрытая камчатым платком. Узкие глаза настороженно зыркнули на атамана.
— Не узнаешь? Твой покойный муж ковал мне якорь. Семейка у себя ли? — спросил. — Мы с ним земляки.
Якутка молча отступила от двери, приглашая войти. Обычная тесная острожная жилуха была наполовину занята печкой, в углу, между ней и бревенчатой стеной, с лавки торчали босые ступни хозяина.
— Семейка за любимым делом, — посмеиваясь, проворчал Стадухин и положил поясные поклоны на образа, высветленные тлевшей лампадой. — Смотрит в потолок и чешет брюхо!
Дежнев, кряхтя и зевая, выбрался из-за печи, смахнул с глаз волосы, удивленно замигал, уставившись на земляка.
— Не узнаешь? — усмехнулся атаман.
— Мишка, что ли? Слыхал, что вернулся с Олекмы, не думал, что зайдешь, — пробормотал, обуваясь в чирки, по-якутски расшитые бисером.
Кантемира молча глядела на мужа, ожидая распоряжений. Семейка гыркнул по-якутски, она неспешно достала котел и наполнила его водой.
— Решил зайти, — буркнул Стадухин, глядя в угол. — Соскучился по земляку и сослуживцу.
— И я тебя часто вспоминал, совестью маялся, что не сказал про коргу, с которой нас с Федоткой и Гераськой чукчи выбили. А ту, с которой кость привез, мы после тебя нашли. Бог дал. — Наконец он обулся, опоясался и встал в рост: — Ну, здоров будь, Михайла Васильевич! Знаю, в атаманы вышел. Так и должно быть.
— Почему? — Обнявшись с земляком, Стадухин присел на край лавки. Недолго помолчав, спросил: — Помнишь, что пророчил пропойца перед Оймяконом?
Дежнев беззвучно рассмеялся, задрав побелевшую рыжеватую бороду.
— Зря смеешься. Ни в ком не ошибся. Только мы с тобой остались на одну счастливую судьбу.
— Четверо! — поправил земляка Дежнев, выдавая, что помнит пророчества. — Курбатка! Я ему Анадырь сдал. И Ярко Хабаров жив, слава Богу.
— Если помнишь Курбатку и Ярка, то помнишь, что им было сказано. Я про нас с тобой. Чудно! Мне атаманство, тебе слава и богатство. На двоих одну судьбу пророчил, что ли?
— Какое там богатство? — снова беззаботно рассмеялся Семен. — Столько раз спасался чудом, притом, от страха, чего только не обещал Господу… Здесь в Спасский сделал вклад и едва не встал на правеж. Если поеду на Русь — Чудову монастырю должен по обету. Вот и все богатство. Разве царь велит выплатить жалованье за двадцать лет! — Смешливо сощурился, глядя на Стадухина сквозь волосы с густой проседью.
— Сказано было, тот один, кому выпадет счастье, — помрет на Руси, а я, грешный, от нее отрекся, — виновато поморщился Стадухин. — К народу своему, к отцам и щурам уже не приложусь, — пробормотал невнятно.
Семен смешливо сморщил иссеченное стужей и ветрами лицо.
— Поделим как-нибудь судьбу, что попусту переживать. Какой из меня атаман? Одна правая рука цела, все остальное в ранах, как у драчливого пса. И на Анадыре были одни склоки от моего атаманства. Ты все правильно делал. Зря я тебе перечил. Хотелось ладить с людьми по русской старине, править соборно, не как ты, а получались раздоры. Меняется народишко, уже не тот, что встарь. Гераська говорил — ты маешься, что вывел с Ламы меньше половины связчиков. Если бы я ушел на Пенжину, как хотел, — все бы погибли. Бог спас через тебя, не допустил.
Семен кликнул жену, поторопив, чтобы накрыла стол.
— Вино пьешь? — спросил. — Помню, не сильно-то любил, ругался, когда квасили ягоды.
— Нынче хуже прежнего, — рассеянно признался Стадухин, все еще думая о своем. — От запаха воротит. Не дал Бог радости пития.
— Да уж, — мечтательно осклабился Дежнев. — Там, бывало, первое дело гостя щербой угостить. Водицы вскипятил, рыбки настрогал — и готова ушица. Со стужи-то горячей жирной юшки?! — крякнул от приятных воспоминаний. — А тут нынче забыл, как быть голодным, не знаю, чем гостя приветить? Гляжу на хлеб — лежит на столе, а я его не хочу! Ну и жизнь! — не то восхитился, не то пожаловался.
В сказанном Стадухин уловил скрытую тоску, понятную только им, старым, бывалым, казакам.
— Это там, — кивнул на восход, — ломоть хлеба и кружка кваса в великую радость… Я поговорить пришел да прощения испросить перед Святой Троицей. Сердился на тебя, бывало.
— Я не злопамятный, — искренне рассмеялся Дежнев. — Сам грешен, на тебя серчал, перечил, потом много думал, что пока ты был с нами, редко кого убивали. Разве тех десятерых в низовьях Анадыря?! Да и то по нашей вине: не уйди мы на Пенжину, не отправил бы к анаулам одного казака. А как ты ушел, так нас часто кровью умывали.
Стадухин молча покивал.
— Чудно! — фыркнул в бороду, не в силах рассеять навязчивые мысли. — Одну судьбу на двоих девки не прядут, хоть и незрячие. Вот же стервы! — Шумно вздохнул, собираясь подняться, вспомнил, что еще хотел узнать, и со смущением посветлел лицом. — Что там на Колыме?
— При мне все на Анадырь рвались, за легким богатством, — стал обстоятельно рассказывать Дежнев. — Чтобы зиму брюхо чесать, как ты меня корил! — Весело шевельнул рыжеватыми усами, показывая щербатые желтые зубы. — Казака Третьяка Алексеева помнишь? Мы с Оймякона плыли, а он возвращался с устья Индигирки с Федькой Чукичевым?
Стадухин кивнул.
— Ходил с Блудной на Гижигу, взял два коряцких острога.
— Милостив Бог! — Стадухин метнул быстрый взгляд на образа. — Про Ивашку Баранова я слыхал.
— Соболя по Колыме выбили, но рыбы, мясного зверя много, мука дешевая: два соболя за пуд.
— Вот ведь! — лицо Стадухина опять помрачнело. — На Олекминском приказе Бог спас от правежа: вызвали раньше срока… А ты если будешь в Москве, хорошо подумай, захочешь ли остаться на Руси. Если нет — проси атаманское жалованье.
— Да мне еще белый свет в радость и женка брюхата! — беспечально перекрестился Дежнев. — Даст Бог пожить — не откажусь!
— Поживи, если не насытился! — одобрил Стадухин. — Не такие уж мы и старые, разве поизносились в походах. А так что не жить? — Чтобы не обидеть хозяина и домового, смахнул со стола кусок пирога с капустой, пожевал, кивком поблагодарил Кантемиру. — Плохо, что соболь ушел. Но все равно буду туда проситься: здесь тошно, на Олекме плохо. Если не увидимся на этом свете, хоть расстанемся мирно, что ли?
Шевеля бородой, он хотел уже откланяться, но дверь распахнулась, вошел белый как лунь Артем Солдат, тощий и сутуловатый, с удивлением уставился на Стадухина.
— Что, думал, помер? — насмешливо спросил атаман.
— Слыхал, что живой! — беззубо прошамкал Солдат.
— Я тоже слыхал, что ты богат!
— Кого там? — хмурясь, засопел казак. — Старую кабалу в Жиганах выкупил, немного осталось.
— На Русь будешь проситься?
— Не поеду! Женюсь, осяду в Якутском или где ближе к Ангаре. Дом срублю. — Осклабившись, Артем стал обстоятельно рассказывать о замыслах.
— Где тебя девки востроклювые целовали? — спросил Стадухин, указывая глазами на рубцы среди морщин.
— Так вот! Как ты ушел, анаульцы бунтовали, потом ходынцы! — обидчиво сопя и бросая колючие взгляды на Дежнева, пробубнил Солдат. — С коряками воевали за коргу! Многих наших побили до смерти, а мы с Семейкой хоть перераненные, но живые.
— Слава Богу! — посочувствовал атаман. — Хорошо, что со мной не пошел. Нынче богат и жених хоть куда: ни крив, ни хром. — Дай Бог бескровных служб! — пожелал бывшим сослуживцам.
— И тебе так же! — ответили казаки.
— Богу бы в уши! — буркнул в бороду Стадухин, откланялся и вышел.
Вскоре он узнал, что его ранняя перемена на Олекминском приказе была связана с гневом воеводы, стольника Ивана Федоровича Голенищева-Кутузова. Он получил жалобную челобитную от колымских ясачных людей, был взбешен тамошними беспорядками и созвал для сыска приказных, целовальников, в разное время служивших на Колыме. Стадухин сдал таможенному голове привезенную олекминскую казну и к назначенному сроку явился в съезжую избу. У ее крыльца пугливо толпились казаки, атаманы, дети боярские и целовальники. Иван Ерастов, сдавший Колымский приказ тамошнему первопроходцу, сыну боярскому Федьке Федорову Катаеву, был суетлив и бледен. Все знали, чем разгневан воевода. После многих милостей за доставку моржовой кости, надежд на поездку в Москву последний из вернувшихся приказных готовился принять первый воеводский гнев. Здесь были его колымские целовальники, приведенные приставами, Иван Денисов и Степан Журливый. Встретившись возле избы, они с неприязнью уставились друг на друга. К Стадухину подскочил пятидесятник Григорий Татаринов, с которым он давно не виделся. Среди хмурых и настороженных людей Гришка выделялся бравым видом и непомерной веселостью, перекинулся обыденными словами, отскочил к толпе тихо споривших казаков. Татаринов служил на Алазейском и Колымском приказах с сыном боярским Константином Дунаем, но Дуная среди толпившихся не было. К Стадухину тихо подошел товарищ по ламской службе и поездке в Москву Андрей Булыгин, отвел его в сторону.
— Нам бояться нечего! — буркнул на ухо. — Буду проситься на Колымский приказ. — Пристально взглянул в глаза Стадухина. — Душа вещует — смогу навести там порядок. — Помолчал, не сводя с Михея пытливого взгляда, и признался: — Если ты поможешь, как на Охоте. Времена там неспокойные, ясачные грозят неповиновением, но в сравнении с ламутами они, как дети.
Атаман опустил голову. Несмотря на то, что благополучная семейная жизнь успела мягко и сладко опутать его, опять вспомнились Колыма с ее водоворотами, синие горы, багрянец заходящего солнца на воде, желтый лист осени.
— Нынче порядок строгий, прежних послаблений нет: служба два года — не больше, — с сомнением качнул головой. — Жалко старуху. Ее даже на реке укачивает, не то что в море. А бросить не могу.
— Я тоже не люблю моря, — нетерпеливо передернул плечами Булыгин и стал прельщать дальней службой.
— Если сядешь на тамошний приказ, то меня с моим атаманским жалованьем при тебе не оставят, — потеребил бороду Стадухин. Желание вернуться на Колыму захватывало его.
— На Алазее сядешь! Рядом! Тебе будет на кого опереться, и мне!
— В верховьях Алазеи есть хорошие места и до Среднего острожка — недалеко, а там служат брат и сын… От Синицынского торгового зимовья всего-то верст двести.
— Пойдешь?
— Надо подумать!
— Все равно куда-то пошлют. Оставят при остроге — того хуже!
— При нынешних порядках при остроге плохо, — согласился Стадухин. — В верховьях Лены соболь выбит, в низовьях вовсе нет, а ясак требуют, как прежде. Новых народов под государя искать надо, так я уже наискался. — Вздохнул, тряхнув бородой. — Как Бог положит — так и сбудется. Куда пошлют — туда пошлют!
Из избы вышел воеводский холоп с немигающими змеиными глазами, объявил, что стольник воевода Иван Федорович ждет! Опасливо крестясь, толпа служивших на Колыме людей придвинулась к крыльцу и нерешительно затопталась. Первым переступил порог пятидесятник Григорий Татаринов. За ним, уступая друг другу, потянулись другие. Люди кремлевских чинов и их холопы представлялись Стадухину на одно лицо: короткополый немецкий кафтан, выбритый подбородок, длинные усы. У нынешнего воеводы из-под усов выпирала тяжелая челюсть, выпученные глаза гневно сверкали. Едва приглашенные вошли и встали перед ним, он громогласно заговорил:
— Ведомо стало мне, что на Колыме-реке сбор ясака ведут промышленные, принятые в службу без жалованья, и чинят ясачным народам всякие насильства: заставляют брать в долг железо по пятнадцать соболей за полуаршинный прут, десять соболей за топор, недоимку правят батогами, уводят жен и дочерей, продают их промышленным. Юкагиры жалуются, что полуказачье бесчинствует хуже служилых и требует с родов по тридцать пять сороков соболей вместо пяти с одного сильного мужика. Пошлин с себя они не платят, лучшие меха в государеву казну не кладут.
Тяжелый взгляд воеводы остановился на Иване Ерастове. Сын боярский, сутулясь, вышел из-за раздвинувшихся спин, дрожащим голосом стал оправдываться.
— Служилых не хватает, искони приходится звать в службу охочих. А за то, что они не платят оброчных денег, спрос с целовальников, — вывернулся, переводя гнев на своих недругов Ивана Денисова и Степана Журливого.
Те, побагровев, вынуждены были встать перед воеводой, оправдывать себя и прежних целовальников начиная со времен Стадухина и Зыряна.
— Все знают, кого полуказачье одаривает. Стенька требовал с них десятину, — Денисов указал на Степана Журливого, — они ему отказали с тем, что служат и дают приказным по десять, а то и пятнадцать соболей.
— Не брал! — гневно воскликнул Ерастов. — Все, что давали, записано в книги!
— Охочие никогда не платили ни явочных, ни отъездных пошлин, — смущая их, выкрикнул Григорий Татаринов, самочинно подступился к воеводе и его людям. — Я с Коськой Дунаем силой сыскивал с них соболей, вымученных у ясачных … А делают они вот что: бросят железный прут возле юрты — на другой год плату за него требуют. Я знаю!
— Велю впредь бить за то батогами перед инородцами и запретить охочим собирать ясак! — побагровев, пророкотал воевода.
Нынешней зимой на Колымском приказе сидел хитроумный Федька Катаев, он и сменил Ивана Ерастова. Жалобная челобитная была написана в его время. Один за другим приказные и целовальники, оправдывая себя, все грехи валили на него. Иван Ерастов, затравленно глядя на строгого стольника, вытирал пот с пылавшего лица. Стадухин про себя подумал: «Труднехонько будет Федьке выкрутиться на этот раз, но он верткий. Дай ему большую власть — наделал бы вреда хуже Францбекова, не смотри что новгородец». Ему, атаману Михайле, воевода вопросов не задавал, только окинул взглядом, когда указали, что он из первых на Колыме. При воеводском сыске молча стоял в стороне человек, судя по виду, подьячий. Он ничего не записывал, только внимательно всех слушал, переводя глаза с одного говорившего на другого. Сыск закончился, Михей отмолчался, довольный тем, вышел из избы и всей грудью вдохнул теплый летний воздух с запахом реки. Следом выскочил Ерастов с облегчением на лице. Для него разбор случился не ко времени — могла сорваться поездка в Москву. Воевода грозил ему батогами, но ни словом не обмолвился про обещанную милость. У Ивана оставалась надежда, что все прежние посулы остались в силе. Отдуваясь, он наскочил на Стадухина, заполошно кивнул и пропал с глаз. С видом победителя мимо прошел Григорий Татаринов. Ему сыск не повредил, он даже сумел обратить на себя внимание воеводы и его людей.
— Завтра подам челобитную служить на Колыме! — тихо пообещал Стадухину Андрей Булдыгин.
— А посул?
— Соберу! С ясачных больше прежнего не возьму, чтобы не гневить, но опишу их родственников. Ивашка Ерастов говорит, на ярмарки с верховий Анюя приходят человек двести ходынцев, которые ничего не платят. Подведу их под государя… За тебя буду просить, чтобы был рядом, на Алазее.
Стадухин опять покряхтел, не зная, что сказать.
— Поговорю со своими! — ответил, претерпевая смуту в душе и тяжесть под сердцем.
И пока шел к дому, все думал, как жить? Темные мысли лезли в голову при воспоминании о нынешнем сыске, о московских расспросах в Сибирском приказе. И думалось ему, что служилые справедливо называются холопами. Так оно и есть. Снова стал искушать бес проситься на волю, но уже здесь, в Сибири: хотя бы в посад, в торговые и промышленные люди. И полегчало, будто ангел махнул крылом и дал прежнего растраченного духа. Досаждала нудная мыслишка — на что жить? Разве Герасиму помогать? И все же домой он вернулся с надеждой на другую жизнь, рассказывать о сыске не стал, пожаловался только, что при остроге ни жить, ни служить не хочется.
— Что ни воевода — то новые поборы! — поддержал его Герасим. — Меняются часто. И что делать? Хотели на отчину вернуться, говоришь, там еще хуже.
— Хуже! — Сел за стол Михей. — Перебраться бы куда подальше, к Тарху и Нефеду на Колыму, что ли! — Вздохнул, начиная обдуманный разговор. — Ты там не пропадешь, — кивнул брату, — каждый год ярмарки. Лыжи, нарты, собаки — все в большой цене. А рожь — два соболя пуд. При Головине и Пушкине в Якутском была вдвое дороже. Притоки на Колыме рыбные, мясного зверя много, — стал увлекаться. — Соболь ушел — и слава Богу! Народу будет меньше, а мы и в песцовых шапках походим. А что? — Встрепенулся, обводя глазами брата и жену, — поехали! Соберемся, станем жить одним домом, по старине. Когда еще кремлевские сидельцы туда доберутся.
— Поедем! Поедем! — заерзал на лавке Якунька.
— Тарх с Нефедом, наверное, по зимовьям да летовьям бродяжничают, — благоразумно заметил Герасим. — Страшно на пустое место.
— Мне все равно, где жить, лишь бы за мужем и с детьми. Нефед там, — всхлипнула Арина, вспомнив старшего сына. — А добираться страшно. На Олекму шли — много претерпели, туда и вовсе. Наслушалась я про Студеное море.
— Далеко! — согласился Михей. — Но если совсем уходить, то перетерпим!
— Что удумали? — скандально вскрикнула женка Герасима и уставилась узкими глазами на сидевших. — Никуда не поеду!
— Я тебя и не зову! — опустил взгляд Герасим. Молодуха с визгом сорвалась с лавки, накинула душегрею, выскочила из дома, громко хлопнув дверью. — Пусть охладится! — зевнул вслед младший Стадухин. — Больно криклива.
— Такие, сказывают, в блудных страстях злей и слаще! — рассмеялся Михей, глядя на брата.
— По мне лучше ласковые и тихие, — сгоряча отговорился Герасим.
Михей с Ариной смущенно притихли, понимая больше сказанного.
— Есть у меня задумка, — прервал затяготившее молчание старший Стадухин. — Вместо того чтобы служить при остроге, месяцами пропадать в улусах, буду проситься на Индигирку или Алазею. Уеду, срублю дом, другим летом вы с торговыми и служилыми приедете на обжитое место и уже не вернемся.
Выцветавшие глаза Арины расширились, испуганно уставились на мужа. Она спросила одними губами:
— Опять бросишь на годы?
— Нынче дольше, чем на два, не посылают. Новых земель искать не буду, вот те крест, — размашисто перекрестился, не поднимаясь с лавки. — Скажешь — нет! Никуда проситься не буду. Куда пошлют, там и приму службу. Мы — холопы, хоть бы и государевы, судьбу не шибко-то выбираем. И на кой Тарх с Нефедом в служилые поверстались?
Неделя по возвращении с олекминских служб была гульной. Герасим занимался обычными делами, Михей по гостям не ходил, чем выводил из себя скандальную молодуху брата. Ее бесило, что Якунька называл тятькой и атамана, и ее мужа, девка не упускала случая съязвить про свальный семейный грех. Михей с Ариной тягостно помалкивали, не вступая в споры и пререкания, Герасим мрачнел, вздыхал, морщился, однажды взял ее под руку и вытолкнул за дверь.
— Не пропадет!
На третий день к Стадухиным пришел Андрей Булыгин, спешно положив поклоны на образа, стал жаловаться и просить совета.
— Подал дьяку и письменному голове сказку, а воеводе — челобитную служить на Колымском приказе. Обещал прежний ясак с прибылью. Но хитромудрый Гришка Татаринов против моей сказки и челобитной подал встречную — с посулом десять сороков в год к прежнему ясаку. Обещает с охочих людей брать десятину, подвести под государя анюйских ходынцев и верхнеколымских ламутов.
Атаман Стадухин удивленно хмыкнул, поскоблив сивую бороду:
— Дурья башка… Похоже, спина кнутов просит!
— Я так и сказал письменному голове. Но воевода Гришкиным сказкам поверил и посылает его на Колыму, а с ним для своего воеводского надзора подьячего Семейку Аврамова.
— Ну, и что теперь? — спросил Михей, равнодушно глядя на товарища.
— Молчат! На Индигирку отправляют Козьму Лошакова. На Алазею посылали в прошлом году, менять рано…
— На все Божья воля! — со вздохом пробормотал Стадухин. — Без служб не станемся, хомут найдется.
Знойный июль перевалил на другую половину. Отпускные грамоты разом получили люди с семи кочей. Три торговых судна отправлялись на Индигирку. В Нижние зимовья этой реки, Зашиверское и Подшиверское, на перемену прежним приказным шли Кузьма Лошаков, выслуживший чин сына боярского, и сотник Амос Михайлов. На Колыму послали два коча. На одном с торговыми людьми отбывал к месту службы Григорий Татаринов с подьячим Семеном Аврамовым, на другом — казаки со служилыми людьми. Только 27 июля, на Пантелеймона-целителя, караван пошел вниз по Лене. В обыденной спешке все вынуждены были презреть старое поверье, что в этот день нельзя возить хлеб с места на место.
— Дурь! — Взглянул им вслед Михей Стадухин и перекрестился, чтобы не навлечь беды. — К Семенову дню дай Бог дойти до Яны. А там — холода и заморозы. Меняются воеводы, начальствующие люди, но год за годом раньше середины июля уходят только торговые от знатных гостей.
Он был оставлен для гарнизонных служб, Булыгин с отрядом казаков ушел мирить рассорившиеся роды якутов. К Михайлову дню торговые люди, вышедшие с Яны сухим путем, принесли челобитные от Григория Татаринова и Козьмы Лошакова. За Святой Нос, к устью Индигирки, сумел пройти лишь один коч с отрядом сотника Амоса Михайлова. Все остальные были затерты льдами. Судно, на котором шел к месту службы Григорий Татаринов, вмерзло в устье Яны. Не желая зимовать, он со служилыми людьми лыжным путем отправился к Верхнему Колымскому зимовью. Вернувшись к Рождеству с Алдана, Стадухин узнал, что Андрей Булыгин с дюжиной служилых людей ушел на Яну сухим путем. К лету промышленные привезли от него челобитную с просьбой о помощи. Булыгин писал, что дошел до Нижнего Янского зимовья, принял янских, омолоевских и хромовских аманатов у служилого Бориса Михайлова, оставил при них своего человека Алешку Басурманова с пятью служилыми и нартным путем отправился на Индигирку. На пути ему встретились янские ясачные юкагиры и сказали, что казаки в Нижнем янском перебиты толмачом-новокрестом Ивашкой Сидоровым, аманаты отпущены на волю, Ивашка бежал к родне. Булыгин жаловался, что на Индигирке в Подшиверском зимовье всего семь казаков, торговых и промышленных людей мало, поскольку промыслы оскудели, а среди ясачных юкагиров зреет измена. К ней склоняются даже многодетные женки казаков и промышленных.
И снова воевода собирал людей, служивших на дальних реках, выспрашивал, отчего могли взбунтоваться ясачные мужики, не от насильств ли убитого на Яне Алешки Басурманова? Грозил отправить четыре коча торговых и казаков, чтобы наказать изменников, заново подвести их под государя или усмирить боем. На Алазейский приказ по прежним просьбам сына боярского Андрея Булыгина он назначил атамана Михайлу Стадухина. Опять был знойный июль. Со всеми обычными сборами и письменной волокитой раньше Ильина дня караван уйти не мог, а это был крайний срок. Стадухин не хотел повторять того что было в прошлые годы и подал челобитную, чтобы идти с Лены в верховья Яны сухим путем, проторенным Постником Ивановым, Дмитрием Зыряном, Василием Власьевым и многими другими. Оттуда по суху выбираться на Индигирку и Алазею, чтобы не зависеть от погоды и удачи, как на море. Он был уверен, что прибудет к месту службы раньше, чем люди, посланные судами. Пути через Янский хребет Михей не знал, но с Яны до Индигирки хаживал и просил в помощь проводника и толмача Микулу Юрьева, которого обещал оставить в Зашиверском зимовье на Индигирке. Из-за смут и людей, ждущих помощи, просьба атамана была удовлетворена. Воевода решил отправить с ним на Яну морехода Ивана Реброва с наказом привести на Колыму коч, брошенный Гришкой Татариновым. Стадухин получил отпускную грамоту и стал собираться в путь. Его скорые сборы были облегчены торговым человеком Лукой Новоселовым. В прошлом году купец отправил на Колыму товар с приказчиком, но тот почему-то остался на Яне. На Алазею с грузом ушел его покрученник, а там товар забрал целовальник Осип Иванов. Лука Новоселов шел искать свое добро и приказчика, возможно, погибшего от янских бунтов. По его челобитной воевода велел Стадухину разобраться во всем на месте: служилых посадил на прокорм к торговым, торговым дал защиту от служилых. Со всеми вместе набирался хороший отряд, способный усмирить бунтовщиков. За год приострожных служб в доме Стадухиных было много переговорено о переезде на Колыму, поэтому никто не удивился его назначению.
— Аж помолодел! — со вздохами укорила мужа Арина. — Ишь как глаза блестят. Надоела я тебе!
— Что говоришь? — Михей обнял жену, но в глубине души чувствовал, что четыре года спокойной, счастливой жизни начали тяготить. В недолгих отъездах он радовался кострам, ночлегам под открытым небом, пропахшим дымом зимовьям, вернувшись, втайне ждал новых, пусть небольших, но походов.
На этот раз не было ни слез, ни наказов, будто Арина тоже заждалась очередной разлуки. Михей неуверенно предложил ей и брату идти с ним через горы. И тут же сказал, что на другой год на Алазею непременно пришлют окладные хлеб, соль, крупы и можно будет добраться с грузом, а уж он к тому времени приготовит жилье. Арина сделала вид, будто не услышала про пеший путь.
— Хоть с дикарками не балуй! — благословила мужа.
— Баловал бы, да не получается! — Старший Стадухин с благодарностью взглянул на нее, обнял Якуньку, благословил брата и с легкой душой простился.
Три струга с нартами, лыжами и хлебом ушли вниз по Лене к устью Алдана, там люди высадились на низинный, заболоченный берег и пошли в сторону гор. Пышный мох ночами примораживало, утром нарты, поскрипывая, легко скользили по нему. Вблизи гор, по камням, идти стало трудней, и все же Стадухин радовался, что не взял коней — с ними он намучился в оймяконском походе. Долина притока сужалась. Микула Юрьев — бывалый проводник и толмач, шел впереди, высматривая знакомые приметы тропы, по которой несколько лет никто не ходил. Сначала волоклись широкой падью, заросшей ивняком, падал ранний, сырой снег, смешивался с пожухлой травой, налипал на полозья, от него быстро мокли бахилы. Путники разводили костры, сушились, шли дальше, и не было обычных для моря спешки и опасений — не успеть до ледостава.
Ветер разнес тучи, на небо выкатилось желтое солнце, стал таять снег, обнажая пышный мох. Глазам открывались рыжие полосы лиственничной тайги, стекавшейся по долинам, черные камни горных вершин. В лесу открытые ночлеги были теплы, дров не жалели. Стадухин, лежа к огню ногами, глядел в небо с ясными звездами. Над острыми вершинами лиственниц висел радостный месяц — золотые рожки, предсказывая долгую, сухую осень. Рассвело, и отряд поволокся дальше к вершинам хребта.
— Где-то здесь был крест! — Проводник беспокойно озирал седловину между сопками. На краю леса стояла одинокая лиственница. Ветры скрутили ее в узел, согнули и обломали ветки, но она была жива. — Не уйти бы в сторону! — Оглядываясь на пройденный путь, Микула опасливо вертел головой. — Мимо Яны не пройдем, но путь увеличим.
На седловине, под которой остановился отряд, креста не было видно. Микулка налегке сбегал посмотреть, не упал ли, и с воплями вернулся. Через некоторое время с той стороны вышел медведь. С тех пор как Михей отпустил питомца, отобранного у анюйских юкагиров, прошло много лет, но атаману показалось, что это тот самый заматеревший пестун. И опять он залюбовался сильной грудью, прядями шерсти, свисавшими с лап, лобастой головой и статью свободного зверя. Покрученники Луки Новоселова схватились за пищали и мушкеты. Атаман остановил их знаком и пошел к медведю, договариваться. Чувствуя за спиной страх спутников, подступил к нему шагов на пятнадцать, зверь не думал уступать дорогу: глядел пристально, потряхивая головой, будто его донимала мошка.
— Чего тебе? — строго спросил Стадухин. — Дай пройти!
Медведь стоял, не показывая признаков озлобления. Притупившимся чувством Михей ощутил, что зверь просто любопытен, скинул кафтан, помотал им над головой. Медведь неспешно повернулся боком и засеменил за пологую каменную вершину сопки. Спутники за спиной атамана восхищенно зашумели, а он оделся и махнул им рукой, призывая продолжать путь. Опасливо поглядывая на топтавшегося среди камней зверя, они вытянули нарты с грузом на седло и сбились в кучу.
— То самое! — крикнул проводник, указав на полуторааршинный крест, лежавший на боку.
— Чего пялится? — роптали торговые, с опаской поглядывая на медведя. — Позволь пальнуть для острастки?
— Не надо! — приказал Стадухин таким голосом, что спорить не посмели.
Глаза его горели, он чувствовал себя молодым и вольным, будто сбросил тяжесть последних лет. Обдутые ветром горные хребты тянулись на тысячи верст, между ними сверкали извивы рек. Бескрайняя желтая тундра убегала на север и пропадала в туманном мареве.
— А здесь лучше, чем в море, — пробормотал атаман, обернувшись к старому мореходу.
— Надежней, но не лучше! — одышливо ответил Ребров. Пеший подъем в гору им обоим давался нелегко.
Караван пошел к Яне. Михей пропустил спутников, и когда проскрипели полозьями последние нарты, обернулся к медведю. Тот с ленцой спустился на прежнее место и уставился на него.
— Сказать что-то хочешь? — приглушенно спросил Стадухин.
Зверь опять замотал головой с таким видом, будто укорял: «Эх, Мишка, Мишка!» «К чему бы?» — подумал атаман, вспоминая другие встречи с медведями, каждая из которых была знаком судьбы. На пути ватага обошла несколько каменных столбов, которых много на плоскогорьях между Яной и Колымой. Всякий раз Стадухин останавливался, ходил вокруг, высматривая знаки среди причудливых трещин и выступов. Они складывались в медвежью морду, то смешливую, с прижатыми ушами, то печальную. Через образ медведя камень тоже в чем-то ласково укорял: «Эх, Мишка, Мишка!» На шестой неделе отряд служилых и торговых людей вышел к Верхоянскому зимовью.
— Так-то! — самодовольно поучал спутников Стадухин. — Если Бог милостив, то кочи еще где-то возле залива, а мы уже здесь. — И к Реброву: — Садись в струги, руби плоты и будешь в Нижнем.
— Много ли груза на себе утянули? — заспорил мореход, оборачиваясь к торговому человеку Новоселову. — А ноги сбили, плечи в кровь стерли.
Зимовье было целым благодаря трем казакам да вовремя подошедшей ватажке промышленных людей: их осаждала сотня верхоянских эвенов. Чтобы избежать кровопролития, казакам пришлось отпустить аманатов. Они были изрядно напуганы прокатившимися по Яне погромами, голодали, боясь отходить от зимовья. Промышленные, вызнав от пришедших путь к Лене, стали собираться, чтобы выбраться к острогу до лютых холодов. Прибывшие попарились в бане, отдохнули, оставили в зимовье Ивана Реброва с его людьми и пошли на Индигирку, к Подшиверскому зимовью. Никогда прежде Индигирка не была так укреплена служилыми людьми. В Нижнем сидел на приказе сын боярский Козьма Лошаков, в Среднем — сын боярский Андрей Булыгин, стрелецкий сотник Амос Михайлов был в Верхнем — Зашиверском, в то время как на реке зимовало на редкость мало промышленных людей, и с каждым годом их становилось меньше.
— Ушел соболь! — сетовал Булыгин, встретив верного товарища. — Говорят, за Камень. И промышленные подались туда же. А те, что обжились, перероднились с ясачными родами, бескорыстно служить не хотят. Среди них много болдырей двадцати лет и старше: языком — русские, душой темные, заглянуть в себя не дают. — Помолчав, Булыгин вскинул на Стадухина затуманившиеся глаза: — Хорошо было на Ламе: вот тебе ламуты, вот мы! Здесь не поймешь, кто враг, кто друг.
После бани и угощения он тоскливо признался, что не надеется собрать посул, который объявил. С его слов Стадухину стало понятно, почему смененные на службах приказные и целовальники не спешат на Лену: там их ждал гнев начальных людей, возможно, правеж. Оглашенное царем и его боярами «Соборное уложение» с его жестким сыском и ростом налогов добралось до Сибири.
— Плох был Пушкин, но он только грозил взыскать с беглецов. Нынешняя власть уже не входит в нужды, не жалеет: разденет догола, жен и детей продаст, но свое возьмет.
— И что теперь? — настороженно спросил атаман, прикидывая обещания Арине и Герасиму, нельзя было допустить, чтобы его долги воевода взял с них. Из всего сказанного Булыгиным выходило, что ярмарки уже не те, торговые люди терпят убытки, а порядок, который несли здешним народам служиные, оборачивается против них самих.
— Хлеба едят меньше, особенно болдыри. В спросе только иглы, топоры, ножи, другой товар залеживается, — сын боярский продолжал печалить рассказами Луку Новоселова.
— А мушкеты? — вызнавал тот.
— На кой они им? С тех пор, как охочим запретили нести службы, промышленные со здешними живут мирно. Царь так уравнял всех, что многие и сами не прочь записаться в ясачные, платить пять соболей в год с сильного мужика и быть вольными от всякого тягла.
Стадухин недоверчиво поскоблил бороду. Уж очень печален и безнадежен был Андрей Булыгин на полуночной стороне Великого Камня. «Мне унывать с чужих сказок нельзя, — думал. — На Колыме сын и брат, на Лене брат и жена с сыном. Все ждут вестей радостных». С Индигирки на Алазею он не ходил, о том пути, не таком уж дальнем по льду вставших рек с двухдневным волоком через плоскогорье, знал только понаслышке. Своего проводника по воеводскому наказу атаман оставлял на Индигирке, при здешнем малолюдье и бунтах стыдно было просить у Булыгина вожей. Но начиналось время промыслов, которое новоселовские покрученники боялись упустить. Они в один голос запросились на здешние угодья. Булыгин их к тому подначивал и обнадеживал. Входя в нужду Стадухина и Новоселова, предложил отправить с ними на Колыму через Алазейское зимовье двух бывалых казаков.
На пути им встречались промысловые зимовья. Некоторые из них были брошены, а в заселенных проживало много стариков, болдырей и женщин от разных сибирских народов. В зимовье известного на Индигирке и Колыме торгового человека Ивашки Синицына к Стадухину подскочила разбитная старуха в пыжиковой душегрее и волчьих торбазах. Растягивая в улыбке беззубый рот, спросила по-русски:
— Не помнишь меня, казак?
— Не помню! — вглядываясь в морщинистое лицо, признался атаман.
— Матрена я! Служила толмачкой у гусельниковских, была в Якутском… Чуть не спилась там. Я же юкагирка, Бырчик-Хренчик, никакая не Матрена! — Расхохоталась. Она сильно срамословила и курила трубку, выпуская дым из ноздрей.
Не было уже по зимовьям прежних страстных расспросов про острожные новости, про богатые дальние промыслы и неведомые края, не спрашивали здесь и про ярмарки. Если на Лене еще говорили о Большой земле и Камчатке, то здесь не было и того. Зимовейщики принимали путников радостно: с мороза поили горячей щербой, усаживали к огню, топили баню, угощали мясом и рыбой, но говорили и спрашивали только о насущном, да и то сдержанно, будто боялись невзначай обронить что-то скрытое. О своих промыслах рассказывали, что они оскудели, но сами не рвались в богатые соболем места. Все они считали себя русскими людьми, но погромы на Яне их не пугали: соглашались, что на Индигирке нынче неспокойно, но караулов не выставляли даже на ночь. В Нижнее Алазейское зимовье люди Стадухина прибыли к Рождеству, в самые холода и метели. Круглый как шар от меховых одежек на нагороднях приплясывал караульный.
— Не спите! Это хорошо! — похвалил его атаман смерзшимися губами и подумал, озирая окрестности: «Неспокойное место. Чукчи много раз громили и сжигали это зимовье, а оно держится наперекор всему».
Здесь на приказе сидел пятидесятник Григорий Цыпандин. Он не ждал перемены среди зимы и был изрядно удивлен приходу Стадухина. Целовальник Осип Иванов растерянно суетился. Узнав, что прибыл хозяин забранного им товара, начал было оправдываться и спохватился:
— Что сразу про дела? — Принес из лабаза мороженую рыбу, стал строгать в кипевший котел. — Накормить, напоить с дороги, баньку протопить, после разберемся…
В укрепленном государевом зимовье служили три казака и приказный. С ними зимовал целовальник. У всех были молодые женки. Наметанным глазом Стадухин высмотрел среди юкагирок чукчанку и, к удивлению своему, ламутку из-за Камня. Спросил Цыпандина, как она попала к ним?
— От ясачных юкагиров! — неохотно ответил приказный. — Подарили в почесть. — Помолчав, пояснил: — Соболь ушел, а тамошние ламуты, бывает, теперь доходят до верховий Алазеи… — Беды наши! — С печалью взглянул на атамана. — Не собрал я посул, ни за тот, ни за нынешний год.
— Нынче с этим строго! — посочувствовал Стадухин, не зная, чем обнадежить сменяемого приказного. — В старые времена тоже не жаловали, но не так. И соболя всем хватало — бывало, штаны из него шили.
— Жалованье за два года отдал бы, чтобы воеводу не гневить, как при Пушкине. — Брови Цыпандина опустились шалашиком на тусклые глаза. — Пока поймут, что здесь уже нет рухляди, как раньше, много голов слетит безвинно. И тебе не собрать прежнего ясака. Гришка Татаринов по Колыме мечется без пользы: ладно бы родни у него в Якутском не было, а то дом, жена, сыновья. Чем думал?
— Решит Бог наказать — мудрец умишком оскудеет! — пробормотал Стадухин. — Это я знаю!
Он принял у пятидесятника зимовье и двух аманатов, забрал печать, пересчитал и опечатал мешки с казной. Одного заложника по описи не хватало. Дело выходило крученым и обыденным. Четыре года подряд здесь сидел в аманатах малолетний сын алазейского тойона, возмужал на казенных харчах и потребовал перемены. Отец привез на его место дочь в жены приказному. Тот не смог от нее отказаться, а забрюхатив, не хотел расставаться. Прежде думал вернуться с ней в Якутский острог, венчаться и крестить младенца, но по описи недоставало аманата, а другого тойон не давал. Пятидесятник всеми силами убеждал атамана, что юкагирский род верный, много лет исправно платит ясак.
Лука Новоселов так и не дознался до истинных причин, по которым был отобран его товар. Целовальник в свое оправдание придумывал разные нелепые причины. Часть отобранного была им поменяна на рухлядь по хорошей цене, и он предлагал расплатиться. Торговый требовал платы за расходы в пути, тому и другому спорам не виделось конца. Целовальника Стадухин решил оставить. Тот сговорился с Новоселовым и выдал ему кабалу. Григорий Цыпандин, вместо возвращения в Якутский острог, захотел искать служб на Колыме, пока не соберет явленного с Алазейского приказа. Он уговорил Стадухина отпустить женку с ним, а убыль в аманатах по записи принял на себя. Три казака оставались до перемены на прежних службах, с них, подначальных, спрос был невелик. С тем индигирские служилые, торговый человек и смененный приказный с женкой отправились на Колыму.
На Алазее промышляли две ватажки в десять и двенадцать человек. Весной атаман оставил зимовье на казаков и отправился с целовальником собирать ясак с юкагирских родов, но сначала зашел к промышленным. В зимовьях их встречали настороженно, добытое предъявляли неохотно, все или не все — один Господь знал. Осип отбирал десятину лучшими шкурами. Добыча была невелика, но этим людям хватало на самое необходимое, чтобы жить здесь, на месте, без возвращения в остроги, что в прежние времена было редкостью. В зимовьях оказалось много женщин. Семьи жили скопом, как сидячие коряки и чукчи. Разговора о следующей зиме с ними не получалось: передовщики отвечали на вопросы целовальника уклончиво. Ясачные юкагиры жаловались, что через Камень перешел многочисленный оленный род ламутов и теснит их на родовых угодьях. До войн и нападений пока не доходило, поскольку одни выпасали оленей, другие держали собак, но ссора назревала: юкагирские собаки драли слабых оленят и обессиленных важенок, за оленями и ламутами пришли волки и стали пожирать юкагирских собак. Ясачные требовали защиты, предлагали с помощью казаков выпроводить незваных гостей. Но ламуты были благом для служилых — их можно было объясачить. На обратном пути атаман с целовальником опять зашли к промышленным людям, говорили с ними о прикочевавших из-за Камня ламутах.
— Знаем! — внимательно выслушав его, за всех ответил передовщик. — У них сильных мужиков больше полусотни.
— Мы, бывало, впятером бились против сотни? — приняв бравый вид, попробовал шутить Стадухин, но не был поддержан. Промышленные глядели на него пристально и недоверчиво. «Другим стал народец!» — думал атаман и презрительно кривил губы в бороде.
— На погроме брать у них нечего — железных котлов не имеют, одежка из оленьих шкур. — деловито рассуждал передовщик. — Если освободишь от податей — можно подумать…
— Воевода настрого запретил! — сник атаман.
— Тогда сами воюйте! — усмехнулся передовщик. — Вас государь жалует, а мы платим без поблажек: десятину, покупные, продажные…
В поддержку говорившего по зимовью прокатился приглушенный рокот, и десять пар недоверчивых глаз отчужденно уставились на служилых. Из углов, с нар от печи зыркали черные глаза женщин, которые, как показалось Стадухину, понимали, о чем идет речь.
— Не я придумываю подати, царь с боярами!
Промышленные молчали, по лицам понятно было, о чем думают: «Пусть они и воюют!»
— Не договорились! — поднялся атаман, отказавшись от бани и угощения.
— Как их заставить? — завозмущался целовальник. — Отпускная грамота есть, подати оплачены.
— Кто нам указывает? — взъярился вдруг атаман. — Те, кто дальше Якутского острога не хаживали!
И с надеждой вспомнил подьячего Семена Аврамова, посланного на Колыму вместе с Григорием Татариновым. «Вдруг через него власть поверит, что, как прежде, по новому „Соборному уложению“ здесь жить нельзя?»
В другом промышленном зимовье им также отказали в помощи, угрозы атамана жалобной челобитной не помогли. Промышленные напирали на то, что живут в мире и даже в родстве со всеми здешними народами, исправно платят подати. Втайне они даже смеялись, говоря, что порадеть за государево дело не прочь, если их об этом попросит сам царь, а лезть под ламутские стрелы за чужие оклады, с которых им ничего не достанется, — не желают. Толмачей ни у той, ни у другой ватаги не было. Ламутские женки, по их уверениям, говорить по-русски не умели, общались с мужьями знаками или по-якутски. Между собой промышленные тоже часто перекидывались якутскими словечками. Стадухин вдруг явно почувствовал, что между ними глухая стена, что благодаря первопроходцам и промышленным, прижившимся на этой земле, здесь появился совсем другой народ. А давно ли все были заодно?
— Не дай Бог, чукчи осадят зимовье — промышленные уже не помогут! — пожаловался казакам.
— На нас нападают, на них почему-то нет! — ругались его спутники. — Перероднились, уживаются со всеми.
Стадухин собрал ясак только с юкаиров и подати с промышленных людей, которые, конечно же, утаили лучшие меха для перекупщиков. Собранный ясак и десятина не покрывали даже недобранный прошлогодний сбор в казну. Летом в устье Алазеи атаман с целовальником ловили рыбу, били линявшую птицу и поджидали коч с Колымы. Он должен был забрать алазейскую казну. Судно пришло вовремя. Стадухин на струге подошел к его борту, поднялся на палубу, высматривая знакомых.
— Федька? — Едва узнал спутника по оймяконскому походу в шапке сына боярского. Катаев вяло улыбнулся, по-казачьи обнял атамана. — Судьба крученая… То казак, то торговый и целовальник, то в детях боярских! — рассмеялся атаман.
— То у тебя не крученая? — утробно хекнул и пристально вгляделся в его глаза бывший сослуживец. После смены пятидесятником Григорием Татариновым он самовольно задержался на Колыме, страшась воеводского гнева, о котором был наслышан. — Пустеет наша река! — Вздохнул. — Торговые уходят, — указал взглядом на людей за спиной, — промышленных год от года меньше. — Спохватившись, спросил: — Ясак собрал?
— Явленного не взял!
— И я не взял! Пробовал торговать, но воевода пригрозил, чтобы вернулся на сыск… Отберут теперь все, что нажил, еще и с брата возьмут остатки.
— Вы богатые, откупитесь!
— Откупимся! — согласился Федор. — Все равно обидно. Мы первыми пришли на Колыму, а он в Жиганах не был, но будет орать, батогами грозить. Что они знают про наши реки? А вот ведь, власть!
Стадухин с целовальником сдали опечатанные мешки с казной, отправили челобитные с жалобами на промышленных людей и со своими оправданиями. Боясь упустить ветер, коч выбрал якорь, поднял парус и ушел на закат дня, к Святому Носу.
В начале августа в устье Алазеи пришел коч с Лены. Брата и жены на нем не было. С припасом муки, масла, толокна, соли на алазейские службы прибыли пять казаков. Это была хорошая подмога, на которую рассчитывал атаман. С судна снесли присланный груз, и оно пошло дальше, к устью Колымы.
Зимой ламуты откочевали, юкагиры на них не жаловались. По раннему снегу на лыжах с нартами в Алазейское зимовье пришел Курбат Иванов с промышленными людьми и женщинами. К радости атамана, вели их служилые Стадухины — Тарх с Нефедом. Не успел отец наговориться с сыном и братом, как зимовье окружили оленные чукчи.
— Однако милостив Бог! — посочувствовал прибывшим. — Поздно взяли ваш след. В тундре от них отбиться трудней.
— Милостив ли? — вскинул печальные глаза Курбат и горько усмехнулся, глядя на круживших возле надолбов оленных ездоков.
Чукчи стали пускать стрелы, казаки ответили залпом. Долгой осады Михей не опасался, выждал, когда олени кормились, а мужики отдыхали, и со своими людьми вышел на погром. Рукопашного удара десятка русичей нападавшие не выдержали, хотя дрались отчаянно. Казакам удалось схватить двух мужиков. Им скрутили руки, приволокли в зимовье. Взять под них ясак не надеялись, но хотели договориться о мире. В аманатской избе ноги пленных сковали одной колодкой, связали вместе руки, правую одного с левой другого, по одной оставили, чтобы напоить, накормить. Но чукчи нашарили под одеждой хорошо спрятанные костяные ножи и зарезали друг друга. Их тела атаман отдал родственникам без выкупа, и они ушли, осажденные же отделались легкими ранами.
— Милостив, но Господь ли? — продолжил прерванный разговор Курбат Иванов. — Как вернулся из Москвы в среднем чине — немилость за немилостью по пятам ходят. Кабы не сын и жена, лучше бы и не возвращаться в Якутский, прости, Господи! — Размашисто перекрестился, смахнув с головы шапку.
Для гостей топили баню и пекли хлеб. В зимовье было тесно и шумно.
— Что коча не дождались? — полюбопытствовал атаман, да сам же и ответил: — Хотя сухим путем надежней.
— Друг твой, Гришка Татаринов, мстил за давнее, а бес ему помогал. — продолжал жаловаться Курбат. — Меня переменили на Анадыре еще в прошлом году, пришел на Колыму с костью и картой, которую писал от устья к полуночи. Рисовать я горазд: карту Байкала делал, нынешнюю тоже.
— А Гришка что? Да и с какого боку он мне товарищ? В одной тюрьме ночевали, служб не служили.
Курбат отмолчался с обиженным видом и продолжил рассказ о своих бедах:
— Прошлый год просил у него коч, чтобы вывезти государеву соболью казну и кость. Не дал, сказал нету. В тот же год, осенью, пришел на Колыму морем казачий десятник Панфил Мокрошубов, я взял у него казенный коч со снастью и парусом, поставил на балки в устье Анюя, чтобы летом уйти на Лену. Но с моря подняло воду, и коч обморозило. Весной с целовальником и сыном отдалбливали его, но с Анюя поднялась большая вода и коч изломала. А Гришка в июле приплыл на ярмарку на двух судах. Я опять просил. А он: «Не будет тебе отпуска в Якутский острог в этом году!» Пришлось мне поставить балаган, сложить в нем кость и рухлядь, судовую снасть, покрыл я все парусом, и свои пожитки в том балагане были. И неизвестно как балаган загорелся. Соболиная казна сгорела, и парус, и мои пожитки: икона Богородицы в окладе, книги — всего на двести рублей. И все из-за Гришки. Дал бы мне коч — ничего бы не было. Обнищал я, государеву кость продавал, чтобы не помереть с голоду. Решил идти сухим путем, чтобы зимой не проесть последнего. Опять же собак, нарты, муку, соль пришлось покупать дорого — убытков на шестьсот семьдесят пять рублей с лишком.
— Много! — посочувствовал Стадухин. — Помочь тебе нечем.
— И так помог: отбились от чукчей. А Гришка мстил за то, что я понуждал его строить Верхоленский острог. Больше двадцати лет минуло — помнит, хоть не говорит.
«Как на плаху идет! — подумал Михей, сочувствуя и смущаясь, как невольный свидетель чужого несчастья. — С верой в чудо, с надеждой на справедливость!» Слишком уж часто стали встречаться служилые люди с беспросветным отчаяньем в глазах.
— А что сам коч не построил? — спросил. — Лесу на Колыме много.
— Не было такого указа, чтобы мне строить! — затравленно вскрикнул Курбат. — Я на Анадыре государев порядок навел. Там ни ясачных книг не было, ни податей толком не брали. Я все устроил по наказной памяти. С двоевластием покончил, зимовья тыном обнес… А промышленные обратно побежали, раз нет ни кости, ни соболей. Пришлось их силой удерживать. Там надобно держать полсотни служилых!
— Прокорми-ка такую прорву?! И для чего? — удивленно пожал плечами атаман.
— Чтобы был порядок по наказу, данному воеводам нашим мудрым государем! — обидчиво вскрикнул Курбат.
Понимая, что задевает больное, Стадухин не стал ни спрашивать, ни говорить о своих домыслах про порядок. Приятным был разговор с сыном и братом. Они с радостью поддерживали, чтобы всем перебираться на Колыму.
— Промышленные и торговые скоро схлынут — река останется. Глядишь, и соболь вернется, — рассуждал Тарх и хвастал: — Я что удумал?! Обойти Камень от Колымы до Пенжины, но не на кочах, как прежде с тобой, а на стругах: их легче вытаскивать на лед и на берег. Гришка согласился, что это дело нужное, подписал челобитную на царское имя, отправил воеводе. Жду ответ!
— Зачем? — удивился старший. — Все уже пройдено Семейкой Дежневым, Бессоном Астафьевым, Федотом Поповым и нами. Кончилась земля, искать больше нечего, надо устраиваться на том, что есть.
— Никто так не ходил! Ивашка Рубец с шестью служилыми на карбасе ходил с Колымы на Анадырь бить моржей, а их не было. Они взяли с собой Фомку Пермяка и дошли до усть-Камчатки. До Пенжины никто не ходил. Даст Бог, на этот раз будем первыми!
— Зачем? — Распаляя брата, Михей поднял на него равнодушные глаза и вспомнил, что так же пытался втолковать свои страсти Герасиму.
— Чтобы людей удивить, народу послужить и не было бы больше споров, до каких мест мы дошли прошлый раз. И карту хочу сделать! Курбат через нее ждет воеводской милости. Написал Байкал — средним чином пожаловали, за анадырский берег могут в Москву отправить, долги простить. На это и надеется.
От души старшего Стадухина отлегала тяжесть сострадания. Не таким уж безнадежным было возвращение Курбата. Михей помнил, что напророчил ему ярыжка в ленском кабаке, но не говорил о том. Сам Курбат пророчества не слышал, разве послухи сообщили. Из бывших свидетелей в живых остались только трое, и сбылось не все: в разрядные атаманы Михей вышел, но славы и богатства не нажил, под Москвой не помер. Эта мысль ободрила его, и опальный сын боярский уже не казался ему таким затравленным, как в день встречи. Молчаливое раздумье старшего брата злило Тарха. Он, остро поглядывая на Михея и племянника, нетерпеливо ерзал по лавке. Со стадухинской горячностью с отцом заговорил Нефед:
— Анадырские служилые и промышленные привезли на Колыму деревянное блюдо. Его море выбросило на обобранную коргу. — Сын выждал, когда в глазах отца появится любопытство, и со страстью выпалил: — Русское блюдо, нашими людьми, нашими знаками расписанное… Не кончилась земля — продолжается за морем!
Атаман покряхтел, покачал головой и стал расспрашивать Курбата об Анадыре. Из первых дежневских спутников там оставался последний промышленный — Фомка Пермяк, из колымских первопроходцев — Пашка Левонтьев. Корга, найденная Дежневым и беглыми казаками, так оскудела, что ни Курбату, ни Юше Селиверстову собрать явленного не удалось. Фома рассказал им про другую, открытую в морском походе с Федотом Поповым и Бессоном Астафьевым. Ее и решил отыскать анадырский приказный. Отправились к ней кочем в июле. Раньше не пускали льды, забившие залив. Фома взял с собой чукотскую женку родом из тех мест. Трудностей в пути было много, будто нечисть потешалась и не пускала, но по молитвам Николе Угоднику и Чудотворцу добрались-таки. Чукчанка узнала места, из которых ушла двенадцать лет назад. То самое селение, которое брали с боем, было жилым, возле него Иттень встретила бывшего мужа и говорила с ним. Все было на месте, но не было ни горы костей, собранных до нападения чукчей, ни самой отмели: ее смыло волнами. Отдохнув, Курбат Иванов с сыном, женой и подручными людьми стал собираться в Подшиверское зимовье к Андрею Булыгину. Тарх с Нефедом шли туда же, посланные Гришкой Татариновым. Нетерпеливо повизгивали собаки в упряжках, низко над снегами висело сумеречное небо с тусклой половинной луной. Ветра не было — начало пути складывалось удачно.
В июле с двумя казаками атаман опять приплыл к морю и остановился в старом балагане. Вода в устье и озерах была темна от линявших гусей и уток. Казаки били их сотнями, потрошили, закладывали в мерзлотные ямы, ловили рыбу неводной сетью, сушили юколу. Днем светило ясное солнце, ночь была светла, как вечер на закате. Вдали, за морем, смутно виднелась Большая земля, о которой первым сказал в остроге Михей Стадухин. Но побывали возле нее и на ближайших к ней островах немногие: Иван Ребров и Григорий Татаринов. Других слухов о людях, ходивших к неведомому, не было. В начале августа к устью Алазеи подошел коч торговых и промышленных людей, встал на якорь вдали от берега, спустил на воду лодку. На сигнальный дым костра выгребли двое. Одного из гребцов Стадухин узнал, это был Григорий Татаринов. Он подгреб к топкому тундровому берегу, вместо приветствия ревниво спросил:
— Ну что? Собрал явленное? — Настороженный взгляд на осунувшемся лице заметался по сторонам, будто казак опасался засады.
— Недобрал! — признался Стадухин.
— Я тоже недобрал! — Тяжко вздохнул Татаринов. — И много! Хотел казну выслать, на Колыме остаться. Кого там! Воевода прислал указ, чтобы явился. На правеж поставит, дом отберет, жену, детей не пощадит: будут скитаться меж дворов. Вот ведь, дернул бес за язык — сам напросился.
— Курбат Иванов проходил зимой, в обиде на тебя!
— Просидел все лето, казенный коч ожидаючи! — с досадой в лице отмахнулся Григорий. — Дал ему мокрошубовский — не уберег, балаган спалил, костяную казну и анадырскую карту на меня свалил — я везу их воеводе. Ждал бы уж лета да плыл со мной. Так нет, в зиму ушел, чтобы первым жалобы подать.
— Если карту оставил, значит, государю послужить хотел, за себя и сына в пути не боялся, за карту переживал! — в раздумье возразил Стадухин. — А ламуты с Алазеи сошли, я их объясачить не успел. Да и служилых мало, а промышленные радеть государю не хотят.
— На Колыме так же. Промышленных мало, а те, что есть, живут ради брюха. Переменился народишко.
— Переменился! — согласился Стадухин и устыдился жалоб: — Ничего. На другой год, даст Бог, соберу с излишком, все покрою!
— Дай Бог! — пожелал ему Григорий, побросал в лодку мешки с соболями, оставил запись в ясачной книге и сел за весла.
— Как там мои? — спохватившись, крикнул вслед Стадухин.
— Служат, в Среднем. Им что, государев хлеб едят. Мясо, рыба есть, девок хватает. А им, дурам, лишь бы порожними не ходить — рожают и рожают.
В то лето с Лены не было ни одного судна, а следующим атаман ждал перемены. Его казаки ходили весной к ясачным юкагирам, не дожидаясь, когда те придут сами. Ясак собрали неполный: род, подсунувший Гришке Цыпандину жену вместо аманата, откочевал на Колыму.
— Идти надо! — сердился атаман. — Нынче приказным прибыль к ясаку, как собаке кость: схватила — уже не отберешь. Если дали ясак там — попробуй верни его к алазейскому!
Мука кончилась, напечь блины на Масленицу было не из чего. И так и эдак выходило, что надо идти либо на Колыму, либо на Индигирку. Колыма ближе и нужней, но время опасное: можно столкнуться с немирными чукчами. Индигирка дальше, но там могут быть застрявшие торговые люди, от которых можно узнать якутские новости и разжиться хлебом, там могли зимовать Герасим с Ариной и Якунькой. Пока Стадухин с казаками решал, куда идти, в зимовье неожиданно-негаданно явился Григорий Татаринов с гулящим человеком из якутских болдырей.
— Здорово живем? — пробубнил сквозь смерзшуюся бороду. Сбросив мохнатые верховые рукавицы, потянулся к огню. Его спутник пал на колени, приткнув к чувалу голову и руки. Щеки и губы болдыря были в коростах обморожений. Он недолго погрелся и завыл, затряс руками, сунул их в ушат с водой, стоявший под лучиной.
— Ты же летом проходил? Разбился, что ли? — удивился Стадухин возвращению пятидесятника.
Гришкины усы и борода смерзлись в сосульку. Припав к огню, он сгребал горстями и бросал ледышки на пол.
— Дошли до устья Лены с Божьей помощью! — просипел. — Там затерло… Но, по верным известиям, твоя и Курбата казна доставлена в Жиганы.
Стадухин удивился больше прежнего: если казна в Жиганах, отчего Гришка здесь? Но от расспросов удержался: гости были чуть живы от усталости.
— Разоблакайтесь, окуржавели! — привечал их. — Как раз щербу к полднику сняли с огня. С душком, из осеннего улова.
Засидевшиеся казаки засуетились, забегали, стали поить путников горячим отваром ухи, затопили баню, выложили на стол лепешки из толченой сухой рыбы. Болдырь помалкивал, боясь окровянить губы, чуть разлепляя их, осторожно проталкивал на язык кусочки снеди. Гришка молча, с сопением и шмыганьем ел, потом грелся в бане. Напарившись, стал моститься ко сну и только тут полусонно пробормотал:
— На Лене говорят, Семейка Дежнев вернулся из Москвы разрядным атаманом.
— Вот так Семейка! — Стадухин удивленно мотнул бородой, и тень улыбки пробежала по лицу. — А что Ярко Хабаров? — спросил вкрадчиво.
— Говорят, живой, сидит на Киренге, что ни наживет, что ни наторгует — все отбирают за старые долги.
Последние слова Гришка едва пролепетал и засвистел остуженным горлом. Болдырь лежал на спине, глядел в потолок, смеживая пухлые веки в щелки. По их ускользавшим взглядам, настороженным ответам Стадухин догадывался, что оба не столько идут на Колыму, сколько уходят с Лены. На другой день Татаринов попил ухи, пососал рыбью голову и признался, что бежал.
— Реку взял замороз. Думаю, и слава Богу! Чем позже вернусь в острог, тем лучше: вдруг воеводу переменят — легче оправдаться. А он, Кутузов, прислал другой приказ, чтобы я немедля явился налегке. Понятно для чего. — Гришка вскинул на атамана дерзкие глаза беглеца. — Слышал про Курбата Иванова, что с ним стало? — спросил с перекошенным лицом.
— С той стороны до тебя никого не было!
— Я вез моржовую кость, собранную им в казну, и его карту, а он явился к воеводе налегке, — Гришка скривил губы в коростах, — думал оправдаться. И старого казака, сына боярского, били батогами, послали на сыск в Москву. Семейка Дежнев как раз возвращался из Москвы, укрыл Курбата на Чечуйском волоке, отказался выдать приставам илимского воеводы. А Ивашка Ерастов сдал и помер Курбат от обиды. Жена и сын теперь побираются по дворам. Так-то нас жалуют за дальние службы. — Гришка мотнул головой с захолодевшими глазами и стал рассказывать дальше: — Оставил я верным людям ясак: свой, твой, Курбаткин, его карту, свои животы, пока их не отобрали. Подумал, если помру в пути — жену и сыновей пощадят, вернусь по воеводскому приказу — приму кончину позорную, дом отберут, жену с сыновьями по миру пустят… И пошел в обратную сторону по медвежьему следу, будто за свежениной. Заблудился и пропал. Пока разберутся — воеводу переменят. По снежным ямам ночуя, много чего понял. Как-нибудь расскажу. — И, опустив непокорные глаза, посоветовал: — Ты меня не покрывай себе во вред: спросят — отпиши, здесь, мол, беглый пятидесятник! За приставами сюда отправлять — накладно, а выслужить прощенье или дождаться перемен можно.
Стадухин в задумчивости покряхтел, поскоблил бороду. Дел действительно было много. Если бы Гришка привел десятерых беглецов и им нашлись бы службы. Но он чего-то недоговаривал. Гости отдохнули день и другой, с лица болдыря по имени Путилка сошли коросты обморожений, слиняла путевая угрюмость. Он оказался болтливым и смешливым. Едва кто-то из казаков спросил, как шли, пухлые веки болдыря смежились в щелки, он стал хохотать, поглядывая на Гришку:
— Плохой охотник! Плохой охотник!..
— Ты больше моего скулил! — подначил спутника Татаринов и стал рассказывать: — Через день помирал. По утрам пинками гнал его из ямы, а он кричал: «Уйди! Помереть хочу!»
— С Индигирки на Алазею кочевали оленные тунгусы — пять мужиков, три бабы, согласились проводить нас, наши одеяла и котлы погрузили на оленей. — стал рассказывать. — Одно название, что оленные, род бедный, оленей мало — чум да детишек везут, остальные пешком. Дольше двух дней на одном месте не стоят, соболя в пути промышляют, чтобы дать нам ясак и купить нужное на ярмарке.
— Сами бегают, что волки, — похохатывая, встрял Путилка. — Мы к вечеру едва ноги притащим, надо еще ломать подстилку под чум, варить мясо. А они кого: есть еда — обжираются, про другой день не думают, нет еды — постятся. Один мужик отстал, они его и ждать не стали, говорят: «Плохой охотник!» Собака пропала — беды нет: «Плохой охотник!» Одну такую, непутевую, нам дали, потому что отстаем, но табор чует. Как-то следы замело, блуждали мы, ночевали в яме без одеял. Просыпаюсь, Гришка собаку обнимает и плачет: «Плохие мы охотники!» — Путилка снова затрясся от смеха.
Гришка смущенно улыбнулся в бороду, оправдываться не стал.
— Дал Бог увидеть, как добывают соболей! — признался, без обиды глядя на попутчика. — Полгода такой жизни — и я бы помер.
— Кто им виноват, что не хотят промышлять клепцами, только гоном? — стали оправдываться казаки.
Татаринов без спора помолчал, а оставшись наедине со Стадухиным, заговорил о скрытых помыслах. То смущенные, то понурые или злые глаза его, удивлявшие атамана, бесновато заблестели.
— Пришли мы в эти края, соболя выбили, нашумели, Москву рухлядью завалили, кому-то богатства нажили, но как пришли, так уйдем, а юкагиры, ламуты, чукчи как были, так останутся. И болдыри останутся, — кивнул на одеяло Путилки.
— И я бы остался! — не понимая, к чему клонит Татаринов, признался Стадухин.
— На Анадыре так же! Выбрали кость, делать там больше нечего, кроме как свои оклады высиживать. Юшка Селиверстов делает вид, что долги собирает, сам прячется от власти. Он хитрей Курбатки, поэтому здесь и помрет. — Гришка помолчал, пристально глядя на атамана, и, решившись, заявил со злой удалью в лице: — А я, казак Гришка Татаринов, могу все переменить! Опять будет многолюдье, прежние ярмарки, опять потекут толпы доброхотов.
— Соболя пригонишь из-за Камня, что ли? — насупившись, уставился на него атаман.
Закинув голову, Григорий беззаботно рассмеялся, дергая острым кадыком, затем резко умолк и вытряхнул из кожаного мешочка на гайтане камушек с небольшое яйцо. Подкинул на ладони.
— Как пуля! Подобрал на Колыме, помню где. Удивился, что камень тяжелый, что свинец… В самый раз для грузила, а? — Опять зловеще хохотнул. — Когда плыл от тебя, возле Омолоя встретил коч с рудознатцем Василием Шпилькиным. Он тебя знает по Енисейскому острогу. Я ему этот камушек и показал, — Григорий снова подкинул его на ладони, повертел между пальцев, разглядывая со всех сторон. Камень тускло поблескивал отсветом огня в чувале. — Это золото! Говорят, ты из первых искал по Колыме серебро, а золота не увидел!
Стадухин фыркнул раз и другой, разглядывая самородок, стал догадываться, отчего Гришка весел, несмотря на побег.
— Шпилькин, как увидел, вцепился — где взял? «Государевым словом и делом» грозил. Еле отобрал у него, еле отговорился, наплел небылиц и бежал… — Придвинувшись к Михею так, что коснулся своей темной бородой его сивой, зашептал: — Если вернемся в Якутский без ясака, голыми-босыми, но с золотом, нас воевода не только помилует за прошлое, сам царь-государь расцелует и наградит. Только возвращаться надо не с одним камушком, а со многими. И место указать верное, не как тебе серебряную гору… Пойдешь на Колыму? — в упор спросил Стадухина.
— По-любому, надо! — в раздумье поежился атаман. — Наши окладишки или на Индигирке застряли, или на Колыму увезены. Нынешним летом ни одного судна не было.
— Не говори никому до поры. А то, по слухам, как бывало, ринется толпа искать золото, нас с тобой сметут и забудут. Другие перед царем выслужатся.
— Бывало и так! — согласился атаман, торопливо соображая, чем может все обернуться, если отыщется золото.
— А что ты его воеводе не объявил?
— Ага! Знаю я их! Отберет за недоимку, под пыткой вызнает, где нашел, и пошлет Шпилькина. Хватит принимать муки Христа ради! Воеводы и всякие кремлевские чины так не делают, а жалованье у них ого, не сравнить с нашим!
— Может быть и так! — Стадухин озадаченно выругался. — А вдруг не надо искать золото? — опасливо передернул плечами. — Я вот, думаю, и хорошо, что не нашел серебра по указу. Если Колыма опустеет — соберем вокруг себя верные народишки, чтобы защититься, заживем без разбоя и грабежей, — тоже поделился тайными помыслами.
— Не выйдет! — самоуверенно заявил Татаринов. — Я об этом думал еще там, на Колыме. Никак нельзя сильным не грабить слабых. Найдем золото, при нем получим тихую службу для себя и детей наших.
Слова опального пятидесятника показались Стадухину разумными. Хотя, вспоминая разговоры с нынешними промышленными людьми, он иногда завидовал им и сам надеялся обжиться в этих местах, как они. Но слух о Курбате Иванове опять подтвердил правду пьяного пророка. Из тех, кому бес завязывал судьбы в кабаке, в живых оставались трое, благополучие и слава были обещаны одному. Новость о Семейке не вызывала у Стадухина зависти, но снова привела в замешательство: на кого из них двоих смотрел пропойца и почему он, Мишка, решил, что обещанное достанется ему, а не Семейке? И тут же укорил себя за то, что никогда не принимал земляка за путнего казака, хоть он был не только не робок, но в бою надежен и рубака изрядный. Золото давало надежду на блазнившиеся смолоду славу и богатство, только теперь они казались суетными и не были нужны. Несмотря на гостеприимство алазейских казаков, Гришка спешил на Колыму.
— Побарахтались в сыпучем снегу, — жаловался на пережитые муки. — Теперь, по насту что не идти… И кого тут осталось? Две-три недели лыжного хода.
— Есть путь короче, но там по весне можно столкнуться с чукчами, а они до всякого железа, топоров и пищалей сильно охочи.
Как ни спешил Татаринов, уверившийся в своей удаче, атаман с двумя казаками принудили его идти дальним, безопасным путем в Среднеколымское зимовье к Тарху и Нефеду. Пятеро на трех собачьих упряжках без груза, они отправились туда среди ночи. Едва окреп наст, собаки рванули нарты, будто надеялись на сытые корма впереди. К полудню под солнцем, которое, отражаясь от снега, жгло лица, полозья стали облипать, собаки проваливаться в сырые сугробы. Остановились на ночлег, выкопали яму до мерзлого мха и сухого стланика, развели костер, натаяли снега, напились и подкрепились той же рыбой, которой кормили собак. День был долог, лежать возле огня приятно. Собаки отдыхали, опасного Стадухин не чувствовал. Впрочем, он перестал доверять прежнему дару еще на Олекме, жизнь при Якутском остроге и вовсе притупила его. Среди ночи, едва смерзся наст, упряжки направились к волоку на приток Колымы. Через пару переходов, переправившись через кипевшую речку, люди и собаки намочились стоявшей под снегом водой. Лапы собак обмерзали, они ложились на снег, выгрызали лед из когтей, промазанные дегтем бахилы путников обледенели. Пришлось сделать остановку в неподходящем месте и сушиться. Едва окреп наст, пошли дальше и вошли в редколесье со множеством сухостоя.
Сидя у костра, Гришка Татаринов мечтательно размышлял о Божьем замысле на свою судьбу, вспоминал службы в верховьях Лены, на Илимском волоке, на Алазее и Колыме, тер лоб черными потрескавшимися пальцами, пытаясь объяснить, зачем обошел Андрея Булыгина, выпрашивая приказ на Колыме? Уверял, что делал это не ради наживы, а для справедливости, которая часто попиралась на его глазах. И вот теперь понял, что через испытания Бог вел его к благополучию. Атаман хмурил брови, слушал пятидесятника вполуха, для него лучшим временем на Колыме помнились первые годы. Если бы не распри с Митькой Зыряном, бесхлебье, тоска по жене и родственникам, что еще надо для счастья? Ему уже не хотелось шумных ярмарок, путаницы с приказными людьми, и в скрытых своих помыслах старый Стадухин скатывался к тому, что если бы жил заново, то так, как промышленные Ожегов с Карипановым. А станут мыть золото, пришлют сидельцев, которые заведут известные порядки. От тех порядков Ожегов с Карипановым уйдут, бросив прежнюю обустроенную жизнь. Долго не смогут жить и Стадухины. «Тогда зачем искать золото?» — спрашивал себя. Об этом мучительно думал, засыпая и просыпаясь в ночи. Однажды подскочил с колотившимся сердцем — бес шепнул: надо убить Гришку!
Так, каждый со своими думами, версту за верстой, то вышагивая, то сидя в нартах, они преодолели большую часть пути. Здешние места были безопасней алазейских. Ночевали, ожидая наста. Едва он окреп и пришла пора подниматься, тревожно зарычали и заскулили собаки, прядая ушами и воротя морды в разные стороны. Стадухин ясно почувствовал злое. Караульный дремал, положив голову на колени. Атаман прислушался и различил среди настороженного собачьего рыка клацанье оленьих рогов. Он вскрикнул, запалил фитиль мушкета от тлевшей головешки, поднялся в рост, высунувшись из снежной ямы, и увидел рога, густым кустарником надвигавшиеся на стан. Атаман выстрелил, почти не целясь, и еще до отдачи приклада в плечо и порохового дыма узнал в нападавших ламутов, которых в этих местах не могло быть. «Снится!» — подумал и стал торопливо перезаряжать мушкет. Ствол грел руку, как в яви. «Будто по-настоящему!» — в замешательстве думал, считая происходящее сонным наваждением. Его спутники схватились за ружья. Но стрелы полетели со спин, и двое сползли в снежную яму с тлевшими углями костра. В несколько мгновений две лавины рогов схлестнулась над ней. Гришка, вставив в ствол тесак, отбивался. Один за другим ему под ноги рухнули два оленя, задергались, сбивая с ног людей. Запахло паленой шерстью и горелым мясом…
Когда Стадухин пришел в себя, то почувствовал время, чего не бывает во сне. Было тихо и холодно, его знобило. Краем глаза он не увидел ни оружия, ни нарт. Не было и убитых оленей. Казаки и болдырь лежали вповалку с неживым видом. Атаман чувствовал только одну из своих рук, еще боль в груди и в животе. Он попробовал придвинуться к лежавшему навзничь Гришке, но в глазах потемнело, все завертелась и придавила темень. Потом едко запахло зверем и стало тепло. Атаман увидел над собой знакомого медведя, рано поднявшегося из берлоги. Шершавым горячим языком зверь лизал онемевшую руку, и в нее возвращалась боль.
— Чуна! — сипло простонал Стадухин. — Твоя взяла! Победил-таки!
Медведь без зла продолжал лизать руку вместо того, чтобы грызть ее, и Михей понял, что ему нужно. Преодолевая боль, подполз к закоченевшему Гришке, нашарил под его одеждой мешочек с самородком, вытряхнул золото на бесчувственную ладонь и протянул медведю. Рука, шарившая по осклизлой выстывшей груди убитого, приняла от нее холод, по телу пошел озноб. Медведь одним махом слизнул с ладони камушек, как какую-нибудь муху, и прилег, согревая Стадухина жаром своего тела. Посопев возле уха, сварливо заворчал голосом Чуны:
— Ты все понял, Мишка? Дал царю реку — пусть берет, дал соболей — пусть одевается и богатеет, но золото в реке не для него и не для нынешнего века. Оно для тех, кто еще не родился. Нельзя брать чужого, верхние люди этого не любят…
— Спасибо, что согрел, старый болтун! — покашливая, прошепелявил Михей. Отчего-то ламутский шаман показался ему близким и приятным, как родич. Из груди вырвался смешок, и сразу остро кольнуло, он закашлял, потом, давясь, спросил: — Ты жил для своего народа, отчего родился медведем? — Теперь Стадухин ясно понимал, кому предрекал богатство и славу ленский пропойца, улыбнулся, вспомнив неунывающего земляка.
— Пустое спрашиваешь, — укорил медведь голосом Чуны. — Верхние люди награждают по-другому…
— Батька, не помирай! — вдруг перебил его голос Нефедки.
Не было ни медведя, ни Чуны. Михей почувствовал, что лежит на нарте, услышал скрип снежных застругов под полозьями.
— Зимовье рядом. Мамка с дядькой и братом с нами зимуют. Отогреем, отпарим, раны перевяжем. Ты не выпускай дух! Держи его крепче! — Сын плотней укрыл отца песцовым одеялом, по-юкагирски гортанно крикнул, погоняя собак.
Затем Михей услышал прерывистый голос Тарха, видно, тот бежал за нартой:
— Мишка крепкий. Даст Бог, довезем!.. С медведем все говорит. Много крови вышло. — Склонился над братом, обдавая его теплом дыхания, закричал: — Мы еще Камень обойдем, всему свету покажем Стадухиных! Ты держи дух, не выпускай!
Заключение
В стобцах Сибирского приказа не сохранилось сведений о том, в каком месте отошла душа первопроходца и сибирского казака Михайлы Васильевича Стадухина. Известно, что он погиб в 1666 году в пути с Алазеи на Колыму. В тот год на Руси жили ожиданием конца света, а Тарх, или Тарас Стадухин, с ватагой отчаянных казаков и промышленных людей ушел на стругах из устья Колымы и добрался до устья Анадыря, повторив путь Дежнева, Попова, Астафьева и Анкудинова с их спутниками, затем, обойдя Камчатку, они дошли до устья Пенжины. Пролив, который на современных картах незаслуженно носит имя Витуса Беринга, в том году был забит льдами. Тарх переволокся из Студеного в Чукотское море, переименованное в Берингово, по скалам мыса, который сейчас носит имя Семена Дежнева, или построил за ним новые струги из плавника.
Но Тарас Стадухин и его удальцы были даже не вторыми в их смелом предприятии. В 1661 году, по челобитной Семена Дежнева, на Анадырскую коргу для добычи моржовой кости были отправлены из Якутского острога шесть казаков во главе с десятником Иваном Рубцом. Восьмисаженный коч, на котором они плыли разбидся в устье Лены, до Колымы отряд добирался попутными судами, там получил карбас и на нем, в конце августа 1662 года добрался до Анадыря. Моржей на корге не оказалось: «зверь в море отпятился». Иван Рубец взял на борт Фому Семенова Пермяка и той же осенью дошел до устья Камчатки-реки, зазимовал в ее верховьях.
В следующие два века такие дерзкие походы не удавались хорошо оснащенным государевым экспедициям под руководством служилых иностранцев, среди котрых были даже спутники Кука, поднимавшиеся до семидесятой широты. Это их имена остались на картах Русского севера, это они оставили записи об ужасах высоких широт, которые подлинным первопроходцами были «в обычай».
После поездки Михаила Стадухина и Андрея Булдакова в Москву в сохранившихся документах теряются имена их спутников: Василия Ермолина Бугра, Никиты Семенова, Анисима Костромина.
Семен Дежнев в Москве был поверстан в атаманы, получил жалованье за годы службы, плату за привезенные моржовые клыки, слегка разбогатев, вносил щедрые вклады в монастыри и церкви. Несмотря на свои многочисленные раны, служил в Арктике еще десять лет, пережил вторую жену и был женат на третьей. В 1671 году с Нефедом Михайловичем Стадухиным вторично выехал в Москву с собольей казной и там умер.
С 1666 годом связаны последние сведения об искусном мореходе Юше — Юрии Селиверстове: он переезжал с Анадыря на Колыму и продавал моржовые клыки. Неясен конец Ивана Реброва, возможно погибшего среди северных островов. Имена многих других героев романа также исчезают из челобитных и отпускных грамот: Мишка Коновал Савин почему-то служит не в прием в Среднеколымском зимовье, последние сведения о Пашке Левонтьеве связаны с Анадырем, последнее упоминание о Фоме Семенове Пермяке — его просьба покинуть Анадырь и вернуться на запад.
Впереди была еще целая треть авантюрного XVII века: загадочный Албазин, златокипящая Камчатка. Но уже менялся Дух времени, все жестче распалялась смута многовекового противостояния русского народа и российского правительства, давал знать о себе следующий, дворянско-нерусский XVIII век с его стратями наживы, властолюбия, утрированного подражания Западной цивилизации.
1
Древнерусская мера длины, суточный переход около 20 верст (21,3 км).
(обратно)2
Старинный кафтан с большим квадратным воротом.
(обратно)3
Старинный кафтан с четырехугольным отложным воротом.
(обратно)4
Обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
(обратно)5
Запорожские казаки.
(обратно)6
Рабыню.
(обратно)7
Городок на речном острове, начальный административный центр Вольного Дона.
(обратно)8
Иван Дмитриевич — сын Марины Мнишек.
(обратно)9
Православных русичей, подданных дворянской республики Речи Посполитой.
(обратно)10
Лапти из кожи, шкуры или пеньки.
(обратно)11
Младшего брата.
(обратно)12
Пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, Верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
(обратно)13
Вину, неустойку, выкуп за кровь.
(обратно)14
Устаревшее название народа манси финно-угорской языковой ветви.
(обратно)15
Промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.
(обратно)16
Последний ребенок стареющих родителей.
(обратно)17
Один из путей в Сибирь купцов и промышленных, известный до похода Ермака.
(обратно)18
Указ царя Михаила Романова о возвращении воевавших крепостных и холопов прежним хозяевам и казачий бунт против него.
(обратно)19
Свободная, широкая накидка без рукавов.
(обратно)20
О народе: голь перекатная, бродяги, сволочи, отребье.
(обратно)21
В Сибири XVII века средний чин: старше казака и стрельца, ниже дворянина.
(обратно)22
Устаревшее, самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге.
(обратно)23
Два идейных течения в Русской православной церкви: после дователи Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
(обратно)24
Старое русское название саамских племен на севере Руси. Общее название ненцев, энцев, нганасан и селькупов.
(обратно)25
Лично независимый, безземельный, бездомный крестьянин.
(обратно)26
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
(обратно)27
В XVI–XVII веках право называться по отчеству давалось именным указом великих князей.
(обратно)28
Кусок дерева или камень, используемые вместо колокола.
(обратно)29
Лезущий не на свое место (перм.).
(обратно)30
Юрт — владение, область земли (тат.).
(обратно)31
Ертаул — разведчик.
(обратно)32
16 июля ст. ст.
(обратно)33
25 июля ст. ст.
(обратно)34
Кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивались рог с порохом, мешочек с пулями и огниво.
(обратно)35
Тобольская восьмигранная смотровая башня была высотой с современный семнадцатиэтажный дом.
(обратно)36
Оплатившие половину затрат на промыслы или промышляющие за половину ужины, пая по уговору.
(обратно)37
Южный ветер.
(обратно)38
Самоназвание ненцев.
(обратно)39
Старорусское название сентября.
(обратно)40
Частокол, забор из врытых в землю бревен.
(обратно)41
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
(обратно)42
Полного пая.
(обратно)43
Продажа легких хмельных напитков при бане.
(обратно)44
Хмельной квас.
(обратно)45
Табуированное название соболя среди промышленных людей того времени.
(обратно)46
Самостоятельные подразделения промысловой партии от трех до пяти человек.
(обратно)47
Кутной — хозяйский угол в крестьянских избах, правый от входа. Сиротский — угол рядом с входной дверью.
(обратно)48
Не брали заложников.
(обратно)49
Место языческих молений и жертвоприношений.
(обратно)50
Стеклянные бусы.
(обратно)51
Легкие, наспех сделанные лодки.
(обратно)52
Плоскодонное судно, остов которого делался из цельного дерева с сучьями, к ним корнями кустарников или берез нашивались борта из досок.
(обратно)53
Девичий головной убор.
(обратно)54
Вынудил.
(обратно)55
Здесь — мангазейские казаки при зимовье.
(обратно)56
Свидетели по слухам, не очевидцы.
(обратно)57
Сосуд для соборного застолья.
(обратно)58
Конной, оленьей тягой.
(обратно)59
Во временное пользование на период отсутствия обычно продавали женщин нерусского происхождения.
(обратно)60
Сын Бориса Годунова, венчанный на царство.
(обратно)61
Иоандэзи (эвенк.) — Енисей.
(обратно)62
Присягали.
(обратно)63
Прозвище одиночек.
(обратно)64
Сухая чурка или камень, используемые вместо колокола.
(обратно)65
По традиции установившиеся места летних стойбищ (эвенк.).
(обратно)66
Жертвоприношения.
(обратно)67
Крупный бисер разного цвета.
(обратно)68
Заспинная доска с петлями для груза.
(обратно)69
Ель-береза или лиственница-кедр.
(обратно)70
Пальма (русск.) — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насаженный на длинное древко.
(обратно)71
Русичи в эвенкийском произношении.
(обратно)72
Полость с вложенной частицей мощей святого.
(обратно)73
Плешивого (эвенк.).
(обратно)74
Герой (эвенк.).
(обратно)75
Чужак (эвенк.).
(обратно)76
Дялви (эвенк.) — свояк, спутник, компаньон.
(обратно)77
Меховая опушка малицы.
(обратно)78
Тунгусы другой местности, роды, с которыми не вступают в браки.
(обратно)79
Напарник по промыслам.
(обратно)80
Сжечь белье на Благовещение — освободиться от чар.
(обратно)81
Оседлое зимнее стойбище (эвенк.).
(обратно)82
Дословно: мы пришли (эвенк.).
(обратно)83
Привораживать с помощью снадобий.
(обратно)84
Тунгусская чужая территориальная группировка.
(обратно)85
Враги.
(обратно)86
Чужие, нехорошие.
(обратно)87
Свояки.
(обратно)88
Свойственники.
(обратно)89
Берестяная посуда.
(обратно)90
Живущих в низовьях рек.
(обратно)91
Людей (эвенк.).
(обратно)92
Чужаков тунгусского происхождения.
(обратно)93
Аси (эвенк.) — женщина.
(обратно)94
Уважаемый гость.
(обратно)95
Церковная прислуга.
(обратно)96
Мучная каша.
(обратно)97
Мой мужчина (эвенк.).
(обратно)98
Хороший (эвенк.).
(обратно)99
Герой (эвенк.).
(обратно)100
Вот я и пришел.
(обратно)101
Женские легкие меховые сапоги.
(обратно)102
Хочешь спать?
(обратно)103
Нет.
(обратно)104
Стелить постель.
(обратно)105
Я беременна.
(обратно)106
Река.
(обратно)107
Кочующих в низовьях реки.
(обратно)108
Рубаха из шкур оленят.
(обратно)109
Чужак.
(обратно)110
Походные иконы.
(обратно)111
Легкая лодка.
(обратно)112
Нематериальные двойники людей и зверей.
(обратно)113
То же, что и юла.
(обратно)114
Устаревшее название цинги.
(обратно)115
25 сентября ст. ст.
(обратно)116
Племенной союз среднего течения Нижней Тунгуски в начале XVII века.
(обратно)117
Родовые объединения (эвенк.).
(обратно)118
Место, где шаман призывает духов, и само действие.
(обратно)119
Что за умай? (эвенк.)
(обратно)120
Человек-тунгус.
(обратно)121
4 октября ст. ст.
(обратно)122
Вытяжное отверстие в чуме.
(обратно)123
Дядя.
(обратно)124
Отец.
(обратно)125
Старик, дед.
(обратно)126
Кишка (эвенк.).
(обратно)127
Кобель.
(обратно)128
Горы (эвенк.).
(обратно)129
Друг.
(обратно)130
Припев богатыря из эвенкийского эпоса.
(обратно)131
Дух.
(обратно)132
Летняя замшевая обувь.
(обратно)133
Камчатый — из китайского шелка.
(обратно)134
Соболь.
(обратно)135
Крупный зверь.
(обратно)136
Медведь, волк.
(обратно)137
Ангара — дословно Большая река (бурят.).
(обратно)138
Шаман (бурят.).
(обратно)139
Желтый боо — миссионер-бурханист.
(обратно)140
Самое многочисленное из монгольских племен, исповедовавшее христианство несторианского толка.
(обратно)141
Шаманство называлось у бурят черной верой — «харын хаджин».
(обратно)142
Гуннские стрелы, издающие звук в полете.
(обратно)143
Молочная водка двойной перегонки.
(обратно)144
Чтоб тебя (бурят.).
(обратно)145
Племя, выделившееся из шамагиров.
(обратно)146
Которая собирается из готовых венцов за день.
(обратно)147
Ясырка — пленница, раба (сиб.).
(обратно)148
За приставами — с охранниками.
(обратно)149
Пегие люди — селькупы.
(обратно)150
Государево слово и дело — форма объявления дела государственной важности, по которому объявившего требовалось доставить в Москву.
(обратно)151
Заплечник — палач.
(обратно)152
Сувор — изуродованный (русск., устар.).
(обратно)153
Шебалташ — ремень, которым опоясывались поверх ремней сабли и патронной сумки.
(обратно)154
Отписки — отчеты.
(обратно)155
Челобитные — прошения.
(обратно)156
Наказы — распоряжения начальствующих.
(обратно)157
Лыпа — посох с насажанным, заостренным рогом.
(обратно)158
Вож — проводник.
(обратно)159
Покрута — наем на содержание пайщика с половины или с третьей части добытого меха.
(обратно)160
Антиминс — платок с изображением Христа во фобе с вшитыми в ткань мощами.
(обратно)161
Хлебное вино — название водки в XVII веке.
(обратно)162
Мурэн — большая река (бур).
(обратно)163
Зулхэ-река — Лена (Елеунэ).
(обратно)164
Брательник — младший брат (устар.).
(обратно)165
Разрядный — утвержденный в должности Сибирским приказом.
(обратно)166
Животы — движимое имущество.
(обратно)167
Лучи — русичи (эвенк.).
(обратно)168
Ак! — Эй! (эвенк.)
(обратно)169
Вадеми — убьет, добьет (эвенк.).
(обратно)170
Мата — уважаемый (эвенк.).
(обратно)171
Десять алтын — тридцать копеек.
(обратно)172
Бикит — дом из бревен (эвенк.).
(обратно)173
Кыштымы — зависимые от инородцев.
(обратно)174
Илэл — самоназвание эвенков.
(обратно)175
Бани с сусленками — платные бани при острогах и слободах с продажей легкого хмельного напитка.
(обратно)176
Этыркэн — старик (эвенк.).
(обратно)177
Гривенка — единица веса 400 г
(обратно)178
Дедушка — водяной дух.
(обратно)179
Байгал-далай — старое бурятское название Байкала.
(обратно)180
Ужина — пай, вносимый промышленным в снаряжение всем необходимым для промыслов.
(обратно)181
Боо — шаман (бур.).
(обратно)182
Андаги — соболь (эвенк.).
(обратно)183
Лама — эвенкийское название Байкала и всякого моря.
(обратно)184
Мата бэюн — крупный зверь (эвенк.).
(обратно)185
Хубун — титул главы родоплеменного объединения у бурят в XVII веке.
(обратно)186
Мангадхай — антропоморфное чудовище, олицетворение несчастий (бур.).
(обратно)187
Дархан — кузнец (бур.).
(обратно)188
Богдан — богоданный сын — сын жены, не родной отцу.
(обратно)189
Бусило — моросило (сиб., устар.).
(обратно)190
Ефимок — талер с выбитым на Московском денежном дворе клеймом. Приравнивался к рублю.
(обратно)191
Ятра вырежут — кастрируют.
(обратно)192
Хорзо — молочная водка, простая и крепкая, после тройной перегонки (бур.).
(обратно)193
Эсэгэ Малаан — мифологический небожитель, покровительствующий людям (бур.).
(обратно)194
Уста — кузнец (тюркск.).
(обратно)195
Кеттынит — от «кет» — «идти» (тюркск.).
(обратно)196
Стрелка — песчаная коса.
(обратно)197
Придет сентябрь — по христианскому счислению год начинается с сентября.
(обратно)198
Аманат — заложник.
(обратно)199
Баюн — рассказчик.
(обратно)200
Илэл — Илим.
(обратно)201
Бол — член (мат.).
(обратно)202
Мерген — охотник-добытчик. Один из титулов предводителей у бурят.
(обратно)203
Стольник — низший придворный чин.
(обратно)204
Ертаул — разведчик, впереди идущий.
(обратно)205
Дю — эвенкийское название чума.
(обратно)206
Вира — плата за убийство.
(обратно)207
Атха шутха — бытовое бурятское ругательство.
(обратно)208
Архи — молочная водка двойной перегонки, тарасун.
(обратно)209
Хазак-мангадхай — казак, русич (бур).
(обратно)210
Меноэны — зимние стоянки.
(обратно)211
Половые — прислуга в кабаках и гостиницах.
(обратно)212
Болдырь — полукровка (сиб.).
(обратно)213
Ублюдок — полукровка (русск., устар.).
(обратно)214
Дуроу ниилэхэ — стремя в стремя, душа в душу (бур).
(обратно)215
Гэр — дом (бур.).
(обратно)216
Бэртэнги — искалеченный (бур.).
(обратно)217
Баабай — отец, предок (бур.).
(обратно)218
Гаатай — вредный, раздражительный (бур.).
(обратно)219
Жаа гэр — маленький домишко (бур.).
(обратно)220
Далай — море (мот., бур.).
(обратно)221
Бузар, бурхи — нечистоты, грязь (бур.).
(обратно)222
Утуг — отстой для скота и овец.
(обратно)223
Прибранные новоявленно — прежде не служившие.
(обратно)224
Гарса — брод, переправа (бур.).
(обратно)225
А, ерээбши, дуумгэй! — Ты пришел, младший брат! (бур.)
(обратно)226
Яба гэмээ эдлэг! — Ну и пусть пеняет на себя! (бур.)
(обратно)227
Ахай — старший брат (бур.).
(обратно)228
Яба ошогты! — Ну и уходи! (бур.)
(обратно)229
Слободчик — организатор, основатель и руководитель слободы.
(обратно)230
Выростки — казачьи дети шестнадцати-семнадцати лет.
(обратно)231
Затинная — тяжелая, крепостная.
(обратно)232
Култук — мелководный залив клином (русск., устар.).
(обратно)233
Зэмхэлхэ — подносить подарок (бур.).
(обратно)234
Абаралша — прорицатель (бур.).
(обратно)235
Дуумгэй — младший брат (бур.).
(обратно)236
Уруул — пришлый (бур.).
(обратно)237
Алда хара гэзэгэ — длинная черная коса (бур.).
(обратно)238
Бабанурхун — болтливый (бур.).
(обратно)239
Хада гэр — дом в горах. В переносном смысле — могила (бур.).
(обратно)240
Дааган — лончак, жеребенок (бур.).
(обратно)241
Аян — дальний путь (бур.).
(обратно)242
Баабайшалха — умер, отправился к праотцам (бур.).
(обратно)243
Боол — раб.
(обратно)244
Душоодтэй — в возрасте сорока лет (бур.).
(обратно)245
Яяр — негодный, скверный (бур.).
(обратно)246
Бу мэдэе, а ши? — Откуда мне знать? (бур.)
(обратно)247
Аббаты! — Возьмите! (бур.)
(обратно)248
Бузар — грязь (бур.).
(обратно)249
Чибар — лысый, раб (эвенк.).
(обратно)250
Заа — хорошо, ладно (бур.).
(обратно)251
Богдойская — китайская (устар.).
(обратно)252
Еруул-зайгуул — пришлый бродяга (бур.).
(обратно)253
Жег — хитрость, коварство (бур.).
(обратно)254
Богдойцы — китайцы (устар.).
(обратно)255
Сверх указного государева числа — сверх штата.
(обратно)256
Гахай — свинья (бур.).
(обратно)257
Средний чин — чин сына боярского в середине XVII века был старше казачьего и ниже дворянского.
(обратно)258
Обротчики — безземельные, но работоспособные гулящие люди, платившие подушный налог хлебом.
(обратно)259
Гэргэй — жена, замужняя (бур., диалект.).
(обратно)260
Дуумгэй — младший брат (бур.).
(обратно)261
Хулэг — скакун.
(обратно)262
Алда хара гэзэгэ — огромная коса (бур.).
(обратно)263
Газаргуй — не имеющий земли (бур.).
(обратно)264
Ерэмэл — пришелец (бур.).
(обратно)265
Яяр ахай! — Скверный брат! (бур.)
(обратно)266
Яба гэмээ эдлэг! — Ну и пусть пеняет на себя! (бур.)
(обратно)267
Обротчик — лично свободный, наемный работник, выплачивавший подати зерном.
(обратно)268
А, ерээбши, дуу — ты пришел, братишка (бур.).
(обратно)269
Ахай-аягтай — удалой, разбитной (бур.).
(обратно)270
Ерборхо — бей (бур.).
(обратно)271
Купцов первой гильдии.
(обратно)272
Купца первой гильдии.
(обратно)273
Пути, проторенные оленями и людьми.
(обратно)274
Самоназвание оседлых и оленных эвенов.
(обратно)275
Березы с корнем, отходящим от ствола под прямым углом. В строительстве кочей использовались в качестве шпангоутов.
(обратно)276
Мэнэ — самоназвание эвенов Охотского побережья, живших на одном месте; орочи — оленные, кочующие эвены.
(обратно)



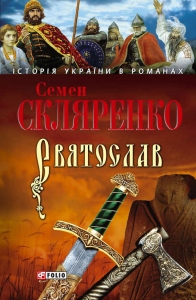




Комментарии к книге «Первопроходцы», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев