Олег Слободчиков ПО ПРОЗВИЩУ ПЕНДА
1. Ермаковы поприща[1]
Клонился к земле иссохший ковыль, стелился по степи золотистыми стеблями, сырой ветер нес запах снега. Устало прядали ушами кони, зябко горбились в седлах казаки, потрепанные боями со шведами и царским разбором. Хопровская станица возвращалась к родным куреням. Пантелей Пенда в полусне-полуяви мотался в седле и тыкался лбом в конскую гриву. Ему уже хотелось одного: припасть к сырой земле и отдаться глубокому сну — пусть даже непробудному. Но лезла в голову казака всякая нелепица, бередила душу. Он заставлял себя мысленно читать молитвы, однако то и дело сбивался, а навязчивая память опять втягивала в рассуждения о пережитых обидах.
Новый царь-государь, Михейка, сын тушинского казачьего патриарха Филарета, хоть и был посажен на престол казаками да татарами, но едва вошел в силу — повесил атаманов, перепорол есаулов с пятидесятниками, а после смилостивился, отпустил хопровцев из-под Москвы на Дон и хлебом в дорогу пожаловал за былые верные службы.
Не помнили старики, чтобы казаки кому-то кланялись, а вот ведь поклонились ныне царствующему Михаилу Федоровичу и зловредным боярам его, тем самым, что залили Русь кровью, призвав на Москву ляхов, рейтаров да всякий латинянский сброд, чтобы защититься от своего же народа. Царскими кнутами обласканные, свесив чубатые головы промеж широких плеч, обещали они Михейке и боярам его впредь против Кремля не бунтовать и вести свою станицу к верховому Дону, на устье Хопра. Не научившись на своем веку просить, попросили позволения возвращаться сытым волжским путем, а не разграбленной стороной через Тулу.
После той царской милости и напал на Пенду неодолимый сон. Едва станичники пускали коней на выпас, он ложился на шею гнедого и спал. В ночь на таборе, пожевав что дали, бросил на землю потник, седло, упал на них в тяжелой кожаной рубахе, обшитой по груди и животу железными пластинами — бахтерцами, укрылся жупаном[2].
— Да когда ж ты выспишься, Пентюх? — удивленно чертыхнулся старый казак Васька Рябой, досадливо попихал его в бок гнутым носком сапога.
Глухо звякнули бахтерцы, Пантелей нехотя приподнялся на локте, раскрыл красные, будто ошкуренные глаза. Лохматый, нечесаный, что-то буркнул в густую смятую бороду и опять стал моститься ко сну.
Шумно всхрапывая чуткими ноздрями, ему в плечо ткнулся мордой гнедой. И конь не давал покоя, не понимал, почему хозяин не ведет к ручью, не поит, не чешет гриву. Рассерженный казак снова откинул полу жупана, сощурился на не закатившееся еще солнце и, устыдившись вдруг, виновато взглянул на гнедого, печально и ласково погладил жесткий ворс под крутой конской скулой. На глаза ему попался юнец в драном долгополом охабне[3] с истрепанными рукавами и полами, волочившимися по земле.
— Угрюмка! — позвал его Пенда осипшим голосом и приказал: — Напои коня! — А сам, тяжко вздохнув, свернулся на войлочном потнике, опять укрылся с головой, и вновь замельтешили в голове непутевые мысли.
Память заново унесла его в другую, будто приснившуюся жизнь: то малолетком шел он на Москву с войском царевича Дмитрия для мщения обасурманившимся боярам за попранную русскую правду, то бился с рейтарами под стенами Кремля, то лежал на плахе под кнутами…
— Пендюх! Мать твою! Опять спишь? — дядька Рябой вернулся от костра и раскричался, как ворона на падали. — Для разговора зовут!
— Я пенный[4], — буркнул казак из-под жупана.
— Чего мелешь-то? Это когда было? — у Рябого от услышанной нелепицы бороденка взъерошилась, как загривок у драчливого пса. — Вставай, не то отхлещу! — постучал кнутовищем по луке седла, положенного Пантелеем под голову.
Пенда, рыкнув, сбросил жупан, сел. Тлевшими угольями глаз бодливо уставился на посеченное морщинами, изрытое оспой лицо казака. Старик был скромно, но опрятно одет. После днища пути в седле уже умылся к ужину и вечерней молитве. Из-под островерхого малинового колпака с вышарканным бархатным отворотом по впалым щекам свисали влажные седые пряди волос.
— Сходи к ручью, глянь-ка на себя! — сказал он тише и ласковей, но брезгливо скривил тонкие, дряблые губы.
Пенда смущенно опустил глаза, почесал полусогнутыми пальцами растрепанный чуб, смятую бороду, пошарив под жупаном, вытащил колпак с золоченой кистью, натянул его до ушей, как московит, подхватив саблю в замшевых ножнах, поднялся с мрачным видом.
— О чем говорить? — заворчал, зевая и воротя лицо в сторону.
— О том, как дальше жить, — по-стариковски въедливо стал поучать Рябой. — Царского хлеба до Святок не хватит. На Дону нас голодных не ждут. — И добавил мягче, подталкивая молодого казака к ручью: — Опять зовут под атамана Ивашку Заруцкого. Сказывают, он ушел под Астрахань. С ним и с паном Лисовским нынче гуляют и донцы, и черкасы[5].
— Все одно вернемся на Дон, — подавил зевок Пантелей. — Больше некуда! — Потянулся до хруста в затекших костях. — Бояре — и те, что с нами были, и те, что против нас, — все теперь возле царя. Они меж собой помирятся, а нам обид не простят, — выдал назойливые мысли, опоясался и безнадежно добавил: — Было бы за кого воевать!
— Не за Ивашку же Заруцкого с паном Лисовским! — сверкнул задиристыми глазами старый казак. Тряхнул плечом, придержал правой рукой левую, обмотанную окровавленными пеленами.
В годы молодости Рябого Шадра отец Пантелея Пенды был уже старым казаком. Они вместе ходили на ногайцев: Шадра в свой последний, а Рябой в свой первый набег. Старик добыл там на саблю девку-ясырку[6] из плененных казачек и стал жить с ней наперекор станице, считавшей женатого казака пропащим и пенным — провинившимся. В яме, крытой камышом, они прижили сына.
С малолетства Пантелейка чудил: то был не в меру горяч и говорлив, то спал на ходу и умолкал на недели. Погодки на лету схватывали житейские навыки, а он, если начинал спрашивать-переспрашивать, — тихого доводил до брани, горячий за плеть хватался.
Пенного Шадру на казачьи круги не звали. Грозили по обычаю забить до смерти и ограбить, если станет, как мужик, пахать и сеять. Делали вид, будто не замечают тайных огородов, терпели за былые заслуги, раны и старость. Зато Пантелейке от самого рождения достались даром отцовская слава и его честь — он был свой, станичный, родовой казак.
Сам неграмотный, больше всего желал старый Шадра, чтобы сын стал писарем. Не было, по его разумению, в казачестве доли завидней. Атаманы, есаулы — только в походах власть, после снова голь, как все. Иных, бывало, подначальные люди и повесят после неудачного набега. А писарь — он всегда писарь и всегда в почете.
Едва научившись слагать буквы, Пантелейка вдруг заявил, что восчувствовал призвание к монастырской жизни. К нему уже в те годы пристало прозвище Пендус — старое топкое болото со всякой нечистью. Отец порол сына под горячую руку, хотя знал, что только распаляет его непомерное упрямство. Как умел, лечил от сглаза: думал, приворожили отрока калики-странники, проходившие станичными юртами.
Пантелейка же в отместку стал ходить к попу в острог учиться грамоте. Чем он попу не приглянулся, о том в станице говорили по-разному, но и драл тот его лозой, к злорадству старого Шадры, и гнал со двора. Христом Богом молил и отца, и самого отрока от него, темного постриженника, отвязаться. Но принудил-таки Пантелейка благочинного обучить себя грамоте. А притом всем на диво выучил Святые Благовесты и Жития святых. И когда поп, поражаясь успехам настырного ученика, стал звать его в дьяконы, заявил, что в монахи идти раздумал, а к белому поповству призвания не имеет.
Еще юнцом, в казачьих малолетках, Пантелей с таким рвением служил царевичу Дмитрию в кремлевской охране, что попал в его ближайшее окружение. Станичникам стало неловко звать его Пендусом или Пентюхом — стали называть Пендой. И когда чужаки удивлялись непонятному прозвищу, плутовато посмеивались: чтобы все понять, надо было знать и Пенду, и Шадру, и все хопровское отродье.
Прочили старые казаки — быть Пенде наказным атаманом в Раздорах[7]. Но судьба молодому и ревностному казаку была писана рукой трясучей, завязана пальцами корявыми. При царском венчании в Кремле, когда бок о бок усадили на трон малорослых царя Дмитрия с царицей-паписткой, все видели, что они ногами не достают до коврового половика, всем было смешно, но бес дернул за язык одного лишь Пендуса, и он вслух обозвал царя с царицей карлами. Вместо наказного атаманства молодого станичника секли кнутом. Били усердно, но головы с плеч почему-то не сняли. В тот раз он удивил хопровцев не столько своей бесноватостью, сколько Божьей к нему милостью.
После мнимой, подлинной ли гибели царя Дмитрия, мнимому или подлинному служил ему Пантелей под Тушином. Наученный кнутом, от дворни и бояр держался подальше. И в те годы собрал он вокруг себя разных малолеток из беглых холопов и посадских детей, которые своей удалью удивляли даже старых казаков.
Под Калугой, когда атаман Ивашка Заруцкий велел станице целовать крест царенку Ивану Дмитриевичу[8], Пенда, уже в пятидесятниках, в казачьей старшинке, орал на круге поносные речи, обзывая того Маринкиным выблядком. Боясь мести не раз предававшего станицу атамана, хопровцы решили укоротить пятидесятнику язык. И волокли уже его на плаху. Но станичная молодежь, подстрекаемая прибранной голью — Третьяком да Ивашкой Похабой, — отбила Пенду. Старшинку молодые удальцы бесчестили, станичному атаману его же булавой голову пробили.
Смута, судьба да Божья воля всех помирили. Ивашка Заруцкий с малым окружением вскоре бежал из земского войска. Воровского царенка повесили. Станичники перед Пендой повинились, атаман свою пробитую голову ему простил, а нынешним летом засучил ногами на царской виселице. К этому времени от двух сотен хопровцев осталась треть израненных, износившихся казаков…
Возле костра, куда Рябой привел Пенду, тесным кружком сидели полтора десятка воровских литвинов[9]. Были они по обычаю их страны при длинных усах и выстриженных бородах, в белых колпаках да в разной драной одежонке. Иные обуты в лапти и чуни[10]. Пробирались литвины из подмосковных лесов к Ивашке Заруцкому. Они не прочь были соединиться к зиме и с паном Лисовским. С жадностью доедая данный станичниками хлеб, рассказывали, что избранный на царство Романов со дня на день будет сброшен прощенными им боярами — известна верность жидов крещеных да врагов прощеных. И король Жигимонт грозит Московское царство предать огню за сына, которому на Руси крест целовали, а после отреклись.
Слушая их, старые казаки да поротая царем старшинка качали кручинными головами: другой уж год как Михейка Романов сидит на престоле, а отец его, Филарет, в патриаршем клобуке нынче един на всю Русь. Раз до поздней осени дожили, до лета теперь продержатся.
Еще сказывал один из литвинов, будто видел Ивашку Похабу, входившего в круг хопровской станицы. Пенда поднял голову, насторожился, сбил на ухо островерхий колпак, бросил быстрый взгляд на брательника[11] его, Угрюмку, жавшегося к старому казаку Кривоносу. В ветхом охабне с широкого чужого плеча, юнец походил на взъерошенного, испуганного воробья с переломанными крыльями.
— Жив Похаба! — отвечал литвин на оживленные расспросы. Рад был, что принес приятную весть. — Божьей милостью сидит в темнице Троицкого монастыря с попами, беглыми холопами и казаками. — Расправляя казанками пальцев пышные усы, литвин благостно закладывал кусочки хлеба за губу, жевал и говорил: — Богатый муж, которому Ивашка когда-то, в юнцах еще, дал на себя кабалу от голода, требовал его в свой дом на вечное холопство. Но царь не выдал Похабу за службы в земщине и после кнутов приговорил отправить его в Сибирь, в Сургутский острог через Пермь и Верхотурье…
Принесли литвины и весть о царских милостях Донскому войску: будто догоняют станицу государевы послы с жалованным всем донским казакам войсковым знаменем за помощь в спасении Русского государства, «чтобы было с чем против недругов стоять и на них ходить».
Третьяк, малорослый товарищ Пенды, как услышал про Похабу, так и впился пытливыми глазами в заспанное лицо пятидесятника. Это был чудной казак — за двадцать с лишним годков не вышел ни ростом, ни дородностью, ни бородой, а потому смотрел на всех пристально и строго, будто пытал, нет ли в ком насмешки над его видом. А расшалится, бывает, с юнцами — и не отличишь его от недоросля. Пенда, поймав на себе взгляд Третьяка, недовольно хмыкнул в бороду, мотнул чубатой головой и опустил долу изверившиеся глаза.
Станичники стали шумно обсуждать весть о царской награде, об обозах с хлебом, высланных Дикому полю[12] в придачу к знамени. Казаки повеселели и готовы были принять их как пеню[13] за кремлевский разбор. Станичный круг решил ни к Ивашке Заруцкому, ни к другим воровским атаманам не приставать, против православного мира не идти, но выждать и посмотреть, как Москва станет ладить с казаками.
Утром, расставшись с литвинами, станичники двинулись дальше. Вскоре замела по степи поземка. К Михайлову дню отряд повернул к знакомым верховьям Хопра. Коней казаки берегли, подолгу выпасали, где моталась на ветру высохшая трава. К острогу на устье не спешили и вестовых вперед не высылали — не было надобности встречать их, порубленных и нищих.
На крутобокой кобылке, стремя в стремя с Пендой, рысил по ноябрьской степи его товарищ Третьяк. И все буравил, все пытал пятидесятника немигающими глазами, пока тот не вспылил, оторвавшись от гривы конька:
— Ну чего тебе?
— Похабу спасать надо! — придерживая поводья, прошепелявил Третьяк выстывшими на ветру безусыми губами.
— Может, и надо, — неохотно согласился Пенда. — А может — не надо! Ивашку не спросишь.
Угрюмка, чужак в станице, недоверчиво поглядывал на невзрачного казачка. Голь, верстанная из таких же, как сам он, сирот-бродяг, Третьяк подговаривал казаков соединиться в отряд вольных гулебщиков и отбить Ивашку на пути в Сибирь. Казалось Угрюмке — куражится тщедушный казачок. По себе знал: голь на выдумки хитра и сильно догадлива, как прокормиться и выгоды извлечь. При скупости с камня лыко дерет, шилом горох хлебает — и то отряхивает. А в станице давали хлеб каждый день.
Не вступая в станичные споры, он держался возле старого Кривоноса, опекавшего его, как прежде опекал брата Ивашку. Опасался, что озлобленный казачий круг может повесить не только Третьяка, бунтовавшего с Ивашкой против станичной старшинки, но под горячую руку вздернет и его, Угрюмку, за былой грех брата и за сговор.
На Хопре, на походном стане, по старому казачьему обычаю Третьяк вышел на круг, бросил колпак под ноги и призвал добровольцев постоять за товарища. То, что откликнулся Ивашкин дядька Кривонос, Угрюмку ничуть не обрадовало. Старый казак Васька Рябой да бывший удалец Пантелей Пенда бросили свои колпаки рядом с колпаком Третьяка. Вот и все доброхоты.
Станичный круг решил против царя не идти, но гулебщикам, если они захотят порадеть за товарища на свой страх и риск, — не отказывать. Отряд двинулся дальше своим путем, а четыре казака да Угрюмка, за спиной Кривоноса на крупе его коня, повернули в другую сторону, на Волгу и Каму, к Перми.
Угрюмка боялся затеянного Третьяком дела, не верил, что брата можно отбить у самого царя. Но в станице прилепиться на зиму было не к кому, и ему ничего другого не оставалось, как довериться своей безысходной сиротской судьбе.
В Пермь-город, не разоренный Великой русской смутой, они прибыли в середине апреля. К радости местных жителей, в тот день с треском разорвало лед, по которому шла талая вода. Река вскрылась. У зимовавших здесь казаков станичники вызнали, что царский обоз со ссыльными ушел на Чусовую-реку по зимнику и где-то там застрял из-за распутицы.
— Ну вот! — то ли обиженно, то ли облегченно всхлипнул Угрюмка.
Рябой же беспечально ответил:
— Захотел на Марью кислых щей! Догоним! Сказывали наши люди, будто видели Похабу при сабле, а не в колодках.
Казаки продали отощавших лошадок и, к Угрюмкиной затаенной обиде, загуляли, ожидая конца половодья. Здесь застала их весть, что нынешней зимой лихой атаман и тушинский боярин Ивашка Заруцкий под Астраханью отдал Богу душу на добром и остром колу.
— Эх! Эх! — вздохнул Кривонос, крестясь и кивая на закат. — Прогневили Господа! Не будет там ни мира по старине, ни правды по Писанию, пока не станем за свой народ радеть, как Господь радел за единокровных по плоти.
Пенда хмуро помалкивал и пил вино, печалясь по своему гнедому. Навязчиво вспоминалось ему, как конь, проданный богатому мужику, удивленно задрал бесхитростную морду и с укором заржал, глядя на бывшего хозяина. От того конского взгляда стонал казак, уронив голову на кабацкий стол. А как услышал слова Кривоноса, так взбеленился.
— Где он, наш народ? — закричал, стряхивая кручину с глаз. — Забыл, как вы куренного Петруху хотели за царя выдать и на царство посадить? Не успел он ложно объявить себя — запил, загулял, захотел друзьям головы рубить за обидные слова… Тьфу! — плюнул под ноги, на тесовый пол: — Поганая кровь! — И выругался так, что, услышь его Богородица на небесах — заткнула бы ладонями свои Пречистые уши и лишила бы казаков благодати. Слава Богу, кабацкий люд Она ни видеть, ни слышать не желает.
— Ты Бога-то не гневи! — соскочив с лавки, завопил тощий как пес Рябой. — Прежде не укоротили язык — сейчас вырежем! — пригрозил, крестясь и тыча перстом в молодецкую грудь Пенды. — Сам Господь — не царям с боярами чета — с рождения от единокровников претерпевал гонения. Знал наперед, что предадут и распнут, но на казнь пошел за ту кровь, что текла в Его земных жилах, — вдруг через покаяние народ и спасется! Так то Бог! А ты кто, чтобы хулить данную Им тебе кровь?
Глаза Рябого пылали, шрамы оспинок налились кровью, бороденка дергалась. Пантелей побагровел, взглянул с бешенством на дядьку, но не нашелся, что ответить. Рот его стал подергиваться, кривиться, пальцы беспокойно сжались в кулаки. Он опустил лохматую голову. Не поднимая гневных глаз, допил из кружки, упал на лавку и вскоре захрапел.
Шел год одна тысяча шестьсот пятнадцатый от Рождества Христова: третья весна шаткого воцарения юного боярина Михаила Романова. Той порой на пути к Перми случайно сошлись две ватажки — устюжских и холмогорских торгово-промышленных людей. И бились они заодно на дорогах с разбойниками, и вместе откупались от властей. По вскрытии же рек пришли в Пермь-город.
Протрезвевший Рябой на шумном весеннем базаре покрутился возле холмогорцев в добротных кафтанах заморского сукна и вскоре вошел к ним в доверие. Через них он сошелся с устюжанами в московских штанах, в которых казаку ни сплясать, ни ногу задрать. Вызнав нужды торговых людей, Рябой привел к устюжанам и холмогорцам своих товарищей. В посадском храме казаки и Угрюмка целовали им крест — бурлачить и обозничать до Верхотурья-города без платы, за один только прокорм в пути.
На Василия-землепара, отстояв литургию в том же храме и отдав обетное число поклонов, обозники двинулись в Сибирь по Чусовой-реке, тем самым путем, по которому хаживал Ермак Тимофеевич — славный донской казак.
Вечерело. На отмелях разбитой волоками речки скрежетали днищами струги. Хрипели измотанные переходом бурлаки. Возницы стегали уставших лошадей и все одинаково чутко ждали конца дня. Еще не подал знак передовщик, а гулящим казакам почудилось, будто ветер прошелестел в ветвях могучих кедров: «Слава Тебе, Господи!»
Обоз подтянулся к стану с тремя ветхими шалашами вокруг выстывшего кострища. Остатки дров были заботливо покрыты берестой. К востоку в двадцати шагах от разбитого вязкого ручья стоял крытый черный крест.
Хмурые вогульские[14] ямщики распрягли тощих лошадок и попадали на войлочные потники. Холмогорские и устюжские промышленные люди обступили крест, скинули шапки, запели, крестясь и кланяясь, «Отче Егорий, моли Бога о нас…». В тот час по монастырям да по церквям на Руси служилась вечеря на весеннее поминовение великомученика Георгия Победоносца.
Донцы тоже побросали бурлацкие постромки там, где стояли, упали на сухую хвою под ближайшим деревом, стали стаскивать с себя мокрые, раскисшие бахилы. Легкая выворотная обувь с высокими мягкими голенищами, пропитанными дегтем, удобна по воде бродить и по лесу ходить, но к концу дня, осклизлая, она висла на ногах огромными разбухшими пузырями. Сбрасывая ее и поскуливая, Угрюмка кутал остуженные ноги в мокрые полы ветхого охабня. Рябой, едва разулся, стал ломать сухие ветки над головой. Прислушиваясь к пению промышленных, просипел простуженным горлом:
— А ведь завтра наш, казачий, Егорий!.. Голодный!
— Мы привыкшие! — с кряхтеньем развязал скользкие узлы и сбросил бахилы Кривонос. — Что на Егория у волка в зубах — и тому рады!
Третьяк резво вскочил на босые ноги, приплясывая, тоже принялся с треском ломать сухие сучья и бросать их Рябому.
— Купцы — скупцы! — насмешливо скривил безусые губы. — Складники[15] не лучше. Холмогорцы и вовсе жадны. Но на Егория хлеба дадут. Побоятся Бога!
Сивобородый Кривонос, не поднимаясь, пожал плечами, постучал кремнем по железному кольцу на ножнах и стал раздувать трут, вытягивая шрамленые губы. Вскоре под сосной у ручья задымил костерок.
Вот и скатилось солнышко красное на закат дня, ушло в истерзанный западный край, где выжженная земля была обильно полита христианской кровью, засеяна костьми. Заря-зорюшка, темная да вечерняя — девица, швея-мастерица, с блюда серебряного взяла иглу булатную, вдела нитку шелковую, рудожелтую, стала зашивать небесные раны кровавые. Наступили сумерки.
Вогульские ямщики, стреножив коней, так и лежали, не разводя огня, ждали обозного харча. Устюжские и холмогорские складники до сумерек готовили дрова, чинили ветхие шалаши. Уже в потемках они развели большой костер, стали готовить ужин и печь хлеб. От запахов, доносившихся с табора, обсохший Угрюмка то и дело сглатывал слюну.
По своему обычаю казаки съели полученный вчера хлеб за один присест и весь день постились. Угрюмка тоже съел все, что дали, хоть расперло от того живот. Он знал наперед: оставь на другой день краюху — придется делить ее на всех; надери с молодых сосенок заболони, навари — казаки съедят, а сами не пошевелятся, чтобы подкормиться. Приглядываясь к промышленным людям, у которых жизнь была устроена по чину, юнец с досадой думал, что его товарищи неправильные.
Щуплый Третьяк в зипуне с длинными до колен рукавами сходил к ватажному костру, взял казацкий пай толокна — сиротской овсяной муки — и хлебного кваса. Рябой, Кривонос и Угрюмка стали заваривать толокно кипятком. Третьяк с Пантелеем Пендой съели его сухим, запили квасом и легли у костра, согревая то один бок, то другой.
Пенда щурился на угли и молчал, как молчал с утра до вечера всю дорогу. Рябой, присматривая за ним, пояснял, что его призорила дочка Иродова — тоской-кручиной сушит кости молодца, недугами мучит. Он знал старый заговор, от которого у той девки глаза бы сквозь затылок вылезли. Пенда его шептаньям не противился, но и на веру их не принимал. Рябой еще и себя лечил — свою то и дело открывавшуюся сабельную рану.
Кривонос зевнул, крестя рот, блеснул глазами, перевернулся набок. Из сивых спутанных с бородой волос выглядывала плешина лица, перечеркнутая глубоким рубцом со вздыбившейся пипкой ноздрей. При свете костра да без шапки — таким только нечисть пугать.
— Угрюмка! — прокашлявшись, позвал ласковым голосом. — Сходи послушай баюна, после мне расскажешь!
— Угу! — послушно кивнул юнец, зябко придвигая к огню черные потрескавшиеся пятки: бахилы не просохли, а по холодной весенней земле идти босиком ему не хотелось.
Но вот они с Третьяком накинули на плечи подсохшую одежду и растворились во тьме. Нехотя поднялся Пенда, подхватил саблю. За ним, босым как все, неслышным шагом ушел Рябой. Кривонос отодвинул от разгоревшегося огня дубеющую от высыхания обувь, поворочался с боку на бок, но не уснул и тоже пошел следом за всеми.
Возле большого ватажного костра кружком сидели устюжане и холмогорцы. Одни в московских валяных шапках горшком-кашником, другие в новгородских — высоких и прямых с отворотом. Кольями торчали казачьи колпаки, на Угрюмке был шлычок непонятного вида: худая головная покрышка.
Все слушали белого как лунь старца. Баюн кормился сказками. Где-то на Каме-реке его подобрали холмогорцы. Нищих Бог любит — за то, что те Бога любят и почитают истинно. Убожья рука — счастливая. Желая милости Божьей и удач своему делу, они уговорили старца идти за ними в Сибирь за прокорм, одежду и православное погребение.
Кривонос приблизился к большому костру, когда старик закончил сказ о Егории Храбром, родившемся на святой земле православной от матери Софии, честно мужней вдовы. Теперь, посапывая, он отдыхал, а промышленные люди тихо переговаривались, прислушивались к звукам черного леса, поглядывали на звездное небо. Вредный устюжанин Нехорошко, редко выходивший из всегдашнего злобного раздражения, не удержался и напомнил дремавшему старцу:
— Неделя уже как идем Ермаковыми поприщами, а ты все только сулишь попеть о сибирском любимце богов! — Голос устюжанина проскрипел немазаным тележным колесом. Старичок со сморщенным лицом, с длинными, ниже ключиц, седыми прядями, с белой бороденкой клином вздрогнул и открыл тусклые глаза.
— У меня память хлестка! — похвастал дрожащим голоском. — Про богатырей и про людей Божьих пою. Народ хвалит… Вроде «Сон Богородицы» просили? Нет? Могу про Ермака! — Расправил седые усы, помолчал, что-то припоминая, поднял глаза к звездному небу: — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!.. — перекрестился. — Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича Поволжского, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим достойную хвалу!
— Помяни, Господи! — хором подхватили ватажные.
Торопливо пробормотав молитву, перед началом всякого дела читаемую, и щурясь на пылавшие угли, старичок заговорил нараспев:
— Вспомним, как Господь Ермака Тимофеевича с товарищами прославил и многими чудесами превознес. Как отреклись воины Христовы от суетного мира и недолговечного своего житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа, желая только ему угодить да царю-государю послужить, да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за православную веру христианскую. И в том уверившись, ожесточили сердца свои непоколебимо: оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать…
Старец заунывно замычал, выводя носом и горлом мелодию, запел, растягивая слова, сначала тихо, потом громче и громче. Он умолкал, чтобы набрать в грудь воздуха, и снова, носом и горлом, выводил ту же песнь. Казалось, будто звучало два голоса: один сказывал, другой изображал вой ветра, шум и рокот рек, шелест листвы.
А пел он о том, как после крещенских морозов, на день памяти святых чудотворцев Кира и Иоанна, пришли к Строгановым с Волги казаки-атаманы и Ермак Поволжский, чтобы люд православный да мирных татар оборонить супротив разбойных басурман, грабивших окраины сибирские. И прожили те атаманы с казаками в строгановских острожках два года и два месяца.
А после на память преподобного отца нашего Симеона Столпника, двинулись в Сибирь против воровского сибирского султана, московского данника и клятвопреступника Кучума.
А как ушли они, случилась беда: напал на строгановские и ближние татарские земли пелымский князь с войском, селения разорил, Чердынь-город осадил и едва не взял его на саблю, села, деревни, посады пожег, многих жителей пленил. А как узнал, что русские ратные люди ушли в Сибирь, испугался за дом свой и бежал с позором, бросив награбленное добро и пленников.
А в те поры Ермак, по неведению, да по ложному ли научению, повернул по реке Сылве и шел по ней с казаками, пока не наступила зима. Люди его поставили острожек по-промышленному, зимовали, воевали с вогулами и брали богатую добычу, за которую благодарили Бога, срубив часовню во имя Святителя Николы.
И была казакам во всем удача. Но страшила она, легкая, атамана. Велел Ермак есаулам следить строго, чтобы блудом да греховными делами сотоварищи на всех на них не навлекли гнева Божьего. Кто нарушал закон казачий, того всенародно ковали в железа на три дня; кто в грехах упорствовал да пытался вспять бежать, тому сыпали песок за пазуху и бросали в воду. И было казненных в ту зиму двадцать человек.
Жили казаки привольно и сытно. Но томила их кручина, что славы им так вовек не добыть, за дело богоугодное, за Русь святую не порадеть и грехов за прежние свои вины не отмолить. Не хлебом единым живы — собрались на круг и решили начать все заново, вернувшись с войском своим к Строгановым…
Начальными словами о Ермаке Тимофеевиче так пронял старик Пантелея Пенду, что у того зачесался шрам под бородой. Рядом с ним засопел перерубленной переносицей Кривонос, за спиной покрякивал Рябой — старым казакам тоже стало не по себе.
А на весеннем небе ясно и радостно вызвездило. Тишина вокруг да благодать. Вот месяц золотые рожки выскользнул из-под свода. С верховий ручья дохнул свежий ветерок с запахом талой земли. Кутаясь в зипуны и кафтаны, холмогорцы с устюжанами придвинулись к огню. Кто-то из молодых промышленных подкинул на угли хвороста. Пламя взметнулось к небу, народ, кряхтя и морщась, раздвинулся, заслоняя рукавами лица от жара и дыма.
— Если вернулись, за что ж тогда двадцать товарищей своих утопили? — звонким юношеским голосом задорно спросил Федотка Попов.
Это был пятнадцатилетний баловень, младший брат-заскребыш[16]холмогорского пайщика и ватажного передовщика Бажена Алексеева Попова. Поповских родственников в обозе было много, и Федотке как младшему дозволялись шалости, за которые его погодков наказывали.
Холмогорцы, радетели и блюстители древнего новгородского благочестия, приглушенно заворчали: юнец перебивал старца! Сивобородый передовщик пригрозил братцу пальцем. Устюжане осуждающе промолчали. Среди них были Федоткины одногодки. Им так не потакали.
Тишина стала томить. У костра решили, что старик задремал. Но тот, клюнув носом, встрепенулся, поднял сморщенное лицо с вислыми белыми прядями по щекам, поискал запавшими глазами Федотку.
— За то казнили, что тайно бежали, братскую клятву порушив, а войско вернулось по общему решению! — ответил подрагивавшим голосом.
— Что мир породил, то сам Бог решил! — поддержали сказителя складники.
Казаки — Пенда, Рябой и Кривонос — одобрительно хмыкнули в бороды. Третьяк прищурился, метнув быстрый, пристальный взгляд на старца.
Угрюмка шмыгал носом и водил глазами, наблюдая за собравшимися. Думал с тоской: «Еды всем хватало, добра было много, часовню в острожке поставили — чего не жилось?» Знал, не любят казаки запаса: крест на шее, оружие да носильное, что на плечах, а все иное — обуза. С ними наголодаешься.
Передохнув, старик повеселел, как крылья, откинул за острые плечи белые волосы, шевельнул вислой бороденкой, снова запел сипловатым голосом — о том, как после пелымского разорения были Строгановы к казакам ласковы, потому что не стало порядка в соседней земле Сибирской — в вотчине московского царя. Там хан Кучум, порушив свои и Едигеровы клятвы, подстрекал подвластные ему народы к разбою.
На этот раз не пожалели Строгановы для казаков ничего, в чем у тех была нужда, лишь бы проучить мятежного хана. Дали они им три пушки, а на каждых сто воинов — знамя, украшенное образами, в доспехи всех облачили, послали с ними попа и людей, вызволенных из татарского плена: литву, татар, русичей и немцев, чтобы ратным подвигом окупили свою свободу. И набралось полтысячи казаков да полсотни бывших пленников.
Атаманы с казаками да с наемными людьми приняли от Строгановых прощение Христа ради, отдали друг другу последнее целование и пошли к стругам, обещая, если Божьей волей возвратятся благополучно и с хорошей добычей, не только возместят добро, но и отблагодарят сверх того. А если выпадет доля горькая — клялись помянуть на том свете, перед светлыми очами самого Господа, благодетелей своих, Семена да Максима Строгановых.
По Чусовой-реке до устья Серебряного ключа, на котором затаборился обоз промышленных людей, дошли ермаковские сотни только к холодам…
— Что так мало шли? — прошептал Федотка на ухо брату, да так громко, что получил затрещину от кого-то из родственников.
— Здесь приказал Ермак рубить избы и крепить их стоячим тыном. Развалины его зимовья поныне, сказывают, целы, — пропел старец и продолжил о том, как пленники указали Ермаку речку Баранчу, что была в десяти верстах от него на сибирской стороне. И впадала она в Тагил. Атаман хотел перетащить туда волоком свои большие струги, чтобы не строить новых, но среди вековых деревьев и скал это сталось его людям не по силам. И бросили они свои большие суда…
Старик будто задумался, свесив голову, и вдруг тихонько всхрапнул.
Приглушенно загалдели люди, стали неспешно расходиться по шалашам и стругам. Кто-то мостился на ночлег у костра. Поднялся и Угрюмка. Зевая, пошел следом за казаками.
Еще на Каме-реке бывальцы пугали ватажных складников трудным волоком из Чусовой в Туру. Но говорилось это людьми, ищущими выгоды от промышленного обоза. С хитрыми пермяками в черных шлычках соглашался старый ермаковский казак Гаврила Иванов: оглаживал серебряную бороду, что-то старался припомнить и уклончиво ворчал — где, дескать, легко было? С большим почетом и подарками его приняли в обоз попутчиком на ватажный харч. Но ермаковец на Чусовой и на Тагиле реках бывал лет тому тридцать назад, а в Москву ходил через Лозьву и Чердынь[17], где нынче вольный торг был запрещен, а соболь выбит. Теперь он возвращался в Тюменский острог. Хвалился, что, подарив воеводе добытого в бою коня, ездил с ясачной казной на Русь просить у нового царя за долгие и верные службы атаманскую должность.
Когда обоз подошел к устью Серебряного ключа, обнаружилось то, о чем, предупреждали пермяки: здесь была прорублена дорога, мощенная гатями, и ямское подворье, содержавшееся вогулами. Складники же с чужих слов думали, что дорога та — не дорога, а конная тропа, а кони у вогульских ямщиков — полуживые одры.
Как ни плохи были кони, да и сами вогульские ямщики, державшие ям по принуждению, но обозу, ждавшему на Серебряном ключе больших трудов и расходов, было облегчение. Тут и открылось складникам, что можно было обойтись без донцов, нанятых в Перми. По крестоцелованию они продолжали давать им харч, но всем своим видом выказывали недовольство. Долгогривого, длиннобородого Пантелея иначе как пендюхом — то есть болваном, спать да брюхо чесать, — меж собой не называли. А нынче у костра, слушая баюна, делали вид, будто не замечают казаков.
— Ишь как разбирает ярыжников! — мостясь у раздутого огня, насмешливо прогнусавил Кривонос, скрюченными пальцами затолкал бороду под войлочную рубаху, до дыр стертую кольчугами и латами. — Прямо позеленели от злости, глядят, будто извести хотят. — Он сипло хохотнул и улегся.
Рябой, кряхтя и охая, снимал кафтан. Порубленная и натруженная рука ныла к ночи. Когда в Перми он убедил складников взять казаков бурлаками, сытые, не разоренные лихолетьем пермяки, искавшие заработка у проходящих караванов, от досады плевались, обзывая пришлых донцов голодранцами и ушкуйниками.
Пантелей Пенда полулежа, как дикий зверь, смотрел на угли, жевал сухую соломину крепкими зубами. Не стриженные после московского разбора[18] волосы рассыпались по молодецким плечам. По его хмурому лицу метался отсвет костра. То темнели, то высветлялись его глаза.
Рябой своим знахарским глазом видел, как билась в груди молодца тоска, корчила изнутри душу. Распеленав свою кровоточившую рану, он пошептал над ней заговоры, прочел молитву Пречистой Богородице, пробормотал напоследок: «Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань…» Приложил к ране сухие травы, стянул ее туго и улегся.
— Зверьми зыркают, — опять пробормотал Кривонос недосказанное. — Дай волю — сожрали бы… За грош с чертом породнились.
— На то и купцы! — вытягиваясь на спине, прокряхтел Третьяк. С саблей под головой он лежал на зипуне в одной холщовой рубахе и смотрел в небо.
— Новгородцы — народишко скандальный, на злое слово скорый. Я сам из них, знаю, — перевернулся другим боком к огню Кривонос, как девку, прижимая к груди кривую ордынскую саблю.
— У голодных брань на шее не виснет, — раздраженно зевнул Третьяк. Ему не хотелось слушать пустопорожнюю болтовню, мешавшую мысленно прочесть молитву на сон грядущий.
Во тьме хрустели сухой прошлогодней травой уставшие кони. За деревьями тявкала лиса. Сонные потревоженные рыбы плескались в ручье. Ветер ли пробежал по верхушкам деревьев, леший ли, потряхивая ветвями, прислушивался к разговорам.
Смущенно покашливая, появился из тьмы старый тюменский казак Гаврила, который с Ермаком русскому царю на саблю Сибирь брал и в ней служил до сносу. Был старик бел как лунь и прям как оглобля. В казачьей суконной шапке, на сибирский манер обшитой куницами, в бухарском цветном халате под суконной киреей[19], он присел у костра, вытянув ладони к огню. На груди ермаковца поверх халата на толстой цепи висел полуаршинный кедровый крест. Глаза старика поглядывали молодцевато и весело. Кабы не морщинистая шея да не вислая кожа на запястьях, кто бы поверил, что он лет на двадцать старше старых уже Рябого и Кривоноса.
Третьяк с Пендой встали и поклонились. Угрюмка неловко подскочил и затоптался, не зная, как приветить старика. Кривонос с Рябым отодвинулись, уступая ему место возле огня и берестяную подстилку.
— Умудрил Господь старца! — удивленно покачал головой ермаковец, вспоминая сказителя. — Воистину, сердечное умиление! Здесь ведь все и началось! Тут каждый судьбу принял! — говорил, взволнованно озираясь, будто только что закончилась песнь. — Одни назад побежали и бесславно головы сложили, другие вручили жизнь Господу да атаману, и вышло кому как на роду писано… Мне-то куда было бежать? Десять лет с Ермаком казаковал. Вроде вас, нагрешил против Господа, против людей православных — в монастыре не отмолиться.
Ермаковец ласково взглянул на Угрюмку, перевел взгляд на иссеченные шрамами пальцы Кривоноса, на его лицо и вздохнул с укоризной:
— Мы Сибирь строили, вы — Русь разоряли! Нынче иной дорогой едешь — одни пустоши. Вроде вся земля беглецкая! — Он помолчал и добавил: — Туда шел с казной, чуть не каждый день от шишей[20] отбивался. За что про что у вас брат на брата так озлобился? Ничего не пойму.
— Не уживаются вместе, когда один на другого похож и оба к одному руки тянут! — процедил сквозь зубы Пенда, выдавая сокровенные мысли.
— Ты откуда родом-то? — хмуро спросил Кривонос ермаковца.
— С Поля, — браво улыбнулся старик щербатым ртом. — Где родина у казака, как не в Диком поле?!
— А я из новгородских вольных крестьян, — заговорил сердитым звонким голосом, без обычной гнусавости. — Много деды мои зол претерпели от московского холопья. С тех пор как Захарьин-Юрьев — родич нынешнего царя, опричнину на Новгород привел — не поднялись уже. Черносошные и те в Дикое поле уходить стали. И я на земле маялся нуждой, старался одолеть ее трудом, да только озлился. Думал уж, грешным делом, хоть бы сдохнуть скорей. Потом бросил все и ушел в Поле. А вскоре новый царь объявился. Мы его на Москву привели: при мне старая царица, мать-монахиня Марфа, целовала, сыном звала, бояре узнавали, Святой крест ему целовали. А после отреклись: подложный-де был — монах беглый… Это бояре на Москве испоганились! Бориску отравили, сына его удавили. Дмитрия-царя извели, царенка его на воротах повесили. Ваську Шуйского в монастырь заперли. Патриарха прежнего умучали. Вот и наказал Господь!
— Довоевались! — вздохнул Рябой, сердито зыркая на разговорившегося товарища. — По самые локти в крови христианской… А здесь — Пермь сыта! Вторую неделю идем — никто пограбить не пробовал… Чудно! — хмыкнул и поскоблил впалую щеку под редкой бородой.
— Без греха не прожить! — смиренно согласился ермаковец. — И мы не из корысти кровь проливали: все за правду, за обиды. После Бог вразумил! — Старик перекрестился со светлой печалью в глазах. — Молитесь! Спешите покаяться и отслужить, пока живы. Не старые еще. Но жизнь — она быстро летит, а Бог — Он все видит!
Пантелей вскинул голову, дернулся, будто искра залетела под бороду. Рябой метнул на него настороженный взгляд и закашлял: не понравилось ему лицо казака. А тот, сдерживая занявшуюся ярость, стал спрашивать подрагивающим голосом, будто каменья из-за щеки выплевывал:
— Зачем тебе, казаку, наказное атаманство из царских рук? В Диком поле все равны от сотворения. А в Сибири, значит, уж и старые казаки почитают за честь поделить меж собой власть, как придворные царские холопы в боярских шапках!
Старик удивленно посмотрел на длинноволосого, долгобородого молодца, притаенно улыбнулся, качнул головой, будто прощал острое словцо и возникавшую неловкость, стал обстоятельно рассказывать, как хорошо быть атаманом в немощные лета: и жалованье вдвое, чем у казака, и муки, круп так же.
— А на печи кто тебе даст лежать? — усмехнулся в бороду. — Сибирь — она и есть Сибирь. Здесь новорожденному повитуха сперва саблю покажет, после материнскую титьку да родного отца. Тем и живы: сабля вострая в руке да Господь милостивый на небе. А больше на кого надеяться? — Старик задумался, снова пускаясь в воспоминания, и вдруг осекся: — Я к вам по делу, казаки. У меня в шапке грамота Сибирского приказа. А в той грамоте царев указ — заковать буяна, сына боярского[21] Ваську Сараева с атаманом Евстратом. Посланы они были для служб, но, в Сибирь второй год едучи, в вотчине боярина Митрия Годунова крестьян били и грабили, одного из пищали убили, коров, свиней постреляли, многим ямщикам прогоны не платили… До Перми, по указу, я во всех селах за грабеж сыскивал и пытал расспросами: знаю, кто из атаманов, казаков и детей боярских в чем повинен… Своей властью могу любой обоз остановить, — горделиво приосанился старик, — и всех, кто при оружии, отправить на поимку буянов. И вас, гулящих, принудить к тому власть имею. Но какой в ней прок? — взглянул ласковей. — Купцы только за свое добро будут радеть. Поведу — пойдут, будто в штаны наложивши. У промышленных тоже радения к цареву слову нет. А вы, казаки, мне по душе. И купцы, вижу, вам не рады.
Старик опять благодушно взглянул на Угрюмку, примеряя его стать к своей молодости, и добавил:
— Надеюсь на вас, детушки!
Угрюмка сверкнул глазами, сжался в комок и уставился на угли, то и дело потряхивая плечами в сползавшем с них охабне. Казаки и ухом не повели на слова старого ермаковца.
— Послушаешь сказы — ваши-то дрались один против полусотни, — недоверчиво просипел Кривонос, поглядывая на ермаковца из-под нависших волос. — То ли брешут люди, то ли Бог так уж явно помогал?
Гаврила опустил голову в красной шапке, задумался и вдруг, всхлипнув, смахнул старческую слезу:
— Уходили за добычей и отмщением. От Строгановых, от церкви и от самого царя было благословение. А как помирилась Москва с ногайцами, так от нас отреклись: предали, как Христа… Отступить — татаровье умучит, на Русь вернуться — свои казнят. Бог рассудит! — сказал с жесткой хрипотцой и поднялся. — И на этом свете правда есть! Атамана Ермака Господь призвал на Преображение и дал ему погибель геройскую, а царя на другой год в муках и корчах, как ведьмака, прибрал на Дарью-грязнуху… Так-то вот! — С ожесточением погрозил кулаком во тьму.
Едва он скрылся, Угрюмка зашептал возбужденно:
— Сказывали, обоз братнин рядом!
— То мы не знаем! — раздраженно проворчал Пенда и перекрестился: — Бог ли помогает, бес ли прельщает? — Глянул на черневшие купеческие струги, мотнул головой вслед ушедшему казаку: — Без него тошно было, теперь и вовсе — будто камень на грудь положил.
— И мне душу разбередил, — проворчал Кривонос. — Обереги, Господи! Запоститься, что ли?
— Тишь-то какая, — бесстрастно зевнул Рябой. — Благодать! Ни порохом, ни падалью не пахнет — токмо прелой травой и листом. — Шумно, с сипением втянул в себя воздух. — Оно и легче, как этот Гаврила! Служи да служи в Сибири. Издали вроде и царь как царь, и бояре — люди. Коли других нет, этих почитать можно… Устал, прости, Господи! — шепнул со стоном, зябко кутаясь в зипун. — Ну да нам с Кривоносом, слава Богу, немного уж терпеть, а вам, коли не зарубят, не повесят да на кол не посадят, — еще грешить да грешить.
Едко дымил истлевающий костер. К утру на звездном небе опрокинулся черпак Медведицы. Устюжане с холмогорцами дружно кликнули святого Егория, разбудив всех работных. Рябой поднял голову, взглянул на ясные звезды, закряхтел, закашлял, пошарил рукой за изголовьем, подбросил сухих веток на кострище и стал раздувать огонь.
Проснулись Кривонос с Пендой, зазевали, крестя рты. Рябой поднес ладонь к носу, пробормотал:
— Егорий росу отпустил! Юрьева роса от сглазу и от семи недугов. Хвори снимает… Ну вот и дожили! Егорий на порог весну приволок, землю отпер, на теплое лето отпустил.
На таборе уже полыхал ватажный костер. Зашевелились Третьяк с Угрюмко, зябко поглядывали, как раздеваются казаки. Вывалявшись в росе, кряхтя от стужи, у огня присел Пенда, обтерся полой жупана, накинул его на голые плечи, стал сушиться. Крестясь, вышли на свет озябшие Рябой с Кривоносом, начали поторапливать молодых к купанию, пока роса не обсохла.
Серое утро неспешно наплывало из-за гор. Дремавшие в лапах кедрача птицы робко и сонно стали подавать голоса. Промышленные на таборе нестройно запели утренние молитвы. Громче заголосили пташки в лесу, призывая солнце. Заалел восток, разгоралась заря-зарница, полуночница.
«На Егория коням — отдых, казакам — веселье». Как ни спешили складники, но не взяли греха на душу: объявили дневку и отдых. Пополудни, подкрепив душу молитвой, тело едой и питьем, на таборе стали петь и плясать. Устюжане завели песнь про Божьего человека Алексия, как он, никем не узнаваемый, жил у отца на задворьях, как
…злы были у князя рабы его: Ничего к нему яствы не доносили, Блюдья-посуду обмывали, Помои на келью возливали.К казачьему костру опять подошел Гаврила-ермаковец. Его белая борода топорщилась помелом. Приняв приветствие, он сел, скинул колпак, размашисто перекрестился:
— Прости, Господи! И конца-то нет их заунывной песне. Уши вянут, и тоска кручинная сердце гложет, — раздраженно сверкнул глазами. — Споем-ка свою былину про подвиги благочестивых людей!
— Знаем и про матерого казака Илью Муромца, про волокиту Алешу Поповича, — подсказал Рябой. — Про то, как донские да волжские казаки дотла разорили ногайский город Сарайчик.
С радостью Олексий нужду принимает, Сам Господа Бога прославляет. Трудится он, Господу молится Тридцать лет да все и четыре… —доносилось с табора.
Старик сердито натянул колпак, тряхнул бородой и запел сильным голосом, стараясь заглушить чужую песнь:
Жалобу творит красна девица На заезжего добра молодца, Что сманил он красну девицу, Что от батюшки и от матушки.Третьяк в кафтане с длинными, связанными за спиной рукавами, с вырезами в них до самых плеч выхватил саблю, со свистом покрутил над головой и, притопывая, стал подпевать зычным голосом:
И завез он красну девицу На чужу дальнюю сторону.Заложив израненную левую руку за спину, тоже с саблей, стал приплясывать вокруг Третьяка Рябой, примеряясь скрестить с ним клинки.
В минуту затишья послышалась другая песня. Это холмогорцы, не претерпев до конца московских слез на византийской позолоте, завели песнь про удалого новгородца Ваську Буслаева. Как тот Васенька, на спор да играючи, в этих самых местах решил Урал-камень перепрыгнуть. Как груды белых черепов пророчили ему погибель. Не поверил им удалец, туда прыгнул, обратно скакнул, задел белой ножкой за хребет горный и оженился с белым горючим камнем, приложившись к нему с маху буйной головушкой.
Примолкли казаки, вслушиваясь в слова песни. А как закончили петь холмогорцы, Пенда усмехнулся зло и тряхнул долгогривой головой:
— Ни людям на пользу, ни врагу во вред, ни Богу в умиление. Расшиб башку нечисти на посмешище!.. Вот и мы так! — с вызовом, остро и сердито взглянул на Гаврилу, отвечая на вчерашний его вопрос.
К казачьему костру подступили устюжские юнцы: конопатый Семейка Шелковников, смешливый Ивашка Москвитин да Федотка Попов из холмогорцев. Они присели в стороне, зазывая Угрюмку с Третьяком сходить вверх по ручью, где, по сказам, стояли брошенные ермаковские струги.
— Знатно ваши поют! — взглянув на Федотку, похвалил ермаковец новгородцев.
Юный холмогорец скривил губы:
— Любят застолья. Наедятся, напьются допьяна, начнут хвастать, кто деньгами, кто сапогами, совсем дурак — женой. Потом подерутся, как водится. Пойдем уж лучше старые струги посмотрим.
Нахмурились казаки, не понравилось им, как юнец говорит о родне, но промолчали — не их человек, не им поучать. Сами грешны.
Ватажная молодежь и Третьяк с Угрюмкой убежали вверх по ручью. Устюжане, подобрев к вечеру, прислали казакам праздничной еды, рукобитьем не оговоренной. Московский люд хлебосолен.
В сумерках вернулся один Третьяк. Он бежал всю дорогу и теперь вытирал лоб шапкой.
— Завалило всех в пещере! Спасать надо! — одышливо крикнул готовившимся к ночлегу ватажным.
Бажен Попов трясущимися руками стал натягивать сапоги. Иные из холмогорцев начали срамословить казака, не понимая, как молодежь могла оказаться в пещере. Третьяк резко отвечал, не опуская пристального, немигающего взгляда. Остро щурились его влажные, обжигаемые соленым потом глаза.
— Спрашивал!.. Все живы, — неприязненно оправдывался перед наседавшими на него устюжанами и холмогорцами. — Не разобрать было завал одному — камни большие.
Вмиг собралось с десяток ватажных, готовых идти в ночь спасать родню. От казаков с ними пошел Пенда. С факелами отряд двинулся к верховьям ручья.
— Неспроста так встречает Сибирь! — сказал Рябой, задумчиво глядя в чернеющее небо. — Знак какой-то!
— Чего в пещеру-то полезли? — лениво зевнул Кривонос, лежавший у костра.
— Да клад ермаковский хотели сыскать! Еще чего ради под землю лезть! — ответил Рябой и пробормотал сонно: — Так и Сибирь — завлечет, заманит богатством всяким, а обратно не выпустит.
Ватажные со спасенными вернулись за полночь и разошлись по своим местам без обычного галдежа. Взбодрившийся, повеселевший Пенда молча лег у костра. Пламя высветило усталые лица Третьяка и Угрюмки. Рябой с Кривоносом сонно взглянули на них, плотней укрылись и ничего не стали спрашивать.
Разгоревшийся огонь обнажил во тьме тени обтянутых кожами купеческих судов. Угрюмка то и дело оглядывался на них, боязливо шмыгал носом. Вспоминались ему полусгнившие ермаковские струги, очевидцы и свидетели былинных лет. Они походили на огромных дремлющих зверей, терпеливо ждущих исцеления или кончины, еще издали пугали приближавшуюся молодежь. И тишина в пади была жутковатой. Ни сами струги, ни остатки стен Ермакова городка проходящие люди не трогали, хотя сухие дрова для костров приходилось таскать издали. И набожные русские, и заносчивые инородцы боялись прогневить воинственный дух любимца богов, знатного атамана.
Молодые залазили в струги, трогали деревянные уключины. Сквозь щели в днищах проросли трава и кустарник. Новые деревья обступали суда, подпирали потрескавшиеся борта. Иные березы, пропоров днище, парусили на ветру ветвями.
Тут и шепнул бес Угрюмке поискать ермаковский клад в пещерах среди скал. Расхрабрившись, он первым протиснулся в сырую темень подземелья. Слышал за спиной дыхание Федотки, перешептывание Семейки с Ивашкой. Вдруг перед ним замерцало во тьме лицо мужика с косматой бородой. Пытливые глаза пронизали сироту до самых кишок. Урюмка вскрикнул, отпрянув, сбил с ног Федотку. Хотел обернуться — не почудилась ли тень? Неожиданно тусклый свет в подземелье померк, раздался грохот. Пыль набилась в глаза и ноздри.
Юнцы на карачках бросились к выходу и остановились у вывалившихся глыб. По ту сторону в свете дня ясно виделось обеспокоенное лицо Третьяка. К нему можно было просунуть руку, но нельзя пролезть.
Долго бы искали здесь обозные свою молодежь, кабы у Третьяка не хватило ума остаться снаружи.
На другой день Рябой раз и другой выспросил подробности обвала в пещере, вдумчиво выслушал взволнованные рассказы Угрюмки. Помолчал, покачивая головой, почмокал впалыми губами.
— Неспроста зовет сибирский атаман! Приглядывается к вам, к молодым. Поди, в свои, сибирские, казаки примеряет на геройство! — изрек, скрывая плутоватую насмешку в редкой бороде и затаенно зыркая на побелевшего юнца.
Тот от страха разевал рот, водил по сторонам ошалелыми глазами, выискивая поддержку у спутников. Но казаки слушали Рябого спокойно и рассеянно, будто тот прочил их молодому спутнику долгие годы и богатство.
— Не моя доля! — испуганно закрестился Угрюмка. — Чур меня!
— Зря! — подначивал кичижник. — За правое дело в молодые годы живот положить — Богу угодить! Безгрешным вернешься к Отцу Небесному!
— Не меня! Не меня! — заверещал юнец, вконец смутившись. — Уж я погрешу, прости, Господи!
— Не бреши на ветер, черт старый! Не пугай мальца! — не выдержал Кривонос.
На мученика Савву Стратилата, перед голодным месяцем маем, расцветала рябина к доброму урожаю овса. На восходе румянилась заря утренняя, алая, выпуская красное солнце на синее небо. Едва прострелил первый луч в разоренную западную сторону, обоз тронулся по топкой разбитой колее.
Где волоком, где на покатах кони и люди тянули груженые струги. Поскрипывали тележные оси, распугивая ворон. Хрипели кони, покрикивали возницы. Заложив руки за спину, за обозом налегке шагал Гаврила-ермаковец. Полуаршинный кедровый крест похлопывал его по опоясанному животу, тяжелая сабля оттягивала плечо.
Старец-сказитель, взявшись рукой за борт струга, переставлял непослушные ноги в стоптанных, мешками обвисавших чунях. Белые пряди волос шевелились на усталой, согбенной спине. Старик подслеповато щурился, радуясь ясному утреннему солнцу.
Купцы своей выгоды не упускали. Хоть знали про государев запрет на торговлю от Перми до Верхотурья и все их товары были описаны людьми пермского воеводы, но в пути то и дело начинался тайный торг со встречными вогулами и татарами. Ермаковец, примечая хитрость барышников, начальственно хмурился. Купцы старались его уважить и задобрить, однако он не пил ни вина, ни пива, жалуясь на немощи и хвори. Его воздержанность в питье не сулила ничего хорошего. Ругать же ермаковца, даже за глаза, складники боялись и отводили душу на гулящих казаках, нанятых в Перми. Будто по их винам и ватажную молодежь едва не задавило в пещере.
Все-то в казаках сердило их, хотя работали донцы не хуже вогулов и сверх договора ничего не требовали. Жили они особняком, о чем думали, о чем говорили, зачем шли в Верхотурье — никто не знал. Одеждой изветшались: кафтанишки да зипунишки драные, обутка худая, у иных одни только бахилы — а им и заботы нет.
Еще под Пермью, на Чусовой-реке, стал накапывать холодный дождь, просекаясь блестками снежинок. Обозные взялись строить балаган. Казаки же сидели у огня, бездельничая. Думали промышленные, что те полезут ночевать в груженые струги. Но те высмотрели яму под вывороченным корневищем, набросали в нее кедровых веток, легли, прижались друг к другу, укрылись одеждой да берестой — и провели ночь. Наутро, как ни в чем не бывало, отдохнувшие, они были готовы к новым работам. Обозные же насквозь промокли, пока ставили балаган. Потом чуть не до утра сушились у костров и отсыпались до полудня.
Складники раз и другой велели дать казакам хлеба, после сказали, чтобы или сами себе пекли, или в черед, на всех. Печь для всех они отказались, всякий сам по себе распоряжался паевым харчем. Длинноволосый печальник в бахтерцах заливал муку холодной водой, размешивал, выпивал и ложился спать. Старые и молодые съедали сырьем не только муку, но и немолотую рожь. Иногда они пекли на прутках тесто.
На Марка-ключника обоз поднялся на сухую возвышенность, где чьим-то добрым помыслом был поставлен березовый крест с иконкой Николы Чудотворца. Вдали виднелось озеро с ручьями, стекавшими в Туру. В дымке высились горные вершины.
— Вот она, тайбола[22], — волнуясь, вглядывался в даль Гаврила-ермаковец.
Небо было пасмурным, в воздухе пахло дождем — мужикам на рожь, бурлакам на вошь. Обозные велели ямщикам распрячь и отпустить на выпас лошадок, а сами долго молились. Ямские вогулы кучкой сидели в стороне и с безразличным видом поглядывали на долину Туры. Угрюмка вымороженными глазами бросал пугливые взгляды то в одну, то в другую сторону. Он был наслышан о сибирской тайболе. Жутко вспоминался лик Ермака в пещере. Ни на закат, ни на восход не виделось ему вольного и счастливого пути. Куда поведут — туда иди, хоть бы и на кончину лютую.
Молитвы читал холмогорский передовщик с окладистой, как помело, бородой. Ему вторил устюжский пайщик с хитрющими глазами и оттопыренными ушами. Голова его с затылка походила на мышиную. Рябой наметанным глазом давно определил в длинноухом устюжанине знахаря и доку. Певшим купцам, как попам, прислуживал за дьякона и красивым, зычным голосом подпевал Третьяк, имевший большую охоту ко всяким церковным службам.
— Дьячишь важно! — хвалил его в перерывах Бажен Попов. — Голосом в хорошего попа!
На обнаженные головы ватажных закапал дождь, но, не успев намочить волос, прекратился. И засияла впереди радуга семи цветов. Люди запели громче и радостней, веруя: Бог Вседержитель дает знак, что не гневается на них, входящих в Сибирь. Вогулы же, глядя на радугу, стали еще угрюмей. По их приметам, обратный путь им предстоял по дождям.
Молясь, Бажен-передовщик то и дело обращался к ермаковцу Гавриле как к иерею за благословением. Тот важно кивал, крестясь и поглядывая вдаль.
После молитвы и полдника пасшихся коней опять загужевали в оглобли телег и в постромки стругов. Взялись за бечевы промышленные и работные. Все разом навалились, и обоз двинулся под уклон. К притоку Туры по заболоченной равнине была проложена узкая дорога, местами мощенная гатью. Храпели кони, чавкала вытаявшая болотина, кричали люди, подбадривая друг друга и лошадей.
Угрюмка бросил охабень в струг, в драной рубахе без рукавов тянул бечеву наравне с казаками. К ним подошел ермаковец. Пошагал налегке рядом с оборванцем, указал в сторону возвышенности:
— А мы туда переваливали, в Тагил. Ближе, но трудней. А вогулы да татары справно здесь жили… Не голодали.
— Кто не голодал? — не ослабляя постромку, переспросил Угрюмка.
— А никто не голодал! — уклончиво ответил ермаковец.
К вечеру обоз прибыл к обустроенному табору, где еще не выстыла зола в кострищах. Посреди просторной поляны стоял добротный балаган, крытый берестой. За ним, тускло серебрясь, выгибалась излучина речки. На берегу высился крест.
Едва обозные распрягли лошадей, разбрелись устраивать ужин и ночлег, на тропе показались двое верховых с луками за спиной и с вогульскими пиками поперек седел. Вскоре стало видно, что это казаки. Подъехав, они начали по-хозяйски осматривать поклажу, спрашивать обступивших складников про табак.
Передовщик не знал, как вести себя со здешними служилыми, и велел позвать ермаковца. Тот, прилегший было в балагане, выполз в одних холщовых штанах, но с саблей. Увидев его, казаки смутились, сошли с коней, стали кланяться и хотели ехать дальше. Но Гаврила задержал их к неудовольствию купцов. День был приятный: волок пройден, прощай пешая ходьба, поденная плата ямщикам. Радоваться бы да Господа хвалить, однако Гаврила объявил, что ему нужно в ночь и весь следующий день держать при себе шесть лошадей да пятерых помощников с оружием.
То, что старый казак принуждал обоз к дневке, — полбеды: все равно ватажные собирались валить лес и строить плоты. Но вогульских ямщиков они хотели отпустить с утра, а теперь надо было держать их еще день. Пришлых казаков угостить — тоже не прибыль. Рассчитывали обозные на помощь гулящих донцов, но ермаковец забирал их вместе с вогульскими лошадьми.
Передовщик про себя и чертыхался, и крепким умом смекал, что если дело важное, то все окупится: верхотурскому воеводе и таможенному голове подарков можно будет не давать, а досмотр товаров по пермской описи вдруг случится нестрогим. Тучный Бажен Алексеев поскреб седеющие виски и сказал Гавриле, чтобы брал что нужно, а уж они-то, купцы да промышленные люди, за государево дело потерпят.
Шалая весенняя речка уже входила в берега, унося мутные, взбаламученные воды на восток. Оседал по заводям сор половодья, покрываясь песком и илом. Сохли по берегам тина и плесень. Угрюмка хотел зачерпнуть чистой воды. Подошел к реке ниже табора, склонился над омутом и увидел сквозь редеющую муть конский остов. Перекрестившись, юнец поднялся против течения и наполнил котел из чистого родничка, стекавшего тонкой хрустальной струйкой в реку.
Казаки подкрепились в дорогу. Купец-передовщик выдал им три лука и две пищали. Они опоясались саблями. Угрюмка сунул за кушак топор, засапожный нож — за крепко связанную бечевой, густо смазанную дегтем голяшку бахила, затем сел на утомленную дневным переходом лошадь.
Послушание обозных и гулящих людей тронуло Гаврилу. Почтительно придерживаемый под локти служилыми сибирцами, он вскарабкался на спину кобыле. Старик молодецки приосанился, поддал в бока изработанной лошадки запятниками добротных сапог — и отряд отправился к ямской слободе, где гуляли сын боярский Васька Сараев и атаман Евстрат.
— Их там более двух десятков сабель, — опасливо сообщали верхотурские казаки.
— А нас восемь удальцов! — бесстрашно отвечал ермаковец, расправляя седую бороду по груди. — У меня грамота с указом. Да люди сказывают, атаман с сыном боярским передрались и казаки меж собой в ссоре.
Покатилось солнце ясное на закат дня, туда, где звенел булат и смрадные пороховые тучи ползли по выжженной земле. Пролитой кровью наливалась темная вечерняя заря. Будто приснилась донцам мирная весна: опять привычно рысили они в ночи, чтобы отбить товарища. И снова ныло сердце от тайных помыслов, от лихого коварства и неизбежной измены честному ермаковцу. А он, не давая отдыха лошадям, торопился поспеть в слободу к полуночи.
Остывал западный свод неба, будто омытый чистой ключевой водой и весенними дождями. Тусклая, словно мукой присыпанная, появилась на нем первая звезда. Вскоре и вовсе стемнело. Чертям на радость вышла полная луна. Длинные тени деревьев вытянулись на полянах. Леший то и дело подсовывал под копыта корни и сучки. Уставшие лошадки спотыкались и шумно вздыхали.
Старость и попу не в радость. Отвыкший от верховой езды, старый казак стал придерживать кобылку, хвататься за поясницу. По совету верхотурцев пробовал лечь на круп. Ему стало еще хуже. Тут Рябой вкрадчивым и ласковым голосом предложил спарить лошадей носилками и положить в них старика. А поскольку спаренные лошади пойдут медленней — их, донцов, отправить вперед.
Ермаковцу совет показался разумным. Хитрости в словах кичижника он не учуял, а лиц донцов впотьмах не увидел.
— Туру бродом не переезжайте, ручья держитесь… Начнут буяны обороняться — поднимайте слобожан и бейте их смертным боем. Перед воеводой и перед Господом я отвечу. С Богом!
Донцы подстегнули коней и зарысили торным путем. Но там, где им было указано, не свернули, а перебрели Туру и двинулись по мощенной гатью дороге.
У всех встречавшихся прежде людей Кривонос с Рябым осторожно выспрашивали о царевом обозе со ссыльными. Верхотурские казаки, не заподозрив тайного умысла, указали, где он остановился.
Казенный обоз ночевал возле Туры-реки. Белым пеплом подернулись угли костров, на сереющем небе гасли звезды, наплывал рассвет, первые пташки подавали голоса, призывая утреннюю зорьку. Караульный из пленных черкасов спал, уронив на колени голову в бараньей шапке. Татары и вогулы в здешних местах были мирными. Сказывали жители деревень, что пошаливала голытьба, возвращавшаяся на Русь. Мелкие промышленные и купеческие обозы они могли пограбить, но отряды служилых и ссыльных людей такие ватажки обходили стороной.
Старшим в обозе был плененный под Москвой лютеранин или папист, с его слов полковник, Иоган Ермес — долгоносый, тощий, в коротком шведском сюртуке и польской четырехугольной шляпе с обломанным пером он походил на стоячее коромысло. Под его начало были отданы пленные литвины, ссыльные черкасы и два монаха под надзором двух молодых стрельцов. Всех их царским указом отправляли в Сургутский острог. Туда же, к месту службы, с жалованьем пешего казака, после разбора и наказания следовал молодой кремлевский бунтарь.
За год, проведенный в застенках Троицкого монастыря, Иван Похабов повидал немало узников, лишившихся разума после кнута, колодок и полумрака подземелий. Он же благодарил Бога за неволю, попав в келью, набитую белыми попами, монахами и мирянами. В беседах с ними от тюремного безделья выучился читать и окреп духом. Иные умирали от тоски, а Ивашка, через двух иноков, пришел к пониманию своей прежней беспутной жизни и к покаянию.
Один иосифлянин, другой ниловец[23], те иноки не всегда уважительно и бесстрастно спорили между собой, а потом каялись друг перед другом и выясняли, где их вели жажда истины, а где — бес тщеславия.
Спорили они о Руси, о народе и его власти, о канонах и обрядах, во что Ивашка не мог и не хотел вникать по своему чину. Но одну истину он все же понял и принял всей душой: «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет».
Сколько помнил себя — раздиралась Русь. Сосед завидовал соседу, если у того дом просторней, а амбары полней, город — городу, если у того церкви выше. Еще дед Ивашки не любил ни опричников, ни бояр, ни милостивейшего царя Бориса. И когда в годы его власти зачастили мор, голод, неурожаи да всякие напасти, дед не только вздыхал, туже затягивая опояску, но и злорадствовал: «Вот оно, грядет наказанье Божье — за грехи наши!»
Проснулся ссыльный казак в сумерках, привычно прислушался, глубоко вдохнул запахи леса, погасших костров. Хотел уж перекреститься, поблагодарить Господа, что встречает новый день не в заточении, но услышал приглушенный топот, затем ржание. Стреноженные обозные кони откликнулись из леса. Звуки и запахи табора ничуть не удивили Ивашку, а вот ржание, отрывистое, оборванное ударом плети или кулака по конской морде, слегка насторожило. Скорей по привычке, чем из опаски он придвинул к себе саблю и снова закрыл глаза, собираясь доспать утренние часы.
Вдруг раздались топот, свист и знакомое казачье гиканье. Ивашка выкатился из шалаша с обнаженной саблей, к нему подскочил караульный черкас в широких штанах, встал за спиной, стараясь разглядеть, кто потревожил ночлег казенного обоза. Краем глаза ссыльный казак увидел, как упряжной дугой из шатра выскочил Ермес и, прижимая к животу кафтан и сапоги, побежал к лесу. Следом за ним неспешно отступили литвины. Они волочили за собой пики и пищали.
Всадников было всего-то пятеро. Четверо в казачьих колпаках, один в шлычке. В полусотне шагов от табора они рассыпалась лавой, размахивая саблями, свистя и гикая. Ивашка, привычный ко всяким разбоям, вертел головой, готовясь обороняться. Черкасс перекинул с руки на руку пищаль без фитиля. Молодые стрельцы встали сбоку плечом к плечу. Один метнул бердыш под ноги коню. Тот споткнулся, упав на бок, всадник в худом охабне соскользнул с конской спины без седла и, пробороздив носом по земле, подкатился к Ивашкиным ногам. Когда он поднял голову и смахнул грязь с лица, тот ахнул, узнав брата.
— Этакую рань шумите, православные! Нехорошо! Нехорошо! Утро-то какое! Дар Божий! А вы его скверните! — крестясь и зевая, одергивая подрясник, из шатра вылез босой инок Герасим. Глаза его насмешливо блестели, курчавилась растрепанная бородка. Следом, в холщовой рубахе, выполз другой инок, откинул волосы с плеч, надел скуфью на нечесаную голову, ласково спросил разинувшего рот Кривоноса:
— Кого вам надобно?
Кривонос и Пантелей Пенда, смутившись от встречи с монахами, скинули колпаки, спрятали сабли.
— Дак, — прошепелявил Угрюмка, отплевываясь горьким дерном, — эта, ехали мимо…
— А перепутали мы вас с другим обозом, — бойко залопотал Рябой с хитрецой в глазах. — Тут где-то казаки гуляют: атаман Евстрат да сын боярский Васька Сараев… У нас грамота — остановить их велено и связать.
— Слышали про них, — пожал плечами инок. — Давно пора остепенить буянов. Но они, по слухам, в ямской слободе.
— Мы ночью верхами ехали, места незнакомые, видать, заплутали или леший вкруг лесом обошел. Вы уж не серчайте!
— Грех на вас сердиться! А вот неудобств вы нам наделали: войско наше разбежалось, передовщик опять в бега подался. Беда с ним. Помогайте теперь сыскать. Нам без него никак нельзя в Верхотурье явиться: воеводу прогневим.
Пантелей понял — выпало самое подходящее время, чтобы увезти Ивашку. Угрюмка ни глазам, ни ушам не верил и все крестился, боясь, что это только сон.
— Найдем! — дернув узду шатнувшейся от усталости лошади, сказал Пенда и строго кивнул Ивашке, будто они не были знакомы: — Пойдешь с нами!
Тот уже понял, ради чего объявились станичники. Глаза его блестели, по щекам разливался густой румянец. Накинув зипунишко и колпак, с обнаженной саблей в руке он понуро пошел за всадниками к лесу.
Едва скрылся из виду табор, казаки спешились, стали обнимать повзрослевшего Ивашку со щеками покрытыми редкой, кучерявящейся бородкой.
— Слава Тебе, Господи! Не зря упование возлагали… Помогла сила небесная, — крестились смеясь. — До Перми путь знаем, там по Каме, на Волгу и на Дон. А с Дона выдачи нет.
Ивашка, счастливый от встречи со станичниками, с братом, то смеялся и всхлипывал, то затихал, мрачнея, прятал смущенные глаза. На лице его выступили красные пятна. Он тряхнул головой и заговорил, прерывисто вздыхая и путаясь:
— Простите, братцы, не одной царской неволей иду в Сибирь, но Божьим Промыслом. Не сам себе судьбу ковал, такую Бог дал. Известно, судьба придет — ноги сведет и руки свяжет…
— Бог не без милости, казак не без счастья! — ободрил мнущегося дружка Пенда. — Если ты про крест, что царю Михейке целовали, так он казакам наперед его целовал, но обманул и предал.
— Его милости моя спина хорошо знает, — скривился Ивашка, пламенея от стыда и глядя в сторону.
— Ни с Речью Посполитой, ни со шведами, ни с казаками мира у Москвы нет, — неуверенно пробубнил Кривонос, любуясь повзрослевшим воспитанником и затаенно ощупывая его глазами. — Сегодня в Москве Романовы, кто будет завтра — неведомо.
— Кому быть царем — Бог решит. Кому вынется, тому сбудется, не минуется. Об этом благочинные вам сказать могут, не я, грешный. Они тоже царев хлеб да кнут отведали. Простите, братцы! — со слезой озирая собравшихся, виновато вскрикнул Ивашка, низко кланяясь. — Век заботы и любви вашей не забыть, и молиться за вас буду, покуда жив… Но вернуться не могу. Простите!.. Сказано: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И мне так!
— Я с тобой, — плаксиво пробормотал Угрюмка, как птичка склонил голову на плечо, печальными глазами вытаращился на брата, а сердце его сжималось от жалости к себе самому.
У Ивашки ручьями потекли слезы по щекам, заблестели на редкой бородке. Свесил голову и старый казак Кривонос. Пенда, опустив глаза, теребил пальцами кожаный повод узды.
— Спаси тебя Господь, Пантелей Демидыч, — поклонился ему Ивашка, судорожно сглатывая воздух серыми кривящимися губами.
Тот смахнул колпак с лохматой головы, перекрестился на заалевший восток и ответил:
— Сочлись! Ты меня с плахи отбил. Я тебе волю дать хотел. Коли не нужна, что уж тут, — развел руками.
— Да не так все! — вскрикнул Ивашка в отчаянии от бессилия высказать, что было на душе.
Голодные кони торопливо щипали траву. Первые лучи солнца золотили верхушки деревьев. Набежавший порыв ветра прошелестел ветвями. Казаки вспомнили брошенного ермаковца и устыдились пуще прежнего.
— Согрешили против Гаврилы! — смущенно просипел Рябой.
— Надо возвращаться! — напомнил Третьяк. Достойно претерпев разочарование от встречи, он обнял дружка и отошел в сторону, не выказывая ни радости, ни печали.
— Прости! — слезно поклонился ему Ивашка.
— Не тебя, свою душу спасал перед Господом! — ответил тот с улыбкой на безусых губах. — Грех да беда не по лесу ходят — все по народу! — Вскинул светлые глаза: — Иной раз помянешь в молитвах — и ладно!
— Путь долгий, наговоримся в Верхотурье, — мотнул головой Пантелей, все чаще и опасливей поглядывая на небо и откидывая за плечо длинную прядь. — Жизнь грешная! Один грех искупая, другой на душу взяли! — Развернул лошадь со злой усмешкой.
Смутившись новым напоминанием об обманутом старике, донцы стали торопливо прощаться.
Литвины вернулись на табор, как только за верховыми побрел в лес Ивашка. Они пришли своей волей, хотя, убегая, прихватили оружие. Кое у кого в просторных карманах шаровар оказался припас сухарей.
Ссыльный Похабов солгал стрельцам, что казаки его бросили и уехали по своим срочным делам. Обозные недосчитались одного только передовщика — пленного еретика Иогана Ермеса.
— Опять к Печоре подался, — подозрительно оглядел вернувшихся молодой стрелец. — Я за ним давно надзираю: где ни остановится, с кем ни заговорит, окаянный, — все про путь к Пустозерскому острогу выспрашивает. Понятно — туда немцы на торговых кораблях ходят.
Оставив Ивашку старшим, стрельцы взяли сухарей, вскочили на отдохнувших за ночь лошадей и, пустив их рысцой, отправились искать своего беглого начальника. Вернулись они к полудню вместе с передовщиком. Ермес не вырывался, не оправдывался, смотрел на обозных налитыми презрительной тоской глазами да равнодушно хлопал белыми, как у поросенка, ресницами.
С благословения иноков беглеца выпороли и вновь передали ему власть. Поскуливая и полаивая на чужих языках, Ермес приказал на ломаном русском отдыхать, чтобы наутро идти к Верхотурью.
Пятерка донцов добралась до ямской слободы почти к полудню, когда с буянами было покончено. Гаврила под горячую руку огрел батогом Кривоноса и Пенду. Те смиренно промолчали, не уворачиваясь от ударов и по обычаю московских холопов отвесили по три земных поклона, а не один, как принято у казаков.
— Ну хоть солгите что! — гневно потребовал ермаковец с красными пятнами на лице. Он был в недоумении: не пьяны, голодны, без всякой воровской поклажи — заявились с выражением покорности и вины.
— Что врать? — смиренно поднял усталые глаза Пантелей. — Ошиблись дорогой, проехали мимо, на чужой обоз чуть не напали.
— Как проехали, если там брод? Я же говорил! — закричал старик, топая ногами.
— Среди ночи заплутали, не разобрались — где брод, где торная дорога с гатью. Да и не один там брод, а много…
— Известное дело, — торопливо закивал Рябой. — Леший обойдет лесом — глаза залепит. Бывает, меж трех сосен блуждают неделями.
Старик из сбивчивых объяснений донцов ничего не понял, но был рад уже и тому, что пропавшие вернулись. С двумя верхотурскими казаками он въезжал в слободу, уверенный, что донцы все сделали и ему останется только предъявить грамоту. На въезде их встретили караульные слобожане и, узнав, с чем приехали, мигом собрали народ. Добрая половина казаков, следовавших в Сибирь с атаманом и боярским сыном, тут же перешла на их сторону. Натерпевшись обид в пути, они со злорадством связали и побили буянов. Кнута и батогов Гаврила давать не велел, обещая, что тех выпорют по винам в Верхотурье на гостином дворе.
Остывая от негодования, он насмешливо спросил Пенду:
— Что волосищи-то поповские отпустил, печальник? В монастырь собираешься или вдовеешь?
— И вдовею, и сиротею, и в печали великой — и родину, и станицу, и жену потерял! — смиренно ответил тот. — А верного коня предал! — скрипнул зубами, разглядывая свои руки, пытаясь найти место беспокойным пальцам.
Старика такой ответ тронул и умилостивил.
— Прощаю вам вины ваши, — заявил великодушно, — ради правого дела, которое, с Божьей помощью, сделано. — Он кивнул на связанных и велел собираться в путь.
К вечеру отряд прибыл на табор. Передовщик Бажен, сын Попов, сперва ужаснулся множеству людей, но узнав, что у пленных и сопровождавших свой провиант, повеселел.
Был он ласков не только с ермаковцем, но и с донцами. От здешних людей узнал, что коней в Верхотурье не дадут. Строить суда придется самим. Поскольку плотников в городе мало, все они в почете у воеводы и определены на казенные работы. Теперь купчина благодарил Бога, что нанял пятерых работных в Перми, и надеялся задержать их против прежнего договора на строительство судов. Зимовать в здешних местах, обедневших соболем, ему не хотелось.
Лошади были возвращены вогулам. Среди оставленных на таборе казаки недосчитались одной, самой немощной. Вскоре Угрюмка увидел ее круп в мутной воде речки, стал показывать на него вогулам и промышленным. Те смущенно воротили глаза, но не интересовались пропажей. Угрюмку остепенил Рябой.
— Купили лошадь в складчину и поднесли дедушке водяному, чтобы жаловал ватагу! — прошепелявил, потряхивая редким клином бедняцкой бороды.
— Утопили коня! — проворчал Кривонос и тихо выругался.
На дереве с ободранной коновязью корой уже безбоязненно сидели вороны, почесывали лапами острые клювы и терпеливо ждали, когда обоз снимется с места.
Слободской ямщик, похлебав жидкой каши из обозного полдника, впряг дюжего коня в фуру, на которой привез старого ермаковца с пропившимися буянами. К новой радости передовщика, он не потребовал прогонов. Донцы же вместе с ватажными людьми начали строить плоты и к изумлению складников оказались искусными плотниками.
Работали не все. Дремал, греясь на солнышке, старик-сказитель, ермаковец Гаврила важно похаживал по табору и давал советы, пленные сидели в балагане под охраной бывших своих, обиженных ими казаков. Им работать было недосуг — нужно было думать о словах оправдания перед верхотурским воеводой.
Наутро днюющих путников навестил слободской приказчик Артемий Бабинов, человек, известный от самой Перми до Туринска. Это он открыл дорогу, по которой шел обоз и потом, по царскому указу, строил ее и все здешние мосты. Теперь Артемий встречал каждый идущий обоз с надеждой о царской грамоте с наградами за свои труды.
После ужина и молитв ватажные подкинули хвороста в большой костер, расселись и разлеглись возле огня. Пока сказитель собирался с мыслями, причмокивал да высасывал кашу, застрявшую меж старых зубов, устюжане запели про падение Адама, про плач его у ворот рая:
Как расплачется Адам, Перед раем стоячи…— Ай, раю мой, раю, — дружно подхватили холмогорцы, — прекрасный мой раю!
Услышав знакомый напев, Угрюмка заерзал, завертелся юлой. Невмочь как захотелось ему заткнуть уши и бежать без оглядки. Песнь навязчиво напомнила зиму, когда, побираясь по деревням, шел он со слепцами к сытому Нижнему Новгороду. Даже плечо заныло, будто до сих пор его сжимала цепкая рука убогого старца.
Не велел Господь нам жить в прекрасном раю. Сослал нас Господь Бог на трудную землю.— Ай, раю, мой раю, прекрасный мой раю! — снова во весь голос подпели холмогорцы.
Поскрипывая зубами, со слезами на глазах Угрюмка убежал за балаган, хотел спрятаться, забиться куда-нибудь, но не мог никуда деться от страшной песни. И бежать было некуда. С одной стороны река с заиленными конскими костями, со злющим водяным, с другой — тайбола, лес со зверьем, лешими да всякой нечистью. Да и поздно было бежать: колючей занозой сидела в голове жуткая песня, вызывая бессильную ненависть к своей доле и к прошлому. Познал он в жизни выходы из нужды и себя научился беречь, а спасаться от нестерпимых воспоминаний, связанных со стыдом, не умел. Так и сидел, весь выстывший, подрагивающий изнутри. Время от времени облизывал шершавые обветренные губы.
Лишь когда старец запел про атамана Ермака и про славную дружину его, стало легче. Успокаиваясь, Угрюмка поглядывал на ермаковца. Тот был весь в морщинах, а не сутулится, и взгляд у него ясный. Старый казак слушал песни про Ермака, хмыкал в бороду или недовольно кряхтел, иногда вместе со всеми дивился делам своей молодости, преданиям нынешних дней.
Баюн сидел так близко к огню, что зипун на нем едва не затлел. Старик заерзал, доброхоты отодвинули его от пылавшего костра, скинули одежду. Задралась давно не стиранная исподняя рубаха. Дряблая кожа, под которой виднелись кости, была исполосована сабельными шрамами.
Зипун остудили и снова надели. Старик же сбился со сказа и долго не мог вспомнить, на чем остановился и о чем пел. Холмогорцы загалдели о своем, насущном. Гаврила, придвинувшись к сказителю, стал выспрашивать, с кем тот воевал и где. Но старец ничего вразумительного ответить не мог. Стариковская память чудна.
— Как же ты былины помнишь, коли молодость забыл? — удивился казак.
— Какую ни есть старину раз услышу говором, вдругорядь песней — вовек не забуду, — стал хвастать старец. — Будто гвоздем кто приколотит. Мне бы только начало вспомнить. А после в нутре дух какой-то подымется — и ходит-ходит! Я одни слова пропою — он другие подает… Лют я петь. Запою — ничего больше не вижу!
Удивленно качал седой головой Гаврила. Промышленные нетерпеливо подсказывали, на чем старец сбился. Наконец он собрался с мыслями, поднял прояснившиеся глаза к небу. Галдеж стих.
Как старый боевой конь, почуявший запах пороха и сабельный звон, начинает перебирать больными копытами и задирать свисающую к земле морду, так ободренный вниманием старец нараспев заговорил ровным голосом все громче и уверенней. Он замычал носом, засипел горлом, запел о том, как по вскрытии рек двинулся атаман Ермак с верными есаулами и с войском своим в дальний путь, молясь Всемилостивейшему Спасу.
На Туре-реке, где нынче Туринский острог, жил татарский князец Епанча. Ему подвластны были тамошние вогулы. И услышал он про Ермаково войско, собрал людей своих и напал на казаков возле большой излучины.
И не было удачи тому князцу — получил он отпор кровавый, потеряв людей множество. Но не испугался казаков — двинулся сушей напрямик к другому концу излучины. Там укараулил плывущих и снова напал.
И решили казаки наказать Епанчу — другим народам для острастки. Высадились они возле его юрт, разграбили их, сожгли и поплыли дальше с боями, разоряя по пути селенья.
На Ильин день подошли они к городку, где нынешняя Тюмень, и завладели им. Вскоре вились к ним вогулы с самоедами[24], принесли дань и предложили править ими, как прежде правили татары.
И зимовали там казаки, у самых переделов Кучумовых. Через плененных и гостевавших мурз вызнавали о хане, передавали ему приветы, уверяя, что воевать с ним не будут. А тот хан Кучум прогневил богов, зарезав родственника своего и добровольного московского данника — прежнего хана Едигера, не по праву захватил престол и владел Сибирью.
Зимовали казаки в тепле и сытости. Тамошние народы на них не нападали, а войско убывало: строгановские люди то и дело бежали тайно на Русь, и оставались с Ермаком только верные ему казаки да есаулы.
Видели и они, что их силы тают, а татарские только собираются со всех концов земли. Понимали — скоро каждому надобно будет биться с десятью, а то и с двадцатью врагами. Иные волжские да яицкие казаки тоже стали подумывать — не вернуться ли на Русь? Атаманы же говорили, что бежать некуда, а победить или умереть со славой — можно…
К своему костру Третьяк с Угрюмкой вернулись затемно, когда огонек едва попыхивал на тлеющих углях. Чуть позже пришел и Пантелей Пенда. Они подкинули дров. Закряхтел, закашлял Рябой, приподнялся на локте. Перевернулся на другой бок Кривонос.
— Что сказывали? — спросил приглушенно.
— Все про Ермака, — так же тихо ответил Третьяк, наслаждаясь благодатной тишиной.
— Про народы из дальних полночных стран приказчик Бабинов говорил! — с жаром прошептал Угрюмка, боясь нарушить настороженный покой ночной тайболы.
— Брешет! — присел на корточки Третьяк. На лице его с кривой неловкой улыбкой мельтешили тени костра. Глаза были печальны.
— Что брешет-то? — поинтересовался Рябой.
— Сказывал, будто возле ледового моря живут люди, которые в холода спят там, где их застанет мороз. Идет, говорит, промышленный, вдруг — под деревом в лесу сидит замерзший человек, из носу сосулька до земли висит. А сам живой. Настанет тепло, оттает и пойдет, будто зимы не помня! Сказывал, если соплю застывшую сломить — уже не оттает, а подохнет.
— А еще, — с жаром зашептал Угрюмка, — будто возле ледового моря живут люди без голов, с одним глазом заместо шеи. А на спине, меж плеч, у них рот. Бросит рыбину через плечо — хрум-хрум — съел, дальше пошел.
— Брешет? — неуверенно зачесался Рябой. Не поднимая головы, хмыкнул: — Сам приказчик видел или от других слышал?
Угрюмка молчал, раздумывая.
— Тот приказчик дальше Тюмени не ходил! — усмехнулся Третьяк. — Лет уж двадцать в здешних местах живет.
* * *
После встречи с братом и со станичниками все валилось из рук Ивашки Похабы: стал коня запрягать — поставил в оглобли без хомута. Монахи удивленно переглядывались, но ни о чем не спрашивали. А Ивашке вспоминалось детство. Не любил он прошлой жизни — думал, что зря те годы в злобе потерял. До заточения, едва подступались всякие воспоминания, старался напиться вином или рвался в бой. Нынче молился и работал с остервенением, пока не обвисали руки. А прошлое исподтишка, крадучись, подступалось, нашептывало о себе…
Дед Ивашки, сорванный опричниками с родной земли, так и не смог заново пустить корни. Бобылем[25] мотался по городам и острогам, теряя родню и оставляя по посадам подраставших детей. Бродничал так с редеющей семьей, пока в преклонные уже годы не пристал с последним, младшим сыном к городу Серпухову. Там, в посаде, дали ему пустовавший дом с посильным тяглом да с наказом: при осаде города дом тот и другие дома поджечь.
Здесь вырос последний дедов сын — Ивашкин отец, прозванный за безудержное буйство Похабой. Здесь он женился на такой же крикливой и нахальной девке без роду без племени. За горячность и вспыльчивость Похабу часто бивали посадские и горожане. Дед, похоронив бабку, прилепился к непутевой сыновьей семье, терпеливо снося брань и попреки.
Сколько помнил себя Ивашка, родители или дрались, или ругались. Мать то и дело подстрекала детей против отца, ожидая, когда они подрастут и станут вместе с ней колотить его.
Всю-то Ивашкину жизнь были моры, засухи, голод и поветрия, косившие людей сотнями. И в умах у всех была смута. Вчера еще казавшиеся добропорядочными, соседи вдруг без всякой причины бросали тягло, начинали бродяжничать, юродствовать и пророчествовать; смиренные попы вдруг срывались в богохульство, оставляли приходы и с кистенем под рясой чинили разбой, одни из горожан за грош душу бесу закладывали, другие бескорыстно раздавали все, что нажито.
И пронесся по Московской Руси слух, будто объявился в Литве чудом спасшийся царевич Дмитрий. Втайне радовался русский народ, ожидая избавителя и искупителя грехов своих. И вот, случилось! С хохлатыми ляхами и с черкасами в огромных бараньих шапках, с бородатыми донцами в островерхих колпаках царевич подступил к городу. Бывшие там московские дворяне, воевода да городской сход решили ему не присягать, так как подлинного царевича никто не видел, а ждать указа из Москвы.
Черкасы с ляхами и донцы обложили город. Посад пришлось выжечь, а посадским людям запереться за городскими стенами в чужих домах, в тесноте великой. Едва в городе начался голод, Ивашкины родители, будучи захребетниками на чужом подворье, передрались до полусмерти. Мать отлежалась и, не простившись с детьми, бежала к ляхам. Вскоре Похаба увидел свою жену под стенами города гарцующей на добром коне за спиной бравого усатого молодца.
Над опозоренным мужем смеялись не только враги, но и горожане. В глазах у Похабы потемнело, он выстрелил в прелюбодеев из лука, но стрела упала на землю, не долетев до них. Хохот по обе стороны стал еще громче. В слепой ярости Похаба скинул портки и показал черкасам голый зад. И покарал Господь гнев его — вражья стрела на излете воткнулась в ягодицу. Тут уж затряслись стены города от дружного хохота осажденных и их врагов. Один Ивашка смотрел на родительский позор, вытирая слезы.
Отцов умишко и вовсе помутился: вырвал он стрелу из ягодицы, замотал кушак поверх поддернутых штанов и с топором да засапожным ножом прыгнул с двухсаженной стены в ров, а выбравшись, с такой яростью кинулся на всадников, что те, смеясь и отбиваясь, отступили. Исхитрясь той заминкой, осажденные распахнули ворота, сделали вылазку и изрубили приставленные к стене лестницы.
Ивашка же видел только то, как усатый удалец с матерью на крупе скакуна подлетел к отцу. Лихо сверкнула над его головой сабля, и осел он набок, выронив топор. Конь молодца развернулся, снова проносясь мимо порубленного. Мать, вцепившись в жупан всадника, на скаку склонилась и плюнула в умирающего мужа. Сын закрыл глаза, ожидая, что небо разверзнется и ударит молния. Но этого не случилось.
Дед умирал в чулане у городского дьякона, постанывая и прислушиваясь к звукам битвы. Младший шестилетний внук Егорка беззаботно играл старой мышеловкой. Сгибаясь в проеме низкой двери, в чулан вошел дородный дьякон в куцем, обгоревшем подряснике. Тяжело дыша, скинул с потной головы шлем, перекрестился на образок в головах старика, поправил кистень за кушаком и спросил раскатистым баском:
— Живой еще?
— Живой! — виновато просипел старик, оправдываясь, что никак не сподобится умереть и обременяет добрых людей. — Отпетых схоронили ли? — спросил жалобно.
— Похоронили возле церкви! — обыденно ответил дьякон, зачерпнул воды из бочонка, жадно и неловко напился, обильно намочив бороду и грудь. Бросил ковш на лавку, добавил, отдуваясь: — Без домовин, в одной яме, но в добром месте!
— В тесноте, да не в обиде, — простонал старик. — Бог простит! Ивашка-то живой? — скосил глаза на воина в подряснике.
— Который? — глядя в сторону, пророкотал дьякон, стал рассеянно вытирать рукавом мокрые усы, и старик почувствовал неладное.
— Да меньшой, — сказал дрогнувшим голосом.
— Меньшой на стене. Живой был, когда сюда шел.
— А старший как? — обмирая, пролепетал старик.
— Бешеный-то? — Дьяк помолчал, что-то выискивая в углу чулана. — Зарубили его днесь пополудни! — выпалил, тряхнув лохматой головой, взглянул на Егорку, снова перекрестился. — Бешеный он и есть бешеный: один бросился со стены на все войско. Легко отдал Богу душу… Ты, дед, помирай себе не торопясь: вместе с Похабой и отпоем.
Дьякон потрепал Егоркины не стриженные еще волосенки и вышел. Старик с трудом перекрестился, волоча руку по немощной груди, всхлипнул и слезливым голосом стал вспоминать былое, счастливое и чинное крестьянское житье в деревне из трех черносошных семей. Егорка слушал его вполуха. Что отца зарубили, воспринимал, как что-то давнее, не свое. И тут в чулан ворвался Ивашка.
За стенами избы слышались лязганье сабель, крики и звуки равномерных тупых ударов. Егорка насторожился, со страхом поглядывая на брата.
— Ворота ломают, — поднял бессильные глаза дед.
— Черкасы! — крикнул Ивашка и упал на колени: — Дед, благослови!
Старик торопливо и немощно перекрестил его голову, бормоча: «Благословен Господь наш ныне и присно, и во веки веков…» Затем благословил Егорку и поторопил:
— Прячьтесь, Христа ради! Спаси Бог попасть под горячую руку…
Ивашка схватил брата за локоть, поволок из дома, хотел бежать в церковь, но увидел, что туда толпой валят горожане, а усталые стрельцы в малиновых шапках неуверенно сдерживают натиск казаков. И он потянул брата в другую сторону, на выстывшее пожарище с черными трубами.
Подскочив к черной, обгоревшей печи, раскидал головешки и подтолкнул Егорку. Тот юркнул под просторный печной свод. Ногами вперед к нему влез чумазый Ивашка, заложил щель выстывшими головешками.
Сильно пахло золой. Егорка чихнул. Брат шикнул на него и больно ткнул локтем. Тот беззвучно затрясся всем телом. Младший брат всегда был обузой для старшего. Из-за него ему часто попадало за недогляд от скорых на расправу родителей. Эта неделя на стенах города, этот день, когда на его глазах был осмеян, а потом зарублен отец, и мать, весело гарцующая с врагами, — все казалось сном. Только здесь, в печной темноте и прохладе, он стал понимать, что все это не приснилось, а подрагивающий от страха брат с худыми, острыми плечиками — настоящий и единственный. Впервые Ивашка почувствовал, как тот ему дорог. Понял и то, что каждый миг их могут разлучить навсегда. Ему стало страшно не смерти, на которую он насмотрелся, а разлуки с братом.
Слышалась стрельба. Ивашка забылся, прижав к себе меньшого, и привиделось ему, будто живут они в своем доме, о котором рассказывал дед, отец с матерью ласковые и радостные, а Егорка совсем мал — едва говорить научился, и все мешает, все лезет, сердя его, Ивашку. Вдруг хватился — нет брата. Выскочил на улицу и увидел свой посад: речку за огородом, болотце, через него мостки на высоких сваях. Со страхом побежал к болоту, высматривая брата. Не было его там. Задрал Ивашка голову — и увидел меньшого, бегущего по мосткам над болотом. Забраться на них снизу было не по силам, вернуться к речке, откуда начинаются мостки, — уж некогда: потеряет из виду брата, не найдет потом. И побежал Ивашка по грязи, спотыкаясь о кочки, зная, что впереди топь, и стал кричать братцу, леденея от ужаса: «Угрюмка! Мамка пряники из города принесла!» Про пряники врал, лишь бы остановить брата. Тот оглянулся, шаловливо смеясь, но не остановился, продолжая резво бежать по гулкому настилу… Ивашка очнулся в слезах, обрадовался, что это только сон, прижал к себе брата.
Где-то истошно кричала баба, слышались пьяные песни и беспорядочная стрельба: резкие, сухие выстрелы без эха. Проснувшись, Егорка громко, в голос, зевнул. Ивашка шикнул было на него — и услышал:
— Кто пищит?
— Под печкой! Пальни картечью.
— Фитиль уже защипнул, — хмуро ответил тот, кому предлагали стрелять. — Ткни саблей!
Егорка, услышав разговор, сжался в комочек. У Ивашки гулко застучало в ушах сердце. Он торопливо перекрестился и вдруг со всей ясностью понял, что одному надо вылезть. Кто догадается, что их двое? Иначе брата не спасти. И как только он решился — страх прошел, сердце забилось ровно, почудилось — рядом запели ангелы.
Ивашка смиренно выполз из укрытия, встал в полный рост. Была темень. Во мраке виднелись два человека в больших лохматых шапках. Один с пищалью стоял возле пожарища, второй, с саблей в руке, пробирался по головешкам к печи.
— Юнец! — разочарованно зевнул казак с саблей. Другой, с пищалью, проворчал со свирепой пьяной злостью:
— Такой смолу и говно со стен лил, кошевого камнем зашиб до смерти.
Пьяный казак споткнулся, неловко махнув саблей, выругался, грозно приказал: «Иди сюда!» И пополз на четвереньках в обратную сторону. Ивашка покорно сделал шаг, другой, почувствовал под ногами утоптанную землю. Казак с пищалью поймал его за рукав, но рука, скользнув, сорвалась. Тут Ивашка и сиганул во тьму.
Ему знаком был каждый переулок. Блики пламени отражались на куполах церкви. Дом дьякона, где остался дед, догорал, высвечивая часть городской стены. Ивашка бросился было к воротам, подождал немного и, услышав за спиной топот, повернул в другую сторону, к угловой башне. Навстречу ему кто-то бежал. Он нырнул под мосток. Остро пахнуло в лицо нечистотами. Топот, хриплое дыхание и бряцанье оружия отдалились. Ивашка высунулся из укрытия, резко и воровато, как хорек, осмотрелся — возле башни никого не было.
В разбитые подошвенные бойницы даже тощему мужику было не пролезть. Ивашка всунул в щель голову и руки, выдохнул из груди воздух и протиснулся в полузасыпанный ров. Одним духом он проскочил выжженный посад и, озираясь во тьме, побежал к лесу по стылой весенней дороге. Душа ликовала, что ушел от преследователей и увел их от брата. Но радость была недолгой. В темном лесу, в безопасности, вспомнил он о Егорке и заплакал.
Бывальцы из горожан говорили — в захваченном городе надо исхитриться не попасть под горячую руку. На другой день враги отгуляются, устыдятся пролитой крови и подобреют. А на рассвете Егорка вылезет из укрытия, пойдет искать знакомых. Чужаки мальца не обидят: какие ни есть злодеи, но христиане. Соседи и знакомые сироту не бросят. От того, что Ивашка убежал, всем только лучше. Но душа обливалась кровью, а в ушах звучал приснившийся отчаянный крик: «Мамка пряники из города принесла!»
Так прошел день Егория вешнего, голодного. Выдал святой Георгий казакам гонимых гневом Божьим защитников города, как ни молили его с утра о помощи. Казаки ему родней. Но несмышленого мальца, крещенного его именем и прозванного домашними Угрюмкой, не мог не защитить.
Прошло семь лет. Серпухов служил двум самозванцам, а третьему отказал в крестном целовании. Стены были подновлены и укреплены, а на месте выжженного посада появились землянки. Увидев со смотровой башни сотню бородатых донских казаков в высоких колпаках, в городе ударили в колокола. Из убогого недостроенного посада выбежали бабы с детьми.
Сотня остановилась в полуверсте от стен. На вороном коне перед атаманом прогарцевал молодой казак. Был он бос, но в шитом золотом и жемчугами кафтане. Отделившись от своих, молодец поскакал к воротам. Посадские опасливо остановились. Донец поравнялся с ними, что-то сказал, и они стали возвращаться к землянкам.
Казак подъехал к воротам, его впустили. Был он очень молод и долговяз. Сидел в седле подбоченясь. Над верхней губой золотились усики. В том, как он соскочил с коня, поклонился воеводе, приказчику и двум сынам боярским, горожане узнали своего, здешнего жителя и возбужденно загалдели. Сам казак кого-то высматривал острым глазом.
— Не посадского ли Похабы пропащий сын? — спросили громко из толпы. На лице казака мелькнула улыбка, он пристально огляделся, выискивая говорившего. Вперед вышла пожилая печальница во вдовьей поневе, и казак узнал дьяконицу. Та всплеснула руками и, зарыдав, бросилась ему на шею.
Ивашка смахнул слезы и взволнованно спросил:
— Братец жив ли?
Дьяконица зарыдала так громко, что ее подхватили под руки и отвели в сторону. Казак, побледнев, откланялся горожанам, вынул из-за пазухи грамоту с висячей печатью и с поклоном передал воеводе. Тот, осмотрев печать, развернул грамоту, пробежал по ней глазами, подал одному из детей боярских и, крестясь на купола церкви, объявил:
— Казаки примеряют на царство или молодого сына Филаретова, патриарха Тушинского, или калужского воренка, сына царицы Маринки.
В толпе закрестились, одни — с радостью, другие — с опаской. Кто-то спросил:
— А как Владислав-лях?
— Еретик окаянный! Перекреститься не желает и на Русь не едет. Донские казаки, нижегородские и казанские люди — за русского царя! — сказал воевода и добавил: — От горожан, дворян и посадских зовут выборных в Москву. — Кивнул сыну боярскому и приказал: — Читай!
Тот поднял развернутую грамоту и стал громко читать ее.
Ивашка подошел к дьяконице, глядевшей на него умиленными глазами. Она зашептала:
— Чудо-то, Господи! Сотворил Господь преславное чудо! Вчера только вернулся в город брат твой. Тощий, изголодавшийся. Спит, бедненький, не ведает, радость-то какая. Как ты пропал, у меня он жил — мать-то, бесстыжая, в городе не показывалась. После сам ушел, — рассказывала дьяконица, то и дело вытирая слезы сморщенными пальцами.
Ивашка обмирал от нетерпения увидеть брата и верил, и не верил счастью.
— Хлебнул лиха… Да что же я! Пойдем. — Дьяконица потащила его за собой, причитая и смеясь: — Радость-то какая!
В тощем тринадцатилетнем отроке Ивашка долго не узнавал брата. И тот, со сна, со страхом посматривал на молодого казака, не веря, что он и есть беглый Ивашка. Смущенно и недоверчиво братья обнялись на глазах плачущей дьяконицы.
Поклонившись могилам, набрав земли в ладанки, они отстояли молебен в церкви, где были когда-то крещены. Походили по пустырю на месте их сгоревшего дома. Тому и другому все казалось новым, чужим. И люди были не те: ни прежних соседей, ни прежнего житья, что снились и вспоминались.
Ивашка оставил дьяконице золоченый кафтан и ускакал к Москве в стареньком зипуне, но с братом.
* * *
Поблуждав среди дремучих лесов, посеченных неглубокими оврагами, среди болот и выветрившихся скал, казенный обоз под началом Ермеса выехал к Туре-реке. На левом берегу, на высоком взгорье, за редкой вырубленной рощей завиднелся город с тремя башнями и с золочеными куполами церквей. Здесь заканчивалась старая Бабиновская дорога.
Город Верхотурье был построен через пятнадцать лет после Ермаковой гибели воеводой Головиным и письменным головой Воейковым неподалеку от бывшего вогульского городища. Первые насельники из казаков и стрельцов прибыли сюда из срытого и разобранного города Лозвы, через который в прежние годы купеческие караваны шли на Иртыш.
Вскоре после постройки Верхотурья сюда были присланы на постоянное жительство вологодцы и вятичи. Так московские князья выдирали ненавистные им новгородские корни. Но семена, подхваченные буйными ветрами, давали всходы на Сибирской земле.
Никогда не осаждались неприятелем крепкие стены этого города, даже в опасности от врагов не были. Но ни в каком другом сибирском городе не случались так часто пожары, как в Верхотурье.
Ямщики казенного обоза, смахнув шапки с голов, стали креститься на купола городской Троицкой и слободской Вознесенской церквей. Кони рысцой перебрели каменистую речку и, напрягаясь, потянули скрипучие телеги в гору к огороженной тыном ямской слободе и гостиному двору. Перед тыном слободы без всякого порядка торчали крыши врытых в гору землянок, лачуг и наспех срубленных изб.
Ямщики, правившие конями, были злы: им, пашенным людям, наделенным землей и освобожденным от всех иных податей, кроме ямской, платы с обозных не полагалось. Вымучить что-либо со ссыльных волокитой и отлыниванием — было дело безнадежное: им, подневольным, спешить некуда, а для ямщиков, оторванных от земли в самую горячую пору, каждый потерянный день был дорог. Поглядывая вокруг, они переговаривались, жалели здешних крестьян, которым среди лесов и буераков пашня давалась большим трудом. Но рожь росла обильно.
Возле первых изб обоз обступила шумная толпа ярыжников, разодетых кто во что горазд. Наперебой они стали спрашивать про вино и табак, шагали рядом с возками, заглядывали в поклажу, щупали ее вороватыми руками. Вместе с толпой обоз въехал в раскрытые ворота слободы. Не отстали здешние бездельники и возле яма, где обозные сложили свой груз и поставили охрану.
Едва Ивашка присел в тени, к нему подскочил ярыжник в высоком бухарском колпаке, протянул два зажатых кулака и, плутовато ухмыляясь, спросил, в каком денежка. Ивашка пожал плечами, кивнул на правую руку.
Ярыжник разжал пустой кулак и потребовал со ссыльного пятак.
— За что? — удивился Ивашка.
— Проиграл! — стал напирать ярыжник. Его обступали горластые дружки. Кто-то схватил колпак казака, чьи-то руки тянули к себе саблю.
Ивашка лягнул в живот самого наглого. Толпа гулящих взревела, кидаясь на помощь побитому. Похаба выхватил саблю из ножен, со свистом покрутил над головой и стал рассыпать удары плашмя. Еще миг — и дело дошло бы до крови: трое из гулящих выхватили длинные ножи. Но толпа вдруг притихла и поредела.
Расталкивая собравшихся прикладами пищалей, к казаку пробились обозные стрельцы. С ними был слободской приказчик. Заметив в волнующейся толпе малиновые шапки, на шум прибежали трое верхотурских стрельцов. Пинками и тычками они выгнали возмущенных бездельников за тын и заперли ворота. Вытирая разбитое лицо, ярыжник что-то кричал про долговой пятак и грозил жаловаться воеводе.
Приказчик был в красном стрелецком кафтане, обшитом по полам, обшлагам и вороту черными соболями. Сытое, одутловатое лицо его пучками прикрывала редкая бороденка клином. Он спросил, кто старший, и, насмешливо оглядев едва говорившего по-русски немца в шляпе с обломанным пером, потребовал проездные грамоты и описи. Затем с удобством присел на истертую до блеска коновязь, вслух по слогам стал читать бумаги. Кудахчущие куры настойчиво подбирались к его новым смазанным дегтем сапогам. Он попугивал их, болтая ногой.
Наметанным глазом слободской правитель определил, что в казенном обозе запрещенных товаров нет и таможенный досмотр не нужен. Дорожный провиант, по указу, даст воевода в городе. А вот куда отправить обозных на ночлег и временное жительство — решать ему. Почтительно поглядывая на монахов, он бегло осмотрел казенное имущество, сверил по описи котлы, ножи, ружья, сабли, топоры, запас пороха и свинца — все, чем торговать запрещалось. Потом, плутовато щурясь, спросил про вино, которого у обозных не было, и, почесывая затылок, пощипывая пучки бороды, стал раздраженно бормотать, что гостиный двор — для купцов за плату, татарское подворье — для инородцев. С них же, со ссыльных, что взять? Подумав, решил разместить их по избам слободы, у крестьян.
— За добром смотрите, — наказал строго. — Гулящих возле города больше, чем здешних жителей, — их гнус из лесов выгнал. Народ вороватый, ленивый. Зимой всякий змеем изгибается, за прокорм и ночлег, любой работе рад, а летом за работы берут дорого.
— И сколько, по вашим местам, дорого? — улыбаясь, полюбопытствовал инок Герасим.
— У пашенных в работниках, при хозяйских-то харчах, меньше чем за четыре рубля не нанимаются.
— Ну и бродники! — удивился Ивашка, остывший после драки. — Нам обещали за службы два целковых в год.
— Вам казна, а им купцы да черносошные платят, — усмехнулся приказчик. — Царь — вона где, — кивнул на закат, смахнул пыль с шитого соболями обшлага и добавил: — В Сибири никто на одно жалованное не живет.
Иноки, попрощавшись со спутниками, решили пойти к слободскому священнику.
— У него и ночуйте! — крикнул вслед приказчик. — А вы, — взглянул на обозных, — по трое разберитесь — отведу по дворам. С папистом что делать? — кивнул на Ермеса. — Казаки и крестьяне в свои дома не пустят… Придется на татарское подворье вести. Все одно — нерусь.
Приказчик велел снести весь обозный груз в амбар, запер его и приставил сторожем у дверей седенького старичка-инвалида из выслуживших тягло казаков.
Ивашка при сабле, стрельцы с пищалями и бердышами на плечах, которых никому не доверяли, пошли за приказчиком по узкой улочке. Из-под высоких заплотов уже лезла сочная крапива. Ленивые свиньи грелись на припекавшем солнце. Деловито кудахтали куры, разрывая отопревшую землю.
Высокие тесовые ворота рубленого дома — с подклетом, с глухой стеной на улочку — были заперты. Приказчик налег на них спиной и принялся колотить в ворота каблуками. Скрипнул закладной брус, распахнулась калитка, показался высокий сухощавый мужик с густой русой бородой, в длинной, до колен, бухарской рубахе и стоптанных чирках, неприветливо взглянул на приказчика, на служилых.
— Давно у тебя захребетников не было, кум, поди, работы накопилось? — с нетерпеливым вызовом вскрикнул приказчик, наливаясь краской. — Ты брось-ка им соломки в сенцах или еще куда, возьми добрых людей на ночлег. Да бабе скажи, чтобы кормила справно: парни молодые. Пока сыны вернутся с прогонов, они тебе и тес распустят, и крышу накроют.
— Войдите, Христа ради! — хмурый хозяин впустил троих в чистый двор, выстеленный плахами.
— Спаси тебя Господь! — крестясь, вошли молодцы.
Слободской житель неприязненно распрощался с приказчиком, запер ворота и повел гостей по высокому крутому крыльцу в сенцы. Из сеней, согнувшись вдвое в низкой, но широкой двери, гости вошли в чистенькую избу, перекрестились на образа в красном углу, возле оконца, прорубленного во двор. По теплу оно ничем не было закрыто.
Из-за тесовой загородки, отделявшей выстывшую печь от светелки, колобком выкатилась приземистая, полная, румяная женщина, охнула, всплеснула руками. Не спрашивая, как зовут гостей и откуда они, накрошила в миску ржаного хлеба, залила молоком и поставила на стол:
— Ешьте с дороженьки во славу Божью!
Служилые поклонились, поставили пищали и бердыши в угол, сели.
— Ой да какие красавцы, — любуясь гостями, заворковала хозяйка. Тучка набежала на ее моложавое лицо. Она всхлипнула, вспомнив о сыновьях, которые другой уж день были в ямском извозе, смахнула набежавшую слезу и снова радостно захлопотала.
Хозяин, рассмотрев молодцов, подобрел и стал рассказывать, поглядывая на кафтаны стрельцов, что пахотные в слободе живут справно и вольно: над ними один злыдень — приказчик. А в городе над служилым людом всякого начальствующего сброда не счесть — и все что-то требуют.
Ивашка, чтобы поддержать разговор и рассеять мрачные думы хозяина, спросил, не свояки ли они с приказчиком. Хозяин ответил — кумовья. Он перед пахотой снял подтекавшую крышу, и тут приказчик отправил сыновей в прогоны. Одному крыть не с руки, девок брать в помощницы — слобода засмеет: тем пора уж женихов высматривать.
— Мы поможем, — весело поднялись из-за стола постояльцы.
Но тут рассердилась и стала ворчать на мужа хозяйка-толстушка. Дескать, толком не накормив, не напоив, гостей на работу гонит — добры люди засмеют.
Она позвала дочерей и пошла во двор, к не остывшей еще летней печи. Из-за тесовой перегородки, смущаясь, выглянули две простоволосые отроковицы: одна лет тринадцати, другая — меньше. Прикрывая лица рукавами, с любопытством и озорством взглянули на проезжих молодцов, выскочили из избы следом за матерью.
— Невесты! — вздохнул повеселевший хозяин. — Год-другой, а там поманят такие же… И сбегут, дурехи, без родительского благословения на край света, на златокипящую чужбину. Уж все разговоры про богатых да удалых женихов.
Теплым вечером молодые стрельцы и казак помогали хозяину накрыть разобранную крышу. Работалось спокойно и радостно. Ивашка то и дело ловил себя на мысли, будто все ему чудится: тихая сытая жизнь, спокойный зажиточный народ, запах леса и трав. Казалось, вот прервется сон — и проснется он в сыром каземате, провонявшем потом и мышами. Того хуже — в землянке, с духом крови и трупным смрадом.
Они закончили работу на закате. На западе полыхало багровое зарево. Глядя на него, примолкли постояльцы. Угадав Ивашкину тоску, стрелец сказал вдруг:
— Там пожары и кровь — здесь тишь да благодать. Вот ведь. И на все воля Божья!
На Еремея-запрягальника, когда мужики на Руси с песнями выезжают из деревень пахать землю, на плотах и стругах обоз холмогорского купца плыл вдоль скалистых крутых берегов мелководной Туры.
Встречи со здешними народами начались задолго до подъезда к городу. В укромных местах здешние жители на лодках приставали к купеческому каравану, выспрашивали, какой товар те везут и где собираются торговать, при том они склоняли к запрещенным торгу и мене на пути к городу, рассказывая всякие истории о дальних купеческих походах, из которых, де, сами вернулись нищими.
Передовщик, кивая на арестованных и сопровождавших их казаков, разводил руками. Старый казак Гаврила грозил мосластым кулаком.
Уж видны были ворота Сибири — город Верхотурье. Каков он и где стоит, обозные знали от бывальцев. Но увидев почти отвесную скальную стену в двенадцать саженей, три шатровые башни над рекой, удивлялись, задирали головы, придерживая шапки.
На утесе стоял неприступный с реки город. Над стенами, окружавшими его с трех сторон, высился купол церкви с золоченым крестом. Чуть ниже города, у Жилецкой слободы, к скалистому берегу прилепилась узкая пристань. Крутой взъезд поднимался от нее к проездной башне.
— С реки такой город не взять! — поохал Рябой, задирая бороденку на скалу.
— Можно! — поперечно прогнусавил Кривонос. — На яру вместо тына — избенки… Вон там, — указал за реку, — пушки поставить да бить непрестанно. А по той расселине без лестниц послать полсотни удальцов… Но круто!
— Я бы с посада брал! — неожиданно подал повеселевший голос Пенда и стал расчесывать бороду пальцами. — Стены не высоки, и избы зря дозволили так близко к тыну рубить. — Спохватился, крестясь: — Прости, Господи! Опять безлепицу молвил. Живут же люди без крови и злобы. Милует Бог. Отчего ж там, — указал на запад помутневшим взглядом, — одни беды?
Обоз с почетом встречали у пристани два боярских сына, таможенный целовальник, казаки и стрельцы. На крутой лестнице и у воды толпилось до полусотни гулящих, посадских и горожан.
Лодка с купцами-пайщиками, одетыми в цветные кафтаны с высокими воротами и длинными, собранными в складки рукавами, разрезанными от самых плеч, пристала к причалу. В середине встречавших стоял седой и сгорбленный ермаковский казак. Был он полуслеп, глух и поддерживался под руки детьми боярскими. Тяжелая бухарская сабля, висевшая на костлявом плече, волочилась по тесовому настилу.
Толпившиеся горожане приняли пеньковый трос. Рядом причалил тяжелый плот с арестованными и сопровождавшими их казаками. Остальные лодки и плоты обоза поплыли к главной пристани у села Меркушино.
Ермаковец Гаврила в шелковом бухарском халате, по чину поддерживаемый под локти молодыми устюжанами, первым ступил на сходни. То ли положены они были небрежной рукой, то ли сила бесовская тешилась пополудни: сходни опрокинулись, Гаврила и поддерживавшие его молодые промышленные с шумом и плеском попадали в студеную воду.
Старый казак, сердито отплевываясь, поймал на плаву и накинул на голову мокрый колпак, схватился жилистыми руками за верхний венец причала. Горожане подхватили и выволокли его на сухой настил. Гаврила раздраженно оттолкнул помощников, хмуро отжал бороду. Высокий, седой, суровый и страшный в своей мимолетной ярости, он с хриплым рычанием шагнул к увечному старичку — поликоваться с ним трижды, крест-накрест, со щеки на щеку. Едва обнял товарища, тот, подслеповато щурясь, стал брезгливо отстраняться и удивленно просипел срывающимся петушиным голоском:
— Ты ли это, Гаврила?
— Я! — пророкотал ермаковец. — Прибыл с Москвы! Царя не видел, а боярам твой поклон передал.
— А что ты мокрый и склизкий, как налим? — натужно прокричал старичок, вытягивая шею и придвигая к губам ермаковца ухо, торчавшее из вислых седин.
— Старый дурак — глупей молодого… От Туры плыву на брюхе! — прохрипел казак Гаврила с остывающей злостью.
— Молодость не грех, старость не смех! Здоров ты еще! — осклабил беззубые десны старичок. — А я вот совсем немощен. Буду проситься у воеводы в монастырь. Не берет Бог за грехи наши. Ночами бесы кости выворачивают, как на дыбе… А ты поживи. Молодых учить надо.
Дети боярские, целовальник и приказчик уважительно помалкивали, терпеливо ждали, когда старики поговорят, и только после стали расспрашивать Гаврилу об арестованных и об обозе.
Купцы-пайщики степенно сошли на причал, сотворили перед иконами по семь поклонов. И клали-то они на себя крест по-писаному, поклоны вели по благочестивой старине. Затем, кланяясь собравшемуся народу и служилым людям, стали одаривать целовальника с приказчиком аглицкими сукнами. Опять крестясь и кланяясь на московский лад — троекратно, предъявили сынам боярским проездные грамоты. А те, смущенные присутствием возвращавшегося из Москвы казака-ермаковца с конвоем и арестованными, вели себя не по чину скромно. Мельком осмотрев грамоты и пермские описи товаров, один из них спустился в лодку, застеленную медвежьими шкурами. С ним сел таможенный целовальник. Они поплыли по течению за караваном к пристани — для сверки грузов с описями. Другой сын боярский повел Гаврилу-ермаковца сушиться, приказчик — гостей к воеводе и подьячему в город. За ними последовал конвой с арестованными.
На высоком крыльце Троицкой церкви купцов и складников встречал верхотурский воевода князь Дмитрий Петрович Пожарский в собольей шапке и бобровой шубе поверх кафтана, шитого жемчугами по вороту. При нем был подьячий Калина Страхов в бобровых портах и сафьяновых, как у воеводы, сапогах.
Не удостоив взглядом арестованных, воевода стал расспрашивать переодетого Гаврилу о пройденном пути и о новостях из Москвы. Затем заговорил с купцами о делах в Устюге Великом и Холмогорах, о дальнейшем пути, о привезенных товарах и о том, чем собираются они торговать в Верхотурье, что покупать.
Гостям воевода строго наказывал, чтобы к остякам и вогулам в юрты и по речкам не ездили, а торговали, съезжаясь на гостиный двор. Подьячий, дождавшись паузы в его речи, пригрозил: если начнут-де купцы торговать в других местах, то будут ловить их и пеню чинить по указу.
— По зимнику были у нас торговые гости из Нижнего Новгорода — уж хитрющи, как бесы, — напомнил ухмыляясь. Покосился на попа, перекрестился на икону над коваными дверьми в церковный притвор. Глаза его строго блеснули, щеки зардели от властного негодования. — Хотели государя-царя объегорить, но убытки великие претерпели. — Пристально взглянул на прибывших, строго добавил: — А жить вам, купцам, на гостином дворе, а работным вашим — где примут.
Купцы с поклонами одарили воеводу и подьячего, передали священнику дар и пожертвование для церкви. Верхотурцы стали приветливей, начали расспрашивать о трудностях пути и о ценах в Перми.
Вскоре подошли сын боярский с целовальником, ведавшие делами гостиного двора. С поклоном они доложили воеводе, что запрещенных товаров и товаров сверх описи у обозных не обнаружено. Гостям же, с милостивого дозволения воеводы, объявили, что, оценив таможенную и приворотную пошлины, всякий вещевой и меновый товар, да пудовую пошлину, и с амбара оброк, и с изб тепловую пошлину, определена им плата, которую надобно внести в царскую казну деньгами или салом и медом.
Денежная сумма была названа меньше той, на которую рассчитывали купцы. Они тут же внесли ее. Подьячий записал принятую пошлину в приходную книгу, сын боярский с целовальником при всех собравшихся положили деньги в деревянный ларец, на створки которого поп накапал воска с горящей свечи, а воевода приложил к нему свою печать.
Дело было сделано. Целовальник с подьячим вытерли взопревшие лбы собольими шапками и отступились от купцов. Помышляя о делах дня, воевода поднял светлые глаза на гостей и сказал задумчиво:
— Стоит у нас в слободе обоз с государевыми ссыльными: с казаками и монахами, следуют они до Сургута-города. Взять бы вам тех людишек к себе и вместе дойти бы до Тобольска или дальше. А то ведь судов свободных у меня нет.
Приземистый, кряжистый передовщик Бажен Алексеев сын Попов и купец Никифор Москвитин с мягким, румяным лицом, оба — с услужливыми взглядами, стояли перед лучшими людьми города. Задолго до Верхотурья они знали, что судов здесь нет, но услышав об этом из уст воеводы, прикинули стоимость розданных в поминки подарков и стали распрямлять почтительно изогнутые поясницы. Сминая в ладонях шапку, передовщик удивленно шевельнул бровями и взмолился:
— Батюшка государь и заступник, смилуйся! Не поспеть нам в Мангазею на плотах да на стругах. Потеряем товары и себе, и казне в убыток. Дай нам хоть плохонькую барку, а мы государево тягло на себя возьмем.
Устюжский купец, будто бы робея, хитроумно помалкивал, водил невинными и одновременно нахальными глазами с воеводы на подьячего, настораживал уши, запоминая всякое оброненное слово. А как примолк Бажен, разобиженно вздернул нос, слезливо запричитал посиневшими губами:
— Разорение нам великое… Долги неоплатные!
— Кочей нет до самого Обдорска. Хотите не хотите, а строить дешевле у нас, — сказал подьячий таким тоном, что лица купцов мигом посуровели да поумнели, поясницы распрямились, глаза стали смотреть прямо и спокойно.
— Дам вам корабельного теса сушеного и верфь, а вы, соединясь с обозными государевыми людьми, и мне коч построите, да на своих судах казенный обоз до Тобольского города доставите. А люди те на нашем коште будут. А наемным плотникам сами заплатите, и прокорм их — ваш, — изрек воевода таким голосом, что у купцов-пайщиков прошла всякая охота рядиться. Коли на всем пути не купить судов, уже то, что в городе давали тес, да еще сухой, — было счастьем.
— А построите казне коч — будет вам от меня всякая милость! — мягче добавил воевода и обвел строгим взглядом сынов боярских. Слова его были не только лаской гостям, но и приказом для служилых — во всем прямить прибывшим. А это много значило для купцов, спешивших в полночные страны.
Пятеро донцов, нанятых до Верхотурья, сидели на берегу и с интересом поглядывали на сибирский люд, не знавший ни бед, ни нужд новгородских, московских и северских городов. Угрюмка с Третьяком помалкивали, внимательно слушая старших. Пантелей Пенда беззвучно перемалывал нескончаемые свои думы, не удостаивая собравшихся ни взглядом, ни словом. Кривонос и Рябой неспешно перебрасывались словами с местными жителями и посмеивались, удивляясь здешним порядкам и нравам.
Сибиряки охотно рассказывали о житье, жаловались на бедность, на высокие цены и немирные туринские народы, хотя на город, успевший подгнить и местами разрушиться, ни разу никто не нападал. Спрос на работных был здесь непомерно велик — при том, что бездельников поблизости бродило множество.
Все помыслы этих вольных и служилых людей были в дальних краях, где богатство само за человеком гоняется, и на Руси, где, по их понятиям, были порядок и справедливость от власти. Себя же, оторвавшихся от отчих селений на Руси и не дошедших до благодатной земли, они почитали за несчастных.
Гулящие казаки с грустью и снисхождением слушали присевших у их огонька людей как малых и неразумных детей. Скажи им, что ляхов, шведов и рейтаров, обобравших до нитки добрую половину Руси и саму царскую казну, зазвали в Кремль сидевшие там и воевавшие против своего же народа русские бояре, что это они погубили под стенами Москвы тысячи невинных душ, а теперь окружают молодого царя и шлют указы от его имени, скажи, что сам молодой царь был кремлевским сидельцем и вместе со своим дядей Иваном Романовым предавал Русь на растерзание европейскому сброду, — за такую правду здешние люди если не забьют камнями до смерти, то объявят «государево слово и дело».
Осторожно и неохотно отвечали казаки на вопросы сибирцев, удивляясь их вольной, спокойной и благополучной жизни во времена, когда на Руси идет война — и не видно конца кровопролитию.
Вдруг с гиканьем вскочил Пенда. Глаза его дико сверкали, лицо пламенело, но не яростью, а решимостью и удалью. Он поддал ногой по пылавшей головешке. Та полетела в реку, вычерчивая огненную дугу, шлепнулась, поплыла по течению, шипя, дымя и потрескивая угольками. А Пенда поклонился Рябому и заговорил с жаром:
— Правду ты сказал про Спасителя! Не радели мы за народ, как Он. Меня на плаху волокли — знал, товарищи отобьют. Его на крест вели — ни ученики, ни родственники, ни исцеленные Им не вступились. Забыли Вседержителя! — вскрикнул весело. — И мы бежим, гонимые гневом Божьим, — погрозил кулаком на закат. И плюхнулся у костра так же резко, как вскочил. — Прости, Христа ради, если сердился на слова твои строгие, — взглянул ясными глазами на Рябого.
Ни верхотурцы, ни гулящие не поняли странной выходки лохматого молодца. И так как казаки оживленно заговорили между собой о непонятном для них, стали расходиться.
Покатилось солнце красное на закат дня, к верховьям Туры. Окрасилась багрянцем река. Поблескивая чешуей, плавилась рыба. То семеня мелкими, мышиными шажками, то замирая и прислушиваясь, к казакам подошел устюжский купец Никифор. Его длинные уши торчали из-под шапки, глаза щурились в принужденной почтительной улыбке.
Он подсел к огоньку на каменистом берегу, спросил любезным голосом, довольны ли донцы отработанным рукобитьем. Казаки настороженно примолкли. Рябой с кривой леденящей улыбкой безмолвно пучил на купца усталые, с красными прожилками глаза, пристально всматривался в его лицо, пытаясь понять скрытый смысл спрошенного. Никифор, не дождавшись ответа, стал прельщать казаков дальнейшими выгодами. Рябой засопел, следя за каждым его жестом, оберегаясь чарования. А тот без намеков и расспросов предложил новое рукобитье по совести и справедливости. Он понимал, что в вольной Сибири обманом и хитростью никого не удержишь.
— Вы люди не тяглые, время еще раннее: лето впереди, — рассуждал, водя пытливыми глазами. — Помогите нам построить два коча и коломенку — мы заплатим как здешним работным. А надумаете — идите с нами в Мангазею для вольных промыслов. Мы к вам присмотрелись. Вы наши порядки уразумели.
— Куда тебе два коча и коломенка? — гнусаво пролепетал Кривонос шрамлеными губами изуродованного лица. — Еще и струги волокли от самой Перми?
— Воевода приказал один коч казне построить, — охотно ответил купец. — Сухой лес дал, верфь и жилье при ней… Нам одного только ржаного припаса надо взять с собой до тысячи пудов: там, куда идем, места не хлебные. А еще до Тобольска велено везти ссыльных и служилых с казенного обоза. Они тоже плотничать будут. Даст Бог, в три недели управимся — по полтине на работника заплатим. Пойдете на промыслы покрученниками[26] — дадим содержание, кошт и треть с добытой рухляди. Подумайте, казачки, и послушайте, что здесь сказывают про Мангазею и Енисею. Там, бывает, в собольих онучах с промыслов выходят. — Ласковая улыбка на румяном лице покривилась, а в рыбьих глазах мелькнуло что-то хитрое и торжествующее, будто купец уже прельстил казаков своими посулами.
Краснобай и дольше бы говорил сладкие речи, заманивая на промыслы, а значит, на дармовые работы в пути, но уловил, как что-то переменилось у костра: юнец в драном охабне заерзал, тощий и малорослый казачок, с безразличным видом глядевший в сумеречное небо, вдруг уставился на него немигающими глазами, да и седобородые будто обратились в один пристальный взгляд, а долгогривый Пентюх с таким вниманием стал разглядывать темляк сабли, будто собирался ее продать. Устюжанин в недоумении умолк. Рябой вскинул на него цепкие глаза, спросил резко:
— Какой казенный обоз? Не тот ли, где носатый немец в передовщиках?
— Тот самый! — кивнул купец и почувствовал, как облегченно расслабились казаки. Спросил удивленно: — Повздорили?
— Было давеча… Ничего, помиримся! А над словами твоими подумаем! — сказал Рябой.
Купец даже смутился от этакого равнодушия. Глаза его сверкнули. Говорить стало не о чем. Он принужденно пошутил о кабаках, которых в городе было несколько, дескать, хошь пляши, хошь скоромные песни пой — если есть на что веселиться, и ушел по своим делам.
Рябой, чтобы не попасть под его чарование, стал что-то нашептывать, посыпал золой следы и то место, где сидел гость. После сбросил зипун, осмотрел обложенную травами рану. Довольный стянувшимся рубцом, пробормотал:
— Вон как роса егорьевская помогла!
Ни Рябой, ни Кривонос не заговаривали о предложении ватажных. Поднялся Пенда, разминая ноги, подбросил плавника в костер. Пригревшийся у огня Угрюмка задремал. Сквозь сон он слышал, как приглушенно рассмеялся Третьяк и сказал:
— Будто у нас хлеб на утро есть… Не на верфь — так на паперть: вам про падение Адама петь, мне на клиросе — что велят.
У костра раздался тихий общий смех. Это Кривонос пошутил:
— Мне-то, красавцу писаному, и на паперти подадут! А вам… Не знаю!
Четверо снова приглушенно рассмеялись. А Угрюмка как-то чудно, боком, скатился к самой воде. Вдруг стало казаться ему, что рассвело. В реке на аршин завиднелся каждый камушек. И разглядел он в глубине красный сафьяновый сапог с загнутым острым носком, высоким каблуком и отворотом на голяшке. Вскочил на ноги, обернулся к костру — никого. Ясный день дышал в лицо прохладой и прелью соснового бора. Схватил Угрюмка жердину с рогулькой и стал вытаскивать добрую обутку. Аж под сердцем захолодело, как увидел и другой, парный сапог. Предвкушал — если окажутся велики, набью соломки и сношу, а если малы — поменяю.
Вот уж он схватился руками за каблук и за гнутый носок, потянул — и увидел, что вытаскивает из воды утопленника с косматой головой, в блещущем шишаке. Глянул на его синюшную рожу и обмер от страха, с ужасом узнав казака, что явил себя в пещере. Отпрянул Угрюмка со вскриком. А топляк вдруг жутко шевельнулся, сел, раскрыл влажные, сердито мерцавшие глаза и пронзительно захохотал.
— А-а-а! — заорал Угрюмка с бешено колотившимся сердцем. И очухался в ночи, у костра. Мигали звезды. Рябой с Кривоносом полулежа удивленно глядели на него. Пенда с Третьяком еще не ложились.
— Утопленник привиделся? — смеясь, спросил Третьяк. Угрюмка, подвывая и поскуливая, боязливо закивал. — Это мы про погибель Ермакову, прости, Господи, к ночи вспоминали.
Юнец зябко придвинулся к самому жару. Подрагивая и крестясь, распахнул охабень, выжигая причудившийся смрадный холодок, повеявший от мертвеца.
— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — повторял дрожащими губами. — Спаси и сохрани!
— До полуночи сны дурные, ложные! — насмешливо зевнул Рябой. — Что видел-то?
— Ермака утопшего! — с обидой вскрикнул Угрюмка. — Ой-е-ей! — С пытливой надеждой взглянул на кичижника. — Из реки его выволок. А он — хохотать! Страшно-то как, Господи, помилуй!
— Знать, приглянулся ты атаману! В свои, сибирские казаки зовет!
— Нет-нет-нет! Не пойду! — со слезами визгнул юнец, отчаянно мотая головой.
— Зря! — подоткнул под бок зипун Рябой. — Атаманы, цари, известные бояре — к счастью снятся. А вот поп или кто из причта… Как ни увижу — так ранят!
— Бог через них знак посылает, чтобы берегся! — вступился за церковный чин Третьяк. — Не потому ранят, что попа видел, а поп снится к тому, что ранить могут.
— Берегись не берегись — от судьбы не уйдешь! — посапывая, пробормотал Кривонос.
— Все равно не пойду в сибирские казаки! — шмыгнул носом Угрюмка, суетливо сбрасывая затлевший охабень. Перепуганными глазами зыркал во тьму на черную реку.
— Бог призовет — не спросит! — рассмеялся Пенда.
— Может, спросил бы и смилостивился, — мягко возразил Третьяк. — Да только крестьянствовать с малолетства учатся, торговле — от родителей. А нам, сиротам, или в служилых, или в работных быть. Иной доли добиться трудно! — вздохнул затаенно.
В темноте к костру казаков пришел Федотка, брат передовщика Бажена Попова, посидел у огонька, перебросился словами с Угрюмкой и Третьяком, потом, поглядывая то на Рябого, то на Кривоноса, передал наказ ватаги: если казаки согласны строить суда — пусть идут на верфь в Меркушино. Там приказчик даст кров. Если нет — пусть устраиваются как знают.
— Что скажем, братья-казаки? — обвел друзей бравым взглядом Пантелей и сам же ответил: — Надо помочь! С Ивашкой свидеться или заработать на вольные харчи.
— Не пропадать же с голоду! — степенно согласился Кривонос.
В Меркушино, побродив среди ветхих землянок, подгнивших амбаров и кровельных навесов, под которыми сушился корабельный лес, пришел в себя после забытья и морока удалой казак Пантелей Пенда. Ранним утром он ворвался в тесную землянку, где отдыхали товарищи, и стал ругать здешних плотников — откуда, мол, руки растут. Глядя на него, повеселели Кривонос с Рябым. Зевали, посмеивались в бороды, поддакивали.
Не дожидаясь пайщиков, Пенда высмотрел удобные места близ воды, где можно заложить кочи и коломенку, приглядел лес что получше и взялся за работу, всех поучая, хватаясь за одно да за другое.
Устюжане и холмогорцы сперва зыркали на него с недоверием, но подчинились, потому что сами слонялись по верфи, не зная, с чего начать. По случаю они были рады и такому приказчику, а вскоре поняли, что Пендюх, как звали Пантелея меж собой, — человек мастеровой, хоть и казак. Холмогорцы стали величать его Пантелеем Демидычем, похваляясь, что Великому Новгороду для величания царского указа не надобно[27].
Складники перестали наделять казаков харчем, теперь ужинали все вместе. На завтрак и полдник хлеб они получали выпеченным.
После долгих переговоров с купцами и меркушинским приказчиком вернулся Пантелей в землянку затемно и сразу лег. Наутро он поднялся первым, товарищи в сумерках выпучили сонные глаза, глядя на него. Рябой как раскрыл рот для зевка, так и обмер.
— Чего уставились? — пожал плечами Пантелей, надевая колпак.
Рябой с Кривоносом были так поражены, что не сразу заговорили.
— Чевой-то, думаю, у Пендюхи морда — сикось-накось? — неприязненно постанывая, запричитал Рябой.
Скинул Пантелей колпак — волосы были обрезаны в кружок, выстриженная борода что кочерыжка и только родовой чуб свисал на щеку.
— Ирод! Что с собой сделал! — загундосил Кривонос. — Ладно бы патлы поповские остриг — бороду почто испоганил, как папист?
— В смоле вывозил! За пазуху прятал — не уберег! — беспечально ответил Пантелей. — Ничего, другая вырастет, даст Бог.
Здесь же, на верфи, изогнувшись коромыслом, крутился долгоносый еретик с казенного обоза. Он все у всех выспрашивал, поучал, путая слова, горячо спорил из-за всякой мелочи. При этом пытливо вперивался в работных пристальным взглядом начальствующего человека. Сердясь, плотники хотели поставить его распускать плахи нижним пильщиком. Но еретик черновой работы чурался. Пошлявшись без дела, всюду гоним, заперся в курной избе, и по верфи прошел слух — читает колдовские заговоры о вредительстве. Обоз ные стрельцы и промышленные прибежали к ссыльным монахам, варившим смолу, стали просить их освятить избу, где заперся еретик, а самого его окропить святой водой, чтобы не нес тарабарщины.
Вскоре Ермес стал работать ни с кем не споря и оказался неплохим мастеровым: покорно распускал лес, тесал плахи. Обозные решили, что его вразумили монашеские молитвы и святая вода. Но приказчик сообщил за соборным ужином, что окаянный подал воеводе чертежи новой верфи и быстроходных судов, а о себе велел сказать, будто учился в навигационной школе в Риме.
К Николину дню воевода учинил обход города, слободы и верфи. В окружении сынов боярских и приказчиков он въехал на верфь на гнедом жеребце. Возле часовенки Николы Чудотворца, покровителя всех православных сибирцев, всех плавающих, странствующих и в дальний путь собирающихся, сыны боярские сняли воеводу с седла.
Помолясь с обступившим его работным людом, он сел в сколоченное наспех кресло, покрытое медвежьей шкурой. Ему вложили в руки саблю в ножнах и ларец с царскими грамотами. Князь-воевода был немало удивлен, что за короткий срок на верфи появились остовы судов, и велел привести к себе строителей.
С благословения купцов и монахов устюжане с холмогорцами подвели к воеводе пред его светлые очи Пантелея Пенду с остриженной головой и бородой, едва скрывавшей щеки.
— Чей ты будешь, детинушка? — пристально разглядывал его князь. — Под чьими знаменами воевал? А ведь мы с тобой встречались. Не припомню где, но помню, что не дружески!
— Не прогневись, князь, виделись мы в Москве, в доме Пожарских на Сретенке. Брал я с казаками на саблю дом брата твоего, Дмитрия, да тын сломал, когда тот стал хвалить шведского королевича на Московский трон, — безбоязненно отвечал Пантелей, глядя на князя прямо и спокойно. — И вы, Пожарские, теперь в царской милости, и меня государь простил, что радел за него, как за Господа. Ради него и двор ваш ломал.
У воеводы болезненно сузились глаза и зардели щеки.
— Не меня — князя Дмитрия Михайловича, благодетеля вашего, бесчестили, — резко и досадливо укорил казаков за прошлое.
— Все не без греха! — усмехнулся Пенда с нетерпеливым вызовом в глазах. — Когда брат твой служил стольником царю Дмитрию, я при палатах в карауле стоял, — покривил губы воспоминаниями. — После венчания царя с Маринкой усадили их на трон, а они ногами до пола не достают. Я вроде и в угол отвернулся, и прыснул-то со смеху тихонько. А брат твой с другого конца залы услышал и спину мне кнутом распустил… А когда я его, порубленного, отбивал да тащил в монастырь, он повинился: дескать, в зале той из одного угла в другом всякий шепот слышен. Не высеки он меня тогда — с обоих бы головы сняли… — Печальная насмешка над прошлым не долго печалила лицо казака. — А после царского развода я гулящий! — добавил, мотнув головой и вскинув прояснившиеся глаза. — Пришел в Верхотурье из Перми с купеческим обозом.
Купцы со складниками прислушивались к разговору воеводы с Пендой и холодели от страха. Они уже лихорадочно соображали, как откреститься и отречься от работного, если случится княжеский гнев.
Задумался князь, нахмурив лоб, изогнул дугой черную бровь. Ветер, пахнувший с реки, шевельнул мягкий черный ворс собольей шапки, играючи, обнажил голубой подпушек. Ласковое майское солнце заблистало в каменьях перстней на его пальцах. Опечалился и он воспоминаниями. Кашлянув, не стал прилюдно говорить о прошлом, но предложил:
— Оставайся на моей верфи приказчиком! Положу жалованье как конному казаку и будешь в моей милости.
У дородного холмогорского передовщика да у купца-устюжанина, стоявших перед воеводой без шапок, только что испуганные лица стали печальными, как перед новым побором. Они уже оценили радение и мастерство Пенды. Бажен Попов от досады сморщился так, что кабы не красный облупившийся нос, его лохматые брови спутались бы с бородой. При таком соблазне и при таком покровительстве удержать этого самого казака, напоминая о рукобитье, мог только Господь Всемогущий. Уводили работного высокой милостью, с которой не им, купчишкам, тягаться.
Вдруг, к удивлению обозных, Пантелей сказал с поклоном:
— Благодарю, князь, за честь, связан я словом с устюжанами и холмогорцами, иду с ними промышлять в полночные страны.
Передовщик ушам не поверил, но обветренное лицо его разгладилось, лохматые брови поднялись высоко. Воевода же подумал, что на душе казака черным камнем речным лежит непрощенная обида, и сказал с укором:
— Твоя воля! А то, что было — быльем поросло. Видишь сам — ни ваша, казацкая, правда не взяла, ни наша, княжеская. А Божьей правды нам, грешным, не понять.
Пантелей опустил глаза. Откланялся. Не так, как принято на Дону, а ниже. По московским же понятиям — едва кивнул, к неудовольствию и опаске купцов. И отошел он в сторону, снова перебарывая печаль пережитого, которую, казалось, уже сбросил с груди.
К князю подвели Ермеса в таком коротком заморском кафтанишке, будто ему собаки полы отгрызли. Тот откланялся на фряжский манер, помахав шляпой со сломанным пером, поскакав на цыпочках, как черт на копытцах, переломился в поясном поклоне, увидел, что из дыры в носке сапога вылезла солома, стал пальцем всовывать ее обратно. Среди сынов боярских пронесся ропот. Им показалось, что еретик насмехается над собравшимися честными христианами. Но князь развеселился, глядя на пленного. Рассмеялись и они, угодливо сменив гнев на милость.
— Ознакомились мы с твоими челобитными, — приветливо кивнул ему воевода. — Сколько времени надобно тебе, чтобы перестроить верфь?
— Месяц! — на латыни коротко ответил ссыльный и добавил с важным видом: — Мои корабли будут ходить быстро — в три, четыре раза быстрей здешних.
— Сколько денег просишь на те работы? — тоже на латинском языке протараторил князь.
— Тысячу талеров!
— Он берется строить большегрузные суда. Но как их до Иртыша вести по мелководью? — спросил по-русски князь, обернувшись к приказчику.
— Надумал канал рыть! — насмешливо ответил тот. — Или сплавлять на надутых бычьих кожах.
Воевода махнул рукой, и сын боярский отпихнул заморского мастера в толпу. Тут воевода приметил среди работных инока в подряснике. Указав на него пальцем со сверкнувшим перстнем, тихо спросил приказчика:
— Кто это?
— Ссыльный, Герасим, — сказал тот, учтиво склонившись. — Следует до Тобольска. Тамошние церковные власти решат, куда его определить на духовную службу.
Подведенный к воеводе монах взглянул на него, сверкнув светлыми, как драгоценные камушки, глазами, и поклонился по-монашески низко, пальцами двух рук касаясь земли.
Передав саблю и ларец с грамотами сынам боярским, князь встал из кресла, поглядывая на монаха удивленно и опасливо:
— Не ошибся! А ведь столько народу прошло перед глазами с тех пор! Думал, грешный, что тебя умучили. Помню, сильно прогневил ты государя, храни его Господь. Патриарха — и того более.
Ни у того, ни у другого не повернулся язык напомнить о винах инока, обличившего патриарха Филарета, что получил волю и митрополичий посох из рук одного царя, им же обозванного самозванцем, патриаршество — от другого самозванца. Благодетеля своего, царя Шуйского, предал, паписту-ляху крест целовал…
— Простили и сослали! — просто ответил монах, не зная, можно ли прилюдно напоминать князю о том, где они виделись.
Воевода земского ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский под Калугой сделался болен и передал князю Дмитрию Петровичу власть над войском. Но подначальная ему рать из черемисов и татар перед боем разбежалась. Молодой царь и его двор, ненавидевшие Пожарских, так разгневались, что князь стал узником в Троицком монастыре и содержался в одной келье с монахами.
Не посмел и верхотурский воевода вспоминать о былом заточении при подручных людях, но и не отвернулся от знакомого, за милость к которому мог и нынче поплатиться. Движением руки подозвал стоявшего у кресла сына боярского и велел передать монаху добротную однорядку, стоившую дороже хорошего коня. Но не сейчас, а на Николин день.
Удивляясь великой княжеской милости, дети боярские стали обносить работных медом, поднесли чарку и Ивашке Похабе.
— Благодарю, князь, спаси тебя Господь и брата твоего Дмитрия Михайловича, — сказал он, принимая чарку. Выпив, кивнул инокам, Герасиму с Ермогеном: — Не узнал! Ну и ладно — без того велика честь.
Он не мог не сказать доброго слова о сроднике воеводы князе Дмитрии Михайловиче и о земском предводителе, купце Минине. Это их хлопотами была дана от царя воля холопам и кабальным, бившимся в земском ополчении. Их заботой шел Ивашка в Сургут-город, а не к богатому мужику на холопскую казнь.
Ссыльный Ивашка Похабов жил в одной землянке с казаками. Была она тесна. Из очажка дым по-черному поднимался сквозь решетку из прутьев, на которую бросали мокрую обувь и одежду, клубился по низкому потолку и выходил через дверь.
Вечерами передовщик бил в клепало[28], висевшее у часовни. На верфи затихал перестук топоров. Умывшись, работные собирались у ватажного костра. Из котлов шел дух каш и мяса, хлеба и кваса. Приварки раскладывали парящую еду по чуничным котлам. Кто-нибудь из иноков по знаку пайщиков читал молитву Господню. Пели все, а Третьяк громче всех, притом закатывал глаза, любуясь своим голосом.
Получив благословение, работные садились по чину и братски переламывали хлеб. Ели неспешно и благостно, по пятеро-шестеро, черпая ложками из котлов и отщипывая хлеб от караваев. Утолив голод обильной едой и питьем, ждали, когда доедят другие. Торопливость за соборным столом осуждалась. Поднявшись разом и помолясь, сытый народ расходился по землянкам и избам для отдыха, молитв и веселья. Многие из работных, ополоснув ложки и котлы, устраивались возле ватажного костра, поджидая, когда отдохнет и наберется сил старик-сказитель.
С рассветом все начиналось заново. Работали купцы-пайщики, промышленные складники и покрученники, работные, стрельцы и ссыльные монахи. Кашеварил сам передовщик, не доверяя другим или имея такое призвание. Он властно, со знанием дела приказывал, что в какой котел класть, и снимал пробу. Баюн, пленный Ермес и две меркушинские старухи были у него в приварках.
Ермес то и дело тыкал себя пальцем в грудь и лопотал, что он учился в поварской школе в Стокгольме, служил кулинаром у полковника Гносевского. Все, что ни готовил Бажен, казалось ему пресным. Ермес доваривал и досаливал свой котел, из которого ели еще и литвины с бритыми лицами, но каждый из своей чашки. Окаянный пробовал угощать из своего котла русских работных и убедился: что для европейца изысканно, для русича — отвратно.
Паписту не верили, строго следили, чтобы при варке над котлом не наклонялся, слов непонятных не шептал и сам бы в варево ничего не клал, не подсыпал. Старец, бывало, всхрапывал возле очага, но стоило Ермесу приблизиться — тут же открывал выцветшие глаза.
Пантелей носился по верфи, поспевая сразу в нескольких местах. Кривонос, Рябой и Третьяк называли его Пендой, обозные да работные верфи величали Демидычем. Пермяки звали Пентерей[29]. И так радел он за строившиеся кочи, что не всегда приходил ночевать к казакам.
Кривонос с Рябым были в большом почете у приказчика. Тот приставил к ним молодых учеников из города. Третьяк на всяких работах старался держаться поближе к монахам, услужить им и послушать их, часто уходил с ними на всенощные молитвы. Угрюмка и работал, и спал рядом с братом. Но, оставшись с ним вдвоем, скучал. Ивашка или наставлял его на ум, или пускался в рассуждения о правде жизни, наслушавшись монашеских разговоров.
Угрюмка с затаенной горестью поглядывал на него из угла. Все казалось ему: вот-вот придут на ум нужные слова, он их скажет и облегчит душу. Но вместо этого, раз за разом что-то перебарывая в себе, кусал губы.
И раз, и два наказывал Ивашка своему братцу меньшому здороваться со старшими первым, а не ждать, когда те его заметят. Но опять пожаловались работные: стоит, дескать, юнец, пучит на них глаза, а не кивнет даже.
Как ни сдерживал себя старший брат, как ни старался быть ласковым и спокойным, однажды вспылил, крикнув резко:
— Ты что же казаков позоришь!
Угрюмка втянул голову в плечи, опасливо взглянул на него зверьком с кривящейся улыбкой на посиневших губах, и обиделся втайне, больше чем на слепцов, много издевавшихся над ним.
— Ты объясни! — сдерживая себя, хрипел Ивашка. — Почему перед купцами хвостом метешь, а от честного люда морду воротишь?!
Не знал младший брат, что ответить, лишь краснел, бледнел и отмалчивался. Может быть, ждал, что старший обнимет и попросит прощения за все его поганое детство. Работным он стал кивать и кланяться при каждой встрече, будто невестке в отместку. Те только вздыхали, поглядывая на него жалостливо: «Сирота!»
По вечерам Угрюмка делал вид, что слушает брата. И все как-то молчаливо улыбался ему, кривя уголки губ, и заставлял себя думать, что брата доброго дал ему Господь. Только тот вспыхивает, как береста, да трещит, как хворост. А так ничего. Чаще он молчал, зевал, ложился спать рано, а уснуть не мог. Потом стал убегать к обозной молодежи для шалостей и веселья, оставляя брата наедине с мыслями.
Ивашке становилось страшно за них за обоих. Вспоминались непутевые родители, жуткий сон под выстывшей печью на обгорелом подворье. И от бессилия хотелось ему задрать по-волчьи голову и завыть.
Здесь, в Меркушино, у ворот Сибири, станичники почувствовали, как без споров и страстей пролег между ними дружеский, ласковый разлад: дружба, родство — дело святое, торги да промыслы — дело иное. Рябой, поглядывая на товарищей, старчески шевелил впалыми щеками, кряхтел, постанывал от былых ран. Кривонос мучился душой: болела она у старого казака за братьев. Это он когда-то отбил у озверевших мужиков тощего юнца, напомнившего ему свое сиротство. Избитого и заморенного Ивашку везли на казнь за то, что, спасаясь от голодной смерти, продал себя в холопство, а отъевшись, бежал.
Отбил его Кривонос не по правде — из неприязни к тамошнему народишку. Но случилось, что стал ему юнец вроде сына. Перебарывая себя и смиряясь перед неизбежным, он и начал разговор, которого все ждали и смущались.
— С Хопра-притока шли мы тебя спасать, — напомнил Ивашке, глядя на него налитыми тоской глазами. — Не леший завел — душами заплутали. Теперь уж каждый сам по себе. И я, грешный, думаю: коли не пойдешь ты назад, мне-то зачем на Дон возвращаться? Останусь здесь, на верфи. Вдовицу найду, даст Бог, или при церкви доживу в тишине и покое.
— Меня на Дону никто не ждет! — вспыхнул было, огрызнулся Ивашка и спохватился: — Прости, Христа ради! За добро твое не отслужил, старость твою не могу поддержать. Здесь неволей своей остаться с тобой не могу. В бега, на Дон — не хочу. И не могу. Позвал бы за собой — не пойдешь.
Понимали казаки, что оказались на распутье. Каждый выбирал свой путь, а куда он приведет — ведомо лишь Господу. Одно было ясно: помолясь друг за друга, отдав крестное целование, идти им дальше врозь. Свидятся ли еще на этом свете — неизвестно. Но там, на милостивом Суде Божьем, все равно встретятся и поведают друг другу о прожитом.
Набрался духу Ивашка, понимая, что товарищи ждут его слова, потому что ради него оказались здесь, стал говорить — то досадливо, то высокопарно, то приниженно, — что царским указом и Божьим промыслом дойдет с ватажными до Оби-реки, а после, при каком-нибудь казенном обозе, — к месту службы в Сургутский острог. И другого пути ему нет.
— Кто со мной пойдет — буду молить воевод о вас. Возьмут. В Сибири служилых мало, — говорил, не надеясь, что товарищи откликнутся. Иначе на добро их добром ответить он мог только молитвами.
Все молчали, опустив глаза. Это не удивляло Ивашку. Но молчал и Угрюмка: сидел насупившись, не поднимая глаз, терпеливо пережидал тягостный разговор.
— На Тихом Дону Ивановиче у меня родни не счесть! — вздохнул Рябой, старательно ополаскивая ложку. — Бог дал родиться казаком, им я и предстану на Суд. Господь не любит, когда о других пекутся, своих забывая… Да и степь снится. Здесь такого синего и ясного неба никогда не бывает. Соловьев, сверчков услышать хочу… Говорят, царь опять пожаловал донцов дарами и знаками отличия. Куда ему без нас!
Как ни трудна была сиротская судьба на Руси, не сравнить ее с униженной долей незаконнорожденного. Третьяк родился в семье торгового человека, уехавшего по делам на полтора года. Мать тайно жила с посадским вдовцом и прижила от него третьего сына. Когда вернулся муж, она оставила семью и ушла с младенцем в посад. Не скоро и не дешево удалось найти попа, который окрестил Илейку. На том родной отец посчитал свой долг исполненным и вскоре умер, а мать, бросив сына в его семье, постриглась в монастырь и там вскоре тоже умерла.
И остался Третьяк без приюта, без роду и племени, унижаем чужими и родными хуже холопского сына. Едва смог себя кормить — стал ходить по наймам. У нижегородского человека продавал яблоки и горшки. Ездил сидельцем в Москву, служил в кормовых казачках у разных хозяев. На судах плавал по Волге от Нижнего до Астрахани.
Житье бурлацкое ему быстро надоело. Очутившись в Казани, он нанялся вместо племянника стрелецкого пятидесятника и ходил в поход против турок. Военное житье ему нравилось — не нравилась зависимость. Жизнь научила надеяться на чужую помощь и искать ее. И пристал Третьяк к вольным казакам: подружился с двумя потомственными станичниками и через них вошел в казацкий круг.
Когда он вспоминал свое житье, даже бывальцы не верили — нипочем, дескать, в его годы всего, о чем говорил, не поспеть пережить. Все что мог Третьяк — это достойно нести в себе свое страдание, от позора рождения до телесного уродства. Ничего другого Господь ему не дал, взыскивая за грехи родителей.
Увидев Сибирь, он не думал о возвращении. Почем хлеб служилого человека — знал. С интересом слушал всякие небылицы о дальних странах, но не они прельщали. Втайне от казаков манила его судьба, для которой по малорослости и неказистости своей он меньше всего подходил: хотелось пахать землю, называться мужиком, жить в крестьянстве крепким домом и большой семьей, где он, Третьяк, был бы и кормильцем, и милостивым государем. И каждый год мечталось радоваться великому чуду, как мать сыра земля рождает росток от брошенного человеческой рукой семени. В многогрешной военной жизни не открылось Третьяку никакой иной правды, кроме крестьянской: матери-земли, рождающей хлеб, и матери-жены — рожающей землепашцев. И смутно блазнилось сироте, что где-то там, за урманом, вдруг отыщется такая доля и ему.
Угрюмка с завистью поглядывал на старшего брата и думал, что тот в своей жизни и погулять успел, и по палатам кремлевским походить, и в застенках царских посидеть. А что Бог дал ему, кроме нужды и унижений? А ничего! Без Ивашки он и в станице — нищий бродник, которого всякий может захолопить, и здесь, на сибирской украине, не находится возможности зацепиться за сытое и надежное место. И несет сироту бурным течением неизвестно куда из-под самого Серпухова. Но там он был хотя бы своим, посадским сиротой.
Вспоминая, на какую долю увез его брат со двора горожанки-дьяконицы, Угрюмка так озлоблялся, что даже лицо его кривилось. «Не пойду в Сургут нахлебником при ссыльных!» — решил твердо. Знал наверняка: сперва стань богат, а после уже, безбедным, в славе, с миром в душе, служи царю или Господу. Нет пакостней и продажней людей, чем люди голодные. Так думал он, почтительно слушая казаков, ни словом, ни взглядом не выдавая сокровенных мыслей: до Тобола-города было далеко. А хотелось сказать со светлыми слезами: «Не брани ты меня, милый братушка. Отпусти ты меня в путь-дороженьку. Видно, так на роду мне написано, видно, так на судьбе мне завязано — плыть далече, в страну полночную».
Пенда тряхнул родовым чубом, поднялся, заговорил обдуманно, с лицом спокойным и уверенным в своей правоте.
— Там, — кивнул на закат, — нас победили! Хоть и воюют до сих пор, а конец уж ясен. Не ляхи с литвинами, не рейтары, а хитроумные бояре с их помощью победили свой народ. Теперь они станут требовать себе шляхетских вольностей, как в Речи Посполитой, а нам — холопства навек. — Он обернулся с печальной усмешкой к Рябому: — Ласкает, говоришь, царь донцов? Привязанного быка хозяин так ласкает, занося нож, чтоб не дергался. А казаку Бог жизнь дает, чтобы правде послужить, честь и славу добыть! Какая честь в войне со своим же народом? За счастье почел бы я голову сложить за Русь, за святые наши церкви. Да как? Не сами же бояре будут за свои вольности сабельками махать — нас и пошлют против своих же. Дураки хитрыми и лживыми не бывают. Куда нам с ними тягаться — все равно обманут! В Сибири служить? — обернулся к Ивашке. — Тем же боярам через воевод и приказчиков покоряться. Своей кровью их победе славу воздавать! Нет! Поищу-ка я чести на новых, неведомых землях, как атаман Ермак. Так оно верней!
За всю дорогу от Москвы не говорил он дольше и складней, чем теперь. И вот сбил на ухо колпак, поклонился и, не дождавшись, что скажут казаки на его слова, вышел из землянки. Дел было много.
От зари до зари не утихала верфь. Кривонос работал в окружении посадских учеников, наслаждаясь почтением, поучая плотницкому делу и жизни. А как затухала заря темная, вечерняя, работные люди зазывали его к себе на ужин, а то и на ночлег, который у здешних жителей был обустроен лучше и удобней, чем у ватажных. Третьяк уходил к монахам. В землянке оставались Рябой, Угрюмка да Ивашка. Душевных разговоров у них не получалось, и была одна радость после трудного дня — послушать сказы баюна.
Старичок, исполняя возложенное на него тягло, устраивался у костра, поднимал подслеповатые глаза к черному небу, где молодой месяц средь чистых звезд показывал золотые рожки или луна укрывалась темным облаком, потом он крестился непослушной рукой и продолжал песнь про честного атамана Ермака Тимофеевича, про удалую дружину русских воинов, которые шли в Сибирь пограбить да устрашить местные народы, приносившие много вреда восточной стороне Руси, а добыли здесь славу великую.
Слушали промышленные и работные люди, как безбедно зимовало в Тюмени Ермаково войско. Но не склонились казаки ко греху от сытости и продолжали отмаливать пред Господом свои вины. Ермак же Тимофеевич молился непрестанно и пуще других чувствовал свои прежние согрешения: только и думал — как избыть Божий гнев.
И не оставил его милосердный Господь, в Святой Троице славимый Бог наш сведал сокровенные мысли и смилостивился, вложив в сердца атамана, есаулов и казаков добрые помыслы — идти без страха против басурманского царя Кучума, который православным христианам много горя принес.
И услышав глас свыше, Ермак с товарищами воздал хвалу Господу, и Божьим соизволением оставили они сытый город, поплыли стругами вниз по Туре-реке, во владения Кучумовы, хоть и слышали они, что собрал хан огромное войско. Ермак же в пути поддерживал ратный дух товарищей, говоря: «Не множеством полков победа дается, а помощью свыше».
И там, где впадает Тура в реку Тобол, в укромном месте подстерегали казаков шесть татарских мурз с войсками. И напали они на струги казацкие. И вступили казаки в бой без страха, и бились несколько дней, и взяли такую добычу, что не смогли везти ее с собой и зарыли богатства в землю. Сказывают, до сих пор ищут тот клад христиане и басурмане, а найти не могут.
Поплыли казаки дальше по Тоболу и дошли до устья реки Тавды, что впадает в Тобол по левому берегу. Но тамошние народы не дали им плыть вольно: возле Бабасанского юрта[30] встретило казаков войско ханского сына, царевича Маметкула.
Ертаульный[31], передовой отряд без страха вступил в бой и бился дерзко, пока не подошла казацкая рать. Ермак же бросился в сражение с такой отвагой, что кровь полилась рекой, и поле покрылось горами тел, и вражьи кони не могли пробиться сквозь них.
Когда руки казаков обвисали от усталости и не могли уже поднимать сабли, являлся им святитель Никола и ободрял, и прибывала сила в плечах. И шла непрерывная сеча пять дней. На шестой — басурмане дрогнули, гонимые гневом Божьим, побежали вместе с царевичем.
Миловал Бог воинов Ермака, но на мученика Афиногена[32], когда и пташки Божьи вспоминают о зиме, снова призадумались они: от земли Русской ушли далеко, войско казацкое поредело, а сила Кучумова только собирается со всех концов земли Сибирской.
Там, где остановились они для отдыха и подкрепления, начиналась старая дорога на Русь через Югорский камень. Идти дальше в глубь Сибири — путь никому не ведом. Стоять на месте — быть в беспрерывной осаде. Собрались казаки на круг, стали думать и спорить меж собой: те, что хотели испытать судьбу в Сибири, говорили одно, те, что хотели вернуться, — другое.
Дольше всех думал храбрый атаман Ермак Тимофеевич и, выслушав товарищей, поклонился Честному Кресту, Спасу, братьям по оружию. Боевая труба вострубила, и сказал он: «Ой вы, братья, атаманы и казаки — донские, волжские и терские! Примите решение здравым умом, чтоб нам не выбрать себе доли горькой и бесславной: на Волге нам жить — разбойниками слыть, на Дону нам жить — опальными быть, и здесь, в Сибири, ни покой, ни покорность народов не обещаны. Не шуточное дело мы содеяли, как разбили лодку-коломенку и разграбили казну государеву да из мушкета немецкого пулькой свинцовой убили посла царского. И теперь, как вернемся на Русь без победы, государь на нас разгневается. Разгневается и велит всех нас перехватать — по городам разослать да по тюрьмам. А меня, Ермака, велит повесить, потому как великому мужу и честь велика. А ежели мы государю нашему повинную принесем с землицей Сибирской, царь над нами смилуется и простит нам вину великую».
Выслушали атамана казаки и решили единодушно — Честной Крест друг другу целовать, чтобы о возврате на Русь не думать, на врага идти без страха, умереть друг за друга, но добыть славу великую…
Сморил сон старца, и работные стали расходиться для ночлега. Пантелей Пенда с Ивашкой Похабой долго еще сидели у ватажного костра, глядя незрячими глазами на затухающие угли.
— Вот ведь, — вздохнул Пантелей, — тоже грешны были. А Бог помиловал, наградил и прославил.
— И я говорю! — встрепенулся Ивашка. — Хватит отчину разорять. Служить ей надо. Цари меняются — народ и земля остаются!
— Самой земле только крестьянин служит, другие — через воевод, через бояр и царя, — вдумчиво возразил Пенда. — Разве мы Дмитрию или Михейке неверно служили? И не заметим, как царь да бояре бесам предадутся. Через них и сами станем антихристу служить.
Уставился Ивашка на товарища мутными глазами, не нашелся что сказать. Вскочил на ноги и закричал с негодованием:
— Да не так все! Ты у монахов спроси! Они умные. Они скажут!
Пенда не дрогнул, не шевельнулся, задумчиво глядя снизу вверх на товарища:
— Ответ-то перед Господом самому за себя держать! — проговорил тихо и внятно. — На монахов не сошлешься!
В конце мая, на святого Василиска, когда на Руси начинают петь соловьи, суда были готовы к спуску. Слободской и городской священники освятили их, работные с молитвами спустили на воду. Устюжские и холмогорские купцы, как принято от века, накрыли столы для всех работавших, выставили брагу и мед, угощали кашей и рыбой.
Прибывший на освящение судов воевода князь Пожарский осмотрел новые кочи, белой ручкой, унизанной перстнями, поколупал смоленые борта, каблуками сафьяновых сапог потопал по палубам. Затем повеселевший воевода спустился на берег, сел в приготовленное кресло, сказал, что доволен работным людом, и пригласил всех желающих под свою милостивую руку для работ при городе Верхотурье, в слободы и посад.
Старые казаки Рябой с Кривоносом встали из-за стола и поклонились ему. С завистью глядел на них Угрюмка, но сам не посмел подняться, холодея от мысли встретиться взглядом с Ивашкой. А сердце его опять сжималось от жалости к самому себе, слезы готовы были покатиться из глаз.
Князь отпил меду из одной братины и послал ее начальным да работным с верфи, отпил из другой — послал купцам-пайщикам да своим приказчикам.
Работные же подняли чаши за здоровье милостивого князя, справедливого воеводы, за его пособников — приказчиков, детей боярских и всех верхотурских людей.
Вот и пришла пора расставаться. Отстояв литургию, Ивашка слезно поклонился Кривоносу, обещая всю оставшуюся жизнь молиться за него, а доведется первым предстать перед Господом, то замолвить слово за благодетеля.
И Кривонос смахнул благодарные слезы с посветлевшего лица, на котором разгладился даже сабельный рубец, благословил воспитанника благословением родительским, отпуская в дальние края и в суровую жизнь. Зазвучали слова, которых Кривонос никогда прежде не произносил, и показалось Ивашке, что напутствует его не казак, а родной дед — почудился вдруг его полузабытый голос.
— Будь ты моим словом крепким укрыт в ночи и в полуночи, в часе и получасье, в пути и дороженьке, во сне и въяве — сокрыт от силы вражьей, от нечистых духов сбережен, от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, в огне от сгорания. А придет час твой смертный, ты вспомяни, мое дитятко, про любовь родительскую, про хлеб-соль, обернись на родину славную, ударь ей челом семерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.
Откланялись казаки своим старикам, Рябому с Кривоносом. Ватажные с молитвами оттолкнули от берега груженые плоты, струги, коч и коломенку, осторожно вышли на проходимые глубины реки. А как прошли они мелководье, купеческие товары и ржаной припас, купленный в Верхотурье, перегрузили с плотов на коч, догрузили коломенку. Вскоре увидели они за кормой черный дым до самого неба. Это горел город Верхотурье.
Холмогорцы с устюжанами налегли на весла, помогая течению нести суда, втайне радовались, что миловал Бог вовремя убраться с верфи. После пожара всех бывших в городе купцов ждали большие поборы в пользу погорельцев. Чтобы не отвернулась от ватаги удача за радость греховную и не оставил Бог милостью, купцы велели монахам наложить на всех десятидневный пост и следить, чтобы пустыми разговорами народ себя не тешил, а только молился.
К кочу то и дело подходили на лодках местные жители и вели мену. Они рассказывали, что Туринск возник благодаря ямщикам — как ям между Верхотурьем и Тюменью. Здесь, на месте юрта мурзы Епанчи, сначала была устроена ямская слобода, позже поселились казаки и пашенные крестьяне.
Крестясь на купола городской Борисоглебской церкви, поминая в молитвах первых русских святых князей Бориса и Глеба, которые и при явной угрозе для своей земной жизни не подняли мечей на единокровного брата, холмогорцы, устюжане, промышленные, ссыльные да служилые неспешно плыли по реке и с печалью вспоминали свою вздорную, скорую на распри родню.
Мелкая своенравная Тура несла караван к полноводному Тоболу. Один из стругов шел впереди, промеривая глубины, за ним осторожно двигался тяжелый коч. По знаку передовщика люди на коче с криками носились с борта на борт, отталкиваясь шестами то от одного берега, то от другого.
За кормой коча шла тяжелая барка-коломенка с ржаным припасом. На ней плыли казаки. И не было здесь ни криков, ни суеты. На корме сидел Пантелей Пенда, на носу — Ивашка Похабов, по бортам — Третьяк с Угрюмкой да ссыльные усатые черкасы. Все они лениво и неспешно поглядывали по сторонам, прислушиваясь к плеску воды на перекатах. Время от времени кормщик указывал рукой в ту или иную сторону. Казаки упирались шестами в дно или налегали на весла. Выйдя на стрежень, двое подгребали, удерживали судно от разворота, остальные ложились на мешки с рожью и подремывали.
Вот и прибыли в самый старый из русских город Сибири — Тюмень. Закончив дальний путь, здесь сошел на берег тюменский казак-ермаковец Гаврила. Как с родственником, простились с ним ватажные и обещали, если будут возвращаться тем же путем, навестить — живого или мертвого, а до той поры молиться за него.
Обнял старик Угрюмку да Третьяка, наложив на них крестное знамение рукой, рубившейся за атамана Ермака. Он уже знал, какую долю выбрали молодые, проворчал тому и другому на ухо:
— Не дело гоняться за богатством. Служить надо — остальное тебя само найдет!
Обнял седого ермаковца Пантелей. Поклонился ему по-казацки, не снимая шапки, и простился. Не было у него мыслей о возвращении.
Купцы не стали торговать в Тюмени, поспешая в полуночные страны: высадили на берег старого казака, предъявили грамоты тюменским целовальникам да сынам боярским и продолжили путь.
Дородный Бажен Алексеев сидел на корме коча и обиженно хмурил нависавшие на глаза брови. Купцы-пайщики переругались между собой. Поповская родня перегрызлась с москвитинской — и все из-за неумелого кормщика. Уже к полудню сплава по Туре сам передовщик был чуть жив от усталости, холмогорцы с устюжанами валились с ног, и все же по нескольку раз в день им приходилось сниматься с мели.
Кормщиком на коч избрали Никифора Москвитина, длинноухого, с редкой бедняцкой бороденкой устюжского купца-пайщика. Всегда настороженный, он внушил раздосадованным промышленным уверенность, что будучи кормщиком, на мель коч не посадит.
И правда, едва Никифор начал править гребцами, отмели стали встречаться реже. Ватажные даже подняли парус, но ветра не было, и парусина полоскалась на мачте. Гребцы сонно гладили веслами воду, слушали плеск волны, редкий скрип уключин, отдаленное пение птиц. Наслаждаясь летним солнцем и прохладой реки, они то и дело впадали в такое блаженное состояние безвременья, что не хотели уже ничего другого, только бы сидеть так в полудремотном забытьи до скончания века.
Но юный Федотка Попов, сколько на него ни шикали земляки, сперва тихо и ненавязчиво, потом громче стал приставать к посапывавшему сказителю:
— Дед! Не здесь ли Кучум цепи натягивал, чтобы не пустить Ермака? Вроде яр? Только невысокий?
Старичок, дремавший на солнце, встрепенулся, задрал голову, помигал подслеповатыми глазами, спросил, который день плывут от Туринска и не дошли ли до Иртыша. А выслушав ответ, зевая и постанывая, стал моститься, чтобы снова лечь.
— Дед, мы, наверное, на устье Туры. А может быть, в Тоболе: впереди вода до края, другой берег далеко.
— Пологий берег-то? — спросил старик.
— Пологий! — отвечал Федотка.
— Тобольск не скоро! — старичок снова сел. Нахохлившись рассерженным воробышком, поежился, пошмыгал носом в белой бороде и стал выискивать в голове слова былины про эти места. Гребцы бросали на юнца рассерженные взгляды, с сожалением стряхивали с глаз блаженную дрему.
— Чего пристал? — проворчал кто-то из холмогорских родственников. — Будет вечер — будут сказы! Надо было прошлый раз слушать.
Но старик, путавшийся во времени, уже услышал в себе вещий голос и заговорил нараспев о том, как на святого преподобного Макария[33] вышли струги казацкие на устье Туры-реки, что впадает в Тобол с правой стороны. И встретилось им главное ханское войско, где крутой, высокий, длинный яр.
Увидел на том яру Ермак силы несметные, и дрогнуло его сердце. Взмолился он ко Господу, и была его молитва услышана: знамя с образом Спаса само собой поднялось с места и пошло левым берегом по течению реки. Увидев чудо, воспряли духом казаки, двинулись за знаменем без страха. Бесчисленные стрелы летели в них и не причиняли вреда. А как миновали они опасный Долгий яр, так знамя снова встало на свое место в струге.
Увидел хан Кучум, что силой казаков не одолеть. Стал думать хитрость. У Караульного яра, где Тобол узок, а берег крут, велел протянуть через реку цепь железную и поставил при ней большой отряд. Сказывают, будто Ермак, узнав о засаде и ханской хитрости, оставил в стругах по одному только кормщику, а вместо казаков рассадил чучела из хвороста. Сам же с остальными сошел на берег и напал на врага с суши.
А татары в то время видели, как над плывущими стругами засверкало облако. И в том облаке, в сиянии чудном, появился царь, престол которого несли на плечах крылатые воины. И держал тот царь в руке обнаженный меч и грозил им. И если кто в видение стрелял — отнимались руки, а на луках рвалась тетива. И напал на басурман великий страх. И побежали они.
Ермак же с казаками дошел до Иртыша. Здесь, возле устья Тобола-реки, жил знатный татарин Карача. На первый Спас, на святую Авдотью-малиновку, напали казаки на его улус и добыли еды вдоволь и богатство всякое. Захватили они много золота, серебра и драгоценных камней, хлеба, скота и меда. И, благодаря Господа за победу, решили легкий Успенский пост держать сорок дней, чтобы вымолить у Бога другие удачи и помощь.
На Покров Пресвятой Богородицы хан Кучум вышел на битву с новым войском. Ермак с казаками, помолившись, двинулся навстречу без страха. И долго бились они, а устав, отступили друг от друга без победы. И так стояли войска одно против другого три недели. Сделался вскоре лютый холод, и казаки, чтобы не замерзнуть, решили напасть на врага — победить или погибнуть.
Крикнув «С нами Бог!», бросились они на войско Кучумово и, потеряв в бою сто семь товарищей, разгромили его. Были в том бою у хана Кучума пушки. Но казаки словами заповедными заговорили их, и пушки стрелять перестали. Сказывают, хан в ярости сбросил их с высокого берега в Иртыш. Спасая жизни, бежали с поля боя хан Кучум с царевичем Маметкулом.
Заперся хан в своем городе Искере. И было ему видение, будто окружили его крылатые воины и убеждали покинуть страну, которой правил не по праву. Собрал хан драгоценности и на другую ночь бежал с близкими людьми и мурзами.
Казаки же на святого Дмитра, когда воробей и тот под кустом варит пиво да поминает всех павших в битвах за Русь, подошли к ханской столице, чтобы взять ее боем. Но Божьей волей она была пуста.
Так славный казак Ермак Тимофеевич со своими атаманами и есаулами сел в Искере, стал править землями сибирскими и многими народами. И послал он к русскому царю есаула Ивана Кольцо с казаками. Те отправились в зиму на лыжах и нартах по Волчьему пути, через Тавду и Чердынь…
Запал у старца заканчивался, последние слова он напевал, позевывая и шамкая. Белая голова мотнулась, свесилась на грудь. Но настырный юнец, с любопытством поглядывая по сторонам, не отставал:
— А после на том месте Тобольск срубили?
Главный пайщик разлепил сомкнутые веки, раздраженно пошевелил бровями и ответил братцу:
— Тобольск-город на Иртыше строил письменный голова Данила Чулков. Это на двенадцать верст ниже татарского Искера.
Бажен бывал в Сибири и был наслышан о Тобольске. Он посмотрел на берег, потянулся, расправил по груди густую бороду.
— А что старый Искер и здешний народ? — теперь стал приставать к брату Федотка.
— Искер — не старый был город, а татары — пришлые, — Бажен повел дородными плечами, потер затекшие руки. — Прежде тут жили чудские народы и другие — неведомого имени. Сказывают, ушли в землю бесследно.
Старик-баюн посапывал, приткнувшись головой к мешку с душистыми сухарями. Гребцы бодро поглядывали вокруг, веселей двигали веслами. К Федотке с любопытством придвинулся конопатый устюжанин Семейка Шелковников. Кто-то из холмогорцев на носу коча хотел уже запеть, но оборвал песню на полуслове, кашлянул и притих. Поддержанный вниманием ватажных, Федотка спросил брата:
— Как уходят в землю? Она же твердая?
— А как казаки норы роют, прячутся и живут в них? — усмехнулся в бороду Бажен. — Залезли в погреба да в ямы, стали копать, а кровлю над собой подожгли, чтобы других следом не пустить. Так, наверное.
— Зачем? — опять спросил Федотка.
— Может, Бога прогневили, — пожал плечами брат. — А может, хотели переждать лихие века. Придет срок — объявятся.
Караван плыл мимо пологих берегов с заливными лугами. Пройдя мелководный перекат, коч и коломенка вышли на глубокую воду. По знаку кормщиков гребцы придерживались стрежня, не давая течению развернуть судно поперек реки.
Удалившийся далеко вперед ертаульный струг вдруг встал на якорь. Караван неторопливо приблизился к нему. Плывшие на судах люди увидели на правом берегу при впадении Тобола в Иртыш множество суетящегося народа. На песчаной отмели, покрытой редким корявым тальником, сохли длинные лодки с задранными носами и кормами.
Взглядам обозных открылось странное зрелище. В разноцветных пестрых халатах, в чалмах и в высоких колпаках вокруг лодок бегали, махали руками торговые бухарцы. Один, по пояс голый, с обритой головой, высунув синий язык, висел в короткой удавке на сучке корявой лесины. Ноги его были поджаты, колени касались земли. В стороне, у курящихся костров, собралось до полусотни русских людей. Неподалеку от них паслись стреноженные кони.
Увидев торговый караван, русские и бухарцы стали махать руками, зазывать к берегу. Устюжские и холмогорские люди велели всем промышленным и служилым приготовить ружья, сами опоясались саблями и повели малые суда к берегу. Коч и коломенку они оставили на стрежне, бросив на дно каменные якоря.
Как выяснилось вскоре, русские люди стояли здесь табором со вчерашнего вечера. Они шли из Тобольска в калмыцкие степи искать золото в старых курганах. Бухарцы в этом же месте пристали нынешним утром по великой нужде: два их судна повредили днища на перекате. Курганщики, увидев терпящих бедствие, бросили веревки и вытащили лодки на берег.
Много бухарского товара было испорчено. На солнце сох листовой табак, который последние годы высоко ценился не только среди ясачных народов, но и среди русского населения. Сохли ткани и фрукты. Нанятый бухарцами вож-лоцман повесился, едва выбрался на сушу.
Осмотрев на берегу суда, бухарцы обнаружили, что тонули они не по его вине. В верховьях Иртыша китайцы продали им сгнившие лодки, обклеенные смоленой бумагой и кожами. Сделано это было так искусно, что подделка обнаружилась только здесь.
Обозные купцы ходили среди разложенных для просушки товаров, цепким взглядом высматривали выгоду в чужой беде. А выгода могла быть не малой. Если вольная торговля винами запрещалась, то за табак сами бухарцы на гостиных дворах рядились до двухсот рублей за пуд.
Ивашка с Угрюмкой равнодушно осмотрели восточные сладости и ткани, крестясь, прошли мимо удавленника и направились к русским кострам с не убранными еще после ночлега седлами и потниками. Тоболяки толпились возле приставших судов, предлагая стрельцам и промышленным в обмен на запрещенные к торгу порох и свинец золотые безделушки из курганов.
К костру, возле которого присели братья, подошли гулящие в рубахах из крашеной холстины без всяких оберегов и вышивок. Одежда курганщиков удивила Похабовых. Они хотели отойти к другому костру, но рыжий детина с хитрющими глазами кивнул им как близким.
— Высоко цените свои спины! — усмехнулся с укором и добавил разобиженным голосом: — Велика беда — воевода выпорет! В Тобольске на золотник девяносто копеек товарами дают. Чем вам продавать — сподручней из могильного хлама пули лить… — Рыжий рассеянно взглянул на Ивашку, потом еще раз — пристальней. Лукавые искорки в его глазах погасли, губы стали подрагивать. Он силилось выглядеть веселым, но лицо его удивленно вытягивалось. Детина долго буравил молодого казака пристальным взглядом, потом сбил шапку на затылок и с недоумением спросил: — Где я тебя видел прошлым летом?
— На Москве, в гостях у царя! — ответил Ивашка насмешливо и небрежно. — Прямо оттуда следую до Сургута.
— Бреши! — с досадой перебил рыжий. Рот его, опушенный кучерявой бородой, как-то чудно перекосило. Он желчно осклабился: — По курганам твоя морда знакома. Ты прошлый год калмыцкий скот угонял? У меня глаз верный. Помню, какому-то нехристю голову отрубил…
— Видел удальцов, — раздраженно хмыкнул Ивашка, — но тех, что покойников грабят, впервой! Пусть и калмыцких!
— Это не калмыцкие могилы, — обиженно возразил другой гулящий в опояске с крестами. — У них морды плоские, да и не закапывают они своих покойников. Это золото принадлежало нашему народу, что в землю ушел и города свои бросил: черепки у покойников наши — остромордые… Свое у своих берем!
Рыжий вдруг хлестнул себя ладонью по лбу, отступил на шаг и несколько мгновений не мог выговорить ни слова, а только разевал рот. Затем он кинулся к другому костру, приволок оттуда под руку мужика в крестьянской рубахе и шапке, отороченной горностаем.
— Вспомнил! — указал пальцем на Ивашку и перекрестился. Глаза его сверкали, на щеках алели пятна. — Вот чудо! Покажи-ка морды! — приказал мужику.
Пахотный, взглянув на Ивашку, отпрянул, икнул, выпучил глаза и, боязливо отмахиваясь левой, правой рукой троекратно перекрестился. Удерживаемый рыжим детиной, он дрожащими руками достал из кожаной сумы две золотые бляхи, смыкавшиеся между собой хитроумным сцепом. На одной из них была искусно отлита или выкована голова в островерхом казачьем колпаке, похожая лицом на Ивашкину, но с пышной бородой. На другой — круглая, с пухлыми щеками, голова степняка: то ли мертвая, то ли со смеющимися, смеженными в щелку глазницами, большая, крепкая рука держала ее за косу и соединялась с ней выемкой.
Угрюмка, взглянув на поблескивавшее золото, тоже перекрестился. Сходство было сильным. Только подлинный брат был моложе казака на бляхе. Ивашка же долго рассматривал безделушки, не понимая, отчего рядом с ним испуганно перешептываются. Он несколько раз соединил и разъединил бляхи, разглядывая, как устроен разъем. И ему вдруг так захотелось иметь эту безделицу, что готов был снять с себя все, кроме сабли, и отдать курганщику. Ивашка поднял глаза и спросил, что пашенный хочет за бляхи. Но тот под его взглядом только мычал отступая и мотал головой. Затем он и вовсе убежал седлать коня.
Рыжий, притащивший пашенного к братьям, тоже был в растерянности. Вокруг них собиралась толпа курганщиков. Все они, поглядывая на бляхи и на Ивашку, испуганно расспрашивали, какого тот роду-племени и где жил прежде. Услышав, что ссыльный царским указом водворяется в Сургутский острог из монастырских застенков, курганщики заволновались, стали переругиваться между собой, обвиняя кого-то в чем-то.
Пенда с Третьяком увидели, что вокруг дружков едва не дерутся, придерживая сабли, побежали на подмогу. Но курганщики уже не обращали внимания ни на казаков, ни на Ивашку с золотыми бляхами. Они собрались в круг и, о чем-то переговорив, споро стали седлать и запрягать коней. Рыжий опасливо подскочил к костру, возле которого стояли казаки, схватил седло с переметной сумой, заступ и убежал, ни слова не говоря.
— Эй! — шагнул следом Ивашка. — Зипун дам!
С ним никто не торговался. Косясь на золото, курганщики разбегались. Вскоре, погоняя коней, они двинулись в сторону Тобольска, откуда совсем недавно выехали в калмыцкую степь.
А на берегу среди разложенных на солнце товаров шел тайный торг. Бухарцы и купцы азартно рядились. Несколько раз они сходились, чтобы ударить по рукам, и опять все расстраивалось из-за какого-нибудь пустяка. Из-под сухого дерева, почти не дававшего тени, поджав ноги, высунув язык, на них щурился удавленник.
Подмокший табак купцы выменяли за два крепких смоленых струга. Все равно они не были пригодны для плавания по морю, а глубины стрежня позволяли догрузить коч и коломенку. Китайские и бухарские ткани были выторгованы за пушнину, тайно наменянную в пути от Камы до Верхотурья.
Бухарцы остались сушить товар и хоронить покойника. Их путь лежал в Тюмень, где с давних пор они торговали беспошлинно. Ватажные переправили грузы на коч и коломенку, сами перебрались в них. Здесь сразу стало людно и тесно. Подняв каменные якоря, отталкиваясь шестами, люди развернули коч и коломенку по течению, вывели их на стрежень и поплыли вниз по полноводному Иртышу.
Догорала заря темная, вечерняя. Розовела и блекла рана небесная, зашитая иглой булатной, ниткой шелковой, рудожелтой, стянутая пеленами вечными. Караван пристал к берегу. Люди стали высаживаться на сушу.
Продуваемый ветром, пологий песчаный берег вытянулся на полверсты. Вдали виднелись безлесые холмы. Задрав тупой смоленый нос с восьмиконечным крестом, в тихой заводи встал коч. Стрельцы и казаки с уханьем вытаскивали на песок груженую коломенку. Неподалеку от воды, на открытом месте, обозная молодежь раздувала костер.
Теплым вечером радостно плескалась рыба, пуская круги по воде, клином расходились волны от острых щучьих спин.
— И где мы? — озирался старичок, в сумерках сведенный по сходням с коча.
— Под Тобольском! — ответил устюжский складник Лука Москвитин. — Недалеко уж!
Места были ему знакомы. И двух лет не прожил Лука в Устюге Великом, вернувшись на Иртыш, где торговал и промышлял несколько лет. На отчине он начал после возвращения латать дом, но бросил: тот так обветшал без хозяина, что легче было срубить новый. Отдала Богу душу хворая жена. Старшие дети отделились и жили крепко. Все переменилось на родине, и Лука никак не мог найти себе кормовое место по душе. Брат его Гюргий, тоже бившийся всю жизнь в нуждах на разных промыслах и на мелкой торговле, много расспрашивал о Сибири. От услышанного загорелся отправиться на дальние промыслы и стал подговаривать к возвращению Луку. Тот не противился, только удивлялся сам себе: простился с Сибирью беспечально, да, видать, она его присушила.
— Проспал Ермакову могилу, дед, и я, грешный, запамятовал! — весело прокричал он на ухо старику.
Да и не до того было, чтобы оглядывать берега, случился день суетный. Долго простояли с бухарцами, а после еще коч с мели снимали. Радуясь и благодаря Господа, что не застряли посреди реки на ночь, проплыли мимо Епанчина юрта.
Ночь была тихой. Прохлада и ровно веющий речной ветерок угомонили гнус. Жарко горел костер, дым и пламя поднимались к звездному небу.
— Дела и заботы наши! — виновато вздыхал кормщик Никифор. Ему было стыдно, что ругал Бажена, а сам на большой иртышской воде недосмотрел отмель. — Надо было побывать на Ермаковой могиле, — лепетал услужливо и суетливо. — Помолиться да земельки взять. Путь далек. Один Бог знает, что впереди. — Устюжанин виновато поглядывал на холмогорского купца и старался задобрить его.
В котлах подходила каша. На углях допекался свежий хлеб. Бажен, с раскрасневшимся лицом и опаленными бровями, снимал пробу: долго дул на ложку, ворчал на приварков. Пошевеливая бородой, задумался, смежил веки. Но вот расправил усы и, довольный пробой, кивнул, велев раскладывать еду по котлам.
Когда парящую кашу разнесли, разложили хлебы, разлили квас по кружкам, ватажные и служилые поднялись на соборную молитву. Потом сели, каждый возле своего котла, и братски преломили хлеб. Насытившись питьем и едой, придвинулись к огню. Трудный, но благоприятный день, тихий вечер, звездное небо и тепло костра объединяли всех тихой радостью. И только монахи незаметно удалились для ночных молитв.
Старичок, отоспавшись днем, к вечеру ожил и повеселел. Когда пришел его черед, прокашлялся, поправил растрепавшуюся белую бороду и подрагивавшим голосом запел о Ермаковой погибели:
— Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим им достойную хвалу. Вспомним, как их Господь Бог прославил да многими чудесами превознес. Как отреклись они от суетного мира и недолговечного своего земного житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа и желали только ему угодить, царю-государю послужить да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за веру православную. И в том уверившись, ожесточили они сердца свои непоколебимо, чтобы оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать.
Не прерывая мелодии, выводимой носом и горлом, старец отдышался и запел о том, что у хана был слуга, за прежние вины приговоренный к смерти, но до поры гулявший на воле. И принес он ханским воеводам весть, будто на лошади переплыл на остров среди Иртыша и видел там казаков спящими.
Хан не поверил повинному, пообещав удавить его утром. Тогда он снова пробрался в казацкий табор и принес три русские пищали да три ладанки.
На этот раз хан отправил на остров лучших мурз с войском. Воины прокрались к казакам и многих передушили, перерезали спящими. А тем, кто Божьим промыслом проснулся и вступил в бой, крикнул Ермак Тимофеевич громовым голосом, чтобы прорубались к стругам. Сам же отступал последним, заслоняя товарищей своих, и бился как разъяренный лев.
Просеклись его друзья-товарищи к стругу, оттолкнулись от берега. Пробился к ним и Ермак Тимофеевич. И отбился уже от наседавших врагов. Осталось только прыгнуть в струг — и спасся бы атаман. Но было на нем два панциря. Бесовским умыслом и Божьим попущением он оступился в потемках, рухнул в воду и утонул.
Так закончилась земная жизнь атамана, которую долго не могли отнять враги. И было это в ночь на Преображение Господа Бога и Спаса нашего.
Мертвое тело отыскалось на Отдание Преображения Господня у татарского селения. Внук татарского князца ловил рыбу и увидел человечьи ноги в воде. Он захлестнул их петлей, вытянул тело на берег. По панцирям тамошние жители догадались, какого утопленника принесла река.
Мурза хотел снять с мертвого Ермака панцири — но из тела носом и горлом полилась кровь. Татары удивились нетленности плоти и стали думать, нельзя ли как-то отомстить атаману за свои обиды.
Собрались на берегу басурмане, положили раздетое тело на помост, и каждый пускал в него стрелу, а из ран текла и текла свежая кровь. Прискакал к ним хан Кучум со знатными мурзами, с остяцкими и вогульскими князцами. Мстя за обиды, сам колол Ермака саблей, пока не устала рука.
И так лежало тело атамана шесть недель. И дивились татары, что ни одна птица не села на него. В то время многим из них во сне были видения, что тело надо похоронить. Из-за тех видений некоторые тамошние насельники лишились ума. И стали они раскаиваться, что плохо обошлись с мертвым. Стали жалеть, что при жизни не избрали атамана, которому так щедро помогали боги, своим ханом.
И похоронили они Ермака Тимофеевича по татарскому обычаю на своем кладбище, на правом берегу Иртыша. Зарыли тело под сос ной, устроили тризну, на которой съели тридцать быков и десять баранов.
Один панцирь атамана был дан остяцкому князцу Алаче, другой взял мурза Кайдаул, живший там, где отыскалось тело. Его родственник Сейдяк взял кафтан, а сабля досталась мурзе Караче.
И обнаружилось вскоре, что те вещи исцеляют больных, помогают при родах, на охоте и на войне. Мусульманские муллы запрещали говорить об этом, наказывали не прикасаться к Ермаковому оружию и к его одежде, запрещали указывать место, где погребен славный воин. Но каждую субботу над могилой мерцал свет, как от свечи, а в родительские субботы появлялись столбы пламени до неба…
Долго молчали у затухающего костра ватажные люди. Слушали, как потрескивают угли, смотрели на пламя, на звезды, и каждый думал о своей доле. Старец-баюн поклевывал носом. Кто-то из устюжан приглушенно всхрапнул и стыдливо осекся.
— Вот и нам, — с печалью напомнил холмогорец Бажен сын Алексеев Попов, — не забыть бы, что удача балует до поры. После за нее Бог взыщет.
Угрюмка же с ужасом поглядывал на черную реку, в которой поблескивали звезды, и все мерещился ему хохотавший утопленник, все казалось, что веет от воды жутким запахом тлена. Он долго не мог уснуть, и так и эдак укладываясь у костра. Ляжет спиной к реке — чудится, будто ему в спину смотрит бородатый муж в шишаке. Ляжет лицом — в каждом плеске волны блазнился скользкий утопленник, выползающий на берег.
И вот после долгого пути завиднелся в небесной дымке город на горе. Издалека различались его высокие рубленые стены, купола церквей и теремов. И над всеми ними высоко вздымалась восьмигранная сторожевая Спасская башня. Выше туч подняла она над Сибирским краем православный крест.
В трех верстах от Тобольска караван пристал к пологому песчаному берегу неподалеку от обнесенной валом пашенной слободы. Из распахнутых ворот, придерживая сабли, вышли три казака. Один из поднявшихся на борт представился слободским приказчиком. Не требуя с купцов ни проезжих грамот, ни подарков, предупредил, что в окрестностях Тобольска нельзя торговать оружием, панцирями, шлемами, копьями, саблями, ножами, топорами, железом и вином. Другой казак, осанистой наружности, лукаво ухмылялся:
— В городе сплошь старые ермаковцы. Они друг перед другом куражатся, кто праведней службы несет, а меж собой все спорят, кто подлинный ермаковский, кто с Болховским, Глуховым да с другими князьями в Сибирь пришел. Спуску от них вам не будет. А потому вы бы нам заповедные товары продали да и плыли бы со спокойной душой.
— Родимые! — сочтя себя обиженным, запричитал холмогорец, зыркая из-под косматых бровей. — Все, что по недосмотру в Перми дозволили провести, в Верхотурье да в Тюмени отняли. В тамошних городах мы припас хлеба купили — и тот с песком. В Мангазею уж не для торга следуем — на промыслы, чтобы босыми не вернуться по домам. — Губы купца вздрагивали, руки не могли найти места. Длинноухий Никифор в подмогу холмогорцу закатывал глаза и отчаянно крестился.
Уверения купцов в несчастьях ничуть не тронули казаков, они только досадливо отмахивались — дескать, из полночных стран нищими возвращаются только дураки и пропойцы. Правда, таких много повсюду.
Справившись о слободских ценах на хлеб, купцы стали искренне сокрушаться, что купили припас в Верхотурье. Они зазвали приказчика с казаками на коч, угостили их, расспросили о городе, его людях и порядках.
К тобольской пристани караван подошел после полудня. Отсюда город на горе и крест на башне казались вознесенными под самое небо. Как ни трудно было удивить граждан Великого Устюга и Холмогор искусными деревянными стенами и храмами, но и они охали, оглядывая Спасскую башню в двадцать пять саженей высотой.
От пристани к базару тянулся долгий взвоз с ярусной лестницей в две с половиной сотни ступенек. По ней неспешно спускались тобольские небожители в дорогих одеждах. Шли они встречать гостей и узнать новости из дальних западных стран.
Купцы-пайщики, устюжане и холмогорцы принарядились, суда украсили зелеными ветками и цветами. Казаков, которые не имели другой одежды, кроме той, что была на них, просили скрыться с глаз.
В первом ряду прибывших встречали тобольские казаки и дети боярские в меховых шапках с суконными верхами. За ними толпились барышники и гулящие, для которых каждый караван был и поживой, и вестью с родины.
Не увидев среди встречавших подручных людей воеводы и письменного головы, о которых много было выспрошено у слободских казаков, Бажен Алексеев разгладил по груди бороду, крестясь на купола церквей и на чудотворный образ, висевший над пристанью, ступил на свежие плахи настила. Вперед себя он пустил только ссыльных монахов. Тут все они сотворили семипоклонный начал по писаному, по ученому да по благочестивой старине.
— Всему честному народу православному! — кланяясь на три стороны, приговаривал степенно Бажен сын Алексеев Попов. — Верхотурские казаки и тюменский Гаврила Иванов — Ивану Грозе, Гавриле Ильину, Пинаю и всем ермаковским служилым велели первым поклоном кланяться.
По сведениям, собранным в пути, в Тобольске служили бывшие ермаковские соратники со своими родственниками, казаки письменного головы Чулкова и первостроители, числом до пяти сотен. Атаманом старой ермаковской сотни был Гаврила Ильин, лет с двадцать гулявший с Ермаком да после него служивший в Сибири три десятка лет. Конными казаками правил престарелый ермаковский есаул Иван Гроза.
Среди встречавших в первом ряду стоял увечный и слепой атаман Пинай, строивший Верхотурье, Туринск, Тюмень, другие города. В молодые годы он прибыл в Сибирь с пятью сотнями стрельцов под началом князя Болховского — на помощь Ермаку. С приходом этого отряда начались несчастья, голод, мор, которых боялся и ждал Ермак, как предвестника своей гибели.
Пинай в числе немногих выживших в Сибири стрельцов после гибели атамана ушел на Русь, но вскоре вернулся с другим отрядом и теперь, в немощной старости желал одного — сделать вклад в Чудов монастырь в память об убиенных товарищах да с миром отойти за ними.
Купцы, складники, служилые, монахи и Ермес-передовщик ушли в крепость на поклон к воеводе и письменному голове. Покрученники, обозная молодежь да Ивашка Похабов со ссыльными остались при судах. Тобольские дети боярские и целовальник наложили восковые печати на купеческие товары и поджидали таможенного голову. Возле судов крутились местные ярыжники и гулящие, заводя разговоры.
Донцы при саблях сидели на борту коча у пеньковых тросов и поглядывали, чтобы чужаки не лезли на суда. А те, за разговорами будто забываясь, то и дело старались сойти с причала. Двух особенно пронырливых и настырных Пенда с Похабой скинули в воду под хохот собравшихся. Литвины с черкасами на коломенке тоже не церемонились с нагловатым людом. Но к ним, ссыльным по иноземному списку, не так охотно подступали с разговорами.
Сквозь толпу, собравшуюся на причале, уверенно протиснулись странного вида гулящие. На голове одного была лихо заломленная соболья шапка, на плечах висела короткая кожаная рубаха, замшевые, до дыр вытертые штаны были заправлены в стоптанные ичиги. За ним шел дружок или родственник в шубном кафтане, надетом на голые плечи.
— Здорово ночевали, казаки! — Детина в собольей шапке подступил к Пантелею Пенде, но на борт не полез, назвался: — Я Васька Ермолин по прозвищу Бугор! Это мой брат Илейка, — кивнул на кряжистого и мордастого парня в шубе. — Не слыхал?
— Не слыхал! — сдержанно ответил Пантелей, — А говор у тебя знакомый. Где жил, где гулял?
— Я везде гуляю, — неопределенно ответил верзила, смахнул шапку на ухо, сел на край причала, свесив ноги к воде. Брат его тоже присел напротив донцов. Васька спросил: — Куда путь держим?
— На Березов! — ответил Пантелей. Ему понравилось, что гулящие не переступили черты, хотя шли как на приступ, а теперь сидели с таким видом, будто предстоял долгий разговор.
— А далее? — насмешливо оскалился Бугор, поблескивая белыми зубами в бороде.
— А дальше — как Бог даст, — ожидая, что нужно гостям, ответил Пантелей. Сияющее лицо Бугра, молчаливая приветливость его брата успокоили казаков. — Думаем, в Мангазею, промышлять! — добавил нехотя.
Гулящие рассмеялись. По толпе на причале тоже прокатился сдержанный смех. На недоуменные взгляды казаков Бугор весело ответил:
— Пока за Камнем услышат, где соболь, — там его уж нет. Повыбили возле Мангазеи, нынче за Турухан ходят. — Белозубая улыбка опять сверкнула в усах под облупившимся красным носом, глаза смотрели испытующе. — Бывали мы в Мангазее прошлый год, — кивнул на брата. — Путь знаем: и лыжный, и Обью через губу. Кому — златокипящая Мангазея, кому — горсть сухарей за головного соболя. Выйти бы до холодов на Турухан. В Енисее-стране богатства невиданные: соболя, сказывают, как мышей, по зимовьям давят. Но вам туда к зиме не поспеть. Съедите припас в Мангазее и вернетесь голью.
Васька намеренно помолчал, разглядывая груз на палубе, не дождавшись расспросов, приглушенно, так, чтобы не слышали на причале, добавил:
— Я в Енисею другой путь знаю. Сведи меня с хозяевами — ничего не утаю. Поверите: сколько вывезем рухляди — вся будет наша, а добыть там — и ленивый свое возьмет.
— Свести-то можно, — неохотно отвечал Пенда. — Да только от Перми много людишек похвалялись, что знают, где богатые промыслы, а сами рубахи не имеют, — насмешливо окинул взглядом остяцкую шубейку, обмотанные бечевой лавтаки на ногах Илейки.
К вечеру, когда вернулись купцы-пайщики, а Ермес остался ночевать у кого-то из служилых папистов, Васька Бугор с братом сидели на палубе коча, по-свойски прихлебывали травяной отвар и хрустели ржаными сухарями. Вокруг них собрались устюжская, холмогорская молодежь, казаки и стрельцы — все слушали рассказы о Мангазее, о жизни промышленных.
Не оказывая большой чести купцам, гости стали повторять сказанное. И говорили так складно, что обозная молодежь сверкала глазами, готовая сорваться по первому зову в неведомые страны. Все ватажные были наслышаны в пути про Великий тес — тайную тропу промышленных встреч солнца по самым диким и непроходимым местам. Говорили, что начинается Великий тес от Тобольска. Васька с Илейкой первыми объявили, что знают ту тропу и хаживали по ней. Но — недалеко…
Васька стал вдруг торопливо оправдываться:
— На нее только выйди. После, по затесям, иди и иди. — Пристально оглядел собравшихся.
Пенда впился в него немигающими глазами и, перебив кого-то из складников, спросил:
— Ну и куда тот тес ведет? Где кончается?
Васька язвительно рассмеялся, угрюмо примолк, вперившись в казака немигающим, многозначительным взглядом, важно пошевелил усами:
— Про то и на дыбе никто не скажет! — заявил, давая понять, что знает больше, чем говорит.
На гостей посыпались другие каверзные вопросы, на которые они отвечали только тупыми улыбками. Но внезапно расспросы прекратились. Гостям стало неловко от наступившей тишины. Упоение властью над слушателями как-то разом сошло с их лиц, снисходительные улыбки покривились, и Бугор с братом вдруг рассердились. Васька задергался, заерзал, глаза его злобно сузились.
Бажен потеребил окладистую бороду и проговорил рассудительно:
— Оно все, может быть, и так. Только как же нам вверх по Оби идти, если немирная Пегая Орда бунтует? Воевода тобольский не может сыскать управы на те народы, куда уж нам?
Васька стал отвечать резко, что все ордынские мурзы — его кунаки, а от пегих людей он знает заветные слова, слышанные от Супоньки Васильева, который ходил в Енисею через Нарым. Наконец совсем запутался, смутился и в отчаянии вскрикнул:
— Не хотите идти прямым путем! И ладно! Дайте нам припас в зиму! Вернемся — половину добытого отдадим и за припас расплатимся. — Поскольку купцы молчали, раздумывая над его словами, он торопливо добавил: — Согласны и под кабалу.
Чувствуя, что им перестали верить даже те, кто еще недавно слушал раскрыв рот, Васька Бугор взял себя в руки и с прежней улыбкой стал грозить:
— Не вы — другие поверят. После мы посмеемся. Сулили вам богатство даром — отнекивались. Другой год, может, мы будем пайщиками, а вы у нас покрученниками. В Сибири всякое бывает… Нам бы только припас собрать. — Васька хлопнул собольей шапкой по сношенному ичигу. — Где и как на Великий тес выйти — не скажу: старые промышленные убьют. Но чтобы не думали худого, укажу путь по рекам: от устья Иртыша Обью вверх мимо Сургута-острога до третьего многоводного устья по левую руку. По той реке идти до истока встреч солнца. Из верховий волок на Енисею-реку. Сплыть по ней до Усть-Таморы по правую руку. Там утес стоит, а на вершине — вечный, неугасающий огонь. И на берегах тех рек — каменные города и высокие дворцы, но в безлюдье и запустении, иные обрушились, а какие народы их строили — никто не знает.
— А ты бывал? — спросил Ивашка Похабов, щупая золотые бляхи на шебалташе[34].
— От оленекских тунгусов слыхал, что из той Тунгуски-реки можно попасть в великую реку, — голос Васьки Бугра перешел в сиплый шепот, — где живут наши люди, ходят в одежде русской.
Помолчав с таким видом, будто страшно раскаивается в сказанном, Васька вскинул печальные глаза, а сердито помалкивавший Илейка спросил в упор:
— Что решите? Неужто век будете с товарами по Сибири таскаться да каждому служилому кланяться, когда богатства несметные наших рук ждут?
Купцы долго советовались со складниками, вспоминая главного сибирского удальца — атамана Ермака и дружину его. Те люди тоже были первыми, а много ли нажили? Богатство досталось тому, кто шел следом. После соборного ужина, обильно накормив гостей, они сказали, опечалив не только Бугра с братом, но и многих ватажных:
— Против Пегой Орды не пойдем, даже если воевода даст согласие и подмогу. А если за вас верные люди поручатся, в покруту возьмем.
— Эх, срамословы устюжские, моржееды холмогорские! — разочарованно замотал головой Васька Бугор. — Купецкую сметку имеете, а ума Бог не дал! — Он не стал ни убеждать, ни уговаривать: нахлобучив шапку, сошел на причал. Обернувшись, бросил: — Вдруг надумаете — найдите нас в городе, на Никольской улице, у пешего казака Глотова.
— Надо бы одарить! — подсказал устюжанин Никифор холмогорскому купцу.
— Постойте! — окликнул их Бажен. — За все сказанное — спаси вас Господь, и примите дар!
Бугор с братом вернулись, с любопытством поблескивая глазами. Купец порылся в товарах, вытащил на свет и тряхнул напоказ две льняные нательные рубахи, ценившиеся в здешних местах, где даже простой люд ходил в белье бухарского шелка.
Илейка рассмеялся. Скинул шубный кафтан и натянул рубаху на голые плечи. Кто-то тихо пробубнил в коче:
— Пожалеем еще!
И только Федотка Попов — родич главного пайщика, спросил будто сам себя:
— Отчего на горе огонь не гаснет? Ведь снег зимой, а летом дождь?
Купцы не спешили расстаться с товарами в столице Сибири, вызнавали о ценах и о спросе в низовых обских селениях, где торг был выгодней. Промышленные и служилые ради любопытства бродили по городу и примечали, что все здешние порядки были связаны с жизнью и службами оставшихся в живых ермаковских казаков, которых в городе было больше сотни.
Сказывали горожане, что воевода за какие-то провинности или за старческую немощь решил с почетом заменить старого атамана ермаковской сотни сыном боярским Богданом Аршинским. Ермаковцы возмутились самоуправству и отправили челобитную царю, по которой Гаврила Ильин был восстановлен в атаманстве, а головой конных казаков, несмотря на преклонные лета, оставался Иван Гроза. От него пошли многие тобольские служилые Грознины.
Ивашка Похабов с братом Угрюмкой тоже гуляли по богатому городу, разглядывая стрельчатые окна с искусно вставленной слюдой, кованые железные запоры. Всякий горожанин, увидев проезжих зевак, почитал за долг рассказать о строении, возле которого те остановились. Едва подошли братья к Спасской башне, из ворот вышел стрелец с бердышом и улыбаясь пояснил:
— По всей Сибири нет города краше, а башни выше. Стоишь под шатром, в караульне — вся земля под тобой. А как засвищет ветер — башня скрипит и качается. Иной новик от страха делается там ни жив ни мертв[35].
У Казачьих ворот, где в пяти дворах жили иноземцы, Угрюмка с Ивашкой сыны Похабовы нос к носу столкнулись с Ермесом, выходившим из дома здешнего немчины Саввы Француженнина. Ивашка заговорил с ним об обозных делах. Ермес, кивнув на добротный дом, из которого вышел, с гордостью признался на корявом языке, что ходил к своему человеку поболтать по-латыни.
Он говорил с братьями весело и приветливо, хотя из-за них был унижен под Верхотурьем по диким российским нравам. Впервые Ермес не думал о бегстве. Он посмотрел, как обжились здесь его единоверцы, — и будущее уже не представлялось ему таким беспросветным и безрадостным, как прежде.
От избытка добрых чувств Ермес сообщил, что с помощью друзей добивается у воеводы разрешения остаться на поселении в Тобольске. Он хотел удивить ссыльного казака и дать ему понять, что где бы они не находились, между ними всегда будет разница. Но Ивашка слушал его равнодушно и насмешливо.
Здешние новости так и сыпались из обозного еретика. Он тут же рассказал, что ватага курганщиков, собиравшаяся на все лето в степь зорить древние могилы, вернулась через день, встретив на пути чудского мужика с казацкой саблей. Это событие взволновало город больше позапрошлого года, когда две сотни курганщиков вернулись из обских степей, отбиваясь от калмыков.
Слободской порядок не прижился в столице Сибири: на улице от Казачьих ворот до тюрьмы стояло двадцать дворов, из них пять принадлежало иноземцам и казакам «литовского списка», пять — русским пешим казакам, два — посадским, три — вдовам, два — тюремным сторожам. Двор вдовы Дарьи Кочатихи Ермес осматривал с особым вниманием. От единоверцев он уже знал, сколько пшеницы, сколько соли лежит в ее амбарах, и полагал, что вскоре все это будет принадлежать ему.
В центре города, возле церкви, к братьям привязались злющие собаки. Защищая брата, Ивашка отбивался от них саблей в ножнах, но после того как зловредный пес порвал на нем холщовые штаны, в сердцах разрубил яростному зачинщику мохнатую башку. Стая разбежалась, но из подворотни выползла седая горбатая старуха и прошамкала: «Где собаку убьют — там и человеку убитым быть! Псы — как люди: чем трусливей, тем мстительней. Берегись теперь, служилый!»
В Тобольске обоз задержали до Аграфены-купальницы. В ночь, едва отгудели колокола после вечери и стала потухать поздняя заря, купцы-пайщики засуетились, забегали. Оказалось вдруг, что наутро ни в одну из бань в посаде близ причала не попасть. Греть бани стали с вечера, и дымы несло вниз по Иртышу. Холмогорцам и устюжанам так хотелось на утренней зорьке попариться, что Никифор-ведун все-таки прельстил какой-то захудалый дом хорошей платой, и хозяева обещали истопить к утру баню для промышленных гостей.
Казаки же по своему обычаю в потемках, до зари-полуночницы, ушли на высмотренный травянистый берег, чтобы для оздоровления тела выкупаться в росе. Факелов с собой они не взяли, надеясь на молодые глаза и негустую темень. Но месяц, золотые рожки, насмешливо посияв, скрылся в ту ночь за тучей. То гасли, то вспыхивали далекие звезды за набегавшими облаками. И накрыла донцов такая кромешная тьма, что даже под ногами ничего не стало видно. Такой темноты в Сибири никто из них не видывал. Слышалось лишь, как поплескивает сбоку река.
Вытягивая руки, они стали подниматься от воды на пологий берег, раздвигали зеленые ветки кустарников, берегли глаза. Вдруг Пантелей остановился на полушаге, прислушиваясь. Ивашка, Угрюмка да Третьяк тоже замерли: то ли русалки-моргуньи охали, то ли выпущенные в ночное коровы вздыхали среди кустов. Коров казаки сильно опасались: срамно было среди ночи вывозиться в свежих лепехах так, что после ни отмыться, ни отстираться.
Неожиданно зашуршала трава, раздалось приглушенное хихиканье. «Русалки!» — Пенда осенил себя крестным знамением, поправил на груди кедровый крест и, позвякивая бахтерцами, бесстрашно скинул кожаную рубаху. За ним все другие разделись, сложили в кучу одежду и, распластавшись по мокрой траве нагими телами, стали кататься по ней, растираться росой.
Угрюмка, захлебываясь от полуночной стужи и сырости, нашептывал: «С гуся — вода, с лебедя — вода, с сиротки Егория — худоба!» Вдруг руки его коснулись обнаженного тела. Подумав, что это Третьяк, он покатился в другую сторону, но и там столкнулся с кем-то. Стыдливо с брезгливостью отпрянул, думая, что коснулся носом чьей-то ягодицы. Вдруг то место, где полагалось быть пояснице, звонко хохотнуло. Вынырнул из-за облака проказник-месяц, и Угрюмка увидел голую русалочью грудь, девичье лицо со спутанными мокрыми волосами. Руку протяни — оттененное округлостями, перед ним таинственно мерцало девичье тело. От него шел жаркий, дурманящий дух. Гулко застучала кровь в голове, сердце загрохотало так, что юнцу показалось, будто сырая земля затряслась, заходила ходуном. Он вскрикнул пугливо и сладостно, как зверь. Зачурался.
Завизжали девки, подскочив на человеческих ногах. С воплями и смехом их повыскакивало из травы до полудюжины. Казаки кинулись к одежде. Из темных кустов раздался дружный девичий хохот.
Похватав во тьме что нашарили, донцы выбежали к воде и стали торопливо одеваться. Блестела черная гладь, возле реки уже различались силуэты людей.
— То ли девки в росе купались, то ли мигуньи шалят? — крестясь бормотал Пантелей.
Угрюмка стучал зубами от страха и сырости, похихикивал от чарования, стоял сам не свой от шалых глаз, от мокрых спутанных волос, от ощущения близости женщины. Обмирала душа, признавалась с тоской: позови, помани только та мокрая и обнаженная — не устоять ему, рабу Божьему Егорию, не воспротивиться.
Ивашка одел зачарованного брата, подтолкнул в сторону пристани. Угрюмка послушно зашагал и не заметил, что уходит в воду. Ивашка схватил его за руку, повел за собой. Тот переставлял ноги, ничего не понимая. Так и дотащился до коча. Лег на палубу, укрывшись шубным кафтаном, смотрел на черную воду, на серое небо с блиставшими звездами, а видел литые тела девок на мокрой от росы траве, ощущал тепло и аромат ночной шалуньи. Пенда с Ивашкой и Третьяком переговаривались посмеиваясь. Он же в мечтах своих лелеял томное видение, сладостно отдавался чарованию блестящих глаз, а в ушах звенел и звенел девичий смех.
На рассвете Угрюмку окатили водой. Испуганного, замороченного, с хохотом бросили за борт. Это вернулись из бани ватажные. Казаки, попавшие им под руку, тоже были облиты. Весь город обливался и купался, очищаясь от душевной и телесной скверны.
К пристани то и дело подходили горожане, посадские и гулящие, предлагали банные веники, а также коренья, которые ищутся только в ночь на Аграфену. Пополудни устюжская родня выменяла на табак одолень-траву, спасающую в пути от бед и напастей. К вечеру выяснилось, что это корень шиповника причудливого вида. Отвели глаза и ведуну Никифору и ввели его в траты. Лихого же человека, так чудно рассказывавшего о находке одолень-травы, след простыл.
Угрюмка весь день говорил невпопад, и ложка из рук вываливалась, и спал на ходу. Похаба с Пендой не в шутку беспокоились, что ему и праздник не в праздник, и предстоящая разлука не разлука. В том, что ночью столкнулись со здешними девками и молодыми бабами, уж не было сомнений. О том и посадским было известно. Да и сам Пантелей вспомнил — как вышел месяц, увидел он голый бабий зад и ноги, но не хвост. Знающие люди уверяли, что русалки кинулись бы к воде, а те побежали к селению.
Угрюмка слушал товарищей и брата, кивал: дескать, все правильно, а на душе билась рыбиной, убивалась щемящая тоска.
В ночь на Купалин день, отстояв в посадской церкви вечерю, ватажные вернулись на суда. Из казенного же обоза пришел только Ивашка Похабов. Монахи остались на берегу при церкви, Ермес заночевал у папистов, а черкасы, литвины и стрельцы — в городе.
Холмогорцы и устюжане развели костер рядом с пристанью и тихо переговаривались. Все их разговоры были о русалках да о нечисти, которые веселятся этой ночью, про клады, что открываются в ночь на Иванов день. Будто в полночь земля разверзается — клады просушиваются, и можно увидеть в ямах котлы, бочки с серебром и золотом.
Про русалок старые промышленные говорили с опаской, попугивали молодых, дескать, моргуньи выставляют из воды наружу только человечью часть тела и поют, и манят неопытных юношей чарующими песнями. Они же, не умея противостоять страстному наитию, бросаются в воду и тонут.
Угрюмка лежал на коче в одиночестве, не желая ни с кем разговаривать, слышал голос холмогорского пайщика Бажена, ясно представлял, как тот хмурит косматые брови, наставляет:
— Редко кому удается добыть клад. И за то следует расплата — погибель, слепота или беспамятство. Про деда моего сказывали: чтобы знать тайное и скрытое, в юности сторожил он папоротников цвет…
Что говорил купец дальше, Угрюмка не слышал. За бортом послышался плеск, будто огромная рыбина ударила хвостом по воде. Затем влажные ладошки звонко шлепнули, схватились за верхнюю обшивку коча. Он поднял голову и нос к носу столкнулся с мокрым девичьим лицом. Темные волосы липли по щекам, глаза весело поблескивали в ночи.
Угрюмка отпрянул, крестясь. Девка с приглушенным смехом опять бултыхнулась в черную воду и поплыла за корму. А он дурень дурнем сидел на палубе, накладывал на грудь крест за крестом, всхлипывал и ругал себя за то, что не хватило ума или духу броситься следом и плыть за ней.
— …Кто то золото из клада возьмет — будет кружить по лесу, пока не положит на место! — Это уже говорил устюжский купец Никифор. — Без тяжкой кабалы клад в руки не дастся. Только стукнет заступ по крышке — коли не провалишься в преисподнюю, то услышишь хохот нечистой силы. И тень хозяина будет ходить, в самые очи заглядывать…
Старик-баюн не был востребован в ту ночь. О нем забыли, думая, что спит. Но старец бодрствовал. Угрюмка услышал его сиплый голос и грубоватую хрипотцу брата. Они разговаривали между собой.
Старик никогда прежде ни о чем никого не просил, но, увидев золотую безделушку из кургана, даже надоел Ивашке с просьбами. Наверное, он чувствовал, что скоро расстанется со ссыльным, клянчил еще и еще раз посмотреть чудскую бляху. И щупал ее, и к глазам подносил, и дряблой седобородой щекой терся, кряхтел и тужился от какой-то нутряной надсады. Угрюмка слышал, как Ивашка нетерпеливо вспылил:
— Сколько щупать будешь? На дню по десять раз даю! Еще и ночью!
Старик всхлипнул, прошамкал, оправдываясь:
— Ни спать, ни исть — все стоит перед глазами потеха бесовская. Все чудится, будто вижу город каменный, стены высокие. И городу тысячи лет. Народишка там лицом вроде русский, одеждой — чужой. И попы чудно одеты, а кресты наши — издревле русские.
И будто весь город меж собой в ссоре. Плосколицый круглоголовый степняк сидит рядом с князем, глаза щурит, насмехается. Он вернул городу какие-то святые лики, что были утеряны давным-давно, а в награду требует, чтобы князец взял в жены его племянницу.
А этот, остроголовый, что на бляхе, будто воевода. И голова у него что затесанная острожина. И много в городе таких остроумов. Но только этот кричит, что всех прельщает сатана, а Бог попускает: забыли-де заветы предков — погибнет город, если им будут править кровосмешенцы, и потомство проклянет ныне живущих.
А народишка злится, бунтует и кричит, будто круглоголовый вернул священных рыб, — впредь город и его семя будут вечно счастливы.
Тогда остроум твой и говорит, что по законам благочестивой старины будет биться с круглоголовым смертным боем. И если единый Бог даст ему победу — не случится преступного брака.
Попы посоветовались меж собой и приговорили: если остроголовый победит, то браку не быть, но победитель будет принесен в жертву богу для заступничества за город.
— Бес морочит! — жалостливо вздохнул подобревший Ивашка. — И меня, бывает, так проймет — едва отмолишься. — Он ощупал знакомые выпуклости золотых блях на шебалташе. Снова вздохнул: — Монахи пристают, чтобы выбросил безделушку. Уж руку заносил, хотел бросить в воду — будто кто отводил и удерживал. Далее-то что виделось, не помнишь? — спросил старика. — Отрубил ли голову?
— Как не помнить? — простонал баюн. — У меня память хлесткая. Хочу забыть — не могу. А дух подымается из нутра, подымается. Я и Бога благодарю, что дал мне этот дух, и сам ему, бывает, не рад. Мучит он.
— Отрубил? — нетерпеливо спросил Ивашка.
— Отрубил! — крестясь ответил старичок. — А попы того воеводу тут же удавили и обоих на одном костре сожгли.
Глядел на ясные звезды Угрюмка, и виделись ему каменный город, о котором рассказывал старец, русалка с мокрыми волосами. Она насмешливо глядела на споривших жителей, на непримиримого, буйного брата Ивашку.
За бортом опять так громко бултыхнулась вода, будто вспучилась и забурлила. Мокрые ладони с гулким плеском уцепились за коч прямо возле изголовья Угрюмки. «Ухвачу и обниму! А там — будь что будет!» — вскинулся он, холодея от жуткого восторга, и нос к носу столкнулся с бородатым мужиком.
Бухарского шелка рубаха облипла по выпиравшим булыжниками жилам на плечах и на груди. Вода с шумом стекала с густых волос, с бороды. Глаза горели угольями, как у убийцы с занесенным ножом.
Угрюмка отпрянул, вскочил и заорал крестясь:
— Чур меня, чур!.. Не пойду в твое войско!
Мужик захохотал так громко и раскатисто, что его услышали ватажные на берегу. Блеснув глазами, он резко оттолкнулся от борта, с шумным плеском бросился в черную воду, зафыркал, уплывая в непроглядную темень. К вопящему от страха брату подскочил Ивашка, обхватил его сзади. Угрюмка махал руками, брезгливо стирая с лица брызги, отплевывался, лягался, вырывался и визжал:
— Не хочу в Сургут! Не пойду в казаки!
2. Полночная страна
Деды дедов русских людей, а тем их деды сказывали, что на Иванов день солнце-коло о трех резвых золотых конях мчится встреч мужу — ясному месяцу. А тот, истосковавшись по любимой, ждет не дождется встречи. Недолго милуются вздорные супруги после тягостной разлуки, как встретятся — так и поссорятся. И снова небесная печальница, птица-лебедь, накроет белый свет черными крыльями-обидами. Рассорятся между собой день и ночь — брат с сестрой, начнут препираться, как два супостата. По ночам черти станут биться на кулачках, а люди помышлять друг на друга зло. И только утренняя зорька, девица красная, глядя на вечный раздор, прольет печальные слезы — целительную росу.
Отплытие из Тобольска пайщики назначили на утро после поминовения Петра и Февронии — святой благоверной княжеской четы, прожившей долгую, счастливую жизнь и умершей в один день. Супруги завещали родственникам похоронить их в одном гробу, но те, смущенные причудой стариков, положили тела для отпевания раздельно. К утру же — Божьей милостью и чудом Господним — покойных нашли в одном гробу в супружеских объятиях, разъединить которые никто не смог. Так и похоронили.
Стоял Угрюмка в посадской церкви, ревностно клал поклон за поклоном, а службы не слышал. Не разлукой с братом — блудными помыслами была полна голова. Представлялась ему его суженая не нищей бродяжкой, а красавицей с насмешливыми глазами ночной пловчихи, с волнующей выпуклостью груди, верной и умной, как княгиня Феврония.
На Иванов день Ивашка Похаба сильно рассердился на меньшого братца. Но после церкви, послушав о житии благоверных Петра и Февронии, смирился, подумал покаянно, вправе ли он тянуть Угрюмку за собой, вдруг у того судьба милостивей служилой сибирской доли? И все щупал золотую пряжку, будто она могла что-то подсказать, старался понять и смиренно принять волю Божью о судьбах рода Похабовых. Вечером, перед расставанием, вздыхая и кручинясь, он благословил меньшого на дальние промыслы, пробормотал, отводя глаза:
— Ну вот, опять врозь! Судьба, видать, такая!
За братским застольем собрались все бывшие обозные: купцы, промышленные, стрельцы и ссыльные. Один только Ермес-еретик остался на берегу у единоверцев. Пуская по кругу братину с медом и пивом, купцы благодарили всех за помощь в пути, желали ссыльным доброго здравия и приятных служб. Каждый промышленный, ссыльный ли, поднимая братину в свой черед, кланялся на три стороны, говорил слова добрые и прощальные, обещая помнить друзей до смертного часа.
Еще не расставшись с обозными передовщика Ермеса, купцы уже за братским столом заговорили о будущих торгах и промыслах, о том, как им сберечь и приумножить товар, складников с полуженниками[36]да покрученников не обидеть.
Исполнив волю верхотурского воеводы, они доставили в Тобольск казенный обоз. Главный сибирский воевода князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский благодарил их за это и обещал свою милость. Но милостью его оказался наказ вместо ссыльных взять на борт нового мангазейского воеводу Андрея Палицына с его людьми и сообща, без всякого промедления, следовать через Березов и Обдорск в Мангазею-город.
Холмогорцы и устюжане вызнали через близких людей, что новый мангазейский воевода на прежних местах служб мзды и подарков не брал, во всем прямил молодому царю верой и правдой. Из того следовало, что до самой Мангазеи им нельзя будет ничего: ни купить, ни продать. Про тайные Обдорские торги надо было и думать забыть.
Пантелей Пенда, узнав, кто назначен новым воеводой в Мангазею, язвительно хмыкнул, кивнул Третьяку. Прежняя горечь скривила его губы в отрастающей бороде:
— Троицкого келаря Авраамия Палицына помнишь? Радел с казаками за Михейку Романова, против игумена, против воли митрополичьей шел с нами заодно. Не забыл его государь — родич в воеводы вышел. И сам он нынче при царе.
— Этот Палицын, сказывают, под Торопцом уж воеводой был, — кивнул в сторону города Третьяк, насмешливо глядя на товарища. — Бог милостив! На все Его воля!.. А ты будто сердишься?
Пантелей Пенда смущенно пожал широкими плечами:
— Понять хочу! К нам ли милостив?
Едва заалела заря ранняя, роняя росу на травы тучные, на лист окрепший, ссыльные и служилые простились с ватажными, а на судно поднялся воевода Палицын, одетый скромней иного сибирского казака. И скарба при нем было мало, и сопровождавших — всего два сына боярских из Березова-города, юный сын тамошнего атамана и два березовских казака.
Люди воеводы, много раз ходившие из Тобольска в Березов, не стали поучать ватажных, где и как плыть, устав от тобольских дел и сборов, они улеглись на судне в удобных местах и спали почти до полудня. Воевода бодрствовал, осматривал казенный груз, сверял записи по грамотам и книгам. Складники стали робко обращаться к нему с расспросами, им надо было вызнать его склонности и слабости. Палицын отвечал ласково и обстоятельно. Это настораживало устюжан и холмогорцев: они не могли обнаружить в нем ни самодурства раба, вырвавшегося из-под царской власти, ни алчности холопа к подаркам и почестям.
В последний раз блеснули на солнце купола тобольских башен и пропали за яром, дремучий черновой лес подступил к самому берегу. После очередного разговора, почесывая затылки и бороды, купцы тихо спорили: то ли глуп, то ли слишком умен этот воевода, то ли простодушен, то ли хитер? Известно, быка надо бояться спереди, жеребца — сзади, а неведомого зверя — со всех сторон. И ломали они головы — что за тайные мысли были у воеводы, когда говорил: «Этот год остяки не пожелали давать ясак в Мангазею, а отправили его вместе с жалобой в Тобольск»?
Как стала потухать заря вечерняя, купцы и вовсе обессилели от догадок. Хмуря косматые, вислые брови, ссылаясь на убытки, Бажен Попов покаялся воеводе, что из милосердия скупил у бухарцев моченый табак, а теперь и бросить жаль, и с собой везти накладно.
Палицын ответил прямо, без хитростей, что в последней челобитной просил царя запретить торг табаком. Сибирские нехристи и русские люди повадились мешать толченые листья с водой и пропивались с того пойла хуже, чем с вина. Но пока от царя не было никакого наказа, и он своей властью изымать табак не станет, если, конечно, не увидит явного вреда воеводству. Сказал — как озолотил. Многие заботы купцам облегчил.
Многоводная река да попутный ветер несли в полуночную сторону коч со стругом и коломенку. Через неделю караван подошел к тому месту, где Иртыш сливался с мутными водами Оби. На диво донцам, не бывавшим севернее Великого Новгорода, ночи стали неслыханно короткими. Едва наступали сумерки, суда приставали к берегу. Не успевали люди поужинать и помолиться к ночи, солнце снова выходило на небо.
Вскоре прояснились и те редкие сумерки с едва различимыми звездами, встретились на небе сестрички ласковые: заря вечерняя, темная, с зарею утренней, красной. И свет поборол тьму. Черти с визгом ринулись в подземные убежища, запирая ворота меднокаменные до других времен. Отдыхая от ратных трудов, могучий старец Илья Пророк вложил огненный меч в ножны, и расправились седые брови на его суровом лице.
Две реки, соединившись, растекались по равнине, образуя сотни проток и стариц. Ватажные кормщики стали плутать среди них, выспрашивая березовских людей, куда вести караван. Те, по наставлению воеводы, сами взялись править судами. Места были им знакомы.
Не доходя двадцати верст до устья Сосьвы, выше которого стоял непашенный город Березов, коч со стругом и коломенкой повернули в узкую протоку. Вода в ней была стоячей, как в озере. Промышленные с песнями налегали на весла и когда заметили за бортами судов течение, воеводские люди объявили, что это уже не Обь, а Сосьва. Дальше можно было идти самосплавом до Березова-города.
Холмогорец Бажен Попов в том городе бывал и вел торг, но по прошествии лет многое забыл о пути среди проток и островов. На расспросы устюжан и холмогорцев березовские казаки степенно отвечали, что в здешних краях, на Оби, нет мест, удобных для поселений. Сосьва в низовьях течет почти в одном направлении с Обью. Между реками много низких мест, заливаемых весенним половодьем. И только северный берег Сосьвы благодаря высоте сухой.
Караван приближался к старинному городу, поставленному промышленными, пермяками-зырянами да новгородцами задолго до Ермака. Звонко шлепая себя по щекам, люди отбивались от наседавшего гнуса. Федотка Попов спрашивал подремывавшего баюна:
— Дед, здешние люди говорят, будто город этот старый, а Сибирь молода. Сколь Березову лет?
— Сто! — не задумываясь ответил старец и поправился: — А то и больше. Сказывают, еще у деда Грозного царя служил воевода Курбский. И в те еще годы ходил он с войском за Югорский камень, тогда еще застал здесь город, заселенный мезенцами и зырянами. Отряды Ермака, что бежали на Русь после гибели атамана, тоже добирались до этих мест…
— Белогорье! Красота-то какая! — глядя на восток, на холмы в дымке, радовался погодок Угрюмки с Федоткой Ивашка Галкин — поздний сын березовского атамана-ермаковца. В сопровождении двух казаков он ходил с таможенной казной в Тобольск к главному сибирскому воеводе и теперь возвращался домой, исполнив поручение отца-атамана. Казачок важничал среди ровесников, до их шалостей не снисходил. С обозными разговаривал степенно, часто хмурил рыжие брови и напрягал горло, выговаривая слова сиплым баском. Только в конце пути, увидев родные места, Ивашка разволновался.
Угрюмка не понимал его восторгов: невыспавшийся, поеденный гнусом, он оглядывал поросшую лесом, сырую, заболоченную равнину, приземистые холмы, с тоской вспоминал подмосковные леса, привольные северские степи. Молодые устюжане Семейка Шелковников с Ивашкой Москвитиным тоже с тоскливыми лицами оглядывали окрестности. Атаманскому сыну показалось, что они чего-то недопонимают, и он с пылом стал указывать шапкой на завидневшиеся купола церкви, на башни города.
— Вон-на, Калтокожские юрты, — защебетал звонким голосом, — а там, к полночи от Белогорья, — мольбище. У вогулов и остяков есть своя богородица. Сказывают, сидит с сыном на блюде, вся из золота. Дикие воду на них льют и с того блюда пьют, чтобы здоровье укрепить.
Угрюмка вспомнил курганщиков и рассказы стариков на Иванову ночь о всяких кладах. Федотка стал насмешливо выспрашивать:
— Поди, здешний люд про золотую бабу только и думает? Сибирцы все про золото говорят да про меха.
— Не-е! — замотал головой атаманский сын. — Нам ворованного даром не надо… Сказывают старики, трое лихих людей нашли ту бабу. Двое сразу померли, третьего отыскали в болотах остолбеневшего. Принесли его в город, батюшка ему язык отпустил, он и рассказал, что видел с товарищами и что они замыслили.
У диких заговор есть, — зашептал крестясь, — кто ту бабу увидит и захочет украсть — там и помирает… Они много чего по тайге прячут. У них своя Святая Троица есть, святой гусь — и все из золота… Как-то идем с казаками через болото, видим — островок. Вышли посушиться — берестяная юрта, по сторонам от входа в вогульской одежде из рыбьих кож две бабы деревянные. Мы, помолясь, в юрту-то глянули — шайтан… Деревянный.
— А кабы золотой? — вспомнил Угрюмка чудскую бляху.
— Спаси, Господи! — сморщив нос, боязливо перекрестился казачок. — По нашему ли догляду случайному, по другой ли причине в тот год бунт остяцкий был. Мы в крепости отсиживались. А прошлый год пожар случился. — Он вдруг смутился своей невольной горячности, надел отороченную куницами шапку, поправил длинную саблю на боку и прежним сипловатым баском стал наставлять попутчиков: — Не-е! На чужих богов пялиться — беда неминучая!
Восьмиконечный крест на носу коча стал нацеливаться на черные сваи пристани. Судно медленно разворачивалось. Распахнулись тесовые ворота города. Встречать караван вышло едва ли не все население Березова. На берегу собралось до сотни человек. Радостно звонили колокола Вознесенской церкви, со стены палили крепостные пищали. Воевода Палицын велел приветствовать березовцев холостыми выстрелами. Казаки и дети боярские подсыпали пороху на запалы пищалей, раздули фитили и дали нестройный ответный залп.
Семисаженный плоскодонный коч неуклюже пристал к причалу. Ниже к вязкому берегу приткнулась коломенка. На пристани, крытой почерневшим тесом, прибывших встречал березовский воевода в собольей шубе, накинутой поверх парчового кафтана с высоким воротом. По одну сторону от него стоял письменный голова в собольих штанах, заправленных в сафьяновые сапоги, по другую — седобородый атаман в собольей шапке, в кафтане, отороченном собольими лоскутами. В руках он держал древко хоругви. В первых рядах с иконами Михаила Архангела и Николы Чудотворца стояли поп с дьяконом, приказчик, два сына боярских в красных шапках. За ними толпились лучшие люди города с детьми и женами.
С берега были поданы широкие сходни. Воевода Андрей Палицын, крестясь и кланяясь на три стороны, ступил на них красными сапожками. С двух сторон его поддерживали под руки сыны боярские. За воеводой неспешно двинулись березовские казаки с атаманским сыном. После всех сошли купцы. Крестясь, они приложились к иконам, откланялись березовскому воеводе, письменному голове, атаману и всему честному люду, собравшемуся на берегу.
Угрюмка с завистью глядел, как атаманский сын, на голову ниже сопровождавших его казаков, сошел следом за мангазейским воеводой, степенно откланялся горожанам, березовскому воеводе, письменному голове, атаману. Срывающимся баском стал докладывать об исполненном поручении. Всем своим видом он показывал старшинство по чину и роду.
Тень великого Ермака через подвиги отца падала на него. Как тяжкий, но спасающий крест, с ранних лет он нес отблеск славы, которую не смел запятнать. И слава отца предопределяла его поступки. Это были другие судьбы — не те, что у Похабовых: без роду и племени, то посадских, то беглых, то казаков, то гулящих — и везде только наполовину своих.
Промышленные прибывшей ватажки отстояли вечерю в Воскресенском соборе перед иконами, которые были принесены в Сибирь дружиной Ермака. После службы и исповеди Ивашка Галкин повел донцов в соборную избу городовой казачьей сотни. Время было позднее, но северный день не думал кончаться. В одних домах давно спали, возле других сидели на лавках городские девки, с любопытством поглядывали на гостей, перешептывались и приглушенно прыскали от смеха. Угрюмка в ветхом охабне с чужого плеча, в шлычке да в чунях из невыделанной кожи стыдливо опускал глаза. Ему казалось — смеются над ним.
В прошлом году город горел. Стены были подновлены, но за ними еще чернели погорелые дворы, кособочились пропахшие сырой золой времянки. Угрюмке это неприятно напомнило что-то из детства. И если бы не Пантелей Пенда, рвавшийся смотреть Ермаково знамя, он бы вернулся на коч.
Город засыпал. Притихли даже собаки и петухи, хотя солнце только склонилось к лесу, пламенея в одночасье зарей вечерней и утренней. Караульные позевывали на стенах, уныло поглядывали в прозрачную, ясную даль.
На крыльце соборной избы, завернувшись в собачью нагольную шубу, полулежа похрапывал белобородый старик. Одной рукой он обнимал тяжелую саблю в сафьяновых ножнах, другую подложил под седую голову.
— Дед Полено! — громко крикнул атаманский сын. — Саблю украли.
Старик открыл глаза, скосился на темляк, опутанный бородой, неспешно сел и, покряхтывая, приветливо взглянул на Ивашку.
— Кого привел? Купцов ли, промышленных?
— Своих не узнаешь? Казаки с Дона! — крикнул Ивашка. Видно, старик был туговат на ухо. — Покажи Ермаково знамя, шибко хотят видеть.
Сильно приволакивая левую ногу и припадая на нее, старик отпер дверь, пропустил всех в избу, с гордостью указал на знамя, расправленное по стене. Угрюмка отметил про себя, что холст от ветхости выцвел, а кожаные латки ссохлись.
Пантелей Пенда, смахивая слезы рукавом жупана, попросил разрешения приложиться к полотну. Караульный казак по прозванью Полено величаво и снисходительно кивнул:
— Иных от хвори исцеляет!.. А мне милости не-ет! — Зевнул, крестя бороду. — В церкви не согнуться — спину ломит… И нога… — Старик похлопал ладонью по приволакивавшейся левой, пошамкал: — Грешен! С атаманом Брязгой много немирных перевешали за ноги. Не всегда по вине: бывало — для острастки.
Ватажные отдыхали, парились в бане, стирали одежду. Те, что томились в пути грехами, уже причастились Святых Тайн, иные только готовились к исповеди. Третьяк, устав от вынужденного безделья в пути, прилежно ходил в церковь, пел на клиросе и читал святые книги с тамошним причтом. Купцы лениво приторговывали дозволенным товаром и выспрашивали бывальцев о дальнейшем пути в Мангазею через Обдорск-город.
По сказам, окрестности Обдорска были местом самых злостных воровских ярмарок и торгов. Стоило служилым разорить один такой торг — на каком-нибудь из островов появлялся другой. И не было конца ухищрениям торговых и служилых.
Светлым ясным вечером, когда горожане закрывали ставни и читали молитвы ко сну, к судам прибежали запыхавшиеся купцы-пайщики. Хитроумный Никифор в распахнутом кафтане и в съехавшем на затылок кашнике одной рукой прижимал к животу отчаянно бившегося гуся, другой держал его за клюв. Бажен, отдуваясь и обмахиваясь шапкой, велел сталкивать суда на воду. На удивленные вопросы промышленных задыхавшиеся купцы поспешно отвечали:
— Всякий Еремей про себя разумей!
На память мученика Еремея светлой ночью ватага стала торопливо собираться в плаванье. Караульные на городских стенах ничуть не были этим обеспокоены и даже махали на прощанье шапками. А на судах был ропот: одни громко ворчали, не успев причаститься, другие зевали до слез, запутавшись во времени, ругали купцов и березовских петухов, которые еще не пели. Ночной, воровской уход из города ничего доброго не сулил.
Купцы, отдышавшись, стали торопливо объяснять, что нежданно ватаге выпало счастье плыть на Обдорск без надзора и догляда. Пока воеводы своего решения не переменили — надо было поскорей отойти от города.
Страсти и шум стихли, гребцы налегли на весла. Когда суда вышли на стрежень Сосьвы-реки, купцы стали обстоятельно рассказывать, как в воеводской избе, где их принимали лучшие люди города, заспорили между собой новый мангазейский воевода и березовский атаман — кому везти в Мангазею казну с жалованьем для березовских казаков. Воевода Андрей Палицын хотел везти ее сам и выдать тамошним казакам для верности их. Атаман Алексей Галкин говорил, что целовал ермаковские иконы, отправляя казаков в Мангазею, обещал им царское жалованье доставлять в срок — и сам, не перекладывая на проезжих, особенно на торговых.
Заспорили они так, что даже березовский воевода не мог сказать, кто прав. И решили плыть вместе перед заговеньем на Успенский пост. Обозным же дозволили идти в Мангазею через Обдорск, нигде не останавливаясь для воровского торга.
Благодаря воеводе Палицыну березовские приказчики не сверяли купеческие товары с тобольской описью. С грамотой березовского воеводы их отпустили дальше к северу, где была учреждена строгая таможня.
Зачастили туманы. Густые, как козье молоко, они залепляли глаза так, что с кормы не видно было креста на носу судна. Коч со стругом под бортом и коломенка иногда останавливались там, где были застигнуты ими и пережидали непогоду, иногда плыли дальше, полагаясь на чутье кормщиков.
— Тьфу тебе в харю рогатую! — выругался Бажен. Он правил кочем и старался хоть что-то разглядеть в тумане, для этого подался вперед дородным телом, озирался, но не видел ни креста на носу, ни даже воды за бортом.
— На коломенке? — крикнул зычно, приложив ладони к бороде.
Чуть ли не возле уха раздался спокойный голос Пенды:
— Рядом!
Вскоре коломенка мягко ткнулась в борт коча, Угрюмка в драном охабне выскочил из тумана как бес из преисподней. В его зубах был зажат пеньковый трос. Отплевываясь, он потянул его двумя руками. Из пелены, прямо против колен кормщика, вынырнул острый колпак Пенды. Глаза его смотрели снизу пристально и насмешливо.
— Куда плыть? — вскрикнул Бажен и развел руками. Голос прозвучал гулко, справа отозвалось эхо. Холмогорец прислушался к нему и сипло зашептал, шевеля бородой:
— Ишь! Нечисть передразнивает! — Пугливо оглянулся.
— Уж это как водится! — громко и бесшабашно согласился казак, прислушиваясь к своему вернувшемуся голосу. — Откуда отзывается — там и суша! — указал рукой в сторону невидимого берега, скомандовал: — Угрюмка — в коломенку! Третьяк — на нос. Смотри — у тебя глаз верный, и шестом глубины мерь.
Он легко перескочил через борт. На густо смазанных дегтем бахилах висели тусклые капли влаги. Казак встал у руля, потеснив передовщика, повертел носом по сторонам и указал рукой, куда надо править.
— Ты чуешь, ты и веди, — с радостью уступил место Бажен. — А я помолюсь!
— Можно и помолиться! — весело вскрикнул Пенда, сбив колпак на ухо. Прислушался к отозвавшемуся голосу. — Весла на воду! — скомандовал унылым гребцам. — И песнь удалую! Чтоб чертям тошно стало… Моржееды! Ну-ка про Ваську Буслаева, как он весь Великий Новгород на спор звал!
Едва видимые в тумане гребцы закашляли, сипло засмеялись. В такт песне налегли на весла. Эхо отзывалось на их голоса.
— Легче! — осадил казак. — Не то врежемся в берег… Третьяк?
— Полторы сажени… Мельчает! — отозвался зычный голос товарища.
— Гладим воду веслами, что девку или любимого коня! — прервал крепнущий напев Пенда и снова закрутил головой, прислушиваясь.
— Два аршина! — крикнул Третьяк.
Пенда поднял руку. Песня оборвалась.
— Носовые, подгребай! Остальным сушить весла!
Вскоре под килем коча зашуршала трава, тяжелый нос мягко ткнулся в берег.
— Слава Тебе, Господи! — облегченно перекрестился Бажен.
Отыскивая тайную ярмарку перед Обдорском, ватага наткнулась на таможенную заставу. Как ни отговаривались складники, что заплутали и оказались в тамошних местах случайно, пришлось отдать обдорским казакам струг: слишком уж явно они свернули протоками в сторону от Обдорска.
Устюжский купец Никифор Москвитин с негодованием обвинил во всех убытках холмогорского кормщика Бажена Попова. Устюжане своего пайщика поддержали, обругав заодно все новгородское отродье, как это водится от века.
Бажен разобиделся и опять сложил с себя власть, добровольно передав правление ватагой и судами Никифору. Осерчавший, он стал кашеварить и всячески показывал, что не желает ничего знать ни о пути, ни о насущных торговых делах.
Не прошло и двух дней, как у другого тайного торжка коч и коломенка вновь были захвачены теми же казаками. Остальные бывшие там торговые суда и остяки с вогулами сумели скрыться. Никифор же бегал по кочу, крестился, охал и даже не посмел приказать оттолкнуться от берега, но только смотрел разинув рот, как знакомый струг обошел островок и оказался под бортом. При этом холмогорцы наблюдали за ним и за устюжанами с мстительными усмешками и не пошевелились, чтобы спасти свое же добро.
К счастью ватажных, со здешних народов уже взят был ясак. Казаки смилостивились, хваля быстроходный струг, и не увели коч с коломенкой в Обдорск к таможенному голове, но немалую мзду табаком все же взяли. Едва они со смехом отошли от коча, Бажен, позеленев от злобы, разразился громким, зычным хохотом. Сутулый холмогорец по кличке Тугарин с длинными руками, похожими на рассохшиеся грабли, с оскорбленным видом поднялся с места и разорался, напирая на отступавшего Никифора:
— Путние-то ярыжники вона где еще казаков приметили и ушли! Велел бы рубить концы, и мы бы скрылись! А ты носился, что потоптанный петух, и орал несуразицу.
— Да куда же на наших тяжелых судах уйти от струга? — смущенно и досадливо оправдывался Никифор, озираясь по сторонам и бросая взгляды то жалобные и приниженные, то злобные и высокомерные.
— Кабы ваш боров, — закивал Лука Москвитин на Бажена, — не отдал бы струг, так и сейчас бы с нас мзды не взяли.
Возмущенный Тугарин, презрительно усмехаясь, заявил, что устюжане — вечные московские холопы, издревле только новгородские деревни зорить горазды, а увидели казаков — и в штаны наложили!
Задыхаясь от гнева, устюжанин Нехорошко так озлобился на слова холмогорца, что острый кадык задергался под реденькой бородой.
— Ни одной распри наши деды не начали! — закричал, подстрекая устюжан к отпору. — Все ваши злом пыхали. Новгородцы — вечные зачинщики и срамословы!
Как два старых петуха, Нехорошко с Тугарином подступали друг к другу, ругались и размахивали руками. Тут дьявол, ненавидящий всякое добро, мир и любовь, посеял между купцами Баженом и Никифором такую вражду, вложил в их сердца такую ненависть, что они друг друга в лицо не желали видеть и оба отказались править кочем. Если один спускался под палубу в жилую часть, то другой в злобном нетерпении оттуда выскакивал пулей и укрывался в нежилой половине, где хранились ватажные припасы и купеческие товары.
Видя такую распрю, холмогорские и устюжские промышленные опечалились и притихли, стали просить купцов помириться. Но те и слушать их не хотели. Ватажные пайщики и вовсе обеспокоились. Сдерживая неприязнь, не показывая обид, они собрались на совет без купцов. А те сидели один на носу, другой на корме, спинами друг к другу.
Время шло, съестной припас убывал, а коч с коломенкой стояли на месте. Помолившись, староватажные выбрали кормщиком Пантелея Пенду, человека стороннего, ни с холмогорцами, ни с устюжанами родством и землячеством не связанного. При продолжавшемся молчании купцов ватага отправилась в Обдорск-город, который нельзя было ни обойти, ни проплыть стороной.
Первое русское укрепление на этом месте появилось еще при отце Грозного царя и было поставлено московским воеводой князем Курбским. Войско его ушло, острог обветшал. Лет через десять после гибели атамана Ермака здесь снова был срублен государев острог, огороженный стоячим тыном в две с половиной сажени высотой, с двумя сторожевыми башнями и крытыми воротами. В нем были срублены Васильевская церковь, четыре двора, аманатская и съезжая избы. Возле тына ютились до двух десятков остяцких юрт.
Коч и коломенка причалили к берегу. Никто не встречал прибывших. Обдорцы знали, что ни купцы, ни промышленные мимо проплыть не посмеют и придут сами. Ворота в острог были распахнуты.
Бажен и Никифор наотрез отказались идти на поклон к воеводе и таможенному голове. Тут распря захватила всех холмогорцев и устюжан с новой силой. Одни винили других, а те, верные родству и землячеству, защищали своих. И кончилось бы все трудной, убыточной зимовкой под стенами острога, если бы юнец Федотка Попов да сивобородый устюжанин Лука Москвитин, старый да малый, поборов в себе обиды, не взяли тобольских грамот и описей, скрепленных березовскими печатями, да не пошли бы на поклон к обдорцам.
Но и это не помирило повздоривших. Судили складники, что старый да малый все сделали не так и пошлины заплатили вдвое. После досмотра и получения новых описей, на Преображенье Господне, ватага была отпущена в плаванье к Мангазее.
Попа в остроге не было: прежний помер, нового не прислали. Из старожилов никто служб не знал. Почитать молитвы и пропеть все, что пристало для второго Спаса, взялся Третьяк. На соборные молитвы в осиротевшей церкви собрались обдорские жители и гости. Пришли и Бажен с Никифором, стояли, не глядя друг на друга, в разных сторонах от алтаря: один — выставляя вперед брюхо и хмуря косматые брови, другой — сутулясь, будто готовился к прыжку или нападению.
С укором поглядывая на них, Третьяк, как поп, попробовал вразумить спорщиков, зычным голосом проповедовал:
— Не врагам, не побежденным, но близким и родственникам сказано: любите друг друга! «Не противься злому. Но кто ударит в правую щеку твою, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». — Он замолчал, вытягиваясь на цыпочках возле алтаря и выглядывая из-за придвинувшихся обдорцев Бажена с Никифором. Те слушали вполуха со смурными лицами — что, дескать, разумного может сказать этот недоросток из покрученников?
Третьяк опечаленно качнул головой и добавил со вздохом:
— «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
Угрюмка поймал на себе рассеянный взгляд казака, насупился, на его лице стали выступать красные пятна: показалось вдруг, Третьяк укоряет, что он не пошел с братом в сургутскую ссылку.
После церкви Угрюмка пуще прежнего почувствовал себя одиноким и несчастным сиротой. Третьяка обдорцы брали под руки, просили остаться в городе, его же никто не замечал. И несло сироту сибирскими реками уже в океан-море, в полуночные страны, и негде, не за что было зацепиться. Неумолимо втягивал в себя этот бесприютный мир, суля то богатства и славу, то нищету и гибель.
С печальными мыслями Угрюмка вышел на топкий берег, поросший тальником, услышал жалобное мяуканье запутавшегося в траве котенка. Он отыскал его, подобрал, почуяв в кошачьей свою долю, погладил по грязной шерстке, пожалел и спрятал под охабень. Третьяк тоже пощекотал котенка пальцем по загривку и посоветовал, будто ножом по сердцу провел:
— Сирота! Коли без кошки вырос — сколь ни учи, будет пакостить. Бросил бы ты его, где взял.
Нечаянным своим советом он только распалил Угрюмкину тоску и обиду.
Перед отплытием не было братского застолья: холмогорцы ели на корме, устюжане — на носу коча. Все тихо переговаривались только со своими. Пантелей Пенда, презрительно поглядывая на тех и на других, плюнул, выругался и громким голосом велел Третьяку с Угрюмкой есть на коломенке, чтобы не дразнить гусей.
Он раз и другой хмуро наказал, чтобы юнец не заносил котенка на коч. Угрюмка помалкивал, не возражал, но когда котенок притих, а казак забыл про него, — тайком пронес на судно, грел его за пазухой, кормил жеваным хлебом и рыбой.
В ночь на память святого мученика Евпла по северским да рязанским землям честные христиане прислушиваются к звукам с кладбищ: к посвисту и к старинным песням, доносящимся оттуда. И молятся люди добрые за всех воинов, в смутные годы за Отечество павших, и высматривают, не видно ли огней на старых могилах, не бродят ли среди них белые кони, выискивая погибших всадников.
В ту ночь Угрюмка лежал в сырой подпалубной жилухе и чувствовал, что устюжане на нарах — по одному борту и холмогорцы — по другому не спят, ожидая друг от друга подлости и нападения. Они уже не ругались, но молча и злобно наблюдали одни за другими.
Чуть покачивала коч морская зыбь. Ватага вышла в Обскую губу и ждала попутного ветра для дальнего перехода. Последние два дня прошли в тягостном ожидании неизбежного поединка. Препятствием к нему были только донцы, державшиеся особняком. Еще третьего дня, улучив, когда Пенда остался на палубе один, к нему прокрался Бажен и шепотом стал склонять к холмогорцам, обещая полную ужину, если они отобьют у устюжан коч.
Краем глаза Пантелей заметил, как высунулся из жилухи и скрылся, таясь, Нехорошко. Уже то, что казак наедине разговаривал с холмогорцем, могло обернуться бедой.
— Кому мы крест целовали? — спросил он, хмуря брови. От неожиданно громкого голоса дородный купец едва не присел и воровато оглянулся. — Кому? — в упор переспросил казак, раздраженно перебирая пальцами темляк: — Устюжанам или холмогорцам?
Бажен, вздыхая и охая, отступился, виновато разводил руками: мол, сам видишь, как все обернулось. Вскоре Пантелей заметил Никифора и Третьяка. Покачивая длинноухой головой, купец со слащавой улыбкой прельщал молодого казака и все ближе клонил к нему свою тощую бороду. Третьяк стоял спиной к товарищу. Знакомым движением рука его потянулась за спину вытащить из-за кушака боевую, по тыльной стороне обшитую бронями рукавицу. Корчиться бы устюжанину у ног малорослого казачка, не подоспей Пантелей схватить его за локти. Никифор, уразумев, отчего недоросток щурит глаза и сжимает в нитку губы, мышью шмыгнул в жилуху, под палубу.
— Зачем? — строго спросил товарища Пенда, выпуская его локти. — Дашь в ухо дураку — озлишь одних, ободришь других. И так уж, кабы не мы с тобой, давно вышли бы они на берег и бились до смерти по обычаю старых промышленных.
— Купить меня хотел, пес! — скривил тонкие губы Третьяк.
— Что с них взять? Барышники! — сплюнул за борт Пантелей. — По себе о других судят… Не показывай ни приязни, ни неприязни. Пусть сами мирятся.
Это было днем. Нынешней же сырой августовской ночи, казалось, и конца не будет. Едва тлел чувал, жилуха выстыла. Холмогорец Тугарин откинул тулуп, повертел головой, к чему-то принюхиваясь, потом брезгливо взглянул на устюжанина Нехорошку, лежавшего против него, на нарах по другому борту.
— Московский дух! — язвительно прогнусавил и шмыгнул носом.
Нехорошко резко приподнялся на локте, ударившись головой о верхние нары, но даже не поморщился от боли. Его смятая борода топорщилась возле уха.
— Это моржееды-то холмогорские про срамной дух говорят? — просипел, захлебываясь. — Да у вас там падалью и в постные дни не брезгуют!
Пантелей почувствовал, как под одеялами и под шубами подобрались, приготовились к схватке враждовавшие стороны. Приглушенно громыхали брони, загодя надетые под кафтаны и зипуны. «Ну, вот и началось! — подумал с тоской. — Те и другие были одинаково заносчивы на буйные речи, неуступчивы в делах».
И тут из-под тулупчика, которым укрывался Угрюмка, выполз подобранный им возле Обдорска котенок, сладко зевнул, потянулся, устроился на вышарканном рукаве, изогнул спину дугой, задрал хвост. «Чвырк-чвырк!» — прозвучало в напряженной тишине.
— Вон кто дух портит! — завопил Тугарин, бросая на Нехорошку виноватые взгляды, а на казаков — рассерженные, и скрюченным пальцем стал тыкать в сторону Угрюмкиных нар.
— Под святыми-то ликами! — охнул Нехорошко, разевая рот и не находя слов, но уже заодно с Тугарином.
— Все казаки! — просипел кто-то из-под одеяла. — Сроду — ни кола ни двора… В дерьме, по балаганам да по норам!
Заворчали, завозмущались со всех сторон, будто и распря случилась по казачьим винам. Пенда рывком соскочил с нар, одной рукой схватил за шкирку котенка, другой — обгаженный тулуп. Махом вылетел на палубу, распахнув лбом створчатые двери. За ними уж светлело. Послышался тупой удар. Котенок надрывно мякнул и упал где-то за бортом.
Шлепая босыми ногами, казак спустился в жилуху, закрыл створки и улегся на прежнем месте. Угрюмка свернулся калачом и лежал в охабне — ни жив ни мертв от страха и обиды. Притихли и складники, еще миг назад готовые броситься друг на друга.
Похлюпав сырым носом, Тугарин боязливо укорил казака:
— Коли в воду бросил обосранного — дедушку можем обидеть!
— На сушу — лешего рассердим! — пробормотал Нехорошко и стал растирать ушибленную голову.
— Вам не угодишь! — рыкнул Пантелей, укрываясь. — С котами или с казаками… Все одно перережетесь, — буркнул под одеяло.
В наступившей тишине кто-то из ватажных злобно прошипел:
— А покрученники того только и ждут. И припас, и товары заберут!
Угрюмка сжался в комок, стараясь унять подступавшую дрожь. Но не выдержал, встал. При свете лампадки раздул чувал, подбросил дров. В сырой подпалубной жилухе потеплело. Зашевелились промышленные, распахивая шубы и одеяла. Согревшись у огня, юнец распахнул створчатую дверь, робко поднялся на палубу. Сколько хватало глаз, виднелись льды, припорошенные первым снегом. От той белизны привиделся рассвет.
Тускло светила утренняя звезда. Сонно покачивалось, приглушенно скрежетало ледовое покрывало на воде. Чуть приметные снежинки выбелили палубу. На берегу чернел труп котенка со свернутой набок головой. Угрюмка зябко передернул плечами, подтянул кушак, поднял тулупчик, стал счищать с него еще не застывшее кошачье дерьмо. Он спустился в жилуху, постукивая зубами от ночной стужи, припал к пылавшему чувалу, всхлипнул подрагивая:
— Льды принесло! Видать, тут и околеем.
Зевая и крестя рот, из-под шубейки, шитой из волчьих лоскутов, высунулся Бажен. Борода его была смята, глаза опухли. При дородности и корабельной тесноте на узкие нары главный пайщик втискивался боком. Сидеть можно было только за узким столом посередине жилухи. По-промышленному, два десятка человек на семисаженном коче, хоть бы и с товарами, которые занимали половину судна, — это просторно. После оставшихся в Березове людей несколько нар даже пустовало.
Лежа перекрестившись на лик Николы летнего, без митры, который купили в Верхотурье при освящении коча, холмогорский купец пробурчал:
— Наносные, видать, льды! — И закряхтел, выбираясь из-под шубы, с нар. — Сказывали обдорцы, здесь снег и лед на Успенье — в обычай. — Он сел за стол и стал расправлять смятую бороду.
Это были едва ли не первые слова купца от самого Обдорска.
— А еще говорят, — язвительно пробубнил под одеялом Пантелей Пенда, — что никто из промышленных по берегу губы не зимует. Здешние воровские народы всех терпящих бедствие убивают и товар забирают.
Закряхтели, закашляли, зашевелились холмогорцы и устюжане. За переборкой, где хранились товары и всякий припас, захлопал крыльями, загоготал потревоженный гусь.
— Ети его! — купец Никифор высунул нос из-под шубы. — Хорошая нетель таких куч не навалила бы. Все мешки обложил.
В жиле раздался осторожный приглушенный смешок, и вроде потеплело без прогорающего чувала. Угрюмка лег на место. Укрылся с головой, обиженно прислушиваясь к гоготанью. Котенок им помешал, а гуся, который съестной припас портит, терпят.
Тугарин свесился по пояс с нар, подбросил дров из плавника. Огонь высветил лица проснувшихся промышленных.
— Сколь кормить его? — зевнул Лука Москвитин. — Пора дедушку потешить. Много добра нам сделал.
— Раскормили гуся — едва зад таскает! — хмыкнул кто-то из холмогорцев, не напрямую — вокруг да около — вступая в разговор с устюжанами. За последние два дня это было в диковинку.
Ободренный потеплением, Пенда сбросил одеяло, потянулся до хруста в костях:
— Вы как хотите, а я околевать здесь не желаю. Даст Бог полуденник[37] — уйду со льдами. Пора!
Зашумели, поднимаясь и крестясь, промышленные. И с одного борта, и с другого вставали, как в доброе старое время. Стали выходить на берег, припорошенный первым снежком и прихваченный гладким ледком по сырым местам.
Рассветало. По берегу опала, побелела поникшая трава. Шарами бугрился обмороженный лист. И только мох пышно вздымался, беззаботно зеленел и серебрился, не пугаясь стужи.
Никифор в шубе сошел по сходням с отчаянно кричавшим гусем в руках. Разбуженная молодежь свела на сушу старца. Устюжане, посмеиваясь, привязывали к шее гуся камень, связывали крылья и лапы. Холмогорцы участливо наблюдали и давали советы. Бажен еще хмурил косматые брови, но уже поглядывал в сторону Никифора и качал головой от желания дать дельный совет.
Шестами и веслами промышленные раздвинули льды, сделав полынью в стылой черной воде. Бажен вылил на воду корец подсолнечного масла, Никифор неловко бросил связанного гуся. Тот, держа на плаву жирную белую гузку, задергал связанными лапами и крыльями. Круги пошли по воде. «Вот тебе, дедушка, гостинец! — пропели хором промышленные, беспечально наблюдая за муками птицы. — Люби и жалуй нашу ватажку!»
Связанный гусь перестал биться. Кончик его хвоста торчал над водой. Видно, здесь было мелковато. Полынья быстро затягивалась покачивающимся льдом, и гусиная гузка вскоре пропала из виду. «Знать, прибрал дедушка гостинец», — решили ватажные.
Умывшись солоноватой водой, ежась от пронизывающего ветра, они стали подниматься на коч. Купцы-пайщики всходили по сходням последними. Никифор, опустив глаза долу, пропустил Бажена как старшего по возрасту.
В жилухе в красном углу под образом Николы Святителя ватажные подлили масла в лампадку, зажгли припасенные свечи, напряглись и замерли, ожидая, кто начнет молитвы утренние. Бывший главный пайщик Бажен, в длинной, до пят, шубе, постоял, задумчиво глядя на лики, перекрестился и сиплым голосом запел: «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа…» «Боже, милостив буди нам, грешным!» — радостно и громко запели промышленные. Крестились и кланялись с чувством, со слезами, винясь за сделки с водяной нечистью, за распри и раздоры. После утренних молитв разошлись благостно, стараясь услужить друг другу, не поминая зла.
Едва закончилась братская трапеза, со Щучьей реки верхами на оленях приехали для торга с десяток самоедов неведомо какого рода. Осмотрев привезенную ими мягкую рухлядь, Бажен с Никифором поняли, что те — люди торговые, ездят не по нуждам, но для перепродаж русских товаров дальним стойбищам. Им купцы и всучили больше половины плесневеющего табака в обмен на соболей и лисиц, которые, все вместе, по тобольским ценам, стоили не меньше двухсот рублей. С большой выгодой был продан и другой ходовой товар, особенно запрещенные к торгу железные топоры, которые купцам приходилось прятать от описи с самой Перми.
Никифор, посмеиваясь, туго смял пять собольих головок и попытался всунуть в проушину топора. Одного соболя пришлось отложить в сторону. Четыре шкурки были с трудом продернуты через отверстие, но не испорчены. Таким образом по стародавнему обычаю в здешних местах оценивались топоры.
Угрюмка, Федотка с Сенькой Шелковниковым да Ивашка Москвитин похаживали возле мужиков с косами, заплетенными наподобие рогов, в парках из оленьих шкур, в сапогах из оленьих кож, высматривали — по две ли руки у них, по две ли ноги, настоящие ли? Среди самоедов один только старик с седым пучком волос на подбородке был хром. А губы у него — как у людей, под носом.
Приняв угощение от купцов, гости ели ртом, не скидывая парок, и все посмеивались над русской молодежью.
Был бы день радостным, но самоедский князец, разглядывая купленный товар, сказал по-русски, что табак плох, а вот топоры хороши. Будь их побольше, они с такими топорами забрали бы назад и свою рухлядь, и весь русский товар.
— Это уж как Бог даст! — жестко сощурился Никифор. Из редкой бороды его задиристо торчал раскрасневшийся влажный нос, немигающие глаза смотрели стыло и насмешливо.
— Что нам не продали, то ненэчэ[38] возьмут! — усмехнулся князец тонким безбородым ртом. Черные зрачки поблескивали из щелочек глаз хищно и злобно.
— Даст Бог — все возьмете! — пробасил Бажен. — Не даст… — сделал выразительный жест, будто сажал дикого на кол.
Самоеды поднялись и стали завьючивать оленей.
* * *
То не гуси загоготали, не лебеди крылами заплескали — то на память пророка Михея загудел ветер, раскачивая коч и коломенку под бортом, заскрежетал лед на тяжелой пологой волне, грозя раздавить суда. На палубе всю ночь менялись караулы. Наутро Пенда, стоявший в дозоре, шумно спустился в жилуху, припал к теплому чувалу и весело гаркнул:
— Зорька потянула! Михей-тиховей льды уносит!
— Уж и тиховей?! — проворчал Бажен, оглаживая бороду, зевая и крестя рот. — Будто на качели коч кидает… Низовик или верховик?
— Низовик! — покрякивал от тепла Пенда.
— К дождю или к снегу, — сонно пробурчал под шубой Никифор.
— Зато попутный! — гоготнул Пантелей. — Льды уж за версту унесло. На заре поднимем парус.
Зарозовела зорька утренняя. Блеснуло солнце красное, ватажные с иконами вышли на берег и отслужили соборный молебен. После неторопливого братского застолья по обычаю старых мореходов купцы-пайщики вылили за борт по корцу масла и меда. Величая водяного дедушкой, попросили — если волнения моря, то несильного, а течений попутных. Затем коч и груженую коломенку оттолкнули шестами от берега.
Налегая на весла, промышленные запели во всю свою мощь, чтобы нечистая сила, заткнув уши, бежала вон, а силы небесные радовались. А как вышли на чистую воду, подняли парус, попутный ветер натянул его, зажурчала под днищем вода. Сила небесная подхватила суда и повлекла на полночь. Коломенка волоклась на привязи за кормой. На ней девять удальцов подгребали веслами, помогая парусу. И не боялись устюжане, что холмогорцы бросят их в море: кормщиком на коче был Пенда, Третьяк с Угрюмкой сидели на гребях в коломенке.
Пантелей стоял на руле. Свежий ветер трепал отросшую бороду, шевелил волосы, ниспадавшие из-под островерхого казачьего колпака. Обдорские мореходы, на которых рассчитывали складники, заломили непомерные цены за то, что возвращаться из Мангазеи им придется на лыжах. Федотка с Лукой рядиться не умели, а Никифор с Баженом тогда были в ссоре по научению бесовскому. Теперь лучшего морехода, чем Пенда-казак, не было.
Островки кончились, к видимым дальним берегам расширявшейся губы подступили безлесые горы. На носу коча стоял холмогорский промышленный с шестом и промерял глубины. Вскоре он крикнул, что лот дна не достает. Коч приметно качало. Время от времени судно зарывалось в пологую волну, и вода катилась по палубе.
К вечеру впереди показался лед, унесенный ночью. Вскоре льды перекрыли все пути к северу. Высмотрев полыньи, Пантелей Пенда хотел пройти сквозь них. Но промышленные, собравшись на круг, решили к берегу не приставать и далеко в полыньи не заходить, а держаться края льдов. По совету обдорских казаков перед выходом в ледовую губу смоленый нос коча был укреплен вязанками прутьев.
Ветер совсем стих. Отдерные льды сменились прижимными и незаметно обступили суда со всех сторон. Поскольку берег был недалеко, промышленные решили пробиваться к нему на веслах, отталкивая льдины шестами.
А как стала потухать заря темная, вечерняя, снова миловал Бог, а водяной не пакостил: в потемках вошли в устье речки, свободное ото льда. Там остановились на ночлег и ждали разводий, простояв все Успенье Пресвятой Богородицы, молясь и постничая. На третий, ореховый Спас льды разнесло. Птичьи стаи одна за другой тянулись на полдень.
С молитвами ватажные вышли на чистую воду, подняли парус и пошли по ветру к другому, дальнему берегу губы, забирая, сколько можно, на полночь. К вечеру подошли к суше на версту и снова увидели вдали льды. И опять стояли и постничали, молясь. На память святых мучеников Флора и Лавра — лошадников подняли парус с раннего утра.
Казак без коня — кругом сирота. Разве на коче да на струге — пасынок. Промышленные с молитвами кропили суда святой водой, смотрели за борт, гадая, будет ли осень тихая, а зима без вьюг. И тиха была вода, и колыхалась от близости моря. Зима уже обживалась в полуночной стороне. Вечером люди на судах с песнями провожали солнце, встречая осень, зиму ли сразу после лета. В этих краях, похоже, осени не было. Всего-то за несколько дней пожелтели берега и выпал снег.
Вскоре коч и коломенка опять натолкнулись на льды. Попробовали идти разводьями, не теряя из виду берег. Вот уж защищенный прутьями нос коча застрял среди паковых льдов. К нему сбоку приткнулась коломенка. Вскоре сгонные ветры понесли суда вместе со льдами в море. А на Агафона-огуменника, когда лешие выходят из лесу, по всем приметам выходило, что повздорили они с водяным — и вновь засвистел ветер, заскрежетали льды. Из-за моря выползли тучи черные, легли на плещущие волны. Звери по лесам разбежались, птицы по небу разлетелись, рыбы по морю разметались — и поднялась буря великая.
И носила она коч по морю восемь суток. Сперва пропал из виду мыс, за которым был сворот в Тазовскую губу. Потом и берег исчез: со всех сторон плывущих обступили льды. Они не раздавили коч, но повредили его. В трюме обнаружилась течь. Коломенку же пришлось бросить.
А как завиднелась полоска матерой земли — два дня в ледовом плену люди на коче просекались к суше и пробились к ней, укрывшись в протоке за островами.
Обогревшись плавником, ватажные запаслись дровами, проконопатили и засмолили днище. Ко дню Семена-летопроводца, когда честные христиане на Руси пекут пироги, зазывают друг друга в гости, море очистилось от льдов, и пособный ветер надул парус. Коч пошел на полдень: обратно ли в устье Оби, к устью ли Таза-реки — никто этого не знал, но всем было ясно, что дальше к северу во льдах их ждет только гибель.
Шли они так, пока тусклое солнце не стало склоняться к западу. Вдали опять показались льды, у их кромки темнело черное пятно. К рассвету ветер пригнал судно к тем льдам, а пятно, к которому люди приглядывались в сумерках, оказалось кочем. Когда ватажные подошли ближе, то узнали на палубе встреченного судна воеводу Палицына и седобородого атамана Галкина с сыном.
Пайщики Бажен с Никифором, считавшие, что ватага гибнет по их винам, пали на колени и залились радостными слезами. Плутая во льдах, каясь, молясь, постничая, угождая всячески разбушевавшемуся водяному дедушке, они уже не чаяли спасения жизни. О товарах думать забыли. Встреча с березовскими служилыми, не раз ходившими в Мангазею, была для них чудом Господним.
Воевода с атаманом отправились следом за ватагой тремя неделями позже, но оказались удачливей. Переночевав на воде у кромки льдов, два коча объединились и просеклись на чистую прибрежную воду. Но только вышли они из льдов — стих попутный ветер. Промышленные и казаки взялись за весла, пошли вдоль низкого тундрового берега. Едва рассвело, они увидели впереди другой коч, одиноко плывущий навстречу. Атаман велел дать залп и стал махать плывущим шапкой. Коч и без того взял курс на встречные суда. Когда соединились все три судна борт к борту, атаман, придерживая саблю, переступил на встречный коч и беседовал с промышленными.
— Смута в Мангазее! — сказал вернувшись.
За ним перелез на воеводский коч мангазейский промышленный. Поверх серого сермяжного зипуна на нем был белый лузан — надетый через вырез для головы кусок сукна без рукавов, закрывавший плечи, грудь и спину. По низу лузан был оторочен кожей и через петли крепился опояской. На голове мангазейца был сермяжный малахай, подбитый мехом. На поясе висел короткий нож с лезвием в две ладони. Кожаные штаны были заправлены в ичиги.
Мангазеец поклонился воеводе, пристально разглядывая на нем мухояровую, полушерстяную, на ветхих куницах шубу, затем весело окинул взглядом собравшихся людей и крикнул:
— Мезенские есть?
— Устюжские, холмогорские, — скромно ответил Бажен, опасливо поглядывая на воеводу.
— Все одно — земляки! — радостно сказал мезенец и только тут молодецки обратился к Палицыну: — Атаман сказывал, ты — наш новый воевода на место Гришки Кокорева. Так слушай! Меня, — важно подбоченясь, мангазеец ударил себя в грудь, закрытую лузаном, — Табаньку Куяпина, Гришка склонял к измене государю. Обещал мне и промышленным прежнюю волю по старине и города по Сибири без воевод и приказчиков. А желает он, чтобы промышленные, казаки да посадские люди посадили бы его на Сибирское царство… Мотька Кириллов — его воровской называтель — пошел на коче к морю, сговариваться с немцами, да, сказывают, не смог просечься сквозь льды и вернулся.
Я, Табанька, сперва, грешным делом, подумал: Бог высоко, Москва далеко и не понять, кто там нынче сидит. Гришка так Гришка. После отцу Евстафию Арзамасу, нашему посадскому батюшке, на исповеди покаялся. И надоумил он меня, глупого: под папистов Гришка подвести всех хочет, чтоб нам, с петлей на шее, поганый их крест целовать…
И весь посад мангазейский приговорил, пока смута не разгорелась, послать нас, вестовых, в Обдорск, потому как если Гришка прельстит промышленных людей, посаду против них не устоять. Думай, воевода, — возвращаться ли за подмогой, сразу ли идти на изменника. Он тебя ждет не раньше, как весной… Я все сказал, — важно поклонился Табанька на казачий манер, не снимая сермяжного малахая. Ничего не ответил воевода. Слушая промышленного, хмурил одну бровь, другую заламывал коромыслом. А как закончил наказную речь Табанька — пригласил мезенца с атаманом под палубу для долгого разговора. Едва они скрылись с глаз, люди с трех счаленных кочей начали тайный торг под носом у самого воеводы и грозного ермаковского атамана.
Не скоро трое вышли на палубу. Оглядев собравшихся людей, воевода приказал идти всем им к устью Таза, в Мангазею. И пошли три коча на полдень неподалеку один от другого, лишь бы не заслонять ветра. И плыли беспрепятственно всю Семеновскую неделю месяца ревуна[39].
Но на Рождество Пресвятой Богородицы, уже в виду устья Таза, похолодало так, что проснувшиеся на рассвете люди сперва удивились неподвижности судов, а после робко спустились за борт и ступили на вершковый лед, покрывший всю видимую поверхность губы. Лед трещал, когда в одном месте собиралось до трех человек. Имея до четырех десятков людей, промышленные и казаки пробовали просечься и протолкнуть кочи к берегу. Но к полудню они продвинулись всего на полверсты и решили бросить бесполезное дело: так добраться до суши смогли бы только через неделю.
Следующей ночью лед стал крепче и толще. Купцы и складники решили не рисковать товаром, перенести его в просторное зимовье на устье Таза-реки. Атаман с воеводой тоже наказали своим людям доставить казну на берег, а если лед окрепнет, то выморозить кочи и тросами волочь их к суше.
Вереница людей с грузами растянулась на восемь верст. При кочах оставались старик-баюн да трое-четверо казаков или промышленных, то и дело рубивших лед возле бортов.
Радостные дни проходят быстро, несчастья переживаются не скоро. На память святой Федоры — замочи хвосты с берега задуло теплом и прелью. Ветер усиливался, тянуть груз против него становилось все трудней: люди скользили по гладкому льду, падали и катились обратно. Воевода с атаманом, казаками и мангазейскими промышленными перенесли на берег почти всю казну и, опасаясь за остатки, заставили ватажных помимо своего груза взять каждому из идущих по четверти пуда. У тех товар и съестной припас были уже вынесены на сушу, но на кочах оставалось самое ценное — скупленная в пути рухлядь.
Возле трех вмерзших судов оставались Ивашка Москвитин и Пантелей Пенда со своими товарищами. В жилухе под шубами отсыпался старик-баюн. В это время лед гулко треснул, а ветер задул с такой силой, что отправившийся было к берегу Федотка Попов с пудом пороха и с пятью сороками соболей в волокуше, высоко выбрасывая ноги, следом за грузом понесся в обратную сторону.
Пенда что-то кричал и размахивал руками. Слов его никто не слышал от гудевшего ветра. Он понял, что Федотку пронесет мимо и, зарубаясь в лед острием засапожного ножа, пополз навстречу. Вдвоем, на карачках, они приползли сами и вытащили на коч волокушу с грузом. Тут все заметили, что между берегом и судами появилась полынья. Она на глазах расширялась, а берег удалялся. Люди, оставшиеся на береговой стороне, испуганно озирались и карабкались против ветра, чтобы не остаться на оторванных льдинах.
Березовские казаки, мангазейские промышленные да поредевшая ватага встречали Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня на устье Таза-реки, в зимовье с подгнившим стоячим тыном[40]. Народ заполнил избу и амбар. Товар и казна были сложены кучами под открытым небом.
Торчавшие из берега черные венцовые бревна, старая часовенка без окон и дверей с завалившейся крышей, ряд черных крестов среди осевших и покрывшихся мхом могил жалостливо напоминали о том, что посреди этой унылой тундровой равнины когда-то жили русские люди.
На что только не простираются произволения Божьи за грехи наши! Со слезами на глазах кланялся купец Никифор печальному Бажену:
— Прости, Христа ради. Не прогневись!
— Христос с тобой, за что мне на тебя гневаться? — кланялся в ответ дородный холмогорец. И, обнявшись, оба заливались слезами.
Холмогорцы горевали о пропаже Федотки Попова, устюжане — об Ивашке Москвитине. Отец Ивашки, старый Гюргий Москвитин, смиренно молчал, никого не видя и не слыша, лицом же был сер. Побелевшие губы его то и дело шептали:
— О Боже, Боже Великий, Боже Истинный, Боже Благий, Бог Милосердный!
Дядя Ивашки, Лука, молясь беспрестанно, во всем утруждал свое тело и иссушал плоть, чистоту душевную и телесную без скверны соблюдал.
О донцах-покрученнниках тоже вспоминали в молитвах, ужасаясь, что в такой день всех их движет по морю чья-то непреклонная воля. Ивашку с Федоткой за грехи родичей, а покрученников-казаков да старца — не за чужие ли?
Возле жаркого очага в зимовье только и разговоров было о внезапном ветре да об отрыве льда. Мангазейские промышленные и березовские люди, которым мытарства ватаги казались вполне удачливым плаваньем, рассказывали такие истории о скитаниях, что у ватажных под шапками волосы становились дыбом.
В то самое время три счаленных коча, окруженные белым полем крепкого льда, уносились все дальше и дальше от суши. И уже не видно было с них ничего, кроме открытой черной воды и льда. Впятером просечься к воде и протащить к ней хотя бы один коч нечего было и думать. Терпящие бедствие собрались в выстывшей жилухе на ватажном судне, где на нарах спокойно посапывал старец. Пенда развел огонь, стало жарко. Взопревший старик, кряхтя, вылез из-под шуб и свесил ноги в чунях.
— Ну вот, дед, — поскрипывая зубами, ругнулся про себя казак. — Плывем на Воздвиженье к чертям на праздник, прости, Господи, — перекрестился резко и косо.
Старичок залупал подслеповатыми глазами, пытаясь понять, о чем речь.
Третьяк прокричал звонким голосом:
— Только мы, шестеро, остались на судах. Остальные на берегу. И несет нас невесть куда!
Старик покачал головой, прислушиваясь к свисту ветра. Ни страха, ни печали не отразилось на морщинистом лице. Он что-то пробормотал и сладко зевнул, собираясь снова лечь.
— Ты, дед, поискал бы что-нибудь в старой башке! — так же громко пророкотал Пенда. — Мы-то пожили да нагрешили, а юнцам рано помирать. Что делать?
Старик, задумавшись, снова сел, свесив ноги, тряхнул головой раз, другой, о чем-то соображая. Пантелей, глядя на огонь, щерился, как перед боем. Хмыкнул:
— Под кнут тащили, знал — надо принять казнь достойно… Заруцкий предал и напал с тыла — знал: надо собрать своих и пробиться. Товарищи на казнь волокли — знал: надо ругать их громче, пока язык не вырвали. Царь посаженный предал — Похабу спасать надо было… Что сейчас делать, — удивленно пожал плечами, — не знаю!
— Перво-наперво помыться, — внятно прошамкал старик. — После, загасив всякий огонь, добыть огонь живой, им запалить лампады и очаг. После помолиться, коли Воздвиженье. Нынче Бог милостив.
— Воды много! — весело вскрикнул Третьяк. — Зря, что ли, кочи выдалбливали?
Повеселели Угрюмка с Федоткой да Ивашка Москвитин, жавшиеся к чувалу, как озябшие воробьи. Третьяк в зипуне нараспашку подхватил пешню и полез на палубу, намереваясь очистить полынью у борта и умыться. Ветер ворвался в распахнутые створки, дымом и искрами пахнул из горящего чувала. Юнцы с шутками потянулись за Третьяком. Пенда, приняв совет старика, стал гасить головешки. Тлевшие и чадящие побросал на лед.
Казаки и промышленные умылись студеной водой. Принесли в ведре старику — тот, поплескав в бороду, протер мокрыми ладошками впалую грудь да под мышками, велел снести ведро на другой коч, на лед не выливать.
Пенда смастерил тетиву, подобрал сухие палочки и стал добывать трением чистый огонь. Старик забрался на нары с ногами, укутался шубой так, что торчал только покрасневший нос. Обычно он пел, заунывно растягивая слова, выводя песню горлом и носом, а прерывался, чтобы отдышаться и набрать в грудь воздуха. Теперь заговорил внятно, что-то припоминая.
— Спаси Господи на Воздвиженье ночевать в лесу в балагане или на тропе. Нынче лешие, что ваши атаманы, сгоняют зверье и устраивают смотры к зиме. А злющи на всех людей: случись встретиться — побьют, а то и прибьют до смерти. — Старичок помолчал, разглядывая, как трется дерево и струится дымок. Молодые старательно дули, подсовывая тонкие стружки. Прислушался старец к вою ветра за бортом, скинул шубейку с серебряной головы, пробормотал настороженно: — Или береговые лешие с водяными режутся в зернь и кто-то проигрался? Или водяные, обской с тазовским, меж собой дерутся? Маслом не унять — куда уж!..
— Нет ни масла, ни сухарей — все на берег выволокли! — тяжело дыша над тетивой, просипел Пенда.
— Оно, конечно, коли Господь Вседержитель цыкнет — вся нечисть присмиреет. Нагрешили — вот и попускает, на нас сердясь. Молиться надо. На Воздвиженье Он добр!
Наконец затлел и разгорелся живой огонь. Крестясь и кланяясь образам, Третьяк запалил лампадку, а Пантелей стал раздувать чувал. Живое пламя жадно охватило сухой плавник, попыхивало дымком от порывов ветра, жилуха наполнялась теплом. Терпящие бедствие встали на молитву. Кряхтя, поднялся старик, поправив кривыми пальцами серебряные пряди.
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, — начал Третьяк зычным голосом, ни у кого не прося благословения.
— Боже, милостив буди нам, грешным, — подпели скитальцы, не слыша воя ветра…
— Намолили. Кажись, стих! — прислушался Пенда. Высунулся из створок. Смеркалось. Тлела на западе заря вечерняя, темная и кровавая. Большой диск солнца уходил то ли за дальние невидимые горы, то ли за плотные облака, лежавшие на льдах. Пантелей замер, приглядываясь, как западает круглый бок светила, и подумал вдруг, что в прежние годы солнце ходило по небу не так быстро. Он спустился в жилуху, присел у огня: — Завтра, даст Бог, будет ясно!.. Дед, а рассказал бы ты про полночные страны. Много, поди, слышал чудного? И дар у тебя!
Согревшийся старичок повеселел, глядя на огонь.
— Дал Бог мне духа, — прихвастнул. — Вот уж подымается в груди и свербит — страсть как. Мне бы начальные слова вспомнить. После он подскажет. — И, чуть раскачиваясь, заговорил вдруг не заученной песней, а вспомнившейся стариной:
— В тот год как молодого царя Федора со старой царицей удавили, пробирался в Пинегу сибирский человек. Был он совсем старым и сказывал, что при погроме новгородцев опричниками ушли на кочах встреч солнца с семьями и родами вятичи, усольцы, мезенцы, белозерцы, холмогорцы, пинежане, новгородцы, чердынцы — много всех… И шли они полночной стороной год за годом, зимуя на островах. А после, похоронив до половины беглецов, пришли в безлюдную землю, обильную зверем, птицей и рыбой. Там зимовали безбедно. А к лету разделились: одни захотели остаться навсегда, другие поплыли далее встреч солнца, в Ирию благодатную и беловодную, где всегда тепло, где хлеб сам по себе растет, не переводится, и среди кисельных берегов текут молочные реки.
Сибирец, что это сказывал, был с теми, кто остался. Срубили они дома крепкие, стали Бога молить да детишек рожать — и живут поныне счастливо, по благочестивой старине, без царя и без бояр. А сибирца того к старости умучили, присушили накрепко тоска горючая да кручина горемычная по родной сторонушке. И пошел он к Пинеге поклониться родным местам, могилам дедовым, а даст Бог — самому в отечестве предстать пред Господом.
И сказывал тот сибирец, что там в самых трудных, неблагодатных местах есть чандалы — старый сибирский народ. Живут они только летом, а зимой спят. Тех чандалов мало осталось на свете. Было-де у них в давние годы много оленей, и стали они над ними издеваться — сдирали с живых шкуры и отпускали для потехи. Олени и отмстили — ушли стадами, не поймать. Чандалы без оленины повымерли.
А еще сказывал о сендушных людях. Те, что наши лешие, сильно в карты и зернь играть любят и бражку пьют, а креста боятся. Если в тех краях кто заблудится и пропадет без вести, знают люди — сендушный взял в работники и ни за что не отдаст выкупом. Сендушный — хороший охотник, часто промышленным зверя в ловушки загоняет. Сам здоровый, сильный и ездит на нарте. Если христианин след его увидит и перекрестит — у него нарта сломается и сендушный вернется. А человек по снегу кругом очертится, заговорит черту молитвой — и сендушный ни за что не переступит к нему. Спросит только: «Ты зачем мне нарту сломал?» А человек: «Зачем мою сестру забрал? Верни!» Или говорит: «Плати песцами!» «Отдам! Уплачу», — скажет сендушный. «Ну, черт с тобой, езжай тогда, твоя нарта исправна». И правда — сестра вернется или в ловушках много добычи. Только тот, кто с сендушным знается, помирает плохо.
Старичок зазевал, и Федотка стал его выспрашивать, чтобы не уснул:
— А что еще говорил сибирец?
— Сказывал, в том краю медведь — зверь страстный. Никогда женщину не тронет, если она скинет одежу и покажет ему титьки. Сендушный, хоть и человек, а от медведя родился. За что-то Бог наказал его — крадет девок, рыбу и мясо. А если сендушного застрелить — тело не найти: или в воду бросится, или свои уволокут. А кто его добудет — тот несчастным будет до смерти.
Ветер стих. Подледная волна громче и громче била, стучала, как в бубен, в днище судна. К утру кочи закачались среди колотых льдин. Осмотревшись, Пенда спустился в жилуху и весело сказал:
— Молить будем Николу о попутном ветре. Кабы старик с голоду не помер, а нам неделю попоститься постом истинным — только на пользу.
Воеводе нельзя подолгу печалиться о житейском: посочувствовал горюющим, покачал головой, перекрестился и занялся государевыми делами. С устья Таза-реки он отправил в Мангазею-город посыльных, которые должны были известить Григория Кокорева о его прибытии. Раньше чем через две недели те вернуться не могли.
Невесть от кого услышав о прибытии нового воеводы, в зимовье приехал на оленях остяцкий[41] князец в собольей шубе, которую преподнес воеводе в поминки и заявил, что многие роды недовольны Гришкой за его жадность: четыре раза в год устраивает именины и требует подарков.
Андрей Палицын зачитал князцу государев указ о том, что поминочные приношения надо записывать в отдельные книги как подарки царю, а не воеводам с приказчиками. Свои же именины он обещал не справлять вовсе и щедро одарил остяка ответными подарками.
Едва скрылись из виду олени гостивших остяков, погода стала портиться: дым ложился на землю, из чувала вырывались снопы искр. Прислушиваясь к ветру, путники тесно сидели вокруг пылающего очага, смотрели на огонь и вспоминали пропавшего баюна. На возвращение Пантелея с четырьмя юнцами еще надеялись, на возвращение старика — нет. А ветер все дул и дул, тренькая драньем крыш, завывая в трубе. Трещал лед в заливе.
На память священномученика Фоки, дающего помощь утопающим, дозорные растолкали купцов с радостной вестью: лед в губе разбило и частью выбросило на берег. Среди торосов, неподалеку от суши, ими были замечены три коча.
Все население зимовья тут же вывалило на берег. Ежась в кафтанах, зипунах и шубейках, люди разглядели среди колышущихся льдов два коча и третий, лежавший на боку. Путники радостно закричали, но с кочей им никто не отозвался. Казаки подсыпали пороху на полки пищалей, кто-то сбегал за головешкой. Дали холостой залп. Ветер унес дым и грохот вверх по Тазу, в противную сторону. Бажен Алексеев заохал, закрестился. Лука и Гюргий Москвитины запричитали в голос.
К полудню, едва стал стихать ветер, удальцы по шатким льдинам пробрались к кочам. Все они дали течь, были притоплены, но целы и только один проломлен льдами. Это был ватажном коч. На нем недоставало палубных досок, в трюме валялись стружки, а товара, мехов, пороха не было. На беду, люди с него явно ушли, забрав с собой все добро.
По случаю возвращения судов был отслужен молебен. Затем казаки, промышленные и купцы просекли льды и вывели кочи на чистую воду устья Таза. Разбитое и перевернутое судно выволокли на сушу в стороне от зимовья.
К полудню, в самый разгар работ, люди заметили вдали пятерых путников. Они медленно продвигались вдоль кромки льдов, иногда выходили на наледь заберега, сгибались и волокли за собой груз. Москвитинская и поповская родова, боясь преждевременно радоваться, побежала им навстречу.
Уже по тому, как вдали соединялись и разъединялись фигурки людей, как пришедшие на помощь потянули груз, Бажен с Никифором поняли, что это их люди. Глаза купцов заблестели, они обнялись и со слезами радости стали читать благодарственные молитвы. Когда пропавшие родственники с посланными на их поиски людьми подходили к зимовью, купцы бросились им навстречу.
В двух нартах, сделанных из палубных досок, были в целости доставлены ценный груз и живой старик-баюн, который на радостные приветствия отвечал вяло, чесался и все спрашивал, есть ли в зимовье баня. Ему же живому радовались больше других, чудом спасенных.
К вечеру ватажные, промышленные и казаки собрались у пылавшего чувала. А когда подкрепились сытной пищей и питьем, помолились и стали отдыхать у огня, вновь вспомнили о спасенном старце. И тот, с честью исполняя возложенное на него тягло, сел в теплом месте, укутался одеялом, закрыл глаза, засипел носом, загудел горлом и, помычав, запел о прежних временах на здешней земле.
И была его песнь-былина о том, как задолго до прихода в Сибирь Ермака Тимофеевича, еще при дедовьях Грозного царя, при великом князе Иване Васильевиче, московские воеводы ходили в эти самые места и встречали здесь русских людей. Те жили в мире и ласке с местными народами, промышляли пушного зверя, торговали, имели многие остроги и города по дальним землям, втайне от царя принимали на себя присягу от здешних жителей и брали воровской ясак.
После славной Ермаковой гибели Грозный царь послал в этот край своих воевод: князя Мирона Шаховского и Данилу Хрипунова с отрядом в сто казаков. В те годы казаки еще не знали, как ходить на реку Таз Обской губой и пошли сушей, взяв оленей у самоедов. Промышленные же люди о путях и землях, которые были им ведомы, в те годы помалкивали накрепко.
И дан был воеводам царский наказ: вызнать, сколько в этом краю зимует русских людей, пустозерских жителей, зырянских и других народов, каким товаром они торгуют, с кого царским именем собирают дань, какими дорогами ходят в Мангазею. И велел царь своим воеводам отбирать у них товары запрещенные к торгу: оружие, панцири, шлемы, копья, сабли, ножи, топоры, железо и вина, а с мягкой рухляди брать десятину на него, на государя. А еще приказал вызнавать, имеются ли где неведомые Сибирскому приказу русские зимовья и остроги, а на пути к ним построить город в таком месте, чтобы никак нельзя было обойти его стороной.
Промышленные люди поняли, что Москва пошла войной на давние их вольности. Воевать с Богоданной властью они не решились, но научили непокорности самоедов. Те встретили воевод в дне пути от Пура-реки, убили тридцать казаков и разграбили груз. Оставшиеся в живых бежали к селениям промышленных и торговых людей, просили у них защиты. И не смогли русские люди отказать единоверцам в убежище и помощи.
Отбившись от самоедов, воеводы Мирон Шаховский и Данила Хрипунов отправили десять казаков в Березов-город за подмогой, остальные нашли подходящее место на высоком мысу, где впадают в Таз речка Осетровка да речка Ратилиха, и между ними построили острожек, огороженный частоколом. А ходу до него от устья Таза-реки девять дней, а вниз по весеннему половодью — три.
Когда был поставлен острог, на помощь первым воеводам пришел царский отряд князя Василия Мосальского-Рубца и Савлука Пушкина. На том кончилась вольная жизнь торговых и промышленных людей. Служилые принудили их по царскому указу платить с мягкой рухляди десятую шкуру лучшими мехами, со съестных припасов также отдавать десятую часть. С инородцев пошлин сначала не брали, но привечали их всякой лаской: в острог придут — одевались в цветное платье, говорили жалованное государево слово, что прежде к ним приходили люди торговых городов и дань вымогали воровством. Царь же здешние народы бережет, чтобы они торговали в остроге вольно и при всяких обидах жаловались бы воеводам.
Недолго радовались новой власти здешние племена и роды, вскоре царь велел служилым и с них брать ясак отборными мехами, их лучших людей ловить в аманаты-заложники, держать их в остроге, кормить и поить вдоволь, расспрашивать о других городках и народах. А как стали сибирцы уклоняться от ясака и неволи, велел воевать их и наказывать, в тюрьму сажать до тех пор, пока не дадут ясак, запросятся заложники к женам и детям — вместо них брать родственников: братьев, детей, племянников, кому можно верить. И не стало прежней воли ни русским и зырянским, ни здешним народам. Оставили промышленные люди обжитые дедами места и пошли в дальнюю страну Енисею, где ни воевод, ни казаков не было.
Мангазея же расстраивалась, заселялась пришлым народом и служилыми людьми, которые добились от царя указа, по которому нельзя уже было, как встарь, ходить по вольной земле свободно, но каждая ватага должна была объявлять, куда она отправляется.
Вот что слышал старец о здешних местах по ту сторону Каменных гор, на Руси Великой.
Воевода с атаманом сочли недостойным для себя явиться в Мангазею на нартах. На память первомученицы Феклы-заревницы при противном ветре со снегом они вместе с промышленными людьми отправились вверх по Тазу-реке на коче. Мангазейцы спешили на промыслы, а Палицыну дожидаться почетной встречи и послов от прежнего воеводы показалось делом безнадежным.
В пути от Тобольска много было разговоров о златокипящей Мангазее. Но и вблизи от нее все еще расстилалось унылое однообразие болот с мелкими озерами, пышный мох с редкими низкорослыми лиственницами, с приземистым березовым кустарником. Правда, здесь, вдали от губы, забитой наносными льдами, было еще тепло. По ночам берега реки прихватывало наледью, к полудню же так припекало солнце, что оживала мошка.
Здесь, в не защищенной тыном избенке, воеводу встречали посыльные от мангазейских посадских и промышленных людей во главе все с тем же Табанькой Куяпиным. На этот раз на рукавах его зипуна были нашиты наружу мехом волчьи накочетники. Так в здешних местах одевались к зиме промышленные, чтобы снег не сыпался в рукавицы. Своим видом Табанька показывал, что невольно вовлечен в мангазейскую смуту и думает только о зимних промыслах.
Отдав Палицыну подобающие почести, мангазейские люди ввели его в зимовье. Табанька от их имени доложил, что как только посад узнал от него о том, что прибыл новый воевода, а прежний, Гришка Кокорев, получив известие, не собирается его встречать, все поднялись против Гришки.
Дверь зимовья была распахнута, посередине пылал непомерно большой очаг, обложенный черным прокопченным дерном. Дым выходил за крышу через отверстие, обмазанное толстым слоем обожженной глины. Вокруг очага шипели жиром развешанные куски оленины. Двое мангазейцев с раскрасневшимися лицами поворачивали мясо к огню то одним, то другим боком.
Воевода, оглядевшись, скинул шапку, перекрестился и откланялся на закопченные образа с тлевшей лампадкой. За его спиной набожно закрестились промышленные и казаки. Приварки, сунув под мышки длинные ножи, изобразили на своих разбойных рожах благостное смирение, а как закончилась молитва, еще быстрей забегали вокруг очага. От запаха печеного мяса прибывшие давились слюной.
Андрей Палицын сел в красный угол, под образа, гордо приосанился, готовясь выслушать все, с чем пришли посыльные от посада. Не нравился ему такой прием, но он ни взглядом, ни словом не выдал истинных чувств и подозрения, что посадские втягивают его в свои смуты. Однако от Кокорева послов все еще не было, а в здешнем краю, кроме как на них, опереться было не на кого.
Выслушав всех, воевода посоветовался с уважаемым в Мангазее атаманом Галкиным, со своими детьми боярскими и принял угощение за соборным столом. Притом он не оказывал встретившим его людям ни ласки, ни пренебрежения. Посадские быстро поняли, как вести себя с новым воеводой, и не стали досаждать ему просьбами и жалобами. На расспросы атамана о службах березовских казаков они отвечали неохотно и уклончиво: дескать, там, на месте, сам все увидишь.
Андрей Палицын со своими людьми переночевал в зимовье и еще один день простоял под видом сборов. Он все еще надеялся дождаться послов воеводы. Посадские люди и к этому отнеслись с пониманием. Другое дело — промышленные: они то и дело заводили разговор о том, что посадским ремесленникам что зима, что осень — все едино, а промышленного человека каждый нынешний день кормит: всякая мелочь для зимовки в тайге, которую он сейчас изготовил бы своими руками, потом теми же посадскими будет продана ему втридорога. И они, промышленные, не за свои кровные интересы радеют, а, по завету отцов и по своему произволению, — за правду. Что мир породил, то сам Бог рассудил!
Новый воевода со своими людьми прибыл к Мангазее-городу до Покрова. Послы от Григория Кокорева не встретили его и здесь.
Таз еще не встал, плыла шуга, клубился над водой густой пар. Разбив баграми лед у заберега, путники пристали к причалу под яром, напротив крытой двухъярусной стены города между двух глухих башен. Три купола Троицкой церкви возвышались над ней. С полуденной же стороны к искусно срубленной террасной стене притулилась посадская церквушка. За ней, напротив проездной Спасской башни, курились трубы многолюдного посада, ремесленных мастерских. От пристани к гостиному двору поднималась широкая резная лестница.
Здешние посадские люди, хвалясь достатком, жили в избах в два и в три этажа, со связью, на высоких подклетах, с резьбой и живописью, со слюдяными оконцами. Чистая улица посада была мощена лиственными плахами. Как ни наслышаны были новоприбывшие о богатстве Мангазеи, никто их них не ждал среди диких лесов и болот встретить рукотворную красоту, под стать Тобольску.
Дул пронизывающий ветер. К причалу стал сходиться посадский люд, зазвонил колокол на Успенской церкви. Но брусчатые въездные ворота Спасской башни не растворялись. Молчали колокола городского Троицкого собора, а на городских дозорных башнях не было видно ни души.
Встретив такой прием, воевода Андрей Палицын по-другому взглянул на подданных — промышленный и посадский народ, терпеливо ждавший от него правды и справедливости.
Увидев нового воеводу и знакомого березовского атамана, собравшиеся на берегу восторженно закричали, стали кидать в воздух шапки. Андрей Палицын обвел пытливым взглядом четыре десятка сопровождавших его людей, толпу встречавших и громко сказал:
— А ведь и вправду не ждут здесь государева воеводу, не радеют делу царскому! Придется нам, братья, самим напомнить о себе да постоять за дело государево.
— Постоим! — радостно закричали на причале.
Дети боярские подхватили воеводу под руки и свели на берег. За ним с почестями был встречен атаман-ермаковец. Атаманский сын Ивашка в полукафтане и при длинной сабле напоказ всем нес суму с царской казной и казачьим жалованьем. Трое березовских казаков выносили сукна и соль в мешках.
Новый воевода в мухояровой шубе, подбитой ветхими куницами, по-хозяйски поднялся по резной лестнице к гостиному двору и направился оттуда не к Спасской проездной башне с закрытыми воротами, а к посадской Успенской церкви, возле которой собирался народ.
Со всеми почестями встреченный здешними посадскими людьми, верными атаману березовскими казаками и посадским попом Евстафием Арзамасом — тощим постником с горящими глазами, воевода взошел на крыльцо церкви. Казну, сукна, соль, жалованную казакам за службы, унесли в амбар.
Андрей Палицын прилюдно отправил своих сынов боярских в город с поклоном от себя, с грамотами тобольского воеводы и Сибирского приказа. Грамоту царя с вислой печатью он показал всем собравшимся, объявив, что вручит ее прежнему воеводе сам.
В сопровождении возбужденных посадских людей послы подошли к брусчатым воротам и стали колотить в них каблуками сапог. Из бойницы верхнего боя под кровлей башни чуть не до пояса высунулся опухший от сна и пьянства приказчик. Хмуро спросил, что надо.
Стараясь сохранить важность, сыны боярские вынуждены были отступить от ворот следом за отхлынувшей толпой и задрать головы. Придерживая шапки, они помахали грамотами и велели провести к воеводе.
За их спинами посмеивались посадские, отпуская шуточки насчет спитой морды приказчика. При этом ухарски толкали один другого, будто раззадоривались да разогревались перед дракой и громко величали друг друга молодцами-удальцами.
Приказчик хмуро сказал, что доложит о прибывших. Такое небрежение к послам пуще прежнего возмутило сопровождавших посадских людей. Послы тоже были смущены, не зная, как соблюсти важность и достоинство пославшего их воеводы. Посоветовавшись, они решили подождать.
Едва приказчик скрылся, среди мангазейских ремесленников стали раздаваться возмущенные крики. Несколько брошенных камней ударили в стену башни, с которой выглянул было березовский казак. Его стали громко ругать изменником.
Ворот города так и не открыли — ни внутренних, ни внешних. Из бойницы снова высунулся приказчик и, не снимая шапки, сказал, что князь, правитель Мангазеи и Енисеи, сегодня никого не ждет и никого не жалует. В другой раз вдруг и смилуется!
Тобольские сыны боярские затоптались на месте с красными, оскорбленными лицами. Разъяренная толпа стала колотить во внешние ворота пятками, выкрикивать угрозы. Из бойницы высунулось длинное дуло крепостной пищали, раздался холостой выстрел. Толпа отхлынула, грозя стрелявшим, и побежала в посад. Сыны боярские едва поспевали за ней, но перейти на рысцу не смели, чтобы не уронить достоинства пославшего их воеводы.
Толпа вернулась к церкви, где на крыльце, застеленном медвежьими шкурами, восседал Андрей Палицын. Пройдя сквозь расступившийся люд, послы с поклоном доложили, что Гришка Кокорев заперся и не желает никого впускать.
— Который день пирует с приближенными! — выкрикнул кто-то из толпы.
К воеводе склонился атаман-ермаковец и сказал вполголоса:
— Казаки доносят: мезенец Мотька заявлял, будто их, пирующих, жалует царь Григорий Иванович.
У воеводы и у его детей боярских от такого сообщения поднялись брови под опушки шапок. Уже этого хватало, чтобы объявить «государево слово и дело». Но атаман подтолкнул вперед своего казака, служившего в Мангазее, и тот, дородный увалень, переминаясь с ноги на ногу, стал смущенно рассказывать, что при нем, нарочито, пьяный сын боярский Никита Мотовилов целовал руку мангазейскому воеводе, приветствуя его вступление «на Сибирский царский престол».
— Не убоимся, братья, врагов Божьих, но станем с оружием твердо против них! — сиплым, срывающимся голосом возопил разъяренный поп Евстафий. И, сверкая глазами, как дедовский меч-кладенец, поднял над головой восьмиконечный крест.
От его слов даже нератные люди стали храбры, не ведавшие обычаев воинских, исполнились силой и решимостью. Толпа яростно закричала, требуя правды.
Андрей Палицын принял благословение от священника, снова показал собравшимся царскую грамоту с печатью и объявил прежнего воеводу Григория Кокорева изменником.
Поп Евстафий, водя по сторонам задиристыми глазами, благословил собравшихся на правое дело и крикнул срывающимся от волнения голосом:
— Избави нас, Боже, от врагов наших, и от восстающих на нас освободи, и сокрой от сонма нечестивых и от множества творящих беззаконие! Да будет путь их темен и скользок.
Посадские восторженно завопили. Некоторые были уже с бердышами и пищалями. Кто-то вскрикнул, призывая к расправе над Гришкой-кровососом.
Воевода поднял руку, ожидая тишины.
— Велика честь вору принять погибель из ваших рук! Пусть государю ответит за свои дела. Московские заплечные мастера убавят спеси. Живым он мне нужен… Вот вам, детушки, воин-ермаковец многоопытный в штурме крепостей, его слушайте, — указал на атамана Галкина, опоясанного саблей, в поблескивавшей наборной кольчуге под полукафтаном. — Люб ли вам атаман? — спросил громко.
Потрясая бердышами, саблями и пищалями, посадские люди радостно закричали, что люб им товарищ атамана Ермака Тимофеевича.
Тот поклонился на три стороны.
— Кто хочет пострадать за Божьи церкви, за веру православную — пусть пойдет со мной! — выкрикнул и сошел с крыльца. Его с шумом окружили посадские.
Пантелей Пенда, широко расставив ноги, придерживая саблю левой рукой, стоял среди холмогорцев и устюжан. Своим видом и осанкой он выделялся среди ватажных. Красный казачий колпак был заломлен набок, затертый, со многими заплатами, когда-то голубой жупан перепоясан накрепко. Глаза казака горели, ноздри раздувались. По правую руку от него, как юнец, стоял Третьяк, тоже опоясанный саблей. Он глядел на толпу спокойно и пристально. В отличие от посадских, донцы не выдавали нетерпения и ждали, как ими распорядится атаман.
— Перед Богом, царем и тобольским воеводой за все наши дела я, грешный, буду ответ держать. На том перед всем народом Честной Крест целую! — степенно и важно поклонился всем собравшимся воевода.
Отец Евстафий, отслужив молебен, обнес собравшихся Животворящим Крестом Господним для крестного целования в верности новому воеводе. Тот же клялся в верности мангазейским промышленным, посадским людям, государю своему и вере православной.
Дозорные с городских стен видели, как посад, суетившийся разворошенным ульем, вдруг успокоился. Разбившись на десятки, люди стали готовить лестницы и тараны. Холмогорцы с устюжанами остались при посадской богато разукрашенной резьбой избе, в которой остановился сам воевода.
Горожане первыми не выдержали тягостного ожидания. Со стен громыхнуло несколько пушечных выстрелов. Одно из чугунных ядер снесло крышу соседней избы. Посадских и самого хозяина порушенного жилья это ничуть не опечалило. Они выволокли из подклета медную пушку, набили зелейник порохом, но ответных выстрелов не делали: атаман не велел. Работы по подготовке к штурму шли с прежним упорством.
Среди казаков и посадских людей носился тощий поп в развевавшейся суконной рясе с горящими, как уголья, глазами. Он благословлял направо и налево, ободрял сиплым, срывавшимся голосом:
— Чудно, воистину, видеть милость Божью к нашему воинству. Заступничество и помощь против врагов по молитвам великих чудотворцев!
На другой день осады из крепости сбежали два березовских казака. Каясь перед народом и атаманом, они сообщили, что в городе много припасов и воевода с приближенными гуляет, надеясь на крепкие стены и на то, что промышленные со дня на день разойдутся по промыслам. А без них с осажденными не справиться. Посадские же, как известно, никогда никем подолгу довольны не бывают: вскоре невзлюбят и нового воеводу.
Из слов перебежчиков Андрей Палицын с атаманом Алексеем Галкиным поняли, что городовой люд, издавна не ладивший с посадским, не вполне понимает, во что втянут Гришкой Кокоревым и его приближенными: о заговоре и об измене государю догадываются немногие.
Посад нетерпеливо ждал начала штурма, то и дело задирал горожан. Среди зачинщиков всюду мелькала поповская черная шапка.
— Сотвори, Господи, преславное чудо, исполинской силой перепояшь люди Твоя! — слышался неугомонный голос попа.
Андрей Палицын велел готовить подметные письма, чтобы вразумить осажденных. Но под утро город и посад разбудили громоподобные вопли. Едва рассвело, любопытные увидели знакомую фигуру дородного иерея Троицкого собора на шатровой маковке правого придела городской церкви, куда пьяный поп невесть как влез среди ночи.
До рассвета он орал «слово и дело» на Гришку Кокорева. Затем, протрезвев и обхватив руками крест, выл, со страхом глядя вниз и не зная, как спуститься.
— Троицкого попа спасать надо! — раздался клич среди посадских. Атаман с сыном были разбужены ворвавшейся толпой. Казаки повскакивали с лавок и по лицам людей поняли, что штурм крепости уже не остановить.
Пенда по наказу атамана побежал к посадской церкви. За ним нехотя последовали хмурые ватажные холмогорцы и устюжане, вооруженные нарочитыми пищалями и тесаками.
Дул свежий ветер с полудня, просекаясь белой крупкой. Мела поземка. В избах топили печи, дымки тянуло на городскую стену, за которой на куполе церкви стучал зубами от стылого ветра, вопил и бранился вытрезвившийся поп. Он то сипло ругал Гришку с дружками, то взывал к небу о правде и справедливости.
Седобородый атаман, в кольчужке на войлочной рубахе, в заломленной на ухо красной шапке, велел Пенде с промышленными укрыться за избами посада, запалить фитили и по его знаку стрелять по стенам. Посадские приготовили лестницы, таран и нетерпеливо ждали сигнала к наступлению.
Наконец Ивашка Галкин, выглядывая из-за дома, свистнул, махнул саблей и первым побежал к воротам. За ним с лестницами, с тяжелым бревном на пеньковых веревках с ревом и посвистом понеслись посадские и промышленные.
На стенах загрохотали пушки и пищали. Но правду говорил посадский поп: победа в бою и поражение совершаются по Божьему промыслу — ядра и пули пролетали мимо, не задевая никого. Пальба не нанесла урона осаждающим, но в щепки разнесла два посадских дома. Пенда с Третьяком открыли частую стрельбу по стенам, не давая осажденным отталкивать приставленные лестницы.
Посадские уже били тараном по крепким воротам проездной башни. На кровлю двухъярусной стены вскарабкались атаманский сын и березовские казаки, стали разбирать дранье крыши. Бывшие там защитники города нехотя отмахивались бердышами, виновато отругивались и оправдывались, не желая кровопролития. Вскоре они побросали оружие и сдались, огрызаясь на пинки и тычки.
Еще не разбиты были внешние ворота, а в стрельбе уж не стало надобности. Пенда выскочил из укрытия, призывая промышленных на штурм. Мельком взглянул на знакомые лица и понял, что никто, кроме Третьяка, за ним не побежит. Его это ничуть не смутило: привычно увлеченный боем, он кинулся к воротам на пару с товарищем.
Посадские, чуть передохнув, с новыми силами принялись бить тараном, хотя в проезде, распахнув изнутри внутренние ворота, уже кричали свои, чтобы дали им выдернуть закладной брус.
Пенда с Третьяком подбежали в тот самый миг, когда брус был сброшен. Посадские, давя друг друга, наваливались. Ворота не отворялись только потому, что были разбиты.
— Расступись! — громовым голосом гаркнул Пенда, расталкивая толпу локтями. Разгоряченные штурмом люди послушно посторонились.
— Вы, трое! — указал. — Тяни створ на себя. А вы снизу подоприте.
Створчатые ворота подались. Щель между ними расширилась настолько, что по одному можно было втиснуться в проездной свод башни. Несколько человек ринулись было в этот проем, но Пантелей опять закричал:
— Расступись!
Ему снова подчинились. Он велел растворить ворота шире и среди первых ворвался в город. За его спиной кто-то беззлобно поругивался:
— Луженая глотка! Влез-таки!
Краем глаза Пенда увидел бегущего за ними посадского попа с литым крестом, услышал его победный крик:
— Гонимые гневом Божьим, побежали!
На выходе из подбашенного проезда в одной исподней рубахе и в шапке пьяный мангазейский сын боярский размахивал оглоблей, рычал и срамословил. Посадские отпрянули, прижимаясь к рубленым стенам. Третьяк с саблей в руке оказался впереди всех. Он насмешливо увернулся от тяжелого и неверного удара, очутился лицом к лицу с сыном боярским, ударил его лбом в подбородок. Перекинул саблю из правой руки в кольчужной рукавице, в левую, коротким ударом ткнул пьяного под ребра. Тот, выпучив глаза, засипел и согнулся в земном поклоне.
— Не гневи Господа! — пнул его в зад пробегавший поп.
Проносившиеся мимо посадские непременно награждали хмельного сына боярского, доставлявшего им в прошлом много вреда, пинками и тычками.
Возле воеводских покоев Пенда столкнулся с атаманом и его сыном. Их люди вязали пьяную охрану, не оказывавшую сопротивления. Дом был заперт. Посадские выворотили бревно из навесных летних сеней и легко выбили створчатую дверь. Атаман, его сын и Пантелей ворвались в воеводские покои, чтобы вязать изменника. Пройдя светлицей, они распахнули дверь. Пенда опять протиснулся вперед, но учуяв носом запах тлеющего фитиля, отпрянул к стене.
Что изволил Бог, тому не миновать. Седобородый атаман рванулся напрямик. Из-за печи раздался выстрел, и старый ермаковец, споткнувшись, осел на руки подхвативших его людей. Ивашка Галкин с воплем кинулся на стрелявшего, сбил его с ног, рассек щеку и с подоспевшими березовскими казаками стал вязать руки бывшему воеводе.
Горожане и посадские, еще ругаясь между собой, уже вместе толпились возле церкви и думали, как снять с шатрового купола притихшего и посиневшего на ветру попа. Мангазейцы говорили, что он, который день пьянствуя с прежним воеводой, нынешней ночью взбунтовался, объявив «государево слово и дело». Ясырь прежнего воеводы, с синяком под глазом и без сабли в болтавшихся ножнах, медленно подбирая русские слова, рассказывал, что хозяин предложил троицкому попу венчать его на Сибирское царство. Тот, понимая, что запутался в воеводских интригах, решил вознестись с церковного креста, но русский Бог не принял его во хмелю.
Удивляясь, как эдакий высоченный и дородный детина смог влезть на купол, березовский казак, строивший этот придел, поднялся на него, разобрал изнутри часть кровли и с подручными едва отодрал от креста полуоколевшего попа.
До позднего вечера посадские и промышленные люди гуляли в городе, задирая прятавшихся горожан. Разграбить казну Палицын не позволил, поставив везде свой караул, но часть казенного вина из воеводских погребов выдал. Сам же с детьми боярскими долго ходил по городу и размышлял, какой потребуется ремонт. Потом он сел в воеводской избе со сломанными дверьми, со стонущим за изразцовой печкой раненым атаманом и велел привести к себе Гришку Кокорева с его приближенными для передачи дел города.
Уже на другой день, к неудовольствию и обидам разгулявшихся промышленных и посадских людей, воевода приказал чинить городские ворота и выбитые двери, наказал всем миром поставить разбитые стрельбой посадские дворы. Одарив отличившихся промышленных, он отпустил их на промыслы, обещая собирать государеву десятину по справедливости, судить их споры самому, не перекладывая на тиунов-приказчиков.
Отогретый и отпаренный в бане поп служил в Троицкой церкви литургию и молебен. Он был на голову выше самых высоких из прихожан, а в просторных ризах казался чуть не вдвое шире плечами.
— Господи! Дай же князю нашему силу Самсонову, хитрость Александра, разум Иосифа, мудрость Соломона, хитрость Давида и умножь, Господи, всех людей под властью его, — величал нового воеводу Андрея Палицына. — Богу нашему Слава и ныне и присно и во веки веков. Аминь! — пел зычным раскатистым голосом.
Благостно слушали его посадские и горожане. Восхищались чудным, густым басом, восторженно кивали. Уж одного только пения им достало, чтобы простить троицкому попу все его грехи и попойки с изменником.
Обидчиво подергивал плечами в ризах и печально мигал возмущенными глазами отец Евстафий, Он прислуживал троицкому попу в городском храме и удивлялся людской неблагодарности. По лицу постника видны были его печальные мысли о том, что Господь наш Иисус Христос и не такое претерпевал от неблагодарных единокровников.
На Покров и у воробья пиво. В эти времена еще все были сыты: и город, живший привозным хлебом, и посад со всеми не ушедшими на промыслы гулящими людьми. Никифор с Баженом начали торг на гостином дворе, принудив нового воеводу не брать десятины со съестного припаса за их заслуги в усмирении мангазейской смуты и из-за порчи многих товаров в море. С купли же и продаж они обещали платить по указу. Но подступала уже тревога о предстоящей зиме.
Купцы-пайщики и складники торопливо вызнавали у здешних промышленных, где какие ватаги ведут соболий промысел и когда отправляются на него. Беспокоились они не напрасно: бывалые люди уже ушли на стругах вверх по рекам, строили зимовья, делали нарты и лыжи, готовили мясной и рыбный припасы к холодам. Судя по рассказам бывальцев, в здешних местах собирались на промыслы не так, как в Устюге и на Печоре, и одевались иначе.
На каждого промышленного здесь надобно было никак не меньше двадцати пудов ржаного запаса в год, а прожиточные люди брали по тридцать, да соли по пуду, да круп по четверти. В шубах по тайге ходить тяжко — в зиму ходили промышлять в кафтанах и в зипунах, поверх которых надевали через голову суконные наплечники-лузаны, сшитые без рукавов с воротом по-рубашечьи. Лузан закрывал спину до пояса, а через отороченный кожей передок продевался ремень, протягивавшийся под брюхо. А нужен лузан в здешнем краю, чтобы снег за ворот не сыпался. Кроме того, надобно было иметь с собой налокотники — овчинные нарукавники под кафтан, начетники — опушки на рукава, да сермяжные малахаи вместо шапок, да уледи — промышленную обутку с крючьями на носках, с подошвой из кожи, да две пары ичиг или сапог. А еще каждому промышленному нужна была в пути бурня — двудонный берестяной бочонок. В него клалась гуща для выпечки хлеба. Да квашня с собой бралась. Сверх того — топор, огненное ружье, лук со стрелами и одеяло…
Как ни вызнавали ватажные у здешних людей, как ни задабривали их угощениями и посулами, выходило, что нет им доступных промысловых мест нигде, кроме верховьев Таза. Туда никто из бывалых промышленных не рвался, поскольку места давно обеднели соболем. Народец там, при озерах, жил спокойный. Но время от времени и он бунтовал, подстрекаемый мятежными пелымскими князцами.
Ватажные стали спешно готовить одежду и нарты, которые здесь делали до двух саженей длиной. Посадские ремесленники, видя нужду, бойко торговали снаряжением, заламывая цены за всякую нужную на промыслах мелочь.
На соборных советах о будущих промыслах москвитинские и поповские родственники снова переругались. Одни побаивались идти в пределы пегих людей, другие разумно понимали, что в места дальние и кормовые уже не поспеть. Самые вздорные предлагали объявить себя гулящими, с тем чтобы купцы-пайщики выплатили за них подать, и зимовать в посаде на подсобных работах за прокорм. Большинство же рвались на промыслы, какими их Бог даст: не для богатства — так для опыта.
Холмогорцы и устюжане никак не могли выбрать среди себя передовщика, которому бы те и другие одинаково доверяли. Рьяные спорщики устали доказывать свое, уже только перепирались да поругивались, а соборного решения все не было. По всему выходило, что лучше Пантелея по прозванию Пенда передовщика им не сыскать.
Покрученник — голь перекатная из донских казаков. Воевода приближал к себе его и Третьяка, звал в сибирский казачий чин. Но те от службы уклонялись. Не стесняясь их присутствия, купцы и промышленные стали припоминать все хорошие и плохие дела донцов в пути от Перми. Вспомнили и брошенного в ночи старого ермаковца, и то, как донцы в Тобольске чуть не сбежали с проходимцем Васькой Бугром, прельстившись его посулами.
Угрюмка с Пендой ерзали на лавке от смущения, Третьяк водил немигающими глазами с одного говорившего на другого и только круче подбоченивался — дескать, знать не знал о себе такого вздора.
Когда промышленные и купцы спросили, желает ли сам Пенда быть передовщиком за полный пай, он, поднявшись, сказал сухо:
— Передовщиком в эту зиму не пойду — прежде на промыслах не был. Слышал, что Табанька Куяпин рассорился со своей ватажкой и просил воеводу поверстать его в конные казаки. Коли он согласится пойти к нам — вдруг и будет польза: сказывал про себя, будто язык пегих людей знает и со здешними князцами в дружбе.
Как-то вдруг и сразу всем стало ясно, что передовщиком Пантелей быть не может, как не может им быть и никто другой из ватажных. О чем спорили полдня? Собравшиеся заговорили о Табаньке — говорит, что по рождению мезенский человек, но не научен ни слова молвить благопристойно, ни поклониться достойно — обычный срамослов, и только. Но даже те, кому Табанька был противен, вынуждены были признать, что лучше передовщика им уже не сыскать.
Поговорив, ватажные решили отправить к нему Бажена Попова и Никифора Москвитина и дали им такой наказ: пусть вызнают, к чему Табанька склонен, сможет ли быть передовщиком и какой пай желает получать. Да советовали торговаться с ним о вознаграждении, а после уже звать править ватагой — по правде и по закону устюжан и холмогорцев.
На другой день Табанька явился на сход вместе с купцами. По его лицу с задранным носом видно было, что он и без крестоцелования считает себя передовщиком. Как потом рассказали купцы, мезенец заламывал по себе цену непомерную. Никифор с Баженом рядились за свой интерес, зная, что все ватаги разошлись по промысловым местам, а у Табаньки своего припаса в зиму нет. Они не хотели давать ему больше ужины[42]. Жалуясь на убытки и бедность, хитроумно предлагали неслыханно малую и оскорбительную для передовщика плату простого покрученника — треть добытого. И вдруг Табанька согласился идти на их промыслы полуженником, за полпая, чем нимало озадачил купцов.
Тут же выпросив задаток на сапоги, он побывал в гостиной бане с сусленками[43], на кружечном дворе и явился в старых, но подлатанных ичигах. Веселый после бани, кваса и сусла[44], сразу стал похваляться, будто бывал в Енисее-стране, где соболишек палками бьют возле зимовий.
— Спасу от них нет! — говорил, важно оглядывая промышленных. Те рассматривали его, как коня на торгу, — только что не щупали. — Собакам в корыто мясо вывалишь, а они то варево выхватывают и жрут. Тут их и давишь чем попадя… Здесь другое дело — за каждым юрким[45] бегать надо. То обметом, то кулемой… Ничо, даст Бог, свое возьмем: долговое отработаем, на гульбу да на припас для нового промысла добудем. Те, что с Руси приедут, — сперва не много хотят, бывает, довольны и тем, что за посадом добывают.
Как ни хмурились ватажные, сердито поглядывая на Табаньку, как ни прикидывали, смогут ли ладить с этаким говоруном, — вынуждены были смириться. Уже оделась зимником река Таз, бывалые люди давно были на промыслах. На другой неделе, по окрепшему льду надо было спешно выходить из города. Иначе, проев зимой хлебный запас, пришлось бы по весне выбираться на Русь Христа ради. Таких людишек, обиженных судьбой и Сибирью, устюжане и холмогорцы встречали на своем пути, и никому не хотелось их доли.
По старому обычаю промышленные задавали передовщику-Табаньке каверзные вопросы, стараясь тем самым смутить говоруна. Но он, ничуть не совестясь, отвечал что в голову приходило. Спросил его и Угрюмка о чем думал:
— Отчего здешняя Орда Пегой зовется?
— А людишки в ней такие! — как о не стоящем разговора ответил Табанька и добавил: — У часельского князца куначил позапрошлый год — так у него на брюхе два пятна, будто котлы ставил, а у бабы на титьке — будто кедровая шишка. Оттого пегими прозывают.
Сеньке Шелковникову невтерпеж было спросить про лесных людей, у которых рот на спине.
— Сам не видел, — признался Табанька. — Самоеды в Енисее, те все эдак вот, боком ходят, — Табанька повел неширокими плечами под лузаном, — и все что-то жуют. Но рот, сказывают, на морде. У стариков, бывает, без зубов…
На другой день в Успенской церкви, где хранилась купеческая казна, после литургии и причастия посадский поп Евстафий Арзамас принял крестоцелование Табаньки купцам-пайщикам, остававшимся зимовать в Мангазее, и промышленным, уходившим на промыслы. Промышленные же целовали крест купцам и передовщику.
Упредив всех от раздоров, священник окропил их святой водой и благословил на удачу. Промышленные же и купцы-пайщики обещали двух первых добытых соболишек дать Успенской церкви, а после Михайлова дня добытого — строящейся в посаде церкви Святого Макария, а после Рождества — городской Троицкой.
* * *
Вот и приморозило, да так, что на ветру в зипунишке или кафтанишке даже привычным к стуже казакам стало не по себе. «Ничо! В холод всякий молод!.. Что мужику деется — бежит да греется».
— Это не Устюг Великий и не Холмогоры! — шутили ватажные, считавшие прежде, что зима в здешних местах приходит, как и у них на отчине.
Доброе начало — половина успеха. Обоз двигался на полдень по окрепшему льду реки. Впереди налегке шагал Табанька Куяпин в зипунишке, крытом лузаном, и в сермяжном малахае. Лыпой — посохом в полсажени с насаженным на конец коровьим рогом — прощупывал лед, отходя то к одному берегу, то к другому. По его следу промышленные тянули шесть больших двухсаженных нарт, сделанных по сибирскому обычаю узкими — в семь вершков.
Промышленная ватага разделилась на пять чуниц[46] во главе с выборными чуничными атаманами. Самая малая чуница у донцов: Угрюмка с Третьяком да их передовщик Пантелей Пенда. Нарты у них были самыми легкими, и те они не всегда могли сдвинуть с места без сторонней помощи. Если бы не уледи — подошвы с шипами, да лыпы, и вовсе не сорвать бы их с места после стоянки.
Скрылись за спиной башни города и кресты церквей. От разгоряченных людей шел пар. Пантелей Пенда скинул суконную шапку, распахнул жупан под лузаном. По совету бывальцев кожаную рубаху с бахтерцами он оставил на хранение в чулане Успенской церкви вместе с шапками промышленных людей. Все оделись в одинаковые малахаи — и перестали отличаться по виду холмогорцы от устюжан.
Табанька шагал впереди с таким видом, будто в руке его была не лыпа, а держава. Вот он поднял посох — и стих скрип нарт, умолкли сипение, кашель, хрипение. Обоз остановился. Опираясь на посохи, бывалые промышленные перешибленно согнулись в поясницах, давая быстрый отдых натруженным жилам. Хотелось пить. Угрюмка пошел к берегу, высматривая полынью. Кто-то долбил лыпой лед. Табанька велел подойти к нему чуничным атаманам и строго объявил:
— В пути воды не пить: от нее сила уходит и кишки горят! А можно выпить по чарке квасу!
Люди Луки Москвитина ослабили ремни-поворы, которыми был стянут груз на нарте. Спереди на ней крепился котел с квасом и с черпаком. Лука стал наливать подходившим каждому в его кружку по чарке — на три-четыре глотка — только язык смочить. Больше ватажный передовщик пить не велел, и с ним пока не спорили. Лука напился последним, крякнул от удовольствия, вытер рукавом обледеневшую бороду. Затягивая передок нарты, надсадно пошутил, что она стала легче.
Ничто уже вокруг не говорило о близости города, лишь редкие затесы на низкорослых лиственницах напоминали о том, что здесь бывали люди. А росли они редко в перелесках между голыми болотами, за несколько верст одна от другой.
Через неделю провонявшие дымом и потом промышленные люди все еще тянули бечевы своих нарт. Как всегда, все ждали вечера, отдыха, костра и ужина. Вот уже в полдник они съели последний хлеб и думали остановиться на ночлег пораньше, чтобы выпечь свежий.
Смеркалось, а Табанька все шел и шел, время от времени останавливаясь и с умным видом выглядывая какие-то ему одному известные метки, затем снова шел, то ли что-то искал, то ли не мог выбрать место для ночлега. Промышленные устало поругивали его и с нетерпением ждали, когда он воткнет в мерзлую землю лыпу, выстывшими губами под смерзшейся бородой станет шепеляво читать молитву.
Уж завечерело. Путники с тоской и злостью думали, что теперь им придется до полуночи жечь костры и греть землю. Хорошо, сухостой был рядом. Но передовщик не остановился и возле сухостойного леска отыскал заметенное устье речки и торопливо зашагал по ней, подавая знак следовать дальше.
Ропот чуничных перешел в ругань, но Табанька без остановок и раздумий, налегке, убежал далеко вперед. Промышленные готовы уже были кричать вслед. Здешние места казались им хуже и неудобней для ночлега, чем недавно пройденные.
Но вот Табанька остановился, что-то разглядывая по левому берегу ручья, за излучиной, скрытой унылым березовым колком. Вдруг он стал креститься и кланяться на полдень, вызывая недоумение у идущих по следу. Когда промышленные подтянулись ближе, то увидели в полутьме зимовье, огороженное полуторасаженным тыном.
Ворота были распахнуты. По углам тына стояли изба и баня, срубленные наспех из неошкуренного леса. Между ними — просевший навес, крытый берестой. Над воротами чернел крест. В огороженном дворе в пояс торчала сухая трава, присыпанная снегом, показывая, что здесь давно не жили люди.
Бросив постромки нарт, путники стали истово креститься на почерневший крест. Каким бы заброшенным и ветхим ни было зимовье, ночлег в нем представлялся радостней, чем под небом.
— Слава Тебе, Господи! Глазам не верю, — бормотал Табанька, искренне удивляясь и поглядывая вокруг. — Целехонькое. Два года пустовало. Утуева рода князец бывал здесь, а не спалил… Друг! Кунак! Вдруг жив — встретимся, даст Бог!
Уставшие люди запели благодарственные молитвы. Табанька подпевал, на ходу раздвигая лыпой сухую траву. По-хозяйски прошел к избе, заглянул в распахнутую дверь, перекрестился, махнул, приглашая за собой. Пока не стемнело и не выстыла сырая одежда, промышленные стали таскать в зимовье дрова.
Изба с чувалом изрядно отсырела и прогнила. Но едва развели огонь и заткнули лавтаком окно, в ней появился желанный дух жилухи. К радости путников, передовщик объявил, что сюда их и вел, да не знал, цело ли зимовье. Дал Бог облегчение: подлатать, проконопатить, запастись мясом, рыбой — и можно начинать промыслы.
— Смотрите друг за другом крепко, не нагрешил бы кто, не лишил бы нас помощи святых угодников, не спугнул бы удачи, — наставлял Табанька, греясь у очага. И его почтительно слушали.
Изба быстро наполнялась теплом.
— Ни одного образка не оставили, — проворчал отогревшийся Лука Москвитин, укоряя последних насельников зимовья в том, что те забрали с собой все иконы. — Наверное, и домового увели?
— Спаси Бог, если бросили! — испуганно замахал руками передовщик. — Если дедушку не позвать в новую избу — он в старой проказить будет!
— А бывает, с лешими спутается и уйдет! — просипел Гюргий Москвитин, снимая сосульки с усов. — Давненько, видать, здесь никто не жил.
— Домовой лешему — враг лютый! — поправил брата Лука. — Хотя с полевыми иногда знается! А те и с домовыми, и с лешими бывают в дружбе.
— Нет здесь ни полей, ни лесов — болота и те мерзлые! — устало всхлипнул кто-то из промышленных.
— Потому и лешие в тайболе особые, — стал наставлять Табанька. — Тайгунами зовутся. А непролазная, заколдобленная чащоба — тайгой… Ночью все узнаем! — оттаяв ремни, стал скидывать лузан. — Коли здесь домовой, то он, истосковавшись по людям, ночью станет шалить: теплой и мохнатой рукой погладит по лицу — к добру, голой и холодной — к худу. А кого душить будет — спрашивай: к добру али к худу? И примечай — легко станет или тяжко.
Промышленные молчали. Про повадки домовых знали даже юнцы. Лука, выдирая из седеющей бороды последние сосульки, громко пожаловался:
— Жаль, баюна в посаде бросили. Он бы все сказал.
Старца, чудом довезенного до Мангазеи, купцы оставили при себе. Слишком уж явным показался Никифору с Баженом грех, если бы они отправили его с ватажными на холодные ночлеги в снегу.
По всем приметам, домового в зимовье не было. Поднявшись за полночь, Лука Москвитин достал из пожиток маленький резной сундучок, в который им был зазван домовой из брошенного отчего дома в Устюге. С иконой в одной руке, с присоленным ломтем хлеба в другой старый сибирец пробормотал:
— Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой: ни черен, ни зелен, а таким, каков я; я принес тебе красно яичко!
Пылал очаг, изба была освещена. Многие промышленные уже спали. Лука огляделся по углам — не увидел никого, тогда раскрыл сундучок и проговорил ласково:
— Дедушка домовой! Прошу твою милость к нам на новожитье; прими наши хлеб-соль, мы тебе рады, только мы пойдем дорогой, а ты стороной.
Тени угасающего пламени метались по рубленым стенам, как ведьмы на шабаше. Погасла и ярко вспыхнула сердитая головешка. Гюргий Москвитин, крестя рот в зевке, сонно пробормотал:
— Эвон, за чувал заскочил! Приживется, даст Бог! Хозяин!
Сын его, Ивашка, из-под мехового одеяла пялил сонные глаза, куда указывал отец, и ничего не видел. А спать хотелось — не до переспросов.
Сменяясь в дозоре, избу топили всю ночь. На другой день, отоспавшись вдоволь, ватажные вырубили на речке льдину и вставили в окно, законопатив края мокрым снегом. По наказу передовщика поповские чуницы спешно подновляли зимовье и баню, москвитинская да шелковниковская родня таскали из лесу припас дров. Донцам же Табанька велел изготовить пять нарт в полторы сажени длиной и двадцать пять пар лыж.
Угрюмку с Третьяком такой наказ испугал. Казалось, прорву лыж да еще нарты не сделать и за зиму. Они с удивлением взглянули на Пантелея Пенду, тот не спешил спорить, раздумывая.
Сам Табанька с выбранными им людьми решил заняться охотой на дикого оленя, добычей птицы и рыбы, чтобы не заботиться о припасе в промысловое время. Стреляли зверей из луков и ружей, если удавалось подкрасться на выстрел. Лосей, маралов, оленей мангазейцы ловили ямами: рыли их в вечной мерзлоте и делали от них огороды, чтобы зверю не было другого пути. Табанька теребил бороду, вспоминал и не мог вспомнить о прежних огородах.
Родившись в Диком поле среди неприхотливого полукочевого народа, сколько помнил себя Пантелей, его восхищали всякая добротная вещь, всякое приспособление, сделанное человеческими руками: будь то мышеловка, конская упряжь или ткацкий стан. Украшений он не замечал и не обращал на них внимания. Даже дорогое, изукрашенное оружие никогда не рассматривал сметливым глазом мастера, зато мог подолгу наблюдать за плотниками, строившими дом, амбар, судно или шлифовавшими березовое топорище. Так, вприглядку, и научился ремеслам. Еще в Мангазее, посмотрев, как разумно устроены здешние нарты, он побывал у посадских ремесленников, посмотрел, как они делаются, как собираются, и удивлялся сметливой простоте работ. По его понятиям, лыжи покупали только бездельники, разленившиеся на привольных сибирских промыслах.
Наутро после соборной молитвы и завтрака донцы с топорами, заткнутыми за кушаки, отправились в видневшийся из зимовья березовый колок. По строгому наказу Табаньки положили в нарты пищаль — для защиты и сигнала при опасности, прихватили с собой три лука на случай мясного промысла.
Зайцев возле зимовья было множество. Они были наглы и неосторожны. Пока Угрюмка волок нарты, Третьяк с Пендой набили их из луков десятка полтора. За время своих скитаний Угрюмка освоился в степи, среди лесов и тесных падей. Но, войдя в продуваемый березовый лесок с облетевшей листвой, почувствовал вдруг глупый страх. Утешал себя: день мученика Ерофея прошел. Это когда зима шубу надевает, а лешие по лесам бесятся — кричат лихоматом, ломают деревья, гоняют зверье перед тем как провалиться сквозь землю. Чего теперь бояться? Нынче вся нечисть под землей спит мертвецким сном за воротами меднокаменными. Ни следочка вокруг колка. А вот ведь кажется, будто из-за деревьев пялятся сотни глаз и тишина стенящая шепчет о беде неминучей.
Перекрестившись, поправил Угрюмка на груди кедровый крест. Пенда, поскрипывая смерзшимся мхом, прошел к скрученным ветрами березам. И тут загрохотало, заохало. Путники схватились кто за лук, кто за топор. Почти из-под их ног с громким фурканьем встала на крыло стая куропаток. В глубине леса кто-то загоготал, затрещал сушняком.
Блеклая, седая луна дремала на небе. Из зимовья доносился стук топоров. Сплевывая на невольный страх, Угрюмка жался к Пантелею, а тот уже присматривался к березам, годным на полозья и лыжи.
— Дедушка, дай нам лесу маленько! А мы тя привечать будем! — пропел красивым звонким голосом Третьяк, вынул из кармана сухарь, обдул его и положил на валежину.
— Сказывают, нечисть спит? — взглянул на него Угрюмка.
— Хуже не будет! — улыбнулся Третьяк, ничуть не смущаясь.
Запутали, заморочили устюжане с холмогорцами казаков да бродников, у которых и домов-то своих никогда не было. И показалось им, что по притихшему лесу прокатился вздох: дескать, ладно уж, берите, что с вас взять. Почудилось — перестал лес вглядываться в пришельцев, ожил, приняв их: зашевелились на неслышном ветерке голые ветви, где-то суетливо затрещала сорока.
Нарубив полные нарты березовых хлыстов, донцы к полудню вернулись в зимовье. Дальнейшая работа предстояла здесь, за тыном. Нехорошко с Тугарином, встретив их у ворот, как увидели в нарте кучу набитых зайцев, так и завопили на всю округу, что зверек это нечистый, с когтями и под крестом, что над воротами, везти его никак нельзя. Пенда и Третьяк спорить не стали, сбросили зайцев за воротами, провезли под крестом нарту с хлыстами, а потом перекидали тушки через частокол.
— Мяса нет — хоть зайчатиной отъесться! — ворчал Пантелей, обдирая зайцев. — У них не пост, так голод. Нам, грешным, Бог простит такие пустяки.
Через пару дней Угрюмка с Третьяком поняли, что наказ передовщика можно сделать раньше назначенного срока. Тем временем устюжане с холмогорцами укрепили тын, подновили стены и кровлю избы, в которой сразу стало теплей, перебрали баню.
Передовщик с опытными добытчиками ходил загоном на оленей, но оленины не добыл, зато набил много птицы. На устье ручья, подо льдом, ловили рыбу. Табанька азартно давил зайцев плашками, складывал их, замерзшими, как поленницу. Устюжане с холмогорцами, глядя на такой промысел, плеваться перестали, но велели, чтобы при них и в общих котлах зайчатину не варили: мол, у зайца глаз кос и лапа походит на копыто.
Съестные припасы складывали в лабаз. На частоколе, прельщенные рыбным духом, не к добру рассаживались и кричали вороны или трещали сороки, выискивая воровские щели.
Замело, запуржило на святую Параскеву Пятницу, девичью да бабью заступницу в грехах и в терпении. И обмолвился Табанька, поглядывая на потемневшую льдину в окне, что это здешние тайгуны дразнят старуху Хаг — полуночную лютую пургу. Не ровен час — заметет, и надолго. Промышленные обеспокоились и стали торопить передовщика, чтобы не откладывал промыслы из-за насущных дел.
Убрав со стола остатки еды, помолившись да призвав в помощь Духа Святого со всеми святыми, промышленные расселись по чину: с правой руки от главного ватажного передовщика — передовщики чуничные, слева — складники, покрученники — по кутному да сиротскому углам[47]. И стал главный передовщик рассылать чуницы по местам промыслов, стал их напутствовать:
— Луке с чуницей идти вверх по Тазу день или два до устья Часельки-реки, до удобного места и рубить там станы во имя Параскевы Пятницы, Христовым страстям причастницы, да во имя Николы зимнего и всех своих святых покровителей. А в пути сечь не меньше тридцати кулем в день и ставить их в удобных местах так, чтобы от одной другую видно было. Рубить же вам станов не меньше десяти. Между ними по падям и по ручьям по два-три ухожья кулемами обставлять. А полное ухожье — восемьдесят кулем.
А идти вам, взяв припаса на две недели. После двоих-троих людей своих передовщик пусть отправляет в зимовье за заводом, чтобы пополнить припас. Взяв здесь муки, мяса и рыбы, заводчики пусть передовщика догоняют, останавливаются по станам и осматривают кулемы. Если их снегом заметет — пусть обметают. Где юрких возьмут — обдирать только при передовщике. Коли промерзнет добыча — таять ее, положив себе под одеяло.
При шкурении всем сидеть молча и смотреть накрепко, чтобы в ту пору ничего на спицах не висело. А по снятии шкур тушки положить на сухое прутье, окурить их, обнося огнем вокруг три раза. Прутье сжечь, а тушки зарыть в снег или в землю.
В святые дни делать остановки, молиться и отдыхать всем, кроме тех, кто на завод и на размет посланы.
Передовщикам и всем идущим впереди смотреть, нет ли на пути остяцких болванов. А как будут, так, помолясь, возвращаться до стана и дальше не ходить ни за соболем, ни за каким другим зверем, чтобы с остяками здешними зимовать в мире.
Затем передовщик благословил чуницу молодого холмогорца Федотки Попова на Тольку-реку с таким же наказом, еще две чуницы отправил на другие притоки Таза. Когда же дошел черед до донцов, оказалось, что он задумал держать их близ себя — для охраны зимовья и ватажного припаса. А промышлять им велел поблизости, обставлять кулемами округу.
— Зайчатину нечистую жрать будут! — проворчал Нехорошко, возмущенно дергая клином бороденки.
Передовщик же степенно продолжил наказы:
— Чтобы добытого и черных соболей от товарищей своих не скрывать, а все отдавать передовщику. А кто скроет или украдет — на того я гневаться буду и наказывать по законам стародавним. Чуничным атаманам — самим никого не наказывать, а доносить обо всех мне. Промышленным — смотреть накрепко за своими атаманами, не гневаться на них, не спорить, а обо всем мне докладывать.
Соболь — зверь умный, услышит о себе разговор, как его по имени назовут, — уйдет в другие страны или станет из кулемы приманку вытаскивать, над промышленными потешаться. А потому с нынешней ночи соболем его не звать, но юрким или еще как. А про баб не вспоминать в разговорах и бабу бабой не звать и девку девкой, чтобы не накликать оборотней да лешачьих жен. А звать их сисястыми и глазастыми. И хлеб хлебом не звать, чтобы не переводился. И медведя — медведем, чтобы шатуны не одолели…
Любил Табанька поговорить так, чтобы его одного слушали. Об этом все промышленные уже знали и терпели сколько хватало сил, когда же становилось невмочь — начинали зевать, вскакивать с мест и огрызаться. Передовщик обиженно умолкал.
Угрюмка с Третьяком подбросили в выстывший очаг сухих дров. Загудело пламя. Едва передовщик поднялся, промышленные, торопливо крестясь и кланяясь на образа, стали готовиться к ночлегу. В ночной дозор заступали донцы. Остальным была воля отдыхать.
Холодало. День в полуночном краю стал таким коротким, что вставали промышленные и расходились на работы при свете звезд, при звездном небе заканчивали дела. После ужина Пантелей Пенда стал собираться в ночной дозор. Он подсушил фитиль на пищали, по привычке опоясался саблей, без которой ему было не по себе в ночи, накинул тулуп и вышел в огороженный частоколом дворик зимовья. Низкие яркие звезды, каких не бывает в степи, висели над землей.
Путаясь в длинных овчинных полах, на крышу он не полез, а вскарабкался на помост у тына, взглянул в одну сторону, в другую. Вокруг зимовья на выстрел не было ни деревца. Ровным матовым светом сияла луна. Блестел снег на мхах. Такой ночью ни человеку, ни зверю невозможно подойти незамеченными.
Особо опасаться было некого. Где-то неподалеку пасли оленей, промышляли мясо и рыбу мирные мангазейские ясачники князца Хыбы, давнего приятеля Табаньки. Русские люди на эти обедневшие соболем места не зарились. Но пока проходим был снежный покров на волоках, пропившаяся воровская ватага, вызнав о заселенном зимовье, могла тайно явиться с любой стороны и ради припаса перерезать всех сонными. Мятежные нарымские роды воровскими посулами и угрозами могли смутить мирных мангазейских ясачников. Грешно и неразумно было жить без опаски.
Чуницы разошлись по местам промыслов, зимовье опустело. Табанька с Третьяком отправились вверх по ручью с легкой нар той и малым припасом. Пенда с Угрюмкой, получив наставления, остались в зимовье одни, карауля ватажное добро и отъедаясь тушеной зайчатиной. Вскоре к ним пришли двое устюжан от Луки Москвитина. Поставив стан и срубив кулемники, они вернулись за припасом.
В тот же день к зимовью подъехали на оленях лесные люди. По внешнему виду это были здешние остяки рода князца Хыбы, о которых Табанька предупреждал, что они мирные и исправно платят ясак. Лет семь назад их едва не перерезали самоеды, отбиться им тогда помогли мангазейские промышленные. Потом, опять же мангазейцы, защищали их в войне с остяками другого рода. Хыба считался верным ясачником, его даже не аманатили[48].
В карауле стоял Пантелей Пенда. Он первым увидел гостей и пронзительно свистнул. Угрюмка выскочил из избы в заячьей рубахе, все понял: оделся, сунул за кушак топор, схватил в охапку три заряженные пищали и, громыхая стволами, побежал к бане, где парились устюжане.
— Гости! — крикнул в клубы пара и прислонил к банной стене два ружья, с третьим полез на крышу.
Пантелей одобрительно кивнул ему и указал на караван. Сам не спеша высек огонь, раздул трут, окинул Угрюмку насмешливыми глазами, сказал весело:
— Малогрешных Бог любит! Молись, чтобы другой раз увидеть, пегие они или рябые. — И добавил рассудительно: — Мало нас, а припас в зимовье изрядный.
Устюжане с красными распаренными лицами и мокрыми бородами выглянули из-за частокола. Из-под их шубных кафтанов клубился пар. Дикие придержали оленей в четверти версты от зимовья, помахав руками, медленно приблизились еще на сотню шагов. Затем слезли с оленей и стали их развьючивать.
— Показались — и ладно! — отпустил устюжан Пенда. — Допаривайтесь с Богом. Но слушайте. При стрельбе чтобы были возле ворот.
Вьючные олени сбились в кучу. Остяки сбросили с себя через головы долгополые шубы, оставшись в парках, стали искать хворост для костра, всем своим видом уверяя в мирных намерениях. Затем двое не спеша заковыляли к воротам зимовья.
Пенда передал пищаль Угрюмке, поправил топор за спиной, саблю на поясе, сунув малахай за пазуху, надел казачий колпак и пошел за ворота встречать гостей.
Один из остяков был стариком с глубокими морщинами на умном лице, с толстыми косами по плечам, с десятком седых волосков на подбородке. Другой, молодой, с черными косами — не то баба, не то мужик с гладким лицом, — глядел на казака с важным видом, полным достоинства. Старик что-то залопотал. Казак различил только «баска-баска», пожал плечами и помотал головой. Тогда дикий высунул язык и указал на него пальцем. Пенда сообразил, что гость спрашивает толмача.
— Завтра прибудут и передовщик, и толмач! — Едва заметная ухмылка мелькнула в глазах молодого, остяки его поняли.
Старый с молодым обернулись друг к другу, о чем-то посоветовались. На их лицах отразилась досада. Не рассчитывая на гостеприимство «немых», пожилой указал рукой на курившийся дымок, и гости ушли. Вскоре вокруг огня они поставили остов чума и стали покрывать его шкурами.
— Будут ждать толмача? — спросил Угрюмка, закрывая ворота. — Или зазимуют?
— Табанька вернется — разберется, — закладывая брус, бросил Пенда. — Он знает здешние порядки. А нам придется глаз не смыкать и трут не гасить.
Помолчав, Пантелей твердо добавил, глядя в светлые сумерки полярной ночи:
— Передай устюжанам: пока наши не вернутся, пусть будут здесь, в караулах.
Табанька с Третьяком пришли на другие сутки, ясным звездным вечером. Они срубили стан во имя святого Дмитра и обставили два ухожья кулемами. Передовщик издали завидел остяков, бросил нарту на Третьяка и, не заходя в зимовье, отправился к стану. Он пробыл там долго. В зимовье уже начали зевать, когда Табанька вернулся и сказал, что назавтра пригласил гостей.
Поздним утром, когда блекли звезды, остяки подошли к воротам: тот же старик и Тальма, племянник князца. Табанька встретил их весело и беспечно. Он туркал под бок хмурого гостя, что-то лопотал. Пенда вскоре заметил, что передовщик повторяет с полдюжины одинаковых слов, а остяки его не понимают.
По наказу Табаньки промышленные стали варить принесенную гостями сохатину. Из лабаза достали две мороженые щуки на порсу: блюдо, без которого остяки ничего не едят. Стол был убран. У очага Табанька выставил на подстилку из хвои мороженую клюкву в туеске, положил соленую и сушеную рыбу, в гостевые кружки из бересты налил отвара из листьев брусники. Он сам накрывал стол и делал это с явным удовольствием, как хороший хозяин.
Квас, без которого русичи не жили ни дня, остяки пить не стали, только понюхали, морщась, и навалились на рыбные блюда. Пенда не столько ел, сколько все подмечал и прислушивался. Он уже знал наверняка, что Табанька не понимает гостей, только корявит язык и скоморошничает. Молодой остяк Тальма, увидев, что от такого толмача проку нет, неохотно стал показывать, что понимает по-русски. Табанька хитро подмигнул Пенде, намекая, что вынудил гостей заговорить, и стал поддакивать, то и дело восклицая: «Шинда-мында». Промышленным же он громко и суетливо рассказывал, что со стариком, братом князца Хыбы, встречался четыре года назад на этом самом месте, когда промышлял с ватажкой тоболяков. Всех мужиков у князца было восемь человек да двое лысых ясырей-рабов. Теперь уж трое умерли. Гости пришли к зимовью, догадавшись по следам, что оно заселено.
Поев рыбы, потом мяса и снова рыбы, остяки повеселели. Молодой, вытирая руки о хвою, сносно сказал по-русски:
— Сколько чего ни ешь, без рыбы все равно голодный!
Как вскоре выяснилось, он был заложником-аманатом в Мангазее и там выучился русскому языку.
Старик, срыгнув воздух из кишок, сделал лицо печальным и молча уставился на огонь. Табанька стал расспрашивать его о жизни и делах. Повздыхав, тот рассказал через племянника о бедах, выпавших на род, в котором мюты-коком — маленьким родовым князцом — был его брат Хыба. Чем-то они рассердили лесных людей — менквов, и те по тайной тропе на капище[49] его рода выгнали медведя.
Медведь оказался глупым или пугливым — споткнулся о растяжку самострела и получил тяжелую рану. К зиме он не залег в берлогу, а ходил поблизости, двух оленей задавил, потом упал в яму, в которой по сей день сидит.
Остякам убить медведя нельзя — в нем живет душа кого-то из умерших родственников. По характеру зверя никто понять не может, чья.
Старик терпеливо дослушал, когда племянник перескажет его речь по-русски, и поднял слезящиеся глаза на Табаньку:
— Русским промышленным не грех убить медведя! Ваши люди даже едят его.
Передовщик понял, что гости пришли с просьбой, стал сдержанней, помолчал для пущей важности, уверил остяков, что из его людей никто медведя не ест, и обещал посоветоваться с помощниками: можно ли помочь роду кунака по долгу добрососедства.
Другой бедой прибывших остяков была давняя ссора со сватами с больших озер. Осенью опять произошла стычка на границе родовых угодий. Князец Хыба с братьями боялся их мести и просил, в случае нужды, защиты под стенами зимовья. На это Табанька тут же дал согласие.
Старик, показывая свое расположение, решительно отпил из берестяной кружки русского кваса, поморщился, крякнув от терпкой кислоты. Вскоре у него громко заурчал живот и гость выскочил из избы с задранной на ходу паркой.
— Эдак они нам все зимовье загадят! — зароптали устюжане. Угрюмка же опечалился больше всех, понимая, кому придется убирать.
На другой день пришли за мукой заводчики из поповской чуницы. Табанька еще раз пригласил гостей в зимовье показать, что защитников в нем много, объявил им, что его люди согласны помочь остякам, и велел Пантелею Пенде собираться к остякам. Они взяли запас хлеба и кваса на четыре дня, топоры, пищаль, лук со стрелами при трехгранных железных наконечниках. Сложив все в нарту, ранним утром двое пошли из зимовья к остяцкому стану. Добить раненого медведя в яме для Пенды не представляло труда, а вот увидеть, как живут остяки, было интересно.
Хмурое небо обложили тучи, мела крупка, угрожая перейти в снегопад. Неподалеку от стана паслись три оленя с рогатками на шеях. Остальное стадо держалось на краю редколесья, у замерзшего ручья. Остяков погода не смущала. Они сидели возле костра на месте разобранного чума и неторопливо попивали кипяток, заваренный листьями брусники. При двух знакомых, приходивших в зимовье, был черноволосый дородный мужик со сросшимися на переносице бровями.
— Мата! — предупредительно кивнул в его сторону племянник князца. Мужик взглянул на промышленных равнодушными непроницаемыми глазами и достал из туеска две берестяные чашки, пересыпанные древесной трухой.
Табанька замахал руками, отказываясь от чаепития, и похлопал себя по животу:
— Шинда-мында, с десяток чарок испил!
На лице Маты не дрогнула ни одна жилка, он понял промышленного и аккуратно уложил чашки обратно в туесок. Напившись отвара, бровастый мужик отошел от костра в сторону вольно пасшимся животным, задрал подол и начал отливать влагу. Олени стремглав бросились к нему, да так прытко, что остяк стал лягаться, уклоняясь от рогов и морд, лезущих ему под парку. Тальма с дядей ловко захлестнули их арканами, навьючили разобранный чум, четырех оленей заседлали, двух запрягли в нарты. Быстро и ловко справившись с привычной работой, они снова присели у догоравшего костра, думая о предстоящем пути и о богах-покровителях.
Тальма предложил одному из гостей сесть на оленя, другому на нарты. Табанька вызвался ехать верхом. Пенда спорить не стал. Он вырос при лошадях, но верховая езда на олене его не привлекала: опытный взгляд всадника отметил, что кургузое седельце положено почти на шею животного и непременно должно спадать, едва тот наклонит голову или резко остановится. Стремян при седле не было. Завьюченные и запряженные олени шаловливо косили на людей выпуклыми, плутоватыми глазами, будто готовились весело провести этот пасмурный день.
В руки казаку вложили длинный шест, показав, что им надо время от времени покалывать в зад заленившихся животных, и караван двинулся к западу вдоль ручья. Запряженные в шлею олени без видимого усилия побежали по прежнему следу. Пенда в шубном кафтане поверх жупана, в ичигах, надетых на меховые чулки, развалился на узкой нарте. Табанька за его спиной верхами замыкал караван.
Выбравшись в долину Таза, остяки и промышленные люди до полудня двигались к верховьям реки, потом свернули к западу по одному из притоков вдоль приземистой гривы, густо поросшей лиственницами. С другой стороны лежало болото с высокими кочками. По краю оно заросло кривым березняком. Кое-где виднелись проталины с полыньями.
Чем дальше путники удалялись от реки, тем гуще и мрачнее становился лес. Чаща была иногда такой, что казалось, — человеку и протиснуться сквозь нее невозможно, а в глубине леса виднелись завалы из упавших деревьев.
Остяки ехали молча, не оглядывались. Время от времени они ловко стреляли из огромных луков по тетеревам, сидевшим на вершинах деревьев. Притом стреляли с таким расчетом, чтобы добыча падала неподалеку от тропы. И только один раз у них вышла заминка: Тальма не смог найти пущенную стрелу с костяным наконечником.
— Запали-ка трут, — вдруг проскулил Табанька. Глаза его бегали по чаще леса, лицо под обледеневшей бородой было перекошено.
Пенда взглянул на него удивленно: совсем недавно передовщик ни словом, ни взглядом не обнаруживал подозрений и держался с бесшабашной удалью. Окинув цепким взглядом лес, казак пожал плечами и спросил:
— Какой прок от огненного боя в таком месте?
— Запали! — жалобно всхлипнул Табанька. — Хоть на душе станет легче.
Спорить Пантелей не стал. Зажал между колен огниво, постучал оправленным медью кремешком по ребристой, окованной кольцами сабельной рукояти. Едва задержалась одна из искр в огниве, осторожно раздул ее. Про себя же отметил, что полагаться на Табанькин опыт и доверять ему нельзя. Оставалось надеяться только на себя самого и на молитву.
— Ты рожу-то испуганную не кажи! — обернувшись, приглушенно прошипел передовщику. Тот, увидев его холодные прищуренные глаза, стал еще печальнее: — Этак ты их до греха доведешь и нас погубишь! — тихо добавил Пенда.
Табанька стыдливо дернулся, задрав бороду, поднял глаза к далекому, укрытому кружившимся снегом небу, торопливо перекрестился, бормоча:
— За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, раба своего…
— Бог ленивым и глупым не помогает! — язвительно прервал его Пенда.
— Всяко бывает! — озираясь по сторонам, просипел Табанька. — Сказывали служилые, что вдесятером ехали за ясаком к верхотазовским самоедам. В таком же вот месте задремали, а те следы за собой замели, обошли их, едущих, спрятались, дождались — и с двух сторон стали посыпать стрелами. А те что? Огнива запаленного — и того не было. Тесаки вставили в самопалы, а самоеды в ближний бой не лезли: стреляли и стреляли из луков. Служилые махали прикладами, отбивая стрелы, пока их всех не перебили. Один только фитиль запалил, стрелял и ранил дикого в руку.
— Зачем сейчас об этом говорить? О том надо было в зимовье думать, — жестко обругал его казак. — А теперь слушай меня: будешь страх нагонять — я тебя застрелю, — сверкнул голубыми ледышками выстывших глаз. — И дикие доставят меня в Мангазею живым и невредимым, чтобы оправдаться перед воеводой.
Табанька разинул рот от казачьего хитроумия: только нехристь мог додуматься до такого спасения. Но угроза подействовала. Передовщик выпрямился в седельце, до того пораженный словами спутника, что долго еще не мог вымолвить ни слова и только разевал рот с кривящимися губами. Так и не сообразив, что ответить, он выдохнул дрожащим шепотком:
— Дернул черт связаться с убивцами! — и весь оставшийся путь до ночлега хмуро молчал.
Пенда понял, что ему самому придется управлять предприятием, в которое втянут неразумным передовщиком. Мысленно перекрестившись, помолясь Господу Вседержителю, Пречистой Богородице, Николе Чудотворцу и своему святому покровителю, он принял на себя бремя власти. Перемена в отношениях между промышленными не осталась незамеченной наблюдательными остяками.
К ночи гуще закружили снежинки. Караван остановился возле вынырнувших из сумерек тесаных болванов. На них были надеты узкие, непомерно длинные медные шлемы и старые брони, а в растопыренные руки вложены ржавые мечи, круглые, с облупившейся кожей щиты.
Остяки спешились, осторожно подошли к капищу. Почтительно топчась возле болванов, бросили им старинный медный наконечник. Табанька же мешком свалился в снег с остановившегося оленя и неловко попытался подняться, но затекшие ноги подгибались и не держали его.
Пенда мотнул головой, указывая ему на нарту, сам подошел к оленю, скосившему на казака хитрый, выпуклый глаз, потрогал седельце. Не только оно, но и живая шкура под ним так болтались, что Пантелею стало любопытно, как Табанька продержался в седле весь день. Придерживая оленя за рог, он сгреб пятерней его гладкий и жесткий ворс. Кожа легко подалась, отставая от туловища. Казалось, с брюха животного ее можно натянуть ему на спину. Пенда осторожно сел в седельце, свесив ноги без стремян. Плутовато косясь на нового всадника, олень попытался задним копытом почесать ухо. Пантелей крепче заломил ему рога, и тот своим видом согласился, что лучше с казаком не шутить.
Между тем остяки закончили моления, и караван продолжил путь по их родовым угодьям, где чужакам находиться и промышлять не дозволялось. Здесь остяки могли убить всякого случайного и нежданого гостя.
После капища ехали они недолго и спешились на поляне. Видно было, что люди часто останавливаются здесь на ночлег. Распряженные олени тут же разбежались, стали с жадностью копытить мох и искать мороженые грибы. Остяки разожгли костер, начали устанавливать чум. Промышленные, как почетные гости, некоторое время сидели на нарте, потом, покряхтев, Табанька поднялся и стал таскать хворост, оттаивать хлеб и греть квас.
Уже по тому, как он держал пищаль, едучи в нарте, Пенда с удивлением понял, что передовщик и стрелять-то не умеет. В тяжелом шубном кафтане, накинутом на плечи, с тлеющим огнивом под рукой, теперь он сам сидел на нарте и зорко поглядывал по сторонам. Его занимала одна мысль: отчего Табанька не оставил в зимовье заложника? Судя по всему, остяки не рассчитывали на такую доверчивость, и явные меры предосторожности чужаков их ничуть не смущали. Они были понятны казаку. Передовщик — нет.
— Тьфу! — сплюнул он оттаявшую сосульку с усов и пробормотал вслух: — То ли дурак, то ли блаженный!
Ужинали в чуме у огня — гости в нательных рубахах, остяки голыми до пояса. Грудь припекало, спину примораживало. И в еде, и на теле — повсюду был жесткий олений ворс. Казалось, он носился даже над костром, отчего пахло жженой шерстью.
После обильного ужина из брусники с рыбьим жиром, печеных тетеревов и вяленой рыбы остяки не спешили влезать в свои меховые мешки — радовались отдыху и неторопливо беседовали между собой.
Время от времени Тальма оборачивался к промышленным, задерживал взгляд на приунывшем Табаньке и переводил разговор дядьев. Те говорили о лесных девах и об остяцких лесных духах — менквах, вредящих людям. О том, что менквы нападают на охотников и съедают их. Табанька вдруг оживился и ляпнул:
— Медной пулей в грудь и менква убить можно!
Остяки подозрительно примолкли. Почуяв, что сказал не то, Табанька виновато спросил:
— Отчего у вас все духи злые? — И опять стал вставлять, где надо и не надо, тарабарское присловье.
— Мис-хум и мис-не — добрые духи! — осторожно возразил Тальма.
Табанька же, хихикая и заикаясь, стал рассказывать, как три года назад в двух днях пути от зимовья, где нынче стояла ватага, встретил в лесу девку. Теперь спрашивал, не утуева ли она рода, что случайно забрела на русское ухожье.
— Тока, шинда, стал звать на стан, хотел потчевать хлебом и порсой, девка, не понявши ни шинда ни мында, убежала.
Выслушав от племянника переведенные Табанькины слова, старик помолчал насупившись. Его родственник с черными бровями на переносице что-то буркнул. И старик сказал, что та девка — не остячка и не самоедка, а лесная чертовка. Чирки у нее должны быть белыми, и собака при ней черная.
— Раз дала тебе на себя посмотреть — хотела, чтобы замуж взял… Надо было брать, — качнул косатой головой. — Счастливым был бы. В ее кулемах соболь не выводится черный-черный. Ты бы только сидел у огня и обдирал его.
Старик снова помолчал, уставив щелки глаз на огонь. Шевельнул желваками на впалых щеках, добавил теплей и душевней:
— Есть у лесной девки хитрость — ее надо знать. Станешь с ней первый раз спать ложиться, она скажет: «Постели мою шубу!» А стелить нельзя. Она под шубой капкан насторожит и убьет. Надо поднять шубу и, если под ней капкан, сказать: «Зачем обманываешь? Я тебя замуж беру, а ты меня убить хочешь». Она скажет: «Я посмеялась!» Тогда стели свою шубу и спи с ней. Весь век будешь счастливым. И дети твои будут удачливыми охотниками.
Ночлег под кровом из кож был теплым, хотя костер вскоре погас. Спал Пенда настороженно, но глубоко, часто просыпался, прислушивался и снова погружался в глубины странного, причудливого сна. Были в нем и картины, но в первую очередь снилось и давила грудь тоска, с которой уходил с разоренной Руси. Вместо бахтерцев на кожаной казачьей рубахе видел на себе наборную кольчугу тонкой работы, вместо сабли — узкий, длинный палаш, а на голове вместо привычного шлема или колпака — высокий, заостренный шишак потомственного воина-остроума. Будто шел он по глубоким снегам на север с людьми, одетыми, как менквы на остяцком капище. Все они уходили от единокровного, но чужого народа, который ради сытости и благополучия отрекся от своих богов, от законов, оставленных предками, в неведомую сторону уносили в сердцах верность старине.
Пантелей просыпался в ночи, бросал взгляд на тлеющие угли, прижимал к груди саблю и снова засыпал, так и не разобравшись, где и в каком из миров находится. Опять шел по снегам и дебрям, и думал во сне, что теперь, в дремучих лесах, среди духов-тайгунов, ему уже не нужны ни кольчуга, ни палаш, что надо бы их переплавить и перековать на рогатину, от которой здесь больше пользы. И страшно становилось от мысли расстаться с привычным оружием.
Он снова просыпался, с облегчением нащупывал саблю, засыпал и опять брел куда-то с такими же отверженными своим народом воинами, тягостно размышлял о том, что исполнил свой долг перед духами предков, перед единым Богом. И теперь надо ждать решения или дозволения пославшего их на землю Бога Отца — вернуться туда, где прародина всех сильных духом и верных клятвам.
К утру не смерзлись борода и усы, как это бывает при зимних ночевках у костра. Над головой на оленьей коже не было куржака. На этот раз Пенда проснулся от дикого вопля, вскочил, сбросив с клинка ножны. В дымоходном отверстии над головой светил месяц — казачье солнышко, при его сиянии в чуме видны были все три отдыхавших остяка. Не было только Табаньки.
Откинув полог, Пантелей увидел и его. Олени валяли мезенца в снегу, тыкались мордами в живот и пах. Сабельным боем клацали костяные рога. Табанька орал. Мата первым выскочил из чума, схватил жердь из дровяного припаса и стал охаживать оленей по рогам и спинам. Ему на помощь подоспел племянник. Вдвоем они отбили Табаньку. Мата, стряхнув снег с голых ступней, вполз в чум и стал раздувать огонь. Следом за ним вернулись Тальма с Табанькой.
— Шинда-мында! — опасливо зыркая на Пенду, скулил передовщик, выцарапывая снег из бороды, выскребая его из-за пазухи. — Сбили с ног… Туда-сюда смотрел — не было ни одного. Только портки спустил — вот они!
Казак молчал с багровым лицом, метал глазами искры и щурился как кот. Едва выполз из чума Тальма, понимавший русский язык, приглушенно прошипел:
— Или ты — дурак, или бес тебя ведет, чтобы нас посадить на кол на их капище.
— Оглянулся ведь — никого! — оправдывался Табанька.
Летом можно было пройти мимо топким берегом, не заметив зимнего дома князца Хыбы, или проплыть по заболоченной речке среди высоких кочек. В пологом склоне холма с чахлыми березами была врыта просторная изба с длинной прихожей, укрепленной бревенчатым срубом. Низкая, потайная дверь выходила к зарослям на берегу замерзшей теперь речки, другая — и дверь, и окно — была сделана в кровле жилья.
Наверное, летом на лодке можно было подойти к самой землянке, скрытой от людских глаз. Возле нее остроголовый болван, вырубленный из чурбака, восседал на убогой кляче, вырезанной из кривого березового ствола. Короткие ноги болвана были растопырены, как у неумелого ездока. Должно быть, остяки никогда не видели коня, но в струганом чучеле он узнавался. Вид его вызвал у казака щемящую тоску об умных и ласковых лошадях, об их запахе и летней степи.
Прибывших родственников и гостей встречали мужики с черными косичками на плечах. Услышав хорканье оленей, из землянки гурьбой вывалили женщины и дети. Никакой радости они не показывали, молча и равнодушно смотрели, как сородичи распрягают оленей, тайком бросали взгляды на бородатых людей.
Мужик из встречавших, наверное князец, подошел к старику, ездившему в зимовье и, опустив голову, стал что-то печально лопотать. Мата с Тальмой — перестали заниматься упряжью, подошли к ним и начали вставлять взволнованные слова.
По тону разговора Пенда догадался, что в их отсутствие в доме произошло что-то важное. Привычным взглядом воина он окинул местность и понял, что уйти можно только по своему следу. Нарта еще не была выпряжена, два верховых оленя терпеливо ждали, когда их отпустят на волю.
— Сядь в нарту и запали фитиль! — одними губами приказал он Табаньке. — Как я свистну — стреляй в князца и гони. — Перекинул за плечо сайдак со стрелами, подошел к верховым оленям, косившимся на него, укрылся за ними от вероятного нападения, взяв в руки два ременных повода.
Вскоре беспокойный остяцкий разговор стих. Тальма подошел к промышленным и сказал с печалью:
— Зря везли вас. Дедушка умер от ран.
— Какой такой дедушка? — недоверчиво вскрикнул Табанька.
— Медведь, который был ранен, — терпеливо ответил остяк. — Зря ездили. Мир-сусне-хум помог! — почтительно кивнул на болвана-всадника, к опояске которого была привязана иссохшая на ветру птица, похожая на белого гуся.
— И вам легче, и нам греха меньше, — перекрестился Пенда, не выпуская из рук упряжь. — Нынче время промыслов, каждый день дорог. Везите-ка нас обратно.
Толмач переговорил со старшими. Женщины принесли корзину, плетенную из кедрового корня и наполненную мороженой рыбой, поставили ее на нарту. Князец, не поднимая глаз на гостей, положил сверху двух черных соболей.
Табанька, увидев шкурки с проседью по хребту, бросил пищаль, схватил рухлядь и стал рассматривать ее со всех сторон, потряхивая и любуясь. Довольный подарком, он сунул руку в мешок с припасом и достал горсть корольков[50], которые были дешевы в Ярославле и Перми, но высоко ценились в Мангазее.
Князец и его братья, громко лопоча о своих делах, куда-то ушли. Остяцкие подростки привели с болот четырех свежих оленей и стали запрягать двух в нарту, двух под верховую езду. Вскоре, не прощаясь, как принято на Руси, в сопровождении толмача Тальмы Табанька с Пантелеем двинулись в обратный путь. К ночи они прибыли на место прежнего ночлега.
Ватажные развели большой костер по-промышленному, стали греть землю. Натаскав сухостоя, испекли на рожнах оттаявшую рыбу, отогрели смерзшийся хлеб. После еды, ожидая, когда прогорит костер и придет пора сдвигать огонь, Табанька засопел, уткнувшись головой в колени, а Пенда стал расспрашивать Тальму про остяцких богов.
Почувствовав интерес длинноволосого русича к их верованиям, тот сбивчиво заговорил о добром боге Мир-сусне-хуме, который на белом безрогом коне с нераздвоенными копытами каждый день объезжает землю. А рядом с ним летит белая птица — рейтарнануйрищ, предвещая песнями смену дня и ночи. Мир-сусне-хум узнает в пути нужды и заботы людей, исполняет их желания, исцеляет от болезней, продляет жизнь. Тех, кто живет правильно, — вразумляет и наставляет; воров, лжецов, обманщиков и скряг — карает.
— Еще помогают умершие предки — косатые богатыри, — толмач почтительно посмотрел на длинные, прихваченные куржаком волосы Пантелея. — Среди русских людей мало богатырей, — сказал с усмешкой. — У вас только попы с длинными волосами да некоторые из промышленных. Остальные, как паршивые лысые ясыри, стригут свою прекрасную, радужно отливающую головную кожу, лишая себя силы.
Пантелею хотелось объяснить, что на Руси все не так. Но любопытство было сильней, и донец, сделав вид, что не понял непочтительных слов о своем народе, стал выспрашивать.
— Ну а земля откуда появилась, по-вашему? — окинул взглядом темнеющий лес.
— Это всем известно! — самоуверенно ответил остяк. — По приказу первородного бога Корс-торума гагара ныряла в океан и доставала ее со дна. И та земля стала расти так быстро, что уже на третий день птицы могли облететь ее только за три дня. На ней разрастались леса, и она становилась тяжелой. Сын Корс-торума Нуми-торум — отец Мирсусне-хума, жалея ее, стал посылать пожары, чтобы облегчить. Тогда же появились древние богатыри. Они так жестоко стали воевать друг с другом, что даже боги не могли остановить кровопролития. И тогда, разгневанные, они спустились на землю и подожгли ее.
Уцелевшие богатыри стали строить землянки в лесу, ловить рыбу в реках. Но не перестали враждовать и убивать друг друга. Тогда Нумиторум наслал на землю потоп, и все погибли. Осталось только семь сыновей бога. После потопа они сделали из лиственничных бревен новых людей — менквов. Но и менквы не смогли стать хорошими людьми. Тогда бог сплел из тальника скелеты, обмазал их глиной, дунул — и они ожили, положив начало нынешнему человеческому роду.
— Чудно! — искренне удивился Пантелей. — Наши попы да старики почти так же сказывают… А зачем у вас мужики носят косы? Один наш промышленный, который давно живет здесь, говорил — чтобы лесные черти-тайгуны вас за своих принимали.
— Он ничего не понимает, — презрительно ответил остяк. — В волосах, растущих из радужно отливающей головной кожи, живет душа. Длинные волосы — большая душа, короткие — маленькая душа. Волосы отрезают рабам.
Давным-давно бились между собой два косатых богатыря. И один, победив другого, отсек тому голову. Он хотел отдохнуть после боя и не схватил голову за косы. Тогда она покатилась, нырнула в речку и поплыла. А когда очутилась у другого берега, где уже не догнать, захохотала над простаком: «Ты не снял моих волос вместе с радужно отливающей головной кожей, значит — не отнял моей жизни».
— Шинда-мында, — поднял голову Табанька. — Скоромное ел во сне. — Зевнул, крестя рот, покачал тяжелой головой.
Костер прогорал, на черном небе ярче вызвездило. Путники сдвинули угли. Они зашипели на стылой земле. Промышленные положили на них несколько сухих елей с обрубленными сучьями и раздули новый костер. На прогретую же землю накидали хвои, сверху бросили свои постели. Тальма вывернул рукава малицы внутрь и завернулся в остяцкую долгополую шубу, шитую заодно с шапкой.
Холод пощипывал нос, колко входил в грудь. Жарко грела земля из-под еловой подстилки, потрескивал костер. Трое глядели в звездное небо. Кому-то виделись в нем глаза ангелов, кому-то — зажженные ими лампадки для молитв об оставляемых во тьме. Кто-то видел глаза древнейшего тысячеглазого бога.
Прислушиваясь к звукам леса, Пантелей подумал: «Не похоже, чтобы нас решили убить!» Сабля под боком придавала ему уверенности и спокойствия.
Черное бескрайнее небо в чужом полуночном краю вызывало холодные рассудочные мысли. Уж день не день — сумерки. И тьма вот-вот поборет его. Не выводит на небо своих золотых коней заря — девка красная. Могучий старец Илья Пророк из последних сил рубится с чертями. От усталости выпадает меч из его рук, закрываются глаза под седыми бровями.
Казаку была знакома та усталость боя, когда руки обвисают плетьми, надо напрягаться для каждого удара, а враги все наседают. И шепчет бес из-за плеча — отдохни, опусти саблю и сладостно упади где стоишь. Мертвым легче.
Еще хуже, когда, вольно или невольно, бросают товарищи. Биться нет уж сил, и так греховно не хочется жить. Хуже того, когда предают. В сонной голове казака замельтешили лики друзей-товарищей, обезображенные бесовскими страстями. Вспомнилось, как он крутился, окруженный станичниками, размахивал саблями, не подпуская к себе, и слышал: «На плаху его!.. Язык рвать!» Тычки тупых концов пик в спину, в ноги, падение и отчаяние…
«Где ты, зорька красная! — устало звучал в голове старинный заговор. — Вынь ты, девица, отеческий меч-кладенец, достань панцирь дедовский, шлем богатырский, отопри коня вороного, выйди в чистое поле, где наседает на обессилевшего Илью Пророка рать несметная. Закрой ты, девица, усталого воина от силы вражьей фатой своей, обмахни крылом орлиным».
Ударить бы в колокола по всей земле — бежала бы рать нечистая, ведь больше всего черти боятся света и звона, бегут в пекло, запирать ворота… Но нет ни церквей, ни кузниц по здешней тайге.
Сморил казака сон. И почудилось ему, будто Илья Пророк выронил меч. Визгом и хохотом торжествовала победу тьма.
Тальма проводил промышленных до устья ручья, на котором стояло зимовье. По каким-то признакам он ждал ухудшения погоды и спешил вернуться к своему жилью. Прощаясь возле костерка, сказал с печалью, что умерший от ран медведь оказался его дедом — умным, смелым охотником. Зачем ходил вокруг жилья и давил оленей — никто понять не может. Как зацепился за растяжку самострела, который сам ставил? Тальма думал об этом всю дорогу.
— Как знаешь, что это твой дед? — участливо спросил Пантелей.
— Лапу медведю отрубят и подбрасывают, называя имена умерших родственников, шинда-мында, — встрял в разговор Табанька. — На кого кверху когтями упадет — тот и есть.
Остяк гневно сверкнул черными глазами, молча принялся перепрягать оленей кожаной веревкой. Те послушно стояли на заметенном льду Таза, почесывали оттопыренные уши голенями задних ног и весело ожидали возвращения. По их мордам видно было, что они-то давно все поняли.
Едва они с Тальмой отдалилась на сотню шагов, Табанька повернулся лицом к востоку и со вздохами облегчения стал молиться, как после многотрудного и опасного дела. Пантелей перекрестился раз и другой, бросил на спутника презрительный взгляд: был какой-то лукавый умысел в его молитве не ко времени и не к месту. Казак привязал к копыльям нарты шлею, пошел вверх по ручью своим, уже слегка заметенным следом. В виду зимовья он услышал за спиной сопение и дыхание. Налегке его догонял Табанька.
— Одно скажи! — обернулся донец с кривой леденящей усмешкой. — За что тебя в прежние промысловые ватаги брали? Разве старое пиво допивать, молодое затирать? Две зимы подряд, говоришь, с одними промышлял? — Он остановился и пристально впился взглядом в повеселевшие глаза Табаньки, силясь как-то растолковать себе его поступки.
— Знаешь, кто такой Табанька Куяпин? — вскрикнул спутник, с небрежным вызовом подпирая бока руками. — Я удачу приношу. В зимовье, бывает, сижу, а зверь так и лезет в ватажные клепцы. А пойдут без меня — и пусто.
Пантелей сплюнул под ноги и поволок нарту к воротам зимовья.
Угрюмка с Третьяком три дня сряду посменно несли караулы. Путая беспросветные дни со светлыми ночами, зевали до боли в скулах и, едва не околев от стужи и тоски, дождались-таки заводчиков с Тольки-реки.
С молодым чуничным передовщиком Федоткой Поповым пришел его родственник по прозвищу Тугарин — сутуловатый, нескладный мужик с длинными руками и всегда мокрым, хлюпающим носом. Они привезли в нарте устюжанина Нехорошку — вечного спорщика и задиралу. Тот в одиночку выбирался к зимовью с больной спиной и был подобран ими в пути.
Отпарив поясницу пихтовыми вениками, Нехорошко распрямился, но возвращаться на промыслы опасался. Табанька, после возвращения от остяков, принял большое участие в его немочи: тер ему поясницу осиновой скалкой, брызгал наговорной водой с золой. С Пендой он не разговаривал, делая вид, что не замечает донца, хмурился, кидал на него косые взгляды и рассуждал вслух, что отправлять Нехорошку больным на станы не по-христиански.
Он долго и с упоением расспрашивал заводчиков о промыслах. Особенно его интересовала случайная встреча устюжан с тунгусами. Вызнав, как те были одеты и что говорили, стал давать наставления. По лицу желчного и вздорного Нехорошки, глядевшего на передовщика то с недоумением, то с удивлением, то с насмешкой. По разговору нетрудно было догадаться, что и в тех местах Табанька не был. Похоже, что не был нигде дальше зимовья и угодий князца.
Зато после Михайлова дня Табанька увлеченно и с подлинным знанием дела начал затирать пиво к Николе зимнему. По его наказу Угрюмка с Третьяком вскоре ушли в ближайший из срубленных зимовейщиками станов. Отправились они туда налегке, без пищали, с двумя луками при тупых стрелах да с сетью для обмета.
По припорошенной лыжне первым шел Третьяк с лыпой в руке, за ним, с нартой на шлее, — Угрюмка. Холод не давал им присесть в пути, а заиндевевшие деревья предвещали, что станет еще холодней. К полудню где-то у горизонта чуть засветились облака. Но не сходила с неба выбеленная морозом луна. Вскоре вызвездило, и она заблистела ярче.
Время от времени Третьяк указывал лыпой в сторону от лыжни. Там виднелись заметенные снегом следы и щепа от натесанных кулем. Даже в сумерках северной ночи видно было, что они настороженные, подходить ближе не было надобности.
Но вот в колке, где вымороженный мох свисал с веток, возле лыжни показался след. Третьяк, высоко задирая гнутые носки лыж, побежал к кулеме и радостно вскрикнул. Сбросив шлею, Угрюмка кинулся следом. Из-под плашки торчал дергающийся хвост, когтистые лапы скребли чурку.
Живого оглушенного зверька промышленные с радостной молитвой удавили. Это был небольшой желтовато-коричневый соболь, мех которого ценился невысоко. Но первая добыча вдохновила и обрадовала охотников. Осматривая настороженные ловушки, они веселей побежали к стану, Мороз все крепчал, дул в лица встречный ветер. Путники укрывали щеки суконными отворотами шапок, дышали под лузан. Сукно смерзалось от их дыхания и деревенело, как короб.
Судя по звездам, к шалашу они подошли едва ли не к полуночи. Другой добычи, кроме первой, Бог не дал. Видели свежий след соболя, которого можно было гнать, пока не подпустит на выстрел или не спрячется. Тогда уж обметать сетью и ждать. Бывает, что промышленные люди сидят так на одном месте до трех суток и все ради одной шкурки. Но Третьяка с Угрюмкой слишком явно не жаловала ухудшающаяся погода, опасаясь ночевать в снегу, они спешили на стан.
Третьяк по-свойски отодвинул навесную дверь балагана. В лица пахнуло выстывшей золой и гарью. Закоченевшими, негнущимися пальцами Угрюмка высек огонь. В очаге, обложенном дерном, лежала растопка, рядом — сухие дрова. Едкий, сладостный дымок потянулся по коньку к отверстию над дверью.
Посидев возле огня, оттаяв смерзшиеся с наплечниками шапки, промышленные выползли из-под крова, закидали снегом стены снаружи и опять влезли в отогревшееся уже жилье. Нижняя одежда просохла на теле. Шапки, рукавицы, наплечники, налокотники были заброшены на решетку под сводом. Там, в дыму, все быстро сохло. Хлеб и квас оттаяли, рыба испеклась и ароматно шипела возле огня.
Они вернулись в зимовье через пять дней с одним добытым соболем, но по наказу передовщика срубили еще один стан и насекли кулемники по ухожьям. Табанька и тем был доволен. Он принял закоченевшего зверька, оттаял и умело ободрал при общем торжественном молчании.
Нехорошко решил остаться в зимовье. Как его ни мяли, как ни парили, поясница то отпускала, то снова болела. Но притом устюжанин управлялся с хозяйскими работами: топил баню и кашеварил. Вместо него к устюжанам ушел Третьяк. Пантелея же, передовщика, отправил подальше, к холмогорцам на Тольку-реку.
К Николе зимнему сумеречный день и тот пропал. Не стало ни дня, ни ночи, только студеная хмарь. Воздух шелестел от дыхания и льдинками осыпался к ногам. Угрюмка оставил на дворе топор, поутру ударил им по лиственной чурке — железо рассыпалось, как ледышка.
По всем приметам, злополучные черти побили святую рать, уморили могучего старца Илью и праздновали победу. Сказывали старики, что в это время, веселясь и пируя, они дерутся между собой, катают яйца на перекрестках троп и тем самым вызывают такую стужу, что и самим становится от нее невмочь. Полезет всякая нечисть под землю, а там тесно. От того, как водится, начнутся распри. Передерется, перегрызется рать нечистая, деля власть тьмы. Станут ей чары не в чары, морочанье не в морочанье, всякое вредительство не в радость, только злоба и междоусобица. И попрет она из-под земли на белый свет, забегает по полям. Пуще прежнего затрещит мороз, и пешие путники, по снегу или по лыжне идущие, будут слышать за своими спинами ее шаги.
Больше всего Табанька переживал о том, что к Николе не удалось добыть ни лося, ни оленя-«микольца». Пиво он выдержал на славу: крепкое да резкое. По старой русской традиции на Николу надо было разговеться посередине рождественского поста, но никакого другого мяса, кроме зайчатины, в зимовье не было. Нехорошко же, хваля пиво, про зайчатину и слышать не хотел. За новым заводом никто из чуниц не приходил, и трое зимовейщиков в праздник жались к очагу, попивая пиво, закусывали сиротской кашей и вспоминали промышленных, пережидавших стужу в ветхих шалашах.
Из-за холодов заводчиков не было до самого Рождества, и они решили под Великий день наслать проклятье на мороз. Для этого наварили овсяного киселя, Нехорошко просунул голову в трубу и, покидав через нее ложкой варева по всем сторонам, стал приговаривать:
Мороз, мороз! Приходи кисель есть. Мороз, мороз! Не бей наш овес, Лен да конопли в землю вколоти.И помог заговор: потеплело чуть ли не на другой день. Разлетелись укрывавшиеся под крышей и возле зимовья птицы, перестало трещать в лесу. Перед Крещением Илья Пророк стряхнул с глаз немочь и поднял свой меч. Плечом к плечу встал рядом с ним предводитель небесного воинства Михаил Архангел и бесстрашный Егорий облекся в дедовскую броню. Возопила нечистая рать, да поздно. Уже вывела на небо белых коней заря — девица красная. На самом его краю блеснул солнечный луч, и побита была тьма.
После Крещения над болотами показалось солнце, да такое ослепительно-яркое, что слезились глаза. От стужи еще потрескивали деревья, а птицы уже начинали весенний галдеж, призывая лето.
Пантелей Пенда промышлял с чуницей Федотки Попова. В зимовье за припасом он не ходил, но с интересом присматривался, как охотятся холмогорцы. После памяти святой Евдокии-свистуньи по новгородскому обычаю промыслы стали прекращать, а клепцы забивать. Хоть и не началась еще линька у зверей — промышленные боялись прогневить весенней добычей святых покровителей и навлечь на себя отмщение тайгунов, спугнув и ту сиротскую удачу, которая была.
Холмогорская чуница сошлась на дальнем стане, стала готовиться к весеннему празднику и отдыху. В студеный край среди холодов и буранов уж летели сорок грачей, несли на крыльях весну. От здешней зимы все устали и с нетерпением ждали тепла.
Холмогорцы собрали вокруг стана ошкуренные собольи и лисьи тушки, сожгли их, натопили мыльню — яму, крытую валежником и мхом. Камней в округе не было, и они вынуждены были обходиться без бани и пара. Когда в мыльной яме стало жарко и нагрелась вода — потели, терлись щелоком из золы и кваса, обмывались горячей водой.
Под началом молодого передовщика холмогорцы навели порядок и встали на молитву по принятому у них закону. А молились они так, как казаки не молились и перед смертью. Пантелей уже устал отбивать поклоны, а холмогорцы только-только входили в раж, решив прочесть всю пятисотицу.
Сказывали баюны, что ермаковцы молились и постились усердно, но те старики, которых Пенда встречал на пути в Мангазею, особой набожностью не отличались. «Это не саблей махать!» — с уважением думал он о набожных холмогорцах. Усталый, присаживался у очага, подбрасывал дров в огонь, вставая и кланяясь, когда читали молитву Господню да Богородичные молитвы, да Символ Веры, да другое, где православному человеку не встать и не поклониться никак нельзя.
Доев блины и хлебное печенье, Федотка дал наказ своим людям утром идти на другой стан, навести и там порядок, а затем возвращаться в зимовье. Сам же с Пантелеем Пендой решил сходить к здешнему остяцкому князцу с поклоном и благодарностью за промыслы на его земле. Для этого он выбрал из добытой рухляди трех соболей средней стоимости, взял с собой бисера да табачных листьев, которые остяки спрашивали у всех торгующих.
Поднявшись поутру, подкрепившись едой и питьем, Федотка с Пантелеем откланялись товарищам и двинулись в верховья речки. Светило морозное солнце, от стужи горели щеки. Но пар, выходя изо рта и носа, уже не шелестел и не падал льдинками к ногам.
С одной нартой на двоих Пенда и Федотка поднялись по заснеженному руслу к одному из верховых притоков Тольки-реки. Здесь идти по люду стало невозможно из-за пропарин и хрупких наледей, под которыми хлюпала вода. К вечеру промышленные выбрались на гриву и увязли там в снегу. Пришлось вырыть яму и переночевать, раздумывая: стоит ли идти к князцу.
Любопытство оказалось сильней, и утром, сменяя друг друга, они потащили нарту по берегу, заметенному глубокими сугробами. Шли так три дня. Постились постом истинным: в среду и пятницу варили заболонь, в остальные дни питались сухарями с квасом.
Менялась тайга. Здесь, в верхнем течении Тольки, лес был гуще и выше. После полудня третьего дня лед кончился: под снегом оказалась земля. Вскоре путники вышли к озеру, покрытому обдутым ветрами гладким льдом. На берегу его одиноко высились иссохшие окаменевшие лиственницы, когда-то заморенные под водой. В стороне от них возле городьбы и кровли из бересты стояли в ряд три струганых истукана. Одно из заморенных деревьев, самое кривое и корявое, было обвешано беличьими и горностаевыми шкурками. Здесь же висела истлевшая русская рубаха, шитая по подолу новгородскими оберегами. Возле истуканов виднелись лунки человеческих и оленьих следов. Свежий переметенный след нарты уходил в сторону от озера.
Федотка почитал молитвы от осквернения. Пенда, перекрестившись, вынул из сайдака стрелу с тупым костяным наконечником, бросил ее к ногам менквов.
— След — это хорошо, — сказал, настороженно осматриваясь и отплевываясь содранными с усов сосульками. — Только ночевать негде. На льду — замерзнем. Здесь, — кивнул на истуканов, — убьют как непрошеных гостей.
Посоветовавшись, промышленные решили вернуться своим следом в ельник и там устроиться на ночь. Вдруг почудился им какой-то звук. Пенда сбросил сермяжный малахай, откинул пряди волос за спину, оглянулся и увидел тройку оленей, резво бегущих в упряжке. Упершись ногами в торбазах в копылья, на ней меховым пузырем сидел остяк в долгополой шубе, называемой здесь гусем, и погонял оленей длинным шестом-хореем. Сзади к нарте были привязаны еще два оленя.
Тройка резко остановилась рядом с промышленными. Из-за меховой опушки шапки, шитой заодно с шубой, с любопытством и озорством на них взглянули круглые черные глаза. Пенда поднял руку и произнес остяцкое приветствие. Остяк не ответил. Казак поправил смерзшиеся усы и отчетливей повторил сказанное.
Федотка с любопытством потянулся к пристяжному оленю, хотел погладить мохнатую шею. Олень вдруг встал на дыбы и ударил его передними копытами так, что промышленный повалился. А пристяжной, с обидой на плутоватой морде, лег на снег, будто сам был безвинно побит.
Остяк тонким женским голосом выругался, да так срамно, что у Федотки зардели щеки, а Пенда от удивления хмыкнул в смерзшуюся бороду. Воткнув хорей между полозьев, остячка легко вскочила, схватила оленя за задние ноги и задрала их так, что тот зарылся мордой в снег. Чтобы не задохнуться, он вынужден был подняться на передние.
Еще раз обругав оленя острей иного новгородского срамослова, резвая бабенка обернулась к промышленным и на сносном русском языке спросила:
— Куда идете?
— К толькинскому князцу! — пролопотал Пенда и, еще не придя в себя от удивления, спросил, часто мигая стылыми глазами: — Ты кто? Девка?
— Баба я! — ответила остячка и добавила грубо: — За русом была замужем.
— И где он, твой муж? — оправившись от смущения, спросил Пенда.
— А… накрылся! Тунгусы убили, однако, или сбежал, — она махнула рукой на закат. — К старой русской жене.
Судя по русскому выговору, пропавший муж был новгородцем. Остячка ловко впрягла в нарту промышленных двух своих пристяжных оленей и привязала их к своей упряжке. Ни слова не говоря, она колобком упала на прежнее место и, выдернув хорей из снега, ткнула им в зад коренника.
Промышленные бежали рядом с упряжкой, пока не согрелись. Первым сел в нарту Пантелей, потом его сменил Федотка. За истуканами начиналась наезженная колея. Олени, напрягаясь, затрусили быстрей. Чтобы не околеть в суконной одежде, промышленные попеременно бежали рядом с нартой.
Когда они спустились на озеро, ветер с таким остервенением задул в лица, что при сильных порывах олени останавливались, нарты сбивало, хорей вырывало из рук отчаянно ругавшейся бабенки. На середине озера их накрыла холодной колючей шубой злая старуха Хад — хозяйка зимней тундры, северная пурга. Все слилось в белой мгле. След исчезал сразу за катящейся нартой. Но вот промелькнул тальник, за ним — березки и лиственницы. Упряжь явно вышла на берег.
Остро запахло дымом. Олени остановились, радостно мотая рогами, почесывая голенями уши. Сквозь метель завиднелся чум. Из него выскочили полуголые лохматые подростки. Увидев чужаков, они стыдливо скрылись за пологом, а оттуда появился раздетый до пояса мужик с распущенными по плечам волосами. Он перекинулся словами с остячкой, распрягавшей оленей. После того из жилья неприветливо выполз дородный косатый остяк в малице.
Пенда, как при встрече с бабенкой, поднял руку, пробубнил приветствие сквозь смерзшуюся бороду. Косатый что-то буркнул в ответ. Остячка сказала по-русски:
— Он — толькинский мюты-кок. — И, полопотав с косатым, добавила: — Мюты-кок зовет вас к своему очагу!
Косатый, переваливаясь с боку на бок, степенно направился к чуму, стоявшему в стороне, откинул полог и встал, пропуская вперед гостей. В их лица пахнуло запахом варившегося мяса. Пенда сунул за кушак топор, подхватил с нарты пищаль, Федотка — лук и мешок с подарками.
Согнувшись, донец протиснулся к жарко пылавшему очагу, возле которого сидела старуха с морщинистой вислой грудью. Следом влез Федотка. Старуха, будто не замечая гостей, пошарила за спиной, подбросила под большой черный котел пару сухих хворостин. Промышленные склонились к огню, оттаивая узлы на одежде. У Пенды вместо бороды на лице была сосулька с дыркой против рта. Растопив ее, он стал разоблачаться.
С кряхтеньем в чум влез князец. Хмуро сел напротив гостей, не снимая малицы и не поднимая глаз. Затем шумно вкатилась та самая остячка, что привезла их. Она сбросила малицу и осталась в пыжиковой жилетке. Нос и глаза — пуговками, широкое лицо — лопатой: молодая, веселая. Глядя на нее, легко было понять прельстившегося новгородца. А что она думала о всех русичах из-за своего беглого муженька, об этом Пенда с Федоткой только гадали, поглядывая на хозяев чума.
Едва все расселись, старуха вытащила деревянное корытце и стала выкладывать парящее мясо. У Пенды, не евшего свеженины с самой сырной недели, от запахов закружилась голова. Федотку так замутило, что он, ткнувшись носом в шапку, долго боролся с тошнотой и привыкал к скоромному духу. Затем, пересилив себя, обсохнув и согревшись, развязал кожаный мешок, вынул узелок с бисером и положил возле ног князца, достал припасенную горсточку корольков — подарил ее молодой остячке. Старуху он тоже не обошел вниманием, достав из-за обшлага стальную трехгранную иглу. Только после этого выложил соболей и придвинул их князцу.
Обращаясь к остячке, Федотка просил сказать, что его чуница промышляла на Тольке и он пришел поблагодарить князца. Бабенка залопотала, глядя на косатого. Тот стал еще смурней, разглядывая черный котел над очагом. Одна только старуха выглядела довольной подарком и явно радовалась, поглядывая на иглу. Она поставила корытце с мясом на вышарканную оленью шкуру, сюда же — плошку с рыбьими головами и блюдо с клюквой. Федотка выложил мерзлую краюху хлеба, хранимую на черный день.
Князец взял рыбью голову, стал ее неторопливо обсасывать. Старуха с остячкой последовали его примеру. Чтобы не обижать хозяев, Пенда мысленно перекрестился, помянул своего станичного попа, не считавшего большим грехом нарушение поста в походах, и с удовольствием налег на рыбу. Федотка же посасывал клюкву и отщипывал кусочки оттаявшего хлеба.
После еды князец повеселел, вытер руки о шкуру, достал снизку собольей рухляди, связанную бечевой за отверстия глаз, и стал с пристальным лукавством вглядываться в лица промышленных. Они его разочаровали. Снова посмурнев, он отбросил соболей и пробормотал сердито, а остяцкая бабенка сказала по-русски:
— Мюты-кок хочет подарить вам много соболей. Ваши люди так любят их, что почти всех переловили. Скоро ни одного не останется.
Намек на подарки насторожил промышленных. Как предупреждали бывальцы, за этим должна последовать несопоставимая просьба.
— Мы пришли к вам с подарками и с благодарностью. От вас никаких подарков взять не можем — царь не велит! — сказал Федотка.
— Сарь! Сарь! — раздраженно проворчал князец и с такой тоской взглянул на пищаль, что желания его стали понятны. Он вдруг заговорил с важным видом, да так быстро, что остячка едва успевала переводить: — Хотите много соболя — далеко идти надо, к тунгусам, за большую реку. Там мясо оставить нельзя — соболь найдет и съест. Тунгусы будут вам рады, им без соболя жить лучше.
— У вас есть ясырь из тунгусов? — спросил Пенда, вспомнив лохматого, почему-то неостриженого мужика с распущенными волосами.
— Есть ясырь! — охотно ответил князец. — Дорого купили, за соболей не отдадим — только за железо.
Ясырь говорит, за большой рекой другая река. Там живут длиннобородые люди, ездят на конях, как Мир-сусне-хум. У них много железа. Зря нам железо не продаете. Придут те конные люди с восхода и будут железо продавать дешево. — Князец помолчал, ожидая просьб и торга, но их не последовало. Раздраженно посопев, он обронил несколько слов.
Остячка поднялась и сказала по-русски:
— Пойду разведу в чуме огонь для гостей!
Промышленных отправили в берестяную юрту с земляным полом. Стены для тепла были забросаны снегом.
— Не жалует хозяин! — усмехнулся Пенда, едва ушла остячка. Он был сыт, одежда просохла. Федотка тоже с облегчением покинул жилье князца. Вдвоем они натаскали хвороста, которого поблизости было много, втащили под кров нарту и сносно провели ночь: один спал, другой дремал, поддерживая огонь.
Утром, подкрепившись сухарями и квасом, казак с холмогорцем ушли к зимовью с чувством исполненного долга.
* * *
К Благовещению, оставив обжитые станы, все промышленные люди собрались в зимовье. Устюжане и холмогорцы радовались встрече друг с другом как самые близкие родственники. Вернувшихся ждал радушный прием тех, кто пришел раньше.
Баня не успевала выстывать. Чуть не каждый день из ее низкой двери коромыслом валил дым. Вернувшиеся отбивали заповедные поклоны о молитвах услышанных, о просьбах исполненных, сбрасывали провонявшую кострами и потом одежду, шли в баню. Парились они долго, неспешно хлеща себя пихтовыми вениками, за которыми Угрюмка с Третьяком ходили далеко, сползали с полка чуть живые, отлеживаясь на холодке или в снегу, потом снова принимались хлестать свои жилистые тела. Нехорошко с Табанькой подносили им квас в корцах.
Как братья, встретили Пантелея Пенду Угрюмка с Третьяком. Чуница с Тольки-реки добыла соболей больше других. Молодой Федотка Попов был скромен, лишь озорные и улыбчивые глаза задорно поблескивали. Но его люди поглядывали на ватажных горделиво.
Среди устюжан погиб добрый и благонравный ровесник Пенды, зять главного пайщика Никифора. Попустил Господь несчастью родных и близких за грехи их. Устюжанин набрел на остяцкий самострел, и толстая стрела, настороженная на лося, навылет пробила молодецкую грудь. Две девки незрячие, Доля с Недолей, вязали узелок на пряже, да оборвали под неловкими пальцами нить.
За праздничным застольем промышленные обсуждали пережитую зиму. Передовщик Табанька, сидя под образами в красном углу на полупустом сундуке, велел сложить перед ним все добытые меха и доносить жалобы.
Вставали чуничные атаманы, развязывали кожаные мешки, хвастливо трясли увязанными в сорока собольими, беличьими и горностаевыми мехами, выставляли напоказ самых черных и дорогих соболишек, но никто ни на кого не жаловался.
Табанька понимал, что делается это неспроста, и ерзал в красном углу. Как подросший петушок дуется, распушает шею, чтобы просипеть первый, сдавленный призыв к солнцу, так и он, то подбочениваясь, то кособочась и помигивая истончавшими птичьими веками, повелевал:
— Желаю слушать чуничных атаманов о вверенных им мной людях: не грешили ли, не скрывали ли добычи, не нарушали мои наказы?
Веселый шумок прокатился по избе, и Лука Москвитин, не вставая в кутном углу, не прося слова, не крестясь, не кланяясь, пророкотал:
— Мы люди свои! Промеж себя сами все порешили миром… И холмогорские так же. Коли Федотка о Пенде что скажет или Пенда о холмогорцах — послушаем… Или ты нам о своих сидельцах расскажи.
Вроде бы говорил Лука тихо, приветливо и ласково, но в его словах передовщику послышались бесчестье и насмешка. Он обиженно умолк, пробормотал, пыжась соблюсти достоинство:
— У нас все жили праведно, с молитвой и с миром…
— Сорока соболишек не добыли! — хохотнул кто-то из поповской родни.
Другие стыдливо примолкли, опуская насмешливые глаза долу, но на сказавшего никто не шикнул. Молчание стало неловким. Тогда поднялся молодой Федотка Попов. Перекрестившись да поклонившись на образа Святой Троицы, Спаса, Богородицы и Николы Чудотворца — всем странствующим по Сибири, всем промышляющим и торгующим заступника, спросил у старших и у передовщика разрешения молвить слово, заговорил разумно:
— Не впервой меня сводит судьба с Пантелеем Демидычем — ничего плохого о нем сказать не могу, а хороших дел за ним много, и они всем известны.
Федотка сел. Табанька пробормотал было под нос, дескать, знаем овечек с волчьими клыками да при саблях! Но высказать свое недовольство в голос он не посмел. Промышленные загалдели. Одни хвалились добытым, другие оправдывались и показывали своих лучших головных соболей. Самыми неудачливыми были зимовейщики, и Нехорошко отбрехивался, как пришлый пес, зажатый стаей, то против своих, то против Табаньки.
Самые сметливые уже прикинули, во что обойдутся десятина, подати, поклоны и подарки, подсчитали, что по мангазейским ценам заработано по кругу. Третьяк водил немигающими глазами, внимательно глядя на говоривших. Светлые волосы сосульками свисали с его головы на юношеские плечи. С беззаботной усмешкой на безбородом лице он кивнул Пенде с Угрюмкой:
— Выходит, Рябой с Кривоносом, если остались в Верхотурье на зиму, заработали больше. И ночевали на печи, и зимовали сытно.
— Пригрелись, однако, возле вдовушек! — тоскливо взглянул на него Пантелей Пенда. — Поминают нас в молитвах и жизнь нашу прежнюю, грешную отмаливают… Дай им Бог всякой милости, — перекрестился.
Опять длинные волосы лежали у него по плечам, густая, почтенная борода закрывала грудь.
— И пегих людей не увидели, и богатства не нажили! — посмеивался Третьяк над загрустившим Угрюмкой.
— Неужто так и не выберемся из нужды? — жалостливо поглядывал он на казаков. — Что велел передовщик, то я и делал, — стал было оправдываться.
За зиму Угрюмка заметно вырос и раздался вширь. Ветхий охабень с чужого плеча уж не болтался на его плечах. Волосы Угрюмка стриг на московский лад, подрезая челку над бровями.
Третьяк же беспечально утешил его:
— Как говорил Соломон: «Ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи; если буду богат — возгоржусь, если буду убог — задумаю воровство и разбой, а жена — распутство».
Не понял молодой покрученник, то ли смеется товарищ, то ли одобряет прожитую зиму.
Дозорные оглядывали заснеженные равнины, холмы, заросли жимолости и малинника, проклюнувшиеся из-под осевшего снега. Солнце слепило так, что впору было надевать березовые очки с прорезями. При безветрии в полдень с крыши избы вдруг и сбегало несколько капель, смерзаясь в сосульки, и они по-весеннему искрились на дранье. Птицы щебетали громко и радостно — не как зимой. И каждый вечер люди в зимовье говорили о знаках приближавшегося лета.
Стали думать промышленные, как дальше жить. Табанька предлагал возвращаться в город, пока не растаяли болота и полая вода не пошла по льду. Для многих велик был соблазн очутиться на Святую Пасху в Мангазее. Складники, привыкшие считать прибыли и убытки, выслушали Табаньку с почтением, но, к великому его удивлению, не поддержали.
Ответили они ему степенно и рассудительно:
— Здесь крыша над головой, очаг и баня, какой-никакой, а съестной припас — до Троицы прожить можно.
— Самое время мясо добывать — олень и лось на север идут. Скоро щука хвостом лед побьет — рыба ловиться станет… В Мангазее же к лету, сказывают, посадские и в бани на ночлег Христа ради не пустят. За кров — плати, за дрова — плати, к весне ржаной припас вдвое дороже, а дичины возле города не добыть.
— Нехристи, что ли? — вспылил Табанька, удивленно оглядывая исхудавших, в обветшавшей одежде людей. — На Святую Пасху с медведями плясать?
— И здесь помолимся! — возражал поперечный Нехорошко. — Дождемся большой воды, по ней поплывем в город. А там, глядишь, из Обдорска прибудут купцы с хлебом, подешевеет ржаной припас.
— Да здесь и на Петра-солнцеворота бывает лед по рекам, — распалялся Табанька. — Сколько ж без дела сидеть? От такой жизни и медведь с тоски помрет… Там бани, пиво, церкви, гуляние!
Не понимали Табаньку устюжане с холмогорцами, а донцы-покрученники в спор не вмешивались.
— Вызнав нужду, купцы такие цены на хлеб заломят — никакие промыслы не спасут, последний кафтанишко заложить придется, — рассудительно заметил старый сибирец Лука Москвитин.
— Сами хотите бездельничать и нас принуждаете, — яростней заспорил Табанька, кивая на донцов, как на опору. — В городе, — ударил себя в грудь, — плотники да каменщики — полезны будем и людям, и Богу.
Все обернулись к Пантелею, в чью сторону так уверенно кивал Табанька. Тот расправил по груди молодецкую бороду, поднялся крестясь.
— С тоски не закручинимся, — сказал. — На суда в Мангазее цены высоки, вместо стружков-однодневок[51] или плотов построим струги, а то и шитик[52]. Сосна есть. По большой воде князьями сплывем. А после суда продадим.
Табанька и вовсе скис, косо и боязливо поглядывая на казака: на его мерку, он был упрям, как поморец, хитроумен, как холмогорец, а по нраву — московит!
Запечалился передовщик, глядя на ватажных. Что с того, что крест ему целовали и сажали властвовать? Как исполнивший назначение трутень в пчелином улье упирается, не понимая, отчего его, недавно всеми почитаемого, выталкивают вон на верную погибель, так и Табанька безнадежно противился, но идти против всех не отваживался. Только ворчал: и мяса, дескать, не добыть, и рыбы, мол, не наловить.
— Чтобы оленя промышлять, места иметь надо. Остяки весной собираются большими родами и промышляют все, кто может лук в руках держать. А как нагрянут к зимовью и станут здесь табором? — наговаривал смутные угрозы. — Они нам уступают только пушнину, а за корма и рыбу могут мир порушить, и воевода их оправдает, ради мира с ясачниками все вины на нас свалит.
Промышленные, выслушав всех, кто желал что-то сказать, решили: с мясным и рыбным промыслом да с охотой на птицу быть как Бог даст. Заложить шитик под началом Пантелея Пенды и каждому для этого срубить и приволочь по две сосны да распустить на доски, как он укажет. Передовщику же Табаньке, сыну Куяпину, заботиться о пополнении мясного и рыбного припаса и брать для этого людей, сколько надобно, и промышлять не в ущерб строительству.
А если кто нарушит соборное решение и побежит в Мангазею на Святую Пасху — тем уйти воля, но ужину из ватажной добычи не выделять до общего возвращения.
Вскоре, проваливаясь в прихваченный ночной стужей наст, мимо зимовья прошел лось. Табанька, Угрюмка и Третьяк, взяв нарту, пошли по следу. Наст держал людей на лыжах, а лось то и дело проваливался. День был пасмурный. К вечеру промышленные догнали бы изнуренного зверя и добыли его. Но возле березняка, в котором хотел укрыться и отдохнуть лось, его забили тазовские остяки, тоже промышлявшие мясной припас на двенадцати оленях.
Обескураженных русских людей они встретили приветливо, хотя среди них не было толмача. Знаками пригласили к стану, напоили брусничным отваром, предлагали свежую, испеченную на углях печень и порсу, но было время строгого поста.
Табанька что-то пытался лопотать. Поняли его или не поняли остяки, но отрезали тяжелую лосиную лопатку с копытом, а за это потребовали поделить добытое мясо среди остяцких семей, чтобы у тех не было обид на родственников.
Промышленные вернулись не совсем пустыми, но и не с той добычей, на которую рассчитывали. На другой неделе по следу прошедшего зверя пошли пятеро и добыли его.
На устье ручья, при впадении в Таз-реку ловилась рыба в прорубях. Место это считалось бедным. Остяков оно не привлекало, но кое-какой припас щуки, окуня, сороги, язя и нелядки зимовщикам удавалось наморозить и засолить.
Пантелей Пенда выбрал место для верфи вдали от берега и заложил остов шитика. Указав, что кому делать, он стал трудиться с утра до вечера: и доски тесал, и остов судна ставил.
Одни из промышленных плотничали, другие копали корни, курили смолу, плели канаты и делали бечевы. У кого не лежала душа к плотницким работам — уходили от зимовья все дальше и дальше в поисках мясной добычи, а возвращались они не изнуренные постом.
— У кого к Чистому понедельнику скоромное в зубах навязнет, тот чертей во сне видит! — ворчал Лука Москвитин, укоряя охотников в Страстную неделю.
Те смущенно оправдывались, говоря, что, кроме сосновой заболони ничего не ели. А то, что во сне кричат, — то нечисть на Страстную неделю в доме лютует.
— Ты бы помело или кочергу зажал меж ног да обскакал бы зимовье! — предлагали Луке, чтобы очистить жилье от нечистой силы. Тот, указывая на холмогорцев, на Тугарина, не мог не съязвить, что им, блюстителям старины, это больше пристало, чем ему, устюжанину, «порченному законом татарским да обычаем византийским».
На верфи работали молча, боясь проронить пустое слово, то и дело читали вслух молитвы, чтобы не пускать безлепицу в мысли. Вечерами пели «Сон Богородицы», про Лазаря и Алексея человека Божья. Третьяк подпевал складникам красивым голосом, а то и сам начинал песни печальные.
В ночь на Великий четверг, как принято на Руси со времен стародавних, все жгли старую одежду, выжигали в очаге соль, купались в проруби задолго до зари, пока ворон не выкупал своих воронят, мазали на дверях и воротах кресты очищенной четверговой смолой, ходили в лес бить в котлы и в сковороды.
Рассыпалась старая одежка на окрепших Угрюмкиных плечах. Сколько ни штопал, ни чинил — на другой день опять дыра. Оглядел он со всех сторон сношенный охабень, повздыхал — да и сжег его в надежде на будущую обнову. А до тех пор решил походить в рубахе да душегрее из шкур.
На Страстную субботу не промышляли и не работали, только молились в вычищенном зимовье, готовили скоромную праздничную снедь. Отстояв всенощную, наутро, в Велик день, зимовейщики преломили обетный хлеб. Вместо облупленного яйца стали разговляться вареной печенью, присыпанной четверговой солью.
К полудню они уже пели и плясали у костров так, что чертям было тошно, качались на качелях, вызывая у нечисти головокружение и тошноту, верили, что радуются на небесах святые заступники, видя их веселье и благополучие.
Попивая крепкое мартовское пиво, передовщик, все еще печалясь об упущенном развлечении, качал головой и рассказывал, как весело выходят из тайги первые, ранние ватаги, как встречают их по острогам воеводы да приказчики, какое веселье бывает в Мангазее в эти дни.
После трудной зимовки и здесь было хорошо. Верили промышленные люди, что от Святой Пасхи до Вознесения им дарована одна только радость, потому что ходит по земле Сам Спаситель, а сатана же лежит в аду ничком — не шелохнется.
Весна была затяжной. Уже оттаяли болота, а река все тужилась, не в силах взломать оковы. Только в конце мая треснул ноздреватый лед и тронулся вниз по течению. Вскоре стала подниматься вода. К тому времени шитик в пять саженей длиной был сшит и просмолен. Плотники решали, крыть ли его палубой, но половодье положило конец работам.
Ночью выл ветер, громыхая драньем на крыше, трещали деревья, ревел вздувшийся ручей, плескалась вода в реке. Прислушиваясь к шумам, зимовщики строили догадки, что очнувшиеся от зимней спячки водяной и леший опять дерутся, вспомнив былые обиды. Нехорошко рассказывал, как на прошлой неделе набрел на медведя. Он сидел напротив чувала, подбрасывая дрова на угли. Мечущееся пламя высвечивало нечесаную бороду, покрывавшую впалые щеки. Тень его носилась и металась по срубу стен.
— Сидит и на меня пялится! А глазки маленькие, злющие. «Чего, — говорю, — таращишся? Стрелю вот трехгранным наконечником». А он — кожа да кости, шерсть клочьями. Я глядь, возле его лап будто пень, а мохнатый — не леший ли, думаю? Бражки опился, спит, а хозяин караулит. Двое, да пьяные — заломают… Надо поскорей ноги уносить: хоть по-русски кричи, хоть по-остяцки им во хмелю-то все одно.
— Медведь с лешим — первые друзья. Друг за друга горой! — позевывал, крестя рот, Лука Москвитин. Он лежал на нарах, задрав бороду, глядел на мельтешившие тени, прислушивался к завыванию ветра, радовался теплу и сытости.
На Василиску уже и утки стали гнездиться, а вода все прибывала. Вскоре она поднялась так, что шитик сам собой сошел с покатов и закачался на плаву. Пришлось его чалить к подтопленным деревьям. Ручей тоже взбеленился: вода подбиралась к воротам зимовья, разлившись на десятки верст, затопив болота, лесные колки и сам ручей.
Быть бы затопленной и могиле погибшего промышленного. Но перед тем под самое утро он приснился Луке мокрым и укорял его своим видом. Услышав про сон, устюжане откопали колоду с убитым, положили тело в стружек-однодневку и решили вести покойного в Мангазею-город. Никто из ватаги перечить им не смел.
Как принято со времен стародавних, собрались промышленные в зимовье под образами и, помолившись Всемилостивейшему Господу, во Святой Троице просиявшему, Пречистой своей Заступнице перед Его светлыми очами да Николе Чудотворцу и всем святым заступникам, надумали они на Иванов день грузиться в судно и плыть по разлившемуся морю к Мангазее, а стружек с покойным устюжанином привязать к корме.
Когда все было готово к отплытию, казаки с Табанькой-передовщиком взошли на шитик. Устюжане с холмогорцами еще молились в оставляемом зимовье. После молитв Лука, попугивая домового потопом, заманил его в сундучок: не оставил хозяина на мытарства в пустом жилье. Перекрестившись в последний раз под кровом, старый промышленный со спокойной душой закрыл ворота, к которым подбиралась вода.
На шитике каждый занял свое место. Угрюмка с Третьяком отвязали концы. По знаку Пантелея Пенды гребцы налегли на весла — и пошли по бескрайнему морю среди торчавших верхушек деревьев, среди островков, поросших малинником и жимолостью, поплыли на полночь, куда указывали полуденные тени.
Дул попутный ветер, нес запахи распустившейся листвы и зеленеющих трав. Вскоре он сменился на свежий, боковой. Свободные от гребли закутались в меховые одеяла и легли между гребцами. Едва ветер стих, пригрело ясное солнце, и тут, будто ласкаясь и винясь за прошлогоднее зло, начали попискивать комары.
А как начала затухать заря вечерняя, отражаясь в спокойной воде, вокруг судна заплавали стаями утки, оставляя за собой серебристые полосы. При приближении они ныряли и не скоро появлялись на поверхности. Над водой носились летучие мыши. Пролетела сова, и чайки поднялись откуда-то с тревожным криком. Впереди по курсу захлопала крыльями большая утка-хохотунья. Она долго кружила над шитиком, оглашая окрестности гулкими, громкими криками.
В сумерках люди стали пристально высматривать, где бы остановиться на ночлег, — слишком далеко виднелась суша. Уж засверкал золотыми рожками молодой месяц и вызвездило небо, когда они пристали к небольшому острову, спугнув уток. Гнезд с яйцами было там, в траве, так много, что и ступить некуда, но не нашлось сухого места. Промышленные привязали шитик к корням кустарника, легли спать на судне, и долго слышался в ночи тревожный птичий крик. Но успокоились и утки, сев на гнезда при нежелательном соседстве. Ночная стужа прибила комаров. Пролетел козодой, и летучая мышь прошуршала крыльями над головами отдыхавших. Ночь прошла спокойно и благополучно. На рассвете шитик поплыл дальше, отдавшись воле течения, которое простым глазом трудно было различить.
К полудню и в эти студеные края въехало лето на пегой кобыле. Отдыхать бы да отсыпаться впрок, пока судно носила Божья воля, но ветер стих, и сделалась такая жара, что впору было сбросить одежду. Комары же, войдя в силу, облепили людей и судно так, что все стало серым. На том мирный отдых кончился. Нахлобучив шапки, надев кожаные рукавицы, промышленные разобрали весла и поплыли на полночь. Пантелей Пенда поглядывал в даль с кормы. Он и увидел первым крест Троицкой церкви. Затем показались ее купола и город на коренном берегу с Успенской церковью в посаде. Все было целехоньким, не затопленным.
Горожане издали приметили шитик и долго гадали, кто бы мог возвращаться по большой воде. Сын боярский и два стрельца в малиновых шапках спустились к причалу. За ними вывалила толпа посадских мужиков и баб, томимых любопытством. Вышли на берег и купцы Бажен Попов с Никифором Москвитиным. Они давно поджидали ватагу с промыслов.
Встречавшие размахивали руками, отбиваясь от гнуса. Издали, с реки, казалось, что на причале идет молебен. Узнав своих людей на судне, купцы-пайщики пробились в первые ряды. Они радостно крестились, кланялись, при этом мотали головами и хлестали ладонями себя по щекам.
По чину, исстари заведенному, первым с шитика сошел передовщик Табанька. Степенно поклонившись крестам на церквах, купцам, служивым и всему честному люду, он отступил в сторону, дозволяя подойти к купцам их братьям и родственникам. Узнавая прибывших, посадские выкрикивали их имена и прозвища.
Спустились на причал приказчик с подьячим и таможенный целовальник. Промышленные снесли с шитика кожаные мешки с пушниной. Их тут же надо было опечатать. Взыскивалась государева десятина неспешно, в таможенной избе с растворенными окнами и непременно при низком солнце. Только так можно было увидеть подлинную цену меха.
Но толпа азартно требовала показать, что добыла ватага под началом Табаньки. Уже само количество мешков не вызвало восторга встречавших. По здешним понятиям, не стоило мерзнуть и страдать из-за такой добычи. Но в местах промысла ватаги несколько лет добывали еще меньше. Толпа стала хвалить ватажных.
— Кабы не Табанька — и того бы не взяли! — послышались возгласы мангазейцев.
Подьячий с таможенным целовальником наспех осмотрели меха, показывая их толпе, внесли запись в государеву книгу и опечатали мешки казенной печатью. Затем они велели нести всю добытую рухлядь в церковь.
Купцы послали за посадским попом Евстафием, и тот вскоре был приведен под руки. Все такой же возбужденный и взъерошенный, будто так и не остыл после осеннего бунта, он прямо на причале начал благодарственный молебен.
После того на берег был вытянут стружек с колодой, в которой покоилось тело промышленного. Зарыдал, обнимая ее, Никифор-купец, завсхлипывали промышленные и встречавшие их, приглушенно заголосили посадские бабы.
— Горе мне, бедному! — вскрикнул Никифор. — Как не выпадут глаза мои со слезами вместе! Как не разорвется сердце от горькой печали! Отца человек может забыть, а доброго зятя забыть не может, с ним бы живым мне в гроб и лечь! Моя зла судьбинушка была молодцу написана, написана, да так уж завязана. Нитка судеб сучится Макошью, узелки вяжут Доля с Недолею — девки слепые, незрячие. Господь же Милостивый не оставит несчастного во Царствие своем, в Отечестве нашем Небесном.
Люди теснились, желая приступить к честному одру с телом. И были плач и стон. И утешали мангазейцы с холмогорцами несчастных родственников.
Следом за добытой рухлядью со всеми почестями отнесено было к церкви честное тело. Возле нее, месяца мая в двадцать девятый день, на память святой мученицы Феодосьи-колосницы, с псалмами и песнопением, славя Отца и Сына, Святого Духа и Святую Троицу, промышленные предали прах земле.
День этот исстари почитался за несчастный, стоящий всех понедельников в году.
Здесь узнали вернувшиеся с промыслов, что старик-баюн не дождался их возвращения и с миром скончался на память святого апостола Филиппа. Поняв, что настало время отойти к Богу, матери — сырой земле отдать в долг взятое у нее тело, а дух желанному Господу предать, призвал он купцов и напомнил про уговор.
Те, верные слову, отпели его по обычаю, нарядили в холщовый саван без единого узелка, отрыли в вечной мерзлоте могилу в сажень, где лежать старцу целехоньким до Великого Суда. Теперь по соседству был положен погибший устюжанин. Вдвоем и на чужбине веселей.
«Чужбина ли?» — оглядывались на горожан и на посадский люд холмогорцы: многое в здешних людях напоминало им о родной старине и о былом благочестии, унесенных злыми ветрами далеко от разоренного Великого Новгорода.
Купцы-пайщики, отправив своих людей на промыслы, не бесприбыльно торговали в Мангазее. Помня, во что обошелся осенью постой по посадским дворам, они поставили летник на продувном месте, за посадом: дом не дом, но кров плетеный из прутьев тальника, обмазанный глиной. В нем можно было укрыться от непогоды и гнуса. Строение обошлось им недорого. Поставить его было проще простого, так как с ранней весны в город прибывали промышленные и гулящие — оголодавшие, отбившиеся от ватаг или изгнанные из них за провинности. Все добытое они быстро прожили и согласны были на любые работы ради скудного пропитания.
Мазанка, по примеру степных южнорусских хат, была длиной в три сажени, шириной в полторы. В ней был устроен очаг с вытяжной дырой. Внутри жилья было дымно и темно. Ватажные бросили там постели и пожитки. Холмогорцы поменяли суконные малахаи на свои высокие, как чурки, головные покрышки. Устюжане надели кашники, похожие на горшки. Пенда и Третьяк ходили в казачьих колпаках. Угрюмка смущался своего шлычка. Разыскивать его среди оставленных в городе пожитков он не стал и ходил в сермяжном малахае.
Веселой гурьбой промышленные отправились в гостевую баню с квасами и суслом. Купцы все мирские дела взяли на себя, велев работным приготовить для отдыха летник и накрыть возле него столы. Тем временем мангазейские служилые с таможенным целовальником взяли с ватаги государеву десятину лучшей, отборной пушниной. Оставшиеся меха клеймили и вернули для дележа. Купцы получили на руки описи с печатью, что налог с добычи взят.
После бань и отдыха ватажные люди разложили оставшуюся пушнину на два десятка ужин. Устюжане с холмогорцами долго спорили, какая из них хуже, какая лучше и дороже. И только устав перекладывать меха из кучи в кучу, согласились, что доли почти равные.
Помолившись, промышленные заставили Табаньку стать спиной к разложенным мехам. Бажен Попов перекрестился, положил руку на одну из куч рухляди и спросил: «Чья?» И ответил Табанька: «Моя!» Из его доли купцы, по уговору и крестоцелованию, взяли половину, оставшуюся пушнину забрал он сам. Указав на другую ужину, Бажен спросил: «Чья?» Бывший передовщик назвал Нехорошку Москвитина.
Рухлядь поделили. И когда Угрюмка получил на руки свою треть ужины, оказалась она еще меньше, чем он предполагал, — пятнадцать соболей да всякая мелочь. По мангазейским понятиям, это был убыточный промысел.
Купцы тут же предложили покрученникам по тридцать пять копеек за соболька без перекупной десятинной пошлины. Цена была ни низкой, ни высокой. Но при торге на гостином дворе надо было оплатить десятину тому, кто продавал, да десятину покупавшему. Пенда с Третьяком не торгуясь отдали своих соболей, лис, белок и горностаев. Подумав, продал все и Угрюмка.
Табанька сказал, что продаст дороже, сложил свой полупай в мешок и не выпускал его из рук, пока сидел за столом. Едва стала гаснуть заря темная, поздняя да тут же заалела заря утренняя, он побежал со своим мешком в посад, по слухам и намекам — к жене.
Угрюмка поднялся рано, как только зашумели торговцы на гостином дворе — убежал туда и вернулся писаным красавцем: в зипуне, московской шапке кашником, в поскрипывавших сапогах, которых от роду не имел. Всю-то жизнь проходил сирота в чунях да бахилах, в иные времена носил чирки, чужие и драные.
После бань, угощений, похорон и поминок ватажные, помня свои зимние зароки, пошли толпой в посадскую церковь. Стояли они там особо от других, каждый день прибывавших в Мангазею. Исповедавшиеся на вечере со скромными лицами ждали причастия, смиренно молились, теснясь у правого придела.
К неудовольствию причта, церковь пополнялась запоздавшими даже после литургии верных, когда отперли двери храма. Первые ряды теснились людьми, напиравшими от притвора, добропорядочных прихожан подталкивали к алтарю.
Запах свечей и ладана перебивался сивушным духом. Отец Евстафий бросал дерзкие взгляды на недостойных. Его длинная и редкая бороденка на остром подбородке то и дело задиралась от негодования. Не прерывая молитв, он толкал наседавших то плечом, то локтем, а свободной рукой грозил явно веселым.
Пантелей Пенда был все в том же старом замызганном жупане, но в красных сапогах. Сдавленный со всех сторон, он с отрешенным видом крестился и кланялся, насколько это было возможно в тесноте, то и дело поправлял длинные волосы, при поклонах закрывавшие лицо. Казак старался думать о грехах тяжких и о Милостивом Господе, который три десятка лет терпеливо возился с ним, обуянным пороками и страстями. Но мысли его то и дело убегали далеко, а глаза сами собой косили на другую половину храма.
В первых рядах от алтаря стояли зажиточно одетые посадские, за ними промышленные: одни в кафтанах, обшитых собольими пупками, другие в кожаных рубахах на голом теле. Слева от них молились заносчивые и кичливые посадские бабы. При них едва виделись перевязанные лентами головки малолеток.
«Посадские в девках не засиживаются!» — с тоской думал Пантелей. Он невольно повел головой в сторону и чуть не ахнул: возле большой иконы Пречистой спиной к нему и эдак чуть боком стояла девка лет двадцати, а то и старше, явно перезревая в своем девичестве. Гладко стянутые волосы были покрыты повязкой[53], набранной из поблескивающих дешевых корольков. На плече, покрытом простенькой душегреей, лежала толстая русая коса. Рукава льняной рубахи свисали до колен, из разреза при каждом крестном знамении почти до локтя обнажалась белая бабья рука.
Пенду не привлекали сибирские невесты — тощие, нескладные подростки, которым не давали задерживаться в отцовских домах. И вот — настоящая дева… И где? Кабы не храм, он бы принял это томительное видение за прелестное наваждение, перекрестившись, ожесточил бы сердце: плюнул через левое плечо в харю нечистому, прельщающему истомившегося молодца. Но здесь, крестясь и кланяясь с заколотившимся сердцем, он сколько мог вглядывался в суровые лики и ругал себя мысленно.
«Неужто во святом храме призорился?» — думал не то с тоской, не то с радостью. Опять оглянулся и снова увидел округлое плечо, ухо и овал щеки. Когда она чуть оборачивалась, обращаясь взглядом к алтарю, видел румянец, уголок глаза, тонкий изгиб краешка губ. И колотилось, трепетало сердце. Казалось, если девка совсем обернется — он увидит лицо своей пропавшей жены. Почему здесь и почему в девках? Об этом думать не хотелось. Прельщал нечистый, вызнав тайные скорби молодца.
Почувствовав на себе пристальный взгляд, девка чуть обернулась. Пантелей увидел кончик носа — другого, незнакомого. Но это его не остудило, и он стал настойчиво протискиваться вперед, время от времени оборачиваясь в ее сторону. Возле Николы зимнего, в митре, увидел, что девка не одна такая в храме: неподалеку от нее стояли еще четыре перестарки с волосами, заплетенными в одну девичью косу. По сравнению с посадскими бабами они были скромно одеты, с виду робки и набожны.
Та, которую высмотрел казак, беспокойно завертела головой, скользнув по толпе рассеянным взглядом. Глаза ее ни на миг не задержались на казаке с пышной бородой помелом, с рассыпавшимися по плечам длинными волосами вдовца и печальника. Пантелей невольно поправил саблю, взглянул на вышарканное плечо сношенного жупана, откинул волосы за плечи и подумал с грустью: «Накрой скуфьей — приняла бы за монаха… На таких девки не глазеют!»
Угрюмка и Третьяк за его спиной тоже стали озираться, не понимая, отчего вертит головой товарищ. А у того и вовсе разум помутился. Подходя к аналою, к целованию Честного Креста, и здесь ловил ее случайный взгляд, будто ласку, по которой так истосковалась душа. Выходя из церкви, видел только белую шею, затылок, стянутый косой, прямую, крепкую спину и полнеющие плечи под душегреей. Русая коса свисала чуть не до колен. А под простеньким сарафаном среди складок очерчивались крепкие, широкие бедра. И казалось казаку, обними такую, созревшую, — лопнет в руках или ускользнет, как видение.
Нахлобучив колпак и придерживая саблю, он торопливо обогнал других девок, державшихся возле московского купца с редкой седой бородкой клином, встал на их пути, жадно разглядывая лица. И девки, и купец окинули его плутоватыми, ободряющими глазами. Все были дурнушки, одна даже хромала, и только та, которую высмотрел Пантелей, опять потрясла.
Он увидел ее глаза — голубые, как небо, добрые, ласковые, лучащиеся изнутри дивным светом. Лица ее не разглядел, как в омут, окунувшись во взгляд, и высмотрел в нем тоску, которой томился сам. Ему показалось вдруг, что она тоже поняла его печаль и пожалела, отчего под сердцем казака стала таять давняя ледышка.
Едва он оторвал глаза от девки, московский купец в упор посмотрел на него оценивающим взглядом.
Ватага отправилась к соборному застолью, вновь устроенному купцами. Но Пенда пропал еще возле церкви и появился лишь в самый разгар веселья, когда братина уже несколько раз прошла по кругу. Его не узнали. Холмогорцы чуть было не поднялись, чтобы выставить чужака, севшего не по чину, рядом с лучшими людьми.
Было дело, в Верхотурье Пенда стриг волосы и бороду. Но тогда его узнавали. Теперь он заявился — острижен коротко, как татарин: из-под колпака смешно торчали уши, борода, что свиная щетина, едва покрывала щеки, и только чуб русой волной спускался по щеке к плечу. Глаза казака сияли цветными каменьями и чудно светились. Он был возбужден и весел: шутил и хохотал по пустякам так, что можно было подумать, будто он опился за другим столом.
Угрюмка, надев новый зипун, освободился от чар тобольских пловчих и русалок. Теперь он похаживал с гордым видом, без смущения посматривал на девок и молодых баб. И те глядели на него приязненно. Вот только не знал он, с какой стороны подступиться, чтобы заговорить, и от того незнания хмурил брови, напускал на себя важный вид.
На память святого мученика Устина на Святой Руси рожь говорит: «Колошусь!», мужик: «Не нагляжусь!» В бесхлебном же краю люди глядели на гостей, веселились и радовались. В тот день город с посадом встречали ясачных остяков. Появился на людях и воевода. За зиму он потучнел, стал дородней и строже.
Ворота в город были распахнуты. В новой красной шубе Андрей Палицын сидел на крыльце съезжей избы. Наряженные в кафтаны и собольи шапки, рядом с ним стояли приказчик с подьячим, дети боярские, целовальники от торговых, таможенных и промышленных людей, здесь же были аманаты в цветном платье. В почетном карауле вытянулись березовские казаки с обнаженными саблями.
При подходе гостей со стен города стали палить пушки. Остяцкие и вогульские князцы были подведены под руки к воеводе. И тот поднялся им навстречу.
Каждый из князцов становился ногами на медвежью шкуру, чтобы не таить зла и быть искренним. Подручные вытащили из мешков и вложили им в руки связки соболей. Среди знавших толк в рухляди горожан прокатился одобрительный ропот.
— Примите! — сказал воевода своим людям.
Подьячий с приказчиком приняли меха, прилюдно пересчитали их и, раскрыв книгу, внесли записи на ясачные роды.
Князцы, дождавшись, когда подьячий закроет книгу, выложили еще с десяток черных соболей в поминки воеводе. Снова поднялся Андрей Палицын и объявил громко, что не велено милостивым государем, чтобы воеводы и приказчики брали поминки, но одаривать царя можно, и о том надобно вносить запись в книгу, чтобы милостивому государю было ведомо, какие роды ему верны.
Подьячий снова открыл прошнурованную ясачную книгу и внес в запись о поминочной рухляди. Тогда князцы, переговорив между собой, достали еще с полдюжины шкур да собольих лоскутов и одарили воеводу с приказчиком и подьячим — в почесть. Указа не брать подарков в почесть еще не было, и воевода их принял, щедро одарив гостей хрустальными бусами, бисером, кусками олова.
Остяков и вогулов повели в съезжую избу, где для них были накрыты столы. Народ повалил на торговую площадь. Там начинались гуляния: уже били бубны, литавры, гремели домры, гнусаво выводили песни рожки. Самые лихие и удалые из горожан да подгулявшие промышленные люди выскакивали на круг, зазывая других плясать.
Горожане и посадские, промышленные и торговые, гулящие и весь таежный люд, выбравшийся из полночных дебрей для веселья и радостей, вскоре запели, заплясали с такой удалью, будто желали добить старую или напоказ разбить новую свою обувь и уличить торговцев в плохом товаре.
Когда народное гуляние захватило всех, из застолья в съезжей избе вышли полупьяные остяцкие и вогульские аманаты. Глядя на пляшущих, они невольно задергали руками и головами в такт музыке. Молодой остяк в добротной летней малице из пыжика, с черными косами по плечам вдруг пронзительно завопил и стал скакать. Он прыгал все выше и выше. В крике его зазвучали и ярость, и остервенение, глаза полезли из орбит, а на губах выступила пена. Казаки, заметив, что дикого корчит бес, схватили его под руки и едва успокоили.
В сопровождении московских гостей на площади появились пять девок. Пенда узнал высмотренную в церкви, и показалась она ему еще краше. Будто ослеп казак, невзвидел света белого и никого вокруг, даже саму девку не видел, а только ее глаза.
Узнала ли? Мелькнуло в ее взгляде озорство и пропало, опять появилась печаль: будто винилась за что-то, не отводя грустных и ласковых глаз. Потом они стали настороженны, начали зазывать и что-то выпытывать.
Пенда сдвинул на ухо колпак, протиснулся к ней и стал выбивать дробь высокими каблуками красных сапог. Между ними кто-то скакал и прыгал, размахивал руками. Она, глядя на казака, уже тряхнула округлыми плечами, повела широкими бедрами и мелким шажком устремилась к нему.
Сколько они плясали, он не помнил. Кто-то толкал его в бок. Московский купец хлопал по плечу и что-то говорил. Кто-то пытался оттеснить. Пантелей властно и нетерпеливо отстранял всех, боясь оторваться от ее глаз. А если терял их вдруг — начинал метаться с беспокойством. Отыскав, понимал с радостью, что она этого ждала.
Он заметил только, что народу стало меньше. Потом девка всхлипнула, охнула и по-свойски повисла у него на плече:
— Уморил. Задохлась!
Он услышал ее голос, который показался чудным.
— Донец, удалой молодец, сабля востра! — снова похлопал его по плечу купец.
— Чего тебе? — досадливо спросил Пенда, не оборачиваясь.
— Приглянулась? — громко спросил тот и вдруг беспокойно обронил: — Ты что? Зелья опился?
— Чего тебе? — снова спросил Пантелей.
— Ладно! — отмахнулся купец, сдаваясь. — Растолкуй-ка молодцу все сама, Маланья.
Стала потухать заря вечерняя, поздняя полуночница. Заря утренняя, ранняя и ясная, уж заалела в той же стороне. Защемило под сердцем. Ту, что потерял под Калугой, тоже звали Малашей. Ему показалось, что эта зябко льнет к нему. Он осторожно коснулся ее руки. Она не вздрогнула стыдливо, не отпрянула. Осмелев, Пенда взял ее за руку, сладостно ощутив тепло ладони. Снова очнулся и понял, что уводит ее от торговой площади к реке. Маланья мотала головой и свободной рукой, отгоняя комаров и роящуюся мошку.
«К реке нельзя!» — лихорадочно подумал казак и понял вдруг, что идти некуда. Он повернул обратно, к гостиному двору, где еще сонно попискивали гудки и, будто зевая, звенели струны. Маланья послушно шла за ним.
— Ты чья? — спросил наконец.
— А посадская с Ярославля! — охотно ответила она и бойко заговорила: — Дед помер, отца убили, брат где-то воюет. Нас трое сестер с матерью жили у дяди. А у него своих две девки. От нас одни убытки. Женихов перебили. На каждого увечного — десяток перестарок. А царь дозволил увозить девок в жены сибирским казакам. Купец московский и взялся отвезти в Сибирь, выдать замуж за хорошего человека. Вот и поехала! Дому облегчение.
— А как встретишь суженого, к кому свататься? На Ярославль ехать? — спросил Пенда подрагивавшим голосом.
— Зачем на Ярославль! — Маланья весело толкнула его локтем в бок, показывая свое расположение. — К купцу! Он все расходы на себя взял. Еще и дому оставил полтину откупа.
— Так ты — кабальная? — со страхом спросил он и больно сжал ее ладонь.
— Нет! — ответила она, морщась, не вырывая руки. — Кабалы на себя я не давала. Но чтобы выйти за того, кто приглянется, по добру, надо отдать купцу семь рублей. Он меня второй год содержит.
Удалая казачья головушка лихорадочно заработала — где взять столько денег? Его покрутная доля была выкуплена за пять рублей. Часть денег потрачена. Какая-то копейка перепадет после продажи шитика.
— А я тебе люб? — спросил, вскидывая глаза, в которых еще блистали судороги вдохновения и восторга.
Маланья зарделась, опустила голову и ничего не ответила.
— Люб? — настойчивей спросил он и жадно впился глазами в ее подрагивавшие губы. Она стыдливо прикрыла их рукавом и подняла сияющие глаза. Рукав медленно опустился к подбородку. Как изможденный жаждой — к роднику, Пантелей осторожно прильнул к ее губам своими обветренными, выстриженными и почувствовал, как она по-бабьи страстно застонала, как ненароком прильнула к нему грудью. «Найду деньги! — подумал. — Моя будет!»
Едва он оторвался от полюбовной своей девицы, она положила голову ему на плечо и, чуть всхлипывая, тихонько запела:
Уж я со вьюном хожу, с золотым хожу. Я не знаю, куда вьюн положить! Положу я вьюн на правое плечо! Я ко молодцу, ко молодцу иду. Поцелую да и прочь уйду!Он ласково прижался к ее голове щекой и подпел:
Целуй, Дрема, целуй, Дрема, Целуй, Дрема, по любви!Они тихо рассмеялись, поцеловавшись весело и радостно.
Припомнилось казаку, что и прошлый раз, когда его присушила девка, ставшая женой, удалая жизнь, в которой он не задумывался о деньгах и доходах, вдруг превратилась в нескончаемую нужду и суету.
Он забыл думать, что никто не видел его венчанной жены мертвой. Доброхоты злословили, что бежала с богатым ляхом пана Ржевского. «Пока втолкуешь здешнему попу… — подумал с раздражением о новых нуждах в деньгах. — Тоже не даром».
Что дозволено воину, не дозволено пахарю. Он опять сжал девичью руку. Маланья приглушенно охнула. Пенда опомнился, повел ее к посаду, к Успенской церкви.
— Люба ты мне, — сказал. — Ой как люба! Увидел и обомлел. Все бы отдал за тебя, — сорвалось с языка. Он удивился невольно сказанным словам, скосил глаза на левое плечо, рассудочно добавил — не для девки, но для подначившего беса: — Кроме воли и сабли!.. Только… Была у меня жена венчанная. Три года — ни слуху ни духу… Если люб я тебе, пойдем к батюшке, спросим, согласится ли венчать.
Она не вырвала руки, не убежала, не зарделась стыдливо, взглянула насмешливо, как на ребенка, вздохнула и пробормотала нараспев:
— Сваталась Маланья на Масленице, а того не ведала, что Масленица тока напоказ ставит красавцев.
— Я с ней недолго пожил… То ли сманили, то ли убили — кругом измена, кровь! — по-своему понял насмешку Пенда.
— Будто я лучше, — хохотнула Маланья. — Рада бы под венец — да зад в дегте! У меня тоже жених был, молодец — полюбовный удалец… А к Евстафию не пойду: он на исповеди епитрахилью накроет и рукой за пазухой шарит… После покаемся у кого-нибудь. Ты сперва купцу заплати, чтобы силком за кого не отдал. От Обдорска черствым куском попрекает — ворчит, пора, мол, козу на торг вести.
«Хорош соболек, да смят!» — беспечально подумал Пантелей, вслух же пропел:
— Не пил бы, не ел, все на милую глядел! — Подумав, добавил: — У моря горе, у любви вдвое!
— Ты заплати! Людям скажешь, что сестра сродная. Разбогатеем, покаемся.
Казак обнял Маланью. Она с готовностью прильнула к нему, положила подбородок на крепкое плечо, вздохнула с бабьей тоской. Вспомнились обоим оттаявшие весенние поля, обнажившие сотни скрюченных тел, окрашенные кровью зори в родимой западной сторонушке. Почуяла девка сердцем, какие мысли нахлынули на молодца, закрыла ему глаза теплыми ладонями, прошептала строго:
— Как вечерняя и утренняя заря станут потухать, так бы у моего друга милого всем бы скорбям потухать!
Убрала с глаз ладони, и увидел он ее лицо не таким, как представлялось. Она же со стоном ткнулась лбом в его плечо, всхлипнула:
— А ведь ты не служилый, не казак! Гулящий, поди?
Розовела заря утренняя. Приятная прохлада веяла с реки.
— Как не казак, — приосанился Пенда. — Настоящий, родовой казак с Дона-батюшки, и по отцу, и по деду, и по матери казак.
Маланья терлась лбом о его плечо и постанывала. Оторвалась, пересилив себя, вздохнула:
— Судила Маланья на Юрьев день, на ком справлять протори. — Зевнула, крестя рот. — Однако надо возвращаться к купцу. А то и в сени не пустит.
Тих был город светлым полуночным утром. Встретились на небе супруги вздорные — месяц ясный с солнцем красным. Миловались ласковые, не успев рассориться. Блистал меч в руке могучего старца Ильи Пророка. Страшась его жгущих глаз, пряталась нечисть, запираясь под землей за воротами меднокаменными.
Угрюмка с Третьяком мирно спали в летнике. Пенда растолкал их, стараясь не разбудить других, зашептал:
— Займите-ка что у вас осталось из денег.
Вместо того чтобы по казачьему обычаю братской взаимопомощи отдать все, что нажито, Угрюмка, краснея и позевывая, сказал, что денег нет — все потратил. Третьяк стал выспрашивать, не на девку ли нужны деньги, на которую глазел на гостином дворе? Бодро поднялся с нар, крестясь. В городской церкви зазвонили, да он на литургию ходил прилежно, святые книги читал, чистоту душевную и телесную без скверны соблюдал.
— Хоть бы и на девку! — огрызнулся товарищ. — Ее московский купец примучил[54].
— Ты сперва выспись и помолись! — шепотом стал поучать Третьяк. — Девок полсотни везли. Эти — высевки: даже в Обдорске никому не понадобились… Четыре — убогие, а твоя — пава!
— И что? — обиженно уставился на него Пенда. — Сколько у тебя осталось?
— Рубль с полтиной! — ответил Третьяк, глядя на товарища немигающими глазами. — На новый храм отдал. Забери рубль. Только подумай прежде, отчего твоей зазнобе в Обдорске жениха не нашлось?
— Отчего? — повеселев, спросил Пенда.
— Если дарует Бог жену добрую, это лучше камня драгоценного; она из выгоды всегда устроит мужу своему хорошую жизнь. Хорошая жена — награда тем, кто боится Бога, — занудно стал поучать.
— Разве я Бога не боюсь? — пересчитывая деньги, рассеянно спросил Пенда.
— Тебе-то жена зачем? — в голос воскликнул Третьяк. — К тому же твоя с купцом живет! — выпалил, пристально глядя на товарища.
— Брешут! — Мотнул головой Пантелей, не желая обсуждать достоинства Маланьи. Про то, зачем она ему нужна, не вспомнил, побежал к купцам на гостиный двор.
— Вот уж верно, — с тоской взглянул ему вслед Третьяк. — Глупых не сеют и не пашут, в житницу не собирают — сами родятся… В церковь пойдешь? — спросил Угрюмку.
Тот потянулся, поморщился досадливо, зевнул и укрылся новым зипуном.
Было ясное безветренное утро. Купцы открывали лавки, громко переговаривались друг с другом. Раз и другой рассказал Пенда Никифору о своей нужде, что ему надобно семь рублей, а имеет только четыре, выгреб из кожаного кошеля за кушаком все, что было.
Устюжанин с удовольствием пересчитал деньги и ссыпал их обратно. Ласковые морщинки лучились от уголков умных, ясных глаз. Посмеиваясь, он стал рассуждать, что три рубля — не те деньги, чтобы кабалу просить, а так давать — накладно.
— Ни сват, ни брат — человек вольный, гулящий, возьмешь деньги — и поминай как звали.
— Саблю и волю не закладываю! — резко отрезал казак. Понимал, что-то вымогает устюжанин, но рядиться не умел.
— Из-за женщины прадед наш Адам из рая изгнан был, из-за женщины, — перекрестившись, многозначительно поднял перст Никифор, — Иосиф Прекрасный в темнице затворен был, из-за женщины Даниила Пророка в ров бросили, и львы ему ноги лизали, — поучал, набожно крестясь и возводя глаза к небу.
Пенда озлобленно натянул колпак до самых ушей и, не прощаясь, вышел из лавки.
С Баженом Поповым разговор у него получился душевней. Тот не отговаривал, не стыдил, хоть дотошно выспросил о нужде. При том думал, вздыхал, хмурил косматые брови. После сказал:
— Тебе и десяти рублей мало! Венчание — батюшке поклон, поклоны воеводе и письменному голове, как здесь принято. А каждый поклон — соболишко. Да свадьба, да на промыслы уходя — не бросишь ведь жену на чужом дворе?
Только из купеческих слов понял Пантелей, какая прорва денег ему нужна. И верилось отчего-то, что Бог не оставит, только бы выкупить девку.
— Я-то насмотрелся за зиму на здешние нравы, прости, Господи! — ворчал Бажен, хмурясь. — Иной непрожиточный промышленный, по бесовскому научению, свяжет себя браком, а после идет на промыслы кабальным. А то жену продаст служилым. Те и сами не лучше.
— Как продать вольную? — вскинул обиженные глаза казак.
— А будто прислугой или стряпухой наймется к холостому и живет с ним, как с мужем, с согласия своего венчанного… Табанька наш гуляет который день. Жена знает, что он здесь, но не ищет. Хорошо пригрелась в чужом доме.
Казак побагровел, опустил глаза и пробормотал:
— Это сестра моя сродная! Встретились вот…
Бажен метнул колкий, недоверчивый взгляд из-под нависших бровей:
— Так-то оно проще и дешевле. Только смотри, купишь девку недешево, вернешься с промыслов, а она замужем. Не возьмешь ведь с нее закладную или кабальную.
Пенда взглянул на купца рассерженно, спросил резко и раздраженно:
— Ты скажи, дашь ли денег? С остальным разберусь.
— Я сам девку выкуплю. Тебе дешевле будет. А ты, нынче гулящий, помоги мне в противозаконном деле. — Заметив беспокойство во взгляде казака, добавил: — Здесь все живут против государевых законов. Служилым торговать запрет — на одно жалованье жить. Воеводе все подарки в казну вносить. По закону торговать — без порток останешься: кругом поборы, — проворчал крестясь. — Ты не болтлив, не хвастлив, не любопытен до чужого, не завистлив, слава Богу… Вижу, до девок слаб. Ну, да все мы… Сказано — кто без греха?.. Слава Богу, только до девок, не до зелья…
— Говори, что за дело, — дернул плечом Пенда.
— Сплывешь по реке к устью и там наш кочишко наладишь. К Иванову дню придем мы к тебе с товаром на шитике или на стругах, и куда я укажу — поплывем. После вернемся, станем готовиться к новым промыслам… Если тебя воевода к себе не переманит.
— Опять тайный торг? — скривил губы казак.
— Он самый! Твое дело — судно вести да саблей махать, если понадобится. А попустит Бог да бес попутает — ответ держать поровну.
Купец — он и есть купец! Денег на руки не дал. Но, забрав все, что было у казака, сам пошел торговаться. О чем он говорил с московским торговым гостем, на чем сторговался — этого никто не узнал. Пенда же с нетерпением ждал возле московской лавки и не находил себе места. А разговор тянулся долго. Едва ли не к полудню Бажен с московским седобородым купцом направились в посадский дом. Оттуда они вышли быстро. Следом, с узлом на локте, покачивая бедрами, появилась Маланья.
Белобородый московский купец перекрестил ее, передавая из рук в руки. Вдруг Маланья со слезами повисла на его шее. Купец похлопал ее по плечу, как кобылу по загривку, и ласково отстранился.
И пошла она за Баженом будто сама не своя: кручина да печаль девичьи свесили головушку промеж плеч. Зажала руки вкруг сердечка, ясные очи утопила в сырую землю. И так жалко стало казаку ее, несчастную, — он тут же и простил, что висла на шее у купца московского. Не успел подумать, отчего закололо в груди, как услышал:
— Доброму молодцу — красавицу-девицу!
Бажен подтолкнул к нему, заробевшую вдруг, девку. Она взглянула на казака виновато и радостно, прильнула к нему, всхлипнув, и отстранилась, как подлинная сестра, разглядывая его с любопытством. И он взглянул на нее будто со стороны. Прежде видел глаза, брови, плечи, бедра, а тут рассмотрел всю. И приметил, что одна половина лица чуть иная, один глаз вроде ниже другого или с косинкой. «Оттого-то вспоминалось то так, то эдак», — подумал. Но эти глаза светились такой синевой, такой любовью и благодарностью, что разом забылось все ненароком подсмотренное. Полногрудая, статная девка с русой косой на плече стоила трудов.
Отступив на шаг, она чинно поклонилась казаку, а затем Бажену:
— Спаси вас Господи! Ангела вам доброго…
Пенда тоже кивнул-поклонился купцу, не снимая колпака.
— Храни вас Господь! — сказал тот с печалью и перекрестился: — В плотницком деле, в бою и в промысле ты — дока… Где жить-то будете? — спросил и тут же съязвил: — Доке честь и доке слава, коль дока денежку берет.
— Бог не оставит! — беззаботно взглянул на Маланью казак.
— Бог — Богом, люди — людьми! — с хитрецой в глазах посмеялся Бажен. — Берите-ка припас да на стружке сегодня, завтра ли отправляйтесь на устье реки. Там, в зимовье, гнуса больше, а глаз меньше. Скоро и мы туда придем на рыбный лов, как уговаривались!
В последних словах купца был намек на противозаконное дело.
Ни на шаг не отпуская от себя Маланью, невнятно огрызаясь на расспросы любопытных, казак сходил за своим одеялом и за котлом, просмолил, проконопатил стружек, на котором привез тело погибшего устюжанина, сбегал в церковь за святой водой и окропил суденышко после покойника. Наконец, к ночи город затих, опустели его окрестности и отпала надобность поспешного бегства. Ясной белой ночью они с Маланьей улеглись под стругом. Сквозь гул роящегося гнуса слышался плеск реки. Стоило высунуться из-под одеяла, комары облепляли тело.
Пантелей не ждал от Маланьи девичьей робости. Да и ни к чему это было ему, истосковавшемуся по женщине. Однако встретить страстную многоопытную бабу в девичьей повязке — он не чаял. И таял лед под сердцем от ее ласк, и отступалась тоска — дочь Иродова, грозя прутом ивовым. Ни гнус, ни бездомье, ни долги, ни покаянные мысли не донимали. «Бог не без милости, казак не без счастья! — думал, подремывая. — Знать, выстрадал свое, пора и утешиться!»
Они проснулись от зноя. Днище перевернутого струга нагрелось под солнцем: утром полюбовные молодец с девицей так крепко уснули, что проспали колокольный звон. Пенда, отдуваясь от жары, выполз из-под лодки, окунулся в студеную воду реки, быстро оделся, отмахиваясь от гнуса, перевернул и столкнул на воду стружек, торопливо сложил в него припас. Из-под одеяла выглянула Маланья, улыбнулась одними глазами в цвет неба. Он подхватил ее на руки, укутанную, положил в лодку.
— Поспи еще! — сказал ласково. — Я от города отойду, от людских глаз.
Она обвила его шею мягкой рукой. Прошептала:
— Любый! — и опять боязливо спряталась в одеяло.
Пантелей воровато оглянулся на пристань — не видел ли кто? Сел за весла и отогнал стружек на середину реки. Здесь веял ветерок и гнуса было меньше. Таз входил в свои берега, оставляя сотни озер с гнездящимися на них птицами. Едва скрылся за поворотом реки город, Пантелей высмотрел сухое место и пристал к берегу, вытащил лодку на сушу. Поднялась Маланья, стыдливо оглянулась по сторонам, скинула одеяло и с визгом бросилась в студеную воду. Он раздул дымокур, раздевшись, поплыл навстречу ей, неспешно выходившей из реки. Осторожно ступая по илистому дну босыми ногами, склонив голову набок, она распускала мокрую косу. Под ясным солнцем капельки воды бисером сверкали на полной груди. Он обнял холодную, мокрую, как русалка, женщину и почувствовал, что забыл не только нынешние, но и прошлые, неотмоленные грехи. Ни о чем не жалел казак, как пташка, радовался дню, не думая ни о чем ином.
Следующую светлую ночь они провели у костра по-промышленному. Легли рано, валялись, лаская друг друга, глядели в ясное небо без звезд. Мчались по нему тучки — белые кони дня. Ясный месяц с красным солнышком — супруги вздорные, все еще миловались, не рассорившись.
— После как-нибудь к батюшке на исповедь сходим! — сказал он, крепче обнимая льнувшую к нему Маланью.
— Сходишь! — тихо рассмеялась она. — Я не пойду. Что посадские, что городские попы — кобели! Узнают про нас, пуще приставать станут.
Пантелей вспомнил рассказы Бажена о мангазейских нравах.
— Насмотрелась на сибирцев, — угадав его мысли, вздохнула Маланья. — Что служилые, что ваш брат… Только и зыркают, как чего тайком и даром, — вырвался язвительный смешок. Испугавшись сказанного, она прижалась: — Любый мой, красный мой! — пропела шепотком.
— А московский купец? — с доброй насмешкой спросил Пантелей.
— И он был люб! — ничуть не смутилась Маланья. Добавила шаловливо: — И Первушка!
— А это кто? — спросил, зевая.
— Жених! Пропал где-то. Может, убили… Я такая грешная, — всхлипнула, то ли искренне каясь, то ли ожидая его гнева. Но Пенда молчал, продолжая поглаживать ее плечо крепкой мозолистой ладонью.
— А ты со своей долго жил? — спросила осторожно.
— Месяца вместе не были. Она в Калуге с матерью-вдовицей голодала. Родня перемерла. Увидел, как тебя, — обомлел. Дал теще золотой — на другой день обвенчали. Потом со станицей ходил на Рязань. А как вернулся — теща сказала, что померла. А люди говорили, что с ляхами видели, веселой. После те ляхи с нами в земщине служили. Спрашивал про нее. Не помнили… или скрыли.
— Бедный мой! — прижалась Маланья, всхлипывая. — Добрый мой!
В зимовье на устье Таза жили два верстанных казака Их послали из Мангазеи сразу после ледохода для надзора за провозимым товаром. Наварив сусла из государева хлебного жалованья, они были всегда пьяны, не голодали, но и не ели — закусывая одной печеной рыбой. А ее на устье реки было много.
Казаки оказались знакомыми по прошлогодней мангазейской смуте. Хоть и были они людьми безвредными, но, глядя на их хмельное житье, оставаться с ними под одной крышей Пантелею с Маланьей не хотелось. Донец с тоской осмотрел знакомое зимовье, где хотел поселиться, и погнал лодку дальше вдоль берега к ватажному кочу, стоявшему на покатах на сухом месте. Пришлось им вместе с Маланьей таскать припас и пожитки туда.
Чтобы до Иванова дня спустить судно на воду, надо было усерд но поработать. Но это не пугало Пантелея — вокруг было много плавника, не так далеко рос низкорослый березняк, корни которого требовались для крепления обшивки. Были руки, топоры, долота, смола, переданные главным пайщиком через подручных людей.
К светлой полуночи Пантелей законопатил щели в просторной жилой половине коча, растопил чувал, устроил дымокур. Маланья, кашляя и хлюпая носом от едкого дыма, размахивала лавтаком, выгоняя из-под палубы комаров и мошку. Она уже приготовила ужин на костре и напекла хлеба.
Наконец они остались в желанном уединении, укрытые стенами судна. Пьяные мангазейцы, может быть, и желали наведаться на коч, но идти по болоту им было не по силам. Двое зажили на судне спокойно и радостно. Они часто купались в студеной воде и мылись по-промышленному в яме рядом с кочем.
Все-то спорилось в руках у Маланьи. Она была смешлива, но не насмешлива, любила песенки и прибаутки, складные поговорки, с утра до вечера все пела. Даже засыпая на плече казака, что-то мурлыкала о своем бабьем счастье. Бывало, весь день поет одну и ту же песню, забудет — примется за другую. Замечая то аккуратно залатанный жупан, то заштопанную рубаху, всегда накормленный, с удивлением открывал для себя Пантелей, что с женщиной жить не только радостней, но и легче, чем одному или с боевыми и промышленными товарищами. «Ну и привалило счастье!» — удивлялся, поглядывая на Маланью. Он и не слыхивал про таких покладистых баб.
На память Аграфены-купальницы они увидели шитик на реке. Суда из Мангазеи проходили часто. Но шитик, построенный своими руками, Пантелей узнал издали. Оставив Маланью, он пошел к зимовью, мимо которого судно пройти не могло. На устье Таза шитик развернулся поперек течения и направился к берегу с выступавшими из воды полусгнившими сваями. Чуть выше торчали черные венцы бревен, напоминая о бывшем здесь когда-то вольном промышленном городе.
С губы дул прохладный ветер, он прибил и угнал тучи гнуса. Пантелей, сбросив красные сапоги, торопливо пробирался вязким берегом к зимовью и вскоре был замечен ватажными. Ему замахали шапками. В то же время из зимовья показался служилый с дряблым, спитым лицом, походившим на рыбье брюхо. Запинаясь о болтавшуюся саблю, он кое-как влез на приткнувшийся к причалу шитик. Его дружок едва выполз из зимовья без шапки и повис на воротах. Качнувшегося было на сходнях мангазейца ватажные подхватили под руки, чтобы не упал в воду и не вытрезвел.
— Гостю дорогому величание! — смешливо поклонился ему дородный Бажен Попов. Под нависшими бровями блестели плутоватые глаза, холеная борода мягко лежала на выпиравшем из-под распахнутого кафтана брюхе. — И чарочку, как должно!
Федотка Попов в высокой новгородской шапке с важным видом поднес плоское блюдо, на котором стояла глиняная кружка, до краев наполненная хлебным вином. Верстанный мангазеец шевельнул синюшным, в рытвинах носом, принял кружку трясущимися руками, припал к ней губастым ртом. А когда оторвался, отпив на треть, в умилении перевел дух и благостно поднял глаза к небу, прислушиваясь, как растекается хмель в груди и брюхе. Отдышавшись, он кивнул за спину:
— Ему тоже!
В это самое время Пантелей поднялся по сходням. Его окружили знакомые. Устюжан на шитике не было. Нос опохмелившегося служилого зарозовел, красные рыбьи глаза засветились. Он тоже кивнул казаку, про которого забыл в заботах служб. Неверной рукой поправил съехавшую на брови шапку. Ему захотелось поговорить, покуражиться, но хмель брал свое: вино готовилось не для веселья, а для откупов.
— Там что? — топнул было ногой по палубе и так качнулся, что едва не расплескал кружку. — Вот ведь! — пробормотал испуганно. Снова припал к вину и отпил до половины. Перевел дух. Ему тут же долили и под руки свели на берег.
— Даст Бог, не подохнут до нашего возвращения! — жестко усмехнулся вслед Бажен и, довольный собой, расправил бороду на груди. Пожалев болтавшегося на воротах или опасаясь, как бы тот не затаил зла, приказал Федотке: — Сбегай, налей-ка и ему!
Там, — кивнул в сторону города, — шныряли да щупали малиновые шапки. Все выспрашивали, с чего бы это с Иванова дня честной люд — в церковь, а купцы — на рыбный промысел? Не по немчуре ли соскучились?
Говорил им: коли мы вас кормить не станем — с голоду околеете!.. Кроме, как мзду брать, ничего не могут.
Шестами и веслами шитик оттолкнули от берега. Далеко обходя мели, причалили против залатанного и просмоленного коча. Вода была высока, но холмогорцы провозились допоздна, стаскивая его с берега, потом перегружали товар и припас.
Давно уж Маланья приготовила ужин и зазывала промышленных к котлам. Долго всем им было недосуг, зевали от усталости, а день все никак не кончался. Свежий ветерок отгонял гнус, невысокая волна плескалась о низкий берег, утки и гуси свистели крыльями над головами людей, над навешанным парусом.
Едва холмогорцы покончили со сборами, бес снова стал подстрекать к раздору. Бажен исчесал редеющий затылок, думая: взять девку на борт — водяной может взбелениться да невесть что устроить на море. Бросить девку в зимовье с пьяными мангазейцами — на позор оставить. И не пойдет Пенда в море без девки: упрям, хуже самих холмогорцев.
Пока старшие складники ломали над этим головы, молодой да сметливый Федотка Попов сказал:
— В Мангазею же она приплыла! И ничего. Лучше нашего пропустил дедушка!
Будто открылось холмогорцам — столько мук они приняли в море, хоть не было ни одной бабы на борту, а московский барышник пятерых вез — и хоть бы что ему.
Подумав, объявили Пантелею:
— Глазастую твою берем. Но пусть на берегу платье скинет, тайком наденет кафтан и штаны. А после, ни слова не проронив, поднимется на коч и спрячется. И сидеть ей тихо средь товара, пока от берега не отойдем. Коли осерчает дедушка, мы ему скажем — не приметили девки, как от берега отходили, видать, враги твои, тайгуны, лешие да полевые, пакость учинили!
Отдохнув и помолившись на покосившуюся часовенку без окон и дверей, на ряд черных крестов среди осевших и подернувшихся мхом могил, холмогорцы оставили на суше шитик и пошли кочем, на веслах, вдоль правого берега губы, не теряя его из виду.
Сменился ветер. То и дело зарываясь носом в пологую волну, коч три дня шел под парусом. Куда указывал купец, туда и правил Пенда, стоя на корме. Ночи не было — сутками светило солнце. Судно двигалось не останавливаясь, на руле Пантелея менял сам Бажен — холмогорский купец и передовщик.
Как-то казак проснулся на нежилой половине судна, где они с Маланьей, уединяясь, спали среди товаров, и почувствовал, что коч стоит у берега. По палубе забегали. Застучали весла и шесты, стали натягивать пеньковые канаты. Подход к берегу был явно не случайным. Донец удивился, что его не разбудили, перевернулся на другой бок, но не уснул.
Проснулась и Маланья, потянулась зевая:
— Хорошо-то как! — пропела сонно.
— Хорошо, — прошептал Пенда. Ждал, что позовут. Не звали.
Поворочавшись сбоку набок, он поднялся, оделся, вышел наверх. Коч стоял у острова. Неподалеку был причален чужой шитик. Вдали торчали сломанные мачты двух потрепанных корветов. На борту, свесив ноги к воде, сидел Федотка.
— Куда народ делся? — спросил Пантелей.
Молодой промышленный весело оглянулся:
— А торговаться ушли! Еретики окаянные приплыли тайно из Архангельска, с немецкой слободы. Земляки наши, — усмехнулся. — Привезли, сказывают, нашу же соль из Соломбалы, порох и рожь — вятские, свинец, топоры, бусы, бисер — ярославские, да вологодские — коровье масло и мед. Товар ходовой, и покупную десятину давать не надо.
По двое-трое холмогорские складники ходили на иностранные суда, смотрели товары. Потом бритые гости подходили к кочу и к другим судам, разглядывали, дотошно ощупывали меха. Такой красы в сороках Пантелей прежде не видел: один к одному черные головные соболя, лисы.
— Откуда? — удивился.
На лице Федотки, обметанном темнеющим пухом будущей бороды, мелькнула не по годам хитроумная усмешка. Сузив глаза, он коротко ответил:
— Наменяли в пути да в городе, пока мы промышляли на Тольке-реке. В здешних местах такие соболя давно выбиты.
Торг шел своим чередом с вежливым недоверием и предосторожностями. Еретики отбирали приглянувшуюся им рухлядь в свои мешки, опечатывали их своими печатями. Мешки те оставлялись на суше близ русских судов под присмотром их людей. Затем русские купцы шли на корветы, со спорами и с торгом выбирали товар в обмен на меха и тоже складывали его неподалеку от кораблей при досмотре.
Тугарин вернулся с торга злющим, с клочковатой бородой торчком. Он размахивал костяным гребешком и громко возмущался:
— Мой гребень! Я по полтине за сотню брал, отдавая торговцам. Они мне мое — по алтыну считают…
— Купцу без прибыли нельзя! — посмеивался Бажен.
Сутулый длиннорукий Тугарин водил по сторонам ошалевшими глазами и все не мог понять, отчего, будучи резчиком по кости, в Холмогорах он не выбивался из нужды. Немецкой же слободе государь дозволил быть, чтобы возила товары из дальних стран, а не торговала скупленным возле Архангельска.
Между тем, обменявшись товаром, русские и бритые купцы сошлись для застолья и дружеской беседы, где договорились о следующих встречах и о торге.
Загрузившись хлебом, медом, маслом, котлами, топорами, свинцом и порохом, бусами, иглами, холмогорцы поспешно ушли с тайной ярмарки. По безветрию на веслах коч вернулся на устье Таза-реки. Бросив здесь каменный якорь, люди с судна стали ловить рыбу, для чего якобы и уходили из Мангазеи.
Пантелей Пенда и хотел не думать о чужих прибылях, да не мог остановить мысли в удалой своей головушке. Уж он и отмаливался, и ругал себя: зависти не имел, а бес не давал покоя, заставляя думать, что принятый товар никак не равен отданным за него мехам. Казак едва не позеленел от своего непонимания. Моль ест одежду, а навязчивые мысли — человеческую душу: про Маланью стал забывать, лежа рядом. Напрочь обессилев от домыслов, не удержался, пожаловался Федотке, с которым был в дружбе:
— Скажи ты мне, Христа ради… Или я совсем глуп, или чего-то не понимаю. Товара-то должно быть вчетверо, впятеро больше?
— Да поболее, — доверчиво рассмеялся Федотка и тихо добавил, оглянувшись для верности: — Это так, прокорм, — кивнул на трюм, набитый грузом. — Главный товар — талеры, которые у нас зовутся ефимками или корабликами. Золото.
3. Где никого допрежь…
В конце июля запахло ранней северной осенью. Редкий еще желтый лист стал уже слетать с приземистых берез, в просторах стало светло и дымчато. В один из таких деньков, на святого Афиногена, холмогорцы вернулись в Мангазею, под строгим надзором служилых выгрузили на причал большой припас соленой и вяленой рыбы, хлеба и меда, коровьего масла, не скупясь, отделили государеву десятину со всего привезенного, кроме ржи, которая налогом не облагалась. Бажен оправдывался, что со своими людьми случайно встретил в губе торговых тоболяков, терпящих бедствие, оттого, мол, случился торг без надзора.
Устюжане же к тому времени сходили с мангазейскими казаками к немирным самоедам в Енисею, помогли служилым привести бунтовавших к новой присяге и взять ясак. Сами они там торговали, узнавали про новые промысловые земли и вернулись с прибылью. Когда вновь собралась вся бывшая ватага в летнике, они рассказывали о пушных богатствах Енисеи, сами же с печальными лицами слушали вести с родины, выведанные холмогорцами на тайном торге.
Перед Великой смутой царь Борис обманом закрепостил безземельных бобылей там, где они работали по найму. Нынешний новый царь раздавал своим любимцам и боярам земли с черносошными людьми, и вчерашние вольные крестьяне объявлялись крепостными — как прежде безземельные. Иные не мирились с царским бесчинством: побивали дворян и бояр, пришедших владеть ими. На северных, не разоренных Смутой землях, в Вологде и в окрестностях, были народные бунты и разбои.
Жигимонт, король ляшский, не смирился с отказом на престол сыну Владиславу, с войском подходил к Москве и владел разоренным Смоленском. Пан Лисовский с черкасами грабил волжские города. С ним было много донских, волжских, терских казаков и беглых холопов.
Пригорюнились от таких новостей устюжане и холмогорцы: что доведется услышать через год — одному Господу было ведомо. Не станут ли их загородные деревни поместьями бояр? Новая власть алкала вольностей шляхетских и рабства народного.
Опечалились и Пенда с Третьяком, свесили свои кручинные головы.
— Сколько крови христианской пролили — и все зря! — взглянули друг на друга с горючей тоской в глазах. — Видно, по грехам, отказано русскому народу в добром царе и в заботливых боярах.
— Вам-то, казакам, что за печаль? — злобно вмешался в их тихий разговор устюжанин Нехорошко. — Великий Дон царь унижать боится… Пока. Это к нам беда подступает, на горло ступить целится: от Великого Устюга до Вологды — рукой подать.
— А там и Холмогоры недалече, — всхлипнул Тугарин, крестясь на образок в красном углу. — Суди, Господи, и рассуди распрю нашу: от бояр велеречивых избавь и помоги, Господи, как помог ты в древности Моисею победить Амалика, а Ярославу — окаянного Святополка.
— Всю надежду на Бога и Пречистую Богородицу возлагаем и великого чудотворца Николу на помощь призываем, — поднялись на молитву устюжане с холмогорцами.
По слухам выходило, что царской волей да попущением Господним Великий Дон пока своих вольностей не терял. Но отчего-то иначе, чем прежде, стал вспоминаться Пантелею его враг и злыдень, удалой атаман Ивашка Заруцкий, севший на кол под Астраханью. Прежде казалось — за гулящую бабу-царицу, при которой выслужил боярский чин, а тут подумалось, вдруг, не за ее ли сына — народного казацкого царя, с копья вскормленного?
— На Дону жить — воевать! — словно угадав его мысли, проговорил Третьяк. — А чтобы воевать, надо знать — за что? Казак не тать, чтобы проливать кровь ради брюха.
Попечалившись каждый о своем, купцы сказали то, что у всех было на уме:
— Барышей, о которых помышляли, мы не получили, а потому год-другой промышлять придется. Надо искать кормовые места, где допрежь промышленных людей не было: перебираться с припасом в Туруханское зимовье, а оттуда на вольную Енисею.
Вернувшись на коч, где жил с Маланьей, Пантелей сказал ей о решении схода. Новость эта не сильно смутила полюбовную девицу, она, конечно, всхлипнула, припала к его груди, потом отстранилась, с глазами, полными тоски, спросила жалостливо:
— В служилые не пойдешь? А то зажили бы своим домом. Я была бы тебе хорошей женой. Детей родила бы. — Снова припала к нему, подвывая: — Уж молюсь и молюсь нынче, грешная, Петру и Павлу, чтобы спасли от зачатия.
— Брюхата, что ли? — беспокойно буркнул Пантелей.
— Нет! — отвернулась, смахивая слезы. — Помогают святые апостолы. Прости, Господи! Не судьба, видать, — прерывисто вздохнула всей грудью, глубоко и безнадежно. — Видно, так уж мне силой небесной положено, так по роду завязано… Другому быть мне мужем, тебе лишь полюбовником.
Когда утихали страсти и отпускало буйство плоти, на ум казаку приходили тоскливые помыслы о государевом жалованье, о службе нынешнему воеводе. От того муторно и безрадостно становилось на душе. Все не мог представить себе родовой вольный казак, как он, не старый еще, не увечный, не выслужив Господу воинского подвига, заживет домом и семьей? Живые и убитые ровесники, узнав, посмеются, ангел-хранитель плюнет в глаза и отвернется.
— Никак нельзя мне остаться! — забормотал, оправдываясь и жалея Маланью. — Перед Господом своего не выслужил!
Понимала и она, что со дня на день названый муженек все равно уйдет на дальние промыслы, а оставить ей содержание ему не по силам. Уж тем, что выкупил у купца, — изрядно удивил. Ни плакала, ни корила, прильнула щекой к его груди, запела тихонечко:
А заговариваю я, раба божья Маланья, полюбовного своего молодца, раба Божья Пантелемония, о сбережении в пути-дороженьке: крепко-накрепко, на весь его век, на всю его жизнь. А кто мое слово превозможет, заговор да мой расторгнет. Кто из злых людей его обзорочит и обпризорочит, Околдует, очарует да испортит, у них бы изо лба глаза в затылок выворотило. А моему полюбовному молодцу Пантелемонию — путь-дороженька да доброе здоровьице на разлуке моей.— Ты меня и присушить можешь? — насмешливо спросил Пантелей. — Буду возле твоего подола псом крутиться, ни на шаг не отойду или в пути стану сохнуть.
Прислушиваясь к стуку сердца в его груди, она вздохнула в ответ:
— Насильно мил не будешь. Чем такой заговор обернется — один Господь знает… Да этот еще… Не к ночи будь помянут.
У Пантелея учащенно забилось сердце, будто пойман был на непристойном. Он повернулся на бок — так, что ее голова соскользнула ему на руку, взглянул в полуприкрытые глаза, пытаясь понять, не читает ли она мыслей. Втайне он чувствовал, что устает от такой жизни, иногда даже начинал раздражаться, как конь со съехавшей переметной сумой. Жаль было добрую, ласковую девку. С такой женой иной пахотный или служилый был бы счастливым всю жизнь. Но остаться ради нее в городе — все равно что предать всю прежнюю жизнь, отца и дедов. Можно ли не пойти, когда призывает Господь?
Не отвернулась она от него, вымещая невысказанную обиду, была ласкова и шаловлива, чем окончательно сбила с толку бывалого казака.
На другой день, едва ударили к обедне, к пристани прибежал Угрюмка, постучал в борт коча наборным каблуком нового сапога. Когда из жилухи высунулся Пантелей, сказал, что после обедни воевода с атаманским сыном зовут ватажных для беседы и разговора.
«Зовут так зовут!» — кивнул казак. Но Угрюмка не уходил, поторапливая, дескать, разговор важный, их уже ждут. Пантелей перетянулся кушаком, повесил саблю, заломил на ухо колпак и пошел за посыльным.
В съезжей избе сидели Бажен Попов, Никифор Москвитин да атаманский сын Ивашка Галкин, подросший и возмужавший за зиму. Вскоре вошел таможенный целовальник, встал сбоку от кресла, застеленного медвежьей шкурой. Показался воевода, одетый в летнюю шубу, шитую золотой нитью, в соболью шапку, в сафьяновые сапоги. Под руки его поддерживали два сына боярских в малиновых стрелецких кафтанах. За ними, расправляя огромной пятерней бороду, следовал дородный троицкий поп в суконной рясе и скуфье.
Как принято на Руси со времен стародавних, все ожидавшие воеводу поднялись, откланялись священнику и ему. Поп благословил собравшихся Честным Крестом, зычно прокашлялся и сотворил молитву, перед началом всякого дела читаемую.
Отдав поясные поклоны Отцу, Сыну и Святому Духу, нераздельной Святой Троице и Пречистой Богородице, воевода сел под образами в красном углу. Приглашенные расселись по чину на лавки вдоль стен: одни справа, другие слева. От сынов боярских воевода принял в одну руку саблю, в другую ларец с печатью и, важно хмуря бровь, начал речь:
— А позвал я вас, люди торговые да промышленные, не для веселья и не для назиданий, но для совета по государевому делу. Знаю, что и вы корысти не чужды: меня, воеводу, с целовальником и с государевыми людьми обманываете — рухлядь и товары от десятины утаиваете, но ваша ватага да купцы ваши не так бесчестны, как другие.
Слышал, что собираетесь промышлять в Енисее, оставив здешние кормовые места. От тех енисейских да туруханских людишек у меня, у воеводы, бывает, и голова болит. Не первый год промышляет на устье реки Тунгуски ватага промышленного человека Семена Горохова. И, сказывают, торг ведут тамошние люди с тунгусами так: сядут у частокола по разные стороны и бросают — одни рухлядь, другие товар. А народы там кочевые, и мне, с моими людьми, не понять — где какой род ходит, сколько в них мужиков и кто — лучшие люди.
Туруханские сидельцы[55] доносили, что ловят в аманаты мужиков в богатых шубах, а за них никто выкуп не дает. Бывает, возьмут старика в драной парке — за него несколько родов ясак вносят. Нет в том краю закона, а войско содержать там казне накладно.
Вот бы вам, с гороховской ватагой соединясь или соседствуя, вести промыслы дальние, где допрежь никто из людей православных не был. И вызнать бы вам, и донести мне, воеводе, где какой род кочует, и какому племени принадлежит, и кто у них исправные лучшие люди. Вызнать бы вам, какой товар тамошним народам надобен и как с ним торговать прибыльно.
И будет вам, купцам и промышленным, за помощь в государевом деле от меня всякая милость, как была и прежде, — воевода обвел взглядом сидящих по левую руку, давая понять, что не забывал о помощи при осаде города. Затем остановил взгляд на купцах Москвитине и Попове. Те потупили взоры, склоняя головы перед многими воеводскими милостями и снисхождением в их делах.
По приказу воеводы сын боярский привел в съезжую избу тунгусского князца в холщовой рубахе и замшевых штанах, заправленных в ичиги. Его блестящие черные волосы были расчесаны на пробор и лежали на плечах, свисая на спину. Черные глаза смотрели пристально. По виду аманата понятно было, что он привык повелевать людьми, а не подчиняться.
Следом за князцом вошел толмач из крещеных остяков, в лисьей шубейке, накинутой поверх бухарского халата. Волосы его были стрижены в кружок и непокорно топорщились из-под песцовой шапки. На гладком лице, по уголкам рта и на подбородке, чернели пучки волос, глаза воровато бегали по сторонам.
Он снял шапку, перекрестился, поклонившись на образа как-то не по-русски: вихляясь и кособочась, будто скоморошничал. Короткие и жесткие волосы на непокрытой голове ощетинились, поднявшись дыбом.
Длинноволосый аманат с любопытством оглядел ватажных. Его заинтересовали купцы и складники в кафтанах с высокими воротами и длинными, собранными в складки рукавами. Он насмешливо разглядывал их холеные бороды и одеяния.
— Прислали из Туруханского зимовья аманата, — кивнул на тунгуса воевода. — Тамошнее имя ему — Илтик. Доха на нем была соболья. И по виду, и по одежде — из лучших людей, а сородичи выкуп не везли. Отчего? Никто понять не может.
Сказав так купцам и промышленным, воевода обратился к тунгусу через толмача. Илтик залопотал без страха и с ленцой в голосе. Видно, в который уж раз говорил о том, какого он рода и где кочует. Толмач, сбиваясь, мыча и мотая головой, стал переводить названия незнакомых рек и озер.
Едва зашел разговор о верховьях Нижней Тунгуски, Илтик оживился, глаза его мстительно заблестели. Он стал говорить, что слышал от сородичей из других родов, что дальше к восходу есть большая река и живут на ней сильные народы, побившие когда-то тунгусов и расселившиеся на их землях. У тех народов будто мохнатые лица. А еще по той реке ходят большие лодки с колоколами, как на здешних церквях, и с пушками, как на городских стенах.
На этот раз словам тунгуса Илтика удивился и сам воевода. У Пантелея Пенды от услышанного зазудился шрам под бородой и чаще забилось сердце в груди.
Ласково поговорив с князцом, одарив его сукном и бисером, воевода отпустил аманата в сопровождении сына боярского. Сам же продолжил разговор с ватажными:
— Ведомо мне стало, что живут по Тунгуске-реке народы кочевые, сильные, немирные. Семен Горохов выше устья подниматься боится. Сказывают, его людей тунгусы то и дело побивают да втягивают в свои распри и войны. Другие, туруханские послухи[56], доносят, что гороховские люди государевым именем берут на себя ясак и оттого будто тамошние народы нам платить отказываются.
Пошлю я с вами в Туруханское зимовье приказного с двумя казаками на смену тамошним служилым. А больше послать некого. В устье Тунгуски-реки, если будет польза, соединитесь с гороховской ватагой. А нет — так промышляйте рядом и смотрите строго, чтобы от царского имени никто ясак и поминки не брал. И сами опасайтесь моего гнева. А служилым людям прямите и помогайте. За то вам будут от меня милость и всякие послабления.
Закончив наставления, воевода пригласил гостей к столу. Помолившись, все расселись по чину. Дородный троицкий поп сел по правую руку от воеводы и даже на лавке возвышался над всеми, как иной стоявший.
Когда наполнили братину вином, он повздыхал, зная свою греховную слабость, и, винясь перед гостями, некогда снимавшими его с купола, стал рассказывать притчу, как оправдался пьяница перед Господом и святыми его апостолами тем, что первую чашу всегда пил во славу Божью, а подняв братину[57], напомнил о ветхозаветном пророке Илье, взятом на небо живым и о рукоположенном им верном пророке Елисее, который теперь покровительствует Енисее-стране.
— Так бы и вам, промышленным, быть верными своему мангазейскому воеводе, во всем ему прямить и своей корысти от него не иметь, — закончил священник и вложил братину в воеводские руки.
Угостив собравшихся, воевода отпустил всех с миром, при себе же велел остаться Пантелею Пенде и Третьяку, которые в съезжей избе сидели молча, запоминая все сказанное, а слушая троицкого попа, с волненьем думали о своей доле в Енисее-стране, куда отправлялись милостью Божьей.
Оставшись с казаками при целовальнике, попе и сыне боярском, воевода стал говорить им:
— Давно присматриваюсь к вам и от купцов слышал много хорошего: руки золотые, головы светлые, в трудный час можете взять на себя бремя власти… Шли бы служить мне на жалованье конных казаков. И отправились бы на Тунгуску-реку с той же ватагой, но не покрученниками, а служилыми. А за службы государь вас наградит и от меня будете в милости.
Тебя еще осенью приметил, — взглянул на Третьяка. — Несмотря на молодые годы, в науке воинской изрядные познания имеешь и многих старых здешних воинов в том превосходишь.
На миг лишь задумался Пантелей, борясь с соблазном. Третьяк же ответил воеводе звонким голосом:
— Спасибо за честь, князь! Во все времена с прилежанием молился я Богу, еще в юности имея желание об ангельском образе иноческом, но не сподобился из-за грехов.
Он с надеждой взглянул на троицкого попа, и тот добродушно поддержал его, пророкотав:
— Не печалься, казак. Милостивый Бог жизни наши строит, он не оставит в унижении!
Пантелей, как всегда, не властвуя над своим языком, сдерзил:
— Царями я уж был обласкан! Нынешнему прямил под Москвой верой и правдой. Город на саблю брал у тех самых ляхов и бояр, что сейчас при нем первые люди… А после с драной спиной еле ноги унес от его милости.
Нахмурил воевода брови, грозно сверкнул глазами. Целовальник с сыном боярским посмурнели. Не с добром качнул головой дородный троицкий поп. Не было сказано про царя дурного слова, но и сказанное было нехорошо.
— Служить надо праведно — и будут милости, — насупясь, сказал воевода.
— Я всем служил на совесть! — пожал плечами Пантелей. — Видать, судьба такая…
Не стал больше говорить с ним воевода и, показывая свою немилость, отпустил без благословения.
Маланья, завидев сборы, ни о чем Пантелея не спрашивала, и только когда он обмолвился, что на другой день уходит, — не вскрикнула, не ойкнула, как принято от века, даже не спросила, где ей искать кров на следующую ночь.
— Придется идти в город! — вздохнула, что-то напевая. Стала рассуждать вслух, будто спрашивала совета: — Целовальник звал стряпухой. У него дом теплый, но жена злющая и здоровенная. Задирать будет. Приказчик с дикаркой живет, тоже звал, но он часто пьян. Бить будет.
Зная мангазейские нравы, они понимали, что услужение и стряпня в сытом теплом доме — это не только работа. Пантелею вспоминался летний вечер, белые ночи, Маланьины глаза и ласки. Он обнимал ее с благодарностью, отдал рубль, взятый задатком под будущий пай, больше ничем помочь не мог.
— Хочешь, заговорю на удачные промыслы, на поход, на путь-дороженьку, от ножа булатного, от пуль свинцовых, медных, каменных, от пищали и стрел?
— Заговори!
— А хочешь, заговорю от полюбовной тоски?.. И от остуды? Чтобы только меня помнил?
Пантелей задумался, и Маланья тряхнула головой:
— Нет! Это плохой заговор. В нем с чертищем сговариваться надо, плевать на землю или кровью клясться. Такой сговор добром не кончается. Иди уж так. Вспомнишь — спаси Бог, не вспомнишь — кто тебе судья? Я была счастлива с тобой — ангела тебе доброго!
И она тихонечко запела, отвечая на его ласки. А утром поднялась на заре, проводила в дальний путь до ступенек на взвоз. Обнял ее Пантелей — и двумя колотыми ранами припечатались к нему ее глаза с болью и тоской.
Цены на хлеб в Туруханском зимовье, бывало, разнились с мангазейскими в полтора раза. Купцы загрузились им чуть не вдвое против нужного, и ватага пошла на Енисейский волок. Своеуженники ругали тундровые болота, гнус, свою лихую долю, всегда сырую обутку. Покрученники костерили купцов.
Среди них шел и отчаянней всех ругался Табанька. К середине лета он обносился и оголодал. Другие ватаги на промыслы его не приняли. Устюжане же с холмогорцами пожурили за прошлые грехи, за леность, но, зная Табаньку как облупленного, взяли простым покрученником. Гулящий человек перед новой зимовкой и тому был рад: поклонился на четыре стороны собравшимся и обещал радеть за дела.
Ватажный сход без спора и ругани избрал Пантелея Пенду передовщиком. Купцы дали ему полную ужину в промысле. Угрюмка все лето работал у купцов и сумел сберечь заработанные деньги. Теперь он шел на промыслы не только в новом зипуне, но и полуженником.
Третьяк был в покруте, но это его ничуть не печалило. В Мангазее он пел на клиросе, жил при посадской церкви и учился у звонаря бить в колокола. Слегка оглохший, теперь беззаботно шел в Енисею и ждал отдыха у Николы Чудотворца — возле церкви, при Туруханском зимовье. О той церкви и чудотворной иконе в ней среди промышленных ходили добрые слухи.
Под раскисшими бахилами чавкала и хлюпала болотная жижа. Стоило ступить на пышный мох, ноги тонули в нем — и выступала вода: ни присесть, ни обсушиться. Если не гудели комары, то темным, бесшумным облаком идущих облепляла мошка. Хрипели люди. Волочили один струг, возвращались за другим. Двум десяткам промышленных не по силам было переволочь в Турухан всю поклажу на пяти стругах. Купцы-пайщики наняли самоедов с оленями. И те гужом[58] помогали тянуть обоз по топкому болотистому ручью и долгому сухому волоку.
На Турухане-реке, текущей к полудню, гнуса было не меньше. Одежда промышленных заскорузла, они злобно чесались, но впереди было великое облегчение: дальнейший путь предстоял сплавом.
У истоков Турухана купцы отпустили самоедов, положившись на Божью волю. На сухом месте устроили табор и баню-потельню. Промышленные люди помылись, постирали одежду, и гнус набросился на них, чистых, с такой яростью, что невозможно было отойти от дымокуров. Отдых и тот стал в тягость: на ходу терпеть комаров и мошку было легче.
Наконец-то струги закачались на долгожданной реке и пошли сперва на полдень, потом вместе с руслом повернули встреч солнца. Приходилось и на весла налегать, и шестами проталкиваться, или, сходя в воду, протаскивать суда по перекатам, но по сравнению с сухим волоком это был отдых.
Табаньку Пантелей взял в свой ертаульный струг и спуску ему не давал, заставляя работать наравне с другими. Тот покорно греб и тянул шлею. Не смея ругать самого передовщика, все рассказывал, как путние сибирцы, у которых умишко есть, продают жен в кортому[59]за десять, а хорошую-то бабу и за двадцать рублей. Это же полный завод справить можно и уйти на промыслы своеуженником.
Все понимали, чье скудоумие не дает Табаньке покоя. Понимал и Пантелей, отчего промышленный, чья венчанная жена открыто сожительствует со служилым, все охает и вздыхает, рассуждая про сибирских баб. Догадок своих он не высказывал, только погонял ленивого мангазейца, а тот в отместку все рассуждал о прелюбодеянии, которым все бабы погрешают, едва муж за порог, да о страсти блудной: только одни грешат за свой счет, другие — за мужнин. И раз уж так им Бог попускает — хоть бы выгоду приносили.
На первый, медовый Спас рядом со стругом поплыли распластавшиеся на воде желтые листья, подступала осень. И шли ватажные люди водой до середины августа, до Авдотьи-сеногнойки, а на другой день увидели на протоке часовню Николы Чудотворца с желтым крестом на куполе. Вскоре показалось Туруханское зимовье в четыре избы, срубленные вокруг церкви и обнесенные частоколом. Острожек был окружен землянками и шалашами, возле которых дымили костры и дымокуры.
Струги причалили к берегу, не заходя в протоку, по которой можно было подойти к зимовью. Люди вышли на сушу и стали истово молиться, радуясь близкому отдыху. Приказчик, шедший с ними из Мангазеи, и купцы отправились в зимовье к тамошним служилым. Ватажные стали обустраивать табор на берегу Турухана. Гостеприимство в здешних перенаселенных избах обходилось дорого. Лес поблизости был вырублен, и все же за дровами приходилось ходить не так далеко, как живущим под стенами зимовья…
Не дожидаясь, когда прибывшие поставят табор, к ним вышли трое промышленных. Их лица были закрыты черными конскими сетками, руки смазаны дегтем.
— Вологодские, пустозерские есть? — спросил старший по виду. Гости присели, стали ждать, когда ватага устроится.
Разгорелись костры. Промышленные стали готовить еду. Гости придвинулись ближе к огню, пожелав всем мира и Божьей помощи, подняли конские сетки с лиц. Двое из них были молоды, лет по двадцати пяти. Третий, кряжистый и заматеревший бородач с проседью, посматривал на прибывших высокомерно, то и дело щурился, чтобы скрыть насмешку. Он без расспросов догадывался, когда кто ушел с Руси и сколько времени промышляет.
По одежде туруханцев не понять было, какого они роду-племени и откуда явились в Сибирь. Все были в кожаных штанах, в коротких замшевых рубахах с глухим воротом. На молодых — беличьи шапки, отороченные горностаем. На старшем — шапка из лоскутов серого недоброго соболя. Он назвался вологодцем, ушедшим в Сибирь еще при невинно убиенном царе Федоре Борисовиче[60]. Служил в Березове-городе, ремесленничал в Мангазее, много лет был на вольных промыслах. Молодые назвались пустозерскими посадскими детьми, с малолетства они жили в Сибири.
От туруханцев ватажные узнали, что у Николы Чудотворца остаются на зиму только две ватаги. Они промышляют здесь по левому берегу Ивандезеи[61], вверх и вниз по течению, и по Турухану. А зимы здесь хуже, чем в Мангазее. Задует пурга — от дома не отойти даже на десять шагов: мгла становится такая, что обратного пути без веревки не найти. Много дурашливых новиков замерзает в непогодь.
В зимовье же нынче человек до трехсот: одни приходят, другие уходят. В избах спят вповалку — ступить негде. Кто не терпит храпа и вони — живут за частоколом в землянках, балаганах и под стругами.
— Здешние казаки построили торговые бани и со всех проходящих берут плату, — с обидой проворчал молодой пустозерец. — А при банях пивной брагой торгуют. Нет бы пива наварить да медом подсластить. Они рожь да ячмень на солод пускают да овсяную бражку ставят. Старое допивают — иное на дрожжи наливают. А кому платить нечем — тех с похмелья поправляют черенками от метел да вымогают немощных и больных работать даром. — Он шмыгнул носом, сипевшим от едкого дыма, и умолк, не заметив понимания в лицах ватаги.
— Не пей! Кто заставляет! — насмешливо взглянул на пустозерца вологжанин. Тот в ответ метнул обидчивый взгляд, опустил глаза и засопел.
Бывалые люди быстро сходятся и легко понимают один другого даже без слов. Сивобородый вологжанин и передовщик Пантелей Пенда обменялись мимолетными взглядами и больше, кажется, не смотрели друг на друга, словом не перекинулись, но подмечали один у другого всякую тень в лицах, всякую заминку и волнение в голосе.
— Одна ватага вчера ушла на Курейку-приток, — продолжил сивобородый. — Другая со дня на день уйдет к зимовью на Хантейке, что построили казаки лет пять тому назад. А еще большая ватага — до двадцати промышленных — уходит к устью Ивандезеи искать новые промысловые места, где допрежь никто не был… Здесь, в зимовье, на подсобных работах кормятся до полусотни гулящих. Иные из пропившихся за прокорм готовы идти на край света, да никто не берет. У них при себе добра — портки, ложка да плошка.
— Ничо, монастырские не дадут с голоду помереть! — сказал все тот же молодой любитель дармового пива, не поднимая разобиженных глаз и скрытно продолжая давний разговор с вологжанином. Ровесник его, хоть и был одет не лучше дружка, все молчал, слушая внимательно, да поглядывал на говоривших настороженными, коварно-молчаливыми глазами.
— Здесь и монастырь есть? — оживился Третьяк, придвигаясь к гостям.
— Монастырь не монастырь, но скит на другом берегу, на устье Тунгуски есть. Еще до зимовья был поставлен, — обстоятельно ответил вологжанин, разглаживая пятерней кудлатую бороду. — Сперва прибыли два монаха, огородничали, рыбачили. Теперь при них, бывает, зимуют гулящие — до десятка и больше. Иные по хозяйству управляются, другие промышляют за прокорм. Скит расстраивается и богатеет год от года.
Про ватагу, идущую вниз по реке для поиска новых промысловых мест, устюжане с холмогорцами слышали еще в Мангазее. В той стороне соболь добрый, а народ мирный и кочует малыми семьями. Здешние же, туруханские тунгусы — вздорные, злобные и воинственные. Некоторые ватажные складники тоже подумывали отправиться в ту сторону. Оттуда можно было вернуться с большим богатством или просидеть всю зиму во льдах и не увидеть даже вороны. Это как Бог даст.
На Тунгуске же реке, по слухам, соболь непуганый, а народишка — немирный. Отбиться от него можно только при сильной ватажке. По слухам, некоторые тамошние роды, меж собой ссорясь, не раз уже шертовали[62] русскому царю через промышленных.
Неторопливо попивая квас, гости осторожно выспрашивали, куда следует ватага, где прежде промышляла. Шила в мешке не утаишь, и устюжане с холмогорцами отвечали, что идут по наказу мангазейского воеводы на Тунгуску-реку. Передовщик, Пантелей Пенда, помалкивал, сидя у костра в казачьем колпаке, то и дело ловил на себе настороженные взгляды туруханцев. Угрюмка с Третьяком были в суконных малахаях: Угрюмка не считал себя казаком, да и не был им, а Третьяк вышел из казацкого круга так же легко, как и вошел в него: сирота и перекати-поле, он уже и по виду походил на бывалых промышленных.
Услышав, что ватага идет на Тунгуску, пустозерские молодцы еще раз настороженно зыркнули на казака, злобно хмыкнули. Недобрая усмешка мелькнула в бороде вологжанина. Глаза его сузились, обметавшись паутинками морщин.
— На устье Сенька Горохов с ватагой. Он с тамошними родами куначит, а все равно выше устья подняться не может и вас в свои кормовые места не пустит! — сказал холодно и язвительно.
К табору вернулись купцы, лица их были румяны, бороды влажны. Прислушиваясь к разговорам, они присели у костра, с удовольствием попили квасу.
— Не своей волей — воеводской, — ласково взглянул на гостей Бажен, равнодушно пожал плечами и повернулся к передовщику. — По его наказу, если понадобится, соединимся с гороховскими или дальше пойдем.
— Пробовала одна тобольская ватажка уйти дальше — два года ни слуху ни духу, — со скрытой угрозой усмехнулся пустозерец, тот, что жаловался на казаков.
А бородач-вологжанин добавил:
— Кто говорит, что их тунгусы порешили, кто на гороховских промышленных думает. А куда делись? Един Господь Бог и Спас наш Вседержитель ведает. — Размашисто перекрестился, наклоняясь к огню.
Гости вдруг смутились и замолчали, понимая, что дали лишнюю волю чувствам. Ватажные тоже молчали, глядя на пламя костра. Возле него, при нестерпимом зное, отставали гудящие тучи комаров, кружившие над головами, они сгорали и оседали поверх варева в котлах.
— Нас не десяток, — будто не заметив угроз, обронил Никифор, до этого водивший большими ушами, торчавшими из-под кашника. Глаза его блеснули ледышками: — Отобьемся, даст Бог!
— Отобьемся! — жестко поддакнул Пантелей. И по тону его все поняли — пора заканчивать смутный разговор.
— Ступайте-ка в баню. Все оплачено и оговорено. Ждут вас! — весело предложил Бажен и посмеялся в бороду: — Завтра великий праздник. Чтоб к литургии все были чисты и трезвы.
Разговор с гостями был закончен. Обозная молодежь с нетерпением ждала, когда можно будет и им о чем-то спросить. Ватажные загалдели, стали подниматься с мест. Федотка Попов вскрикнул, обращаясь к гостям, пока те не ушли:
— А есть ли на Тунгуске гора с неугасающим огнем?
Пустозерцы вскинули на него удивленные глаза. Тот, что молчал, подернул плечами и ответил сиплым, надорванным голосом:
— Разве где в верховьях!
— Сам-то бывал на Тунгуске? — тут же спросил его Никифор, вкрадчиво улыбаясь и пристально глядя в глаза обронившему нечаянное слово. Все промышленные обернулись к гостям, ожидая ответа. Пустозерец смутился, понимая, что сказал лишнее, пробормотал, что много где приходилось бывать: и на Хантейке, и у Горохова, но больше слышал от бывальцев.
Торговыми банями на Турухане называли две землянки, в которые больше чем втроем не влезть. Топились они по-черному. Служилые годовальщики брали плату со всех желавших попариться, и была она немалой. За пивную брагу тоже заламывали цену выше мангазейской.
Ватажные в очередь парились, плескались в ручье, другие сидели под дверьми, ожидая захода. Недовольные ворчали:
— У нас в зимовье, на Тазе, баня была лучше.
Гулящий в ичигах, суконной шапке и кафтане с короткими рукавами таскал воду из реки. Раз и два он прошел мимо донцов, взглянув на Пантелея приветливо и пристально. Потом поставил на землю березовые ведра, поклонился. Передовщик ответил на поклон улыбчивого работника. Гулящий спросил вдруг:
— Не служил ли царевичу под Калугой, казак?
— Я под Калугой многим служил, — ответил донец, вглядываясь в незнакомое лицо.
— При царе Борисе? Тогда еще царевичу Дмитрию?
— И ему служил! — неохотно сказал Пантелей.
— А Вахромейку Свиста из беглых боевых холопов не помнишь? — улыбнулся гулящий, блеснув невинными глазами.
Много всего, что было в тот год, хотелось забыть, да не забывалось, но ни имени, ни лица говорившего Пантелей не помнил.
— Мы от ярославского дворянина Кривого к царскому сыну на службы бежали. Ваши нас встретили под городом и донага раздели… Чуть не заморозили до смерти. А ты мне ветхий тулупишко дал. Не помнишь? — приветливая улыбка ничуть не покривилась от воспоминаний о былых обидах, будто разговор шел о веселых шалостях юности.
Заметив, как помрачнел донец, работный и вовсе рассмеялся, не скрывая своих младенчески ясных и нагловатых глаз, будто считал казака уже вполне обманутым простаком:
— Не убили под горячую руку, спаси, Господи, а после и пожитки вернули! — проговорил торопливо, как бы оправдываясь за беспричинный смех.
Пантелей с мрачным видом пожал плечами.
— Какой станицы казаки грабили? — переспросил неприязненно. — Может, чего путаешь… Под Калугой донских много было.
— А не помню! — смешливо и беззаботно тряхнул головой гулящий, подхватив за дужки ведра.
Тут и баня освободилась. Отдуваясь, из нее вышли красные и распаренные Шелковниковы. Семейка скакал на одной ноге, запутавшись в гаче. Пантелей с Третьяком и Угрюмкой стали раздеваться.
Парился передовщик долго, несколько раз окунался в студеную реку. И всякий раз, выскочив из бани, встречался глазами с Вахромейкой Свистом. Тот будто поджидал его и все кивал, как близкому, все над чем-то посмеивался. Напарившись, Пантелей спросил квасу. Вахромейка принес корчажку, присел рядом, сказал, что у здешних казаков есть пивная брага по деньге за кружку.
— Неси! — приказал Пенда и дал ему денежку.
Тот принес полную кружку и достал из-за пазухи свою чарку из березового капа. Пантелей разлил на четверых. Угрюмка бросал на гулящего опасливые и ревнивые взгляды. Третьяк пробормотал молитву. Все четверо, перекрестившись, перекрестили чарки, выпили.
— Сказывают, ты — передовщик, ведешь ватагу на Тунгуску? — заговорил словоохотливый Вахромейка. — Возьми меня полуженником? Я мало-мало с тунгусами говорю. Хорошего толмача меньше чем за полную ужину нынче не найти. — Он глядел на передовщика так вкрадчиво улыбаясь, что тому стало неловко.
— Я не пайщик, — отвечал. Угрюмка же с Третьяком помалкивали. — Кого брать, кого не брать — решают складники… А ты давно в Сибири?
— А как Степка Кривой царевичу в Москве крест целовал и тот простил его прежние вины, так я бежал. Кривой меня бы умучил, — его взгляд в рассеянности соскользнул с передовщика.
— Это ж когда было? — удивился Пантелей, внимательней приглядываясь к гулящему. Тот был услужлив, пил брагу без жадности, даже нехотя, больше подливал им, желая легкого пара и здоровья. Былым грехом не корил.
— Давно! — согласился Вахромейка. — Я в Енисее уже пять лет.
В отличие от здешних хвастливых и говорливых голодранцев, о своей сибирской жизни гулящий говорил неохотно.
Ватага отдыхала табором на устье Никольского протока. Промышленные ходили в зимовье, искали земляков, подолгу беседовали со встречными. На таборе стирали одежду, готовились к великому празднику Преображения Господня.
Из зимовья то и дело приходили любопытные или услышавшие о знакомых и земляках. Среди них были устюжане, холмогорцы, вагинцы, имевшие общих знакомых на родине.
Дольше всех пропадали в зимовье купцы. Прибывший с ними приказчик принимал дела у здешних казаков, а они вели переговоры с туруханскими служилыми и гулящими людьми. Их дело барышное — на Тунгуску-реку сами купцы не шли, собираясь вести дела здесь и в Мангазее.
Они вернулись на табор к вечеру и собрали сход. В костер были брошены сырые ветви лиственницы и мох. Над темным, багровым пламенем тучей поднялся густой дым, отогнавший мошку. Сбившись к огню, вытирая слезы, сопя носами, ватага думала и решала, как жить дальше, слушала неторопливые рассуждения купцов-пайщиков. Те предлагали взять десяток покрученников из туруханских гулящих. Среди здешнего люда нашлись четверо, которые были знакомы или известны устюжанам с холмогорцами, и те гулящие согласны были подобрать надежных людей, поручиться за них и отвечать своим промысловым паем.
Иные из ватажных обиженно зароптали.
— Здешним бездельникам в покруте хлеб даром достанется, а мы едва жилы не порвали на Енисейском волоке! — с уязвленным сердцем просипел Нехорошко, задиристо озирая сидевших. Но и он понимал свою выгоду от покрученников.
Жаркого спора не случилось. То, что лучше идти на Тунгуску-реку ватагой в три десятка человек, понимали все: на Турухане подтвердились слухи о здешних тунгусах, которые сильны и дерзки, промышлять на их землях с малыми силами — только Бога искушать. Гороховские люди, по слухам, давно собирались идти к верховьям Тунгуски, но боялись.
Хитроумные купцы надумали до холодов еще раз сходить в Мангазею и доставить на Турухан другой обоз. Возле зимовья силами гулящих людей они хотели поставить свою избу с амбаром. Бажен Попов оставался на Турухане надзирать за строительством, Никифор Москвитин с работными собирался в Мангазею за хлебом и товарами.
Складники и пайщики стали обсуждать, кого из здешних знакомых людей взять в покруту чуничными атаманами. Сошлись на устюжанине и на разорившемся в Сибири архангельском купце, которым доверили подобрать надежных людей.
Передовщик не вмешивался в ватажный разговор, но когда и его попросили сказать слово, предложил взять покрученником Вахромейку Свиста.
— Сказывает, толмачить может!
— Уж подходил, просился, — покачал головой пайщик Никифор. — Темный человечишко — «леший»![63] Сказывают, один пробовал промышлять, ни с кем подолгу не водился, приставал только к малым ватажкам. Но тех, кто с ним промышлял, здесь нет. Служилые ничего про него не знают: ни хорошее, ни плохое. Найдется верный поручник — можно взять.
Решили пайщики и складники принять десять покрученников из здешних гулящих людей, чтобы было их не больше половины староватажных. И пусть они своему поручнику и всей старой ватаге крест целуют на верность, а если случится с ними в пути разлад, то устюжанам, холмогорцам и донцам стоять заодно. А передовщику судить всех по справедливости, не разбирая — свой ли, устюжанин, холмогорец или покрученный. И всех людей одинаково беречь и за выгоды пайщиков и складников радеть.
На медовый Спас ватажные поднялись до рассвета. Но даже после восхода солнца клепало[64] у Николы Чудотворца не призывало честных христиан к молитве. На Преображенье ждали иеромонаха из монастырского Троицкого зимовья. Он обещал служить на антиминсе в здешнем Николе. Складники, молясь и постничая, сокрушались, что не о грехах своих думают перед литургией, а о делах, о том, чтобы просить черного попа принять крестоцелование от покрученников, заверить записи их и ручавшихся за них поручников.
Утренний холодок прибил гнус. На реке лежал туман. Золотя его, поднималось солнце. Издали послышались удары клепала на Николе. Ватажные гурьбой направились к часовне. На таборе остались караульные из молодых устюжан: Ивашка Москвитин с Сенькой Шелковниковым. Проводив близких, они тут же укрылись одеялами, поспешая доспать, пока не отошел гнус.
Когда ватажные подошли к Николе Чудотворцу, вокруг часовни стояло человек до ста. Прибывшим сказали, что лодка из монастырского Троицкого зимовья еще вчера переправилась через реку, доброхоты тянули ее к Никольскому протоку шлеей.
Поджидая монаха, туруханские общинники бойко собирали деньги на просфоры, испеченные в большом количестве, и жертву на храм. Свечи были раскуплены. За столом, устроенном на пне, сидел здешний промышленный из устюжан. Часто обмакивая в берестяной туесок гусиное перо, строчил по мездре беличьих, горностаевых и собольих шкурок записи на молебны за здравие и за упокой.
Когда наконец монах в окружении добровольцев, ходивших встречать его, показался на тропе, все радостно заволновались. Люди, толпившиеся возле часовенки, скинули шапки, стали кланяться. Передовщик здешней туруханской ватаги, перекрестившись, снова забил в клепало.
Малорослый и сухощавый, как юнец, Третьяк в числе первых протиснулся к молодому монаху с пышной русой бородой, в волчьей жилетке поверх кожаной рясы. Отталкиваясь локтями от возмущенных туруханцев, он испросил у него благословения и сказал, что в Мангазее пел на клиросе в Успенской и Троицкой церквях.
Молодой монах, сверкнув ясными глазами, взял его под руку и ввел в часовню. Следом по-хозяйски вошли трое туруханцев, всегда помогавших вести здесь службы. За ними — строители часовни.
Видя так много народу, устюжане с холмогорцами приуныли: с исповедью и причастием литургия могла так затянуться, что для клятв и крестного целования могло не остаться времени.
Но монах, облачась в черную ризу, вышел на крыльцо и объявил, что причащать будет только тех, кто постился. Промышленные возмущенно зароптали, но очередь на исповедь уменьшилась наполовину. Из часовенки донесся распев, и началась служба.
После литургии, причастия и молебна народ стал неспешно расходиться. Иные еще толпились у часовни, чего-то ожидая. Разоблачась, монах вышел на крыльцо в подряснике. К нему со всех сторон стали подступать за благословением. Бажен Попов, грозно пошевеливая кудлатой бородой, раздвигал толпу брюхом и дородными плечами, как таран, пробивался к священнику. За его широкой спиной привольно прошел Никифор Москвитин и еще двое или трое устюжан. Ватажные обступили-таки монаха со всех сторон.
Тот выслушал их, насмешливо поблескивая доверчивыми синими глазами, кивнул. Купцы замахали руками, призывая промышленных и гулящих. На пне, где недавно еще строчил пером промышленный, были положены Святое Евангелие и Честной Крест.
С самого утра Вахромейка назойливо донимал Пантелея, упрашивая поручиться за него, и заронил-таки боль в душу. В уязвленном сердце закровоточила новая печаль, бес стал нашептывать о зле, неумышленно сделанном христианам, подстрекал помочь просящему, хоть и не мог Пантелей вспомнить беглых боевых холопов: мало ли сдирал кафтанов, отбирал еду и пожитки? Все меньше чудилось ему в глубине ясных глаз гулящего скрытое коварство. Хотя, слыхано ли? Пять лет прожил возле Туруханского зимовья в Енисее, а никто ничего о нем не знал. Или не хотел говорить.
Смятение души передовщика не ускользнуло от глаз Вахромейки, и он тенью ходил за ним следом, молча стоял за спиной. Куда тот ни глядел — всюду натыкался на просящие и будто печальные глаза.
Почитав молитвы, напомнив о грехе клятвопреступления, троицкий монах стал принимать клятвы на верность сперва от поручников, затем от тех, за кого они ручались. Вахромейка все пялился на передовщика, и тот решился, замолвил за него слово перед купцами и складниками. На душе казака стало легче, но рука немела, когда, перекрестившись, ставил подпись по мягкой замше чернилами из сажи на рыбном клею.
Ему, передовщику, целовали крест все покрученники и радостный Вахромейка. На том троицкий монах устало всех благословил и отпустил с миром. Бывшие туруханские гулящие, собрав свои нехитрые пожитки, пошли следом за устюжанами и холмогорцами на их табор для братского застолья.
Отдохнув, подкрепившись едой и питьем, к утру все стали собираться в путь. Главный передовщик, Пантелей Пенда, похаживал среди работающих, указывал, кому с кем в лодки садиться и кому за кем плыть. В ертаульном струге он отправил молодых промышленных Ивашку и Семейку с их отцами и чуничным атаманом Лукой Москвитиным. Угрюмку посадил к ним.
Приняв от купцов благословение и отдав им последнее целование, промышленные сели по местам, разобрали весла. Один за другим струги поплыли к устью Турухана. В последнем, замыкающем, сидел сам главный передовщик с Третьяком да с покрученниками. При нем находился и Вахромейка Свист.
День был хмурый, ветреный и холодный. Порывы ветра налетали с восточной стороны, срывали воду с весел и шестов, брызгали в лица гребцов. Черные тяжелые быки неслись по небу, то и дело начинал накапывать дождь.
Старые промышленные, крестясь, говорили, что Бог дает знаки для начала дела хорошие. Когда остался виден один только крест на Николе Чудотворце, промышленные скинули шапки и запели, крестясь: «Отче Никола, моли Бога о нас!»
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник», — громким голосом пропел Третьяк.
— «К чудному заступлению твоему притекаем, — подхватили в стругах. — Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий… Радуйся, преславный в бедах заступник, радуйся, превеликий в напастях защитник…»
Распевая так, ватажные повели свои струги и к полудню добрались до многоводной реки, называемой тунгусами Иоандэзи, которую за крутой, небабий, нрав иные сибирцы величали Енисеем. Среди других шла лодка троицкого монаха, он возвращался в свое зимовье. Примета была не из лучших, зато честь велика.
Многоводная река подхватила выплывшие из устья Турухана суда, закачала их на пологой волне. Но промышленные стали грести к берегу по правому борту своих лодок. Здесь, выше устья, они потянули струги бечевой и шестами против течения.
Доброхоты из особо грешных впряглись в шлею монашеской лодки. Самому же черному попу ватажные не позволили даже отталкиваться шестом.
Другой берег с черной тайгой, жмущейся к воде, был чуть виден в тумане. На середине реки гуляла высокая волна. Надо было подняться так, чтобы при переправе течение снесло струги к устью Тунгуски-реки. Бог миловал. Монашескими молитвами к концу долгого дня все они подошли к дальнему берегу.
Монастырское зимовье виднелось с реки. Четырехугольная часовня была со всех сторон окружена приземистыми избами с глухими стенами. Тесовые ворота смотрели на воду. Вокруг зимовья бугрились несколько ветхих землянок и шалашей. Зато поля и огороды раздольно тянулись по склону берега. На них росли капуста и репа, сохла в скирдах рожь, напоминая устюжанам о родине.
Завздыхали, закрестились люди в стругах. К вечеру небо разъяснилось, на лопастях весело засверкали солнечные лучи и стало видно, как вдоль поля, взявшись за руки, неторопливо возвращаются в зимовье баба с мужиком. Он нес пару вил на плече, придерживая их свободной рукой. Не оборачиваясь к реке, не замечая приставших к берегу, эти двое не могли знать, сколько душ обливалось слезами, сколько глаз любовалось их счастьем. Так они и скрылись за крепкими воротами.
Безродный горожанин, Третьяк глядел на берег с изумленным лицом. Щеки его пламенели, он был в потрясении, будто видел знаменье Божье.
— Кто это? — просипел, скрывая навернувшиеся слезы от сидевшего рядом монаха.
— Наши, монастырские пашенные из промышленных! — ответил тот, бросив радостный взгляд вслед скрывшимся. — Устали маяться в миру, прошлый год пришли, венчались. Живут. Баба уж брюхата, слава Богу.
* * *
Гороховское зимовье стояло на холме: две избы с нагороднями, баня и лабаз обнесены сырым, не ошкуренным частоколом. Ни монахи, ни монастырские работные ничего плохого о соседях не говорили, но от разговора о них уклонялись, и только тамошний иеродьякон в латаной-перелатаной рясе, провожая ватагу, обронил:
— Мы — вечные! Они — перекати-поле. Трудно нам соседиться.
Вокруг зимовья лес был вырублен. Мох, который в здешнем лесу растет вместо травы, у реки был взрыт и вытоптан. Над саженной высоты крытыми тесовыми воротами возвышался черный крест в полтора аршина. На створках ворот также было по кресту.
Бурлаки подтянули к берегу все пять стругов, ввели их в удобную заводь, углубленную и укрепленную венцовой крепью. Ватажные стали креститься и кланяться на кресты зимовья, всем своим видом показывая приязнь к гороховским промышленным. Наметанный глаз мимоходом отмечал, что строилось зимовье в расчете на год-другой, а стоит лет пять или больше. Частокол кое-где покосился, вокруг него кучи отслоившейся коры, которая уже затягивалась мхом.
Над одной из изб курился дымок. Он стелился по берегу, призывая хмарь и дождь, дразня и прельщая путников отдыхом. На нагороднях никто не показывался, ворота оставались закрытыми, будто прибывших не замечали.
Ватажные, тянувшие бечевой струги вдоль берега, были мокры. Одни раздраженно переминались с ноги на ногу, не желая присаживаться в липких и холодных штанах, другие отжимали одежду, выливали воду из сапог и бахил.
Передовщик встал на корме струга, поправил колпак и по-казацки пронзительно свистнул. В другой раз по его взмаху свистнуло полватаги, да так громко, что в далеком лесу картаво заголосили вороны.
Ворота медленно и неохотно приотворились. В узкий проем протиснулись двое промышленных в замшевых рубахах с коротким подолом и в кожаных штанах, спущенных поверх чуней. У одного из-за кушака торчал черенок топора, у другого за опояску был заткнут семивершковый нож. Оба неспешно подошли к пристани, хмуро обменялись с гостями поклонами.
Вахромейка сидел на корме струга спиной к зимовейщикам, не поднимая конской сетки с лица, и неторопливо стягивал с ног мокрые бахилы.
— Кто нерадиво встречает братьев-христиан, тот государя с воеводой не почитает! — с оскалом в бороде укорил подошедших Пантелей. Глаза же его поблескивали холодными льдинками. — Велел нам воевода с вами дружить. А как пожалуемся? — сказал то ли с угрозой, то ли со смехом.
— У нас один государь — лес дремуч да ведмень — воевода! — хмуро, с шепелявинкой проворчал сутуловатый промышленный с густой бородой и спутанными волосами, рассыпавшимися по плечам. На нем была простая суконная шапка. Длинные жилистые руки несуразно перебирали складки кожаной рубахи.
Другой, моложавый, стриженный в кружок, был в шапке, искусно сшитой из рысьих брюшек. Он водил глазами, хмурил брови, морщил переносицу, будто хотел отпугнуть ватажных взглядом.
— Отчего не встречаете? — раздраженно спросил казак, положив левую руку на рукоять сабли.
— А некому! — хмуро отвечал шепелявый. — Одни за припасом ушли к Николе, другие лося промышляют да рыбу ловят. Мы, немощные, зимовье караулим по наказу, к нехристям не выходим, чужих не впускаем.
В сказанном был намек, чтобы гости на отдых не рассчитывали. Припекало полуденное солнце, лютовала мошка, останавливаться на полудневку никто не собирался, соединяться с гороховской ватагой не думали. И все же, мокрые и злые, промышленные рассерженно загалдели: на Спас добрые люди гостей так не встречают. Передовщик покраснел от досады, но лишь снисходительно рассмеялся: дюжина гороховских промышленных против трех десятков удальцов только и могла что огрызаться.
— Зря Бога гневите! — сказал важно, выдавая себя за служилого. — Мы вам нужней, чем вы нам. А промышлять будем рядом. Не раз еще поклонитесь.
— Волка сколь ни корми — хвостом вилять не будет! — пробурчал в бороду старший. Моложавый спутник еще грозней нахмурился. — Много здесь промышлять ладились.
— А вот об этом мы пришли поговорить не своей, но волей воеводы, пославшего нас и гневающегося. Велел передать, чтобы впредь никто из промышленных людей именем государя ясак не брал. — Пантелей сошел на берег и велел Третьяку налить зимовейщикам по чарке хлебного вина ради яблочного Спаса. Вахромейка, не оборачиваясь, развесил по борту мокрые бахилы и штаны, прикрыл от мошки голые ноги шубным кафтаном.
Зимовейщики чужой посудой скверниться не стали, но от вина не отказались. Сняв с опоясок берестяные чарки, подставили их под флягу, выпили благостно, во славу Божью. Подобрели.
— Велел нам воевода узнать, — куда делась ватага тобольских промышленных, что ушли вверх по Тунгуске три года назад, — стал подступаться к разговору Пантелей.
Угрюмка положил в сырые бахилы новые стельки из сухого мха, натянул отжатые и мокрые штаны. Брести с бечевой плохо — на месте стоять в сырых штанах, отмахиваться в две руки от гнуса и того хуже.
Передовщик же присел на борт струга, указывая гороховским присесть напротив. Те сели, нахлобучив шапки. Старший заговорил, растягивая слова, по ходу обдумывая сказанное. Второй, с помутившимися от хмеля глазами, засопел облупившимся носом.
— Были такие! Мы звали их промышлять одной ватагой, упреждали не ходить к тунгусам при их малолюдстве: в тот год дикие не мирно с нами жили. Тоболяки же хотели воли. И пропали… Наши станы и ухожья по обоим берегам Тунгуски — до второго притока с полуночи. За тем притоком есть взгорок с чудной скалой. На нем, сказывают, тунгусское капище. Не доходя того места — урыкит[65], тунгусский летний табор. В тот год как они уходили, там стоял мирный род. Мы с теми людьми говорили, и они сказывали, что промышленных не убивали, куда те делись — не знали. Дальше пошли, наверное. Тунгусы говорят, до истока реки за год не дойти.
— Сидячие роды здесь есть? — спросил Пантелей, потряхивая флягой.
— Их не понять! — подал голос второй промышленный. Рассеивалась хмельная муть в его взгляде, глаза с жадностью смотрели на флягу. Прежней хмурости в них уже не было, но на лице появлялась горемычная тоска недопития. — Сегодня гарагиры живут, завтра — молчаги или хангаи. Тунгусы подолгу на одном месте не сидят…
— Воевода велел вызнать, где какие роды кочуют и кто в них главные люди. Вы со здешними людишками встречаетесь. Сказывают, торгуете.
— Кунаков уж завели, — насмешливо встрял в разговор Табанька, вытирая сухим мхом мокрые ступни со вздувшимися жилами. — Столь лет на одном месте не промышляют…
Гороховцы настороженно зыркнули в сторону разговорившегося промышленного. Глаза Табаньки с горючей тоской постреливали на флягу. И эту его тоску гороховцы поняли, заговорили теплей. Старший стал обстоятельно рассказывать:
— Прошлый год на устье приходили четверо мужиков тектеева рода, сентеевых — семеро. Двое когойцев возле зимовья ночевали, а за ворота не пошли. Гарагиров было девять мужиков, и лиргилов пятерых наши встречали… Этот год гарагиры опять были на урыките. Вдруг и сейчас там стоят. Один сентей был — оленей потерял. Молчаги — двое были… Гарагиры с молчагами чаще на устье живут. Больше сказать о тунгусах нечего.
— Если их так мало, что же боитесь дальше капища ходить? — допытывался Пантелей.
Снова заговорил промышленный в рысьей шапке:
— Их мало, пока у нас мир. Как не мир — так сотня соберется с большими клееными луками, из-за острожин голов высунуть не дадут.
— Стреляют метко! — хмыкнул в сивую бороду другой и добавил: — Стрелы у них — лося насквозь пробивают, им наши брони не брони. — Он помолчал и продолжил: — У нас с ними уговор — до урыкита промышляем, дальше не ходим. Тут они наши кулемники не портят и самострелов не ставят. Без них им никак нельзя. С осени понаставят этих самострелов — шагу не ступить!
— Станете аманатить — врагов наживете! — прогнусавил второй. — Без тунгуса в тайгу пойдете — под их самострелы попадете… Толмач-то у вас есть?
— Есть и толмач! — браво ответил передовщик и обернулся к Вахромейке, тихонечко сидевшему на корме. И показалось вдруг Пантелею, что у того опустились плечи, опасливо ссутулилась спина от взглядов и внимания. Свист едва обернулся и неохотно кивнул. Зимовейщики же смутились или невольное удивление на миг отразилось в их глазах.
Передовщик все это отметил про себя, но был занят другими мыслями и задал сидельцам коварный вопрос:
— Если договорились о мире, то с кем-то договаривались: с какими-то родами, с их главными мужиками?
Длиннобородый растерялся, но тут же выкрутился:
— Оттого и стоим, что каждый год с поклоном ходим то к одним, то к другим… С кем ни договоришься из гарагиров или молчагов, о том другие роды знают. А все равно: то кулемники забьют, то станы спалят… Всяко бывает.
Как ни исхитрялся Пантелей расспрашивать о родах и местах их кочевий, о главных мужиках, гороховские промышленные отвечали путано. Они и сами не понимали, какие роды с каким племенем связаны и кто в них князцы. По их понятиям, тунгусы жили вольно, не почитая никакой власти, даже богов своих не очень-то уважали, поклоняясь скалам, рекам, причудливым деревьям, им творили требы[66].
0 том, с кем гороховцы в хороших отношениях, они также отвечали уклончиво. Что до воровского ясака, так над обвинениями воеводы смеялись — дескать, сами одаривают тунгусов каждый год, чтобы жить в мире. Вскоре разговор сам собой прекратился. Ватажные, едва подсохшие на неярком осеннем солнце, раздраженно задвигались, собираясь продолжить поход. Комары вились над стругами черной гудящей тучей. Гороховский промышленный, тот, что больше помалкивал и сопел, напомнил сиплым обиженным голосом:
— Пора бы и по второй чарке налить!
— А вторую нальем, когда вы к нам придете! — язвительно посмеялся передовщик. Это была его месть за негостеприимство. — И в бане попарим, и накормим, и спать уложим! У нас все по-людски, по-христиански!
Гороховец в рысьей шапке угрюмо сверкнул глазами и засопел громче прежнего.
Крутые берега реки порой сжимали русло так, что нельзя было пройти возле берега и приходилось проталкиваться против сильного течения шестами. Если река разливалась, вырвавшись из теснин, добрая половина ватаги была мокрой по самую грудь: то прижимы, называемые щеками, обходили по пояс в воде, то нависшую над водой непролазную чащобу. Едва начинало припекать солнце, мошка набрасывалась на идущих, заходило за тучи или за увалы — из сырого леса вылетали комары.
Промышленные привычно ругали бурлацкую долю. Те, что на бечеве, и те, что в стругах, одинаково остервенело отбивались от гнуса. На коротких привалах все злорадно мечтали о морозе, который прибьет всю гудящую, кровососущую рать.
Не прошло и недели, как прежний плес и пережитые труды люди вспоминали добрым словом. Стало еще хуже. Даже передовщик намокал так, что с шапки текло. Самые сварливые из промышленных, Тугарин и Нехорошко с Табанькой, побаиваясь ругать здешнюю страну Енисею, чтобы не накликать худшего, вспоминали сплав по Тазу да по Турухану как милость Божью.
Бывало, и ертаульная молодежь едва держалась на ногах от усталости. Старики же к вечеру брели по холодной воде из последних сил. Но молодежь она и есть молодежь, конопатый юнец Семейка Шелковников вскарабкается бывало на валун, вывалившийся из берега, присвистнет, гикнет и давай плясать.
— Чему радуешься, недоумок? — заворчат бурлаки, едва не до слез огорченные новым препятствием. Но, поглядывая на молодых, лицами посветлеют, вроде и сил прибавится.
Место для табора было самым неподходящим: берег крут, течение сильное, но передовщик приказал становиться на ночлег. Пришлось ватажным разложить костры на косогоре, в ямах от вывернутых корней.
Чуницы стали готовиться к ужину и ночлегу. Вдруг закричали с верховий табора, залязгали топорами и котлами — это к кострам выскочил медведь. Он подошел к огню так близко, что кто-то из туруханских покрученников, как вспоминали после, подпалил его головешкой. Вахромейка Свист, сушившийся у костра, вскочил босой, визгливо закричал по-русски, размахивая руками:
— Что пришел? Иди себе своей дорогой! Тебе же совсем в другую сторону надо!
Чудно, но здешний медведь его понял и послушал, направился к другому костру. Там кто-то вставлял тесак в ствол пищали, кто-то зажигал фитиль, размахивал пылавшей головешкой. Полуголый Табанька, подвывая от страха, не вовремя взялся натягивать мокрые штаны, запутался в них, упал едва не к самым медвежьим лапам и так засрамословил, дрыгая голыми ногами, что зверь, смутившись, отошел от табора, не наделав вреда.
Туруханские покрученники уверяли потом, что здешние медведи сговорчивы, но понимают только по-тунгусски. Вахромейка признался, что от страха забыл здешний язык. Табанька, придя в себя, стал похваляться: медведь — зверь стыдливый, срамословия не терпит, а орал-де он не от страха, а с умыслом.
Все произошло так быстро, что никто не успел выстрелить из пищали или лука.
— Похоже, нам на роду писано только с такими бабами спать в обнимку, — передовщик защипнул фитиль, погладил ствол пищали и вздохнул, вспомнив Маланью. Он велел двоим караульным держать ружья наготове, другим вставить в стволы тесаки и всем посматривать вокруг.
Туруханские покрученники, посмеиваясь над Табанькой, уверяли, что здешние медведи по-русски даже срамословия не понимают. Старый Лука Москвитин окликнул молодежь к ужину. Те на склоне выше табора валили сухостой на костры. Сенька с Угрюмкой уже подходили, волоча лесину. Федотка с Ивашкой стучали топорами, обрубая сучья. Возле костров опять закричали и зазвенели котлами, гулко ухнула пищаль.
Смеркалось, с горы уже не видно было, что там на таборе. По шуму молодые догадались, что к кострам опять пожаловал медведь. Зверя в этих местах видели так часто, что промышленным казалось, будто тут одни медведи и живут. Сенька с Угрюмкой дождались товарищей и вышли к кострам вместе.
Передовщик распорядился поставить по склону теперь уже четверых промышленных с огненным боем и сторожить подходы к табору. Светлячками тлели в ночи фитили на их пищалях. Молодых позвали к самому большому и жаркому костру. Они сбросили сырую одежду и стали сушиться. Присесть было негде, от усталости ныли натруженные ноги. Топорами и ножами промышленные откапывали углубления в склоне, чтобы прилечь. Под мхом земли было на поларшина, затем железо скоблило по камням или по льду.
Подкрепившись едой и питьем, просушившись, люди стали устраиваться на ночлег: кто навалился на поваленный ствол дерева, кто привязывал себя к коряге кушаком. До половины ватажных ушли ночевать в струги.
В монотонном гуле реки что-то менялось. Передовщик лежал под иссохшим деревом недалеко от попыхивавшего костра, прислушивался к звукам ночи. Низкие тучи ползали по небу, гася тусклый свет звезд. Явно послышался треск стволов и хруст веток, но караульные молчали. Перекрестившись, Пантелей придвинул пищаль со вставленным в ствол тесаком, нащупал саблю. Впервые, верная и привычная с юных лет, она показалась ему бесполезной.
Снизу раздались хруст и скрежет. Это рядом со стругом проплыл комель лиственницы. Затем топляк хлестнул ветками по смоленому борту. Другой струг тряхнуло от удара. Где-то закричали. Один из стругов накренило и стало выдавливать на крутой берег.
Похватав из костров головешки, наспех вырубив жерди, люди, в чем были застигнуты, высыпали к воде. Кто-то, оступившись, уже бултыхался в реке. Отталкивая жердями плывущие деревья, ватажные громко ругали здешнего водяного дедушку.
Вскоре лес пронесло. Снова все затихло, только слышно было, как плещет и клокочет волна на перекатах у камней. Постояв без дела, настороженно высвечивая факелами берег, кто-то облегченно вздохнул:
— Слава Богу! Отбились!
— Вроде все целы и все добро на месте!
Еще две лесины проплыли вдали от берега. Дальше сколько виделось в сумеречной ночи и при свете костров была гладь.
— Поспим, пока гнус не поднимет, — громко зевнул Лука Москвитин.
Тут все заметили, что в ночи похолодало, да так, что пар шел изо рта и комаров не слышно. На таборе опять запылали костры. Иные снова сушились. Кому повезло остаться сухим — укладывались, зевая и крестясь.
— Ведмедей бы леший не привел! — ворчали сонно.
Непогодой не пахло. Но среди ночи погасли последние звезды, а на рассвете над табором закружился снег. Вот и кончилось здешнее лето.
Снег пошел гуще. Из-под коряги, где устроился передовщик, укрывшись шубным кафтаном, струйкой курился пар. Услышав возню у костра, Пантелей высунул голову. На него в упор смотрел Лука Москвитин. Он раздул костер, зябко кутался в кафтан и хрипло посмеивался:
— Воровское отродье: ни холод, ни голод, ни гнус — все вам, казакам, нипочем.
Передовщик почувствовал себя отдохнувшим. Под корягой, где он устроился, было сухо.
Подкрепившись, ватажные разобрали шесты и бечевы, отвязали струги. Кружился снег, тошно и зябко было лезть в стылую черную воду.
— «Отче Никола, моли Бога о нас!» — пропел звонким голосом Третьяк. Ертаулы повеселели и потянули струг против течения.
— «К чудному заступлению твоему притекаем. — Зашлепали густо смазанные дегтем бахилы по самому краю у воды. — Радуйся, плавающих посреде пучин добрый кормчий».
Скорый в бедах заступник путешествующим и плавающим не бросил молящихся. Через некоторое время снег прекратился, засияло солнце. Мох быстро впитал в себя остатки влаги, душно запарил. От одежды тоже пошел пар. И вот уж появился мельтешащий рой, послышался первый гулкий шлепок по щеке:
— Объявились, кровососы!
Ранняя северная осень и свежий снег в тенистых местах напугали даже привычных к здешней погоде туруханских покрученников. Добрая половина ватаги требовала идти к промысловым местам не останавливаясь, другие робко настаивали, чтобы на Успенье Пресвятой Богородицы дневать и молиться. Передовщик внимательно выслушал всех и объявил, что дневки не будет, а грех он примет на себя.
На Успенье прошли мимо большого притока с левого берега. По словам гороховцев, здесь кончались их промысловые угодья. Дымов и чумов на берегу не было. Передовщик послал вперед Вахромейку Свиста, Луку Москвитина да Алексу Шелковникова с сыном посмотреть, нет ли поблизости тунгусских станов. Те обошли пологий берег и вернулись, никого не встретив, но скрытое кострище и примятый чумом мох они все же обнаружили. Тунгусы ушли с этих мест до прихода промышленных.
Дальше простирались земли немирных народов, где, по слухам, бесследно пропала тобольская ватага. Низкое осеннее солнце, едва поднявшись над рекой, уже клонилось к западу. Оно не слепило глаз, не грело и отбрасывало тени до самого стрежня реки. Гулко и печально вскрикивая, из-за гор, из тундры, черными стаями пролетели птицы в теплые полуденные края. На восточной стороне, среди увалов, покрытых тайгой, завиднелся и обрадовал глаз чистый плес. Берег вдали выглядел ровным, манил к себе и поторапливал бурлаков поскорей пройти трудный участок. Им казалось, что там можно тянуть струги не замочив ног: смилостивилась Божья Матерь, Заступница всех русичей, дает им на свой праздник чудо облегчения.
Передовщик объявил привал. Пока ватажные отдыхали, Семейка Шелковников подался вперед, поглядеть, правда ли там сухой берег. Он отошел всего-то шагов на пятьдесят и вдруг, у всех на виду, испуганно завопил, замахал руками, указывая в какой-то распадок. Первыми к нему подбежали молодые, глядя на них, заскакавших на месте, к ним из любопытства потянулись и ватажные. Там, куда указывала молодежь, из глины и окатыша торчал остов рогатой бычьей головы. Самый большой из виденных на Руси быков по сравнению с этой башкой выглядел новорожденным теленочком: между рогами черепа был аршин, а каждый рог в десять обычных.
Кто крестился, кто бросал укоризненные взгляды на передовщика: вот те, дескать, расплата за грех трудов на Успенье. Тугарин, глядя на череп, испуганно крестился, удивленно и приглушенно срамословил:
— Такого только пушкой валить… Куда с нашими-то пищалишками.
Снова вскрикнул Федотка. В двадцати шагах он нашел другое торчавшее из яра страшилище, у которого одна только башка была с доброго быка, а зубы в пол-аршина.
— Уй! — заскулил Табанька. — Куда нас тайгун ведет?
Туруханцы вяло и неуверенно заговорили, что в здешних местах много костей древних зверей, которых живыми никто не видел и тунгусы про них не сказывали. Нехорошко трясущимися руками почесывал бороденку, водил по сторонам ошалелыми глазами и бормотал:
— Оп-тыть! Вот жа… Оп-тыть!
Передовщик внимательно осмотрел кости и заявил, что они древние.
— Где же — древние? — вскрикнул Нехорошко, указывая пальцем на зубатое чудище. — Вона шерсть и кожа! — Кадык по его тощей шее дергался вверх-вниз.
Пантелей принес горящий сук от костра. Сколько ни жег рог, запаха паленых костей не было. Шерсть же пованивала как обычно. Передовщик слегка успокоил, но не убедил испуганных ватажных. Вернувшись к стругам, они стали думать, что делать, но останавливаться для молитв или ночевать возле костей не хотел никто.
— Не возвращаться же! — крестился озираясь Лука Москвитин.
Табанька, поскуливая, стал напоминать, что воевода велел вместе с гороховскими промышлять. Его не услышали.
Соборно помолясь Господу Вседержителю, да Пречистой Его Матери, да Николе Чудотворцу, да всем святым своим заступникам, люди разобрали бечевы с шестами и двинулись дальше.
И пошли они вперед, распевая псалмы и богородичные молитвы. Тишина казалась манящей. Оттого, что впереди расстилались неведомые земли, дышалось привольней. И жутковато было входить в тот мир, хоть бы и под покровом Заступницы за русский народ. Настороженно озирались бурлаки и шестовые, оружие держали под рукой.
Ватага поднималась по реке до самых сумерек. К вечеру люди едва плелись от усталости, но радовались и благодарили Пречистую Матерь Бога за помощь явную: ни один любопытный медведь не подступил к ним за целый день пути. Наконец, вышли они на пологий берег, где можно было с удобством поставить табор и заночевать.
Ертаульный струг остановился, приткнувшись носом к суше. Бурлаки присели на сухой мох, на вросшую в землю лесину. Лука Москвитин обернулся к передовщику. Тот пронзительно свистнул и махнул рукой. Ертаулы стали вытаскивать струг на берег. Пантелей сошел на берег с ликом Богородицы и обнес им будущий ночлег.
— «Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых», — пропели усталые промышленные люди и стали крепить суда. Передовщик указывал, кому готовить дрова для костров, кому драть кору и хвою на постели.
На другой день до полудня они вышли к луке реки, огибавшей скалистый холм, на нем торчали старые, скрученные ветрами, иссохшие на корню деревья. Не было на них ни одной живой ветки, но издали виднелись на сучках полощущиеся на ветру лоскуты шкурок, которыми было обвешано самое толстое и причудливое дерево, похожее на великого горбуна.
— Капище! — шестом указал передовщику Лука Москвитин. Тот дал знак остановиться против холма и обернулся к Вахромейке, волочившему последний струг. Толмач опасливо взглянул на иссохший лес, огляделся по сторонам, почесал зад под мокрыми, липкими кожаными штанами и пожал плечами: капище — оно и есть капище.
Вскоре в одном месте собралась вся ватага. Промышленные заспорили — пройти ли мимо, прочитав молитвы от осквернения, или заглянуть. Всегда неунывающий и неусердный в вере Вахромейка вдруг стал корить их ересью и богохульством, начал запугивать тунгусами, которые не простят самовольного посещения капища, и, предостерегая спутников, с чего-то так озлобился, что его всегда гладкое и улыбчивое лицо покривилось.
— Отслужим молебен и пройдем мимо! — удивленно зароптали набожные устюжане с холмогорцами. Молодежь помалкивала. Помалкивал и сибирский бывалец Лука Москвитин.
— Надо хоть издали осмотреть! — говорили туруханские покрученники, знавшие тунгусские нравы. — Бросим болванам по рыбине да лоскут какой — здешние тайгуны будут нас миловать. А где самострелы стоят — разберемся… Вдруг и найдем след пропавшей тобольской ватаги.
Передовщик думал долго, строго поглядывая то на одних, то на других: и скверниться не хотел, и гневить здешнюю нечисть побаивался, и о выгоде купцов со складниками радел, и воеводское наставление должен был исполнить — вызнать все о здешних народах. Но больше всего не понравился ему Вахромейка: прежде он был ленив и равнодушен до всяких споров, а тут вдруг разъярился. Пристально всматривался в его лицо Пантелей Пенда, стараясь как-то растолковать себе вздорную горячность и незамеченную прежде набожность. Толмач почувствовал что-то и уже приветливо помалкивал с кривящейся, неловкой улыбкой.
И велел передовщик назваться трем добровольцам из туруханских покрученников. Назвались трое туруханских бывальцев, много лет промышлявших возле тунгусов, среди них разорившийся архангельский купец. С ними вызвался идти Третьяк.
Пантелей дал им две пищали, добрый боевой лук, наставил: крадучись, с опаской великой, чтобы не попасть ни под самострел, ни в ловчую яму, сходить к болванам, высмотреть, какие они из себя и какому племени могут принадлежать.
Староватажные добровольцев благословили, вынесли на берег все лики, складни и обещали молиться за них непрерывно. Передовщик велел запалить фитили пищалей, разобрать луки и занять круговую оборону, укрывшись за стругами и деревьями.
Доброхоты ушли. Ватажные, молясь и поглядывая вокруг, прислушивались, готовые в любой миг идти на помощь. Вернулись посланные скоро. Третьяк с двумя пищалями и луком шел впереди в полный рост. Двое туруханцев волокли под руки архангельца, мотавшего вислой головой. Тяжелый медный крест на его груди был смят боевой тунгусской стрелой. Грудь под крестом посинела. Крови не было, но нутро болезному отбило.
Все вернувшиеся были без шапок. Положив архангельца в струг, они трижды перекрестились на лики, сели на борта и сказали обступившим их ватажным:
— Там распяты остовы семи тел. На них ржавые латы и куяки, в руки вложены копья и мечи. Иные покойники сильно погнили, но по бородам да по волосам видать наших… Не тобольская ли ватага приняла здесь кончину?
Нежданно-негаданно затянулась стоянка возле тунгусского капища. Промышленные собрались в круг и стали думать: оставить ли мощи православные поруганными или прибрать их, отпев по-христиански? Бога ли прогневить или со здешними народами быть в ссоре?
По обычаю стародавнему помолясь Милостивому, в Святой Троице восславляемому Спасу, да Пречистой Матери Его, да Николе Чудотворцу, передовщик каждого промышленного спрашивал, не давая никому отмолчаться.
И решили ватажные, что нельзя пройти мимо оскверненных мощей, надумали с предосторожностями от возможных нападений еще раз сходить на капище, тела оттуда вынести, чтобы, отпев их по обычаю русскому, предать земле.
На этот раз даже Вахромейка Свист, призывавший не ходить на капище, побоялся неразумным словом Господа опечалить и стал со всеми заодно.
Уже солнце скользило по правому берегу реки, бросая на воду длинные тени деревьев. Наказал передовщик холмогорцам готовить ночлег и караулить струги с добром, остальных людей поделил на два отряда. Одним приказал с оружием оборонять капище на подходах, другим — разведанной тропой пройти к телам, снять их и вынести на берег.
Шагая след в след, обойдя все самострелы и ловчие ямы, добровольцы прошли среди причудливых деревьев, похожих на уродливых зверей. На открывшейся поляне стоял шалаш, крытый берестой. У входа в него сидели три болвана с медными, позеленевшими от сырости личинами. Возле них лежала куча рыбьих и лосиных костей. А на подступах были привязаны к кольям и оструганным стволам людские тела с надетыми на них ржавыми кольчугами. В кости рук были вложены длинные медные мечи, неведомыми народами в неведомые времена выкованные. На истлевших, безгубых головах крепились высокие кованые шлемы.
Узкие длинные мечи были непригодны для нынешнего боя. В тайге от них и вовсе не было пользы. О таком оружии много рассказывали сибирские насельники. Его обломки находили по всей Сибири и выкапывали из древних могил.
Чтобы не гневить здешних народов и их божков, ватажные оставили болванам богатые дары: на дерево, увешанное шкурками, повесили снизки бисера и одекуя[67].
С молитвами они сняли останки с кольев, освободили их от чужих лат, развесив ржавые брони в том же порядке на тех же местах. Русские кости вынесли с капища к табору, а за собой замели следы и даже заново насторожили самострел, стрела которого контузила покрученника.
Ночью возле прибранных останков поочередно сидели по трое ватажных из устюжан и холмогорцев, читали Псалтырь и молитвы по умершим. Другие люди грели землю кострами и рыли могилу в мерзлоте. После утренних молитв на восходе солнца кости были преданы земле. Помянув погибших едой с питьем, промышленные прилегли отдохнуть перед дорогой. Но недолог был их сон.
Дозорные донесли передовщику, что на излучине закурились дымы. Подумав, Пантелей решил не встречаться со здешними народами, а сделать вид, будто ватага их не заметила. После полудня промышленные поклонились кедровому кресту на братской могиле и с облегченными душами продолжили путь.
И шли они так с редкими дневками до самого Воздвиженья. И дошли до благодатного места с пологим берегом, ровным плесом реки и густым лесом: становись и живи, воздвигнув добротный дом. И рыбы в реке было множество, и утки с гусями садились в заводях бесчисленными стаями.
Опала багровая хвоя с лиственниц. Последние желтые листья висели на черных березах. Тихие заводи и старицы реки были затянуты льдом. После полудня на таборе мылись и чистились. В ночь молились долго и благостно, надеясь здесь и зазимовать.
Едва блеснул на небе первый робкий холодный луч осеннего солнца, люди хозяйским глазом оглядели окрестности. Место понравилось им пуще прежнего. И начали они праздничный день молитвами. Сначала их читали Третьяк с Лукой Москвитиным, потом каждый что знал и умел. Затем, подкрепившись едой и питьем, развели они костер повыше, запели, заплясали, веселя силы небесные и всех святых, помогавших в пути.
Наутро передовщик разослал во все стороны дозорных. Вскоре они вернулись и доложили, что рядом, за поворотом реки, по другому берегу видны дымы костров, слышны собаки. Подумал передовщик, посокрушался, но велел впрягаться в бечевы и двигаться дальше против течения замерзающей реки.
Большинство промышленных согласились, что надо уходить. Покрученники отмолчались. Но самые вздорные из складников стали роптать, подсказывая передовщику, что можно и с тунгусами жить мирно по разным берегам реки, если их мясные и рыбные угодья не занимать. Громче всех возмущался Нехорошко Москвитин. Другие либо ворчали, либо помалкивали. А этот вошел в раж, понося и реку, и кочующие здесь народы. Да так разъярился, что стал и самого передовщика обличать во всяких злых умыслах.
Пантелей сколько мог терпел горластого устюжанина, потом молча схватил его за плечи и так тряхнул, что у Нехорошки головенка на кадыкастой шее мотнулась по-петушиному. Он сипло пискнул, не поддержанный ни своими земляками, ни покрученниками, и обиженно умолк.
Пришлось промышленным людям по студеной воде подниматься еще с неделю. На Феклу-заревницу, еще до полудня, ертаулы увидели холм, отделенный от реки живописным заливом старого русла. Старица была скована хрустким гнущимся льдом, под которым ходили сонные непуганые рыбины.
Люди остановились, любуясь местом. Ивашка Москвитин, Угрюмка да Федотка Попов не сговариваясь вышли на берег и стали сбивать лед со штанин и зипунов. Шедший следом струг холмогорцев тоже ткнулся носом в берег.
Передовщик издали увидел, как два судна пристали к берегу. Никаких знаков опасности не было. Едва с его струга стали видны холм и старица, он вытянулся на корме, упершись шестом в каменистое дно, окинул взглядом лица ватажных, зачарованно смотревших на берег, и сказал:
— К добру ли, к худу ли, но пора и зимовье ставить.
По-осеннему зябко светило солнце. В дымке невысоко над берегом катилось к закату дня, и принимала его на ночь заря темная, вечерняя. Через неделю-другую подходила пора промышлять, обустраивать станы, сечь кулемники. По всем приметам, надо было готовиться к зиме, запасаться мясным и рыбным припасом.
Как принято на Святой Руси со времен стародавних, стали промышленные в круг и, помолясь Господу Вседержителю, да Святой Троице, да Пречистой Богородице, да Николе Чудотворцу и всем святым, единогласно решили тут и зимовать.
Передовщик взошел на холм и осмотрел окрестности взором воина. Сняв колпак, поднял над головой нагрудный кедровый крест в треть аршина, обошел вершину холма, где быть стенам зимовья. Призывая в помощь Духа Святого на доброе дело, промышленные запели:
— «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…»
* * *
Ертаулы ходили в разные стороны, следов здешних кочевых народов не заметили, и все равно зимовье ватажные строили с опаской: среди бела дня выставляли секреты, хотя не хватало рабочих рук. А день стал короток: поздно гасли на небе звезды, едва не до полудня занималась над урманом заря, и ненадолго являло себя людям тусклое солнце. Работать начинали затемно, затемно расходились для отдыха, будто праздника, ждали очереди в дневной караул или на рыбный промысел, на добычу зверя и птицы, там и отдыхали от трудов.
Бывальцы из туруханских покрученников уверяли, что такие предосторожности напрасны: пока не закрыты снегами грибы — олени разбегаются по тайге и тунгусы живут оседло там, где их застает осень. Пантелей советы выслушивал со вниманием, оглаживал отросшую бороду, но людей в дневные секреты посылал. Никто не видел даже следов чудных зверей, чьи кости то и дело находили у реки, однако передовщик держал наготове крепостное ружьецо, в зелейник которого набивалось пороху, как в добрую пушку.
То и дело выпадал снег, но долго на мхах не держался. К Покрову ватажные успели срубить и накрыть драньем избу с баней, и тут снег повалил густо, покрывая прошлые грехи и страсти. Чтобы поставить частокол, пришлось уже разгребать сугробы. Потом засвистел ветер, замела пурга, и пришла в здешние места ранняя зима — хозяйка полуночных стран.
Между избой, баней и лабазом промышленные поставили частокол с бойницами и крытый берестой навес, чтобы всегда иметь под рукой запас сухих дров. Печи сложили из речного камня, обмазав их глиной, трубу вывели по-промышленному. Закрыв проемы дверей кожами, наконец-то все разом втиснулись в сырую избу, пропели молитвы на вхождение в новый дом, на освящение его, трижды окропили углы и все отверстия святой водой, затопили печь, и потянулся из трубы дымок, сырой сруб стал наполняться теплом и запахом жилья.
Вечером в жарко натопленной избе Лука Москвитин с наговором выпустил из ларца засидевшегося домового. Тот стал осваиваться, наводя свой порядок: потрескивал венцами стен, перебирал дранье на кровле.
Молодой месяц народился рогами вверх — к снегам, но притом только пуще приморозило. По всем приметам нечисти после Покрова сделалось под землей тесней, чем промышленным в избе. Полезла она наружу, завыла, закружилась вихрями, мороз заскакал по ельникам, по березникам да по сырым борам. Холод не любит голод. А мужику что деется — бежит да греется. Припадет к горячей печи, пожует скоромного да жирного — и снова за дело.
Дичи поблизости было множество, рыбы в реке и того больше. За малый срок промышленные набили рыбный и мясной припас, наморозили его корзинами. Сидя возле огня, радовались крову и достатку, думали, жизнь вскоре станет легче и будет время отдохнуть.
Едва утихла пурга и окреп снег, передовщик послал две туруханские чуницы разведать места промыслов на два дня пути вверх и вниз по реке и по притокам. Притом строго наказал: с тунгусами не ссориться и аманатов не брать, чтобы здешние народы не гневить. А еще велел, идучи по льду, высматривать полыньи и где надобно выходить на сушу, по берегу же идти с опаской, чтобы не попасть под тунгусский самострел.
Покрученники ушли с панягами[68] за спинами. К ним были приторочены кожаные мешки с четырехдневным хлебным и квасным припасом. Они взяли с собой тяжелые пищали, топоры, свинец и порох.
Зимовейщикам же передовщик велел готовить лыжи и нарты, указывал, кому распускать еловые и осиновые чурки на дранье, кому парить и гнуть концы. Сам же он с Угрюмкой и Третьяком собирал двухкопыльные нарты, крепил их клеем, сваренным из рыбьих костей.
Туруханцы вернулись на пятый день, когда в зимовье и двери были навешаны, и нары с полатями выстелены сухим мхом. Они попарились в бане, отдохнули и доложили собравшимся, что поблизости от зимовья тунгусы не промышляют. Из прошлых лет им известно было, что здешние мужики считают для себя достойным делом только охоту на крупного зверя. Пушнину у них добывают дети да девки с собаками и луками. Всякие ловушки здешними народами презираются. Они видели диких только в дне пути ниже по реке и без всякой вражды махали друг другу руками с разных берегов.
Туруханцы принесли в зимовье пару белок и пару соболей, добытых в разных местах. Промышленные осмотрели их и решили, что пушной зверь уже вылинял: пора рубить станы, тропить ухожья и сечь кулемники.
Сход проходил шумно, с незлобивыми спорами. Вверх по ручью, впадавшему в реку возле зимовья, желали промышлять сразу три чуницы. Передовщик велел спорившим атаманам бросить жребий. Все сошлись на том, что места промыслов поделены справедливо.
Холмогорцы взяли в свою чуницу Третьяка. Ни одна из чуниц не приняла Вахромейку Свиста, туруханского «лешего», хотя ничего плохого о нем никто сказать не мог. Ручавшийся за него передовщик вынужден был оставить толмача при себе.
Угрюмка тоже остался в зимовье. Никто не звал к себе его и Табаньку. Они и сами не хотели идти в чуницы, с радостью хозяйничая по избе: кашеварили, замешивали квашню и пекли хлеб. Табанька ко всему тому еще со знанием дела и со страстью проращивал солод на пиво. Так сама собой сложилась чуница зимовейщиков.
Но выйти в намеченный срок на обустройство станов ни одной из чуниц не удалось. Во время последних сборов в тесовые ворота зимовья на вершок воткнулась длинная стрела, исчерченная причудливыми знаками. На ней был железный наконечник, кованный для войны и человекоубийства. Пускалась стрела с дальнего расстояния из большого тунгусского лука, склеенного рыбным клеем из разных пластин[69]. Такие луки высоко ценились среди промышленных. Они били дальше пищалей и пробивали легкие брони.
Передовщик осмотрел принесенную стрелу и передал ее другим. Вахромейка Свист, непонятно над чем посмеиваясь, сказал:
— В самый раз для тунгусов война. Олени из тайги вернулись. На мясного зверя идти рано, а дружные роды уже собираются для промыслов.
— Навел Бог за грехи наши! — крестились устюжане с холмогорцами.
С холма, на котором было поставлено зимовье, видны были скрывавшиеся за деревьями люди, вооруженные боевыми луками в рост человека и пальмами[70]. Их было человек до ста.
Когда об этом донесли передовщику, он, стряхнув с жупана налипшие стружки, бросил на нары суконную шапку, надел войлочный колпак и, сбив его на ухо, сразу исполнился ратного духа. Перепоясавшись саблей, Пантелей даже помолодел с виду, как боевой конь, вдыхающий запах пороховой гари. Во дворе он стал весело похаживать вдоль частокола, высматривая воинские приготовления в противном лагере, приказал, чтобы промышленные зарядили все пищали и длинноствольное крепостное ружье, велел держать под рукой тлеющий трут. Едкий дымок — предвестник боя и крови — заклубился под кровлей навеса.
— Откуда их столько разом? До снега больше пятерых не доводилось видеть, — опасливо выглядывая из-за частокола, ругался Нехорошко.
— Время такое! — с глупым смешком подсказал Вахромейка. Он был рассеян, бестолково суетился и часто отвечал невпопад.
— И долго так простоять могут?
— С месяц на рыбном корме простоят! Сейчас подледный лов хорош. Дольше не выдержат, разбредутся по промыслам, иначе к морозам без мясного припаса останутся и начнут красть оленей друг у друга, меж собой воевать.
— Можно и отсидеться! — молодецки взглянул на притихших промышленных передовщик. — А можно и удивление здешним землям устроить, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! — рассмеялся, скаля белые зубы в заиндевелой бороде. — Мы не на обиды рождены!
Не голодал, не изнурял себя казак в нынешней промысловой жизни, а вот пьянящего возбуждения перед боем ему часто не хватало.
— Можно! — повторил, оглядывая тунгусский табор. — Да нам ведь и промышлять надо.
Его бодрый голос, удаль передались приунывшим людям. Устюжские и холмогорские складники, повеселев, стали тоже посмеиваться и пошучивать:
— Запремся в осаде, отоспимся впрок.
— Некогда отсыпаться! — сверкнул глазами передовщик. — Что ж! Может, так и лучше: не мы первыми мир нарушили — за нами право наладить его, как умеем.
Еще несколько стрел, гулко задребезжав, воткнулись в стены избы и частокол.
— Попугивают! — усмехнулся передовщик, цепким взглядом высматривая, что делается в лесу. — На приступ пойдут! Но не сейчас. Ночью!
За деревьями гулко звучал бубен. Над лесом поднялись дымы костров. Тунгусы начали камлание, призывая в помощь духов. Передовщику удалось высмотреть шамана, который был строен, как удалой стрелец, и на голову выше всех своих сородичей. Одет он был в оленную парку, обвешанную какими-то побрякушками. Длинные черные волосы лежали по его плечам. По тому, как толпились возле него сородичи, как кидались на помощь, нетрудно было догадаться, что шаман был не из простых и почитался среди многих родов.
— Вон того, с камом, — указал на шамана Третьяку, — надо зааманатить. Выбери верных помощников, кого знаешь, и с Богом. — Кивнув за плечо, пробормотал тише: — Возьми-ка с собой и Угрюмку.
— До аманатов ли? — слезливо простонал суетившийся Табанька. — Живыми бы уйти!
— После всех мытарств вернуться с голым задом к жене и христарадничать… Спаси, Господи! — прошипел Нехорошко, вытягивая тонкую кадыкастую шею.
Как и предполагал передовщик, ночью тунгусы подкрались к стенам зимовья. Как только они начали раздувать принесенный огонь, чтобы поджечь пучки сухой травы, смоченные в жире, из-за частокола прогремел залп. Душное облако порохового дыма рассеялось, на снегу корчились и уползали ранеными до десятка нападавших, остальные бежали к лесу. Добивать раненых передовщик не велел и не препятствовал сородичам подобрать их.
— Это вам игрушка первая, не последняя! — захохотал, до пояса высунувшись из-за частокола. — Это мы только ружья почистили. Иным вас попотчевать нечем. Дело наше осадное!
На повторную ночную вылазку тунгусы не решились.
Небо было чистым. День обещал быть ясным. Едва забрезжил рассвет, промышленные по наказу Пантелея поставили на нарту щит из полубревен и, скрываясь за ним, скатились по снегу к самому табору тунгусов. Из-за своей многочисленности они даже не выставили караула и были застигнуты врасплох.
Третьяк с саблей в руке, с полуаршинным кедровым крестом во всю грудь распоряжался вылазкой. Он взял в пособники молодого Семейку Шелковникова, Луку и Ивашку Москвитиных, Федотку Попова да чуницу туруханских покрученников. Рядом с ним был и Угрюмка.
С пронзительными воплями и разудалым посвистом промышленные выскочили из-за щита в нескольких шагах от островерхих чумов и тлеющих костров. Размахивая топорами, кинулись на сонных тунгусов. Те, побросав громоздкие луки, схватились за рогатины. Раздались лязг железа, хруст черенков, крики и ругань.
Третьяк с молодыми промышленными в общей сече не участвовал. Под прикрытием туруханцев он прорвался в середину табора к балагану шамана, возле которого стояла пальма, пышно украшенная перьями. Что произошло потом, сами молодые промышленные вспоминали с трудом, расспрашивая видевших все со стороны.
Из-под полога выскочил шаман. Он не схватился за оружие, не бросился в лес, а вытянулся, как тарбаган у норки, и стал пристально глядеть на окруживших врагов большими черными глазами. Угрюмка под его взглядом, спокойным и строгим, почувствовал вдруг, что ноги подгибаются, как во сне, а руки, обессилев, с трудом удерживают виснущий топор. Он заставлял себя бежать, но едва шевелился.
Оцепенение прошло так же неожиданно, как и наступило. Словно проснувшись, он резво кинулся к шаманскому балагану, чтобы перехватить пальму. Шаман же, не сгибая колен, упал навзничь. «Убили!» — испугался Угрюмка, помня строгий наказ передовщика. Он отбил топором чью-то рогатину, огрел по спине обухом тунгуса в собольей шубе, подскочил к шаману. Тот лежал на снегу, вращая дурными глазами. Федотка с Третьяком вязали ему руки.
Едва они подхватили под руки знатного пленника, раздался залп. Передовщик, размахивая саблей на частоколе, кричал, чтобы все возвращались. Промышленные укрылись за щитом на нарте и поволокли ее в гору, к зимовью. Из-за частокола раздался новый залп.
— А это вам игрушка вторая! — с посвистом и гиканьем крикнул обескураженным тунгусам Пантелей и с такой яростью закрутил саблей, что отбил несколько пущенных в него стрел.
Ворота распахнулись, впустив своих, и затворились, накрепко заложенные березовым брусом. На таборе же началась суматоха. Убитых промышленных не было. Двое были ранены, но могли ходить. Среди них опять оказался разорившийся архангельский купец. Шаман пришел в себя уже за воротами. Кроме него были взяты в плен еще два тунгуса. Табор, потрясенный дерзкой вылазкой, стал осыпать зимовье стрелами.
Возбужденные боем, промышленные смеялись и громко рассказывали о пережитом, не обращая внимания на стоны раненых. Угрюмка ошалело таращил глаза, мотал головой, пытаясь понять, что же с ним было.
— Я к шаману — вот он! — весело лопотал кому-то Ивашка Москвитин. — Зенки вылупил — чую, чарует, ведьмак. Я за крест… Слышу, Третьяк в голос — «Отче наш…» Я — ну подпевать! И Федотка с нами. Прибыло сил в руках. А шаман — брык оземь.
— У меня ноги будто в болоте вязли, — удивляясь, выкрикивал Федотка. — И расслабление…
Третьяк и туруханские бывальцы, посмеиваясь над молодежью, обстоятельно поучали: «Узнаешь в бою чародея, саблей не маши — пустое дело, читай „Отче наш…“, „Троицу“ — колдунишек молитва Господня с ног валит».
Пленные с безразличными лицами сидели возле бани. Им развязали руки, заперли и поставили караульного. Побитым туруханцам помогли раздеться, очистили кровоточившие раны, приложили к ним целебные травы, посыпали золой и перевязали.
Передовщик сделал что хотел — взял заложников. Теперь нужно было выждать и узнать, стоят ли пленники того, чтобы их кормить и охранять. Аманатских цепей было только две. Держать третьего в колодках опасались — вдруг помрет?! Это были новые, нежелательные заботы вместо насущных промыслов.
К вечеру опечаленный тунгусский табор оживился. Из него вышли трое послов. В сотне шагов от зимовья они воткнули в землю рогатины и смело направились к воротам.
Встречать их ватажный сход отправил Луку Москвитина с Вахромейкой Свистом. Третьим пошел Федотка Попов, брат главного холмогорского пайщика. Оружия они не взяли, зная, что находятся под прикрытием своих пищалей.
Остановившись в пяти шагах друг от друга, послы начали переговоры. Трое гостей предложили себя аманатами вместо шамана и дарили в знак примирения соболью шубу. О двух других плененных они не упоминали.
Из того, как говорил с послами Вахромейка, Луке с Федоткой стало ясно, что толмач он плохонький, понимает послов с пятого на десятое не лучше иных туруханцев. Но Вахромейка никогда не похвалялся, будто он хороший толмач. По туруханским обычаям, хорошего толмача меньше чем за полную ужину не нанять, а этот пошел покрученником.
Восчувствовав себя послом, Лука Москвитин встал фертом, подражая голосу и манерам пославшего его передовщика, выдержал паузу, заломил бровь и пригласил послов в зимовье. Вахромейка и Федотка, каждый по-своему, повторили приглашение.
Тунгусы безбоязненно пошли за ними, не выказывая недоверия. У ворот зимовья их обыскали и провели в избу. Сюда же были приведены из бани пленники. Всех усадили за стол и выставили щедрое угощение.
Поев вареного мяса и порсы, попробовав хлеб, послы снова заталдычили о своем без толмача понятном деле. Вахромейка и туруханские бывальцы, знавшие по нескольку тунгусских слов, стали переводить. Шаман сидел молча, с гордым видом и не прикасался к еде.
К расспросам приступил сам передовщик, Пантелей Пенда. На вопрос, зачем тунгусы напали на промышленных, те ответили, что они уже платили ясак царю, чтобы тот их защищал. Некоторые роды сверх того давали подарки промышленным, жившим в низовьях.
— Несправедливо! Два раза платить ясак они не желают! — чисто перевел туруханский бывалец.
— Вона! — раздался возмущенный крик Нехорошки. — Гороховские берут на себя, а на нас наводят смуту.
Подумав, передовщик сказал ласково:
— Добрый русский царь два раза ясак с подданных не берет. Только один раз в год. — И показал перст. — Всех дающих ему ясак защищает от врагов, справедливо судит и награждает подарками.
По возмущенному гулу в избе тунгусы поняли, что лучи[71] с низовьев их обманули.
Вахромейка чесал бороду, мотал головой, подолгу раздумывая и вспоминая слова, делал знаки руками. Ему подсказывали туруханцы. Когда же он закончил переводить, то утомленно взглянул на передовщика.
— Скажи, как умеешь, что мы хотим с ними жить в мире. Не будут нападать на нас — отпустим аманатов. Но сейчас не можем верить им из-за семи убитых.
Вахромейка вздохнул, метнул колючий взгляд куда-то в угол, выругался, не находя нужных слов, вытер лоб рукавом и стал думать. Ему опять начали подсказывать. Похоже, всем вместе удалось объяснить, чего они хотят. Послы и пленные возмущенно загалдели, перебивая друг друга. Даже шаман что-то отрывисто пророкотал.
— Говорят, наши сами себя убили!
То, что двое наткнулись на настороженные самострелы, понял и Пантелей. Туруханцы подсказали, что пятеро были зарублены русским оружием, тунгусы только прибрали их тела по своему обычаю.
— Гороховские, поди, порешили! — опять зашумели устюжане с холмогорцами. — Не хотят никого пускать на Тунгуску. Жили без закона и дольше хотят так!
Передовщик взмахом руки заставил своих людей замолчать. По тону перепалки тунгусы почувствовали поддержку, развалились вольготней, иные слезли с лавок и разлеглись на полу.
Передовщик посоветовался с ватажными и важно изрек, расправляя усы и бороду:
— Шамана мы оставим в почетных аманатах, чтобы впредь не нападали.
Одарив послов и двух пленников бисером, промышленные с миром отпустили их за ворота зимовья. Пятеро ушли в ночь к мерцавшим кострам сородичей. Лупоглазый шаман был препровожден в протопленную баню и посажен на цепь.
Наутро тунгусское войско снялось и ушло. Туруханцы сказали, что теперь до весны они не смогут собраться: наступает время, когда все сильные мужчины идут на промысел сохатого и дикого оленя, как в русских деревнях весной мужики идут пахать.
Ватаге давно пора было промышлять. Передовщик отправил ертаульные отряды в разные стороны. Разведка вернулась и доложила, что на местах будущих промыслов тунгусов нет. За большим Камнем, на зимнике, стояли три чума. Их насельники не показывали ни вражды, ни страха перед ватажными.
Получив наказы от передовщика, чуницы с ржаным и рыбным припасом разошлись по местам промыслов. В зимовье остались Пантелей Пенда, Угрюмка, Вахромейка Свист, прошлогодний передовщик Табанька да двое раненых туруханцев.
На память мученика Лонгина, римского сотника — целителя глаз, который участвовал в казни Христа, но из сострадания поверил в Его святость, день выдался солнечный, что редко бывает поздней осенью. Пантелей столярничал в избе и мысленно примерял свои воинские грехи к святому мученику.
Шаман в бане стал стучать цепью в стену. Задремавший было караульный, зевая, поплелся к нему. Это был несчастливый архангелец, раненный на капище самострелом в грудь и при вылазке стрелой в лоб. Он открыл низкую банную дверь, подслеповато щурясь, заглянул в прокопченный сруб. Шаман полулежал на полке, прикованный цепью к стене. Архангелец выслушал его, снова закрыл банную дверь, подпер ее жердью и неторопливо направился в избу. Возле очага передовщик тесал запасные полозья к нартам, Вахромейка парил их и гнул, Табанька месил тесто в квашне.
— Тунгус требует, чтобы пустили на двор. Ему надо камлать чистому небу — иначе никак нельзя, — доложил караульный. И добавил помявшись: — Грозит помереть, если не пустим!
— Раз так — отпусти! — разрешил Пантелей. — Угрюмке скажи, пусть тоже смотрит за ним.
Караульный ушел. Следом за ним, отряхивая стружки со штанин, вышел Вахромейка. Передовщик с удивлением подумал про разорившегося архангельского купца: «Прежде вроде не понимал тунгусов, а тут уж и с шаманом разговорился». Он продолжал работу, изредка прислушиваясь к звону цепи. Звуки ему показались странными — резкие хлесткие удары железа по железу. Но в это же время Табаньку угораздило застучать по кадке.
Передовщик остановил его знаком, прислушался и снова удивился: «Если кто из зимовейщиков перековывает цепь, то удары уж больно ловкие». Холмогорский кузнец ушел на промыслы, и Пантелей решил, что кует Вахромейка.
Все звуки за стеной стихли. Передовщик прислушался еще и еще. Тишина во дворе насторожила его. Он отложил поделку, вышел из избы, увидел двух туруханцев и Угрюмку. Они кружком сидели на снегу и, задрав головы, глазели в небо. Архангелец обнимал пищаль, припав к ней щекой. Под навесом валялась раскованная цепь. Шамана не было. От нужника, поправляя на ходу кушак, шел Вахромейка, на его лице была все та же улыбка, что в Туруханском зимовье при банях.
— Аманат где? — не веря глазам, спросил передовщик и судорожно сглотнул воздух.
Караульный вздрогнул, обернулся, поднялся на ноги и другой раненый туруханец. Угрюмка, словно вина опившись, указал рукой в небо, пролепетал, хлюпнув слюной на губах:
— Кажись, вон… Возле облака!
Караульный покраснел вдруг, стал смущенно ощупывать пищаль.
— Где аманат? — закричал передовщик, побагровев от гнева.
Угрюмка закрыл разинутый рот, взглянул на него удивленно.
— Улетел! — с недоумением пожал плечами архангелец. Перекрестился, понимая, что говорит глупость. — Или глаза, ведьмак, отвел. Заморочил! — Лицо его покрылось багровыми пятнами.
— Вам что было велено, нехристи паскудные? — затопал ногами передовщик. — «Отче наш…» да Богородичные читать, пока шаман камлает. А вы зенки пялили на его пляски?
Тут он со стыдом вспомнил, что и сам, увлекшись работой, не додумался спросить караульного, как тот понял желание шамана камлать. От досады Пантелей плюнул через левое плечо в харю нечистому, злобно взглянул на улыбавшегося Вахромейку. И показалось ему, что у того настороженно бегают коварно-прищуренные глаза, будто что-то выпытывают по лицам промышленных.
— Если беглец завтра приведет с собой полсотни удальцов — зимовье не удержать! — прохрипел передовщик, перебарывая ярость.
Промышленные, ругаясь и крестясь, бросились осматривать следы. Они показали, что на глазах карауливших его людей шаман подошел к кузне, срубил оковы и бежал через ворота, откинув закладной брус. За частоколом его след уходил в лес, а там тунгуса, как волка, искать — только время терять.
— Молите Господа о помощи, — сменив гнев на печаль, со стоном вздохнул Пантелей. — Все грешны, всем и ответ держать перед ватагой. Караулы нести денно и ночно, ночами будем все стоять, днем — по одному.
И опять ему не понравился Вахромейка. Один из всех невиновный, он напоказ поправлял штаны.
— А ты что скалишься? Мог бы углядеть с нужника! — снова вспыхнул передовщик.
— Так — куда? — заскоморошничал «леший», хлопая себя по животу. — Сел — так что по сторонам-то…
Туруханцы виновато хохотнули, Пантелей опять мысленно укорил себя за то, что в Туруханском зимовье чего-то недоглядел, как другие. Отвел «лешак» глаза, напомнив о грехах. «Хитер! — подумал зло. — Да встречались ли мы?»
Помыв руки щелоком и снегом, Вахромейка вернулся в избу и продолжил свою работу. Он жил среди других сам по себе, оставаясь одиночкой: от работ не отлынивал, но своей волей помогать не вызывался, если парился в бане, то дольше всех, если ел — то не только для того, чтобы насытиться, но старался восчувствовать каждый кусок. И постель в углу была у него самой мягкой.
К вечеру передовщик расставил всех зимовейщиков на караулы при огненном оружии. Вахромейку посадил у бойницы под навесом, здесь не дул ветер. Остыв от гнева, он устыдился своих подозрений и дал покрученнику лучшее место возле тяжелого крепостного ружья с кремневым колесцовым запалом. При нем не нужен фитиль: видишь врага — накручивай и спускай колесцо, стреляй первым. Ружье это с зарядом как у доброй пушки, цеплялось железным крюком за бревно, иначе стрелявшего могло зашибить отдачей. В случае нападения передовщик велел делать как можно больше шума, чтобы тунгусы думали, будто промышленные со станов вернулись в зимовье.
Всю ночь зимовейщики просидели на стенах и в сенях, вглядывались в темень, прислушивались, кутались в шубные кафтаны, а холод пробирал до костей. По одному они ходили в избу, поддерживали огонь в очаге, отогревались. И было на небе много звезд — к пущим холодам. С него, с Божьего терема, в распахнутые окна — звезды — печально смотрели на землю ангелы, прислушивались к молитвам людей и думали, не порхнуть ли вниз кому на помощь.
После полуночи на подмогу караульным вышла поздняя луна, освещая подступы к зимовью. Фитили на ружьях не были запалены, зато под рукой каждого стрелка тлел трут из сухого березового гриба-нароста.
Вот уже стали гаснуть звезды, бесшумно закрывались ангельские окна, серело небо. Продрогшие караульные зевали до слез и с вожделением ждали дневного отдыха. Наступавший день обещал быть ясным. И тут, ни с того ни с сего, под частоколом громыхнуло крепостное ружье. Сон, одолевавший караульных, как рукой сняло.
Пантелей метнулся вдоль частокола к навесу. В полутьме он не увидел возле бойницы ни покрученника, ни ружья. Но вот из-под рассыпавшейся поленницы раздался стон. Передовщик шагнул на звук с вытянутыми руками, споткнулся о ружье, затем нащупал тело стонущего, сбегал в избу и вернулся с пылавшей головешкой. Огонь высветил Вахромейку. Он лежал на боку, елозя почему-то босой ногой.
Пантелей окликнул ближайшего караульного. Тот прибежал, на его пищали тлел фитиль. Он огляделся, плюнув на пальцы, защипнул его и положил ружье в сторону. Двое раскидали дрова и вытащили охающего Вахромейку.
— Как больно! — сипел тот. — Никогда так больно не было… Легче помереть.
— Живи еще! — поскрипывая зубами, ругнулся передовщик. — Стрелял-то зачем?
— Не знаю! — охая и корчась, сипел Вахромейка. — Само стрелило… Как даст!
— Зачем колесцо спустил?
— Не помню. Само! — охая, твердил контуженый.
Рассвело. Передовщик осмотрел бойницу и не нашел даже царапины от ружейного крюка. Видимо, Свист накрутил колесцо со скуки или от страха, а после уснул и во сне спустил его. Подсыпка на полке вспыхнула, ружье, лежавшее на боку, выстрелило, отбросив стрелка к поленнице.
Едва эту пищаль почистили да зарядили, насыпав натруску, из-за заметенной старицы раздался выстрел. Похоже, кто-то возвращался и был озабочен стрельбой.
Забыв про стонущего, все, кто был в зимовье, поднялись на нагородни. Со стороны леса показались двое промышленных, волочивших по рыхлому снегу тяжело груженную нарту. Они махали руками, ожидая сигнал — свободен ли путь, и просили помощи. Вглядываясь в размытые сумерками очертания, Угрюмка пробормотал, постукивая зубами от холода и кутаясь в шубный кафтан:
— Вроде Ивашка с Третьяком. И нарта наша, с высокими копыльями… Не болен ли кто? Спаси, Господи! — Он перекрестил грудь, не снимая рукавицы, взглянул на передовщика, вышел за ворота и побежал, скользя по склону.
Пантелей удивленно хмыкнул в бороду, разглядывая, как тот запрыгал возле нарты. «Какого-то диковинного зверя добыли», — подумал. Видно было, как Угрюмка схватился за постромку и резво потянул груз один. Уставшие промышленные едва поспевали следом.
Перед прибывшими со скрипом и скрежетом распахнули ворота, нарту заволокли во двор. Заводчиков обступили зимовейщики. Заботливо укрытый шубным кафтаном, в нарте лежал и от лютой злобы щурил черные глаза бежавший шаман.
— Как? — радостно вскрикнул передовщик.
— А так! — азартно посмеиваясь, ответил Угрюмка. Он всю ночь молил Николу Чудотворца вернуть беглеца и считал пленение шамана своей заслугой. — Скор на помощь Святой!
Прибывшим затопили баню, напоили их квасом, стали спрашивать о пути и промыслах. На расспросы Третьяк степенно отвечал, что они срубили два стана — во имя святого Николы зимнего и Егория храброго. От одного стана насекли два полных ухожья, по восемь десятков клепцов, от другого — четыре, по полусотне. Срубили и третий стан. Чуничные, обустраивая его, отправили Ивашку с Третьяком за припасом да проверить, не опасен ли обратный путь.
Те вышли налегке и побежали по своей же лыжне. Ни тунгусов, ни следов их заводчики не видели. Они проверили ухожья, не очень-то надеясь на удачу, и почти из каждого второго клепца вытащили по юркому. То, что на Тазе-реке чуница добыла за зиму, здесь было добыто за неделю.
На подходе к старице, верст за десять от зимовья, промышленные решили заночевать, чтобы не пугать зимовейщиков ночным возвращением. Они развели костер, нарубили дров и лапника. Вдруг из леса выскочил простоволосый тунгус и стал пялить на отдыхавших бесовские глаза. Третьяк узнал шамана, и схватились они с Ивашкой не за топоры, не за засапожные ножи, но за кресты, висевшие поверх шубных кафтанов. У Третьяка крест с мощаницей[72]. И стали читать молитвы, какие знали, да охаживать ведьмака крестными знамениями. Тунгус, с помогавшими ему духами, не устоял, упал и стал корчиться, пузыри изо рта пустил. Промышленные его связали, уложили в нарту. Немного отогрев пленного, решили не ждать утра, а при свете луны по лыжне выбираться к зимовью: все равно бы всю ночь не сомкнули глаз из-за шамана.
Угрюмка, слушая друзей, все кивал и посмеивался себе на уме, верил, что это он вернул бежавшего аманата. Шамана не корили за побег, своего недовольства не показывали. Хотели заковать, как прежде, но тот настойчивыми знаками просил разрешения ковать свою цепь самому. Передовщик подумал и согласился, а потом, несколько раз перекрестившись и почитав молитвы, сам проверил и Третьяку велел перепроверить ковку. Работа была сделана рукой хорошего кузнеца. Ценный был аманат, за такого мангазейский воевода наградил бы со всей щедростью.
Через день Ивашка с Третьяком нагрузили нарту и собрались в свои угодья, но к зимовью опять подступили тунгусы на оленях. На этот раз они не обстреливали стен, только разложили костры на краю леса и поставили три островерхих чума. Два дня гости ели и отдыхали.
«Измором хотят взять!» — решил передовщик. Он собрал зимовейщиков и стал думать, как быть. Пока у тунгусов есть съестной припас и поблизости не съеден, не перекопычен оленями мох, те могли простоять и неделю, нанося ватаге большие убытки.
Вахромейка уже похаживал по двору. После контузии левая рука его висела плетью, грудь была синей, но пальцы на руке уже шевелились. Сколько ни думали промышленные, ничего не могли придумать, кроме как терпеть, молиться да поднять над зимовьем условный знак осады для всех возвращавшихся. Пока шаман был в заложниках, тунгусы не должны были решиться на убийство промышленных, но навредить промыслам могли.
К вечеру из тунгусского табора вышли трое. Когда они прошли половину пути до зимовья, поднимаясь на холм, стало видно, что один из них — одетый в тунгусскую парку, но безоружный, с непокрытой плешивой головой был при длинной густой бороде, каких не бывает у тунгусских мужиков.
Почетные послы воткнули в снег черенки рогатин и стали махать руками, вызывая на переговоры. Передав Третьяку власть, Пантелей взял с собой раненых покрученников. Трое вышли из ворот, и чем ближе они подходили к тунгусам, тем очевидней было, что плешивый мужик — свой, русский.
Едва сошлись, он запричитал горячо и быстро, всхлипывая и крестясь:
— Господи! Царица Небесная!.. Братцы! Счастье-то… Господи!
Один из тунгусских послов хмуро ткнул его локтем в бок, и пленник послушно умолк, только топтался на месте и смахивал с глаз слезы. Немолодое серое лицо его было посечено усталыми морщинами, красной паутинкой тлела в глазах давняя безысходная горесть. Глубоко и грустно собрались вокруг них складки. Коротко и неровно была острижена выпачканная золой голова.
Один из послов что-то буркнул. Пленник радостно кивнул, торопливо, захлебываясь словами, перевел:
— Не убивали они, братцы, тобольских промышленных, я тому свидетель — сам из них, последний живой. Меж собой мы передрались, поддавшись бесу, забыв Бога. На нас, на раненых, изнуренных, Господь навел гороховских промышленных, и те не оказали нам христианской помощи, но забрали припас, думая, что мы погибнем. — Он всхлипнул, простонал, не успевая выговаривать теснившие его мысли и чувства. — Передовщик наш ушел с ними. Из раненых я один спасся. Едва живого подобрали меня тунгусы и выходили. Третий год у них… Не оставьте, братцы, не бросьте бедствующего… Не берите греха на души…
Послы по тону поняли, что пленник опять говорит не то, что велено, снова ткнули его в бок и что-то сердито забурчали.
— Братцы! Они вам предлагают поменять меня на шамана. Я — толмач хороший… В покруту пойду, кабалу на себя выдам… Не оставьте…
Передовщик нахмурился, внимательно взглянул на послов и сказал строго:
— Надо подумать! Дело непростое. Как солнцу взойти — сообщим решение. Пальнем из пищалей два раза — согласны! Один раз — нет!
— На что вам шаман, братцы? Он не здешний. Пришлый он, с озер. Я обычаи, язык их знаю.
Передовщик, смущенный унижениями тоболяка, пробормотал скороговоркой:
— Не бросим!
Тунгусский раб вскинул на него изверившиеся глаза, опять всхлипнул, с трудом удерживаясь от новых просьб, смахнул плечом слезы. Но пора было расходиться.
Послы вернулись в зимовье, где их с нетерпением ждали. Едва закрылись ворота, их обступили промышленные с пищалями в руках, на некоторых еще тлели фитили. Но передовщик уклонился от спешного разговора, а туруханцы задумчиво молчали. Оставив на нагороднях караульного, Пантелей велел всем собраться в избе для беседы и совета.
Здесь он вдумчиво поведал о встрече и разговоре. Большинство зимовейщиков сходилось на том, что бросать своего, православного, среди чужаков, да еще под родительскую субботу — грех неотмолимый. И только контуженый Свист упорствовал, доказывая: если поменять шамана на русича, то тунгусы станут их, промышленных, аманатить, промышлять не дадут.
* * *
На Дмитриевскую родительскую субботу метель унялась, но не зарозовела заря на восходе, не блеснуло солнце: тяжелые облака волоклись по руслу реки, цепляясь подбрюшьем за черный лиственный лес. Набиралась сил и мощи, темнела от злобы северная пурга — старуха Хаг.
На тунгусском таборе бывший тоболяк Истомка, кутаясь в ветхую парку, раньше всех выполз из шалаша. Ночью он не сомкнул глаз от терзавших мыслей, затемно раздул костер и сидел, склоняясь над пламенем, мысленно молился, повторяя тропарь всем умершим: «Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя… Никто же не безгрешен, только Ты…»
Слезы текли по его щекам, и он их не смахивал, только постанывал и поскрипывал зубами. Но не о покойных родителях, не о павших товарищах были мысли: Истомка ждал решения зимовейщиков. Тунгусы в этот день не донимали его ни работами, ни расспросами: понимали, как тяжко на душе у чибары[73].
Ухнул залп. Стреляли чуть ли не из полудюжины стволов. Эхо отозвалось от серых обледеневших скал. Истомка, сжав зубы, ниже и ниже склонял выстриженную голову к пылавшим углям. И когда, едва не потеряв надежду, хотел уже ткнуться лицом в костер и завыть — прогрохотал второй залп. Облако пороховой гари докатилось до тунгусского табора. Когда-то этот дух казался Истомке зловонным. Нынче пахнуло в лицо не тухлятиной серы, а милым запахом родины.
Обмен пленными нельзя было провести без подарков и дружеских пиров. Это больше всего пугало передовщика: запускать тунгусов в зимовье при нынешнем малолюдстве — все равно что подстрекать к новому нападению. Забрав тоболяка и отпустив шамана, он взял двух заложников из тунгусских послов и отправил к тунгусам с подарками Вахромейку с Угрюмкой.
Свист был немало удивлен такой честью и настороженно зазыркал на передовщика, додумываясь до подлинного смысла его решения, неуверенно кивнул на отбитый, посиневший бок. Но Пантелей, усмехаясь в бороду, сказал жестко:
— Не боком жрать — зубами. Хоть какая-то будет польза от тебя. — И опять поймал себя на тайном злорадстве, хотя ничего плохого про него сказать не мог. Ну не лез он к людям со своей помощью, но и вреда не делал, отлынивал от трудностей, но наказы исполнял.
Едва закрылись за Истомкой ворота зимовья, он упал на колени и стал истово молиться, ложась на снег грудью в земных поклонах. Вскочив, стал суетливо благодарить всякого зимовейщика за свое спасение, всем кланялся в пояс, обещая впредь поминать в молитвах утренних и вечерних. С него содрали завшивевшую одежду и втолкнули в баню. Парился тоболяк до изнеможения.
Плешину ему выстригали тунгусы, чтобы родственники не путали пленника со свободным. По его просьбе передовщик обрил ему голову концом сабли. Потом, пока вымораживалась и выпаривалась одежда, приодетый в чистое с чужого плеча, Истомка клевал носом, не в силах жевать хлеб, по которому истосковался: только отдувался, вытирая выступавший пот, и пил пиво, которое на родительский день и у воробья припасено. Добродушно посмеиваясь над освобожденным, туруханцы увели его под руки на свободное место и дали одеяло.
Почетные заложники от бани отказались. Их разместили под кровлей дровяника, разложив во дворе большой костер. Кормили рыбой и мясом, подливали свежего пива. Захмелевшие и довольные приемом, тунгусы развалились на постилке из хвои, угощались порсой и брусникой, ждали, когда сварится в чугунном котле сохатина. Притом они опасливо поглядывали, как красный, исходящий на морозе жарким паром Истомка полуживым вываливался из бани, падал в снег и снова, без принуждения, полз в жаркую избенку. Им казалось, что бывший чибара истязает себя не по своей воле, но очищается от позорного рабства.
Вахромейка с Угрюмкой вернулись с пира в потемках. Тунгусов, сопровождавших Истомку, одарили и выпустили за ворота зимовья. Взаимное уважение было соблюдено.
Вахромейка был весел и доволен проведенным днем, Угрюмка — озабочен. День был постный, и он ел рыбу, выбирая куски пожирней, к мясу не прикасался. Под конец пира его стали настойчиво спрашивать, отчего он ест не со всех блюд. Вдруг посреди стола появился ржаной каравай, которого Угрюмка прежде не замечал. Он обрадовался, отломил краюху, начал жевать, но вместо хлеба учуял во рту вареную печень. Шаман пристально буравил его взглядом, в его больших черных глазах поблескивали озорные искорки.
Сплюнуть жеванину за гостевым столом Угрюмка не посмел, виду не подал, что догадался о шаманском чаровании, осторожно отложил недоеденный кусок и досидел на пиру с кислым видом. Привычный к сибирским нравам Вахромейка только посмеивался над ним, вытирал жирные пальцы сухим мхом и подбадривал:
— Не своей волей: по принуждению, за други своя души скверним… Бог простит.
Умишком-то Угрюмка все понимал. В голодные дни, бывало, и сам не думал, что можно, чего нельзя — лишь бы брюхо набить. Не иначе как от сытости стал брезглив и разборчив в еде.
Среди глухой ночи в выстывшей избе Третьяк первым поднялся на утреннюю молитву. Истомка тут же соскочил с нар, принялся угодливо раздувать печь, повесил котел на огонь. Промышленные, зевая и потягиваясь, стали собираться в путь. Похрустев суставами, свесил ноги с нар и передовщик, ему надо было дать наказы и проводить чуничных. Сырые венцы избы потрескивали от стужи. От ветра тренькало дранье на крыше. Оконце с вмороженной в него льдиной было черно. Третьяк с Ивашкой нагрузили нарты, бечевой и ремнями увязали поклажу, пропахшие свежестью ночной стужи вернулись к очагу для завтрака.
Ярко горела смоленая лучина, освещая избу. Вахромейка скинул одеяло, зевнул, крестя рот в бороде, сел. Известное дело, если с вечера мяса объелся, с утра еще пуще есть хочется. Истомка с обритой головой, на которой мерцали отблески горящей лучины, так и впился в него взглядом. Глаза его вдруг засверкали, лицо исказилось бешенством, и он завопил, размахивая березовой рогулькой, которой помешивал в котле:
— Это же Свист!
— Ну, Свист! Покрученник, — настороженно взглянул на одного и на другого передовщик.
Истомка крутанул рогулькой, как саблей, и с воплем бросился на покрученника. Бывший боевой холоп не растерялся, увернулся от удара, и тоболяк ткнулся лбом в стену так, что она дрогнула.
«Ну вот, — с неприязнью подумал Пантелей. — На знатного аманата выменяли еще одного смутьяна и крикуна».
Но взглянув на Вахромейку, он содрогнулся. У того тревожно метались злобные глазки, рот был перекошен, из-под усов виднелись острые зубы, отчего он походил на загнанную в угол крысу. Оборотень — показалось передовщику.
Мотая головой и прикладывая ладонь к взбухающей шишке, Истомка замычал:
— Он же был в нашей ватаге… Обобрал раненых. Припас пограбил…
Шестеро промышленных людей пытливо уставились на Вахромейку. Покрученник с блуждающими, затравленными глазами резко вскочил на лавку.
— Говори! — пристально наблюдая за ним, приказал передовщик.
— Что говорить? — вскрикнул Вахромейка кривящимися и дрожащими от страха губами.
— Что недосказал, когда я за тебя ручался.
— От самой Ивандезеи сколь переговорено о пропавшей тобольской ватажке, — хрипло пророкотал туруханский покрученник. — А он слушал, лыбился и помалкивал.
— Меня никто не спрашивал! — огрызнулся Вахромейка, усмехнувшись презрительно и высокомерно. Во взгляде его мелькнуло что-то хитрое.
— Теперь спрашиваем! — сказал Пантелей, сдерживая ярость. — А станешь таиться, на дыбе пытать будем, огоньком язык развяжем.
— Что говорить-то, — вскрикнул Вахромейка крепнущим голосом и облизнул губы. — Эти, — язвительно кивнул на Истомку, — перерезались, передрались смертным боем. Все в зернь играли. Доигрались. Двое гонялись друг за другом и залезли на тунгусское капище. А этот, Истомка-своеуженник, был заводчик всем склокам… Я с передовщиком пытался их образумить. Куда там! Четверых земле предали…
— Мхом забросали да кол воткнули! — морщась простонал Истомка. — Предаст он земле…
— Этот и еще двое уж на ладан дышали, — не обращая на него внимания, продолжал Вахромейка. — Пошли мы с передовщиком в зимовье к Сеньке Горохову, по пути его людей встретили. Вернулись — еще один помер, у этого, — кивнул на Истомку, — кишки наружу торчат — куда его волочь?.. Сидеть ждать, когда помрет или когда тунгусы придут и всех перебьют? Взяли с собой что было на прокорм в пути и ушли в зимовье за подмогой. Вернулись через неделю — ни покойников, ни раненых, ни промыслового припаса… Вот и все, что знаю! Я в покруте был, с меня что взять? Однако жив. А стал бы языком молоть — в колодки и к воеводе на дознание, на дыбу, под кнут. Потому и не говорил, пока не спрашивали.
— И пострадал бы за правду! — укорил его разорившийся архангельский купец. — Но не пожелал принять мученический венец.
Вахромейка глазом не повел в его сторону, только порозовевшие губы чуть приметно дрогнули. Теперь уже насмешливо поглядывая на промышленных, он продолжал торжествующим голосом:
— Их передовщик в Тобольске кабалу на себя выдал, за всех Крест целовал и был в ответе. Он также скрывался у Горохова, хотел сперва богатства добыть, а после явиться с повинной. Но прошлый год, сказывают, помер. А я той же весной ушел в Туруханское зимовье. Другой год, как говорил уже, с вагинской ватагой промышлял.
— А ты что скажешь? — передовщик строго обернулся к Истомке.
Бывший ясырь сидел, сжав бритую голову руками, раскачивался и стонал. Вахромейка взглянул на него презрительно, проговорил с обычной беспечностью:
— Хлебнем еще лиха с этим смутьяном! Я его знаю.
— Лучшего толмача нам не сыскать! — сказал передовщик, поигрывая темляком сабли. Подумав, добавил: — Пока не вернется с промыслов вся ватага, будете жить в мире. После рассудим.
С рассветом впряглись в нарту и отправились к своим станам Третьяк с Ивашкой Москвитиным. Тунгусы снялись с табора и мирно ушли от зимовья. Еще через два дня по своим чуницам разошлись поправившиеся туруханские покрученники. В зимовье остались четверо. Пора было и им добывать соболишек.
Задолго до позднего рассвета Пантелей поднялся и умылся студеной водой. По обычаю промышленному, стародавнему, перекрестившись, вышел в сенцы, взглянул на светлый месяц, на частые звезды. Мороз жалил и пощипывал щеки, зябко пробирался под ветхий жупан. Передовщик встал лицом к востоку, спиной к западу, трижды поклонился в ту сторону, где алеть бы заре ясной, где всходить бы солнцу красному, поклонился на черный лес и стал читать заговор на удачную ловлю зверей.
Едва разъяснилось на небе, он на пару с Вахромейкой отправился тропить свой путик, рубить станы, сечь кулемники, обставлять ухожья. Проходив до ранних сумерек, они до полуночи рубили шалаш, обустраивали стан, и все равно ночевать пришлось у костра, по-промышленному. Наутро Пантелей отправил Вахромейку сечь кулемы, а сам принялся за обустройство.
К вечеру усталый Свист вернулся в готовое жилье и сказал, что работы ему здесь дня на три. Он предлагал вытропить и обставить от стана три ухожья в разные стороны.
Переночевав в шалаше, промышленные решили, что одному надо отправляться дальше, рубить другой стан. Низкие тяжелые тучи и прежде то наползали на темный лес, то пропадали где-то в дальней стороне, а тут так обложили округу, что был сумрак. С часу на час могла завыть, запуржить северная пурга, но могли и развеяться тяжелые облака.
Подумав, погадав, передовщик не стал тратить время попусту. На случай непогоды он взял с собой хлебного припаса на два дня, шубный кафтан, котел и одеяло, затем со шлеей на плече и лыпой в руке отправился на лыжах в полуденную сторону. Вахромейка налегке, с топором за опояской побежал по лыжне на полночь.
Прогадал передовщик. Лучше бы сек кулемы поблизости от стана. К полудню так замело, что не стало видно и деревьев в десяти шагах. Пантелей повернул было обратно по своему следу. Вскоре сбился — след был заметен. «Ну, отче Никола, выручай!» — пробормотал в смерзшуюся бороду, перекрестился скрюченной рукой в рукавице.
Завыла, зашвырялась снегом, неистово заплясала старуха Хаг, поучая камлать здешних шаманов. Борода Пантелея схватилась коркой льда, выбившиеся из-под шапки брови и волосы покрылись куржаком. Студеный ветер колко вымораживал глаза.
Пантелей отворачивал голову, принимая ветер плечом и боком. Некоторое время он чувствовал, в какой стороне стан и зимовье. Потом все пропало в темной сумеречной круговерти: и кровавый запад, и манящий восток, и чудной полдень — юг. Грешный мир оставил его: среди всей этой свистопляски не было уже ни людей, ни зверей — одна лютая стужа да сострадающий Господь. Снег был не так глубок, чтобы можно было зарыться в него и переждать пургу. Из тьмы выплывали приземистые лиственницы с толстыми промерзшими комлями, от которых со звоном отскакивал топор. Ни дров нарубить, ни костер разжечь. Ничего не оставалось, кроме как идти: спокойно, без надсады передвигать ноги, лишь бы не стоять на месте, и Пантелей повернулся спиной к ветру — все равно не знал, куда держать путь.
Легко заскользили лыжи по плотному насту. Нарта, подталкиваемая пургой, то и дело тыкалась под колени, и он придерживал ее лыпой. Иногда лыжи зарывались в сугробы, и нарту приходилось волочить с усилием. И все же идти стало легче.
Одежда от такой ходьбы начала подсыхать изнутри, а снаружи заледенела. Перестали слезиться глаза. Едва начинало знобить, передовщик двигался быстрей и согревался. Вот только ноги тяжелели, наливаясь неподъемным свинцом. Про себя он уже прочел молитвы — все, которые знал. Начал повторять их, но пурга и не думала униматься.
Стало совсем темно. Ему показалось, что впереди, в пяти-шести шагах, смутно проглядывается какой-то склон. То ли падь ручья, то ли яма. В лицо сладостно пахнул запах дымка. Почудилось ли? Пантелей остановился. Боясь быть снесенным под уклон, скинул лыжи, сделал по насту шаг, другой, прощупывая снег лыпой. Вдруг посох ушел в сугроб по самую рукавицу. Промышленный удивленно замер, озадаченно распрямился, вытягивая лыпу, и в следующий миг провалился с головой. Стало тихо и тихо.
«Помер, что ли?» — подумал. Приоткрыл глаз. В темноте мерцал отблеск костра. Едко пахло дымом. В просвете откинутого полога на четвереньках стояла полуголая девка. На ее худеньких плечиках веревками висели черные косы. Полог распахнулся шире, высветив просторную полость или отрытые в снегу сенцы, в которых сидел Пантелей. А там, возле костра, положив морду на лапы, зевала собака.
Девка что-то затараторила боязливо и возмущенно. Потом залилась звонким смехом — будто серебряный колокольчик зазвенел под дугой удалой тройки.
Полог закрылся. Опять стало темно и стыло. Смахивая смерзшейся рукавицей снег с лица, передовщик удивленно думал: «Вот те раз! Неужто в тунгусский рай попал? Не бросил ли Господь?» Задеревеневшими губами он начал было читать Господню молитву, но полог снова распахнулся. Высунулась все та же девка, но уже в парке. Опять колокольчиком зазвенел ее смех.
Тунгуска ловко вскарабкалась на кучу хвороста и дров, на которой сидел Пантелей, высунулась в проем обрушившегося сугроба, ловко развязала узлы на нарте и покидала вниз поклажу. Саму же нарту она перевернула, накрыв провал. Под нее подсунула лыжи. Все было сделано так быстро, что Пантелей еще не успел понять — жив ли.
Девка, посмеиваясь, подтолкнула его к пологу. В скрежещущей, задубевшей одежде он тяжело опустился на карачки, просунулся в просторный балаган, крытый берестой. Пылал костер. На рожнах пеклась ощипанная птица. От духа, исходившего от нее, млели две собаки, лежавшие возле наклонных стен.
Над входом, завешанным лавтаком, был выжжен крест. Это ободрило Пантелея. «Никак попал на стан своей же чуницы», — подумал. Заледеневшей рукавицей он потрогал кедровый крест на груди, склонился над огнем, чтобы оттаять бороду и узлы на лузане. Затем скинул рукавицы и отодрал от волос обледеневшую шапку.
Девка побросала в балаган его одеяло и шубный кафтан, мешок с хлебом и рыбой. Котел она внимательно осмотрела, повертев в руках. Он ей явно нравился. Снимая сосульки, обсасывая усы и отплевываясь, Пантелей пристально поглядывал на тунгуску — малорослую и щуплую. «Куда как до Маланьи-то, — вспомнил с тоской и перекрестился. — Едва жив, кобель смердячий, — опять за свое!» — подумал с сердечной болью.
Тунгуска снова юркнула в сени, отбросила обрушенные комья снега, ногами в высоких камусовых сапогах утоптала их, кинула к очагу несколько поленьев, затем вползла сама, подбросила хвороста в огонь, перевернула шипящую жиром тушку птицы. Глаза ее смешливо блеснули, разглядев обледеневшую бороду гостя, маленький приплюснутый носик сморщился, и она опять звонко, как колокольчик, рассмеялась.
Отодрав последние сосульки и оттаяв узлы, Пантелей принялся разоблачаться: скинул через голову лузан, затем снял налокотники, скинул и повесил сушиться кафтан, сбросил жилет, оставшись в холщовой рубахе. Тело впитывало в себя жар огня, и проходила усталость.
Тунгуску так развеселило раздевание промышленного, обмотанного тряпьем и мехом во много слоев, что она откинулась на спину и звонко захохотала. Глядя на нее, Пантелею тоже показалось смешным его одеяние со множеством узлов, он хрипло хохотнул, скинул рубаху, стал ее сушить, поворачивая к огню то одним, то другим краем.
Шалаш был явно свой, промышленный, недавно поставленный. Чьей чуницы? Где? Этого передовщик понять не мог. Тунгуска почтительно взглянула на рубец, пересекавший грудь.
— Сонинг![74] — восторженно провела пальцем по сабельному шраму.
— Не вовремя да сильно уж сладко спалось! — по-своему понял ее Пантелей, — Чуть без головы не остался, — проговорил тихо и приглушенно. — Но Бог миловал.
— Нюрюмня?[75] — спросила она, морща носик. Тихонько засмеялась и ткнула его пальцами в грудь.
— Пантелей! — назвался он и тут же подумал, что тунгуске его имя не выговорить. — Пенда! — назвал себя по-сибирски и хлопнул ладонью в грудь. — А ты? — кивнул. — Лесная дева?..
— Дяви-дяви![76] — она шаловливо захлопала ладошками по животу. — Пянда? — указала на промышленного и, когда он кивнул, вовсе зашлась от хохота, даже ногами засучила. Устав смеяться, по-свойски придвинулась, подергала передовщика за бороду, бормоча на разные лады — «Пянда… Пенда»[77], потрепала загривок молчаливо лежавшего пса.
Спохватившись, она склонилась со строгим видом над пекущейся птицей, стала выщипывать обгоревшие перья. Пантелей с любопытством поглядывал на нее и вспоминал рассказы остяков о лесных девах. Черного, как уголь, пса не было, и обутка не белая. Пуще всего вспоминались слова: «Раз дала на себя посмотреть — хотела, чтобы замуж взял».
Дивился передовщик всему происходящему, силился проснуться или увериться, что не спит, сбиваясь, читал про себя заговоры от обаяния и чарования. Между тем подтянул мешок с едой, попутно заглянул под волчью шкуру — нет ли там капкана и какого-нибудь оружия. Достал смерзшийся хлеб, отрубил топором половину каравая и положил так, чтобы хлеб таял, не подгорая, и собаки бы его не достали. Но те делали вид, что равнодушны к еде, как и к незнакомцу, поглядывали лишь на мясо, с вожделением подергивая усами и водя острыми ушами.
Птица испеклась. На двоих ее было мало. Тунгуска, обжигаясь и потирая ладошки, разорвала тушку с помощью костяного ножа и большую часть протянула гостю. Собаки страстно зашевелили усами, заводили ушами, но с места не сдвинулись. Оттаял хлеб, слегка подгорев по краю, промышленный преломил его на несколько частей и подал тунгуске.
Едва они закончили ужин, собаки, сорвавшись с мест, мигом проглотили брошенные кости и снова улеглись в стороне от огня. Тунгуска взяла котел промышленного, набила его снегом и поставила на огонь. Напившись кипяченой воды, она зазевала, вывернула внутрь рукава парки и стала моститься у огня на волчьей шкуре.
Пантелей надел просохшую рубаху, жупан, постелил рядом с тунгуской шубный кафтан, укрылся сам и ее укрыл краем своего мехового одеяла. Девка, сонно зевнув, послушно придвинулась к нему и сладостно вытянулась. Перекрестившись, промышленный запустил руку под ее парку, скользнув ладонью по гладкому животу. Она лягнула его в колено, сердито вскрикнула. Зарычали собаки, приподняв головы, показывая волчьи клыки.
Пантелей отдернул руку и, обхватив тунгуску поверх парки, прижал к себе. Она тому не противилась: вдвоем под меховым одеялом, на шубе можно было ночевать и без огня. Девка была совсем не прочь поспать в его объятиях, но только для тепла.
Промышленный проснулся от вкрадчивых звуков. Он почувствовал, что спал долго и сладко. «Уж день, наверное!» — подумал, зевая и крестя рот, нащупал нательный крест на груди. В шалаше была темень, девки под боком не было. Из снежных сеней доносились возня и хруст веток. Послышалось, как откинулся полог, тунгуска тихонько протолкнула хворост и втиснулась сама.
Порывшись в затухшем очаге, она нашла тлеющий уголек и стала дуть на него, подкладывая растопку. Постепенно высвечивались ее маленький носик пипкой с приплощенной переносицей, вздувавшиеся и опадавшие щеки. Заплясал в очаге робкий язычок пламени. Их глаза встретились. В полутьме Пантелей увидел, как сморщился маленький носик и залучились блестящие глаза.
— У-у-у! — показала она рукой на кровлю шалаша. И он понял, что пурга не стихает, потянулся, зарылся в одеяло, и захотелось ему вдруг, чтобы ни пурга, ни эта ночь не кончались никогда. Неприхотливая, ласковая певунья, память о которой томила сердце, никак не подходила для этой студеной ночи с камлающей старухой Хаг наверху.
Пурга бесчинствовала три дня. Весь припас был съеден за два. Но это ничуть не беспокоило ни Пантелея, ни шаловливую деву, дочь Минчака. За время, проведенное с ней, промышленный выучился здешнему языку лучше, чем его знал Вахромейка. Он больше не распускал рук, и тунгуска стала доверчивей, вела себя с ним, как с родственником: ласкалась, шалила, смеялась, но не давала повода для мужской страсти.
Он уже знал, что она с отцом и двумя братьями живет на урыките, который ватажные видели осенью. Три зимы назад был большой голод. Многие тунгусы съели своих ездовых оленей. На кочевавшую семью Минчака, хангаева рода, напали чужаки — хырыколь тэголь[78]. Ей с младшим братом удалось убежать и спрятаться. Отец же с двумя сыновьями бился с врагами. Старшего сына убили, его жену и всех оленей забрали.
Родственники помогли в беде, дали им новых оленей. Но прошлой зимой опять был голод, подаренных оленей пришлось умертвить и съесть. Мать умерла. Больше оленей никто не даст. Минчак с двумя сыновьями и дочерью живет на одном месте. Они ловят рыбу, бьют птицу, тем и питаются. Она добывает соболей. Вдруг их удастся выменять на новую упряжку.
На четвертый день пурга стихла. Передовщик выбрался из шалаша. Был сумеречный северный день. До полудня висел на небе белый месяц, низко над лесом мерцала утренняя звезда.
Тунгуска с собаками убежала добыть еду. Промышленный, взявшись за топор, стал пополнять израсходованный запас дров для чуницы, промышлявшей в этих местах. Ждать, когда свои навестят стан и выведут его к зимовью, было стыдно. В какой стороне зимовье — заплутавший передовщик не представлял.
Дочь Минчака, как называла себя тунгуска, вернулась к ночи, когда запас дров был с лихвой пополнен. К стану выскочила знакомая собака, затем другая, потом показалась тунгуска на лыжах. Смеясь, она вывалила из мешка, привязанного к паняге, с десяток куропаток и тетеревов. Попутно добыла доброго головного соболя, который и по мангазейским ценам стоил не меньше двух рублей.
Девка скинула парку и стала проворно готовить ужин, то и дело с озорством посматривая на промышленного. Пантелей же, глядя на нее, втайне любовался ловкими движениями, черными косами, лежавшими по неразвитым плечикам.
Наутро они поднялись рано, подкрепились остатками ужина, попили брусничного отвара. Пантелей нагрузил нарту, стянув груз бечевой. Тунгуска связала свои пожитки и приторочила их к широкой лыжине-волокуше. На вопросы, где ее урыкит и зимовье лучи, она уверенно указывала рукой в одну и ту же сторону. Промышленный доверился ей и пустил ее впереди себя.
Лыжи не проваливались в зализанный, уплотненный ветрами снег, нарта волоклась легко. Мест, по которым шел в пурге, Пантелей не узнавал, пока не добрался до среднего течения ручья. Здесь они с Вахромейкой прокладывали путик. Тут в его голове все встало на свои места: где зимовье и куда в пургу вынесли ноги по ветру.
Лыжного следа к зимовью не было. Передовщик решил, что Вахромейка ищет его. Нужно было идти к стану, и он знаками предложил дочери Минчака повернуть к нему, но она отказалась, указывая в сторону реки. Тогда Пантелей знаками и запомнившимися словами растолковал, что придет в гости к Минчаку. Тунгуска поняла. В ее черных глазах мелькнули недолгая девичья грусть и смущение, она рассмеялась выстывшими губами и, не оборачиваясь, заскользила своим путем.
Передовщик подошел к стану в темноте, издали почуяв дымок. Из отверстия в островерхой крыше шалаша вылетали веселые искры. Пантелей не стал подходить к жилью прямиком, но, бросив нарту, обошел его и обнаружил, что Вахромейка все это время дальше, чем на полсотни шагов, от стана не отходил: ни ухожье не проверял, ни нового не сек, ни связчика[79] не искал. Теперь понятней было, что имели в виду туруханские покрученники, когда называли его «лешим», и почему никто не брал в свои чуницы.
Неприязнь опять вскипела было под сердцем, но Пантелей взял себя в руки, укоряя, дескать, а сам-то не провалялся ли с девкой четыре дня. У входа в шалаш были сложены десятка два новых кулем, сделанных на днях. Мало. За четыре дня мог бы и сотню нарубить. А что лучше? Таскать их по ухожьям или сечь на месте? Вроде и корить было не за что.
Передовщик стал хмуро разгружать нарту. Вышел Вахромейка, кутаясь в шубный кафтан, весело оскалился.
— Срубил стан? — спросил вместо приветствия.
— Нет! — сдержанно ответил Пантелей. — В пургу попал… А ты, поди, весь припас съел?
— Дня на два еще хлеба, — как ни в чем не бывало ответил Свист. — Напек. Всю рожь перевел. Все равно, думаю, вернешься. А я — куда? — зыркнул настороженно, улавливая недоброе настроение связчика. — Следы замело. Где искать?
Поскрипывая зубами, передовщик молчал. Все правильно говорил Вахромейка, только Третьяк или другой кто на его месте вели бы себя по-другому.
На обратном пути они обставили ухожья по притокам ручья, обмели снег с занесенных ловушек. Из тех, что срубили до пурги, сняли полдюжины промерзших соболей, среди них два добрых, черных, головных.
В зимовье кроме Угрюмки, Табаньки и Истомки были двое устюжан. По их виду передовщик понял, что случилась беда. Шедших за припасом с двумя сороками собольих шкур угораздило встретить в пути оленных тунгусов неведомо какого рода. Встретились мирно, те угостили промышленных мясом и брусникой. И тогда Нехорошке приспичило похвастаться удачным промыслом, показать добычу. Увидев рухлядь, тунгусы избили обоих устюжан, отобрали соболей, топоры с котлом. Чего ради бросили живых? Разве потому, что оба немолодые? Или Бог укрыл их и спас от смерти.
— У них что молодой, что старый, что князец, что бедняк — почтенья ни к кому нет! — выговаривал Истомка. — Есть уважаемые, почитаемые, как шаман Газейко. Бывают знаменитые охотники, проворные бегуны, которых многие знают. Был такой Йеха, харагирова рода, нынче сказывают про Нургауля. Тунгусы в него стреляют из луков — попасть не могут: он от всех стрел увертывается.
— Ты скажи, как рухлядь вернуть да наказать грабителей? — сердито оборвал разговорившегося толмача передовщик. Убыток был немалым.
— А никак не вернешь, — развел руками Истомка. — Ни рода, ни племени не знаем, а тайга велика. Где ж их сыщешь?
И все равно промыслы были удачными даже по понятиям старых туруханцев, не первый год промышлявших в Енисее-стране. Вскоре пришли от чуниц посыльные с мешками мерзлых соболей. Они тоже опасались держать при себе много рухляди. На промыслах им часто встречались злые и вороватые тунгусы.
Стал передовщик думать, как беды избыть, когда в зимовье уже скопилось много рухляди, а сидельцев, бывает, остается всего двое, хоть и при огненном оружии. И все стояла перед его глазами дочь Минчака. Знакомая сухота морила душу, свербила в костях и суставах, не давая жить, как прежде.
И молился Пантелей, умоляя Господа исцелить от сухоты, от навета ли, постился и сам себя целил дедовскими заговорами. Ничто не помогало. Вспоминалась веселая тунгусская девка — и все тут. Никогда прежде не прельщали его неразвившиеся отроковицы, к тому же предпочесть своим единокровным иноплеменницу — грех великий. Но проняло грешного, своих-то все равно на сотни поприщ не было. И нашептывал бес мысли вроде бы мудрые: «Пусть обеднел дом Минчака, но он может помочь договориться с единоплеменниками о добрососедстве, может помочь нанять оленей». И тогда по застывшей реке можно вывезти скопившуюся рухлядь, чтобы не сидеть на богатстве с вечной опаской. Можно по зимнику завезти хлебный припас к следующей зиме. Это не на себе стругами волочь.
В том, что купцы захотят промышлять еще одну зиму, никто не сомневался. Пантелей и сам не хотел думать о возвращении, пока не дойдет до истоков реки и не увидит, что за ней.
Новая сухота заслоняла былую тоску: являлась в снах ласковая, желанная Маланья, а лицо было иным. Забывался ее облик.
На Михайлов день пришел Третьяк с устюжским складником. Они привезли пять сороков рухляди ладной, головной, да еще мешок с морожеными, неошкуренными соболями. Радостно встретив товарища, передовщик стал делиться с ним своими мыслями и опасениями.
Остывая после бани возле очага, Третьяк попивал квас и внимательно слушал Пантелея. Соглашался: да, опасно держать в зимовье скопившееся богатство, в чуницах об этом много говорили и думали. Вывезти бы рухлядь в укрепленное Туруханское зимовье, сдать купцам-пайщикам — всем было бы спокойней.
— Кабы договориться с тунгусами, чтобы за хорошую плату дали нам оленей, да по зимнику отправить рухлядь на Турухан, — поглядывая на него, рассуждал передовщик. — Обратно ржаной припас привезти бы, — наводил Третьяка на свои сокровенные мысли и все метал на него быстрые, нетерпеливые взгляды.
— Хорошо бы! Да как с ними договоришься? — неторопливо отвечал тот. — Больно уж злы на нас после осеннего набега.
— Возьмем аманатов — еще больше озлим. Без них слыханное ли дело такое богатство отправлять, — вкрадчиво подсказывал Пантелей, и рвалось с его языка давно приготовленное слово. Третьяк же задумчиво помалкивал, попивая квас, а передовщику казалось, будто тот наперед давно все понял и терпеливо выжидает искреннего признания.
— На том берегу на урыките зимует безоленный род Минчака, — принужденно позевывая, обронил Пантелей, смущенно опустил раздраженные глаза, пожевал ус. — Бедняки — по здешним понятиям, но имеют сильную родню хангаева племени, могут помочь нанять оленей. У Минчака два сына и дочь. Одного бы сына с собой в обоз взять, не аманатом, а возницей… — Пантелей помолчал и, решительно вскинув глаза, выпалил: — А девку — к нам в зимовье.
Он без нужды подбросил полено в очаг, помедлил, повздыхал, покачал головой. Третьяк же все еще отдувался, вытирал рукавом выступивший на лбу пот.
— Ну что ты пялишь на меня свои змеиные зенки? — вспылил вдруг передовщик. — Если обзавестись среди тунгусов родней, так их и аманатить не надо.
— Как это? — Третьяк икнул и уставился на него немигающими глазами.
— В пургу встретил я на нашем стане девку хангаева рода или племени, — смелей и жестче заговорил передовщик. — Ничего девка: маленькая да тощая, но промышлять мастерица. А что, если мне посвататься по тунгусскому обычаю?
Третьяк закашлял, подавившись вдруг квасом.
— С некрещеной, во грехе? — просипел, натужно выпучивая глаза. — Обпризорила, что ли?
— Будто с крещеной грех меньше, — нетерпеливо отмахнулся Пантелей. — Я уж на сто раз сглаженный, чарованный, призоренный… Не силком же — добром, коли сама пойдет и родные отдадут.
— Может, Маланья по ветру чары пустила? — прокашлявшись, посочувствовал Третьяк.
Передовщик опустил глаза, грустно улыбнулся, качнул головой, добром вспомнив полюбовную девицу. На сердце потеплело.
— Нет! Она меня благословила на путь и волю. Хорошая девка. Ей бы мужа доброго, не как я, — всю бы жизнь был счастливым… А другой девки нет, чтобы зло против меня умыслила.
— Значит, тунгуска! — решил Третьяк. — Дикие с нечистой силой знаются без стыда.
Но подумав, он похмыкал носом и согласился, что всем от того была бы польза. Вот только ватажные не позволят держать в зимовье собак и некрещеную бабу. Все они знали много сказов о промысловых походах, о ватагах, передравшихся из-за женщин.
Пантелей пожал плечами и сказал то, о чем много думал последние дни:
— Так то из-за русских баб. А тунгуску пусть окрестят! Это мой грех. С нее-то какой спрос? А кто позавидует — пусть и себе дикарку сыщет.
Третьяк молчал, не зная, что возразить от имени ватажных. Пантелей же признался:
— Тоска прибила сердце, кровь, ум, разум, волю и хотение… Коли можешь отговорить — отговори своим словом, заговором и приговором, молитвами Божьими. Сам рубаху сожгу на Благовещение и забуду[80]. Только рухлядь все равно надо увозить. И без тунгусов нам никак не обойтись.
Боевые товарищи сидели молча, каждый думал о своем и об общем деле.
— Тебе хорошо, — покорно вздохнул Пантелей. — Тебя бесы не мучают блудными помыслами. А я — сколь ни крестись, ни бей поклоны — все одно…
— Почему не мучают? — передернул юношескими плечами Третьяк. — Еще как мучают. Только ты им потакаешь, а я держу за горло, как саблю в бою. Дай волю — пуще твоего будут смущать.
Утром Третьяк пообещал товарищу поговорить со всеми ватажными, дать знать ближайшим чуницам, и если будет передовщику дозволение взять тунгуску — пусть берет и договаривается о зимнем обозе на Турухан.
На Николу принесли в зимовье соболей заводчики от туруханской и холмогорской чуниц. К тому времени сундук с казной, на котором восседал передовщик в красном углу, так распирало мехами, что зимовейщики вынуждены были поставить посреди двора крепкий лабаз для рухляди. Запирался он аманатской цепью с замком, а ключ хранил у себя передовщик.
Туруханцы, не показывая недовольства, с одного только намека дозволили ему взять в зимовье тунгуску с тем, чтобы порадеть за общее дело. Устюжане с холмогорцами обругали Пенду и смердячим кобелем, и безбожным распутником, но, общей бедой томимые, вынуждены были дать согласие на блуд в зимовье. При этом они надавали таких наставлений, исполняя которые в точности передовщику с девкой пришлось бы спать врозь.
На память преподобного Феодора Студита, когда звезды гасли, а день так и не наставал, в сумерках северной ночи Пантелей Пенда с Угрюмкой и толмачом Истомкой отправились к меноэну[81] по застывшей и заметенной снегом реке. Стужа, от которой трещали деревья, слегка отпустила, ветра не было. Недвижный, морозный туман лежал на безмолвной реке. Хруст снега под лыжами слышался и отдавался далеко за спиной, будто крались по следу нечисть с нежитью.
Передовщик с Истомкой попеременно волочили двухсаженную нарту, груженную одеялами, подарками и хлебным припасом. Угрюмка то и дело оглядывался, ожидая увидеть за спиной если не громадное чудище, чьи кости находили до снегов, то корчащего рожи мохнатого черта. Но в тумане не видно было ни птиц, ни зверя, лишь бесшумно поникнув кронами, стыли белые, покрытые куржаком деревья.
Сначала в холодном, сумеречном воздухе путникам почудился запах дыма, потом послышалось приглушенное тявканье собак — и открылся вид на меноэн с тремя островерхими чумами, называемыми у тунгусов «дю». Два из них курились дымками, маня теплом и уютом.
Подпираясь палкой, из чума выполз сутуловатый старик в долгополой шубе. Он обернулся лицом к гостям, без страха и без суеты стал поджидать их. Из-под снега выскочило до полудюжины собак. Они без лая бросились к путникам, окружили их, стали нюхать одежду и нарту. Самый рослый кобель задрал лапу, чтобы поставить на нее метку. Истомка по-свойски огрел его лыпой. Кобель отскочил без визга и молча, по-волчьи, показал клыки.
Из другого чума вылезли два длинноволосых мужика с непокрытыми головами, встали рядом со стариком и, переминаясь с ноги на ногу, без неприязни разглядывали гостей, окруженных собаками.
Истомка вышел вперед, громко и важно поприветствовал жителей, сам становясь похожим на тунгуса:
— Буэмэм![82]
Тунгусы внимательно посмотрели на его длинную, ухоженную бороду, на короткие, отраставшие волосы, видневшиеся из-под шапки. На их смуглых лицах насмешливо заблестели глаза, чуть покривились безбородые рты. Узнав бывшего чибару, молодые кивнули не ему, а промышленным: Пантелею с Угрюмкой. Старик же просто смотрел на пришедших, не выказывая ни неприязни, ни радости.
Тоболяк стал говорить с пущей важностью, бросая на тунгусов косые, надменные взгляды. Видимо, как это принято у них, спрашивал о здоровье родственников, об улове рыбы и о промыслах, потому что говорил долго и с упоением. Старик сухо и коротко отвечал на пространные речи.
Гостям указали на вход в чум, крытый шкурами. Он был самым просторным на стойбище. Едва Пантелей влез в него — встретился глазами со смешливым взглядом знакомой тунгуски, но вместо приветствия она спряталась за полог.
Возле пылавшего очага на кожах были выставлены берестяные блюда с брусникой и печеной рыбой, посередине стояла вареная целиком лосиная голова с обломленными рогами. Здесь явно ждали гостей и подготовились к их приходу. Пантелей фыркнул в обледеневшую бороду, подумав, не накамлала ли девка его сухоту и нынешнее сватовство? Но эта догадка не слишком-то обеспокоила передовщика. Перед выходом он пытал Истомку об обычаях сватовства у тунгусов, о чарах и о найме оленей. Толмач, долго живший среди диких, уверял, что у тунгусов не принято чаровать да узорочить[83] женихов и невест: их берут подарками или войной.
Следом за передовщиком под полог влезли Угрюмка с Истомкой. За ними втиснулись два молодых тунгусских мужика. Последним, покряхтев, вполз старик. Молодые тунгусы скинули парки, под которыми до пояса никакой одежды не было, смахнули с себя ладонями налипший колючий и жесткий ворс. Полуголые, с длинными волосами, распущенными по плечам, они расселись у огня. Тот, что постарше, приветливо заговорил с Истомкой, бросая приязненные взгляды на гостей. Другой, младший, тоскливо помалкивал, отодвинувшись в сторону. На его гладком лице, как болезнь, лежала безысходная печаль. Тонкий рот подковой был сжат к подбородку, брови скатывались со лба к щекам, будто тунгус претерпевал привычную боль.
В чуме сразу стало тесно. Женщин возле Минчаковского очага не было, угощать гостей было некому, а молодая тунгуска не показывалась. Неприветливый младший сын старика нерусским грубо кованым ножом стал строгать мороженую щуку. Сам же старик, с посеченным морщинами лицом, с длинными седыми волосками на подбородке, был задумчив и печален.
Истомка, развалившись у очага, голосом и манерами так подражал тунгусам, что походил на них больше самих хозяев. Он стал выспрашивать о печалях старика. Тот неторопливо поведал, что зажиточные тунгусские роды, имевшие оленей, запаслись мясом и теперь отдыхают на зимних стойбищах. Его же семья, лишившись оленей, уже год стоит на одном месте. Даже лучших гостей он редко может угостить мясом, а сам питается только рыбой.
Пантелей развязал кожаный мешок и стал раздавать подарки. Дрогнул меховой полог за его спиной, оттуда с любопытством высунулась тунгуска. Получив в подарок железную иглу, она юркнула на прежнее место. Из-за шкур послышался ее приглушенный смех.
— Моя дочь хорошая рукодельница и добытчица, — сказал старик. — Жалко расставаться с ней, но пора уже девке замуж. Как посватается хороший мужчина — придется отдать. — Так, прежде чем говорить о добрососедстве и мире, он начал намекать на сватовство, чем немало удивил не только передовщика с Угрюмкой, но и Истомку, знавшего обычаи народа.
В зимовье, узнав, что задумал передовщик, толмач пытался образумить его:
— Тунгусы и с тэго[84] не роднятся. С булэшэл[85], нерюмня[86] — только после долгих войн: если мирятся, бывает, отдают своих девок в жены одни другим. Но обычно берут жен из родов ибдери[87], минниль[88]. Лучше за троюродного брата выдадут, чем за своего чужака-нерюмню, но чтобы за чужака другой крови, другого языка девку отдать — неслыханное дело. Бывает, по плену и попадают к ним иные женщины, но не доброй волей…
Здесь же, в чуме, разговор получался иным. Угрюмка вскинул глаза на Пантелея. Тот лежал на боку и глядел в сторону полога тупыми, мутными глазами. По его лицу не так уж трудно было понять о цели приезда.
Младший сын Минчака, Синеуль, ожидая других подарков, с печальным лицом быстрей заскоблил железным ножом промерзший щучий бок. Старший, Укда, заерзал на месте, достал туесок[89] с брусникой, подсыпал ягод на плоское деревянное блюдо.
Опомнившись, Пантелей вручил по горсти бисера мужчинам, а старику сверх того отдал свой маленький, в полторы ладони, широкий и острый нож для шкурения и разделки мяса. За такой подарок воевода мог его наказать.
Поев брусники и печеной рыбы, гости и хозяева стали отщипывать мясо с лосиной головы. Укда, весело перебрасываясь словами с Истомкой, задорно поглядывал на Угрюмку, на Пантелея, предлагал им губы и щеки с головы, указывая ножом, где мясо вкусней.
Передовщик некоторое время был в задумчивости. Он собирался завести разговор о найме оленей, о поездке на Турухан-реку и только после этого осторожно вызнать о сватовстве. Судя по встрече, надо было заходить с другого конца.
С помощью Истомки он пожаловался старику, что здешние тунгусы не хотят давать аманатов, чтобы жить в мире и доверии с ватагой. Его слова и рассуждения о том, как спокойно и мирно можно жить под властью русского царя, выдав заложников, явно не заинтересовали жителей стойбища.
Тогда Пантелей заговорил о своей нужде в оленях. Тут оживился даже младший сын старика Синеуль, до тех пор сидевший молча: шевельнулся уголок его рта, будто подкова распрямилась одним концом, брови приподнялись, словно на миг отпустила юнца мучавшая боль. У старика заблестели глаза. Если прежде он говорил, глядя мимо толмача, не замечая бывшего чибару, то теперь стал обращаться и к нему.
Истомка выяснил, что в нынешнее время, до лютых холодов, многие роды уже отзверовали и стоят с мясным припасом на зимних стойбищах — меноэнах. У богатых семей взять оленей с проводниками за хорошую плату нетрудно. Рыбу зимой ловят одни старики, рухлядь и боровую дичь промышляют дети и девки. Сильным мужчинам сейчас делать нечего.
Истомка, польщенный вниманием хозяев, привольно развалился на шкурах, стал икать и цыкать сквозь зубы. А когда Укда подал ему вареный язык — вовсе задрал нос и важно смежил глаза. Пантелей же велел ему узнать цены на оленей.
Минчак поведал без всякой скрытности, что у одигонов[90] олени стоят дешевле, чем у здешних илэл[91]. У туруханских тэго[92] олени и вовсе дешевы: те имеют большие стада и даже едят оленину. От себя же Истомка добавил, поясняя передовщику, что у здешних тунгусов не принято есть оленину, равно как человечину, но по крайней нужде — случается.
Когда пошел разговор о том, что нужно доставить груз в Туруханское зимовье и привезти ржаной припас, старик со старшим сыном тут же выразили готовность помочь в этом деле. Увидев, как они обрадовались такому случаю, даже Угрюмка подумал, что удачное сватовство могло бы обезопасить и караван, и зимовье.
Почесав бритую голову, Истомка многозначительно пробормотал скороговоркой, кивая передовщику:
— Коли тебя встречают как жениха — надумали что-то: или нужда великая заставляет продать девку, или сдают ее в прокорм за оленей по своему обычаю. У них так бывает.
Тунгусы молча прислушивались к русской беседе, вылавливая знакомые тунгусские слова. Передовщик кивнул толмачу и сказал решительно:
— Узнай у старика, что хочет за дочь?
— Понятно, что оленей. Тунгусы другого выкупа не берут, — огрызнулся Истомка, выколупывая рыбью кость из зубов. Он не стал переводить слова передовщика, но намекнул Минчаку, что передовщик не прочь взять в жены его дочь. Зять в русском зимовье всегда может оказать помощь минчаковской родне и защитить, если надо.
Старик, задрав нос, резко бросил пару отрывистых слов, от которых Истомка поперхнулся и закашлял. А когда прочистил горло, то с красным, натужным лицом хрипло заспорил, вразумляя его. Но старик не произнес ни слова, стоя на своем.
— Шесть оленей за дочку требует! — возмущенно сказал толмач по-русски. — По здешним обычаям — три хорошо. Шесть за тощую и щуплую — неслыханно. Да где ты возьмешь столько?
— Скажи, семь дам, но не сразу, — нетерпеливо оборвал его передовщик. — Сам выберет их у туруханских тунгусов и пригонит с обозом!
Старик с сыновьями впились в него глазами, по тону стараясь понять ответ.
— Ты знаешь, сколько стоят семь оленей, хоть бы и на Турухане? — заспорил было Истомка.
— Скажи — семь! — невозмутимо повторил передовщик. Истомка с недовольным лицом, хмыкая и подергивая плечами, перевел сказанное.
Будто растаял лед между хозяевами жилья и гостями. Старик стал ласков и улыбчив, старший сын взглянул на Пантелея весело, по-свойски толкнул русского передовщика в плечо и назвал ибде — зятем. Синеуль — и тот на какое-то время будто забыл про свою боль: уголки его печальных губ приподнялись в улыбке. Угрюмка, наблюдавший за торгом, так и не понял, чему больше обрадовались тунгусы: возможности получить оленей или сорваться с постылого места и кочевать. «Бог ли помогает, бес ли прельщает?» — подумал с недоумением. Получалось, если мужчины пойдут с обозом, а девка станет жить в зимовье, то весь Минчаков род будет зааманачен.
От таких мыслей Угрюмка с сожалением посмотрел на передовщика, понимая, что пай его или большая его часть уйдет на оплату сватовства. Казаку же и горя нет от вечной нужды, у него деньги подолгу не водятся, так уж на роду писано.
Старик, конечно, заломил выкуп за дочь сверх всякой меры, рассчитывая хотя бы на половину после торга и споров. Получив же сверх того еще одного обещанного оленя, он с радостью соглашался подождать выкуп до возвращения каравана, но если с тем случится в пути несчастье, заберет дочь обратно.
Его слова для Пантелея тоже оказались радостной неожиданностью. Сперва он подумал, что не понял толмача или толмач недопонял старика. Разобравшись, что волен забрать невесту хоть сейчас, передовщик так повеселел, что обнял новоявленного тестя, шуряков и велел Угрюмке отдать им ватажный походный котел с нарты.
За пологом раздался знакомый смех, отозвавшийся в ушах передовщика перезвоном серебра. Считая вопрос решенным, из укрытия высунулась смущенная невеста. Он привлек ее к себе — легкую, худенькую, и она не противилась.
Пантелей заспешил с возвращением в зимовье. Тунгусы шумно и обеспокоенно запротестовали. Толмач перевел, что уходить на ночь нельзя. Пантелея с невестой оставляли здесь. Старик с сыновьями решили ночевать в другом чуме.
— Говорят, Угрюмка, если хочет, пусть идет с ними, хочет — остается здесь, — обиженно пробубнил Истомка. — А меня предлагают отправить в берестяной балаган или к собакам.
— Оставайся! — не поняв его обиды, разрешил передовщик.
Довольные проведенным временем и состоявшимся разговором, тунгусы накинули верхнюю одежду и вылезли из чума. Из-за полога пахнуло стужей ночи. Тунгуска по-хозяйски стала прибирать после застолья и готовиться к ночлегу.
Пантелей, оторвав от нее зачарованные глаза, надел шапку, накинул жупан, вылез на холод. Собаки, сдержанно рыча друг на друга, грызли в темноте брошенные кости. Звезд не было. Тьма небесная высвечивалась неясными сполохами. Такую погоду лучше пережидать у очага, хоть путь до зимовья и был помечен лыжней. Щурясь от жгучей стужи, передовщик вглядывался во тьму и думал, что давно на душе у него не было так покойно и радостно: пожалуй, с той самой ночи, как, перекрестив и благословив, отпустила его Маланья.
* * *
По Сибирскому пути много было сказов про удачливые промыслы: говорилось и о покрученниках, выходивших из тайги с великим богатством, и о заплутавших в урмане ватажках, выбиравшихся к острогам в собольих онучах. Но мало кто хвастал своей удачей: рассказывали о слышанном от других, об увиденном чужом счастье. А тут везли и везли в зимовье добытого соболя со станов. Табанька с раннего утра до позднего вечера шкурил и шкурил добычу, постанывая, потягиваясь от болей в спине. Он и сам уже стал проситься на промыслы — так опостылело ему некогда любимое занятие.
Передовщик не мог нарадоваться ни на богатую добычу, ни на жену: и ласкова, и послушна, и еду приготовит, и постель, и одежду починит, и зверя промышлять мастерица, и рыбу бить. Безнадежно оглядев со всех сторон его ветхий жупан, она стала шить мужу парку из выделанных шкур. Не беда, что не могли они друг с другом свободно разговаривать: с полувзгляда все понимали.
Смущаясь ватажных, Пантелей старался почаще уходить со своей тунгуской на промыслы. Они на пару добывали много соболя и белки. Передовщик срубил несколько новых станов, насек кулем по ухожьям. Так бы и промышлял он до Рождества, но ватажные стали роптать, что его подолгу не бывает в зимовье.
Сколько промышленные ни пытали девку, как ее называть, она отвечала через толмача, чтобы звали женой Пенды. И когда ночевала в зимовье, никому из сидельцев не мешая, то и дело слышался ее веселый смех, вызывавший среди огрубевших от одиночества людей радость и память о доме.
Пенда называл тунгуску Аськой[93]. Он невольно сравнивал ее с другими, со своими и чужими женами, и находил, что она много лучше. На что неприхотлива была Маланья, но, ночуя по снежным ямам да по шалашам, питаясь одним печеным мясом, она завыла бы от бездолья. А эта всегда была весела и радостна.
Перед Рождеством Христовым, по уговору, вернулся со станов Третьяк с рухлядью. Он напарился, отдохнул перед всенощными молениями, читать которые был горазд. К празднику стали подтягиваться и другие чуницы. Баня не выстывала. В зимовье стало тесно. Охотиться, убивать зверя-птицу от Рождества до Крещения — чревато бедами и почиталось за великий грех. На Сочельник молились, жгли большие костры, приглашая покойных родителей и друзей погреться. Холмогорцы с туруханцами плясали, окликая мороз, величая его Васильевичем.
— Ой, Мороз-Мороз Васильевич! — шел вприсядь вокруг костра долговязый и длиннорукий Тугарин. — Заходи-ка на кутью.
— А вот летом не бывай, — подпевали и приплясывали зимовейщики вокруг костров, попугивая разгулявшийся рождественский холод. — Цепом темя проломлю, метлой очи высеку!
Во всем ватажные ждали обновы с Рождества, только нынешнюю промысловую удачу желали сохранить надолго. Передовщик напоказ бросил в костер свой ветхий жупан, прощаясь с прежней, непутевой жизнью, а наутро надел сшитую Аськой парку.
На Рождество в разгар веселья к зимовью подошли пять тунгусских упряжек — вместо трех по уговору. Значит, предложение сходить обозом на Турухан заинтересовало многих тунгусов хангаевых родов, пережидавших морозы на зимних стойбищах.
Из-за двух осенних осад кормов для оленей поблизости от зимовья не было. Хангаи стали поторапливать разгулявшихся промышленных со сборами, хотя и сами были не прочь повеселиться у их костров. Все бывшие в зимовье стали грузить нарты, перетягивать ремнями груз. Иные угощали гостей, величая их по-здешнему «мата»[94], готовили угощение для отъезжавших и объясняли возницам, что на Рождество нельзя отправляться в путь.
Аська привечала у костров отца с братьями, родственников: пекла им мясо, готовила порсу и своим видом показывала, что вполне довольна замужеством.
С обозом передовщик отправил Третьяка. Ему в помощь он дал Угрюмку и Табаньку. Табанька рвался в Туруханское зимовье. Угрюмка же ни напрашивался, ни отнекивался, наказы исполнял без усердия, переживая очередную зиму. Передовщик дал им ружья огненного боя, свинца и пороху по нужде. В обозе были оба брата тунгуски — Укда и Синеуль. С ними уходил и старый Минчак, который при сородичах с гордостью называл передовщика ибде.
В каждую нарту были запряжены по три оленя. Еще по паре заводных привязывались сзади. Ездовые животные плутовато поглядывали на суетящихся людей, мотали заиндевелыми мордами, почесывали длинные уши, будто поторапливали.
После спешного и сытного застолья, устроенного у костра, передовщик перекрестил и обнял промышленных, отдавая последние наставления. Тунгусы в тяжелых долгополых шубах навалились на стянутые бечевой мешки, выдернули из снега хореи. Ватажные перекрестились и поклонились на сумеречный восток, пропели, обращаясь к покровителю сибирцев, к Николе Чудотворцу: «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник… К чудному заступлению твоему притекаем. Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий…»
Обоз двинулся на запад по укрытому снегом льду реки. Притопывая да попрыгивая с ноги на ногу от жгучей стужи, Истомка ухмыльнулся и спросил передовщика:
— Думаешь, отчего тунгусы стали ласковы? — И, поскольку тот молчал, глядя на исчезавшие в сумерках упряжки, ответил сам: — Собираются воевать с шамагирами, пограбившими их три года назад. На наши пищали рассчитывают. Так-то, ибде, — кивнул насмешливо. — Втянут нас в свои распри — не выпутаемся.
На другой уже день, на «Бабьи каши», Пантелей подумывал, как бы уйти с Аськой на станы — народу в зимовье было много. Чуничные отдыхали, зимовейщики — Истомка с Вахромейкой — в разных углах избы шкурили мерзлых соболей, добытых еще в декабре.
Лишь после Рождества смог выйти из тайги сам Лука Москвитин с братом и с повзрослевшим племянником. Ивашка как-то вдруг и сразу заматерел, стал на полголовы выше отца и оброс шелковистой бородой. Они привезли пару мешков мороженого соболя да три сорока мехов.
Истомка с Вахромейкой с радостью бросили опостылевшее шкурение, затопили для прибывших баню, стали угощать их пивной брагой и квасом. Вдруг оба они исчезли. Пока Пантелей расспрашивал устюжан о промыслах, Вахромейка снова объявился в избе и, язвительно улыбаясь, громко окликнул передовщика.
— Хочешь знать, как баня топится? Подойди тихонько да посмотри, чем твой толмач занимается. Еще наплачетесь с ним, — рассмеялся, торжествуя.
Пантелей бодуче взглянул на него исподлобья, но встал, прервав расспросы, и молча вышел. Стужа привычно обожгла лицо, но не достала под паркой. Он тихо подошел к бане, из дверей которой валил дым. Истомка лежал на боку у каменки и на отточенной кубиком кости выжигал знаки. Заметив ноги стоявшего за дверьми, вздрогнул, спрятал кость за пазуху.
— Иди-ка сюда, — поманил передовщик. Тот поднялся. Лицо его скрылось в клубах дыма. — Полено прихвати!
Истомка послушно нагнулся, взял полено, выйдя из бани, понуро подал его передовщику и подставил спину, виновато опустив плечи. Пантелей, без зла и страсти, трижды огрел его тем самым поленом. Толмач не дергался, не уворачивался от ударов.
— Все понял? — спросил.
— Спаси тебя Господь, Пантелей Демидыч. Вразумил! — пролепетал Истомка. — Бес попутал… Так, думаю, для забавы себе самому смастерю.
— Смастерил. А теперь сожги и больше не делай.
— Не буду. Ангела тебе доброго.
Какие-то слова еще рвались из груди передовщика, но тронутый покаянием, он потоптался перед кланявшимся толмачом, хрипло прокашлялся и вернулся в зимовье. Вахромейка, глядя нахально и насмешливо, спросил:
— Видел?
Передовщик взглянул на него строго, неприязненно и ничего не ответил.
На Святое Крещение Господа Бога и Спаса нашего к полудню отворилось небо и заалел восток. Стряхнул с глаз тягостный сон Илья Пророк, дрогнул в его руке обоюдоострый меч, с воем ринулась на него поганая рать — постоять за свое нечистое дело. От мороза трещали деревья и падали птицы. Но трещи не трещи — минули водокрещи.
Известно издревле: о чем бы в это время ни помолился открытому небу — все сбудется. К полудню среди студеного марева и ледяного тумана показался краешек солнца. Блеснул снег, заискрился куржак на деревьях, нахохлившиеся, выбеленные стужей вороны покрикивали вслед бежавшей тьме.
После Крещения передовщику с девкой пришлось остаться в зимовье с Истомкой и Вахромейкой. Рад был уйти на промыслы, да не посмел оставить враждовавших людей охранять зимовье. Пришлось отправить их на станы, чтобы не томились бездельем. Пантелей призвал толмача и сидельца, посадил их напротив и стал давать наставления, как вести себя в ухожьях, как терпеть друг друга, когда терпеть невмочь. И обещал: если те передерутся в пути, то по их возвращении он спустит шкуру со спин обоим, не разбираясь, кто виноват.
Ушли промышленные, зимовье опустело. Мыши в нем бесчинствовали. Передовщик колотил их черенком от метлы, давил плашками, пробовал заговаривать — не помогало. Не иначе, как сам домовой приваживал их для веселья.
Аська, глядя на его старания, предлагала запустить в избу ее собак. Как не грешно было впускать псов под образа, да еще перед Сретеньем Господним, — вынудили пакостные твари. Пришлось пожить, как диким, с собаками. Через пару дней мышей в избе не стало.
Аська принялась чинить одежду. Она зашила дыры на прохудившихся ичигах мужа, залатала его шубный кафтан. Потом стала чинить все, что подворачивалось под руку. А подвернулось Вахромейкино одеяло. И в нем под криво наложенной заплатой был зашит черный с проседью по хребту головной соболь, какому за Камнем и цены нет, поскольку таких забирали в государеву десятину. Рассмеялась дочь Минчака и простодушно показала находку мужу.
По стародавним законам по окончании промыслов собирались ватаги в круг и люди объявляли вины друг друга. Передовщик с чуничными атаманами судили провинившихся, круг утверждал или отменял их приговоры. Кого к столбу ставили, кого приговаривали всякому промышленному кланяться и просить прощения. Иных преступивших законы ватаги кормили одной только квасной гущей. Исстари самым тяжким преступлением считалось воровство. За него если не убивали, не выгоняли, не бросали посреди тайги, то жестоко били, лишали доли в промыслах и отбирали все вещи.
Заплата с Вахромейкиного одеяла была сорвана. Пришить заново, положив на место ворованное, — заметит и отопрется, ведь свидетелей нет. Кто станет всерьез пытать тунгусскую девку, едва понимающую по-русски?
Пантелей повесил было ворованного соболя над Вахромейкиной постелью. Но походил, подумал и бросил его в тесаный ватажный сундук к другой рухляди.
К Сретенью вернулись живыми, небитыми Истомка с Вахромейкой и приволокли в нарте мешок мороженых соболей. На другой день явились заводчики с низовьев реки, из туруханских чуниц. Сбросив тяжелые одежды, они грелись у очага, попивали квас, отвечали на расспросы. По словам ватажных выходило, что промыслы беднеют и нет уж той добычи, что была до Рождества.
Ни словом, ни намеком не выдавал Пантелей Вахромейке, что знает о его воровстве. Пристально наблюдал за ним и диву давался: случается, рождаются на свет Божий уроды без рук, без ног — этот уродился без совести. Оттого, наверное, и жил легко. Едва сел на свою мягкую, в несколько слоев уложенную мхом постель, заметил аккуратно нашитую заплату на одеяле. Блеснули было крысиной алчностью глаза — и снова заблестели беззаботным весельем.
Передовщик же мысленно поблагодарил Господа и ангела-хранителя за то, что вразумили не устраивать дознания. Коли нет у человека совести — вины не докажешь, только опозоришься.
Прошел февраль. На память преподобного Василия-капельника так ярко светило солнце, что без очков из березовой коры с узкими прорезями промышленные по снегам не ходили: боялись ослепнуть. Задула Евдокия-свистунья, весну снаряжая: вроде как мартовским пивом запахло. Стали возвращаться в зимовье чуницы с последней добычей. И все жаловались, что после Рождества прежних богатых промыслов не было. Верь не верь хвастливому Табаньке, а как оставил он зимовье, так и соболишко стал уходить в другие края.
На Герасима-грачевника на закате дня показался обоз. Золотились на солнце ветвистые рога оленей, доносились окрики возниц. На всякий случай в зимовье приняли меры предосторожности, но с нетерпением ждали приближения упряжек. Насчитали же их семь.
Вскоре Пантелей узнал Третьяка. Обоз подошел к частоколу, распахнулись ворота зимовья, и все бывшие в нем вышли встречать долгожданных друзей-товарищей.
Первыми к передовщику подошли и откланялись Третьяк с Угрюмкой. Следом — все такой же печальный Синеуль в русской сермяжной шапке и в суконных штанах, заправленных в высокие меховые тунгусские сапоги — сары. На груди его поверх малицы висел кедровый восьмиконечный крест в треть аршина, что удивило зимовейщиков.
— Далова! — приветствовал свояка Укда, скалясь и посмеиваясь. Этот тунгус, как и его отец, был весел, ничем не выдавая усталости от долгого пути.
Табаньки не было, но с обозом прибыли новые, незнакомые люди.
— Не признаешь? — усмехнулся в сивую бороду кряжистый сибирец в добротном шубном кафтане, и передовщик вспомнил не совсем дружелюбную встречу на стане возле Туруханского зимовья. Сивобородый, кажется, вологодский, двое молодых — пустозерцы. Ненадолго открыли они тогда свои лица под сетками, но запомнились речами.
— Купцы прислали гороховских, — подсказал Третьяк.
В зимовье затопили баню, на огонь поставили котлы, чтобы готовить угощение для прибывших. Возницы распрягали оленей. Все бывшие в зимовье стали развязывать ремни на нартах и таскать в лабаз мешки с ржаным и другим припасом. А когда отмылись, отпарились путники, подкрепились обильно едой и питьем, передовщик одарил возниц-хангаев и отпустил их. Им подходило время промышлять мясного зверя, потянувшегося на север за отступавшими холодами.
Укде и Минчаку не терпелось показать родственникам свои новые упряжки: выкуп за сестру и дочь. Из тунгусов в зимовье остались только Синеуль, готовый поститься вместе с русичами, и его сестра. Тунгус разлегся на полу, Аська забралась на полати. Передовщик, сидя в красном углу на сундуке с мехами, стал расспрашивать Третьяка с Угрюмкой о Туруханском зимовье и о наказах купцов. Спрашивал он и о том, кого довелось встретить на дальнем пути.
Из рассказов прибывших ватажные узнали, что гороховское зимовье брошено. Давно уже тамошние промышленные были недовольны передовщиком Семейкой Гороховым. По всему выходило, что одигоны, уйдя от пендинского зимовья осенью, напали на гороховское. Промышленные отсиделись за тыном, но после осады общим решением сбросили передовщика.
Семен не стерпел обиды и ушел зимовать к монахам, внеся залог в строящийся монастырь. Новоизбранный передовщик правил ватагой с неделю, не успев отправить чуницы на промыслы, загулял с дружками. Промышленные соборно скинули его, и тут началась распря, от которой разбрелись все: кто пристал к иной ватаге в покруту, кто к монахам зимовать, кто при Туруханском зимовье христарадничал да перебивался случайными заработками.
Купцы же, Бажен Попов и Никифор Москвитин, построили там избу и амбар. Когда ушла на промыслы их ватага, они успели до холодов сделать две ходки в Мангазею и теперь живут на Турухане при богатом припасе. Встретив своих ватажных с рухлядью — радовались и хвалили Господа, что могут тот припас отправить на Тунгуску, потому что на Турухане собралось много гулящих, непрожиточных, злых до чужого добра. Кроме кабалы на себя, дать им за прокорм нечего, а хлеб требуют.
И велели купцы кланяться всем ватажным за удачные промыслы, за великие прибыли, благословляли и передавали пожелание: пока есть силы и Бог милует — не оставлять промыслов и подолгу, как гороховцы, на одном месте не задерживаться, а идти туда, где допрежь промышленных людей не было, где зверь не пуган, и зверовать там с усердием, по правде, против Господа и друзей своих не погрешая. Они же, купцы, пай каждого промышленного человека сохранят и приумножат.
Как-то странно и смущенно поглядывал Третьяк на товарища, важно восседавшего под ликами Спаса, Богородицы и Николы Чудотворца, и все будто порывался сказать что-то важное. Порой казалось передовщику, что начинал уже и вдруг обрывал, пересказывая прежнее. На иные вопросы Пантелея отвечал тупой улыбкой, не замечая даже, что его спрашивают. А рассказать ему хотелось о многом. Не зная же, как подступиться к главному, он бормотал о пустячном:
— Табанька загулял. Обратно ехать — сыскать не могли, по избам и землянкам прятался. Так и ушли…
Когда разлеглись по нарам, по полатям промышленные и стал позевывать передовщик, крестя рот, Третьяк все еще сидел напротив, вспоминая подробности пути. Наконец вскинул внимательные глаза:
— От Маланьи тебе поклон. В Туруханском зимовье она, у Бажена с Никифором в стряпухах.
— Что так? — удивился Пантелей. — Вроде в Мангазее собиралась зимовать.
— Сказывала, пошла в услужение к целовальнику, а у того жена злющая — не только из дома, из города выжила. Никифор за ржаным припасом ходил, подобрал ее чуть ли не с паперти.
Застонал Пантелей, сжав ладонями лохматую голову:
— Ну за что ей судьба такая горькая? Ведь девка-то хорошая, ласковая. Дал бы Бог ей мужа доброго, — перекрестился с лютой тоской в глазах, с болью под сердцем.
Третьяк вдруг смущенно вспыхнул, тряхнул головой, пристально глядя в глаза товарища:
— Уже дал! Я с ней венчался.
Пантелей соскочил с сундука, сгреб его в охапку:
— Спаси тя Господи! Не пожалеешь! Дай вам Бог счастья. Камень ты с моей груди снял.
— Ну и ладно тогда, — повеселев, высвободился из объятий Третьяк. — Мне тоже тяжко было. Все думал — как сказать? Поймешь ли?
Угрюмка с полатей тайком посматривал на казаков, все ждал, как сладится этот разговор. Он был на венчании Третьяка и знал много больше, чем было сказано между дружками.
Встретили они Маланью подурневшую, с пятнами на лице — видно было, что девка брюхата. Бажен, оправдываясь перед промышленными, чтобы не было кривотолков среди устюжан и холмогорцев, рассказал, что целовальник, не имевший детей, обещал девке, если понесет от него, — жениться, а жену свою в монастырь отправить. Маланья и прельстилась.
Целовальничиха в монастырь идти не захотела, выгнала полюбовную девку из дома, мужу выдрала полбороды, а после где та, бедная, ни приютится, заявлялась и орала поносные речи, пока хозяева не уставали и не гнали беженку. Пожалел ее устюжский купец Никифор, помня о прошлом.
Угрюмка рассказывал Маланье о промыслах, о Пантелее, о тунгуске же помалкивал. С грустной улыбкой она вспоминала веселые летние денечки и казака — полюбовного молодца. Вздыхала: «Хороша была бы волюшка, кабы не злая долюшка!»
Жалея ее, Угрюмка предлагал все передать передовщику, тот не оставит, поможет, а как сам вернется, вдруг и сладится что…
— На кой я ему такая? — всхлипывала она, оглаживая живот. — Ладно бы — от него понесла. А то от злыдня мангазейского не убереглась. — Вытирала набегавшие слезы: — Упрашивал ведь дитя ему родить, а как жена меня гнала — отмолчался. И поделом грешной. Господь воздал — на чужое счастье позарилась.
Невольно их разговор услышал Третьяк, да так взглянул на Маланью, что, как призналась потом, у нее, у гулящей девки, мороз прошел по спине. Была она на полголовы выше его и дородней, понимала, что казачок не юнец, хоть и безбородый, но мужчины в нем не разглядела.
А тот день и другой ходил сам не свой, будто в лихорадке: то беспричинно смеялся, то никого не видел и не слышал и говорил невпопад. Несчастная Маланья занимала его мысли, а еще больше — будущий младенец. Ему-то была уготована судьба горче, чем выпала самому Третьяку.
Поглядывал он на суетящуюся у печи стряпуху: и в доме-то было чисто ее стараниями, и сама опрятна, и люди накормлены. И все думал Третьяк, думал.
На другой день со своими думами он залежался на печи так, что о нем забыли. Маланья гремела посудой, в доме, кроме них, никого не было. Распахнулась дверь, вошел Никифор-купец, скинул шубу на лавку, бочком-бочком придвинулся к девке и притиснул ее. Она отстранилась резко. Купец обиделся.
— Не я ли тебя подобрал? — спросил с укором. — Могла бы быть поласковей…
— Ну побойся же ты Бога! — вскричала Маланья со слезами. — Какая из меня блудница-прелюбодейка?
Купец раздраженно накинул шубейку и выскочил из избы. Маланья же, всхлипывая и подвывая, гремела посудой. Вдруг услышала она скок, будто кот с печи прыгнул. Оглянулась. То ли домовой, как кот, таращится на нее, то ли человек? Сразу и не разглядела сквозь слезы. Вытерла глаза, перекрестилась и ахнула, схватившись за сердечко. Едва не выскочило оно из груди от страха.
Распрямился казачок, буравя ее немигающим взглядом, шагнул к ней вкрадчиво. Маланья и вовсе обмерла. Похолодело все, будто утроба в снег вывалилась. Подумалось отчего-то: не убьет, так надругается. И почувствовала она вдруг в Третьяке мужицкую силу и несокрушимую волю.
Он же остановился в полушаге от застывшей в ужасе женщины и заговорил резко:
— Слушай меня и не перебивай. Будет твое согласие — обвенчаешься со мной на днях. А после я уеду на промыслы, и ты будешь меня ждать здесь до лета мужней женой, на моем промысловом содержании. А как вернусь — переберемся к монахам от греха подальше. Дом срублю. Будем землю пахать, Бога славить да детишек растить. И твоего нагулянного я приму как родного, попрека за былое от меня не услышишь. Я все решил. Теперь за тобой слово.
Едва у Маланьи перестали трястись ноги и прошел страх, глаза от изумления вылезли на лоб. Она разинула рот, чтобы закричать, да не смогла, закрыла лицо ладонями и вдруг заголосила, завыла, рухнула на колени, обнимая ноги промышленного.
Третьяк стал смущенно поднимать ее, и она почувствовала, как сильны его тонкие руки, как крепки невидимые жилы. Захлебываясь слезами, просипела:
— Я буду доброй, послушной и верной женой… Спаси тебя Господи!
Тут распахнулась дверь. Белые клубы стужи покатились по тесовому полу. Взглянув на них сквозь заиндевелые ресницы, Бажен Попов прошепелявил смерзшимися губами:
— У стряпухи, кажись, доля сладилась?!
Сбросив с усов и бороды сосульки, холмогорец чище проговорил Третьяку:
— Она девка добрая, работящая, бесхитростна до глупости — оттого и судьба к ней неласкова. Из таких бывают жены хороши.
Угрюмка с купцами повезли молодых к монахам через реку. Холмогорец и устюжанин не скупились на подарки черному попу и причту[95], признавшись Угрюмке с Третьяком, что, каждый на свой лад, мыслили прельстить Маланью и склонить к сожительству. Но Бог не попустил.
Скромно, без размаха, в обыденных одеждах справил Третьяк свадьбу в зимовье, накормив голодный гулящий люд саламатой[96]и хлебом. Табанька же веселился и разносил по Турухану сказки о богатых промыслах на Тунгуске-реке, о том, что он, Табанька, приносит удачу в промыслах, даже если его держать за печкой и из зимовья не выпускать.
Купцам-пайщикам накладно было задерживать обоз. Через своих людей они быстро сторговались с туруханскими тунгусами, за ходовой товар с прибылью выменяли семь оленей да наняли троих гороховцев сопровождать груз, так и не сыскав Табаньку. И было от них передано пожелание — с верными поручниками прислать к зиме еще десяток покрученников из гороховской ватаги.
На Благовещение Пресвятой Богородицы даже в полночном краю весна зиму поборола. Морозы еще стояли крепкие, снега не убавилось, но ярко светило солнце и по-весеннему устраивали галдеж пташки. К славному празднику, когда даже грешников в аду не мучают, промышленные стали чистить зимовье и одежду, жечь изношенные вещи, сено и мох из прежних постелей, притом беспрестанно молились и постничали. К этому времени из-за тесноты в зимовье и недовольства ватажных Пантелей с Синеулем поставили берестяной чум под стеной.
Промыслы были закончены, на станах наведен порядок, клепцы забиты, чтобы ненароком не угодил в них какой зверь. Настала пора ватажного круга, суда и разговора о дальнейшей жизни.
На память Матрены-наставницы ясным ранним утром, помолившись да подкрепившись постной пищей, промышленные расселись в зимовье вдоль стен. Передовщик же сел на свое место в красный угол под образами, на сундук с лучшей рухлядью. По обычаю стародавнему стал он рассказывать, какая чуница сколько чего добыла и какой ценности добыча. Когда передовщик закончил об этом под одобрительный гул собравшихся, то начал пытать ватажных: не было ли между ними на промыслах какой злобы или распри.
Лука Москвитин за всех устюжан сказал, что своими людьми он доволен, а кто погрешал, те уж сами повинились, между собой помирились, помня главную заповедь Спаса нашего, в Святой Троице восславляемого. Так же и передовщик Федотка Попов — не стал жаловаться на родственников, а те не ругали его перед всеми собравшимися.
Туруханские же чуницы долго препирались, допытываясь правды от передовщика и всех промышленных. Выслушав их внимательно, Пантелей Пенда велел одному из туруханских чуничных атаманов виниться перед связчиками и по решению их быть наказанным. В другой чунице он присудил пойманному на тайноедении три дня поститься постом истинным и есть только квасную гущу. Ватага суд передовщика приняла и утвердила.
И тогда, наконец-то дождавшись своего часа, поднялся толмач Истомка-тоболяк. Подрагивавшим голосом он просил молвить слово против Вахромейки Свиста. И снова, теперь уже спокойно и вдумчиво, поведал всем, как тот с передовщиком бросил умиравших, а после, вернувшись с гороховцами, забрал весь припас. И требовал Истомка для преступника суда сурового.
Ватажные выслушали и насмешливые речи Вахромейки, его уверения, что не бросили они умиравших, но не могли им оказать помощь. На этот раз Свист говорил и складней прежнего, и веселей, но поддержки себе не нашел. Никто не хохотнул, не посмеялся над непутевым Истомкой. Молча выслушали промышленные и неискреннее его покаяние в том, что скрыл свою покруту у Семейки Горохова.
Потом ватажные пытали гороховских промышленных, знавших Вахромейку. Те отвечали по-разному, но никто не выгораживал Свиста из своей к нему приязни.
Дело было не простое. Если бы ватага возвращалась с промыслов, промышленные передали бы обоих воеводе для его суда, но им всем предстояло оставаться в тайге. Истомка — толмач хороший, он ватаге нужен и полезен. Вахромейка Свист — что есть, что его нет — не велика потеря. А кто из них прав, то един Господь ведает.
Долго думали ватажные вместе с передовщиком и, помолившись, приговорили: раз уж рассудить врагов по правде не могут, а те не желают примирения, пусть судит их Господь по обычаю издревле русскому: биться им на топорах до смерти. У кого топор длинней — тот и прав. Кто победит — с тем Бог.
И решили промышленные люди, что для поединка лучший день следующий — день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Бывает, в ту пору домовые бесятся, своих в доме не узнавая, но они поединку не помеха. На преподобного Иоанна на Святой Руси хозяйки пекут из теста лестницы, моля Господа дать их людям для вхождения на небо, в будущую жизнь вечную. И правого, и неправого, и поединщиков грешных на Иоанна Лествичника Господь простит, а судивших помилует.
На том все сошлись. Истомка с радостью поклонился на четыре стороны, и Вахромейка нехотя согласился, что суд справедлив.
Доброхоты долго выбирали место и время для поединка, чтобы было оно ровным, чтобы солнце не слепило глаз и ангелы сверху могли видеть спорящих.
На другой день после молитв все вышли из зимовья на поляну с обдутым ветрами, смерзшимся мхом. Доброхоты проверили топоры, засапожные ножи поединщиков и благословили их на бой за правду.
Воздев руки к небу, Истомка яростно вскрикнул:
— Суди, Господи, и рассуди распрю мою: от беса велеречивого избавь меня и помоги мне, Господи, как помог ты в древности Моисею победить Амалика, а князю Ярославу — окаянного Святополка.
Слишком долго он терпел насмешки и издевки, слишком много накопилось в душе обид, слишком сильна была его вера в свою правду и в помощь Божью. Сбросил Истомка парку, оставшись в замшевой рубахе, и стал нетерпеливо ждать начала боя. Вахромейка же предусмотрительно натянул до глаз лисью шапку, поднял высокий ворот кафтана, молча приготовился к поединку.
Истомка кинулся на обидчика, осыпая его ударами, и Пантелей, взглянув на Третьяка, печально покачал головой. Боевой холоп раз и другой отступил, спокойно отбивая удары, вскоре понял, что противник малоопытен в бою, и стал куражиться: то на ногу ему наступал, то бил обухом. Промышленные, видя неравный бой, с недовольством загалдели.
Вахромейка почувствовал это осуждение и резко ударил острием топора между плечом и шеей толмача, под ворот рубахи. Кровь хлынула ключом, Истомка с разинутым ртом рухнул на колени, на стылую землю, из последних сил откинулся на спину и живыми еще глазами глядел на светлых ангелов, летевших с синего неба, чтобы принять его высвобождавшуюся душу. И расправился лоб бывшего толмача, будто он понял что-то важное, чего не мог уразуметь в прежней, грешной жизни. И покатилась по щеке слеза.
Вахромейка не успел даже устать от боя, хотя грудь его вздымалась и опускалась от дыхания. Он снял шапку, постоял, без сожаления глядя на поверженного противника, метнул дерзкий взгляд на обступивших его людей и, поклонившись, крикнул:
— Согласны ли вы, братцы, что Господь праведный рассудил нас, а не бес лукавый?
Промышленные недовольно молчали. Вахромейка обвел их взглядом и дрогнул, встретившись глазами с передовщиком.
— Я не согласен! — сказал Пантелей и стал снимать саблю.
Скосил на него глаза истекавший кровью Истомка, улыбнулся, да так, с улыбкой, и отдал Богу душу. Ангелы подхватили ее и понесли на суд милостивый.
— Отчего же не согласен? — боязливо спросил Вахромейка и облизнул ссохшиеся губы. И снова, как зимой, блеснули в бороде острые крысиные зубы.
— Оттого, что ты не только обманщик, но вор! — И, оборачиваясь ко всем ватажным, сказал громко: — Головного соболя под заплату в одеяло зашивал… За воровство на Руси исстари казнят смертью!
— Не доказано воровство, — злым, колючим взглядом зыркнул по сторонам Вахромейка Свист. — Кто видел того соболя?
— Потому и выхожу на Божий суд, что не доказано, — спокойно проговорил передовщик, принимая из чьих-то рук топор.
— Ведь Господь наш, сказавший «не кради», сказал «не убий!», — затравленно вскрикнул Вахромейка. — Я кровь пролил не своей волей, а по вашему приговору.
Круг молчал, а Пантелей Пенда потряхивал топором, проверяя, крепко ли держится обух на топорище, вертел его в руке, приручая ладонь к шершавому изгибу березовой рукояти.
— Не переиначивай самого Господа и Спаса нашего, не глумись, — проурчал в бороду и вкрадчивым, кошачьим шагом стал заходить сбоку, держа топор на отлете руки. — А писано святыми Его апостолами так: «Вы слышали, что сказано древними: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду“. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…» Древними же сказано, — продолжал Пантелей, пристально наблюдая за противником, — «проклят, кто тайно убивает ближнего своего».
Вахромейка побледнел, лицо его напряглось, плечи приподнялись, и дрогнул топор в руке, готовившейся к обороне. Сошлись два воина, кружа друг против друга, выжидая промашки и оплошности противника.
Достала передовщика острая сталь, скользнув по плечу. Распорола рукав парки, чиркнула по коже. Вахромейка не заметил, что ранил передовщика, но когда кровавая капля скатилась по запястью, окрасив березовое топорище, лишь на мгновение скосил глаз на красное пятно, и в тот же миг усмотрел передовщик открывшийся висок между шапкой и воротом кафтана. Острая сталь проломила тонкую кость. По бороде хлынула кровь, и Вахромейка Свист, выпучив глаза, рухнул лицом вниз.
Постояв над ним со вздымавшейся грудью, передовщик снял шапку, перекрестился, вытер топор о мерзлый мох. Устюжане и холмогорцы, крестясь, подхватили оба тела и понесли их к проруби — обмыть перед отпеванием. Тут же вызвались охотники из туруханцев и гороховцев копать могилы в стылой тунгусской земле. Третьяк подозвал Угрюмку, им предстояло сечь вековые деревья на гробы-домовины.
А когда все разошлись по делам дня, к Пантелею подошла тунгуска. Глаза ее блестели, не было на ее лице ни страха, ни растерянности, тонкие ноздри горделиво раздувались.
— Мэнми бэе[97], — проворковала она, поглаживая смуглыми пальцами распоротый и слегка окровавленный рукав парки. — Аяма[98]. Сонинг[99].
— Аська ты моя, Аська, — вздохнул Пантелей, прижав к груди голову женщины, погладил шершавой ладонью по черным жестким волосам. Ее дыхание отозвалось где-то под сердцем — пустым и печальным после смертоубийства.
Отпев тела по обряду христианскому, на третий день положили их в долбленые колоды. Добрые получились гробы: в самый раз по вытянувшимся покойникам. С пением принесли их к могилам, вырубленным в вечной мерзлоте, где лежать убитым целехонькими до Великого Суда.
Простив земные слабости бывшим товарищам, промышленные отдали им последнее лобызание. И когда Пантелей Пенда коснулся губами выстывшего лба Вахромейки, не выступила черная кровь на обмытой ране, веки покойного закрылись плотно. Ватажные решили, что тот не уносил зла в иную жизнь, простив передовщика за правду, которой не понимал в этой грешной жизни.
И предали промышленные русских людей чужой земле, по которой давно не ступала нога светлоглазого человека. Крестясь и рассуждая о том, что для Всемилостивейшего Господа и Спаса нашего всякая земля свята, пошли они в избу для поминальной тризны.
Помянув покойных хлебом и квасом да кашей, приправленной медом, принужденно пытались ватажные вспоминать хорошие дела убиенных. Но всякий раз, заговаривая о былом, сбивались на дела дня. И засиделись они так до поздних северных сумерек.
Мало кто хотел оставаться на лето в этих местах и промышлять здесь еще год. После Крещения соболя заметно убыло. Одни считали, что он ушел из мест, где его много добыли, другие, посмеиваясь, вспоминали Табаньку. Верь не верь его похвальбе, но едва он остался в Туруханском зимовье — промыслы обеднели.
Осторожные холмогорцы предлагали разобрать зимовье, а бревна сложить, чтобы не гнили — вдруг придется вернуться. Гороховские люди говорили, что здешние тунгусы хоть и мирные, но непременно спалят и зимовье, и бревна, чтобы другие пришлые люди не появились в их кочевьях.
Переговариваясь о будущих промыслах, ватажные ни о чем не спрашивали передовщика и явно томились его присутствием на тризне. Пантелей поерзал на сундуке в красном углу и ускользнул к своей аси в берестяной чум.
Было светло. Морозец пощипывал лицо, и свежий, сладкий воздух, какого не бывает в западном и полуденном краях, приятно холодил грудь. Из вытяжного отверстия курился дымок. Откинув полог, передовщик вполз в теплое, уютное жило, прибранное женскими руками.
— Биэмэм![100] — шутливо пробормотал тунгусское приветствие.
Женщина тихонько рассмеялась, сказала:
— Дорова! — Скинула парку, оставшись в одних штанах и в чукульмах[101], подбросила хворост в очаг. Огонь взметнулся, обдавая жаром. Не спеша Пантелей тоже стал раздеваться. Аська, посмеиваясь, помогала ему высвободиться из одежды.
Синеуль с несчастным лицом и прежним отрешенным видом лежал на спине, укрытый одеялом до самого подбородка.
— Амэдемги?[102] — спросила она, шаловливо кивая на полог, завешанный медвежьей шкурой.
— Эми![103] — ответил по-тунгусски Пантелей, привлек к себе полуобнаженную женщину и поправился: — Сэктедеми[104].
Посмеиваясь над корявым языком мужа, Аська скрылась за пологом, зашуршала меховыми одеялами. Пантелей забылся, глядя на огонь и отдаваясь навязчивым мыслям. Очнулся он от какой-то странной тишины. Обернулся. Женщина пристально глядела на него, и глаза, и лицо ее показались вдруг Пантелею незнакомыми.
— Ты чего? — спросил он по-русски.
Аська смущенно улыбнулась, поглаживая живот, и попыталась что-то сказать. У нее получалось только «я… эта…».
— Би доче![105] — пролепетала.
Пантелей не понял, раз и другой переспросил, напрягая память.
— Брюхата, что ли? — и сделал руками жест, будто оглаживал большой живот.
Она смущенно кивнула, в ее черных глазах блеснула скрытая обида. Пантелей растерянно почесал бороду. Мысль о потомстве никогда не приходила ему в голову. Аська же смотрела на него выжидающе, он понимал, что должен что-то сказать, но не знал — что. Вместо слов сгреб тунгуску сильными руками. Тихонечко зазвучал серебряный колокольчик, но не так, как прежде.
Выскальзывая из его рук, она морщила гладкий лоб и все силилась сказать что-то очень важное, что важней жившего в ней нового человека. Пантелей подсказывал, путаясь в тунгусских словах и русских понятиях. А она все мотала досадливо головой, шепча то «эми», то «нет». И слезы готовы были навернуться на ее глаза. Наконец лицо женщины просветлело, и она почти на чистом русском языке выговорила:
— Ты — великий воин, твои дети будут сонингами!
Сказав так, женщина облегченно вздохнула, улыбнулась и прильнула к бородатому мужу с прежним, беззаботным смехом.
4. К истокам
У северной весны, как у юной блудницы, век короток: зашалит, загуляет, растревожит степенные сердца и пропадет, кинув миру прижитый плод.
Еще на прошлой неделе ватажные люди поднимались в ночи, чтобы подбросить дров в затухающий очаг, а тут сама по себе вывалилась из окна растаявшая льдина, звонко раскололась о лавку и робко прогудела первая, дурная после холодов, муха. В тени деревьев, по падям веяло прохладой пережитых холодов, а в укрытых от ветра местах зеленел мох и оживал гнус. На святого Максима, сразу после холодов, стало так жарко, что молодые промышленные скинули парки, кафтаны и зипуны.
К весне все готовились с самого Благовещения: одни курили смолу, другие драли из мерзлой земли березовые корни, вываривали их для обшивки судов. Напротив ворот зимовья люди тесали доски на струг, на котором предполагали отправить в Туруханское зимовье всю добытую рухлядь.
О насущном уже не думали: капало с крыши над красным углом — отодвинули образа, а кров чинить не стали, сорвалась с петель створка ворот — прислонили к тыну и подперли жердью. Бородатые удальцы, как дети, будто забыли о прошлогодних тяготах и жили разговорами да помыслами о дальних краях, о неведомых землях.
Все они много говорили между собой о бородатых землепашцах и скотоводах, живущих в деревянных домах по берегам неведомой реки. Тунгусы называли их «йохами» и заклятыми врагами, рассказывали, что те бородачи пришли на тунгусские земли не так давно после многих войн с их предками. Из тех неприязненных рассказов узнавали ватажные в йохах то потомков прежней благочестивой Новгородской Руси, разоренной грозными московскими князьями, то старых промышленных, ушедших от царских воевод по Великому тесу.
Туруханцы и гороховцы, распаляя страсти, рассказывали по вечерам невесть от кого слышанные предания о богатой стране на краю белого света, о праведном народе, живущем у самых ворот рая. Устюжане, ссылаясь на дедов и прадедов, тоже вспоминали, что во времена старозаветные их предки пришли с восхода, из страны, которой справедливо правят двенадцать старцев, достигших святости при земной жизни. Будто нет в той стране ни царей, ни князей, а бояре — всего лишь думающие воины. Что нет там ни бедных, ни богатых: все равны от рождения до кончины, потому нет и зависти с распрями. Не равны же люди только в чести и славе по делам своим и подвигам.
Известно, обманный месяц май и старого, и юного заморочит, в дальний край сманит, не холодом, так голодом обманет. Почернела река, зажурчали по пористому льду звонкие ручьи. Возле родников из пропарин рыба лезла на лед. Черпали ее туесами и ведрами, сушили впрок, толкли на муку. Лоси и дикие олени шли на север. Добывали их, загоняя по насту. А хлеб берегли, ели его только по постным дням, в скоромные же жили тем, что Бог дает.
На святого Еремея-запрягальника, в середине мая, гулко загрохотала река и сдвинулась на аршин прорубь возле берега. В ночи же послышался гул, будто Илья-громовик на небе раскатывал свою новую колесницу. На другой день около полудня по черному льду хлынула стылая вода и стала прибывать, заливая берега. Вскоре, теснясь и скрежеща, вставая на дыбы, поплыли по реке льдины.
Промышленные зачарованно смотрели на ледоход, вдыхали запахи вскрывшейся реки. Хворавший в те поры Нехорошко попросил принести вешней водицы, пошептал над ковшом, бросил угольков из очага, посыпал четверговой соли, попил и стал поправляться.
По вскрытии реки не прошло и недели — к зимовью прибыли на оленях тунгусы. Их в зимовье хорошо знали и беспрепятственно пропустили за ворота. Когда вернулся из леса передовщик, Минчак с сыном Укдой лежали в его берестяном чуме, попивали брусничный отвар и ели печеную рыбу. Аська угощала родственников, и лицо ее сияло радостью. Собаки, вечные спутники тунгусов, лежали возле откинутого полога и настороженно следили за каждым движением людей.
Пантелей бросил топор у входа и весело поприветствовал Минчака с сыном на тунгусский манер.
— Вот я и пришел! — сказал, по-хозяйски располагаясь возле очага.
Прибывшим понравилось, что зять в своем дю здоровается с гостями на их языке.
— Дорова! — улыбаясь, кивнул Укда. Он насмешливо поглядывал на младшего брата, жившего среди русских промышленных. Синеуль, нахохлившись, как околевающая пташка, сидел в сермяжном малахае. Он был стрижен в кружок на московский манер и, с тех пор как побывал в Туруханском зимовье, не снимал с шеи струганый крест. У Пантелея же за зиму так отросли волосы, что густыми волнами рассыпались по плечам, как это принято у здешних тунгусов.
Старый Минчак, с тех пор как обзавелся оленями, стал выглядеть важней и надменней. Несмотря на бытовавшую среди тунгусов неприязнь к чужакам, родство с русским передовщиком, видимо, прибавило ему чести среди родни.
Пантелей, пожив с тунгуской, стал без толмача понимать ее родственников, если они говорили медленно и внятно. Аська же стеснялась говорить по-русски, но в быту понимала все. Синеулька, хоть и был молчалив, быстро освоил язык и мог уже служить толмачом. А потому беседовать с гостями было легко.
После обычных расспросов о здоровье и о промыслах старый Минчак спросил, далеко ли собирается кочевать ватага. Узнав, что промышленные идут к верховьям реки, он стал обстоятельно объяснять, какие роды каких племен могут встретиться на пути.
Назвав род момолеев, старик сделался печальным. Глубокие морщины избороздили его лицо вдоль и поперек, как иссохший прошлогодний лист. Он ниже опустил голову, и седые волосы скрыли впалые щеки. Укда тоже нахмурился, будто речь зашла о покойнике, как-то странно напряглась Аська, сверкнув глазами: стала отчужденной и нелюдимой. Синеулька-печальник, вечно замкнутый и отстраненный, вовсе сник, будто с новой силой взъярилась в нем, скрутила тело привычная боль: губы изогнулись подковой, брови опустились на глаза.
— У момолеев есть сонинг Ульбимчо — очень сильный воин. Он не даст луча пройти к бири[106] Лимпэ.
Пантелей понял, что от него ждут вопросов, и стал спрашивать, кто такие момолеи и их сонинг?
Морщины на лице Минчака немного расправились, хоть головы он не поднял, оставляя лицо закрытым седыми волосами. Старик с печалью поведал о момолеях, съевших его оленей, о сонинге Ульбимчо, убившем брата и старшего сына, забравшем молодую сноху.
Погрустив о былом, он поднял голову и веселей рассказал о хороших илэл сентеева, еличагирова, чопогирова родов, которые били лосей и рыбу в верховьях бири — реки. И так он расхваливал свояков, что Пантелей почувствовал в его словах особый умысел. Из намеков понял: если ватага пойдет вверх по реке, то войны с момолеями ей не избежать. Тунгусские же роды, кочующие в нижнем течении реки, и сам Минчак с сыновьями готовы помочь в той войне.
Подумав, Пантелей стал говорить, что справедливый русский царь не велит своим людям воевать между собой и ввязываться в войны без его разрешения. Сам себе удивляясь, стал расхваливать достоинства русского царя, его ум и дальновидность. Здесь, в дальней дали от Москвы, царь и впрямь представлялся посредником между людьми и Богом, справедливым заступником, а не вероломным боярином, нарушившим свои клятвы казакам. Как иконы, писанные руками смертных, напоминают о Господе и всех его святых, херувимах, ангелах и архангелах, так и царское имя в полуночном краю обязывало к справедливости и порядку.
Но тунгусы ждали прямого ответа.
— Если пойдете, все равно будете воевать с Ульбимчо-сонингом! — твердо произнес старик и добавил: — Все роды одигонов[107] и сильный шаман Газейко — помогут вам!
Передовщик в сомнении пожал плечами, покачал головой. Отказываться от помощи было глупо: неизвестно, как еще сложатся отношения с дальними народами?
— Благодарю! — сказал Пантелей с важным видом. Но, поскольку гости терпеливо молчали, ожидая ясного ответа, вынужден был добавить на их языке: «ээ-а!» (да!).
Тунгусы, чувствовавшие себя привольно под кровом зятя, по-свойски развалились у чадящего очага.
— Возьми Синеуля, — кивнул старик на младшего сына с таким видом, словно возражений быть не могло, усмехнулся, с ожесточением взглянув на его стриженые волосы. — Он хочет научиться говорить, как лучи, и служить русскому царю… Кто не может стать сонингом у своего народа, тот может стать хорошим чибарой у царя.
Последние слова старика не понравились передовщику. Издевка над сыном, названным холопом, указывала на нерешенный семейный спор. Пантелей с неопределенным вздохом сверкнул глазами.
— Толмач в ватаге — второй человек после передовщика! — кивнул на Синеуля. — Русский царь жалует за службы всех одинаково: для него что луча, что илэл, что воевода — все холопы. У нашего же Господа все мы одинаковые, и царь тоже, а значит — все равны. — Перекрестился, не потому, что помянул имя Божье, а потому, что покрывал им вынужденную ложь, не считая себя ни верным подданным, ни Михейкиным холопом.
Старик с сыном не поняли сказанного. Синеулька, насупившись, промолчал. Гости взглянули на Аську. Она осторожно переводила черные глаза с одного говорившего на другого, вместо ответа придвинулась к мужу и стала расчесывать гребнем его густые длинные волосы.
Вечером в тесном зимовье собралась вся ватага. После вечерних молитв стали ужинать. Сел на свое место и передовщик, хотя поел в чуме. После ужина он просил дать ему слово и начал рассказывать, для чего приходили тунгусы. Умолчал только о том, что от имени ватажных дал ни к чему не обязывающее согласие участвовать в межродовой тунгусской распре.
Промышленные люди оживились, заговорили о предстоящем пути. Одни считали предложение гостей за удачу, другие видели в нем проявление коварства лесного народа.
— Заманят в дебри и ограбят… Казачьи родственнички. А то и жизни лишат! — Оживший после хвори Нехорошко с мрачным видом ткнул кривым пальцем в красный угол, медленно поднялся с места, раззадоривая сам себя. Говорил бы долго, но его нетерпеливо оборвали на полуслове свои же, устюжские.
После споров просил слова Федотка Попов. Передовщику бросилось в глаза, как вырос и возмужал юнец. Его погодки тоже входили в мужскую силу. Откланявшись степенно, молодой холмогорец стал рассуждать вслух:
— Задумали бы здешние народы коварство — не стали бы предлагать помощь, а пошли бы следом, тайно, и выждали бы слабость нашу…
Кафтанишко, в котором Федотка уходил на промыслы, стал ему короток: из-под него торчали острые коленки в суконных штанах. Голова была покрыта все той же заношенной новгородской шапкой торчком, с распушенным ворсом, хотя он был своеуженником, имел в ватажной добыче свои паи вместе с братом и не был скуп. Незаметно, умно и мягко Федотка правил всеми холмогорцами, иные из которых были вдвое старше его.
Устюжане не нашлись, что возразить ему. И только Нехорошко, не желая признавать себя неправым, что-то ворчал об известном коварстве здешних лесных бродников.
Поговорив, сход решил от помощи не отказываться, но за тунгусов в войну не ввязываться, а блюсти свою промысловую выгоду. Передовщику же ватажные наказали следить за прижившимися у него тунгусами и если заметит признаки измены — без промедления доносить им, чтобы после, всем сообща, решить, что с ними делать.
— Окрестить на Николу! — просипел Тугарин, и Нехорошко, снова подскочив, скандально заголосил:
— Тунгусенок давно с крестом ходит и по-нашему говорит… И девку пора крестить. Грех с нехристями под одной крышей жить.
— Выжили из-под одной! — огрызнулся передовщик.
— Мы не паписты — силком не крестим, — ласково взглянул на него Лука Москвитин. — Но если дикие согласны, можно и окрестить.
— Я крестить не буду! — решительно заявил молчавший Третьяк. — Не рукоположен.
— Я окрещу уж как смогу, — покладисто предложил Лука. — Бог простит.
К поздним северным сумеркам льда на реке стало меньше, но вода прибыла на два аршина. Глядя на берег, гороховцы уверяли, что иной раз река поднимается на пару саженей.
Наказав караульным следить за разливом, ватажные стали готовиться ко сну. Затемно вполз в свой чум Пантелей. У выстывшего очага, свернувшись клубком, под одеялом из шкур посапывал Синеуль. За пологом, не смыкая глаз, ждала мужа Аська. Она согрела постель своим телом.
Наложив на грудь крестное знамение, торопливо и бесчувственно каясь в грехах, передовщик лег рядом. Все зимовейщики устали за день и радовались отдыху, но ни к кому из них короткая весенняя ночь не была так ласкова, как к Пантелею.
— Грехи наши! — зевая, крестил он рот в бороде.
«Святителю отче Никола, моли Бога о нас!» — послышалось из избы в сумерках следующего дня. Пантелей встал, оделся, вышел из чума, возле бани разбил утренний лед в бочке, поплескал водой в лицо, вошел в избу и встал позади всех у двери, на молитву.
На Николу вешнего разлив стал спадать. Струги были просмолены, а люди готовы отправиться в путь. Ранним утром, после молебна, с образами и крестами ватажные вышли из зимовья, обошли его с пением и направились к реке — святить воду. После водосвятия некоторые из них купались в вешней воде, отогреваясь потом возле жаркого костра. Глядя на общее веселье, решили креститься Синеулька и Аська.
Аська до этого дня сомневалась, а больше всего боялась, что мужчины увидят ее голые ноги. Пантелей уверил женщину, что внесет ее в реку и окунет сам. Что до голых ног, то предлагал сшить из кож поневу до пяток.
Синеуль стойко перенес окунание в студеную воду, хотя после третьего погружения глаза его стали круглыми и дурными, как у напуганного оленя, губы распрямились в собачьем оскале. Нареченный Николой, не издав ни звука, он пулей выскочил из воды и кинулся к костру.
Глядя на брата, Аська обмотала бедра сшитыми кожами, потоптавшись на месте, сбросила под них штаны и чукульмы, скинула легкую пыжицу[108]. Лука монотонно почитал молитвы. По его знаку Пантелей подхватил на руки тунгуску, вошел по пояс в студеную реку и присел, окунувшись с головой. Аська дико завыла, резво выскочила из намокшей, тяжелой поневы и попыталась вскарабкаться на голову передовщика. Тот еще дважды окунул визжавшую девку и выскочил с ней, обнаженной, вцепившейся ему в волосы. Ватажные громко хохотали.
Аська, нареченная Таисией, быстро пришла в себя, согрелась и оделась. Она посмеивалась над собой вместе со всеми и жеваными березовыми почками плевала в царапины на лице Пантелея, залепляла их смолой.
После полудня промышленные устроили пир с песнями. К вечеру на берегу опять развели костры, пели и плясали — всякий так, как заведено у него на родине. Новокресты, глядя на русское веселье, тоже пели и плясали под хлопанье в ладоши и под напев гудков.
На другой день ватажные отправляли на Турухан добытую рухлядь с Третьяком и пустозерцами. Ныла кручинная печаль в груди передовщика, не хотелось ему расставаться с боевым товарищем. И все не мог понять Пантелей, ради чего тот бросает богатые промыслы, отказывается идти к восходу путем, которым допрежь никто не ходил, ведь Бог давал им великое дело, через которое можно старому помолодеть, а молодому чести добыть.
— Брат! — уговаривал товарища. — И без тебя гороховцы доставят рухлядь купцам. Пойдем, — кивал на восход, — добудем жизнью славу, устроим землям удивление, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Не к тому ли стремились там? — кивал на закат. — А дело верное. Людей своих испытаем, себя добром покажем, за землю Русскую, за веру христианскую постоим.
Говорил Пантелей сокровенное, выношенное под сердцем от самого Дона. Третьяк понимал его, но своей доли терять не хотел: душу за друга положить мог, чуждой судьбой жить — врагу не желал.
Лишь ко Святой Троице спала вода и открылся путь по реке. После Духова дня, когда мать — сыра земля именинница и грех ее пахать, бороздить, тревожить, даже сапогами мять, ватага двинулась вдоль топкого берега, толкая суда шестами против течения. Третьяк с пустозерцами на новом струге с высокими толстыми бортами поплыл с рухлядью вниз по течению, в другую сторону. Те и другие пели одну песнь о том, что у каждого русича первая мать — Мать Небесная, Богородица, а вторая — мать — сыра земля, третья мать — что в родах мучилась. И далеко по воде разносились напевные молитвы, пугая отощавших медведей и всех лесных зверей.
Припекало яркое северное солнце. Попискивали комары и мельтешила мошка, примеряясь к русской крови. Вдоль берегов таяли застрявшие льдины. От них веяло сыростью и осенью. Под деревьями истлевал снег и черными языками сползал по тенистым падям к самой воде.
Через неделю солнце палило так, что у иных ватажных на обгоревших лицах кожа висела лохмотьями. Тунгусы почернели до синевы. К полудню было так жарко, что даже мошка искала тени, зато злобными сворами на солнцепеки вылетали оводы, облепляли лица и руки, влезали в рукава. Не спасали от них ни деготь, ни льняные рубахи, а только кожаные, под которыми в жару ручьями льется пот.
В конце июня, как раз на святую Акулину — вздери хвосты, когда даже в западной стороне измученный гнусом зверь ищет спасения в воде или на ветру, жара выдалась нестерпимая. Случилась же она после ливневых дождей, а потому мошки и комаров так прибыло, что стоило приподнять сетку с лица — гнус забивал рот и нос, лез в глаза и уши. Под сеткой же в жару дышать было невмочь и пот выедал глаза.
Угрюмка на бечеве поскользнулся и упал всем телом в мягкий, пышный мох, зарылся открытым лицом в его прохладную глубину, вдыхая запах мерзлой земли. И захотелось ему лежать так до последнего вздоха: пусть бьют, пусть бросят — лишь бы не подниматься. Поеденный гнусом, утром он не мог раскрыть глаз и разодрал опухшие веки пальцами. Только так и увидел белый свет.
— Вставай! — легонько ткнул его в бок посохом Федотка Попов.
— Не встану! — пробурчал Угрюмка, глубже зарываясь в мох.
— Сгрызут же нас! — завизжал Ивашка Москвитин, извиваясь всем телом и шлепая кожаными рукавицами по щекам. Синеулька, без сетки, держал струг против течения и не мог бросить упертый в дно шест. Он кряхтел от натуги, мотал головой, облепленной оводами. Угрюмка, чуть повернув голову вбок, взглянул на него вполглаза. «Ему в обычай», — подумал со злостью.
И то правда: тунгусов гнус не ел так, как русичей, они и не опухали от укусов. Семейка Шелковников, бросив бечеву, подошел к Угрюмке, не укорил, не обругал, только обхватил под мышки и поставил на ноги. Силен стал молодой устюжанин. С каждым годом становясь все дородней, он все больше походил на медведя. С ним уже никто не боролся.
Угрюмка поплескал в лицо мутной, солоноватой водой реки. Пальцы и щеки тут же облепили оводы. С визгом и рыком он придавил их с десяток разом, злорадно взглянул, как, растопырив крылья, злыдни поплыли по воде, перекинул через плечо бечеву и молча потянул струг, шевеля губами: «О Боже, Боже Великий, Боже Истинный, Боже Благий, Бог Милосердный!»
Вот уж истинно: кто мук не терпел, кто рядом со смертушкой не хаживал, тот Богу не маливался. Поглядывал Угрюмка на друзей, будто впервые видел этих людей: лица вздутые, вместо глаз — щелки. И долго шел он не оглядываясь: стыдился своей слабости, думал с озлоблением: «Чего им всем от меня надо? Отчего не дадут лечь и помереть по своей воле?»
Хрустел под ногами иссохший от жары мох. Деревья от зноя склонялись к земле. Молчали птицы или издавали звуки чужие, жалостливые. И все казалось путникам: вот-вот выскочит из чащи громадный невиданный зверь, подобный тем, чьи страшные кости то и дело торчали из берегов.
А время будто остановилось. Ночи стали короткими: едва начинала потухать заря вечерняя, темная — уж заря утренняя, красная гнала на небо распаленных коней, чтобы раньше разгорался нестерпимый день, чтобы позже на смену ему приходила прохладная ночь. От знойного духа тех коней-дней казалось — вот-вот вспыхнет иссохший лес. Чертыхались уставшие люди, не сумерки заставляли становиться на отдых — изнеможение.
В июле, по завершении петровского поста на апостолов Петра и Павла, приятно похолодало. Примета была плохой, она предвещала голодный год. Но идти стало легче. Отлютовав, пропали, сгинули куда-то оводы, и палящее солнце стало дольше задерживаться за урманом. Петр и Павел — час убавил, Илья пророк — два уволок.
Бечевой и шестами промышленные шли и шли вдоль пологого берега. Путь им преградила упавшая в воду лиственница. Подгнившее или поваленное ветром дерево в здешних местах не редкость, но у этого виднелся подрубленный комель.
Пантелей был в ертаульном струге и первым насторожился. На расстоянии в полет стрелы он свистнул, дал знак остановиться и спросил Синеуля, что бы это значило? Тот присмотрелся к упавшему дереву и пустил в него стрелу из своего тяжелого лука. Из-за ветвей выскочили двое в кожаных рубахах, бросились в лес.
Не первый день промышленные люди чувствовали тайный надзор за собой, внимательно осматривали всякое дерево, всякий камень и бугорок, за которыми можно укрыться. Передовщик спрашивал Синеуля, не его ли сородичи сопровождают ватагу, идут по следу? Тот приглядывался к опасным местам, ноздри его приплюснутого носа раздувались, глаза блестели, будто на миг унималась в них непрестанная боль, отвечал зятю по-тунгусски коротко:
— Эми (нет)!
По ночам новокрест спал меньше всех, прислушивался к звукам леса. Мучили Синеульку злые духи, не давая забыть пережитое в малолетстве. Все чудилось ему, что сидит на дереве рядом с сестрой, смотрит, как гибнут сородичи, как Ульбимчо-сонинг убивает брата и дядю, как момолеи режут и едят их оленей, а у него колотится сердце и не поднимаются руки, чтобы пустить стрелу во врага.
В тот год, пока собиралась по лесам родня Минчака, Ульбимчосонинг с момолеями ушел далеко. До низовий реки докатывались потом таежные слухи, что в верховьях биры они тоже пытались воевать, но там их побили. Родственники Синеуля решили, что в ближайшие годы они не смогут догнать обидчиков и отомстить. Минчаку же дали по оленю от каждой семьи. Следующей зимой случился голод для всех. А Минчак без лучших мужчин и без старшего сына вовсе не добыл мяса, река промерзла до дна — не было ни рыбы, ни птицы. Люди многих родов так оголодали, что стали смотреть на собак и на оленей как на мясо. Чтобы спастись от голодной смерти, Минчак вынужден был заколоть и собак, и оленей. Родственники ушли в кочевья, а его семья осталась возле реки, не смея мечтать о мщении.
Измученная дневным переходом ватага в укромном месте пристала к берегу. Люди стали разводить костер, устраивать ночлег. Холмогорцы, почитав заговоры и молитвы рыбаку — Петру апостолу, опустили в омут плетеные корчажки, взялись ловить рыбу, которая шла на уду легко и охотно.
Насытившись едой и питьем, промышленные легли отдыхать на постели из хвои и листьев. Им было не до разговоров. Иные вскоре засопели. Кто-то всхрапнул. Лишь Нехорошко, зевая и охая, все бормотал, вспоминая, как на Святой Руси народ в эту ночь не спит, а возле родников караулит солнце. Молодежь всю ночь поет и пляшет у костров. Старики, глядя на веселье, подремывают и ждут утренней зари. Русалки этой ночью горазды на шалости, и бабы возле рек сторожат их, не пускают в села и починки.
И так захотелось старому устюжанину встретить старость на родине, вдыхая запахи дома, построенного еще дедом, что, всхлипнув, он сглотнул слезу и уснул с мерцавшей на переносице каплей.
Передовщик выставил караулы. Вышел черед не спать Угрюмке.
— Может, завтра? — проскулил тот, глядя на казака просительно и жалобно. — Нынче русалки, сказывают, злы. — Намекал, что был призорен иртышскими моргуньями.
— У малодушных всегда за плечами кожа чешется, и ночью им не спится! — жестко оборвал просьбу Пантелей. Но пожалел насупившегося молодца и пошутил: — На реку смотри неотрывно. Как какая девка ползком ли, шагом ли к табору двинется — чарам не поддавайся, но, осенив себя крестным знамением, читай молитву Господнюю. А нечисть речную крестом охаживай, чтобы неповадно было смущать нас, умученных суровой долей.
По наказу передовщика Угрюмка залег в секрете вдали от костра так, чтобы можно было просматривать подходы к табору с реки. Укрылся и сам Пантелей. Едва стемнело, Угрюмка стал подремывать, голова его то и дело падала на грудь. Он вздрагивал всем телом, с удивлением вспоминал промелькнувший перед глазами сон, снова таращил глаза на тихую, темную реку, на звезды, которые будто застыли на небе, не двигаясь по великому кругу.
Как на грех, похолодало так, что стал куриться от дыхания пар. Прибило гнус. На стане похрапывали сладко и привольно. Опять мысли Угрюмки стали путаться со снами. Вдруг он испуганно вскинул голову. В яви, в нави ли увидел, как вдоль берега, от дерева к дереву, в короткой перебежке промелькнула тень с длинными, полощущими за спиной волосами. Гулко заколотилось сердце. Угрюмка стряхнул сон, беззвучно читая молитву. Глаза его пристально вглядывались в дерево, за которым скрылась шалунья.
Осенив ее нагрудным крестом, он осторожно запалил фитиль от тлевшего трута и, скрывая огонек полой зипуна, увидел, как три тени с луками в руках метнулись от другого дерева. Тут уж Угрюмка поднял пищаль, заряженную картечью, и, прежде чем вспыхнула затравка на полке, услышал пение тетивы в той стороне, где укрылся передовщик. Ухнула пищаль, высветила снопом огня табор и берег — и тут же все затянулось непроглядным пороховым дымом. Но на таборе уже прогрохотали один за другим два выстрела.
В наступившей тишине Угрюмка торопливо почистил ствол пищали и забил в него новый заряд. Откуда-то сбоку пронзительно, по-казачьи, свистнул передовщик, подзывая караульного. Пригибаясь, волоча за собой ружье, Угрюмка кинулся на условный свист.
Проснувшиеся люди закидали мхом тлевший костер и залегли в круговой обороне. В редевшей ночи светлячками мерцали тлеющие фитили.
— Держи! — одышливо кряхтя, приказал передовщик. Под ним беззвучно корчился связанный тунгус.
Со стороны реки и со стороны леса было пущено несколько стрел. Пантелей бесшумно метнулся к табору. На том ночной бой прекратился. Рассветало.
Неволей или Божьей милостью, как и принято на Руси от старого века, ватажные люди встречали солнце на Петра и Павла. И едва встала на крыло птица заревая да рассветная — Алконост, едва заалел, заиграл, заблистал разными цветами краешек солнца — так, что стало слепить глаза, полетел на запад первый зрелый луч, дружно крикнула ватага апостолам. Гулкое эхо прокатилось по руслу реки.
Осмотрев следы и примятый мох, передовщик велел пострелять картечью по опасным местам, затем позволил всем выкупаться для здоровья и бодрости. Пока одна половина ватаги с оружием в руках следила за лесом, другая бултыхалась в воде.
Купание сняло сон и усталость людей. Холмогорцы вытащили корчаги, набитые рыбой, раздули костры. Пока готовился завтрак, посланные в разные стороны ертаулы вернулись с донесением, что табор окружен. Угрюмка, о котором забыли, обозлился и приволок пленного к костру. Тот, связанный по рукам и ногам, с насмешливым любопытством водил глазами, разглядывая промышленных.
— С ним-то что делать?
— Погоди, — озабоченно отмахнулся Пантелей, отдавая распоряжения.
Отбитые при ночном нападении тунгусы подтянулись к стану и постреливали из-за деревьев. Передовщик наказал двум чуницам валить лес и делать засеку, остальным завтракать.
Еще до полудня берег реки с дымящими кострами превратился в крепость. Наваленные одно на другое деревья защищали как от стрел, так и неожиданных нападений.
Расставив караулы и отдуваясь после спешной работы, передовщик наконец-то вспомнил о пленном. Угрюмка со скучающим видом сидел под кромкой берега и держал в руке конец бечевы, которой был связан тунгус. Неподалеку за вывернутым корневищем укрылась Аська, оберегая руками большой живот. Она старалась не мешать мужчинам в их делах и не быть обузой. Те же заботы виделись на мордах ее собак, тихо лежавших рядом.
По зову передовщика явился Синеуль, рубивший засеку. Когда он увидев пленного, глаза его блеснули, лицо напряглось, и распрямились губы. Толмач спросил, какого тот роду-племени, выслушал ответ, и на голых щеках вздулись желваки.
— Нюрюмня[109], — презрительно бросила Аська.
Неприязненно разглядывая плененного, она очень походила на брата.
— Спроси, зачем напали? — велел передовщик, устало отмахиваясь от наседавших комаров. Как ни плохо он знал тунгусскую речь, но понял, что Синеуль допытывается, есть ли среди нападавших момолеи и сонинг Ульбимчо.
Пленный что-то презрительно ответил. Брюхатая Аська резво выскочила из укрытия и вцепилась обгрызенными ногтями в его длинные волосы. Синеуль впился пальцами в глотку врага. Передовщик, удивляясь их ярости, освободил полузадушенного тунгуса, вращавшего испуганными глазами.
У того из-под замшевой рубахи вывалилось серебряное блюдо, которое он носил на груди на кожаной тесемке, как иные русские люди носят складни[110]. Пленному блюдо служило панцирем, защищавшим грудь от стрел и колющего оружия. Посередине его с редким мастерством был изображен невиданный в здешних местах конь со всадником, в шапке, похожей на старокняжеский венец. В руке его был длинный палаш, которыми обычно вооружались остяцкие менквы.
Пожурив свояков за горячность, Пантелей снова велел толмачу спросить, зачем на них напали сородичи пленного. Тунгус, испуганно поглядывая на Синеуля и Аську, залопотал, что ватажные люди каждый вечер выдирают из земли траву. Пантелей прищурил глаз, поскреб рубец под бородой, вопросительно взглянул на толмача. Тот пояснил:
— Трава — волосы Земли, их резать надо. Если драть — Земле больно, и она мстит всем.
Сбив колпак на лоб, Пантелей рассмеялся.
— И то правда! Выдираем! — согласился. — А что прежде не сказал? — кивнул толмачу.
Тот вместо ответа пнул связанного и просипел:
— Чужое добро грабить хотели! Травы мы совсем мало драли!
Пленный был в каком-то непонятном для русичей родстве с момолеями, что сильно злило Аську с братом. На вопросы, кто у них сонинги и шаманы, он называл имена, которые ни о чем не говорили ни сибирцам, ни Синеулю.
Передовщик уже с досадой подумывал, что делать с тем пленником: ни убивать его не хотелось, ни караулить. Синеулька продолжал пытать тунгуса о своих врагах. Пленный назвал биру Илэунэ и живущий там народ йохо, среди которого будто скрывался Ульбимчо.
Пантелей снова стал задавать вопросы, на которые тунгус отвечал с явной охотой. У промышленных, разглядывавших серебряное блюдо, горели глаза. Пленник рассказал, что у верховий этой реки, за горой, течет на полночь другая полноводная река. По берегам ее живут бородатые, не лесные народы, которые держат много скота, пашут землю, покупают соболей и торгуют железом. Тунгусы хоть и считают их заклятыми врагами, но ездят к ним для торга и меняют соболей на железо, скот и всякие украшения.
— Это у них взяли? — спросил передовщик, указывая на серебряное блюдо.
— Ээ-э (да)! — ответил ободренный вниманием пленник.
За спиной передовщика прокатился удивленный гул. Блюдо пошло по рукам, изумляя промышленных. Уже никто не спорил, что беглецкая, промышленная ли, или древняя Русь где-то близко. И только Федотка Попов, разглядывая серебро, бормотал:
— Не Индия ли рядом? Там, сказывают, дороги золотом мощены.
— А мужик-то наш, — вскрикнул Нехорошко, ткнув пальцем в чеканный рисунок. — Кольчуга наборная до колен. Так в давнюю старину носили. — Присмотревшись, проворчал: — Всадник отчего-то лупоглазый — не грек ли?
— Без сапог, в поножах? — удивленно поскреб затылок Федотка.
Передовщик раздраженно отобрал блюдо, впился взглядом в чеканный рисунок. Собравшиеся загалдели:
— В поножах или в сапогах… Ты на кедрине свою рожу вытеши — еще посмотрим, лупоглазой, узкоглазой ли выйдет личина… А тут серебро, тонкая работа…
Пантелею не хотелось слушать спорщиков, нутром чуял — рядом исконная прадедовская Русь: не вся передралась и осквернилась предательством.
Федотка Попов ласково спросил пленного, сколько хода до йохов. Тот отвечал, что за лето на хороших оленях их люди доходят до бикитов. Поспрашивав у Аськи и Синеуля, что такое «бикиты», он к бурной радости собравшихся получил ответ, что бикиты — деревянные дома, как у лучи.
— Бикиты — хорошо! — вздохнул кряжистый сивобородый гороховец, напоминая о делах дня. — А то, что мы в осаде, — плохо. Так ведь и до холодов продержат.
— Господь не выдаст, — перекрестился передовщик и, возвращаясь к заботам, велел приковать пленного к дереву аманатской цепью да собирать на сход всех свободных от караулов. Промышленные пригласили на круг и Синеуля.
Помолившись да откланявшись на восход солнца, Пантелей стал говорить зычным голосом:
— Куда ни посланы были ертаулы — везде натыкались на засады тунгусов с луками и рогатинами. Сил их мы не знаем, напасть на них не можем. За ними по лесам гоняться — только время терять и головы: завлекут и перебьют поодиночке. На открытое место для боя они не выйдут… Подумайте, братья, как быть? — спросил и сел под дерево, ожидая советов.
— На другой берег переплыть, — сказал Лука Москвитин. — Пока они с оленями да со скрабом переправятся, мы далеко уйдем.
— Скорей, и там нас караулят, — недослушав, нетерпеливо оборвал его Пантелей. — Отчалим — стрелять станут. К тому берегу пристанем — опять стрельба. Новую засеку к ночи рубить придется.
— Плыть по реке обратно! — неуверенно пробурчал Нехорошко, дергая головой, а сам воротил в сторону виноватые глаза. — Столько волоклись… И все зря, — добавил хмуро.
— Оставались бы в зимовье, вторую бы зиму промышляли с Божьей помощью, — прогнусавил Тугарин, непонятно кого укоряя. — Эка невидаль — соболишко ушел. Придет! Вдруг — и зимовье цело…
Зашикали, загудели люди, недовольные словами холмогорца.
Попросил слова Сивобород — покрученник из распавшейся гороховской ватаги, снял шапку, перекрестился, сказал, вдумчиво оглядывая лица собравшихся:
— Если дружные нам низовые тунгусы-одигоны пошли войной на здешних, а мы вернемся, они нас пожгут: без нас победят — пожгут от презрения, вернутся побитые — пожгут за бесчестье. Станут грабить по нужде и по ненависти и промышлять на прежних местах не дадут. Надо или возвращаться в Туруханское зимовье, или идти вперед, как Бог вразумит.
Передовщик стал пытать Синеуля, можно ли вернуться в старое зимовье. Тот, будто забыв русский язык, поднимал к небу печальные глаза, топтался на месте, невнятно бормотал:
— Эми (нет)!.. Эру (плохо)! — Зачем-то твердил, что надо ждать три дня.
Не зная, что предпринять, передовщик объявил три дня отдыха.
Менялись дозорные, постреливая в места, откуда вылетали стрелы. Праздник и в осаде праздник. По окончании петровского поста в засеке устроили баню по-промышленному. Недоспавшие да те, кому идти в караул, отсыпались перед короткой северной ночью, которую для счастья и удачи надо было провести с песнями и плясками.
Милостью святых апостолов к вечеру показались на воде ветвистые рога лося. Под крики и возгласы промышленных двое холмогорцев на берестяной ветке[111] быстро догнали плывшего зверя и застрелили боевой стрелой из тунгусского лука. Пока лось не утонул, они накинули петлю на его рога и стали подгребать к берегу. Ветку сносило много ниже засеки.
Осаждавшие явно наблюдали за рекой, но стрельбы из леса не было. Отряд с заряженными пищалями со всеми предосторожностями двинулся берегом. Промышленные пробирались тайком, скрываясь от вражеских стрел. И, как оказалось, не напрасно.
Ветку со зверем снесло на четверть версты. Едва холмогорцы выскочили из нее на песчаную отмель, к берегу выбежали десятка полтора тунгусов в коротких кожаных рубахах, пустили стрелы в добытчиков. Те залегли за тушей зверя, застрявшей на косе, пустили по боевой стреле в ответ. Тут и подоспели промышленные, залпом из пищалей отогнали нападавших.
Лось оказался большим и тяжелым. Уволочь его по воде против течения не хватало сил. Холмогорцы наспех расчленили тушу, сложили мясо в ветку, просевшую до самых краев, и с помощниками бечевой дотащили ее до засеки.
Никто не был ранен, но все мокры с головы до ног. Ходившим на вылазку тут же дали лучшие места у огня, напоили горячим отваром из трав. Все свободные от караулов стали разделывать мясо и отделять его от шкуры.
Синеуль с сестрой со знанием дела очистили голову лося, вынули язык и отделили рога. Аська стала азартно перебирать внутренности, откладывая лакомые куски. Ей заметно мешал выросший живот. Промышленные беззлобно пошучивали над ней и передовщиком. Но брюхатую девку их насмешки ничуть не смущали. Она с гордостью выпячивала живот, показывая, что скоро станет настоящей женщиной. Серебряным колокольчиком звенел на стане ее смех. Осада Аську не пугала, бесконечный путь не страшил, она была вполне довольна жизнью.
Вскоре на углях зашипела печень, стали печься почки и грудинка. Ватажные, выкопав яму и выложив ее камнями, развели огромный костер. Они собирались испечь сразу все мясо.
Два дня ватага пировала и веселилась на зависть врагам. На третий ертаулы донесли, что осаждавшие ушли: то ли коварство задумали, то ли нужда заставила отступить. Передовщик какое-то время не решался продолжать путь, посылал в разные стороны ертаулов, но те возвращались, никого не встретив.
После полудня Пантелей снова собирался отправить людей на вылазку, но к засеке верхами подъехали тунгусы с поднятыми луками. В них ватажные узнали старого Минчака с сыном Укдой. Лица гостей сияли, старик даже помолодел. Печальник Синеуль, глядя на них, пытался улыбаться, распрямляя губы.
Поговорив с передовщиком и родственниками, гости объявили, что пришли не одни, а со многими родами: напали на давних своих врагов и победили их. Встречены были гости радостно и ласково, обильно угощены мясом и рыбой. Их звали ночевать, но они спешили к своим станам, где делилась захваченная добыча. К вечеру, забрав пленного тунгуса, Минчак с сыном уехали в глубь леса. Путь на восход был свободен.
Передовщик, поглядывая на шуряка, вспоминал, как оживилось его лицо, когда пытали пленного, и удивлялся, что встреча с родственниками не развеяла печали. Заметил он и то, что Минчак с Укдой смотрели на Синеуля с жалостью, как на пропащего и безнадежного.
За время, проведенное в ватаге, тунгус выучился говорить по-русски, к Пантелею относился по-родственному, называя его зятем — ибде, по-своему любил сестру и ждал, когда придет ей срок разрешиться от бремени. По обычаю многих сибирских народов, дядья любили и почитали племянников больше, чем собственных детей.
Не раз подступался Пантелей к Аське с разговором о младшем брате. Жалея его, она пыталась объяснить, что из Синеуля ушел другой Синеуль, которого не видно. Не умея растолковать мужу причину скорбного вида брата, она сердилась и оттого яростно чесалась.
— Со страха душа отлетела? — выспрашивал он, желая помочь найти нужные слова.
Аська смотрела на мужа пристально, грустно качала головой, то соглашалась, то не соглашалась, шумно выдыхала воздух, указывая под нос.
— Юла[112], — бормотала, цокала языком и говорила, мотая головой: — Синеуль здесь, а кут[113] Синеуль — там, — указывала рукой то на землю, то на небо или в полуночную сторону. — Кут могут обидеть, сделать больным, взять в плен, и тогда Синеуль из мяса и костей умрет.
Коротко сибирское лето. На первый Спас обильно поплыл по воде желтый лист. Еще вчера казавшаяся сочной, зелень берегов поблекла. В считанные дни пожелтели, стали осыпаться лиственницы. Разом началась короткая и яркая северная осень.
По подсчетам ватажных людей, они прошли по неведомой реке больше сорока поприщ, но она оставалась так широка и глубока, что не было никакой надежды добраться до истока к зиме. По берегам ее люди примечали много зверя и птицы, непуганая белка шишковала едва ли не на каждом дереве.
К третьему Спасу, в середине августа, увидели они скалистую сопку с крутым, срывающимся к воде берегом. Осмотрев ее со всех сторон и лес поблизости, решили здесь зимовать, устраиваясь надежно и неторопливо — не как в прошлый раз. Люди выгрузили поклажу из стругов, наспех навалили засеку, сделали шалаши и балаганы, постояв день и другой на одном месте, разведали окрестности. Признаков опасности не было, урыкитов поблизости не нашли, по всем приметам можно было надеяться на добрые промыслы и спокойную зимовку.
На Успенье Пресвятой Богородицы с крестами и образами промышленные обошли место, где решили поставить зимовье. Затем, наложив на себя трехдневный пост без хлеба и кваса — на ягодах, орехе, корнях и сосновой заболони, принялись за строительство.
Целую неделю они занимались самой трудной работой: валили лес, расчищали поляну под зимовье. Вдруг крикнул, замахал руками дозорный, указывая на реку. Передовщик взошел на скалу и увидел два струга, которые по-русски, бечевой, тянули бурлаки. Весной через Третьяка ватажные передали купцам свое согласие принять до десятка бывших гороховских промышленных. О них уже и думать забыли, считая, что в лучшем случае те могли занять их прежнее, пустовавшее зимовье. В то, что гороховцы нагонят ватагу к осени, не мог поверить даже Сивобород.
Побросав топоры, промышленные побежали встречать гостей. Передовщик опоясал кожаную рубаху, надел казачий колпак, повесил на бок саблю и с чуничными атаманами за спиной спустился к реке.
— Здорово живете, православные! — радостно закричали прибывшие. — А мы вам ржи приволокли да соли и круп.
— Что в старом-то не зимовали? — обнимая знакомых, расспрашивал Сивобород.
— Одни головешки застали! — шепелявя, выступил вперед тот самый гороховец, что прошлым летом неласково встречал ватажных на устье реки. Он заметно постарел за прошедший год.
— Недопил из нашей фляги на Спас? — пошутил передовщик, глядя на него приветливо.
— Недопил! — согласился тот, шамкая впалыми губами. Зубов у него стало еще меньше. — Если нальешь другую — выпью за твое здоровье. А зовут меня Михейка, по прозванью Скорбут[114].
— Нет бы неделей раньше прийти! — пожурил ватажку передовщик. — Мы уж лес навалили.
— Так поможем зимовье поставить.
— А как добром вас звали промышлять заодно! — не удержался Нехорошко, чтобы не припомнить зла.
— Отслужим былой грех! — смущенно выкрикнули со стругов и стали выгружать мешки на берег.
— Слава тебе, Господи, догнали! Не в одиночку зимовать.
— Кабы сразу была ватажка в сорок удальцов — и нам бы легче! — кивал передовщик. — Отдыхайте. Завтра вам лес валить еще на одну избу.
В середине сентября, на Никиту-гусятника, зимовье было поставлено. За крепким лиственным тыном укрылись две избы с нагороднями, баня и лабаз. Промышленные неспешно достраивали сени, передовщик с подручными сушил еловое дранье на лыжи и нарты.
Пока рубили зимовье — рыба и мясо не переводились. На берегу застрелили двух медведей. Гороховцы и туруханцы сочли это хорошей приметой перед промыслами. Давно уже смирились, не воротили нос от медвежатины привередливые в еде устюжане, только медвежьи головы не позволяли заносить в зимовье.
Выпал снег, покрыв землю вершка на два. Передовщик разослал во все стороны ертаулов смотреть следы. Те вскоре вернулись. Соболя они видели множество, загоняли его на деревья, легко добывали стрелой. Был здешний зверек рыжеват, но не пуган. А мех до холодов еще не вылинял. Но не было радости в глазах вернувшихся людей: вниз и вверх по реке появились тунгусы, в лесу они нашли настороженные самострелы.
Как здешние кондагиры поведут себя, когда вернутся из леса их олени: уйдут ли ко времени промыслов или станут мстить за обиды — об этом гадали и спорили. По приметам и следам выходило, что побежденные не смирились с поражением, но собрали много сородичей, чтобы воевать с низовыми тунгусами, а значит, и с промысловой ватагой.
* * *
На Святой Руси Покров не лето, Сретенье не зима. В полуночном же краю и лешему не разобрать, какая погода будет на следующий день. До бабьего лета два раза падал снег, но таял. И всякий раз после заморозков отходила мошка и лютовала едва ли не по-летнему. На преподобного Сергия[115] зимовье на пол-аршина завалило снегом, на другой день пошел дождь, а среди ночи ударил мороз и сковал растаявшую слякоть.
Ранним утром Угрюмка по нужде выскочил из избы, сделал шаг, другой и заплясал между баней и сенями. Притом он так лихо махал руками, так бойко выбрасывал ноги, что ватажные диву давались, высовываясь из распахнутых дверей. И только когда молодец шлепнулся на четвереньки и пополз к избе на карачках, все поняли, что пляска была невольной.
Ивашка Москвитин, посмеиваясь над дружком, с гиканьем скакнул с порога в бахилах, подшитых лосиной кожей, покатился, не доехав с сажень до бани, тоже замахал руками, стал извиваться, как змей на сковороде, и так же, на четвереньках, пополз к отхожему месту.
Смех в избах стих. Из прируба высунулся передовщик, зевнул, поскребывая пятерней грудь, поводил босой ногой по наледи. Вытянув шею, взглянул на нагородни, крикнул караульному:
— Если везде так — иди грейся!
Он еще раз зевнул, крестя бороду, мотнул нечесаной головой, поглядел на небо, на распахнутые двери изб. Над трубой его прируба закурился дымок.
Старики стали посыпать двор золой из очага. Кто за дровами, кто в лабаз, люди начали ходить, придерживаясь за стены. Задымили трубы в избах, начался непутевый предпраздничный день. Перед Покровом передовщик приказал всем ватажным чистить избы, конопатить дыры, менять постели, топить баню, париться и мыться.
Запас мха был в дровянике, там же лежали кучи чурок и щепок, оставшихся после строительства. За водой, за ветками для свежих постелей, за льдинами в окна надо было как-то спускаться к реке, идти в лес. Из-за бывшей оттепели прежние льдины растаяли и вывалились, в избах было темно от заткнутых окон.
Кто выворачивал чуни мехом наружу, кто плел лапти. Так и ходили к лесу и к реке. Весь день только и было разговоров: если лед покроется снегом — быть голодной зиме; не будет снега на Покров — не быть счастью и удачам. И так плохо и эдак не лучше. И не понять Промысел Божий: где гнев, а где Его милость.
К вечеру, набившись в одну избу, промышленные стали молиться истово, пели громко. Их голоса уносились в распахнутую дверь по долине реки, к высоким, ясным, холодным звездам.
— «Царица Небесная… покрой нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
И услышаны были молитвы. В день Покрова к полудню лед растаял, расправился и зазеленел по-весеннему мох, а к вечеру пошел снег.
Теребили бороды кичижники, размышляя, какой зимы ждать при таких чудных приметах. Ржаного припаса было мало: впроголодь до осени не растянуть, толокна да круп и того меньше, масла постного да меда — до Рождества только. Ни погоды к промыслам, ни покоя — немирные тунгусы кругом.
На другой день после Покрова, на мучеников Киприана и Устинью, помощников и заступников от бесовских чар и соблазнов, с западной стороны показались люди с навьюченными оленями. И было их так много для обычной охоты или для родовой перекочевки, что караульный тревожно засвистел, призывая к оружию.
Передовщик с саблей в руке вскочил на нагородни, глянул на закат и велел готовиться к бою. Ватажные заняли места к обороне, опоясались тесаками, заткнули топоры за кушаки. Уже была подсыпана натруска на полки ружей, дымили принесенные из избы головешки, а тунгусы беззаботно приближались и приближались. Одних только завьюченных и ездовых оленей было до полусотни. На иных сидели старики, женщины и дети. С полсотни тунгусов с луками и рогатинами шли пешими. Едва они подошли к краю леса, передовщик велел запалить фитили и тут же отменил наказ.
— Здешние тунгусы скорей сами под пули полезут, чем подставят своих оленей! — пробурчал в бороду.
Неспешно на нагородни поднялся Синеулька. Пенда, обругав его за медлительность, кивнул на подступавших.
Щуря на ветру зоркие глаза, толмач сказал с обычной мрачностью:
— Свои, одигоны! — и указал рукой на двух отделившихся от стана.
Гости уже остановились у кромки леса на просеке, где ватажные валили деревья для зимовья, а из сучков сложили поленницы. Там тунгусы стали распрягать оленей. Присмотревшись к ним, Пантелей узнал Минчака с Укдой. Он обернулся, свистнул, махнул рукой, успокаивая всех стоявших с пищалями и луками. Распорядился:
— Угрюмка с Сенькой — к воротам! Холмогорцы с устюжанами — встречать гостей. Гороховским и туруханским быть в дозоре.
— А тебе с толмачом родню потчевать! — язвительно усмехнулся поперечный Нехорошко, влезший на нагородни безоружным. Его лицо было распалено жаром очага. Усы и бороденка блестели от жира, редкие волосы на темени шевелились от устойчивого ветра. Он готовил обед.
— Глаза-то протер бы! — неприязненно взглянул на него передовщик. — Да рыбы напек бы по-устюжски, чтобы было чем хвалиться перед послами.
Польщенный Нехорошко, поворчав для острастки, крикнул во двор:
— Семейка! Сними с лабаза щук ладных с полдюжины! — И стал спускаться с нагородней по лестнице, лицом к избе. — Да налимов мелких… Да брусники, — распорядился, ступив на землю. — Да дверь лабаза закрой плотно. Не как прошлый раз!
Среди разбивавших стан тунгусов Пантелей разглядел долговязого шамана Газейку. На голову выше всех, он был в простой короткой парке, с длинными в пояс волосами, откинутыми за спину. С двумя помогавшими ему женщинами шаман ставил чум — дю.
— Пошли к родне! — Пенда весело кивнул Синеулю и спрыгнул с нагородней. Поймав на себе насмешливые взгляды, прикрикнул властно: — Почетных послов встречают за воротами! — Иди! — толкнул толмача. — Ивашка, Федотка — сопроводите!
Угрюмка вытащил из паза закладной брус, распахнул ворота. Навстречу гостям вышли передовщик с толмачом. За ними следовали Ивашка Москвитин и Федотка Попов с тесаками на поясе. Тонкие губы толмача печальной подковой гнулись к подбородку. Но чем ближе подходили родственники, тем больше они распрямлялись: с духом, без духа ли в теле, толмач тоже радовался встрече.
От имени своего народа послы приветствовали промышленных важно и степенно. Они были богато одеты: старик в песцовой парке, сын — в рысьей. Минчак своим видом показывал, что не желает путать родство с делом. При этом так старался, подражая шаману Газейке, что со стороны казалось, будто передразнивал его.
Послов ввели в избу, по русским понятиям — битком набитую людьми. Горел очаг, шипели котлы, Нехорошко покрикивал на молодых приварков, требуя то дров, то подручной помощи. Гостей усадили за стол. Под образами, в красном углу воссел на сундук передовщик. По правую руку от него — Лука Москвитин, по левую — Федотка Попов и толмач. Дальше расселись по чину чуничные атаманы, своеуженники и старые промышленные.
Когда послы утолили первый голод, передовщик стал расспрашивать их о кочевье и делах, об оленях и здоровье людей племени. Синеуль бойко переводил ответы отца, Пантелей самодовольно замечал, что и сам понимает Минчака. Иногда даже точней толмача переводил его ответы.
Выяснилось, что одигоны удачно воевали с тэго кондагирами[116]. В войне они добыли много добра, оленей и ясырей. Теперь и у Укды, и у Минчака есть жены. Хотя найти момолеев и сонинга Ульбимчо им не удалось, одигоны с лихвой воздали за былые обиды их родственникам. О момолеях старик говорил спокойно и даже с грустью: он считал себя отомщенным. У Синеуля от его слов глаза смеживались в две щелки, рот сжимался в птичью гузку, а на лице выступали красные пятна. Думая о своем, толмач сбивался, мычал, переспрашивал отца, то и дело забывая его ответы.
— Духи подолгу не любят помогать одним народам! — с грустью изрек Минчак и заерзал на непривычной для его тела скамье. Заскоблил длинные, седые, рассыпавшиеся по плечам волосы, почесал грудь под паркой. В избе было душно и жарко, но лучи сидели в рубахах и кафтанах.
Передовщик насторожился, понимая, что начинается важный разговор, ради которого пришли тунгусы. Он глядел на Минчака пристально, обратившись в один неподвижный взгляд, и тот продолжил докучливым голосом:
— Кондагиры собрали родственников, и теперь они сильней низовых тунгусов. Случился гололед — олени разбежались от голода. Те, которых нашли и запрягли, — разбегутся, как только их выпрягут.
— Вы пришли спасаться от врагов? — резко спросил передовщик.
Вместо прямого ответа старик стал обстоятельно рассказывать о реке за горами в стороне полуденного солнца, которая течет так же, как здешняя, и впадает в великую бири Иоандэзи. Промышленные оживились, стали выспрашивать о той реке, и старик охотно отвечал им. По его ответам можно было понять, что попасть туда можно только из верховий Тунгуски, которая уже повернула на полдень.
Пантелей Пенда раз и другой досадливо задал Минчаку все тот же прямой вопрос. На него зашикали своеуженники и лучшие люди: чего, дескать, пристаешь к старику — и так понятно, что тунгусы пришли за защитой. Иные из промышленных встали с мест, обступив гостей, и выспрашивали о народах, живущих в верховьях. Передовщик с Синеулем сидели понуро, думая каждый о своем.
Неслучайно заподозрил Пантелей Минчака в тайных помыслах. Едва утихли возбужденные расспросы о неведомой реке, он снова стал пытать старика. И тот, отдуваясь, признался, что сородичи надумали породниться с бывшими врагами. При этом он с важным видом обвел ватажных многозначительным взглядом.
— Так-то вот! — передовщик с кривой, леденящей усмешкой в бороде укорил разговорившихся промышленных. — А вам все «бири» да «тагауны»[117] …Вот породнятся они — да на нас все вместе войной пойдут? — Пристально взглянул на толмача, сидевшего с окаменевшим лицом струганого болвана, и спросил его резко: — Могут?
— Так и сделают! — внятно и жестко ответил Синеуль, сверкнув щелками глаз.
В наступившей тишине, при насторожившихся взглядах русских людей, тунгусские послы подумали, что неправильно поняты. Минчак стал оправдываться, приглашая почетных лучи на волхование.
— Завтра на шэвэнчэдэк[118] шаман будет спрашивать духов леса, неба и земли, можно ли родниться со старыми врагами. Не одигоны и хангаи решают такие дела, а духи.
Аську передовщик в избу не приглашал. Закончив разговор с послами, он повел их в свой прируб — теперь уже как свояков. Аська сидела на корточках возле чувала и смотрела на огонь. На нарах была постелена шкура, на ней в деревянных плашках стыли рыба и мясо.
Она сильно переменилась. Уже не слышался ее смех, на ласки и шутки Пянды, как звала мужа, часто отвечала неприязненно. Все свободное время сидела, обхватив руками живот, тихонько пела для своего еще не рожденного ребенка и часто всхлипывала, будто жалела его. В том, что родит сына, а не дочь, она не сомневалась.
С неделю назад Пантелей проснулся, услышав ее голос, открыл глаза. Аська сидела у раздутого очага, тихонечко пела.
— О чем песня? — спросил он шепотом. Хотел приласкать ее и развеселить. На земляном полу, на лапнике крепко спал Синеуль.
— Об олененке, который впервые вышел на берег реки, — ответила она тихо. — С ним была мать-олениха, — всхлипнула, и слезы покатились по щекам.
— Плакать-то зачем? — попытался привлечь ее к себе Пантелей. Аська оттолкнула его руку и вскрикнула:
— У сына Пянды нет оленихи. Он совсем один!
Ничего не понял Пантелей. Старые промышленные, посмеиваясь, поучали, что и русские бабы на сносях вредны и заносчивы: редко какая с брюхом бывает весела и ласкова. Такой жене цены нет.
С сердечной тоской вспоминалась ему певунья Маланья, и греховно ныла душа от той памяти, будто не отпустила ее бывшая полюбовная девица.
На этот раз Аська заждалась родственников, она так обрадовалась отцу и брату, что счастливым видом напомнила передовщику времена их знакомства и первых месяцев жизни. Женщина усадила всех на шкуры, стала угощать. Родственники, отдуваясь после съеденного в избе, с облегчением сбросили парки, почувствовали себя свободней.
Аська со скрытыми слезами в голосе стала им что-то говорить, да так быстро, что Пантелей не мог уловить смысла. Синеуль, слушая сестру, все ниже и ниже опускал скорбное лицо. Опять его губы печальным полумесяцем гнулись к безволосому подбородку.
Старик, слушая дочь, пятерней расчесывал длинные волосы, расправляя и раскладывая их по сухим плечам. Он заговорил вдумчиво, старательно выговаривая каждое слово, как для ребенка. Пантелей стал понимать, что Аська жалуется, но не на мужа, а на то, что у Пяндиного сына нет какого-то «умая».
Передовщик вертел головой, бросая взгляды на Синеуля. Тот, будто и не слушал родичей, думая о своем. Минчак же предлагал дочери на другой день приехать на шэвэнчэдэк и просить шамана, чтобы тот зазвал «умай» Пяндиному сыну.
— Экун умай?[119] — спросил передовщик, поглядывая на Аську и ее родственников.
Она силилась что-то сказать и не могла. Синеуль попробовал объяснить, Пантелей и его не понял.
— Душа, что ли? — Постучал кулаком в грудь. — Кут? Который от тебя сбежал?
Тунгусы беспомощно запереглядывались. У Аськи ручьями потекли слезы по щекам.
— Большой илэ[120], старый илэ — кут! — Всхлипывая и вытирая слезы, она, как и Пантелей, постучала себя в грудь. — Маленький илэ, — погладила свой живот. — Умай. Нет умай, кто защитит маленького илэ? Кто с ним играть и говорить?
Наконец-то Пантелей понял, что все Аськины страхи и слезы оттого, что, по ее понятиям, у ее ребенка нет берегини, или ангела-хранителя. Когда-то мысль, что новорожденный останется без ангела, беспокоила и самого передовщика. Но Лука Москвитин, как смог, окрестил Аську и обещал крестить младенца.
— Скажи, — кивнул Синеулю, — окрестим сына и будет у него умай.
Из избы доносились песни и смех. Ватажные веселились, полагаясь на милость Господа и мудрость передовщика. Пантелей завидовал их беззаботности. Взглянув на скорбных свояков, он чертыхнулся и хотел уже схватиться за шапку — молчать да печалиться могут без него. Но Аська так жалостливо взглянула на мужа, что он сел. Похоже, от него ждали ответа — позволит ли жене с младенцем принять берегиню от шамана.
Пантелей пожал плечами: отчего бы не поволховать, вдруг поможет. Грех, конечно, но грех отмолимый. Глядишь, и повеселеет бабенка. Без того забот полон двор: одни тунгусы, с которыми едва успели замириться, втянули в распри с другими.
— Пусть шаманит! — разрешил.
Аська вспыхнула и повеселела. Минчак заговорил привольней, Укда рассмеялся, поглаживая племянника через живот сестры. И только Синеуль со скорбным лицом претерпевал свою безысходную печаль.
Судя по разговору с Минчаком, шаману было заплачено за все разом. Завтра он попробует вернуть бежавший от Синеуля кут, блуждающий где-то среди таких же беглецов, злых и добрых духов.
— Я видела во сне твоего сына, которого не видно! — ласковей пояснила Аська, все еще в чем-то оправдываясь. — Он плакал, что у него, у маленького, нет умай-ене.
Минчак, лениво обгладывая кость, стал объяснять зятю, что у илэл берегиня попадает в чрево матери вместе с зародышем и до того, как ребенок начнет говорить, бережет его, разговаривает с ним, поет ему песни. Оттого-то младенец смеется и плачет во сне. А когда ребенок начинает говорить, в него входит кут. Кут и умай не живут вместе: умай навсегда уходит, прощаясь с повзрослевшим ребенком, как олениха навсегда прощается с подросшим олененком. А кут живет в плоти до самой смерти. Он растет и умнеет вместе с человеком, а после выходит из умирающего тела.
— И у нас так же! — пожимал плечами Пантелей. — Бог дает младенцу душу и судьбу. Крещение — ангела-хранителя.
Но Аська упорно не хотела называть кут душой, а умай — ангелом-хранителем. «Ну и ладно! — думал передовщик. — Что с них, с диких, взять?» Ему стало легко, будто камень с души сняли. «Не позволить страдающей роженице идти к шаману, что же в том праведного?»
Со святого мученика Ерофея[121] зима шубу надевает. Ватажные, сидя по избам, заканчивали последние приготовления к промыслам, опасливо поглядывали на лес и рассказывали чудные истории. Старые сибирцы, туруханцы и гороховцы за свой век насмотрелись всякого. Народ лихой и бесшабашный, однако уверяли, что в этот день доброй волей их в лес не заманишь ни мартовским пивом, ни крепленой бражкой: лешие, или тайгуны, переломают кости хуже медведя. Кому приходилось быть в лесу в одиночку, те слышали крики, свист, треск и грохот деревьев, хохот и улюлюканье нечисти, видели перепуганное зверье.
Промышленные чинили обувь, латали шубные кафтаны. Сивобородый гороховец, подслеповато щурясь, насаживал тупые наконечники на стрелы и вспоминал, как сбился в счислении и оказался в этот день один в верховьях Таза-реки. Он неторопливо рассказывал, а каждую приготовленную им новую стрелу пускал из лука Ивашка Москвитин.
Стрелял молодой по кожаной подушке, набитой шерстью, ее положили на мох в полусотне шагов от зимовья. При этом Ивашка терпеливо отмалчивался, слушая азартные советы и насмешки трех десятков учителей. Ни одна стрела не уходила мимо подушки. Через равные промежутки времени слышался гулкий шлепок. Затем с другого берега реки отзывалось эхо. Но в намазанный сажей круг, обозначавший соболью голову, стрелы все никак не попадали.
— Видать, глаз крив! — ругал молодого родственника Нехорошко.
— Зачам жилы рвешь? — брызгая слюной, шепеляво поучал Михейка Скорбут. — Поймал пятно — и пущай! Если боишься промахнуться — ни за что не попадешь!
«Уп!» — ударяла по подушке стрела. «Уп!» — отзывалось с другого берега. Красные пятна выступали на Ивашкином лице. Вкладывая зарубку на тетиву, он метал на поучавших его стариков разъяренные взгляды. Пантелей насмешливо ждал, когда острый на язык молодец или бросит лук, или станет дерзить. Хотелось и ему дослушать Сивоборода, хоть тот, плутовато ухмыляясь в бороду, лгал явно. Но солнце поднялось уже на две ладони, и настала пора идти на стан к тунгусам. Передовщик окликнул Федотку Попова. Синеулька с Аськой, уже собравшиеся в путь, ждали в прирубе.
День был ясный, но с восточной стороны наползали тучи. Четверо вышли из зимовья. Ворота за собой передовщик велел заложить брусом.
— Гляди накрепко! — задрав голову, приказал караульному на нагороднях. — Вдруг дам знак — всем идти на выручку. Луку почитать как старшего и во всем слушать.
Дозорный кивнул, не отрывая глаз от подушки с шерстью. «Уп!» — ударила по ней стрела.
— По ушам! — крикнул он с нагородней, имея в виду намазанную сажей соболью голову.
На краю просеки в двухстах шагах от частокола были поставлены полтора десятка островерхих чумов, крытых шкурами и кожами. Посередине стоял высокий балаган. Возле него на жердине висела шкура лося с копытами и с рогатой головой. По бокам от нее стояли тесаные болваны из свежих пней. На кол был надет огромный бычий череп с длинными гнутыми рогами — из тех, что вымывала река.
На стане горел большой костер. Возле огня суетились женщины. Над стойбищем висел праздничный дух паленой шерсти и пекущегося мяса. Навстречу гостям вышли Минчак с Укдой. Аська, повеселев, присоединилась к женщинам и весело захлопотала среди своих. Серебряным колокольчиком, приглушенным переживаниями последних дней, зазвучал ее смех. Мужчины сели на нарты друг против друга. Их обступили тунгусские собаки. Самый большой кобель, вожак, не обращая внимания на Пантелея, внимательно вынюхал Федоткины колени.
Укда пнул кобеля под зад и обозвал его «иргичи» — волком.
«А меня за своего принял, — смущенно подумал передовщик. — Пропах тунгусами. Чужого духа набрался». Прислушиваясь к смеху Аськи, он поглядывал на нее со стороны и печалился.
Вскоре гостей повели к шаманскому балагану, поставленному не для жилья, а для волхования. Внутри него вдоль ветхих стен молча сидели длинноволосые тунгусы в парках. Они сжимали меж колен луки со стрелами или рогатины.
Посередине балагана едва горел костер, на его углях тлели благовонные травы. Дым клубился у свода, возле вытяжной дыры. Порывы ветра врывались в нее и загибали пахучие клубы к земле, бросали их в лица сидевших людей, вновь поднимались к островерхой кровле.
Из-за полога вышел долговязый шаман Газейко. Тунгусы перестали кашлять и сопеть, молча уставились на него. Шаман был одет в кожаную рубаху, обшитую зубами и когтями зверей, медными бляшками и колокольчиками. С рубахи свисали лисьи и собольи хвосты. Вместо шапки на нем была шкурка сокола с иссохшей головой. Болтавшиеся крылья птицы свисали на плечи, длинные, в пояс, волосы с проседью были распущены поверх рубахи.
Шаман сел возле огня, достал из кожаного мешка бубен, приложился к нему ухом и долго прислушивался. Тунгусы с пониманием глядели, стараясь запомнить каждое движение. Они понимали, что дух шамана отделяется от тела и готовится в дальний путь. Даже кашель или сопение могли помешать им разделиться, поэтому все затихли, взглядами и жестами обещая шаману оберегать его беззащитное тело от злых духов.
Забряцали костяшки на рубахе, зазвенели бубенцы и бляхи. Постукивая в натянутую кожу колотушкой, обернутой заячьей шкурой, шаман мягкими шагами прошелся по кругу, заглядывал в глаза каждому из сидевших. Газейка что-то отрывисто гыркнул — Синеуль спрятал нагрудный крест за пазуху, жестом указал Пантелею с Федоткой, чтобы убрали кресты с глаз.
«Не грех, — подумал Пантелей. — Животворящий Крест и сквозь одежду, и сквозь каменную стену защитит». Он запахнул ворот шитой Аськой парки, легкой и теплой, сел удобней, щуря глаза, стал мысленно читать молитву от осквернения, мысленно же накладывал на себя крест за крестом, как со времен стародавних принято было у почетных русских послов среди иноверцев, чтобы тех не оскорбить и себя не осквернить.
Шаман все быстрей носился по кругу, время от времени как птица крыльями взмахивал руками с бубном и колотушкой, а крылья соколиной шапки хлопали его по плечам. Вот он прикрылся бубном, как щитом, словно саблей замахал колотушкой.
Засопели, сдавленно захрипели тунгусы, страстно потрясая луками и рогатинами: в другом мире на дух шамана напали враги, и родственники мысленно помогали ему отбиться. Тот отбился. Как в лодку, сел в свой бубен и поплыл через реку, оставив побитых врагов на другом берегу. Тунгусы облегченно вздохнули. Дух шамана уходил в страну мертвых. Поблуждав там, узнав, что нужно, замахал крыльями, полетел к небу, в самый труднодоступный мир.
Шаман плясал все быстрей и быстрей. Рубаха звякала, гудел бубен. Осоловевшие сородичи мысленно носились с ним в заоблачных и подземных далях, где одиноко блуждала беженка-душа Синеуля, где мирно пасли оленей души умерших предков. И пора уже было возвращаться на землю, в средний мир. Покружив в нерешительности, шаман замер, окончательно решаясь на что-то. И в следующий миг с отчаянным лицом ринулся в видимую только ему бездну: завертелся волчком, превратившись в вихрь. Длинные волосы обвили лицо пушистым шаром, и шаман упал возле костра. Приземлился. Сжавшись в комок, прижал бубен к уху. Вслушался, поднял голову с мутными, усталыми глазами и пробормотал внятно:
— Ээ-э (да)!
Пантелей с Федоткой и без Синеуля поняли, что духи велели передать его народу, чтобы он породнился с кондагирами. Минчак виновато взглянул на передовщика и смущенно зачесался.
Пришедший в себя шаман раз и другой махнул рукой, будто загонял в бубен вырывавшуюся оттуда муху. Резко вскочил, бросился к Синеулю, покорно опустившему перед ним голову, прижал бубен к его правому уху, снова замахал руками, подпрыгивая, перескакивая с места на место. Все поняли, что Синеулькин кут вырвался и улетает, а шаману не удается схватить его на лету.
Минчак вздохнул, раздраженно пробурчал сыну, что надо было снять крест перед волхованием. Скорбное лицо Синеуля побелело, уголки губ опустились ниже. Он промолчал, глядя под ноги, а Пантелей с Федоткой поняли, что шаман так и не вернул их толмачу кут. Значит, тот останется в зимовье.
Один за другим тунгусы поднимались и выходили из балагана. Волхование было закончено, хотя шаман еще не снял наряд и не спрятал бубен. Облачное небо хмурилось и опускалось на вершины деревьев, в воздухе искрились снежинки, по вытаявшей земле мела поземка, оставляя белые усы за пнями и чумами. Дым костров стелился в сторону восхода. Две женщины выгнали из леса оленей. Они подошли к костру, с любопытством уставились на еду, будто высматривали, что бы стянуть с расстеленных шкур. Лежавшие вдалеке от костра собаки ревниво поглядывали на них и сладострастно вдыхали запахи печеного мяса.
— Неужто ваши тайгуны нынче не дерутся? — спросил Федотка Синеуля. Тот рассеянно кивнул и промолчал, размышляя о своей заплутавшей душе на свой тунгусский манер.
Едва гости разлеглись вокруг костра, две женщины в долгополых парках, в расшитых бисером чукульмах, взяли под руки побледневшую Аську и повели в балаган. С блуждающим взором она, как чужая, прошла мимо мужа, и он, чтобы чего не нарушить в чужих обычаях, промолчал.
Вскоре из балагана опять послышались удары бубна. Тунгуски весело расставляли на шкуры парящую рыбу, мясо и печень в деревянных блюдах, бруснику и клюкву в берестяных корытцах. Собаки, глухо рыча друг на друга, ползком придвигались к еде, ожидая объедков.
Пантелей с Федоткой, в отличие от возлегших тунгусов, подкатили к костру колоду и сели. На низком, набухшем небе вдруг прорвало узкую полосу синевы, блеснуло невидимое солнце, заискрились просекающие воздух снежинки. Укда, улыбаясь, указал ввысь:
— Сонна![122]
— Золотая нитка с неба, — перевел его слова Синеуль, кивая, куда указывал брат. — Умай твоему сыну.
Ни луча, ни нити передовщик не разглядел: над шаманским балаганом курился дымок очага, на выглянувшем солнце искрились снежинки. Но чутким ухом он различил знакомый стон.
Бубен затих, стон повторился громче. Из-за полога две женщины вывели под руки Аську.
— Сейчас родит! — как о пустячном сказал Синеуль.
— Ака![123] — весело ударил себя кулаком в грудь Укда и по-свойски хлопнул по плечу Пантелея: — Ама![124]… Этыркэн![125] — шаловливо взглянул на задумавшегося отца.
— Этыркэн! — морщинисто улыбнулся тот.
«Слава Богу! — мысленно перекрестился Пантелей. — Не одна рожает. Чем могли помочь ей ватажные, хоть и седобородые?» Он побаивался думать о родах в зимовье, полагаясь на милость Божью и на Его Великую волю.
Из балагана вышел шаман в простой поношенной волчьей парке. Как обычный тунгус, он по-хозяйски бросил хворост в костер, сел среди раздвинувшихся мужчин. Все стали угощаться, а старый Минчак торжественно сообщил промышленным, что по наказу духов-покровителей и духов-предков хангаи дадут кондагирам в жены своих женщин и породнятся с ними, чтобы иметь мир. Момолеям и сонингу Ульбимчо они мстить не будут, их накажут отомщенные родственники. Ватажные могут идти со всеми одигонами в их кочевья или остаться здесь до весны, а после кочевать в верховья, к шамагирам, которые приходятся родственниками низовым тунгусам. По уверениям Минчака, кондагиры обещали до лета не нападать на лучи. В сказанном был намек, что мириться с русичами здешние тунгусы не собирались. И если те не уйдут весной — станут воевать.
Умными глазами шаман взглянул на передовщика, сидевшего напротив, и что-то сказал.
Синеуль с готовностью перевел:
— Шаман говорит — вы вернетесь к женам живыми и богатыми. Так ему сказали духи.
За едой и весельем никто не услышал, как разродилась Аська. В сумерках к Минчаку подошла седая старуха и сообщила радостную весть. Ни дед, ни дядья не бросились поздравлять роженицу, смотреть внука и племянника. Не сдвинулся с места и Пантелей, боясь уронить достоинство посла и нарушить тунгусский обычай, которого не знал. Мысленно он перекрестился и сдержанно возблагодарил Всемилостивейшего Господа за милости. «Вот ведь, — подумал с досадой, — прямо на Ерофеев день уродился. Всю-то жизнь нечисть морочить будет».
Минчак звал гостей ночевать. Но совсем рядом из труб зимовья валил густой дым, да и приглашение делалось для чести. Оставив Синеуля с сородичами, одарив шамана, Минчака и знакомых тунгусов, передовщик и Федотка вернулись в зимовье. Аську с младенцем Пантелей решил забрать, когда она окрепнет после родов.
Он долго не мог уснуть, впервые беспокоясь о судьбе сына. И чудно было думать, что он у него есть. Ворочаясь в выстывшем прирубе, Пантелей решил просить своему младенцу святого покровителя сильного: апостола Фому. Как говорится на Руси, били Фому за Еремину вину. Били, да не убили!
На другой день до полудня на пару с Угрюмкой он вернулся к тунгусскому стану за женой. Они приволокли за собой полуторасаженную нарту, чтобы привезти роженицу и ребенка. В зимовье Пантелей договорился с Лукой Москвитиным, чтобы тот на промыслы не уходил до Фомы и окрестил бы младенца.
На тунгусском стане опять пахло паленой шерстью и печеным мясом. Лесные народы все еще пировали, встречая женихов-кондагиров, и собирались кочевать в низовья реки. Голодные олени съели мох в округе и теперь слонялись среди чумов. Возбужденные сборами собаки носились среди нарт и кострищ. До русских промышленных людей никому не было дела, кроме свояков-дялви.
К ним вышли Минчак с Укдой да Синеуль с крестом поверх парки. Старик неуверенно позвал гостей к себе. Пантелей с Угрюмкой, поблагодарив, отказались от приглашения. Старик не настаивал. Синеуль присел на нарту рядом с ватажными, наблюдавшими за суетой стана, Минчак вернулся к своему чуму, склонился над лавтаком, закрывавшим вход, позвал дочь. Из-за полога показалась Аська в рысьей дохе, с ребенком за пазухой. Пантелей впился глазами в ее лицо, и показалось ему, будто Аська сильно переменилась.
— Что у тебя за пазухой? — громко спросил Минчак.
Женщина распрямилась, рассеянно улыбнулась, взглянув на мужа и отца, ответила смущенно:
— Хилукта![126]
— Брось кобелю! — приказал старик.
Аська обернулась, вскрикнула — нур![127] К ней с голодными глазами подскочил тот самый пес, что вчера пытался поставить метку на Федоткином сапоге. Она что-то вынула из-под полы, бросила. Кобель на лету поймал и проглотил подачку. Аська осторожными шажками подошла к нарте, робко и утомленно взглянула на мужа.
На Руси в домах, где часто умирали младенцы после родов, так же отводили от новорожденных нечисть. И прозвища им, бывало, давали посрамней, чем Кишка. Все это понимал Пантелей. До другого не мог додуматься: почему в глазах отчаянной девки, в одиночку промышлявшей вдали от становищ, не пропадает страх. Он ее не бил, был ласков, старался показывать, что рад беременности. Кабы она родила урода — Синеуль уже сказал бы.
До зимовья было две сотни шагов. Передовщик хотел везти Аську бечевой, как принято у промышленных, но Минчак поймал двух оленей и впряг их в нарту, чтобы не уронить достоинства дочери.
Теряясь в догадках, хмурясь от дум, Пантелей довез Аську до зимовья, распряг и отпустил к стану оленей, ввел женщину в натопленный и прибранный прируб. Она скинула доху. На груди, на бечеве, украшенной когтями и зубами зверей, висела берестяная коробка с младенцем.
— Здоров ли сын? — спросил Пантелей по-русски, присаживаясь рядом. Она положила берестяную люльку на колени. В ней, присыпанный древесной трухой, называемой у тунгусов «кучу», преспокойно посапывал чернявый младенец. Ничего похожего ни на себя, ни на Аську Пантелей в нем не увидел. Вдруг младенец резко вздохнул и, захлебнувшись слюной, кашлянул, не в силах сделать вдох. Пенда со страхом подумал: «Сейчас задохнется и помрет». Но младенец разумно задержал дыхание, сделал долгий и трудный вдох, откашлялся и снова преспокойно засопел.
— Ишь, какой умный! — удивленно пробормотал отец и хотел дотронуться до ребенка пальцем.
Аська вдруг вскрикнула и закрыла люльку телом. Ее брови сдвинулись к переносице, рот был сжат. Это была тунгуска, которую Пантелей не знал. Глядя на разъяренную женщину, он с тоской почувствовал, что больше не будет серебряным колокольчиком звенеть ее смех. Начиналась иная, непонятная ему жизнь.
Аська смущенно приткнула младенца к набухшей груди. Тот ловко поймал губами сосок, приоткрыл голубые глаза. Не показывая подлинных чувств, казак мирно пробормотал:
— Проголодался, звереныш! А глаза-то наши!
— У всех новорожденных глаза такие, — печально сказал Синеуль. — И у собак! — Скобка его губ чуть распрямилась. Он улыбался, с нежностью глядя на племянника, и находил в нем знакомые черты рода.
— Окрестить бы надо на Фому, — вкрадчиво взглянул на Аську передовщик. — Фома ваших предков на востоке крестил, здесь проповедовал. Всем святым святой… На всю жизнь пособник.
Накормив младенца, Аська забралась на нары и, покачивая берестяную люльку, запела про олененка, который впервые вышел на берег реки вместе с матерью. Отчего и на этот раз она пела грустно, изредка всхлипывая, опять не мог понять Пантелей.
Ночью он проснулся. При свете тлевших углей увидел, как Аська одевается. Подумал — на ветер, снова уснул. Когда в другой раз открыл глаза, ни женщины, ни младенца не было. На полу на лапнике посапывал Синеуль.
Ничего не понимая, Пантелей раздул огонь, подбросил дров и увидел, что Аськиного одеяла тоже нет. Он накинул парку, вышел из прируба. Мерцали тусклые звезды, серело небо к утру. Дозорный в тулупе ходил вдоль частокола, то и дело заглядывал за него.
Передовщик окликнул:
— Куда моя баба делась?
— А ушла к тунгусам! — весело ответил дозорный. Ему, уставшему от ожидания и одиночества, было в радость всякое слово. — Сбежала или так? — притопывая, подошел к прирубу. — Попросилась, я и открыл ворота. Ты не наказывал не выпускать…
Пантелей захлопнул дверь перед носом дозорного, готового говорить до рассвета. Из избы послышался стук, это поднялся Нехорошко, загремел дровами и котлом. Слышно было, как зевают и потягиваются люди. Одевшись, передовщик вошел в избу, сел в кутной угол. Помолившись соборно с промышленными, вернулся в свой прируб.
Синеулька уже не спал, сидел у очага и молча глядел на огонь, по своему обычаю, не поднимая глаз. Дозорный крикнул с нагородней, что тунгусы собираются уходить всем станом. Передовщик, хлопнув дверью, опять вышел, поднялся на нагородни. Чумы были разобраны, олени навьючены, люди сидели возле дымивших костров.
Злобно почесав зазудившийся рубец на щеке, Пантелей зарычал как медведь и саданул кулаком по верхнему венцу нагородней.
— И пусть! — прохрипел, презрительно и обидчиво скалясь.
— Чего? — переспросил дозорный. Но передовщик повернулся к нему спиной, соскочил с нагородней, гулко хлопнув дверью, скрылся в избе.
Подкрепившись едой и питьем за соборным столом, он стал благословлять и наставлять ватажных на промыслы. Велел им рубить станы и сечь кулемники по ухожьям. Чуницы в эту зиму были крупными — до десятка промышленных в каждой.
Устюжане Луки Москвитина ждали особого решения передовщика. Между собой они поторапливали старого Луку, но Пенду ни о чем не спрашивали. До лютых холодов каждый день был дорог.
Раздав наказы, Пантелей опять вернулся в свой прируб. У чувала все так же сидел Синеуль, он тоже ждал наказа.
— Где сестра?
— Ушла! — ответил хмуро. — Совсем ушла. Если бы не совсем, сказала бы. Узнай, что ей надо? — резко, но без зла и обиды в голосе приказал передовщик.
Синеуль послушно поднялся, натянул через голову парку. «Не вернется! — как о решенном подумал Пантелей. — Если они боятся жить с нами — кондагиры будут воевать».
Синеуль не взял с собой любимый многослойный лук, который высоко ценился среди тунгусов и промышленных людей. «Выкуп за сестру оставил», — усмехнулся передовщик.
К полудню от собранных и частью ушедших на закат низовых тунгусов отделилась упряжка с двумя оленями в поводу и с двумя пристяжными. На нарте сидели двое. Упряжка подлетела к воротам. Дозорный впустил в зимовье Минчака с Синеулем.
Передовщик приказал привести их в избу и собраться в ней всем бывшим в зимовье, сам сел в красном углу в казачьем колпаке, обшитом по краю беличьими спинками. Нужно было показать тунгусам, что защитников много. Но дело, по которому они прибыли, оказалось таким, что Пантелей краснел и потел, выслушивая речи старика при всех ватажных.
Минчак винился, что не может заставить дочь вернуться, и предлагал обратный выкуп — трех оленей. Ватажные, сидевшие по правую и по левую руку от передовщика, стали насмешливо торговаться, встревая в разговор бывших свояков. Не понимая шуток, старик упрямо рядился до трех.
Пантелей ударил кулаком по столу. Ватажные замолчали. Он не мог понять, чем обидел Аську, а старик не мог объяснить пустяк, понятный всякому илэ: у дочери родился мальчик, не похожий на лучи: станет жить среди лучи, боги дадут ему русскую душу. И будет маяться всю жизнь тело илэл — с душой лучи. И станет сын ругать мать, не будет почитать отца и предков.
— Наш Господь Вседержитель, — размашисто перекрестился передовщик, — душу дает сразу, а покровителя — после крещения! — В его тоне Минчак уловил укор.
Старик с досадой покачал головой. А Пантелей подумал: «Бог милосерд и все видит. Прежней Аське уже не быть… Кто знает, что ждет ватагу? А у них своя, понятная им жизнь. Вот уже и накликали судьбу младенцу!»
Свесив голову, он вдруг сразу остыл и смирился, стало жалко оправдывавшегося старика.
— Придем к йохам, найдешь невесту белую! — щурясь, посмеялся Лука Москвитин. — И мне какую-нибудь вдовицу.
— Пусть так! — передовщик решительно встал, перекрестился на образа. — Видать, судьба! Она выбирает родню, я — ватагу! — Он тряхнул гривастой головой и добавил милостиво: — Оленей, что ты привел, дарю твоей дочери и твоему внуку. Синеуль — как знает: волен уйти или остаться.
Когда старику растолковали слова бывшего зятя, он часто замигал запавшими в морщины глазами:
— Когда вырастет твой сын и спросит, кто его отец, — я скажу!
Синеуль остался в зимовье, а старик уехал с последними завьюченными оленями. Пантелей наказал дозорному, если вдруг вернется Аська, то ее впустить. Но ушли последние упряжки, стан опустел, чернея пятнами кострищ и кругами чумов. Только тесаные божки, бычий череп на колу да лосиная шкура остались от лесных людей, ушедших своим вековым путем.
То, что мох в округе был съеден, промышленные сочли за удачу: вряд ли кондагиры решатся подступиться к зимовью в ближайшее время. Чуница устюжан в тот же день ушла на промыслы. Передовщик оставил при зимовье Угрюмку, Нехорошку, Сивоборода-гороховца и двоих туруханцев. Остался и Синеуль, хотя ему, как всякому тунгусу, жизнь на одном месте была тягостна. Но в чуницы его не брали, отпускать на промыслы одного — боялись.
Через неделю вернулись холмогорцы. В пути они едва отбились от напавших тунгусов: то ли место для стана выбрали близко к кондагирским зимникам-меноэнам, то ли случайно столкнулись с с их людьми, промышлявшими зверя. Федотка советовал: меньше чем по трое не ходить, далеко друг от друга не быть и чтобы всегда при огненном оружии идти на помощь осажденным.
По уговору через две недели вернулись заводчики Луки Москвитина. Устюжан на станах Бог миловал. С кондагирами они столкнулись неподалеку от зимовья, залегли за нартой, начали стрельбу. Их услышали зимовейщики, пришли на помощь и разогнали нападавших.
Как ни богаты были промыслы, но, с опаской да с осторожностью на каждом шагу, того, что могли добыть в краю непуганого зверя, ватажные не добывали. А морозы все крепчали. К ноябрю в избах среди ночи промерзала вода в котлах. Снега по лесам было мало, кормов соболю хватало, и он носился мимо клепцов, не интересуясь приманкой. Кондагиры ходили за чуницами по пятам: ломали ловушки, пугали собаками зверя, могли поджидать за каждым деревом, чтобы напасть и исчезнуть.
Промышленные молились о снеге. И намололи его сверх всякой меры. Перед Михайловым днем потеплело, повалил снег, и падал он до самого Гурия.
На Руси к этому дню приезжает зима на пегой кобыле, слезает с седла, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам ледяные мосты, сыплет из правого рукава снег, из левого — иней. Но кобыла у зимы на Гурия пегая — от того то морозы трещат, то оттепель дышит…
Скучая, ватажные бездельничали в зимовье и по станам, сбрасывали снег с крыш, чтобы не раздавило изб и строений, каялись, что зарубки на деревьях, где поставлены клепцы, сделаны низко и они уже под снегом, — найдутся ли теперь?
Но нет худа без добра. Глубокие снега укрыли мох от оленей. Чтобы не погубить их бескормицей, кондагиры бросили свои зимники и подались в тундру, где среди редколесья ветер выдувает снега.
Снегопал прекратился так же неожиданно, как и начался. Вскоре приморозило, да так, что зашелестело, запело дыхание людей, леденея на лету, захрустело за спинами при ходьбе, будто дух ходил по пятам. А вскоре легла на землю полночная туманная мгла. В такую стужу сидеть бы в зимовье, слушая сказы старых промышленных, но надо было промышлять упущенное с осени. И чуницы без прежней опаски разошлись по привольным местам, рубили новые станы, тропили и насекали кулемники по ухожьям, отыскивали старые, заваленные снегами промысловые путики.
И промышляли они так до начала марта. А после, боясь гнева тайгунов и леших, стали забивать ловушки и возвращаться в зимовье для поста и молитв. К тому времени пообносились даже устюжане и холмогорцы, уходившие с отчины в добротных кафтанах и зипунах. Уже и они вынуждены были одеться в шкуры, только по праздникам покрываясь высокими холмогорскими и устюжскими шапками горшком-кашником.
Перед Святой Пасхой, когда складники сосчитали все добытое, сметливые устюжане с холмогорцами вычли доли без десятинных поборов, вкладов и поклонов, оказалось, что даже гороховцы в низовьях реки так много не добывали.
Нехорошко, потряхивая сороками головных соболей, швырнул оземь сношенный, выгоревший кашник.
— Пора и по домам! — крикнул, сверкая глазами.
И оказалось вдруг, что не все спешили на Турухан: одни считали решенным делом, что после нынешних, удачных, промыслов ватага сядет в струги и поплывет по реке с песнями, славя Господа, другие о возвращении не думали. Особенно противились ему туруханские и гороховские покрученники. Их пай был небедным, но втрое, вчетверо меньше, чем у своеуженников. И это за одну только зиму.
По напрягающейся тишине Нехорошко понял, что не всем его слова любы, блеснул глазами, задиристо дернул кадыком и вскрикнул:
— Убейте — дальше не пойду!
— На куски режьте — вниз не поплыву! — хмуро проворчал Сивобород. — Лучше один останусь.
Старый Гюргий Шелковников стал вразумлять, говоря, как мало у них хлеба: не хватит даже на то, чтобы безбедно сплыть к Туруханскому зимовью. Сберегая его, и в Великий пост рыбой сквернились — дальше будет хуже.
— У йохов ржи купим, — отвечал Лука Москвитин. — Коли они ее сеют, то возьмем дешевле, чем на Енисее.
Туруханские покрученники заработали на безбедную зимовку, на сапоги и зипуны. Прежде мучились они бедностью, так теперь — чтобы одеться, и погулять, и уйти на другие промыслы своеуженниками — не складывалось. Вернуться на Турухан они могли только к осени, когда все справные ватаги уйдут. По всему, выпадала им судьба пропить и проесть добытое, зимуя в острожке гулящими людьми, а на следующие промыслы опять проситься в покруту.
Гороховским же, промышлявшим всего лишь одну зиму, и того не предвиделось. Вернутся, погуляют — и будут зимовать на поденщине, претерпевая зиму. Но погулять они могли с размахом.
Михейка Скорбут, слушая споры, переводил тревожные глаза с одних на других говоривших, пристально всматриваясь в их лица.
— Ничо не пойму, — вскрикивал в злобном нетерпении. — Когда в Мангазею-то?
— Другим годом! — хохотнул Сивобород. — Все равно ко «Всем Святым» не поспеем.
— Там к Покрову уже и сусла нет! — вспылил Михейка, не понимая, о чем так яростно спорят ватажные. — Промышлять надо где-то!
— О том и говорим, башка тесаная, что там, кроме как у монахов, зимовать негде!
— Не-е, у них и квасу вволю не бывает, а с полночи будят на утреннюю молитву.
Галдели устюжане и холмогорцы, которым только сейчас открылось, что большая часть ватаги возвращаться не желает. Других возмущало, что помалкивает передовщик. Молчал и Федотка Попов — самый богатый из складников. Когда споры утихли, он попросил слова и, откланявшись на образа да на три стороны лучшим людям, сказал:
— Ни зверей диковинных, ни людей не видели. С тунгусами подрались — невелика заслуга. Вернемся — рассказать-то нечего. Только и будем добытой рухлядью хвастать.
— До страны йохов идти надо, — наперекор отцу пробубнил конопатый Семейка Шелковников.
— И возвращаться другим путем, — продолжил Федотка. — Чтобы, как на Тунгуске, промышлять первыми, места вызнать да прийти с богатством — вдвое. Тогда и покрученники, у кого умишко есть, смогут вернуться на родину, зажить в тепле, в сытости.
Нехорошко был так поражен спором, что некоторое время молчал, как рыба, разевая рот, и вяло помахивал рукой. Потом взбеленился, озлобясь до забвения, закричал с разобиженным лицом, топая ногами, дескать, кто желает вернуться, тот по вешней воде сплавится и без ватаги. Его не поддержали даже устюжские своеуженники, многие понимали: раз хангаи помирились с кондагирами, то уже рассказали всем тунгусам, какие богатства видели у лучи. Сплавляться малой ватажкой — Бога искушать.
Устюжане поругивали упрямых холмогорцев, вечных зачинщиков спора, холмогорцы корили устюжан, что те своим умом сроду не жили и жить не могут, но говорилось это без злого умысла и выслушивалось без зла. Промышленные потребовали слова от молчавшего передовщика — зря, мол, что ли, даем ему полную ужину?
— Честь нам от него одна, — остывая, пробубнил поперечный Нехорошко. — На всю спину равна, уж кожа с плеч сползает.
Все разом умолкли, обернувшись к Пантелею, а тот спросил Синеуля, на которого спорщики не обращали внимания:
— Скажи, дадут им твои сородичи сплыть к устью?
Синеуль долго молчал, его смуглое, обветренное лицо наливалось краской.
— Мы тебя с собой возьмем, наделим полной ужиной и волей, — ласково, как капризному младенцу, посулил награду Нехорошко. — Захочешь — к своим вернешься, захочешь — в Туруханском будешь служить толмачом, станешь самым богатым тунгусом.
На Синеульку с надеждой глядели и Тугарин, и старый Шелковников, и другие. Но тот, нехотя разлепив сжатые губы, заявил:
— Побьют! Узнают, что плывете, много родов соберутся вместе. Луки у них хорошие. С разных берегов стрелять станут, пока всех не перебьют.
Нехорошко выпучил было разъяренные глаза, но вместо того чтобы разразиться бранью, икнул, дернув морщинистым кадыком. Тугарин шмыгнул длинным, всегда мокрым носом. Иные просто молчали, качая головами. Всем вдруг стало ясно, что по-другому и быть не может.
И решили ватажные больше не спорить, а быть заодно и стоять друг за друга крепко, а понадобится — душу положить за други своя. Возвращаться же всем вместе — как Бог даст.
* * *
— Неужто реке этой и конца нет? — всхлипывал Угрюмка, растирая мошку по опухшему лицу. — Третий год волочимся!
Передовщик насмешливо поглядывал на поскуливавшего молодца, брательника своего боевого товарища спуску ему не давал: не позволял хитрить в ущерб ватаге, но и не изнурял другим в науку.
Его незримую поддержку Угрюмка все же чувствовал и порой позволял себе маленькие капризы как родственник. Он яростно отмахивался от гнуса, больше для виду налегал на бечеву, скользил раскисшими, сползшими к щиколоткам бахилами по топкому берегу. Впереди, сжав зубы, с окаменевшей спиной, терпеливым быком тянул свою шлею Семейка Шелковников. Лицо его от солнца и от натуги побагровело так, что пропали конопушки-рябинки. Передовщик хотел прикрикнуть на Угрюмку, подстегнуть, но опять пожалел молодца.
— Куда как мельче стала, — буркнул в бороду, раздраженно мотнув головой. — И не так уж широка. Даст Бог, к холодам дойдем до истока.
Река действительно мельчала. Чтобы пройти через иные перекаты, промышленным приходилось разбирать камни и завалы. После полудня струги подошли к залому из леса-топляка. Пенился и шумел перепад воды в аршин высотой. Пока просекались и перетаскивались через него — вымокли все. Передовщику даже казачий колпак отжимать пришлось. Едва ватага поднялась по реке еще на версту — снова наткнулась на плотину из топляка и плывуна. Пробиваться через нее уже не было сил.
Пока половина промышленных обустраивала табор, готовила ужин, молодежь, подсушив штаны, с топорами вернулась к завалу. Он был давний, многолетний. Кора на деревьях сопрела. Осклизлые стволы дурманили пряным винным духом, от которого обвисали руки.
Перебарывая усталость, Ивашка с Федоткой ловко попрыгали с лесины на лесину через бурлящие потоки и высмотрели, где легче просечь проход. К ним пробрались Семейка Шелковников и Угрюмка. Поддерживая друг друга за кушаки, молодые стали прорубаться среди гниющих стволов и ветвей.
Поработали они на славу. Поглядывая на них с табора, ватажные радовались, что утром, даст Бог, не придется мокнуть. Молодцы заткнули топоры за кушаки, оглядели прорубленный проход, через который с шумом рвалась река, и заскакали по топлякам к берегу. В это время на таборе привычно воевали с наглым медведем, которого убивать не было никакой нужды, а прогнать не удавалось.
Наконец, кидая злые подслеповатые взгляды и оглядываясь на табор, непрошеный гость, с подпалинами на шерсти, отступил. Ватажные устало расселись где кому удобно, стали тоскливо жевать приевшуюся рыбу. Соль берегли и брали только по щепотке — язык осолонить.
— Я-то до соли охотчив, — обсасывая рыбью голову, жаловался Тугарин. — Бывало, мне без нее и хлеб — трава. Рыбу да мясо без соли и не ставь рядом. Пресный дух за версту чуял. А нынче — спрячь мешок с солью, завяжи глаза — носом отыщу.
Темнело. Утихал табор, шумела вода в реке, слышался гул под плотиной. Показалось на миг, что гул и плеск стихли. Кто-то настороженно поднял голову:
— Чего это?
— Поди, плотину прорывает! — равнодушно, если не с радостью, зевнул Нехорошко.
Передовщик же подскочил и закричал во всю глотку:
— Спасай струги!
И тут зачертыхались люди, натягивая непросохшие сапоги и бахилы. Осенило вдруг, какой бедой может обернуться прорыв залома. Пантелей подхватил пылавший сук из костра, побежал к воде, где, привязанные накрепко к берегу, стояли груженые суда. В них под кожами спали свободные от караулов промышленные. Молодые, уже на несколько рядов обруганные за радение, понуро стояли у воды с шестами.
— Что попусту малолеток костерите? — прикрикнул на ярившихся передовщик. — Без них затор мог прорваться.
— Завтра не прорубаться, не мокнуть! — оправдываясь, басил Семейка и отталкивал шестом надвигавшееся на струг дерево. По другому борту звонко проскрежетали ветви топляка. Вроде бы утихла река, уплыл лес с плотины. Ватажные разошлись по выстывшим местам ночлега и снова стали моститься ко сну.
Пантелей едва ли не по-волчьи свернулся на корме струга и тут же уснул. Под утро он несколько раз просыпался, привычно прислушивался, не открывая глаз, и все удивлялся сквозь сон, отчего так холодно и гнуса не слышно? Когда же разлепил изъеденные мошкой глаза — кругом белым-бело, парка, шитая Аськой, на полвершка запорошена снегом. Передовщик сел отряхиваясь. Суда как-то странно покачивались на воде, будто их не вытаскивали на сушу.
— Братцы! Река поднимается! — крикнул он подремывавшим дозорным.
Те, растирая лица, стали всматриваться в очертания берега. Тут только заметили, что воды прибыло. Уплывший лес где-то снова перегородил русло.
Плотины, перед которой встали вечером, не было. Сотворив утренние молитвы, подкрепив тело едой, промышленные залили костры, ополоснули котлы и подобрали одеяла, блюдя заведенное в пути благочинье, разобрали шесты и бечевы.
Передовщик махнул рукой, благословляя идти в прежнем порядке. Одни налегли на посохи, другие на шесты — и первый струг двинулся против течения.
Скоро плывущая пена и отдаленный шум подсказали о приближении переката. Вот уж он заскреб камнями по днищам. Левый берег лесистыми холмами подступал к самой реке и полого уходил в воду. У правого, возле самых скал, дно так круто уходило в глубь, что бурлакам, не намокнув по грудь, невозможно было пройти. А холодная к осени вода до судорог сводила ноги.
Угрюмка заскулил, кидая жалостливые взгляды на передовщика. Чуял, что ему придется мокнуть, обносить скалу бечевой. Пантелей взглянул на приунывших ертаулов и велел разбирать камни, углублять дно. Река шла в высоких, покрытых тайгой берегах. Иногда хребты отступали, вдоль них тянулись моховые болота и гари.
За очередным поворотом течение так усилилось, что каждая сотня шагов давалась большим трудом. Берега стали еще круче, перекаты и камни следовали одни за другими, а впереди виднелись только буруны.
Возле притока, впадавшего с полуденной стороны, послышался шум порога. И здесь почти всю реку перегородил затор из плавника. Прорубившись сквозь него, ватага подошла к другому залому. Угрюмка непритворно кряхтел, едва не срываясь в рев и в слезы.
День был тихим и холодным. Не лютовала вездесущая мошка, пар шел изо рта. Бурлаков знобило. Вдруг заметил передовщик, как побелел и состарился Лука Москвитин — бодрый, бывалый устюжанин. Морщины избороздили его лицо, обвис на плечах кафтанишко, и сами плечи задрались, как крылья раненой птицы.
Он вздохнул и перевел взгляд на хребты-яны[128], припоминая пройденное устье притока справа. И вдруг все слышанное, на много раз выспрошенное у встречавшихся тунгусов соединилось в его голове. И показалось Пантелею, что он узнал это, никогда не виданное им прежде, место.
— Братцы! — сказал, удивленно оглядываясь. — Братцы! А ведь мы дошли! — Он скинул колпак и стал креститься, восторженно вглядываясь в неширокий изгиб реки, в приметную седловину. Ватажные вертели головами, не понимая, о чем бормочет передовщик с таким видом, будто сподобился узреть ангела.
— Дошли! — засвистел Пантелей, подбрасывая казачий колпак.
Удивленно озираясь, промышленные стали признавать приметы волока к той самой реке, о которой много лет слышали пересказы разных людей и народов, к той стране, куда вел Великий тайный сибирский тес. И проклятые пороги с каменными щеками, и высокая мачтовая сосна по берегам, даже серое небо — все вокруг повеселело. Полуденное солнце, прорвав облачность, прыснуло лучами прямо в лица.
Куда делась усталость! Струги вытащили на берег подальше от воды, разожгли костры, вместо долгожданного отдыха наспех перекусили.
— Хоть бы глянуть, что там! — шмыгнул мокрым носом Тугарин, кивнув на восход.
— Такой же холм! — проворчал Нехорошко. Задрав бороденку, взглянул на седловину, почесал обломанными ногтями под скулами. — Однако до вечера-то можно успеть, — согласился с холмогорцем.
— Половина ватаги — у стругов, остальные — со мной, — торопливо отплевываясь рыбьими костями, прошепелявил передовщик.
— По жребию! — вспылил Ивашка Москвитин. — Чуть что — молодые в дозор, хоть у иных молодых бороды не хуже.
— Кто хочет остаться? — вскинул голову Пантелей. Глаза его насмешливо блестели. — Никто? Кому весной не терпелось вернуться по домам — те и останутся. Алекса Шелковник — за старшего. Разбить табор на дневку, наловить рыбы, ну и все остальное… Как всегда, — приказал весело.
Поскольку весной было много сомневавшихся, они стали препираться между собой, и Пантелей сам назначил из них десяток дозорных. Впереди толпы в три десятка вооруженных людей он пошел к седловине.
И вот уже стояли обожженные солнцем, изъеденные до язв гнусом люди и смотрели на далекую полноводную реку. Тунгуска была рядом, река же, к которой шли три лета, пролегала в глубокой впадине. Глаза передовщика привычно оценивали волок по ручьям, стекавшим в долину, взволнованно стучало сердце.
Втайне все ждали большего: надеялись увидеть рубленые стены города, равнины возделанных полей, избы деревень или хотя бы острожек, из которого выйдут былинной красоты люди да благочестивые, мудрые старцы.
Никаких признаков жилья по берегам не было. По ним, сколько охватывал глаз, тянулась черновая тайга. Утки и гуси сбивались в стаи для дальнего перелета, кружили в небе ястребы, высматривая хилых, увечных, отбившихся одиночек.
— Низина-то! — сняв шапку, вытирал вспотевший лоб Сивобород. Он тяжело дышал после ходьбы. — Будто из пекла река течет.
— Это мы в горы влезли! — ответил за всех Федотка. — Три лета волоклись.
Сивобород не удостоил молодых ни взглядом, ни спором. Его плешину с расходившимися от нее редкими, вислыми, влажными от пота волосами облепила мошка. Гороховец наотмашь хлестнул по ней мозолистой ладонью, торопливо перекрестился и покрыл голову шапкой.
Федотка, постояв в задумчивости, перекинул на другое плечо пищаль с чеканным серебряным узором на зелейнике.
— Водицы бы той испить, — вздохнул. — Да не успеем к ночи. — Так как передовщик молчал, очарованно вглядываясь в даль, спросил: — Где зимовать будем?
Загалдели промышленные, глядя то в одну, то в другую сторону: на подволок и спуск, сметливым взглядом строителей и воинов осматривали склоны, лес, ручьи.
— Подумаем! — запоздало ответил Пантелей. — Завтра сходим, — мотнул головой в сторону реки, — посмотрим вблизи. — Оглядевшись по сторонам, добавил: — Пожалуй, струги надо будет сразу на этот склон переволочь. Да и зимовье где-то здесь ставить, крепкое да ладное. Какие народы вокруг, далеко ли и сколько их — не знаем!
— Что томить-то бездельем? — возмущались дозорные, когда узнали от вернувшихся про реку, про то, что до нее не дошли. — Или уже здесь зимовье рубить, или волочься в гору.
Ватага сидела вокруг большого костра, рассуждая о насущных делах. Передовщик, много молчавший после возвращения с седловины, попросил слова.
— Я ли призывал когда-нибудь к возвращению по Тунгуске-реке? — спросил, оглядывая ватажных. — И все вы перед Святой Пасхой решили возвращаться иным путем. Но судьбы своей мы знать не можем, а земли и народы вокруг неведомые. Как перезимуем — один Господь ведает. Если кому-то выпадет возвращаться побитыми и хворыми, то с этого места только струг на воду столкни — и понесет река к Троицкому монастырю. А куда принесет та, что за горой, — того никто не знает.
Если решим твердо идти вперед, ожесточим сердца свои и мысли отступные прогоним — надо волочиться за гору и там ставить зимовье крепкое да разведать реку. А если с опаской да со страхом начнем на закат оглядываться — лучше здесь оставаться. А по весне — как Бог даст: волочься ли за гору или по реке плыть обратным путем.
Сказал он так и свесил голову в ветхом казачьем колпаке. Холмогорцы задумались, покачивая высокими шапками, устюжане в натянутых до бровей кашниках примолкли, туруханцы да гороховцы в сибирских меховых шапках почесывали затылки.
Вдруг вскочил на ноги, бросил свой кашник на землю скандальный Нехорошко и рассерженно воскликнул:
— Коли по весне меня не послушались и обратно не поплыли, теперь ли о том думать? Кто ходил на гору, пусть с утра волокут на нее струги, а мы посмотрим великую реку. Хочу первым воды ее испить!
Бросил к его кашнику свой торчок Тугарин-холмогорец.
— По жребию! — вскрикнул Ивашка Москвитин. Ему, как и всем молодым, тоже хотелось идти к реке.
И решил сход: всем, кто оставался в этот день при стругах, — утром идти. По жребию отправить с ними десяток ертаулов и передовщика. Остальным не спеша проведать ручьи и начать волок.
На другой день с рассветом люди отправились за гору. Молодые убежали вперед. Передовщик не стал их окликать, он повернул к пади, в которой начинался ручей. Напрямик со склона струги к реке не спустить: слишком густ и крепок был здешний лес. Наметанным глазом оглядывая ручьи и речки, он думал, что волок по ним не так уж труден.
Гюргий Москвитин, отец Ивашки, указал стволом пищали на круглую, как полушарие, сопку, густо поросшую лесом.
— Для зимовья гора хороша! — подсказал передовщику. Тот оглядел ручей и склон, пожал плечами — до реки далековато. — Ни сверху не подойти, ни снизу, — цокал языком старый Гюргий.
Вдвоем они поднялись к сопке, увидели, как молодые подбегают к реке. За ними, припадая на ногу, гнался Нехорошко.
— Ругает, поди, молодцов почем зря! — усмехнулся старый Москвитин. — Ивашка-то мой шибко груб стал. В мужицкую пору входит. Ты его степени, не жалей.
— Ты — отец! — огрызнулся передовщик.
— Тебя лучше послушает, — смутился промышленный. — Меня почитает, а делает по-своему.
Пантелей осмотрелся по сторонам.
— А что? — притопнул весело. — Доброе место. И струги рядом с зимовьем можно ставить, не бояться, что сожгут или изрубят. А по большой воде к реке их спустить — на день хлопот.
Когда передовщик с Гюргием вышли на берег, там уже горел костер и пахло печеной птицей. Чавкая мокрыми бахилами, с реки на яр поднялся Семейка Шелковников. Под жабры он нес две рыбины, волочившие хвостами по земле. Рассевшись вокруг огня, промышленные как-то умиленно, без споров, поглядывали на реку, а она чаровала блистающей гладью русла, зелеными травами по берегам, где кормились и хлопали крыльями тысячи птиц. От воды пахло рыбой.
— Не дали первому испить? — насмешливо спросил Нехорошку Пантелей. Тот смущенно улыбнулся, приветливо кивнул. — Как вода-то? Сладкая?
— Медовая! — посмеиваясь, бросил рыбин в стороне от костра Семейка. — Сколь лет солоноватую из Тунгуски хлебали.
— И теплая! — У Ивашки Москвитина и Угрюмки головы были мокрыми, не к добру купались после Ильина дня. Печеные утки да гуси в Успенский пост — опять же грех.
— Глубока да быстра! — удивленно пробормотал Нехорошко без обычного раздражения. — А гнуса — так же, — посмеиваясь, шлепнул ладонью по морщинистой шее.
Гюргий с передовщиком сошли к воде. Крестясь, поминая Богородицу, опустились на колени. Пили долго, мелкими глотками, то и дело отрываясь. Их намокшие бороды шевелились под водой, как рыбьи спины.
— Дошли, слава Богу! — распрямился, отжимая бороду, старый Москвитин и положил поясной поклон за реку.
— Синеулька! — стал подзадоривать толмача Ивашка Москвитин. — Все у вас «бира» да «бира» — вся Сибира из одних бира, а эту реку как тунгусы зовут?
— Илэлэунэ! — ответил тот, не отрывая глаз от огня.
— То бишь тунгусская река, — ухмыльнулся устюжанин. — У них все реки тунгусские! — Ивашка попробовал повторить сказанное толмачом: — «Елеуна?» Поди, водяной дедушка не обидится за наши языки костлявые. Мы его одарим.
— Что мелешь, ботало устюжское? — суеверно окликнул ватажного холмогорец Тугарин. — Где подарки?
— Завтра гуся добудем! — ничуть не смутился Ивашка. — Вон их сколько, — кивнул на реку.
Возле противного берега, поросшего зеленой осокой, плавали стаей очень крупные гуси. Добыть таких красавцев живьем было непросто. Птицы радовались прожитому дню, то и дело задирали головы, хлопали оперившимися крыльями.
В середине августа, к Успенью, промышленные люди вытащили свои струги к Юрьевой горе, которую высмотрел старый Гюргий Москвитин. Лучшего места для зимовья они не нашли.
Давно закончился ржаной припас, остатки соли берегли на праздники. В округе было много ягоды, птицы и зверя, река кишела рыбой, но без хлеба лица людей осунулись, глаза стали усталыми и злыми. «Моржееды»-холмогорцы хоть и похвалялись, что поморам бесхлебье в обычай, на самом деле еле ноги таскали. Устюжанам было и того хуже.
Припасом были обеспокоены все. То, что к йохам надо плыть и поскорей, говорилось каждый день. Но где они? Ертаулы на днище поднимались вверх по реке, а признаков оседлых людей не видели. По тунгусским сказам, надо было плыть к полуночи, а сколько плыть — о том толковалось по-разному.
Сплавляться к зиме всей ватагой промышленные не решились. Известно, что йохи добывали соболя. Если бы они и встретили пришлых как родню, нельзя было тем злоупотребить: жить поблизости, промышлять в чужих угодьях.
И надумали люди Пантелея Пенды отправить по реке двенадцать своих товарищей при двух стругах: по трое от устюжан и холмогорцев, четверых от туруханцев и гороховцев да передовщика с толмачом. Для мены они дали ертаулам десять сороков соболей и наказали, чтобы если даже те встретят среди йохов своих пропавших родственников — за каждого соболя торговаться для выгоды всей ватаги, ни дня ради безделья и любопытства не задерживаться, а спешить с хлебом обратно.
Туруханцы с гороховцами кинули жребий и без споров назвали своих посыльных, холмогорцы смогли договориться между собой, устюжане заспорили. Среди них выпало плыть Нехорошке, Ивашке Москвитину и Семейке Шелковникову. Отец молодого промышленного стал уговаривать вздорного земляка, чтобы ему не разлучаться с сыном, но Нехорошко не уступил своего жребия, приговаривая, что если Бог решил, то не им, грешным, переиначивать. И только сказал так, над его головой села на сук ворона, птица умная и зло вредная, почесала лапой клюв, каркнула и дриснула прямо на шапку беспокойного устюжанина. Тот испуганно закрестился, опечалился, стер помет пучком мха, но плыть с ертаулами не отказался.
Ивашка Москвитин вытянул жребий по своей молитве и благодарил за это судьбу, Угрюмка обиделся на передовщика: о том, чтобы ему плыть или жребий бросать, — даже и разговора не было.
Не откладывая нового дела на другой день, промышленные спустились с Юрьевой горы, выбрали под ней два струга покрепче и полегче, с приговорами поволокли их вниз. Был день святых мучеников Флора и Лавра, когда коням дают отдых, работать на них — грех, а людям можно себя не жалеть: глядишь, умилостивятся святые, дадут им овса на кашу.
Верст с шесть промышленные волокли струги по ручью, пока те не пошли сами, войдя в широкий приток. Здесь ертаулы простились с ватагой и поплыли вниз.
При впадении притока в реку течение было быстрым, глубина большой. Ертаулы приткнулись к берегу и заночевали. В лесу ревели дикие олени, начинались бои рогачей. К ночи похолодало так, что прибило гнус. Кутаясь в парку, тоскливо ворчал Нехорошко:
— Хвалились бабы бабьим летом, а того не ведали, что подходит сентябрь! — Говорил — и парок клубился над его бородой.
Утром пал туман — будто глаза залепил. Передовщик не решился плыть в неведомое, не видя концы своих весел, и велел дожидаться светлого дня. Ертаулы сидели у костра, прислушиваясь к звукам большой реки, пекли рыбу, пили ягодные отвары. Нехорошко то и дело впадал в забытье, глядя на угли костра. Непривычно и неловко было видеть его таким отстраненным от забот.
— Отчего в печали? — спросил передовщик.
Тот поднял тоскливые глаза:
— Ночесь крепко спалось, во сне недоброе привиделось.
И пока думал Пантелей, как утешить устюжанина, тот сердито затряс бороденкой и зловредно просипел простуженным голосом:
— Надо дедушку одарить! Еще прошлый раз обещали. — Укорил молодых: — Сходили бы за гусем вдоль берега по самой кромке!
Синеуль, томившийся ожиданием, с готовностью взял свой лук, подергал тетиву, выбрал из колчана три стрелы с тупыми наконечниками. Федотка с Семейкой тоже стали собираться. Ивашка Москвитин не пожелал остаться на стане и торопливо перебирал стрелы, выискивая лучшие.
— В воду не лезть и от воды не уходить! — наказал передовщик. — А станет крутить леший — кричите!
Молодые ушли, будто растворились в белом дыме, и долго еще слышался стук камней под их ногами. С реки доносились крики птиц, хлопанье крыльев, казалось людям, что, попугивая их, русалки хлопали в ладоши, тайгуны-лешие голосили в лесу, передразнивали птиц. К отплытию все было готово, оставалось только ждать.
Тугарин, глубоко вздохнув, мосластыми руками содрал с плеч заячью парку, дубленную баданом, достал иглу, моток сухих жил, стал накладывать заплату и стягивать расползавшиеся швы.
— В путь-дорогу не шил бы! — укорил его Нехорошко.
— Мы всякий день в пути! — огрызнулся холмогорец, прокалывая иглой мягкую кожу.
Глядя на него, и другие взялись за мелкий ремонт одежды.
Туман редел. Вскоре на востоке золотистым пятном заблистало солнце. Почти рядом послышались человеческие голоса, крики и смех.
— Балуют! — прислушиваясь, перекрестился Нехорошко.
Тугарин смахнул за плечо длинную вислую прядь седеющих волос, насторожил облупившееся, коричневое от загара ухо.
— Наши балуют! — узнал голоса. — Уж в бородах, а все юнцы. — Холмогорец вздохнул. — Возмужали среди леших, бедные.
— Может, так и лучше! — проворчал поперечный устюжанин, вспомнив что-то свое, давнее, взглянул на передовщика, вздохнул, жалея то ли ватажную молодежь, то ли себя самого: — Хотя — как знать! — усомнился и добавил: — Кому как писано, тому так и сбудется!
С реки донесся надрывный крик.
— Бык ревет?
— Гусь! — прислушался Тугарин. — Добыли для дедушки.
Развеяло туман над рекой, но другого берега не было видно. Молодые вернулись к стругам. Они смеялись, удерживая раненого гуся, который и клевался, и вырывался из рук. Нехорошко вскочил на ноги, умело обвязал бечевой ноги и крылья птицы.
Одарив водяного, промышленные покидали в струги нехитрый скарб, залили костер и, столкнув суда на воду, разобрали весла. Течение реки подхватило их и понесло вдоль берега. По знаку передовщика струги развернулись носами к полуночи, гребцы налегли на весла.
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник», — сняв шапку, запел передовщик сиплым голосом.
С придыханием наваливаясь на весла, гребцы стали подпевать:
— «К чудному заступлению твоему притекаем… Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий…»
Струги выходили на безопасный стрежень. Песнь гребцов разносилась по реке, пугая уток и гусей, которые то и дело с шумом снимались с воды. Высоко в небе, курлыча, пролетели к югу журавли. Березы свесили к воде желтые листья. Багряным цветом зари налился осиновый лист.
К вечеру река повернула к восходу. Ертаулы выгребли к высокому яру правого берега и увидели за ним устье притока — почти такого же широкого, как сама река. Против яра сливались воедино два многоводных русла, роднились, вскипая крутыми волнами, и уносились к полуночи могучим степенным потоком.
Передовщик высмотрел ниже устья пологий остров, покрытый двадцатисаженными соснами в два обхвата. Он уже прикидывал, где переправиться через волнующийся слив, но с другого струга окликнули, указывая на яр, возле которого держались суда. Там среди деревьев висел дым.
Встречи со здешними тунгусами для разговора о йохах передовщик ждал с нетерпением и велел причалить к песчаной отмели. Двое посыльных взобрались на яр, замахали руками, показывая, что разглядели за деревьями островерхие тунгусские чумы.
По указу передовщика ертаулы вытащили струги на сушу, чтобы ночевать у воды. Оставив возле них людей, Пантелей опоясался саблей. Федотка с Синеулем перетянулись кушаками и навесили тесаки, один — с неразлучным луком, другой — с пищалью, следом за передовщиком отправились в посольство.
Тунгусские собаки, не приученные лаять на людей, повернули морды в сторону идущих, вожак принужденно тявкнул. Но из чумов никто не показался, будто они были пустыми, хотя над одним из них мельтешил горячий воздух очага. Наконец из леса вышла женщина с отесанной жердью. Ее длинные черные волосы были распущены по плечам, как у ведьм и русалок, большие черные глаза смотрели на гостей пристально и настороженно. К ней, как к хозяйке, безбоязненно подошли два оленя.
Она что-то пробормотала в ответ на приветствие Синеуля и впилась в него глазами. Из чума, над которым курился призрачный дымок, выполз старик с двумя седыми косами по плечам. Из-за полога выглянула сморщенная беззубая старуха. Из другого чума смущенно выскочили трое смуглых ребятишек в длинных кожаных рубахах и прижались к женщине, как утята к утке. Она, что-то буркнув, подтолкнула их к лесу. Робкой стайкой детишки скрылись за кустарником.
Не ускользнуло от взора передовщика и слегка удивило его, что Синеуль, глядя на женщину, напрягся, захрипел, топчась на одном месте, при этом чрезмерно старался быть приветливым, только вместо улыбки у него получался оскал. Пантелей сам спросил про йохов. Женщина молчала, все так же неотрывно вглядываясь в лицо Синеуля, ее руки судорожно перебирали тяжелую жердину, будто она собиралась защищаться от нападения. Толмач же будто оглох. Вскоре, словно спохватившись, что-то быстро проговорил.
Ответил ему хмурый старик, что-то пролепетав впалыми губами. Ни насмешки, ни укора в его речи Пантелей не услышал, но у Синеульки сверкнули глаза, а на лице выступили багровые пятна. Заметив перемену в госте, старик со старухой, все так же выглядывавшей из-за полога чума, удивленно переглянулись.
Ничто не ускользало от цепких глаз казака, но того, что происходило, он не мог ни понять, ни растолковать себе. Удивлялся только, приметив, как разгораются и дичают вечно печальные глаза толмача.
— Спроси про йохов, сидячие или кочуют? — подсказал ему Федотка, снял с плеча пищаль и прислонил ее к дереву.
Пантелей же разобрал в скороговорке Синеуля, что тот говорит о момолеях и Ульбимчо-сонинге. Старик, глядя на него сквозь нависшие морщины глазниц, печально отвечал короткими односложными фразами.
Вдруг Синеуль заулыбался, став очень похожим на свою сестру. Глаза его заблистали, и он запел, изумляя Пантелея с Федоткой. Не прерывая напевной речи, толмач скинул с плеча лук, шагнул к чуму, оттолкнул старуху и протиснулся внутрь. Его песня зазвучала громче. Старуха вдруг завыла, а старик кинулся к пологу на больных, подгибавшихся ногах. Передовщик, почуяв неладное, бросился туда же, на помощь старухе, скребущей ногтями порог.
Когда он откинул полог, было поздно. Синеуль обернулся с сияющими глазами. Такого лица у него никто из ватажных не видел. Рука толмача сжимала черенок чужой рогатины, острое лезвие которой было обагрено. На шкурах возле очага хрипел перерезанным горлом косатый тунгусский мужик.
Передовщик схватил толмача за ворот парки и вышвырнул из чума вместе с окровавленной рогатиной. Старуха, хрипло набрав воздуха в грудь, завыла с новой силой, а старик сжался в комок, не смея взглянуть за полог, опустился на землю и, ритмично причитая, начал раскачиваться на четвереньках.
Пантелей разглядел, что зарезанный был подран медведем. Грудь и живот его походили на сплошную коросту, обложенную листьями и травами. По коросте лениво ползали жирные мухи. Старуха, подвывая, отгоняла их морщинистой рукой.
Передовщик выскочил из чума, схватил за плечо смеющегося толмача. Тот глядел мимо него незрячими глазами и громко говорил по-тунгусски:
— Я — Синеуль, сын Минчака, хангаева рода! Я разыскал своего врага Ульбимчо-сонинга и убил его!
Пантелей понял, что вразумлять толмача бесполезно.
— Отыскал-таки! — прохрипел, скрипнув зубами, и толкнул очарованного тунгуса Федотке. Тот обхватил его одной рукой, накинув на плечо его лук, подхватил пищаль, стал отступать к стругам. Передовщик обернулся к обмершей женщине с каменным, бесстрастным лицом, виновато развел руками.
На берегу горел костер, пахло пекущейся рыбой. Увидев возвращавшихся послов, промышленные с недоумением поднялись с мест. Пенда и Федотка волокли под руки толмача, поторапливая его тычками, тот невпопад переставлял ноги, улыбался и горланил тунгусскую песню. Пантелей с Федоткой бросили его у костра. Высвободившись из их рук, он опустился на корточки, хихикая и что-то бормоча.
— Опоили новокреста? — стали выспрашивать промышленные.
Ивашка Москвитин похлопал толмача по плечу:
— Загулял, андаги?[129]
— Встретил обидчика Ульбимчо и зарезал! — неприязненно буркнул Федотка.
Пантелей с досадой взглянул на багровый закат, на дальний берег и плещущие волны на сливе рек, присел с хмурым, озабоченным лицом.
— Ночевать здесь будем! — приказал сердито. — В дозоре стоять по двое. И чтобы не дремать. — Помолчав, добавил, непонятно кому угрожая: — Кожу с плеч спущу!
На миг все притихли. Слышно было, как шипит пекущаяся рыба и потрескивают угли костра. Затем выругался и сплюнул в сердцах Нехорошко:
— Был мир с шаманскими тунгусами — да кончился. Опять воевать и таиться!
Толмач, все еще посмеиваясь, обернулся, сказал внятно и весело:
— Момолеи — не шамагиры! Шамагиры нам мстить не станут.
— Дай-то Бог! — качая головой, вздохнул Федотка. Холмогорец и так, и эдак смотрел на толмача и не узнавал прежнего молчаливого и печального Синеуля.
— Так не мстят! — вскрикнул Пантелей, заталкивая под парку длинную бороду. — Убивец!.. Зарезал умиравшего от ран… Грех на душу взял и нас опозорил.
От таких слов толмач слегка пришел в умишко, перестал хихикать, вскинул проясняющиеся глаза на передовщика и возразил, мешая русские слова с тунгусскими:
— По крепкой родовой крови так было предназначено: врага убить и душу вернуть… — Он помолчал, глядя на огонь-дедушку, и торопливо пропел по-тунгусски: «Гиро-гиро — гироканин!»[130]. — Снова вскинул глаза на передовщика: — Я сказал ему: «Если ты меня спросишь, кто я по роду-крови, то я тот, кому завещали в среднем мире своему племени быть защитой. Аи-Минчак мой отец… Храбрый Укда-мата — мой старший брат. Асикта — имя моей красавицы-сестры. Ты, Ульбимчо-сонинг, долго скрывался от нас. Ты съел наших оленей живыми, даже не прервав их дыхания, ты загрыз моего дядю и моего старшего брата, украл его жену и сделал ее своей женой. За обиды я твою становую жилу вырву указательным пальцем. По твоей жидкой крови играючи поброжу, из длинных твоих костей играючи остов дю поставлю»… Так я ему сказал, — с гордым видом толмач обвел взглядом всех ватажных. — А потом не стал долго с ним говорить, даже не дал рассмотреть себя.
«Берегись, приготовься, Ульбимчо-сонинг! На меня не обижайся, на себя обижайся! Не говори, что я напал на храброго человека, его не известив, не говори, что я убил сильного человека, его не предупредив… До каких пор мне ждать? Теперь я со всей силой нападу на тебя. Ты сам говорил: „Только победивший останется!“ — И я победил, а ты пропал!»
Оружием, прервавшим дыхание моего брата, я открыл его кровь и сказал: «Пока еще дышишь, скажи свое завещание, попрощайся на долгие годы со светлым днем, с родной землей!»
Синеуль замолчал, мечтательно смеживая щелки глаз. Промышленные сердито молчали, думая, чем все это может обернуться для ватаги. Передовщик хмыкнул в бороду, потирая ладонью зачесавшийся шрам, дернул головой:
— Кого там! Кабы четверть того сказал, мы бы с Федоткой все поняли и удержали. Пробормотал что-то себе под нос — чирк рогатиной по горлу хворого, лежачего…
— А душа-то вернулась! — посочувствовал Тугарин.
— Скажи лучше, что делать? — процедил сквозь зубы Пантелей.
— Что теперь? — поскреб затылок старый холмогорец. — Момолея не оживишь. Подарки надо дать… — Кивнул на толмача: — А этого стыдить — какой прок. С крестом, без креста ли на шее, тунгус — он и есть тунгус. — Обернувшись к толмачу, спросил строго: — Еще кому мстить будешь?
— Нет! — улыбнулся Синеуль. — Другой[131] вернулся.
На западе, за высоким хребтом, густо заросшим лесами, догорала вечерняя заря. Она играла багровыми бликами на порозовевшем стрежне реки. Пуская круги по воде, у берега плавилась рыба. Кричали утки, задержавшиеся с отлетом. Вскоре на сереющем небе замерцала первая звезда.
— Утро вечера мудренее! — прервал тягостное молчание Нехорошко. Зевая и крестясь, стал моститься на лапнике у костра. Его лицо в сумерках казалось помолодевшим. И был в тот вечер поперечный устюжанин удивительно покладист, набожен и тих.
Наползла из таежных дебрей темень, накрыла землю черной ночью. Выставил дозоры и улегся передовщик, читая про себя молитву, винясь, что не упредил ненужное убийство.
— Утром пойдем каяться и откупаться! — сказал, зевая. — А наши наказывали торопиться, плыть без остановок и возвращаться без задержек… Грехи…
Под утро снова пал туман, густой, как скисшее молоко. Кто-то, проснувшись, подбросил дров в костер, и он мерцал в сумеречной белизне, едва высвечивая тех, что лежали по другую сторону. Кутаясь в шубные кафтаны и одеяла, промышленные отсыпались впрок. Гнус не донимал, кому-то сладко спалось под утро, кому-то радостно лежалось. Даже дозорные к утру сомлели, то и дело встряхивая головами. Где-то под берегом хлопали крыльями утки, в лесу граяли какие-то птицы или нежить с нечистью радовались утренней пелене.
Едва завиднелась в пяти шагах от костра куча хвороста, зевая и охая, поднялся Нехорошко. Крестясь и кутаясь в парку, он подбросил дров в костер, звякнул котлом, расправил свалявшуюся бороду, надел шапку и пошел к воде. Пламя взметнулось, набирая силу. Спавшие стали отодвигаться от жара. Приоткрыл глаза передовщик, парка на его боку едва не тлела. Он отодвинулся, ругнув устюжанина, бросил сонный взгляд ему вслед. Нехорошко нагнулся, зачерпнул воды, распрямился — и с плеском повалился в реку.
Пантелей приподнялся на локте, думая, что тот оступился. Но Нехорошко, раскинув руки, медленно поплыл вниз лицом. И тут передовщик разглядел торчавшую из его спины стрелу. Федотка схватил пищаль. Синеуль с воплем пустил стрелу к яру — туда, откуда прилетела вражья.
Вскочили промышленные, запалили фитили на лежавших под боком пищалях, рассыпались и залегли кто за комлем, кто за камнем. В тумане с высокого берега раздался хохот, заверещали, захлопали в ладоши русалки, утробно булькнул водяной. Передовщик не спешил открывать стрельбу: помнил детишек, испуганно уходивших от матери в лес. Обернулся к реке.
— Тугарин! — кивнул на плывущее тело, уже едва видимое в тумане.
Холмогорец, защипнув фитиль пищали, босыми ногами прошлепал по воде, выволок Нехорошку на берег, перевернул набок. Взглянув в лицо спорщика, перекрестился, безнадежно махнул рукой, показывая ватажным, что тому уже не поможешь, вернулся к пищали, снова запалил фитиль от уголька.
Никто не стрелял. Никаких человеческих криков не было. Пантелей решил, что в таком густом тумане искать врага — только себе вредить, и наказал пятерым подняться на яр, оглядываться по сторонам и стрелять картечью во всякую приближающуюся тень. Шестеро промышленных подошли к телу, склонились над ним.
— Чуял кончину! — всхлипнул Семейка Шелковников. — И отцу доли своей не дал, как тот ни просил его.
— От судьбы неминучей никто не уйдет! — снимая казачий колпак, сказал передовщик. — Не здесь, так в другом месте принял бы стрелу в сердце. Значит, так ему на роду написано, так на судьбе завязано. — Он хотел перекреститься и спохватился, что не помнит крестного имени Нехорошки.
— Никола! — смахнул слезу Ивашка Москвитин.
Сивобород обидчиво процедил сквозь зубы:
— Судьба судьбой, а кабы толмач не зарезал тунгуса, Нехорошко не получил бы стрелы в спину! — В словах гороховца был намек на грех передовщика, роднившегося с Синеулем.
— Ну накажи его, как знаешь! — отрезал Пантелей и, подумав, поправился: — Как чуница позволит. А сам толмачить будешь.
Пятеро с ружьями в руках хмуро посмотрели на Синеульку. Тот своим видом показывал, что опечален убийством, но лицо его было не тем, к которому все привыкли.
— Ожил! — приглушенно выругался Сивобород. — Волка поститься не приучишь!
Под яром гулко ухнула пищаль, за ней прогрохотала другая. Эхо прокатилось по невидимому руслу реки. Пороховой дым повис над табором.
— Послышался хруст! — вернулся к костру туруханец. — Вдруг и показалось. — Неуверенно пожал плечами, сел, зажал между колен пищаль и молча стал чистить ствол от нагара, перезаряжать ружье. Утихли крики в тумане, бежала испуганная выстрелами нечисть, чуть приметное движение ветра колыхнуло пламя костра.
Привычным рывком Пантелей выдернул стрелу из тела, Нехорошко дернулся, как живой, из рваного отверстия хлынула темная кровь.
— Судьба! — повторил, показывая окровавленной стрелой на спину покойного: — Ни лопатку не задела, ни ребер — прямо в сердце, будто бес целил! — Обернувшись к скорбным устюжанам, приказал: — Обмойте да нарядите… Николу. Пока не застыл… Кто намок — сушись у костра!
Вскоре туман рассеялся и на востоке на радость живым заблестело красное солнце. Оставив возле покойного его земляков, передовщик повел ватажку к урыкиту.
Два чума стояли на том же месте. Среди сосен и берез был поставлен новый шалаш, крытый берестой. Из него торчали ноги покойного в лэкэмэ[132]. Рядом с безучастными лицами сидели старик со старухой. Ни вчерашней чертовки с распущенными волосами, ни детей в чумах не было. Не было и оленей. Старики не оборачивались к ватажным и не отвечали на вопросы Синеуля, будто оглохли и ослепли.
Промышленные обшарили всю округу и обнаружили, что находятся на большом острове, отделенном от матерой земли широкой протокой. Баба с детьми и с оленями явно переправилась через нее и ушла в черновой лес, где тунгусов искать — только время терять. Никаких других следов на острове не было.
Они вернулись к старикам, рассуждая, кто мог пустить стрелу с такой силой, что та чуть ли не навылет пробила спину устюжанина. Синеуль бесцеремонно ощупал плечи старика и, помотав головой, сказал, что натянуть тетиву тот бы не смог.
— Чертовка лупоглазая! — выругался передовщик, уважительно подумав о женщине. — Шаманка, наверное! — Вспомнив, как она глазела на Синеуля, спросил: — Не жена ли твоего убитого брата?
— Да! — мимоходом ответил толмач по-русски и принялся пытать стариков.
Но те на его угрозы презрительно отвечали, что старые, бояться им нечего: предки в нижнем мире уже заждались их.
Синеуль перевел ответ, взглядом спрашивая передовщика: что делать? Пантелей приказал оставить стариков и возвращаться. Закинув на плечи луки и пищали, промышленные безбоязненно пошли к берегу.
На стане Ивашка с Семейкой обмыли покойного. Они просушили и распороли его одежду, чтобы не было узлов, и неумело мучились, обряжая задеревеневшее тело.
— Покойные боли не чуют! — глядя на их старания, усмехнулся передовщик, прислонил пищаль к борту струга, уперся коленом в грудь покойного так, что у того из глотки вырвался хрип, и заломил окоченевшие руки, крестообразно складывая их на груди.
Устюжане боязливо отпрянули, услышав хрип, смутились, крестясь. Оказалось вдруг, что обмытого, посветлевшего лицом Нехорошку некому отпеть по полному чину. Среди ертаулов одни были молоды, другие одичали в урманных лесах. Пожилой долговязый Тугарин, несуразно размахивая длинными руками, прочел над покойным короткую, складную и тихую молитву, смущенно признался, что может только подпевать тем, кто знает полный обряд.
Пока копали могилу, передовщик хоть с запозданием, но прочел по памяти молитву на исход души да по Псалтырю, что знал и помнил. Долбить колоду и отпевать по чину три дня ватажка не могла. Уже плыл по воде последний лист и утренние заморозки прибивали гнус. На Юрьевой горе изголодавшаяся ватага ждала хлеба.
Вытряхнув труху из коры старой сгнившей березы, тело обернули берестой и с честью предали земле в тот же день, как отошла душа Николы Нехорошки. На яру поставили тесаный крест в полторы сажени, видимый всем плывущим по реке, крестясь и кланяясь, обошли могилу три раза. Затем столкнули струги на воду, поплыли, поминая покойного в молитвах и в мыслях. Едва они начинали отвлекаться на дела дня, передовщик запевал громким голосом:
— …Упокой, Господи, душу раба твоего…
— …На Тя бо упование возложи, Творца и Зиждителя и Бога нашего, — подхватывали гребцы. Их скорбные голоса неслись по воде, пугая зверей и птиц.
— …Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная, — пел Пантелей во всю силу голоса, до кашля, до хрипа, и все казалось ему среди просторов, что голос едва слышен товарищам на стругах.
— Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа, слава Тебе, Боже, — подхватывали, налегая на весла, промышленные. И чудилось им, что ворчливый Нехорошко, присев на борт, мотает головой на длинной шее, сердится, требует петь громче, душевней.
Позже молодые устюжане признались, что даже запах его чувствовали рядом с собой. Погрешили, схоронив тело не по чину, а по-другому не могли: зима и стужа наступали на пятки, погоняли белым помелом инея.
Синеуль, сидя на среднем весле, оглядывался к берегу, на лице его играл румянец, в глазах не было ни вины, ни скорби. Это сердило ватажных, но никто не попрекал тунгуса. Через кого вершится воля Божья — не им, грешным, судить. Толмач, поправляя на груди кедровый крест, тоже пробовал подпевать. Под крестом висели обереги из оленьего меха.
* * *
На третий день ертаулы помянули Нехорошку рыбой, утятиной, ягодой, еще через два дня они увидели тунгусский урыкит и пристали к берегу. Передовщик отсыпал из казны пару горстей бисера, приказал Федотке с Семейкой при пищалях следовать за ним и не спускать глаз с толмача. Синеуль искренне клялся тунгусскими духами и русскими святыми, что врагов у него больше нет и он никого убивать не будет.
На сухой поляне на краю старого леса со свисавшими с елей бородами мха стояли пять чумов, покрытых берестой и дублеными кожами. Тунгусские собаки с волчьими брылами и короткими висячими хвостами бросились к чужакам, без лая, но с угрожающим рыком обнюхали их на подходе и сопроводили до самого урыкита.
Здесь стоял многочисленный род шамагирского племени: семеро мужиков, не считая стариков и подростков. Тунгусы без страха вышли к путникам, стали презрительно рассматривать их мохнатые лица, притом охотно отвечали на расспросы Синеуля. Больше других их заинтересовал Пенда с длинной бородой, с густыми волосами до плеч.
Узнав, что гости никогда не были у йохов, шамагиры стали доверчивей, заговорили с ними, не показывая насмешек. То, что русичей перепутали с йохами, передовщик принял за добрый знак.
По словам лесных людей, йохи жили оседло ниже по реке в одном дневном переходе. Они засевали поля, держали много скота и были вечными врагами лесного народа, но нужда заставляла тунгусов вести с ними мену и торг. Шамагиры расстались с йохами четыре дня назад, выменяли у них на меха мешок крупы и быка, которого уже съели.
Услышав о зерне, Пантелей загорелся желанием посмотреть товар. Тунгусы охотно выволокли из берестяного чума кожаный мешок, щедро отсыпали гостям едва ли не половину бывшего в нем проса, ничего не требуя взамен и не торгуясь. Передовщик с благодарностью принял подарок, одарил хозяев бисером и даже отдал им свою иглу. Ответные подарки не удивили тунгусов и не вызвали у них какого-нибудь оживления. Пересыпая из ладони в ладонь зерно, Пантелей как-то резко опечалился, потом кивнул толмачу:
— Спроси еще раз, похожи ли йохи на нас? — А когда услышал в ответ, что те бородаты, волосы у мужиков не длинные, то переспросил: — На кого из моих людей они больше походят?
Выслушав толмача, тунгусы не задумываясь указали на дородного Семейку Шелковникова. Припозднившаяся борода молодца едва курчавилась по широким скулам, волосы были стрижены на московский манер кружком с подрезанной над бровями челкой.
Пантелей взглянул на Семейку, на его открытое, конопатое лицо, на почерневший кедровый крест поверх льняной рубахи, спросил, нет ли у йохов таких же крестов. По лицам тунгусов он понял, что озадачил их. Поспорив меж собой, они сказали, что видели у йохов кресты на деревянных домах. И стали указывать руками вверх, дескать, высоко.
— Церкви! — азартно блеснул глазами Федотка. Он слушал толмача, не пропуская ни слова, и уже не сомневался, что йохи — беглецы с Руси: или новгородцы, или промышленные люди. А передовщик все еще занудливо выспрашивал и задавал всякие каверзные вопросы.
По ответам выходило, что лесные народы ходят за железом вверх по реке, к «пыратам». Те тоже похожи на лучи, дают за соболей больше крупы и скота, чем йохи, а железо продают дешевле. Пыраты носят железные рубахи и железные шапки. Летом их большие лодки плавают вверх и вниз по реке, но редко останавливаются для мены с шамагирами.
Слушая новые рассказы тунгусов, Федотка от удивления разинул было рот, но вскоре, догадавшись о чем-то, просиял лицом, задергался от радостного нетерпения. Ясная догадка осенила его, и хотелось молодому холмогорцу крикнуть недогадливому передовщику, что пыраты, о которых смутно упоминали верховые тунгусы, — это русские братья.
Пантелей же занудно выспрашивал, есть ли среди шамагирского рода мужики, знающие язык йохов, а после тыкал пальцем в свою бороду и велел тунгусскому толмачу сказать, как они ее называют.
Тунгус с черными косами по плечам, плутовато поблескивая глазами, несколько раз сряду повторил: «Киэгэл». Передовщик стал указывать на просо, на кости съеденного быка, погрызенные собаками, на свои волосы. Лицо Семейки слегка опечалилось. Пантелей оглянулся на него, на смущенного Федотку, усмехнулся и обнадежил:
— И на Дону многие слова с московскими разнятся!
Федотка вытащил из-за пазухи серебряное блюдо, отнятое позапрошлым летом у кондагира. Рассматривая его, тунгусы опять загалдели, уверяя, что такой посудой торгуют народы с верховий реки, йохи такой посуды не делают. Передовщик, напрочь замороченный, запутавшийся, тоскливо опустил глаза и поскоблил рубец под бородой. До встречи с шамагирами ему было понятней, к какому народу он ведет своих ертаулов.
— Да браты же это, браты! — приглушенно пролепетал Федотка и понял вдруг, что плыть-то все равно придется к йохам, иначе зимы не пережить.
Передовщик не повел ухом в его сторону и стал настырно уговаривать тунгусов выдать им вожа. Те наотрез отказывались идти в обратную сторону. Чтобы как-то прельстить их, Пантелей показал остро отточенный топор, которым в один мах срубил березку в два вершка толщиной. Он нарушал наказ мангазейского воеводы и брал грех на душу по крестоцелованию.
Упросив шамагирского толмача сопроводить свои струги, русичи-лучи в тот же день успели спуститься по течению реки верст на десять. Вечерело. Красное солнце уходило за западный хребет. Струги подошли к причудливой скале, на которую то и дело указывал шамагир. Высадившись на берег, ватажные увидели жертвенник, сложенный из плотно подогнанных камней, и гладкую скалу, исписанную древними знаками. Шамагир почтительно называл имя Улуу Ажарай — хозяина этой горы и реки.
Через Синеуля ертаулы стали расспрашивать тунгуса, что за народ исписал скалу. Шамагир отвечал, что царапает камни дух, который живет в горе. Так он дает людям всякие предсказания. Сюда приходят разные люди с низовий, и все они, проплывая мимо, почитают Ажарая — хозяина реки и горы, приносят ему жертвы.
На родовое капище это место никак не походило. Неподалеку от скалы виднелись следы костров и долгого пребывания людей. На западе уже разгоралась заря темная, вечерняя, и передовщик, окинув местность осторожным воинским глазом, велел готовиться к ночлегу.
Струги были вытащены на сушу и перевернуты вверх дном. Путники стали таскать дрова к костру, стелить лапник и траву для отдыха.
— Знаем их жертвы, — ворчал Сивобород, высекая огонь. Затлела искорка, он начал раздувать трут. Лицо его было красным от натуги, глаза слезились. Покашливая, он сварливо ругнулся: — Сожрут лося, шкуру на кол повесят — вся жертва.
— Значит, такой с них спрос у Бога! — рассеянно обронил Пантелей, разглядывая скалу. При скрывшемся солнце среди едва различимых, выбитых на ней знаков объявлялись другие. То ли эти наскальные рисунки, то ли навязчивые мысли о йохах и братах тревожили его душу: передовщик снова и снова вспоминал все слышанное о народах, живущих к восходу.
Синеуль подошел к нему, тоже засмотрелся на скалу в лучах заходящего солнца, кивком головы указал на шамагира:
— Говорит, что Улуу — предок всех ворон и воронов, через его сына люди получили огонь, а его потомки рождаются среди людей с вороньими головами.
Ватажные были веселы, с нетерпением дожидались ужина. Сивобород и Тугарин варили кашу в двух котлах. Не всякий поп с дьяконом священнодействовали в алтаре с таким вдохновенным видом, как они. Любое их слово, любой жест или пожелание на лету улавливались и радостно исполнялись. Синеуль с вожем переговаривались между собой и пекли на рожнах жирные куски осетрины. Глядя, как капает с рыбы жир, как шипит и попыхивает на углях, Сивобород мимоходом спросил у своих:
— Заправим кашу?
Гребцы возмущенно загалдели. Тугарин позеленел лицом, бросая на гороховца колючие взгляды и хлюпая сырым носом.
— Чего удумал! Ждали-ждали людской еды, сквернили душу: глаза бы не смотрели на те хвосты… А тут возьми да испорть просо.
— Ни соли, ни масла, — препирался Сивобород.
Когда напрела и чуть остыла каша в котлах, на небе вызвездило. Тунгусы, довольные сытным ужином, уже посапывали. Промышленные, помолившись, принялись за кашу. Ели они молча и неторопливо, с благостными лицами. И только передовщик равнодушно черпал ложкой из котла, думая о делах, при этом постоянно оборачивался, поглядывая на черную скалу.
Привиделся ему в ночи чудный сон, в котором он восчувствовал себя другим человеком: достойным и правильным — не чета себе нынешнему. И казалось ему, будто он знал эту реку всю прежнюю жизнь, будто прожил в этих местах долгие, благополучные годы. Его народ хорошо понимал повадки зверей и рыб, а он в годы молодости среди своего рода был лучшим добытчиком.
Но в преклонные же лета не было ему покоя. Готовясь уйти в другой мир, чтобы потом вернуться молодым, полным сил и радости, он боялся забыть все, что узнал в этой жизни, не хотел заново искать водопои, переправы и кочевые пути лосей.
И тогда с каменными долотами старик полез на скалу, чтобы сделать памятку для своей будущей жизни: где держатся лоси, как их добывать загоном и куда следовать за ними весной…
Чудной был сон. Пантелей открыл глаза в утренних сумерках и перекрестился. Предстала перед взором знакомая по сну, темная еще скала. Глаза отыскивали расселины, по которым он не раз поднимался, выступы, на которых стоял, выбивая знаки. И казалось ему, будто в носу еще свербит от запаха тесаного камня и пыли, что мозолистые руки помнят шероховатую округлость каменного долота и молота.
«К чему бы?» — думал, зевая и крестя рот. Вспомнилось, что во сне у него была длинная борода и парка из оленьей шкуры без единого шва, надевалась она через голову.
Заворочались, закашляли, засопели Сивобород с Тугарином. Как Нехорошко при здешней жизни вставал раньше всех, так они теперь просыпались, будто их будил погибший товарищ.
Гороховец накидал веток на чадившие угли, придвинулся к костру вместе с одеялом и стал раздувать огонь, заслоняя ладонью бороду. Стоявший в дозоре Ивашка Москвитин, ни слова не говоря, влез в середину спавших и укрылся. У него перед отплытием был часок для сна.
Пантелей поднялся, позевывая надел просохшие бахилы, туго подвязал их задубевшей бечевой, густо смазал дегтем и направился к скале. Розовел восток, мигала последняя звезда, сонно высматривая сумеречную землю. Утренняя заря выводила на небо отдохнувших коней. Блеснул первый солнечный луч — заревой да рассветный, стрелой полетел на запад, к Руси.
Передовщик подошел к скале. Ему хотелось разглядеть лосей, которых выбивал во сне. Но каменная стена была темна, не виделось даже знаков, высмотренных вечером. Пантелей походил под скалой, попинал мягким носком бахила опутанные сухой травой камни. Скол одного из них показался ему знакомым. Он нагнулся и поднял его. Пальцы знакомо обхватили шершавое, сбитое долото.
«К чему бы?» — снова подумал казак, крестясь и кланяясь на разгоравшийся восток. Вскинул глаза на заалевшую скалу и увидел темные очертания знакомых лосей и загонщиков. Едва поднялся над лесом краешек солнца, снова пропали лоси, но выступили другие знаки, которым поклонялись здешние шаманы.
Подкрепившись остатками разогретой каши, ертаулы столкнули струги на воду, разобрали весла, каждый занял свое место и замер, глядя на кормщика, на отдалявшийся берег. Пантелей, торжественно помедлив, махнул рукой, и струги пошли на стрежень. Шамагирский толмач указал рукой на дальнюю вершину сопки, за которой, по его словам, были бикиты йохов.
— А вдруг — ваши? — смущенно улыбаясь, Ивашка Москвитин обернулся к Федотке. — Вдруг до сих пор помнят обиды Москвы? Старики сказывают, деды нынешнего царя, Захарьевы-Юрьевы, Великий Новгород дотла разорили, много крови христианской пролили. Лучше бы здешним-то и не знать, кто нынче царь.
— Придем — а они нас, устюжан, не примут? — обидчиво взглянул на холмогорца Семейка.
Загребной холмогорец, слушавший разговор, со смехом посочувствовал:
— Шапки спрячьте и рот не раскрывайте, по одежке не узнают. А спросят — скажем, из сибирцев.
Такой ответ на некоторое время успокоил Ивашку, но рассердил Семейку. Посопев, он обернулся к говорившему:
— Коли при ваших дедах их деды ушли с Руси — вдруг здесь и поумнели. Сказывают: что ни смута — все новгородцы заводчики.
— И двух царевичей удавили, двух царей отравили? Народа завистливей и склочней московских бояр по всей Руси не сыскать, — ругнулся было Тугарин.
Заметив признаки раздора, передовщик строго прикрикнул:
— Угомонись! — Ударил кулаком по борту, грозно взглянул на старого холмогорца. Тот шмыгнул носом, отвернулся, налегая на весло, вымещая на нем застарелую обиду.
— Давно это было! — мирно заметил Федотка, щурясь на полуденное осеннее солнце. — Быльем поросло.
Скалы и хребты, сжимавшие реку, отступили, сменившись прибрежными долинами. За излучиной открылся низкий пологий берег, покрытый ровной желтеющей травой. Судя по виду, он часто подтапливался разливами, а по весне покрывался буйным разнотравьем. С берега доносился запах скота.
Гребцы, оглядываясь по сторонам, стали веселей налегать на весла. Луга сменялись другими лугами, и вот вдали показался табун. Глаза передовщика впились в темные пятна, которые можно было принять за медведей, если бы их не было так много в одном месте. А струги неслись по реке, приближаясь к селению. Уже все видели, что это лошади — низкорослые и лохматые.
— Знаю лошадок у степняков, но не таких, — почесал шрамленую щеку передовщик, невтерпеж зазудилась старая отметина. Глаза его восторженно следили за лошадьми, ноздри раздувались, вдыхая запах коней. Холмогорцев и устюжан восхищали береговые луга. Они первыми заметили выкошенные злаковые поля. Поросший кустарником холм у воды разделял их.
Едва струги стали обходить его, шамагирский толмач, скалясь, указал на берег. Пантелей как ни вглядывался, не нашел, на чем остановить глаз. Вож ткнул пальцем в крест на груди Синеуля и снова — в даль. Глаза ертаулов не отыскали ничего похожего на купол церкви.
— Эвон! Шест с крестовиной! — понял тунгуса Сивобород.
Все разочарованно уставились на конец шеста, показавшегося из-за горы, вскоре увидели стадо коров, потом вдали от воды показались большие, высокие юрты, возле которых был поставлен этот самый шест с перекладиной.
— Бикит! — выкрикнул шамагир, удивленно разглядывая печальные лица промышленных.
— Как чуял! — криво усмехаясь, мотнул головой Пантелей и неторопливо поправил выгоревший на солнце колпак.
Холмогорцы и устюжане отметили, что коровы, лениво глядевшие на плывущих, не раздоены и кормятся на мясо.
Обогнув мыс, струги вошли в заводь и ткнулись носами в берег.
— Все! Суши весла! — встал на корме Пантелей.
Загребные выскочили на сушу, за ними, по порядку, вышли гребцы. По команде передовщика они вытащили струги так, чтобы при нужде можно было легко и быстро столкнуть их на воду.
— Бикит! — снова указал рукой шамагир, недоумевая, отчего не радуются лучи. Синеуль что-то буркнул, и тот с равнодушным лицом присел на корточки.
Юрты на берегу не были кочевыми: они строились из бревен, поставленных стоя с наклоном кверху вместо крыш. Снаружи стены были обложены дерном. И было юрт около десятка. Некоторые по две, по три соединялись между собой утепленными переходами. Распахнутые двери были вытесаны из распущенных плах. Крепились они навесами и были наклонены, как и стены, оттого держались либо распахнутыми настежь, либо закрытыми наглухо. Возле жилья горел костер, до реки доносился запах паленой шерсти. На шестах, украшенных цветными лентами, сидело множество непуганых ворон.
— Похоже, на праздник угодили! — поморщился передовщик.
Синеуль спросил шамагира, и тот коротко ответил:
— Ысыах!
— Йохи нынче молятся верхним творцам!
— Три года спешили на восход, чтобы соборно помолиться с родственниками! — проворчал Пантелей, глядя на воронье и шевелившиеся на ветру ленты.
Босоногая толпа чернявых детишек в кожаных рубахах заметила прибывших и бросилась в одну из юрт. Оттуда кто-то выглянул, заслонив глаза от солнца.
— Мирно живут, без страха и дозоров! — отметил передовщик, опоясываясь саблей, которую в струге держал под рукой.
Из селения, стоявшего на пригорке вдали от реки, вышли три мужика в камчатых[133] рубахах и островерхих шапках с двумя козырьками. Из-под них свисали белые, коротко подрезанные волосы. Издали лица их казались черными и лоснились от солнца. Ясно виделись короткие, тоже белые, бороды. Шли они явно не по-русски: переваливаясь сбоку набок и тяжело передвигая ноги. Вместо посохов в руках их были широко раскованные рогатины с короткими черенками. Эти люди не спустились к реке, где толпились гребцы, а подошли к коновязи и остановились, явно поджидая гостей.
Федотка бросил тоскливый взгляд на шамагира и приглушенно проворчал:
— Выспрашивали ведь про волосы: черные или русые?
Передовщик жестом приказал ему и тунгусам следовать за ним. Сам же заломил казачий колпак на ухо, расправил усы, распушил помелом бороду. Шамагир разложил черные косы по плечам и задрал нос, сделав лицо непроницаемым. Синеуль пригладил длинные, распущенные волосы, поправил крест на груди. Пантелей окинул их строгим взглядом, размашисто перекрестился и двинулся к коновязи. За ними последовали и Федотка с толмачами.
Гости остановились в пяти шагах от стариков, с любопытством разглядывая их лица и одежды. Задрав приплюснутый нос, шамагир шагнул вперед передовщика и загыркал приветствие. Старики закивали большими головами, поглядывая на приплывших путников с ленивым любопытством. Шамагир говорил долго, Синеуль же передавал его слова кратко. Потом добавил:
— От их Белого светлого господа, творца Вселенной, поздравляет с праздниками, желает увеличить табуны белых лошадей, которых у того бога не счесть… Про здоровье родственников и скота спрашивает, — пояснил. Помолчав, вопросительно вскинул глаза на передовщика: — Есть зовут!
— Можно и поесть, раз зовут! — согласился Пантелей. Синеуль перевел сказанное шамагиру, тот — йохам.
Седые, дородные и крепкие старики, потоптавшись на месте, направились в обратную сторону. Послы двинулись за ними. Следом шли тунгусы-толмачи.
Встречавшие ввели гостей в самую большую юрту, стоявшую посередине селения. Под ее вытяжным отверстием тлел кизяк в очаге. Просторное жилье было завешано изнутри коврами из шкур и шелковыми тканями с причудливыми рисунками. От двери до двери — по кругу, как в русских избах от кутного угла до сиротского, — были положены нары, застеленные шитыми из оленьих шкур коврами. Освещалась юрта через окна, затянутые бычьими пузырями.
У очага, со всех сторон обложенный подушками, сидел не старый еще князец в золоченой островерхой шапке. Он глядел на гостей с достоинством и для пущей важности раздувал лоснившиеся щеки.
Пантелей поклонился по-казачьи. Стараясь подражать голосу и манерам воеводы Палицына, поприветствовал князца и весь его народ. Слова передовщика тихо перевел Синеуль для шамагира, а тот громко загыркал, неприязненно глядя на князца.
Князец с важностью повел взглядом, принимая приветствие, неспешно ответил на него и велел гостям садиться напротив. Ходившие почетными послами старики сели по обе стороны от него. В юрту то и дело входили люди, одетые победней и попроще стариков. Они с любопытством глядели на прибывших и степенно рассаживались на нары. У одних жесткие волосы на головах висели, как трава на кочке, у других торчали дыбом.
Передовщик одарил князца головными соболями, дал по соболю старикам и велел Федотке одарить всех собравшихся бисером, горностаями и белками. Сам же он сел, по-татарски поджав под себя ноги в бахилах, и положил саблю на колени. Оглядывая собравшихся, передовщик все никак не мог понять, почему тунгусы так упорно путали этот народ с русичами.
Князец принял дар с довольным видом, потряхивая соболей, полюбовался черным ворсом и голубым подпушком. Сунув пушнину за спину, спросил, от каких родителей и в какой земле они родились, кто в той земле известные тойоны и ханы?
Пантелей стал рассказывать о Великой Руси, что лежит на западной стороне в трех годах пути от здешней реки, о могущественном и справедливом государе, которому платят дань многие народы. А государь защищает их всех от разбоя, оберегает и жалеет. Рассказал он и о себе: о сыне и внуке воина, о широкой степи между морями, где живут одни воины.
Говорил передовщик искренне. В то же время чувствовал, как бес посмеивался над его правильными словами. И мысленно он оправдывался перед ним: не рассказывать же этим людям о боярских кознях и нескончаемой междоусобной войне.
Слушая казака через толмачей-тунгусов, князец все ниже и ниже опускал голову. Одна его бровь нарождавшимся месяцем наползала на круглую щеку, другая выгнулась дугой, из-под нее сердито поблескивал черный глаз. Едва Пантелей умолк, он, шумно вздохнув, уставился на него в оба глаза и сказал, что в прошлый раз тот говорил, будто из одного конца владений его хана в другой — ехать на хорошем коне три месяца.
Пантелей ничего не понял, кроме того, что уличен во лжи. Переспросил толмача. Пока тунгусы сговаривались и уточняли сказанное, он и князец буравили друг друга пристальными, горделивыми взглядами. Но торопливо залопотал Синеуль, загыркал шамагир — и взгляд князца смущенно обмяк.
— Сильно похожие на вас приезжали прошлый год! — сконфуженно прокряхтел он. И стал говорить без бахвальства, что его народ никому ясак не платит и ни с кого не берет: им всем хватает своего богатства. Даже с тунгусами живут они мирно, а вот с родственниками мира нет. — Покачал тяжелой головой.
— У всех так! — посочувствовал передовщик. — Наш Бог говорит: «Не бойся-де врага: он может всего лишь убить или ограбить. А единокровники, случается, предают». И велит наш Бог своих терпеть и прощать, потому что сам от них по плоти претерпел обид больше всякого смертного.
Выслушав шамагира, князец задумался, покачивая головой. Понравился ему такой Бог. В самую печенку вошли слова гостя о родне. И стал он расспрашивать про русского Бога, удивляясь услышанному и приговаривая:
— Справедливый Бог! Правильный! Наверное, близкий родственник нашему Великому тойону, который судит богатырей-олонхо и простых людей. — Возвел глаза к вытяжному отверстию юрты.
По правую руку от него сидел муж в дохе из шкуры белого жеребенка. К спине был пришит повод с бубенцами, шапкой ему служила шкура коня, снятая с головы: с торчащими ушами и с гривой, ниспадавшей на шею. По виду это был шаман, но бубна у него не было. Мотая головой, как конь, он стал что-то напевать. Все йохи, слушая его, почтительно опустили головы, и можно было понять, что поющий жрец восхваляет Творца Вселенной.
Синеуль зашептал ватажным, узнав от шамагира, что белые жрецы не покидают своих тел, не уходят в другие миры, не имеют духов-помощников — они только славят богов, заклинают их и приносят им жертвы.
Едва закончилось пение, молодые женщины в длинных шелковых рубахах, с волосами, прибранными в косы, стали стелить красные кожи вокруг очага. На них выставляли парящее мясо — жеребятину с желтыми, подрагивавшими гроздьями жира, телятину в деревянных корытцах. На блюде старого черного серебра подали душистые овсяные лепешки, в берестяных туесках — желтое коровье масло.
Серебро и лепешки очень заинтересовали русских гостей. Федотка, до того молчавший с умным видом, незаметно ткнул локтем передовщика, кивнул на блюдо. Тот и сам подумывал, как бы осторожно спросить о серебре. Похвалив еду и красивую посуду, стал расспрашивать, не сами ли йохи добывают и чеканят серебро.
Князец с важностью ответил, что у него есть свои кузнецы, но товары из серебра и шелка он получает от народов, живущих в верховьях реки. С теми народами и спутал, дескать, гостей. Думал, опять приплыли для мены.
Федотка заерзал на оленьей шкуре, вслушиваясь в сбивчивые пересказы шамагира и Синеуля. Князец короткими, толстыми пальцами взял из корытца большой жирный кусок жеребятины. За ним потянулись к мясу лежавшие и сидевшие старики.
Взял нежирный кусок телятины и Пантелей. Принялись за еду толмачи. Федотка придвинул к себе чашку с молоком. Было оно жирным и густым, как сливки. Раз и другой отхлебнув, молодой промышленный вспомнил родной дом, где в скоромные дни молока пили досыта. И так вдруг захотелось ему молока, без которого жил эти годы, что он едва сдерживался, чтобы не выпить все разом. Девка с черными косами приметила его страсть, сразу же долила в чашку из кувшина и придвинула ее к холмогорцу.
Насытившись, йохи стали отдуваться, икать и подремывать. Белый жрец запел богатырские былины. Один из стариков приложил к губам плоскую костяшку. Раздался печальный и торжественный звук. Прислушиваясь к протяжной горловой песне, Пантелей свесил голову: встала перед его глазами нагретая солнцем вечерняя степь с трескотней сверчков. Запах лошадей напомнил о запахе ковыли и всего того, что было оставлено смолоду в вечной смуте и нескончаемой войне.
Федотка же вдруг побагровел, схватившись за живот, испуганно заводил глазами, раз и другой вытер пот со лба, в утробе у него заурчало. Холмогорец беспокойно задергался, бросая тоскливые и виноватые взгляды на передовщика, вдруг резко подскочил и убежал к реке.
Стряхивая навеянные песней чары, Пантелей посмотрел ему вслед посоловевшими глазами и стал ждать удобного случая, чтобы начать разговор о мене. Вскоре в юрту вошел Ивашка Москвитин и молча сел рядом с ним. Йохи, судя по их лицам, не заметили, что ушел один, а вернулся другой.
Песня прервалась. Князец что-то одобрительно буркнул. Шамагир сказал Синеулю, а тот передовщику, что йохи хотят слышать песню гостей. Пантелей с пониманием кивнул, раздумывая, чем удивить здешний люд: напевными ли богатырскими былинами, жалостливыми ли божественными песнями?
Разбуженная тоска по степи билась в его груди, душа просила удалой казачьей песни. Он вскинул голову, свистнул так пронзительно, что все подремывавшие вздрогнули и вытянули шеи. И запел казак во весь голос про вороного коня и вострую саблю, про удалую волю, про лихую долю воина.
Глядя на лица йохов, он понял — восчувствовали казачью песню и радуются, что гость может повеселить их богов. Иные из них стали подергивать руками, притопывать ногами. Вид слушателей пуще раззадорил казака. Не в силах усидеть на месте, он опять свистнул, гикнул, вскочил, приплясывая скакнул через порог на вытоптанную землю и, выхватив саблю, завертелся чертом, будто бился, окруженный рейтарами под стенами Москвы. Ухая и повизгивая, заскакал рядом с ним Ивашка. Толмачи замахали руками, как птицы, запрыгали, как оленята, увидевшие синее небо.
Из юрты, толкаясь в двери, стали вываливаться засидевшиеся йохи, вокруг пляшущих собирались дети и женщины. Ивашка на московский манер прошелся присядью, выбрасывая ноги в высоких сапогах. Пантелей промчался по кругу, размахивая саблей, скакнул и перевернулся через голову. Его молодецкая борода спуталась с длинными волосами, блеснули сквозь них глаза. Тяжело дыша, он со звонким клацаньем вложил саблю в ножны и замер.
В тишине послышалось курлыканье. Все собравшиеся задрали головы и увидели клин летевших к югу журавлей. По поверью йохов, небожители, выражая благорасположение, посылали посредников в образах лебедей или стерхов.
Вокруг плясунов восторженно завопили. Резко забил бубен. Мужики в островерхих шапках схватились за руки и заскакали хороводом, быстро перебирая ногами. Они кружили в одну сторону и кричали «Ека!», кружили в другую — и кричали «Охгок!»
Догорала на небе заря вечерняя, темная, уводила уставших коней с неба синего. Костер возле юрт разгорелся еще жарче. Женщины весело свежевали очередного забитого бычка. Его белая шкура с пятнами крови висела возле загона.
Йохи отнесли к реке вареные головы и мясо. Все промышленные были приглашены на праздник и с разрешения передовщика стали собираться. У стругов оставались караульные и Федотка. Сивобород и Тугарин отпаивали холмогорца отваром брусничного листа и корня шиповника. Он же с печальным лицом упреждал идущих на праздник, чтобы те пили молоко с осторожностью.
Пировали и пели на стане дотемна. Несколько раз хозяева наполняли блюдо свежими овсяными лепешками, называемыми на Руси сиротскими. Промышленные весело смалывали зубами крупнодробленое, склеившееся в лепешку зерно. Последняя лепешка оставалась лежать и зазывала пополнение.
На другой день все промышленные люди поднялись, по обычаю, рано, йохи же не показывали признаков жизни до полудня. Томясь непривычным бездельем, ертаулы шатались по берегу, ловили и пытались объезжать диких лошадок, которые, при малом росте, оказались сильными и злыми. Передовщик сделал недоуздок из бечевы, тоже вскочил на конька. Он один сумел удержаться на нем, проскакав по лугу и даже развернул его, заставив бежать обратно, но не смог остановить и спрыгнул со спины, кувыркнувшись на мягкой земле.
Возвращаясь к стану, Пантелей почувствовал боль в отвыкших от верховой езды ногах, вспомнил, как отец сажал его на коня перед первой стрижкой волос. И казался тот конь высоким, что соборная изба, с него далеко виделась степь. Помнилось, как под копытами сливалась земля и свистел в ушах ветер. Была Троица. Станица гуляла и веселилась.
Заметив, что гости объезжают коней, к ним неспешно спустился один из почтенных стариков. Через шамагира он похвалил передовщика, назвав его олонхо, но при этом сказал, что нынче ездить на конях нельзя, дух — покровитель коневодства и тойон — громовержец могут рассердиться.
После полудня в котлах йохов опять сварилось мясо, запахло кашей для гостей. От юрт снова пришли посыльные, пригласили передовщика с лучшими людьми для разговора о мене.
От одной мысли, что придется целый день сидеть и есть, Пантелею стало не по себе, а в верховьях реки ждали товарищи. Они, как о чуде, думали о сиротских лепешках и вылизывали остатки соли, которая у йохов присыпалась скоту.
Пантелей позвал Федотку. С двумя толмачами они вновь пошли к юртам. В тот день князец расспрашивал о товарах и все удивлялся, что с верховий реки привезли соболей.
Посоветовавшись, йохи показали гостям излишки проса и овса. Передовщик с Федоткой сторговали все предложенное за рухлядь, а также наменяли коровьего масла пуда с три да грязной, смешанной с землей соли пудов с десять. По наказу передовщика Ивашка Москвитин тайком взял в струг один из конских черепов, валявшихся на берегу. По казачьим, да и по московским поверьям, конские кости защищали дом от нечисти.
На другой день ватага поднялась в сумерках. Студеной ночью забереги прихватило коркой хрусткого льда, мелкие заливы и вовсе промерзли. Помолившись на первые лучи солнца, ертаулы привычно разобрали шесты и бечевы, с тихой песней повлекли струги вверх по выстывающей реке. К полудню солнце стало припекать и ожила мошка.
Медленно двигались против течения груженые струги: за день не проходили трети того, что налегке сплывали по течению на веслах. Шамагир от нетерпения и медленной ходьбы бурлаков извелся. Его отпустили, щедро наградив за труды.
Когда ватажные проходили мимо прежней стоянки его рода, там уже почти не осталось следов пребывания людей. Тунгусы ушли за своим вечно ускользающим лесным счастьем, оставив после себя примятую траву, обглоданный оленями мох да присыпанное землей, спрятанное от глаз кострище. Ертаулы хотели ночевать на том же месте, но Синеуль воспротивился, объясняя, что всякий род, кочуя с места на место, убегает от злых духов и сбивает их со следа. Духи мечутся по оставленному урыкиту и могут наброситься на путников, если те по неосторожности остановятся на чужом месте.
Ватажные выслушали толмача и решили не дразнить здешнюю нечисть. Взявшись за шесты и бечевы, они шли дотемна, пока не отыскали поляны, удобной для ночлега.
Холодало. В пасмурные дни с неба сыпала крупка. Следом за птичьими стаями, с севера, настырно ползли Велесовы быки — серые тучи. Дул студеный ветер. Струги то и дело обрастали льдом. Местами приходилось просекаться сквозь застывшие заводи, зато прибило гнус и не мочило дождями.
Ертаулы были уже неподалеку от слива двух рек и острова, на котором похоронили Нехорошку. Вечером, едва они развели костер, в воздухе закружились крупные снежинки, ложась на желтую траву и черную воду реки. Снег становился все гуще и гуще, все плотней укрывал землю. Путникам пришлось спешно сооружать возле костра навес из веток и коры. Под ним они и просушились. Наутро снег поредел, но не прекратился. Подкрепившись едой и питьем, промышленные не стали ждать ясной погоды, а пошли по заметенному берегу, чтобы их не застала в пути зима.
К следующей ночи снегопад кончился, вызвездило небо и похолодало так, что пришлось разводить большие костры, греть землю и ночевать на лапнике. Когда подходили к Николину острову, мимо стругов то и дело проплывали отдерные льдины. День был ясный. Таял снег. На берегу, где схоронили Нехорошку, не было видно креста.
Струги пристали к злополучному месту. Передовщик выставил дозорных. Остальные, разобрав ружья и луки, с предосторожностями поднялись на яр. Здесь они увидели крест брошенным на землю возле вскрытой могилы. Рядом валялась береста, в которую заворачивали тело. С дерева сорвалась и шарахнулась в лес зловещая ночная птица. Сивобород спрыгнул в могилу, пошарил в рыхлой земле тесаком.
— Нету! — сказал, задрав бороду и глядя на товарищей со скорбным лицом.
Чертыхнувшись в сторону Синеуля, невинно смотревшего на вскрытую яму, передовщик спросил его:
— Зачем момолеям тело Нехорошки?
Помявшись, толмач сказал, что те, наверное, пожалели убитого:
— Илэл закапывают в землю самых плохих и подлых покойников, чтобы их дух не выбирался к живым людям.
Он махнул рукой в ту сторону, где стояли чумы, направился туда с луком на плече и с берестяным колчаном за спиной. Пантелей отправил за ним холмогорцев, а сам с туруханцами и гороховцами пошел вдоль берега осмотреть следы.
Вскоре холмогорцы закричали, призывая всех к себе. Передовщик с людьми повернул к месту покинутого урыкита. На поляне все так же стоял низкий шалаш, крытый берестой. Из-под кровли торчали ноги убитого момолея, а возле него, прислоненное спиной к комлю дерева, сидело почерневшее тело Нехорошки. В руку ему вложили рогатину со сломанным лезвием. Для верности ладонь покойного привязали к черенку бечевой. Лицо его было поклевано и погрызено, длинные желтые зубы язвительно скалились.
Почитав над покойным молитвы от осквернения, промышленные подняли с земли останки и понесли их на прежнее место. Искать осквернивших захоронение тунгусов никто не призывал, никто не произнес дурного слова о них, живущих по своим законам.
Синеуль с жаром оправдывал врагов: хотели, дескать, как лучше, — душу высвободить из земли, дать ей занятие — караулить Ульбимчо-сонинга, чтобы не вредила ни своим, ни чужим. Вдвоем веселей.
Переночевав на прежнем месте, на берегу, утром ертаулы увидели множество плывущих льдин и поспешили переправиться на другой берег, пока лед не пошел сплошной стеной. И снова волоклись они против течения, то и дело просекаясь, отталкивая плывущие льды шестами. Сивоборода с Тугарином налегке отправили в зимовье за помощью.
Два десятка подоспевших зимовейщиков подвели струги к обледеневшему устью притока под Юрьевой горой. Едва промышленные выгрузили на берег припас зерна, масла и соли — заскрежетала, загрохотала река, одеваясь белой шубой шуги, а вскоре заторосилась и встала, паря черными, непокрытыми полыньями.
Поминая убитого овсяной кашей, Сивобород с Тугарином степенно рассуждали, что выпала устюжанину доля не самая худшая: смерть напрасная, но легкая, непостыдная и безболезненная — многие грехи за нее простятся. А если даст Бог устюжанам вернуться по домам — семья его получит Нехорошкин пай.
Об этом больше всех говорил Сивобород и печалился о своей неминучей доле. Не за горами была его старческая немочь. Вдруг не даст Господь, по грехам, кончины лихой и своевременной? Родню по свету растерял, богатств не нажил. «Грехи наши! Как-то нам еще сбудется?» — думал.
До Михайлова дня по промысловым станам и в зимовье овес и лепешки из рассыпчатого неободранного проса ели вволю даже по скоромным дням. К Михайле, оставив чуничные станы, промышленные вышли к зимовью для торжества и соборных молитв. Накануне праздника они собрались у большого костра, вспоминали дедовы сказы, как Михайла жезлом своим спихнул с небес дьявола и слуг его и те попадали на землю. Какой пал на избу — стал домовым, какой в воду — водяным, в лес — лешим. И теперь приходится живущим людям как-то с ними ладить и уживаться. Сам же сатана провалился сквозь землю — там его место.
Перед Михайловым днем ватажные посмеивались над собой: едва-де не ржем от овса, не кукарекаем от проса. Но теперь, осмотрев зерновой припас в зимовье, призадумались. При прежнем расточительстве его нельзя было растянуть и до Рождества Господня. А впереди — Филиппов пост.
Передовщик на святого покровителя русского воинства отмаливал прошлые грехи, каялся в нынешних. Промышленные же упрекали его за казачью безоглядность и расточительность. Сами винились, что не думали про припас, который надо было беречь и раздавать строго, а не так — бери кому сколько надо.
После молитв с иконами и с пением ватажные устроили крестный ход вокруг зимовья, потом сели за стол, заваленный мясом, рыбой, ягодой, грибами, стали есть и веселиться во славу сил бесплотных.
Заводилами в песнопениях были Лука да Гюргий Москвитины, оба уже с седыми, будто мукой присыпанными, бородами. Лука, жалея насмерть запуганного домового, бросил шубу за печь да овсяной кашки подкинул, чтобы тому Михайлов день пережить. Поминая подвиги архистратига, устюжане запели «Про падение Адама», о горьком плаче его у закрытых ворот рая. Иные плакали, свесив головы, вспоминая беспечную жизнь на отчине, нужды и страдания, которые пришлось пережить в Сибири. Угрюмка, не смея выскочить из зимовья, ниже опускал голову и не подпевал. Не будила в нем эта песня ничего, кроме памяти об обидах. Вопреки ее словам он верил в свое смутное, неведомое счастье. «Уж для меня-то дверь когда-нибудь откроется», — думал.
Поднял кручинную голову передовщик, вздохнул и приказал развеять грусть-печаль, разогнать тоску, завести старины и былины про подвиги благочестивых людей, про дела давно минувших веков. Такие песни всем им были в радость.
На следующий день, расходясь на промыслы, решили ватажные до поста зернового припаса не касаться, а после Рождества три дня в неделю питаться рыбой, грибами, ягодой и заболонью сосновой. При строгой бережливости остатков зернового припаса могло хватить до Маслены.
В другой раз они вышли из тайги перед Рождеством. Трещали морозы, от стужи стоял по падям густой туман и шелестел воздух от дыхания. Нахохленные птицы безбоязненно облепляли крыши балаганов, если в них отдыхали люди. Тихо было в тайге, только вороны орали возле станов сатанинскими голосами, призывая беды и несчастья. Пусть ненадолго, но в здешнем краю каждый день приходил рассвет.
Отмывшись в бане, молясь и постничая, стали промышленные люди готовиться к Рождеству: шили новые рубахи из кож, сары, рукавицы, чтобы хоть как-то обновиться, приобщаясь к Господу.
Припас мяса, птицы и рыбы не пополнялся с Михайлова дня, а теперь боровая дичь пропала, мясного зверя след простыл, одни только зайцы носились по лесу, чтобы не околеть от стужи. Туруханцы с гороховцами да зимовщики под началом передовщика наловили и наморозили их, сложив поленницами. Опасаясь голода, подняли из берлог и добыли двух медведей. Надвигавшийся голод примирил споривших прежде о богопротивном мясе.
Угрюмка умел себя беречь, с малолетства познав разные греховные выходы из нужды. Он мог поддакнуть воздыханиям богобоязненных людей, но притом старался набить живот свой впрок. Пантелей, познавший истинный голод под Новгородом, когда в брошенном боярами войске конскую падаль почитали за яство, ко всем брезгливым капризам устюжан относился с насмешкой. Быть бы сыту, думал. Оскоромиться — грех, запоститься до смерти — втрое хуже.
— К Рождеству рубаха хоть сурова, да нова! — хвастался своими руками сшитой одежкой из отмятых заячьих шкур, с гордостью показывал ее всем и готовился надеть на светлый праздник.
На сочельник передовщик выставил на стол распаренное просо, а на Рождество жирную медвежатину, остатки сухой козлятины, да зайцев, бруснику, клюкву, квас, пиво, морсы. Нашлось чем порадовать промышленных и всех святых, помогавших им в промыслах. Наполнял Пантелей братину, пускал ее по кругу, призывая товарищей к веселью и песням. Зашумели они, стали говорить заздравные речи, хваля передовщика и чуничных атаманов. А те, принимая братину, кланялись на четыре стороны, говорили добрые слова подначальным людям.
Укрепив дух молитвой, а тело едой и питьем, запели промышленные, веселя Господа и Пречистую Матерь Его, что Спаса людям родила. А как душа развеселилась, пустились в пляс. Тесно стало в зимовье. Выходили они во двор и за частокол, разводили костры, чтобы возле них и родители на том свете погрелись.
«Эх, пошла коляда из Новагорода!» — пустились в пляс холмогорцы. За ними устюжане. А там и хмурые, замшелые сибирцы запритопывали, заприпрыгивали.
Застрекотал по-птичьи Синеуль, утробно затрубил по-оленьи, заревел по-медвежьи, замахал руками, засеменил ногами в сарах. Угрюмка в медвежьем тулупе стоял на нагороднях, его брови, выбившиеся из-под шапки волосы и кучерявившуюся бородку обметал куржак. На стволе пищали серебрилась изморозь. И он, глядя на веселившихся, полураздетых, притопывал ногами под тяжелым тулупом, грелся, ожидая, когда его сменят.
В ночь на мученицу Маланью снилась передовщику его мангазейская полюбовная девица. Да такой ласковой пришла она к нему во сне, что заныла душа. И вскочил он в ночи с тревожно бьющимся сердцем. «Судила Маланья на Юрьев день, на ком справлять протори». Подкинул дров в очаг, стал молиться перед темными, мигавшими в отблесках пламени образами, чтобы не взыскал Господь за его грех с жены товарища, а только с него, с грешного Пантелемона Пенды, сына Демида Шадры. А душа ныла и стенала, вспоминая ее жаркие ласки. И как ни корил себя передовщик перед ликом Божьим — не унималась она, скверная.
«Не отпустила-таки, как обещала?» — думал Пантелей, глядя на огонь, и не мог укорить бывшую полюбовную девицу: слишком мало в его жизни было таких счастливых дней, какие провел возле Мангазеи. «Охала Маланья, что уехал Ананья. Охнет и дед, что денег нет».
После Крещения заметно потеплело, чуницы разошлись по станам и ухожьям без припаса, надеясь на милость Божью да на лес — авось прокормит. Одни постились постом истинным, выживая как могли, но промыслов не бросали, другие, каясь, сквернили душу мясом и рыбой.
Соболь же шел в клепцы одурью, его не успевали шкурить на станах и в зимовье. И был он в здешних местах разный: головной попадался редко, но много было рыжего, за который по мангазейским ценам больше шести рублей за сорок не давали.
А как начались звериные свадьбы, промысловые чуницы стали выходить к зимовью, чтобы всей ватагой дожить до летних дней. Припозднились одни холмогорцы. Они вышли после Евдокеи-свистуньи, в начале марта, с большим грузом добытой рухляди, но без Тугарина.
На расспросы передовщика Федотка Попов стал рассказывать, что чуница собиралась выходить к зимовью и сошлась уже на своем стане, срубленном во имя святых апостолов Петра и Павла — пособников в промыслах. Отощавший Тугарин перед тем все молчал да молился в одиночку. И вдруг на стане, отказавшись есть заболонь, потребовал квасу.
— Я, грешным делом, посмеялся — где ж его взять? — оправдывался Федотка. — А он хихикнул, подмигнул да и говорит: «Спустись-ка в погреб, под лестницей большая бочка. Оттуда отлей с ведро!»
Глянули чуничные на старого промышленного — кто насмешливо, кто удивленно, а он давай орать: «Квасу подайте!» Всех бывших рядом будто холодом обдало. Не успели они подумать, не отнял ли Господь умишко у грешного, Тугарин накинул шубный кафтан — и был таков.
Холмогорцы думали, что на холодке он придет в себя. Но тот не вернулся ни к ночи, ни на другой день. Стали его искать по брошенным станам и нашли свежие следы. Может быть, и догнали бы, да началась метель, пришлось вернуться. Пережидая непогоду, товарищи гадали на беглеца на воске и на печени — ничего понять не могли. А как утих ветер, да потеплело, пошли они к дальнему стану и видели там Тугарина без шапки. Он прятался от своих, выглядывал из-за деревьев и убегал так резво, что догнать его не смогли. С тем и вернулись совет держать.
Синеулька, выслушав рассказ, стал говорить, что Тугарина сманил тайгун. У лесных людей это бывает. Шаманить надо или молиться. Силой же его не вернуть, а вот тайгуна рассердить можно.
* * *
Третья весна в дальней стороне случилась ранняя. Просел снег, утренние зори, студеные и ясные, дразнили возбужденных птиц. В середине марта даже вороны стали пробовать голос на песни и щебет. В иные времена да в другом краю люди сочли бы такие знаки к беде и к мору, нынче же только посмеивались. И запачканного птицами частокола не было жаль: перезимовали среди мирных народов без войн и осад.
На Федота-ветроноса одна половина ватаги гонялась по насту за лосями и дикими оленями, другая молилась, постничала и наводила порядок после зимовки. С утра мороз обжигал обветренные лица. С полудня слепило яркое солнце и веяло запахами весны.
Лука Москвитин походил вокруг избы со строгим лицом, остановился против входа, взял в руки стертую метлу с березовым помелом, обмахнув ей порог, крикнул в распахнутую дверь:
— Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома!
Срубленное из сырого леса, зимовье всю зиму щелкало и трещало венцами. Зимними ночами кому-то чудился по углам обеспокоенный домовой, кому-то — пришлая из лесу кикимора.
— Поздно уж избу чистить! — посмеивались гороховские промышленные. — Нам скоро уходить… Пущай уж живут кто прижился.
Не отвечая на шутки, Лука вымел сор, прикрыл дверь. Кто-то, глядя на него, вздохнул, вспомнив отчий дом. Но сияло солнце, искрился снег, желтели по склонам проталины, дурманили запахами весны и предчувствием чуда.
Холодными ночами промерзший до дна ручей «кипел», покрываясь водой. Передовщик приказал всем бывшим в зимовье людям спустить по нему струги поближе к реке. Зашумели ватажные, подхватили за борта высохшие на морозах суда, с криками поволокли под гору. Под их бахилами, густо смазанными дегтем, хлюпал рыхлый лед. Пантелей Пенда шел берегом по хрусткому снежному насту, похлопывал себя по бокам рукавицами, ободрял:
— Удальцы-молодцы!
Щебетали птицы, ожидая Благовещенья, поторапливали летнее солнце. В глубокой впадине под очистившимся от снега льдом бесшумно струилась черная вода реки. Ее извилистые берега снова манили в путь: обещая одним благополучное возвращение домой, других прельщали неведомыми, счастливыми странами.
— Дружно — кликнем весну! — велел Лука Москвитин, приложил ладони к седой бороде, закричал в сторону реки: — Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите! Зима надоела — весь хлеб поела!
Слова про зловредную зиму и бесхлебье тронули ватажных, и закричали они во всю силу, прислушиваясь к откликам эха из долины. Довольный их криком, Лука глубоко вздохнул и попросил:
— Отпустите-ка меня, братцы, проведать Нехорошку. Завтра, на Василиска, как раз поминовение усопших. Снился он мне, хоть в молитвах не забываю. Помянуть-то нечем.
— Иди! — позволил передовщик. — Племянника возьми, — кивнул на Ивашку. — Вдвоем веселей.
— Нет! Один хочу побыть. Подумаю, помолюсь! — тихо, но твердо отказался от провожатого Лука.
— Иди! — повторил Пантелей и добавил: — Вернешься раньше — жди на стане. После Благовещенья мы придем смолить и конопатить струги.
— Пора уж перебираться! — загудели ватажные. — В зимовье тесно…
— Месяц марток — наденет пять порток! — заспорили холмогорцы. — Как задует…
Лука не стал слушать пустопорожние разговоры. Кое-какой припас рыбы и мяса на стане был. Нахлобучив до бровей сношенную московскую шапку, похожую на горшок, он принял из рук племянника слоеный тунгусский лук со стрелами в берестяном колчане, поправил топор за кушаком и зашагал берегом к слиянию рек.
Вернулся он поздним вечером на Герасима-грачевника. К тому времени половина зимовщиков уже перебралась на стан у реки, против Юрьевой горы. В балагане жарко горел очаг. Идущего по льду Луку дозорные заметили издали. Низкая дверь открылась. Сгибаясь, под кров протиснулся Лука. От его зипуна пахнуло выстывшей золой костров. Промышленный бросил лук с колчаном и топор в угол, кушак и шапку закинул на решетку над очагом, трижды перекрестился, скинул зипун и присел у огня.
Передовщик уступил ему лучшее место, Семейка подал котел с брусничным отваром, остатки печеной рыбы с ватажного ужина. Лука расправил усы, неторопливо напился. От него ждали рассказа, он же устало сипел остуженной грудью и молчал.
И снова бросилось в глаза Пантелею, как сильно постарел бывалый промышленный. Лицо его было посечено усталыми морщинами. Под глазами набухли мешки, схваченные красной паутиной.
— Что там Нехорошко? — не удержался он. — Могила не разорена?
— Цела! — неохотно разодрал губы Лука и добавил рассеянно: — А тунгуса звери обглодали, кости растащили. — Помолчав, обронил: — Тугарин там!
— Вон-на куда принесло — на чужие ухожья! — ахнули холмогорцы.
— Самого-то видел? — всхлипнул Федотка.
Лука посопел торчавшим из бороды носом. Его набухшие веки то и дело закрывались, по лицу метались отсветы огня, в полуприкрытых глазах то высветлялась, то пропадала горючая кручина. Наконец он ответил, опять с трудом разлепив обветренные губы:
— Всю ночь рядом крутился… Сам, тайгун ли в его личине. — Неловко перекрестился негнущейся рукой. — В лохмотьях, без шапки. Выглянет из-за лесины — курлы-мурлы. Пропадет. После опять… Так всю ночь.
— Оборотень! — ахнул Гюргий Москвитин.
— Тайгун душу забрал, — непонятно чему улыбаясь, блеснул зубами Синеулька.
— Очертил я круг заветный, наложил заговор старинный. Так и просидел у огня, молясь. С одной стороны река, могила с крестом, с другой — тунгус поеденный. Да Тугарин вокруг бегает… Пора, однако, возвращаться! — Вздохнул тяжко, глубоко. В груди его засвистела давняя хворь. — На Руси хочу помереть. Среди своих родных, в своей земле лежать, а не здесь, со зверьем и с тунгусами.
— А говорил, насовсем уходишь в Сибирь, — насмешливо взглянул на него Пантелей, накручивая клок бороды на палец. — А по мне, где бы ни помирать — лишь бы достойно!
— Казакам этого не понять! — сонно уронил голову на грудь Лука. — Устал!
И непонятно было — от бессонных ли ночей или скитаться по Сибири устал? Федотка вздохнул, жалея старого устюжанина:
— Кабы река текла до самой Мангазеи или до Великого Устюга!
Ладно бы устюжане и холмогорцы — крепкие хозяева с не разоренных Смутой земель, но и Михейка Скорбут — сибирец без роду без племени, к сорока годам потерявший половину зубов, удивляя передовщика, прошамкал впалыми губами:
— Пора уж! Коли Господь убережет — сделаю вклад в Троицкий монастырь, останусь в причетниках. В Тобольск уже не выбраться. Пропьюсь! — безнадежно мотнул головой.
Пантелей настороженно оглядел лица ватажных. «Было бы вволю хлеба да квасу, — подумал боязливо, — повеселели бы».
— Ничего! — со смешливой улыбкой обернулся к молодым: — Выберемся к людям с верховий реки, кто бы они ни были, наменяем ржи — будет и хлеб, и квас.
— По иным рекам, сказывают, в одно лето можно сплыть к Турухану! — непослушными губами пролепетал Лука Москвитин.
— Хорошо бы! — ободрился Скорбут, помышляя то ли о хлебе, то ли о возвращении. — Спаси-то Бог, как Тугарин, последний умишко потерять.
— Да что вы, братцы! — удивленно озирая промышленных, вскрикнул передовщик. — Дошли ведь, где допрежь нас явно никто не был. — Глаза его то блестели вдохновенным восторгом, то болезненно щурились, примечая смуту в душах. — Великим тесом, может быть, и дальше ходят, но таясь — не как мы. — Он с беспокойством почувствовал, что слова его никого не ободрили, и заговорил торопливо, лихорадочно: — Возвращаться старым путем — сами отказались! — пристально вглядывался в печальные лица. — К йохам опять сплыть за просом? Не дадут! Все нам продали. Дальше на полночь плыть без припаса, чтобы увидеть ублюдков без голов, без рук, с вороньими головами да там и околеть? Сами не захотите.
— На полдень подниматься надо до братских народов! — тихо, но настойчиво сказал за всех Федотка. — Там волок к закату искать.
— Хорошо бы переволочься в такую реку, чтобы плыть без трудов до самого Турухана, — мечтательно потянулся Семейка Шелковников, ни словом, ни взглядом не вспомнив про братские народы, о которых говорили всю зиму. Он невольно раздвинул сидевших, и сразу стало тесно. На него зашумели. Не переставая улыбаться, Семейка съежился, сложив широкие плечи, как птица крылья, зевнул, крестя рот: — Эх! Хорошо!
Старый Алекса, пригрозив ему пальцем, как маленькому, заворчал:
— А мошка-то как станет жрать поедом, а теснотища в стругах — не отмахнуться. Только терпеть.
— А мы — дымокур раздуем! — бесшабашно рассмеялся Семейка.
И посветлели лица. Пошел тихий разговор о делах дня: о смолокурне, о стругах, о рухляди, которую надо бы еще раз отмять и просушить.
Лед еще не стронулся, хоть и чернел на глазах, становясь рыхлым и хрупким, а от комаров уж в две руки не отмашешься — примета к дождливой весне. Угрюмка, ругаясь, вытянул из проруби и бросил под ноги плетенную из прутьев корчажку. Она была полна бьющейся серебристой рыбы. Высвободив руки, промышленный злорадно зашлепал ладонями по щекам, в это время лед под ногами провалился. Хорошо, что это случилось на отмели и он оказался всего лишь по пояс в воде. Обожгла она ноги, перехватила дух. Угрюмка выбросил подальше от себя улов. Подбежал Ивашка Москвитин и помог ему выбраться. Хлюпая сползшими к пяткам бахилами, злословя сам на себя и налетевший гнус, он побрел сушиться.
После полудня сдвинулся покров реки. Сначала гулко ухнуло, потом заскрежетало. Ватажные кинулись вытаскивать снасти из прорубей, пока их не унесло льдами. Старые Москвитины да Алекса Шелковников с Сивобородом скинули шапки, стали кланяться на восток, оживающей реке, приговаривая и крестясь:
— Батюшка Илья, ты напои мать сыру землю студеной росой! Дай нам пропитание от рек и обереги от всякой речной нечисти.
В сумерках хлынула по льду вешняя вода. Затем с хрустом и скрежетом, теснясь и сталкиваясь, стали продвигаться льдины. На них напирали другие, из верховий. Наутро с шумом пошел ледоход, но как-то уж очень быстро очистилось русло.
Самые нетерпеливые из промышленных стали подстрекать к раннему выходу. Дескать, места здешние не те, что в низовьях Тунгуски, — теплей. Старики осторожничали, и передовщик, чего-то опасаясь, все смотрел на реку и чесал отметину под густой бородой.
Самые нетерпеливые из ватажных уж сталкивали струги к реке. После полудня вода вдруг стала убывать, что удивило даже стариков. Передовщик же, глядя на мокрую полосу берега, вдруг скакнул на месте и закричал:
— Вытягивай струги! Крепи бечевой!
Тут все поняли, отчего убывает вода. Как насмешка водяного, вскоре послышался гул, дрогнула земля, закачали верхушками вековые сосны, с криками взлетели птицы над лесом. Люди бросились к стругам. Затаскивать суда на яр не пробовали — к двум, что поспешили спустить к воде, торопливо привязали бечеву подлинней, чтобы удержать их. Сами, спасаясь от надвигавшегося вала, полезли на высокий берег.
— Батюшка Илья! Помогай нам! — вскрикнули те, что стояли на яру. Они первыми увидели, как из-за излучины вышла скрежещущая ледовая стена. Лед прополз у самых ног людей, толкнул один из стругов, оставленных на высоком берегу, и отбросил его, как щепку. Два других, бывших у воды, он подхватил, словно былинки. Один накрыл льдом, другой вышвырнул на берег, выдирая кустарник из стылой земли.
Жалостливо, как гибнущий зверь, мелькнул бок подмятого струга на гребне вала и пропал в пучине.
— Сердится дедушка! — отдуваясь, пробормотал Лука, сматывая оборванный конец бечевы. — Поди, возле Николы выбросит?!
Устюжане вспомнили, что их сварливый родственник Нехорошко прежде ходил именно на том струге, который унесло льдами.
— Ну и ладно! — беззаботно улыбнулся Ивашка. — Легче волочься. Все одно — хлеба нет.
— Поменяли бы на хлеб! — с укором вздохнул старый Шелковников.
Лука, смотав бечеву ровными кольцами, вдруг бросил ее под ноги и выругался.
Вода спадала, оставляя на берегу множество льдин. В лесу, неподалеку от стана токовали глухари. Их добывали и пекли к ужину каждый день, а вот порадовать дедушку-водяного перед дальней дорогой забыли.
Чтобы не гневить силы небесные, старые промышленные поднялись в потемках и тихонько утопили большого глухаря с перебитым крылом да со связанными сильными ногами. Ночь была тихая и светлая. Слышался шелест ветра в черных верхушках вековых сосен. Мигали частые звезды. Катилась по небу полная, яркая луна.
— Эх-эх! — тоскливо позевывал и оглядывался Сивобород. — Заря темная, вечерняя, ключи потеряла, месяц пошел — не нашел, солнце ясное взойдет — не найдет!
Угадал старый сибирец. Не было росы поутру, и вскоре пал туман. Опасаясь морока, ватажные похаживали возле готовых к отплытию стругов. Русло реки очистилось, только изредка проплывали льдины, оторвавшись где-то от берега. Гулко ухал в лесу филин, рассыпал дробь дятел, невидимые птицы хлопали крыльями.
Вот туман поредел. С восточной стороны над лесными увалами заблистало солнце. Как принято на Руси со времен стародавних — ватажные помянули Всемилостивейшего Господа, во Святой Троице просиявшего, добрую Заступницу — Пречистую Его Матерь, архангелов с ангелами, Николу Чудотворца с Ильей Пророком да всех святых своих заступников. И, помолившись им усердно, спустили струги на воду. Закачались суда на холодной речной волне.
Передовщик, заломив островерхий колпак, встал на корме в полный рост, уперся шестом в речное дно, свистнул, призывая двигаться, и запел по весь голос:
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник»… К чудному заступлению твоему притекаем.
— «Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий», — хором отозвались ватажные, всем телом налегая кто на бечеву, кто на шест. И пошли струги против течения вдоль берега — к полуденной стороне, к неведомым ее истокам. Кланялись ватажные по левую руку, встреч солнца, винились: не дал Бог Духа, а своего недостало, чтобы и дальше идти на восход.
Через полторы недели подоспели деньки добрые. В это самое время в Сибирские города и остроги выходили из урмана промысловые ватаги, а там их поджидали воеводы и приказчики, да бочки с суслом, пивом, винами, да купцы с товарами, да служилые люди с поборами… Вспоминая о гуляньях и веселье, на Всех Святых ватага Пантелея Пенды подошла к устью неведомой реки, впадавшей с левого берега.
Перед тем притоком был долгий высокий яр, и вот открылась широкая, привольная долина. Были здесь и ровные поля, и заливные луга, о каких рядом с Устюгом да с Холмогорами и богатые люди не мечтали. Среди шелковистой травы стояли тунгусские чумы, крытые берестой и лавтаками. У леса паслись олени. Завидев людей на берегу, завыли собаки, вечные спутники лесных народов.
Передовщик приказал вытащить струги на сушу и готовить посольство. Мокрому Синеулю, шедшему на бечеве, велел сушиться, Федотке с Лукой Москвитиным — надеть кафтаны. Сам же за неимением красной одежды надел заячью рубаху, обмотался кушаком, повесил саблю на бок.
Когда посольство двинулось к урыкиту, из лесу вышли с десяток тунгусских мужиков с черными косами по плечам, с рогатинами и луками в руках. Они настороженно подошли к послам, сдержанно ответили на приветствия и, как ни улыбался им Синеуль, разговаривали неохотно.
Это был род шамагирского племени. Их князец не выделялся ни одеждой, ни ростом, но держался уверенней других и отвечал за всех. Синеуль назвал его Кинегой.
Кинега не стал приглашать гостей в свои чумы, а усадил их под небом, у костра, отгонявшего гнус. К нему безбоязненно подходили олени, совали длинноухие морды в клубы дыма, большими выпуклыми глазами разглядывали гостей из-за спин тунгусов.
Сухощавый и подвижный князец заговорил охотней, когда понял, что ватажные ищут обратный путь на Енисей. С ответами и вопросами он обращался только к Пантелею и Луке Москвитину. Когда говорил Синеуль, настораживал слух, но к толмачу не оборачивался, на него не глядел. Толмач, весело скалясь, раз и другой задал шамагирам вопросы от себя — для знакомства и близости, те делали вид, что не понимают и не слышат его.
Передовщик вынул из глубокого кармана горсть бисера, раскрыв ладонь, подал князцу. Тот равнодушно взглянул на украшение и руки к нему не протянул. Пантелей ссыпал бисер на колоду, где сидел, и велел возвращаться к стругам. Синеуль поплелся следом за послами, на лице толмача не было прежней беззаботной улыбки, будто вновь рвалась из его тела беглянка-душа.
— Не признали? — посочувствовал передовщик.
Тряхнув головой с длинными, распущенными по плечам волосами, Синеуль принужденно рассмеялся, показывая острые белые зубы:
— Чужаки — тэго! — сплюнул под ноги, поправил на груди почерневший от сажи крест, снял шапку и возвращался, похлопывая ею по колену.
Послов обступили свои ватажные люди, стали расспрашивать о встрече с тунгусами, о том, что узнали от них. Передовщик в середине круга стал рассказывать, что, по словам шамагиров, путь к притоку Енисея был долгим, а волок в него — трудным. Все понимали, что лесному народу Бог большой хитрости не дал, если князец и лукавил, не желая, чтобы русичи поднимались по притоку, на котором стояли его чумы, то не настолько, чтобы ему не верить.
Промышленные люди подумали, потеребили бороды и решили идти вверх по реке до следующего притока.
— Здесь бы деревеньку поставить! — весело оглядывал долину Семейка. — Да зажить бы на воле.
— Невест нет! — осадил сына отец, Алекса. — Вот возвратимся, даст Бог, на родину, найдем тебе конопатую — вернешься сюда и срубишь дом, — ревниво посмотрел на заматеревшего парня: тот выдал тайные и безнадежные помыслы отца о такой же землице возле Великого Устюга. — Какие твои годы? — тряхнул бородой. — Нас с дядькой похоронишь — и с Богом!
Обронив насмешливые слова, отец всмотрелся в глаза сына, и что-то дрогнуло в его груди, будто судьбу накликал. Вздохнул, перекрестился, винясь про себя, потупил взор, чувствуя непонятное смущение.
Запылала, налилась темной кровью заря вечерняя, и решили путники ночевать, а утром двигаться дальше. Федотка Попов, постившийся в честь святого Федота-овсяника, к вечеру напился речной воды и лег раньше дружков, тихо переговаривавшихся возле костра. Ему после полуночи выпадало стоять в дозоре.
И шла ватага еще две недели, не встречая проходимых притоков с левого берега. Только затем раздвоилось русло: основное повернуло к востоку, а малое все так же убегало на полдень. Без споров и сомнений вошли в малое и здесь, на устье, остановились для отдыха и пополнения припасов.
Погода портилась. Огненным жезлом гнал по небу черные тучи грозный старец Илья Пророк, слышался отдаленный рокот грозы. Могучие небесные быки брели к закату, закрывали и солнце, и вечернюю зарю. В воздухе пахло сыростью дождя.
Не отдаляясь от берега, ватажные натаскали сухостоя, развели костры, перевернули струги, укрыли под ними мешки с рухлядью и устроили себе постели из лапника. Кому не хватило мест под лодками — легли между ними, положив жерди, накрытые лавтаками и берестой.
Роился гнус. Горел костер. И думы, и разговоры были об одном — не слишком ли далеко поднялись к истоку. Передовщику то и дело приходилось огрызаться на упреки, что не заставил своих людей идти притоком возле князца Кинеги. Раз и другой претерпев незаслуженные укоры, Пантелей ушел под струг к молодым промышленным. Те потеснились, уступая ему место. Уважительно примолкли, но ненадолго. Струг лежал так, что виделась только река, на которой мерцали отблески костра, закрытого другим бортом. Угрюмка то шепотом, то в голос рассказывал про тайгуна, которого будто бы видел прошлой ночью в дозоре. И непонятно было, смеется ли он над дружками или впрямь удивляется тому, что чудилось. «Спал!» — отметил про себя передовщик.
— Нос — во! — приложил растопыренную ладонь к губе. — Глаз во лбу — горит, рта нет или не приметил. Высовывается из-под куста… Цок-цок, на копытцах… А у меня пищаль. Стрелю, думаю, — всех разбужу. Нечисть скроется, а передовщик кожу со спины спустит, — скосил глаза на Пантелея. — Кладу я на лук тупую стрелу с костяным наконечником. Целю в глаз…
— Брешешь! — смешливо пробурчал Федотка. — Не было у тебя лука. Своего не имеешь, а я не давал!
Угрюмка ненадолго умолк, ничуть не смущаясь, скучно зевнул, ухмыльнулся и стал рассказывать про зайцев, которые водят дружбу с лешими, тайгунами и часто потешаются над людьми.
Передовщик слушать его не стал, вывернул внутрь рукава заячьей рубахи, укрылся паркой, стал подремывать. Когда он открыл глаза — рассветало. Ни неба, ни другого берега реки не было видно. Серые облака, переваливаясь с боку на бок, висели над водой. Моросивший в ночи и притихший к утру дождь снова стал сеять и трусить, покрывая речную гладь рябящей шероховатостью. «Дождь на Устина — к добру!» — подумал Пантелей, зевая, и заметил на стрежне, пониже устья, движущийся крест.
Серое сырое утро наползало брюхатыми облаками на стан. Изумленный передовщик на локтях торопливо выполз из-под струга, задрал голову и ясно увидел коч с крестом на носу. Пока он протирал глаза, читал молитву от морока, из слоящегося тумана показался другой коч.
Пантелей вскрикнул, лягнул пяткой кого-то из молодых, вскочил на босые ноги и закричал, размахивая руками. Из стелющегося облака выплыл третий крест, а первый уже пропал. Корма другого коча едва виднелась сквозь утренний морок.
К передовщику подскочил дозорный с пищалью. Зевая, из-под струга выглянул Угрюмка, за ним показался заспанный Семейка. Глаза на его рябом, изъеденном гнусом лице были припухшими.
— Что орешь-то? — спросил озираясь.
— Пали в воздух! — приказал Пантелей Федотке.
Пока дозорный вернулся к костру, чтобы запалить фитиль, кочи пропали.
Ухнула пищаль. Эхо не скоро отозвалось с другого берега, запахло горелым порохом. Повыскакивали из-под стругов ватажные, кто с луком, кто с топором, иные вставляли тесаки в стволы пищалей.
— А-э-э! — завопил Семейка, выбравшись из-под струга. Передовщик пронзительно свистнул и прислушался, вытянув шею.
С разных сторон откликнулось эхо. Захлопали крыльями невидимые птицы. Табор бестолково засуетился. Кто-то занимал оборону, кто-то раздраженно спрашивал, отчего все кричат. Клубились ползучие облака на воде, разделяясь и сливаясь вместе. Невидимые брызги дождя висели в воздухе.
Босой, с растрепанными волосами и всклоченной бородой, Пантелей поспешно вернулся к стругу. Глаза его горели. Пошлепав босыми пятками, он снова замер, подняв руку. Все затихли, вслушиваясь в тишину и тая дыхание. Но не было выстрелу и крикам отклика.
— Наши кочи, русские! — ударил кулаком по смоленому днищу. — Не догнать в тумане.
— И не найти! — присел на корточки Федотка.
— Ты видел? — вскинул радостные глаза передовщик.
Холмогорец неуверенно пожал плечами.
— Наши! К йохам плывут! — вскрикнул Пантелей, с нетерпеливым вызовом озирая лица ватажных. Сел, натянул непросохшие бахилы, торопливо обвязал их бечевой. — Верный знак! Там сибирская Русь! — махнул в сторону основного русла. Глаза его блестели, лицо светилось от упоения своей правотой. — Туда идти надо!
Ватажные притихли и насупились. Не понимая, отчего на их лицах нет радости, Пантелей притопнул ногами в бахилах, взглянул на обступивших его людей весело и восторженно.
— Сколько волочься? — хмуро спросил вдруг старый Шелковников, перебирая в натруженных руках ствол пищали.
— Не век же, как жиду, Христом проклятому! — отводя глаза, поддакнул Михейка Скорбут.
— Так рядом уже! — удивленно уставился на них передовщик. — Нутром чую, дошли!.. Добрались, братцы! — растерялся, удивленно озираясь.
Туман и морок замутили глаза промышленных, выдавая их опресневшие от бесхлебья мысли.
— Соли которую неделю нет! — проворчал Лука.
— Свое добыли, домой пора! — настойчивей проворчал Алекса Шелковников.
Кривящаяся улыбка застыла на лице Пантелея Пенды — все были против него: даже туруханцы, и гороховцы. Скрипнув зубами, он натянул колпак до ушей, обернулся к молодым.
— Вы-то видели? — вскрикнул резко и зло.
Синеуль беззаботно скалился и делал вид, что ему, новокресту, русские споры не понять. Другие, потупясь, смотрели в стороны. Смущенно набычился Семейка, пожимал плечами Федотка.
— То ли кочи, то ли деревья?
— Ты же вызнавал путь в Индию? — с жаром упрекнул передовщик, вразумляя рассудительного холмогорца.
Тот, глядя на него с пониманием, признался:
— Этот год надо вернуться на Турухан. Братан ждет!
И тогда по старозаветному казачьему обычаю Пантелей Пенда вышел на песчаную отмель, сорвал с головы колпак, бросил его под ноги, с вызовом взглянул на удалого весельчака Ивашку Москвитина, на дородного силача Семейку Шелковникова — выросших и возмужавших в урмане, иной жизни не помнивших. Те повели глазами на родителей, нельзя, мол, поперек них. «Эх, городское да посадское отродие, по старине связанное сотнями родовых уз…» — ругнулся про себя передовщик.
Федотка развел руками — он уже сказал свое слово. Гороховцы и туруханцы помалкивали, строптиво воротя лица. Взглянул Пантелей на Угрюмку. Из затравленного сиротинушки, из воришки и побирушки он вырос в молодца, похожего на верного боевого товарища Ивашку Похабу.
Напряглось, побелело обветренное лицо бывшего юнца, упрямо окаменело и стало розоветь. В кривящейся улыбке мелькнуло что-то хитрое. Не раз приходилось видеть Пантелею, как против правды проступает на челе иудина печать. Синеуль — и тот лупал глазами, переминался с ноги на ногу, прикидываясь тупым, ничего не понимающим.
Безнадежно махнул рукой передовщик, подобрал с земли свой одинокий колпак, а когда надел его на голову, промышленные поняли — пойдет один.
— Ты нам крест целовал! — пристально глядя на него, напомнил Лука Москвитин. — Грех против всех идти. Смирись!
На глаза Пантелею попалась жердина, обкатанная и выброшенная на берег течением. Он схватил ее, черную, скользкую, ударил середкой о камень. Жердь оказалась крепкой, не переломилась, но отсушила ладони.
Поредел туман, зазолотилось на востоке солнце. Свесив голову, передовщик вернулся к костру. Промышленные понуро потянулись к лесу, за дровами, разошлись кто куда, не навязывая разговоров.
Едва скрылись они в рассеивающемся тумане, на сыпучий яр старого русла выскочил всадник и резко осадил коня на самом краю. Конек под ним был низкорослый, татарский, седло высокое, степное. Пантелей Пенда успел заметить, что зипун на всаднике хоть и засаленный, да шелковый. За спиной из-за одного плеча торчал лук, из-за другого — колчан со стрелами. Поперек седла лежала дубина из сухого комля.
Всадник острым взглядом степняка окинул ватажных бывших у стругов. Передовщик свистнул, поднявшись ему навстречу, махнул рукой. Но тот, зыркнув по сторонам запавшими глазами, развернул коня и показал длинную косу меж лопаток. Конек с места взял галоп и скрылся.
— Глухой, что ли? — ругнулся Угрюмка, оправляясь от смущения, затоптался возле передовщика, не зная, что сказать.
— Ертаул! — с остывающей злостью в голосе прохрипел Пантелей. — Скоро другие придут. Поговорим!
— Татарин — не татарин? — удивленно разводил руками Алекса Шелковников и хмыкал в бороду. — Синеулька? Кто это?
Тунгус сморщил приплюснутый нос, замотал головой: не знал.
— Татарин! — желчно усмехнулся передовщик. — Коли русичи близко — должны быть и татары. Одни без других не живут.
— Так зачем туда волочься? — с жаром, оправдываясь, указал на основное русло Сивобород. — И здесь кого Бог даст встретим.
Пантелей безнадежно отмахнулся, не желая затевать новый спор.
— Струги на воду! — приказал скорбным голосом с мрачным и хмурым лицом. — Грузись! По двое с шестами, остальные бечевой…
— Туда или сюда? — смущенно спросил Лука.
— Сюда! — резко, но беззлобно вскрикнул передовщик и стал помогать молодым переворачивать струг на днище.
Чадящее кострище, островки примятого лапника, вытоптанная трава, куча приготовленного, но не сожженного хвороста остались на берегу. И снова ватага потянула свои суда вдоль берега. Пищали и луки лежали под рукой промышленных людей. Передовщик был опоясан саблей, шестовые — тесаками.
К полудню на очистившемся небе так ярко засияло солнце, что заколыхалось марево над сохнущей землей. Берег, возле которого шли струги, был пологим, покрытым песком и галечником. В сотне шагов от воды возвышался старый, невысокий, подмытый половодьями яр. После полудня, едва солнце покатилось на закат, за ним послышался конский топот и поднялось облачко пыли.
Вскоре на полном скаку на яр выскочили всадники и загарцевали у самого его края, горячась, поднимая на дыбы лошадей. Их было десятка с три, одетых в высокие шапки, в халаты, с луками и колчанами за спинами. Ползущее следом облако пыли стало накрывать конных людей. Они походили на ногайцев, с которыми донцы то воевали, то объединялись для набегов.
Двое из всадников сверкали блестящими бронями и островерхими шлемами. Встречи с воинскими людьми Пантелей Пенда ждал с утра, но опасался не нападения, а коварства и засады. Услышав топот, его люди без суеты заняли оборону за стругами. Старые промышленные, вставив тесаки в стволы пищалей, сбились в первый ряд. За их спинами с заряженными ружьями и тлеющими фитилями выстроились те, кто моложе. Пантелей, поигрывая темляком сабли, велел Синеулю крикнуть по-тунгусски, что идут они от йохов в свою землю с добром.
К дородному князцу в блестящем панцире и островерхом шишаке подъехал невзрачный всадник с пикой, что-то проговорил. Тот, не глядя на него, шевельнул редкими черными усами. Толмач с косой меж плеч закричал по-тунгусски срывавшимся голосом.
— Этот утром и был! — узнал его Сивобород.
— Какой у нас товар для мены, спрашивает, — обернулся к передовщику Синеуль.
— Скажи — соболя, горностаи, лисы… Спроси, что им нужно?
— Андаги[134], бэюн[135] — бой, иргичи[136]! — закричал толмач, приветливо щурясь против солнца.
Князец в сияющем доспехе шевельнул широкими плечами. С коней соскочили два проворных молодца, подхватили его под руки, сняли из седла, поставили на землю. Затем, поддерживая с двух сторон, помогли ему спуститься с яра. Тяжело переваливаясь с боку на бок, с ноги на ногу, князец двинулся к промышленным людям. За ним почтительно шли два молодца в халатах из блестящего шелка, в островерхих, обшитых серебром шапках. У обоих из-за одного плеча торчал лук, из-за другого — колчан со стрелами. Последним ковылял толмач.
Пантелей сбил на ухо колпак, окликнул Федотку, Ивашку и Синеуля, велел им идти за ним.
— Шапку брошу — дашь залп по конным, — приказал Луке Москвитину, оставляя его за себя.
Послы сошлись в тридцати шагах от берега. На князце был добротный камчатый халат, на груди висела чеканная серебряная пластина, замшевые черные штаны были заправлены в сапоги из рыбьей кожи. Островерхий серебряный шлем с насечкой, с круглым шлифованным камнем во лбу был надет поверх шапки из черного соболя. По широкой спине князца свисала толстая черная коса.
Оглядев передовщика в кожаной рубахе и мокрых бахилах, Федотку в поношенном суконном кафтане в подпалинах, он усмехнулся, отчего пухлые, как подушки, щеки весело дрогнули, а маленькие глаза заблестели.
Князец присел на корточки, приглашая к долгому разговору, и Пантелей тоже опустился на окатыш, по-татарски подвернув ноги и положив саблю на колени, сел так, что дородный князец на голову возвышался над промышленными, подставляя лоб под прицелы пищалей.
— Если ты, удалец, сын широкой земли, — спросил через толмачей, — где ты родился-появился? На берегу какого моря? У подножья какой горы?
— Родился я в дальней стороне! — ответил Пантелей. — На закате дня, на берегах двух морей и широкой реки Дон. На хорошем скакуне туда можно добраться за три года. А родители мои были храбрыми воинами. При крещении получил я имя Пантелемон, друзья же зовут Пендой.
Показывая удивление, один глаз князца закрылся бровью, другой стал круглым, как срез ствола.
— Я родился в восточной стороне, у подножья пяти гор, у истоков лесного родника, — в свою очередь поведал он. — Скот и панцирь получил от достойных родителей племени булагат, с известным своим именем, с громкой своей славой, — перевел его слова на тунгусский язык бывший при нем толмач, а после Синеуль. — А зовут меня Баяр-баатар!
Переспросив, откуда и куда идет ватага и долго ли находится в пути, он в изумлении покачал тяжелой головой, посаженной меж широких плеч без шеи, и сказал:
— Для человека, рожденного сильным, земля — для того чтобы по ней разъезжать. Для человека, рожденного слабым, земля — для того чтобы сиднем сидеть!
После этого он почтительней стал выспрашивать, велика ли страна, откуда прибыли промышленные, кто у них хан и сколько у него ясачных народов?
Передовщик отвечал, что царь у них милостивый и всесильный, подданных у него без счету, а землю вокруг никто еще не объезжал.
Говоря о своем царе, Пантелей встал и поклонился на закат. Князец, думая, что толмач оговорился, раз и другой переспросил — три года или три месяца? Удивился, услышав настойчивый ответ, тяжело поднявшись, поклонился на запад, сказал, что его хан тоже всесильный и владеет многими народами, а пути к нему три месяца. После этого он поклонился на восток.
Передовщик, выслушав толмача, тоже поклонился на восток. И стали они с князцом друг у друга спрашивать через толмачей о здоровье царей и о здоровье их родственников, воинов и скота. Поговорив о царских делах, снова присели и приступили к заботам дня.
Пантелей пояснил, что они идут от йохов, ищут похожих на себя людей, а йохи указали, что такие люди живут где-то в верховьях реки. И даже называли их братами.
Глубоко вздохнув, князец покачал тяжелой головой:
— Они указали тебе землю, где ты не найдешь счастья, но узнаешь много бед. Людей с бородами до пупа наши данники недавно видели к закату на Мурэн[137] и Илэл-реке.
Передовщик стал выспрашивать, а князец охотно рассказал, что в полудне пути отсюда есть исток реки и течет она то на север, то на закат. В низовьях той реки есть люди с большими бородами и круглыми глазами. Пантелей стал спрашивать, какого цвета у тех людей волосы и бороды. Князец пошарил рукой в траве, отыскал прошлогодние желтые стебли и насмешливо приставил к подбородку, где курчавились редкие черные волоски.
Довольный обстоятельным ответом, передовщик стал выспрашивать про хлеб и про волок. Много ли возьмут за труды здешние народы, чтобы перетащить струги в реку Илэл? Князец предусмотрительно объявил, что надо смотреть рухлядь. Его интересовали соболя и лисы.
Передовщик приказал стоявшему рядом Ивашке, а тот крикнул ватажным у стругов:
— Семейка, принеси-ка нынешних соболей и лис!
Видя, что разговор идет мирно, многие из всадников спешились или разлеглись на крупах коней и отпустили поводья, давая им щипать траву, ватажные присели на борта стругов. Оружие держали все в руках и фитилей не гасили. Молодой устюжанин вытащил кожаный мешок, вынул из него соболий сорок. С тесаком на боку, с топором за спиной подошел к послам, подал меха.
Пантелей потряс примявшихся соболишек. От него не укрылось, как загорелись глаза князца и его спутников. А соболя были не лучшие, рыжеватые, по мангазейским ценам рублей по шесть за сорок. Сняв со снизки лучшую рухлядь, он одарил князца с послами тремя соболями и красной лисой.
— Если добро человеку сделаешь — не забудется до окончания века, — сказал князец, тяжело вставая. — Если зло сделаешь — до конца жизни запомнится!
Хорошие, умные слова говорил Баяр-баатар, но прибыльных торговых дел в одиночку и торопливо не решал. Он пригласил промышленных на свой стан. Стороны разошлись, довольные друг другом. Восемь всадников спустились верхами к воде, бросили бурлакам концы волосяных арканов. Те связали их со своими бечевами и пошли берегом налегке с пищалями и луками. Остальные всадники при князце поддали под бока застоявшимся лошадям и умчались галопом, подняв клубы пыли с просохшей земли.
Струги гужом пошли против течения. Ватажные на шестах едва успевали отталкивать их от берега.
— Фитили гасить! — приказал передовщик. — Пищали — при себе, трут держать под рукой. Друг от друга не отставать.
— Не обидим ли недоверием? — с сомнением покачал головой Лука.
— Лучше обидеть, — буркнул передовщик, — чем, показав слабость и доверчивость, соблазнить к нападению.
Старый Лука пожал плечами, дескать, тебе видней — ты перед нами и перед Богом в ответе.
Вдали от берега реки, которую тунгусы называли Елеуной, а булагаты Зулхэ, показалась обширная, вытоптанная до черной земли поляна. На ней стояли пять просторных приземистых юрт, крытых кошмой, несколько круглых деревянных домов, рубленных в шесть стен, загоны, лабазы. На берегу против селения был сложен из камня жертвенник. Синеуль, без устали болтавший с толмачом, сказал, что балаганцы называют его «бариса», а их шаманы зовутся «боо». Здесь они приносят жертвы Ажарай-бухэ, по русским понятиям — и водяному дедушке, и казачьему Егорию разом.
На плотно уложенной куче камней лежали ленты и шкурки белок. Ватажные, к удовольствию всадников, бросили на нее пару горностаев. Передовщик внимательно осмотрел селение и его окрестности. Всадники, смотав волосяные арканы, ускакали к большой белой юрте на пригорке и там спешились. Возле юрт и загонов оседланными не было и половины из тех коней, на которых ватажные видели воинских людей.
— Не один, видать, стан у них! — щурясь против солнца, оглядел селение Лука. — Могли и за подмогой разъехаться.
— Могли! — согласился передовщик. — Бог не без милости, степняк не без коварства.
Хотя вокруг по хребтам гор были дремучие леса, но всеми манерами, видом и жизнью встреченный народ походил на кочевых жителей степей.
— Торопливых бесед здесь, видать, не любят, — кривя губы от былой обиды, Пантелей обернулся к столпившейся у стругов ватаге. — Просторных хором для нас нет. А дело к вечеру! — прищурился на катившееся к закату солнце. — Спустимся-ка мы к лесу, что перед мысом, — указал на густой сосновый колок с выщипанной до самой земли травой. — Срубим засеку и заночуем.
Едва ватажные высадились на берег и стали рубить деревья, к ним из селения прискакали два всадника. Погарцевав возле табора, они сошли с коней, передовщик отправил к ним для разговора Луку с Синеулем.
С почтением поглядывая на сивую бороду старого промышленного, посыльные сообщили слова баатара и его брата, что нынче время позднее, солнце закатывается, сумерки наступают. А завтра, как только поднимется на небо круглое красное солнце, Баяр-баатар и его народ будут ждать гостей на пир, чтобы поговорить о делах и силу рук своих испытать.
Всадники отвязали от седел по свежему телячьему стегну и передали путникам на ужин. Лука с Синеулем вернулись к табору, сгибаясь под тяжестью мяса. Ватажные, разглядывая его, большой радости не проявляли: полпуда проса или овса были для них желанней.
Передовщик раз и другой переспросил Синеуля о словах посыльных людей. Его интересовали многие мелочи, которым толмач не придал значения. Несколько раз он переспрашивал, как называет себя этот народ. И удивлялся, что зовут себя здешние люди то «балагат», то «быраат». Интересовало передовщика и то, как их толмач и посыльный называли их, русских ватажных. Цепкая память Синеуля запомнила слово «мангад».
В сумерках промышленные навалили деревьев верхушками в разные стороны от стана, заострили сучья, защищающие от налета всадников. Струги были на виду. С одной стороны к засеке примыкали песчаный мыс и река, с двух других сторон подходы просматривались на выстрел. И только с запада, лесом, можно было подкрасться к стану шагов на тридцать.
Не напоминая об утренней распре, передовщик сухо распоряжался, кому разводить костры, кому нести дрова, кому готовиться в ночной дозор и где стоять. Он поглядывал на братский стан и все думал, какой тайный умысел мог быть в словах посла, приглашавшего на пир и состязание, а потому то и дело переспрашивал Синеуля, которому надоело говорить одно и то же.
— Не знали, что нас так много, — советовался с Лукой Москвитиным, Федоткой и Сивобородом, — хотели напасть и пограбить. Явно… Увидели силу, зазвали к себе. Кабы хотели перерезать ночью, стали бы сейчас угощать и расселять по разным местам. Про состязание не обмолвились бы. Или, по-вашему, не так?
Думали ватажные, но не смогли ничего прояснить для казака. Темнело. Из засеки видно было, что на стане готовятся к празднику: возле костров метались тени, пахло паленой шерстью, при свете огня женщины в просторных халатах и белых тюрбанах перебирали внутренности забитых животных.
— Морда у князца будто знакомая! — морщил лоб, пытался что-то вспомнить Лука. — Где-то я видел его! А где?
— И мне так сперва почудилось! — вскинул удивленные глаза передовщик. — В ополчении, под Нижним, татар, черемисов много было. Думал, вдруг там встречал кого похожего.
— Каши бы! — проворчал Сивобород, длинным ножом срезая с костей дареное мясо.
— Масло коровье у них есть! — шепеляво укорял ходивших в посольство Михейка Скорбут. — Нет бы сказать, чтоб прислали.
— Сказывали нам деды, — тихо говорил Лука Москвитин, глядя в звездное небо, — а они от своих дедов слышали, что во времена стародавние Русь, Дикое Поле и ногайская степь жили одним законом и одними царями. Сдается мне, браты те законы помнят. — Помолчав, хмыкнул: — Ну где я мог видеть князца или его близкого родственника?
Вдруг приподнялся на локте Угрюмка, скинул одеяло, сел, восторженно озираясь по сторонам.
— Вспомнил! — вскрикнул радостно. — Вспомнил — где! На золотой бляхе, что у Ивашки!
Удивляя туруханских и гороховских покрученников, загалдели холмогорцы и устюжане. Кто крестился, кто к ночи поминал нечистого. Передовщик с облегчением тоже вспомнил золотую голову с вислыми щеками и вольготней вытянулся у костра.
— Неспроста знак! — зевнул, глядя в небо. Помолчал и приказал: — При братах о том помалкивать.
— Хорошо бы про золото да про серебро попытать, — пошевеливая угли веткой, сказал Федотка. — Сами ли добывают и чеканят? У князца серебряный пояс видели?
— Сам и спросишь! — снова зевнул передовщик. — Завтра с Семейкой и с Ивашкой оденетесь во все лучшее и пойдете на пир. Синеульке у их толмача выспросить с опаской — что такое «мангад».
На синем небе заалела утренняя заря, а когда над рекой поднялось солнце, к засеке на вороном коне подъехал всадник в высоком блещущем шлеме. На его наборном серебряном поясе висела кривая ордынская сабля. Стройный и сухощавый, как тунгус, при первой встрече с промышленными он тенью держался за плечом дородного князца, теперь же приближался к ним с важностью начального человека. Чуть позади за его спиной рысили два всадника с пиками.
Передовщик перетянулся кушаком поверх тунгусской кожаной рубахи, надел стоптанные красные сапоги, взял саблю, поправил казачий островерхий колпак. Лучше приодеться было не во что. Синеуль, стоявший в дозоре с середины ночи, успел немного поспать. Он протер глаза и был готов идти на пир. Тунгусу собраться — и подпоясываться не надо.
Всадники спешились у засеки. Передовщик и Синеуль вышли к ним. Обменявшись приветствиями, Пантелей провел их на стан, с почетом усадил у костра. От рыбы и печеной утятины гости брезгливо отказались, без удовольствия попробовали печеного мяса. Уходить они не собирались, показывая, что намерены остаться почетными заложниками.
О том, требовать ли аманатов, Пантелей много думал и теперь, мысленно поблагодарив Господа, удивлялся, что браты знают законы и этикет Дикого поля, хотя между ними и Волгой-рекой путь не мерян.
Он решил взять с собой на пир молодых устюжан и Федотку Попова. Будто вспомнив о чем-то, окинул оценивающим взглядом Угрюмку в добротном зипуне и сбереженных сапогах, но позвал Луку Москвитина. Наказав развлекать и угощать знатного гостя, почетные послы вышли из засеки.
Захрапел, злобно кося глазом, вороной жеребец, забил копытами. На миг остановился возле него передовщик, залюбовался конем, гордо задравшим голову на длинной шее, жадно втянул в себя его запах и, не оборачиваясь, зашагал к юртам. За ним спешили седобородый Лука, толмач да молодые промышленные. День обещал быть жарким. В выщипанной траве весело стрекотали кузнечики. На решетчатых стенах юрт был задран войлок. В тени благодушно ждали пира жители стана.
Перед белой юртой, слева и справа от ее входа, в двух кострах горел кизяк. С обеих сторон у войлочной двери стояли по пять молодых воинов в цветных шелковых халатах с саблями в руках. У коновязи всхрапывали, били копытами оседланные кони.
Пройдя между почетных шеренг и костров, передовщик напомнил:
— На порог не ступайте!
Промышленные учтиво вошли в прохладную, богато убранную юрту. На шелковых подушках сидел князец Баяр-баатар без доспехов, с кривым кинжалом, заткнутым за серебряный пояс. На голове его была шитая золотой нитью островерхая шапка с блестевшим камнем, оправленным в серебро. Без боевых доспехов лицо баатара еще больше походило на голову степняка с золотой бляхи, чудным образом доставшейся Ивашке Похабе под Тобольском.
Рядом с князцом важно восседали родственники, малолетние сыновья с племянниками. За их спинами возлегал на подушках шаман с бубном. Он заметно отличался от тунгусских шаманов и жрецов-йохов, хотя и по лицу видно было, что братский боо[138] не здешнего грешного мира воин.
Пантелей через Синеуля, а тот через братского толмача стали спрашивать о здоровье князца, его семьи и народа. Не показывая недоумения, промышленные то и дело воротили глаза на серебряный крест, висевший в юрте со стороны заката. Князец заметил любопытство пришельцев и сам смешливо разглядывал стертые деревянные кресты на их шеях. Его полные щеки подрагивали, глаза лукаво блестели.
Когда закончились ритуальные расспросы, в юрту вошли женщины в шелковых халатах и белых тюрбанах. Они стелили крашеные кожи между сидевшими, на них выставляли деревянные и серебряные блюда с мясом, с ягодой, с вареным овсом, множество молочных яств.
От духа каш и вида соли в плошках у молодых промышленных кружились головы. Лука с Пантелеем делали вид, что равнодушны к пище. Лица их были строгими и сосредоточенными, они мысленно читали молитвы.
Передовщик отметил про себя, что тунгусский язык понимали многие из собравшихся. Поглядывая на лица людей в юрте, он неспешно рассказывал про промыслы и про народы, с которыми встречался в пути. Синеуль передавал его слова по-своему, братский человек переводил для князца. Его то и дело поправляли сидевшие вокруг родственники, а своего толмача поправлял Пантелей Пенда.
Поглядывая на серебряный крест, висевший на войлочной стене, Пантелей наконец начал разговор о том, что много слышал в пути о народе со светлыми глазами и волосами, который живет в здешней стороне, где-то возле реки Елеуны-Зулхэ. Братские люди стали переговариваться между собой. Синеуль крутил головой, постреливал глазами, стараясь понять спор без их толмача.
За всех споривших с важностью ответил князец, что таких людей знали в старые времена, а теперь они перевелись: одни ушли встреч солнца, других, с бородами до пупа, как он уже говорил, видели весной в низовьях больших рек. Они там дрались с желтыми шаманами.
— С желтыми боо[139] сильно спорят, — опечаленно подтвердил слова князца сидевший за его спиной шаман в кожаной рубахе, обшитой беличьими и горностаевыми хвостами.
Указывая глазами на деревянные кресты на шеях промышленных и на серебряный крест, к которому гости проявили интерес, князец добавил:
— Этот крест перешел в мой дом от предков матери из племен кэрэитов[140]. У них была белая вера в смертного человека, ставшего бессмертным богом.
Опять ничего не понимая, Пантелей опустил голову. Заметив удивление на его лице, князец что-то досадливо прорычал себе под нос и громко чихнул, дернув пухлыми, лоснящимися щеками.
— Черные, желтые, белые… Уй! Надоели все! — перевел его слова Синеуль, скорчил такое же лицо и так же тряхнул лохматой головой. В юрте приглушенно рассмеялись. Улыбнулся и баатар, удостоив толмача насмешливого взгляда.
За едой промышленные узнали много полезного о народах, живущих к полудню и к восходу, узнали и самое важное на нынешний день: хозяева кочевого стана имели запас проса и овса.
После еды, поблескивая насмешливыми щелками глаз, князец с важным видом стал рассуждать:
— Мужчина хорош в молодости; козлятина хороша свежесваренная. Мужчина добьется задуманного; женщина сошьет скроенное! — Он дал гостям подумать над сказанным, и Пантелей понял, что сейчас будет сделано какое-то важное предложение. Князец качнул головой на крепкой, как пень, шее: — Пора испытать силу наших рук!
Родственники весело загудели и стали выходить из юрты. Они ободряли широкоплечего молодца в коротком халате, туго перепоясанном кушаком. Передовщик понял, что князец выставляет против него борца.
— Не обожрался? — строго спросил Семейку Шелковникова. — Натощак легче бороться.
— Ничо! — примериваясь взглядом к дородному поединщику, пробубнил тот. Не было в лице молодого устюжанина ни робости, ни насмешки над противником.
— Наше дело гостевое! — напомнил Пантелей. — И зашибить нельзя, и слабость показать опасно. Надо примучить, сил лишить. А мы уж помолимся!
Под восторженные возгласы борцы сошлись. Они долго топтались друг возле друга. Наконец, балаганец схватил Семейку за рукав льняной рубахи и оторвал его. Сопрела рубаха на теле за годы промыслов.
Поймал и Семейка противника за одежду. Бросить на землю дородного молодца не смог, но халат содрал и обнаружил под ним скользкое, смазанное жиром тело. Вскоре он сам остался без рубахи, с лохмотьями, висящими на поясе.
Лука, Ивашка и Федотка сначала тихо, потом в голос стали намаливать: «Помогай, Господи!» Пели они все громче, укрепляя дух Семейки, все распевней, так, что русский борец стал приплясывать.
По другую сторону от поединщиков сел шаман с бубном, застучал пальцами по натянутой коже. Ватажные стали открыто креститься и кланяться на восток. Молодой балаганец разъярился, его черные волосы встали дыбом, зубы заскрежетали. Потный и багровый от ярости, он взревел, как раненый бык, с мутными от гнева глазами.
Князец поднял руку, и борцов растащили.
— Силой наших рук нам друг друга не одолеть, — заявил он и оправдался: — Черному боо[141] духи не помогают — бубен оживлять надо. Желтый боо подвески сломал. Наш кузнец помер, за другим послали — не приехал. — Баатар важно повел бровью и объявил: — А теперь мы испытаем скорость наших стрел, меткость больших пальцев!
Ивашке дали оседланного коня, он галопом съездил в засеку за луками и стрелами. Степняки отмерили расстояние в пятьдесят своих длинных, почти в рост человека, луков. Каждый стрелок положил на землю или повесил на кольях по два кожаных мешочка с шерстью.
Первыми выстрелами все стрелки попали в цель: кто в край, кто в середину. Для тех, кто стрелял точней — цель приблизили на тридцать луков. Когда на расстоянии в десять луков повесили мешочки величиной с кулак, среди стрелков остались князец с поющей стрелой[142] и передовщик Пенда — с боевой.
Заклиная стрелу, баатар долго бормотал над зарубкой и наконечником, потом резко вскинул лук, натянув тетиву до плеча, прижался к ней плоским носом, раздвоив его пополам. Пропела стрела и попала точно в середину цели.
Перекрестившись, вскинул лук передовщик, прицелился и, спуская тетиву, понял, что в середину не попадет — не так уж часто, как в прошлом, стрелял он в Сибири, а лук этого не любит. Стрела пронзила цель по нижнему краю.
Хозяева радостно зашумели и весело повели гостей в ту же белую юрту, где заново были выставлены кушанья. Борцам и стрелкам женщины подкладывали подбрюшный и подгривный жир, Пантелею с Лукой налили молочной водки — архи, молодым — заквашенного молока. Князец весело поднял заздравную чашу.
— Пусть у твоей коровы-трехлетки размножится скот на три загона. Пусть у твоего сына-трехлетки родится тридцать удальцов с колчанами! — пожелал гостю.
Поклонившись на три стороны, передовщик пожелал всему роду Баяр-баатара здравствовать и процветать, выпил — будто пылавший уголь проглотил, но не подал виду, что в горле пожар.
Вторую заздравную чашу назвали арзой[143]. Посмотрел Пантелей, как опрокинул ее князец, как от выпитого один его глаз накрылся бровью, другой стал круглым как у быка.
— Шамай-ханай![144] — просипел он, морщась и мотая головой.
Передовщик перекрестил грудь, перекрестил чарку, степенно выпил, и, когда выдыхал воздух, показалось ему, будто из ноздрей рвется пламя. Лука же Москвитин, закатив глаза, сидел с таким видом, будто готовился помереть.
Самодовольно крякнув, князец объявил, что по их закону заставлять пить арху с арзой — большой грех, и если он предложит гостям выпить по третьей чарке, все его осудят. Но если они сами захотят, то он тоже выпьет.
Сытые и опьяневшие люди стали задумчивы и вялы. Шаман-боо прилег на почетное место, поставил рядом с собой кувшин с водой, задумчиво закрыл глаза, запел протяжно и вдохновенно про подвиги молодого Аламжи-мергена, ставшего великим ханом, о богатыре, который родился хозяином богатой земли и на горе из чистого серебра построил серебряный дворец.
С закатом вечернего солнца все пировавшие стали расходиться. Уходя в засеку, Пантелей велел сказать Синеулю для боо — черного шамана, что среди ватажных есть кузнецы и они помогут сковать что надо.
На другой день боо сам прискакал к засеке на добром коне и привел двух коней в поводу. Передовщик с Лукой Москвитиным уехали на братский стан. Выковав нужные шаману подвески и фигурки людей, промышленные изрядно удивили всех бывших на стане. Оказалось, что здешние жители почитали кузнецов наравне с шаманами.
В тот же день передовщик договорился с князцом купить соль, просо, коровье масло и сушеный творог, чем явно обрадовал его родственников. Еще он просил за плату дать ватаге лошадей и вожа, чтобы осмотреть волок в реку Илэл.
Луку с Пантелеем привели под навес из жердей и показали им мешки с зерном, которое погрызли мыши. И было того зерна пудов с тридцать. Его тут же сторговали на соболей, погрузили на коней и доставили в засеку.
На другое утро два косатых молодца прискакали верхами и привели трех оседланных коней. Пантелей, Федотка и Синеуль уехали смотреть волок, а ватажные устроили на берегу баню по-промышленному, парились, мылись, стирали, отдыхали и веселились, отъедаясь кашей с коровьим маслом.
* * *
На Федора Стратилата Божьей милостью да братской помощью ватага волоклась к верховьям реки Илэл. Провожали ее сам Баяр-баатар со своим сухощавым братом, похожим на тунгуса и боо черной веры при ожившем бубне.
— Пусть удача с вами пребудет в той земле, куда вы направляетесь! — напутствовал князец, сидя в седле жеребца, шаловливо перебиравшего копытами под всадником. — Пусть счастье вам сопутствует в той земле, где вы окажетесь! — Баатар чуть дернул узду, и жеребец нетерпеливо крутнулся на месте, повернув хозяина к гостям толстой косой на широкой спине. За ним, как тень, ускакал к реке брат в блещущем панцире.
Лето вышло на самую жару и на овода, а солнце уже покатилось на мороз и зиму. Дул теплый, летний ветер — полуденник, гнал комаров и мошку. Споро шли коренастые братские лошадки, струги скрежетали днищами по камням и корням. После соленой каши из проса с коровьим маслом легко передвигались ноги ватажных. Вспоминая непростые отношения казаков со степняками, Пантелей дивился здешнему народу, тому, что так и не дождался от него коварства и обмана.
— Дай Бог такого соседства и промышленным, и пахотным! — кивал на сопровождавших ватагу молодцов.
Толмача среди них не было, но всадники понимали Синеуля и промышленных, с пятого на десятое говоривших по-тунгусски. Чего люди не могли сказать — объясняли знаками.
— Спрашивал я, как они нас зовут! — ухмыльнулся толмач, кривя безволосые губы. — «Мангад» у них — враг и чужеземец.
— Чужеземец — всегда враг? — приглядывая за скрежещущими по земле стругами, переспросил его Пантелей.
Синеуль уже изрядно говорил по-русски, но не все мог объяснить. Посмеиваясь и бросая на передовщика насмешливые взгляды, добавил:
— Нет! Мангад — вечный враг всех времен. Мангадхай — зверь в шесть сотен голов, что жерди…
Услышав знакомые слова, возницы обернулись, заулыбались безбородыми лицами.
— У-у-у! — весело подвыл один, выставляя над головой растопыренные пальцы. — Мангадхай!
Катилось по небу солнце, пели птицы, радуясь теплу и обильному корму, храпели, мотали гривастыми головами лошадки, упираясь на подъеме. Под их гладкими шкурами буграми вспучивались мощные жилы.
— Диво дивное! — перебрасывались шутками ватажные. — Столько лет на себе струги волокли, а тут ползут в гору, милые, да еще впереди нас. Едва поспеваем следом…
Караван перевалил через хребет и скатился к лесу. Здесь в чащобе и буреломе петлял ручей, стекавший к реке. Разбитая конная тропа уходила по хребту в полуночную сторону. Чтобы спуститься со стругами в падь, надо было прорубаться сквозь лес. Передовщик не стал задерживать при себе лошадей: одарил и отпустил возниц. Довольные друг другом и нечаянной встречей, они расстались.
Осматривая долину реки, уходящей за край неба, ватажные крестились и радовались:
— Нам бы только до большой воды добраться. Вдруг этот ручеек и приведет к Туруханскому зимовью.
— Струги переворачивай! — кивнув им, приказал Пантелей.
— И то правда! — засуетился Лука, стал помогать выкидывать поклажу из лодок. — Каждый камень на горе будто по сердцу скреб, — пожаловался, осматривая днища судов после волока.
Передовщик поколупал пальцем смоленые щели, попинал пяткой борта:
— Вроде Бог милует пока! Но смолить придется заново.
И по длине, и по ширине струги были непомерно велики для ручья, терявшегося в кустарнике, камнях и мхах. Гороховцы с топорами пошли очищать волок к ручью. Туруханцев с луками и пищалями Пантелей послал смотреть русло до мест, явно проходимых. На обратном пути велел им чистить ручей от камней и бурелома, старикам-складникам — Луке с Гюргием Москвитиным да Алексе Шелковникову наказал курить смолу и готовить ночлег. Сам же, бросив саблю в струг, начал тесать зарубки, указывать, какие деревья валить, где корни подрубать, где кустарник выдирать.
Как ни долог был летний день, но и он кончался. Стала разгораться заря вечерняя, длинные тени легли на восход, зароились не сильно донимавшие на хребте вездесущие комары. С гор потянуло ночной свежестью. В сумерках люди потянулись к костру, разведенному стариками. Они успели очистить ручей шагов на сто. На пологом склоне, с берегов, суженных вывалами, поставили плотину из бурелома и дерна. Стала скапливаться возле нее вода.
К ночи, уже в темноте, вернулись гороховцы. К передовщику подошел Сивобород с черным, как уголь, лицом. По обычаю старых сибирцев он вымазался дегтем, чтобы не донимал гнус. Он сказал, что ходу до чистой воды — поприще. Издали ертаулы видели проходимую реку, излучину и урыкит. Сивобород послал к тунгусам Синеуля, и пока его люди чистили ручей, толмач бегал к сородичам, но толком ничего от них не узнал и вернулся без креста на шее.
— Где крест? — строго спросил его передовщик.
— Повесил на сучок, когда ходил к тунгусам, и забыл, — неохотно ответил толмач. Он был хмурым и усталым.
— Отчего крест с шеи снял? — загалдели старики, суеверно крестясь. — А если Господь за твой грех со всех взыщет?
Пантелей отмахнулся от них, стал расспрашивать про свое, насущное:
— Что за народы там живут и кочуют? — кивнул в сторону урыкита.
— Булэшэл-враги! — презрительно цикнул сквозь зубы толмач.
— Кто такие?
— Икогиры[145].
— Ты же говорил, они ваши ибдери? Что от родни-то воротишь плоский нос?
Синеуль метнул на передовщика гневный взгляд. На миг обозначилась на его лице прежняя скорбная личина, с которой когда-то пришел в ватагу, но тут же растянулись в усмешке губы, сверкнули острые зубы.
— Они от меня свои плоские носы воротят! — сплюнул и выругался по-казацки.
Ватажные рассмеялись. Поддержанный, Синеуль вскрикнул:
— Совсем тупые у них головы. Говорят со мной, как с чужаком. Я им не чибара.
— Какой же ты ясырь? — ободрил толмача Пантелей. — Не аманат даже. Сказал бы, что толмач — первый человек после передовщика и пайщиков.
Неволить Синеульку промышленные не стали: что бы ни было впереди, а назад им уже не повернуть. Где пойдет река — там и придется плыть. С неделю люди прорубались сквозь лес, поднимали в ручье воду плотинами и, наконец, поплыли по течению.
Струги прошли мимо урыкита, куда Синеуль наотрез отказался идти. Крест свой он не нашел. При встречах икогиры не показывали враждебности, приветливо махали руками и зазывали для мены. Гребцы радовались, что пришел конец великим трудам! Течение несло струги от переката к перекату, и только на них да на отмелях людям приходилось мокнуть, протаскивая суда на глубину.
По девять человек в каждом струге — тесно. С поклажей, с мешками рухляди и припаса — иногда нестерпимо тесно. Где можно было угнаться за плывущими, свободные от гребли бежали берегом.
Степенно несла свои воды река. Ватажные стали привыкать к безделью и тесноте. Шестеро на веслах, по кормщику да по паре захребетников, теснящихся кто на корме, кто на носу — и так в каждом струге. Где позволяли глубины, гребцы, сменяя друг друга, налегали на весла, спешили к Енисею.
На просторных лугах кочевые народы выпасали скот и оленей. Можно было расспросить их, куда течет река, что за люди живут в ее низовьях, но Синеуль, как кот, цеплялся за весло или за борта, он соглашался лишиться пая, а на берег не шел. Правда, и принуждать его к тому большой надобности не было: самые недоверчивые из промышленных видели, что плывут они на закат и не той рекой, по которой поднимались.
Смутное беспокойство стало одолевать стариков, им казалось, что слишком уж легко проходит день — а это не к добру. Перед всякими бедами Бог попускает людям, будто забывает про них, а нечисть завлекает. Беда и грех один без другого не живут, а грехов-то на них на всех было много.
Старики беспрестанно молились, пели псалмы. Когда они уставали, молодые заводили песни про славного атамана Ермака. Ночами ватажные ловили рыбу, которой в реке было множество: осетра, сига, щуки, вечерами и по утрам копали съедобные корни, драли заболонь, приберегая остатки проса на постные дни.
С большими предосторожностями струги прошли мимо ревущего порога и попали в полноводную реку, бегущую между высоких гор. Она была очень широкой, на стрежне гуляла шалая волна, а борта тяжелогруженых стругов лишь на ладонь поднимались над водой. И снова откуда-то доносились гул и рокот. Струги шли с опаской, прижимаясь к берегу. Вскоре гул стал отдаляться.
И так плыли они несколько дней. Однажды. глазастый Ивашка Москвитин, сидевший захребетником на носу, вскрикнул, указывая вдаль, на высокий яр:
— А это что там?
Задрав весла, гребцы обернулись. Кормщики выискивали глазами, на что указывал молодой устюжанин. Угрюмка с другого струга тоже что-то увидел на яру.
— Кол торчит! — подсказал дружку.
— А что шевелится? — заспорил Ивашка и встал на колени, приложил ладонь ко лбу.
— И правда — шевелится! — чертыхнулся Пантелей, тоже разглядев что-то непонятное. — Может, тунгус рукой машет?
— Наверное, девка с распущенными волосами! — крикнул Ивашка. — Стало быть, тунгуска Синеульку зазывает.
Гюргий Москвитин смотрел-смотрел, щурясь, да и спросил с сомнением:
— Не поп ли там стоит?
И умолк смех, гребцы налегли на весла так, что жилы буграми заходили по спинам. Волна стала захлестывать низкие просевшие от тяжести борта. Передовщику пришлось прикрикнуть, чтобы гребли полегче. Захребетники ерзали от нетерпения, вглядываясь в приближающийся яр.
Когда у них и у кормщиков, сидевших лицами вперед, не стало сомнений, что на яру стоит бородатый, длинноволосый мужик в скуфье, тот махнул рукой и пропал с глаз. Приметив расселину с тропинкой к воде, передовщик велел пристать к берегу. Один за другим струги ткнулись в мелкий окатыш, захрустевший под днищем.
С яра никто не спускался, на нем никто не показывался. Промышленные вышли на сушу, бренча галечником, разминали затекшие ноги, задирали головы. Потревоженные стрижи высыпали из множества норок в высоком яру, тревожно взвизгивая, носились над головами ватажных.
Долгое безлюдье стало всех удивлять. Пантелей приказал вдруг:
— Высечь огонь. Раздуть трут! Разобрать пищали, тесаки, луки! — И добавил мягче: — Вдруг коварство?
— Да поп же… — заспорили было холмогорцы. — И князец говорил про бородатых…
— Сколь вас Москва ни разоряла, ума-то не прибыло! — обидно упрекнул новгородцев передовщик. — А как попа поймали да принудили к яру подойти… А теперь ждут, что мы побежим за благословением безоружны, как бараны на бойню?
Смутили холмогорцев жестокие слова. Удивлялись они, рассуждая между собой: крепко татары научили казаков всякому коварству. Люди не спеша высекли огонь, раздули трут, подсыпали затравки на пороховые полки пищалей, окружили передовщика.
— Не встречают! — с леденящей улыбкой он задрал бороду к яру. — Придется самим идти! Устюжане — со мной наверх, холмогорцы и покрученники — струги караулить. — Взглянул на Угрюмку с Синеулем: — И вы со мной!
Вдруг послышались шаги и приглушенный говор. Еще не разобрать было слов, но, словно перезвон ручейка, улавливалась в нем напевная русская речь. На тропинке показались два долгобородых, долгогривых попа. Оба были одеты в подрясники из кож, головы их покрывали черные скуфьи. Они осторожно ступали друг за другом и несли в руках длинную, плетенную из зеленых прутьев корчагу. Остановились, увидев промышленных. Видно было по их лицам — не ждали встречи, но и не удивились, что перед ними свои, русские люди.
— Так это же наши Герасим с Ермогеном! — вскрикнул Угрюмка. — Те, что с Ивашкой в обозе шли.
Загалдели устюжане с холмогорцами, признав своих давних знакомцев, живших с ними бок о бок на кочах, когда плыли от Верхотурья до Тобольска. Низко поклонились им, скинув шапки. И монахи, бросив корчагу, весело поклонились ватаге, касаясь руками земли.
Сивобород же, выпучив изумленные глаза, онемев и оглохнув, постоял с разинутым ртом и рухнул ниц, хрястнув лбом по зашуршавшему галечнику. Следом за ним попадали гороховцы. Когда устюжане с холмогорцами стали радостно обнимать монахов, все они оправились от нечаянного испуга, начали смущенно подниматься и отряхиваться.
— Уф! — отдувался Сивобород. — Гляжу, спускаются с неба благочинные. Все, думаю! Послал Бог по мою грешную душу. Ну, батюшки, напугали, — посмеиваясь над собой, подошел за благословением.
Ермоген торопливо накладывал руки на склоненные головы, благословлял направо и налево. Герасим обнимал подходивших к нему за благословением промышленных и весело оправдывался: «Я дьякон, хоть и черный».
— Вы-то откуда появились? — спрашивал.
Были у монахов обветренные, объеденные гнусом, обожженные солнцем лица. Лесная одежда из кож висела на них неряшливей, чем на старых сибирцах, руки были мозолистыми, и только глаза сияли светом, какого не бывает у промышленных людей.
— Сколько же с вами народу? — получив благословение, спросил Лука Москвитин.
— А двое мы! И вся небесная рать! — весело ответил иеродьякон Герасим. Глаза его сверкнули. — Вы-то откуда?.. От Енисейского зимовья идете на промыслы? — переспросил удивленно. — Вроде недавно смотрел на реку. Никого…
Ватажные поняли вдруг, что монахи не знают, откуда они и куда плывут.
— С верховий! — часто закрестился Лука, будто отмахивался от назойливого комара. — От Туруханского по Тунгуске-реке поднимались три лета.
— По Елеуне сплывали и волоклись.
— Теперь с верховий здешней Илэл-реки плывем. С добычей! — наперебой говорили обступившие знакомцев складники.
Монахи удивленно переглянулись.
— Сколько ни пытали промышленных — никто не признался, что доходил до верховий Тунгуски, — смущенно пожал плечами Ермоген.
— Послухи сказывали, что где-то здесь, поблизости, есть старый сибирский тес, по которому исстари, тайком от служилых, наши люди ходят встреч солнца. Но те, что так говорили, только по ближайшим притокам промышляют, вот и думали мы, грешные, — может, первыми идем! А тут вы!
За те годы, что устюжане с холмогорцами и Пантелей с Угрюмкой не виделись со своими бывшими попутчиками, они стали походить друг на друга больше, чем братья по плоти. И если начинал говорить один, подхватывал и продолжал его мысль другой.
— Ну и встреча! — поглядывал иеромонах на незнакомых, оттесненных туруханцев и гороховцев. Улыбнулся, ободряя их. — Теперь разговоров на весь день. — И попросил обступивших его людей: — Поставим корчажку да пойдем к нашему костру, что ли?
— Правда, кроме котла и топора, у нас нет ничего, — признался Герасим.
Ватажные решили приветить дорогих людей возле стругов, развели костры, стали варить кашу, неторопливо расспрашивали о пути до Енисея. Монахи рассказали, как жили в Сургутском, потом в Нарымском острогах. Поведали, как шли через Пегую Орду с отрядом казаков и стрельцов, как поднимались по Кети-реке. Прошлый год осенью в ее верховьях их осадили немирные роды. И ставили они с казаками Маковское зимовье с частоколом, оборонялись всю зиму.
Весной по наказу томского воеводы казаки со стрельцами вышли на Енисей. На старом тайном волоке, неподалеку от скита старца Тимофея, по государеву указу начали ставить острог. Им из Сургута был прислан белый поп, а монахам — разрешение: проповедовать слово Божье дальше к востоку. Ермоген же с Герасимом по льду перешли реку и поднимались левым берегом Верхней Тунгуски. Подолгу среди здешних народов не жили: те дольше недели на одном месте не стоят.
— А народы добрые, на Божье слово отзывчивые! — сверкнул выпуклыми глазами чернобровый иеромонах.
— Так вы только с этой весны идете? — удивился передовщик. — А мы про вас аж там, — кивнул на закат, — на Елеуне-Зулхэ слышали. Тамошние люди сказывали — богохульников побиваете!
Ватажные, весело поглядывая на монахов, стали посмеиваться.
— Весной еще одолели было желтые бурханисты, — смущенно потупился иеромонах.
Иеродьякон добавил:
— Бродят среди мирных родов, шаманов убивают, бубны ломают. — Был грех. Как-то пришлось повоевать!
Угрюмка, слушая разговоры, таращил глаза на черных попов и все ждал, когда те его заметят. Сам же не знал, как к ним подступиться, как слово молвить. Едва рот раскрывал — кто-нибудь уже говорил с ними. Наконец передовщик спросил про Ивашку Похабу.
— С нами шел от Тобольска! — ответил иеромонах. — И в Сургутском недолго был, и в Нарымском служил, по Кети шел. Маковское зимовье ставил, весной с нами к Енисее вышел государев острог ставить на старом, вольном промышленном стане. Там, наверное, и сейчас топором машет.
— Служит! Но горяч, — со вздохом укорил иеродьякон. — Иной раз забуянит — не унять.
— Стрельцы да казаки одни других не лучше. Как говорят: «Новоторы — воры, да и осташи хороши, и свято место, где тихвинцев нет».
— Вот и встретились! — вздохнул передовщик. — Хоть возвращайся с вами. — Кивнул Луке с укором: — Говорил — к полудню идти надо было. Где-то там живет народ православный. И крест неспроста у князца в юрте висел. — Подразнивая ватажных, попросил: — Батюшки, освободите от крестного целования, я с вами пойду. Они отсюда и без меня до Турухана доберутся!
Холмогорцы с устюжанами загалдели, дескать, не дают они на то согласия. Гороховец Михейка Скорбут напористо прошамкал, брызгая слюной:
— Прогуляешь пай в Туруханском — иди, куда глаза глядят. Вдруг и я с тобой пойду.
— Может, и нет там наших людей? — виновато заспорил с передовщиком Лука Москвитин. — Я тот крест близко смотрел. Не наш он. Спаситель на нем с косой и в штанах. Так всю жизнь можно пробродничать — и все попусту.
Не знал Пантелей, как ответить спутникам, только качал лохматой головой да кряхтел, поглядывая на них. Черный дьякон вдруг облегчил его душу, сказав:
— Уж лучше обмануться, чем потерять веру в свои вековечные помыслы!
— Вот! — с волнением вскрикнул передовщик и взмолился: — Освободите, с вами пойду!
Иеродьякон с грустной улыбкой опустил глаза, а Ермоген развел руками и признался:
— Не имеем такой власти!
После каши с остатками прогорклого масла ватажные стали просить монахов отпеть по уставу и по обычаю своих пропавших в пути друзей и родственников. Они достали из мешков лучших, головных соболей. Федотка стал писать углем на мездре крестильные имена Нехорошки, Тугарина, Вахромейки… Истомкино крестное имя никто не помнил. Чибара — тоболяк.
Монахи повели их на яр, на намоленное место к выстывшему кострищу. Там была пещерка, отрытая в сухой глине. Они простояли здесь неделю, встретив род чикагиров умного князца Когони. Три дня учили тунгусов Закону Божьему, но те никак не могли уразуметь страданий Господа за людей. У них если кто заболевал шаманской болезнью, то мучился годами. А если давал духам согласие, то те искали в нем какую-то лишнюю кость, разрывали тело на мелкие части, голову насаживали на кол, и кровь выпускали, и ели живое мясо будущего шамана, обновляя его плоть.
Но три дня тунгусы с любопытством слушали пришлых людей. Дольше не выдержали и ушли, навьючив оленей. Монахи и сами собирались отправиться вверх по реке, хотели только запастись в дорогу рыбкой. Слова о серебряном кресте в юрте, о племенах, веривших в Богочеловека, заинтересовали их, и они выспросили, как пройти к тому князцу.
Отпев панихиду по погибшим и убиенным, отслужив молебны за здравие оставленных за Камнем близких людей, по просьбе промышленных они приступили к исповеди. Угрюмка лихорадочно соображал, в чем согрешил за эти годы. Ему казалось, что жил безгрешней многих. И он все никак не мог придумать, в чем покаяться.
Пантелей Пенда, вспомнив, сколько нагрешил от Туруханского зимовья, после исповеди у троицкого монаха, горько усмехнулся над собой: хотел в неведомом краю прежние грехи отслужить — только новые нажил.
Выслушал его Ермоген, корить не стал. Покряхтел, повздыхал и перекрестил повинную голову. Ободренный, что отпущены грехи казаку, шагнул к нему Угрюмка, и прилип язык к небу. Монах вкрадчиво зашептал на ухо, помогая вспомнить, что тяжко замшело на душе и сулило забыться со дня на день. Как при первой встрече с шаманом Газейкой, вдруг одряхлели руки, перехватило дыхание, сам собой развязался язык и понес околесицу, обличая греховное свое тело. Угрюмка сам себя увидел по-новому: нечаянно испугался и устыдился.
Отойдя от пня, он будто очухался: стряхнув с глаз морок, почувствовал обиду на монаха, захотелось еще раз подойти и объяснить, что все совсем не так, как тот понял, а по-другому. Но он только хмуро вышагивал взад-вперед, попинывая камни, пока передовщик не отправил его за дровами для костра.
Наутро, после литургии на антиминсе, на платке со вшитыми частицами мощей и с изображением Иисуса Христа во гробе монахи служили литургию, причащали, а после того крестили Синеуля. Крещение, данное ему Лукой на Тунгуске-реке, они не признали. И достались тунгусу в помощь святой покровитель Мина и крестное имя его.
Вздыхая и сомневаясь, иеродьякон выстругал Синеульке-Мине крест поменьше, а Гермоген все поглядывал, по силам ли носить его новокресту. Промышленные в голос уверяли, что два года тунгус таскал полуаршинный крест, правда, неосвященный. Покачав головой, иеромонах с молитвами освятил новый крест и надел на шею раба Божьего Мины.
Приобщившись к Господу душой и телом, ватажные радостно заспешили в путь. Монахи предлагали пожить с ними в чистоте хотя бы до Иванова дня, но только передовщик да новокрест Синеуль-Мина не возражали. Остальные находили множество причин, по которым нужно было торопиться с отплытием. И стали промышленные люди душевно прощаться с миссионерами. А те наказывали на Иванов день бесовских песен не петь, игрищ не играть, нечисть не призывать.
Искренно обещали ватажные помнить их слова. Разделили на две половины остатки проса, отдали часть монахам, жившим на одной рыбе. В полдень они поплыли по реке на стругах, и долго еще видны им были одинокие люди на яру.
— Сдам вас главным пайщикам, — хмурясь, ворчал передовщик, — и догоню. С ними пойду. Вдруг и отслужу свои грехи великие.
Струги плыли мимо высоких, покрытых густым лесом берегов. На них часто виднелись тунгусские стойбища, но не было больше нужды приставать к берегу и вызнавать путь. От зари до зари гребцы налегали на весла, спешили к закату и убегали от здешней осени.
Люди в судах горячо обсуждали услышанные от монахов новости: будто ныне царским указом велено заводить при острогах кружечные дворы для прилюдного питья вина и для веселья. По избам же да по балаганам держать хмельное запрещалось. И удивлялись они новым порядкам: искони на Руси погрешали тайно и стыдливо, а тут понуждали пить и гулять напоказ.
Сказывали старики: у кого глаз остер да слух тонок, тот много чего может увидеть и услышать в ночь на Аграфену-купальницу. Говорили, будто впотьмах деревья ходят, меняя места, травинка с травинкой, листок с листком перешептываются, звери и птицы человеческими голосами перекликаются.
Вот и догорела зорька вечерняя, вышел на небо ясный месяц, весело заблистал среди звезд. Поглядывая на них, ватажные долго сидели у костра, слушая и рассказывая запомнившиеся от дедов былины да всякие небылицы об этой чудной ночи.
А она была тиха и тепла, привычно попискивали комары. Наконец сон стал морить усталых людей. А сны-то на Аграфену — все вещие. Дозорный со слипавшимися глазами ронял голову, вздрагивал, тут же приходя в себя, и уже успевал увидеть мелькнувший знак.
Утренняя роса — добрая слеза. Ею лес умывается, с ноченькой прощается. Но не было росы на рассвете. Не было и дождя. Первыми проснулись старики. Громко зевая, подбросили дров, раздули огонь, положили на него зеленой хвои для дымокура. Чуть обогревшись, пошли к реке, стали окунаться, фыркая и крестясь: они знали цену телесному здоровью, им нельзя было пропустить Аграфенино утро.
И началась потеха. Сонного Синеульку-новокреста окатили водой. Он долго орал, не понимая, в каком из трех миров находится его крещеная душа. Голые и озябшие, промышленные бежали от воды к кострам и дымокурам, на ходу в две руки отмахивались от комаров.
Поднялись и молодые. Посидели, вспоминая вещие сны. Зябко ежась, пошли к реке для очищения души и тела. А после купания щедро топили старые нательные рубахи, чтобы со сношенным бельем избавиться от хворей и напастей да поскорей обзавестись новым.
Из остатков проса ватажные сварили обетную кашу. Подсластить ее было нечем, присолить тоже. Не беда — впереди на пути был острог, а в мешках сорока дорогой рухляди. Обетная каша казалась подслащенной и подсоленной уже тем, что крупа кончалась.
Все ждали дождя, не решаясь отплывать, но вскоре по верхушкам деревьев пронесся ветер, разогнал хмарь, и разгулялся пригожий летний денек. К полудню даже на воде стало жарко.
С песнями гребцы налегли на весла, и понеслись струги, оставляя за собой пенистый след. Молодые шалили, брызгались и рассказывали друг другу сны. Семейка с Ивашкой гадали на девок — кому какая достанется. Федотка фыркал, не желая рассказывать сон. Молодые устюжане кивали на отцов, сидевших в струге. Старики обещали, что как только вернутся домой, так оженят сыновей.
Угрюмка помалкивал с затаенной улыбкой на губах. Наконец-то он был богат, как мечтал с малолетства. Не обмануло предчувствие, оставалось только добраться до Туруханского зимовья и получить свой пай. Уже снилась по ночам, звала, как живая стояла перед его глазами суженая-ряженая: белая, румяная, ласковая. Где назначена судьбой их встреча? Если какие-то каверзные вопросы появлялись в удалой головушке, то Угрюмка отмахивался от них, как от бесовского уныния: верил, получит свой пай — и все к нему придет само по себе.
Прошлой ночью, боясь очарования, он спал с осинкой под головой. Деревце, с корешком и с привязанным к нему камушком, под насмешки друзей утопил на стрежне реки. Так он отваживал ведьм, которых боялся, смутно припоминая злых родителей.
Наставлений монахов ватажные не забыли: в ночь на Ивана Купалу не плясали, но на вечерней заре выкупались, как положено от века, надели чистые рубахи, смазанные дегтем по полам и обшлагам, для очищения попрыгали через костры. Бесовских песен не пели и кладов не искали, даже заговорных корней не караулили, а помолившись всей нечисти во вред, выставили дозорных и легли спать.
Не спалось той чудной ночью. Ворочались ватажные с боку на бок, старики охали, молодые перешептывались. Сами собой то и дело начинались притаенные разговоры. Глядя на звезды, все думали и гадали: как-то еще Бог даст дожить до зимы? Где с ней будет встреча?
Не спалось и передовщику в ту ночь. В плеске воды, в шуме листвы слышались ему бабьи голоса. Через прищуренные веки он глядел на редкие звезды, на мешанину облаков, жалостливый покой обволакивал, дурманил его бездумной полудремой. И привиделась ему Маланья, наклонявшаяся над ушатом, как над гнездом. Она поливала из кувшина малых детушек, белокурых да синеглазых, напевала им ласковую песню. Брызги из того кувшина прыснули в лицо Пантелея, покатились по нему, как слезы.
Он проснулся с колотившимся сердцем, провел ладонью по щеке, нащупал пальцами влагу, взглянул на ясные звезды, перекрестился. Роса ли упала с листьев, ангел ли обронил слезу? Маланья ли молится за него, грешного?
Утром, поднявшись до зари, ватажные вывалялись в росе и бросили в реку последнюю горсть проса. Притом друг перед другом оправдывались, что это ни Купале, ни русалкам, а так просто: всем — мало, одному — к раздору и зависти.
Наловив рыбы, они испекли ее на зорьке, подкрепились и сели в струги. День был праздничный — работать грех. А потому гребцы не налегали на весла, а только поправляли плывущие по течению суда. Течение же несло их к Турухану. То подремывали промышленные от томного безделья, то заводили песни христианские, жалобные, о том, как Лазарь лежал на земле во гноище, а в раю — на ложе Авраамовом, как Алексей, человек Божий, жил у отца на задворках…
На другой день после Купалы, на Петра и Февронию шел дождь. Может быть, небо плакало по странникам, оставившим жен ради богатства и благополучия своих домов. Лука-вдовец вдохновенно рассказывал о супружестве, верности и уважении друг друга в любви благоверного князя Петра и благоверной княгини его Февронии, об одновременной благостной их кончине и полюбовном уходе в жизнь вечную. Вспоминал он, молодым в пример, все хорошее, что было в его супружестве, и не сдержал слез, покатившихся по седой бороде. А слушавшие хлюпали носами, вспоминая оставленных родных.
— Ходко идем! — прервал душевный разговор передовщик. — Через три дня — петровки, а мы все на рыбе да на рыбе. Надо зверя добывать: остаться перед постом без разговин никак нельзя. — И унесся вдруг в воспоминания, от которых иных холмогорцев и устюжан замутило: — Под Новгородом, перед петровками, шведы нас крепко били… День и ночь палили картечью — не высунуться из нор. А мы с братом твоим, — кивнул Угрюмке, — с Ивашкой-то, и удумали, как ночью раненого коня приволочь. — Пантелей окинул взглядом лица устюжан и умолк с угрюмым видом. — Да! — хмыкнул в бороду. — Пусть день простоим, но зверя добудем.
И добыла ватага доброго лося. Чистого мяса с нагулянным за лето жиром было пудов с десять. Люди пировали весь вечер, сожалея о том, что Турухан не приблизился ни на сажень.
Рано утром на Петра и Павла они вытащили снасти из воды. Первого, самого большого осетра — рыбьего князя — отпустили на волю, как исстари принято в этот день у рыбаков. Побросали кости съеденного лося диким зверям, стали варить уху без соли. Лука с Алексой, помешивая в котлах, приговаривали и поучали молодых: «Поешь рыбки — глаза и ноги будут прытки!»
— На всю жизнь вперед наелись! — неприязненно ухмылялись те. — Милостивы к нам святые Петр и Павел.
Старики, заподозрив в словах насмешку, кланялись в пояс на восход, призывая святых апостолов отведать ушицы да простить, что без соли, без хлеба.
И снова плыли в день, когда работать грех. И опять не гребли, а только поправляли, чтобы не сесть на мель. И казалось всем, что медленнее чем прежде текут воды, едва несут струги. Так шли они до сыпучей каменной горы. Возле нее было много чумов. Тунгусы махали руками, зазывая для торга и мены. И видно было, что им русский люд не в диковину. Но не было нужды в мене. Да и менять-то было нечего. В здешних местах, по словам монахов, зерна у народов не было.
На Прокопьев день струги неслись по реке так, что едва не захлестывало волнами низкие борта. Ватажные опасались водяного, который в этот день лютует: может опрокинуть лодки и утащить людей в свои подземные казематы, в безвозвратное холопское житье.
Опасаясь вреда, они пристали к берегу до вечерней зари, вытащили струги на сушу подальше от воды. Добро свое, не поленились, перетаскали в лес и развели костры, чтобы с реки их не было видно. Хоть они и не забывали задабривать водяного дедушку, но в этот день попасть ему под горячую руку побаивались: нечисть — она и есть нечисть, на вероломство и подлость горазда.
Сверкала на небе Большая Медведица, суля добрые промыслы. Господь крошил старый месяц на звезды и разбрасывал по небу. Кичижники из гороховцев гадали по звездам на погоду, на добычу следующей зимой.
На Ильин день ватага прошла мимо причудливых каменных быков, обошла каменистые отмели с пенистой волной и вдоль долгой песчаной косы вошла в устье. Две многоводные реки сливались в одну, и в том месте по стрежню ходили волны. Как ни ждали этого дня, пришел он ни раньше, ни позже, а на грозного Илью Пророка. Кто видел Енисей возле Турухана, тот узнал его и в этих местах.
Кончилось лето. Пожелтели берега, огненный конь грозного пророка уронил в воду подкову с булатного копыта. И сразу похолодало. На полдень в теплые края тянулись по небу неспешные тяжелые облака. Робко, то и дело пропадая, поблескивало красное солнышко, смущенное могучими тучами-быками. Тужилось небо, чтобы разразиться грозой. Хмурил седые брови могучий старец. Запрягал коней в колесницу, погромыхивая колесами и оглоблями. Трепетал сатана, поглядывая на небо, боялся встретиться взглядом с грозными очами Ильи.
По стрежню шли высокие волны. Укрепляя свой дух, запели ватажные старую песнь про сатану и Илью Грозного, который мчится по небу на колеснице, запряженной тройкой белых коней. И где ни спрячется сатана, туда пускает громовую стрелу. Нечистый на хитрости и козни горазд: влетит в христианский дом, думает, там не тронут. «Не пощажу дома!» — грохочет Илья и сжигает его молнией. Тот в набожного человека спрячется — и его сразит Илья. Сатана — в церковь святую. «И ее не пощажу, но сокрушу тебя!» — гремит во все небо Илья и мечет огненные копья, убивая скотину и людей, сжигая дома и храмы.
Захватывало дух путников от той суровой песни. Не умолить погибели от молний. Разве креститься беспрестанно, чтобы отпугнуть сатану. Несколько святых капель ильинского дождя скатились с неба на головы плывущих. Они скинули шапки, ожидая целительной влаги. Долго поглядывал передовщик на стрежень и, к облегчению всех, не решился переправляться через реку в тот день.
— Надо грести с усердием! — сказал, кивая на середину соединившихся рек. — А это работа. Не дай Бог, рассердим Громовика!
И стал он искать место для отдыха и ночлега на правом берегу.
На другой день при безветрии ватага переправилась через полноводную реку, пошла вдоль левого берега к полуночи. А через день пополудни завиднелись на низком берегу четыре свежесрубленные избы с нагороднями, врытые в землю острожины и ворота, еще не навешанные на петли.
На сухом пригорке вокруг строящегося острога виднелись остатки ветхого зимовья с упавшим тыном, несколько лачуг и землянок, балаганы и шалаши. Их властно подпирало и отодвигало новое, государево строение. На берегу чернели легкие лодчонки, и даже неуклюжий карбас, вытащенный на сушу. Дымы жилья тянулись к светлому осеннему небу.
Завидев плывущие струги, к реке стали стекаться промышленные и служилые, мелькали малиновые шапки стрельцов.
Ватага подошла к берегу против старого почерневшего креста в сажень шириной и в полторы высотой. Видно было, что ставился он во времена давние, может быть, еще до лачуг и землянок, когда государевы люди знать не знали о вольных промыслах в этих местах. Встречавшие гостей люди с радостными криками вошли до колен в воду и вытащили струги на сушу вместе с гребцами.
Угрюмка среди первых соскочил на землю. Его окружили. Он жадно всматривался в русские лица, искал знакомых — и не находил их. Чинно сошли на берег староватажные, стали креститься и кланяться кресту.
— Ивашка Похаба здесь? — спросил кого-то Угрюмка.
Ему так же торопливо и невпопад ответили:
— В Маковское зимовье ушел! К вечеру вернется.
К передовщику протолкнулся промышленный знакомого вида. Посмеиваясь, облапил Луку:
— Не узнал, белая борода? В Тобольске виделись. — Обернулся к Пантелею. — Здорово ночевал, казак! — весело раскинул руки для объятий. — Ваську Бугра помнишь ли? С братом Илейкой у тебя на коче были? — Не дождавшись ответа, насмешливо спросил: — Побывал ли на Нижней Тунгуске?
— Оттуда! — ответил Пенда, вспомнив промышленного. — Нет там огненной горы. Брехал ты нам в Тобольске.
Васькино лицо покривилось, он принужденно рассмеялся, оправдываясь:
— Говорил — как от людей слышал! — Хотел еще о чем-то спросить без прежнего пыла, но к передовщику подошли два молодых стрельца и велели сходить на поклон к здешнему приказному Максиму Трубчанинову.
— Все расскажем, православные, ничего не утаим! — радостно выкрикивал Лука Москвитин, окруженный встречавшими. — Дайте в себя прийти с добром. Три года в пути… Помилуйте!
— Три года? — ахнула толпа.
Не отвечая на расспросы, Пантелей достал из заветного мешка грамоту мангазейского воеводы, оторвал Луку от любопытных.
— Привел вас! — весело помахал грамотой перед холмогорцами и устюжанами. — Крест вам целовал — не бросил. Теперь сами верховодьте: у меня с воеводами разговор не получается…
Лука и Федотка спешно переоделись, накинув поверх повседневных кожаных рубах изношенные кафтаны. Пантелей по-праздничному перепоясался кушаком, перевязал бечевой сползавшие бахилы, поправил казачий колпак на голове, наказал Москвитиным, Алексе с Гюргием, смотреть за стругами и поклажей.
Стрельцы степенно повели троих промышленных к воеводским хоромам. Один из них был в кафтане и при сабле, другой — в стрелецкой шапке, в рубахе, присыпанной опилками и опоясанной кушаком. Кабы не казачий колпак, Пантелей Пенда рядом с принаряженными пайщиками походил бы на захудалого покрученника.
По пути к свежесрубленной избе стрельцы подсказывали, как у них принято привечать приказного Максима Трубчанинова, тобольского сына боярского, по слухам уже назначенного воеводой.
— Хорошо, что только по слухам, — сказал Пантелей Пенда. — Поди, еще спеси не набрался.
Слова его вызвали усмешки на молодых лицах енисейских стрельцов.
Сын боярский встречал прибывших возле своей избы. По здешним понятиям, он оказывал ватаге честь. Взглянул на него передовщик и едва не зевнул от тоски: на крыльце стоял дородный, чуть сутуловатый тоболяк с властными, налитыми кровью глазами. Одет он был богато, упирался руками в бока, откинув полы епанчи, шитой по обшлагам и полам собольими пупками. Соболья шапка с красным суконным верхом была надвинута на брови. На боку висел кривой ятаган с рукоятью в каменьях. В бороде служилого густо белела проседь. Издали казалось, что на его спине, как у вепря, топорщится мохнатый загривок.
Взглядом и видом своим служилый старался напугать подходивших к нему людей. В бороде передовщика скривилась презрительная насмешка. Зная, как любит напускать на себя грозный вид всякий трусоватый люд, чтобы скрыть свой страх, на пристальный взгляд приказного он отвечал строгим, пронизывающим взглядом.
Из-за спины сына боярского выглядывал молодой казак в суконном колпаке с отвернутыми краями. Из-за них торчали гусиные перья. На поясе казака висела чернильница. Писарь из казаков или подьячий своим видом будто винился за насупленные брови приказного.
Пантелей поклонился на казачий манер, не снимая колпака, Федотка — по новгородской старине, в пояс, коснувшись перстом земли, Лука, смахнув шапку с головы, на московский манер, — трижды.
— Откуда плывем и с какой добычей? — грозно пророкотал приказный, едва кивнув в ответ, и выставил вперед ногу в красном сафьяновом сапоге. Он осмотрел поданную ему грамоту, вислую печать на ней. — С Мангазеи! — прорычал недовольно. Мельком взглянул в грамоту и передал ее писарю.
— По слухам, дотла выгорела ваша Мангазея еще на Пасху, — усмехнулся, пытливо всматриваясь в лица промышленных.
Никто из троих не подал виду, что огорчен его словами или не поверил ему. Лука с поклоном стал отвечать, что вышли они из Туруханского зимовья и первую зиму промышляли в низовьях Нижней Тунгуски. И еще два раза зимовали на той реке, поднимаясь к истокам. А этой весной переволоклись в другую реку — полноводную Елеуну, по ней шли к верховьям до народов, которые называют себя «браты» и «балаганцы». От них переволокли струги в реку Илэл, по ней сплыли до Верхней Тунгуски и на Ильин день дошли до устья…
— С Нижней Тунгуски поднялись, с Верхней — сплыли? — недоверчиво переспросил сын боярский, еще злей впиваясь в лица устюжанина и холмогорца испытующим взглядом. Пантелея он ни видеть, ни замечать не хотел. — Не слыхал я, чтобы там кто-то промышлял.
Лука подал ему трех соболей в поклон. Глаза сына боярского подобрели, с разгладившимся лицом он принял дар, шагнул к свету, потряс рухлядью, подул на подпушек, взглянул на промышленных с любовью и приязнью.
— Вели-ка баню истопить для гостей! — приказал стрельцу в рубахе. Тот во время разговора выколачивал о колено шапку и отряхивал рубаху.
Писарь стал вслух читать грамоту. Прислушиваясь вполуха, приказный обронил, любуясь соболями:
— Мангазея сгорела. Палицын, поди, уже в Тобольске. Пусть нам десятину дают… — И вскинул лукавые глаза с каким-то намеком: — Сказано — на пяти стругах уходили. Пришли на четырех.
— Льдом унесло! — рассеянно пролепетал Лука, соображая, можно ли оставить цареву десятину здесь.
— Могло унести, могли продать, не оплатив ни продажной, ни покупной десятины, — посмеиваясь, ухмыльнулся сын боярский, игривым взглядом приглашая к разговору.
Пантелей, старательно молчавший до тех пор с окаменевшим лицом, не выдержал и прохрипел:
— Вот в Мангазее и ответим — продали или потеряли. И десятину государеву там же дадим!
Сын боярский подался вперед всем телом, вперил гневный взгляд в оборванца в казачьем колпаке. Тот не опускал глаз, не страшась грозного вида.
— Взять его! — властно крикнул молодому стрельцу и ткнул перстом в сторону передовщика.
Служилый досадливо мотнул головой, вздохнул, вынул из ножен саблю, положил ее на правое плечо, левой рукой взял Пантелея под локоть.
— Пойдем уж! — пролепетал неохотно.
Вдруг, споткнувшись, он отступил, удивленно разглядывая свою обезоруженную руку. Сабля оказалась у передовщика, и он так завертел ею над головой, что засвистел воздух и вокруг казака засверкал блестящий шар.
Приказный с неподобающей для его дородности резвостью оттолкнул писаря, скакнул через крыльцо за дверь, выглянул из-за косяка с испуганным лицом. Пантелей же воткнул саблю в землю, густо усыпанную щепой, развернулся, протиснулся сквозь гулящих зевак, которые стояли за спинами, и зашагал к стругам. Отделившись от толпы, следом за ним пошли Васька Бугор с братом Илейкой. За ними потянулись до полудюжины их дружков. Другие у крыльца стали выкрикивать писарю:
— Остепени Максимку! Пусть не идет против мира! И прежде был жаден, теперь вовсе… Руки загребущи… Глаза завидущи.
Срывавшимся петушиным голоском кто-то неуверенно пригрозил:
— В воду посадим, по старине!
Вздыхая и разводя руками, поплелся к берегу Лука Москвитин. За ним с поникшей головой двинулся Федотка, не проронивший у крыльца ни слова.
— Не дадим в обиду! — густым голосом горланил Васька Бугор, призывая гулящих дружков. Лицо его было красным от негодования. Широкоплечий Илейка с прямой, как колода, спиной, шел за братом, улыбался и молча, будто невзначай, потряхивал огромным жилистым кулаком, обросшим рыжим пухом: дескать, если кого вдарю — мокрое место останется.
— Не успел воеводскую шапку справить — уж и поклонов и поминок ему мало. Пелымец Албычев с Рукиным справедливей были, — направо и налево выкрикивал Васька.
— Без них без всех — и того лучше, — как медведь, проревел Илейка. — По старине хотим жить. Без служилых!
Следом за Лукой и Федоткой пришел писарь. Он безбоязненно протиснулся сквозь гулящих, прикрикнул на Ваську с Илейкой:
— Чего буяните! Сперва долг отработайте!
Те смутились, осекшись на полуслове. Писарь шагнул к стругу, где передовщик готовился выставить оборону, сел на борт, насмешливо поглядывая, как Пантелей надевает саблю.
— Не серчай! — сказал мирно. — Куражится Максимка. Я давно его знаю. Дали бы ему еще пару хвостов — приветил бы как лучших людей.
Слова писаря не были услышаны. Пантелей резко командовал кому какое оружие брать.
— Ну как он возьмет с вас десятину, если в грамоте писано, где и кому отдавать? — раздосадованно вскрикнул казак, обращаясь к разуму ватажных. Затем приглушенно выругался и добавил: — Дурака не вылечишь! — И прозвучали эти слова как-то двусмысленно: то ли об алчном приказном, то ли о вздорном передовщике.
— Тебя как кличут? — спросил Пантелей, пронизывая писаря леденящим взглядом.
— Максимка, Перфильев сын, — дружелюбно ответил тот, поглядывая на ватажных насмешливыми глазами. — Десятский из сургутских казачьих детей. Пока при острожке за подьячего… Служу. — Тряхнул чернильницей, висевшей на поясе, подал передовщику оставленную им грамоту. — Про вас слыхал от Ивашки Похабова.
Лука, боязливо поглядывая на казака и на обступивших струги людей, что-то бормотал, виновато разводя руками. Ссора с воеводой, хоть бы и не разрядным, не утвержденным в должности Сибирским приказом, не нужна была ни устюжанам, ни холмогорцам. Но увидев, как сам подьячий, хоть бы и временный, приязненно разговаривает с опальным передовщиком, он стал успокаиваться, придвинулся к говорившим.
— Вон — брат Ивашкин, — потеплевшими глазами Пантелей указал на Угрюмку.
Максим Перфильев ласково взглянул на молодца, приветливо кивнул ему. В толпе кто-то снова завопил:
— Не люб нам Трубчанинов! По-старому жить хотим!
Лицо писаря резко переменилось, властно сверкнули глаза.
— Что орете, как воронье на падали? — строго прикрикнул на галдевших. — Это боевой друг-товарищ Ивашки Похабы, — указал на Пантелея Пенду. — А то брат его родной.
Оклик остепенил возмущавшихся, они смущенно стали поглядывать на Пантелея с Угрюмкой. Передовщик, не замечая явной опасности, присел на борт рядом с Перфильевым. Улеглась обида, простились злые слова, он усмехнулся в бороду, вспомнив, как скакнул за дверь сын боярский.
— Ничего! — ободрил Максим заискивающего Луку. — Завтра дашь два поклона по хвосту — и уплывешь лучшим другом… А Мангазея, по слухам, сгорела.
Иван Похабов и два стрельца, знакомые устюжанам и холмогорцам по верхотурскому пути, вернулись в острог на темной вечерней зорьке. С ними был Иоган Ермес — ссыльный пленник, когда-то верховодивший казенным обозом.
Ермесу Бог дал умение рисовать. Он мог углем на доске так намалевать чью-нибудь рожу, что служилые и гулящие от хохота по земле катались и уважали в нем этот дар, как уважали всякое мастерство. Нынче Ермес ходил с тремя провожатыми в Маковское зимовье, срисовывал его по Государеву указу для Сибирского Приказа на присланную бумагу.
Узнав, что с Тунгуски-реки сплыла мангазейская ватага, много лет промышлявшая в неведомой стране, и что в той ватаге его брат, Иван заспешил к гостям. Но пока он доделывал все неотложные служебные дела, кончился день и стало темно.
Костров на берегу мерцало больше десятка. Возле каждого плотной толпой сидели прибившиеся к острогу гулящие и промышленные люди, все слушали рассказы прибывших. А они по двое, по трое в середине на лучших местах говорили о землях и реках, где побывали, о промыслах и народах, с которыми довелось встретиться.
Иных из говоривших Иван узнавал, других нет. Видно, в Мангазее ватага пополнилась. Сперва он увидел Пантелея Пенду в том же самом, что и раньше, только заношенном колпаке, опять длиннобородого и долговолосого. При свете костра товарищ казался постаревшим. Стариками выглядели и другие знакомые устюжане. Даже у огня среди ночи видно было, что их головы белы.
Неторопливо и осторожно рассказывал о чем-то Лука. Пантелей лежал на боку и щурил глаза на пылавшие угли, иногда кивал, подтверждая слова старого складника. Пройти мимо них Иван не мог. Заныло под сердцем былое, и он окликнул товарища. Тот узнал голос, резво поднялся на ноги, раздвинулись сидевшие у огня, и обнялись товарищи со смехом и слезами на глазах.
— Жив, слава Богу! Свиделись!
— Вроде еще вырос! — оглядел Ивана бывший станичный пятидесятник. — Не разъелся на государевых харчах! А борода отросла богатая!
— Такую Бог дал! — пробурчал Похабов, невольно оглаживая пышную молодецкую бороду. — Где брат-то? Живой? — спросил нетерпеливо.
— Жив, слава Богу! Здесь где-то!
— Пойду обниму, после поговорим…
С государевыми людьми пришли в Енисею-страну иные времена: уже не ходила у костров заздравная чаша-братина с долгими величальными речами. В прирубе у воеводской избы возле бочки с хлебным вином сидел целовальник из крещеных татар. Он наливал только в чарки и велел пить здесь, при нем, не унося хмельное к кострам.
Свои, русичи, черкасы и литвины, боясь греха, в кабацкие целовальники не шли. Они считали должность зазорной и бесовской. Новокрест же пришелся впору новым временам и порядкам. Он принимал рухлядь, приносимую в плату, жадно высматривал приносимые меха плутоватыми черными глазами, щупал, вынюхивал, придирался ко всякому пустяку, торговался за государеву выгоду яростно и злобно.
Чертыхаясь и поругиваясь с ним, промышленные, служилые, гулящие поносили все выкрещенное отродье. Уже не благостно, как прежде, а в сердитом запале крестили рты, чарки, торопливо выпивали и, обсасывая усы, возвращались к кострам, где продолжался разговор. Новокрест или орал вслед, запоздало обнаружив недочет в рухляди, или высовывал из окна самодовольную лоснящуюся рожу с раздутыми от важности щеками.
Молодого промышленного в московской шапке и добром зипуне Иван приметил сразу — узнал кровь. Тот хмурил брови, как отец, и при всей молодости на его переносице были морщины, как у деда. Приятно удивило Ивана Похабова, что брат вольно, без смущения рассказывал о промыслах. Притом что-то напомнило в нем кичливость отца, когда тот был пьян.
Постояв в нерешительности, понаблюдав за братом, Иван окликнул его. Оборванный на полуслове, Угрюм опасливо взглянул в темень, понял, кто зовет, но не кинулся на встречу, а поднялся, безвольно опустил руки, обмер, как замирает букашка, притворяясь неживой. Даже в бликах костра видно было его разительно изменившееся лицо. Ивану вспомнилось, как отыскал тощего отрока у дьяконицы в Серпухове, от жалостливых воспоминаний кольнуло в груди.
Пришлось ему самому, раздвигая спины, пробираться к огню и обнять брата. Вокруг одобрительно зашумели, а у Ивана было чувство, будто он обхватил руками кол. Братья молчали, не зная, что спросить друг у друга, что сказать при сидевших. Иван взял младшего за руку, вывел в темень. От Угрюмки пахло хмельным.
— Пойдем на кружечный двор — поговорим! — потянул к видневшимся во тьме острожным воротам. — Только сперва в избу. Переобуюсь. Ноги горят.
В темноте Угрюмка раз и другой споткнулся о тесаные бревна для избы-однодневки[146]. Обиженно засопел, закряхтел. Братья вошли в избу. Внутри нее по стенам между бревнами еще висел мох. Печь была сложена только наполовину и пахла сырой глиной. Возле лучины в кутном углу сидел еретик Ермес. Угрюмку удивило, как тот переменился. На плечи ссыльного был накинут добротный долгополый зипун, на лавке лежал суконный малахай, отороченный лисьим хвостом. Борода по щекам и волосы на его голове были коротко острижены, лицо стало другим: будто опростилось на ржаном хлебе. Разве глаза щурились как-то не по-русски.
— Брат? — спросил он правильным, не резавшим слух языком. — Помню! Большой стал. На тебя похож.
Иван подтолкнул Угрюмку к лавке. Тот плюхнулся на нее, как чурбан, стал смущенно водить глазами, поглядывая на отдыхавших казаков.
— Ну сказывай, как промышлял, где? — спросил брат, с кряхтением стягивая сапоги.
— Хорошо промышлял! Далеко, — насупившись, пробурчал Угрюмка. Про себя же удивлялся пышной Ивашкиной бороде.
— Как жил? — С явным облегчением старший брат высвободил из сапог ноги и стал затягивать бечеву на легких и мягких чунях.
— Жил! — едва слышно ответил младший.
— Ну пойдем, — Иван поднялся, притопнул пятками по земляному полу. Угрюмка, почуяв досаду в его голосе, замкнулся пуще прежнего.
Опять братья шли в темноте. Иван постучал в затворенное окно. Сквозь щели в ставнях мигал свет лучины. Окно распахнулось. Целовальник узнал служилого, спросил, корявя язык:
— В долг? Под жалованье?
— Двоим! Брательника встретил! — приказал казак.
Новокрест облизнул тонкие губы, налил в две чарки. Братья сели на завалинку, обложенную дерном.
— За встречу! — перекрестился старший. — Слава Богу, дождались!
Чокнулись братья чарками, распугивая таившуюся в вине нечисть.
— Что добыл-то? — крякнул служилый после выпитого и тут же мотнул головой. — Это ж мы с тобой года четыре не виделись?
— Четыре! — пролепетал Угрюмка.
Отчего-то не говорилось. Старший натужно спрашивал, младший коротко и неохотно отвечал, будто брат пытал его в чем-то.
Выпили по второй. Ругнув татарина, мол, таким пивом только похмелье поправлять, старший спросил:
— Деда-то с отцом поминал ли, как я наказывал?
Угрюмка засопел, настороженно помалкивая.
— Забы-ыл! — горько укорил брат. — Помнишь ли, в какой день отошли?.. И того не помнишь, — тяжко вздохнул. — А дед тебя сильно любил, — он свесил голову, помолчал и вдруг резко поднялся: — Ладно, иди уж! Спать пора! — отчеканил, как пестом в ступке, таким голосом, что и в темном погребе узнаешь служилого.
Угрюмка будто ждал дозволения — резко поднялся и, не оглядываясь, зашагал к костру.
Старший Похабов постоял под окном кружечного прируба, провожая его глазами. Не удержался, крадучись пошел следом, остановился в нескольких шагах от огня, невидимый сидящим.
Угрюмка сел на прежнее место. Лицо его было скорбным и рассеянным, будто претерпевал рези в животе. Говорил конопатый Семейка. Слушатели время от времени приглушенно похохатывали.
Иван направился к костру, где сидел Пантелей. Тот радостно поднялся навстречу, он ждал товарища. Вдвоем они вернулись к кружечному прирубу, сели на той же завалинке. Похабов властно постучал кулаком в ставень и потребовал хмельного. Проговорили казаки до полуночи и о прошлом, и о пережитом врозь, о Третьяке и об Угрюмке.
Пантелей все винился, что нынче богат как никогда, а угостить дружка не может. Складники скупы: на баню и на веселье в остроге отпустили мало рухляди — не разгуляться. Холмогорцы, узнав здешние цены на рожь, подстрекали плыть в Туруханск на рыбном и мясном корме. Соли, мол, возьмем — и хватит.
— Дай волю — голодом уморят, — выругался.
— Ничего! За меня государь платит! — посмеивался Иван, а захмелев, взглянул на товарища с лукавой ухмылкой: — Богатство нажил! Взял ли на саблю славу? Добыл ли чести?
— Какая честь? — не понял насмешки и отмахнулся Пантелей. — А ведь привел Господь! — Размашисто перекрестился и заговорил с жаром, увлекаясь пережитой обидой: — Где-то рядом уже был! И чести, и славы мог добыть, за старую Русь порадеть… Куда там, — досадливо мотнул лохматой головой. — Барышники за мошну душу продадут. А я им крест целовал. Бросить не мог, а они за мной не пошли! — Он помолчал, накручивая прядь волос на палец. — Ничего! — мстительно пророкотал в сторону сидевших у костров. — Теперь знаю, где искать. Другим летом все равно дойду!
Он спохватился, смущенно улыбнулся, будто только теперь понял насмешку товарища. Помолчал, сам над собой посмеиваясь, спросил с той же лукавинкой:
— Ну а ты что выслужил у царя?
— Я не царю служил — Господу! — горделиво ответил Иван, отчего-то раздражаясь. — На Туре-реке, помнишь, все спорили — не мог я тогда ответить по уму: ты же хитрющ да грамотен, как бес. Батюшки после вразумили: Моисей-де был приемным сыном дочери фараона. Мог прожить в роскоши и в удовольствиях, но бесславно. А он терпел лишения, разделив судьбу и изгнание единокровников. Те его и предавали, и обманывали, но Бог возвеличил и прославил за терпение. Через его подвиги и меня, грешного, вразумляет.
— Чему вразумляет? — снисходительно усмехнулся Пантелей. — Остроги строить да десятину со своих драть?
Ивашка растерялся, замолчал с уязвленным сердцем, стал хмурить брови, вспоминая разговоры с монахами и свои прежние заветные мысли.
— И не в сынах у фараонши Моисей был, а в белых холопах, — продолжал Пенда гладко, как по писаному. По молодости еще не стерпел он, как египтянин бил его кровников и убил фараонова воина. А свои, спасенные им, предали. И бежал он в чужие земли. Там в достатке жизнь прожил, детей нажил. Но явился ему Бог и призвал порадеть за единокровный народ…
Недолго звучала в голосе Пантелея насмешка над товарищем. Пока рассказывал про Моисея, увлекся своими наболевшими и тайными помыслами, заговорил с жаром:
— Это я, прости, Господи, как Моисей искал землю обетованную. — Распаляясь, даже ударил себя в грудь. — И нашел бы, и дошел, кабы не те жидовины, — кивнул в сторону реки. — Ничо, найду еще! После сманю туда и тебя, и Третьяка. Ну и Угрюмку, наверное… Если пойдет! — добавил неуверенно.
Ивашка молчал, перебарывая подступавший гнев. И вдруг, восторженно хмыкнув, рассмеялся.
— Ты чего? — удивленно спросил Пантелей.
— А вспомнил рожи старшинки, когда тебя на плаху волокли. Для твоего вразумления и своего оправдания наставляли тебя перед казнью, что ни скажут — ты им в ответ свое, и опять они все в дураках. Покойный атаман от ярости аж свою бороду искусал… Тебя и бес не переспорит! Ловко! — Иван вдруг резко умолк, вспомнил о брате, вздохнул, свесил голову, простонал, открываясь в сокровенном: — Сон мне был на Аграфену. Не сразу понял, к чему. А сон чудной и вещий. Не спал еще, вспоминал сон давний. Юнцом еще пригрезилось, будто Угрюмка убегает через болото по мосткам на сваях. А я внизу бегу по кочкам, по трясине, и ору, зову обратно. Плачу… А он бежит, не слышит.
Вспоминал-вспоминал — и вижу под ногами болотину. И ноги свои босые вижу. И бегу, спотыкаюсь, боюсь отстать. Вдруг среди кочек тропа. Не вдоль мостков, а чуть в сторону. Побежал я по ней осторожненько так, чую, останавливается брательник на мостках, смотрит на меня, дивится. — Поднял Иван хмельную голову, пытливо взглянул на Пенду: — К чему бы?
— К добру, Бог даст! — тот дружески хлопнул ладонью по опустившемуся плечу товарища.
— Не знаю! — печально простонал Похабов и сжал голову ладонями. — Только что виделся с ним… Ох, не знаю!
— Ничо. В сиротстве он долго был. Выживал всяко. Хитрит, бывает, отлынивает. Совести маловато еще… Жизнь обломает, Господь вразумит.
— Куда с Турухана-то пойдешь? — окрепшим голосом спросил Иван.
— Получу пай, куплю у тунгусов оленей — и к тебе. Куда еще? Возьму Угрюмку за шиворот, привезу. Весной, может и раньше, монахов догонять буду, встреч солнца пойду. Чует душа — там наши люди и наша земля.
— Как Моисей? — опять сквозь слезы хохотнул служилый казак.
Пантелей добродушно кивнул в темноте, ответил без смеха:
— Только с малой ватажкой, а то и один.
Похабов тряхнул бородой, зевнул устало.
— И догони! — Пригрозил: — Они вразумят, какой из тебя Моисей! — Он опять зевнул и добавил ласковей: — Что мне дал Бог, так это друзей: тебя, Третьяка, Максимку… Знаю, приду в монастырь, скажу Третьяку: «Помоги» — все бросит и поможет. Казак — он и в пахотных, и в промышленных казак. Зря ты Третьяка коришь, что сел на пашне. Это на Дону землю пахать — закон преступать. В Сибири житье другое и закон иной.
— Максимка — писарь здешний?
— Десятский наш из сургутских казачьих детей. Моложе меня, но башка, куда с добром. При воеводе станет разрядным письменным головой. Но настоящий казак, за своих — стеной, рубаху снимет, отдаст товарищу, только чтобы ни споров, ни раздоров не было.
Наутро ватажные поднялись поздно. Не зорька красная разбудила, а перестук топоров. Гулящие люди ставили острожины. Беззубый гороховец Михейка Скорбут не ночевал на таборе, затерявшись среди здешних лачуг и балаганов. Хмельной, он приволокся едва ли не перед отплытием, стал требовать долю, хотел остаться.
Без того покрученники со складниками, холмогорцы с устюжанами беспрестанно спорили, как делить потраченное на поклоны, на припас, баню с чаркой: пили-ели равно, стали считать — выходило всем по-разному.
От гулящих явился Васька Бугор и стал требовать заплатить за Михейку его проигрыш.
— Обыграл в долг — терпи убыток! — жестко отрезал передовщик.
— Я его заставлял в долг играть? — стал напирать Васька, хватая поникшего гороховца за рукав, как ясыря.
Неслышно подошли к стругам Иван Похабов с Максимом Перфильевым, оттолкнули крикуна.
— Уйди с глаз! — прошипел писарь.
— Ужо, приду со служилыми! — хрипло пригрозил Похабов. Его борода грозно топорщилась, глаза с кровавой паутинкой глядели неприязненно. — Найду кости, глотать заставлю.
— Читали государев указ, чтобы зерни по балаганам не держать? — поддержал его Максим. — Иди! Надо денег — бери топор, острог ставь!
К Пантелею же Иван обратился с печальным лицом и тихо спросил:
— Уходишь? — При этом глядел так, будто надеялся, что ватага зазимует.
— От греха подальше! — сердито озирая ватажных, ответил передовщик. — Скорей бы уж прийти на Турухан, поделить добытое, иначе они перегрызутся между собой.
— Долю отдайте! — завыл непротрезвевший еще гороховец. — Остаться желаю.
Не оборачиваясь к нему, передовщик громко обратился к ватажным, спрашивая насмешливо и язвительно:
— Может, еще один струг купим у гулящих? Недорого отдадут!
— На что он, коли зимовать в Мангазее? — смущенно зароптали складники. — На Турухан, даст Бог, придем уже по зиме, когда и свои струги не продать.
— Нет так нет! — ударил кулаком по борту передовщик и приказал: — Рожь грузи поровну!.. Угрюмка! С братом простись. Без тебя управятся.
Отошли в сторону Похабовы — старший с младшим.
— Если на промыслы не уйдешь — возвращайся! — печальным голосом попросил Иван. — Вместе зимовать будем… Все веселей.
На глаза Угрюмке попалась знакомая тобольская бляха. Она застегивала кожаный ремень — шебалташ — с висевшей на нем пороховницей. Взглянул он на бляху, поднял заблестевшие глаза на брата, рассмеялся.
— А я этого мужика, — ткнул пальцем в щурившуюся голову, — живым видел. Это князец-баатар с Елеуны… — И добавил, с любопытством разглядывая золотую безделушку: — А ты теперь шибче прежнего похож на другого.
— Бородой еще не вышел! — Старший Похабов улыбнулся ласково и грустно. Понял вдруг, что брат хоть и вырос плечами в матерого мужика, а разумом еще юн. «Куда против Максимки», — подумал, невольно сравнивая. И легче стало на душе.
Ватажные в стругах уже рассаживались по местам, разбирали весла. Братья крепко обнялись. Высвобождаясь, Угрюмка пристально посмотрел в Ивашкины глаза — и дрогнула его душа. Не было в них слез, но, будто кровь в колотых ранах, колыхались горючая боль и лютая тоска.
Угрюмка смутился, покраснел, отступил на шаг и поклонился старшему в пояс на новгородский манер, касаясь перстом земли. Затем, не поднимая взора, развернулся, столкнул на воду нос струга, прыгнул в него.
Напрягая спины, гребцы налегли на весла. Течение стало разворачивать судна кормой к полуночи. Кормщик прикрикнул — кому грести, кому сушить весла. Его струг выровнялся, став носом по течению, обогнул мель и вышел на глубину. Гребцы все вольней взмахивали веслами. Они поднимались и опускались, как крылья могучей птицы в небе. На лопастях поблескивали неясные лучики скупого осеннего солнца. Подхваченные течением, суда набирали скорость.
Удалялось Енисейское зимовье с недостроенным острогом. Удалялся Ивашка Похабов. Ветер трепал его бороду. Пантелей, сидя на корме спиной к товарищу, раз и другой обернулся, махнул рукой и понял, что тот его не видит. «На брата глядит!» — подумал. Тряхнул головой и завел песнь не про вольного казака Илью Муромца, не про любимца богов атамана Ермака, а про плач Адама у ворот рая:
— «Не велел нам жить Господь во прекрасном раю.
Сослал нас Господь Бог на грешную нашу землю».
— «Ой, раю мой, раю, прекрасный мой раю!» — подхватили гребцы.
Далеко по воде разносились слова о нуждах и страданиях, о тоске, которую каждый из них в достатке испытал и носил в душе. Но только через песнь открывался смысл и высший промысел тех страданий.
Не любил прежде Угрюмка этой песни, а потому и не задумывался над ее словами. На этот же раз не мучили его нестерпимые воспоминания о давних унижениях. Вдруг открылись ему страдания человека, теряющего все разом, и затрепетала, захолодела душа, да так, что слезы выступили на глазах.
Еще вчера Угрюмке верилось, что он богат и впереди у него только счастливая жизнь. Отчего-то с малолетства чудилось ему: день придет — и в княжеских одеждах, с верными слугами отправится он в какую-то счастливую землю, где его кто-то ждет.
И осенило вдруг, что пока плачет Адам, у ворот рая стоя, он еще надеется и верит, что они распахнутся, он еще не представляет себе всех грядущих страданий, о которых лучше и легче не знать наперед всякому живущему. Но поющие-то знали, что плачь не плачь Адам, а ворота уже не раскроются никогда, и надо с этим смириться, как-то устраивать свою бренную жизнь. Надо привыкать к суровым будням, к голоду, к стуже, к подлости, к ненависти, к коварству и как-то выживать, помня о счастье и любви за запертыми воротами.
Новый, неведомый досель страх вошел в душу молодого и не бедного уже промышленного человека. Он понял, что безвозвратно втянут в этот суровый сибирский мир — и ничего другого, лучшего, уже не выпадет на его долю. Дай-то Бог вернуться к брату на своих нартах, со своим припасом в зиму да с мешком клейменых соболей на черный день. Больше и возвращаться-то некуда.
Осознав это, он глядел на удалявшийся острог, видел брата на низком берегу и старый крест, поставленный неведомыми скитальцами на Великом сибирском тесе. За полверсты жег его братнин взгляд, и чудилось, будто слышит он его молитву: «Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий».
Примечания
Ака (эвенк.) — дядя.
Ама (эвенк.) — отец.
Аманаты — заложники.
Арза — молочная водка двойной перегонки.
Арха — молочная водка у бурят, тарасун.
Аяма (эвенк.) — хороший.
Бердыш — боевой топор на длинном черенке, совмещенный с копьем.
Бира (эвенк.) — река.
Бобыль — лично независимый, безземельный, бездомный крестьянин.
Боо (бурят.) — шаман.
Братина — сосуд для соборного застолья.
Булэшэл (эвенк.) — враг.
Ватага — промысловая артель.
Ветка — легкая лодка.
Гужом — конной, оленьей тягой.
Дикое поле — пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
Дыгоны (эвенк.) — живущие у вершин хребтов, у истоков рек.
Дю (эвенк.) — чум.
Дялви (эвенк.) — свой, товарищ, спутник.
Ертаул — разведчик.
Жупан — короткий кафтан, обычно голубого цвета, в XVII веке распространенный в Речи Посполитой и среди казаков.
Зааманатить — взять в заложники.
Заскребыш — последний ребенок стареющих родителей.
Зипун — верхняя одежда из домотканого сукна.
Зыряне — устаревшее название коми-пермяков.
Ибде (эвенк.) — зять.
Ибдери (эвенк.) — свояки, роды, в которых брали жен.
Изба-однодневка — изба, которая собирается из готовых венцов за день.
Икогиры — племя, выделившееся из шамагиров.
Илэ (эвенк.) — человек-тунгус, современный эвенк.
Илэл (эвенк.) — тунгусы (эвенки).
Калужский царенок — Иван Дмитриевич, сын Марины Мнишек.
Камлать — шаманить с бубном, призывая духов.
Камчатый — из китайского шелка.
Капище — место языческих молений и жертвоприношений.
Кирея — свободная, широкая накидка без рукавов.
Кистень — боевое холодное оружие. Короткий черенок, цепью или ремнем соединенный с металлическим шаром.
Кичижники — русские гадатели по звездам.
Клепало — кусок дерева или камень, используемый вместо колокола.
Клепцы — охотничьи ловушки для промысла.
Кондагиры — племенной союз среднего течения Нижней Тунгуски в начале XVII века.
Корольки — стеклянные бусы.
Кортома — традиция: «сибирцы» на период отсутствия продавали жен во временное пользование (обычно женщин нерусского происхождения).
Кошкин род — одно из прозвищ родни предков царей Романовых.
Кошт — расходы на содержание, иждивение.
Кут (эвенк.) — бесплотный двойник, не совпадает с русским понятием души.
Кут, юла (эвенк.) — нематериальные двойники людей и зверей.
Кутной угол — хозяйский угол в крестьянских избах — правый от входа.
Кушак — широкий матерчатый пояс.
Куяк — шлем, каска.
Кэрэиты — самое многочисленное из монгольских племен, исповедовавшее христианство несторианского толка в XIII веке.
Лавтак — шкура или ее часть.
Литвины — православные русичи, подданные дворянской республики Речи Посполитой, предки современных белорусов.
Лозьва, Чердынь — реки. Через Лозьву и Чердынь — один из путей в Сибирь купцов и промышленных, известный до похода Ермака.
Лучи — русичи в эвенкийском произношении.
Мосага (эвенк.) — лес.
Мощаница — полость с вложенной частицей мощей святого.
Навь — недобрая постусторонняя сила в русском язычестве.
Ниловцы, иосифляне — два идейных течения в Русской православной церкви: последователи Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Одекуй — крупный бисер разного цвета.
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
Охабень — старинный кафтан с четырехугольным отложным воротником.
Пальма (русск.) — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насажанный на длинное древко.
Паняга — заспинная доска с петлями для груза.
Пенный — обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
Пеня — вина, неустойка, выкуп за кровь.
Повязка — девичий головной убор.
Подьячий — в XVI–XVII веках чиновник, ведавший делопроизводством.
Поклоны — подарки царю.
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
Полуденник — южный ветер.
Полуженники — оплатившие половину затрат на промыслы; или промышляющие за половину пая по уговору.
Поминки — подарки служилым людям.
Поприще — древнерусская мера пространства 20 верст (21,3 км) — дневной переход.
Порса — рыбное блюдо многих северных народов.
Послух — по древнерусскому праву — свидетель, который, в отличие от видока, не являлся очевидцем происходившего.
Починок — древний тип однодворного поселения на Севере России.
Поющая стрела — гуннская стрела, издающая звук в полете.
Примучил — вынудил.
Причт — штат священников и церковнослужителей при церкви.
Пыжица — рубаха из шкуры оленя.
Раздоры — городок на острове, начальный административный центр Вольного Дона.
Ревун — старорусское название сентября.
Саламата — мучная каша.
Самоеды, самодийские народы — общее устаревшее название племен ненцев, энцев, нганасан и селькупов.
Сары (эвенк.) — меховые зимние сапоги.
Связчик — напарник по промыслам.
Складни — походные иконы.
Складники — промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.
Скорбут — цинга (устаревшее название болезни).
Слобода — обособленное поселение. Пашенная слобода — административный центр нескольких деревень.
Старшинка — выборные чины станичного и войскового правления.
Стоячий тын — частокол, забор из врытых в землю бревен.
Стружки-однодневки — легкие, наспех сделанные лодки.
Сусло — хмельной квас.
Сын боярский — в Сибири XVII века чин выше казака или стрельца и ниже дворянина.
Тайбола — устаревшее, самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге.
Тать — вор, разбойник.
Товарищ — у казаков: соучастник по общему делу равных.
Требы — жертвоприношения.
Туесо — берестяная посуда.
Ужина — полный пай, полная доля из добытого меха.
Умай (эвенк.) — берегиня, дух-хранитель.
Урман — дикие, необитаемые места в тайге.
Урыкит (эвенк.) — традиционное место летних стойбищ.
Федор Борисович — сын Бориса Годунова, венчанный на царство.
Харги (эвенк.) — леший.
Целовальник — выборная должность людей неслужилых сословий (черносошных крестьян, посадских), ведавших доходом с кабаков, сбором пошлин, выполнявших судейские и полицейские функции.
Чарка — сосуд для питья и мера жидкости около 120 граммов.
Чаровать, узорочить — привораживать с помощью снадобий.
Черкасы — запорожские казаки.
Чибара (эвенк.) — плешивый, раб.
Чувал — очаг с дымоходом.
Чукульмы (эвенк.) — женские легкие меховые сапоги.
Чуница — самостоятельные подразделения промысловой партии от трех до пяти человек.
Шебалташ — кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивался рог с порохом, мешочек с пулями, огниво.
Шертовать — присягать.
Шитик — тип судна, киль и часть шпангоутов которого делались из цельного дерева. Обшивка бортов крепилась — «шилась» — корнями деревьев, кустарником.
Шиши — в XVII веке разбойники из обнищавшего местного населения.
Шэвэнчэдэк (эвенк.) — место, где шаман призывает духов, и само действие.
Этыркэн (эвенк.) — старик, дед.
Эхирит, булагат — бурятские племенные союзы.
Юркий — табуированное название соболя среди промышленных того времени.
Юрьев день (26 ноября ст. ст.) — церковный праздник в честь св. Георгия Победоносца. В XV–XVI веках к этому дню был приурочен выход крестьян (перемена владельца) — неделя до и неделя после Юрьева дня. В 1580–1590 годы отдельными законодательными актами право выхода было отменено («отмена Юрьева дня»).
Ямы — ямские станы.
Ясыри — рабы-пленники.
Ясырка (татар.) — рабыня.
Сноски
1
Древнерусская мера длины, суточный переход около 20 верст (21,3 км).
(обратно)2
Старинный кафтан с большим квадратным воротом.
(обратно)3
Старинный кафтан с четырехугольным отложным воротом.
(обратно)4
Обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
(обратно)5
Запорожские казаки.
(обратно)6
Рабыню.
(обратно)7
Городок на речном острове, начальный административный центр Вольного Дона.
(обратно)8
Иван Дмитриевич — сын Марины Мнишек.
(обратно)9
Православных русичей, подданных дворянской республики Речи Посполитой.
(обратно)10
Лапти из кожи, шкуры или пеньки.
(обратно)11
Младшего брата.
(обратно)12
Пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, Верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
(обратно)13
Вину, неустойку, выкуп за кровь.
(обратно)14
Устаревшее название народа манси финно-угорской языковой ветви.
(обратно)15
Промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.
(обратно)16
Последний ребенок стареющих родителей.
(обратно)17
Один из путей в Сибирь купцов и промышленных, известный до похода Ермака.
(обратно)18
Указ царя Михаила Романова о возвращении воевавших крепостных и холопов прежним хозяевам и казачий бунт против него.
(обратно)19
Свободная, широкая накидка без рукавов.
(обратно)20
О народе: голь перекатная, бродяги, сволочи, отребье.
(обратно)21
В Сибири XVII века средний чин: старше казака и стрельца, ниже дворянина.
(обратно)22
Устаревшее, самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге.
(обратно)23
Два идейных течения в Русской православной церкви: после дователи Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
(обратно)24
Старое русское название саамских племен на севере Руси. Общее название ненцев, энцев, нганасан и селькупов.
(обратно)25
Лично независимый, безземельный, бездомный крестьянин.
(обратно)26
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
(обратно)27
В XVI–XVII веках право называться по отчеству давалось именным указом великих князей.
(обратно)28
Кусок дерева или камень, используемые вместо колокола.
(обратно)29
Лезущий не на свое место (перм.).
(обратно)30
Юрт — владение, область земли (тат.).
(обратно)31
Ертаул — разведчик.
(обратно)32
16 июля ст. ст.
(обратно)33
25 июля ст. ст.
(обратно)34
Кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивались рог с порохом, мешочек с пулями и огниво.
(обратно)35
Тобольская восьмигранная смотровая башня была высотой с современный семнадцатиэтажный дом.
(обратно)36
Оплатившие половину затрат на промыслы или промышляющие за половину ужины, пая по уговору.
(обратно)37
Южный ветер.
(обратно)38
Самоназвание ненцев.
(обратно)39
Старорусское название сентября.
(обратно)40
Частокол, забор из врытых в землю бревен.
(обратно)41
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
(обратно)42
Полного пая.
(обратно)43
Продажа легких хмельных напитков при бане.
(обратно)44
Хмельной квас.
(обратно)45
Табуированное название соболя среди промышленных людей того времени.
(обратно)46
Самостоятельные подразделения промысловой партии от трех до пяти человек.
(обратно)47
Кутной — хозяйский угол в крестьянских избах, правый от входа. Сиротский — угол рядом с входной дверью.
(обратно)48
Не брали заложников.
(обратно)49
Место языческих молений и жертвоприношений.
(обратно)50
Стеклянные бусы.
(обратно)51
Легкие, наспех сделанные лодки.
(обратно)52
Плоскодонное судно, остов которого делался из цельного дерева с сучьями, к ним корнями кустарников или берез нашивались борта из досок.
(обратно)53
Девичий головной убор.
(обратно)54
Вынудил.
(обратно)55
Здесь — мангазейские казаки при зимовье.
(обратно)56
Свидетели по слухам, не очевидцы.
(обратно)57
Сосуд для соборного застолья.
(обратно)58
Конной, оленьей тягой.
(обратно)59
Во временное пользование на период отсутствия обычно продавали женщин нерусского происхождения.
(обратно)60
Сын Бориса Годунова, венчанный на царство.
(обратно)61
Иоандэзи (эвенк.) — Енисей.
(обратно)62
Присягали.
(обратно)63
Прозвище одиночек.
(обратно)64
Сухая чурка или камень, используемые вместо колокола.
(обратно)65
По традиции установившиеся места летних стойбищ (эвенк.).
(обратно)66
Жертвоприношения.
(обратно)67
Крупный бисер разного цвета.
(обратно)68
Заспинная доска с петлями для груза.
(обратно)69
Ель-береза или лиственница-кедр.
(обратно)70
Пальма (русск.) — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насаженный на длинное древко.
(обратно)71
Русичи в эвенкийском произношении.
(обратно)72
Полость с вложенной частицей мощей святого.
(обратно)73
Плешивого (эвенк.).
(обратно)74
Герой (эвенк.).
(обратно)75
Чужак (эвенк.).
(обратно)76
Дялви (эвенк.) — свояк, спутник, компаньон.
(обратно)77
Меховая опушка малицы.
(обратно)78
Тунгусы другой местности, роды, с которыми не вступают в браки.
(обратно)79
Напарник по промыслам.
(обратно)80
Сжечь белье на Благовещение — освободиться от чар.
(обратно)81
Оседлое зимнее стойбище (эвенк.).
(обратно)82
Дословно: мы пришли (эвенк.).
(обратно)83
Привораживать с помощью снадобий.
(обратно)84
Тунгусская чужая территориальная группировка.
(обратно)85
Враги.
(обратно)86
Чужие, нехорошие.
(обратно)87
Свояки.
(обратно)88
Свойственники.
(обратно)89
Берестяная посуда.
(обратно)90
Живущих в низовьях рек.
(обратно)91
Людей (эвенк.).
(обратно)92
Чужаков тунгусского происхождения.
(обратно)93
Аси (эвенк.) — женщина.
(обратно)94
Уважаемый гость.
(обратно)95
Церковная прислуга.
(обратно)96
Мучная каша.
(обратно)97
Мой мужчина (эвенк.).
(обратно)98
Хороший (эвенк.).
(обратно)99
Герой (эвенк.).
(обратно)100
Вот я и пришел.
(обратно)101
Женские легкие меховые сапоги.
(обратно)102
Хочешь спать?
(обратно)103
Нет.
(обратно)104
Стелить постель.
(обратно)105
Я беременна.
(обратно)106
Река.
(обратно)107
Кочующих в низовьях реки.
(обратно)108
Рубаха из шкур оленят.
(обратно)109
Чужак.
(обратно)110
Походные иконы.
(обратно)111
Легкая лодка.
(обратно)112
Нематериальные двойники людей и зверей.
(обратно)113
То же, что и юла.
(обратно)114
Устаревшее название цинги.
(обратно)115
25 сентября ст. ст.
(обратно)116
Племенной союз среднего течения Нижней Тунгуски в начале XVII века.
(обратно)117
Родовые объединения (эвенк.).
(обратно)118
Место, где шаман призывает духов, и само действие.
(обратно)119
Что за умай? (эвенк.)
(обратно)120
Человек-тунгус.
(обратно)121
4 октября ст. ст.
(обратно)122
Вытяжное отверстие в чуме.
(обратно)123
Дядя.
(обратно)124
Отец.
(обратно)125
Старик, дед.
(обратно)126
Кишка (эвенк.).
(обратно)127
Кобель.
(обратно)128
Горы (эвенк.).
(обратно)129
Друг.
(обратно)130
Припев богатыря из эвенкийского эпоса.
(обратно)131
Дух.
(обратно)132
Летняя замшевая обувь.
(обратно)133
Камчатый — из китайского шелка.
(обратно)134
Соболь.
(обратно)135
Крупный зверь.
(обратно)136
Медведь, волк.
(обратно)137
Ангара — дословно Большая река (бурят.).
(обратно)138
Шаман (бурят.).
(обратно)139
Желтый боо — миссионер-бурханист.
(обратно)140
Самое многочисленное из монгольских племен, исповедовавшее христианство несторианского толка.
(обратно)141
Шаманство называлось у бурят черной верой — «харын хаджин».
(обратно)142
Гуннские стрелы, издающие звук в полете.
(обратно)143
Молочная водка двойной перегонки.
(обратно)144
Чтоб тебя (бурят.).
(обратно)145
Племя, выделившееся из шамагиров.
(обратно)146
Которая собирается из готовых венцов за день.
(обратно)




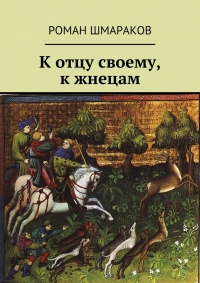

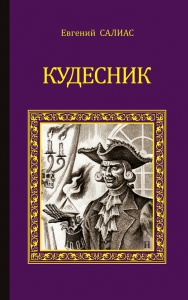
Комментарии к книге «По прозвищу Пенда», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев