Олег Слободчиков ПЕРВОПРОХОДЦЫ
1. Мне отмщенье и аз воздам
Весна случилась ранней и такой жаркой, что, взламывая лед, запрудилась заторами, забуйствовала не достоявшая свой срок река Лена. Вода поднялась на пять саженей и подступила к воротам Ленского острожка. Уж этого никак не ждали: место выбирали долго и осмотрительно, после того, как поставленное сотником Бекетовым зимовье, подмыло и свалило первым же паводком. Но, поплескавшись у ворот с навешанной над ними караульней, вода стала спадать, оставляя на мокром песке берега топкий, липучий ил и весенний сор. Оголодавшие казаки поспешно поставили сеть в речной заводи. Едва заалели за дальними увалами первые лучи солнца, Пашка Левонтьев и Мишка Стадухин столкнули на воду берестянку, поплыли снимать улов. Но дело оказалось непростым. Пашка, с боярской важностью восседая на пятках, удерживал веслом верткую лодчонку, Мишка бросил под ноги полдюжины бьющихся рыбин и замычал, замотал головой, сунул за пазуху остуженные руки: сеть была забита травой, ветками и всяким сором. Пашка невозмутимо взглянул на подвывавшего товарища, резким движением весла выровнял корму, чтобы Мишка мог тянуть к берегу полотно со всем уловом и сором. Выбирать ее как есть было небезопасно, от непомерной тяжести сети утлая берестянка могла черпнуть бортом и утонуть.
Круг солнца в цвет начищенной меди, оторвался от увалов, пожелтел и растекся по ясному небу, по речной глади. Над сырым берегом замельтешило марево, застрекотала сорока, вздымаясь и опадая над лодкой, гулко застучали ставни и двери. Из острожной калитки вышел казак, высмотрел рыбаков на воде, припадая на ногу, заковылял к тому месту, куда выгребал Пашка. Берестянку мотало, забитая сором сеть цеплялась за дно. Мишка Стадухин то и дело совал за пазуху красные осклизлые ладони, отогревал дыханием немеющие пальцы, приглушенно ругал водяного дедушку.
Хромой казак, переминаясь, выждал, когда лодка подойдет ближе. Едва смог дотянуться до нее, согнулся коромыслом, схватил за нос, потянул, одышливо лопоча:
— Новый письменный голова Васька-то Поярков чего удумал! Отпускает Парфенку в Илимский!
Стадухин пытливо вскинул на него приуженные ломотой глаза. Казак закивал с блуждавшей улыбкой в рыжеватой бороде:
— Отпускает!.. И без досмотра! Неужто опять вывернется? — Дурашливо округлил смешливые синие глаза, будто с весельем удивлялся верткости сослуживца. — От Пояркова откупится и воевод обманет!
— Не голова, башка баранья! — гневно выругался Мишка, забыв про остуженные руки, перекинул через тонкий борт ногу в промазанном дегтем бродне, встал на дно по колени в воде, сунул сеть принесшему весть казаку и выскочил на берег.
В Ленском остроге было известно, что нынешний царь Михайла Федорович Романов наконец-то узнал о великих беспорядках на реке Лене и послал на свою дальнюю вотчину двух воевод в чинах царских стольников. Как положено кремлевским чинам, они двигались к месту службы только летом, вникали в дела Сибирской украины, творили в пути суд и управу. Зимовали в Тобольском городе, потом в Енисейском остроге, теперь, по слухам, стояли в Илимском, отправляя вперед своих людей и прибранные в пути отряды. Их письменный голова сын боярский Василий Поярков прибыл в Ленский осенью и по сию пору принимал дела у сына боярского Парфена Ходырева, который после атамана Ивана Галкина два года сряду сидел здесь на приказе.
Казак Семейка Дежнев, принесший весть, с комом сети в руках неловко переступил на раненую ногу, по щиколотку утонувшую в вязком намытом иле, потянул спутанную сеть, бормоча с покривившейся улыбкой: — «Ворон ворону глаз не выклюет!»
— На все воля Божья! — наставительно изрек Пашка, неспешно вылезая из лодки. Он распрямился в полный рост, снял шапку, обнажив красивую, ровную лысину, степенно поклонившись на засиявшее солнце, прочертил перстами ровный крест: со лба на живот, с плеча на плечо.
— Ну, уж нет! — Мишка блеснул затравленными глазами, скакнул на месте со скрещенными на груди руками. — Под кнут лягу! «Государево слово и дело» объявлю, — заскрипел зубами, — но на этот раз Парфенка не отбрешется. — Вот вам крест! — Выпростав из подмышки красную ладонь, сведенную в куриную щепоть, торопливо и небрежно перекрестился. — Не по-христиански это замалчивать грехи власти и потакать подлым.
— То он не объявлял против нас «слово и дело», — со смешком напомнил прошлое Дежнев.
Семейка хоть и знал вздорный нрав земляка-пинежца Мишки Стадухина, но когда шел к реке с плохой вестью, думать не думал, что тот так взбесится.
Глядя на его побагровевшее лицо, смущенно пожал плечами:
— А что? Васька Поярков всех отпускает. И Постника Губаря с ясачной казной, — опять невзначай уколол Стадухина.
Семейку пригнала в Сибирь безысходная бедность, приставшая к его роду еще при дедах. О богатстве и славе он не думал, уходил с отчины, надеясь заработать денег и поднять дом до достатка прожиточных соседей. Но и в Сибири едва кормил себя поденными работами, нигде не мог зацепиться. В Тобольском городе дошел до такого отчаяния, что поверстался в службу на Енисей с половинным стрелецким жалованьем — лишь бы быть сытым. И с тех пор, как целовал Честной Крест во храме Святой Софии, носило его по разным острогам и зимовьям, будто святой покровитель пинал под зад: из Енисейского гарнизона ушел на Лену с сотником Бекетовым, с приказным сыном боярским Ходыревым гонялся за беглыми ясачными тойонами, ходил через горы на реку Яну с десятником Митькой Зыряном на перемену тамошнему служилому Постнику Губарю — и все в половинном окладе.
Следом за Постником Митька Зырян с отрядом вышел на Индигирку и отправил его, Семейку, с казаком Гришкой Фофановым-Простоквашей и с двумя промышленными людьми обратно в Ленский острог с ясачной казной и с выкупленной у тунгусов якутской девкой, дочерью ленского князца-тойона. В пути Семейка был ранен янскими тунгусами, пытавшимися пограбить малочисленную ватажку. Казну он сохранил, а награды не выслужил, даже добытое в походе потерял — так уж нелепо вязали ему судьбу незрячие девки Доля с Недолей.
Смененный Митькой Зыряном Постник Губарь вернулся на Лену богатым и знаменитым, дал Ходыреву поклон черными соболями, гулял, похваляясь удачным походом, посмеивался над Мишкой Стадухиным, который перед выходом на Яну ходыревской хитростью переметнулся в другой отряд.
— Постник повезет ясак воеводам в Илимский острог! — монотонно бубнил Дежнев, вытягивая сеть. — Свой и зыряновский, который я привез. Митьку Копылова с его людьми Васька Поярков освободил от своего сыска и отпускает на воеводский суд.
Стадухин исподлобья метнул на земляка разъяренный взгляд, сорвал с головы сермяжную шапку, выбил о колено, и, выдергивая ноги из грязи, вороном заскакал к острогу.
— Дурная башка! — Сочувственно посмотрел ему вслед Пашка Левонтьев, смахнул с лысины вялых после ночной стужи комаров, надел шапку и приказал Дежневу: — Помогай теперь разбирать сеть за земляка. Выбирай рыбу.
Ленский острог был небольшим укреплением, поставленным казаками под началом атамана Галкина: три избы, часовня, два амбара, крытые тесом, караульня над воротами. Стадухин ворвался в съезжую избу, не стряхнув с бродней песка и речной грязи, с перекошенным лицом бросился к столу письменного головы:
— Отпускаешь Парфенку, да? Говорят, без досмотра. А у него ворованных соболей и шуб без счета. Объявляю «государево слово и дело»! Я свидетель, как в позапрошлом году он подговаривал якутов убить копыловских служилых. Против него тогда восстали все казаки. Говорили: хочешь наказать томичей — убей сам, но не дозволяй инородцам. И то, что нынешней зимой на Алдане перебито сорок казаков и промышленных, — тому он заводчик… На нем грех!
— А ты там был нынешней зимой? — ломая бровь, строго спросил тобольский казак Курбат Иванов, прибывший с Поярковым и случившийся тут же.
Стадухин не снизошел ни до ответа, ни до взгляда в его сторону, но пристально глядел на письменного. Рассеянная улыбка в его стриженой бороде даже не покривилась от гневных слов казака, только зеленоватые глаза, блеснув, стали холодными и блеклыми, как лед.
— Зачем же сразу «слово и дело»? — Письменный голова отодвинул по столешнице бумаги, почесал пером ухо. — Езжай на Ленский волок, скажи все царским воеводам Петру Петровичу Головину и Матвею Богдановичу Глебову. От них суд и управа.
Опешив от неожиданного предложения не досказав, что накипело против Ходырева, Стадухин вперился в Пояркова изумленным и недоверчивым взглядом, растерянно задергались рыжие усы, выделявшиеся в русой бороде.
— С кем плыть? С Парфенкой?
— Хочешь — с ним или с атаманом Копыловым. — В глазах письменного головы блеснула скрытая насмешка, губы в стриженой бороде неприязненно покривились. — Можешь — с Постником Губарем: один разве только к зиме до Куты доберешься. Да и небезопасно нынче. Отпускную грамоту я тебе напишу, ступай с Богом!
В добрых словах письменного головы что-то кольнуло Стадухина под сердце, и подумалось вдруг, что Ходырев и Поярков похожи друг на друга, как братья. «Земляки, наверное!» Побуравив сына боярского остывающими глазами, он покряхтел, покашлял, побледнел и снова стал наливаться густой краской. Не зная, что сказать, бросил презрительный взгляд на Курбата Иванова, пытавшегося встрять в разговор, развернулся, вышел с какой-то смутной догадкой. Конечно, он не мог идти в одних отрядах ни с Ходыревым, против которого собирался объявить «государево слово и дело», ни с томским атаманом Копыловым, с которым воевал на Алдане. Но на Ленский волок собирался его старый товарищ казачий десятник Постник Иванов Губарь. С ним отчего бы не сходить, если приказный даст отпускную грамоту.
Желтый песчаный берег, освободившийся от опавшей воды, толстые, приземистые, безмерно сучковатые и кривые сосны вдали от реки. Прежний бечевник — тропа, которую проложили бурлаки прошлым летом, был смыт паводком вместе со станами и балаганами, завален плавником. Уже к полудню работные люди, нанятые приказчиками именитых купцов, меняли бахилы на сухие, промазанные дегтем, так как прежние размокали и висели на ступнях комьями липкой грязи. Ну, да Бог не без милости! Почти каждый день к полудню, а то и раньше, вздымая против течения резкие плещущие волны, начинал дуть пособный ветер. На стругах поднимали паруса, помогали им веслами, и они ходко шли против течения реки.
Горы подступали к берегам все ближе и тесней, становились выше и скалистей. Стадухин с шестом в руках вглядывался в трещины на отвесных скалах, видел очертания воинов с саблями и пиками, женщин и детей, бегущих от боя. По тунгусским поверьям, в каждой горе жил дух, иные из них, доброжелательные к людям, такими картинами на камне предсказывали будущее и упреждали от опасностей. Михей высматривал знаки, загадывая исход своего поединка с Парфенкой, но глаза отмечали только невесть чего ради дравшихся воинов и женщин.
Кончалась короткая шаткая весна, подступало жаркое лето. День был долог, короткая ночь сумеречной, нетемной. Солнце ненадолго пряталось за увалы, покрытые низкорослой лиственницей и, будто натыкаясь там на колючий сухостойный лес, вскоре опять поднималось на небо. Река все круче поворачивала на закат.
Бурлацкий передовщик из первых промышленных людей, осевших на Лене, степенный и важный, с пышной бородой в пояс, каждый год водил суда на Куту. Он хорошо знал бечевник и вытребовал своим бурлакам плату вдвое против того, что сулили служилые Ходырева и Копылова. Торговые люди согласились, потому что спешили, Постник — потому что был богат. Работные, нанятые бурлацким передовщиком, днем и ночью тянули суда против течения, отсыпаясь во времена густых туманов и противных ветров. Казалось, они и останавливались только для того, чтобы наловить рыбы и заварить мучной каши — саламаты.
Стадухин в бурлацкую бечеву не впрягался, занимаясь более легким делом — стоял в струге на шесте и садился за весло, когда нужно было переправляться на другой берег или грести против течения. Постник, кичась богатством, добытым на дальней государевой службе, с неделю сидел на корме, обложившись шубами, напоказ отдыхал, с важностью поглядывал по сторонам, от путевого безделья маялся охотой поговорить, мучил Михея рассказами об Индигирке и Яне.
На другой неделе ему удалось купить у встречных торговых людей полведра горячего вина. Тут Губаря и вовсе разобрало. Прикладываясь к берестяной фляге, он похохатывал, поддразнивал товарища, угрюмо работавшего шестом: знаю, мол, вас, пинежцев, ярых да завистливых.
— Скажу тебе, Мишка, прямо, ты — казак добрый, но только тогда, когда надо воевать. А для начального человека этого мало. Если он умный, — Постник слегка выпячивал грудь, показывая, кого имеет в виду, — то воевать и не надо вовсе: можно словом и лаской убедить диких мужиков идти под государя для их же пользы и ясак взять вдвое. Они же все хотят мира и порядка.
Посапывая и поклевывая носом, Губарь многоумно помолчал, со вздохами в другой раз приложился к фляге, крякнул, предложил Стадухину:
— Выпей!
— Не буду! Жарко!
— Вот ты отказался идти со мной на Яну, а я, грешным делом, даже обрадовался. А почему? А потому, что когда ходили с тобой на Вилюй — кто был начальным? Я! Десятник Постник Иванов Губарь! — Похлопал себя по опадающей груди. — Кто уговорил якутов, тунгусов и долган мириться? Опять я! А как стрельба началась, так Мишка всему голова … Это неправильно! — Икнул, по-гусиному выгибая шею.
Стадухин вина не пил, разве пару раз пригубил для виду. Подначки товарища до него не доходили — голова была занята другим. Пьяными откровениями Постник напомнил, как восемь лет назад сотник Бекетов отправил на Вилюй служилых и промышленных людей под началом Дружинки Чистякова, чтобы взяли ясак с тамошних якутов и тунгусов да с мангазейских промышленных людей, осевших в тех местах. Все они пропали. Михей вызвался идти искать с отрядом служилых и промышленных людей под началом казака-десятника Постника Губаря.
В тот год возле острожка на Лене собралось до сотни беглых енисейских и мангазейских казаков, гулящих и промышленных людей. Бекетов ломал голову, как их выпроводить куда подальше. И поплыли они одним караваном с Михеем и Постником вниз по Лене. С частью постниковского отряда прошли мимо устья Вилюя, зимовали в долганской земле, в Жиганах, срубив там зимовье. На Вилюе люди Постника и Стадухина узнали, что пропавший отряд Дружинки Чистякова столкнулся с мангазейскими служилыми под началом Степана Корытова. Мангазейцы считали Вилюй своим уездом, имели наказную память от мангазейского воеводы и требовали отдать им собранный Дружинкой ясак. Енисейцы отказали. Тогда люди Корытова взяли на себя еще один ясак с тунгусов и якутов, а те в отместку убили двух их сборщиков. Разъяренные мангазейцы напали на енисейцев, отобрали казну, струг, припас, пригрозили бросить их на пустом месте при восставших инородцах и, по слухам, вынудили плыть с ними на Алдан.
Постник Губарь с Михеем Стадухиным, узнав все это, замирили восставшие роды, поставили на Вилюе укрепленное частоколом зимовье, перезимовав, вернулись в Ленский острожек, не заходя в Жиганы. Здесь Михей узнал, что та самая толпа беглых, гулящих и промышленных людей, которая прошлой весной плыла стругами за его отрядом и зимовала в Жиганах, построила кочи, прислала к Бекетову выборных людей, они вытребовали у ленского приказного отпускную грамоту и поплыли в низовья Лены для прииска новых земель. Во главе отрядов заявились идти хорошо знакомые Стадухину беглые служилые: енисеец Илейка Перфильев и мангазеец Иван Ребров. С ними самовольно ушли некоторые люди из отряда Дружинки Чистякова и он сам. Иван Ребров левой протокой ленского устья дошел до моря и открыл реку Оленек, прослужил там четыре года, затем проложил морской путь на Яну, а нынче был где-то на Собачьей реке. Илья Перфильев открыл реку Яну, впадавшую в море по правую руку от устья Лены, объясачил тамошние народы, вернулся в Ленский острожек в собольих онучах, в двух шубах, с двадцатью сороками соболей и лис помимо государевой казны. А Мишка Стадухин в то же время бесславно воевал на Алдане с русскими людьми Степана Корытова. Мангазейцы отбились и ушли бы с Лены, но сменивший Петра Бекетова атаман Иван Галкин собрал сорок служилых и промышленных людей. Среди них оказались братья Хабаровы, Семен Шелковников пришедшие на Лену в самый разгар войны. Плечом к плечу все они бились в отряде десятника Семена Чуфариста. Мангазейцев разбили наголову. С обеих сторон было до десятка убитых. Степана Корытова пленили и за приставами повезли в Енисейский острог. Но мира, порядка и справедливости, ради чего была пролита русская кровь, Бог не дал. Зимой объединились отложившиеся якутские роды, загнали казаков в Ленский острог и держали в осаде два месяца.
Тем же летом служилые выпытали у промышленных людей слухи про юкагирскую землю. Для ее прииска атаман Галкин отпустил туда отличившихся в войне с мангазейцами десятников Устина Никитина и Семена Чуфариста со служилыми и промышленными людьми, дал казенный коч, снасти, отпускную грамоту и наказную память, но проводить отряд не успел. На перемену ему из Енисейского острога был прислан сын боярский Парфен Ходырев.
Сказывали казаки, что при сдаче острожка Иван Галкин назвал Ходырева овечьим сыном. Неприязнь между ними началась в давние времена, когда никому не известный Парфен в чине сына боярского прибыл в Енисейский острог с новым воеводой. Его отец из новгородских детей боярских по московскому списку забрел в Сибирь по бедности и служил до сносу, но ни за ним, ни за его сыном подвигов не было. Парфен же явился в Енисейский с жалованьем, равным жалованью известного по всей Сибири атамана Ивана Галкина. Казаки и стрельцы, узнав о такой несправедливости, взбунтовались. Воевода вынужден был пойти на уступки, уравнял жалованье Парфена с жалованьем других детей боярских. Тогда Ходырев самовольно ушел в Томский острог и вернулся оттуда в Енисейский опять без заслуг, но с прежним высоким жалованьем.
При сдаче Ленского острога атаман Галкин укорил сменщика, что тот служит языком, вылизывая зады воеводам и дьякам Сибирского приказа. Затаив на него злобу, Ходырев объявил «государево слово и дело» против десятников Никитина и Чуфариста с их казаками за убийство мангазейских служилых и промышленных людей. Обвиняемых за приставами возили в Енисейский острог, там атаман Галкин оправдался сам и помог оправдаться им. Но Ходырев как доносчик отвертелся от первого кнута и был всего лишь сменен на приказе через полгода. Но отряд Чуфариста из-за его козней и сыска так и не ушел в юкагирскую землю. В нем числился Мишка Стадухин. Это была не первая из неудач, преследовавших его на ленской службе, и не последняя по вине Парфена Ходырева. Как-то спокойно и презрительно, с затаенной усмешкой, сын боярский раз за разом обманывал Михея, будь казак в ярости или спокоен. От бессилия против хитроумия приказного ненавидел его Стадухин так, что убил бы, будь тот какой-нибудь нерусью. Нос репкой, морда круглая, борода редкая, глаза с лисьей раскосинкой. Завидев его, Михей багровел, а Ходырев знай себе посмеивался, чем пуще прежнего озлоблял казака. Задним умом Михей понимал, что в ленских неудачах виноват не только Ходырев: портила жизнь какая-то нечисть, а Бог, по грехам, попускал, но, как водится, во всех несчастьях винил Ходырева.
Четыре года назад, опять при атамане Галкине, который вернулся на приказ в Ленский острог, Михей Стадухин с отрядом был отправлен на Вилюй разбирать жалобы якутов на тунгусов и зимовал там. В то время нежданно-негаданно Постник Губарь с отрядом служилых и промышленных людей своим подъемом купил коней, хлебный припас, перевалил Янский хребет и открыл верховья Яны, куда прежде не добирались служилые люди. Объявился Постник на Лене через два года с богатым ясаком, привез слухи о неведомой земле к восходу и о серебре, оплатил долги, стал собираться в новый поход. Ушел бы с ним Мишка Стадухин, но в тот год на смену атаману Ивану Галкину, торжествующе посмеиваясь, опять явился Парфен Ходырев, по всем приметам, в огне не горевший, в дерьме не тонувший. Галкин прилюдно спросил его, чисто ли вылизал зад новому енисейскому воеводе? На этот раз Ходырев посмеялся со всеми вместе, никак не ответив на обидные слова и Стадухин сдуру решил, что тот покаялся. Если бы Парфен стал отговаривать его от похода с Постником, он бы не послушал и ушел самовольно, но Ходырев лишь мимоходом обронил:
— Зачем тебе, старому казаку, Яна? Она давно объясачена и Перфильевым, и Ребровым, и Губарем.
Стадухин насторожился, ожидая очередного обмана, но зловредный сын боярский предложил:
— Отправлю казенным подъемом отряд в верховья Алдана для прииску новых земель. Вот те крест! — Перекрестился. — Отпущу тебя!
Алдан! Богатейшие места. Много лет енисейские и мангазейские промышленные дрались за них между собой, с якутами и тунгусами. Алданские якуты беспрестанно вели там межродовые войны и отбивались от тунгусов, призывая на помощь казаков и промышленных людей. Все хотели мира, порядка и справедливости, но устроить их никто не мог.
Парфен прельстил Михея волей и казенным подъемом. Постник шел на Яну всего лишь на перемену людям, оставленным Ильей Перфильевым, кабалился, снаряжаясь за свой счет. Крест, наложенный приказным на грудь, смягчил давнюю неприязнь казака. Сын боярский не обманул Стадухина: он уже шел по Алдану с большим отрядом, но вместо прииска неведомых земель пришлось воевать с томскими казаками атамана Дмитрия Копылова. Прошлым летом скандальные томичи проплыли мимо Ленского острога, прихватив с собой десяток таких же буйных красноярских казаков-самовольщиков. Они поднялись по Алдану и поставили Бутальское зимовье, навели порядок среди ясачных и промышленных людей. Но Ходырев не простил Копылову неподчинения и обидных слов…
Михей Стадухин очнулся от воспоминаний, стоя с шестом на носу струга. Постник с лицом, умученным вином и солнцем, молчал, о чем-то думая, сопел и мотал хмельной головой. Вздохнул раз, другой, третий, вскинул на товарища соловые глаза, признался:
— На Индигирке жалел, что нет тебя рядом! Говорил своим: «Мишка врага за версту чует. А с вами я, как пес, всю ночь не сплю».
Караван торговых стругов обыденно поднимался против течения реки. Дни были жаркими, где-то горела тайга, дым сгонял к воде тучи мошки. Постник, тяжко всхрапывал, свернувшись среди собольих шуб, облепленное гнусом лицо было синюшно-серым. Стадухин смахнул с него мошку, надел на пьяную голову сетку из конского волоса. Когда десятник очухался и содрал ее с себя, бурлаки дружно загоготали:
— Такую морду портками надо прикрывать!
Короткими светлыми ночами Стадухин смотрел в небо без звезд и до боли в груди думал, что если управы на Ходырева не будет и от воевод — уж лучше зарубить его и принять царский суд, чем мучиться тем бессилием, каким страдал последние два года. Он бы вызвал Парфена на Божий суд, но понимал глубинным умом, что «сын овечий» не только не выйдет на поединок, но и сумеет посмеяться над незадачливым казаком.
— Треть пути пройдена! — бурлацкий передовщик указал рукой на невидимое еще устье Олекмы и трижды наложил на грудь крестное знамение.
На Олекминской таможне сидел таможенный голова Дружина Трубников, на которого у Стадухина не было надежды. Будучи на приказе в Ленском, Парфен Ходырев правил им, как хотел. По слухам, все нужные приказному люди проходили Олекму беспошлинно. Торговые и промышленные, возмущаясь ленскими беспорядками, выбрали сюда целовальником промышленного человека Юшку Селиверстова. Стадухин знал Юшку еще по Енисейскому посаду. На Лену тот пришел с промышленными и торговыми людьми при первом правлении атамана Галкина, ходил в походы с Семеном Чуфаристом, воевал с мангазейцами. После той войны разрозненные якутские роды, платившие ясак, отложились от присяги, объединились, напали на острог и держали его в осаде, пока не вышли из тайги промышленные люди. Среди них за версту был слышен трубный рык Юшки Селиверстова. Малорослый и худосочный с виду, он имел непомерно громкий, густой голос, которым любовался и похвалялся, а потому говорил много, часто, без всякой нужды. Злой и шумный, как дворовый пес, Юшка драл луженую глотку за свою и мирскую правду. За это не раз был бит, но за то же избран в таможенные целовальники. Сытая царева служба многих правдолюбцев делала ворами. Но Юшка сидел на таможне недавно, мог еще не потерять совести и не спеться с таможенным головой. В прежние годы он был зол на Ходырева, что тот не давал отпускной грамоты Юшиной промысловой ватаге и, вымогая взятку, продержал ее возле острога до самой осени.
В виду Олекминской таможни Стадухин даже заволновался, предвкушая встречу с целовальником, но был приятно обрадован, когда тот, все такой же крикливый и по-куньи подвижный, налетел на приткнувшиеся к берегу торговые струги. Осмотрев их, стал путаться в дела служилых, пытался даже пощупать опечатанные Поярковым кожаные мешки с государевой казной, хотя не имел на это никаких прав.
— Пошел вон! — цыкнул на него Постник. — Мишка, поддай ему шестом!
Но Стадухин глядел на целовальника приветливо.
— А ты с чем едешь? — спросил тот, любопытствуя наперекор Постнику.
— С ложкой, плошкой да с мирской правдой! — ответил Стадухин и показал отпускную грамоту письменного головы Пояркова.
— Да ты чо? — возмущенно вскрикнул Постник. — С какого рожна целовальник сует нос в казачьи дела?
Юшка бросил на десятника мимолетный презрительный взгляд, вернул Михею отпускную.
— На кого управу ищешь? — спросил приглушенным доверительным голосом.
— На сына боярского Парфена Ходырева! — ответил казак, пристально глядя в небесно-голубые Юшкины глаза с младенчески чистыми белками.
Они вмиг сузились и покрылись красными прожилками, веки набухли, выдавая непрощеную обиду.
— К тебе есть разговор, — добавил казак, почувствовав, что может найти в Юшке поддержку.
— Вам кого ни посади на приказ — всеми недовольны! — посмеялся Постник, слышавший разговор. — Вот как сядут на Лене два стольника, не видавшие жизни горше, чем в царских палатах, с умилением вспомните Парфенку.
— Хуже не будет! — огрызнулся Стадухин. — Сколько народу при нем погибло? Столько за всю прошлую войну с якутами не убили.
Селиверстов как строптивый конь скосил глаза на Постника, подергал кадыком, но удержался от ответных слов. Закончив дела, он передал зашнурованную книгу с висячей печатью таможенному голове. Тот вслух прочитал записи о собранных пошлинах, прилюдно приложил к листу печать и, расправив бороду, закрыл книгу. Дело было сделано. Целовальник отвел Стадухина в сторону, оба сели на сухую вросшую в берег лесину, Юшка навострил уши.
— Парфенка идет за нами, отпущенный на Ленский волок письменным головой. По моим догадкам, при нем не один сорок черных соболей и лис, с которых десятины не плачено. Тебе он их, конечно, не предъявит, но с ним пойдут торговые люди, дававшие ему посулы. Не прями ворам: ты Честной Крест целовал.
— А кому я прямил? — задиристо встрепенулся Селиверстов.
— Про тебя ничего плохого не слышал! — сдержанно ответил казак и поправился: — Пока ты здесь в целовальниках. — А то, что Ярко Хабаров — Парфенкин человек, через эту самую таможню беспошлинно возил рухлядь сороками сороков да тысячи пудов хлеба, — знаю от верных людей.
Селиверстов бросил на служилого резкий, пронзительный взгляд, выпятил грудь и рыкнул так, что с другого берега отозвалось эхо:
— Этот год с его обоза по приказу Парфена Васильевича я взял шесть рублей за перегруз!
— Что шесть рублей? — тоскливо усмехнулся Стадухин. — Они их сотнями делят меж собой.
Струги пошли дальше к устью Витима знакомым путем длиной в сибирское лето. Оглядывая берега, Михей вспоминал места, где плечом к плечу с Ерошкой Хабаровым отбивались от якутов, покаянно вздыхал, что теперь, из-за Парфена Ходырева, вынужден говорить против него. Лето шло на жару, во всю силу лютовала мошка: утром и вечером мельтешила возле земли, при потеплении вставала на крыло, набивалась в балаганы станов. Если по берегам реки ее продувало ветром, то из лесу люди выскакивали окруженные серыми шарами. При полуденном солнце даже на середине реки с гудением носились оводы.
Камень осыпей и галечник по берегам стали меняться песками с золотыми блесками. Янтарной стеной стояли на яру стройные и высокие сосны. Был близок Витим. Здесь при моросящем дожде и клочьях тумана, висевших над водой, торговый караван догнал олекминский целовальник Юшка Селиверстов. Он так громко орал с другого берега, что был услышан, узнан по голосу и переправлен к стану.
На берег высадился до язв изъеденный гнусом голодранец в зипуне с подпалинами и с грязью на полах. Не приветствуя казаков, торговых и работных людей, отыскал глазами Стадухина и раскатисто протрубил на всю долину реки:
— Думаешь, показал мне поклажу торговых Парфенка Ходырев? Накось выкуси! — Нацелил фигу на Губаря, разумно спрятавшего соболью шапку на время дождя и оттого опростившегося. — Из пищали грозил застрелить, ногами топал, приказывал работным утопить меня, подговаривал торговых и промышленных людей не показывать своих животов и плыть мимо таможни.
— Кто? Парфенка орал? — изумленно уставился на целовальника Михей.
Сколько знал зловредного приказного, тот ни на кого голоса не повысил: только ухмылялся и облизывал усы, как сытый кот.
— Еще как орал! — разъяренным петухом вытянул шею Юшка.
Стадухину стало легче, будто кто сдвинул с груди камень, теснивший с первых стычек с приказным.
— А Дружинка Трубников что? — спросил, невесть чему посмеиваясь.
— А стоял, будто в штаны наложивши. И казаки рядом с ним. Я один против всех собачился, а после — звериными тропами — упредить воевод, кто и как к ним едет.
По берегам с двух сторон в реку падали частые ручьи. Одни были с солоноватой водой, другие со сладкой. Бурлацкий передовщик похвалялся, будто знает их наперечет, советовал, из которых брать воду для варки рыбы и саламаты, чтобы беречь соль, из которых пить и готовить отвары трав.
Постник Губарь, отлежав бока, стал ходить пешим за стругами, удить рыбу. Как-то даже сменил Михея на шесте, и Стадухин ушел вперед с долгобородым передовщиком, чтобы без остановки стругов взять ведро воды из сладкого ручья. Вдруг спутник замер, напружинился, тихо вынул из-за спины стрелу. Михей проследил за его взглядом. Молодая изюбриха без опаски объедала береговой кустарник и в лучах восходящего солнца казалась золотисто-рыжей. Она шаловливо вытягивала шею, баловалась, как девка, мотая безрогой головой. В груди Стадухина защемило что-то несбывшееся и безнадежно переболевшее. Передовщик положил стрелу на лук и стал бесшумно натягивать тетиву, Михей взял его за локоть, мешая стрелять.
— Ты что? — вскрикнул долгобородый, ошалело уставившись на казака.
Изюбриха резко обернулась, неспешно зашла за куст, постояв, легко взбежала на яр, затаилась за раскидистыми ветвями сосны, с любопытством высматривая идущих людей.
— День скоромный, неделю идем на рыбе! — громче закричал передовщик.
— По два раза на дню бороду стираю — воняет ухой!
— Жалко! — смущенно признался Михей. — Экая коза, ну прямо как девка, — пробормотал, выглядывая изюбриху среди ветвей.
— Тьфу! — неприязненно выругался передовщик, резким движением вырвал локоть из пальцев казака, зашагал вперед быстрей прежнего, показывая, что не желает идти рядом с ним.
На Куту струги прибыли в июле, когда осинники сбрасывали первый желтый лист. Стадухин отметил про себя перемены — не новый уже причал со стороны Лены, конюшни, крытые сеновалы, балаганы работных людей. На месте прежней избы, срубленной атаманом Галкиным, стоял острожек, или зимовье, обнесенное тыном. На другой стороне притока виднелись дымы солеварни, поставленной Ерофеем Хабаровым и его верным братом Никифором. Там причал на сваях был крепче и просторней казенного. Прибывшие с низовий струги выгребали к берегу против острожка. Иссохшая трава была здесь выщипана лошадьми и густо завалена конскими катыхами. С казенного причала в привязанные суда грузили пятипудовые мешки с мукой. Изрядно выбеленные грузчики работали без шапок в неопоясанных рубахах. Широкоплечий верзила с прямой спиной показался Михею знакомым. Приглядевшись, он узнал старого енисейского и ленского скандалиста Ваську Бугра, окликнул его. Тот обернулся всем телом, щурясь протии солнца, высмотрел Стадухина, весело гаркнул:
— Мишка, что ли, стрелец?
— В Енисейском мы назывались стрельцами, — перепрыгнул со струга на причал Михей. — Здесь — казаками, а жалованье то же.
Встречая прибывших, на берегу толпились служилые и любопытные работные люди, а Стадухин с Ермолиным-Бугром тискали друг друга в объятьях.
— Побелела борода или в муке? — смеясь, отстранился Михей.
— Откуль знать! — пробурчал Васька, обнажая щербины зубов. — Не девка, на себя не любуюсь!
— Куда муку грузишь?
— Вверх Лены! Новый воевода отправил туда полсотни енисейских, березовских и тобольских казаков с пятидесятником Мартыном Васильевым ставить острог в устье Куленги. Мы им оклады повезем.
— Я-то думал, ты нынче всему волоку голова! — посмеялся Стадухин.
Бугор отмахнулся от насмешки, пристально оглядывая товарища по прежним походам.
— Ты тоже не похож ни на атамана, ни на богатого, — съязвил. — Поди, и полуштофом не порадуешь ради встречи! А то надышался рожью — в горле сухо! — пожаловался.
— Не порадую! — развел руками Стадухин. — Разве Постник разгуляется, он при рухляди, — указал глазами на спутника.
Бурлаки каравана обошли казенный причал, приткнули струги к берегу, вытянули их носы на сушу и с облегчением в лицах попадали на вытоптанную землю. Юшка Селиверстов окинул задиристым взглядом острожек и гаркнул раскатистым голосом:
— Что так близко от воды поставили?
Ему никто не ответил. Неторопливо и степенно на берег высаживались торговые и служилые. С важным видом людей при исполнении государева дела к ним подходили казаки-годовальщики, здешний приказный, сын боярский Иван Пильников. От конюшен сбегались работные, со стороны солеварни, густо пускавшей дымы, шагали какие-то люди.
— Я — целовальник Олекминской таможни! — ударил себя в грудь Селиверстов, явно обиженный невниманием усть-кутских людей. — Своей рукой рухлядь пересчитал, печати на мешки наложил.
— На Олекме, может быть, ты и целовальник, — небрежно окинув взглядом его потрепанную одеженку, проворчал сын боярский, — а здесь говно!
— За моей подписью проездные грамоты! — громче вскрикнул оскорбленный Селиверстов, топорща тощую бороденку. — Приткнешься еще, спросишь! Говорить с тобой не стану.
Кичливо, напоказ, последним сошел на берег Постник Губарь. Взгляды всех здешних людей были прикованы к нему, оттого на Юшку с его громогласными речами никто не обращал внимания. Несмотря на июльскую жару, на Постнике были надеты две собольи шубы, две шапки и штаны из черных спинок. По щекам десятника обильно тек пот, капли сверкали на мокрых бровях, но выглядел он молодцевато, ожидая заслуженных восторгов. Тесня усть-кутских казаков, его окружили работные, ахали, гладили соболей, дули на подпушек. Постник милостиво дозволял оглядеть и пощупать себя, похохатывал и не спешил отвечать на расспросы любопытных. Казаки-годовальщики, теряя степенство, тоже с восхищением разглядывали первопроходца. Среди людей, прибывших из Ленского острога, были приказчики московских купцов, именитых царских гостей* (купцов первой гильдии), которые везли на Русь скупленных соболей. Рухляди у них было куда больше, чем на Постнике Губаре и в его мешках, но на них сметливо поглядывали только здешний целовальник и сын боярский.
Душа Губаря алкала праздника. Одурев от путевого безделья, он был пьян без вина, но хотел крепко выпить. Вино и рожь были здесь вдвое дешевле, чем в Ленском остроге, а соболя дороже. С другого берега Куты к прибывшим переправились полдюжины тамошних работных людей. Среди них Стадухин узнал долговязого и длиннобородого Никифора Хабарова, высокого и дородного Семена Шелковникова, с кем, бывало, отбивался от наседавших врагов, сидел в осадах, ходил на погромы и прорывы. С Семеном и Никифором Стадухин всегда ладил, с Ерофеем же в мирное время часто ссорился, но его среди встречавших не было.
— Здорово живем, людишки торговые? — фертом вышел навстречу друзьям. — Ерошка здесь?
— Нету! — хмуро ответил Никифор вместо приветствия. — В Енисейском зимовал, говорят, тамошний воевода не отпускает. А у нас перемены, — пожаловался, теребя узловатыми пальцами концы кушака. — Новых воевод царь прислал, своих стольников…
— Знаем! — Стадухин сверкнул глазами и бодро тряхнул русой бородой с золотившимися на солнце усами. — Их письменный голова, Поярков, у нас на приказе.
— Изверг! — пожаловался Никифор приглушенным голосом. — Проезжал тут, все высмотрел, выспросил. Я как дурак расхвастался, вот, дескать, какая от нас с брательником царю польза. А он воеводам отписал такое, что нынче, едва взошла озимая рожь, приехал енисейский пятидесятник Семейка Родюков с дозорной памятью, потребовал от имени стольника Головина данную грамоту на пашни и солеварню. Я ему говорил, что енисейский воевода словесно разрешил нам попробовать, родится ли здесь хлеб озимый да яровой, будет ли прибыль с соли. А он, Родюков, с целовальником Васькой Щукиным по воеводскому указу поля и солеварню описал в казну. Три десятины озими, десятину яровой. Кому выгода? — обиженно засопал Никифор. — Семейка, — кивнул на Шелковникова, — нынче целовальник на нашей солеварне.
— Ну и дела! — Стадухин, скинув шапку, почесал затылок. — Вот Ерошка-то лаяться будет! Держись, Семейка! — подначил Шелковникова. — А то и в драку полезет.
— А я что? — Семен равнодушно повел широкими, обвисающими от тяжести жил плечами. — Я в целовальники не просился — мир выбрал. Проторговался на Куте, просил воевод поверстать в казаки, челобитную отправлял. Родюков привез ответ, что по царскому указу промышленных, гулящих и торговых в казаки не верстают, только ссыльных… Воров! — Насмешливо поглядел на Стадухина, гулко хохотнул и почесал дородную грудь под шелковой рубахой.
Михей уставился на старого товарища, желая понять, над кем тот смеется. Не понял, помолчав, тоже хохотнул. Пронырливый и юркий Ерофей Хабаров возил рожь из Енисейского в Ленский барками в тысячи пудов. Они с братом держали на Ленском волоке три десятка коней с работными людьми. В прошлом году, подняли на Куте первую пашню. Незадолго до того начали варить соль сотнями пудов. Ерофей хватался сразу за десятки дел, и всюду за его спиной тенью и надежной каменной стеной стоял брат Никифор, упорно исполнявший начинания проворного брательника. Без него, без Никифора, Ерофей никогда бы не смог развернуться и на четверть.
С Парфеном Ходыревым Ерофей Хабаров был в большой дружбе. С его помощью, по словам олекминских годовальщиков, часто уклонялся от податей и налогов. Из-за этого обычно и ругались старые товарищи, не раз выручавшие друг друга в боях. Козни хитрого приказчика, путавшегося с проворным торговым человеком, бесили Стадухина. Он не завидовал Ерофею, не хотел для себя его суетной жизни, но возмущался беспорядками, которые тот заводил. Хабаров каждый год судился с людьми, которым давал в долг, и с теми, у кого был в должниках. При торговых сделках в две-три тысячи рублей он не имел своего дома: только заимку на Куте, поставленную прошлой осенью, да тесное зимовье при солеварне. Зачем, для чего нужна была Ерофею Хабарову такая беспокойная жизнь? Этого Стадухин понять не мог.
— Я Ерошке с Никифором не враг! — пояснил Семен Шелковников, смущенно глядя в сторону. — Отсудят свое — верну солеварню в целости, не запущу. — Вскинув глаза на Стадухина, спросил: — Ты-то с чем приехал? С казной?
— Со «словом и делом» на вашего благодетеля Парфенку Ходырева!
— Нашел благодетеля, — хмыкнул Семен и равнодушно повел плечами: — За всякого мздоимца под кнут ложиться — спины не хватит. Много их!
— Не за Парфенку! — обиженно вскрикнул Стадухин. — За правду, Христа ради! — Размашисто и злобно перекрестился.
Юшка Селиверстов, оттесненный от стругов и досмотра, с разгневанным лицом прибился к говорившим, краем уха услышал разговор и громогласно объявил, чтобы слышали все:
— Против Хабаровых ничего плохого не скажу, хоть и взял с ваших барок шесть рублей за перегруз. А Парфенка Ходырев — вор! Ладно мне, целовальнику, он и таможенному голове не предъявил рухлядь для досмотра.
Семен шевельнул выгоревшими бровями, глубоко вздохнул и отмолчался, с любопытством уставившись на Постника Губаря. Сын боярский Иван Пильников разгонял толпу, чтобы не мешала осматривать струги, при этом громко ругал судовых плотников, прибежавших смотреть на счастливчиков с низовий Лены. За конюшнями на покатах стояла пара больших восьмисаженных, двухмачтовых кочей, уже обшитых бортами.
— Кому строят? — спросил Стадухин, кивнув в их сторону и взглянул на Никифора, все так же теребившего опояску.
— Для них же! Для новых воевод, — проворчал Хабаров. — И избу для ночлега проездом. Станут кремлевские сидельцы в этой ночевать, — указал глазами на зимовье, укрепленное тыном.
Бурлаки в тот же день получили расчет и загуляли вместе с Постником, хотя, по слухам, работного и служилого люда на волоке было много и найти какие-либо заработки не предвиделось.
Дальше вверх по Куте струги каравана, с которым шли Губарь, Стадухин и Селиверстов, тянули кони. Их вели под уздцы работные люди Ерофея и Никифора Хабаровых. В верховьях Куты небо заволокло черными тучами и заморосил безнадежный дождь. Уныло попискивали комары, кони прядали ушами и мотали головами, над их мокрыми спинами клубился пар. Сутулясь и невольно втягивая головы в плечи, обозные люди понуро брели берегом реки. А дождь сеял и сеял, не унимаясь, два дня сряду. В верховьях, перед волоком, мешанный с туманом дым, стелившийся по промозглой земле, показался путникам домашним уютом. Здесь в крепенькой избе с трубой из глины жил служилый енисейский годовальщик. Он встретил прибывших без обычной суетливой радости, но пугливо озирался при приветствиях и разговоре, будто долго сидел в осаде.
— Здорово служится, Ивашка! — зычно окликнул его Селиверстов.
Годовальщик вздрогнул, как от удара батогом, уставился на него:
— Юшка, что ли? Беглый енисейский посадский?
— С какого ляда беглый? Я ушел на Лену с отпускной грамотой, нынче олекминский целовальник. Иду к воеводам с жалобами на вора Ходырева.
Годовальщик боязливо полупал глазами, озирая говорившего, зябко поежился и тихо проворчал:
— Ага! Парфен Васильевич даст в поклон соболей черных, — оглянулся по сторонам. — Воеводы в Енисейском меняются, а он при всех сидит и жалованье у него — ого! По слухам, имеет родню в Сибирском приказе.
— Не может такого быть! — вразнобой, в два голоса взревели Стадухин с Селиверстовым. — Царь своих верных воевод прислал для порядка… Да кто он против них, сын овечий?
Годовальщик со своими домыслами о горькой житейской правде качал головой, часто мигал, водил печальными глазами, терпеливо пережидая брань, только лицо его все пуще напрягалось и делалось цветом в порченный, перекаленный кирпич. Налаявшись как псы, Юшка с Мишкой уставились друг на друга, выпытывая один у другого в глубине глаз недоговоренное. Помолчав, разбрелись по разным углам. Обозные тесно набились в избу и сушились.
Неподалеку от старого зимовья, поставленного Васькой Бугром с товарищами, служилые люди, наверстанные воеводами, рубили две избы для их ночлега. Другой воеводский отряд, тоже рубивший избы для стольников и подновлявший гать, встретился на Муке-речке. От этих людей Стадухин с Селиверстовым узнали, что новые воеводы не отпустили атамана Копылова в Енисейск, но взяли его под стражу, чтобы за приставами вернуть в Ленский для сыска. Эта новость обнадежила Михея с Юшкой.
Наконец, их обоз прибыл в просторный Илимский острог, переполненный разным народом, как улей пчелами. Воеводы, царские стольники Петр Петрович Головин и Матвей Богданович Глебов со своими людьми творили здесь суд, управу, разбирали многие жалобы. Постник Губарь с казной был принят ими без задержки и обласкан чаркой горячего вина. Юшку с Мишкой к воеводам не пустили. Того и другого рассеянно слушал дьяк Евфимий Филатов, устало вздыхал и неприязненно морщился. Казак с целовальником не успели от души выбранить Парфена Ходырева, а дьяк уже стал выпроваживать их к писцам. Юшке велел наговорить жалобную челобитную на государево имя, что бывший ленский приказный Ходырев подговаривал торговых людей противиться таможенному досмотру, Михея равнодушно спросил, сам ли слышал, что Парфен подговаривал якутов убить служилых людей? Стадухин признался, что он только послух, а те, что слышали, — на дальних службах. Евфимий недоверчиво покачал головой и отпустил его.
С перекошенным лицом Михей выскочил из посадской избы, занятой дьяком и писцами. На этот раз он был зол на самого себя за то, что в ярости нес всякую нелепицу. Раздосадованный, сел у коновязи, в стороне от суетившихся людей, попинал вытоптанную землю пяткой сношенного бродня. Не в силах унять переполнявшие чувства, вскочил на натруженные ноги, стал вышагивать перед избой взад-вперед, дожидаясь Юшку. Наконец, тот вышел с озадаченным видом, шмыгнул носом, печально замигал обиженными глазами в красных прожилках, которые глядели куда-то поверх головы спутника. Претерпев ради правды долгий, трудный путь, голод и непогоду, после разговора с дьяком он понял, что может быть наказан за самовольное бегство с Олекмы.
— Если Парфенка и от них отбрешется, — яростно блеснул глазами Стадухин, — вот те крест, — размашисто перекрестился, объявлю «государево слово и дело». Если и царь не поверит, значит, Парфенка черту служит! Безгрешно убью гада!
— Как так? — Не слушая, Юшка вертел головой, разводил руками и таращил туманные глаза. — Подговаривать торговых не покоряться целовальнику, говорю, царев закон нарушить… А он мне — где отпускная грамота?
Вокруг них, как мошка перед дождем, мельтешили незнакомые служилые люди. Постник Губарь продал собольи штаны и гулял на питейном дворе с каким-то сбродом, в который раз рассказывая, как подносил ему чарку сам воевода-стольник и какое у него вино. Он не забыл своих связчиков, увидев их печальные лица, велел поднести им по чарке. Мишка с Юшкой, думая о своем, терпеливо послушали самохвальство товарища и тихо ушли, не пускаясь в загул за его счет. Слушателей у Губаря хватало. Знакомцев и сослуживцев они не встретили ни в остроге, ни в посаде. На закате дня оба наловили в Илиме мелкой рыбешки, испекли на костерке и устроились на ночлег под старой переломленной баркой.
Наконец в Илимский острог прибыл Парфен Ходырев и прямо с обоза был принят воеводами. Стадухин, узнав об этом, взмолился о справедливости в острожной церкви. Илимский белый поп дьячил. Литургию вели черные попы, следовавшие за воеводами в Ленский острог. К одному из них он подошел на исповедь. У аналоя с жаром заговорил о наболевшем. Монах прервал его, стал пытать о крови, зависти, корысти, рукоблудии. Михей отвечал ему все резче и злей, пока не вспылил:
— Ты кто такой? Я Богу исповедаюсь! Ты только — свидетель, а не сам Господь!
Монах вздохнул, покачал головой и не благословил к причастию. Казак выскочил из церкви, не достояв до конца литургии, нахлобучил шапку, выругался, узнал у илимских казаков имя монаха. Того звали Симеоном.
Бог не без милости, казак не без удачи! На другой день по острогу пронесся слух, что воевода Головин выявил в собранной Ходыревым казне утайку. Про Стадухина с Селиверстовым вспомнили: прибежал посыльный, объявил, что Юшке и Михею надлежит быть свидетелями при вскрытии амбара Ерофея Хабарова. Своего дома при посаде у Хабаровых не было, но здесь жил их приказчик по имени Федька и был запертый хабаровский амбар, за которым тот присматривал. Возле него уже собрались посадские люди. Одни, защищая Федьку и Хабаровых, кричали, что без хозяина срывать замок нельзя, другие ругали Ерофея, что пишет кабалу на пятнадцать рублей, а дает десять, и оправдывали воеводский приказ. Енисейский пятидесятник показал спорящей толпе дозорную память от воеводы, затем при хабаровском приказчике, целовальнике и многих свидетелях вскрыл амбар. Целовальник, приказчик, пятидесятник и казак Стадухин вошли внутрь. Толпа любопытных так заслонила раскрытую дверь, что под кровом стало темно. Казаки отогнали зевак и начали разбирать сложенное Хабаровым добро. Кроме законного товара, сбруй, седел, топоров и неводных полотен, масла и жира в бочках в холщовом мешке были найдены три сорока собольих пупков, три бобра, неполный сорок соболей неклейменых. Федька тут же заявил, что это его рухлядь, купленная у тунгусов. В углу амбара обнаружили ящик, опечатанный печатью Ерофея Хабарова. Ее сорвали, ящик вскрыли и увидели колоды игральных карт.
— Запрет на игру есть! — заспорил хабаровский приказчик. — А на торг картами — запрета нет.
Наконец, в одной из бочек были найдены одиннадцать сороков неклейменых соболей стоимостью, на вскидку, от пятидесяти до пятнадцати рублей за сорок. Толпа зевак ахнула, Федька, по виду и сам удивленный, засопел, не зная, что сказать. Стадухин с Селиверстовым, окрыленные досмотром, стали кричать в две глотки, что соболя принадлежат Парфену Ходыреву. Все изъятое было вынесено наружу и предъявлено любопытным. Услышав к ночи, что Парфен Ходырев взят под стражу, Михей и Юшка решили, что свой долг исполнили.
— Даже дышать легче! — признался казак целовальнику.
Постник Губарь, прогуляв собольи штаны, разумно вытрезвел, продал одну из шапок, шубы и скупал на гостином дворе ходовой товар, который в Ленском остроге оценивался втрое-вчетверо дороже. Он тоже считал свою службу исполненной и собирался в обратный путь. Но дело с Ходыревым вскоре приняло новый оборот: его стал выгораживать черный поп Симеон, один из четырех духовных служителей, посланных Патриаршим приказом на Лену. Монах так резво взялся за дело, что Парфена выпустили на поруки. Селиверстов от новости сник, а Стадухин пришел в такую ярость, что прилюдно облаял черного попа, не пустившего его к причастию, по догадке обвинил, что тот подкуплен хитроумным сыном боярским, и даже на Господа зароптал: куда, мол, смотрит, попуская явному беззаконию?
Поп Симеон с крыльца церкви пригрозил срамословившему его казаку вырвать поганый язык, и когда за Стадухиным пришли приставы, он безропотно сдался, готовый принять муки за правду. Но те привели его не в острожную тюрьму, не в пыточную избу, а в посадский дом, горницу которого занимал письменный голова Еналий Бахтеяров. У ворот дома позевывал караульный с бердышом на сыром березовом черенке. Хозяева, сотворив вечерние молитвы, укладывались ко сну на полатях и печи. По лавкам и по полу вповалку лежали люди, одни похрапывали, другие тихо переговаривались, кто-то заунывным шепотом вещал соседу историю своей жизни, приведшей в Илимский острог. Приставы указали Михею на дверь, завешанную зипуном, и стали готовиться ко сну.
В горнице сумеречно светилось настежь распахнутое оконце, среди лета затянутое бычьим пузырем. Над ушатом, потрескивая и шипя падающими головешками, горела лучина. От ее огня на стенах скакали тени в шаманской пляске. За столом сидел писец с пером в руке и, что-то вычитывая, подслеповато водил носом по бумаге. Бахтеяров, вынырнув из темного угла, взглянул на вошедшего ласково, и пока Михей крестился на темные образа с тлеющей лампадкой, все чесал бороду, будто примерялся к чему-то. Казак насторожился, догадываясь, что письменному голове что-то надо, нахлобучил шапку, взглянул на Еналия прямо и вопрошающе. Тот усадил его возле писаря, стал вкрадчиво расспрашивать о службах. Голова не любопытствовал о пропаже томских служилых на Алдане, чему Стадухин был свидетелем, но наводил вопросы на черного попа Симеона, которого Михей прилюдно лаял.
В запале пережитой ярости казак опять выбранил попа и выложил, что тот не пустил его к причастию, вымогая посул. Сказал так и заметил вдруг, что писец, сидевший сбоку, скрипит пером, а Бахтеяров плутовато щурится и одобрительно кивает головой с длинным и плоским, как у селезня, носом. Стадухин, распаляясь, стал рассказывать, что хотел исповедаться, но Симеон не пожелал слушать о грехах и выпытывал всякие глупости, чтобы выгораживать Парфенку.
— Этому попу в греховных снах не виделось, столько баб и ясырок перещупал Ходырев! — возмутился в голос. — А Парфенке грехи отпущены!
Стадухин говорил громче и громче, а когда в сердцах признался, что плыл из Ленского, чтобы объявить «государево слово и дело» против приказного сына боярского, писец, откинув прядь волос за плечо, сунул мизинец в ухо и затряс ладонью. Возле печки в избе приглушенно заворчали и заворочались отдыхавшие люди.
— Какие одиннадцать сороков рыжих соболишек? — приглушенно буркнул письменный голова. — Восемьдесят сороков одних только черных лис забрали при досмотре!
Стадухин на миг замер с разинутым ртом, торопливо вспоминая, отправлялась ли когда-нибудь государю такая казна? Изумленно кашлянув, заговорил тише, опять про злыдня Парфенку. Но письменный голова, шмыгнув длинным носом, перевел разговор на попа.
— Да вор он, вор! — сдерживая голос, отмахнулся Михей. — Меня про блудные помыслы пытал, а с Парфенки убийства, кражи, клятвопреступления снял. — Скрипнул зубами и стал перечислять, от кого что слышал про иеромонаха Симеона.
Бахтеяров, переломившись в пояснице, как перед начальствующим, алчно буравил его взглядом. Едва Стадухин перевел дыхание, выбранившись для облегчения души, вкрадчиво спросил, будто селезень клювом прошлепал:
— Скажешь то же самое, если воевода поставит перед собой тебя и монаха?
— Скажу! — молодецки приосанившись, пообещал Михей.
— Вот это по-христиански! — одобрительно залопотал письменный голова.
— Нас государь послал в дальние свои вотчины, чтобы навести порядок. А без вас, без здешних служилых и промышленных сибирцев, без вашей помощи, что мы можем?.. Грамоту разумеешь? Прочти, что записано с твоих слов, и приложи руку. Ишь, поп-то чего удумал? — проговорился, когда казак поставил подпись.
— Против стольника Петра Петровича грозит объявить «слово и дело». И Ходырев ведет себя дерзко. Видать, высоко, — поднял перст к низкому потолку и пуще прежнего прогнулся в пояснице, — кто-то его покрывает!
Стадухин вышел и направился к реке, где под разбитой баркой ждал Юшка. В жалобной челобитной, которую подписал, не было явной лжи, но как-то смутно и стыдно было на душе, будто в ответ на оплеуху схватился за нож.
На другой день его позвал посыльный от воеводы Головина. Михей крякнул, отряхнул сор с кафтана в подпалинах, перекрестился, укрепляя дух, и, придерживая саблю, зашагал за верстанным казаком.
— Я за тебя Николу молить буду! — крикнул вслед Юшка.
На крыльце съезжей избы, занятой воеводой, стоял письменный голова Бахтеяров. Он пытливо оглядел подошедшего казака и шепнул:
— Не трусь! — Хотя сам, по виду, изрядно чего-то боялся.
— А чего я буду?.. — дерзко хмыкнул Стадухин, задрал бороду, расправил рыжие усы и шагнул за дверь.
В избе за столом, покрытым скатертью, сидел главный воевода Петр Петрович Головин с холеной бородой, рассыпавшейся по дородной груди. Кафтан его был расшит золотой нитью. Ни кивнуть, ни качнуть головой он не мог: на ней трубой была насажена высоченная боярская шапка. Воевода только водил глазами, с важностью моргал и хмурил брови. На лавке против него сидели черный поп Симеон в скуфье и Парфен Ходырев в шапке сына боярского, обшитой соболями. Лицо бывшего приказного было перекошено злобой. Он бросил на казака такой испепеляющий взгляд, что Стадухин наконец-то полностью уверился — не зря плыл в Илимский. По лицам попа и сына боярского догадался, что писец уже прочел им жалобную челобитную, потому воевода и поставил их всех перед собой. К этому Михей был готов, этого добивался.
— Эх-эх! — поп мельком скользнул по его лицу печальным взглядом. — Буйная, да дурная твоя головушка! Не ведаешь, что творишь чертям на радость, наговорил ведь на меня напраслину. И кто же с тебя такой тяжкий грех снимет?
— Ты и снимешь! — огрызнулся казак. — Полсорока соболей выложу в поклон, еще и расцелуешь. — Скинул шапку, стал класть поясные поклоны на образа.
Воевода величаво помалкивал, властно водя вылупленными глазами с одного на другого. Положив последний поклон, Михей нахлобучил сермяжный шлычек и добавил, ответив презрительным взглядом на ненависть Ходырева: — За каждое свое слово готов лечь под кнут, ради правды! Они о прибылях только и думают, — объявил громче и резче, — а там, кивнул на полночь, — из-за того невинная кровь льется по сей день.
Поп печально завздыхал. Ходырев же заорал дурным голосом:
— Да это же один из самых вздорных заводчиков и смутьянов. Про кровь говорит, а сам по локти в ней. Да ты с Иваном Галкиным православных мангазейцев смертным боем бил!
И то, как Ходырев кричал о давнем, начальствующими людьми разобранном, самим казаком перед собой отмоленном, напрочь успокоило Стадухина. Он снисходительно усмехнулся и почувствовал, как ровно и спокойно забилось сердце, будто сняли с груди камень. Томившие злоба и ненависть прошли, ему стало даже жаль Парфенку.
— Не откажешься от слов? — строго спросил воевода и взглянул на казака потеплевшим взглядом.
— Не откажусь! — твердо ответил он. — Зови заплечника, испытай кнутом.
— Вешать надо таких смутьянов, не кнутом бить! — хрипло выкрикнул Ходырев и пригрозил, указывая глазами на воеводу: — Они как пришли, так и уйдут, а я останусь.
— За приставами вернешься в Ленский острог для сыска! — членораздельно и властно приказал Головин. — Перевел глаза на Стадухина. — Тебе без палача верю. Кто мне верно служит — тех не забываю!
— Лена давно ждет порядка, — по-своему понял его Стадухин. — Наведешь — все тебе прямить будут: и служилые, и промышленные, и инородцы.
Он вышел из съезжей избы. У коновязи стоял Юшка Селиверстов с уздой, накрученной на кулак. За его плечом мотал головой казенный конь. По лицу Стадухина целовальник понял — их правда взяла, и затрубил на весь острог:
— Есть справедливость и на этом свете!
И показалось казаку, будто солнце засветило ярче, веселей защебетали птицы, гнус не донимал как обычно, дышалось легко и свободно, как в юности, на отчине. Теперь прежние злые помыслы об убийстве Парфенки казались смешными.
Ночевали они с Юшкой около барки, которую проезжие люди потихоньку растаскивали на дрова. Возле Илима скопилось много промысловых и торговых ватаг, ждущих своей очереди выхода на волок. На берегу пылали и тлели их костры, алыми звездочками отражаясь в ночной реке. Обыденно гудели комары, привычно ныли и чесались открытые места кожи, поеденные мошкой. Ночь была темна. С шапками под головами, лежа в разные стороны ногами: один на лапнике, другой на бересте, Мишка с Юшкой укрылись верхней одеждой и смотрели на звезды. Стадухин улыбался им, думая, что исполнил волю ангелов, глядящих на него сквозь распахнутые небесные оконца, и признавался, что никогда не смог бы простить Ходыреву обид, не отмстив за них. Задумано ли так звездами и Господом, сказавшим: «Мне отмщенье и аз воздам», или был мучим бесовскими страстями? Как знать? Оправдывая себя, казак думал, что когда-нибудь эти звезды и Господь скажут, зачем все было: ненависть, голод, холод, кровь, вечные распри между людьми?
На другой день Юшку били батогами за то, что бросил таможню, а не отправил жалобную челобитную. Олекминский целовальник обиженно покряхтывал и оправдывался: «Мало Парфенка перехватывал тех челобитных и отбрехивался?» Бит был Юшка жалостливо, для порядка, другим в поучение и после наказания глядел на свидетелей горделиво, как претерпевший не по грехам, но за правду, Христа ради. Обоим, олекминскому целовальнику и ленскому казаку, было предписано возвращаться к прежним местам служб с торговыми людьми царского гостя* (купца первой гильдии) Гусельникова и гостя царской сотни Усова (купца второй гильдии) при их стругах, с их приказчиками и работными людьми, на их кормах. В пути им предписывалось досматривать, чтобы незаконного торга не было, а служилые люди на Куте и Лене торговым ватагам насильств и обид бы не чинили.
Приказчики Василия Гусельникова многие годы шли по Сибири за первыми промышленными и служилыми людьми, торговали в Ленском остроге едва ли не со времен его основания сотником Петром Бекетовым. По соображениям Михея Стадухина, сам купец, не показывавший носу на Лене, приходился ему дальней родней. Гусь лисе не товарищ, большой пользы от того не было, но при его судах могли быть земляки-пинежцы и даже знакомые люди, от которых можно узнать новости с родины. По слухам, торговые караваны Василия Гусельникова и Алексея Усова благополучно прошли Шаманский порог на Илиме и со дня на день должны были подойти к острогу. С теми спокойными мыслями Михей Стадухин на редкость крепко уснул. Под утро ему снились родниковая вода и кровь, выступившая на старой зажившей ране. Так уж было дано с юности, что глубокий сон обходил его стороной, особенно при многолюдье. Он как-то ненадолго, по-волчьи, впадал в забытье, растекаясь бодрствующим внутренним взором, чувствуя чужие страсти, злобу и ненависть. А тут, как чудо, рядом с острогом, со многими ватажками, душа будто в небе отдохнула и весь следующий день томилась и чего-то ожидая.
Михей то и дело посматривал на реку. Пинежцы подошли после полудня. Среди людей с обожженными солнцем, изъеденными гнусом лицами, он узнал гусельниковского приказчика Михайлу Стахеева, еще один человек показался знакомым. Волнуясь, подошел к стругам, причалившим к берегу.
— Мишка, что ли? — спросил кто-то и знакомым движением руки смахнул испарину со лба.
— Тарх? — вскрикнул казак, глазам не веря, и в следующий миг тискал в объятьях брата. Рядом с ним смущенно и радостно топтался молодец с родным, до боли знакомым лицом.
— Не узнаешь Гераську? — смахивая слезы, кивнул на брата Тарх. — Да и как узнаешь, если он после твоего ухода родился?
— Брательник? — Михей обнял младшего с шелковистым пухом на щеках и понял, что тот похож на деда. Едва он стряхнул с бороды радостные слезы, отступил на шаг, чтобы полюбоваться братьями, взору предстало чудное видение в образе зрелой женщины со стройным, как у девки, и крепким, как у женщины, станом. По обычаю сибирских баб голова ее была плотно обвязана льняным платком, так что виделись только глаза с изъеденными гнусом, вымазанными дегтем веками. Когда их взгляды встретились, женщина неспешно развязала узел платка и скинула его на плечи, бесстыдно обнажив гладко причесанную голову с двумя косами..
Михею, без вина пьяному от встречи с братьями, почудилось, что, окунувшись в синеву ее глаз, душа взмыла к небесам. Она глядела пристально, с насмешливым вызовом, как прелюбодейка, выставляя себя во всех грехах и пороке.
— Кто такая? — изумленно пробормотал Михей, и будто из погреба услышал ответ Герасима:
— Томская посадская. Шла на Русь с отпускной грамотой. Я ее в Обдорском сговорил идти на Лену стряпухой.
— Два раза вдовела. Дети померли! — Горделиво приосанилась женщина, блеснула глазами, не опустив их под пристальным взглядом казака: — Гераська меня гулящую подобрал! — Едко усмехнулась.
— Вон что! — рассеянно пролепетал Михей негнущимся языком. — Вольная, значит! Вот бы мне такая сыновей родила! — И спохватился, что непослушный язык прилюдно несет нелепицу, виновато улыбнулся, добавил. — На Лене будешь первой красавицей!
Вызывающе прищуренные глаза женщины вдруг подернулись паутинкой боли, блеснули невзначай навернувшейся слезой. Она поморщилась, вымученно улыбнулась, смущенно опустила голову.
— А что? — Михей расправил грудь, уперся руками в бока. — Я на полном окладе, со мной не пропадешь. Отец в мои-то годы уже всех нас, сыновей, имел, — указал на братьев, — а я все холостой и бездетный. — Будто даже пожаловался на долю.
Герасим, что-то бормоча, взял женщину за руку, потянул от очарованного брата. Она строптиво стряхнула его руку, опять попыталась сделать глаза дерзкими, даже подперла рукой крутой бок, будто собиралась плясать, но в следующий миг смутилась, опустила голову и ушла.
— Нельзя ей под венец! — взволнованно заговорил Гераська.
— Это почему? — чего-то недопонимая, спросил Михей, глядя в спину удалявшейся женщины. — Эй, красавица, — окликнул. — Как зовут-то?
— Арина! — не оборачиваясь, ответила она и зашагала берегом.
— Несчастья приносит мужьям, — пугливо лопотал Герасим, переминаясь с ноги на ногу и бросая болезненные взгляды то на Арину, то на брата. — Она не только стряпуха… От самого Обдорского под одним одеялом со мной, во грехе.
— В Енисейском едва отбились от женихов, — хохотнул Тарх. — Воевода ей двадцать рублей сулил. Не осталась!
— Она же тебе стара! — удивился Михей, ничуть не смутившись тем, что услышал. — Разве среднему ровесница? — обернулся к Тарху, статному, широкоплечему мужу с окладистой бородой.
— Я ей не по нраву! — вздохнул тот, тоже любуясь стряпухой. — По греховной слабости пригрел бы, конечно, да Гераська ее чем-то прельстил. Других к себе не пускает.
— Я тебе ясырку найду! — переводя разговор в смех, пообещал Михей. — Говорят, они в блуде слаще.
Обожженное солнцем лицо Герасима с шелухой отставшей кожи на носу и по щекам налилось краской, он закряхтел, закашлял, перебирая ногами, как зловредный петух, торопливо соображал, что сказать.
— Так ведь грех братнину полюбовную вдову за себя брать! — вскрикнул обиженным голосом.
— То, что там грех, — Михей, смеясь, обнял младшего и кивнул на закат, — у нас, — указал на восход, — в почесть! Ох уж это скандальное новгородское отродье, — рассмеялся. — Едва встретились — сразу спор. Ладно, сама судьбу выберет!
Он присел возле струга братьев. Обозные люди торопливо обустраивали стан. Тарх суетился среди них, Герасим развязывал узлы на мешках с поклажей. Глаза Михея сами собой отыскали Арину, месившую тесто в березовом бочонке.
— Вольной воля! — пробубнил над ухом младший брат, проследив за его взглядом. — В нашем товаре и твоя доля. — Мы с Тархом отцов дом продали…
Между тем все струги торгово-промысловой ватаги купца Гусельникова были вытянуты на берег. Приказчик Михайла Стахеев махнул рукой Михею Стадухину и стал переодеваться. Он каждый год возил на Лену ходовой товар, рожь и пшеницу. Герасим с Тархом пристали к его торгово-промысловой ватажке в надежде на помощь и науку. Оба приглядывались к сибирским порядкам, к покупателям, надеялись на помощь брата, служившего в Ленском остроге. Встреча с ним в Илимском и его покровительство были большим счастьем.
Михей подошел к земляку-приказчику. Последний раз они виделись прошлой осенью. Стахеев как всегда был весел и словоохотлив. Стадухин заметил на его лице крап оспинок.
— Где успел переболеть? — спросил вместо приветствия.
— Пустяки! — смеясь, отмахнулся земляк. — Принудили отдохнуть в Тобольском. Заперли в избе. Отоспался на год вперед! — отвечал, переодеваясь из дорожного платья в дорогой кафтан, обшитый по обшлагам собольими спинками, заломил шапку, шитую из меха черной лисы, кивнув земляку, направился в острог к таможенному целовальнику.
Юшка Селиверстов, сидя в стороне и примечая рассеянность Михея, напомнил о воеводском наказе, затем встал с рассерженным лицом, раскатисто выругался и по-хозяйски стал оглядывать струги пинежцев, чтобы товаров с них не выносили да всяких ярыжек не подпускали. Он нес службу за двоих. Приказчик Стахеев вернулся с лучившимися глазами и привел илимского таможенного целовальника. Тот бегло осмотрел товары, имущество ватажных людей. Юшка укорил его за недогляд, потребовал развязать мешки, дотошно ощупывал их и всюду совал нос. Когда досмотр был закончен, он с видом человека, исполнившего долг, заулыбался, заговорил душевней и ласковей. Обозные люди развели костры, на стане запахло свежим хлебом и печеной рыбой.
Братья Стадухины сыны Васильевы сели в стороне. Михей виновато спохватился:
— Расскажите, что там, на отчине?
— Сперва мать померла, потом отец, ты о том уже знаешь, — повздыхав, стали рассказывать братья. — Перед кончиной передали тебе, старшему, свое благословение. Мы похоронили их рядом с дедами.
Михей встал, скинул шапку, трижды перекрестился, кланяясь на восход.
— Дом продали! — продолжил Тарх. — Герасим товар купил, у него торг лучше получается… А на отчине новости такие: считай полдеревни в Сибири. В иных домах одни бабы, ждут мужей и сыновей, другие брошены или проданы. Вот и мы подумали, что дому гнить? Вернемся богатыми — новый срубим. И времена там тяжкие — царевы холопы не дают жить по старине, заводят порядки латинянские. Сколько себя помним, царь все с ляхами воюет, а их на Руси все больше и больше. Приезжают с царскими грамотами, ведут себя по-хозяйски. На что уж устюжане были московскими пособниками в войнах с Новгородом, и те валом пошли в Сибирь от нынешних порядков, чтобы переждать лихие времена. Вот и все новости! — Тарх пожал плечами и опустил голову.
— Правильно, что дом продали, — одобрил братьев Михей. — Подати скопятся — не рассчитаемся. Даст Бог, разбогатеем, выкупим. Герасим, по его словам, собирался торговать в Ленском остроге под покровительством Стахеева. Тарх хотел идти на промыслы, торг был ему не по душе.
Спать братья легли в сумерках, когда затих стан. Герасим с Тархом забрались под перевернутый струг. Вечер был теплым. Михей, с утра ждавший чуда и с тем проживший день, привычно улегся под открытым небом в стороне от стана, положил под бок саблю, поглаживая пальцами ножны, поднял глаза на зажигавшиеся звезды. Смолоду, и даже в Сибири на службах, он думал, что все люди могут, как он, чуять злой умысел, но ленятся бодрствовать ночами. Поздно уразумел, что таким даром или наказанием наделены немногие. Чутье хорошо помогало при малолюдье, но в острогах и городах делалось мукой, истязало бессонницей, пока, к счастливому облегчению, само собой не притуплялось. Михей привычно растекся душой по округе и содрогнулся от бессмысленного многоголосья. Только возле реки, томилась, истекала слезами какая-то печальная дума. Стадухин стал мысленно читать вечерние молитвы, чтобы отвлечься и уснуть. Помогло. Печальная песня выткалась на звездном небе обликом Арины. Сонно и счастливо, любуясь им сквозь ресницы, Михей улыбнулся, впадая в сладкую дрему. В очередной раз приоткрыв глаза, увидел смутное очертание облика в аршине над собой.
— Спишь? — прошептала она, клонясь. — А я не могу. Разбередил ты мне душу.
Михей сел, радостно прислушиваясь к звукам ночи, к ее шепоту, сладостно втянул в грудь дурман реки и женщины. Все это казалось ему счастливым видением, которого ждал прожитый день. Он взял ее за руку и тихо рассмеялся.
— Пойдем куда-нибудь! — предложила она, не высвобождая руки из его ладони.
Он легко поднялся, перекинул через плечо сабельный ремень, наспех опоясался и повел Арину сперва к реке, потом к березовому колку, возле которого они с Юшкой ночевали под баркой.
— Моему первому сыну было бы лет пятнадцать, — приглушенно рассказывала она. В ее голосе дрожали слезы, готовые сорваться в плач. — От другого мужа тоже был сын. Нет уж никого в грешном мире, всех Бог прибрал, а у меня душа окаменела — хотела абы как дожить до кончины. А ты сыновей попросил — и оттаяло что-то. Больно стало! — Она тихонько заплакала. — От Гераськи берегусь да отмаливаюсь: не хочу детей. А от тебя опять захотела! — Она остановилась, хлюпнув носом, положила руки ему на плечи, взглянула в упор.
В редкой темени сибирской ночи с гнусавым пением комаров Михей увидел, что лицо ее вытянулось, глаза в темных глазницах удивленно расширяются, губы дрожат. И в этот миг почувствовал на спине опасный, настороженный, любопытный и пристальный взгляд. С досадой обернулся. В десяти шагах, у реки стоял странного вида мордастый мужик с узкими плечами, с мокрой бородой, распадавшейся на брылы. Ноги его были непомерно короткими и кривыми, чуть не до колен свисало брюхо. Маленькие колючие глазки бесстыдно разглядывали уединившуюся парочку. Михей хотел уже цыкнуть на пялившегося, но тот, вытянув короткую шею, издал два коротких и один длинный рык. Стадухин опознал вылезшего из реки медведя, закрыл спиной Арину, издал тот же звериный рев. Медведь скакнул на четыре лапы и бросился в воду. На разбуженных станах захрустел хворост, занялись гаснувшие костры.
— Мама родная! Как сердце-то бьется! — охнула Арина и стала оседать на землю.
Михей подхватил ее, невольно обвисшую, прижавшуюся высокой грудью к его щеке, припал губами к ее губам. Подрагивая от невольного, невымещенного испуга, с помутившимся рассудком заурчал, как медведь, стал раздевать ее, путаясь в складках незнакомой одежды, добираясь до сокровенной плоти. Остатками здравого ума чувствовал, что она не противится и даже помогает его рукам. И припал к ней, как истомившийся жаждой путник к роднику: пил и пил, радовался, что пресыщение не наступает и таяла, отпускала душу застарелая шершавая тоска по несбывшемуся.
Арина застонала, напряглась, опала на выдохе и обмерла, перестав дышать. Михей отстранился, забеспокоившись — не померла ли? Но ресницы ее дрогнули, она открыла глаза и тихо рассмеялась.
— Летала среди звездочек. Одна, тепленькая такая, угодила под сердце. Сыночек! Я знаю, — всхлипнула, хлюпнув носом.
— Хорошо бы! — переводя дух, прошептал Михей. — Мне-то как сына хочется! — И рассмеялся, привлекая ее к себе.
Она молчала, не отвечая на его ласки, по ее щекам текли слезы, и он ощущал их вкус на губах.
— Плохо, что медведь нас повенчал — первый пособник лешему! Кабы, не пришлось сыночку всю жизнь лешачить. — Помолчав в задумчивости, добавила: — Хоть бы и так, лишь бы нас с тобой пережил. Не дай-то Бог еще раз… — Вздрогнула, всхлипнув громче, договаривать не стала, но спросила с опаской: — Почему ты на него по-медвежьи взревел?
— Не знаю! — искренне признался Михей. — Само получилось.
На стан они вернулись при свете дня и занимавшемся солнце. Ватажные жгли костры и ругали сбежавшую стряпуху. Герасим с одеялом на плечах, заспанный, неумытый, насупившись, сидел возле перевернутого струга, с укором глядел на приближавшуюся Арину. Ласково посмеиваясь, она подошла к нему, наклонилась, погладила нечесаную голову:
— Не печалься, мой хороший! У тебя, даст Бог, вся жизнь впереди, а у меня последние бабьи годочки.
— Я и говорю. — Тарх ткнул в плечо меньшого, стараясь развеселить: — Если у них что сладится — слава Богу, а не сладится — вернется, от нее не убудет…
— Что уж тут? — часто и громко завздыхал Герасим, перебарывая слезы и дрожь в голосе. — Ушла так ушла. Отпускай не отпускай!
— А у тебя на висках проседь! — Арина обернулась к Михею, окинув его светлыми глазами без тени бессонной ночи: — Я вчера и не заметила.
— На ощупь седины не видно! — с укором проворчал Герасим и снова хлюпнул носом.
Арина снова рассмеялась, опять потрепала его по волосам и, не обращая внимания на укоризненные взгляды ватажных, пошла к котлам.
— Руки-то помой после прелюбодейства! — буркнул гусельниковский покрученник.
— Даже искупалась в реке, не видишь, что ли? — ничуть не смутившись, с вызовом ответила стряпуха и стала готовить завтрак.
За голенищем ложка, за пазухой плошка… На случайных казенных харчах ленский казак Мишка Стадухин чувствовал себя счастливым юнцом, которому будущее грезится одним только счастьем. Все свободное время они с Ариной проводили вместе. Удивляя своего полюбовного молодца с проседью на висках, она иногда разглядывала его, как жеребца на торгу.
— Ты чего? — смеялся он.
— Чудно! — шептала, оглаживая его грудь с восхищением и затаенной горечью. — Увидела тебя, подумала: сильный, смелый, ни перед кем шеи не согнет. А ночью в лесу — забоялась, почувствовала в тебе зверя. Думать не думала, что ты такой нежный, ласковый. — Прижалась щекой к груди. — Детей тебе рожу сколько успею. Дом построим. Что еще надо?
— Венчаться надо! — Михей глубокомысленно поскоблил грудь ногтями. — Если здесь сговоримся, то на исповедь иди к старому попу. К монахам не ходи.
— Ой, боюсь, боюсь! — Арина закрыла лицо руками. — Ты ведь ни разу невенчанный?
— Нет!
— А я два раза! Третий — грех, а больше нельзя. Кабы несчастья на тебя не навлечь. Может быть, не надо, а? — попросила жалобно. — В Сибири не обязательно жить по закону. Вон сколько распутства кругом. Поди, Бог нам простит?!
— Надо! — сказал, как отрубил Михей. — Нагулянным детям счастья не будет! А от страхов твоих отмолимся, я — заговоренный! — признался приглушенным голосом. — Товарищей рядом ранили-переранили, а у меня ни царапины, только одежа издырявлена. — Опасливо зыркнув по сторонам, прошептал ей на ухо: — Я чую, когда в меня стрела или пуля летит.
— Не говори так! — вскрикнула она, боязливо распахнув голубые глаза, закрыла его рот ладошкой. — Чур нас, чур! Господи, помилуй! Жить с тобой долго и счастливо, помереть в один час…
— Я еще богатым стану! — пообещал Михей, ласково снимая ее теплую ладонь со своих золотистых усов. — Не таким, чтобы очень — деньги меня не любят, но прожиточным. И еще знаменитым атаманом! Знаю, это мне на роду написано — на всю деревню и родову уродился один с рыжими усами. За тем в Сибирь шел. Только отчего-то не спешит ни богатство, ни слава. — Вскинул смеющиеся глаза к небу: — Раз тебя прислали, значит, скоро уже… — Подумав о своем, хмыкнул в бороду, удивляясь превратностям судьбы: — Сколько русских девок и баб видел по Сибири, ни одному жениху, ни одному мужу не позавидовал — все были не мои. Тебя увидел — будто узнал. Вот ведь!
Арина уткнулась лицом в его грудь, тихо, беззвучно заплакала.
— Поздно вернулись, голубчики! — гаркнул Юшка Селиверстов, увидев подходивших к стану Михея с Ариной, его голос раскатом грома отозвался с другого берега реки. — Проспали свое счастье! Теперь я пойду до Олекмы с твоей родней. — Ожидая спора, Юшка буравил Михея пристальным испытующим взглядом и доил жидкую бороду, как сосок на козьем вымени. Стадухин принял весть без перемены в лице, и он успокоенно рассмеялся: — Тебе велено идти с усовскими торговыми людьми.
Тлели угли костра, пахло свежим хлебом. В невесть кем и когда сложенной из речного камня каменке мужчины пекли тесто, загодя поставленное стряпухой. Она по-хозяйски оттеснила их, не глядя по сторонам, принялась за обычное дело. Михей присел у костра на корточки, вытянул ладони над огнем.
— Ну и ладно! — покладисто согласился с Юшкой. — Иди с моими, а мы пойдем с усовскими. Чьи у них приказчики?
— Старший — холмогорец, младший — устюжанин! Вчера только пришли.
Юшка чуть тише зарокотал какими-то обвинениями и оправданиями, которых казак не слушал. Перемолчав целовальника, поднял смиренные и бессонные глаза на братьев, спросил:
— Как ночевали?
— Слава Богу! — приветливо кивнул Тарх и чуть было не спросил старшего о том же, но спохватился на полуслове. Ватажные поняли несказанное, приглушенно загоготали. Рассмеялся и Михей. К нему подошел Герасим с пламеневшим лицом, присел рядом, неловко обнял.
— Дай Бог и тебе счастья! — притиснул его к себе Михей. — Осчастливил ты меня. С тех пор, как ушел из дому, так хорошо не было.
— Живите! Спаси вас Господь! Чего уж там! Знал ведь, что не себе везу стряпуху. Пусть хоть для брата.
Ранним утром пинежцы с олекминским целовальником Юшкой Селиверстовым ушли на волок. Михей с Ариной, бездельничая, посидели возле гаснущего костра, поговорили о пустяках и отправились на табор усовского обоза. Весело глядя на казака и женщину умными глазами, их приветливо встретил старший приказчик по имени Федот Попов. Он был высок и строен, борода ровно подстрижена. Другой приказчик того же купца, Лука Сиверов, как и положено торговому человеку, поглядывал на служилого настороженно, женщины старался не замечать, на вопросы Михея отвечал кратко и ясно, своих вопросов не задавал. Федот же, напротив, ненавязчиво любуясь Ариной, спросил, жена ли она казаку, сестра ли?
— Невеста! — ответил он. — Хотел подать челобитную, да воеводский писарь меньше полтины не возьмет, а кабалиться в Илимском, не с руки.
— Я могу написать даром! — предложил Федот.
— Ага! — Настороженно шевельнул усами Михей, понимая, что, приняв помощь от торговых людей, вынужден будет покрывать их беззакония. — Я тоже грамотный! Да вдруг ошибусь в царевом титле… Под кнут идти! На кой оно?
— Я не ошибусь! — заверил Федот, но настаивать на помощи не стал.
— Успею, подам в устье Куты. Там у меня — друг целовальник. На Лене, бывало, спина к спине сидели в осаде или рубились с рассвета до ночи. После он торговал, а разбогатев, не скурвился, как другие. Нынче, правда, проторговался и служит в целовальниках на бывшей хабаровской солеварне.
— Уж не Семейка ли Шелковников? — удивился Федот.
— Семейка!
— Так это же мой друг! Мы с ним под началом Пантелея Пенды первыми на Лену вышли. Не слыхал?
— Как же? — Теперь Михей исподлобья метнул на приказчика удивленный взгляд. — Пантелея Демидыча все знают.
— Живой?
— Не было слухов, что помер. В Ленском давно не был, но Постник Губарь сказывал, видел на Индигирке…
— Вот бы кого мне встретить! — с таким жаром воскликнул приказчик, что ленский казак почувствовал в нем своего, искреннего человека, какие редко встречаются среди торговых людей.
Как ни много промысловых и торговых ватаг скопилось под волоком, но после ухода воевод с их людьми острог и посад казались опустевшими, а округ притихшим. Приказчики усовского обоза будто нарочито ждали, когда схлынет этот затор. Не спешил в Ленский острог и Михей. Кормились они с Ариной в обозе. Она опять варила и стряпала, он отгонял от стругов ярыжек и служилых, искавших выгод. Федот Попов привел на табор двух гулящих людей, которые хвалились за месяц привести струги с верховьев Куты к Ленскому острожку и рядились за работу дорого. Поговорив с ними, Михей уличил обман: дальше Николиного погоста плеса Лены они не знали.
Стадухин нашел в вытоптанном прибрежном осиннике брошенный балаган, подновил его и уводил туда Арину от костров и многолюдья стана. Обозным нравилось, что служилый не лезет в их дела, и отношения казака с торговыми людьми потеплели. Он же, к своему счастью, рядом с женщиной спал так крепко, что не чувствовал около себя никого, кроме нее. Они старались уединиться всякий свободный час, который могли провести вместе. На баню или мыльню денег не было, мылись в реке. Не желая носить штанов, как русская женщина, Арина мазала ноги дегтем до самой промежности, но это мало помогало — мокрец да мошка и с дегтем разъедали кожу до язв. Михей где-то добыл тайменьи кожи, отмездрил и задубил их, сшил возлюбленной портки и заставил надевать под поневу. Мимо его глаз будто во сне прошел досмотр товаров, приказчики получили отпускную грамоту, им назначили очередь выхода на волок. Стадухин в который раз поплелся в острог по своему делу и столкнулся с письменным головой Бахтеяровым, который отстал от воевод, выполняя какие-то наказы. Голова полюбопытствовал о делах, морща утиный нос, посмеялся над просьбой о венчании.
— За бабий подол держась, будешь теперь зевать на приострожных службах. А я думал отправить тебя на дальние, на прииск новых земель.
— Отправь! — Стадухин напрягся вдруг и впился в него цепким взглядом. — Жена тому не помеха!
Бахтеяров опять посмеялся и, лукаво щурясь, спросил:
— А добудешь соболей, про меня не забудешь?
— Я никогда не забываю ни добра, ни зла! — резче ответил казак.
— Про зло помню, — хохотнул голова. — Заварил ты кашу с Ходыревым и Копыловым. Дай Бог, расхлебать. — Плутовато, напоказ вздохнув, опять прищурился: — Сам напишу и приму челобитную от имени воевод. Они мне не откажут. А про соболей помни — замолвлю за тебя словечко.
Глаза Стадухина вспыхнули, он неволей доверительно придвинулся к письменному голове.
— Отправь искать новую землю! — попросил. — Уж я воздам и тебе, и казне.
К вечеру на стан обоза прибежал посыльный и велел Михею идти к Бахтеярову, чтобы приложить руку к челобитной. «Не забыл! — удивился Стадухин. — Не тянул, как обычно, для пущей важности, набивая цену».
После отъезда на волок монахов они с Ариной тихо обвенчались в острожной церкви, не рассиживаясь с причтом, вернулись на табор усовского обоза. Полтину на венчание дал Федот Попов, и Михей взял, пообещав вести струги по реке. Праздновать свадьбу было не на что, не с кем и ни к чему.
Пришел черед и усовским людям идти на волок. Вздувая жилы и мотая головами, кони потянули их струги к верховьям Куты. Незадолго до усовского обоза здесь прошли воеводы с таким войском, что от стана до стана трава была выщипана их лошадьми, а возле них зловонно смердило людскими нечистотами. Возницы брезгливо плевались и волокли струги на продуваемые безлюдные места. Обогнать же воевод на волоке было делом немыслимым.
— Разве в устье Куты задержатся?! — рассуждал Стадухин, отвечая на расспросы обозных людей.
Арина кашеварила у костров, поглядывая на мужчин пустыми, незрячими глазами. За неделю совместного пути она никого из них не помнила ни по лицам, ни по именам, все были для нее просто обозными. Но ее лицо всякий раз вспыхивало и расцветало, когда на глаза попадался муж. Глупо и счастливо улыбаясь, они до неприличия долго глядели друг на друга, не замечали, что в их присутствии возле костра наступает напряженная тишина. По строгому наказу старшего приказчика Федота Попова никто из обозных не смел ни шутить, ни осуждать вслух казака со стряпухой. Зато когда те не могли слышать, давали волю языкам и потешались над голубками.
Сена, приготовленного казаками для воеводского табуна, казенным коням не хватало, их погонщики растащили несколько копен, поставленных хабаровскими работными. Возницы с руганью накинулись на годовальщика, сидевшего в зимовье. Тот устало отбрехивался, обещая заплатить из казны Хабаровым и их людям. Зато дома, срубленные для воеводских ночлегов, пустовали, и годовальщик разрешил ночевать в них без платы. Стадухин покружил возле изб зимовья и напросился в амбар.
— Там крыша течет, в стенах дыры — пальцы лезут. Его рубили еще голодранцы Васьки Бугра, проложившего Ленский волок. — Годовальщик и дольше отговаривал бы казака: после проезда воевод на него напала охота говорить. Стадухин же резко спросил, обрывая на полуслове:
— Пустишь?
— Ночуй, если приспичило!
— Приспичило! — Казак усмехнулся и пошел обустраивать ночлег.
Два одеяла да верхняя одежда — все пожитки, что были у них с Ариной. До сумерек надо было принести бересты на подстилку, лапника и травы, чтобы постель была мягче. Мошки в амбаре было больше, чем в лесу, пришлось устраивать дымокур. Но и он не помог. Гнус выгнал обоих на продувное место, под чистое небо с выткавшимися звездами. Выкатилась ущербная луна, желтая и ясная. Положив под бок лук со стрелами, саблю, Михей не заметил, как уснул и почувствовал тычок в бок.
— Медведь! — испуганно прошептала Арина.
Сердце женщины колотилось, она прижималась к мужу. Пока Михей выбирался из глубин сна, успел увидеть в лунном свете вытянутую горбатую тень убегавшего зверя, услышал хруст веток.
— Открываю глаза, а он ноги нюхает! — взволнованно стрекотала женщина.
— И чего они к нам привязались?
Стадухин, удивляясь, что так глубоко спит под боком жены, слегка обеспокоился безопасностью ночлегов, о чем прежде не задумывался.
— Не помню, чтобы встречи с ним были к худу! — пробормотал сонным голосом, крепче обнимая Арину. — Заяц выскочит — не к добру! А медведь — как встречный человек: сразу не поймешь, что у него на уме.
Той ночью, глядя на звезды, Арина удивленно призналась ему:
— Ведь мы совсем недавно сошлись?.. А мне чудится, будто век живем. А прежняя моя жизнь будто приснилась. Осенит вдруг: у меня же были мужья, дети, полюбовные молодцы: ни лиц не помню, ни как с ними все было. И родить от тебя хочется, как молодой, и жить долго.
— Роди! — сонно поддакнул Михей. — Поп в Ленском, поорет для порядка, что зачали в пост. Пусть! У него служба такая. Семейка Дежнев привез с Яны ясырку — у той брюхо из-под шубы выпирало. Поп заартачился — не стану крестить болдыря, во блуде зачатого. Семейка — челобитную на государево имя! Поп без поклонов и бабу окрестил, и младенца, и венчал их вместе с приплодом. У нас все проще.
Помолчав, добавил к сказанному:
— Чудно! Я ведь тоже все забыл! Были какие-то, а помню только тоску… Тебя увидел — будто Илья молнией по башке звезданул! Отыскал-таки суженую.
Он говорил искренне, но душевная радость, которой жил последнее время, порой омрачалась вспоминаниями о службе. И на этот раз с реки повеяло вдруг стужей, от которой побежали по спине мурашки. С тех самых пор, как ушел в Сибирь, он верил, что станет богатым и знаменитым, хотя о богатстве не сильно-то переживал: душа алкала подвига, который не засунешь в кожаный мешок с дорогой рухлядью, смутно рвалась в неведомые края, где казак надеялся обрести славу. Мечталось подвести новую землю под высокую государеву руку, дать тамошним народам мир и порядок, вернуться к родовым могилам, срубить дом и передать славу внукам, чтобы помнили.
Без Арины Михей уже не представлял себе счастливой жизни. Не хотел думать и о том, как оставит ее одну при Ленском острожке. Таскать же за собой русскую женку по урману, как ясырку, было делом редким даже среди промышленных. При непрестанных походах и воинских стычках для служилых людей это было и вовсе делом невозможным.
— Бог не оставит! — пробормотал он со вздохом и неловко перекрестил грудь, лежа на спине.
2. Кремлевский порядок
В 1639 году Ленский уезд Енисейского острога государевым указом был объявлен Якутским воеводством. Узнав про многие беспорядки на реке Лене, царь Михаил Федорович послал туда воевод в придворных чинах. В те же годы на Русском севере была признана вредной для государства и прекращена монопольная торговля англичан, необдуманно заведенная при Иване Грозном. Царский гость Василий Гусельников и устюжский купец московской гостиной сотни Алексей Усов приложили много сил и денег к изгнанию иностранцев, изрядно вредивших русским купцам. Только после этого осторожный Алексей Усов решил завести торговые дела на Сибирской окраине.
Устюжанин Лука Сиверов был его человеком, выросшим в торговых рядах. Обычные купеческие дела в русских городах повзрослевшему сидельцу изрядно наскучили, душа его желала большого и вольного дела. Лука был верен хозяину, помышлял о Сибири, но не знал ее. Усову нужен был опытный, бывалый приказчик и вскоре он познакомился с торговым человеком Федотом Поповым, холмогорцем. Средних лет, с умным лицом и честными глазами, Федот много лет торговал в Тобольске и Тюмени, занимался промыслами, непонаслышке знал окраинную Сибирь. За разговорами о ходовом сибирском товаре и тамошних сделках купец приметил в матером сибиряке страсть не к наживе, а к поиску неведомых земель. Внимательно слушая рассказы холмогорца, он кивал и думал, что такие люди больших денег искони не наживали, но, бывало, прокладывали пути к неслыханным богатствам тем, кто шел следом. Уже при первых встречах Усов стал думать, сколько денег можно вложить в человека, прочно обосновавшегося в Сибири и тосковавшего без большого, рискованного дела.
Федот понимал, что купец готов раскошелиться на сибирское предприятие, и был непрочь вольно торговать и промышлять от его имени, под его защитой. При обычных в то время сделках хозяин и приказчик оговаривали кроме возвращения долга — половину, а чаще — две из трех частей прибыли. Именитый гость царской сотни удивил бывалого сибирского торговца необычным предложением: дать товар на две тысячи рублей в долг с обычным ростом — рубль с десяти. В первый миг Федот был ошеломлен неслыханно выгодным предложением. Это и насторожило его. Торговые люди и приказчики рисковали жизнью, купцы — деньгами. При рукобитье обычно оговаривалась немилость Божья: пожары, потопления, грабежи, неудача в торге, чтобы в таких случаях купцам ни с живых, ни с родственников погибших своих денег не требовать.
— А если потонем с товаром? — спросил Федот.
— С утопленников какой спрос? — принужденно рассмеялся купец.
— А если товар утонет или пограбят, а мы живы?
Купец усмехнулся и пожал плечами, дескать, уговор есть уговор. Выходило так, что Усов давал приказчику свой товар под обычную кабальную запись. Федот думал день и другой, его не торопили с ответом. На третий холмогорец пришел в богатый дом гостя царской сотни, они ударили по рукам и запили уговор заморским винцом. Усовский обоз пошел за шумным поездом стольников Головина и Глебова. Приказчики Федот Попов с Лукой Сиверовым не спешили обгонять его, выспрашивали о воеводах и их людях у местных жителей. Всякая метла метет на свой лад, приноравливаться к прежней власти, когда ее должна сменить другая, не было смысла.
Едва воеводы выехали из Енисейского острога, Попов с Сиверовым привели туда свой обоз. Здесь Федот встретил Ярка Хабарова, знакомого по давней мангазейской смуте, где они оба, молодые промышленные люди, были в одном полку.
— Нынче вспоминаю добрым словом тогдашнего врага нашего Гришку Кокорева, — с первых слов стал ругать Головина Ерофей. — Тот по пять раз в год именины справлял, требовал подарков, но шалил в сравнении с нынешними. В Енисейском явился ко мне стольников холоп и потребовал займа на воеводу в полторы тысячи рублей!
Брови у Федота Попова взлетели под шапку. В пути к Енисейскому острогу он был наслышан, с каким размахом развернулся Хабаров на Лене, но не думал, что тот ворочает такими деньгами. Свое предприятие, которое до сей поры казалось Федоту очень весомым, показалось ему вдруг слишком мелким для нынешних торговых дел за Енисеем.
— Не дал! — продолжал браниться Ерофей. — И вот, сижу при остроге. От енисейского воеводы одна проволочка за другой. Печенкой чую — стольниковы козни.
Про козни Хабаров говорил сгоряча. Попов знал, что он ждет обозы с рожью, чтобы барками переправить хлеб в Ленский острог. В прошлом Федот и сам отправлял рожь из Тобольска в Енисейск. Это был простой способ удвоить усовские деньги, но скучный и долгий.
Лука Сиверов, осмотревшись между Обью и Енисеем, кое-что уразумел в здешней торговле. Часть усовского товара они с Федотом продали в пути и на всю выручку купили ржи. В Енисейском остроге она стоила втрое дороже против Тобольского города. На Лене же, по рассказам Хабарова, шла от пяти рублей за пуд. Но торговля рожью была прибрана к рукам московскими гостями, оказавшимися проворней Алексея Усова. Убедившись в том на Енисее и Ангаре, Лука Сиверов в Илимском остроге стал предлагать дешево распродать усовский товар и вернуться за новым в Тобольск.
«Торговые пути прямыми не бывают, как не бывает искренней дружба торговцев», — думал Федот Попов, с сочувствием поглядывая на Луку. Их струги неспешно плыли по Куте к Лене-реке. Их вел здешний казак Михей Стадухин. Обозные люди сидели на веслах. С Поповым и Сиверовым на дальние промыслы плыли пять своеуженников со своим денежным и хлебным вкладом: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов. Всех их Федот знал до предприятия и ручался за каждого. Приторговывая в пути, они выбирались на Сибирскую окраину промышлять соболя. С Федотом же отправился на Лену его племянник Емельян Степанов.
Емелька был молодым, огненно-рыжим, конопатым весельчаком и всю дорогу потешал обозных людей. Его большой губастый рот чаще всего был разинут от смеха или удивления. С первого взгляда юнца можно было принять за скомороха: уже один его вид вызывал смех. Но, приглядевшись, люди отмечали, что Емелька не только весел, но по-своему красив. Девки к нему льнули, и он вел себя с ними как избалованный вниманием красавец.
В устье Куты струги причалили к острожку. На казенном причале их поджидали казаки-годовальщики. Михея Стадухина здесь знали, он то и дело отвечал на приветствия. Прежде чем начать досмотр товаров, годовальщики во главе с приказным озабоченно расспросили его о делах, касавшихся служилых людей, чесали затылки и качали головами. Покончив с досмотром, Федот спросил приказного, не уехал ли куда с солеварни целовальник Шелковников.
— Здесь! — равнодушно отмахнулся тот, все еще что-то подсчитывая в уме.
— Собирался плыть в Ленский с жалобами. — Глаза его прояснились, он чему-то едко усмехнулся и выругался, помянув черта.
Попов окликнул племянника Емелю. С разинутым ртом, с сияющими глазами, тот весело, с прибаутками, сел за весла, переправил дядьку через Куту и вернулся к острожку. Федот помахал ему рукой и зашагал по ухабистой дороге к дымам солеварни. Друзья встретились возле хабаровской заимки, крытой дерном. Срублена она была наспех, чтобы перезимовать, и оставалась такой третье или четвертое лето. Высокий, дородный, чуть сутуловатый Семен так тиснул Федота в объятьях, что тот крякнул:
— Медведь! — Отстранился, смеясь вывернулся из дружеских рук. — Пуще прежнего разъелся на казенных харчах.
Он пристально вгляделся в круглое лицо целовальника, густо обросшее бородой. Заметив в ней проседь, сетку морщин возле глаз, вздохнул: — Однако мы с тобой не молодеем! Лет десять не виделись?
— Заходи в избу! — чуть не волоком потащил его Семен, усадил на лавку.
Из-за выстывшей печи вышла немолодая уже девка тунгусской или якутской породы с черной косой на спине. Голова ее была непокрыта, на худых плечах висела застиранная мужская рубаха с закатанными рукавами. Девка равнодушно взглянула на гостя, стала выставлять на стол глиняные чашки, берестяные туески.
Наглядевшись на друга юности, Семен встал со скрипнувшей лавки, согнулся в низкой двери, придерживая шапку, и вернулся с глиняным кувшином.
— Ягодное винцо! — Поставил на стол. — Недобродило еще. Кабы нас с него не пронесло. А другого нет! — простодушно развел руками.
Федот вынул из-за кушака березовую фляжку с горячим вином. Узкие глаза ясырки с забубенной тоской скользнули по ней. Она что-то шепеляво гыркнула, и Семен ответил по-русски:
— Ставь чарку!.. Только не мешай говорить. — И пояснил, обернувшись к Федоту: — Хабаровская девка. Никифор на заимке бросил… Ну, за здравие да за встречу, что ли! — Поднял наполненную чарку, наперстком утонувшую в широкой ладони. Перекрестив бороду, оттопырил нижнюю губу, влил в рот, водка булькнула глубоко в горле, Семен посопел, поводил бровями, кашлянул: — Хороша! — Не закусывая, перебарывая жгучую горечь, сипло заговорил:
— Понимаю! Мне тоже мелкий торг наскучил. Столько лет потратил попусту. А тебе, с твоим-то умом… Зачем? Для чего? Рухлядь промышлять — не те наши годы, да и надоело. Хотел в службу поверстаться — не взяли, воеводы набрали полк в четыре сотни окладов по Казани и Тобольску. А я бы государю послужил. Это дело непостыдное!
Федот чуть заметно кивнул, тень снисходительной улыбки пробежала по губам.
— Торг торгу — рознь, — возразил осторожно. — Одно дело при лавке сидеть, другое — открыть путь в Китай или Индию. Тут тебе и слава, и богатство.
— Нынче про то много слухов, — заскрипела лавка под Семеном. На полуслове его оборвала ясырка со злым лицом. Она что-то гыркнула, он добродушно хохотнул и взялся за флягу: — Устала ждать. Душа по второй горит.
Целовальник по-хозяйски разлил остатки вина и подвинул девке кувшин с вином:
— Не отстанет, пока все не выпьет. Пусть дрищет! Вдруг и обойдется: у них кишки крепче наших.
Девка сладострастно осушила чарку, смахнула со стола кувшин, ткнулась в него плоским носом, облизнулась, окинула гостя подобревшими глазами и вышла. Семен степенно поднялся, притворил за ней дверь.
— Сбила с разговора, — наморщил лоб, вспоминая, о чем говорил.
— Про слухи, — подсказал Федот.
— Да! Этот год, по слухам, сплыл по Витиму промышленный человек, который жил на великой реке Амур в ясырях у тамошних князцов. Ватажку его перебили, а он как-то отплакался, кому-то хорошо послужил, и его отпустили живым. Тот промышленный сам видел богдойцев, ездил к ним для торга с хозяевами. Народов, говорит, живет по Амуру множество, и все немирные. Иные, как богдойцы, владеют огненным боем. Ружей у них много, есть даже в четыре ствола, а порох и свинец дешевые. Добром, говорил, мимо тех людей с товаром не проплыть — пограбят! А если с войском идти, так надобно не меньше тысячи сабель. Ну, и какие с того барыши?
Федот лукаво посмотрел на друга. Он слышал про выходца с Амура в Илимском остроге.
— Я тебя про другой путь выспрашивал. Сказывают, к восходу от Лены есть река, которая падает устьем как Лена, а верховья в Китае.
— Есть такой слух, — согласился Семен. — Елисейку Бузу с казаками и промышленными посылали на ту реку, но он обогатился, не дойдя даже до верховьев Яны. Постник ходил через верховья Яны сухим путем на Собачью реку — Индигирку. Где она начинается — неизвестно, про устье тоже ничего не слышал. Я хоть и сижу на Куте, но от проезжих людей много чего знаю: все смутные слухи идут через послухов от якутов и тунгусов. Никто из наших промышленных и служилых людей той реки не видел или помалкивают о ней.
В разговоре с другом, в расспросах о Лене Федот окончательно убедился, что опоздал с торговлей в Ленском остроге и тех прибылей, которых ждал, не получит. Темнело. Семен поднялся, достал с полки смолистую лучину, закрепил над ушатом, почиркав кремешком по железной полоске, раздул трут и зажег огонь.
— Говорят, собираешься в Ленский? — разглядывая широкую спину товарища, осторожно спросил Федот.
— Собираюсь, — коротко ответил Семен. — Может быть, с тобой и уплыву.
— А что там?
— Семейка Чертов, енисейский казак, объявил против меня и Пильникова «слово и дело»!
— За что?
— Говорил нам, что сено у него забрали хабаровские работные. Требовал сыска. Но сено не они взяли, а воеводские служилые. Я Черту сказал: езжай к воеводам, ищи управу. А он собрал против меня все, что мог слышать и придумать по своей догадке… Отбрешусь! — буркнул в бороду. — А нет, так я за нынешнюю службу не держусь.
— Мишка Стадухин плывет со мной до Ленского. Добился-таки управы на бывшего приказного, — с намеком на разный исход таких дел взглянул на друга Федот.
— Слыхал! — Снова сел за стол Семен. — И Ходырева, и атамана Копылова повезли для сыска. С Копыловым Ивашка Москвитин ходил на Алдан. И пропал там с красноярскими казаками. Атаман говорил, будто отправил его с людьми через горы к Ламе. Прошлый год от тунгусов был слух, будто казаки на Ламе собирают ясак на государя. Даст Бог, вернется. — Помолчав, Семен шлепнул широкой ладонью по колену: — А что? С тобой и уплыву. Ночуй, завтра решим… Могу дать совет! Один из кочей чем-то не приглянулся воеводам, они его оставили Пильникову, а приказному нужны струги, он с радостью поменяет коч на твои. Ниже Витима лес худой, если надумаешь плыть к морю, то в Ленском острожке кочишко будешь покупать втридорога. Так что подумай!
На другой день Федот Попов поменял три своих струга на восьмисаженный крытый палубой коч с двумя мачтами и шестью парами уключин. Обозные люди грузили в него товары с пожитками, хлебный и соляной припас, а Михей Стадухин артачился:
— Да это же тяжелая кочмара *(двух — трехмачтовое плоскодонное поморское судно до тридцати пяти метров длиной). Ладно бы струги, а ее я не возьмусь вести по Лене. Нанимайте бывальца.
— Ты же не раз ходил и вниз и вверх?! — удивился его отказу Федот Попов.
— Я и сам по этой реке плавал, правда, много лет назад.
— То-то и оно, что много лет! — укоризненно мотнул головой казак. — Коварная река. В иных местах против свального течения на стругах не выгрести, куда уж на кочмаре. Стрежень каждый год меняется, я не помню правильный путь, и бурлаки больше бахвалятся, чем знают. Занесет в протоку, неделями будем выбираться. — И предложил: — Здесь, на Куте, есть один верный человек, который каждый год водит суда вверх-вниз. Всякий раз собирается вернуться на Русь, нынче опять запоздал. Он путь знает.
Федот подумал, что казак хочет помочь приятелю вернуться в Ленский острог и при этом заработать, но Михей, словно угадав его мысли, досадливо обронил:
— Лучше я дам тебе кабалу на заемную полтину, чем посажу кочмару на мель.
Вскоре он привел к приказчикам хмурого промышленного человека с нечесаной бородой в пояс. Бывалец явно пропился и смущался своего вида, но цену за работу просил непомерную. Михей Стадухин его же и осадил, взывая к совести. Поторговавшись, ударили по рукам. Задатка бурлак не просил, это понравилось приказчику. Коч и струг, отчалив от казенного причала, закачались на быстром течении Лены. Федот, вздыхая о былом, высматривал переменившиеся берега реки. Его взгляды то и дело натыкались на следы бечевника, станы, торчавшие из земли остовы разбитых стругов. Река была не той, какую он помнил. Течение воды то замирало, как в старице, то неслось с такой скоростью, что некогда было оглядываться по сторонам. Федот чесал затылок и удивлялся тому, как все стало непросто или как прямил Господь его ватажке в давние годы.
Через пару дней долгобородый передовщик бурлаков пришел в себя. Морщины на его лице разгладились, мешки под глазами опали. Он сутками стоял на рулевом колесе коча, зычно кричал, когда надо было ставить парус или выгребать своей силой. Пособный ветер дул ночами и, порой, до полудня. Пока он не стихал, нанятый кормщик маячил на коче, затем, при противном ветре, когда суда еле двигались, передавал управление Михею Стадухину, натягивал на лицо сетку из конских волос и ложился спать на корме. Между тем среди островов и проток реки несколько раз плутал и сам передовщик бурлаков, при явном мастерстве пару раз сажал коч на мели, но при этом удачно снимался с них. В Ленский острог спешили все, а кормщик, судя по радению, больше всех.
Перед Витимом река круто завиляла среди отвесных скал. На корме коча как всегда маячил долгобородый передовщик, Федот с Емелькой сидели на носу, Михей с Ариной, отмахиваясь от мошки, лежали на мешках с рожью. Кормщик, вдруг заорал дурным голосом. Стадухин пулей подскочил к нему. Долгобородый указал рукой на реку. Там среди глади была видна голова плывущего медведя. Емелька прибежал с пищалью, Федот раздувал трут. Кормщик подтолкнул Михея к рулю, выхватил у Емельки пищаль с тлевшим фитилем. Медведь обернулся, тоскливо зыркнув колючими глазками на догонявшее его судно. Он был так беззащитен, что у Михея заныло сердце. Казак взглянул на Арину, на ее лице тоже была безысходная печаль невольного свидетеля убийства.
И тут, зашуршав песком под днищем, коч сел на мель вблизи намытого течением острова. Собравшиеся на одном борту люди повалились с ног. Перед тем как вместе со стрелком оказаться в воде, пищаль гулко ухнула пустив по реке клубы дыма. Медведь вскоре выбрался на сушу, оглянулся, привстав на задние лапы, как показалось Стадухину, благодарно ощерил зубы, прытко скакнул и скрылся в береговом кустарнике. Кормщик с мокрой косицей свившейся бороды стоял по колено в воде, сжимал в руках разряженную пищаль и разъяренно глядел на Михея. Он готов был разразиться бранью, но вместо того подхватил плывший суконный колпак, обшитый по краю беличьими спинками, и швырнул его в казака. Отжав его, Михей беззаботно покрыл голову и с насмешкой укорил:
— Однако бурлачишь ты лучше, чем стреляешь!
К застрявшему кочу подплыли струги, на веслах сидели обозные своеуженники. Осташка Кудрин спрыгнул в воду, обошел коч, глубокомысленно почесался и крикнул:
— Не сильно сели! Руби жердины, вдруг без перегрузки снимемся.
Вскоре коч вывели на проходную глубину, а к вечеру завели в протоку, решив заночевать и запастись едой. Арина молилась, Михей посмеивался, вспоминая лица попадавших за борт спутников. Шепотом она спросила его:
— Ведь ты нарочито спас нашего медведя? Я узнала его!
Стадухин вместо прямого ответа стал туманно рассказывать, как при осаде Ленского острога якутами, весенняя льдина принесла к воротам тушу медведя, умершего от ран. Запах от нее был изрядный, но осажденные тем и питались.
— С тех пор воротит от медвежатины, — признался со смехом. — Разве лапы, печенные на углях.
Протока оказалась рыбной. Утром коч и струги отправились в дальнейший путь с волосяными веревками за кормой. На них били хвостами три осетра по два аршина и больше. Кормщик ни в чем не уличал казака, но бросал на него недоуменные и колючие взгляды. Курносый Емелька, громко чмокая, обсасывал осетриную голову и божился, что для него осетрина лучше всякого мяса.
Перед устьем Олекмы торговую ватажку нагнали суда Ерофея Хабарова, плывшие под кожаными парусами, вздутыми попутным ветром. Ерофей фертом стоял на носу ертаульного струга и насмешливо оглядывал попутчиков. Он спешил в Ленский острог с богатым грузом и был полон ярости против бесчинства воевод. Федоту приветливо помахал рукой. Высмотрев на коче Семена Шелковникова и Михея Стадухина, закричал:
— Бежать хотели от Ярка? Под землей сыщу! — Потряс кулаком и захохотал, молодцевато сбив шапку на затылок, показывал, что не гневается на старых друзей, невольно принявших участие в его разорении.
— Остыл уже! — проворчал Семен. — Наорался, поди, на Пильникова, прежде чем разобрался, кто его пограбил. И оглядывая обгонявшие караван струги Хабарова, крикнул: — Рожь везешь? Рублей на тыщу?
— Поболе! — горделиво ответил Ерофей.
Не останавливаясь для разговоров, его струги обогнали суда Попова и Сиверова.
— Юшку лаять будет за всех нас, — зевая, пробормотал Стадухин. — А что мы так медленно плывем? — громко спросил передовщика, усаживаясь за загребное весло. — Вели-ка нашим лодырям пошевеливаться.
— На кой? — услышав его, отмахнулся Шелковников. — На таможне с Ярком ругаться? Все равно там придется ждать.
В Ленский острог струги Попова прибыли с ранними заморозками. К этому времени крепкие промысловые ватаги, сумевшие получить отпускные грамоты, уже разошлись по тайге, но народа возле острога было много: служилые, гулящие, промышленные. Далеко по реке разносился перестук топоров и оклики работных. На берегу сох сплавленный с Витима строевой лес, на воде покачивались плоты сучковатых, корявых сосен с близких песчаных боров. В воеводстве прочно утверждалась новая власть. На досмотр товаров к усовским стругам вышел сын боярский, которого Михей Стадухин окликнул Дружинкой.
— Как тебе на новом месте, при новых воеводах? — насмешливо спросил его казак.
Бывший олекминский таможенный голова равнодушно взглянул на него, вздохнул и, не ответив, отвел глаза. Досмотр был произведен быстро. Приказчики в пути не торговали и потому оплатили только пошлину за прибытие.
— Ярко Хабаров обогнал нас. Прибыл ли? — вкрадчиво спросил таможенного Федот Попов.
— Прибыл! — снова со вздохом ответил сын боярский. — Уже сидит на цепи в старой казенке! — Хмуря брови, пояснил: — Матерно лаял нового воеводу. — По лицу и по словам таможенника непонятно было, осуждает он Хабарова или одобряет.
Федот отметил это про себя и подумал, что надо бы дать ему подарок в почесть, хоть тот и не делал никаких поблажек. Усовские приказчики подписались под описью, целовальник сунул перо за ухо и заткнул чернильницу, болтавшуюся на поясе в кожаном мешочке. Дружина Трубников, будто угадав мысли Федота, сказал:
— К главному воеводе не попадете. Занят! Идите на поклон к Матвею Богдановичу Глебову. С ним и говорить проще. — Вымученно улыбнулся, невольно выдавая какие-то свои тяготы.
Острог был непомерно мал для людей, прибывших этим летом. Часть тына они уже разобрали. В десяти саженях от него рубили новую проездную башню, ставили стену из здешней сучковатой и приземистой сосны. Неподалек, за старым почерневшим тыном, курились дымы юрт, балаганов и землянок. Всюду деловито сновали люди, все были чем-то заняты. Лука Сиверов ушел на гостиный двор присмотреться к торгу. Михей Стадухин отправился в острог. При судах остались своеуженники и Емеля Степанов. Федот с Семеном Шелковниковым пошли на поклон к воеводе Глебову. В съезжей избе его не оказалось, а беспокоить стольника на дому, где он остановился, прибывшие не решились. Дьяк и письменные головы тоже были заняты и не приняли их.
Рядом со съезжей избой стучали топорами странного вида плотники, делали прируб из сырого леса. Лица их были изнурены, рубахи не опоясаны. В стороне бездельничал казак при сабле.
— Арестанты! — догадался Федот и указал на них Семену.
Тот вдруг остановился посреди узкого прохода, перегородив его широкими плечами, уставился на стоявшего к нему спиной. Окликнул:
— Ивашка, что ли?
Плотничавший невольник обернулся на голос обветренным, посеченным глубокими морщинами лицом. Семен взревел как медведь и стал тискать его в объятьях. Федот не сразу понял, кого он облапил. Скучавший рябой охранник повеселевшими глазами наблюдал за встречей друзей, жевал лиственничную смолу, не мешая чужой радости, не двигался с места.
— Дай поговорить с родней! — обернулся к нему Семен, заслонив спиной Ивашку Москвитина. Теперь старого дружка обнимал Федот.
С радостным лицом он вынул из кармана пару алтын, протянул охраннику. Тот взглянул на монеты и добродушно рассмеялся:
— Не в Енисейском! Здесь за такие деньги ничего не купишь.
— Дай гривенный! — подсказал Семен.
Москвитин подобрал шапку и зипун.
— Пойдем к стругам! — потянул его к реке Семен.
Охранник поднялся, опираясь на суковатый черенок, прихрамывая, шагнул к узнику, подал ему кушак.
— Не бойся, не сбежит! — буркнул Семен. — К вечеру вернется.
— Да куда бежать-то? — рассмеялся рябой казак и взялся за топор, оставленный Иваном.
— Сказывали, ты с Копыловым уходил? — не дав прийти в себя товарищу, на ходу расспрашивал его Семен. А сам тащил друга под руку, да так быстро, что тот едва успевал переставлять ноги. — Как под стражей-то оказался?
— А в награду! — сипло ответил Иван. — Митька Копылов с Парфенкой Ходыревым тоже под стражей, но их кормят.
— Голодный, поди? — посочувствовал Федот.
— Не был бы голодным — не махал бы топором! — неприветливо огрызнулся Москвитин и устыдился: — Прости, Христа ради! Обида сердце гложет. — Посыпались из него торопливые слова: — На Алдане напал на нас Парфен Ходырев. Побил десятника Петрова с его людьми. А Митька-атаман не велел нам воевать со своими, и пошли мы вверх по реке. Потом Копылов приказал мне принять два десятка томских служилых и с красноярцами идти за горы к океану-морю, про которое слышали от ламут. Ну, и шли вверх по Мае, переволоклись через хребет в верховья Ульи, сплыли до моря, в устье срубили зимовье. Рыбы там, что плавника…
— Погоди! — остановил разговорившегося друга Федот. — Расскажешь на месте, а то наши, обозные, умучают расспросами.
Иван замолчал, обиженно засопел, свесив голову.
— За что новый воевода в тюрьме держит? — Семен тут же спросил про другое.
— За то и держит и под батоги ставит, что был свидетелем и послухом, как Митька-атаман с Парфенкой воевали. Про новые земли, про океан-море не спрашивает. На одиннадцать сороков соболей — ясак с тамошних народов, в один глаз посмотрел и велел бросить в амбар. Соболишки, конечно, похуже здешних, но все равно по ленским ценам рублей по пятнадцать за сорок.
Обозные люди под началом расторопного Емельки Степанова, после досмотра отогнали суда ниже острога, туда, где еще не был вырублен низкорослый ивняк, и обустраивали стан. Федот с Семеном привели Ивана Москвитина к их костру, усадили на лучшее место. Федот велел племяннику накормить гостя хлебом, напоить квасом, заварить для него толокна с медом. Поругивая Ходырева, Копылова и новых воевод, которые, не накормив — не напоив, после дальних служб, безвинно засадили в тюрьму, Иван принялся за еду. Насытившись, прилег у огня. От острога к стану с озабоченным видом пришел Лука Сиверов, огляделся, поскоблил носком сапога оттаявшую после полудня землю.
— Что там, на гостином? — спросил его Федот.
— Товара, такого как у нас, в избытке, — вздохнул приказчик, присаживаясь. — Покупателей нет. Хотим, не хотим, а зимовать придется. Землянки надо рыть. На гостином дворе жить — в конец разоримся.
От народа, бегавшего вокруг острога, отделились трое и направились к костру усовской торговой ватажки.
— Михейка Стадухин, — издали узнал одного из них Емеля.
— Семейка Дежнев, караульный, — указал на другого, прихрамывавшего, Иван Москвитин. — Наверное, за мной.
Федот удивленно взглянул на Семена Шелковникова:
— До вечера сговаривались?!
Третий, в мягких ичигах, в волчьей парке, судя по одежде, был промышленным человеком. Его почтенная белая борода висла по груди едва не в пояс, седые волосы лежали по плечам. Со волнением вглядывался Федот в обветренное лицо, что-то знакомое было в походке, во взгляде, но узнать промышленного он не мог, пока под боком не вскрикнул Семен:
— Пантелей Демидыч!
— Пенда! — ахнули разом Попов с Москвитиным и вскочили с мест.
Годы немало потрудились над сибирским первопроходцем. Он стал похож на старый кедр с окаменевшим комлем, со скрученным ветрами стволом, но с живой зеленой верхушкой.
— С Индигирки вышел! — коротко ответил на расспросы старых друзей. — Отправил с Семейкой рухлядь, — кивнул на хромого казака, — чтобы по моей кабале оплатил, как чуял — не дошла.
— Не со мной! — пояснил казак. — С промышленными, которые сопровождали. Пропились в Жиганах. Я с казаком Простоквашей был при казне от Митьки Зыряна.
— Вот уже и ты берешь деньги под кабалу! — с грустью заметил Федот, оглядывая Пантелея. — Помню, учил: шапку, саблю и волю не закладывать!
— Здесь все не так, как там! — чуть заметно поморщившись былому, одними глазами улыбнулся и кивнул в сторону заката промышленный. — В старое время с ума сходили от бесхлебья, нынче годами живут на рыбе и мясе. Про посты одни только разговоры, дескать, в походе Бог простит… Другое все стало! — блеснул ясными глазами, оглядывая Москвитина. — Сказывают, на Ламе был, устье Амура видел?
— Был! — кивнул Иван и уставился на конвойного: не за ним ли пришел.
— Семейка Дежнев, земляк мой! — указал на казака Михей Стадухин. — Купил узникам хлеба, те и рады, божились без него работать, а не бегать христарадничать.
Федот Попов во время разговоров несколько раз бросал на Михея быстрые скользящие взгляды, отмечая про себя, что у того сильно переменилось лицо. От самого Илимского острога казак пребывал в радостном умилении. Теперь его брови хмурились, глаза смотрели пронзительно, желваки вздувались. Казачий десятник Москвитин стал обстоятельно рассказывать, кивая на свидетеля Стадухина, который с Парфеном Ходыревым гнал в верховья Алдана томичей и красноярцев, как атаман отправил его, Ивана, со служилыми людьми за горы к океан-морю. Как поднимались по Мае и переволоклись в Улью-реку, что течет по другую сторону гор к морю, как срубили в устье той реки зимовье по-промышленному.
— Значит, по ту сторону гор, что идут от Байкала, тоже океан? — спросил Пантелей Демидович, внимательно слушавший десятника.
— Океан! — мимолетно кивнул рассказчик. — Ламуты там другие, не те, что в верховьях Яны, а язык, говорят, схож. Железа не знают: ножи костяные, топоры каменные. Рыбы, зверя там много, живут у Бога за пазухой, понять не могут, зачем пришлым людям что-то платить, если их, пришлых, можно грабить. Ну, и собирались по две-три сотни, когда еды много, нападали на зимовье. Бегут толпой, боевого порядка не знают. Взяли мы аманатов, думали, сговоримся жить в мире. А они еще чаще стали нападать. Как-то подошли скрадом, когда мы строили кочи на плотбище, закололи караульного, давай сбивать колодки с аманатов. Другой караульный при зимовье застрелил их лучшего мужика. Они, как дети, побросали топоры, луки, стали плакать над убитым. Тут мы скопом зааманатили еще семерых и одного знатного мужика. И слышал я от них, будто к закату от устья Ульи живут бородатые люди — дауры, которые говорят им, будто они казакам — братья.
Пантелей недоверчиво хмыкнул и нетерпеливо переспросил:
— Видел их?
— Год просидели возле зимовья при непрестанных нападениях. Потом построили кочи, разделились на два отряда. Я поплыл на полдень, куда указывали аманаты. Места там бедные кормами. Дошли до косы, за которой видно устье большой реки и повернули назад, чтобы не помереть с голоду. Дауров не видел, но слышал о них много… А воеводы решили, что те места государю не надобны: соболь, дескать, желтый.
— Зато за четыре года ты получишь одного только денежного жалованья — двадцать рублей, — посмеиваясь и загибая пальцы, стал вслух считать Семен Дежнев, — да муку, крупы, соль… да три десятка служилых, что были с тобой, затребуют столько же, а прибыли государю добыли на сто тридцать рублей. Я писать-читать не умею, а считать горазд! — похвалился, беспечно улыбаясь. — Елисей Буза привез нынче одних только черных соболей и лис восемьдесят сороков. Торговые люди оценили их по полусотне рублей за сорок…
— Послан был искать реку с истоком в Китае! — Ломая бровь и морщась, Пантелей презрительно скривил губы в белой бороде. — Но из-за черных лис, просидел в низовьях Яны и Индигирки.
Говорившие и слушавшие смущенно умолкли. Чтобы поддержать прервавшийся разговор, Попов спросил:
— Ярко Хабаров не голодает в тюрьме?
Стадухин желчно усмехнулся, Дежнев рассмеялся:
— У Ярка полгарнизона в кабале. Захочет запоститься — не сможет!
Рябой половинщик, карауливший заключенных, опять разговорился, отвлекая обозных от Москвитина. Он ходил с Митькой Зыряном в Верхоянское зимовье, на перемену отряду Постника Губаря, с которым по бесовскому прельщению не ушел Михей Стадухин. Собирался своим подъемом: брал под кабалу деньги на двух коней, порох, свинец, рожь, невод. Поход начался удачно, но Семейку Бог не миловал: его кони сдохли сам на Яне захворал. Митька Зырян, боясь, как бы немирные народы не отбили ясачной рухляди, выдал Дежневу и Фофанову-Простокваше их паи из добытых мехов и велел возвращаться в Ленский острог с государевой казной. В помощь отправил с ними двух промышленных людей и девку якутской породы, выкупленную казаками у янских инородцев. Родня той девки по имени Абаканда числилась в верных ясачниках и кочевала неподалеку от Ленского острога.
Бог не без милости! На Янском хребте на отряд из четырех человек напали ламуты. Казаки, промышленные и якутская девка отбились. Но Семейка получил две раны в ногу коваными наконечниками боевых стрел. Девка помогла ему залечить раны так, что при ходьбе перестала сочиться кровь. Но казак, не устояв перед соблазном, забрюхатил ее в пути, а Митька велел взять с родни выкуп вдвойне. Дежнев в целости сдал казну Парфену Ходыреву. Поклонов дать было не из чего — рухляди едва хватило, чтобы рассчитаться по кабале и за выкуп ясырки. Так и остался казак после дальней годовалой службы без денежки в кармане на прежнем половинном жалованье. Больной, без гульного отпуска, был поставлен в караульные службы, на которых разве только с голоду не помрешь.
— Семейка не пропадет — хозяин! — опять усмехнулся Стадухин. — Нынче живет с Абакандой, пестует якутенка. Корову купил с половинного-то жалованья, да при гарнизоне…
Дежнев непринужденно рассмеялся, откинув голову.
— Не случилось ли с Ариной разлада? — пристально глядя на Михея, спросил Попов. — Так хорошо жили, душа радовалась, глядя на вас.
— С чего бы? — насторожился Стадухин.
— Подошел к костру, глаза злющие, лицо сикось-накось!
— Пока я ради правды ходил в Илимский, Васька Поярков отправил морем на устье Индигирки Федьку Чурку со служилыми, торговыми и промышленными. Я с Федькой в Енисейском гарнизоне служил. Теперь понимаю, что Васька выпроводил меня с умыслом, чтобы не пустить на прииск новых земель. Постник Губарь неделей раньше нас получил наказную память, ушел на Яну. Без меня!
— И слава Богу! — стал утешать его Федот. — Тебе же Господь дал покладистую красивую жену?
— Жену дал, — натянуто улыбнулся Михей, глаза его подобрели, сам обмяк, не уловив в голосе приказчика насмешки. — Теперь дом строить надо. А при остроге жалованье только на прокорм. В хорошем походе, бывает, за зиму богатеют…
Семен Шелковников, не слушая рассказов о дежневской службе и венчании, смотрел на угли костра остекленевшими глазами. Едва затянулась пауза, пробормотал:
— Ну и что с того, что народу много? Это хорошо!
На стане мало кто понял, кому он говорит и зачем. Но Семен уставился на Ивана Москвитина, желая продолжить прерванный рассказ.
— Что с них, диких, взять? Поставил бы острог крепкий. Придет время, поймут выгоду, благодарить станут, что силой подвели под государеву руку.
— Говорил я так воеводам, — обиженно заводил носом Иван. — Всего-то полсотни служилых надо, чтобы был порядок. Кормов там много… Как-то невод бросили — вытянуть не смогли, резать пришлось, освобождая от улова. И рыба большая, такой в Сибири нет…
— А воеводы что?
— Воеводы? — презрительно скривил губы Москвитин. — Им Лама не нужна, им нужен Парфен Ходырев. Огнем пытали и против него, чтобы обвинить, и за него, чтобы оправдать. Головин обвинял Ходырева во всех смертных грехах, Глебов его оправдывал, а я перед ними с вывернутыми руками и окровавленной спиной. — Москвитин злобно усмехнулся, махнул рукавом по носу. — Спорили меж собой, спорили, Головин как заорет: «Не с того ли жаль вам Ходырева, что я ныне про его воровство сыскиваю, а вы от него имаете посул? И взяли уже с Парфенки тысячу рублей?» Вскочил с кресла да Матвея Глебова — стольника, как треснет по голове ларцом, в котором государева печать. Тот повалился на лавку. Головин давай его бить, а дьяк Филатов насел со спины и оттягивал за волосы, а Васька Поярков разнимал. — Москвитин мотнул головой с выстывшими глазами, горько добавил: — Хоть бы меня развязали, потом дрались.
— Вот ведь, Парфенка, сын бесов, — удивленно ругнулся Стадухин. — Уже и царского воеводу подкупил.
— Помянете еще своего Парфенку добрым словом! — вытягивая к огню ладони, пригрозил Москвитин.
Собравшиеся у костра смущенно притихли. На другой день усовские приказчики опять пошли в съезжую избу и были поставлены перед Петром Петровичем Головиным. Главный якутский воевода-стольник ласково принял их поклоны, расспросил о товарах и даже посмеялся над купцом Усовым, что зловредный промышленный человечишка Хабаров привез товара в Ленский острог вдвое больше, чем именитый гость царской сотни.
— Еще и меня, главного воеводу, лает, что не даю ему с Ходыревым всю Сибирь под себя подмять.
Увидев Головина в добром расположении духа, Попов осторожно заметил, что видел бывшие хабаровские поля по Куте. Посетовал: «Хорошо бы иметь свой хлеб на Лене» — Важное, государево дело! — согласился Петр Петрович. — Оттого и велел я выпустить буяна под залог. Смутьян, но хозяин и польза от него. Просит землю по Киренге — дам! Соль для него самого с бывшей его солеварни дозволил брать, — говорил, оглаживая бороду, любуясь своим добросердечием.
Раскосый мужик в долгополой льняной рубахе, с большим кедровым крестом на груди то забегал в дом по какой-то надобности, то выскакивал из него, то, схватив метлу, начинал скрести возле печи и всякий раз подталкивал приказчиков с места на место. Бросив подметать, поднес воеводе квас в кружке.
Набравшись духа, Федот Попов попросил за Ивана Москвитина:
— Не знаю, тяжки ли вины его, друг-товарищ юности. Мы ведь с ним промышляли соболя на Нижней Тунгуске, когда здешние народы про русского царя не слыхивали.
Сказал и почуял, как под боком опасливо засопел, заелозил сапогами Лука. Тень набежала на лицо главного воеводы, глаза гневно блеснули.
— В том его вина, — сказал грозно, — что покрывает и сына боярского Ходырева, и атамана Копылова. Неужели томским да красноярским казакам нет служб возле своих острогов, что они заводят порядки на Лене и Алдане?
Федот почтительно склонил голову, соглашаясь, что вина на друге есть, и больше не упоминал о нем. Остыв от мимолетного гнева, воевода спросил приказчиков, при остроге ли они намерены торговать или где-то в другом месте.
— Осмотримся, решим, — уклончиво ответил Федот. — Скорей всего, придется и промышлять, и торговать на дальних окраинах.
Воевода милостиво отпустил приказчиков, но не успели они отойти от съезжей избы на десяток шагов, их догнал раскосый мужик, мельтешивший при воеводе, пристально и нагло глядя в глаза Федоту, потребовал сто рублей на устройство тюрьмы. Попов поскоблил щеку под стриженой бородой, вынул кошель из-под полы и высыпал на ладонь десять битых ефимков.
— Все, что имеем. Не расторговались еще, — пожаловался.
Мужик без благодарности сгреб деньги и шмыгнул за стену избы. Сиверов всхлипнул:
— Нам так вовек долгов не выплатить! Столько уже истрачено в пути!
Федот ниже опустил голову, пожал плечами, пробормотал, оправдываясь перед связчиком:
— Хабаров отказал. Дорого ему обошелся отказ. Авось все окупится.
Лука некоторое время обиженно молчал, разглядывая работных и служилых людей, расширявших острог, потом решительно заявил:
— Лучше синица в руке, чем журавль в небе! — Не поднимая глаз, развернулся и, сутулясь, зашагал к торговым рядам гостиного двора.
После полудня на стан пришел Иван Москвитин с красноярскими казаками Втором Гавриловым и Андреем Горелым. Оба были его товарищами по последнему ламскому походу. С ними он строил новый государев острог, дожидаясь воеводского суда и московского развода по походам атамана Копылова. Головин освободил Ивана из тюрьмы, но отпускной грамоты ни ему, ни его казакам не давал, вынуждая служить при гарнизоне. Среди суетившегося народа Москвитин отыскал Федота, глаза его блестели, как в далекой юношеской поре.
— Пантелей Демидыч зовет на питейный двор! — Обернулся к Гаврилову с Горелым. Их уже окружили поповские своеуженники, расспрашивая о Ламе. Иван весело отмахнулся: — Пускай поговорят! — На пару с Федотом стал искать Семена Шелковникова. Тот бездельничал, досадуя, что его не принимают ни воеводы, ни письменные головы, не мог понять, отчего их дворня поглядывает на него злобно и насмешливо.
— Суета сует! — проворчал, поднимаясь навстречу старым друзьям. — Чего- то бегают, кричат!
Трое старых друзей отправились на питейный двор, который был и здесь откуплен ловкими торговцами. Время больших барышей ушло: одни люди пропились и работали на поденщине, другие разбрелись на промыслы. Семен, презрительно озирая толпы служилых и гулящих, вполголоса поругивал здешние порядки. Похоже, он уже жалел, что приплыл сюда, чтобы упредить «слово и дело» придурошного усть-кутского сплетника.
— Кого-то все бегают, ругаются!.. Казака Пашку Левонтьева знаете?
— Который на Николу Угодника похож? — рассмеялся Москвитин.
— Его! — проворчал Семен. — Давеча, на литургии черные попы стали ругать служилых, что притесняют диких, вместо того чтобы лаской призывать к вере, а он им: «Ваше монашеское дело свои души спасать да за нас, грешных, молиться, а вы в мирские дела лезете, властвовать хотите!» Поп, который у них за главного: «Кто сказал?» Пашка ему: «Я!». «Выдь из храма!» Пашка ему: «Я этот храм строил, а потому — не тебе, пришлому, указывать в нем!» Служилые тоже зароптали: «Кто де вы такие, нас гнать из нашей церкви?» — А, тьфу! — Семен сплюнул под ноги. — Даже во храме Божьем суета!
Кабак был полупустым, а цены на горячее вино, брагу и сусло оставались впятеро выше енисейских. За выскобленным столом сидел Пантелей Демидович без шапки, с седыми волосами, рассыпавшимися по плечам и спутавшимися с белой бородой. Рядом с ним Михей Стадухин, дальше — его улыбчивый земляк Семейка Дежнев, напротив — Ерофей Хабаров. Все о чем-то неторопливо беседовали. Федот замялся в дверях: он предполагал поговорить со старым Пендой, но возле него собралось много людей. Увидев вошедших, Пантелей махнул рукой, приглашая за стол. Трое перекрестились на закопченный образ, подсели на лавку. По лицу Хабарова Федот понял, что прервал его на полуслове. Окинув пришедших небрежным взглядом, Ерофей сбил на ухо соболью шапку и, обернувшись к Стадухину, со злостью заговорил:
— Да ты перед ним, должно быть, на брюхе ползал, иначе не выпросил бы дальнюю службу. Я же Христа ради — перекрестился, смахнув шапку с головы, — правду в глаза говорил…
Ломая бровь и вздувая грудь, Стадухин отвечал:
— У тебя одна правда — мошну набить. Ты Бога-то не гневи, призывая во свидетели.
— Ишь! — переводя глаза с Попова на Шелковникова, пояснил Хабаров. — Не успел приплыть в Ленский, уже выхлопотал дальнюю службу.
— Куда? — через стол спросил Федот.
— Ленские ясачные якуты откочевали, по слухам, на Оймякон — это где-то встреч солнца от устья Амги, места дальние, никто из промышленных и служилых людей там не был. Воевода велел вернуть беглецов и подвести под государеву руку тамошние народы, — обстоятельно отвечал Михей, косясь на Хабарова. — Прошлый год Поярков послал за беглецами казака Елисея Рожу с людьми. Нынешним летом они вернулись с Амги побитыми.
Федот кивнул, не совсем понимая, где Оймякон.
— Весной пойдешь? — спросил.
— Соберусь и уйду нынче, на конях. Пойдешь со мной своим подъемом? — спросил, в упор глядя на приказчика. — На новом месте товар, бывает, втридорога уходит.
— Я вызнал, что тут и к зиме коня не купишь дешевле, чем за двадцать пять рублей, — посмеялся Попов. — А мне их надо десяток. За эти деньги я три коча построю и продам с прибылью.
— Хороший купеческий коч в Ленском рублей двести, — поддержал его Пантелей, сдержанно молчавший при разговоре. — Казенные, худые, — пятьдесят-шестьдесят.
— Думай, холмогорец! Охочих много! Семейка, хромой, бедный, и то слезно просится и Гришку Простоквашу за собой тянет, — кивнул на Дежнева, — Пантелей Демидыч со мной идет, Ивашкины товарищи, — перевел взгляд на Ивана Москвитина.
Федот вскинул глаза на старого промышленного:
— А я думал звать тебя плыть дальше по Лене.
— Я ее всю прошел с Ивашкой Ребровым, — равнодушно ответил Пантелей.
— На Оленеке промышлял, на Яне, Индигирке. Другой раз идти туда не хочу.
— Моих друзей берешь, а меня у воеводы не выпросишь? — Москвитин обидчиво прищурился, тоскливо взглянул на штоф и вздохнул: — Хоть куда ушел бы, одолжившись под кабалу, лишь бы подальше от стольников! Иначе придется махать топором за прокорм.
— То не просил? — налившись краской, рассерженно рыкнул Стадухин. — Едва не вытолкали из съезжей…
На столе стоял непочатым штоф стоимостью не меньше двух рублей, стыла печеная нельма на берестяном блюде. Половой принес и поставил перед подсевшими еще три чарки, надеясь, что стол разгуляется хотя бы на полведра. Но собравшиеся только говорили, не прикасаясь ни к вину, ни к закуске.
— Я нынешний год никуда не пойду! — с важным видом продолжал рассуждать Хабаров, и Федот понял, что он за этим столом не случайный человек: — Мишка, — кивнул на Стадухина, — зовет на Оймякон, воевода дает землю по Киренге вместо отобранной. Там лучше! На Куте сколько засеял ржи и пшеницы, столько его люди собрали. Но упорствует стольник, чтобы я отсыпал в казну с пятого снопа. Хрен ему в бороду! С десятого можно. И зерно на посев мое. Мне его посулы без надобности.
— Сколько соболей обещал в казну? — спросил вдруг Стадухина.
— Сто! — напрямик ответил тот.
— А вернуться когда?
— К Троице!
— Денег дам до Троицына дня без роста! — ухмыльнулся и плутовато прищурился Хабаров.
— Пятнадцать пишем, десять даем? — насмешливо торгуясь, спросил Стадухин.
— С пятидесяти по пяти!
— Так еще по-божески! — потянулся к штофу казак, чтобы разлить по чаркам за уговор. — Подумаю, вдруг найду кто даст выгодней… Пока Головин у тебя всех денег не отобрал, — язвительно хохотнул.
«Чудны дела Господни!» — насмешливо поглядывая на собравшихся, думал Федот Попов. Не в церкви, в кабаке происходил зачин на выбор судеб сидевших здесь людей.
Из другого угла пристально, не мигая, на них смотрел какой-то пропившийся ярыжка с голыми плечами. Федот раз и другой обернулся на его слезливый взгляд. Глаза пропойцы будто липли к лицу, но не было в них ни униженной просьбы, ни холуйского умиления, не было злости или зависти, разве любопытство да глубокая, лютая тоска-печаль. Не удержавшись, Федот снова повел глазами в его сторону и опять натолкнулся на такое сочувствие, от которого у самого едва не навернулись слезы.
— Чего пялится? — сердито заерзал на лавке Семен Шелковников. — Должник твой, что ли? — гневно спросил Хабарова.
Тот обернулся всем телом, грозно взглянул на пропойцу. Глаза ярыжки не мигнули, не дрогнули, лицо никак не переменилось.
— Опохмелиться желает! — самоуверенно буркнул Ерофей.
Москвитин помалкивал, глядя, как Стадухин разливает вино, Дежнев смущенно улыбался, Пантелей Пенда степенно молчал, Хабаров весело и зло балагурил. Они еще не выпили во славу Божью, только потянулись к вину. Федот краем глаза уловил, как пропившийся поднялся с чаркой в руке, и осторожно, будто боялся расплескать ее, двинулся в их сторону, без приглашения подсел на пустующее место с краю и поставил на стол чарку, которая оказалась больше чем наполовину наполненной вином.
— Чего тебе? — скривил бровь Хабаров, ожидая просьб, перекрестил бороду и влил в рот вино.
Попов тоже выпил, крякнул, перекрестился, приветливо взглянул на пьянчужку, переводившего глаза с одного на другого. Взявшись за штоф, хотел уже плеснуть ему, но тот закрыл чарку ладонью и мотнул головой.
— Не надо вашей, горькой, — пробормотал, икая. — Бедные вы, бедные!
— Чего мелешь, полудурок? — цыкнул на пропойцу Хабаров.
Распахнулась тесовая дверь, вошел тобольский казак от новой власти, Курбат Иванов. Важный и кочетоглазый, строго оглядел сидевших, небрежно поманил полового, стал громко выговаривать, чтобы слышали все:
— Указом воевод наших — зерни и блядни по кабакам не держать. Кто начнет ночами из своих подворий ходить и ночевать безвестно и рухлядь какая новая объявится в ночных приносах, с тех сыскивать строго!
— Не тебе нам об этом говорить, сын блядин! Кто ты на Лене и кто мы? — выкрикнул Хабаров.
Курбат не снизошел до склоки, бросил на него снисходительный взгляд и повернулся, чтобы выйти.
— Не ругай бедного, — всхлипнул пропойца. — Он много чего государю выслужит, а наградят батогами. Забьют до смерти! — Пьянчужка икнул, дрогнув всем телом, слезы покатились по воспаленным щекам. — Бедные вы, бедные!
— Ты хоть знаешь, с кем сидишь, полудурок? — прикрикнул на него Хабаров.
Тот мотнул головой и качнулся, едва не соскользнув с лавки.
— Знаю только, что сейчас вы рядом, — указал глазами на Ивана Москвитина, — а скоро друг в друга из пушек стрелять будете. И ты, — поднял больные глаза на Хабарова, — за все свои заслуги великие помрешь в нищете и долгах!
— Кто я — тебе безвестно, а то, что когда-нибудь помру, — знаешь? — стал забавляться Ерофей.
— Да! — кивнул пьянчужка. — На печке помрешь, в чине сына боярского, в долгах и бедности.
— И с чего же, дурак, мне, промышленному человеку, дадут средний чин? — расхохотался Ерофей.
— Не знаю! — изумленно уставился на него пропойца, снова икнул, смахнул со щек слезы.
— На печи, говоришь, да еще на своей — это хорошо! — повеселев, расшалился Ерофей.
— Почто вам такая награда за все ваши труды и муки? Один только отойдет к Господу возле родины, в разрядном атаманстве, в славе и достатке. А намучается-то, не приведи Господи! — скользнул воспаленным взглядом по Стадухину и затряс плечами, будто сдерживал рвавшиеся рыдания.
— Почем знаешь? — неприязненно процедил Москвитин, шумно вдыхая после выпитого.
— Открылось вдруг, — опять содрогнулся пропойца. — И тебе не будет награды…
Про Москвитина знали многие в остроге и сочувствовали ему. Слова пьяного Ивана не удивили.
— И про меня открылось? — спросил Пантелей Пенда со щербатой улыбкой в белой бороде.
— Открылось! — кивнул ярыжка. — Найдешь свою землю и слезами ее окропишь, яко Иов тела сыновей своих.
Перевел глаза на Попова, но тот замахал руками:
— Ступай с Богом! Не надо мне твоих слов.
— За то и выпьем! — хохотнул Хабаров. — Ладно, до самой старости доживу, наверное, и помру не от голода.
— Эй, гуляка! — окликнул ярыжку Семен Шелковников. — Долго ли мне в целовальниках ходить?
Пьянчужка неспешно обернулся к нему, мигнул, блеснув размытой, мутной слезой, ответил со всхлипыванием:
— Последний день! В казачьем чине город заложишь на краю земли и помрешь там.
— Тьфу на тебя! — выругался и перекрестился Семен.
— Не ошибся! — громче захохотал Хабаров. — Все когда-нибудь помрем. Или я вечный? — спросил со скоморошьей строгостью, думая, что тот уже забыл, о чем пророчил.
— Нет! — все так же печально пролепетал пьяный. — На печке отойдешь к Господу, в своей деревеньке.
— Слыхали! — Забавляясь, Хабаров с важностью обвел собравшихся смешливыми глазами.
С другого края стола на пьяного с любопытством поглядывал Семейка Дежнев, но никак не мог поймать его скользящий взгляд, а сам заговорить не решался. Стадухин глядел на ярыжку строго и важно, до вопросов не снисходил, уверенный, что напророченное одному из сидевших разрядное атаманство и достаток — это его, Мишкина, судьба.
Время шло, разговора, которого ожидал Попов, не получалось. Впрочем, и того было достаточно: Пантелей Демидович с ним не останется, а мог бы быть передовщиком в его ватаге. Ясно было и то, что со Стадухиным он, Федот, со своим товаром неведомо куда, да еще на лошадях, не пойдет. Федот накрылся шапкой и тихо вышел из кабака.
«Спаси Бог друга Семейку, что надоумил выменять добрый коч! — с благодарностью подумал о Шелковникове, крепче утверждаясь в решении плыть дальше. — А зимовать придется в Ленском».
Уже на другой день на усовский стан пришли приставы от воевод за Семеном Шелковниковым.
— Слава Богу! Вспомнили! — обрадовался целовальник усть-кутский солеварни и бросил в сторону лопату, которой долбил яму под землянку в промерзающем берегу. Усовские приказчики и своеуженники готовились к зимовке, он помогал им, ожидая, когда о нем вспомнят в съезжей избе.
Осенние дни коротки. Возле острога и на берегу реки еще в сумерках начинали стучать топоры да заступы. Возле острожных дымов и костров сновали озабоченные делами люди, расширяли стены, копали ров, ставили надолбы для защиты от конницы. В двадцати верстах выше по течению реки, на другом берегу Лены по указу Головина закладывался новый государев острог, за один только казенный прокорм там уже строили третью тюрьму и пыточную избу.
К вечеру на усовский стан пришел пристав, сказал Федоту Попову, что Семейка Шелковников посажен в тюрьму и просит передать парку с меховым одеялом. Федот завернул в одеяло каравай хлеба. На душе было тревожно, и позавидовал он Михею Стадухину с его четырнадцатью казаками и промышленными людьми, которые уходили в неведомый край. Покрученников Михей не брал. Все его казаки и промышленные уходили своим подъемом, в большинстве одалживаясь у торговых людей. Немногие расплачивались за снаряжение мехами, добытыми в прежнем походе. Все богатство добытое Пантелеем Пендой за семь лет скитаний, было потрачено им на сборы и все равно не хватило десяти рублей ходовых денег. Старый промышленный тоже выдал на себя кабалу.
Лука Сиверов торговал на пару с Емелей, племянником Федота Попова. Веселый, рыжий, рот до ушей, он зазывал покупателей одним своим видом. Народу же возле острога становилось все меньше, и это тревожило торговых людей. Четыре сотни служилых, прибывших с воеводами, как-то незаметно растеклись по зимовьям и улусам. При гарнизоне их оставалось меньше полусотни.
Перед самой шугой по выстывавшей реке с густой, тягучей водой после многолетнего плавания в Ленский острог вернулся казак Иван Ребров. Он открыл морские пути на Оленек и Индигирку — те самые, на которых прежде него побились суда многих неудачливых промысловых ватаг. Спасшийся в таком походе торговый человек Епифан Волынкин был в большой вере у главного воеводы и уверял, будто морем на восход пути нет, что там круглый год льды. Теперь, после возвращения Реброва, Волынкин говорил, что Ивашке правил черт или водяной дедушка. Но купцы и торговые люди почитали Реброва за святого. Его рассказы о морских и речных скитаниях, о народах по ту и другую сторону от Лены собирали по пол-острога слушателей.
Наконец река, поскрежетав шугой, салом и отдерными льдинами, встала. Из ближайших улусов то и дело возвращались служилые, ходившие за ясаком. Новости, которые они привозили, настораживали. По их рассказам, среди ясачных якутов появились признаки смуты. По слухам, ходившим среди приострожного сброда, воевода Головин приказывал казакам, отправляемым в улусы, переписывать ясачных мужиков, их сыновей, рабов-боканов и скот, которым якуты владели. Старые казаки, служившие на Лене со времен Бекетова и Галкина, узнав об этом, предрекали от переписи бунты и воины. Когда заговорили о признаках смуты, их выборные люди пошли к воеводам.
Головина в старом Ленском остроге не было. Казаков встретили воевода Глебов и письменный голова Бахтеяров. Они подтвердили, что Головин по царскому указу отправил служилых переписывать якутских мужиков, боканов и скот. Старые казаки стали собирать круги и, дождавшись возвращения Головина, отправили к нему выборных людей, среди которых были уважаемые всеми Иван Ребров и Родька Григорьев. Воевода-стольник посмеялся над их опасениями, заявив, что якуты одного имени его боятся и не посмеют бунтовать. Казаки стали убеждать его отложить перепись на другое время, поскольку нынче есть приметы к шаткости. Не только старые казаки, но и преданные воеводам якутские князцы-тойоны Логуй и Ника говорили, что у якутов ум худ, переписи они боятся. Но Головин вдруг рассердился, стал кричать, что здесь, на Лене, одна правда — его, и выгнал всех. А Родьку Григорьева, говорившего больше других, пообещал вразумить кнутом: бунты, дескать, ты сам и заводишь…
С каждым днем все крепче становились холода, все плотней сгущались тучи на низком небе. Как-то само собой получилось, что торговые и служилые люди перестали обращаться к воеводе Матвею Глебову, к дьяку Филатову и к письменному голове Бахтеярову. Без всяких указов главным в правлении воеводством стал Петр Петрович Головин, при нем стали выдвигаться письменный голова Василий Поярков да сын боярский Алексей Бедарев, давно и незаметно служивший на Лене. Вдруг стали входить в силу и другие неизвестные прежде служилые: Васька Скоблевский, Данилка Козица. Среди торговых людей всеми делами стал заправлять гусельниковский приказчик Михей Стахеев. С ним торговые мирились по прежним заслугам, но не могли понять, какого рожна получили неограниченные права, заняли лучшие места в торговых рядах Епишка Волынкин и Матвей Ворыпаев. Все воеводские дела стали вершиться только через их людей: как они нашептывали Головину, такие решения он и принимал.
Но даже их, воеводских ушников, пугали новости из улусов. Возвращавшиеся оттуда служилые говорили, что якуты стали заносчивы и непослушны, будто нынче мирятся между собой непримиримые прежде роды. Много слухов было о приближении к острогу левобережных племен. Но Головин никому не верил, считая доклады служилых кознями старых казаков, Матвея Глебова и черных попов. Приезжавших в острог якутов он велел кормить и поить по-прежнему, те точней и подробней доносили о сговоре сородичей против казаков, о нападении на промышленных людей, но и они не могли убедить воеводу Головина не спешить с исполнением царского указа о переписи. От советов окружения главный воевода отмахивался, дескать, в мыслях своих все ясачники думают об измене, но боятся.
Вопреки общим опасениям, на Рождественской святочной неделе он стал заводить пиры при съезжей избе. За них платили приглашенные, а не явиться нельзя было без наказания или отмщения. Гости веселили воеводу: по его указу дрались на деревянных мечах, напивались до беспамятства, а после, обласканные Головиным, шлялись по острогу, бражничали, избивали неугодных и опальных.
Лука Сиверов, как змей на сковороде, крутился среди ушников и обласканных и как-то умудрялся оставаться в стороне от неугодных, не выходя в доверенные люди. Худо-бедно, но он торговал и зимовал с прибылью, а Федот Попов уединился на стане, во всем полагаясь на него и племянника.
Беда не заставила себя ждать. В острог стали возвращаться побитые переписчики с вестями о бунтах в улусах. Обозлившись на казаков, объединялись прежде воевавшие между собой якутские роды и племена. В начале второй Святочной недели послухи и очевидцы прискакали с вестью, что восставшие уже в трех верстах от Лены с войском до тысячи человек. Торговые люди спешно переносили товары за частокол. Среди студеной ночи, когда от холода с грохотом трескался лед реки, караульные казаки кликнули: «Сполох». В ворота острога уже колотили пятками и громко вопили под стенами торговые, промышленные и работные люди. Воеводы, письменные головы, казаки вышли на стены и увидели, что острог окружен заревом костров.
Срочно стали считать людей, способных к обороне, провели смотр гарнизона. При остроге оказалось всего сорок служилых, три десятка торговых и промышленных людей. Во время смотра Головин стал кричать, что якутская измена учинилась из-за Матвея Глебова и Евфимия Филатова, которые учили якутов бить служилых людей и целовальников, грабить и бежать на дальние окраины воеводства. В пособничестве Глебову он прилюдно обвинил своего исповедника черного попа Симеона и черного дьякона Спиридония. За черных попов вступился было сын боярский Григорий Демьянов. Головин ударил его чеканом по голове, велел подручным отстегать служилого батогами и отволочь в тюрьму. К утру в ту же тюрьму был брошен письменный голова Еналий Бахтеяров со всей семьей.
Осаждавших действительно было до тысячи всадников, вооруженных луками и пальмами. Ни они, ни осажденные не решались нападать первыми. Но якуты с каждым днем теряли силы: их кони перекопытили землю вокруг острога и доедали остатки сухой травы. На их станах стала разгораться прежняя межродовая усобица. Через неделю из собравшегося войска не осталось и половины. В очередной раз перессорившись между собой, нападавшие стали разъезжаться по улусам, надеясь самостоятельно защититься от казаков. Зарево костров за стенами острога уменьшалось на глазах.
Головин торжествовал и еще ожесточенней продолжал следствие над неугодными. Под домашний арест был взят дьяк Филатов. В пыточной избе перед креслом главного воеводы на поперечной балке висел с вывернутыми руками Семен Шелковников. Сквозь спутанные волосы и бороду глаза его угольями жгли стольника, а тело уже не содрогалось от кнутов Василия Пояркова.
— При Хабарове на солеварне с выварки соскребалось по полтора пуда соли, при тебе по пуду, — в десятый раз пытал целовальника воевода. — Кто тому подстрекатель: Хабаров или Бахтеяров?
Семен скрипел зубами, с ненавистью глядел на воеводу и молчал, трижды ответив перед тем, как при нем делался соляной рассол.
— Значит, дьяк Филатов?
— Семейка Чертов, за кружку браги брал треть варки! — просипел целовальник, шепелявя разбитыми губами.
— Огня ему под живот! — закричал Головин. — Смеяться над государевым стольником?..
За острогом из стана осаждавших ушли последние тойоны, бросив безлошадных бунтовщиков. Кто не успел убежать — тех переловили служилые. По приказу главного воеводы они и промышленные громили якутские крепости по улусам, вели в острог пленных. Выбрав лучших из них, Головин велел для устрашения повесить на надолбах два десятка мятежников, других бил кнутами, допытываясь, кто из служилых подстрекал к бунту. Тела умерших от пыток повесили рядом с казненными. Бунт был подавлен. Головин ласкал верных ему тойонов, продолжал дознание среди служилых, торговых и новокрестов. Тюрьмы были переполнены.
Острог притих. Промышленные люди обходили его стороной, торговали только те, кто был в вере у главного воеводы: Матвей Ворыпаев, люди купцов Василия Гусельникова, Василия Шорина, Кирилла Босова. На удивление Федоту Попову, в их числе как-то держался Лука Сиверов. Еще до осады острога бывшие в немилости торговые люди сговорились со вскрытием реки плыть в низовья Лены. Купец Андрей Дубов строил, а Федот Попов имел коч. Вокруг них стали объединяться торговцы помельче. Опальный мореход Иван Ребров примкнул к ним, возмущаясь, что после семи лет воли на дальних службах полгода отдыха в Ленском остроге оказались для него тюрьмой. После осады и расправы над бунтовщиками Дубов, сумевший не провиниться в глазах главного воеводы и его ушников, сходил на поклон и выпросил наказную память торговать и промышлять на Оленеке под началом служилого Ивана Реброва.
Федот Попов предполагал зарабатывать на всем: торговать, промышлять рухлядь и ловить рыбу на продажу. Тут между ним и младшим приказчиком Лукой Сиверовым произошел тихий разлад. Лука желал торговать при остроге, а со временем надеялся возить сюда рожь. Приказчики поделили товар купца Усова и бывшие у них деньги. Попов взял на себя три четверти, Сиверову досталась четверть. При рукобитье они составили грамоту, что с купцом Усовым каждый держит расчет по отдельности. Отпускную грамоту Федот Попов получил от таможенного головы Дружины Трубникова и с нетерпением ждал, когда очистится река, чтобы спустить на воду свой добротный коч, груженный товаром на тысячу двадцать пять рублей. С Федотом уходили в плавание племянник Емелька Степанов, пять прежних своеуженников и двадцать три покрученника, набранные из гулящих людей, готовых идти хоть к чертям за их меднокаменные ворота, лишь бы подальше от воеводской власти.
Едва сошел лед, три купеческих коча под началом Ивана Реброва были готовы к отплытию. Последнюю новость из острога принес Андрей Дубов. Он ездил звать попа для молебна, но вернулся один. Воевода Головин засадил под домашний арест стольника Глебова, дьяк Филатов из домашнего ареста был брошен в тюрьму. Все черные попы и дьяконы сидели там же, службы в церкви прекратились, и только на крестины или отпевание усопших приставы приводили из тюрьмы закованного в цепи иеромонаха, который делал свое дело, погромыхивая железом. Торгово-промысловому отряду Ивана Реброва пришлось идти в плаванье без молебна о благополучном отплытии.
Федот Попов плюнул в сторону острога и выругался. Река, на которую он попал в молодости одним из первых русских людей, степенно понесла его коч в полуночную сторону, к Студеному морю.
3. Великий Камень
Той осенью, когда из-за указа о переписи ясачного населения начиналась очередная ленская смута, Михей Стадухин ушел к восходу от Алдана на неведомую реку. В прошлом туда самовольно откочевал род ленских якутов, за ними был послан казак Елисей Рожа с небольшим отрядом. Его люди встретили пограбленную ватажку торгового человека Ивана Свешникова, от нее узнали, что якуты и тунгусы в среднем течении Алдана убили тридцать пять служилых и промышленных, в устье Маи еще двенадцать. Казаки не отважились идти дальше и вернулись, Елисей Рожа, оправдываясь перед воеводами, просил полсотни служилых для нового похода. Тут начальные люди острога и вспомнили про Мишку Стадухина с его непомерным желанием отправиться в неведомый край, а он ухватился за намек о дальнем походе, как таймень за наживку, и заглотил ее до самых кишок.
— Обещаю в казну сорок соболей добрых! — дал посул в съезжей избе.
— Мало! — сморщил нос Бахтеяров. — Одни только вожи того стоят. Меньше сотни явить никак нельзя.
Лукаво поглядывая на казака и посмеиваясь, Еналий намекал, что нимало потрудился перед воеводами, расхваливая Михея.
— Сто так сто! — согласился Стадухин и сник, торопливо соображая, сколько же их надо добыть, чтобы отдать посул и расплатиться за снаряжение.
Его не смутило и то, что воеводы позволили взять в поход всего четырнадцать казаков и только своим подъемом. Получив дозволение на сборы, он вспомнил об Арине и на миг ужаснулся, что вынужден бросить ее среди незнакомых людей. Но неведомое и заветное так манило, что душа казака пела и ныла одновременно. Оставлю жену Герасиму: брат есть брат, решил он, не смущаясь их прежней связи. Но Герасим с Тархом, узнав, что старший идет в дальний поход, стали проситься с ним: один торговать, другой промышлять. Не взять их Михей не мог, и в суете сборов мысленно оправдывал себя, что все казачки ждут мужей со служб, Арине это не впервой. Останься он при остроге — все равно пропадал бы месяцами, за одно только жалованье разбираясь с обычными тяжбами якутов и тунгусов об угоне скота, разбое и межродовых обидах. А из дальнего похода можно вернуться богатым, построить дом. К тому же венчанная жена — не девка-брошенка, останется на его хлебном и соляном содержании. И все же мучила казака совесть, язвила душу.
Хоть бы и на дальнюю службу, а желавших идти на неведомый Оймякон, оказалось не так много. Из отряда Елисея Рожи не пошел никто. Михей позвал Ивашку Баранова с Гераськой Анкудиновым, проверенных в совместных службах, но те отговорились, что собираются на Яну с сыном боярским Власьевым. С Василием Власьевым Михей встречался на Куте и здесь, в Ленском, при съезжей избе. Знал, что воевода Головин проездом через Казань прибрал его в полк и Власьев с большим отрядом ходил с Куты в верховья Лены на братов, а нынче получил наказную память идти в Верхоянское зимовье на перемену Митьке Зыряну.
— Ничего не пойму! — затряс бородой Стадухин: его товарищи не могли испугаться сказок Елисейки Рожи. — На восход от Алдана никто не ходил, а Яна давно объясачена!
Иван Баранов насупился, попинывая ичигом мерзлую землю, шмыгнул носом, Герасим Анкудинов с чего-то обозлился, сверкнул глазами.
— Тебя обманули, как верстанного придурка, — презрительно сплюнул под ноги. — Власьеву казенных коней дают, хлебный оклад годом вперед! А тебе что?
Михей долго и тупо смотрел на казаков, накручивая на палец рыжий ус, соображал, что могло их злить. Поморщившись, досадливо оправдался:
— Так ведь на неведомые земли, чтобы подвести под государя тамошние народы… Ну, ладно, не хотите на Оймякон — идите на Яну!
Из гарнизона с ним вызвались идти Ромка Немчин и Мишка Савин Коновал. Услышав про Оймякон, стали проситься половинщики: Семейка Дежнев и Гришка Фофанов-Простокваша.
— Ладно он, — Стадухин кивнул на Простоквашу, — ты-то куда, хромой?
— Что с того, что прихрамываю, от других не отстаю, — не смущаясь, отвечал Дежнев, глядя на земляка младенчески голубыми беспечными глазами. — А с тобой идти на конях, верхами. Сам сказал!
На конопатом посеченном мелкими морщинами лице не было ни заискивания, ни просьбы, дескать, откажешь — от меня не убудет, а на тебе, земляк, грех.
— Не плачьтесь потом! — отмахнулся Михей, соглашаясь взять обоих раненых в предыдущем походе.
К нему примкнули томские и красноярские казаки Ивана Москвитина: в другие места их не пускали, а строить новый острог они не хотели. Ушел бы и сам Москвитин, но сыск по делу атамана Копылова не закончился. Просился на Оймякон Пашка Левонтьев. Этот справный казак слыл на Лене за мученика от ума: он подрезал бороду и волосы, стараясь походить на святого угодника Николу летнего, в трезвости был молчалив и задумчив, всюду таскал с собой кожаную суму с Библией. Временами Пашка запивал и с причудой. Поскольку выносить вино из кабака дозволяли только по разрешению приказного, Пашка, крестя бороду, опрокидывал в рот чарку и быстро уходил в уединенное место, где разговаривал сам с собой. Таким образом, он частенько пропивался, и потому искал служб подальше от кабаков.
Мишку Савина-Коновала Стадухин знал давно. У того и в молодые годы лицо было похоже на личину, вырубленную из смолевого пня, а нынешним летом красы прибавилось: какой-то якут ткнул его пальмой и от уголка рта к уху протянулся грубый багровый рубец. Коновал бездумно должился у торговых людей, стаивал на правеже. Найти заимодавца ему было трудно, но Михей ценил его как хорошего лекаря. Казак Федька Федоров Катаев, брат небедного торгового человека, сдавленно похохатывая, спросил Михея, будто прокудахтал, не найдется ли и ему службы в оймяконском отряде.
— Почему не найдется? — вглядываясь в козьи с придурью глаза, ответил Стадухин, торопливо прикидывая, что Федька обязательно нагрузится товаром, хоть царь и не велит служилым торговать.
Этот указ обыденно нарушался, но при случае мог обернуться против атамана. Денег спутникам по походу Катаевы не дали, но Федька собирался своим подъемом. Хлебный оклад на казаков годом вперед Стадухин все же вытребовал. Еналий Бахтеяров с прежними ухмылочками напомнил про обещанных соболей и дал ему двух якутских вожей, по слухам, знавших путь на Оймякон. Они были врагами самовольно откочевавшего рода якутского тойона Увы и считались надежными.
Казаки получили хлебное и соляное жалованье на себя, венчанных жен и прижитых детей. Кроме пропитания в походе каждому нужно было по две лошади, оружие, порох, свинец, прочая справа рублей на пятьдесят. Если красноярцы и томичи кое-что имели от прежних служб, то дежневский дружок Гришка Простокваша был должником, деньги нашел с трудом и меньше, чем надо. Ромке Немчину и Мишке Коновалу торговые люди и вовсе не занимали. Чтобы поддержать их, казаки решили взять общую кабалу.
Семейка Дежнев, Пашка Левонтьев, Втор Гаврилов, Андрейка Горелый привели торгового человека Никиту Агапитова. Глядя вприщур на известного ленского казака, купец согласился дать денег по общей кабале, если к четверым просителям примкнет сам Стадухин. До весны, до Николы вешнего, давал без роста, а после — два годовых рубля с десяти. Кто вернется живым — с того спрос, перед кем кабалу выложат — тот платит. Проще было с промышленными людьми. Желающих идти на неизвестную реку было много, надежных и проверенных — мало. Помимо казаков Михей набрал из них десять охочих людей, среди которых были крепкие своеуженники.
Герасим, глядя на сборы и долги, которыми обрастал старший брат, стал сомневаться, стоит ли идти в поход, дотошно выспрашивал служилых и промышленных, как и чем можно расторговаться среди отложившихся якутов и дальних, не присягавших царю тунгусов. К тайной радости Михея, он стал склоняться отдать часть товара братьям и заняться рыбной ловлей со своеуженниками Федота Попова.
Старший Стадухин, волнуясь, хотел уже предложить Герасиму взять на себя опеку Арины, но он где-то что-то вызнал и заявил, что в Ленском ему быть — только проживать привезенное добро. Едва Тарх с Герасимом поняли, что должны взять с собой лошадей и пищали, младший опять стал донимать атамана расспросами, удивляясь непомерным ценам на здешних коней.
— Их тут больше, чем на Руси! — пытал Михея, будто подозревал в злом умысле. — Там за жеребца два с половиной аршина в холке просят два-три рубля. Здесь не кони — мохнатые карлы, голова огромная, брюхо до земли — рядятся по двадцать пять — по тридцать рублей…
— Тут пуд муки пять рублей! — не понимал замешательства брата Михей.
— Рожь, понятно, она на Лене не родится, а коней вон сколько. Вдруг где — то в улусе сторгуемся хоть бы по десять рублей?
Но старшему Стадухину было не до поиска, он носился по острогу и посаду, стараясь увести отряд до холодов. Кроме обыденных хлопот камнем лежала на сердце дума о жене: взять с собой не мог, оставить в остроге боялся. Когда Семейка Дежнев предложил поселить Арину с его женой Абакандой у якутского тестя Абачея, Михей от радости так притиснул земляка, что тот придавленно пискнул. Доля казачки — годами ждать мужа. Арина сама выбирала судьбу, но при расставании заливалась слезами, как девка:
— Год выдержу, дитя под сердцем, — прижала руку мужа к животу. Михей, погладив его, приложился ухом. Ничего не услышал. — Задержишься дольше — заведу полюбовного молодца, — пригрозила, — не гневись потом!
Стадухин поежился, посопел, признался:
— Не могу служить при гарнизоне! Судьба мне стать знаменитым разрядным атаманом с жалованьем втрое против нынешнего. Ты уж потерпи. Тебе не впервой… Хотя в Томском, наверное, было легче, — обвел глазами якутскую юрту из жердей, обложенных дерном.
Вдоль наклонных стен были устроены нары, оконце затянуто бычьим пузырем, посередине горел очаг, дым щипал глаза и уходил чрез вытяжную дыру. Юрта была соединена крытым переходом с коровником. В ней сильно пахло скотом, но запах не был приторным. Мечталось Михею, чтобы его дети явились на свет в просторной русской избе, но с первенцем, похоже, не удалось.
— Потерплю! Потерплю! — обильно присаливая его бороду, шептала Арина. — Лишь бы вернулся цел. Молиться буду!
При проливных осенних дождях вода в Алдане поднималась несколько раз и за лето смыла следы прежнего бечевника. Берег был завален вынесенным с верховий плавником. Два с половиной десятка казаков и промышленных, два якутских вожа заново торили путь для коней и медленно, как бурлаки, продвигались вверх по реке. Лошадей жалели, не перегружали, верхом ехали только якуты. Против устья Амги отряд застала шуга.
— Зимовье там было доброе! — указал за реку неторопливый, вдумчивый казак Втор Гаврилов. — Прошлый год якуты или тунгусы спалили. А то бы в баньке попарились.
Вскоре Алдан покрылся льдом, топкие берега отвердели, караван стал двигаться быстрей. Долина реки повернула на полдень, куда ходили атаман Копылов с Иваном Москвитиным. Томские казаки вспоминали свое зимовье, срубленное в устье Маи. По слухам, оно тоже было сожжено. Пантелей Пенда, невольно слушая, как спутники бранят здешних якутов и тунгусов, молчал — молчал, неприязненно щурясь, да и выругался:
— Кабы служилые меж собой не дрались, и другие народы жили бы мирно.
В общие разговоры он не втягивался, равнодушно переносил тяготы пути, не ругался для поддержки духа, не ярился, как Мишка-атаман. Присматриваясь к нему после долгой разлуки, старший Стадухин удивлялся переменам. В верховьях Лены, еще слегка выбеленный сединой, он был разговорчив, светился изнутри, прельщал слухами о старорусском царстве, скрытом в тайге, весело уходил в неведомое с Иваном Ребровым. Теперь это был седой молчун с душой, запертой на семь замков.
Счастливые ночи, проведенные с женой, не прошли бесследно: способность старшего Стадухина чувствовать опасность сильно притупилась. Если среди острожного многолюдья это было благом, то в походе пугало. Атаман выбивался из сил от настороженного волчьего сна, перессорился с доброй половиной отряда, беспричинно вскакивая среди ночи. Застав караульного спящим, бил, мешал отдыхать другим. За месяц пути Божий дар стал восстанавливаться, Михей все реже проверял караулы, стал высыпаться, его затравленные глаза начали очищаться, отпускало постоянное раздражение. Но все равно он вставал первым, а ложился и утихал последним.
— Почечуй у него в заду или что ли? — ворчали за глаза казаки и промышленные, вымещая неприязнь на Тархе с Гераськой, на атаманском земляке Семейке Дежневе.
Пантелей Демидович, слушая их ропот и ругань, долго терпел и отмалчивался, прежде чем вступиться:
— Кабы не Мишка, вас бы давно перерезали. Балует караульных, один за всех службу несет, а вы, на него надеясь, хотите Бога обмануть!
Первой пала одна из лошадей Пенды: не сдохла, но сломала ногу. Мишка Коновал ощупал ее, безнадежно шевельнул рубцом на щеке, мозолистыми пальцами погладил конскую морду. Старый промышленный без видимой скорби зарезал кобылку, мясо отдал в общий котел без платы. Но когда атаман стал распределять его груз по другим коням, начался раздор. Брать лишнего не хотел никто, а громче всех возмущались братья, жалея своих измотанных переходом лошадей. Герасим слезно отбрехивался, Тарх метал искры из прищуренных глаз, скрипел зубами, гонял желваки по скулам. Предприятие было не только государевым, но и торгово-промышленным, а где торг и прибыль, там всяк сам за себя. Промышленные люди и половина служилых, поднимавшихся за свой счет, настаивали на порядке, чтобы мясо кобылы оценить по ленским ценам и кто его возьмет, тому вести груз по тем же ценам.
Пашка Левонтьев, кого — то смешивший в будничной суете похода, кого-то беспричинно сердивший, лежал в кукуле — мешке из оленьего меха, обнаженной лысиной к огню, до споров и распрей не снисходил, душевных разговоров не вел, но, полистав раскрытую Библию, поучительно изрек густым голосом:
— «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха» — Полистал еще, не найдя ответа, как делить мясо и груз, перекинулся к костру боком, захлопнул книгу и положил себе под голову.
— Что сказал мир — то благословил Бог! — поддакнул Михей, благодарный Пашке за поддержку. Не желая противиться соборному решению, выругался: — Жрать скоро станем врозь, каждый из своего котла!
Старый Пенда бросил на него сочувственный взгляд и сказал, что дарит мясо в общий котел, а за перегруз заплатит соболями. Михей сжал зубы, ниже опустил голову: братья своим молчанием принимали унизительное предложение. Лошадей берегли все — они достались дорогой ценой, но требовать плату за помощь товарищу ему было стыдно. На другой день он стал жаловаться Пантелею на нынешние нравы, с тоской вспомнил времена войн при атаманах Бекетове и Галкине, когда все были за одно и всякий защищал товарища как самого себя, делился последним. А нынче даже неловко встречаться с тем же Ярком Хабаровым, с которым голодал в осаде и ходил на прорывы.
Пантелей, придерживая перегруженного коня в поводу, безучастно отвечал:
— Давно ты не был на дальних службах. Люди сильно переменились. От бесхлебья или от богатства, которое легко дается, оскудели душами: нынче кабальный кабального кабалит и ищет себе во всем выгод.
Михей разразился новой бранью, но старый промышленный с отрешенным лицом повел коня под уздцы и не проронил больше ни слова осуждения или согласия.
Когда не пуржило, на восходе из-за увалов едва не к полудню выползало холодное солнце с розовыми кругами вроде ушей. Ветер наметал острые снежные заструги под заломы и торчащие льдины. Наконец, якутские вожи указали устье речки, впадавшей в Алдан с восточной стороны. Берега ее были покрыты густым ивняком, по которому вести лошадей трудней, чем по бурелому. Речка вывела на каменистое, обдутое ветрами плоскогорье, которому, казалось, и конца нет. Здесь лошади пошли быстрей, а ночью хорошо выпасались, наедаясь сухой травой.
День убывал. На ночлег становились рано, долго обустраивали стан на холодной земле. Среди карликовых берез и стланца собирали много хвороста, подолгу жгли, прогревая неприветливую землю. Луна окольцованная радужным сиянием, серебрила равнину, вытягивая длинные тени. Подступы к табору хорошо просматривались, караульные, сидя спинами к огню, мучительно боролись со сном.
— У нас леса! — укладываясь на войлочные потники, вспоминал Семейка Дежнев, поглядывая на Стадухиных, взглядами призывал их в свидетели. — По Сибири тайга, не то что здешняя мертвая пустошь! Сюда, наверное, и волки не забредают. Какая тут рухлядь? — Подразнивал атамана, будто тот обещал ему богатство и легкую зимовку.
— Есть зайцы, куропатки! — хмурясь, обрывал беспутные разговоры старший Стадухин. — Дальше, к восходу, — вскинул бороду на вожей в парках — санаяхах, — говорят, есть головной соболь.
Будто в насмешку, в пяти шагах от костра из-за камня выскочил заяц, заверещал, заходясь лешачьим хохотом, прижав к спине уши, помчался во тьму. Не дождавшись погони, остановился, поднялся на задние лапы, заманивая в ночь. Мишка Коновал, кривя рваный рот, поднял лук, пустил в него тупую стрелу. Заяц подпрыгнул, вскрикнул младенцем, задрыгал длинными задними ногами. Герасим принес его и стрелу. Мишка одним рывком корявых пальцев содрал шкуру, насадил тушку на прут, стал печь на углях.
Михей тоскливо наблюдал за братьями из-под прищуренных век, то и дело ловил на себе их укоризненные взгляды: куда, мол, ты нас завел? Озирая бескрайнюю равнину слезящимися глазами, иной раз начинали роптать и бывалые казаки. Из-за дороговизны ржи взяли ее втрое меньше нужного по енисейским меркам, надеялись на подножный корм, но здесь и зайцы с куропатками были редкой добычей.
Верст триста отряд шел горной пустыней. Оголодав, казаки и охочие решили зарезать самого слабого коня. Таким оказался мерин Герасима. Брат соглашался, что животина со дня на день сдохнет и придется скверниться падалью, но когда указали на нее, стал торговаться.
— Режьте! — приказал Михей, нахлестывая плетью по ичигу. Сдерживая гнев, отвел младшего в сторону, обругал, но вразумить не смог.
Казаки и промышленные навязчиво расспрашивали якутских проводников о местах, куда они вели отряд, но те и сами не знали, есть ли в тамошних реках рыба, а в лесах зверь, слышали только, что скот выпасать можно. Им было известно от сородичей, что за плоскогорьем — ручей, бегущий летом встреч солнца. По нему ход на реку Оймякон.
— Раз якуты ушли туда с Лены, значит, места благодатные, — утешали себя путники.
Наконец, начался спуск в долину. Чаще встречались лиственницы в руку толщиной, среди них много сухостойных, дававших хороший жар в кострах. Выбеленная снегом трава была выше, чем на плоскогорье. Якутские вожи уверенней повели отряд вдоль промерзшего ручья по желтой обдутой ветрами долине. Время от времени они останавливали лошадок и к чему — то прислушивались.
Холода крепчали. В эту пору в Ленском остроге даже пропойцы не выползали из землянок без шубных кафтанов, здесь стужа была еще злей. В день явления иконы Казанской Божьей Матери промышленные и служилые сотворили утренние молитвы, очистили ноздри лошадей ото льда и ради праздника сидели у костров дольше обычного. Пашка Левонтьев, шмыгая носом и часто мигая слипавшимися ресницами, по слогам читал Новый Завет. Русские и якутские люди с молчаливым почтением слушали его и оглядывались на коней с заиндевевшими мордами. Над ними курился пар, значит, в полную силу холода еще не вошли.
Хворост вокруг табора был собран и выжжен, надо было двигаться дальше. Отдав возможное празднику, все ждали атаманского приказа собираться в путь. Но старший Стадухин медлил, всматриваясь в причудливое облако, ползущее с низовий. Его не торопили, наслаждались теплом догоравших костров, жались к огню, монотонное бормотание Пашки убаюкивало. Никто, кроме атамана, не желал ни высматривать облако, ни вдумываться в смысл Завета.
Якуты лежали с таким видом, будто никуда не собирались идти. Непоседливый атаман окликнул их. Только после третьего подзыва они поднялись, переваливаясь с ноги на ногу, пастушьей походкой, подошли. Стадухин указал вдаль. Сощурив глаза в щелки, якуты долго глядели, куда таращился «башлык». Наконец, старший, с волосатым подбородком и выбеленными инеем усами, разлепил смерзшиеся губы:
— Скот гонят!
К ним подошел Пантелей Пенда в волчьих торбасах и волчьей парке, шитой на сибирский манер вместе с шапкой, молча встал за плечом атамана, всмотрелся, прошепелявил в обледеневшую бороду:
— Скот! Но чудно как-то.
— Не пасут, на нас гонят! — уверенней добавил вож.
Стадухин крикнул, чтобы люди ловили и грузили коней. Скот могли гнать только якуты, упорно вытеснявшие тунгусов с их промысловых угодий. Из-за этого между ними были постоянные войны с перемириями для торговли и обмена пленниками. В здешнем краю добывали руду, плавили и ковали железо одни только якуты, а нужда в нем была у всех.
Вскоре из студеного облака выскочил всадник на приземистой мохнатой лошадке и снова пропал. Затем показались быки, идущие впереди стада. Скорей всего, кочевал тот самый якутский род, что самовольно ушел с Лены, не выплатив ясак. Промышленные и служилые вьючили коней и собирали по стану последние пожитки, а Михей с Пендой и вожи все стояли и разглядывали долину.
— Похоже, гонят их всех! — буркнул в бороду Пантелей, резко развернулся и кинулся ловить своего коня. Якутские вожи, опасливо переминаясь на коротких ногах, впервые на пути от Ленского острога в один голос стали поторапливать атамана:
— Собираться надо, башлык!
— Идите! — отпустил их Стадухин, обшаривая глазами округу в поисках удобного места.
Предчувствие не обмануло его. Из пара, висевшего над стадом, выскочили два оленных всадника, пронеслись возле бычьих морд, размахивая длинными луками. Они явно пытались завернуть скот в другую сторону или повернуть вспять.
— Держи огонь! — сипло приказал Стадухин. — Готовь ружья!
Стрелки грели стволы, от углей костров зажигали трут, фитили держали за пазухой в сухих местах. Завьюченные кони, хоркая заледеневшими ноздрями, двинулись навстречу стаду и вскоре были замечены приближавшимися людьми. На запаленном коне к ним поскакал якут с пальмой в руке. Разворачиваясь в полусотне шагов, прокричал:
— Помогай хасак! — Повернул в обратную сторону и пропал с глаз в хмари, где уже виднелись головы равнодушно идущих быков и очертания носившихся вокруг них конных и оленных всадников.
— Пантелей Демидыч! — окликнул старого промышленного атаман. — Бейся с охочими по левую руку, я с казаками уйду вправо, — махнул, указывая место. — Надо пропустить скот и задержать тунгусов.
Пенда кивнул, услышав его. Герасим с Тархом потянули своих коней в другую сторону. Михей гневно взглянул на них, но прогонять братьев было поздно. На низкорослых мохнатых лошадках якуты отгоняли наседавших тунгусов: стреляли в них из луков, размахивали рогатинами, громко кричали. Нападавшие верхами носились на оленях и ловко пускали стрелы между ветвистых рогов.
Чем ближе подходило стадо, тем отчетливей виделось, что происходило вокруг него. Около сотни пеших и конных якутов, баб с детьми, отступали, обороняясь. Тунгусов было больше, они мельтешили на оленях, как мухи возле тухлого мяса. Казаки дали залп, ослепив себя пороховым дымом. Едва он рассеялся, Михей увидел, что урон нападавшим нанесен небольшой.
Неожиданно появившиеся казаки только удивили тунгусов грохотом пищалей. Те, что были ближе, отхлынули, но вскоре опять напали на якутов. Пантелей Пенда заставил одного из промышленных отогнать груженых коней, сам с шестью товарищами дал залп с другой стороны пади. Привычные к огненной стрельбе якуты победно закричали, пешие побежали к казакам, конные носились вокруг сбившегося в кучу скота, загоняя его между служилыми и промышленными. За стадом сколько хватало глаз лежали туши побитых коров и бычков. Тунгусы отступили на полет стрелы и съехались в толпу. Их разгоряченные олени гулко клацали рогами и громко хоркали. В центре что — то кричал и размахивал руками мужик в меховой парке, украшенной бубенчиками. Его густые распущенные по плечам волосы черными волнами свисали по груди и по спине.
— Главного надо убить! — просипел Семейка Дежнев.
Его пищаль почему-то не прострелила заряд во время залпа. Он положил ствол на костыль, с помощью которого шел, тщательно прицелился, выстрелил. Рассеялся дым. Длинноволосый мужик, прежде сидевший на олене, теперь стоял на ногах и все так же размахивал руками, ругая или призывая к чему-то своих сородичей. У ног его дергался, скреб землю рогами и копытами раненый олень. Семейка резко вскрикнул. Стадухин подумал — от досады, приказал, чтобы готовили ружья к новому залпу.
Тунгусы были одеты по — разному: одни в меха, другие в кожаные халаты поверх меховой одежды. Выслушав длинноволосого, всадники развернули оленей к стаду и во весь опор ринулись на якутов, а те, разъяренные боем, бросились им навстречу, защищая женщин и детей, торопливо бежавших к русичам. Стадухин помахал им, приказывая открыть простор для стрельбы, и дал еще один залп по рогатой лаве.
Пока казаки перезаряжали ружья и рассеивался пороховой дым, якуты беспрестанно пускали стрелы в сторону противника. Грохотали ружья промышленных на другой стороне ручья. Оттуда тоже доносились победные якутские крики. Под боком атамана снова завопил Дежнев. Последний скот прошел мимо казаков. Разгоряченные всадники спешились, закрыли собой брешь между русскими отрядами. Тунгусы, отступив, носились на оленях потревоженным ульем, кружили на месте. Михей обернулся к стонавшему Семейке Дежневу с лицом залитым кровью. Казак выдернул изо лба стрелу с костяным наконечником, приложил к ране пригоршню снега, закряхтел и закорчился от боли. Вторка Гаврилов, опасливо оглядываясь, вспарывал ножом его штанину. Из нее торчала другая стрела.
— Ну и везуч земляк! — выругался Михей, заряжая пищаль. Немеющие от холода пальцы едва ощущали тепло ствола.
Тунгусы снова развернулись лавой, стреляя на скаку, с криками ринулись на промышленных. Прогрохотал новый залп. Едва рассеялись клубы дыма, якуты вскочили на лошадок и яростно погнали врагов.
Михей Стадухин наконец — то осмотрелся. Многие из его казаков были ранены, убитых не было. Тунгусские стрелы достали Герасима с Тархом: один со стонами баюкал руку, другой зажимал плечо окровавленной ладонью. Их кони с торчавшими из боков стрелами кружили на месте, вставали на дыбы и громко ржали, разбрасывая поклажу. Вместо того чтобы пожалеть раненых братьев, Михей в сердцах обругал их:
— Пенду бросили, коней не отогнали, не положили на землю… Титьку вам сосать, а не промышлять.
Раны у братьев и у казаков были неопасными. Больше всех досталось Семейке Дежневу.
— Раззява! — обругал его Михей.
— Судьба такая, — морщась от боли, необидчиво просипел казак.
— Вертеться надо, а не пялиться на стрелков, — сгоряча поучал атаман, сверкая живыми глазами в обметанных инеем ресницах. — Ваше счастье, что у тунгусов костяные наконечники.
Отведя на них душу, он побежал к отряду промышленных людей. В окружении толпы якутов те разглядывали как диковинного зверя длинноволосого тунгуса в парке с бубенцами, того самого, который распоряжался вражьим войском. Локти пленного были связаны, со спутанных, забитых снегом волос по лицу текли ручейки и застывали сосульками, грудь пленника часто вздымалась. Якуты кричали на него, плевались, промышленные не подпускали их.
— Кто взял? — кивнув на ясыря, спросил Пантелея Стадухин.
— Я высмотрел, послал двоих, как только под ним убили оленя. Они пробились вместе с якутами. А кто руки вязал — не знаю. — Пенда протер разгоряченное лицо сухим снегом, блеснул помолодевшими глазами: — Однако, кабы не якуты, нам бы не отбиться!
Гнавшие тунгусов всадники вскоре вернулись на запаленных лошадках, привезли трех раненых врагов, мешками бросили их с коней, с печалью сообщили сородичам и казакам, что в бою побито полтора десятка коров и бычков.
Пришлось разбить новый стан неподалеку от старого. Мишка Коновал вынимал наконечники, чистил раны, присыпал их выстывшей золой с погасших костров. Михей Стадухин с Пантелеем Пендой бросили седла у занявшегося огня, с важностью приняли якутского родового князца Уву. Тот, оборачиваясь к проводникам, сказал, что на них напали тунгусы с реки Момы и еще какие-то ламуты из-за гор, незнакомого племени. А якуты никому вреда не чинили, просто выпасали скот. Люди Увы оказались тем самым якутским родом, за которым воеводы послали казаков на Оймякон. Михей не стал стыдить и ругать беспрестанно благодарившего его тойона, не пытал, зачем бежали, напомнил только про ясак и велел выдать его вдвое, с чем Ува согласился, снял с себя соболью душегрею и протянул Стадухину в поклон.
— «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых», — изрек Пашка Левонтьев с таким видом, будто был всем судья, похлопал рукавицей по суме с Книгой и присел на корточки у костра.
С ним никто не спорил, но слышавшие его неприязненно умолкли и засопели. У Пашки и в остроге не было близких друзей. Прежний белый поп при встречах с ним багровел и метал глазами искры, с первых служб его невзлюбили прибывшие с Головиным монахи, которых Пашка прилюдно корил за какое — то несогласие.
— Запишу в ясачную книгу, в поклон царю! — хмурясь, оправдался атаман.
Старший из вожей, немного говоривший по-русски, строго поглядывал на тойона и уже беззлобно ругал его за былые обиды. Ува с благодарностью кланялся вожам, просил казаков зимовать поблизости, а весной обещал уйти на Лену. Он ничуть не сомневался, что тунгусы вернутся, чтобы отбить своих пленников.
— Мы под них выкуп возьмем! — Михей снова оглянулся на важно восседавшего шамана. — Молодцы! — одобрил промышленных. — Я боялся, не удержитесь. Мои-то вас бросили, а гнать назад было поздно. — Отыскал глазами Тарха с Герасимом. Якуты уже поймали их раненых лошадей, успокоили, распрягли, умело вытащили наконечники из-под шкур.
Устыдившись невольного гнева, Михей вернулся к братьям, миролюбиво приказал Герасиму со смерзшимися слезами в пухе юношеской бороды:
— Подь сюда, покажи, как окровянили.
Герасим высвободил руку из рукава, с обидой показал брату рану.
— Царапина! — перекрестил ее Михей и густо присыпал золой. — Лишь бы отравы на стрелах не было. К ночи почуешь.
Тем временем якуты лечили раненых по-своему: зарезали подстреленного бычка, вынули из него внутренности, а в теплое парящее брюхо положили раздетого мужика, который от потери крови уже не открывал глаз, лишь постанывал с синюшным лицом. Другие везли к стану разделанное мясо убитого скота и оленей, варили в котлах, пекли на углях грудинки, печень, мозговые кости. Сюда же возили хворост и обряжали убитых для ритуального костра. Затевался пир: праздничный, по случаю победы, и одновременно погребальный.
— Оймякон где? — выспрашивал беглого тойона Михей.
Тот указывал в низовья долины, говорил, что места там бесплодные: соболей и лисиц нет, холода лютые, зато снега по верховьям речек нет и хорошо выпасать скот.
— На Лене лучше было. Зря ушли, — сокрушался. — Весной вернемся, будем платить ясак и жить по царскому закону. Думали, здесь никого нет, а тут и тунгусы, и урусы. Нет уже мест, где можно жить спокойно.
— Какие урусы? — насторожился Михей, слегка напугав тойона.
Тот стал путанно рассказывать, что видел на Оймяконе остатки русского стана. Судя по следам, промышленные люди пошли на реку Мому.
— Что за река? Куда течет? — стал нетерпеливо выпытывать атаман.
Казаки и промышленные, бросив дела, придвинулись к ним.
— Как Оймякон! — Ува махнул рукой на север, стал оправдываться, что сам там не был, но слышал от тунгусов.
— Кто бы мог быть? — Стадухин обернулся к Пантелею. — Поярков говорил, в эту сторону никого не пускали.
Старый промышленный мотнул головой, показывая, что ничего не знает. Михей уставился на тойона, тот, вздыхая и почесываясь, опасливо пожаловался:
— Там якуты воюют между собой. — Повел носом на закат. — Холопят друг друга, грабят, здесь тунгусы и ламуты, урусы везде ясак требуют. Возле острогов хотя бы не воюют, не грабят.
Пантелей Пенда усмехнулся, пролопотал скороговоркой:
— То наши друг друга не грабят: чуть отъедятся — поедом жрут один другого!
— На то и царь, — нравоучительно изрек Стадухин, — чтобы дать всем закон, мир и порядок!
Старый промышленный, глядя на пламя костра, презрительно хмыкнул в седую бороду. Втор Гаврилов, молча и внимательно слушавший говоривших, обернулся к Андрею Горелому, спутнику по москвитинскому походу:
— Якуты говорили про разных тунгусов: мемельских и приморских — ламских. Этот не из тех ли, что были на Улье? — указал глазами на длинноволосого.
— Похож! — согласился красноярец. — Одет иначе.
Стадухин, услышав их, перевел взгляд с одного на другого, стал выспрашивать тойона про тунгусов в кожаных халатах. Их среди пленных не было. Вторка с Горелым тоже заговорили про всадников в кожаных халатах.
— Похожи на ламутов из-за Камня! Может быть, здешние аргиши* (пути, проторенные оленями и людьми) ближе тех, которыми мы ходили?
Вечером тяжелораненого якута вытащили из выстывшего брюха бычка. Его лицо порозовело, ресницы запавших глаз стали подрагивать. А к русскому стану прибежала молодая якутка с ужасом в лице, глаза ее казались закрытыми, глубоко запавшими, как у покойницы, рот разинут. Она кинулась к Пантелею Пенде, мертвой хваткой вцепившись в его парку, спряталась за спиной. К русскому стану смущенно подошли два якутских мужика, потоптавшись на месте, попросили вернуть женщину: ей надлежало сгореть на костре вместе с убитым мужем.
— Кто пожалеет бабенку и выкупит? — спросил спутников Пантелей, не пытаясь отодрать якутку от парки. — Мне дать нечего.
— А что они хотят? — смешливо покряхтывая, отозвался Федька Катаев из круга притихших казаков и промышленных. Он вел трех лошадей и все были целы, имел при себе ходовой товар.
Пантелей переговорил с якутскими мужиками, потом с вожами.
— Топор, четыре пригоршни бисера, ведро муки на поминальные лепешки. За выкуп отдадут женщину в вечное холопство.
Федька переглянулся с Герасимом.
— Дорого? На Лене молодую ясырку можно купить дешевле.
— Заплати! — стыдливо попросил Тарх Герасима, поскольку якуты мотали головами, не желая торговаться, а Федька — платить по их требованию.
— На кой она тебе? — проворчал младший, но, взглянув на лицо якутки, пожалел ее, со вздохами пошел за бисером и мукой.
Едва он отсыпал оговоренное, женщина отцепилась от Пенды, бросилась к нему. Герасим застонал от боли свежей раны и толкнул ее Тарху. Она поняла и крепко ухватилась за рукав среднего Стадухина.
В ночи якуты сложили ритуальный костер. Две пожилые женщины покорно взошли на него. Сухих дров было мало, огонь долго чадил, старухи кашляли, но не кричали. Скорей всего, они угорели, надышавшись дымом, потому что не издали ни звука, когда занялся большой огонь. Утром, разворошив головешки и угли, якуты выбрали черные тела, срезали с костей несгоревшее мясо, бросили в кострище, а кости сложили в мешок.
Еще раз плотно подкрепившись, люди тойона Увы погнали стада в обратную сторону, а десять якутских всадников с заводными лошадьми остались возле стана, чтобы разделать убоину. Этого мяса должно было хватить всем. Тойон некоторое время оставался с казаками, хотя аманатить его Михей не собирался, потому что бежать ему было некуда. К тому же тунгусы могли вернуться, и без помощи казаков удержаться против них якуты не могли. Ува просил атамана поставить зимовье поблизости от выпасов. По его словам, там он спрятал четыре сорока соболей и с радостью отдаст их в казну.
Семейка Дежнев, и прежде прихрамывавший, теперь передвигался на двух палках. Один из его коней был убит, идти пешком он не мог. У Гришки Простокваши были прострелены руки. Из-за ран пришлось зарезать другого коня Герасима, просить людей отряда и якутов взять на своих лошадок стадухинский товар. Удача обходила пинежцев: прибыли от торга и промыслов не было, а убытков уже хватало. Казаки и промышленные люди хмуро поглядывали на атамана: немилость Божья к отряду настораживала их, а то, что вышли живыми с беспокойного Алдана и отбились от тунгусов, за удачу не принималось.
Михей Стадухин решил не дожидаться, когда тойон привезет обещанные меха, но с ним, с двумя казаками и Пантелеем Пендой поехал в места выпасов с брошенными юртами. Ни птиц, ни зверя, ни следов живности не встречалось на побелевшей равнине — вокруг была мертвая земля с редколесьем из карликовых берез и кривых лиственниц толщиной в конское копыто. Но ертаулы случайно вышли на многолюдный тунгусский стан. Людей и оленей здесь было втрое меньше, чем при нападении на якутов, и все равно много для одного кочевья. Это была часть войска. Стадухин вопрошающе взглянул на старого промышленного с обледеневшей бородой. Пенда пробормотал сквозь смерзшиеся усы:
— Заметили. Станем убегать, догонят и убьют. Надо идти послами!
Красноярские казаки Втор Гаврилов с Андреем Горелым, покряхтывая от стужи, согласились, что иного пути нет и следом за Стадухиным и Пендой направили своих коней к враждебному стану. За их спинами рысил на жеребчике тойон Ува. Навстречу им выехали оленные всадники, молча окружили и сопроводили до чумов. С достоинством победителей казаки, Пантелей и Ува спешились. Михей указал старому промышленному, чтобы тот шел впереди: вид у него был начальственный и по-тунгусски он говорил свободно. Степенно обогревшись возле огня, Пенда стал спрашивать, откуда пришли и зачем напали на якутов. Из беседы с лучшими мужиками выяснилось, что они хотели пограбить их и освободить своих людей из рабства. Дело было заурядным: тунгусы имели рабов из якутов, а те — из тунгусов. На пути сюда встретились с ламутами — тунгусами с другой стороны гор, кочующими до моря, и объединились в один отряд. Но те после боя спешно ушли, оправдываясь, что по большому снегу путь через горы непроходим. Послы предложили побежденным дать посильный ясак и помириться с якутами.
— Впредь платите только нам, — сказал Пантелей. — Мы ваших соболей передадим царю, а он прикажет своим людям защищать вас от врагов.
Посоветовавшись, мемельцы выдали два десятка соболей и два половика, сшитых из собольих спинок. Это был не выкуп за трех ясырей и не откуп за нападение на якутов, но они сказали, что другой рухляди нет, обещали добыть и привезти весной. Собравшиеся на стане роды были бедны. Только один чум владел железным котлом, остальные пекли мясо и рыбу на углях или варили в глиняных и деревянных горшках, бросая в воду раскаленные камни. И все же мир был налажен. Их люди верхом на оленях сопроводили всадников до русского стана и забрали своих пленных. От ясыря с длинными волосами по имени Чуна они отказались, как от чужака сказали, что он — ламский шаман.
— Вот те раз! — удивился Втор Гаврилов. — А одет как алданский.
Герасим и Федька Катаев, увидев послов, закрутились возле них, предлагая товар. Федька азартно приценивался к собольим лоскутам на одежде гостей. Тунгусы изумленно щупали котлы и топоры, глядели на бисер. Ничто другое их не интересовало, но и за этот товар дать было нечего.
— Дед! Скажи, пусть припомнят, где спрятали соболишек! — просил Пенду Федька. Он пытался говорить с пришлыми по — якутски, ухмылялся, по обыкновению кудахтал, размахивал руками, принужденно похохатывал. — Приезжайте для торга весной! — предлагал гостям.
Пантелей хмыкнул в бороду:
— Приедут! Не с соболями для мены, так с родней для грабежа. Ты им показал неслыханное богатство.
— Брешут, что бедны, — Федька поперечно подмигнул Гераське. — У якутов покупают железо втридорога против нашего.
Шаман Чуна, которого тунгусы не взяли, на расспросы казаков отвечал охотно, он говорил по-тунгусски, язык его был понятен Пантелею, некоторым казакам и якутам. На ночь шаману связывали руки, надевали на ноги колодку, вечерами он привольно сидел у костра, непринужденно говорил, смахивая с глаз нависавшие волосы. Его узкие немигающие глаза смотрели на окружавших по-змеиному холодно и пристально, тонкие губы были улыбчивы, что никак не вязалось со взглядом. По утрам и вечерами он протяжно пел, раскачиваясь телом, иногда просился плясать. От него ватажные узнали, что с верховий здешних рек в полуденную сторону, за горы, много проторенных путей.
— Море где-то близко! — смежив веки, вздохнул Андрей Горелый.
Красноярские казаки, поглядывая на полдень, вспоминали сыск над атаманом Копыловым и десятником Москвитиным. Кто мог знать, когда волоклись за Камень дальним и трудным путем, чем все обернется? Иные удрученно молчали, глядя на угли костра.
— Чем дальше на полдень, тем ближе пекло! — жестко посмеялся Вторка Гаврилов.
— Не бес тому виной, воеводы! — сурово глядя на угли, прошипел Мишка Коновал. Лицо его было коричневым, как кора лиственницы, на нем ярко белел рваный шрам от уголка скошенного рта к уху.
Казак сказал то, что было на уме у всех. Пантелей усмехнулся, качнув седой головой, атаман метнул на Мишку недовольный взгляд, но промолчал.
— К полуночи — море, к полудню — море, — заговорил старый промышленный. — Похоже, Великий Камень тянется среди океана на восход. А сколько, того никто не знает.
— По мне, тянись он хоть до края света, — раздраженно буркнул Втор Гаврилов. — Зарекаюсь подставлять спину за правду. Добуду кое-какое богатство, вернусь в Красноярский, напрошусь в пашенную слободу и иди она к бесу казачья служба.
— Не может того быть, чтобы чему-то не было конца! — пропустив мимо ушей сказанное красноярцем, заспорил Михей Стадухин и с пониманием взглянул на Пантелея. — Даст Бог, дойдем!
Красноярские казаки пустились в воспоминания о Ламе, в который раз пересказывая о богатствах полуденной стороны Великого Камня. Промышленные, раззадоренные их сказками, стали расспрашивать Чуну о путях к морю и племенах, живущих там. По словам ламута, его народ был многочисленным: и сидячим по избам, называвшим себя мэнэ, и кочующим на оленях — орочи. Ни те, ни другие не слыхивали, чтобы платить кому-то ясак или выкуп за пленников, а потому, за него, за Чуну, родственники ничего не дадут. И зверя в его земле множество, есть соболь.
— Заманивает, — посмеивался Михей, соскребая сосульки с рыжих усов. — Думает, прельстимся: единоплеменники нас перережут, а его освободят.
Пантелей соглашался, что ясырь так и думает, но кивал на Втора Гаврилова и Андрея Горелого, ссылался на рассказы Ивана Москвитина. Судьба десятника, небрежение воевод к его сказкам о Ламе и десять сороков дешевых соболей из одиннадцати привезенных не прельщали Михея Стадухина, мысль о том, что можно, по попущению Божьему, вернуться должником, — ужасала. Он внимательно слушал рассуждения товарищей, забывая о насущном, потом спохватывался о делах дня, допытывался у Чуны и тойона Увы, где найти лес повыше и потолще.
Якут пытался убедить ватажных, что в лесу жить опасно: враги могут подкрасться незамеченными, дерево упасть на головы, прельщал зимовкой на равнине. Отчаявшись, указал падь, укрытую с севера горами. Она была в днище пути от якутских кочевий.
Ватага казаков и промышленных людей с аманатом Чуной двинулась в ту сторону и вышла к реке, покрытой льдом. Чтобы перевезти груз и раненых, пришлось должиться конями у якутов, все, кто был в силах, шли пешком. За Тархом, переваливаясь с боку на бок, семенила якутка в мужских торбазах, с ее выстывших губ не сходила счастливая улыбка. Она восторженно озирала низкое небо, запорошенную снегом траву, не жаловалась на усталость и крепко держалась за парку промышленного. На станах женщина старалась быть всем полезной, чинила одежду, со знанием дела и с удовольствием пекла мясо.
Ватага нашла излучину застывшей речки, в которой росли высокие лиственницы. Лес был укрыт горами от северных ветров и узкой полосой тянулся вдоль одного из берегов версты на полторы. Как бы он ни был мал, зимовать здесь было приятней, чем на равнине. Ертаулы подняли на крыло куропаток, видели зайцев, но не нашли даже застарелых следов соболя. Это был Оймякон.
Тоскливо оглядевшись, Михей Стадухин стал оправдываться:
— Воеводы приказали рубить здесь государево зимовье, укрепить частоколом. — При общем молчании добавил, просипев простуженным горлом: — Укрепимся и поищем промысловых мест.
— Бывало хуже! — пробубнил Пантелей Пенда из меховой трубы, в которой укрывал лицо. Смахнув ее на плечи, огляделся, отметил, что здесь холодней, чем на равнине.
Казаки и промышленные люди выбрали бугор для зимовья, развесили на деревьях мешки с мукой, заветренным мясом, стали строить балаганы и греть землю. Михей Стадухин с топором в руке обошел лес и сделал зарубки на деревьях, которые приказал не трогать.
— Хочешь плыть по реке! — одобрительно кивнул Пантелей.
— Как знать! — уклончиво ответил атаман. — Много коней потеряли.
На новом стане закурились дымы костров, бойко застучали топоры. Чуна закричал, как раненый зверь, завыл, схватившись за голову.
— Тунгусу легче убить человека, чем срубить дерево, — пояснил Пантелей, участливо подошел к Чуне, долго говорил с ним, в чем-то убеждая.
Вернувшись, пояснил спутникам:
— Чуна просит не рубить деревья, пока не выпроводит из них души. — Вопросительно взглянул на старшего Стадухина.
— Кого их, диких, спрашивать? — возмущенно запричитал Простокваша, кивая на свои раненые руки. — Не замерзать же из-за одного дурака.
— Вот-вот! — закудахтал Федька Катаев. — У них одно на уме, как нас извести. — Обернулся к Пашке Левонтьеву: — Что там в Законе Божьем сказано?
Пашка призадумался, пошмыгивая носом, с важностью изрек:
— «Не участвуй в делах зла!» И еще: «Пришельца не обижай».
Какое — то время казаки и промышленные лупали обметанными куржаком ресницами, вдумываясь в сказанное, начали было спорить, но атаман спросил:
— Как будет души выпускать?
— Плясать, наверное, петь! Как еще?
— Пусть попляшет. Подождем! — разрешил.
Перечить ему никто не стал. Люди вернулись к кострам, присели у огонька, наблюдая за ясырем. Обходя от дерева к дереву, вытаптывая вокруг них снег, Чуна о чем-то лопотал, раскачивался всем телом, мотал долгогривой головой, и его густо выбеленные изморозью волосы трепались по плечам, как кроны на ветру. Казаки и промышленные стали мерзнуть без дела, одни жались к кострам, другие притопывали, втягиваясь в танец ламута. Якуты жалости к деревьям не имели, они всякий лес готовы были выжечь дотла, чтобы расширить пастбища, но и вожи, вовлеченные шаманом в пляску, мотали головами, дрыгали ногами, как кони, и гортанно ржали. Танец Чуны завлекал. Люди у костров сначала со смехом, потом с каким — то остервенением в лицах стали дергаться, подражая ламуту.
— Чарует! — просипел Пантелей выстывшими губами, вынул из-под парки кедровый нательный крест, навесил поверх одежды.
Стадухин стряхнул с глаз чарование, перекрестился, стал сечь одно из деревьев, от которого отдалился Чуна. Его топор звенел и отскакивал от промерзшего комля. Застучали другие топоры, и вот, со скрежетом и хрустом, завалилась на бок вековая лиственница.
Чуна упал в снег, долго лежал, как мертвый. Пантелей Пенда, воткнув топор в пень, волоком подтянул его к костру, уложил на теплый, прогретый лапник.
— Никому из вас не будет счастья! — щуря больные глаза, впервые пригрозил шаман. — Лес мстит жестоко, страшней, чем люди.
Зима разошлась во всю силу. От стужи трещали деревья и грохотал лед в реке. День был короток. Избенка из неошкуренного леса росла на глазах. Чуна бездельничал, лежал возле костра, не желая даже подкидывать щепу, только придвигался к гаснущему огню или отползал от него, когда поднималось пламя.
Долгими ночами над станом мерцали холодные звезды, ярко светил месяц — золотые рожки, высвечивая кроны деревьев в кухте. Из-под лапника и потников дышала теплом прогретая кострами земля. При свете огня черные опухшие лица спутников были похожи на звериные морды. При общем усталом молчании Пашка Левонтьев с клоком светлой оленьей шерсти в бороде монотонно, по слогам читал церковно-славянское письмо и скороговоркой повторял прочитанное просторечием. Сквозь заиндевевшие смерзавшиеся ресницы Михей смотрел на звезды, осторожно вдыхал носом колкий студеный воздух, вполуха слушал Пашку, мысленно растекался по окрестности и, не чувствуя опасности, сонно думал о неведомой земле, воле, славе, счастье. Здесь, на Оймяконе, все было не то и не так. Мысли его путались с Пашкиным чтением, среди звезд выткался неясный лик Арины, в ушах зазвучали неразборчивые слова ее молитвы.
Люди были сердиты, он это хорошо чувствовал и понимал их: подошло время промыслов, но ватага еще только рубила зимовье. Поблизости соболей и лис явно не было. Многим уже казалось, что лишь чудо поможет добыть кое — какую рухлядь, чтобы хоть как покрыть убытки. По утрам и по вечерам люди страстно молились святым апостолам Петру и Павлу, покровителям промыслов. В том был намек и укор атаману.
Только от старого Пенды не было ни похвал, ни осуждения. «То ли равнодушен ко всему, — гадал атаман, — то ли так надежно заперт?» Пантелей спокойно переносил тяготы будней и чем откровенней связчики показывали недоверие атаману, тем чаще говорил о душевном, звал идти на Ламу.
— Со слов тойона Увы, Оймякон впадает в Мому, куда она течет, никто не знает, — отговаривался Михей и чувствовал приятное волнение, которое принимал за вещий знак. — Если благополучно перезимуем и не даст Бог добычи в этом краю, построим струги, поплывем в неведомое, как Илейка Перфильев, Ивашка Ребров.
Все ждали от Пенды рассказов про удачные промыслы, скитания по неизвестным землям, но он упорно помалкивал, а при настойчивых расспросах как — то нехорошо усмехался.
— Вот бы кому язык огоньком развязать! — Покряхтывая и похохатывая, обмолвился Федька Катаев.
Пантелей выплюнул из-за щеки ягодный лист, поднял парку и подол заячьей рубахи, показал живот. Казаки и промышленные, удивленно переглянувшись, вопрошающе уставились на него.
— Спина кнутом исполосована, зато над огоньком не висел! — пояснил Пенда.
Бывальцы были наслышаны о первопроходцах, кончивших земные жизни в пыточных избах под кнутами приказных и воевод. За слухами и догадками о несказанном ими была чарующая тайна, а Пантелей Пенда был одним из ее жрецов.
— Язык наш — враг наш! — поддакнул Пашка, поглаживая кожаный переплет Библии. — Гроб смердячий!
Пылали костры, сизый дым поднимался к небу ровными воронками, от прогретой земли шел жар и оседал куржаком на одеяла. Утомленные работами, люди быстро засыпали. Якутка лежала рядом с Тархом в меховом мешке-кукуле, сквозь выбеленные инеем ресницы глядела в низкое небо и улыбалась своей новой жизни. Над ее лицом поднималось и осыпалось льдинками облачко пара.
Пашка, закрыв Книгу, которую обычно читал перед сном, втянулся в глубину оленьего кукуля. Михей Стадухин в полусне привычно растекся по сугробам, обращаясь в большое бесплотное ухо. Внутренний взор его скользнул по уродливым пням, корявым сучьям, щепе, по замершим в студеном безветрии деревьям и остановился на соболе с бьющейся куропаткой в зубах. Зверек воровато оглянулся и поволок птицу под пень. Михей приятно удивился, что лес не так уж пуст, в следующий миг услышал осторожные шаги. Промороженный снег был сыпуч и беззвучен, звуки походили на человечьи, но вместо образа идущего ему чудилась какая — то тень. «Кто бы мог быть?» — встревоженно подумал он, напрягся и в лунном серебре полярной ночи смутно увидел то ли зверя, то ли человека. Открыл глаза, скинул одеяло.
— Не враг это, спи! — пробормотал лежавший рядом Пантелей.
— Злого не чую, — прошептал Михей. — Но кто?
— Леший!
— Они спят с Ерофеина дня!
— Значит, сендушный забрел из тундры! — Пантелей высунул нос из волчьего кукуля, сшитого по-тунгусски, прошептал тверже: — Не буди людей, без того злы!
Михей лег на спину, взглянул на низкие звезды.
— А что ему надо? — спросил шепотом.
— Они же любопытные, как медведи или козы! — Старый промышленный зевнул и перевернулся на другой бок.
Придвинувшись к нему, Михей Стадухин прошептал:
— Ты тоже видишь кожей?
— Вижу! — помолчав, неохотно ответил Пантелей. — Могу в черед с тобой караулить подходы… Умаялся ты!
Опять стали смерзаться ресницы атамана. Залучились, закачались звезды, среди них ясно выступило лицо Арины, будто, как когда-то на Илиме, она смотрела на него через костер. В полусне, укрываясь с головой, он опять услышал ее голос с неразборчивыми словами. С тем и уснул. Проснулся, почувствовав себя отдохнувшим, будто высвободился из объятий жены. Бросил взгляд на небо. Была ночь, но звезды перевернулись. В Енисейском остроге в это время рассветало. Тлел костер. Свернувшись улиткой, едва не тычась носом в угли, над ними клонился Семейка Дежнев в обнимку с пищалью. Железный ствол ружья, покрытый узором изморози, розовато отсвечивал.
— Спишь в карауле? — тихо укорил Михей.
Семейка вздрогнул, обернулся.
— Не сплю, — промямлил, сглатывая слюну. — Греюсь! Околел. Всю ночь ходил, где ты указал.
Зашевелились разбуженные люди, громко зевали, с недовольным видом поглядывая на небо и атамана.
— Догреетесь в преисподней, — проворчал он, вставая. — Вот как перебьют сонных, — пригрозил.
— Так нет никого! Кому бить? — продрав глаза, заспорил Семейка, обыденно пререкаясь с земляком.
— Аманат тихонько встанет и убьет твоим же ножом.
— Я ему ноги связал хитрым узлом!
— Тьфу на вас, неслухи! — беззлобно выругался Михей, окончательно разбудив стан. — Сходи погляди, — указал кивком в сторону порубленных деревьев.
Сгреб в кучу тлевшие угли, бросил на них бересту. Она задымила, стала скручиваться, потрескивать, но не загоралась. Семейка Дежнев, оставив у костра пищаль и опираясь на палки, заковылял в указанную сторону. Поднялось пламя. С одеялами на плечах служилые и охочие стали жаться к огню. Якутка отошла на десяток шагов, набила котел сыпучим снегом.
— Сендушный приходил! — возвращаясь, дурашливо крикнул Семейка. — Нога босая, как у зверя, и кора на осинах погрызена. — Слава Богу, — перекрестился, не снимая собачьей рукавицы, — ни видели, ни слышали: встречи с ним не к добру.
— Девка у нас, — кивнув в сторону якутки, поддакнул дружку Простокваша. Он стоял в карауле перед Семейкой, потому оправдывался и за себя тоже. — Сендушный до них охоч, крадет собак и баб, а так безвредный…
Все с любопытством уставились на Пантелея Пенду, но он по обыкновению молчал, перемалывая крепкими зубами лиственичную смолу.
Строилось государево зимовье торопливо, небрежно, вкривь и вкось, из сырого леса и гнилых валежин: лишь бы пережить зиму. Щели в ладонь забивали мерзлым мхом. Накрыли сруб жердями и корой, закидали избу снегом. Частокол ставить не стали: атаман не требовал, сами укрепляться не желали. Но сразу принялись за строительство бани. Отмывшись, люди два дня отдыхали с просветленными лицами. Раненые лечились. Коновал присыпал им раны травяной трухой из мешочков.
Здоровые казаки и промышленные стали проситься на разведку промыслов. Михей отпустил сначала промышленных, потом половину казаков. Аманата Чуну держал в зимовье вольно, колодки надевал только на ночь, утром освобождал. Якутка варила и пекла мясо, радовалась, когда ее хвалили, и так ласково глядела на всех глубоко запавшими под лоб глазами, что подстрекала мужчин к похоти. Только при виде ламута на лице ее мелькала болезненная тень воспоминаний о прошлой жизни. Но и ему она не показывала неприязни, не обделяла едой.
Служилые и охочие, отпущенные Стадухиным на промыслы и проведывание новых земель, поездили по округе порознь и вскоре объединились в две чуницы под началом казака Андрея Горелого и промышленного Пантелея Пенды. На лошадях с недельным припасом ржи и мяса они отправились в верховья Оймякона. Падь, где было поставлено зимовье, на аршин завалило снегом, в избе стало теплей. Бывшие при ней кони зарывались в сугробы едва не по самые лопатки, копытили траву. Михей указал на них брату Герасиму:
— Понял, чем якутские карлы лучше русских лошадей в два с половиной аршина в холке?
Тот обидчиво шмыгнул обмороженным носом, поперечно проворчал:
— Не стоят они тех денег, что потеряли.
Братьям не повезло: из шести лошадей три пали. Но Герасим с Федькой ездили на стан к якутам, с выгодой продали часть товара. Рана младшего зарубцевалась, он стал проситься на промыслы с дружком Федькой и с казаками. Тарх, оставив выкупленную якутку на старшего брата, держался поблизости от Пенды, учился у него.
— Можешь идти с ними, только как-то не по-христиански промышлять в разных чуницах с братом, — укорил младшего Михей.
Семейка Дежнев, возившийся у очага, смешливо взглянул на молодого земляка, мимоходом встрял в разговор:
— Федька менять и торговать горазд, глядишь, вдвоем втридорога товар сбудут.
Он все еще ходил на раскорячку, сильно припадая на обе ноги, но уже без палок, работал при зимовье. Рана на его лбу зарубцевалась. Над Семейкой смеялись, что ламуты вскрыли ему третий глаз. Он тоже смеялся, устав отмаливать свое забубенное невезение, смиряясь с долей. На промыслы не просился, показывая, что калеке только и остается что топить избу.
Вскоре с заводными конями в поводу вернулись двое промышленных и приволокли по льду застывшей речки тесаную лесину с длинными обрубками сучьев. Отогреваясь возле очага, жаловались, что намучались с ней в пути. Эту колоду велел тянуть к зимовью старый Пенда, по его словам, из нее должна получиться хорошая основа для шитика. Михей понял, что, прельщая спутников походом на Ламу, Пантелей Демидович непрочь сплавиться по неведомой реке. Со слов вернувшихся, по ту сторону гор было теплей, но снега больше. Там водился соболь. Люди Пенды и Горелого рубили станы, спешно секли кулемники по ухожьям.
Разошлась по промысловым местам и вторая чуница. В зимовье со старшим Стадухиным остались хромой Дежнев, безрукий Простокваша, заумный Пашка Левонтьев, якутка и аманат Чуна. Пашка стоял в караулах, днями рубил дрова, все свободное время читал. Все слушали его и молчали, убаюкиваемые монотонным голосом. Напрягая морщины между бровей, чутко прислушивался к чтецу Чуна. И только якутка с отрешенным видом, лежала на нарах и чесала брюхо.
Михей попытался добыть одного-единственного соболя, крутившегося возле лабаза, делал все как все, может быть, даже лучше. Но соболь либо не шел к его клепцам, либо вытаскивал приманку. Стадухин втайне злился на него, хитроумного, и на себя самого. Против одного юркого зверька выставил десяток ловушек, и все зря: одни захлопывались пустыми, с других пропадала приманка или соболь к ним не подходил. Атаман сдался, пожаловавшись земляку на неудачи в промысле. Семейка Дежнев, ковыляя, обошел путик, поставил и насторожил все по-своему, через неделю принес придавленного соболька и ободрал при тоскливом молчании Стадухина.
В марте потеплело. На обдутых ветрами равнинах и холмах быстро таял редкий снег, выпасы желтели прошлогодней травой. После полудня по долине реки сугробы становились вязкими, а по ночам покрывались крепким настом. Подъехать к зимовью на конях было невозможно, но на оленях или собаках под утро подойти могли. Караульные спали, когда им казалось, что снег непроходим.
В это самое время на зимовье набрела ватажка промышленных людей из восьми человек. Оставляя после себя глубокий лыжный след в отопревшем рыхлом снегу, они подошли к жилью на десяток шагов и с изумлением уставились на дым. Выскочившие из избы казаки были поражены встречей не меньше, чем пришельцы. Те и другие, постояв друг против друга с разинутыми ртами, разом заголосили, выспрашивая, кто они такие и откуда взялись?
Раздвинув Семейку с Пашкой, вперед вышел Михей Стадухин, велел прибывшим сбросить лыжи и войти в зимовье.
— Кто передовщик? — спросил.
— Я! — Отозвался скуластый, как ерш, муж со шрамами обморожений на лице. — Енисейский промышленный Ивашка Ожегов.
Как и спутники, одет он был по-тунгусски. Скинув башлык, обнажил голову с длинными спутавшимися с бородой волосами. Ответив атаману, захлебисто закашлял. Набившись в зимовье, гости развязали кожаные узлы на одежде, разделись. Черными неуклюжими потрескавшимися пальцами Ожегов достал мешочек, вытряхнул из него отпускную грамоту енисейского воеводы Веревкина, дозволявшего промышлять соболя по Олекме.
— Как здесь-то оказались, да еще пришли с восхода? — строго спросил Стадухин, предъявив наказную память от воевод Головина и Глебова.
Гости притихли, заговорили почтительней.
— Неудачно промышляли зиму на Олекме. Весной переволоклись через гору, построили струги, поплыли по неведомой речке. В низовьях узнали, что зовется Амгой, а промысловые места заняты енисейцами и мангазейцами. Переправились через Алдан, шли встреч солнца, промышляли неподалеку отсюда — две недели ходу. Речка там, под полночный ветер. Оголодали и решили выбираться в Ленский острог.
Хотя пришлых было вдвое больше, чем зимовейщиков, а Семейка Дежнев и Гришка Простокваша еще не оправились от ран, гости с опаской и предосторожностями показали добытые меха.
— Негусто! — разглядывая связанные бечевой сорока, посочувствовал Стадухин. — А соболя добрые, головные. Такие в Ленском по рублю.
— По рублю нипочем не дадут, — улыбаясь, заспорил Семейка Дежнев. — Обязательно сбросят по полуполтине. А у вас есть рухлядь без хвостов и пупков.
Ожегов торопливо собрал меха в мешки.
— До Ленского еще добраться надо.
— С таким богатством, — Семейка окинул их добычу смешливым взглядом, — наедитесь ржаной каши с коровьим маслом и пойдете в покруту.
По приказу Стадухина он выложил перед гостями каравай оттаянного хлеба. Выпекали его по уговору только на субботы и воскресенья. Рыбы в промерзшей реке не было, по нужде привычно сквернились в пост зайцами и куропатками. Муку, как водится на промыслах, берегли. Передовщик кочующей ватажки отщипнул кусочек от краюхи, благостно пожевал, за ним потянулись к хлебу другие. Поев, покидав в рот последние крошки, Ожегов степенно ответил Семейке:
— Это уж как Бог даст! Порох, свинец истратились, неводные сети перервались. Перед уходом из зимовья тушки соболей варили — экая гадость… Волчатина после соболятины, прости, Господи, ну очень вкусна.
— Нам тоже удачи нет, — сочувствуя пришлым, пожаловался Стадухин. — Наказ воевод выполнили, но рухляди не добыли и теперь хотим искать новых земель, распускаем лес, со дня на день заложим шитик и со льдом поплывем на реку Мому. Слыхали?
Переглянувшись, гости не ответили, только удивленно посмотрели на Михея.
— А мы слыхали! Нас всех с вами, будет добрая ватага. Дорога дальняя, край неведомый, лишние люди не помешают.
— Что хотите с нас? — настороженно блеснул глазами и снова закашлял скуластый передовщик. — Покруту?
— Со дня на день вернутся с промыслов казаки и промышленные. Соберемся, решим! А пока помогите строить судно, сторожить зимовье и аманата, — кивнул на равнодушно слушавшего гостей ламута.
Горелый с Пендой и промышленными людьми вышли к зимовью на той же неделе. Все были живы. Кроме мехов они привезли мешок мороженых соболей, которых собрали на обратном пути, забивая клепцы. По грубой прикидке, добытая рухлядь вместе с неошкуренным мешком не покрывала долгов большинства казаков и промышленных. Пантелей обрадовался, что народу прибавилось, стал уверенней зазывать на Ламу, в места москвитинского зимовья, но идти туда напрямик через горы, путями, известными аманату Чуне.
Михей Стадухин еще надеялся, что ламуты привезут выкуп за пленного. Если нет, то соглашался навестить их, пограбить в отместку за прошлогоднее нападение на якутов. Но не больше: все понимали, что другой зимы в этих местах не пережить. Не было на Оймяконе человека, кому бы так же, как ему, не терпелось вернуться в Ленский острог. Но, наверное, никто другой так не страшился вернуться должником. Кони отряда паслись в якутских табунах, за них не беспокоились. Не будет в них нужды, якутские мужики отгонят на Лену вместе со своим скотом и долгов убудет.
Втор Гаврилов, спутник Ивана Москвитина, угрюмо прислушивался к разговору, в котором и Михей, и Пенда то и дело ссылались на него и Андрея Горелого, сам же помалкивал.
— Да скажи что-нибудь! — вспылил атаман.
Втор вздохнул, расправил бороду:
— Меня уже наградили за Ламу: по сей день спина чешется. Что же я буду другой раз напрашиваться?
Сторонникам похода за Великий Камень возразить казаку было нечем. Умолк и старый промышленный, свесив белую бороду. Семейка с Гришкой Простоквашей шкурили привезенных соболей, им охотно помогала якутка.
По обычаю старых промышленных тушки надо было сжигать при общем молчании, но народа в зимовье так прибыло, что сделать это с честью Семейке с Федькой не удавалось и они зарывали ошкуренных соболей в снег. Михей Стадухин неподалеку от того места вытащил из плашки задавленного зайца и беззаботно шел к зимовью с добычей в одной руке с топором в другой. Вдруг в пяти шагах от него поднялся медведь, торопливо дожевав ошкуренного соболя из дежневской хованки, уставился на атамана. Мгновение человек и зверь пристально глядели друг на друга, Михею показалось, что он узнал того, который подходил к нему с Ариной на Илиме и Куте, которого спас от убийства на Лене. Но медведь так отощал, что под свалявшейся шерстью угадывались ребра: видно, поднялся из берлоги давно и бедствовал без кормов. Окинув его сочувственным взглядом, Стадухин бросил мерзлого зайца. Зверь, на лету, схватил его, с хрустом сгрыз, снова уставился на человека голодными глазами, и казак почувствовал, что для исхудавшего медведя он — продолжение съеденного. Не сводя с него глаз, зверь стал приседать перед броском.
— Чего удумал? — Михей отвел в сторону топор, готовясь защититься. И в этот миг за спиной раздался такой пронзительный вопль, от которого он невольно скакнул, обернувшись спиной к медведю. Чудно раздув шею и щеки, кричал Пантелей Пенда. Краем глаза Михей увидел, как зверь шарахнулся в сторону. Обернулся — он убегал.
— Зачем подставляешься? — на глубоком вдохе прерывисто спросил Пантелей.
— Да вот, бес попутал! — смущенно пожал плечами Михей.
— Бывает! — согласился старый промышленный. — Хорошо, я был рядом. В нем одних костей и жил пудов десять. Задавил бы.
— Что ты ему сказал? У меня до сих пор в ушах звенит.
— Чтобы проваливал!
— Что за язык такой чудной?
— Чандальский!* — неохотно ответил Пантелей. — Скажи Семейке, чтобы не бросал тушек возле зимовья.*(по поверьям промышленных людей XVII века, чандалы — древнейший сибирский народ, впадающий зимой в спячку) Слегка сутулясь, старый промышленный пошел к зимовью. Помахивая топором, Михей догнал его, спросил полушепотом:
— Ты и с чандалами знался?
— С кем только не знался, — досадливо огрызнулся Пантелей. — Не верь никому! Особенно людям и медведям!
В апреле на открытых местах лесного берега речки появились проталины. В полдень припекало солнце. К зимовью приехали на оленях родственники Чуны. Пять мужиков в кожаных халатах, с черными, лоснящимися от солнца лицами спешились на противоположном, открытом берегу и по мокрому льду переправились к жилью. Полтора десятка сопровождавших их сородичей остановились там же, сложили на землю луки с колчанами стрел. Послы безбоязненно подошли к караульным, их обыскали, подпустили к зимовью, показали живого аманата с колодкой на ноге.
— Здоровые черти! — буркнул Горелый, оглядывая гостей. — Один к одному тамошние сонинги.
Ламуты принесли три пластины, сшитые из собольих спинок. Выкуп не мог быть так мал, можно было понять, что это подарок в поклон. Стадухин ждал, решив, что гости будут торговаться за шамана, за побитый якутский скот, за раны русичей и убитых якутов. Пантелей Пенда сидел в темном углу, переводил строгие глаза с одного посла на другого. Пашка Левонтьев со звучным хлопком закрыл Библию, ламуты вздрогнули, обернувшись к нему, оглядели углы избы и попросили разрешения говорить с Чуной. Атаман обернулся к Пантелею за советом.
— Не нравится мне что-то! — пробормотал тот. — Добавь-ка людей на охрану!
— Там десятеро! — пожал плечами Михей, но выслал из избы еще пятерых.
И тут с другого берега невскрывшейся речки послышались якутские крики «Ур!..Ур!» Безоружные ламуты вскочили с мест, отбиваясь от казаков, кинулись к двери, перепрыгнули через сидевших снаружи, побежали к оленям. Караульные дали по ним три нестройных выстрела. Как оказалось, фитили были запалены только у них. Когда рассеялся пороховой дым, ламуты уже мчались на оленях на расстоянии полета стрелы. Чуна в деревянной колодке бежать не пытался, но по его лицу было понятно, что родичи сказали ему что-то важное.
Прискакавшие по проталинам якуты спешились, скользя ногами по сырому льду, переправились с конями через реку в то время, когда Михей Стадухин орал на своих и раздавал тумаки. Это были вожи, отпущенные им зимовать с единокровниками. Они сказали, что ночью ламуты напали на станы Увы, перебили много коней. Возмущенные зимовейщики, забыв споры и обиды, хотели преследовать врагов по горячим следам.
— Погодите! — крикнул Пантелей, удерживая рвущихся в погоню. — Если их всего сотня, как говорят якуты, то они пришли освободить Чуну, а коней били с умыслом. Побежите для мщения, они вернутся и отобьют шамана. Думать надо!
Стадухин властно окликнул людей, тряхнул за шиворот непослушных крикунов, велел накормить якутов.
— Горелый! Бери под начало промышленных людей и двух служилых. Возьмешь свинца, пороху, остатки толокна, пойдете к якутам, защитите их, соединитесь с ними и преследуйте ламутов как умеете. Ловите лучших мужиков, требуйте выкуп сколько дадут. — обвел строгим взглядом слушавших его людей: — Главным будет Андрейка. Во всем слушаться его и Пантелея Демидыча. Я с казаками жду вас здесь. Будем строить коч, караулить Чуну и якутский скот. Не вернетесь к Николе, пошлите вестовых, а то мы уплывем, куда Бог выведет.
Отряд из двух десятков промышленных с двумя казаками, Андреем Горелым и Втором Гавриловым, ушел вверх по Оймякону. Тарх увязался с ними, Герасима Михей не отпустил, оставив при себе. Впрочем, младший и не рвался за Камень. На быстрое возвращение отряда никто не надеялся. Конным догнать оленных всадников по насту, лежавшему по ложбинам, было делом невозможным: олени с широкими раздвоенными копытами не проваливались, как кони. Горелый и Пенда соединились с двадцатью якутскими всадниками и повели всех на реку Охту, где, по слухам от Чуны, еще не было русских людей.
Весна уже явно теснила зиму. Промерзавшая до дна речка, томясь подо льдом, пробивалась из щелей и трещин, в полдень журчала ручьями. У ее берегов появились широкие пропарины, но рыба в них не ловилась, не было даже ее запаха. Якуты, опасаясь новых нападений, пригнали свои стада ближе к зимовью. И они, и казаки питались мясом убитых коней. Стадухин с казаками и промышленными людьми поспешно строил коч из подручного леса, ждал вестей от Горелого, но их не было. Якуты тоже ждали возвращения лучших мужчин, без них боялись удаляться от зимовья, хотя по первой зелени трав им пора было кочевать в обратную сторону к Ленскому острогу.
В мае, на Еремея-запрягальника, речка наконец-то очистилась от льда, бесилась и пенилась весенним паводком. В этот день вернулся отряд Андрея Горелого. Все были живы, ранены двое — он сам и ожеговский промышленный. К их седлам были приторочены мешки с сухой рыбой и рыбной мукой.
— А мы, вас ожидаючи, совсем оголодали, — признался атаман.
Андрей Горелый со Втором Гавриловым сошли с низкорослых лошадок, затоптались на месте, разминая ноги.
— Как якуты? — спросил атаман.
— Все живы! — неохотно ответил Горелый, мотнул головой и устало поморщился. — Только нас ранили.
Зимовейщики топили баню, варили заболонь и корни, обильно приправляя их привезенной рыбной мукой. Прибывшие не спешили рассказывать, где были, что видели: разговор предстоял долгий. Пока грелась вода и калилась каменка, они с любопытством разглядывали судно, обшитое тесаными досками.
— Добрая ладейка! — неуверенно похвалил Пантелей Пенда. В сказанном был намек, что плоскодонный коч маловат для ватаги.
Стадухин стал было оправдываться, что из здешнего леса невозможно сделать больше того.
— Надо бы нос и корму накрыть: все-таки от волн защита, в дождь можно обогреться и просушиться. — Придирчиво обстучал борта старый промышленный. Люди, бывшие с ним по ту сторону гор, сдержанно хвалили работу плотников.
Наспех срубленная зимой изба светилась щелями и не могла вместить всех. Ясным вечером, переходящим в светлую ночь, ватага сошлась у костра. Втор с Андреем Горелым сняли с бани первый пар, бок о бок сели на колоду. Казаки — зимовейщики ждали от них подробного рассказа. Привезенный с Охоты мех — три десятка плохоньких, коричневых соболей, пара пластин сшитых из спинок, был осмотрен и ощупан. Выкуп за Чуну не взяли.
— Бога прогневили, что ли? — вздыхали, печалясь невезению.
Немногословный Втор Гаврилов больше помалкивал, говорил Андрей Горелый, его связчики глядели на пламеневшие угли и поддакивали.
— Ламуцких мужиков на Охоте кочует множество. Не обманул Чуна, — указал на ухмылявшегося аманата.
Тот без цепи и колодки вольно сидел у костра как равный.
— Ездят на оленях тропами давними, пробойными, кони по ним идут легко. Соболя и всякого зверя там много, реки рыбные, — увлекаясь, заговорил громче. — Лис хоть палкой бей. По следу глядеть — волки с ними живут мирно, рядом ходят. Все сыты.
— На Улье тоже рыбы много, но не так! — степенно поддакнул Втор.
— Правду говорил Чуна, — Горелый опять кивнул на заложника. — Есть ламуты сидячие, живут в домах, селами, что наши посады. Припас у них рыбный: юкола, икра, рыбная мука в амбарах, с осени в зиму рыбу в ямы закладывают. Железо у них — редкость: копейца и ножи костяные, топоры тоже костяные, бывает, каменные. Бой лучной, это вы видели. Лихо носятся на оленях, аманатить себя не дают.
— А сидячих что не брали?
— Как где ни покажемся — мужики, старики, дети бегут в лес и упреждают соседей. Врасплох их не взять. А если варят рыбу из ям — к селению не подойти от вони: лучше броней защита. Что удалось собрать по пустым избам, то привезли. Другой рухляди не было.
— Не дошли устья Ульи, где зимовали с Ивашкой Москвитиным? — нетерпеливо спросил атаман.
— Не дошли! — согласился Горелый, тряхнув пышной, промытой щелоком бородой. — По всем приметам, недалеко были. Но близко к морю собралось ламутское войско сотен в семь, стреляли по нам со всех сторон и принудили повернуть в обратную сторону.
— А бородатых мужиков видели, про которых Ивашка говорил? — с любопытством поглядывая на Пантелея Пенду, спросил Михей Стадухин.
Казаки и охочие люди, вернувшиеся из похода, сконфуженно обернулись к старому промышленному. Пантелей закряхтел, прокашлялся, будто проснулся, и равнодушно ответил:
— Видели боканов. Иные на тунгусов походят, другие на братских людей, только бороды гуще… Ты вот что, — встрепенулся, обращаясь к атаману. — Нас родичи Чуны преследовали до самых верховий Оймякона. Могут ночью напасть на якутов и на зимовье. Надо выставить крепкие караулы и помочь отогнать скот к Алдану. Без нас ламуты не дадут им кочевать.
Видимо, Пантелей сказал главное, что было на уме у всех вернувшихся. Они громко загалдели, перебивая друг друга. Одни оправдывались, другие кого — то ругали, а Михею чудилось, будто в чем-то укоряют его.
— Наверное, Чуна прошлый раз предупредил сородичей, чтобы не давались в аманаты? — спросил, с подозрением уставившись на пленника.
Глаза ламута сомкнулись в тонкие щелки, губы расплылись в самодовольной усмешке, он понял, о чем речь.
— Мы за Камнем так же думали, — признался Горелый.
— Зачем? — удивился Стадухин, пристально глядя на аманата.
— Одного выкупят, потом будут многих выкупать! — медленно, членораздельно ответил Чуна на сносном языке, чем удивил всех так, что у костра долго стояла тишина.
— Вот те раз! — хмыкнул в бороду атаман и прикусил рыжий ус. — Заговорил?
Короткой и светлой майской ночью казаки выставили караулы со всех сторон. Тарх Стадухин с десятью промышленными отправился на стан к якутам. Пантелей не ошибся. Ранним утром, когда головы бодрствующих становятся непомерно тяжелыми, Михей почувствовал хорканье оленей и ярость, волной накатывавшуюся на зимовье, сбросил одеяло, поднял спавших.
— Семейке с Простоквашей оставаться! Ты — старший! — бросил Дежневу. — Головой отвечаешь за аманата. Ворвутся ламуты, живым не отдавай! — Подхватил заряженную пищаль, первым выскочил из зимовья. Глухо и грозно шумела весенняя река. Уныло пищали комары.
В это время потяга воздуха нанесла на Втора Гаврилова, чутко дремавшего в дозоре, запах оленей. Он раскрыл слипавшиеся глаза и увидел на пустынном месте странное мельтешение. Втор тряхнул головой и разглядел рогатые головы людей. Под его рукой тлел трут. Казак запалил фитиль пищали и на всякий случай пальнул по яви или по утреннему мороку. Еще не рассеялся пороховой дым выстрела, к караульным подбежали отдыхавшие в зимовье, тоже стали стрелять. Вскоре донеслись отзвуки выстрелов с якутского стана. Ламуты не ждали караулов так далеко от зимовья и еще не успели спешиться. Обстрелянные, они развернули оленей и поскакали вспять. Явных признаков боя не было. Михей обежал ближайшие секреты. Втор Гаврилов, стоя в полный рост, забивал в ствол новый заряд.
— Палил картечью! — Обернулся к атаману: — Должен переранить оленей и людей! — Положил ствол на сошник, подсыпал на запал пороха из рожка, стал всматриваться. — Явно слышал человечьи вопли.
Стадухин проломился сквозь кустарник, вернулся:
— Двух оленей убил. А людей нет! Похоже, похватали и увезли.
Со стороны якутских выпасов раздался новый залп, потом все надолго стихло. Из розового тумана над увалами выглянул край солнца, желтый луч стрельнул по равнине. Стадухин оставил в дозоре троих, остальных отпустил досыпать.
К полудню от якутов пришли посыльные, сказали, что утром отбили два приступа. Все их люди были живы, скот цел. Тойон Ува, дождавшись своих молодцов с Охоты, готовился к перекочевке. Михей Стадухин хотел отправить с ними Дежнева и Простоквашу, дескать, им в обычай выходить с казной. Но те уперлись, не желая возвращаться, их паевых мехов не хватало, чтобы расплатиться с долгами. Смешливый половинщик, услышав атаманский наказ, вдруг напряженно замолчал, глаза его сузились в острые щелки, лицо окаменело трещинами ранних морщин, в следующий миг он метнул на атамана такой непокорный взгляд, что Стадухин с недоумением рассмеялся и выругался: «Решайте сами, кому возвращаться или кидайте жребий!»
Со словами: «Не будет с вами счастья!» самовольно вызвался идти на Лену остроносый и застенчивый, но прожиточный казак Дениска Васильев. Семейка тут же успокоился, подобрел, заулыбался, стал дурашливо жаловаться:
— Покойникам и тем радостней лежать в здешней мерзлоте, чем жить на белом свете больному да хворому.
Стадухин, посмеиваясь резким переменам в его лице, стал писать челобитную воеводам и благословил Васильева на возвращение с оставшимися ватажными конями.
4. Соперники
Разбушевавшийся Оймякон с таким рокотом перекатывал по дну камни, что люди у воды кричали, чтобы услышать друг друга. По наказу атамана ертаулы сходили в низовья и вернулись озадаченные: расширяясь, река оставалась такой же бурной. На сходе ватага спорила: сплавлять коч по большой воде до проходных глубин — страшновато, ждать, когда река войдет в берега, — невмочь. Атаман намеренно ни к чему не принуждал, ожидая соборного решения.
— Мало голодали? — со скрытой насмешкой съязвил Пантелей. — Поголодаем еще. Вода упадет, будем поднимать ее запрудами и парусом, безопасно потянемся по камням…
— Нет уж! — возмущенно рыкнул Коновал. Рубец на коричневой щеке побагровел, драная губа задергалась. — Хаживал по мелям, знаю! Сплетем веревки покрепче и, как Бог даст, сплавимся по большой воде!
Ватажные загалдели, большинством поддержали казака.
— Как скажете! — согласился атаман. — Что мир решил, то Богу угодно!
Пришлая ватажка Ивана Ожегова захотела присоединиться к его людям и попытать счастье на неведомых землях. При предстоящих трудах их руки были нелишними. Из березовых корней, конских хвостов и кож казаки и промышленные наплели веревок, с молитвами столкнули в бурлящий поток тяжелое плоскодонное судно и бесившаяся река замотала его как щепку.
Все понимали, что хлебнут лиха при сплаве, но надеялись, что это продлится недолго. Спускать и протягивать коч через буруны приходилось едва ли не на карачках. Веревки то и дело рвались, ломило кости от студеной воды, в которую часто окунались и влезали по пояс. Атаман, сам мокрый, отводил душу на нерадивых, те ругали судьбу. И только Чуна невозмутимо лежал в мотавшемся суденышке, беззаботно глядел в синее небо с ясным солнцем, чесал длинные волосы костяным гребнем. Иногда в опасных местах среди бурунов и камней он вскакивал, начинал плясать и петь, призывая в помощь прямивших ему духов.
— Где правда? — глядя на него и выстукивая дробь зубами, скулил Федька Катаев, которому за нерадение часто доставалось от Стадухина. — Мы надрываемся, а ясырь бездельничает.
Спутники сопели, кряхтели, но не отзывались — принуждать аманатов к работам было не принято.
В очередной раз спустив судно до тихой заводи, люди попадали от усталости, надрывно сипели, хрипели, а Федька вдруг громко захохотал. Кудахчущие смешки были у него в обычай, а такой редок.
— Он чего? — удивленно приподнялся на локте скуластый передовщик приставшей ватажки.
Его связчик Ивашка Корипанов дышал захлебисто, грудь под мокрой кожаной рубахой ходила ходуном. Чуть успокоившись, перевернулся на бок, ткнул Федьку.
— Эй? Ты чего?
От тычка Федька захохотал громче и засучил ногами в раскисших бахилах. Глядя на него, стали похохатывать другие казаки и промышленные.
— Умишком оскудел или что?! — Старший Стадухин окинул его хмурым, неприязненным взглядом, отжал мокрую бороду.
Не унимаясь, Федька стал тыкать пальцем в лежавших рядом с ним Ожегова и Корипанова.
— Мы-то на государевом жалованье… Они за что купаются?
Промышленные смущенно переглянулись, кто-то должен был ответить взбесившемуся казаку.
— Воля сытой не бывает! — буркнул Пантелей Пенда и скрюченными пальцами распушил свившуюся в веревку бороду. — В хлеву, оно конечно, легче.
Пашка Левонтьев отряхнулся, как помятый петух, вытянул шею, поучающе изрек:
— В поте лица своего надлежит добывать хлеб свой! — Мокрые лохмы над его ушами торчали рожками, на лысине блестели капли речной воды и пота.
Федька вымученно улыбнулся, сжал губы. Ожидая продолжения спора, измотанные люди переводили глаза с него на Пашку, с Пашки на Пенду и заметили вдруг, что могут разговаривать без крика. Река менялась.
Старому промышленному доставалось не меньше, чем молодым спутникам, и уставал он так же, но не роптал. Казаки и промышленные примечали, что при однообразных тяготах пути он отпускал свое тело на труды, уносясь куда-то душой. При этом глаза его, как у слепца, неподвижно и мутно темнели в провалах под бровями и оживали, когда промышленного окликали.
— Вот и я говорю! — обрадовался поддержке атаман, мотая слипшейся бородой. — Здесь уже легче, чем в верхах. Может быть, осталось-то потерпеть пять-десять верст. Не бывает рек без конца бурных.
Он настороженно разглядывал притихшего Федьку с удивленно застывшим лицом, Гераську, уткнувшегося в мох. Плечи брата подрагивали, младший то ли трясся в ознобе, то ли плакал. Мишка Коновал, всегда беспричинно усмехавшийся большим шрамленым ртом, с обычным своим видом смотрел на пройденные буруны.
— Если невмоготу, — подобрел атаман, — можно отдохнуть. — Пошлем ертаулов посмотреть, далеко ли тихая вода.
— Ясыря! — тыча пальцем в аманата, очнулся и опять закудахтал Федька. — На кой он нам, если под него ни выкуп не дают, ни ясак?
— Ты Чуну не ругай! — осадил казака старший Стадухин. — Его водяной дедушка любит. Может быть, ради него коч цел. Чудом провели через камни… Пусть сидит и камлает.
Река стала шире, сжимавшие ее горы — ниже, а вскоре, камни сменились зеленевшим сопочником. Из малинового туманного востока выползло низкое солнце и закатно замаячило за кормой. Наконец-то коч привольно поплыл по быстрому течению реки, гоняясь за своей тенью. Он уже не застревал на перекатах, но цеплялся за песок и окатыш, если на борт взбиралась вся ватага. А потому половина стадухинских людей бежали берегом, другие, с шестами и веслами, не меньше их уставали править судном. Казаки и промышленные поочередно менялись, и только Михей Стадухин с Чуной, постоянно оставались на судне.
Лес по берегам становился гуще верхового, по всем приметам в нем должен был водиться соболь, на отмелях виднелись лосиные и оленьи следы. В заводях кормились утки и гуси, большие стаи плавились по стрежню вместе с кочем. После голодной зимы ватажные отъедались птицей. Атаман обеспокоенно осматривал берега: от самого зимовья ватага не встретила ни одного человека, а тойон Ува говорил, что на Моме много народу. Между тем все еще Оймякон или уже Мома оставались пустынными, необжитыми, и чем легче становился путь по неведомой реке, тем чаще заводился разговор о том, куда она ведет.
— Вода мутная, течение быстрое, похоже на Индигирку! — оглядывался по сторонам Пантелей Пенда. — Но я ходил тундрой, промышлял на краю леса.
Старший Стадухин окликал Дежнева:
— Ты в Верхнем Индигирском у Митьки Зыряна служил. Похожа река на Собачью?
Дежнев, щурясь, вертел головой, прикладывая ладонь ко лбу, дурашливо округлял глаза в цвет неба и отвечал, желая порадовать земляка-атамана:
— Индигирка шире, берег похож, но лес реже.
Он со своими бедами до сих пор хромал, хотя раны затянулись. По соображениям атамана, земляк был здоров, но прикидывался больным, а Дежнев с укором вздыхал и набожно возводил глаза к небу на его ругань:
— Тебя Бог милует, а ты меня коришь, не зная, каково страдать Христа ради. Грех! Грех! Ну, да ладно. Бог простит! Ангела тебе доброго! — На его лице, посеченном веселыми морщинками, Михею чудилась насмешка и даже похвальба своим терпением.
— Вокруг чужой женки козлом скачешь, как работать — так калека!
Казаки тоже подзуживали Семейку. Самый отъявленный лодырь и плут, Федька Катаев, божился, что видел его бегущим, когда тот, голодный, догонял раненую куропатку. А как, дескать, заметил его, Федьку, так опять захромал. Благодаря легкому характеру насмешки и ругань отскакивали от Семейки, как сухой горох от стены, и не портили его пожизненной радости. Бездельем он не томился: даже сидя в коче, перебирал вымороженные шкурки, связанные в сорока, те, что с жиром на мездре, скоблил коротким широким ножом. Его неспешность в делах и неунывающий нрав злили атамана, носившегося по кочу в предчувствии какой-то беды. Еще зимой от него обособились братья. Они ждали от старшего поблажек, но он знал, какими распрями это может обернуться. Время от времени пытался заводить душевные разговоры — не получалось. Братья пугливо поглядывали на него и доверительно жаловались Дежневу, с которым были в большой приязни:
— И спать-то по-людски не может: ляжет последним, вскочит первым… Даст Бог вернуться в Ленский — больше с ним не пойдем.
— Так ведь власть, соблазны, — с пониманием утешал их Семейка. — Не по благочестивой старине — помыкать слабыми, но здесь над ним никого, кроме Господа! Вот и лютует Его попущением. Разве я нарочно под стрелы лез? Судьба — принять муки. А он всю зиму попрекал. Терплю вот Христа ради. Это вы — люди вольные, промышленные, а я — служилый.
Река стала еще глубже, уже вся ватага набивалась в коч, судно проседало по самые борта, но люди не били, не мочили ног.
— Течение быстрое! — оглядываясь по сторонам, настойчивей упреждал Пантелей Пенда. — Сильно походит на Индигирку.
Дежнев и Простокваша, ходившие с Постником Губарем, в один голос оправдывались:
— Здесь все реки одинаковы: камни, мхи, болота, деревья чуть толще казачьего уда.
Старший Стадухин ненадолго успокаивался, но уже вскоре, сверкнув глазами, хватал шест, несся с ним на нос коча, тыкал в дно по одну, по другую сторону бортов, что-то заподозрив, оглядывался.
— Семейка! — опять звал Дежнева.
Тот, шлепком сбив шапку до бровей, покладисто вертел головой, чесал затылок.
— Не-ет! — отвечал позевывая. — Собачья ширше!
Слова земляка успокаивали атамана. Он бросал шест на место, вставал к рулю, оттеснив Пантелея Пенду.
— Подгребай, бездельники! — окликал казаков, сидевших на веслах. — Разворачивает поперек течения.
И плыли они так еще два дня. После купаний в верховьях радовались отдыху, пригревавшему солнцу, беззлобно посмеивались над атаманом, которому не сиделось на месте. Вдруг с тупого носа коча раздался его душераздирающий крик. Как ни притерпелись казаки и промышленные к беспокойному нраву Михея Стадухина, к его непомерной ярости во всяком деле, но в этом вопле им почудилось отчаянье раненого. Выпучив глаза и разевая рот в двуцветной бороде, он смотрел вдаль и указывал на берег. Там среди редколесья виднелось русское зимовье с частоколом и крытыми воротами, над которыми возвышался Животворящий крест.
— Да это же Зашиверское! — весело вскрикнул Семейка Дежнев, хлестнув себя ладонью по шапке. — То самое, что Губарь ставил. Я тут был с Митькой Зыряном! По Индигирке плывем, братцы! Вот ведь как водяной дедушка глаза отвел!
Атаман метнул на него бешеный взгляд, застонал, сощурив глаза, провел ладонями по лицу, сгоняя прилившую кровь, обернулся со скорбными неподвижными глазами.
— Ну что с того, что сразу не узнал реки? — виновато развел руками Семейка. — Назад бы все равно не повернули, сюда же и пришли бы.
Как-то разом осунувшись, Стадухин скомандовал сиплым голосом:
— Греби к берегу!
Его спутники кто с радостью, кто с тоской глядели на крест с явно жилым приближавшимся зимовьем. Судно было замечено. На берег вышли три бородача, одетые по-промышленному: один с саблей на боку, двое с топорами за поясом. Коч встретил ленский казак Кирилл Нифантьев. Он был из отряда Постника Губаря, с которым, на беду свою или к счастью, не ушел в свое время Михей. Узнав его и Семена Дежнева, Кирилл крикнул:
— Нам на смену посланы?
— Плывем своим путем! — уныло ответил Стадухин, подергивая рыжими усами. И добавил, хмуря брови: — По сказкам якутского князца думали, что по реке Моме, оказалось — по Индигирке.
— Заходите в зимовье, сколько набьетесь, — рассмеялся Кирилл, оглядывая три десятка гостей. — Чего гнус-то кормить?
Потеряв обычную резвость, Михей сошел на берег, за ним попрыгали на сушу казаки и промышленные.
— Аманата ковать или как? — спросил Вторка Гаврилов.
Михей отмахнулся, морщась:
— Пусть гуляет! Куда ему бежать?
Зимовье было обычным казачьим пятистенком. На одной половине, в казенке, жили аманаты, на другой — служилые и охочие люди. В сенях стояли три пищали, в полутемной комнате с маленьким оконцем сильно пахло дымом и печеной рыбой. В казенке на лапнике равнодушно сидели три тунгуса, прикованные цепями к стене. Зимовейщики раздули огонь, сбегали с котлами за водой.
— Квасу давно нет! — со вздохами оправдался Кирилл. — Хлеба тоже. Кормимся рыбой и птицей. Ушицы поедите? — спросил неуверенно.
— Сыты! — смиренно отказался атаман. — Хлеба у нас тоже нет. Последнюю саламату перед Пасхой выхлебали.
На расспросы Кирилла он отвечал небрежно и кратко:
— По наказной памяти нынешних воевод зимовали на Оймяконе. Стужа там лютая, место голодное. Андрейка Горелый, — кивнул на казака, — с промышленными людьми и якутами ходил за Камень, на Ламу, к тамошним ламутам, они им зад надрали. Слава Богу, вернулись живы. По наказу наших воевод плывем искать новых земель и народов, а тут вы…
— Ну, а мы как ушли с Постником с Яны, так здесь служим.
— Губарь рассказывал, — рассеянно обронил Михей.
— На Яне зимовали в перфильевском Верхоянском зимовье, — Кирилл перевел глаза с атамана на казаков и промышленных, которые внимательно слушали. — Якуты там жаловались на юкагиров, что грабят, холопят. Весной, в конце мая, на конях и волоком перешли мы с ними из Ондучея в Товстак, потом на Индигирку, повыше здешних мест. Построили струги, с боями сплыли до юкагирских земель, поставили зимовье. В зиму было несколько осад — отбились, взяли аманатов. Осенью на стругах ходили вверх по Индигирке, врасплох на рыбалке, захватили юкагирских мужиков князца Иванды, — мотнул бородой в сторону горницы и сидевших там тунгусов, — взяли под них ясак сто десять соболей.
— Где же те люди? — со скрытой обидой спросил Михей. — Ни одной души не видели, чтобы спросить про реку.
Кирилл уныло рассмеялся и продолжил прерванный рассказ:
— Потом Постник с ясаком пошел в Ленский, и осталось нас здесь шестнадцать человек. А как на перемену прибыли Митька Зырян с Семейкой, — указал на Дежнева, — стало еще меньше. Здешние ясачные юкагиры куда-то ушли. Зырян поплыл за ними вниз по Индигирке и, по слухам, за полднища до моря поставил зимовье на земле олюбленских юкагиров.
— То-то мы никого не видели, — досадливо крякнул Михей.
— Выходит, так! — кивнул Кирилл. — Хотите быть первыми — плывите дальше. Юкагиры сказывают, к восходу есть река шире здешней. Народов на ней много, и кочующих, и сидячих. А падает она, как Лена, в Студеное море… Пойдете? — Хохотнул, подняв брови, обнажая желтые зубы под усами.
— Теперь туда ближе, чем обратно… Да несолоно хлебавши, — разглядывая заложников, пробормотал Стадухин. И спросил: — Не страшно втроем при трех аманатах?
— Страшно! — посуровев лицом, признался Кирилл. — Нас пятеро: другие рыбу ловят. Юкагиры откочевали, когда вернутся неведомо. Захотят отобрать сородичей силой — нам не устоять. Перебьют. Оставил бы с полдесятка промышленных. Здесь промыслы добрые, соболь хорош, зимовье готовенькое. А дальше к полночи — голодная тундра.
Михей обернулся к Пантелею Пенде, вопросительно взглянув на него затравленными глазами. Тот разлепил сжатые губы, равнодушно согласился:
— Кто хочет, пусть здесь промышляет. Я с тобой пойду!
Стадухин обвел усталым взглядом людей, сидевших вдоль стен.
— Есть желающие помочь годовщикам?
— Мы бы остались, — за всю пришлую ватажку ответил Ожегов. Косматая борода на скуластом лице топорщилась путаными прядями. Он чесал и приглаживал ее, пропуская сквозь скрюченные пальцы, пристально вглядывался в глаза атамана. Никто из его людей не спорил, хотя Иван говорил без совета с ними.
— Ну и с Богом! На коче тесно.
— Остались бы, да не с чем, — не мигая, поджал губы передовщик и, не дождавшись предложений, попросил: — Дай пороху, свинца и соли. Поделись!
— Даром, что ли? — сощурившись, захихикал Федька Катаев.
— Задаром только в острогах бьют! — хмыкнул в бороду веселый от встречи со знакомыми людьми Кирилл Нифантьев и беспечально пригладил кабаний загривок волос, нависший между плеч.
Сдержанный смешок прокатился по зимовью.
— Ладейку строили для реки! — тихо, но внятно проговорил Пантелей Пенда из угла. — Если идти морем — нам половины людей хватит, не то потонем.
— Служилых оставить не могу, а промышленным — воля! — объявил атаман и заметил, как просияли лица братьев. — Неужто и вы останетесь? — тихо спросил Тарха.
— Нам никак нельзя вернуться без добычи! — смущенно ответил тот. — Государь жалованья не платит.
— На новых-то землях, где допреж ни казаков, ни промышленных не было, продадите товар вдвое против здешнего, — стал неуверенно прельщать Михей и вспомнил, что то же самое говорил в Ленском остроге.
— Что за товар? — привстал с лавки Кирилл. — Прошлый год были люди купца Гусельникова.
Михей удивленно выругался:
— Везде успевают, проныры пинежские! — Глаза его остановились на беззаботно улыбавшемся Дежневе. — Одного казака могу оставить!
Добродушное лицо Семейки резко напряглось, глаза сузились.
— Нет! — просипел он, до белизны пальцев вцепившись в лавку, и метнул на атамана такой леденящий взгляд, что тот недоуменно хохотнул. — Зря, что ли, коч строил?
Михей перевел взгляд на Гришку Простоквашу. Тот громко засопел, неприязненно задрав нос к потолку. Герасим, заводивший глазами, как только зашла речь о товаре, стал громко перечислять, что им взято для торга. Федька Катаев, кудахча, вторил о своем. К ним придвинулись зимовейщики, а промышленные приставшей на Оймяконе ватажки стали рядиться.
— Вы бы дали нам по две гривенке пороха, да по три свинца, да соли по полпуда…
— Чего захотели, — загалдели казаки. — Соли самим мало.
— Вы по морю пойдете, напарите…
Торговались долго. С рыбалки вернулись двое зимовейщиков. Бросили в сенях невыпотрошенную рыбу и ввязались в спор, будто соль, порох, свинец нужны были им самим. Чуна, вольно сидевший среди казаков и презрительно поглядывавший на прикованных аманатов, сказал вдруг:
— На Погыче-реке народу много, народ сильный, перебьет нас без ружей!
На миг в зимовье наступила такая тишина, что стал слышен комариный писк.
— Охтеньки! Опять заговорил! — недоуменно пробормотал Вторка Гаврилов.
— Молчал-молчал, слушал-слушал и затолмачил! — Коновал поднял густые брови, растянул половину рта в удивленной улыбке. — Хоть возвращайся на Охоту.
После полудня все сошлись на том, что Михей Стадухин возьмет на себя четыре сорока ожеговских соболей за выданный ватажке припас и расплатится по общей кабале. Герасим за время похода продал половину товара, частью дал в долг под кабальные записи ожеговским и своим людям, он хотел остаться на Индигирке, чтобы получить долги после промыслов. Михей согласился, что это разумно: искать должников по Сибири, перепродавать кабальные записи — дело суетное, соглашался и с тем, что Тарху безопасней остаться здесь, но ныла под сердцем обида, что братья молчком винят его за прежние неудачи. «Силком счастливым не сделаешь!» — подумал и благословил их.
Ночевали казаки и промышленные возле зимовья: кто на коче, кто у костров. Стадухин, услышав про новую реку, оживился, повеселел. Светлой северной ночью, как всегда, он успокоился последним, а одеяло сбросил первым. Розовело редколесье, небо было голубым и ясным, сон атамана недолгим, но глубоким. Михей сполоснул лицо, положил семь поясных поклонов на лиственничный лес, разгоравшийся под солнцем в цвет начищенной меди, и стал будить товарищей. Промышленные спали, пряча от гнуса вымазанные дегтем лица. Иные закрывали их сетками из конского волоса. Все слышали атамана и наслаждались тем, что больше ему неподвластны. Проводить судно поднялись только трое, среди них два отчаянно зевавших брата. Тринадцать казаков, аманат и Пантелей Пенда оттолкнулись шестами от берега, коч подхватило течение реки. Братья вернулись в зимовье, а промышленный, глядя вслед удалявшемуся судну, спустил портки и стал мочиться. Стадухин склонился к воде, высматривая посадку, распрямился и крикнул ему, заправлявшему кушак:
— Дерьма-то вполовину убыло!
Скальный порог они прошли не замочив ног. За ним потянулись узкие полосы леса, вклинившиеся в тундру. Налегая на весла, гребцы спешили на полночь, Стадухин, как всегда, поторапливал, бегая с кормы на нос:
— Веселей, братцы! Лето коротко, а нам надо поспеть на Алазею-реку, где до нас никто не бывал!
И шли они так до Олюбленского зимовья, поставленного на тундровом берегу неподалеку от моря. Светило солнце, по берегам зеленел пышный мох, старицы и озера были черны от птиц, покачивался на ветру прибрежный ивняк. Близость моря ощущалась по менявшимся запахам и цвету неба, которое поднималось все выше и становилось ярче. Прохладный, не речной ветер разгонял гнус.
Против зимовья, к которому спешил отряд, стоял коч не больше четырех саженей длиной, борта из тонких полубревен притундрового леса на аршин возвышались над водой, нос судна был обвязан потрепанными связками прутьев: по виду коч недавно выбрался изо льдов. Распахнулась дверь избы на берег вышел ленский казак Федька Чукичев. Свежий ветер трепал его богатую, в пояс, бороду, покрытые собольей шапкой длинные волосы, в глазах служилого лучились самодовольство и дерзость, с какими обычно возвращались из дальних странствий казаки и промышленные люди.
«А уходил простым, неприметным, — окинул его завистливым взглядом Стадухин. — И в ленских службах не из первых».
— Мишка, ты, что ли? — узнал его годовальщик.
Федор прибыл на Индигирку с отрядом Постника Губаря. Как и Кирилл Нифантьев, он был из тех людей, с которыми в свое время не пошел Михей, прельстившись Алданом. Встречи с ними казались бы ему бесовской насмешкой, не пошли Господь Арину. Память о временах, проведенных с ней, грела душу, она же мучила повседневной тоской. «Ждет, что вернусь к осени», — думал с душевной болью, удаляясь от жены все дальше и ради нее тоже. Понимал, что никому из его удачливых товарищей не довелось пережить такого счастья, какое пережил он. Этим утешалась зависть к ним, но не душа.
Бок о бок с Федькой Чукичевым к реке вышли его сослуживцы: Иван Ерастов по прозвищу Велкой и Прокопий Краснояр. Как и Федька, они были одеты в дорогие меха. Третий, со знакомым лицом, выглядел проще. Где-то на Куте или в Илимском Стадухин видел его среди людей Головина, наверстанных в Тобольске.
— Откуль плывем? — задрав нос, спросил Федька еще не приставших к берегу казаков.
— С верховий!
— А туда каким хреном?
— Конями с Алдана через Оймякон.
— С Охоты и с Ламы! — добавил Андрей Горелый, с любопытством разглядывая наряженных в меха казаков. — Слыхали?
Федька с Прокопом переглянулись, заблестели глаза на вычерненных солнцем лицах, которые, казалось, ничем нельзя удивить.
— Ивашка Москвитин оттуда вернулся, — пояснил мало знакомый Михею служилый и добавил: — Я говорил!
Коч причалили к берегу, с него сошли все прибывшие.
— И куда? — не отставал с расспросами Чукичев. — Мы перемены не ждем.
— Напоили бы, накормили, после расспрашивали! — с напускной важностью ответил Стадухин. — Сами-то куда собрались? — указал на потрепанный коч. — Или пришли откуда?
— Вчера только с Алазеи от Зыряна, — ответил Федька, пропустив мимо ушей предложение накормить. — Кабы не вы, ушли бы к Лене… Я с Прокопкой и еще двое, везем ясачную казну.
В тундре гром и молния в диковинку. Однако Стадухину показалось, что над ним так громыхнуло, что дрогнули колени. Он перекрестился, усилием расправил перекошенное лицо, попросил:
— Задержитесь, расскажите, где были, а я скажу о своем.
Рыба и утятина: печеная, вареная, вяленая, тухловатый душок юколы, саламата из привезенной сменщиками муки — по понятиям отдаленных зимовий, здешние насельники пировали с прибытием смены и окладов. Потекли неторопливые рассказы людей Стадухина о голодном и холодном Оймяконе, о сытой реке Охоте, где рыбу ловить не надо, сама на берег лезет. Для себя они узнали, что смененный на Яне сыном боярским Василием Власьевым казак Елисей Буза сплыл в Янский залив и нынешним летом собирался вернуться морем на Лену. Он добыл тысячу и сотню соболей для одной только казны да двести восемьдесят собольих спинок, заимел четыре собольих шубы, девять собольих кафтанов. Будь Буза пронырлив, вроде Парфена Ходырева, с таким богатством мог бы в Москве поверстаться в придворный чин.
В прошлом году с Лены на Индигирку посылали пятидесятника Федора Чурочку, с которым Михей Стадухин служил в Енисейском гарнизоне. Под его началом шли три коча промышленных и торговых людей. За Святым Носом, что тянется в море между Яной и Индигиркой, буря выбросила его суда на камни. Люди пошли на Индигирку пешком и погибли. Спасся только один промышленный. Михей смахнул с головы шапку, перекрестился. Он рвался в этот поход, ругал судьбу и ангела, а вышло, что в одно и то же время Бог миловал Бузу богатой добычей, Митьку Зыряна — новой рекой, его, Стадухина, удерживал, а Чурку со спутниками призывал через погибель. В прошлом Митька Зырян со служилыми и промышленными людьми сплыл сюда с аманатами с Верхнего Индигирского зимовья. Но объясаченные им юкагиры бежали еще дальше, на реку Алазею. Зимой его казаки и промышленные построили из плавника два струга. Едва потеплело и разнесло льды, зыряновский отряд из девяти служилых и шести промышленных отправился искать бежавших ясачников на неведомой реке.
Их суда вышли из Индигирского устья в море, с попутным ветром за сутки добрались до устья Алазеи, шесть дней поднимались в верховья до кочевий юкагирского тойона Ноочичана. С тем князцом пришлось воевать. Ему на помощь приходили чукчи: народ сильный, воинственный, многочисленный. В боях с ними все митькины люди были переранены, уже теряя надежду отбиться, им удалось застрелить упрямого тойона Ноочичана. Его люди не покорились казакам, но поспешно ушли дальше, бросив раненым одного из своих знатных мужиков. Отряд Зыряна добрался до мест, где сходились тайга и тундра, поставил укрепленное зимовье с острожком. Зимой на собачьей упряжке к ним приехал главный алазейский шаман, стал ругать, что живут на его земле и требуют ясак. Исхитряясь, служилые поймали его и приковали к стенке зимовья. Юкагиры несколько раз подступали к острожку, пытаясь освободить шамана, потом смирились и дали ясак — семь сороков соболей добрых.
Той зимой к ним опять приезжали чукчи на оленях. Поймать кого-нибудь в аманаты перераненым людям Зыряна было не по силам, но поговорить удалось. Зимовейщики узнали, что чукчи живут в тундре промеж рек Алазеи и Колымы, что с Алазеи на Колыму на оленях три дня хода. Про русских служилых и промышленных людей они не слышали и не понимали, почему должны давать царю ясак. Да и взять-то с них было нечего — соболей в тундре нет.
— Значит, Колыма! — свесил голову Стадухин. — А сколько до нее идти морем — никто не знает. — Помолчав, встрепенулся: — Это хорошо! И когда собирается туда Зырян? — Рассеянно оглядел его людей.
— Мы из зимовья уходили — коч смолил! — Казак Ерастов-Велкой, икая, разглядывал котел с остатками выстывшей саламаты. — Должен ждать меня с мукой на устье Алазеи. Людей у нас мало, аманатов много.
— Ну и ладно! — Михей обернулся к своим казакам, внимательно слушавшим алазейских служилых. — Андрейка! Ты ранен, — обратился к Горелому. — Бери-ка Гришку Простоквашу, Семейку Дежнева, всю нашу казну и плыви с Федькой в Ленский. Зачем казенных соболишек вести на неведомую реку в другую сторону?
— Мне-то в Ленском что надо? — Дежнев побагровел и бросил на атамана пронзительный взгляд. — На правеж за кабалу? С голым задом в работники к тестю-якуту?
— Под бок к жене! — засмеялись казаки. — С Простоквашей уходил от Зыряна, с ним от нас вернешься! Вдруг воевода наградит!
— Ага! Батогами!.. — Семен заводил выстывшими глазами и резко вскрикнул: — Нет! Пока не добуду богатства — на Лену не вернусь!
— Какой от тебя прок? Кашу варить, так не из чего, — съязвил Стадухин.
— Не поеду! — резче вскрикнул Семейка. — Лучше здесь останусь. Сгожусь при малолюдстве.
— Сгодится! — согласился Ерастов со сдержанной радостью. — На Алазее каждому промышленному рады… Заодно и я с вами туда уплыву, покажу короткий путь протокой.
— И то правда! — согласился Михей и обернулся к Дежневу: — Ты с Митькой служил, как-то ладил с ним, не то, что я.
— Да с ним служить легче, чем с тобой! — успокаиваясь, огрызнулся Семейка.
Пособный ветер отогнал льды от устья Индигирки. Дорожа каждым часом, оба коча стали готовиться к морскому плаванию. Стадухин скрипел пером, отписывая челобитную ленским воеводам. Закончив, перечитал вслух, при свидетелях и очевидцах опечатал казенные меха. Горелый потребовал Чуну, чтобы отвезти воеводам, Михей отказался выдать аманата, заявив, что тот нужен ему как толмач.
Алазейский казак Ерастов загрузил на стадухинский коч мешки с мукой, привязал к корме стружок, на котором собирался возвращаться. Одиннадцать казаков, Пантелей Пенда и Чуна взошли на борт, шестами и веслами вытолкали судно на глубину. Ветер рябил воду устья реки, коч схватил его кожаным парусом, поплыл в полночную сторону. За ним пошел зыряновский коч с Федькой Чукичевым, Андреем Горелым, Гришкой Фофановым-Простоквашей, со стадухинской и зыряновской казной, с челобитными от атаманов.
Вскоре суда разошлись. Чукичев направился основным руслом, Стадухин — указанной Ерастовым проходной протокой — к восходу. Гребцы налегали на весла, за кормой, натягивая веревку, болтался и задирал нос пустой стружек. У края высокого синего неба сияло солнце, сливаясь с ослепительно синей водой. Вдоль бортов тянулась болотистая, кочковатая тундра с сотнями малых озер, они были темны от птиц. Где-то беспрестанно кричали журавли. Стаи уток и гусей поднимались с протоки, с вопрошающими кликами носились над мачтой, снова садились на воду впереди судна. Мишка Коновал и Ромка Немчин стреляли по ним из луков, стараясь бить точно по курсу. Затем, свесившись с бортов, подбирали добычу. Стадухин приглушенно ругал их, не желая останавливаться ради упущенных подранков и потерянных стрел.
Казалось, совсем недавно наступило лето, были пройдены студеные буруны верховьев Оймякона. Но вот уже местами по-осеннему желтели равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, все сильней раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и безоблачное небо над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с полуночной — колыхалась яркая синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в дымке виднелись горы.
Стадухинскому кочу повезло: дул юго-запад, попутный для плывших на Алазею и противный для возвращавшихся на Лену. При том устойчивом ветре судно шло полные сутки. Солнце присело над тундрой, но светлый день без признаков сумерек продолжался до его нового восхода. Около ясной полуночи Пашка Левонтьев, с обнаженной покрасневшей от солнца лысиной, сидел под мачтой на лавке-бети, молча перелистывал Библию, что-то выискивая глазами. На корме стоял Пантелей Пенда, его белая борода флагом указывала восток. Михей с шестом в руках измерял глубины: шли в изрядном отдалении от берега, но под днищем была опасная мель.
— Вот оно! — торжествующе изрек Пашка, потрясая перстом. — Не дал Чуну Андрейке Горелому, оставил как равного а во Второзаконии сказано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь все ниже и ниже». Говорилось это для атамана, но так, чтобы слышали все. Стадухин не оборачивался, занятый важным делом: положив шест поперек судна, что-то долго высматривал по курсу, потом также громко ответил:
— Чуна — ясырь, а не пришелец! — Махнул рукой, подзывая к себе казака.
Пашка закрыл книгу, положил на беть, не спеша подошел к нему.
— Гляди-ка, что там, если еще не испортил глаз чтением? — И тут же окликнул Ерастова. Все трое уставились вдаль. — Похоже, коч и две лодчонки…
— Митька! — радостно вскрикнул зыряновский казак. — Ждет меня с мукой.
Стадухин указал направление. Пенда окликнул дремавших казаков, они потянули возжи *(тросы, с помощью которых управляли прямым парусом) Скрипнула мачта, слегка накренилось судно и послушно пошло куда смотрел атаман. Мореходы не ошиблись: в заливе стоял на якоре коч Дмитрия Зыряна, его люди ловили рыбу. На веревках, натянутых от мачты во все стороны, качалась распластанная юкола.
— Собирается в поход, запасается кормами! — разглядывая судно, язвительно проворчал Михей.
Вдали от алазейского коча сновали две легкие лодки, с бортов торчали удилища. Смурная тень скользнула по лицу Стадухина: издали он узнал Ивана Беляну и Селивана Харитонова из отряда Постника Губаря. Те тоже узнали его, помахали в ответ на приветствие. Самого Зыряна не было видно. Семейка Мотора в лодке поднял руку ко лбу, присмотрелся. Они с Михеем хорошо знали друг друга по Енисейскому гарнизону.
— Где Митька? — издали крикнул ему Стадухин, приложив ладони к бороде.
Беляна что-то жевал, его неухоженная борода с блесками чешуи равномерно шевелилась. Он покосился на корму, показал знаком: спит!
— Так разбуди, я муку привез.
Беляна смутился, торопливо дожевывая и опасливо зыркая в одно и то же место.
— Не велел! — ответил негромко и бросил за борт рыбий хвост.
— Зажрался? — обернулся к Ерастову Стадухин. — Хлеб ему не нужен? — Обидчиво заерепенился. — Раз не хочет встретить по добру — таскайте мешки со струга. Не буду приставать к борту!.. Демидыч, становись на якорь.
— Вы что там? — возмущенно закричал Ерастов своим казакам. — Мухоморов нажрались?
Но Зырян не показывался, а Стадухин не соглашался приткнуться к его борту, чтобы перегрузить муку. Поругивая атаманские склоки, казаки помогли алазейцу перекинуть пятипудовые мешки в струг.
— Друг твой, Митька, прячется от меня, — Стадухин обернулся к Дежневу с раздосадованным лицом. — Ты с ним как-то ладил, а у меня в общих службах что ни день, то драка.
— Ладил! — похвалился Семейка. — Он сильно поперечный.
— Помню! — выругался Михей. — Что ни скажешь, сделает наперекор — даже если себе самому во вред.
— Разом вспыхивает, зато и остывает быстро, — добродушно усмехнулся Семейка. — Если с умом — с ним всегда можно договориться: давай совет наоборот, сделает как надо!
Стадухин неприязненно фыркнул:
— Я бы еще перед ним хвостом не мел! Вот и плыви, калека, растолкуй, как умеешь, что при нашем-то с ним малолюдстве лучше бы не ходить поодиночке в неведомые земли к сильным народам, а быть заодно. — Наклонился за борт к Ерастову, раскладывавшему мешки в струге: — Возьми Семейку, поможет выгрести!
— Послал бы двоих! — Казак вскинул на атамана потное, злое лицо.
— Ромка! — Михей окликнул Немчина, — сходи с Семейкой. — И спохватился: — Нет! Нашу ветку возьми, а то Митька обратно не пустит, пока силой не вызволю! — Снова выругался. — Как же, алазейский хозяин, вынуждает идти на поклон!
Стадухинское судно встало на свой якорь. Струг с хлебом и болтавшейся берестянкой обошел коч, обвешанный юколой, затем Дежнев и Немчин показались на нем среди алазейцев.
— Надо бы и нам запастись кормами, — пробормотал Стадухин. — Митька знает, что делает.
Другой лодки на коче не было. Служилые стали удить рыбу с бортов. Вскоре Семейка Дежнев один сел в берестянку, перекидывая весло с борта на борт, стал возвращался. Причалил к борту, придерживаясь за него, встал в рост на шаткой лодчонке.
— Почти уговорил Митьку! — Смешливо взглянул на атамана. На красном иссеченном ветрами лице его глаза казались белыми и бездонными. — Ни слышать про нас не хотел, ни знать. Говорил, Алазея и Колыма — его реки, потому что первый услышал про них. Я ему пригрозил: снимемся, говорю, с якоря, уйдем вперед — и твоя река станет нашей!
— Правильно сказал! — похвалил земляка Михей. — А что Немчин? В аманатах или винцом угощается?
— Откуда у них вино? Уговаривает… Все согласны с нами, но боятся спорить с Митькой, а он бахвалится. Велел передать — только с тобой будет говорить, если сам придешь!
— Так и знал! — Михей мотнул головой с заледеневшими глазами, приосанился. — Не может жить мирно, хоть убей зловредного!
— Ерепенитесь, как юнцы, — хмурясь, укорил Пантелей.
Михей постоял, глядя на чужой коч и разъяренно шевеля рыжими усами.
— Можно и съездить, коли зовет, — согласился, пнул что-то подвернувшееся под ногу.
— А еще говорил, чтобы мы оставили ему двух служилых аманатов караулить, — добавил Семейка.
— Дулю ему на гладкое пермяцкое рыло! — рыкнул Стадухин. — Вылезай давай! — поторопил земляка.
Семейка, морщась, неловко перекинул ногу с берестянки на коч.
— Не дразни его редкой бородой! — посоветовал. — Не любит! И не грози — упрется!
— На ветке не поплыву! — вдруг передумал Стадухин. — Под борт к Зыряну встанем! Командуй, Демидыч! — приказал Пантелею Пенде.
Старый промышленный, раздраженно покряхтев, велел поднять якорь и на веслах подвел коч к другому судну. Снова бросили якорь, стравили трос из конского волоса и приткнулись к борту. Казаки ворчали — таскали мешки с мукой ради бахвальства атаманов. Два судна мягко сошлись и счалились. Знакомые и земляки стали перескакивать друг к другу. Селиван Харитонов с Иваном Беляной весело скалились, глядя на Стадухина. Мотора подогнал к борту лодку со свежим уловом и влез на коч. Старые сослуживцы не виделись несколько лет. Дальняя служба не переменила его, Семейка Мотора выглядел таким же тихим и покладистым, чему способствовали маленький скошенный подбородок и верхняя губа, грибком нависавшая над ним. Негустая борода не скрывала их и придавала казаку добродушный вид.
Стадухин, не приметив в людях Зыряна большого зла и укоров из-за лишних трудов с перетаскиванием муки, слегка подобрел, добросердечней поприветствовал ленских казаков, оценивающим взглядом окинул их коч. В простой замшевой рубахе и нерпичьих штанах, заправленных в чирки, Зырян сидел на корме под рулевым веслом и с важностью кремлевского служки буравил Стадухина пристальным взглядом. Михей усмехнулся, приосанился, крикнул с напускным весельем:
— Встречай дорогого гостя! — Сбил шапку на ухо, поправил саблю и перескочил на другой борт. — Добрые у тебя ноги, — потрепал пеньковую растяжку мачты. — Будто новые. Где взял? Ты ведь пятый год в дальних службах.
— У меня и якорь железный! — прихвастнул Зырян, напряженно разглядывая Стадухина водянистыми глазами. Ветер трепал три тощих и длинных пряди бороды, свисавших со щек и подбородка.
— И где же добыл такое богатство? — не унимался Михей, разглядывая новые снасти.
— На Индигирке у промышленных должились.
— Федька в Олюбленском про промышленных не говорил. Чьи были?
— Прошлой весной на Индигирку пришла ватажка Афонии Андреева.
— Гусельниковские покрученники, что ли?
— Они! — круче задирая нос, неохотно отвечал Зырян.
— Вот ведь! — рыкнул Стадухин. — Успевают, как вороны на падаль. Мишка Стахеев ушел из Илимского немного раньше меня, а его люди уже здесь. Вдруг придем на Колыму, а они там! Что делать будем, а? Как славу делить? — наконец-то оставил окольные пустопорожние разговоры и заговорил о главном.
Обветренное лицо Зыряна покрылось бурыми пятнами. Он резко ответил, дергая себя за метелку бороды:
— Десятину возьмем! А если они ясак на себя брали — пограбим!
— Дело говоришь! — согласился Михей, радуясь, что какой-никакой разговор получается.
— Нынешним летом Афонька пошел вверх по Алазее в тайгу для промыслов, — продолжал десятник, все так же подергивая себя за бороду. — Но кто их, промышленных, знает…
Всем своим обликом и словами он показывал неприязнь к Стадухину, но по его ответам Михей понимал, что согласен на сговор, только хочет настоять на чем-то своем. И давний соперник, прищурясь, заговорил:
— Пойти-то можно и вместе, только кто будет главным? У тебя наказная память от нового воеводы, у меня от Галкина и Ходырева. Ты из первых на Лене, а я здесь, — распаляя себя, переходил на крик. — Это мои юкагиры бежали на Колыму, кому из нас брать с них ясак?
— Тебе, раз аманаты у тебя! — перебил его Стадухин, не дав раскричаться до визга. — От нападений отбиваемся вместе. Но кого я зааманачу, с того сам буду брать.
— Не бывает так, чтобы между двумя отрядами не было споров, — с усилием остудив себя, процедил Зырян. — Ладно! Уговор при всех моих и твоих людях: ты сам по себе, я — сам, а при нужде друг другу помогать. Только у меня на Алазее людей мало. Афоня отказался сесть в зимовье на краю леса, дальше пошел. Вдруг вернутся беглые юкагиры или чукчи придут? Аманатов отобьют, Велкоя с Селиванкой за ятра повесят на нашем тыне, — кивком указал на казаков Ерастова и Харитонова которые, должны были вернуться в Алазейское зимовье.
— Сам думай, как вам быть, а то ведь я могу и один уйти на Колыму, — с усмешкой пригрозил Стадухин и мягче добавил: — Хотя вместе надежней.
— Оставь двоих и пойдем! — Предложил Зырян и с напряженной неподвижностью в глазах и так дернул себя за бороду, что оттянулась нижняя губа, оскалив зубы.
Помолчав для пущей важности, Стадухин сказал:
— Бери Семейку Дежнева. Если Федька согласится — могу и его оставить. Больше никого не дам! — Отыскав глазами Катаева, спросил: — Пойдешь, коли хорошо попросят?
— Нет! — замотал головой казак и почесал промежность. Люди с двух судов приглушенно хохотнули.
— Ромка? Останешься?
Немчин неопределенно пожал плечами, не возражая против предложения.
— Там промыслы добрые, соболь хороший! — стал прельщать Селиван. — В укрепленном зимовье впятером от сотни отобьемся. И Афоня поможет, если что.
Ромка молчал. Те и другие решили, что он согласился остаться на Алазее. На том два атамана сошлись, хотя понимали, что распрям между ними быть, а уговориться обо всем, что может случиться в пути, — невозможно.
Еще один светлый и долгий северный день два счаленных коча простояли рядом. Семейка Дежнев распрощался со стадухинскими казаками, с Пендой и Чуной, простив обиды, обнял земляка-атамана и уплыл на зыряновской лодке в Алазейское зимовье. Немчин же в последний миг заартачился и отказался. Зырян не стал спорить против уговора, но метнул на Стадухина такой взгляд, что тот сжал зубы и пробормотал:
— Начинается!
Ветер по-прежнему дул на восход, но небо покрылось низкой рваниной туч, стали простреливать короткие и хлесткие дожди. Люди Дмитрия Зыряна спрятали в мешки сушившуюся юколу, молча сбросили с борта швартовы попутчиков и подняли якорь. О выходе не договаривались. В это время стадухинские казаки выбирали неводные сети.
— Как всегда! — обругал десятника Стадухин. — Митька по-другому не может.
Как только сети и берестянка оказались на его коче, казаки стали выгребать на безопасные глубины. Невозмутимый Пантелей Пенда взялся за руль, не доверяя никому шест, атаман сам щупал дно, гребцы, наваливаясь на весла, пели молебен Николе Чудотворцу. Молитва была услышана: сквозь зарозовевшие тучи на воду упал желтый луч солнца. Атаман перестал ругаться, лица гребцов потеплели, Чуна вытянул руки и запел протяжную песню. Пока выгребали на безопасное расстояние от мелей, коч Зыряна убежал на полторы версты. Но вот и Пенда велел поднять парус, он вздулся, брызги от волн стали захлестывать нос судна. Вдали от невысокого пустынного берега с крапом озер и проток оба коча шли сутки и другие. По правому борту виднелась желтеющая тундра, по левому — плавучие льдины и далекие горы с белыми вершинами, долинами, закрытыми туманом.
— Туда не ходил? — Обернувшись к Пантелею, атаман указал рукой на горы.
— Нет! — коротко ответил старый промышленный, бросив мимолетный взгляд за льды. — А хотелось! — Помолчав, разговорился: — Иногда разводья бывают такими широкими, что льда не видно. Можно дойти! Но при перемене ветра в любой день, может зажать, как плашками, и не выпустить несколько лет сряду. А что там: какая еда, есть ли дрова? Того никто не знает — одни слухи.
— Какие слухи? — полюбопытствовал Стадухин, но Пантелей, вглядываясь в даль, не ответил.
Суда сближались, потом стали обгонять друг друга, обходя плавучие льды и мели, которые вынуждали держаться дальше от суши. Озер на берегу виделось множество, но ничего похожего на устье реки высмотреть не удавалось. Суша круто поворачивала на полдень. Дул все тот же устойчивый ветер с запада. По разумному решению надо было идти в виду берега на веслах, но коч Зыряна пошел на восход в открытое море.
— Судьбу пытает, дурья башка! — выругал соперника Стадухин и с тоской в лице взглянул на Пенду: — Неужели отстанем?
— Куда? — невозмутимо спросил тот и усмехнулся в белые усы: — К водяному дедушке?
— Что делать?
— Приспустить парус. Станет пропадать земля — грести к ней!
С печальным видом и затравленными глазами Стадухин велел казакам слушаться кормщика и сел за загребное весло.
— Камлай хоть, что ли? — окликнул дремавшего Чуну. — Проси у дедушки пособного ветра!
Между тем зыряновский коч превратился в точку и пропал из виду. При боковом ветре и пологой волне стадухинские казаки сутки шли на гребях. Узкой полосой темнел вдали едва различимый берег. Вскоре он снова повернул к востоку. С судна стали примечать устья речек, падавших в море, заливы, но из-за мелей не могли войти в них, чтобы пополнить запас пресной воды и рыбы.
Юкола кончилась, бочки были перевернуты вверх дном. Аманат лежал, глядя в небо, Пантелей жевал невыделанную сыромятую кожу, казаки с укором поглядывали на атамана, не давшего запастись рыбой на Алазее. Зыряновского коча не было видно, а он велел идти вдали от суши, убеждая озлившихся от голода людей терпеть, при том громко расспрашивал Чуну про реку, о которой ламут слышал от своих стариков и называл ее Погычей. Чуна упорно повторял, что та река шире Индигирки.
— А это что? — указал Стадухин на очередной видимый залив. — Ручей! Ближе чем на полверсты не подойти.
Щеки его ввалились, губы истончали, глаза на изможденном лице горели и беспокойно бегали. Он чувствовал, что на судне зреет бунт. Уныло розовели стыки туч, крутые, резкие волны мелководья монотонно хлестали в борт, обдавали брызгами и раскачивали судно.
Мишка Коновал сорвался первым, сплюнул кровью на ладонь и заорал, кривя распоротый рот:
— Уморить хочешь, соперничая с Митькой?
Обернувшись к смутьяну, Михей хотел обругать его, но за спиной казака встали Артюшка Шестаков, Сергейка Артемьев, Бориска Прокопьев — те, ради кого он брал на себя другую кабалу. Пашка Левонтьев и тот смотрел с осуждением, двумя руками прижимая к животу суму с Библией. Поймав скользящий взгляд атамана, многоумно изрек:
— Сказано Господом: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покаялся, прости ему».
И он укорял, хоть не показывал явной неприязни. Другие, казалось, уже готовы были схватиться за ножи. Стадухин, с изумлением разглядывая лица спутников, обернулся к другому борту. Рассудительный и немногословный Втор Гаврилов отвернулся, Ромка Немчин стыдливо потупился, показывая, что заодно со всеми. Пантелей Пенда равнодушно шевелил бородой, перемалывая зубами кожу. И только, когда рука атамана потянулась к темляку, он окинул бунтарей взглядом глубоких глаз, выплюнул за борт жвачку и внятно произнес:
— Подведу сколько смогу к суше. Спускайте ветку, плывите за водой. Только коч на месте не удержать: его выкинет на мель и будет бить волнами, пока не замоет бесследно. Это я знаю! А на той суше, — указал на берег, — дай Бог каждому по сухой кочке, чтобы, сидя на ней, помереть от стужи и голода, а не утонуть в болотине. А если перетерпим день-другой — дойдем до реки!
Вдруг всем стало очевидно, что на пустынном берегу, где невесть чего больше — воды или суши, их ждет верная смерть. Потеплели взгляды, опустились плечи, громко засопев носом, с виноватой улыбкой сел за весло Мишка Коновал. Федька Катаев вытягивал губы, облизывая их сухим языком.
Обессилев от голода и усталости, люди еще полдня гребли при полощущем парусе. Небо прояснялось, сквозь тучи пробивалось солнце. Из последних сил гребцы обошли торчавшие из воды камни и увидели ободранные волнами гладкие стволы деревьев, которые белой полосой тянулись по черте прибоя.
— Должно быть, устье реки! — торжествующе вскрикнул Стадухин. — Не так ли, Пантелей Демидыч?
— Похоже! — не выказывая радости, ответил кормщик.
Глубина позволила приблизиться к берегу и подойти к губе, откуда был вынесен плавник. Желтое, мутное, растекшееся по небу солнце снова закрылось тучами, стал накапывать дождь. Коч вошел в губу, илистую, извилистую и мелководную. Она была забита свежим и гниющим плавником. Над судном носились чайки, мерзко орали и пачкали гребцов пометом. Здесь, в безопасности, усталость придавила путников пуще прежнего, но чувство безнадежности переменилось тихой, выстраданной радостью: тут можно было укрыться от ветров, а вода под днищем кишела рыбой. Левый берег со множеством черных торфяных болот был все той же низинной тундрой, тянувшейся от самой Индигирки. Правый — выше и суше, с редкими мелкими скрученными ветрами лиственницами. Гребцы подогнали коч к устью небольшой речки, где береговой обрыв переходил в невысокие тундровые холмы. Свесившись за борт, Коновал зачерпнул пригоршней воду, пробовал на вкус. Речка не походила на многоводную Колыму, но сулила отдых, питье и еду. Оставалось только найти место с сухим крепким берегом, чтобы пристать и высадиться.
Коч вошел в протоку, окруженную ивами. Здесь было тихо: зеркальная гладь без морщинки, склонившиеся к воде кусты. Послышался звон ручья. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Тучи рассеялись, ярче заблестело солнце и над протокой изогнулась радуга. На усталых лицах гребцов появилось восторженное ожидание чуда.
— Это знак! — изрек Пашка Левонтьев, скинул шапку и задрал перст к небу.
Снизившаяся чайка дриснула на его голое темя. Гребцы устало загоготали.
— И это знак! — ничуть не смутился Пашка, вытирая лысину рукавом. — А красота-то прямо как на Руси.
Вода протоки сверкала под очистившимся солнцем, в ней отражались влажные ивы. Заскрежетав кустарником, трущимся о борта, коч приткнулся к суше. С озер донеслись тревожные крики уток. Добыть дичь здесь было не трудно, но о ней не думали. Стадухин подхватил пищаль, первым ступил на землю, склонился над ручьем, успел выпить несколько пригоршней, пока не сошли его спутники и припали к воде.
— Сладкая-то какая?! — задыхаясь, оторвался от замутившегося ручья Пашка и стал плескать на голову, уже изрядно облепленную комарами. Стадухин, отдышавшись, вытер бороду, пересек ручей, свернул в кустарник, поплыл над ним с пищалью на плече. Плотное облако комаров роилось возле его шапки. Вдруг он пропал, будто провалился, через некоторое время замычал и распрямился с зеленью в бороде.
— Идите сюда! — махнул рукой. — Много дикого лука. Сочный еще, в сыром месте.
Радуга поблекла и рассеялась. Небо с растекшимся по нему солнцем поднялось, стало безоблачным. Отмахиваясь от комаров, мореходы ползали на четвереньках по сырой поляне, пока не наелись лука. Поднялись с размазанным по лицу гнусом, вернулись к кочу. Двое казаков на берестянке завезли невод, другие потянули его и вытащили полную мотню рыбы. Здесь был и жирный голец, и чир, муксун, даже несколько нельм.
— Живем, братцы! — Мишка Коновал поглядывал на атамана с кривой виноватой полуулыбкой и выбрасывал из невода бьющуюся рыбу.
Неподалеку от него раздували костер.
— Так что ты говорил про брата? — с мстительной усмешкой Стадухин спросил Пашку, поровшего жирных гольцов.
Смахивая плечом комаров с лица и не поднимая глаз, тот заученно проговорил: — «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя».
Атаман хмыкнул в усы, скаредно проворчал:
— Грамотей! Ужо испекут черти язык твой на сковороде!
Сытые согревшиеся казаки ласково поглядывали на атамана, но виниться за обиды в пути стыдились. Стадухин с хмурым лицом велел вытянуть коч на сушу и бросить жребий на караулы. Пантелею Пенде выпало стоять первым. Изнуренные многодневной сыростью, люди сушились и наслаждались теплом. Спать укладывались тут же, возле огня. Лежа на теплой, прогретой земле, Михей закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному плеску, растекся духом по земле и воде. Злобы не было, души спутников томились тоской и раскаяньем. В округе тоже не чувствовалось ничего враждебного.
Проснулся атаман от оклика, приподнялся на локте. Старый промышленный указывал в сторону моря. Михей встал босыми ногами на меховое одеяло. Вода в реке была темной, осенней, тихой. В отдалении сипло тявкал песец, над станом с шумом пролетела какая-то птица. Океан был рядом, светилась его полоска за устьем губы, там чернела точка и как неуклюжий клещ шевелила лапками весел. Похоже, сюда же шел коч Дмитрия Зыряна.
Михей подбросил дров на угли, сверху накидал зеленых веток ивняка, вскарабкался на груду выброшенных рекой деревьев. От разгоравшегося костра густыми клубами повалил дым. С коча заметили сигнал, выстрелили из пищали. Судно долго боролось с отливом, но шестами и веслами его подогнали к стану. Голодные продрогшие люди бросились к костру.
— Какая рыба? — жалостливо всхлипнул Мотора на вопрос об остатках припаса. — Хотели войти в речку, только милостью Божьей да по молитвам снялись с мели.
Теплый ночлег и обильная еда помирили даже атаманов. Караульные поделили время надвое. Все стали отсыпаться и отъедаться. Стадухин каждый день ходил к морю, высматривая дальнейший путь. Сделав запас кормов, атаманы со старыми казаками отправились в устье губы вместе: дул встречный ветер, сквозь тучи мутно светило солнце, путь на восток был забит льдом. Обточенные волнами лепешки с нудным скрежетом терлись друг о друга, подступая к самой губе.
— Прогневили Господа! — чертыхнулся Зырян. Он входил в свое обыденное озлобление от того, что время шло, а они стояли на месте. — Хоть поворачивай вспять!
— А вдруг опять переменится ветер? — все еще выискивая глазами проходные разводья, пробормотал Михей.
— Подь ты со своей Колымой! — выругался Зырян, бросив взгляд за стадухинское плечо на Семена Мотору. — Пойдем в верховья, там лес, вдруг чего сыщем.
— Иди! — не оборачиваясь, пробубнил Михей с озабоченным лицом. — Бог — судья! А я подожду. В десять стволов и сабель большой народ под государеву руку не подвести, зато могу открыть новую реку. — Подумав, окликнул Мотору: — Семейка! Мы с тобой на Витим ходили, на Алдане воевали, может, останешься?
Старый ленский казак взглянул на Михея с пустой, натянутой улыбкой, потом на льды, почмокал нависшей губой с редкими усами и отмолчался. Стрелец Беляна с окаменевшим лицом повернулся к нему спиной.
До Семенова дня оставалось две недели, уже чувствовалось приближение недолгой северной осени, которая быстро переходит в зиму: ярче желтела тундра, сбивалась в стаи, вставала на крыло перелинявшая водоплавающая птица, кружили журавли, выпал и растаял снег. Снегопад не был в диковинку даже в июле, но если Стадухин еще надеялся добраться до Колымы, то добрая половина его отряда думала иначе. Казаки торопились найти места, богатые соболем, груды плавника по берегам были порукой, что в верховьях есть лес. Где лес — там соболь. В тундре водились только песцы, шкуры которых скупались торговыми людьми за бесценок.
Снова чувствуя на себе недобрые вопрошающие взгляды спутников, атаман объявил:
— Будем строить зимовье из плавника, не нам, так другим сгодится, и будут благодарить нас перед Господом, а Он наградит. Вдруг сами вернемся, если не дойдем до Колымы.
Казаки согласились, что зимовье в этом месте никому не повредит, и им тоже. Сообща выбрали сухую возвышенность и заложили избу. Она была поставлена и обнесена частоколом за неделю. Ветер не менялся, льды не разносило. В середине второй седмицы, когда взялись устраивать лабаз и баню, к зимовью на плоту приплыли Мотора с Беляной.
— Здесь Колыма, братцы! — закричали, не успев перевести дух. — Поширше Индигирки, поуже Лены. А эта — одна из проток ее дельты.
Сидя в избе возле очага, посыльные рассказали, что когда тянули бечевой коч, из тундры выскочили мужики, похожие на чукчей: в костяных и деревянных латах, с тяжелыми луками. Зырян с Моторой дали залп картечью, пятерых сбили с ног, но не убили. Казаки и промышленные не приметили в напавших страха от грохота и дыма. И уходили они, явно заманивая за собой в болота. Готовые ко всяким хитростям, люди Зыряна преследовать их не стали, но дошли до самой реки с устьем полноводного притока по правому берегу. Зырян отправил в его верховья ертаулов. Они вернулись, выбитые немирными мужиками, сказали, что, наткнувшись на селение, видели юрты, крытые мхом и кожами, вроде якутских, много собак и оленей. Какие народы живут, не узнали, но заметили на краю селения избу с бойницами, вроде нашего зимовья. Зырян со слов ертаулов понял, что своими силами селение под государя не подвести, послал казаков к Стадухину за обещанной помощью, велел сказать, что Колыма-река здесь, дальше плыть не надо. Весть эта была принята с радостью, потому что по берегам протоки появились забереги, мели стали покрываться льдом. Уже и сам беспокойный атаман, поглядывая в устье губы, тоскливо помалкивал. А то, что до холодов поставили зимовье с частоколом, было удачей.
— Не откажем в помощи, братцы? — повеселев, обратился к спутникам Стадухин. — Вдруг и сами чего добудем!
Казаки решили оставить в зимовье Пантелея Пенду и Втора Гаврилова, а Чуну взять толмачом. Бежать ламуту было некуда, в аманатах у казаков жить лучше, чем в рабах у колымских мужиков. На ламута давно не надевали колодок и относились как к равному, а он уже изрядно говорил по-русски. Отряд из десятка казаков отправился в верховья реки пешком по проложенному бечевнику и в три дня добрался до зыряновского стана. За время, которое здесь ждали подмоги, появилось подозрение, что беглых алазейцев приютило то самое селение колымских людей. Казачий десятник держал при себе одного из индигирских аманатов, оставленных сородичами. Тот не меньше казаков возмущался, что брошен родственниками, и надеялся отыскать их здесь.
Соединившись, два отряда двинулись вверх по восточному притоку. Устье его было равнинным, покрытым редким низкорослым лиственничным лесом, вдали синели горы. С каждой пройденной верстой обрывистые берега становились все выше, с них свисали к воде подмытые течением, падающие деревья в три сажени и больше. Если бы Зырян решил тянуть за собой коч или струги, бурлакам пришлось бы туго, но люди шли налегке. Отряд был замечен на подходе к селению, встречен парой нестройных ружейных выстрелов и градом стрел из бойниц крепости.
— Вот те раз! — выругался Зырян. Скрываясь за деревьями, подбежал к Стадухину, разъяренно вскрикнул: — При ружьях! — Михей пытливо взглянул на него, по лицу понял, что тот тоже обеспокоен тем, что они здесь не первые из русских людей. — Наверное, какую-то промысловую ватажку пограбили! — пронзительно взвыл десятник. — Мой аманат не ошибся, воочию узнал беглых родственников. — Скрипнув зубами, усилием сдерживая гнев, вскинул на Михея приуженные глаза: — Как брать будем?
— С налета умоют кровью! — поцокал языком Стадухин. — Придется защиту рубить.
В два десятка топоров казаки и промышленные навалили реденькую засеку на краю перелеска, укрылись за ней. Из расщепленных лиственничных стволов сделали щит на полозьях. Наблюдая за их работой, из бойниц время от времени неумело постреливали из пищалей и прицельно пускали боевые стрелы. Уже вблизи крепости, когда стало ясно, что осажденным не удержаться, часть защитников бросилась в заросли берегового кустарника, другие вышли, показывая пальцами на язык. Зырян выскочил из-за щита и в запале стал хлестать двух мужиков батогом.
— Вон аж куда прибежали! — удивленно проворчал под ухом Стадухина Семен Мотора.
Приступ обошелся без большой крови и этим обе стороны были довольны. Беглые юкагиры дали соболей за прошлый год вдвое против прежнего. Зырян потребовал от них вместо брошенного аманата — тойона Шенкодью. С колымских мужиков казаки тоже взяли заложника. Посовещавшись между собой, колымцы выдали сына своего тойона и сотню соболей. На том распря была закончена. Клятв на верность государю и вечное холопство ни с тех, ни с других не брали.
Пока Зырян выспрашивал колымцев и беглых юкагиров, откуда у них ружья и как называется река, на которой стоит селение, Михей с двумя казаками пошел по юртам, брошенным детьми и стариками, поискать вещи и следы пропавшей промысловой ватаги. А пропадало их за Леной много. Жилье было бедным. Если какие-то семьи имели железные котлы, то женщины и старики прихватили их, как и все ценное. В двух юртах нашлись половики, сшитые из собольих спинок, казаки забрали их как погромную добычу. В третьей пришельцев приветливо встретила молодая женщина, в ней нетрудно было узнать рабыню. Язык у колымцев был свой, Чуна их не понимал. Мишка Коновал поманил женщину, она поняла его и увязалась за казаками, как прикормленная собачонка. Михей Стадухин тайком бросал взгляды на ее круглое узкоглазое лицо и с удивлением находил в нем сходство с Ариной.
«Бес прельщает!» — думал. Втайне раз и другой перекрестился. Но глаза сами по себе отыскивали женщину.
Возле последней юрты повизгивал медвежонок, привязанный к пню волосяной веревкой. Рядом с ним валялись иссохшие рыбьи хвосты. Петля натерла на шее зверя кровавую рану и причиняла ему боль. Стадухин подошел, наклонился, заглянул в маленькие затравленные глазки зверя, протянул руку. Медвежонок заурчал, словно жаловался, но не отпрянул, не укусил. Вспомнились Илим, Кута и Лена, медведь, крутившийся возле него с Ариной в самые счастливые ночи.
— Видать, на днях забьют! — буркнул Коновал. — А на кой? Здесь лосей много, да здоровущие!
— Нельзя есть тварь с когтями. Бог не велит! — с обычной важностью изрек Пашка Левонтьев и пригладил отросшую бороду.
— Будто не ел печеных лап? — неприязненно огрызнулся Коновал.
— Грешен! — не смутившись, ответил казак. — Но после каялся!
— И волосы подрезать в круг грех, и бороду равнять! — язвительно кривя губы, напомнил Коновал.
— Грех! — степенно согласился Пашка. — А Никола Угодник на иконах отчего такой? Тоже грешен?
Стадухин мысленно чертыхнулся неуместному спору. Пашка был хорошим казаком: работящим, нескандальным, нежадным. Презирая власть как величайший христианский грех, не пытался верховодить и перед начальствующими не гнулся, но был поперечен, как Зырян. Михей не помнил, чтобы его за это колотили, так как он ни на чем не настаивал, считая, что если высказал свое — нет на нем общего греха.
Не поднимая головы, Стадухин снял веревку с окровавленной шеи медвежонка и перевязал ее под лапы. Зверек будто понял человека и послушно пошел за ним.
А возле захваченной крепости казаки и промышленные затевали спор.
Издали слова их были неразборчивы, но по голосам можно было догадаться, что спорили из-за добычи. К Стадухину бросился Федька Катаев с подсыхавшей кровью на щеке.
— Митька как все поворачивает? — слезливо закричал без обычного кудахтанья. — Все добытое на погроме им, а нам кукиш? За что кровь проливали? — Болезненно сморщился, щупая рану.
— О чем спор? — раздувая ноздри, стал напирать на Зыряна Стадухин.
Медвежонок, почуяв недоброе, терся о его ногу.
— Алазейские юкагиры — наши? — закричал Митька, сверкая глазами.
— Уймись! — громко оборвал его Мишка Коновал. — Возле коча поспорим, не здесь!
Стадухин метнул на Зыряна злобный взгляд, шмыгнул носом и сипло спросил:
— Крепостицу жечь будем?
— Зачем жечь? — опять беспричинно раскричался Зырян, еще не остыв от спора. — Раскатаем по бревнам на плоты.
Казаки и промышленные разобрали укрепление, связали бревна, поплыли по Анюю с ясаком, аманатами, с погромной женкой Калибой и медвежонком. Колымские мужики не возмущались, что у них уводили рабыню и зверя: радовались, что не увели собак. А спор между стадухинскими и зыряновскими служилыми продолжался из-за анюйского аманата — кому под него брать ясак?
Плот Зыряна обошел остров в устье Анюя и беспрепятственно поплыл по Колыме, а плот со стадухинскими людьми попал в водоворот. Справа яр, вода глубока, шестами до дна не достать и не угрести, а весел не тесали. Стадухнцев пронесло мимо берега, завернуло и повлекло против основного течения реки к прежнему месту. Казаки плескали шестами и ничего не могли поделать, в то время как с Митькиного плота доносились дружный хохот и язвительные советы — хватать водяного за бороду.
Стадухин лег на живот, стал осматривать глубину. Вода была чиста и прозрачна. По песчаному дну ходили большие рыбины, другого не было видно. Пашка, задрав бороду, по памяти читал молебен Николе Чудотворцу, Мишка Коновал хлестал шестом по воде и матерно ругал водяного. Неизвестно что помогло, но плот, сделав три круга, сам по себе освободился и подошел к зыряновскому кочу. Оставленный на реке без охраны, он стоял среди зарослей ивняка, сбегавших по отмели. На одну из них были вытянуты плоты. Михей вышел на берег и отпустил медвежонка. Зверек не убегал от людей. Атаман огляделся.
Розовела вечерняя гладь воды, вдали синели горы. На противоположном берегу стоял лиственничный лес. К добру ли, к худу, на самой высокой верхушке сидел тундровый ворон величиной с гуся и пристально наблюдал за прибывшими.
— Там острог надо ставить! — сказал вдруг Стадухин, указывая на лес и ворона.
Казалось бы, ничего обидного не промолвил, но зыряновские казаки и промышленные загалдели. Вдали от инородцев Митька опять вспылил, дав волю обуревавшему его негодованию.
— Ты кто такой, чтобы указывать? — пронзительно закричал, надвигаясь на Стадухина левым плечом. — На кой ляд ставил зимовье на протоке?
Увидев здешние места в лучах закатного солнца, стадухинские казаки взглядами и вздохами мягко корили атамана за то, что обосновались не там, где надо.
— Просидели бы у костров, погоды ожидаючи, — оправдался он. — А мы избу срубили. Царь-государь за труды наградит и воеводы пожалуют…
— Пожалуют! Батогами в полтора аршина…
Мало того что свои люди беспричинно бередили душу, еще и Зырян сыпал соль на рану. Зима на носу, а его ватажка не имела крова над головой, только собиралась рубить зимовье. Вместо того чтобы просить помощи, соперник орал непотребное, самому непонятное.
— Вот и руби где знаешь! — выругался Стадухин, намекая, что будет зимовать у себя.
— Это мы еще поглядим, — с вызовом отбрехивался Митька, уже не за правду, а по вредности. — Мы с ясаком и аманатами пойдем дальше к лесу. Алазейские мужики говорили — на Колыме много всякого зверя!
— Иди-иди! — отбрехивался Стадухин, понимая, что бессмысленная брань — только предтеча главного спора. — Половину ясака с анюйцев и аманата от них оставь мне!
— Вот тебе! — вскрикнул Зырян, выставив дулю.
Стадухин саданул его кулаком в грудь. Митька отступил на шаг, замотал головой, с дурными глазами схватился за саблю, но выхватить из ножен не успел.
— На кулачках… Божий суд! — закричали служилые и промышленные двух ватажек, хватая его за руки. — До первой крови!
Атаманы побросали на землю оружие, стали кружить друг против друга, нанося удары по плечам и по груди, пока Зырян не плюнул кровью и не опустил руки. Покрутив языком во рту, вытащил зуб.
— Не бил по морде, — оправдываясь, вскрикнул Стадухин. — Сам язык прикусил.
— Зуб у тебя еще в море шатался! — насупленно пробубнил Мотора.
Драка между казаками была не первой. Митька не испугался, но как-то разом успокоился и шепеляво, с насмешкой сказал, обращаясь к своим промышленным:
— Бес ему правит! — И сплюнул еще раз, мирясь с поражением.
Ясак с беглых алазейских юкагиров за прошлый и нынешний годы он взял на себя. По новому уговору после кулачного поединка ясак с колымского рода два отряда делили поровну, и еще взятые на погроме три пищали, два собольих половика, ясырку и медвежонка. Сын колымского князца Порочи остался у Стадухина: Беляна с Моторой убедили Зыряна, что нового аманата лучше держать в зимовье, а не таскать за собой вместе с алазейским. О Калибе спора не было, Михей не ввязывался, хотя втайне желал, чтобы девка осталась в его зимовье. И когда Коновал спросил, согласен ли, что Зыряну достанутся две погромные пищали, а им одна и девка, Стадухин молча кивнул. Про медвежонка не вспомнили, и он вслух посочувствовал зверьку:
— Шел бы к родне!
Наблюдавший казачьи распри Чуна растянул в улыбке тонкие губы:
— Куда ему идти? Он должен зимовать с матерью, а ее убили. Строить медвежий дом его уже никто не научит. Для него же лучше — если убьют и съедят… Был медведем — станет человеком!
Осенние ночи из сумеречных превратились в темные. Утрами воздух был чист. Над тундрой еще звучал тревожный журавлиный крик. Со свистом рассекая воздух крыльями, неслись и неслись куда-то стаи птиц. На верхушках окрестных сопок лежал снег, вода в заводях покрывалась корочками льда. У ног Стадухина розовела та самая река, которую он искал, о которой много думал в прежней жизни, а на душе было муторно: при множестве немирных народов отряды глупо разъединялись. Вскоре протока покрылась морщинистым льдом, который, местами тянулся от одного берега к другому, мох стал хрусток, а заиленный берег тверд.
Мечтая о теплом, протопленном жилье, казаки подходили к знакомым местам, уже видели тын и мирно курившийся дымок, когда Михей резко остановился и приказал: «Стой!» Отряд замер. Медвежонок, который шел без привязи, то отставая, чтобы подкрепиться ягодой, то нагоняя людей, ткнулся носом в ногу и заурчал. Стадухин сам не понял, что насторожило его, пристально вглядывался в окрестности, пока не приметил чужих выстывших кострищ с запахом свежей золы. Пронзительно свистнул. На плоскую крышу избы вскарабкался Вторка, узнал своих, махнул рукой. Вблизи знаков боя было много: вытоптанный мох, стрелы, торчавшие из тына. Отряд вошел в ворота, у распахнутых дверей зимовья казаков встретил Пантелей Пенда.
— Кто? — спросил Стадухин, не успев перекрестить лба.
— Чукчи! — обыденно ответил старый промышленный. — Заходите, грейтесь. Есть печеная рыба и гусятина.
Клацая деревом, звеня металлом, казаки составили в угол пищали, побросали сабли и топоры, обступили очаг, снимая сырые парки и бахилы. Михей затворил ворота, заложил их изнутри, оставив медвежонка за тыном. Вошел в зимовье последним.
— Пришлось повоевать! — неохотно ответил Пантелей на его вопрошающий взгляд. — Случайно вышли на нас два десятка мужиков, хотели пограбить. Дня три как отбились…
— Пантелей Демидыч на хитрость взял! — охотней рассказал Втор. — Постреляли мы друг в друга, попускали стрелы, а он схватил большой железный котел — и за ворота. Я подумал, вместо куяка прикрыться или что? А дед швырнул его на лед протоки и обратно за тын. Гляжу, мужики сломя голову бросились за котлом. Лед под ними провалился, потонули, бедные. Остальные бежали. А мы без котла теперь.
— Лед окрепнет, пробьете прорубь, найдете! — хмуро оправдался Пантелей, не желая вспоминать об отбитой осаде.
До темноты люди отдыхали и устраивались: отвели место аманату, вырубили для него колодки, сделали нары для девки. В сумерках Михей выглянул за ворота с надеждой, что медвежонок ушел. Но он, наевшись ягод, разрыл место, куда сваливали рыбьи и птичьи потроха, клацал зубами, разгоняя ворон и песцов, считавших тухлятину своей добычей. Стадухин выставил караул, вернулся под теплый кров. Пантелей Демидович лежал на нарах, закрыв глаза и округлив белую голову руками со сцепенными пальцами. Атаманское место было рядом с ним. Михей присел на одеяло, стал рассказывать о скандале с Зыряном. Пенда слушал, не открывая глаз. И только, когда атаман спросил, прав ли был в споре с Митькой, тот сонно ответил, что уходит к нему.
— Чем тебе у меня плохо? — удивился Михей.
— У вас служба, у меня — промысел! — Усмехнулся Пенда, показав щербины зубов в бороде. — Раз уж добрался до новых мест — промышлять надо и дальше идти. — Помолчав, душевней добавил: — Кабы кто знал, как надоело убивать, давить, шкурить живую тварь Божью. А надо!
Стадухин смутился, будто был уличен в недостойном. Он скрывал, что с детства до нынешней поры не притерпелся смотреть, как режут скот, умерщвляют пушного зверя, мясо которого бросают воронам или сжигают. Другое дело добыть готовый мех на погроме, в виде ясака или при мене.
— Один пойдешь? — спросил и стал невпопад пугать немирными народами, заломами на реке, мерзлотными ямами, медведями-шатунами, дурным осенним лосем, который ударом копыта может переломить хребет.
Пантелей терпеливо слушал его со снисходительной улыбкой в бороде. Нарту и лыжи он сделал загодя. На другой уже день собрался и ушел к основному руслу реки. Медвежонок за ним не увязался, а бродил возле зимовья, спешно набирая жир ягодами и мышами, бросался на куропаток, гонялся за нагловатыми песцами, вертевшимися у тына в поисках поживы. При открытых воротах стал забегать в тесный дворик, путался под ногами, но не царапался, не кусался, и его терпели. С каждым днем он становился все сонливей, сворачивался то возле поленницы дров, то в другом неподходящем месте, откуда его прогоняли. Однажды заскочил в избу, забился под атаманские нары и надолго затих. Михей тому не препятствовал и даже огородил драньем. Казаки ворчали и смеялись, но дух от зверя не был приторным, к нему быстро привыкли, предполагая, что атаман держит медвежонка на черный день.
Кончилась короткая северная осень. Завыла ветрами, замела метелями полярная зима. Пока холода не вошли в полную силу, казаки ловили рыбу, морозили и складывали в лабаз, густо обгаженный чайками. Анюйского аманата ночами держали в колодке. От Чуны уже не прятали оружия, бежать из этих мест одному невозможно. Днем по желанию аманаты работали наравне со всеми, хотя их не принуждали, и каждый на свой лад, прельщал Калибу, чтобы жила с ним в женках. Казаки считали это справедливым, на Лене почетных аманатов содержали с женами, а для укрепления здоровья каждый день давали по чарке горячего вина, чему завидовали служилые. Здесь же, кроме рыбы и птицы, кормить было ничем. Прислушиваясь и принюхиваясь к медвежонку, спавшему под нарами, Чуна навязчиво напоминал Михею:
— Вырастет, забьешь, шкуру дашь мне! А я сошью тебе такой кукуль или кухлянку, в снегу тепло спать будешь.
Атаман ничего не обещал ламуту, но и не отнекивался, только пожимал плечами, о том, как распорядиться медведем-пестуном, не думал, радовался, что Чуна свободно говорит: хороший толмач в отряде — ценная редкость.
Попав из одного рабства в другое, Калиба посвежела, в ее глазах появился живой блеск. Она гневно пресекала попытки Чуны и сына колымского тойона принудить ее к сожительству. Приметив это, казаки наперебой стали звать ее к себе. Она же знаками показывала, что не желает жить ни с кем из них, и бросала на Стадухина тревожные, чего-то ждущие взгляды. Это никого не удивляло: ясыри быстро понимали, кто в окружении главный, и всеми силами служили ему, добиваясь покровительства. Бывало, пока начальный человек в силе, служили преданно. И опять Михей Стадухин маялся, переглядываясь с погромной женкой. Умученный снами, в которых был с женой, стал прельщаться, пусть через грех, но остудить истомившуюся душу: не думал, не гадал, что память о прежнем счастье так же мучительна, как несчастье. И попутал бес, да еще в субботу, после бани. Зимовье было жарко натоплено, казаки и аманаты сидели возле пылавшего чувала, пили травяной отвар. Последней мылась Калиба. Михей отметил про себя, что людей в избе убыло.
— Куда разбежались? — спросил, обернувшись к двери.
Вошел Федька Катаев, взъерошенный, как кот после драки. Окинул сидевших шальными глазами.
— Худа! — Присел к огню, к оставленной чарке с остывшим напитком. Помотал головой, пришел в себя, как обычно похохатывая, добавил: — Пока в парке — ничего, — округло повел ладонями, изображая женские прелести. — А голая что жердина.
Стадухин стыдливо выругался:
— Девку в бане разглядываете?
— Надо же знать, — ухмыльнулся Федька. — Возьмешь в женки, а там… — приставил две фиги к груди и перекрестился.
Михей встал, накинул на плечи меховой кафтан, вышел. Окрестности были покрыты снегом. В сумерках полярной ночи из приоткрытой банной двери поднимался густой пар. Согнувшись коромыслами, в нем что-то высматривали два казака. Стадухин подошел тихо, они оглянулись, смутились, вернулись в избу. За клубами пара при свете горевшего жировика виднелась Калиба. Она нагишом сидела на лавке, поливала себя водой, как ребенок фыркала и смеялась. Мокрая и обнаженная ясырка ничуть не походила на Арину. Наверное, ей, непривычной к бане, было жарко, оттого распахнула дверь. Михей хотел ее прикрыть, но вместо того, нагнувшись, вошел и затворился. Ничуть не смутившись, Калиба взглянула на него мокрыми сияющими глазами, покорно улыбнулась. Разопревший от жара каменки, очарованный женским смехом, блеском глаз, Михей распахнул кафтан. Она прильнула к нему мокрым телом, показывая свое расположение. Тут в голове Стадухина как-то разом все прояснилось. Он почувствовал, что вскипевшая было страсть так же быстро остыла, будто ластилась к нему не обнаженная женщина, а зверушка. Стыдливо прокашлялся, пролепетал что-то про дверь, отстранился, вышел, стал истово креститься и кланяться на восход с благодарными молитвами святому покровителю, что не допустил греха.
С таким же пламеневшим лицом, как Федька Катаев, он вошел в зимовье, сел за оставленную чарку. Сидевшие кружком казаки дружно заржали.
— Чего? — отстраненно спросил он.
— Прельстился! — не мигая, спросил Мишка Коновал. Его губы и рубец на щеке оставались неподвижными.
— Нет! — неуверенно пролепетал Михей.
Казаки засмеялись громче. Только Коновал пристально буравил атамана глазами. Михей не понял, отчего им весело, но в душу запала какая-то заноза. Как во сне он выставил и проверил караул, вернулся, при свете углей и чадившего жировика лег, забыв прослушать окрестности. Из угла тенью поднялась Калиба с распущенными по плечам сырыми волосами, юркнула к нему под одеяло и прильнула, как там, в бане.
— Вот и поделили ясырку! — зевая, пробормотал Втор Гаврилов.
— И медведя атаман подгреб под себя, и девку! — вздохнул Коновал. — Ничего, добудем потолще!
— О греховном думаете, греховное творите! — нравоучительно проговорил Пашка Левонтьев, придвинулся к очагу, подбросил дров на угли, вспыхнуло пламя, высветив избу. Лежа на боку, он раскрыл Библию, долго шелестел страницами. — Вот оно! — сказал и стал читать по слогам: «Господь прогнал от вас народы великие и сильные и перед вами никто не устоял до сего дня.»
— Многочисленней бурят не было никого! — заспорил Коновал.
Пашка не ответил, продолжая читать:
— «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и они к вам, то знайте, что Господь Бог не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш.»
Он громко захлопнул книгу, казаки с недоумением зароптали:
— Своих-то женок где брать? Или оскопиться, как ты?
Чей-то всхрап усмирил полусонный говор. В трубе чувала загудел ветер. Под боком атамана лежала опытная женщина и старалась, чтобы ему было хорошо. Только все получилось вымученно и бесстрастно, не так, как с Ариной и даже с теми женщинами, которые были до нее. Но утром он не вскочил, как обычно, а поднялся со всеми вместе, когда сменился ночной караул.
— На пользу атаману баня! — с клекотом в горле проурчал Федька Катаев.
Стадухин зевал, потягивался и не чувствовал обычного желания схватиться за дела, намеченные с вечера. На Федьку он не сердился: никто из казаков не брал Калибу на саблю. Коновал первым позвал за собой, потому и язвил, срывая досаду. «Ладно хоть до поста! — оправдался перед собой атаман. — Да вот ведь — на светлое воскресенье… Надо в баню сходить перед утренними молитвами».
К следующей ночи Калиба натаскала сухого мха, сделала постель мягкой и удобной, по обычаю народов, живущих скопом по нескольку семей, завешалась лавтаком и вечером, уже по-хозяйски, устроилась под атаманским боком. Жалея женщину, Михей не прогнал ее, но стал жить как с женкой.
5. Серебряные слухи
К филипповкам стужа вошла в полную силу, но таких лютых холодов, как на Оймяконе, не было, не было и тамошнего безветрия. После пург, во время которых Стадухин лежал и слушал окрестности, недолго держалась безветренная погода, мерцали низкие звезды, в полнеба полыхали разноцветные огни сияния. Голодный тундровый ворон, посидев на лабазе, спланировал к отбросам, густо истоптанным песцами. Из-под крыши зимовья вылетели взъерошенные синицы. Очаг горел не угасая, в избе было тепло и сухо, пахло дымом, рыбой и нерпичьим жиром.
При общей тишине атаман резко вскочил с нар без сна и вялости в лице, сунул ноги в торбаза, торопливо накинул песцовую парку, сшитую Калибой.
— С нерпятинки несет! — прокудахтал вслед Катай.
Но Стадухин тут же вернулся и поднял всех в ружье. Высыпавшие из избы казаки уже и сами слышали хриплый лай множества собак. Атаман выставил оборону и вглядывался из-за тына в сумеречные снега, покрывшие тундру и реку. На небе успокоенно мерцали звезды, луна освещала серебристую даль. К зимовью на собачьих упряжках подошли юкагиры и начали табориться. Атаман со Втором и Чуной вышли к ним, узнали, что пришел род, объясаченный Зыряном на Индигирке. Беглецы, поссорившись с анюйскими родственниками и явились под защиту казаков, поскольку дали ясак. Нежданные гости поставили чумы неподалеку от тына, и прежняя тишина была порушена: крики людей, детский визг, собачий вой не смолкали сутками. От беспокойного соседства разбежались даже песцы, которых казаки добывали поблизости от жилья, завздыхал, заскребся и заворочался под нарами пестун.
Казаки ругали Зыряна: ясак взял он, индигирский аманат был у него, стало быть, его люди должны защищать юкагиров, а они пришли в зимовье, где содержался заложник от их нынешних врагов. Завидев его, юкагиры кого-то громко ругали, сын тойона с важной сдержанностью не отвечал им, только задирал нос. Атаман не знал, что делать с беспокойными соседями. Чуна, уже слегка понимавший язык гостей, тоже не мог дознаться, почему они пришли сюда, а не к Зыряну.
Из-за пришлых индигирцев Стадухин перестал чувствовать округу, ощущая себя слепым и беззащитным. Сумрак полярной зимы то и дело менялся непроглядной мглой, одна метель — другой. Зимовье замело под крышу, утеплив снегом. Враги могли явиться неожиданно и напасть с любой стороны. Михей опять не спал ночами, проверял караулы и злил казаков придирками.
Вскоре выяснилось, что приход юкагиров не был случайным: на второй неделе поста караульный застучал прикладом в крышу и выстрелил. Стадухин вскочил, протер глаза, казаки оделись и похватали ружья. Дымы зимовья и чумов, мешаясь со снегом, ложились на землю. На юкагирском стане выли собаки, кричали мужики и визжали женщины. Погода была самой разбойной: порывы ветра поднимали сухой снег и колко швыряли в лица, с трудом проглядывалось, что вокруг чумов носятся нарты с впряженными оленями, и верховые мужики. Все на ходу стреляли из луков по стану. Досадуя, что заспался с ясыркой, атаман огляделся: бой шел в отдалении, стрелять из-за частокола не было смысла. Стадухин окликнул Вторку с Федькой. Два казака с выбеленными бородами, с пищалями наперевес послушно вынырнули из-за его спины, следом увязался Пашка Левонтьев в нахлобученной до глаз шапке. Прикрыв запал полой парки, он на ходу подсыпал на него порох из рожка. Михей, отрывисто покрикивая, приказал двоим остаться и смотреть за колымским аманатом, а Пашке быть рядом. Подбегали другие казаки. Чуна с непокрытой головой и рассыпавшимися по плечам, выбеленными волосами топтался с тяжелым тунгусским луком, колчан с длинными стрелами болтался за его спиной. Своим видом он просил разрешения участвовать в бою.
— Покамлал бы на погоду! — крикнул ему Стадухин.
— Бубна нет! — сжимая в нитку щелки глаз, оправдался Чуна и тряхнул тяжелым луком. Михей кивнул и во главе семерых казаков побежал к юкагирскому стану.
Приблизившись на выстрел, четверо дали залп. Пороховой дым смешался со снегом, унесся по ветру. Михей даже не уловил его запаха. Пока стрелявшие перезаряжали ружья, другая половина отряда подбежала ближе к нападавшим. Порыв ветра ненадолго подмял снежную завесу, и они увидели, что находятся среди врагов. Чуна сорвал с оленя мчавшегося на него всадника, схватил быка за рога и вскочил в седельце. Но олень строптиво упал, перевернулся на спину и стал валяться в снегу. Казаки, не имея возможности стрелять, стали отбиваться стволами и прикладами пищалей. Нападавшие отхлынули от стана, юкагиры выскочили из чумов, стали стрелять из луков. По оклику атамана, бежавшего впереди, четверо дали другой залп. Чуна же продолжал барахтаться в снегу с непокорным оленем.
Бой длился недолго. Подхватив убитых и раненых, нападавшие умчались на другой берег протоки. Воодушевленные казачьей поддержкой, юкагиры стали собирать собак в упряжки, чтобы гнаться за противником. Стадухин, опасаясь вражьей хитрости, заставлял их защищать стан. С недовольным видом юкагирские мужики подчинились, зарезали раненых оленей, начали варить мясо. Среди казаков убитых не было, но на двух казачьих куяках вражьи стрелы с костяными наконечниками пробили железные полосы — полицы. Такие луки могли быть только у чукчей. Последним в зимовье приплелся Чуна, бросил в угол колчан, скинул парку, обнажив бок, разодранный то ли вражьей рогатиной, то ли оленьим рогом, присыпал рану золой, лег вниз лицом. Длинные, мокрые от тающего снега волосы рассыпались по земляному полу. Мишка Коновал порылся в мешках, пошуршал сухими листьями.
— Приложи! — протянул ламуту горсть сухой травы. — К утру затянет.
Шаман не пошевелился, чтобы подлечить рану.
— Из-за царапины так опечалился? — толкнул его Михей.
Не поворачивая головы, Чуна пробормотал:
— Олень сказал, чтобы я на него не садился, потому что стал русским!
— Еть их в нюх! — озадаченно поругивался Втор Гаврилов, рассматривая подобранный вражий лук. — Покрепче трехслойного тунгусского.
Калиба еще только начинала говорить по-русски, чаще общалась знаками. Вместо того чтобы учить ее языку, казаки потешались, и женщина, глядя на Михея невинными, как у телушки, глазами, под общий хохот произносила какую-нибудь нелепицу или брань. А надо было расспросить ясачников, что за народ напал на стан. Михей подергал за рукав Чуну, ламут замычал, задрыгал ногами, не желая вставать. Пришлось вести на стан свою погромную женку. Знаками и словами, которые она знала, Стадухин велел ей спросить про оленных мужиков. Калиба поняла.
— Чаучу! — ответила, не обращаясь к юкагирам, и указала на закат.
— Чухчи! Чухчи! — возбужденно лопотали юкагиры, рассматривая упряжь, снятую с убитых оленей. Михей понял, что на стан нападал отряд из нескольких народов, среди которых были и оленные чукчи, где-то поблизости их много: сидячих, безоленных, кочевых.
Возмущенные юкагиры настойчиво тянули казаков к собачьим упряжкам, предлагая погоню. Пурга стихала, засветлела полоска неба над нагорьем. Воинственно настроенных мужиков было до полусотни, следы нападавших еще не замело, был соблазн догнать врагов, пока те не озлобились поражением, взять заложников и подвести роды под государеву руку. Оставив в зимовье четверых казаков, Стадухин приказал держать колымского аманата в колодках. Чуну, все так же лежавшего вниз лицом, принуждать не стал, но взял с собой Калибу — с юкагирами она говорила свободно. Ко всему, не хотелось ее ковать, а сговора с анюйским аманатом он опасался.
Собаки по окликам возниц поняли, куда надо бежать, и с хрипом взяли полузаметенный след. Двигаться по нему было легче, чем по сугробам. В первых трех упряжках за спинами погонщиков сидели казаки с пищалями. За ними неслись около двух десятков нарт с юкагирами. В суете боя, разборок и сборов только здесь Михей почувствовал голод. Метель унялась, мерцали низкие звезды, разноцветными огнями полыхало небо. Он отыскал глазами Кичиги — в это время, по ленским порядкам, из кабака выталкивали засидевшихся гуляк, а поп у церкви бил в клепало. Голод почувствовал и Мишка Коновал, вытащил из-за пазухи юколу, не успел разломить, как возница, буркнув что-то злое, вырвал ее из рук и сунул себе под парку.
«Сразу бить или потом?» — взглядом спросил казак, обернувшись к атаману на ближайшей нарте. Рубец на его щеке казался огромным кривым ртом. Но Михей куда-то пристально глядел из-под обметанных инеем бровей. Мишка повел носом и уловил запах дыма, затем различил островерхие крыши чумов. В ночи показался стан, и выглядел он слишком мирным для людей, вернувшихся с набега. Шарахнулось стадо оленей, жавшееся к дымам, завыли собаки. Юкагиры, не останавливая упряжек, стали пускать стрелы по чумам. Из-за приоткрытых пологов полетели ответные. Завизжали раненые собаки. Прибывшие окружили стан и начали громко переговариваться с осажденными. Те перестали стрелять, и через некоторое время для переговоров вышли два мужика и старик. Оглядев их, Стадухин приказал Коновалу:
— Ловите того, что похож на шамана!
Казаки кинулись к послам, схватили мужика в песцовой парке. Калиба свободно говорила с ним и, улыбаясь Михею, объясняла жестами, что этот род не участвовал в нападении, что погромщики проехали мимо них. Полузаметенные следы указывали, что так оно и было, но юкагиры галдели, в чем-то упрекая колымских мужиков, а те вяло отговаривались. Окинув взглядом стан, Стадухин затребовал сто соболей и аманата. Калиба долго не могла понять и объяснить, чего он хочет. Казаки содрали со старика соболью рубаху, показали сшитые в одно полотно шкуры и на пальцах — сколько их надо дать. Вскоре Калиба смогла объяснить атаману, что собрать сотню соболей колымцы не могут. Стадухин решил, что гоняться неизвестно за кем по едва заметным следам — дело безнадежное, и велел возвращаться. Заложник остался у казаков, соболью рубаху они прихватили с собой.
Едва юкагирские упряжки повернули в обратную сторону, небо снова прилегло на головы путников, затянулось новыми тучами, и разыгралась метель непроглядней прежней. Ничего не стало видно, только слышались отрывистое дыхание собак и поскрипывание нарт. Потом и эти звуки пропали. Вскоре Стадухин понял, что его упряжка отбилась, а возница заплутал, доверившись собакам, которые своим умом должны были вывезти нарты на стан. Изрядно устав бессонной ночью, атаман уткнулся носом в ворот парки и задремал. Когда он проснулся, все так же мела метель, нарты стояли, возница спал, завернувшись в кухлянку, собаки лежали в снегу, уткнув носы в хвосты. Михей толкнул юкагира, тот приподнял голову.
— Что стоим? — спросил, кивая на собак.
Погонщик указал пальцем в небо.
— У-у-у! — погудел, вытянув губы с ниткой усов.
— Заплутали, отбились! — чертыхнулся Стадухин, улегся поудобней, закрыл глаза и не почувствовал вокруг себя ничего живого, кроме равнодушно дремавших собак.
Впрочем, какое-то странное ощущение все-таки было: спокойная, как у Бога, бесстрастная сила то тлела гаснущим угольком, то пропадала с левой стороны от нарт. Михей понял, что нечто живое и разумное очень далеко от них, но ближе ничего не было. Он растолкал возницу, указывая направление. Тот неохотно поднял собак и, покрикивая, заставил их тянуть нарту куда указал казак.
Двигались они долго. Косо секущий снег бил по щекам, закрывал все впереди. Голодные собаки шли неохотно, то и дело ложились, выгрызая лед из когтей. Путники поднимали их пинками и заставляли бежать дальше. В очередной раз Михей разгреб ногами снег и обнаружил под собой лед. Между тем жизнь, которая не складывалась в его голове ни в какой образ, приблизилась настолько, что он чувствовал ее даже лицом. И вдруг она оказалась рядом. Стадухин с недоумением вглядывался в летевший снег, пока из него не появился человек огромного роста. «Не ошибся!» — обрадовался атаман. Юкагир весело залопотал, размахивая руками, будто встретил единокровников.
— Веди собак за мной! — приказал верзила и повернулся широкой спиной.
Они вошли под неярко освещенный кров, нарты проскрипели полозьями по каменному полу и остановились. Собаки в постромках попадали где стояли. Закрылась дверь, окончательно отделив заплутавших путников от метели и снега. Человек сбросил с головы шапку, шитую заодно с паркой, и оказался русобородым длинноволосым молодцом вполне русского вида. Стадухин радостно наложил на себя крестное знамение, выискивая глазами образа, и не нашел их. Детина понял его, указал рукой восток. Михей сбросил шапку, семижды поклонился, затем стал стягивать обледеневшую парку. Под кровом было тепло. Здоровяк, который был на голову выше атамана, провел гостей в другую комнату, поменьше, усадил за стол, на котором в деревянных блюдах лежали вареное мясо и рыба. Юкагир с жадностью набросился на еду, Михей, глядя на него, почувствовал, что сильно проголодался. Рыбу он ел каждый день, в зимовье она была основной едой, а потому подналег на сочное волокнистое мясо. «Сумели же запастись в зиму сохатиной», — подумал.
— Это кит! — добродушно улыбнулся молодец.
В помещение вошла девка с непокрытой головой, с косой, выпущенной сбоку поверх песцовой парки. Одета она была как дикая, в меховые штаны, в простую и удобную одежду без казачьего самохвальства, молча села в стороне, с блуждающей улыбкой стала ненавязчиво разглядывать гостей. Никакой угрозы, дурного умысла Михей не чувствовал, расспросов ждал после еды или после отдыха. Насыщаясь, разглядывал хозяев и отметил про себя, что по покрою одежды они не походят ни на кого из известных ему народов.
— Зачем нам на кого-то походить? — добродушно посмеиваясь глазами, детина вопросом на вопрос удовлетворил любопытство казака. — Как удобно, так и одеваемся.
Глядя на него, юкагир чему-то засмеялся, икнул, срыгнул воздух из кишок, стал клевать носом, потом откинулся на лавке, свернулся калачом и засопел. Михея после еды тоже придавила вязкая усталость. Он раз и другой зевнул, хозяева поддержали:
— Отдыхайте с дороги, собак мы накормим!
«Что за люди?» — засыпая, подумал Михей и провалился в глубокий сон.
Проснулся он от чавканья, чувствуя себя отдохнувшим. Юкагир опять ел. Мясо и рыба на столе были теплыми, хотя по ощущениям спали они долго. Потянувшись до хруста в костях, Михей напился из кувшина теплого отвара, по вкусу походившего на брусничный. Есть не хотелось, но надо было подкрепиться в дорогу, и он тоже принялся за еду. Когда насытился, стал ждать хозяев, складывая в голове, что должен сказать о себе, а чего говорить не надо. Вошел все тот же высокий молодец, ни о чем не спрашивая, объявил, что выведет их к устью Колымы.
«Ну и ладно! — подумал Михей. — Оно и лучше, что хозяева не любопытны. Наверное, промышляют без отпускной грамоты».
Они опять вышли в прихожую, где стояла нарта. Сытые отдохнувшие собаки завертелись вокруг юкагира. Он стал впрягать их в постромки. Собаки нетерпеливо повизгивали и скребли лапами каменный пол. Ворота распахнулись. Пурга унялась, дул несильный ветер, мела поземка. Молодой бородач встал на лыжи, повернулся к упряжке широкой спиной, на которой висел кожаный мешок, поправил длинный нож на поясе и быстро побежал по крепкому насту. Из-за поземки ног его не было видно, собачьи спины и хвосты двигались за ним и отставали. Михей с погонщиком то и дело соскакивали с нарты, облегчая собак, нагоняли, но не перегоняли.
«Ловок и силен, однако!» — отметил про себя атаман.
Бежали они долго. Снова стал чувствоваться голод, промышленный остановился и указал рукой на крест, поставленный на входе в протоку. Зимовье было неподалеку. Молодец сбросил с разгоряченной головы шапку, длинные русые волосы покрылись куржаком. Легким движением плеча он смахнул со спины мешок, развязал, достал связку из трех черных лис. Ленская цена им была рублей по десять.
— В подарок! — протянул Михею и добавил: — Не говори никому про нас!
— Уже понял, что промышляете без отпускной грамоты, — с восхищением разглядывая дорогих лис, кивнул Стадухин. — Бог вам судья и помощник, а я не враг. Благодарю за помощь, если что — приходите! — взглянул снизу в васильковые глаза, опушенные заиндевевшими ресницами. И спохватился: — За кого Бога молить? Имя не спросил.
— Молитва найдет без имени, — рассмеялся детина и без всяких признаков усталости побежал в обратную сторону.
Михей отметил про себя, что с первой встречи тот над чем-то посмеивался.
Атаман с юкагиром пропадали двое суток и явились в зимовье, когда погромленный род колымцев привез соболей и девку якутской породы. Некоторые шкуры были без хвостов, без лап и пупков, но и такие черные с проседью соболя по ленской оценке стоили рублей по двадцать за сорок. Казаки стали просить Стадухина отпустить взятого накануне аманата. Он подумал и согласился, что на десятерых зимовейщиков держать много заложников небезопасно.
На Страстной неделе юкагиры шумно засобирались и, ничего не сказав казакам, ушли. Зимовейщики не расспрашивали, куда они кочуют в самые холода: освобождение от них было благом. Якутская девка прибилась к Коновалу: то ли сама, то ли по жребию или розыгрышу, Михей не допытывался.
Калиба все лучше говорила и понимала по-русски. Как-то вечером нашептала Михею, что прежде чем попасть к анюйским колымцам, три зимы жила у чаучей, так она называла чукчей, не тех, что приезжали на погром с западной стороны, а кочевавших за горами и на реке Погыче у народа хор-олень. Стадухин снова услышал знакомое гортанное слово, и оно отозвалось в нем беспричинным юношеским волнением.
— Погыча! — похлопал по плечу Чуну. — Погыча! Ты тоже говорил про Похачу.
— Похача! — равнодушно прошамкал ламут. — За Камнем… Деда дед ходил. — Перевернулся на другой бок, задышал глубоко, сонно.
Михей смотрел на тлевшие угли в очаге и видел светлую реку с веселым гостеприимным народом вроде того дородного молодца, который вывел из пурги. Будто ждет он крепкой, справедливой власти, порядка на своей земле. Думал и о том, что строительство зимовья у моря, в тундре, не было ошибкой: пусть Митька заберет Колыму — он найдет другую реку, лучше и богаче.
Как водится, от скуки и безделья казаки потешались над женками, словами и знаками выспрашивали, сколько у них было мужей. Калиба долго не могла их понять. Ромка Немчин ткнул пальцем в сторону Михея, выставил девять других.
— Ну? Сколько Михеек?
Калиба морщила лоб, долго и тупо смотрела на Ромку, потом, просветлев лицом, указательным пальчиком прошлась по его растопыренным, потом еще.
— Сколько? — Ромка скинул чуни, показывая пальцы рук и ног. Калиба покачала головой и потрясла волосами, собранными в пучок. Казаки хохотали, женщина невинно смеялась.
— Нашли потеху, жеребцы! — укорил товарищей Втор Гаврилов. — Это мы, придурошные, все чего-то ищем, грабим, кровь льем, на рожон лезем, а бабы знай себе рожают. С кем сытней, безопасней, с тем и живут, пока очередному муженьку такие же удальцы глотку не перережут.
Казаки смущенно притихли, раздумывая над словами старого красноярского казака, повидавшего Сибирь. У Стадухина же прежние мужья Калибы любопытства не вызывали, он выспрашивал ее про Погычу. Есть ли там лес, промышляют ли чукчи соболя? Но женщина упорно отвечала, что на Погыче живут не чаучу, а хор-олень люди. Чукчи на лодках и оленях ездят за море, привозят мясо, кожи и моржовые головы, которые у них покупают разные народы, из моржовых костей делают поручи, куяки, обитые костяными пластинами, шлемы, латы, оружие, подбивают полозья нарт. Луки делают из китового уса.
В феврале несколько дней сряду розовел восход, затем, прорвавшись сквозь сумрак, брызнул первый яркий луч и показался край солнечного круга. Через неделю тундра была залита ярким светом, он резал прищуренные глаза, по щекам казаков текли слезы, застывали ледышками в бородах. Сверкал снег, кричали одуревшие от солнца куропатки, куропачи, с налитыми кровью бровями, теряя осторожность, бросались даже на людей, тявкали песцы, в поисках поживы низко над крышей зимовья кружил ворон, под нарами ворочался и всхрапывал атаманский пестун. Вскоре, выворотив загородку, он высунул длинные когти. Это был уже не медвежонок.
— Мишка! Застрели! — заорал Ромка Немчин. — Он же нас передавит.
Стадухин потрепал медведя по загривку, заглянул в его глаза. Зверь еще сонно, но уже пристально присматривался к нему. В какой-то миг в его взгляде появилась угроза.
— Я те поскалюсь, сын блядин! — Стадухин звезданул его кулаком по лбу и почувствовал, что тот смирился, стал ластиться. Он вывел пестуна за ворота и отпустил: — Отъедайся! И шел бы ты к своим, да подальше… К едреной матери. Не доводил бы до греха! — пробормотал вслед.
В апреле ночь стала коротка. После долгого дня и заката над долиной реки делался сумрак. Чуна подолгу где-то пропадал и один только раз вернулся с добытой нерпой. Его отлучки стали беспокоить атамана. Как-то он пошел следом, издали увидел ламута. Тот сидел на обкатанном волнами топляке, который вмерз в береговую полосу льдов, неотрывно смотрел вдаль и не услышал подошедшего казака.
— Что сидишь? — спросил Михей, присаживаясь. — Высматриваешь землю за морем?
— Думаю! — ответил ламут.
— И о чем твои думы?
— О казаках!
— Охтеньки! — рассмеялся Стадухин. — Хорошее или плохое?
— О том и думаю, — обернулся к нему ламут, его зрачки холодно сверкнули в щелках глаз. — Называете себя холопами царя, говорите, что служите ему, а никогда его не видели. Врете, наверное!
— Бога мы тоже не видим, но служим Ему! — стал снисходительно поучать атаман. — Наш царь — такой же раб Божий, как все христиане. Мы через него Богу служим.
— Ваш Бог служил своему народу и принял за него муки! — язвительно усмехнулся Чуна и с перекосившей скуластое лицо насмешкой так взглянул на Михея, что у того пробежал холодок по спине. — Я служу своему народу, для него призываю в помощь духов, хоть они меня мучают. Всякий мэнэ* и ороч* (самоназвание оседлых и оленных эвенов) юкагир и чукча служит своему народу, рабы — себе и хозяевам: боятся их, ненавидят, потому и служат. Как можно служить царю, которого не видел? Как раб! Вы правильно называете себя холопами!
— Бога и царя надо любить! Они шлют нас на окраины, чтобы делать мир по всей земле! — стал оправдываться Стадухин, бросая на ламута колкие взгляды.
— Если Бог и царь шлют вас делать мир — зачем деретесь между собой? Если посылают грабить — понятно, почему деретесь… Кто такие казаки? Не пойму! О том и думаю.
— Сказал бы ты так воеводе, он бы тебя вразумил кнутом! — озадаченный правильной и неглупой речью Чуны, Стадухин попытался перевести разговор в смех.
— Потому рабы мало говорят, но много думают и сильно ненавидят хозяев.
Михей крякнул, раздраженно мотнул головой, спросил злей:
— Если ты верно служил своему народу, отчего твой народ тебя бросил? Выкуп-то за тебя не дали!
— Я сказал своему народу, чтобы не давали. Если дадут за одного, после казаки и якуты будут ловить других, требовать еще. Потом весь народ станет платить, чтобы жить. Я сказал родственникам — узнаю, кто такие казаки, с чем идут к нам, вернусь и скажу, что с ними делать: воевать или давать ясак.
— Вот как! — хмыкнул Михей. — А я думал просить тебе жалованье толмача. Толмач второй человек после атамана.
— Если стану служить царю, буду его рабом, как ты, тогда надо отречься от своего народа. Ваш Бог так не делал, потому Он Бог!.. Когда люди начинают заботиться о себе больше, чем о своем народе, духи наказывают их. Когда-то медведи были людьми, но захотели жить каждый для себя и превратились в зверей…
— Атаман! Гости едут на Пасху! — прибежал посыльный.
— Кто бы это? — вскочил Стадухин, с облегчением прерывая разговор, который втягивал его в беспросветную душевную трясину.
Солнце уже оторвалось от гор, но не вышло на полуденную высоту. Снег был розовым и твердым, воздух прозрачным. Все зимовейщики высыпали из избы, щурясь, глядели на черные точки, ползущие с верховий протоки. Их глаза различали нарты без собак и оленей, людей, которые, судя по движениям, приближались на лыжах.
— Похожи на наших! — бормотал Вторка Гаврилов, всматриваясь из-под руки. По его щекам текли слезы. — Против зыряновских — вдвое больше. Промышленные, что ли?
Не чувствуя злого умысла, Стадухин все же скомандовал приготовиться к обороне.
— Аманатов привязать, — приказал и неуверенно добавил: — на всякий случай!
— Кабы хотели напасть, не шли бы напрямую среди дня! — заспорил Федька Катаев.
Стадухин толкнул его к двери.
— Проверь пищаль, натруску, погляди, не отсырел ли фитиль!
— Ай, еть твою! — заорал Коновал. — Мишка, убей зверя, не то сам порешу! Штаны порвал, гаденыш! Пшел, зверюга! — огрел медведя прикладом пищали.
Медведь отскочил в сторону и затрусил в тундру. Михей бросил на него мимолетный взгляд, досадливо передернул плечами, не ответил казаку. Снова стал всматриваться в приближавшийся отряд. Идущих уже можно было пересчитать: шли два десятка и еще двое. Не видеть зимовья они не могли и явно направлялись к нему. Кто-то издали узнал Пантелея Пенду, потом Митьку Зыряна. Караульный с нагородней крикнул:
— Семейка Дежнев ковыляет!
От нетерпения и непонимания Стадухин забегал вокруг зимовья.
— Баню топить! Уху варить! Калиба! — окликнул женку. — Принеси воды, надо встретить гостей горячей щербой. С дороги будут много пить.
Женщина поняла его, подхватила два котла, широко расставляя ноги, тундровой походкой засеменила к промерзшему ручью. Михей бросил вслед неприязненный взгляд: зиму проспал с ней под одним одеялом, но ничуть не привязался. Никто не знал его беды, кроме этой погромной женки, а она удивляла, что не переметнулась к кому-нибудь из казаков. Атаман потерял мужскую силу. Только утрами, после ярких снов, в которых был с Ариной, что-то мог, и то недолго: пока перед внутренним взором стоял облик жены. Но женщина зачем-то делила с ним постель и ничего не требовала.
Приближались шаги, скрип нарт и скрежет лыж, уже слышалось разгоряченное дыхание путников: девятнадцать русских промышленных и казаков, три аманата подошли к зимовью. Дежнев похудел, лицо его было обожжено солнцем, на переносице и глазах до висков — нездоровая белая полоса кожи от повязки, но все те же насмешливые, по-кошачьи круглые синие глаза, от которых по щекам разбегались лучики морщин. Лица его спутников были черными и опухшими от мороза и солнца. Стадухин, выпятил грудь, упер руки в бока, встал впереди казаков, опоясанных саблями.
— Митька вернулся — понимаю! Промышленные, невесть откуда взявшиеся, — тоже понимаю! Тебя-то, земляк, каким хреном с Алазеи принесло и куда рука делась? — кивнул на пустой левый рукав его парки. — Ничего не пойму!
— Куда тебе! — вместо приветствия с вызовом ответил Зырян. — Ужо, расскажем — шапка с головы слетит!
Семейка Дежнев по обычаю дружелюбно глядел на земляка и улыбался, не поминая прежних обид. Михей тоже забыл, чем тот его сердил в походе.
— Грейтесь, сушитесь. Скоро баня подойдет. — Великодушно принял соперника с его людьми.
Аманаты, не дожидаясь приглашения, вломились в зимовье, припали к очагу, отогревая замерзшие руки. Служилые и промышленные бросили на караульных увязанные по-дорожному нарты, скинули и вывернули мехом наружу отсыревшие парки, развели костер в указанном месте, поскольку в избу все войти не могли. Аманаты, слегка обогревшись, тоже скинули верхнюю одежду. Один из них оказался девкой тунгусской породы.
— Чья женка? — загалдели стадухинские казаки.
— Я — толмачка! — с важностью ответила женщина на сносном русском языке.
Калиба с якуткой, прятавшиеся от шумного многолюдья, весело залопотали с гостьей. Пенду, Зыряна, передовщика промышленной ватаги и земляка Дежнева Стадухин повел в зимовье для разговора. Они расселись по лавкам, ожидая бани и угощения. Левая рука Дежнева была обмотана кожей и подвязана к шее.
— Опять ранен? — сочувственно морщась, спросил атаман.
— Железной стрелой меж вен! — беспечально ответил Семейка, будто был укушен оводом.
От торопливых расспросов Михей удерживался, а гости не спешили говорить о себе. Зимовейщики с веселыми лицами суетились, бегали из дома во двор, обнесенный частоколом. В избе закипел котел с рыбой, Вторка Гаврилов снял его с огня, стал разливать жирный отвар по кружкам, гостеприимно приговаривая:
— С мороза да с дороги ничего нет лучше горячей щербы!
Подошла баня. Пенду, Зыряна и передовщика пришлой ватаги благословили снять первый пар, остальные сушились, обогревались и ели у костра. Первым из бани вышел Пантелей, пар клубился над его жилистым распаренным телом. Он неспешно развязал мешок, притороченный к нарте, достал чистую нательную рубаху. Михей подхватил его под руку, повел в зимовье. Вскоре из бани вышли Зырян и дородный, спокойного вида передовщик. Истомившиеся ожиданием новостей казаки усадили их возле очага. Атаман протиснулся в красный угол, сел под образками, стараясь не уронить степенства, заговорил о промыслах.
— Далеко ли ходили? Как промышляли?
— Митька, — Пантелей Пенда кивнул на Зыряна, — срубил зимовье на Колыме в устье притока, с верховий которого есть волок на Алазею, и сидел там всю зиму, а мы от него рубили станы, тропили ухожья. Хорошо промышляли, соболь добрый, черный, лиса красная. Река вскроется, придут торговые ватажки, не задержатся, — усмехнулся в белую бороду, — будет на что купить порох, свинец, сети, муку… Потом можно дальше идти…
— А что дальше? — Стадухин с нетерпеливым любопытством глядел на старого промышленного.
— На восход — горы! — шевельнул плечами Пантелей. — К полудню — становой хребет — Великий Камень!
— Всю зиму думаю! — с жаром признался Стадухин. — По ту сторону реки падают в океан, по эту — в Студеное море, — обвел взглядом сидевших людей.
От сказанного им красные распаренные глаза Пантелея, заблестели:
— Спрашивал про то колымских мужиков — никто из очевидцев не доходил до конца Камня. Говорят, он Необходимый! Может, так и есть?! Давно иду встреч солнца, состарился в пути, а конца Сибири все нет.
— Что Камень? — нетерпеливо перебив невнятный разговор, вскрикнул Зырян. В пыжиковой рубахе с распахнутым воротом, с красным лицом и мокрой головой он заерзал на лавке и предложил Пантелею: — Расскажи про воеводский указ!
— Что мне ваши указы? Я не служилый! — отмахнулся старый промышленный.
— Как узнаешь — с голым задом побежишь искать Нерогу! — ухмыльнулся Зырян, насмешливо глядя на Стадухина.
— Что за Нерога? — спросил Михей, пристально всматриваясь в лица гостей. Остановил взгляд на передовщике промышленной ватаги.
Белокурый, похожий на русобородого молодца, который вывел из метели, тот смутился и повел дюжими плечами. Вместо него бойко заговорил Семейка Дежнев:
— Служил я на Алазее с четырьмя казаками, сторожил аманатов и молил Бога, чтобы не быть погромленным по малолюдству, тебя вспоминал добром, — кивнул Стадухину, — ты задом чуял врагов. — Рассмеялся. — Но Бог милостив… Еще по осени, в сентябре, пришла к нам ватага торговых и промышленных людей Афоньки Андреева, — указал на дюжего бородача в льняной рубахе. — А с ними, верхами на оленях, ленский служилый Гришка Кисель. С седла не слез, спросил про Митьку Зыряна. Я сказал, что уплыл на Колыму. Гришка заматюгался и заплакал так, что слезы ручьями потекли по бороде.
— Отчего? — не удержался Стадухин, поторапливая многословного земляка.
— А вот слушай! — снова рассмеялся Дежнев, довольный общим вниманием. — От юкагирского аманата, привезенного Постником Губарем, воевода Головин узнал, что где-то в здешних местах, на реке Нероге, есть серебряная гора. Будто дикие мужики к той горе ездят, по висячим серебряным камням стреляют из луков, сбитые собирают и плавят руду. В прошлом году отправил он к Зыряну на Индигирку таможенного целовальника Епифана Волынкина. Помнишь?
Стадухин кивнул, внимательно слушая земляка.
— И велел передать Зыряну, чтобы Митька строго пытал юкагиров о серебре. А если Бог даст удачу, обещал тем, кто найдет руду, такое государево жалованье, какого ни у кого на уме нет. И велел, оставив людей немногих, идти с Индигирки на реку Нерогу со всеми служилыми. Но коч Волынкина с торговыми и промышленными затерло льдами, он отправил Гришку Киселя с воеводским наказом в Олюбленское зимовье. Тот застал там только Лаврена Григорьева. Лаврен провел расспросы среди аманатов и понял, что на Индигирке серебра нет, а если есть, то где-то на Алазее или дальше. Гришка с муками добрался до Алазейского зимовья, но Зыряна опять не застал, — снова хохотнул Дежнев, окинув взглядом важно восседавшего десятника, а тот самодовольно ухмыльнулся.
— Мы с Ивашкой Ерастовым, сидя на Алазее, от своих аманатов не узнали ничего разумного. А среди зимы явился к нам беглый юкагирский князец Шенкодья со своим родом, сказал, что вы доплыли до Колымы и зимуете. Перед Пасхой, как окреп наст, с Алазеи на Колыму собралась идти ватажка этих вот торговых и промышленных людей, — Семейка указал на Афанасия Андреева. — Они в покруте у купца Гусельникова. Как услышали про серебро, так насели на меня, бедного, чтобы вез приказ воеводы к Митрию Михалычу Зыряну, а они бы меня проводили. Взяли мы у Шенкодьи вожей, пошли нартами и дошли за неделю…
Семен Дежнев перевел дух, вытер пот со лба. Зырян впился пристальным, злорадным взглядом в лицо Стадухина, чего-то ожидая.
— Отчего свое зимовье бросил? — спросил Михей так, будто весть о серебре и воеводском наказе его не заинтересовала.
— Напали юкагиры трех родов. Мы лучшего мужика, брата тойона, убили, взяли в аманаты его сыновей. Весной они собрались в пять сотен и осадили, — неохотно отвечал Зырян, опуская потускневшие глаза. — Две недели держали в осаде. Мы, отстреливаясь, сожгли свой порох, и тот, что Афонька принес, пошли на прорыв, пробились саблями и топорами, надумали идти к тебе. Скоро сюда приплывут торговые люди, купим что надо и пойдем искать Нерогу.
— Отчего бы торговым здесь быть? — удивился Михей. — Еще прошлым летом о Колыме знали только на Индигирке.
— Нынче приедут, — смущенным голосом заверил атамана передовщик Афанасий. — Все, кто на Яне и Индигирке зимовали, товар держат под ваших соболей.
— Да уж! — почесал затылок Стадухин, вскинул глаза на земляка: — И тебя на прорыве ранили?
— Слава Богу, в левую! — улыбнулся Дежнев.
— На тебе уже живого места нет — весь в ранах!
— Правая здорова! — Семейка тряхнул кулаком. — Я ей тойона Алая убил, потому колымцы от нас отстали.
— А зимовье?
— Подпалили!
— Зиму-то мы в нем пережили, — начиная сердиться, резче заговорил Зырян, теребя вислые сосульки редкой бороды.
Михей его не слушал, торопливо думая о своем. Летом он хотел плыть к Арине. Ясак был собран, после расплаты по кабале кое-что оставалось на безбедную жизнь при остроге. И возвращаться было нестыдно: все-таки они с Митькой первыми из служилых дошли до Колымы, хотя собранным и добытым здесь и на Оймяконе Ленский острог не удивишь.
Еще ничего не было решено, но у Стадухина захолодело в груди от предчувствия, что он может не вернуться к жене и нынешней осенью. Михей оглянулся на своих казаков и понял по их лицам: откажется от поиска серебра — проклянут. А если найдут серебро без него, Михея Стадухина, будут до скончания века смеяться и язвить, как Постник и его спутники.
— Государю послужить — дело Божье! — рассеянно пробормотал, растягивая слова. — И государь тех служб не забудет, наградит! — Поднял туманные глаза на Зыряна, который опять глядел на него с вызовом, как перед дракой:
— И куда идти?
— Как сойдет лед, ты по наказу воеводы оставь в зимовье при наших общих аманатах и казне казаков сколько нужно и пойдем вверх по Колыме.
— Дай, бабка, воды напиться, а то жрать хочется, аж переночевать негде, — принужденно рассмеялся Стадухин, не сводя разгоравшихся глаз с Зыряна.
— Порох, свинец, неводные сети — все наше… И коч твой, конечно, спалили вместе с зимовьем?
— У нас есть рухлядь. Приедут торговые — купим и возместим, — не моргнув глазом, отговорился десятник.
— Добро! — хлопнул ладонью по колену Михей. — Идем одним отрядом, а чтобы не было распрей, как прошлой осенью, атаман должен быть один. Кто?
— Это правильно! — загалдели настороженно слушавшие казаки. — Опять передеремся без единой власти.
— Я! — так же пристально глядя на Стадухина, ответил Зырян. — Семейка ясно сказал, кому воевода послал наказную память искать серебро.
— Тебе?
— Мне!
— Тогда ищи! Зачем ко мне пришел?
— За подмогой по воеводскому указу!
— Где он, тот указ?
Все слушавшие казаки и промышленные настороженно притихли. Смутился и Зырян, заерзал на лавке.
— Я же говорил — у целовальника Волынкина, — промямлил Семейка Дежнев, обсасывая рыбью голову. Отложил ее на бересту, вытер руки мхом, бороду рукавом. — Он прислал на Индигирку Гришку Киселя передать наказ по памяти. Тот на Алазею пришел и говорил слово в слово!
— Епифанка! Ушник воеводский, — загалдели казаки, поддерживая Стадухина. — Да он мать обманет и по миру пустит. Вдруг удумал хитрость — потом отопрется.
— Совсем сдурели от бесхлебья! — закричал Зырян, багровея обветренным прожженным солнцем лицом. — Зачем ему баламутить два острога, при свидетелях посылать служилых людей за полтыщи верст?
Стадухинские казаки опять притихли, не зная, что возразить. А Зырян стал напирать.
— Моих людей два десятка, твоих один. Половину оставишь в зимовье! Без наказной памяти понятно кому быть атаманом?
— Я серебро искать не пойду! — сказал помалкивавший Пантелей Пенда.
— В зимовье останусь летовать, торговых дождусь.
Стадухин взглянул на него с благодарностью.
— Семейка! Останешься? — спросил Дежнева. — Ты же хром на обе ноги, теперь еще и однорук.
— Пойду за серебром! Если сюда зимой дошел, летом что не идти?
— Что скажете, братья казаки? — Стадухин обернулся к зимовейщикам.
— Идем своим отрядом, чтобы Зырян нас не неволил! — за всех ответил Мишка Коновал, подергивая розовым рубцом на коричневой щеке.
— Будут или не будут нынче торговые — неизвестно, — заговорил рассудительный Втор Гаврилов. — По христианскому милосердию припасом мы с вами поделимся, но по нашей цене!
— Вот наш ответ! — обернулся к Зыряну Михей. — Где она, Нерога, ни вы не знаете, ни мы. Припас наш. Ваших аманатов нам караулить или как?
Из промышленных людей Афони Андреева двое были ранены при осаде и просились летовать в зимовье. Старшим Стадухин оставил Втора Гаврилова, который не рвался в верховья Колымы, при нем — трех охочих. На том споры закончились. Приятных новостей не было, душевного разговора не получилось ни со старыми казаками Беляной и Моторой, ни с земляком Дежневым. На другой день люди Зыряна и промысловой ватажки выбивали изо льда плавник, строили свой балаган рядом с зимовьем. В ворота сунулся и грозно уставился на них стадухинский медведь. Не случись рядом атамана, гости убили бы его.
— Забьем, чтобы вреда не сделал! — настойчиво кудахтал Федька Катаев.
— Пусть погуляет! — потрепал зверя по загривку Михей. — Не голодаем.
Он высматривал Пантелея Пенду, но среди строивших балаган его не было. Отогнал медведя от зимовья, по свежевыпавшему снегу взял след старого промышленного и вышел к берегу моря. Пестун увязался за ним. Он то и дело останавливался, принюхивался, что-то выискивая в тундре, над ним с криками носились птицы, но медведь не обращал на них внимания. Старый промышленный сидел на вмерзшей лесине и смотрел на льды, как Чуна, и был не далеко от того места, которое облюбовал ламут. Стадухин подсел к нему, помолчал, тоже вглядываясь вдаль, потом заговорил:
— Земля там, на краю, или облака? До Рождества заплутал я с диким мужиком и где-то в той стороне был принят голубоглазыми людьми. По сей день вспоминаю, дивлюсь встрече и никому про нее не сказываю. Чудно как-то…
Пантелей вопрошающе обернулся к Михею.
— Дюжий бородатый молодец, — продолжал он, — накормил, напоил, обогрел, дал отдых, вывел сюда, одарил лисами и просил никому про них не говорить. Сперва я думал — промышленные без отпускной. А после-то вспоминал и чудно: он со мной и с юкагиром вольно разговаривал, а рты-то ни мы, ни он, не открывали. Это мне только после вспомнилось. И девку-красавицу при нем видел, с меня ростом, а то и выше. Кто такие?
— Чудь! — не задумываясь, ответил Пантелей. — Жилье каменное?
Стадухин, поерзав, почесал бороду.
— Стол деревянный, тесаный, пол каменный, стены — не понять… Но не из бревен.
— В пещерах живут. Давно под землю ушли и в наши дела не путаются.
— Вон что? А я-то голову ломаю…
— Их не найти. Мимо пройдешь — не заметишь, глаза отведут. Случайно, из-за метели, наверное, подошли. А они пожалели, не дали замерзнуть под дверьми. Со мной так же было. Жил среди них с неделю, после отпустили, тоже просили никому не говорить. И как скажешь? — Усмехнулся. — За длинный язык многие на дыбе души отдали.
— Вот ведь, — вглядываясь в даль, вздохнул Стадухин. — А я думал — морок. И много ты таких людей встречал?
— Много всяких по Сибири! — оборачиваясь ко льдам, ответил промышленный. — Тех, кого мне надо, никак не найду.
— А эти что, не русские?
— На нас похожи, говорят по-нашему, только сильно умные, среди них жить сам не захочешь, разве рабом или скоморохом. Они мне в голове что-то поправили. До того все спутников искал, слухи собирал, а после всякая охота в связчиках пропала, лешим стал: где можно быть одному, там с другими не путаюсь. Хуже всего, стал забывать, что ищу, а на месте сидеть не могу.
— Помню твои прелестные сказки в верховьях Лены! — Стадухин с грустью улыбнулся, разглаживая пальцами рыжие усы. — Покойника мог оживить и сманить в урман.
Чуть дрогнули губы Пантелея, он снова обернулся, живым блеском сверкнули глаза, будто прощались с чем-то давним, отсохшим, отмоленным.
— Из-за них все во мне переменилось! Прежде хотел знать больше, чем дозволено! — Вздохнул и опять отвернулся, высматривая за льдами то ли горы, то ли облака. Из трещины между береговым и приподнятым приливом льдом вырвался звук, похожий на хохот.
— Ишь, водяной слушает и потешается!
Сказать большего Пенда не пожелал. Пока они разговаривали, медведь неподалеку что-то скреб когтями.
Бырчик была выкуплена промышленными у индигирских юкагиров. Она знала несколько языков и быстро научилась говорить по-русски. Ватага Афони Андреева держала ее вместо толмача и брала с собой на поиск серебра. Калибу Михей оставил в зимовье без всякого сожаления. Вполне довольная сытой и свободной жизнью с казаками, она не рвалась идти за ним. Как только он сказал ей, что уходит, девка перестала лазить к нему под одеяло.
Три с половиной десятка служилых, промышленных и аманатов толклись возле зимовья, теснились, с нетерпением ожидая вскрытия реки. Осмотрев рассохшийся за зиму коч, Стадухин послал людей копать корни, резать тальник и сочить смолу. При многолюдье судно подновили в два дня и надежно закрепили на покатах. Сделано это было вовремя. Вскоре по льду побежала вода, вскрылась и заторосилась протока, паводком подтопило избу. Это сочли плохим знаком, обыденные распри стихли, и начались другие недовольства.
— Мишка! — С воплями прибежал Катаев. — Сколько будешь мучить честных христиан? Не хочешь убивать, посади медведя на цепь. Он мне рубаху порвал и бок оцарапал.
— Дразнил, что ли?
— Юколу из рук вырывал — я его пнул, а он меня подрал и рыбу отобрал, — слезно жаловался Федька.
Утешить казака было нечем.
— Что вяжешься к людям? — ругался Михей, сажая зверя на аманатскую цепь. — Шел бы куда-нибудь, жил бы своим умишком, чего мне с тобой возиться?
— Убей, сними шкуру и продай мне! — навязчиво советовал Чуна.
— Сам убей и возьми даром! — ругнулся Михей. — Будто я кому-то запрещал, но все отчего-то орут и принуждают к убийству меня…
Ко всем неприятностям бесилась погода: ветер менялся снегом, снег — дождем, дождь — солнцем и ветром другого направления. Заскрежетали, зашевелились льды в море. Сдавленные ими волны стали крошить припай. Прилив забил протоку крошевом, она несколько раз прудилась, поднималась, снова входила в прежние берега. При всем обилии рыбы место для зимовья было не лучшим.
— Перенесем! — отмахнулся Стадухин от пустячных забот. — До осени дожить надо.
А весна брала свое. Сошел снег, оголив желтую тундру. Медведь возбужденно бегал вокруг зимовья, морда его была в пере. Надрывно кричали гагары и гуси, над нерастаявшими еще озерами кружили утиные стаи, чайки носились над жильем и вставал на крыло оттаявший комар.
Сборы были недолгими. Предвкушая встречу с погромившими его колымцами, Зырян грозился взять ясак втрое. Вторка наотрез отказался оставить при зимовье медведя, хоть бы и привязанного, предложить ему забить зверя Стадухин счел для себя дурным знаком. «Высажу где-нибудь, подальше от людей», — решил и, зля спутников атаманской прихотью, затащил зверя на коч. Люди обыденно чертыхались, возмущались его упрямством. Помалкивал только Мишка Коновал. С блуждающей улыбкой в драной бороде, с очистившимися глазами, он казался помолодевшим, а страшный шрам не портил его лица. Мишка радостно прожил весну с якуткой, после работ уединялся с ней и не вмешивался в суетные споры. Никого не спрашивая, ни с кем не советуясь, он привел ее на коч. Глядя на них, улыбавшихся друг другу, никто не осудил, не напомнил законы старых промышленных ватаг, которые давно и явно попирались. К тому же Афоня Андреев, передовщик гусельниковской ватаги, для общей нужды брал с собой толмачку Бырчик. Чуна тоже пожелал идти в поход, сидячая жизнь ему опостылела.
Казаки и промышленные поправили упавший крест в устье протоки, помолились, весело внесли на судно оружие, меховые одеяла, сети, котлы, бросили жребий — кому идти в бечеве, кому на шестах, почитали молитвы и пошли к основному руслу Колымы. Стадухин пробовал приспособить медведя для бурлацкой бечевы, но из этого ничего не получилось. Тогда он, чертыхаясь, привязал его цепью к мачте.
В сыром зимовье стало тихо и просторно. При четырех аманатах и Калибе здесь жили пятеро промышленных людей и казаков. Входило в раж светлое полярное лето. Однажды проснувшись среди светлой ночи, Вторка Гаврилов нашел под одеялом невинно жавшуюся к нему Калибу. Казак повеселел, а вскоре перешел с ней в балаган, построенный людьми Зыряна.
Прошел месяц. На западе, против мыса с крестом, показался парус. Зимовейщики заволновались, забегали, развели сигнальный костер. С судна дали холостой залп, показывая, что заметили дым. Коч был большой, восьми саженей длиной, сделанный и снаряженный надежно, дорого, не так, как казенные суда. На носу, обвязанном потрепанными вязанками тальника, в синем суконном кафтане стоял известный на Лене торговый человек Михайла Стахеев, приказчик и родственник именитого купца Гусельникова.
«Подомнут пинежцы Колыму под себя!» — смеялись встречавшие его люди, балагурили и кричали Стахееву:
— Хлеб везешь ли?
— Есть мука, — степенно отвечал Михайла, оглаживая бороду. — Но мало.
— В неводных сетях, в порохе и свинце нужда!
— Знаем в чем у вас нужда. Поможем.
Коч приткнулся к берегу против зимовья. С борта резво соскочили мореходы в промазанных дегтем бахилах и броднях, схватились за пеньковый трос, вместе с встречавшими вытянули нос судна на сушу. Тут же с него стали прыгать собаки, истосковавшиеся по земле, забегали вокруг зимовья, облаивая чаек. Окинув взглядом зимовейщиков, Стахеев просиял лицом, изрытым оспинками, раскинул руки:
— Пантелей Демидыч! Живой, слава Богу! Тебе первому товар покажу, ничего не утаю.
Народа на коче было много. Возле зимовья опять стало шумно и суетно, как до ухода отрядов Стадухина и Зыряна. Кроме помощников Стахеев вез на Колыму новую промысловую ватагу покрученников. Всем им, торговым и промышленным, не терпелось увидеть добытую здесь рухлядь. Первым взошел на судно Пантелей Пенда с мешком соболей, увязанных в сорока. Они тут же пошли по рукам торговых и промышленных людей. Осмотрев привезенный товар, Пантелей отложил пять пудов ржаной муки, пуд меда, неводную сеть, порох, свинец, средней руки топор, короткий нож. Долго торговался за фузею — пищаль с кремневым замком вместо обычного фитиля, от бисера и корольков отказался. Торговые люди рядились за свой товар вдвое и втрое против немалых ленских цен, но не могли сдержать восхищения колымскими соболями и лисами:
— Не зря шли, едва не были затерты льдами…
В обмен на фузею Пантелей отдал фитильную пищаль и доплатил сорок соболей. За все остальное, кроме ружья, расплачивался не торгуясь, только хмыкал в бороду да как конь гривой, мотал седой шевелюрой. Стахеевские покрученники вынесли купленный товар на берег. Пенда велел Калибе нести котел, топить нерпичий жир, со знанием дела замесил тесто и стал печь пресные колобки. Пока Втор Гаврилов торговался и менял своих соболей на нужный товар, была приготовлена саламата на всех и медленно стыла, покрываясь темной, густой пленкой. Коч простоял в протоке два дня, на третий Стахеев забегал с обеспокоенным видом.
— От безделья прибыли не дождешься! Что-то надо делать, — кинулся за советом к Пантелею.
Укрывшись от ветра за стеной избы, старый промышленный грелся на солнце, пока не озверел гнус.
— Что ты за человек? — Торговый присел рядом с ним и огляделся по сторонам. — Много лет знаю, а не пойму… Всегда среди первых, но ни богатства не нажил, ни дома, чести и славы не ищешь.
Пантелей приоткрыл смеженные веки и снова закрыл их с легким вздохом.
— Слышишь, дед, что говорю?
— Слышу!
— А что молчишь?
— Что тебе надо?
— Зачем попусту сидеть-то? Плыви со мной в верховья. Товар распродадим, даст Бог, успеем вернуться в Жиганы, новый возьмем в зиму. Ты и реку знаешь, и по морю много ходил.
Пантелей шире открыл глаза, пристальней взглянул на приказчика:
— Поплывешь встреч солнца — пойду, хоть и обещал Мишке ждать.
— А что там?
— Не знаю!
— Зачем идти невесть куда, невесть зачем, когда на этой реке еще ни промышленных, ни торговых людей нет, а народов множество?
— Плыви, торгуй! — равнодушно зевнул промышленный, удобней устраиваясь под солнцем.
— В долю взял бы, — стал прельщать Стахеев. — Пришли бы в Ленский… Тьфу ты! Нет уж Ленского острога, Головин перенес его на другой берег. Теперь на Лене новый Якутский острог. Ты бы в Якутском дом купил, зажил бы.
— И так живу. — Пантелей плотней сжал веки, делая вид, что дремлет.
— Ничего не пойму! — сквозь зубы выругался приказчик, вскочил, побежал ко Втору Гаврилову. Стал просить у него Калибу в толмачки.
Ясырку он тоже прельщал богатством, но она только смеялась и бросала на Вторку ласковые взгляды.
На четвертый день торговые люди потянули тяжелый коч вверх по протоке. Через три недели, довольный собой, Стахеев вернулся на том же судне, но без ватаги промышленных людей.
— Догнал Зыряна со Стадухиным и Афоню Андреева, — весело рассказывал в зимовье. — Ходили по притоку Колымы в верховья до самых гор, тамошние народы ясачили, серебро искали — не нашли. Порох, свинец купили весь.
Промышленные: афонины, зыряновские и те, что со мной пришли, хотят на прежнем погорелом месте зимовать большой ватагой. Тамошних юкагиров побили, новых аманатов взяли.
— Что там Мишка с Митькой? — спросил Пантелей. — Мирно живут?
— Кого там! — хохотнул торговый. — Каждый день дерутся. Кабы дикие не нападали — поубивали бы друг друга. Прямо как наши якутские власти: Головин засадил в тюрьму стольника Глебова с дьяком и письменным головой, туда же упек черных попов. Властвует один. И хорошо! Такого порядка как при нем, на Лене еще не было: никто ни с кем не воюет, все живут мирно. А то прежде как? Один в одну сторону тянет, другой в другую, как Мишка с Митькой.
Гусельниковский приказчик с подручными людьми дождался южака, отогнавшего льды за мыс, и уплыл в обратную сторону, к Алазее и Индигирке. Жизнь в зимовье пошла прежним чередом. Нападений не было, зимовейщики подолгу спали, ловили рыбу, линявшую птицу, изредка добывали оленей, бежавших к морю от ревущих туч овода.
В поисках серебряной горы русские отряды шныряли по притокам Колымы, воевали, брали заложников, пытали их по царскому указу. Ясыри говорили разное, чаще — нелепицу, понуждая служилых и промышленных людей забираться в притундровый лес с его болотной сыростью, в дебри жаркой северной тайги. Выбирались оттуда злыми, изъеденными гнусом и с каждым днем теряли веру в сказки о серебре.
Стадухин оставался при коче, на котором хранился припас двух отрядов и промысловой ватаги. Сочувствуя Коновалу, он оставлял его при себе. Якутка готовила еду. Стоило судну надолго встать у песчаной косы, которых по реке было много, Михей отпускал медведя, надеясь, что тот уйдет навсегда. Что не жить — щурился на блестящее синее русло реки, на голубую гору вдали, рыжие камни под днищем коча. Среди них плавно и безбоязненно шевелилась рыба.
Зверь вырос. На плаву его приходилось ковать к мачте цепью. Погромыхивая ею, он скакал на месте от безделья и сытости. Косолапые выпады были мгновенны, невозможно было предугадать, в какой миг где он окажется. Якутка и Федька Катаев, которого он почему-то любил задирать, терпя атаманскую дурь, обходили его кромкой бортов. Женщина помалкивала, казак вопил и злословил, если Михей отпускал зверя на берег, не сходил с судна. Коновал жестко избивал медведя при каждой попытке броситься. Михей не вступался за своего зверя, понимал, что иначе нельзя. Он рос, становился сильней. Время от времени замирал, вглядываясь в глаза атамана, как тот, что встретился на Оймяконе, пытался высмотреть слабосилие и готовился к броску. Михей, уловив миг, бил его по морде накрученной на руку аманатской цепью, смирял, понимал, что вынужден будет убить, и оттягивал тот день, ссылаясь на всякие вымышленные причины. Порой медведь уходил в тайгу на сутки и дольше, возвращался посмирневшим, влезал на борт и ложился возле цепи.
Однажды понадобилось сплавиться вниз по реке. На коче были трое мужчин и якутка. Они оттолкнули судно от берега, быстрое течение подхватило и вынесло его на стрежень. Впереди маячил обычный для Колымы желтый песчаный обрыв с нависшим лиственничником. Дальше завиднелся и стал слышен надвигавшийся залом, который не могли видеть из-за поворота и мыса. Михей понял, что тяжелый коч почти неуправляем, взялся за весло сам и посадил за другое якутку. В четыре весла они попытались отгрести от обрыва к песчаной косе, но судно несло к залому, ощетинившемуся против течения сотнями древесных стволов, под которые с грохотом уходила вода. Коч налетел на них бортом, как разъярившийся глупец на тесаки. Его стало переворачивать и захлестывать. Медведь, посаженный на цепь, скреб когтями борт и барахтался в воде. Стадухин кинулся к нему, освободил. Зверя понесло под деревья. «Судьба твоя такая!» — без жалости подумал атаман и бросился спасать судно. Топорами, тросами и жердями мужчины протолкнулись на стрежень. Коч снова понесло, разворачивая в водоворотах, но на этот раз на песчаную косу.
— Гляди-ка, живой! — вскрикнул Федька, указывая рукой на берег.
Стадухин увидел медведя, сушившегося на солнце. Им удалось причалить в удобном безопасном месте и крепко привязаться. Медведь долго не возвращался. Приближение зверя Михей почуял во время отдыха. Он нехотя приподнялся на локте, задрал сетку с лица. Но из кустарника выскочил лось, перекинул через борт рогатую морду с вислой губой и замер, уставившись на человека. Атаман цыкнул. Зверь удивленно вскинул рога и снова проломился сквозь береговой кустарник. К радости бывших на судне, медведь не вернулся ни этим, ни другим днем, но, чертыхаясь и кляня юкагирских послухов, из тайги выполз Зырян со своими людьми, следом за ними — Пашка Левонтьев с Семейкой Дежневым и стадухинскими казаками. Все были черны от дегтя, опухшие и до язв изъеденные гнусом. Чтобы не злить Митьку, Стадухин не стал спрашивать про серебро.
— Там не твой медведь смородину жрет? — Дежнев махнул рукой в сторону берега. — Сладкая да крупная, не чета нашей. И много. Насушить бы в зиму.
— Мы уже наелись до оскомины! — мирно ответил атаман, ни словом не помянув медведя.
От поисков серебра отказались. Афоня с промышленными людьми решил рубить свое промысловое зимовье. Зырян напирал на Стадухина, что государев острог должен стоять ближе к волоку на Алазею. Михей же спорил, что надо строить ближе к морю. Тянули жребий из шапки, гадали на Пашкиной Библии, выпадало то так, то эдак. Переругавшись, служилые и промышленные решили призвать человека, стороннего ватажным распрям, — шамана Чуну. Ламут камлал без бубна, плясал, разговаривал с деревьями, кидал жребий. С его руки три раза сряду выпадало одно и то же место — на колымском берегу против устья Анюя с островом. Спорщики молчали: кто с недоверием, кто с недоумением. Первым откликнулся Стадухин:
— А что? Если на острове делать ярмарки — удобно собирать пошлины.
Промышленным людям место не нравилось из-за редколесья. Семейка Дежнев со смешком заявил:
— Ярмарку торговые сами выберут, нас не спросят!
— По воеводскому указу пошлины и десятину надо брать на месте! — с прежней яростью раскричался Зырян. — А будут здесь ярмарки или нет — по воде писано!
Но оба они, Семейка насмешкой, Зырян криком, оттолкнули от себя часть промышленных людей. Непокорного тойона со среднего течения реки побили и зааманатили, но не покорили. Мир с ним мог быть порушен в любое время, поэтому стадухинские казаки и большая часть промышленных людей поддержали шаманский жребий. Пашка молчал, с умным видом оглаживая Библию в кожаной сумке. Зырян тряс сосульками бороды и тормошил его:
— Ты почитай, почитай им, что там сказано про диких, — тыкал пальцем в суму, перевешанную через плечо казака.
— Надоели! — проворчал Пашка с недовольным видом. — Через жребий Бог указал!
Митька Зырян в сердцах плюнул, стал бросать в струг одеяла, котлы и ружья. Мотора с Беляной тоже грузились, чтобы плыть с ним выше по течению реки к Алазейскому волоку. Дежнев смущенно топтался на месте, не зная, к кому примкнуть.
— Иди-иди! — отмахнулся от него Стадухин.
Семейка улыбнулся земляку, собрал свои вещи на коче и перенес их в струг.
Едва речная волна стала выбрасывать на берег желтую хвою, Михей Стадухин с Федькой Катаевым на легкой берестянке поплыли левой протокой в зимовье. Пройдено было не больше трети знакомого пути, но изумленному взору атамана открылась изба, обнесенная надолбами. Из-под плоской крыши из волоковых окон на две стороны курился дым. Казаки вскоре были замечены, к воде вышел Втор Гаврилов, Пантелей Демидович с фузеей в руке ждал возле жилья.
— Погромили? — крикнул Михей, торопливо подгребая к берегу.
— Чукчи сожгли! — смущенно ответил Втор и виновато прищурился. — Мы ушли целыми, животы свезли: не могли тушить и отбиваться разом. Но аманаты бежали…
Опустив голову, атаман устало выругался. Федька вышел на берег, вдвоем со Вторкой они вытянули лодку так, что Михей сошел с нее, не замочив ног.
— А вы сыскали серебро? — Втор переминался с ноги на ногу и мотал нечесаной бородой с запутавшимися в ней чешуйками.
— Нет! — резко ответил Стадухин и стал выбрасывать набитую птицу, котел, одеяла, два боевых тунгусских лука. Федька в драной парке подхватил саблю, на одно плечо взвалил пищаль, на другое — снизку уток.
Подошли промышленные, оставленные Афоней, взяли выгруженное добро, понесли к избе.
— Брешут про серебро! — на ходу отвечал Михей, не спрашивая про убежавших аманатов. — То там укажут, то в обратной стороне. Насмехаются!
— От Анюя не спали, — зевнул, усевшись на чьи-то нары, обвел равнодушным взглядом потолок в саже, закопченные стены, прилег, не сняв сапог. Федька тоже отказался от еды.
Калиба озадаченно поглядывала на атамана и Втора. Прибывшие быстро уснули и спали долго. Когда стали потягиваться и зевать, им принесли еды. Пантелей развалил испеченного в глине, густо парившего гуся. Сказов, от которых бы стыла кровь в жилах, не дождались ни те, ни другие.
— Серебро-то что? — опять спросил Втор.
— Бес его знает, есть ли оно! — выругался Михей.
Федька обиженно шмыгнул носом:
— Хотели завести нас в гиблые места и уморить…
— Наказ воеводы исполнили — искали, — тряхнул бородой Стадухин. — Узнали, что притоки падают из рыбных озер. Собирайтесь, пойдем вверх. Там казаки с промышленными топорами машут, острог строят.
Федька, быстро переменившись в лице, закудахтал с обычными смешками:
— Много споров было, но заложили против Анюя. А Зырян ушел на прежнее погорелое место.
— Знать бы наперед, что вы там, не строили бы эту избенку, — метал по углам виноватые взгляды Втор. Поднял голову, взглянул на Стадухина, напряженно кривя губы. — Твоя-то сама ко мне пришла, не сманивал, — обмолвился с виноватым видом и снова опустил глаза.
— Забери! — отмахнулся Михей, окинув рассеянным взглядом невинно улыбавшуюся Калибу. — Собирайтесь, а то холодает.
— Мы тут как раз пару стружков сделали для рыбалки, да ладненькие такие, — веселей засуетился Втор.
Собрались быстро, подперли колом дверь и поволокли лодки вверх по протоке к реке. Мужчины тянули бечевы, Калиба стояла на шесте. Хрустел под ногами примороженный ночью мох, хлюпал ил и плескалась стылая вода. Листва с берез облетела не вся и ярко желтела в лучах осеннего солнца, парившего над розово-рыжей осенней дымкой. Редкие тени скрученных приземистых деревьев шевелились на воде. В сумерках развели костер из сухого плавника, бросили жребий и выставили караул. К утру протоку от берега до берега сковало тонким льдом. Пришлось разбивать его шестами и веслами, пока не вышли на узкую полосу незамерзшей воды, по ней добрались до коренной Колымы. На месте будущего острога уже были срублены стены съезжей избы, пахло дымом, смолой и свежим, выпавшим ночью, снегом. При поднявшемся солнце он быстро таял, шлепался с ветвей лиственничной поросли, шевелил склонившийся к воде кустарник. Издали лес казался темно-красным, а дымы костров — синими.
Все темней становились ночи, короче и пасмурней дни. Поставив тын, промышленные разошлись по станам. Казаки продолжали укрепляться, заново аманатили подведенные под государя роды колымцев и анюйцев. Так прошла еще одна зима. После вскрытия реки к острожку сплыли казаки и промышленные люди с добытыми мехами. Афоня Андреев с толмачкой Бырчик решил вернуться на Лену. Если бы не ложные слухи о серебре, Стадухин отправился бы туда еще прошлым летом. Его казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков напросились сопровождать казну. Остальные о возвращении не думали. Михей брал с собой обжившегося среди казаков ламутского аманата Чуну. Его надо было поставить перед воеводами, да и сам он хотел увидеть главный казачий острог.
Из зыряновских людей решили вернуться Зырян за правдой от воеводы и Семейка Дежнев из-за ран. На всех был один коч, сделанный на Оймяконе. Занятые войной и укреплением ясачного зимовья, другого в верховьях реки не построили. Из прежних служилых первопроходцев здесь оставались Втор Гаврилов, Мишка Савин Коновал, Пашка Левонтьев, Ромашка Немчин, Сергейка Артемьев, Федька Катаев. Поскольку Стадухин с Зыряном не смогли поделить открытую ими реку и готовились к возвращению, соборным решением двух казачьих отрядов на Колымский приказ был избран грамотный Втор Гаврилов. Под ним оставались два острожка, зыряновские казаки Семейка Мотора с Поспелкой Беляной, а также, сидевшие на Алазее Лавр Григорьев, Иван Ерастов, Селиван Харитонов, Макар Тверяков, Михейка Семенов.
Дел для них для всех было много. По слухам от промышленных ватаг, пришедших сухим путем с Алазеи и Индигирки, там стояло много кочей торговых людей, державших свой товар для Колымы. Летом здесь ожидалась богатая ярмарка. Общим решением казаки и промышленные взялись готовить для нее место на острове против устья Анюя.
В очередной раз оголилась от снега тундра, наполнившись кряканьем, курлыканьем, гоготом, воплями. Оттаяли озера, но на морском побережье лежал лед, на нем мирно дремали нерпы и в поисках поживы бродили медведи. Только в конце июня налетел южак. Заскрипели крыши изб, затряслись стены, ветер бушевал трое суток сряду, разбил льды у берегов, отогнал крошево на север и стих, сменившись плотным туманом.
6. Приострожные службы
Выжидая подходящей погоды, Стадухин с казаками, промышленными и толмачкой Бырчик простоял в колымской протоке до Купалы. Только к этому времени задул попутный ветер и при низком облачном небе, тяжко переваливаясь с волны на волну, с борта на борт, плоскодонный коч двинулся на закат дня. Борта его были сшиты ивовыми прутьями и березовыми корнями из толстых тесаных полубревен топольника. Он был сделан для плаванья по реке, но дошел до Колымы и теперь держал курс к низовьям Лены. Пантелей Пенда называл этот коч ладейкой и ловко правил им в море. Теперь на его месте стоял Афоня Андреев в оранжевых, задубленных корой, ровдужных штанах. Немногословный, неторопливый, добродушный, с блуждавшей улыбкой в бороде, он повел судно так круто к северу, что вскоре пропала из вида полоска суши с застрявшими льдинами и грязной рябью мелководья.
Зырян дергался, проталкивался меж гребцов, давал советы и чертыхался, взывая к разуму плывущих. Афоня ни словом, ни взглядом не отвечал на его брань, даже не кривил тихой улыбки в бороде и уголках глаз. Вздорный казак кинулся к Стадухину, сидевшему на носу судна с шестом поперек колен. Тучи рассеялись, небо и море слились в единую синь в цвет глаз Арины. Завороженный, Михей глядел на запад, всем телом ощущая, как сажень за саженью, верста за верстой приближается к жене. Попутный ветер вздувал парус, журчание воды под днищем, скрежет льдин по бортам сливались в одну радостную песню. Он улыбался, сидя спиной к спутникам, слышал позади шум, но не хотел вникать в суету и портить радость души. Зырян схватил его за плечо, затряс. Второпях и страстях десятник где-то обронил шапку, голова его торчала из парки выдернутой из земли репкой, глаза горели.
— Ты погляди, погляди, куда правит! — визгливо вскрикнул и стал тыкать пальцем в сторону пропавшего берега.
Стадухин досадливо обернулся, смурнея, поднял на соперника потускневший взгляд, долго не мог понять, что ему надо. Когда дошло-таки, мотнул бородой:
— Афоня хороший мореход, он знает, что делает! — Нахмурился, сердясь, что оторван от созерцания синевы.
Зырян не мог смириться с тем, что находится на чужом судне, правит им не сам и даже не казак, а промышленный. Стадухин старался не слушать ругани, но бес, от сотворения невзлюбивший все светлое и радостное, уже нашептывал, что Арина, переменившая в жизни трех мужей и несколько полюбовных молодцов, женщина знойная, если и прождала обещанный год, то дольше не стерпела. Русские жены при остроге были едва ли не у одного из десяти служилых, другие им завидовали, прельщали и переманивали. Промышленные щедро расплачивались за ласки в гульные летние месяцы.
— Тьфу тебе в рыло! — плюнул за плечо Михей.
Краем глаза увидел невозмутимое лицо Афони на корме, на душе посветлело. Успокаиваясь, подумал, если жена и пригрелась возле какого-нибудь молодца, то, вернувшись, возьмет ее за руку, как возле Илимского острога, уведет и простит. Что уж там? Сам грешен. И припадет к ней, как долго носимый ветрами в море и спасшийся припадает к роднику. Иначе быть не может, лишь бы была жива и здорова. Только об этом молил Господа, а с ее грехами обещал разобраться сам и ответить за них перед Его светлыми очами.
Земляк Семейка Дежнев и десятник Митька Зырян еще в прошлом году отправили против него жалобную челобитную, но Михей на них не сердился, поскольку считал, что не погрешил против воеводской наказной памяти. На каждое из их туманных обвинений у него на уме были ясные ответы, а в душе уверенность, что в следующий поход пойдет с жалованьем атамана или хотя бы с надбавками пятидесятника и, конечно, с Ариной. О награде не сильно-то думал, она должна была прийти сама собой, как расплата за службу. Если воевода велит ехать с казной в Москву — это ему без надобности. За царской наградой пусть отправляются жалобщики Митька с Семейкой. Он им об этом так и сказал. Дежнев в ответ посмеялся, Митька почему-то рассердился, стал орать, доказывая, что он первым услышал про Колыму и нашел ее.
— Не скажи тебе, что Колыма за дельтой, уплыл бы дальше! — язвил и насмехался.
— Воеводы и дьяки рассудят! — мирно отвечал Стадухин. — Я им про вас дурного говорить не стану.
А кочишко бежал и бежал на закат, петляя между льдами, обходя вытянувшиеся в море мели. Незлобливый и бесхитростный Афанасий Андреев был хорошим мореходом, знал путь к Лене, водил суда до Индигирки. Михей доверился ему и не мешал советами, Зырян терпел, но когда понял, что проскочили устье Алазеи, опять разразился бранью. Стадухин узнал места, которыми, по подсказке казака Ивана Ерастова, вышел с Индигирки. Афоня согласился, что, скорей всего, это и есть одна из проток реки. Вода в бочках кончалась, птицу съели и дожевывали юколу. Как ни жаль было терять попутный ветер, но нужда заставляла пополнить припас. Промеряя глубины и осторожно приближаясь к устью реки, с судна заметили три коча, стоявших на якорях: один добротный, восьмисаженный, от носа до кормы крытый палубой, два поменьше и попроще. Со смоленого борта большого судна взметнулся сизый гриб порохового дыма. Стадухин дал ответный холостой выстрел. Афанасий велел спустить заполоскавший парус и выгребать к судам своей силой. Вскоре он подвел ладейку к восьмисаженному борту и ткнулся в него, как щенок в сучье вымя.
— Петруха! — вскрикнул Стадухин, узнав известного ленского промышленного и торгового человека Новоселова, который, подслеповато щурясь, то одним, то другим глазом высматривал прибывших. — С чьим товаром, куда?
Рядом с Новоселовым стояли знакомые сослуживцы Федька Чукичев и Гришка Фофанов-Простокваша, не задержавшиеся на Лене.
— Однако быстро вас отпустили! Наверное, с наградой? — ответил на их приветствия Михей.
— Был Петруха, да вышел! — с напускной важностью отвечал Новоселов. — Нынче Петруха Иванов — таможенный целовальник, — похлопал себя по груди, покрытой суконным кафтаном, — с наказной памятью от воеводы быть на Индигирке, Алазее и Колыме. Так-то вот!
— Как посмели избрать? Говорили, ты в немилости у Головина.
— Теперь в милости за то, что был в немилости у прежнего! — с гордостью отвечал Новоселов. — По нашим жалобам царь-батюшка сменил изверга Головина и призвал в Москву для сыска. Нашлась на него управа.
— Эвон, что? — перепрыгнул на его коч Зырян. — Тебя целовальником, а приказным кого?
— Нынче на Якутском воеводстве Василий Никитич Пушкин, дворянин по московскому списку, правит по совести и правде, лукаво косясь на индигирского и алазейского приказного, — продолжал Новоселов. — А меня избрали целовальником за прежнее непокорство воровской власти.
— Приказным-то кого? — громче и злей спросил Зырян.
— А тебя! — захохотал целовальник. — По твоей жалобной челобитной везу тебе наказную память.
Митька расправил плечи, прихлопнул шапку, метнул на Стадухина победоносный взгляд и восторженно рыкнул. Михей с облегчением рассмеялся: если бы на приказ поставили его, пережить такую милость ему стало бы не по силам.
Пока Стадухин с Зыряном и с Новоселовым переговаривались, привечали, пытали друг друга, казаки и промышленные переходили с борта на борт, искали знакомых и земляков, выспрашивали новости Лены и Колымы. Чуну и Бырчик, говоривших по-русски, усадили в тесный круг. От Чуны вскоре отстали, Бырчишку же засыпали расспросами и едва не на руках носили. Вскоре Михей услышал ее заливистый хохот. Мелькнула мысль, что девку напоили, но было не до нее.
На встречных кочах везли много ходового товара и ржаной муки. Петр Новоселов с торговыми и промышленными людьми ждал попутного ветра, чтобы идти с Индигирки на Колыму. От него казаки узнали, что оставленных Зыряном на Индигирке и Алазее Лавра Григорьева и Ивана Ерастова в прошлом году сменил Андрей Горелый. И те, с собольим ясаком в семь сороков, вернулись на Лену, рассказали там о великой реке Колыме. С их слов и по челобитной Митьки Зыряна нынешним летом на новооткрытую реку отправилась морем большая ватага промышленных людей с передовщиком-мезенцем Исаем Игнатьевым.
— Они же, Ивашка с Лаврушкой, Колымы в глаза не видели, — хохотали стадухинские казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков.
— Зато я на нее насмотрелся! — оправдывал сослуживцев Зырян.
Ленские торговые и промышленные люди, плывшие с Новоселовым, алчно ловили каждое слово очевидцев о богатствах открытой реки, расспрашивали о промыслах и колымских народах, с горящими глазами щупали добытых соболей и лис. Новоселов, Зырян и Стадухин спустились в жилуху с тремя ярусами узких нар, с печуркой из обожженной глины. Целовальник достал из кожаного чехла грамоту с висячей воеводской печатью. Зырян внимательно осмотрел ее и протянул Михею. Стадухин медленно по слогам стал читать, Митька с задранным носом и круглым, напряженным лицом слушал колдобистые, нескладные кремлевские слова, с каждым новым добрел и расслаблялся.
— Так-то вот! — улыбался, ощущая свое превосходство, при особо важных наказах грамоты без обычного запала задирал перст.
— Как править будем? — спросил Новоселов с лукавыми искорками в глазах. — Я — торговыми и промышленными, ты — казаками.
— По совести! — Зырян поднял бровь, глубокомысленно раздаивая сосульки бороды. — Не даст Бог попутного ветра — сухим путем уведу на Колыму и послужу государю. А Мишка пусть везет казну в Москву, хвастает, что первым открыл реку. — Обернулся к Стадухину, выхватил прочитанную грамоту из его руки, показал кукиш и выскочил из жилухи.
— Семейка! — окликнул Дежнева. — Пойдешь вспять на Колыму, без Мишки?
Казак-пинежец, мирно беседовавший с мезенцами, задумался.
— Кабала на мне, — пробормотал. — Своя и общая… Что добыл — придется отдать. С неделю разве погуляю. Вот ведь! — Вскинул на Зыряна потускневшие глаза. — А что? Можно и вернуться! Кабы вы с Мишкой не собачились по пустякам, чего не служить?
Таможенный целовальник Петр Новоселов был послан на дальнюю окраину, чтобы на месте брать государеву десятину лучшими мехами. Воеводы знали, что промышленные стараются продать их на пути к острогам, а торговые — провезти мимо них. Предъявив Афоне наказную память, Новоселов с видом начальствующего человека потребовал показать все меха, добытые его людьми. Осмотрев их, отобрал десятину, при свидетелях сделал записи в окладную книгу и положил к казне. Зырян опечатал мешки присланной ему печатью. Казенные и десятинные меха были переданы Стадухину для доставки в Якутский острог.
От новоселовских людей колымцы узнали, что в прошлом году с промышленными людьми ватажки Ожегова и Корипанова в Жиганы вернулись братья Михея Стадухина. Герасим с Тархом в тот же год добрались до Якутского острога, другие промышленные зимовали в Жиганском, пропились и до сих пор бедствуют там на поденных работах.
Закончив дела, Стадухин с Андреевым слили остатки воды и стали готовить к спуску легкую лодку с бочкой. Михей окинул спутников пытливым, настороженным взглядом: Афонины промышленные веселились, Чуна протяжно пел, Бырчишка скакала, как коза. Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков масляно глядели на нее и хлопали в ладоши. Михей с Афоней с пониманием переглянулись и заспешили: купили по пуду ржаной муки на каждого из своих людей, боясь прогневить Господа, вина решили не брать. Другой товар не был нужен: в Жиганском остроге все стоило дешевле. Лишь перед самым отплытием, удивив передовщика, Стадухин перескочил на торговое судно и вернулся с берестяной фляжкой горячего вина.
Принужденные окликами, казаки и промышленные неохотно сели за весла, коч пошел в глубь протоки запасаться водой, рыбой и птицей, которая теряла перо. Бырчик в нескладной мужской одежде, с выпиравшим из-под штанов брюхом висла на всяком из недовольных гребцов, Афоня бросал на нее тоскливые взгляды, но не корил, не окликал, претерпевая трезвое раздражение. Чуна плясал под приглушенный хохот, но вскоре стал печален, сел в стороне и завел длинную, протяжную, как волчий вой, песню. Встали на якорь. Плыть за водой могли только двое: передовщик и Михей. Ловить рыбу и птицу, собирать плавник спутники не желали.
— Гульной день, давай! Намучились! — Оглядывались на едва видимые торговые суда.
Афанасий Андреев не пил ни вина, ни сусла или бражки. От них ему делалось плохо. Стадухин мог пить помногу, но недолго: уже на другой день его воротило от винного запаха. Втайне он даже завидовал веселившимся, но торопился на Лену, боясь упустить ветер и удачу. Чуна умолк, оборвав песню на вздохе, свесил голову, посидел минуту-другую, повел по сторонам злыми, сжатыми в щелки глазами и закатил оплеуху ближайшему из сидевших промышленных людей. Его связали. Он не противился, ткнулся носом в мешок с рожью и затих. На другой день все хмуро работали, оглядываясь на торговые суда, то и дело намекали Стадухину, что готовы перекупить его фляжку.
— Знаем, у тебя есть! — канючили. — Отдал бы за перекупную цену, чего добру пропадать?
Бывший атаман сердито молчал, губы его были сжаты, глаза холодны, под облупившимся носом задиристо топорщились рыжие усы. Он чувствовал, что ветер может перемениться, и виноватых в том нет. Так и случилось. На другой день новоселовский караван судов снялся с якорей и ушел в море. Запас воды, еды и дров пополнялся несколько раз, так как в протоке пришлось простоять полторы недели.
Наконец, снова задуло с восхода. На судне подняли парус и продолжили путь вдоль унылого тундрового берега. На пятый день добродушное лицо Афонии посуровело, он что-то напряженно высматривал вдали и наконец указал Стадухину:
— Святой Нос! Гиблое место. Многие суда здесь побились, и твой сослуживец, Федька Чурка, на берег выбросился.
Обойдя мыс, Афоня незлобливо чертыхнулся. Прямой путь к западу был забит льдом. Казакам и промышленным пришлось сесть за весла и продвигаться, отталкивая льдины шестами. В заливе за Носом им встретился знакомый коч торгового приказчика Стахеева. Судно болталось на якоре, дожидаясь попутного ветра, чтобы плыть на Колыму. С него махали шапками, подзывали. Понятно было, что встреча не могла обойтись одними приветствиями и обменом новостей.
— Прошлый год у нас был, — весело загалдели казаки и промышленные, глаза их заблестели. — Неужто, успел обернуться за товаром?
Как ни спешили Михей с Афанасием, как ни ценили каждый день и час пути, но пройти мимо не могли. Сжав зубы, Стадухин согласился переменить курс. Афоня подвел суденышко к смоленому борту добротного купеческого коча, при резкой волне отмели ткнулся в него тупым носом.
— Чтоб вина никому не покупать! — прикрикнул казак на служилых и промышленных. — Кто ослушается, в кровь морды разобью!
Стахеев смиренно поклонился земляку и заговорил с печальным видом:
— Здравствуй, Михеюшка! Ангела тебе доброго, дорогой сродник!
— Что за беда? — Стадухин перескочил на его судно.
— Пограбили меня мои же покрученники! — качая головой, стал жаловаться Стахеев.
Вокруг него толпились подручные и торговые люди. Среди них Стадухин высмотрел Федьку Голого, прибыльно торговавшего на Лене. «Маловато народа, чтобы вести тяжелый коч!» — отметил про себя и настороженно спросил:
— Ты в какую сторону?
— На Колыму! Там у меня ватага промышляет. Живы ли?
— Живы были, когда уходили! И что теперь? Искать грабителей?
— Да где ж их сыщешь? — всхлипнул пинежец, зарозовев оспинками по щекам. У Стадухина отлегла от сердца тревога. — Все равно объявятся в Якутском, мимо не пройдут. Пусть воевода взыщет. А ты свези ему мою жалобную челобитную.
— Добро! — повеселев, согласился Михей и, обернувшись к передовщику-мореходу, приказал покрепче пришвартоваться. — Только пиши быстрей, каждый час дорог.
— Да у меня все написано. Нацарапаю, что с тобой грамотку шлю, и ладно.
Афанасий Андреев перешел на борт стахеевского коча, поприветствовал знакомых и встречных.
— А что это вдруг покрута взбунтовалась? — полюбопытствовал.
Стахеев стал обстоятельно и нудно рассказывать:
— Я в немилости у нового воеводы оттого, что был в милости у прежнего. Пострадавшие от Головина теперь взыскивают с нас, с тех, кто с ним ладил. Вернешься, даст Бог, пойдешь на поклон к Пушкину, помни! А покрученники мои взбунтовались, что их Головин заставлял строить острог за один только прокорм, а я при нем прибыли получал, вот они и решили взыскать с меня ходовым товаром. Серебро искать соблазнились, дураки. Государю, мол, послужим, он нас простит, а от вас, торговых, не убудет. А то, что мы ради прибылей круглый год маемся под парусом да на нартах, того им, завистникам, не понять.
— Ты давай-ка побыстрей, — поторопил земляка Студухин.
— Заемную грамотку на себя дали? — не обращая на него внимания, продолжал спрашивать передовщик.
— Дали! — тяжко вздохнул Стахеев и опять поднял руку с пером, обмокнутым в чернила. — Да когда теперь с них взыщешь. А меня на Колыме ждут. Следом плывут Епифанка Волынкин с Богдашкой Евдокимовым, Федотка Попов в устье Лены ждет своего приказного, посланного в Якутский за дозволением промышлять и торговать. Через год-другой на Колыму каждое лето будут приходить по десятку кочей. Успевать надо, а тут беда…
— Пиши, пиши! — сердито взглянул на разговорившегося приказчика Стадухин.
Стахеев опустил нос к написанной челобитной, снова обмакнул перо, старательно дописал несколько строк и присыпал их сухим песком. Михей с беспокойством зыркал по сторонам, приглядывая за своими людьми. Лица казаков ему не нравились. Бырчишка открыто выспрашивала, есть ли вино.
— Я вам сторгуюсь, дети блядины, так сторгуюсь, вы у меня водяному дедушке будете петь и плясать! — пригрозил рыкающим голосом.
Два коча недолго простояли рядом. Как ни просили люди Стахеева и Голого показать добытые на Колыме меха, Стадухин потряс перед ними паевым сороком черных соболей и велел выгребать из залива. Промышленные и казаки неохотно скинули швартовы, оттолкнулись шестами от купеческого коча. Афоня вскрикнул, тревожно озираясь по сторонам:
— Девка где? — Бросив руль, перемахнул на другое судно и вытащил из-под палубы упиравшуюся толмачку. — Спряталась, стерва!
Бырчик была пьяна и кричала, что желает вернуться на Колыму.
— Оставь ее нам! — смущенно попросил передовщика Стахеев. — Дадим хорошую перекупную цену товаром. Мы ведь одного купца пайщики и покрученники, чего там?
— Не продается! — рыкнул Афанасий и вместе с царапавшейся девкой перескочил на свой коч.
Прижав ее к себе одной рукой, встал к рулю, а едва суда разошлись на десяток саженей, отпустил вопившую толмачку, не вступая с ней в споры. Промышленные и казаки помалкивали, но глядели на него с укором.
— Куда спешим? — приглушенно роптали, выгребая. — Льды кругом. Постояли бы, рыбки наловили, в мясоед последнюю юколу доедаем, вода кончается.
— Вода в устье Яны солона и рыбы нет! — терпеливо отвечал Афоня.
— Постояли бы недельку-другую, — канючили казаки Бориска Прокопьев и Артемка Шестаков. — Сам говорил, что прямым сухим путем Лена ближе.
— Гребите, пока Бог дает путь! — ругнулся Михей. — Радуйтесь и терпите.
— И на Семейку Дежнева зря ты взъелся. — не унимался Артюшка, а Бориска смотрел за борт и громко сопел. — Его Бог любит, оттого ему раны и неудачи, а нам облегчение! — Лица казаков были трезвы и печальны. — Еще на Оймяконе приметил, — продолжал корить Артюшка, — пока он сидит в зимовье — нам Бог помогает, как ты его выпроводишь — не с воза упадем, так бык обгадит!
— Не за столом воздух испортишь, так в церкви! — хмуро буркнул Бориска и опять отвернул нос.
— Что мелете! — вскипел Стадухин, понимая, что казаки недовольны только тем, что не дал купить вина. — Мы с Алазеи на Колыму без Семейки дошли при попутных ветрах, не зная пути.
Артюшка с Бориской не нашлись как возразить. Помолчав, один прогнусавил:
— Знаем, что у тебя вино есть.
Стадухин, задетый за живое, напрягся, вспоминая, что в земляке Дежневе сердило его? Не жаден, не завистлив, покладист…
— Вас пошлешь куда — три раза сбегаете, а он только кобылу запряжет. Облаешь — лыбится, будто дразнит, — проворчал, глядя на зарябившую от ветра воду. Про вино умолчал.
Они шли в виду берега. Красный солнечный блин присел по курсу судна, выкрасив гребни волн. Вместе со скрежещущим крошевом льда коч сносило к закату. Ничего не оставалось, как со спущенным парусом отдаться течению. Михей сменил на корме Афоню, гребцы прилегли отдохнуть, на судне стало тихо.
Стадухин долго смотрел на север, где розовели льды. Когда обернулся по курсу — возле мачты стоял медведь и как-то чудно глядел на него. Михей от удивления разинул рот, дернулся, чтобы перекреститься, — зверь стал скакать на месте, как тот, который не вернулся после купания при заломе. Вглядевшись пристальней, Стадухин заметил, что медведь как-то странно худ и неуклюж: шкура висит, как на жердине, и скачет не так прытко, как тот, и морда неживая. Зверь догадался, что уличен, встал на задние лапы и откинул мохнатую голову за плечи. Из прореза высунулось смеющееся лицо Чуны.
— Ты когда шкуру добыл и как утаил от Петрухи? — слегка заикаясь, спросил Михей. Не дождавшись ответа, мотнул головой: — Вот так да! Я думал — оборотень или водяной потешается.
Впереди открылся узкий проход между льдами и сушей, но Афоня упреждал, ближе чем на две версты к берегу не подходить.
— Что там мельтешит? — Стадухин указал шаману в сторону берега.
Тот долго всматривался, прикрывая лоб ладонью:
— Олени пьют. У них бывает нужда в морской воде.
— Мне тоже показалось, что олени, но стоят по лытки в версте от суши, а то и дальше.
— Мелкий берег. Опасный, — ответил из-за спины проснувшийся передовщик. — Иное суденышко выкинет, люди сутками бредут до сухого. Гиблое место! — Размашисто перекрестился и вытянул руку, указывая курс.
Стадухин опять промеривал глубины шестом, разглядывал разводья и заметил впереди темное пятно. Вскоре стало ясно, что какое-то суденышко идет под веслами.
— Видать, знак! — Афоня перекрестился и стал будить спутников, приказывая сесть за весла.
Пришлось отойти от ледового поля. Коч стало мотать волнами с борта на борт. От нудной качки гребцы зачертыхались. Стадухин тоже тихонько ругнулся. Уже был ясно виден струг в три пары весел. Они шевелились, как лапки жучка, упавшего на спину.
— Пройти мимо — Господа прогневить! — поддержал его передовщик, не отрывая глаз от приближавшегося суденышка. И проворчал: — Сдурели! На стружке льды обходить?
— Вдруг нужда какая? Или ветром унесло?
Передовщик пожал широкими плечами, казаки и промышленные стали подгребать к плывущим. С коча уже видно было, что люди на струге не терпят бедствие, но пробираются к Святому Носу вдоль кромки льдов.
— Да это же Ивашка Баранов с Гераськой Анкудиновым! — вскрикнул кто-то из промышленных.
Стадухин пробрался на нос судна, стал узнавать и других сидевших за веслами в струге. Все они были из отряда сына боярского Василия Власьего, посланного на Яну перед оймяконским походом. Струг подошел к борту коча.
— И откуда же вы, удальцы, плывете? — весело глядя на казаков, спросил Стадухин.
— С Янского зимовья! — небрежно ответил Герасим Анкудинов, поднимаясь на ноги. Иван Баранов угрюмо помалкивая, кивнул старому товарищу.
— А мы с Колымы-реки! — торжествуя, приосанился Михей.
— Слыхали! Туда и гребем! — зашумели в струге.
— На стружке, на Колыму? — язвительно хохотнул Артемка и с видом бывалого человека окинул шестивесельный струг презрительным взглядом. — Можно заживо отпеть, как покойников! Про Федьку Чурку слыхали?
— Слыхали!
— На том самом мысу, на Чуркином разбое, со слов Петрухи Новоселова, Андрейка Горелый разбил коч и кочмару в две мачты, едва жив сухим путем ушел на Индигирку.
— Он от нас узнал про Горелого! — с вызовом, сплюнул за борт Герасим Анкудинов. — Встретим попутный коч, пересядем! — Блеснул холодными глазами. — Нынче на Яну торговые и промышленные носа не кажут, все идут на Колыму!
Люди в струге сложили весла, встали, распрямились, придерживаясь за борт, в пояс поднялись над ним, разминали затекшие от долгого сидения ноги, но на судно не перешагивали.
— Так-то! — опять рассмеялся Михей. — Я вас звал на новые земли! Должиться боялись. Вот вам и государев подъем! — Он чувствовал себя победителем. От душевной раны, которой страдал много лет, отсыхала последняя короста.
— Однако нас сносит в обратную сторону! — резко дернул бородой Герасим Анкудинов.
Струг раз и другой ударило о борт коча, янские казаки сели и разобрали весла, показывая, что им некогда заниматься пустопорожними разговорами.
— Чьим наказом плывете? — торопливо спросил Стадухин, теряя напускную важность.
— Сносит! — оглядываясь на берег, согласился с товарищем Иван Баранов. Гребцы стали отталкиваться руками от борта. Никто не отвечал на вопрос. Подавшись вперед, Михей торопливо спросил:
— Петруха Новоселов сказывал, что воевода в гневе отозвал Власьева с Яны. Так ли?
— В тюрьме ему место! Казенных коней якутам продал, нас принуждал в нартах ходить гужом! — скаля зубы, со злым удальством откликнулся Анкудинов, резко оттолкнул корму, его гребцы взмахнули веслами.
— Кто сейчас на Яне? — торопливо крикнул Стадухин.
— А никого! — обернулся Герасим. — Ясачные разбежались, соболь выбит, делать там нечего. На Колыме государю послужим. Нынче все про нее говорят.
— Беглые, что ли?
Гребцы, налегая во всю силу, дружно захохотали в девять глоток.
— Удальцы! — восхищенно крикнул вслед Михей. — Спросят про вас на Лене, что сказать?
— Властью брошены, пошли самовольно на государевы дальние службы! — гаркнул Анкудинов и повернулся спиной к старому товарищу.
— Вот ведь! — уважительно пробормотал Стадухин. — Настоящие казаки: полны штаны достоинства — даже муки не попросили.
Ветер то терялся, стихая, то усиливался порывами и скручивал парус. Несколько раз его поднимали и снова спускали. Коч медленно, но упорно продвигался к янскому устью. После встречи с беглыми казаками и анкудиновского плевка на воду водяной дедушка сильно осерчал: стадухинский коч то пробивался сквозь ледовое крошево, не замеченное издали, то шел под парусом по открытой воде при недолгом попутном ветре. Но войти в устье Яны Афоня не смог. Гребцы тихо поругивали Гераську — явно навлекшего вынужденный голод и жажду. Шел редкий дождь, просекаясь колкими снежинкам, с левого борта виднелась тундра. Резкая мелководная волна швыряла коч, заваливая то на один, то на другой борт. По курсу в холодном тумане показалась такая же земля, что и с левого борта, с грязной водой мелководья. Она тянулась на север.
— Узнаю! — разлепил губы передовщик. — Устье Омолоя недалече, — указал Стадухину на долгий мелководный мыс. — Становись на шест, попробуем обойти!
Гребцы обреченно зароптали, волна стала бить в борт, окатывая их брызгами.
— Здесь бы выгрести! За мысом к Омолою выбраться легче! — утешал и настораживал их передовщик-мореход. — Там хоть и замороз возьмет — можно сушей выйти на Лену. А здесь застрять — мелководная волна если не разнесет в щепы, то забьет илом, засосет по борта, а берег — не спасение.
Гребцы, ежась от сырости, тоскливо посматривали на мокрую грязно-желтую тундру с ржавыми озерами. Высаживаться на нее никому не хотелось. Мыс тянулся непомерно долго, и наконец показалась коса. Коч обошел ее. Здесь не было волн. Вдали от мелей мореход повел судно в полуденную строну. Будто смилостивившись над утомленными людьми, из-за туч пробился робкий луч солнца.
— Что там впереди? — крикнул Стадухин, указывая в даль.
Снова казаки и промышленные вглядывались с такими лицами, будто подплывали к старому Ленскому острогу. Мелькнула и пропала какая-то тень. Выбирая полыньи и открытую воду, коч то приближался, то отгребал от берега. В устье Омолоя, наконец, разглядели стоявший на якоре двухмачтовый коч с высокими бортами. Стадухин велел пальнуть холостым зарядом из пищали. С коча дали ответный залп. Кренясь и раскачиваясь, потрепанное суденышко подошло к нему.
— Эвон сколько рож-то знакомых! — хохотнул бывший атаман, едва ворочая иссохшим языком, и с удальством сбил на ухо шапку.
На борту встреченного судна толпились два десятка торговых и промышленных людей, с любопытством разглядывали наспех построенный казенный кочишко со снастями из кож и кореньев. Михей перелез к ним на палубу, попав в объятья Федота Попова и его конопатого племянника Емельки. Огляделся, выискивая знакомых попутчиков от Илимского острога. Все прежние своеуженники были здесь: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов.
— Другой приказчик где? Лука? — полюбопытствовал.
— Мы с ним разделились в Ленском, — охотно ответил рыжий как солнце Емелька Степанов.
Жаждущие слышать от очевидцев о реке-Колыме, они щедро поили и кормили встреченных людей. На их просторном коче стало тесно. Федот с племянником подхватили под руки Михея, потащили в жилуху для расспросов и бесед. О себе говорили кратко и неохотно, что после расставания зимовали в Ленском, претерпели от власти тяготы и унижения. Весной с торговыми и промышленными людьми ушли на реку Оленек, которая по другую сторону от ленской дельты. Но промысловых мест оказалось мало. Роды, дававшие прежде ясак Ивану Реброву, пришлось заново подводить под государеву руку. Федот Попов с племянником да гусельниковская ватага приказчика Бессона Астафьева воевать не хотели и этим рассердили других, их вытеснили в тундру, где всю зиму пришлось одним отбиваться от нападений. Ни промыслов, ни торга не получилось. Кое-как перезимовали и летом поплыли на другую сторону Лены, здесь услышали о Колыме. Федот, не распродав товар, остался, а Бессон с их общей десятинной податью ушел в Якутский острог просить отпускную грамоту на дальние реки. Вдруг там возместятся многие убытки купца Усова. Стадухин печально косился на чарку настоящего горячего хлебного вина, от одного вида которой уже празднично кружилась голова. Но путь был не закончен. Поколебавшись, он сказал, что пить не может по зароку. Розовощекий Емельян, уже поднял чарку и скорчил обиженное лицо:
— Если кишки болят, так выпьем за здравие, на пользу!
— Не может, значит, так надо! — оборвал племянника Федот и опустил на узкую столешницу свою чарку.
Емельян помялся, крякнул и выпил один. Михей, не сводя тоскливых глаз с наполненной чарки, стал рассказывать о богатствах Колымы, о слухах и догадках про неведомую реку Погычу, про Большую Землю, что виднеется за льдами от Святого Носа до Колымы и дальше. Потом велел привести аманата Чуну, который наравне со всеми выгребал против ветров. По лицу ламута видно было, что он еще не успел приложиться к чарке. Михей придвинул ему свою:
— Прими угощение от моих друзей!
Чуна острым, сметливым взглядом окинул стол, молча поднял чарку, понюхал, шевельнув крыльями приплющенного носа, облизнулся, как кот, и стал пить мелкими глотками, благостно смеживая щелки глаз. Поставил пустую чарку на стол, глубоко вздохнул и сел, ожидая, когда заискрятся, запоют воздух и стены. Федот с Емелей начали расспрашивать его о Великом Каменном поясе, с которого в разные стороны света текут в океаны реки. Чуна, восчувствовав волну хмеля, повеселел и стал вдохновенно говорить.
— Успеем ли? — вздохнул Федот. — Прибудет Бессонка с отпускной грамотой на Алазею и Колыму, а там уже на Погыче ярмарки. — Пристально всмотрелся в глаза Стадухина. — Ты вот что, если встретишь его в Якутском, передай, чтобы просился на Колыму и Погычу.
От Федота Попова люди Стадухина и Андреева узнали, что Омолой безрыбен, как и Яна. Рыба ловилась только в устье, и то плохо. Опять купили ржи, заправились водой, нарубили дров из плавника, набили птицы, слегка отъелись и спешно вышли в море. Выбравшись из ленской протоки на большую воду устья великой реки, Стадухин скинул шапку и страстно помолился. Путь до Ленского острожка был не короче пройденного, но известен и нахожен. Прощаясь с морем, он достал зарочную фляжку и вылил вино за борт, в благодарность водяному, что не сильно вредил в пути. Продрогшие казаки и промышленные от такой расточительности зароптали.
— Хватило бы и половины!
— Теперь-то можно бы и вовсе не лить!
Стадухин с усмешкой вытряс за борт последние капли и спросил:
— Кто знает, что больше никогда не пойдет в Студеное море?
Спутники угрюмо молчали, налегая на весла, передовщик Афанасий, глядя на них, добродушно посмеивался. В Столбовом зимовье служил Дружинка Чистяков, бежавший когда-то с Вилюя на Оленек. Служил «не в прием» — денежного жалованья не получал, но до прошлого года присылали хлебный оклад, потом перестали. Старый казак попросился идти с оказией в Якутский острог, хлопотать о жалованье у нового воеводы.
— Возьмем! — согласился Михей. — Не теснимся! — Вспомнил, что когда-то завидовал этому беглецу, бежавшему с Вилюя в Жиганы к вольнице Ивана Реброва. Но, встретив обветшавшего казачьего десятника, пожалел его.
По Лене казаки и промышленные поднимались то бечевой, то своей силой и парусом. Под бахилами хрустел мох, звонко ломался лед заберега. До Жиганского ясачного зимовья оставалось верст сто, когда пошла шуга. Путники вытянули коч на сухое, возвышенное место, сделали лыжи, нарты и пошли пешком. Время от времени они ночевали на станах и в промысловых зимовьях, по которым оседали старики и люди, потерявшие надежду разбогатеть. Они кормились рыбой и зверем, делали лыжи, нарты, лодки для продажи проходившим ватагам, охотно вспоминали о прежних скитаниях по Сибири, но уже никуда не рвались. Михей с любопытством всматривался в их лица и, к удивлению своему, находил в них что-то общее со старым сибирским бродягой Пантелеем Пендой.
Наконец, показалось Жиганское зимовье. По левому берегу Лены, в устье притока Муны стояли две избы, в них просторно жили семь ленских казаков-годовальщиков. Вокруг изб теснилось множество землянок, избенок, лачуг, балаганов, в которых временно ютились торговые, промышленные и гулящие люди: одни наживали богатство, другие проматывали его долгими зимами. Здесь Стадухин встретил двух Иванов: Ожегова и Корипанова, оставленных на Индигирке. Оба пришли сюда небедными, начинали, как водится, с бани и сусленок и вот другую зиму перебивались на подворных работах за пропитание.
— Опохмели, атаман! — кинулись к Стадухину.
— Когда последний раз брагу пили? — рассмеялся Михей. — Может быть, накормить?
От них он узнал, что его братья, Тарх с Герасимом, хорошо промышляли и торговали на Индигирке, с ожеговской ватагой выбрались на Лену, на лыжах и нартах ушли дальше. По летним слухам с верховий реки — торговали и рыбачили при Якутском остроге.
Среди таких же гулящих людей Михей встретил спутника по давнему походу на Вилюй промышленного человека Ивана Казанца. Он из первых строил Жиганское зимовье. С Перфильевым и Ребровым не ушел, имел здесь дом, всегда полный проезжими людьми, жену-якутку. Бездетная и некрасивая, она много лет как-то удерживала Казанца при себе. В государевом зимовье прибывших с Колымы окружили почетом и вниманием, едва не на руках носили, угощали дармовой выпивкой, выспрашивая о далекой реке, при этом паевые меха казаков и промышленных людей каким-то образом стали утекать в другие руки. Почувствовав, как затягивает ласковое болото, Стадухин уже на третий день приказал казакам и Чуне собираться в Якутский острог. Дружинке Чистякову гулять было не на что, ему не надо было напоминать о выходе, а промышленные Афони Андреева возвращаться не спешили, брюхатая толмачка скрывалась по избам и балаганам. Умучавшись искать и гоняться за ней, Афанасий решил идти с казаками.
В пути к острогу они вспоминали расспросы жиганских любопытных людей про «рыбий зуб» — моржовые клыки, которые прежде никому не были нужны, а нынче на них появился большой спрос. У костров рассуждали, что если бы вместо серебра искали рыбий зуб, то могли бы найти его у чукчей, глядишь, и везли бы с собой богатство вдвое против нынешнего. Михей опять спешил, да так, что казаки лаяли его, Чуна отлынивал и противился, обветшавший Дружинка кряхтел и охал, пытаясь вызвать сострадание. Спокойно претерпевал тяготы пути один Афанасий.
— Еще полночь, зачем так рано будишь? — возмущались Артемка с Бориской, едва он сбрасывал одеяло и начинал раздувать костер.
— Нутром чую, утро! — Михей возводил глаза к небу, на котором не было ни звездочки, ни лучика, и не мог доказать, что время подниматься, чтобы выйти с рассветом, он это чувствовал, дольше лежать не мог, топил лед в котле, грел застывшую, испеченную или сваренную вечером рыбу.
Спутники, ругаясь, кутались в одеяла, спали до рассвета. Чуна, почитая Стадухина за атамана, некоторое время послушно поднимался, сидел, жался к огню и чесал длинные волосы. Когда разлад с казаками стал очевиден, затыкал уши и спал, пока бывший атаман не толкал в бок.
— Выходить пора, а вы только поднимаетесь! — корил связчиков, и весь путь к Ленскому острожку был непрерывной руганью. Несколько раз Михей грозил идти на пару с Афоней, хотя оба понимали, что с большой казной и богатой долей наверняка будут пограблены встречными русскими людьми или инородцами.
И вот на Казанскую Богородицу показался старый Ленский острог. Когда-то подновленные Головиным стены были разобраны, за ними остались три казенных избы, часовня, два амбара, крытых тесом, на берегу реки — старая баня. Не было многих изб в посаде, дымов курилось меньше, чем при атамане Галкине, и тишина была такая, что Стадухин засомневался: не ошибся ли в счете дней и праздников. Нарты прибывших обступили какие-то заспанные, потрепанные ярыжки. Выцарапывая сосульки с усов, Михей всматривался в их лица и не находил знакомых. Наконец появился служилый в казачьей шапке, раздвинул сгрудившихся людей и раскинул руки:
— Мишка, друг, ты ли?
— Я! — потеплевшим голосом ответил Стадухин, тиская в объятиях Семена Шелковникова. — В казаки поверстался или что?
— В служилых! — по-медвежьи рыкнул Семен. — Иван Галкин освободил из тюрьмы, новый воевода, Петр Никитич, поверстал в казаки, в десятниках служу… Расступись! — грозно окликнул толпившихся людей. — Заходите в съезжую избу! — Повел за собой прибывших.
— Про Арину слыхал что? — нетерпеливо спросил Стадухин.
Семен подхватил бечеву его нарты, с хрустом сорвал с места, обернулся:
— Слыхал! И даже видел на Рождество Богородицы. Приезжала от Абачеевской родни за хлебным жалованьем, плакалась, уходил на год, а уплыл в другую сторону, на неведомую реку.
На Лене уже всякий ярыжка знал об открытой Колыме. Слова товарища приятно польстили Стадухину, но душа затрепетала.
— Там и живет? — спросил волнуясь.
— Там, с якутами! Дежневская Абаканда уже якутенка родила, не стерпела. Похоже, опять брюхата. Твоя-то ничего, ждет, сына растит, не слыхать, чтобы гуляла. Разве там, у якутов, тайком, — весело гоготнул. — Чай не колода, баба все-таки!
— Сын-то мой?
— А то чей же? — громче рассмеялся Семен, смущая Михея. — Оклад на него даю, как на твоего. Абаканда и другого хотела на Дежнева записать, хоть родила прошлый год. Два года носила, что ли? За дураков нас держит!
Семен велел занести нарты в сени. Путники вошли в жарко натопленную избу с кислым запахом браги, скинули шапки, помолились на образа, стали снимать шубные кафтаны и парки. Стадухин распахнул верхнюю одежду, но не раздевался. Все та же хабаровская якутка, которую видел у Семена на Куте, расставила чарки по столу, выложила стопку пресных ржаных лепешек.
— Тут без вас Головин-то разошелся: пол-острога в тюрьмы пересажал, заставил строить Якутский. Черных попов и тех упек. Симеон сидел в холодной, Стефана с Порфирием водили в цепях на панихиды и крестины. Но нашлись люди, не побоялись кнутов, переправили царю жалобную челобитную. Есть правда и на этом свете — нашлась на Головина управа. Пока ехал сюда новый воевода с государевым указом, в Якутский прибыл из Енисейского наш атаман Иван Галкин, освободил заключенных, меня из тюрьмы вытащил, а изверга Головина усмирил. Теперь все, что были раньше в чести, у нового воеводы в немилости, а страдальцам он прямит…
— Выпьем, что ли, во славу Божью, за Матерь Нашу Небесную, Заступницу за народ русский! — Поднял чарку.
Шелковников был в легком приятном хмелю и в охоте поговорить. Стадухин же ерзал на лавке, торопливо соображая, как поскорей уйти к Абачееву роду. Несколько раз, прерывая рассказы десятника, спросил, на прежнем ли месте юрты? Едва начались расспросы о Колыме, сослался на своих казаков, желавших попить бражки в честь праздника.
— Отдам тебе на хранение опечатанную казну, аманата Чуну и свои меха, — сказал Семену. — Сбегаю, повидаюсь с женой?
— Празднику не рад или брага кисла? — проворчал Шелковников. — Нынче погулял бы, завтра в бане помылся, потом — к жене. Если три года ждала — два дня перетерпит… У Дежнихи, поди, и мыльни-то нет. — Но увидев лютую тоску в глазах товарища, согласился: — Ну, если так, приму твою рухлядь… Нынче вокруг Ленского и Якутского спокойно, никто не шалит. По всей Лене мир!
Прихватив пару красных лис, Стадухин бросил на нарту саблю, сунул за кушак топор, встал на лыжи и налегке побежал в улус. Он остановился, чтобы перевести дух, только тогда, когда увидел островерхие крыши четырех урасов — юрт, крытых дерном, соединенных между собой переходами. Над двумя курился дым, вокруг них была черная земля, перекопыченная скотом. Возле одного дыма баба в мужских торбазах и малице неуклюже махала топором, рубила сухостой на поленья. Михей приближался, сердце колотилось все быстрей, гулко стучала кровь в голове. Незлобно залаяли собаки. Бычки и телки разом повернули головы в сторону идущего. Та, что рубила дрова обернулась, выронила топор, села на вытоптанную, выветренную землю, и Михей узнал Арину. Она глядела на него пристально и настороженно, пока не поверила, что это он, когда узнала, задрала голову и по-песьи завыла.
— Ой, обомлела, обмерла вся! Подумала — казак с дурной вестью! — заголосила, не в силах встать на ноги. — Да где ж ты пропадал-то? — Слезы ручьями текли по ее обветренным, поблекшим щекам.
— Жива, слава Тебе, Господи! — Не сбросив лыж, гремевших по мерзлой земле, он поднял ее, стиснул в объятьях, и пропало отчуждение первого взгляда на подурневшее, искаженное плачем лицо.
Она потянула его за наклонную дверь ураса. Он шагнул, споткнулся, взмахнув руками. Чертыхнулся, сбросил лыжи, перешагнул высокий порог, попав в теплый полумрак жилья. Горел очаг, дым уходил в вытяжную дыру. Вдоль стен почти по всей окружности были устроены нары, заваленные одеждой и шкурами. Другая низкая дверь вела в крытый переход. Арина приподняла шубенку. Под ней мирно спал двухгодовалый ребенок. Он открыл глаза, перевел их с Арины на Михея и почти без младенческой картавости спросил:
— Кто это?
— Да отец же твой! — снова залилась слезами Арина.
Михей пристально вглядывался в лицо ребенка, и чем дольше смотрел, тем больше узнавал свое, кровное, перенятое от отца с матерью, от дедов и бабок родовой деревни.
— Наш! Наш! — шептал восторженно, не зная, что делать, как привечать ребенка. Окинул взглядом убогое жилье, где он был рожден. — Ничего, милая, ничего, теперь у нас будет дом.
— Да хоть бы так! — Она все никак не могла остановить слезы. — Только не уходил бы надолго.
— Постараюсь! — бормотал он и как в снах обнимал жену, боясь пробуждения. Только теперь перед глазами мысленно маячил Великий Камень с падающими реками, Каменный Пояс, о конце которого никто ничего не знал. В снах этого не было.
И стали сбываться они. Михей спал и спал, будто отсыпался за все годы, которые мучился бессонницей и видениями. Просыпался, чувствуя с одного бока тепло женского тела, с другого — сына. Ласкал жену, гладил сына, снова засыпал. Сколько времени прошло с тех пор, как попал под якутский кров — не думал, не помнил, пока не услышал крики за стеной из жердей и дерна.
— Валяешься! — вломился в жилье сын боярский Василий Власьев, которого, по слухам, Головин сажал в тюрьму. Борода его была бела от куржака, усы слегка покрывали толстые, бугристые губы.
За ним осторожно вошли Ивашка Ерастов, бывший служилый с Алазеи, и какой-то новоприборный казак. Последним смущенно переступил порог Семейка Шелковников, отвел глаза, виновато укорил сдавленным голосом:
— Ну, ты что? Казну бросил, седьмой день как ушел… Воевода гневается, что пропал, не стояв перед ним.
— Как седьмой? — продрав глаза, сел на нарах Михей. Помнил, что ел, спал, ласкал жену и снова спал, но не мог поверить, что прошло так много времени.
— Думал, третий. Завтра бы вернулся, — пробормотал, винясь.
— Одевайся давай! Велено доставить живым или мертвым! — хмуря брови, объявил сын боярский. — А урасы обыскать: нет ли спрятанной рухляди.
— Две лисы принес на подарки. Все записано в окладную грамоту.
— Смотри! — приказал казакам Власьев.
Двое вышли, чтобы обыскать другие юрты, Шелковников с сыном боярским присели. Стадухин торопливо оделся, удивленно бормоча, что никак не могло пройти шести дней. Арина жердиной стояла у чадившего очага с сыном на руках, испуганно водила большими глазами.
— Ничо, ничо! — мимоходом успокаивал ее Михей. — Сдам казну, вернусь. Переедем в старый Ленский или в новый, как прикажут. Свою избу срубим.
— В новом оставят на службах! — подсказал Шелковников. — В старом нет окладов впусте. Избу тебе купить бы здесь да перевезти в новый и собрать. Так дешевле и быстрей.
Вошли казаки, Ерастов положил перед Власьевым девять соболей и двух лис. Тот посмотрел их на свет, поскоблил пальцем мездру, строго и вопросительно взглянул на Стадухина.
— Соболи не мои! Хозяина! Наверное, ясак за другой год собирает! А лис я принес. Внесены в окладную опись.
— Воевода разберется! — Толстые губы Власьева под мокрыми, оттаявшими усами презрительно дрогнули. — Приказано привести со всеми животами.
— Ну и ладно! — тряхнул смятой бородой Стадухин, окончательно приходя в себя. Распаляясь обычной злостью, блеснул глазами: — Тайком ничего не вез, мне бояться нечего.
Возле урасов стояли закуржавевшие лошади, запряженные в сани, опустив головы, переступали мохнатыми копытами, выискивая на земле случайные стебельки. Стадухин сел на смятое сено за спиной сына боярского. Лошадка напряглась, сорвала прихваченные морозом полозья, поскрипывая, потянула их по земле, по снегу, затем по льду застывшей реки. Следом шла лошадь Семена Шелковникова. К его саням была привязана нарта Стадухина с казной, паевыми мехами и дорожными пожитками. Наконец они переправились через реку по испачканному катыхами зимнику. В ранних сумерках на левом берегу величаво красовался крепкий и большой острог с частоколом высотой в две с половиной сажени, с угловыми башнями на сажень выше, с проездной — посередине заплота, высотой сажени в четыре.
— Когда успели? — ахнул Стадухин, разглядывая строения.
— Два года уже стоит! — скривил мясистые губы сын боярский, и с пережитой болью в голосе добавил: — Алексейка Бедарев начальствовал, выслуживался. За полгода острог поставил. Попил кровушки, Иуда!
— Слыхал на Яне, что Головин тебя звал для сыска, — посочувствовал ему Стадухин.
— Дурак он, этот Головин! — выругался сын боярский. — И казаки на Яне — подлые. Отписали жалобную челобитную, будто казенных коней для своей корысти продал. Да они бы перемерли там в зиму, а я, радея за государево добро, даже за дохлого коня взял с якутов двадцать соболей.
— Прибранное лучше отдать добром! — усмехнулся Михей.
Власьев обернулся к нему всем телом.
— От кого слышал?
— Недалеко от Янского устья встретил твоих казаков. Среди льдов на шестивесельном струге шли на Колыму. Не знаю, дошли ли по молитвам?
— Гераська Анкудинов?
— Он! И еще восемь!
— Меня оговорили и службы бросили, воры! — желчно скривился Власьев.
«Почему все хвалят нового воеводу?» — думал Стадухин, дожидаясь в сенях воеводской избы, когда позовут. К атаманам Бекетову и Галкину казаки ходили без проволочек, когда была надобность. При Ходыреве терся холуй из ясырей, который, бывало, не пускал, когда тот спал. В избе Головина дневала и ночевала охрана. Нынешних же караульных, похоже, и самих за дверь не пускали. Они вызвали лупоглазого молодца с бритым подбородком, тот молча выслушал Власьева, окинул Михея небрежным взглядом и ушел.
Шелковников куда-то пропал. В сени робко вошел Ерастов, приехавший верхом. Трое просидели на лавке больше часа, мимо сновали какие-то холопы, привезенные с Руси и Литвы. Наконец усатый молодец в жупане объявил, что воевода Василий Никитович примет их в съезжей избе. Стадухин с Власьевым и Ерастовым поднялись с лавки, перешли туда, где со скучающим видом сидели за столами письменные, таможенные головы, писари. У дьяка и воеводы были отдельные комнаты.
— Отчего их так много? — спросил Михей сына боярского. — Со всего воеводства собрали, что ли?
— Теперь их всегда много при воеводах, — опасливо озираясь, тихо ответил Власьев. — Целый двор, как у царя.
И опять они ждали, сидя на лавке. Наконец дверь к воеводскому столу распахнулась, другой молодец в жупане, с выбритым лицом, мельком взглянул на ждавших и небрежно махнул им рукой. Воевода с коротко стриженой бородой, с длинными, как у ляха, усами сидел в богатой шапке из черных лис, поверх немецкого платья на плечи была накинута соболья шуба. С неприязненным видом он таращился на Стадухина, пока тот отвешивал поклоны на образа и думал, чем мог прогневить, кроме задержки у жены. Едва нахлобучил шапку и опустил руки, воевода желчно вскрикнул:
— Где шлялся?
— Взяли у венчанной жены в постели! — Угодливо ухмыльнулся Власьев, стараясь смягчить гнев и перевести в смех. Отчасти ему это удалось: усы воеводы дрогнули, но глаза продолжали строжиться. Сын боярский с учтивым поклоном выложил на стол двух красных лис и девять соболей.
— Что скажешь? — покосившись на мех, спросил воевода.
— Заспался с дороги! — пожал плечами Стадухин. — Пришел в Ленский на Казанскую, жена с сыном неподалеку. Забежал. Думал, третий день, сказали, шестой…
— Шестой! — передразнил его воевода с корчами на гневном лице. — Беглых из Янского зимовья встречал?
— Кого это? — не сразу понял Стадухин.
— Кого, кого… — проворчал Пушкин и резко кивнул дьяку. Тот неторопливо развернул список, прочел ровным голосом:
— Ивашку Баранова, Гераську Анкудинова…
— Встречал неподалеку от Святого Носа, — не дослушав, перебил его Стадухин, обернулся к Власьеву с удивленным взором: когда успел донести? Вспомнил про своих казаков и Афоню. — Жаловались, — сказал воеводе, — что остались без приказного и кормов у них нет. Яна — река безрыбная. Плыли на Колыму.
— Почему не вернул? — яростней вскрикнул Пушкин.
— Не было в моей наказной писано, чтобы в янские дела вмешиваться, — начиная сердиться, резче ответил Михей.
— Удержишь их! — промямлил Ивашка Ерастов с каменным лицом. — Разбойник на разбойнике.
Воевода не повел ухом в его сторону, а Стадухин опять удивился: отчего Ерастов волочится за ним и Власьевым?
Четверо молодцов из воеводской прислуги внесли стадухинскую нарту, развязанную и распотрошенную. Вместе с ней в комнату втек едкий путевой запах костров и пота, кислый дух наквасы и кож.
— Показывай казну! — приказал Пушкин желчным голосом.
Михей вынул из-за пазухи свернутую трубкой грамоту, полученную от Зыряна и Петра Новоселова, положил на стол. Снял с нарты кожаные мешки. Печати на них были целы — предъявил их. Воевода тряхнул серебряным колокольчиком, вошли таможенный и письменный головы. Один смотрел печати, другой читал грамоту. С разрешения дьяка печати сломали, вывалили на стол соболей и лис, увязанных в восемь сороков.
— Что сулил казне за поход? — не глядя на Стадухина, спросил воевода.
— Два с половиной сорока!
— Всего сотню? Помнится, где-то записано — полторы?
— Сотню! — тверже объявил Михей. — С Оймякона и того много: места бедные, нежилые.
Тем временем воеводские люди пересчитали рухлядь, сверили с описями и ясачной книгой, о чем-то говорили, склонившись к столу.
— Четыре сорока соболей с Индигирки присвоил незаконно! — усмехнулся воевода, пристально глядя на терпеливо ждавшего разбора Стадухина.
— Незаконно не присваивал! — скрипнул зубами казак. — Коней, порох, свинец, сети, хлеб — все своим заводом брали, у торговых кабалились.
— Не велено казакам торговать! — напомнил Пушкин, отодвигая в сторону паевую долю Михея.
— А кабалиться в путь велено? — спросил Стадухин. Глаза его начали разгораться.
Воевода посмотрел на него долгим, пронизывающим взглядом:
— Смотри у меня! Я не Головин. У меня батоги в полтора аршина, и бью не хуже мастера.
Он постучал колокольчиком по столу. Вошли два молодца в жупанах, уставились на него, как псы на хозяина.
— В казенку, пусть остынет! — указал на Михея и отвернулся, разглядывая привезенных соболей.
Стадухин стряхнул с себя холопские руки, с пламеневшим лицом пошел впереди приставов. Они за его спиной посмеивались, что ведут в самую лучшую и теплую. Привели в свежесрубленную тюрьму, забрали саблю, нож, кушак, открыли толстую тесовую дверь в темную камеру. Михей привалился спиной к стене, медленно сполз, скрежеща кожей парки, сел на земляной пол. Вспоминая встречу с воеводой, удивлялся: не спорил, не буянил, словно был очарован ласками жены, но вместо награды попал в застенок. За что, про что? Тупо глядя в темень, почувствовал шевеление, перевел глаза, понял, что не один.
— Помнишь меня? — спросил чей-то голос. — Гришка Татаринов, на Куте встречались.
Стадухин тряхнул головой, огляделся. В камере разъяснились полдюжины теней. Под боком у него сидел казак. Глаза только начинали привыкать к мраку.
— Ты-то за что? — спросил рассеянно.
— При тебе в верховья Лены Мартынку Васильева посылали, его сменил Курбатка Иванов.
— Помню! — поддакнул Стадухин. — При Пояркове и Головине терся.
— Дотерся! — выругался Гришка. — Выехал с казной на Куту, оставил в острожке десяток служилых, а браты их обложили. Мы с Васькой Бугром собрали сотню промышленных, отбили их, братов заново подвели под государя. А Курбатка стал требовать, чтобы новый острожек ставили по воеводскому указу. Отказали! Так он в благодарность — послал жалобную челобитную. Мы с Васькой и подвернулись под руку новому воеводе, здесь, в Якутском.
— Васька-то где? — тряхнул бородой Стадухин, окончательно приходя в себя.
— Ночевал! Увели незадолго… А тебя за что?
— Свои животы отдал промышленным на Индигирке. Они мне — четыре сорока соболей по уговору. А воевода забрал, не пойму зачем?
— Дал бы сорок в поклон — не забрал бы! — сипло буркнул знакомый голос из другого угла.
Озадаченно помолчав, Стадухин спросил:
— Зараза, что ли?
— Я! — ответил Пашка Кокоулин, желчный и своевольный казак, часто не ладивший с приказными.
— Еще чего! — приглушенно ругнулся Стадухин. — Уходил своим подъемом, сто соболей явил, под добычу кабалился.
— Все так думали, потому сидим. Плетью обуха не перешибешь! — кто-то гнусаво и жалобно просипел из тьмы, потом закашлял. Глаза привыкли к сумраку, Михей всмотрелся узнал сжавшегося в комочек Дружинку Чистякова. — Со мной новый воевода и разговаривать не стал — сразу велел бросить в тюрьму.
— Каждому начальствующему дураку кланяться — спину сломаешь! — сипло буркнул Зараза. Он был непомерно широкоплеч для своего роста и сильно сутул, будто тяжесть жил и плеч гнула к земле.
Дверь распахнулась, осветив сидевших, вошел Бугор без кушака.
— Васька? — не вставая, окликнул его Стадухин.
Бугор присел рядом.
— Давно не виделись… Сказывают, новую реку открыл?
— За то и наградили! — горько усмехнулся Стадухин. — Ты-то чего опять учудил?
— Отказался острог ставить для Курбатки, потом пьяный письменного лаял! — рыкнул казак. — Не сдуру! За дело! Я первый на Лену пришел, Ленский волок открыл. А он кто?
— Не первый, — не удержавшись, съязвил Михей, — но прежде меня. А наградили поровну.
В одной тюрьме со Стадухиным оказались в общем-то самые отъявленные дебоширы из старых ленских казаков, не имевшие ни домов, ни семей. Они придвинулись к нему, стали расспрашивать о дальних реках и Колыме. От вынужденного безделья Стадухин говорил им больше, чем другим, рассказывая, вспоминал, как летними ночами скользит по верхам Великого Камня солнце, как золотисто-желта и богата птицей тамошняя тундра, как на восходах и закатах розовеют песчаные косы и водовороты Колымы. Сам с горечью думал, что если бы не Арина, то лучше бы не возвращаться в этот завшивевший от новой власти край.
На другой день казак повел заключенных за острожную стену. Казенного кормления им не полагалось, узники питались от даров или подаяний. Стадухина встретил Семен Шелковников с хмельными казаками Артюшкой Шестаковым и Бориской Прокопьевым. Они гуляли, собирая вокруг себя толпы слушателей. Все трое сочувствовали Михею и Дружинке, обещали замолвить слово перед начальствующими, передали каравай хлеба, две печеные рыбины. Ваське Бугру приносил еду брат Илейка. Иные из заключенных просили милостыню, потом соборно ели собранное.
Проходили день за днем, о Стадухине будто забыли, а ему все очевидней представлялась справедливость нынешнего положения за давний грех — свидетельство против черного попа, который, по слухам, тоже принял муки в якутской холодной тюрьме. Если на Илиме и Лене это было неприятным воспоминанием, то здесь, в застенке, грех предстал во всей своей ясности. Уже отпустили Ваську Бугра с Гришкой Татариновым, зачем-то держали Пашку Кокоулина-Заразу, вскоре добавили знакомого по службам казака Артемку Солдата. Через неделю о Михее вспомнили. Вместе с приставом за отпертой дверью улыбался в бороду Семейка Шелковников.
— Воевода велит поставить перед собой! — пророкотал обнадеживая, и подал саблю.
Кушак и засапожный нож вернул караульный тюремщик. Семейка повел товарища в съезжую избу. Здесь на писарской половине важно восседал Чуна в добротном русском кафтане, рядом — колымские казаки Бориска с Артюшкой, при них, опять и зачем-то, алазеец Иван Ерастов. На этот раз ждать не пришлось. Безбородый и оттого безликий молодец в жупане позвал всех к воеводе. Стадухин вошел, неспешно положил на образа поясные поклоны, нахлобучил дорожную шапку и перевел на Пушкина по-волчьи спокойный, пытливый взгляд.
— Что? Поумнел? — с начальственной насмешкой спросил тот.
Михей не ответил, ожидая дальнейших расспросов. За стол сели два писаря, разложив бумаги, стали точить перья, мешать чернила. Воевода с важным видом развалился в кресле, письменный голова начал расспрос. Писцы заскрипели перьями. Воевода внимательно слушал, время от времени сам спрашивал. Чуна то и дело выгибал спину, мучаясь сидением на лавке. Семен Шелковников восседал не шелохнувшись, как колода, спокойно поглядывая на воеводу и письменного голову.
Наконец, тяжко отдуваясь, голова прочитал написанное и велел Стадухину приложить руку. Все было как говорилось, и он поставил свою роспись пером писаря, обмакнутым в чернильницу. Воевода спросил Бориску с Артюшкой, с чьих слов, видимо, загодя были сделаны записи. Те подтвердили, что все сказанное Стадухиным — правда. Воевода почему-то вопрошающе взглянул на Ерастова — тот учтиво закивал. Михей, глядя на него, не бывавшего на Колыме, пожал плечами, но, помня воеводский урок, вопросов не задавал. Пушкин постучал колокольчиком по столу, согнувшись дугой, из-за двери угодливо выглянул безликий холоп, что-то понял, ухмыльнулся, и в другой раз вошел с подносом, на котором стояли кувшин, чарки и блины с черной икрой. Не выказывая обиды, Стадухин не стал отказываться от чарки, перекрестившись, выпил во славу Божью. Второй воевода не предложил и отпустил его.
— Иди! Целовальник вернет животы! Даю гульной месяц, потом явишься на службы. Да не проспи под подолом у жены! — властно хохотнул.
Стадухин, не смущаясь и не улыбаясь в ответ на начальственную шутку, шевелил рыжими усами, дожевывая блин с икрой. Хмель ударил в голову, опасаясь шалых слов, он молча вышел в сени. Таможенный голова повел его в казенный амбар, вернул нарту с животами. Михей пересчитал рухлядь — четырех сороков соболей не было. Кроме них, все было возвращено, даже две лисы и девять соболей, забранных при обыске в урасе. Хмель воеводской чарки все еще кружил голову, он сжал зубы и опять удержался от вопросов. Воротник, служилый при острожных воротах, со скрипом раскрыл перед ним острожную калитку, Михей вышел, волоча за собой нарту. Остановился, раздумывая, какое нынче время дня и куда идти. Небо было низким и хмурым: не понять, полдень или сумерки. Оглядевшись, увидел Арину. С выбившимися из-под башлыка волосами она подбежала к нему в торбазах и длиннополой кухлянке, с беззвучным плачем повисла на плечах и тут же отстранилась, смущаясь чужих глаз.
— А я с Нефедкой у Гераськи остановилась! — страдальчески взглянула на мужа. — Больше не у кого. Он же брат тебе! — Всхлипнула, будто в чем-то оправдывалась. — И живет с тунгуской.
— Ну и ладно! Пойдем к нему! Веди, что ли! — сказал и спохватился: — Постой! Мы теперь не бедные. Надо что-то взять в дом. И сыну тоже.
— Так лавки на гостином дворе закрыты! — Арина потянула мужа за рукав, оттаскивая от кабака. — Хочешь вина взять — я схожу, попрошу.
— Вот еще! Мужней бабе в кабак!
— Тогда Гераська сбегает! — с опаской глядя на мужа, стала перечить Арина, и Михей отступился, увидев в ее глазах затаенный страх.
— Я — старший! — пробормотал соглашаясь. — Может и он купить чего надо. Отдарюсь рухлядью.
Дом Герасима в четыре квадратных сажени считался просторным среди временного жилья торговых людей. Добрую треть занимала печь, сложенная из речного камня и глины. Стены были не новы. «Из старого Ленского привез», — подумал Михей, прикидывая, какой дом будет строить сам. Эти мысли донимали его годы дальних служб, но тут, на Лене, все складывалось иначе.
— Ну, здравствуй, брат! — Перекрестившись на образа, Михей стряхнул ледышки с усов.
Герасим метнул на него испытующий взгляд, будто хотел вызнать мысли, и принужденно улыбнулся, тайком глянув за спину старшего на Арину. В лице ее нашел поддержку, заговорил свободней, но с тем же холодком, который появился между ними на Оймяконе.
— С жильем тебя! — Раздевшись, Михей снял со снизки в кожаном мешке пару черных соболей. — Это — подарок в почесть!
— Грейтесь пока, а я схожу к соседу, баньку затоплю, — засуетился Герасим.
— Не помешала бы, — поддержал Михей. — От самых Жиган без бани. В улусе только ополоснулся талой водой. — Он взял на руки Нефеда, глядевшего на отца с теплой печи пристально и пугливо. — Здравствуй, сынок!
От младшего брата Михей узнал, что Тарх в нынешнюю зиму ушел с ватагой пинежских промышленных, а Герасим остался при остроге. Богатства, о котором мечтал, добравшись до Лены, он не нажил, но худо-бедно торговал всяким товаром, а больше — рыбой, которую ловили нанятые гулящие люди.
Бежать в кабак за вином ему не пришлось. После бани, распаренный и разомлевший, Михей заклевал носом, и застолье отложили на другой день. Проснулся он раньше всех, лежал, прислушиваясь к дыханию Арины, вспоминал оймяконские, индигирские, колымские мечты о доме — и вот вынужден был все менять. Строить можно было только при Якутском остроге, и сделать это надо за гульной месяц. Михей думал о том, что строевого леса поблизости нет, его сплавляли с Витима, и Семейка Шелковников прав: придется покупать в Ленском посаде чужую избу со всеми впитавшимися в нее грехами, грязью, прижившейся нечистью, разбирать, везти сюда и ставить для временного житья. Услышав шевеление брата, Михей осторожно высвободился из объятий жены, поднялся, вышел за дверь. Была метель. Он привычно обтерся свежим колючим снегом, положил три поклона на невидимое солнце, оделся и ушел по намеченным делам.
За месяц неподалеку от брата старшим Стадухиным была собрана избенка с печкой и банькой. Прежним хозяином она рубилась из здешнего леса: низкорослого, корявого, сучков на венцах было больше, чем ровной древесины. Клейменой рухляди в мешке убыло, но появился свой кров.
Заканчивались гульные дни, текла обычная приострожная жизнь: днями Михей обустраивал дом, по воскресеньям с женой, братом и сыном ходил в церковь. Издали глядя на Симеона, всякий раз отмечал про себя, как тот постарел и подобрел: от прежнего властолюбия в лице и повадках не осталось следа. Выстрадав душевный покой и человеколюбие, монах смотрел на прихожан ласково и кротко, слушал их не перебивая и в лице его было столько сострадания, что у Михея пуще прежнего затомилась душа. Перед Рождеством, на Страстной неделе, он переборол себя, пошел к нему на исповедь и, поклонившись, попросил прощения.
— Бес так озлил тогда, не думал, что язык мелет. Теперь уже и Ходырева жаль. Вор, конечно, но все равно лучше нынешней власти, прости, Господи!
— Размашисто перекрестился.
Симеон взглянул на него без осуждения, будто пытался вспомнить, кто таков. Вспомнил, поклонился:
— И ты прости мою горячность!
Они поликовались со щеки на щеку, щекоча друг друга бородами. Михей завсхлипывал, вместо исповеди понес какую-то нелепицу. Симеон с пониманием перекрестил склоненную голову и отпустил к причастию. На другой день Стадухин выложил в поклон монастырю две пары соболей. Симеон спросил, что осталось в мешке. От кого-то он знал про отобранные сорока и жалобную челобитную, отправленную царю. Выслушав, принял только двух соболей, чем опять выжал из служилого нечаянную слезу. Отшутился:
— В другой раз, как разбогатеешь, одаришь монастырь, а мы за тебя помолимся!
Вышел срок идти на службы. Воевода при встрече первым делом обругал Михея, показывая, что отправленная им жалобная челобитная мимо него не прошла.
— Да ты хоть весь оклад пусти на жалобы, царь меня будет слушать, столбового дворянина, а не жалобщиков, — прорычал, шевеля длинными ляшскими усами. — А оклад еще получить надо, — желчно усмехнулся. — У меня такой закон: хочешь денежного жалованья — отступись от хлебного, хочешь дальней службы — отступись от годового хлебного и денежного.
Наученный опытом, Михей Стадухин отмолчался, только в карауле пожаловался старому ленскому казаку Илейке Ермолину, когда оба томились обыденным бездельем, стоя возле проездной башни:
— Головина ругают! — Сплюнул, свесившись за стену. — Вынуждал кабалиться, но денег за службы не вымогал. И мир сделал: в улусах порядок, какого никогда не было. Я Парфенку Ходырева ругал: хитер, подлюшничал своей выгоды ради, но разве сравнишь с нынешней властью?
Илейка был трезв, тих и немногословен. Повздыхал, шевеля густыми бровями, поводил по сторонам красным носом с глубокими рытвинами и весьма разумно заметил:
— Сам ничего не пойму! Всю жизнь шел по Сибири, воли искал, от тобольской власти бегал, Енисейский, Братский, Верхоленский строил. По началу вроде бы для себя, для своей защиты, а после оказывалось — на свою шею. Но так, как здесь, нигде не было! — Опасливо зыркнул по сторонам. — Нам-то без них хорошо, а им без нас никак… Мы от них, они за нами. Наверное, не там воли искали. Люди говорят, на Амур бежать надо!
В отместку за жалобу воевода посылал Стадухина в частые острожные караулы и на самые неприличные службы: мирить повздорившие якутские роды, якутов с тунгусами, тунгусов с ламутами. Но после служб казак жил вполне счастливо: свой дом, жена, сын. От благополучия стал слабеть слух, которым и мучился, и спасался на службах, здесь привыкал спать глубоко и спокойно. Между тем все ощутимей давила грудь смутная кручина, что неволей, терпением нелепицы повинностей и самодурства начальствующих можно было жить и на отчине, где земля на сажень пропитана потом предков.
«О такой ли жизни помышляли во времена Бекетова и Галкина?» — все чаще думал, озирая с караульни высокий, крепкий, красивый острог, крашеный купол Михайловской церкви, гостиный двор, амбары за стенами, Спасский монастырь, восемь тюрем и пыточную избу. Втайне он был доволен, что не срубил просторный дом на века, для детей и внуков, как хотел это сделать еще недавно, и смутно подумывал, как бы уйти на дальние службы с женой и сыном. И опять вставала перед глазами Колыма с песчаными косами и водоворотами. Вершины гор, Великий Камень, до конца которого никто не доходил. Воспоминания волновали, и отступалась тоска, порождаемая бессмыслицей нынешнего благополучия.
Возле съезжей избы мел двор Дружинка Чистяков. Деля судьбы многих служилых, доживших до старости и ничего не скопивших, он скитался меж дворов, побирался и зарабатывал пропитание поденными работами. Иногда Христа Ради ночевал у Стадухина. Михей советовал ему проситься в монастырь.
— Пробовал! — отвечал Дружинка. — Там без вклада жить на тех же работах, да еще молиться по ночам велят. А я, если не посплю — работать не могу. Не по силам мне монашеская жизнь!
Казак Иван Пинега колол дрова. Он тоже был в опале и без жалованья, за прокорм работал при воеводском доме бесправней любого пушкинского холопа. Глядя на них с караульни, Стадухин невольно отмечал, что немилостью Божьей оказался не в самом худшем положении.
Прошла зима. При мартовских оттепелях ярче засияло солнце. В эти дни по мокрому зимнику принесла нелегкая торгового человека Никиту Агапитова, у которого перед выходом на Оймякон казаки брали общую кабалу. Кабалились — Стадухин, Втор Гаврилов, Семейка Дежнев, Андрей Горелый, Павел Левонтьев, но по приезде заимодавца при остроге оказался только он, Михей. По словесному уговору отдать долг должны были Горелый и Фофанов-Простокваша по их возвращении с Индигирки. Но тогда заимодавца не было, он торговал на Илиме и Ангаре.
Добравшись до Якутского острога, Никита Агапитов первым делом предъявил Стадухину кабалу, в которой записано — брать плату с того, кого из заемщиков застанет, где кабала ляжет на стол, там по ней спрос. За четыре года кроме долга набежало двенадцать рублей роста. Таких денег у Михея не было. Просить у Герасима огромную сумму он не мог, потому что забрал свою долю на Индигирке. Ждать Никита не желал, оправданий не слушал, требовал от воеводы суда и правежа. Дело принимало дурной оборот: дом Стадухина мог быть продан, семья обречена скитаться по чужим углам. Однако и тех денег не хватило бы в уплату долга. Михей заметался по гостиному двору в поисках нового заимодавца, но никого из знакомых не встретил. Ерофей Хабаров с рожью мог появиться разве к Троице, когда вернется Михайла Стахеев, знал один Господь. В отчаянии казак вспомнил о Боге, взмолился и пришел в церковь. На святого Феофана службу вел иеромонах Симеон. Слезно молясь, с печалью в сердце, казак думал о народной примете — если на Феофана занедужит конь, то к летним работам не годен. На исповеди пожаловался Симеону, тот повздыхал, посочувствовал, пустил к причастию.
На другой день, по суду и к злорадству воеводы, известный ленский казак встал бы на правеж — битье батогами по ногам, пока кто-нибудь не оплатит долга, но нежданно за него вступился монастырь и оплатил кабалу. Стадухин вернулся домой, сел на лавку, незряче уставился в пол. Арина спросила, отчего глаза вымороженные. Он не хотел посвящать ее в свои беды. Шила в мешке не утаишь — о правеже и выкупе говорили, но жена, в бабьих хлопотах по дому, не понимала, на краю каких бед стояла семья. Михей поднял растерянные, будто выцветшие, бледно-синие глаза, помолчав, ответил:
— Как-то в Енисейском спорил с тамошним белым попом… Он меня поучал молиться за обидчиков, просить им здравия и благополучия, говорил, будто от такой молитвы горящие угли им на голову…
Арина хохотнула, пошевеливая кочергой в печи, обернулась раскрасневшимся лицом:
— У кого совесть есть — тому, может, и угли, а у кого нет — тому как с гуся вода!
— Вот я и заспорил, — рассеянно продолжал Михей, все так же глядя под ноги. — Не может справедливый Бог потакать тому, чтобы человек просил у Него добра, а на уме держал зло. Он все видит… Я Симеона в Илимском сильно обидел. — Замотал бородой, болезненно щуря глаза. Подумав, добавил: — Правда, он тогда был другим.
Промелькнула короткая весна, наступило жаркое лето. Торговый человек Бессон Астафьев выпросил у воеводы наказную память на себя и Федота Попова: торговать и промышлять на Колыме, искать новых земель к восходу. На крепком, исправно снаряженном коче с ним уходил на Колыму передовщик Афанасий Андреев. Покрученников у них было вдвое против прежнего, желавших идти — еще больше.
Стадухин, возвращаясь с караулов, едва волочил ноги, не в первый раз удивлялся, что от скитаний по болотам не уставал так, как от безделья караула. Возле избы сидел Дружинка, явно с просьбой. Стадухин подумал про ночлег.
— Афоня тебе друг, а Бессонка — в приятелях, попроси взять меня? — заговорил вкрадчивым, дребезжащим голосом. Увидев округлившиеся глаза Стадухина, замахал руками: — Нет! Не в поход! Довезти до Столбового зимовья. Там мне все знакомо, там не пропаду, проживу без жалованья и послужу ради угла за печкой.
— До Столбового что не попросить, — согласился Михей. — Тут тебя никто не хватится: пропал да и пропал!
Дружинку взяли. На другой день воевода объявил, чтобы с тем же судном плыли до устья Алдана таможенный целовальник с казаком Михеем Стадухиным встречать там выходившие из тайги промысловые ватаги и брать с них десятину лучшими мехами.
Зимой Афоня вывез из Жиганского зимовья толмачку Бырчик с новорожденной дочкой. Попав в Якутский острог, окруженная новым любопытством здешних людей, она опять загуляла и перед самым выходом астафьевского коча сбежала.
Вернулся Стадухин только к Троице. Острог гудел от новостей, казаки, промышленные и гулящие собирались десятками, горячо обсуждали слухи и спорили. За время отлучки Михея с Амура вернулся Василий Поярков с полудюжиной спутников. С казаками и промышленными он дошел до устья и дальше, до москвитинского зимовья на Улье, оставил там полтора десятка своих казаков и пришел через горы известным путем. Люди догадывались, что бывший письменный голова вовремя почуял, как свирепеет народ от злодеяний Головина и хитроумно отправился в многолетний поход. Ходил он не Олекмой, как заявлялся, а Витимом, потерял три четверти отряда убитыми и уморенными голодом, вернувшись, сам угодил в пыточную избу. Вскоре при ликовании многих прошедши его пытки был выслан в Москву на сыск по расследованию сибирских дел Петра Головина.
— Есть правда и на этом свете! — злорадно потрясал кулаками Семен Шелковников, рассказывая Стадухину про амурские дела Пояркова. — Сколько народу погубил, Ирод!
— То меня Васька кнутом не хлестал! — защищая Пояркова, спорил Ерофей Хабаров, приплывший следом за амурцами со своей Киренги реки. — На Амуре — не то что на Колыме, — бросал на Стадухина насмешливые взгляды со скрытой тоской. — Там, сказывают, города с воинскими полками, огненный бой лучше нашего.
— Врет он ради оправдания! — ругал Пояркова Шелковников. — Олекмой не пошел, крепких князцов Батоги и Левкоя испугался…
Хабаров пригнал в острог барки с рожью и пшеницей, бойко торговал, собирал долги, хвастал, что развернулся шире, чем на Куте, бил челом новому воеводе, чтобы вернули солеварню, отобранную Головиным в казну и изрядно одряхлевшую без хозяйского надзора.
— Тьфу на твою солеварню! Будь она неладна, — ругался Шелковников. — Из-за нее кожу со спины спустили…
Праздник есть праздник. Острожные и пришлые не только обсуждали новости, но и гуляли: пели, плясали, пили, к прибылям откупщиков. Как искони водится на Руси, в разгар веселья души гуляк просили удальства, которое переходило в драку. На этот раз, против проездной башни стенка на стенку пошли служилые и промышленные люди. Казаки дрались беззлобно, промышленные — остервенело, с затаенной ненавистью. Молодые задирали в первых рядах. За ними стояли матерые мужи с проседью в бородах. Промышленные со злорадством теснили казаков к реке и многих спихнули в Лену. Но у самой воды встали ленские старики: Семейка Шелковников, Васька Бугор с братом Илейкой, пятидесятник Шаламка Иванов да Степка Борисов с товарищами. Ерофей Хабаров, хоть и промышленный человек, бился за казаков плечо к плечу со стариками, с которыми не раз ходил в бой при Бекетове и Галкине. И сколько ни старались промышленные столкнуть их — отскакивали с разбитыми лицами.
С башни любовался побоищем воевода Василий Никитович. Он то громко подбадривал дравшихся, сидя в кресле, то вскакивал и так перегибался через острожную стену, что холопы придерживали его за куцые полы немецкого кафтана. Запал у бойцов кончался. Иные уже обнимались, мирясь друг с другом. Воевода, разгоряченный зрелищем, приказал дать залп. Ухнули со стены тяжелые крепостные пищали, выпустив в небо сизые грибы холостых выстрелов. Казаки и промышленные, охая, обмывали в реке синяки и ссадины. Из калитки вышел холоп с бритым лицом, пригласил старых казаков и именитых торговых людей к воеводскому столу, накрытому против съезжей избы. Бойцы степенно вошли один за другим, положив поклоны на крест церкви, расселись против развеселившегося воеводы, отхлебнули из чаши, пущенной по кругу за воинское братство. Их обнесли чарками с крепким хлебным вином. Выпили, закусили во славу Божью.
— Хорошо дрались, молодцы-удальцы! — хвалил воевода. — Не чета молодым…
— Нас тоже учили! — степенно поддакнул Хабаров, показывая расположение к нынешней власти.
Воевода же дергался в кресле, будто сидел на гвоздях.
— А кто не утешился? — спросил, обводя пристальным петушиным взглядом разбитые губы, пухнущие лица. — У кого душа горит к бою — напою до упаду!
Старые казаки переглянулись, понимая, что Пушкин хочет устроить потешную драку. Илейка Ермолин задиристо оглядел сидевших товарищей, но вздохнув, опустил глаза и смущенно кашлянул в горсть.
— Устали мы, Василий Никитич! — разумно ответил Ерофей Хабаров с плутоватой лестью во взгляде. — Да и поздно после чарки. Винцо дух усмирило, силу ослабило, жилы разомлели.
— По другой добавлю! — не унимался воевода, подстрекая к новой драке.
— Вот ты, жалобщик! — ткнул перстом в Михея Стадухина. — Выбери кого на поединок — штоф поставлю!
— Тут мои товарищи! — стал отнекиваться Михей. — Вместе воевали, в походы ходили. Мне с ними драться нельзя: я, по грехам своим, шибко злопамятный.
— А против него кто выйдет? — злей и яростней стал выкрикивать воевода. — Не оставлю милостью.
— А я! — поднялся и поклонился Степка Борисов. Шмыгнул разбитым носом, встал за спиной Михея, начал задирать, тыча кулаком в плечо.
Не вставая с лавки, Стадухин развернулся, ткнул ему пяткой под колено, Степка свалился под общий хохот.
— Это не драка! — разочарованно закричал воевода.
— Все равно завалил! — поперечно вскрикнул Степка, намекая на обещанный штоф.
— А покажите-ка вы свою удаль! — уже злобно сверкая глазами, приказал воевода сидевшим торговым людям.
Посмеиваясь, те послушно встали с мест. Холопы раздали деревянные сабли, они сошлись, стали развлекать воеводу, как скоморохи. Старые казаки стыдливо поглядывали на них и угрюмо помалкивали, Михей чувствовал, как выветривается из головы хмель, застолье ему не нравилось. Пуще прежнего раззадоренный, Пушкин стал размахивать латинянской шпажонкой и снова вперился в него сердитым взглядом.
— А против меня выйдешь, жалобщик?
Михей с насмешкой подумал, что с таким брюхом только в кресле сидеть, но ответил угодливо:
— С начальствующими драться нельзя: Бог велит почитать власть! Да и рука у меня зашиблена.
— Потерпишь, — злорадно дернул усами Пушкин и затоптался возле кресла. — Видел, как махал у реки.
Холопы уже совали Михею шпагу со сточенным концом, под руки стаскивали с лавки. Скрипнув зубами, он бросил шпажонку на стол, взял березовый батожок, в три удара выбил шпагу из руки воеводы. Лицо Пушкина перекосилось.
— Гнать взашей! — топнул ногой в сафьяновом сапоге.
Холопы опять подхватили Михея под руки. Он не противился. Подвели к воротам, вытолкнули через калитку. Вслед бросили шапку, и, что нимало удивило казака, соболью шубу. Выбивая из шапки пыль о колено, Стадухин с сожалением подумал, что надо было поддаться, да сильно уж стыдно перед товарищами. Разглядывая шубу, заметил, что она не новая, но двадцать пять рублей стоит. Один сорок соболей воевода ему все-таки вернул. Казак перекинул ее через плечо и пошел в монастырь, чтобы отдать долги.
Вскоре Михей узнал, что бывший аманат Чуна принял крещение и зачислен в оклад толмача. Потом дошел слух, что Семен Шелковников собирает отряд из казаков и промышленных людей. Не прошло и недели после Троицы, как Стадухина сняли с караула и велели идти к воеводе. В съезжей избе с важным видом сидели на лавке кряжистый Семен Шелковников, Чуна в русском кафтане и лисьей шапке, казаки Артюшка Шестаков и Бориска Прокопьев.
— На Ламу собираешься? — окинув взглядом дьяка и писарей, тихо спросил Семена Михей.
По лицу товарища видно было, что тот понимает, зачем их позвал воевода.
— Хотелось бы! — неопределенно ответил Шелковников, указывая глазами на воеводскую дверь. — Взял бы и тебя, — смущенно передернул плечами, — да воевода не позволит, прогневил ты его.
Холоп открыл воеводскую дверь, пригласил ждавших. Все пятеро вошли, степенно крестясь и кланяясь на образа, расселись против воеводского стола. Письменный голова с дьяком посетовали, что Андрюшка Горелый с Гришкой Простоквашей на Индигирке, и стали расспрашивать Чуну про Ламу. Спросили и Михея, что говорили вернувшиеся с Горелым люди, не прибавили ли, не утаили чего бывшие сослуживцы и Чуна? На том его отпустили, отправив обратно в караул.
На другой день он узнал, что воевода позволил Семену Шелковникову набрать сорок человек служилых и промышленных людей, обещал дать хлебный оклад за другой год и три казенных шестивесельных струга. Такой щедрости от Пушкина никто не ждал. По острогу покатились домыслы досужих людей, что про Ламу вспомнили из-за моржовой кости. Незадолго был объявлен царский указ: рыбий зуб заморный и свежий, где бы кто ни добыл, купит казна, а на сторону продавать нельзя. Вызнав у Семейки, с каким наказом посылают за Камень, Михей отмяк душой и успокоился: как ни завлекал его Чуна сказами о богатствах своей земли, идти в ту сторону ему не хотелось. В другие места под началом Семена Шелковникова пошел бы и не собачился, деля власть. Все, что мог сделать для старого друга, — предупредил:
— Не верь Чуне! Хоть и новокрест, а от своего народа не отречется. Он умный! За единокровников, за свою землю Закон Божий против тебя же обернет.
Шелковников с отрядом уплыл к Алдану. Ни духом, ни взглядом не позавидовал ему Стадухин, но самого пуще прежнего стала томить острожная жизнь.
— Отчего опять глаза вымороженные? — беспокоясь за мужа, выспрашивала Арина. — Тусклые, как у старика.
Она жила всласть, ей каждый день — в радость: был достаток, рос сын, муж со службами не исчезал надолго. О большем она не мечтала. А Михея уже перестали расспрашивать о Колыме-реке даже новоприбывшие торговые и промышленные люди. Да и надоело ему рассказывать одно и то же. Вернулся с промыслов Тарх. Промышлял он неудачно и добытыми мехами едва оплатил долги. Братья сошлись у Герасима. Душевного разговора не получалось. Младшие натужно отвечали старшему на расспросы, глядели в сторону.
— Не пропаду! — уклончиво пожимал плечами Тарх. — Буду зимовать у Гераськи в работных.
— Служить не хочешь? — спросил Михей, понимая, что помочь брату не может: разве накормить, если оголодает, да пустить жить в дом.
По осени в Якутский острог вернулся гусельниковский приказчик Стахеев со связчиками. Глаза земляка-пинежца горели, обветренное лицо светилось, на нем не было следов былых печалей, когда его пограбили покрученники.
— Жалобную челобитную воеводе я передал! — приветствовал его Михей и завидовал не богатству, которое привез торговый, а его духу. О добытом не спрашивал.
Тарх рыбачил с наемными людьми Гераськи, жил у него. При встречах кланялся, ни о чем не просил, в дом старшего брата заходил только по праздникам, Михей сердился на обоих: «Что за кровь? Будто никто, кроме меня, их не обижал? Почему я в опале?» Сначала он покупал рыбу у Герасима, всякий раз смущая его. Тот предлагал взять даром, Михей сердился. Потом стала ходить в лавку Арина. И чудилось казаку, что бывшие полюбовники как-то странно переглядываются. «Сам не без греха, — вспоминал колымскую женку, — а бабе в соку перетерпеть три года и вовсе невмочь. Уж не взыскал бы, простил. Зачем опасается меня брат?»
Настала зима. На небе, затянутом низкими тучами, неделями не показывался даже тусклый солнечный круг. Арина с Михеем просыпались ночами, прислушивались к вою ветра, к потрескиванию дома. Она шептала благодарственные молитвы, что есть кров, не голодают, а он с тоской вспоминал зимовье и приятное ощущение безлюдья на сотни верст. Легко и привольно было на душе от того чувства удаленности. Как-то не удержался, спросил ластившуюся к нему жену:
— Что вы с Гераськой переглядываетесь, будто что-то было промеж? Не утерпела, поди? Так оно и понятно, лучше с ним, чем с кем другим.
— Терпела! — без обиды ответила Арина. — Соблазнял бес, но устояла… Сын грудной помогал. С ребенком легче. Звал Гераська к себе, как дом построил, но не ради блуда: жалел меня и племянника. Теперь боится, наверное, что ты узнаешь, осерчаешь. Не он один звал, — прерывисто вздохнула, вспомнив былое. — Васька Власьев прельщал. Когда ты был в тюрьме — обещал умолить воеводу, чтобы отпустил.
— Не позорил? — строго спросил Михей.
— Нет! — твердо ответила Арина. — Говорил со смехом, намеками. А я как гляну на его вислые губы, так мороз по коже. Прости, Господи! — Тихонько хохотнула, крепче прижимаясь к мужу.
Михей тоже вздохнул, закрыл глаза, рассеянно прислушиваясь к звукам посада, в который раз подумал: «Все хорошо, слава Богу! Отчего же, Господи, так тошно?»
Ранней весной про него вспомнили. Воевода прислал дворового холопа, Арина испугалась, захлопотала, бегая вокруг печки.
— Неужели опять в тюрьму или на дальнюю службу? — завсхлипывала, опасливо поглядывая на ждавшего пристава.
— В тюрьму — не за что! — неуверенно пожал плечами Михей, чувствуя на душе холодок волнения.
Холоп, пялившийся на Арину, высокомерно хохотнул:
— Начальствующие сажают по своему желанию! Попадешься под горячую руку — и дальше упекут.
Михей не снизошел до того, чтобы препираться с ним, подневольным, но считавшим себя на десять голов выше казака, цыкнул на заголосившую жену, придерживая саблю, впереди пристава зашагал в съезжую избу. Что-то переменилось в ней с весенним солнцем. Письменный голова встретил его ласково, взял под руку, повел к столу дьяка. Тот взглянул на старого казака с любопытством и без проволочек привел к воеводе. Снова появились писари с чернильницами, со связками гусиных перьев, суетливо расселись, зашелестели бумагами. Начался расспрос, как показалось Михею, о том же, что и в первый раз, когда его привез в острог Василий Власьев. Но теперь казака слушали внимательней, вопросы задавали дьяк и воевода.
Михей отвечал. Говорил, что видел и слышал про Великий Необходимый Камень, который идет в океан-море, а конца ему никто не знает, про то, что слышал о народах живущих к восходу: кочующих и сидячих чаучу — чукчах, оленных — хор — коряках, о Большой земле, что видна за льдами к полуночи от Святого Носа, Индигирки и Колымы. Отвечая, удивлялся, отчего этим людям понадобились слухи. Подвохов не чувствовал, про власьевских беглецов из Янского острога не спрашивали. По его догадкам, воевода задумал отправить отряд на Погычу сказы о которой в прошлом году пропустил мимо ушей, и уже прикидывал в уме: сами ли прикажут плыть туда или принудят проситься на дальнюю службу. К его разочарованию, записав ответы, воевода велел налить чарку и отпустил из съезжей избы.
Летом, еще до Троицы, с Колымы вернулась ватага промышленных людей. Она зимовала на Омолое, поэтому пришла вместе с выходцами из тайги. Колымский таможенный целовальник Петрушка Новоселов и Вторка Гаврилов отправили с ними зыряновского казака Селиванку Харитонова с казной. От Андрейки Горелого, тоже с казной, вернулся Гришка Фофанов-Простокваша. Как ни собачился Михей с Гришкой на Оймяконе, а на Колыме с Селиванкой, здесь встретились родней братьев. Он затащил сослуживцев в дом, выставил полуштоф, и посыпались из гостей новости.
— Ты уплыл — Семейка Дежнев с Митькой Зыряном вернулись, — рассказывал Селиван. — Сели в твоем Нижнем острожке. Вскоре напали чукчи, перелезли через частокол, уже ломились в избу. Семейка принял в лоб боевую стрелу…
— Опять?! — хлопнул себя по ляжке Михей.
— Но, раненый, заколол князца… И отступили вражьи дети!
— Молодец земляк! Казак! Хромой, сухорукий, а как подопрет за себя постоять — ловок, как бес!
— А Зырян помер от ран, Царствие Небесное, — перекрестился.
— Ну и судьба, однако, и Зыряну, и Семейке! — Тоже крестясь, подавил тайный вздох Стадухин. — В лоб, вторая рана? К чему бы? И ты, увечный, — взглянул на Гришку Простоквашу, — опять и обратно с казной. Третий раз уже!
— Помнишь мезенцев Исайки Игнатьева? — продолжал бередить душу Селиван. — Прошлый год пошли погулять к восходу от устья Колымы. И дал им Бог разводье между берегом и льдами, плыли по нему до большой губы, торговали там без толмача, немо, меняли свой товар на моржовый клык и безделушки из кости.
— Привез? — дернулся на лавке Стадухин.
— Полтора пуда!
— Клыки по гривеннице и больше воевода взял в казну. Сулил заплатить по двадцать рублей за пуд.
— Пуд костей из-за моря — пять пудов ржи! — почесал затылок Михей. — Не шибко-то!..
— Надо было чукчей воевать, — с горячностью вскрикнул захмелевший Селиван и ударил кулаком по столу. — А мы только отбивались! Дескать, что с них, тундровых, взять. Ты их чуял, караульных гонял и правильно делал. Зырянка дал всем спать вволю — и упокоился.
— Ну да! — задумчиво пробормотал Михей, смущенный похвалой бывшего спорщика. — Подвести бы их под государя, брать ясак моржовой костью. Царю выгода, всем прибыль и не нападали бы. Только зачем им наша власть? Их все боятся, никто не грабит.
В избу вломились Васька Бугор со Степкой Борисовым, не перекрестив лбов, напустились на Стадухина:
— Почто Селиванку с Гришкой к себе увел, один расспрашиваешь? Казаки недовольны. Пусть все слушают! — Ругались они без злобы и тоскливыми глазами пропойц косились на остатки вина.
— Пусть слушают! — согласился Михей и отпустил товарищей к собравшемуся у избы народу.
Томно и радостно, как у молодого, билось сердце. Он потоптался возле выстывшей печи, накрылся шапкой, пошел за толпой казаков и гулящих людей, под руки тащивших Харитонова и Простоквашу в кабак. Домой вернулся поздно. В сумерках открыл незапертую дверь, с трудом перекинул ноги через порог, придерживаясь за стену, добрался до лавки и упал. Арина подложила ему под голову меховой жилет, укрыла шубным кафтаном.
Входило в раж знойное лето. Со всех сторон в острог стекались промысловые ватаги, по реке сплавлялись барки с рожью и товарами. Лавочные сидельцы на гостином дворе бойко зазывали покупателей. Ворота острога были закрыты, на башнях стояли служилые с мушкетами и фузеями, у калитки маячил воротник.
Караульный казак Михей Стадухин, скрываясь от палящего солнца под шатровой крышей четырехсаженной башни, с тоской глядел вниз, на суетившихся людей. Гулял Ивашка Ерастов — алазеец. На жаре его сильно развезло, мотало из стороны в сторону, сабля то и дело попадала между ног, он спотыкался, вис на руках товарищей. Возле него пчелиным роем крутилась острожная служилая и гулящая голь, которой торговые люди и рубля не дадут под кабальную запись. По слухам, воевода обнадежил Ерастова, что даст ему отпускную грамоту на Колыму и Погычу. Почему ему, этого прибывшие с Колымы понять не могли. Ивашка вывез с Алазеи богатую казну, которую, по его словам, добыл с промышленными людьми где-то возле Камня. Для людей, бывавших на Алазее и Колыме, его сказки казались нелепыми. Поверить им Михей не мог, думал про себя: «Если воевода решил выпроводить из острога полсотни отъявленных дебоширов, то не может быть, чтобы за казенный счет!» И лежала на сердце обида, что никто из начальствующих не предлагает идти на Погычу ему, Михею, принесшему весть о неведомой реке. Похоже, принуждали просить об этой милости, отказавшись от денежного и хлебного жалованья.
Сын боярский Василий Власьев готовился идти на смену Втору Гаврилову, которого казаки снова избрали на приказ после гибели Зыряна, и ожидая просьб, с ухмылками поглядывал на Стадухина. Того же дернул бес прилюдно посмеяться над ним, что прельщал Арину. Теперь молчал, глядя на его сборы, с надеждой, что позовут. Не звали. Из толпы старых казаков, то расступавшихся перед Ивашкой Ерастовым, то плотно обжимавших и поддерживавших его, доносились возмущенные выкрики. На них напирали казачья голытьба и гулящие люди. Михей прислушался. Васька Бугор из окружения Ерастова препирался с таким же забулдыгой Степкой Борисовым:
— Да нам воевода дал роспись судовой снасти и ставные матки*(компасы). Государевым подъемом пойдем. А вы кто? Вошь в кармане, блоха на аркане?
— То вы лучше нас? — кричал в ответ Степка. — Почему Ивашка решает, кому идти, кому нет? Он Колымы в глаза не видел. У нас истинный колымец — Селиванка Харитонов.
Ругань перешла в ор, вот уже самые вздорные замахали руками, сильно пьяные повалились, кто держался покрепче, невзначай топтали их, потчуя друг друга кулаками. В стычку ввязывались новые люди. Вскоре у проездных ворот дрались до полусотни доброхотов. Сидельцы спешно закрывали лавки, промышленные и торговые, обступив дерущихся круговой стеной, азартно подначивали их.
Острог притих: десяти караульным справиться с разъяренной толпой было не по силам. Злорадно посматривал вниз и Михей Стадухин, хотя с иными служил, воевал, сидел в осадах. Слышал, что Ивашка Ерастов просил воеводу отпустить на Погычу, но о том, что челобитная принята к делу, что таможенному голове велено покупать у торговых чего в казне нет, узнал только сейчас от пьяных казаков. Кровь ударила в голову не от жары, от возмущения. Едва дождавшись смены, он оставил пищаль в караульне и побежал в съезжую избу, узнать все из первых рук.
— Да! Велел взять к делу! — неопределенно ответил письменный голова, отводя глаза. — С Власьевым идут на Колыму два десятка служилых и промышленных людей.
— Это же я привез весть о Колыме! Власьев дальше Яны не был, а на нее ходил сушей, Ивашка Ерастов сидел на Алазее в зимовье. Кабы не мой Семейка Дежнев… — в возмущении ругал казака и смутно наговаривал на него.
Письменный слушал молча, с усталым лицом и сонными глазами.
— Нынче на Погычу многие просятся. Всех отпустить — на Лене служить некому.
— Не может того быть, чтобы государь велел голь и пьянь слать на дальние службы, а справным казакам щупать мешки у торговых и промышленных, — злей и громче заспорил Стадухин, багровея от гнева.
— Справные с Васькой Власьевым смолят коч и шьют парус, — резче ответил письменный голова и отвернулся, показывая, что не желает говорить.
Михей рыкнул в бороду, не перекрестив лба, выскочил из съезжей избы, обругал кого-то в караульне, напустился на воротника, не ко времени запершего калитку, выскочил из острога, оглядывая берег разъяренными глазами, и увидел Арину с березовыми ведрами на коромысле. Стройная и статная, она шла к воде, привлекая взгляды промышленных и торговых людей. Любуясь женой со стороны, Михей обмяк, поправил шапку, саблю на боку, приосанился и степенно пошел к дому. «Своя изба, красивая ласковая жена, сын — что еще тебе надо, пес? — насмешливо корил себя и беса, подначивавшего бежать на край света, глядеть, где кончается Необходимый Камень. — Не о нынешнем ли счастье мечталось на Оймяконе?»
Вернулась жена с реки. Михей сидел с сыном на коленях, забавлялся. Арина метнула на него колкий взгляд:
— Опять глаза вымороженные, прости, Господи, — перекрестилась на образ в красном углу.
— Посиди-ка на стене, как ворон на колу! — буркнул Михей. — Иной раз смена тянется, что зима.
Драка возле острога была предтечей других событий. То, что воевода принял челобитные от тридцати семи казаков во главе с Иваном Ерастовым, еще не было согласием отпустить их на Погычу за счет казны. Проходили день за днем, в надежде на скорый выход Ивашкины люди пропились, а явного ответа от воеводы все не было. После полудня на летние Кузьминки казаки отправили к нему Ерастова с выборным Василием Бугром. Воевода их не принял, а дьяк с письменным головой ничего разумного не сказали. Васька стал орать, что государево жалованье не плачено за четыре года. Письменный пытался его вразумить: следствие по делам воеводы Головина не закончилось, а за нынешний год жалованье дадут к сентябрю или с выходом отряда на дальнюю службу. Но Васька разъярился и уже не хотел никого слушать. Казаков вытолкали из съезжей избы, потом из острога, у ворот которого собралась толпа зевак, завистников и людей, отправлявших челобитчиков к воеводе. Вскоре все они стали лаять начальствующих и требовать жалованье.
Был долгий, светлый вечер последнего июньского денька, добропорядочные люди, позевывая, закрывали ставни домов, воевода отдыхал. Сипловатый голос Василия Бугра зазвучал громче, похоже, он успел принять чарку от доброжелателей. Его поддерживали другие голоса. К полуночи острожные ворота распахнулись, из них вышел сам воевода в окружении караула. Толпа бунтовщиков опасливо отхлынула. В переднем ряду оказались Бугор со Степкой Борисовым, которого Ерастов не хотел брать в отряд. Воевода ткнул в них перстом и приказал хватать. На Ваське повисли четверо караульных. Пока тот отбивался, как медведь от собак, воевода хлестал его батогом по широкой спине. Затем стал сечь Степку. С третьего удара батожок сломался. Пушкин бросил его под ноги и повернулся к острожным воротам. Толпа застыла в недоумении. Васька что-то орал и грозил, Степка злобно щурился вслед бросившим его караульным. Толпа, придя в себя, загудела, сжалась вокруг побитых и взревела от негодования. Без суда, под горячую руку прилюдно побить старых, заслуженных казаков не позволял себе даже стольник Головин. «Упьются и передерутся!» — подумал Михей, глядя на бесновавшихся людей. На душе было муторно.
Государев кабак толпа не тронула, но погромила несколько торговых лавок, ринулась к пристани, на виду острожных людей захватила коч торгового человека Василия Щукина по причине, что тот был в милости у воеводы, и с криками: «Молодцы-удальцы! Послужим государю на дальней окраине!.. Вору Ваське Пушкину больше не служим!» — беглецы оттолкнулись от берега и поплыли вниз по Лене. Воевода негодовал, полуодетый грозил со стены, топтал соболью шапку, но ворот острога открывать не велел. Возле них, взывая к властям, вопили пограбленные торговые и промышленные люди, заливался слезами купец Щукин, с утра считавший себя богатым и удачливым. Остановить беглецов было некому.
— Ваську Власьева ко мне! — закричал воевода на холопов и немигающими змеиными глазами вперился в Михея Стадухина, оказавшегося под рукой.
Посыльные разыскали Власьева на плотбище, он готовил коч к отплытию. Сын боярский, запыхавшись, прибежал в острог, встал перед разъяренным воеводой. Обругав его за медлительность, Пушкин дал на сборы два дня и приказал вернуть беглецов.
В отряде Власьева было двадцать человек, среди них в большинстве новоприборные казаки и промышленные. И воевода, и сын боярский понимали, что они бессильны против полусотни головорезов, прошедших через войны, осады и дальние походы. Взгляд Пушкина опять остановился на Михее Стадухине.
— Послужишь мне, жалобщик? — спросил гневно.
— Чего не послужить? — с бесшабашной удалью ответил Михей. — Скоро два года, как сижу возле бабьего подола.
— Дам коч, жалованье вперед! Найди людей: служилых и промышленных, сколько знаешь…
— Отпусти на Погычу, для прииска новых земель, — подсказал Михей.
Воевода грозно нахмурился, но, подумав, согласился:
— Ваське Власьеву плыть приказным на Индигирку, Алазею и Колыму, тебе для прииска новых земель и рыбьего зуба. Одному ему все равно не управиться. Вместе догоните беглецов, вразумите государевым жалованным словом… И вернете, — добавил неуверенно. — Или хотя бы грабить не давайте.
Все бывшие в остроге люди понимали, что вернуть беглецов силой невозможно, что, не имея никакого припаса, они будут чинить на пути большие беспорядки.
— Чтоб им всем передохнуть, прости, Господи! — выругался и перекрестился воевода.
Обойдя свой дом стороной, Михей забежал к братьям. К счастью, оба были в избе. Старший положил на образа три торопливых поклона, едва удерживаясь от суетности и торопливости, опустился на лавку.
— Слышали про беглецов? — повел глазами по потолку.
— А то как же?! — усмехнулся Тарх. — Мимо нас проплыли. Атаманом выбрали Ивашку Ретькина, есаулами пятидесятника Шаламку Иванова, Ваську Бугра. Люди-то какие: десятник Иван Пуляев, Павел Кокоулин-Зараза, Артемка Солдат, — с восхищением перечислял брат. Видно, о том они и беседовали с Герасимом, когда вошел Михей.
— Меня воевода посылает на Погычу, наказную пишет, — Михей постарался сказать это как можно спокойней и даже с печалью. — Велел людей набрать, сколько надо, чтобы плыть казенным кочем. Мимо вас пройти не мог, вам первым говорю, — вскинул блестевшие глаза. — Пойдете своим подъемом?
Герасим улыбнулся, опустив гривастую голову:
— Промышляли на Оймяконе и Индигирке. При остроге на одной рыбе больше зарабатываю, и не мерзну, не голодаю, — перебирая пальцами отросшую бороду, кивнул среднему брату, призывая к совету.
Тарх, отводя глаза, сказал, что до зимы будет неводить рыбу с Герасимом.
— Понятно! — Старший встал с лавки с непоблекшей радостью в лице.
Он не надеялся на братьев, просто не мог не предложить им дальний поход. Не откладывая, обошел знакомых служилых и промышленных людей, без труда собрал два десятка удальцов, готовых идти за ним хоть на следующий день. Оставалось самое трудное, что камнем лежало на сердце: сказать все Арине. Надо было как-то объяснить ей, что он не может дольше служить при остроге и жить той счастливой жизнью, какой прожили полтора года. Михей ожесточил душу, напустил на себя печаль и задумчивость, переступил порог, перекрестился, опустился на лавку. Арина окинула его мимолетным взглядом и спросила вдруг:
— Жалованье выдали?
— Кто сказал? — удивился Михей. — Рано еще.
— А что глаза блестят?
— С чего бы им блестеть? — уклончиво пробурчал, вздыхая. — Воевода велит идти на дальнюю службу.
Арина резко обернулась с большими беззащитными глазами, лицо ее вытянулось, губы задрожали, беззвучные слезы покатились по щекам.
— Я же служилый! — стал оправдываться Михей. — Да и не так долго, как прошлый раз.
— Как не долго? — вскрикнула она и зарыдала, не спуская с мужа мокрых глаз. — На три года?
— Не на три, — опустил голову Стадухин. — Хотя за год обернуться трудно. — Наверное, года полтора.
— Опять ждать! Хоть об стену трись — прости, Господи! Бабий век короток. У меня же последние годочки.
Михей молчал. Арина упала на лавку. Глядя на мать, заголосил Нефед. Отец с сердечной тоской отметил про себя, как он вырос за эти полтора года. Сел рядом с женой, стал гладить ее по спине, обнимал сына. Арина зарыдала громче, потом утихла, села, закрыв лицо мокрыми ладонями.
— Не вернешься через год — заведу полюбовного молодца! — пригрозила, хлюпая носом.
Бабье горе со слезами легчает. Выплакавшись, смирилась, лежала рядом с мужем на холодной печи, глядела в низкий потолок незрячими глазами. До слез было жаль ее Михею, а все же легчало на душе, и вставал перед глазами берег студеного моря, терявшийся во льдах, никем не обойденный Великий Камень, Погыча, которая могла быть всего-то в трех днищах пути от знакомого устья. Не даст Бог прохода во льдах, можно посуху, как-нибудь… «Если удастся добраться до Колымы к зиме, то следующей осенью вдруг и вернусь, — обнадеживал себя. — Ведь дал же Бог за лето приплыть с Колымы на Лену».
Проснулся он рано, бесшумно соскочил с печи, оделся, сунул краюху хлеба за пазуху, накинул шапку и убежал на плотбище конопатить рассохшийся коч. К полудню был в съезжей избе. По лицам писарей и письменного головы понял, что воевода к нему благосклонен. Вошел дьяк, внимательно оглядел его, спросил:
— Когда будешь готов?
— Как дашь снасти, припас, так и поплыву. А коч завтра спущу на воду!
— Хорошо! — похвалил. — Расторопен. Новых парусов нет…
— Старый залатаю!
— Я воеводе говорил, чтобы поставил тебя в оклад десятника. Он одобрил. Вернешься, даст Бог, не забудь про меня!
— Не забуду! Я памятливый на добро и на зло.
В поздних сумерках лета Михей возвращался домой. Он устал, но усталость была не той, что после караулов. Кроме работ с кочем успел побывать у Симеона, испросил молебен о благополучном отплытии, обещал монастырю вклад соболями или рыбьим зубом за молитвы о своем многотрудном деле. Оставалось последнее и самое главное, о чем ни словом не обмолвился на исповеди. Он остановился против дома Герасима, постояв, повернул к нему.
— Ты вот что, — смущаясь, сказал брату. — Если Аринке станет невмочь ждать меня — приласкай ее. Уж лучше ты, чем кто другой. Вернусь ли на другой год — не знаю, а она баба знойная, в самом соку, — махнул рукой, скрыв в полутьме нависшие на ресницах слезы. — Сам знаешь!
Герасим молчал, опустив лохматую голову. О чем думал, одному Богу известно.
7. Встреч солнца
Удачи в торге и промыслах не было, и, вспоминая прошлое, Федот Попов мучился догадкой, что лишился милости Божьей с тех самых пор, как выменянный на Куте коч пристал к причалу Ленского острога. На Оленеке половина его покрученников перешла в другие ватаги, оставшиеся ругали передовщиков, что промышляют не как все: не ловят заложников, не требуют выкупов и обещаний безопасности в промыслах. Попов же без утайки откладывал десятину лучшими мехами, если нападали — давал отпор, но в отместку не бил, не грабил, не требовал поклонов-подарков. В помыслах о выпавших неудачах Федот читал Библию. Однажды в жарко натопленной жилухе по его спине пробежал озноб: осенило, что бесовским прельщением он принял уговор с купцом Усовым с греховной уверенностью в милость Божью. «Не та ли самонадеянность была причиной нынешних бед?» — подумал с волнением. Когда знаешь, за что карают, можно претерпеть многое. Федот был осторожен, старался не рисковать. С Оленека в Якутский острог не вернулся, положившись на товарища Бессона Астафьева, приказчика самого удачливого в Сибири купца Гусельникова. Дожидаясь его, торговал с мелкими промысловыми ватажками, выбиравшимися с восточных рек. К его кочу подходили торговые суда с целовальником Новоселовым. Федот предъявил отпускную грамоту четырехлетней давности, данную на реку Оленек. Сначала целовальник грозил, потом просил зимовать на Яне, в конце концов уговорил доставить в Нижнее усть-янское зимовье казака Кузьму Лошакова. Янский приказный Федоту понравился, и он принял его на борт с казенным грузом. К судну подходили янские казаки, пытались пограбить. Федот со своеуженниками дал им отпор. Казаки, смирив гордыню, попросили ржи под кабалу. Ржи им Федот не дал, но по христианскому милосердию накормил.
Наконец, уже в августе встретил знакомого казака Стадухина, от него узнал путь к Колыме, получил верные сведения о ее богатствах и решил, не дожидаясь Бессона, отправиться туда без отпускной грамоты. Но идти за Святой Нос было поздно. С попутным ветром Федот пришел к Нижнему усть-янскому зимовью, высадил Лошакова, вытянул коч на сушу и отпустил промышленных в брошенное казаками Среднее зимовье.
Зима не баловала богатыми промыслами, их и не ждали. Янские якуты, тунгусы и ламуты с верховий реки вернулись в ее среднее течение, как только узнали, что казаков там нет, вреда промышленным они не чинили, но к Нижнему зимовью для торга не приходили. Река была безрыбной, кормового зверя добывали редко. После Евдокеи-свистуньи, поделив добытые меха по паям, промышленные горько шутили, что прожили зиму ради брюха, едва покрыв расходы на прокорм. Но впереди была Колыма, а путь к ней выведан от очевидцев.
В середине июня Янский залив очистился от льдов. Возле тундрового берега чернела вода, мелкая рябь волн манила в неведомое. Помолившись Всемилостивейшему Спасу, Пресвятой Богородице, Николе Чудотворцу, святым покровителям, мореходы одарили водяного дедушку топленым жиром, полив его на воду у смоленого борта, выбрали якорь и подняли ровдужный парус. Он наполнился попутным ветром, и судно, чуть кренясь на борт, пошло встреч низкого солнца. Из-за мелей пришлось удалиться ко льдам. Ветер то усиливался, то слабел, полоща оленьими кожами. Коч беспрепятственно обошел Святой Нос. За ним путь на восход был шире и чище. То под парусом, то своей силой на веслах коч полторы недели пробивался сквозь льды. За Долгим мысом в устье Хромы стояло судно. При безветрии ватажные подвели к нему свой коч и встретились с неутомимым и оборотистым гусельниковским приказчиком Михайлой Стахеевым. Его люди возвращались с Индигирки на Лену и ждали попутного ветра. На борту была промысловая ватага, зимовавшая на Колыме.
Федот задержался, расспрашивая о новой реке. Наслушавшись прелестных сказок, его промышленные заторопились. Индигирка уже не привлекала их. Но ветер переменился, Стахеев на прощанье помахал Попову и повел свой коч на закат. Тот же резкий порывистый ветер с запахом талого льда и гниющих водорослей заставил ватагу Федота отстаиваться между Святым Носом и Индигиркой.
— Долго миловал дедушка, но осерчал, — беспечально посмеивался за его спиной племянник Емеля. — Видать, гусельниковские переманили удачу.
Стоять пришлось до середины августа. Люди не голодали, но, теряя надежду добраться до Колымы одним летом, уже помышляли о промыслах на Индигирке, которая, по слухам, была и рыбной, и зверовой. Противный ветер принес с Колымы другой коч, на нем с ясачной колымской и алазейской казной плыли Селиван Харитонов и Гришка Простокваша. Встреча была недолгой. От них Попов узнал, что целовальник Петр Новоселов вмерз в устье Алазеи, но со своими людьми на лыжах добрался до верховий Колымы и построил там укрепленное зимовье.
Коч с казаками, торговыми и промышленными ушел с попутным ветром на закат дня, оставив поповских людей в унынии. Еще в прошлом году о Колыме рассказывали первопроходцы, нынче торговые люди уже налаживали там ежегодные ярмарки. Но прошла неделя, установилось недолгое безветрие, потом нанесенные льды потянуло на восход. Выискивая проходные полыньи, следом за ними двинулся коч Федота Попова и прибыл в устье Стадухинской протоки перед самым ледоставом. Тут усовский приказчик и мореход наконец-то поверил в милость Божью. Он был доволен прожитым летом и еще не знад, что, возле Святого Носа, где так долго стоял, одна буря меняла другую, шторма раскидали по замерзающему морю полдюжины кочей, шедших на Яну и Индигирку. Среди них не раз прощался с жизнью и покаянно молился новый приказный Тимофей Булдаков, посланный с государевой казной и товарами на Колыму.
В Нижнем остроге, у Втора Гаврилова, летовали знакомые янские беглецы, чудом добравшиеся сюда на струге. Герасим Анкудинов с Иваном Барановым и их товарищи били челом государю, чтобы служить здесь в прежних окладах. Ожидая ответа и прощения, иные из них промышляли соболя, Герасим с Иваном, без жалованья, «не в прием», несли охочую службу по колымским острогам. Втор Гаврилов не сильно пытал Федота Попова, почему явился без отпускной грамоты, согласился, что если Бессон Астафьев не привез ее этим летом, то до следующего сюда уже не доберется. Целовальник сверил описи товаров, привезенных Федотом, пересчитал меха, вычел десятину из купленных и отпустил ватагу на все четыре стороны: промышлять, торговать, нести службы. Промысловых мест было много. В верховьях Колымы, выше острожка, поставленного Петром Новоселовым, и вовсе никто не бывал.
— Пантелей Демидыч с вами уходил, — вкрадчиво спросил Федот. — Жив ли?
— Был этим летом! — ответил Втор. — Промышлял своим подъемом с ватагой купца Свешникова. На Троицкой ярмарке взял припас в зиму, после Петровок ушел — он не любит многолюдья.
— Вот бы кого отыскать, — с облегчением вздохнул Федот. — Я ведь давно его знаю.
— Добрый промышленный! — согласился приказный. — Воин искусный. Только лешак! — И пояснил, отвечая на удивленный взгляд Попова: — По нужде пристает к ватагам, а так все один. Прошлым летом в одиночку ходил в верховья Анюя, плутал в горах, отбиваясь от тамошних юкагиров с писаными рожами, привел их за собой: гнались чуть не до зимовья.
— Давно с ним не виделся! — с грустной улыбкой Федот опустил глаза к полу.
— Встретишь, мимо не пройдешь.
Поповская ватага отдохнула, напарилась в бане и соборно решила идти в верховья — строить зимовье, обустраивать станы, сечь кулемники и готовиться к зиме. Здешние промышленные люди хвалились, что по многу добывают доброго головного соболя, но поповские своеуженники, распаленные сказами людей Исайки Мезенца и Пустозера, ходивших к востоку от устья Колымы, уже мечтали о следующем лете.
«Вот оно, долгожданное! — думал Федот. Он был весел и оживлен, радостно глядел на синий венец гор, присыпанных снегом, на желтую листву, густо колыхавшуюся у кромки берега. — Вышли-таки на край изведанной земли, отсюда на восход дольше двух дней никто не ходил».
Ватага приняла в покруту, на свой прокорм, с третьей доли добытого, часть беглых янских казаков. Взял их Федот с умыслом, чтобы иметь при себе служилых людей. Парусом и бечевой ватага потянула коч к Среднему зимовью, где обжился на приказе и прижил сына от якутки здешний первопроходец Мишка Савин-Коновал. Оттуда ватага пошла в верховья. Пока позволяла река, промышленные старались уйти дальше всех.
— Нагляделся на своем веку на сибирские реки, — весело озирался по сторонам Федот, — походил в бечеве. Но такого…
— Залом за заломом, водоворот за водоворотом! — разинув рот, оглядывал плес Емеля. — Без казаков, поди, и не угребли бы!
Ивану Баранову эти места были знакомы, он вел судно, указывая, где тянуть бечевой, где садиться за весла, между делом рассказывал, как ходил с тремя промышленными до гор, но перевалить не хватило сил: места голодные, безлесые, рыбы в ручьях нет, кормиться нечем. Не имея съестного припаса, пришлось вернуться. Расспрашивая юкагиров о Погыче, Баранов слышал, что та река падает на восход, и, чтобы попасть в ее верховья, надо идти с Колымы на полдень. Свешниковское зимовье ватажные увидели с воды. Казак привел сюда поповскую ватагу до ледостава. Бурлаки стали раздувать костры, чтобы обсушиться и погреться, Федот поднялся на яр, где его ждали двое промышленных людей. Поприветствовав их, спросил про Пантелея Пенду:
— Здесь ли?
— Был, но ушел на дальний стан. Кулемы сечет, — небрежно ответил конопатый промышленный в песцовой шапке и душегрее. Нетерпеливо спросил: — Какой товар везете? А то мы купим!
Промышленные стали торговаться за неводные сети, сбивая цену, предрекая, что зимой их сгрызут мыши. Попов посмеялся, сдвинул шапку на брови и велел бурлакам разбирать бечевы. Стоять несколько дней, чтобы найти Пантелея Демидовича, он не мог. Тусклое осеннее солнце по нескольку раз за день накрывали тучи, холодный дождь то и дело просекался сырым снегом и переходил в густые снегопады.
— Дядька! Давай выкупим якутку?! — стал канючить Емеля. Если какая блажь западала племяннику в голову, он был настырен.
— И на кой она нам? — пытался вразумить его Федот.
— Всего за два сетевых полотна отдадут. А девка еду готовит, одежду шьет… Своенравна, в женках ни с кем из них жить не хочет.
— Понятно! — посмеялся Федот. — Свешниковские из-за нее перессорились и сами готовы приплатить, чтобы избавиться. А ты — два полотна! Зачем нам раздоры?
— Я ей приглянулся! — самоуверенно признался Емеля. — Если позову, пойдет — выкупи из моего пая?
Девкам Емеля действительно нравился и сам до них был сильно охоч. Из-за этого бывали неприятности: последний раз его били зимой из-за ясырки. «Вдруг остепенится, кобель?» — подумал Федот.
— Я сам спрошу, пойдет ли к тебе в женки? Если согласится — оплачу выкуп.
Якутка оказалась хороша и опрятна, понимала русскую речь, хотя говорить стеснялась. Федот спросил, указывая на Емелю, улыбавшегося во всю свою красу. Она, чуть смутившись, кивнула. Дальше пришлось торговаться с промышленными.
До Новоселовского стана поповская ватага дойти не смогла: по реке пошла шуга. Пришлось вытащить коч на берег и строить свое главное зимовье. Люди привычно обустраивались, готовились к холодам и промыслам. На этот раз все делалось веселей, помимо насущного много говорили о следующем лете, о моржовом клыке — рыбьем зубе, о Необходимом Каменном поясе. При низком солнце далекие вершины горного хребта алели свежими снегами. Иван Баранов неназойливо советовал идти туда:
— Весной, когда наст крепок, купить бы собак да нартами с хорошим припасом на лыжах перейти на ту сторону.
— И что там? — спросил Федот, понимая, что казак прельщает сухим путем.
Вопрос приказчика смутил Баранова, он хмыкнул от непонимания, потер переносицу, посмотрел на белые вершины гор так, будто там скрывалось чудо, которому обыденной цены нет, и спохватился:
— Промышленные продают собак по пятнадцать рублей, совсем сдурели. И юкагиры, глядя на них, заламывают цены.
— Завести четыре суки, доброго кобеля, можно не промышлять?! — Удивленно хохотнул Емеля. — В год по десять щенков от каждой. Дядька, давай собак разводить!
— Оставлю тебя с якуткой, разводите собак и якутят! — ворчливо пробурчал Федот, все еще недовольный прихотью племянника.
Зима была удачной, промыслы покрыли долги отчаявшихся людей. Ссор из-за якутки не было. Федот воспарял духом. После Евдокеи-свистуньи Иван Баранов стал настойчивей зазывать на Погычу сухим путем через горы: пешком, без ездовых собак. По его словам, остатков поповской муки могло хватить на путь туда, а уж там Бог не оставит. Но как ни старался беглый казак — отмалчивались и отговаривались даже его товарищи по побегу. Пример Исайки Мезенца с Семейкой Пустозером был у всех на слуху: никому не хотелось тащиться пешком невесть куда, непонятно зачем, всем казалось предпочтительней плавание при попутном ветре, с которым через два-три дня можно попасть на неведомую реку.
Коч стали готовить еще при первых весенних проталинах. Едва почернел лед судно было просмолено, стояло на покатах с подновленными мачтами и залатанными, промазанными жиром парусами. Как только открылась река и схлынул паводок, ватажные весело спустили его на воду и следом за редкими льдинами поплыли к Нижнеколымскому острогу. Из притоков, нижних зимовий туда же стекались промысловые ватаги и казаки. Иные торговые люди зимовали при остроге, другие приволокли товар сухим путем с Алазеи и Индигирки. Торговля шла на острове в устье Анюя, что сначала показалось Федоту неудобным: амбары и гостиный двор возле острога, а лавки и балаганы за рекой. На ярмарку прибывали разные народы с Колымы, ее притоков и других рек. Одни приплывали на лодках, другие приезжали на оленях: и ясачные, и дикие-вольные мужики. Для государевой прибыли на ярмарке никого не ловили в аманаты. Высокомерные чукчи с выбритыми макушками, разных родов юкагиры с татуированными скулами, ходынцы — народы с верховий Анюя с лицами, размалеванными яркими красками — явные враги во многих поколениях, здесь терпели друг друга ради торга и мены.
Лавочные сидельцы втридорога сбывали топоры, ножи, железо в прутах и полосах, бисер и стеклянные бусы. Целовальник взимал покупные и продажные пошлины, платы за прибытие и отъезд, брал с промышленных десятину. Втор Гаврилов делал записи в прошнурованную книгу. Казаки следили за порядком, а удержать его было трудно. Как приказный с целовальником ни запрещали торговым людям продавать вино и брагу, те тайком спаивали, и не только казаков с промышленными. Ясачные и вольные мужики, прибывшие на ярмарку с дальних рек, вдруг начинали петь и плясать, шумно веселиться в своем кругу, затем веселье переходило в насмешки чукчей над юкагирами и наоборот, потом в драки. Если споры промышленных людей кончались мордобоем, то обиды диких — поножовщиной. Казаки надевали боевые рукавицы, растаскивали зачинщиков и трезвили купанием в студеной воде. Это была их главная летняя служба.
Здесь Федот Попов встретил Пантелея Пенду. Борода и волосы старого промышленного были белы, лицо — коричневей лиственничной коры, морщины глубже прежнего врезались в дубленую кожу, но сам он оставался прямым и крепким, ясные глаза смотрели пытливо и весело.
— Вот уж и у тебя в бороде заиндевело, — окинул взглядом Федота, — а Сибирь до конца не пройдена. — Подумав, тряхнул белой бородой: — И слава Богу!
Федот рассмеялся, своя седина его не печалила, а чем пристальней вглядывался в лицо Пенды, тем меньше замечал в нем внешние перемены.
— А ты все такой же! Сколько ж тебе лет? — спросил. — Это сколько их прошло, когда я был юнцом, а ты матерым казаком.
— Не считал! — улыбнулся Пантелей, обнажая щербины под белыми усами. — Хожу да хожу, пока Господь не призовет. А силы уже не те, — подавил вздох.
«Боится немощи, — подумал Федот, уловив муть, мелькнувшую во взгляде, — мало ли старых сибирских бродяг униженно доживают свой век по монастырям и промысловым зимовьям».
— Иди ко мне, — предложил, — я тебя не оставлю. В юности Бог свел и теперь вот… Значит, для чего-то это нужно! — Приветливо разглядывая старого товарища, стал рассказывать о своих скитаниях и помыслах.
Пантелей слушал внимательно, не перебивал, не переспрашивал. В запертом остроге бойкие зимовейщики топили баню, торговали брагой, сусленками и квасом. Герасим Анкудинов в кожаной рубахе до колен с недовольным видом сел на колоду поблизости от говоривших, потянул носом хмельной дух и обругал Семейку Дежнева. Он зимовал у Втора Гаврилова не в прием, без жалованья, за один прокорм гонялся за беглыми ясачниками, привел в зимовье новых аманатов, но взять с них было нечего, кроме обещаний родственников, да и то не ему, Герасиму, а государю. А Семейка Дежнев помимо служб умудрился в зиму добыть соболей и теперь сулил ему, Герасиму, дать заем под кабалу за обычный рост.
— От таких цен на брагу в Ленском остроге живот бы скрутило, в Енисейском помер бы, — возмущался. — А здесь веселятся, платят и даже запивают.
Бессон Астафьев на Колыме не объявился, по слухам, не было его зимой на Индигирке и Алазее. В лучшем случае он мог прийти к осени. Не имея на руках никаких грамот, кроме прежней, Федот Попов обратился ко Втору Гаврилову с просьбой отпустить его ватагу на поиск Погычи. Степенный приказный, как показалось Федоту, тянувший свою лямку честно и без кичливости, задумался, не намекая на посулы, велел прийти на другой день. Утром он встретил Попова в съезжей избе вместе с казаком Семеном Дежневым.
— Ивашку Баранова берешь? — спросил вместо приветствия, будто просьба была уже удовлетворена.
— Зимой промышлял у меня, но в море не просился, — уклончиво ответил Попов.
— Не верю беглым, хоть помощь от них явная! — почесал за ухом приказный, пристально взглянул на Семена с нависшими на глаза волосами, под которыми тот скрывал шрамленый лоб. — Сговорились с ним с сорока семи соболей в казну…
— С сорока пяти! — поправил Дежнев.
— С сорока семи уговорились, — настойчивей повторил Втор, — что пойдет с тобой служилым государевым человеком. Поможете ему в казенных делах, а он будет вам прямить. Читать-писать Семейка не умеет — тебе быть целовальником. А погрешите перед Господом и государем — спрос с обоих равный.
Это было обычное напутствие. Против Семейки Дежнева Федот не имел возражений, помнил его по встречам в Ленском остроге: приветливый, улыбчивый, со скромным лицом, среди первых пришел на Колыму и с тех пор служит, видимо, кое-что скопил на черный день, если дает займы.
Едва по зимовью разнесся слух, что холмогорец Попов получил от Вторки наказную память идти на Погычу, к Федоту побежали люди. Покрученников он не брал, хватало своих. Но и среди своеуженников набиралось несколько десятков доброхотов. О том, чтобы разместить этакую ораву на одном коче, не могло быть и речи. Федот никому не отказывал идти следом, но своим подъемом и на своих судах. С собой же брал кроме промышлявших с ним людей только Пантелея Пенду.
В начале июля колымские протоки полностью очистились ото льда. Следом за Федотом Поповым и Семеном Дежневым пошли еще три судна с пятьюдесятью своеуженниками. Все они беспрепятственно сплыли до зимовья, поставленного Михеем Стадухиным, запаслись юколой и птицей, с неделю ждали, когда очистится ото льда морское побережье. Наконец задул южный ветер с запахами оттаявшей земли. Люди заволновались, прислушиваясь, как в стылой воде скрежещут льды. Ветер отгонял их в полуночную сторону, к далекой блазнившейся земле, о которой среди промышленных ходило много всяких слухов.
За спиной Федота Попова молодой промышленный с пронзительным голосом, захлебываясь, рассказывал, будто слышал, что кто-то, блуждая во льдах, вышел на ту землю и был встречен русскими людьми. Будто его отогрели, накормили, напоили, дали рыбьего зуба, песцовых шкур, вывезли на оленях к матерой земле и наказали, чтобы никому не говорил о встрече. Федот обернулся. Удерживая рукой шапку на голове, чтобы не сорвало ветром, говорил казак из янских беглецов. Товарищи слушали его без любопытства, будто знали об этом. Лишь один недоверчивый устюжанин спросил, от кого говоривший слышал про Большую землю? Казак назвал имя, устюжанин презрительно хмыкнул и снова уставился в даль, на скрежещущие, удалявшиеся от берега льды.
— Полуденник — ветер ненадежный! — крикнул Федоту Пантелей Пенда, чтобы быть услышанным сквозь свист и скрежет. — Подолгу не дует и может перемениться на полуночник.
Между берегом и льдами было уже саженей сто.
— Неужто упустим удачу? — с тоской взглянул на старого товарища Федот.
Тот передернул мосластыми плечами под волчьей паркой, шмыгнул обветренным носом, качнул седой головой с треплющимися волосами, смешавшимися с бородой:
— Лучше выждать!
Федот обернулся к окружавшим его людям, по лицам понял: если задержится еще на неделю — быть великому крику и склокам.
— Может, попробуем? — с просьбой взглянул на Пантелея.
Тот опять неуверенно пожал плечами:
— Вы с Семейкой начальствующие, решайте! — колко заблестела синева его выцветающих глаз. — Подавит льдами, на все лето морока.
Южак стал утихать, и ватаги с кочей начали требовать от Федота и Семейки выхода. Дежнев взглянул на Попова, спрашивая согласия. Федот вопрошающе — на Пантелея.
— Лучше обождать! — ответил тот и не был услышан.
— Чего ждать? — наперебой закричали своеуженники. — Боитесь? Так мы без вас уйдем!
— Пусть целовальник со служилым в конце каравана тащатся!
Федот понял, что остановить их уже не могут ни целовальник с казаком, ни боковой ветер, при котором кочи почти неуправляемы. Он и сам всей душой рвался на восход по черной полоске открывшихся прибрежных вод.
— Если что, вытянем кочи на лед! — опять просительно взглянул на Пантелея.
Тот не отвечал. Глубоко вздохнув, Федот обнажил голову, размашисто перекрестился. Толпа промышленных людей радостно взревела, сорвала с голов шапки и громко запела: «Отче Никола, моли Бога о нас!» Высокий, молодой и чистый голос из толпы отчетливо пропел:
— «Преславный отче Никола, и к чудному заступлению твоему вседушно претекаем»!
Пантелей Демидович тоже перекрестился, поклонился на восход, нахлобучил шапку и взошел на борт поповского судна. За Колымой берег был иным, чем за Индигиркой: здесь виднелась гряда гор, каменистая тундра местами переходила в яр. Промеривая глубины шестом, коч Попова шел на веслах. Другие суда двинулись следом. Полярное лето было в разгаре. Солнце ходило по кругу, приседая за дальние увалы, и наступала светлая, как день, полночь.
Караван шел сутки и еще почти до полудня. Как и предсказывал Пантелей Пенда, ветер переменился, льды, теснясь и скрежеща, двинулись к берегу, который далеко от суши переходил в такую отмель, что вытащить на него кочи было делом многотрудным. При том резкая мелководная волна била о дно, крушила, переворачивала все, что попадало на ее гребни. Пантелей чертыхнулся, велел разворачиваться и грести в обратную сторону. Студеный ветер усилился, льды стали прижимать суда к отмелям, люди на них беспорядочно метались, упираясь веслами то в дно, то в лед. Белая борода и длинные волосы старого промышленного флагом трепались возле руля. Громким спокойным голосом он отдавал команды. Теперь ему верили и беспрекословно подчинялись. Никто уже не думал ни о губе с моржовой костью, ни о неведомых землях. Спасаясь, люди пытались вернуться в колымскую протоку и укрыться от бурь.
Лед обступил суда со всех сторон, скрежеща, царапал и выдавливал округлые, как яйца, сжимал плоскодонные корпуса. По нему можно было перебежать на берег, но спасать себя, похоже, было рано. Пенда высмотрел большую крепкую льдину, большими трудами подвел к ней коч, велел ватаге высадиться, долбить прорубь, вставить заводное бревно, чтобы воротом тянуть судно на лед. Глядя на них, другие стали делать то же самое. Плавучий лед ненадежен, но на какое-то время суда на нем спасались от разбоя.
Через три недели в протоку вернулись все четыре коча, они были изрядно потрепаны, но целы. Люди от усталости валились с ног на холодную тундровую землю и радовались, что вернулись живы. С неделю они отдыхали, отпивались жирной ухой, отъедались вареной и печеной рыбой: горячую пищу в море готовить было некогда.
Задул ветер с запада, но не очистил путь на восход. Желавших плыть к Погыче убавилось. Половина покрученников Федота Попова наотрез отказались пытать удачу еще раз. Его коч с поредевшей ватажкой, с Пантелеем Пендой и казаком Семеном Дежневым, ожидая разводий, простоял в протоке до августа. К этому времени вдоль коренного берега появился широкий проход, но до ледостава оставалось две недели. Плыть в неведомое малой ватажкой, без надежды вернуться, если зимовка в тундре, окажется невозможной, соглашался один Пантелей Пенда.
В августе попутные ветры привели к протоке суда с Индигирки и Лены. Пришел и долгожданный коч приказчика Бессона Астафьева. На его борту вернулась к прежним местам промыслов ватага Афанасия Андреева. Еще до дружеских объятий Федот понял по лицу Бессона, что отпускную грамоту от воеводы он получил.
Короткое полярное лето пронеслось без пользы для всех ходивших морем на восток. Многие решили для себя, что этот путь непроходим, и успокоились. Иван Баранов, терпеливо перенесший невзгоды плавания, опять вразумлял, что весной по насту идти через горы надежней и безопасней. Ссылаясь на рассказы «писаных рож», звал на Погычу с верховий Колымы. Другие участники неудачного похода ругали непутевое лето, льды и верили, что в другой раз им повезет.
Морской поход не смутил и Федота Попова. Для него, притерпевшегося к невезению, это была лишь первая попытка прорваться к новым, неизвестным землям. Сухой путь на полдень, куда звал Иван Баранов, не привлекал ни его, ни других торговых людей: много ли товара возьмешь в нарты сверх необходимого в пути? А добрая упряжка ездовых собак на Колыме оценивалась дороже казенного коча. Федоту Попову и Бессону Астафьеву нужна была великая река, истоки которой находятся в Китае, Индии или, по меньшей мере, в старорусской Сибири, слухи о которой никогда не унимались.
Впереди была зима, промыслы на обустроенном месте, если зимовье и станы не сожгли инородцы. Можно было идти дальше, не привязываясь к прежним местам, заново рубить жилье, сечь кулемники. Такие промыслы сулили прибыли богаче прошлогодних. Пантелей Пенда остался промышлять с ватагой Федота Попова. Иван Баранов решил служить при Нижнеколымском острожке без жалованья, так как ответа на челобитную янских казаков не было. Семен Дежнев просил Втора Гаврилова отпустить его на службы в верховьях реки и оставил ему челобитную с просьбой другим летом вернуться на Лену и дальше, на Русь. Поскольку Господь явно не миловал казака на сибирских службах, израненный, не наживший богатства, он надеялся добыть соболишек и вернуться на отчину. Осенью Втор Гаврилов отправил его на Алазею собирать ясак с юкагиров.
И снова бурлаки тянули поповский коч в верховья Колымы. На стоянках Федот делился с Пантелеем давними помыслами. Он верил, что первые ватаги, которые проторят путь в Китай или Индию, получат самые большие прибыли и славу.
— Китай-то мне зачем? — равнодушно пожимал плечами Пантелей, помешивая веткой угли в костре. — Чужбина она и есть чужбина. Богатство?
Мало я его за свою жизнь добыл? Как пришло, так ушло! Слава только смолоду прельщает, в зрелости понимаешь — самое большое, чего можно добиться — уважения, может быть, даже любви и доброй памяти своего народа, но не купцов, не царя с боярами: что нам до того, что они станут вдесятеро богаче прежнего?
— Так и будешь искать Ирию, — со скрытой насмешкой улыбнулся Федот, жалея старика. — Столько лет ходишь. Не нашел ведь!
— Много всего находил! — не поднимая глаз, отвечал Пантелей. — Встречал жилые русские деревни. Старики говорили, еще их деды приплыли лет сто назад. — Помолчал, глядя на угли, и обронил с досадой: — Скрытно живут. Откупаются, ясак платят, поклоны, как инородцы… Лишь бы не трогали. Не по мне это. Встречал других: мимо их селений промышленные и служилые проходят, не замечая, те умеют отводить глаза и нашим, и диким. Их не обманешь — они помыслы чуют, поэтому служилых близко не пускают.
Федот приглушенно хмыкнул, бросив на промышленного недоверчивый взгляд.
— Что у них не остался?
— Кем? — жестко усмехнулся старик, обнажив в белой бороде желтые щербатые зубы. Глаза его блеснули холодом. — Придурком? Прислужником? Подай, принеси, прибери?.. И брошенных городов по тайге много. Древние стены мхом поросли, среди улиц вековые деревья. А построено было по-нашему, по-русски. Тунгусы говорят, до них, встарь, там жили белые бородатые люди, с их пришлыми предками не воевали, а почему бросили обжитые места — не знают. Зачем-то и куда-то ущли.
Из недолгих прежних встреч Федот не понимал, насколько изменился Пантелей за годы странствий. Нынешние душевные разговоры открывали ему другого, омертвевшего изнутри человека без радостей, страданий, смеха и слез.
— Сибирь велика! — соглашался, перебарывая непонятный, суеверный страх. — Не слышал, чтобы кто-нибудь прошел ее всю. Бессонка с Афоней тоже ищут сибирцев, сверх ходового товара взяли дорогие компасы-маточки в костяной оправе, льняные рубахи, сапоги красной кожи. Спросил: «Зачем это промышленным, диким подавно?» Сказали: «Найдем Сибирскую Русь, продадим втридорога!» Как знать? Вдруг так и будет!
Тем летом, когда кочи Попова и Дежнева пытались пробиться к неведомой Погыче, вниз по Лене мчался подлатанный четырехсаженный коч Михея Стадухина, а сам он в поношенном кафтане, при сабле, фертом стоял на носу судна и покрикивал:
— А подналяжем! Да еще! — Про себя же думал, что медлить нельзя, раз обещал жене вернуться на другой год.
Как в прежнем походе, он с первых дней плавания изматывал людей, но они не роптали, понимая, что вышли поздно и надо спешить, чтобы к осени добраться до златокипящей Колымы. Михей подбирал их сам. Многим желавшим идти на Погычу вынужден был отказать: воевода вскоре забыл словесный посул, данный сгоряча: «бери людей, сколько надо», письменным указом позволил взять только девятерых, и то охочих. Корм и жалованье получил один Стадухин, большую его часть оставил жене. Но на этот раз он шел в поход без кабалы, с небольшим долгом Спасскому монастырю. Среди прибранных им охочих людей был прежний олекминский целовальник, беспокойный и задиристый Юрий Селиверстов. Стадухин взял его мореходом, а спутники крикнули целовальником. Зная Селиверстова по прежним службам, Михей не противился их выбору, а воевода утвердил. Юша с первых дней повел себя вполне покладисто, во всем прямил казачьему десятнику и умело правил судном, что быстро оценили гребцы. Их ладейка скоро догнала крепкий коч Власьева с целовальником Кириллом Коткиным на борту. Сын боярский повелительно замахал рукой, призывая Стадухина пристать к нему, но гребцы и кормщик решили не останавливаться. Михей, свесившись за борт, крикнул:
— Говори, что надо!
Не услышав ничего вразумительного, отмахнулся. Гребцы азартней налегли на весла и стали обгонять коч.
— Знаю его, — задергал бедняцкой бородой Селиверстов, и зычный голос целовальника растекся по реке раскатами грома, — заведет волынку — кто у кого в подчинении. Слава Богу, идем не его, а воеводским указом.
Обогнав коч Власьева на три корпуса, Юша ухмыльнулся, обернулся, выгнулся дугой и покрутил концом смоленого троса на уровне среднего места. Гребцы дружно захохотали, сын боярский погрозил кулаком. Задул попутный полуденник, на судне Стадухина подняли парус, измотанные люди получили отдых. Селиверстов же бессменно стоял у руля, умело правил, никого не поднимая и не дергая: появлялась нужда подтянуть вожжи или варовые ноги — растяжки мачты, умудрялся делать это сам или с помощью Михея, на которого напала путевая непоседливость. К радости гребцов, коч Власьева, маячивший за кормой, пропал из виду. За бортом тянулись желтые песчаные отмели, берег с обрывами, поросшими мелким лиственничником, завалы плавника, нагроможденного весенним паводком. Вечерело. При присевшем солнце заалели верхушки редких вгрызавшихся в тундру деревьев, искривленных холодами и ветром, зарозовела белая от испарений полноводная река, степенно несущая свои воды к океану. Сквозь туман расплывчато мерцал костер на берегу. Коч был замечен, со стана закричали. Это были знакомые казаки, возвращавшиеся с Алдана. Стадухин с Селиверстовым предполагали плыть круглосуточно, но вынуждены были пристать на зов. Едва их ладейка приткнулась к берегу рядом с такой же наспех сделанной в пути, к ним сбежались якутские служилые и завопили, что пограблены беглыми казаками Ретькина и Бугра.
— Что взяли? — посочувствовал Михей.
— Парус, варовые ноги!
— Следом идет сын боярский Васька Власьев с наказом сыскивать с них, ему жалуйтесь. Доведется догнать беглецов мне, сам отберу ваше добро! — пообещал Стадухин, желая поскорей отвязаться от жалобщиков.
— Ты-то куда идешь, чьим наказом? — загалдели с берега, почуяв заминку в его ответе.
— С наказом воеводы — на Погычу! — с важностью ответил Михей и велел выгребать на стрежень.
К Красным пескам Жиганского зимовья он хотел пристать только для того, чтобы узнать новости о беглых казаках. Коч обступили торговые и промышленные люди, стали громко жаловаться на грабежи, рассказывали, что казаки оставили Жиганы всего четыре дня назад. Громче всех кричали торговые Тихон и Матвей Колупаевы. У них силой забрали коч, рожь, масло, крупы, товар на одну тысячу двести рублей. Взамен беглецы дали на себя кабальную грамотку и уплыли, сманив нанятого ими якута-толмача Аребутку.
— Сын боярский Василий Власьев идет следом, — опять стал отговариваться Михей. — Он отправлен приказным на Индигирку и Колыму. Ему все скажите.
— Догонишь, и ты взыщи! — безнадежно требовали пограбленные.
— Постараюсь!
О том, что у него воеводский приказ остановить беглецов, Стадухин помалкивал, опасаясь долгих разбирательств и многих просильщиков. От расспросов отмахивался, но когда подошел Ивашка Казанец, первостроитель Жиганского зимовья и товарищ по давнему походу на Вилюй, вынужден был выслушать его. Казанец с застенчивым и скромным лицом попросил взять с собой.
— Ты хоть знаешь, куда я плыву? — вопрошающе усмехнулся Стадухин.
— Слыхал от таможенных, что на Колыму и дальше, — вид у Казанца был тоскливым, как у пропойцы, ищущего опохмелки. — Помнишь, казачья служба мне в обычай! Грамоту знаю, царю челобитные писал.
— И что не живется? — сочувственно рассмеялся казак, — За челобитные хорошо платят.
— Вместо того чтобы заплатить, стараются напоить, — слезно посетовал Казанец. — А я слаб отказывать. Возьми, а то сопьюсь до смерти! На Колыме, поди, и жалобщиков меньше, и вина нет.
— Писарь нужен! — задумался Стадухин. — Только без жалованья, на пай, как все охочие.
На том они ударили по рукам и составили письменный договор, по которому Иван Казанец обязывался служить два года всякую службу без жалованья.
От Жиганского зимовья Стадухин отправился к устью уже с десятью охочими людьми. Коч быстро бежал под парусом по широко разлившейся реке, где не замечалось течение воды. Возле Столбового зимовья Михей спросил тамошних служилых про Дружинку Чистякова, добрался ли? Казаки ответили, что старик напросился к беглым казакам идти на Погычу.
— Опять в бега! — удивился Стадухин. — А жаловался, что немощен! Удалец! — Не удержался от похвалы сослуживцу. — Вот она, казачья доля!
Стоило его кочу войти в знакомую ленскую протоку, которой выходили в море суда, идущие встреч солнца, путь преградили льды. Их пригнал сильный ветер с востока.
— Беглецов-то нет! — щурясь, озирал окрестности Селиверстов. — Успели проскочить или утопли! — Размашисто перекрестился, подергивая бородой. — Не дольше, чем на три дня отстали от них.
Ожидая перемены ветра, люди Стадухина с неделю бездельничали, а он носился по кочу, по ледовым и береговым окрестностям. По ту и другую сторону от протоки была убегающая к горизонту тундра, к полудню — едва заметный хребет, над ним висело желтое холодное солнце, впереди сколько хватало глаз отсвечивали льды. В этом месте его и нагнал Власьев.
— Ну, что, поспешник? Далеко уплыл? — злорадно окликнул Стадухина.
В другое время Михей не удостоил бы его взгляда, но беда понуждала мириться. Поскольку ветер не менялся, по его разумению, надо было просекаться сквозь льды, двум ватагам сделать это легче, чем одной. Но Власьев ни словом, ни взглядом не выдавал беспокойства и терпеливо ждал перемены ветра. Вымученно улыбаясь, Стадухин предложил ему объединиться для прохода в море.
— На кой? — скривился в усмешке сын боярский. — Если и пробьемся многими трудами, там придется ждать пособного ветра. В том, что льды не пускают, нашей вины нет.
Стадухин в ярости натянул шапку до ушей, ни с чем убежал к своему судну. Подоив тощую бороденку, Юша Селиверстов неуверенно поддакнул, что просечься можно и своими силами, а там, в море, как Бог даст: глядишь, и удастся угрести против ветра по разводьям. К беспокойству атамана охочие относились с пониманием: попусту проедать припас никому не хотелось, они брали его в долг, под кабалу. Михей стал мириться с мыслью, что нынешним летом до Погычи не дойти, но к Колыме готов был ползти на карачках. Под насмешки власьевских людей его спутники целый день просекались и расталкивали битый лед, а продвинулись на сотню шагов. Хуже того, они наткнулись на большие, цельные льдины. Селиверстов объявил, что, пожалуй, быстрей тянуть коч воротом. Охочие долбили проруби, вставляли ворот, четырехсаженное суденышко ползло по льду к морю. Так, передвигаясь с места на место, они изодрали якорный трос и даже варовые ноги, утеряли якорь, но вышли на воду залива.
— Так-то вот! — торжествуя, погрозил в сторону власьевского коча Стадухин.
Ветер не менялся. Великим трудом Селиверстов сумел обойти мыс и привел коч в Янский залив. В устье, укрываясь от ветра и льдов, стояли два торговых коча. Попутные ветры пригнали их с Колымы. Мореходы были измотаны, кочи побиты льдами и волнами. На одном из них возвращался на Лену целовальник Петр Новоселов. Стадухин кинулся к нему узнать колымские новости. Несмотря на жарко горевший чувал, в подпалубной жилухе было сыро, люди вповалку лежали на нарах и были не краше покойников, но Петра Новоселова Михей узнал с трудом. Тот выглядел дряхлым старцем.
— Мишка? Ты ли? — Взял казака за руку, не поворачивая головы. — А я захворал, и сильно, — пожаловался. — Ослеп совсем. Молюсь, чтобы в пути не помереть, добраться бы хоть до Жиган и сподобиться христианского погребения.
— Смена идет! — не зная, что сказать, попытался утешить его Михей. — Сын боярский Василий Власьев и целовальник Кирилл Коткин стоят у Крестового острова в протоке, ждут попутного ветра и разводий.
— Даст Бог, встречусь! — всхлипнул Новоселов, растирая впалый живот. — Тут тоже болит!.. Зыряна убили, Вторку выбрали на приказ, вместо себя я оставил торгового Третьяка Заборца…
— Слыхал! На все воля Божья! — перекрестился Михей, жалостливо поглядывая на целовальника. — А у меня из-за встречных ветров беда: якорь потерял, шейму изорвал, уже и узлы вязать не на чем.
— Проси промышленных, — посоветовал Новоселов. — Не должны отказать: хлебнули бед, но возвращаются с прибылью, тебя с Зыряном и всех ваших добром поминают, что Колыму открыли… Помог бы и ты мне? — Крепче сжал руку Михея. — Мы бы пошли к Омолою, пока Бог дает попутный ветер, да нельзя не навестить Усть-Янское ясачное зимовье. Сходи, передай Козьме Лошакову грамоты и наказы.
— Схожу! — согласился Стадухин. — Тут уже близко. И вам при таком ветре до Омолоя недолго плыть. Там, если что, доберетесь нартами до Жиган… Беглых казаков не встречали? — спросил, спохватившись.
Какое-то время в жилухе было тихо, все настороженно молчали.
— Виделись! — неохотно ответил Новоселов. — Ивашка Ретькин с промышленными на гребях пробивался к Святому Носу.
— На двух кочах?
— Один видели!
— Должно быть два. Один в Якутском у торгового Щукина отобрали, другой у Колупаевых в Жиганах.
— Ретькин не сказал, что в бегах, говорил — на Погычу. Хлеба у них много, нам дали на саламату.
По лицам промышленных и целовальника Михей понял, что о беглой полусотне им ничего не известно.
— Чудно, однако! — Поежился. — Мы не могли не заметить. Разве на Яну ушли, или… Ветер-то силен.
— Всяко бывает, — суеверно закрестились промышленные и торговые, слушавшие разговор целовальника с казаком.
Промышленные поделились с бедствующими смоленым пеньковым тросом, снялись с якорей и ушли по ветру. Стадухин со спутниками направился к Усть-Янскому зимовью. Там возле изб, казенных амбаров и бани сгрудились полдесятка балаганов, над которыми курились дымы. Заметив коч, из жилья высыпали люди. Издали Стадухин узнал Ваську Бугра: прямой, как колода, с широкими угловатыми плечами, с которых свисали руки, не задевая туловища, он был приметен. Долговязый, нескладный Артемка Солдат и согнутый Пашка Кокоулин-Зараза тоже узнавались издали.
— Отсиживаются, голубчики! — рассмеялся Стадухин, повеселев после забот тяжкого пути. — Ишь что удумали: вперед меня — на Погычу! — Селиверстов подвел коч к берегу, Стадухин закричал: — Васька? Много ясака взял с погычинских мужиков?
Зараза смотрел на прибывших исподлобья, без тени улыбки. Солдат удивленно хлопал длинными руками по ляжкам. Васька стоял, как бодливый бык. За их спинами толпились два десятка беглецов, знакомых по службам на Лене. Михей высмотрел Ивана Пинегу, служившего при избе Пушкина:
— А тебе воевода грозился самолично спустить кожу со спины.
— Кабы ему, кровопивцу, государь спины не распустил, — угрюмо отозвался Пинега.
Стадухин отпустил своих людей греться, сам как служилый при исполнении пошел в зимовье к приказному передать грамоты с Колымы. Возле балагана столкнулся с Дружинкой Чистяковым, рубившим дрова.
— Что здесь, что в Якутском! — смеясь, указал глазами на топор и колоду.
— А я думал, с Ретькиным ушел на Погычу.
— Перешел на коч к Ваське с Шаламкой, нас и разнесло! — как об обыденном, ответил старый казак и оправдался: — В Столбовом каждым куском попрекали.
Козьма Лошаков встретил Стадухина как родственника: потискал в объятьях, смахнул с глаз счастливые слезы. Совместных служб у них не было, а радовался Козьма, что в зимовье появился служилый с наказной памятью от воеводы. Когда узнал, что следом идет сын боярский Василий Власьев, и вовсе просиял, признался:
— Что с ними, с беглыми, делать — не знаю! Казаки-то старые, заслуженные, требуют с меня казенный коч, харч грозят взять силой. — Опасливо зыркнул на оконце, затянутое пузырем, зашептал: — Сами одной рыбой живем. Пришлось дать невод — ловите, питайтесь… Не знаю, вернут ли? Теперь вернут! — сказал уверенней и стал рассказывать, что до восточного ветра, перед самой бурей пришли к нему три десятка беглых, сказали, будто в заливе их кочи взял замороз. Пока прорубались к берегу, ветер взломал лед, один коч выбросило на мель, другой унесло невесть куда. На нем, с пятидесятником Ретькиным, дюжина охочих… — Отдохнули они у меня, отъелись рыбкой, пошли снимать коч, а его нет, унесло льдами. Вернулись, сидят теперь по балаганам.
— Ретькин на Погычу бежал! — Нахмурился Стадухин. — Даст Бог, догоню, ты помоги мне!
— Голодранцы грозят, — не любопытствуя просьбой, опять стал жаловаться Лошаков, — и меж собой спорят. Бывает, дерутся. — Тревожно вздохнул, перекрестился. — Ну, да теперь есть на них управа. Ты скажи им государево слово. Скажи!
— Скажу! — пообещал Стадухин. — И ты мне помоги, — повторил громче, — дай шеймы сколько не жаль и якорь… Да ноги бы. Мы свои сняли, когда коч по льду тянули — изодрали в клочья.
— Все дам! — поспешно пообещал приказный. — От этих утаил, спрятал, чтобы силой не отняли, тебе дам якорь железный в полтора пуда, шеймы семнадцать саженей, ноги варовые — две: все что есть казенного — бери!
Сговорившись с приказным и повеселев, Михей пошел к балаганам беглых казаков.
— Здоров будь, Васенька, старый пьяница! — Обнял Бугра. — Выпить хочешь?
— А есть чего? — казак бросил на Михея тоскливый, испытующий взгляд.
— Нету!
— Зачем дразнишь? — Сморщил лоб. — Поди, слыхал? Ивашка Ретькин бежал на Погычу с хлебом, под который все кабалились в Жиганах. То ли бросил нас, то ли унесен Божьим умыслом!
— Какая Погыча при противном ветре?! — неприязненно сморщился Никита Семенов, много лет служивший при гарнизоне, не выбиваясь при разных воеводах ни в любимцы-ушники, ни в опальные. — Если живы, то выбираются к какому-нибудь зимовью. — Размашисто перекрестился, показывая, что не имеет зла на пропавших.
— А мы без коча остались. — Василий сжал в кулаки натруженные, потрескавшиеся ладони, пропустив слова Семенова. Видно, спор о Ретькине еще не унялся. — Сидим вот, ждем служб хоть бы за прокорм. Кузька обещает разослать по Яне и Индигирке… А ты с наказной?
— А то как же? — сбил шапку на ухо Михей. — Иду на Погычу указом воеводы!
— Ух ты! Как получил-то этакую милость? Вроде не был в чести у злыдня… Много посулов явил?
— Нисколько не явил! — с важностью ответил Стадухин. — Обещал вас, беглых, догнать и вразумить… Может быть, на Погычу увести, но не самовольно, а государевым указом!
— Ух ты! — опять просипел Бугор. — А почему злыдень отправил тебя, а не Ерастова? Сказывают, ты на него жалобную подавал?
— Писать не писал, — не смущаясь, признался Стадухин, — а словесно вразумлял. Сбаламутил он вас, а сам в бега не пошел.
— Говорил, будто посуху за Колыму ходил!
— Брехал!
Переговорив с товарищами, Стадухин созвал в круг всех ютившихся возле зимовья, опустив ладонь на рукоять сабли, с важным видом от имени воеводы сказал им государево слово, предлагая вернуться в Якутский острог с покаянием. Сказать-то сказал, что было велено, сам не понимая, как они могут вернуться и зачем. Беглецы слушали его с пониманием, что говорит нелепицу не по своей дурости, а по воеводскому указу. Приняв обычный вид, Стадухин хмыкнул в русую бороду, расправил золотившиеся усы, добавил от себя:
— За мной идет на колымский приказ сын боярский Васька Власьев. Подадите ему покаянные челобитные, он замолвит за вас слово перед воеводой, а тот перед государем. Служб на Яне, Индигирке и Колыме всем хватит.
— Мы царю не изменяли! — зашумели беглые. — Мы супротив вора Пушкина пошли на дальние государевы службы.
— Сам-то на Погычу идешь, вдогон Ретькину, — вздорно вскрикнул Иван Пинега, — а нас зовешь здесь служить!
— Не я зову! — степенно ответил Стадухин. — Прибудет Васька, так же вам скажет. Он на приказе, не я! А будет у вас коч и харч, идите за мной на Погычу охочими, без жалованья. На свою ладейку и пятерых не возьму. Тесно!
Если призыв воеводы вернуться с покаянием в Якутский острог беглецы сочли за обычную казенную глупость, то над словами Стадухина задумались, стали переспрашивать и спорить. Между тем Михей с Юшей и охочими людьми починили коч, оснастили его железным якорем. Ветер на море переменился и потянул льды в другую сторону, на восход, стал забивать ими Янский залив. Селиверстов высмотрел разводья и повел коч к Святому Носу. Была середина августа, еще не пропала надежда добраться до Колымы. Переменившийся ветер очистил ото льдов протоку Лены. С тем ветром коч Василия Власьева пронесло мимо Янского устья к Святому Носу. Там возле Чуркина разбоя два судна опять встретились, ожидая разводий, и борт о борт простояли неделю. Стадухин то истово молился, то лаялся, то ублажал дедушку водяного топленым рыбьим жиром — ничто не помогало, утекали последние бесценные дни короткого лета. Сначала тихо, за спиной атамана, потом громче зароптали охочие люди:
— Зачем жилы рвали? Власьевские без трудов оказались здесь же.
Ветер стал прижимать льды к берегу. Стоянка судов становилась не только бессмысленной, но и опасной. Позже всех это понял Михей и разрешил обеспокоенному Юше Селиверстову возвращаться в Янское зимовье. Власьевский коч пошел следом, два судна не без труда, но пробились к устью Яны, для зимовки. Власьев по-хозяйски обосновался в ясачном зимовье Козьмы Лошакова. Его люди вместе с лошаковскими разошлись на службы по ясачным зимовьям. Сын боярский тоже говорил беглецам государево слово, но служить ему подал челобитную один только Дружинка Чистяков. Ему было все равно, кому и где служить, лишь бы быть сытым.
Беспокойный Стадухин звал беглецов идти на Индигирку сухим путем. Предлагал строить там другой, большой коч и всем отрядом в четыре десятка служилых и охочих плыть на Погычу. Его поддержали почти все беглые казаки, но свои охочие люди бросали колючие, недоверчивые взгляды, ставили в заслугу Власьеву, что без натуги подошел к Святому Носу и вернулся к Яне теми же трудами.
Из-за казенных варовых ног, троса и якоря, данных Стадухину Лошаковым, между ним и сыном боярским начались споры. Власьевская власть была выше лошаковской, поскольку воеводским указом в подчинение к нему отходила и Яна. Но Стадухин воеводским указом шел за Колыму, на новые земли, неподвластные сыну боярскому, и прибыл в зимовье первым. Не оказать ему помощи Лошаков не мог. В спор атаманов втягивались все бывшие там люди. Власьев со Стадухиным собирали их, читали свои наказные грамоты. Служилые, охочие и беглые судили, кто из них прав. Один по праву распорядился казенным добром, другой по праву получил казенную помощь. Одному подвластны известные реки: Яна, Индигирка, Алазея и Колыма, другой отправлен прибрать под государеву руку новые земли и на них имел единоличное право собирать ясак, скупать и добывать рыбий зуб. Полная власть над неведомым давала Стадухину поддержку беглых казаков. Не зазвав их к себе в службы, Власьев стал требовать толмача-якута Аребутку взамен снастей, данных Лошаковым. Беглые своего толмача не дали. Он нужен был и Стадухину.
Власьев с Лошаковым вскоре помирились и тихо сошлись. Проживая в одном зимовье, они держали за печкой бочку браги, приторговывали, стараясь хоть так привязать к себе ленских казаков. Михей заспешил. Юшу Селиверстова с охочими он оставил при коче, чтобы пригнали его на Колыму следующим летом, сам уходил с Яны ради ленских беглецов, чтобы построить с ними новый коч. Имея два судна и наказную память от воеводы, он мог набрать на Колыме людей столько, сколько понадобится, и подвести под государя любой сибирский народ. К тому же Стадухин лучше других понимал, что легче двигаться, чем сидеть на месте, ожидая ненадежного полярного лета. Каждое свое решение он оговаривал со спутниками, среди которых были ходившие сухим путем с Яны на Индигирку, терпеливо слушал их советы и старался быть осторожным.
Октябрь-ноябрь — лучшее время для перехода: речки покрылись льдом, но еще не промерзли, не кипят, снег неглубок. Пока были проходимы хребты, отряд беглых казаков двинулся к верховьям Уяндины, впадавшей в Индигирку. Но случилось так, что уже к этому времени под волоком намело сугробы в пояс, снег от стужи был сыпуч, лыжи тонули в нем так, что путники увязали в нем до колен и выше. Путь, который бывальцы проходили за четыре недели, на этот раз дался за семь. Только к Михайлову дню, когда добрые люди уже промышляли соболя, измотанный отряд занял брошенную избенку какой-то ватажки.
Еще не поздно было начать промыслы. Отдохнув, казаки стали готовиться к зимовке, а Стадухин с Бугром отправились к Среднему ясачному зимовью, узнать индигирские новости. Там они встретили знакомых казаков: Федьку Чукичева и Пашку Левонтьева, посланных с Колымы Втором Гавриловым. С одним из промышленных людей жила знакомая якутка, выкупленная Тархом на Оймяконе. У очага баловался полуголый якутенок трех-четырех лет, покрытый треухом, спадавшим ниже поясницы. На руках женщины был грудной ребенок.
Случилось, что беглые казаки со Стадухиным явились на Индигирку в трудные времена. В отсутствие приказного Андрея Горелого юкагиры напали на Нижнее зимовье, убили казаков Сидора Филиппова и Пятелку Балдина, пограбили казну, забрали из аманатов своих детей, а бывших поблизости от зимовья промышленных избили. Чукичев с Левонтьевым ждали осады, Андрей Горелый собирал по реке промышленных и служилых, чтобы дать отпор.
В жарко натопленной избе индигирские служилые с радостью приняли гостей. Рассказывая о бедах, поили жирным отваром ухи, угощали вареной рыбой и мясом. Михей косился на якутенка, приглядываясь, не Тархов ли? Федька с Пашкой, узнав, что поблизости от зимовья стоит большой отряд ленских казаков, взмолились:
— Помогайте, братцы! Бог вас наградит!
— Поможем, конечно! — хмуро пообещал Стадухин, боясь поднять глаза на Бугра. — Вот ведь что бес удумал: только собрались промышлять… Кабалились в поход.
— Что на погроме возьмем — все ваше! — заверил Федор.
— Чем можем — поделимся, — поддакнул Пашка, разглаживая ладонью лысину. — А нападали алазейские князцы Манзура и Мымкок. Тайком построили крепость, теперь у них есть пищали, порох и свинец — у нас украли и научились стрелять. — И добавил ласково: — Мы с Горелым тебя вспоминали добром: как ушел — Нижний на Колыме беспрестанно осаждают, Алазейское зимовье два раза жгли.
Но Стадухину было не до воспоминаний, он пожаловался с горькой усмешкой:
— Андрейка везуч! К нему Бог милостив! Едва ушел из Якутского, явился Агапитов и по общей кабале на мне все доправил.
— Не сильно-то милостив. — Прикрывая бороду ладонью, Федька подкинул дров в пылавший очаг. — На Индигирку шел с промышленными двумя судами, за Носом попал в бурю, пришлось выброситься на берег, один коч разнесло в щепки, другой можно починить летом. Хорошо, у промышленных были нарты, собаки, лыжи. Дотащились до Нижнего зимовья… Едва Горелый ушел из Нижнего к нам — там случились осада, убийства.
— Разве что жив! — согласился Михей. — И то слава Богу! — И спросил, отстраняясь от забот: — Соболь-то есть?
— Меньше, чем на Колыме, — хмуро ответил Чукичев, — но есть, вылинял. Уже промышляют.
Посыльные вернулись к отряду, собрали казаков в круг, рассказали об алазейской и индигирской беде, о просьбе здешних служилых людей. Беглые уже подновили избенку и баню, сделали запас дров. Одни ругали Горелого, что попустил ясачным напасть, другие поносили приказного Власьева, который обязан был воевать и подводить бунтовщиков под новые присяги государю, а не пить брагу на Яне. Осталось невысказанным — зачем прельстились зимними индигирскими промыслами и не зимовали на Яне? Но, отказать в помощи терпящим бедствие беглецы не посмели.
Через день отряд двинулся к Среднему индигирскому зимовью, соединился с немногими людьми, приведенными Горелым, и пошел на юкагиров за шиверы. Воинское дело всем было в обычай. Бунтовщики действительно построили крепость. Едва отряд казаков и промышленных стал подходить к ней, его осыпали градом стрел, подкрепляя оборону выстрелами из пищалей. Стадухин увел людей за редкие деревья, велел сечь засеку на краю леса. Под ее прикрытием казаки и промышленные поставили тын в сорока шагах от юкагирской крепости, затем начали собирать такой же в двадцати шагах. Казаки злились из-за долгой осадной работы, рвались на приступ. Михей убеждал, что все окупится: поваленный лес пойдет на строительство коча, он берег порох, свинец и людей. И все же Матюшку Медного убили из пищали. Как только казаки выставили острожную стенку в двадцати шагах от крепости, идти на нее за щитами не пришлось: юкагирские тойоны вышли из укрытия. Горелый взял толмача Аребутку, отсиживавшегося в лесу и отъевшегося на индигирских кормах так, что переваливался с ноги на ногу, как пузырь. Вдвоем с ним пошел договариваться о мире. В крепости укрывалось до двухсот мужчин, женщин и детей. Как обычно после погрома, они дали двойной ясак и детей в аманаты. Мир был восстановлен. Отряду Стадухина достались несколько собольих половиков, душегрей, юкагирская крепость, срубленный лес и многие благодарности Горелого с Чукичевым. Андрейка грозил написать воеводе, как Власьев попивал брагу, когда на подчиненной ему реке лилась русская кровь. Но по лицам товарищей Михей видел: ни добыча, ни благодарности и угрозы Горелого никому не в радость. До Рождества две недели, с Рождества до Святого Крещения на всякое убийство запрет. Для промыслов оставалось меньше двух месяцев.
В пути с Яны на Индигирку среди беглых казаков случались раздоры и драки, но Стадухину удавалось удерживать мир. От зимнего невезения ссоры стали чаще и злей. Осерчав на придирки Артемки Солдата и Павла Кокоулина, обособились Иван Пинега и Никита Семенов, к ним примкнули недовольные Митька Васильев и Федот Ветошка. Вскоре после Евдокеи-свистуньи, когда была поделена добыча, они переругались со всеми и ушли в Среднее зимовье к Федору Чукичеву.
Оставшиеся со Стадухиным беглецы в начале марта заложили остов коча и стали распускать на доски срубленный зимой лес. В апреле по обнажившемуся льду реки Бугор с Казанцем ходили искать кокоулины * (березы с корнем, отходящим от ствола под прямым углом. В строительстве кочей использовались в качестве шпангоутов) и наткнулись на следы ватаги, незадолго прошедшей в ясачное зимовье. Неделей позже на стан вышли трое власьевских людей, посланных просить у Горелого и Чукичева толмача. От них Стадухин узнал, что весной власьевский коч раздавило льдами, а его ладейка осталась цела благодаря стараниям Юши Селиверстова. Власьев с охочими людьми и Дружинкой Чистяковым по мартовскому насту за четыре недели перешел на Индигирку и собирался идти дальше, на Колыму. Якорь и корабельные снасти его люди волокли нартами. На удачливых власьевские охочие не походили. Юшка Трофимов ругал приказного придурошным, сказал, что на волоке тот до смерти забил казаков Парфена Григорьева и Кузьму Ферапонтова.
— Не до смерти! — смущенно поправил спутник. — Но побил. А те пошли назад и замерзли.
Новости с Яны показались Стадухину хорошими, но его казаки ругались, что пошли на Индигирку в зиму, хвалили власьевских людей и с неприязнью поглядывали на недостроенный коч, вымещая на нем свои неудачи. Михей чувствовал недосказанное. Власьевские ушли в Среднее к Чукичеву, но вскоре вернулись с Иваном Пинегой и Никитой Семеновым.
— Мишка, отдай нам Аребутку! — стали требовать толмача.
— А хрена моржового? — вспылил Бугор. — Мишке до Аребутки дела нет, это мы его брали в Жиганах!
— И мы тоже! — заспорили отколовшиеся беглецы.
Опять назревал скандал. Стадухин не вмешивался, только призывал решить все миром. В большинстве своем беглые оставались на его стороне, они не отдали толмача, но некоторые приветливо встретили Семенова с Пинегой. Утром он понял почему. На рассвете ушли не только отколовшиеся ранее, но и обособившиеся красноярцы: Мишка Шадра, Пронька Трофимов, Тимоха Васильев, ссыльный Маклушка Семенов. А власьевский охочий Юшка Трофимов наперекор им, остался у Стадухина. Отряд поредел на семь человек.
— Скатертью дорога! — кричал вслед Бугор. — Васька Власьев покажет вам Кузькину мать!
Михей выспрашивал, чем его люди недовольны, но не мог добиться ясного ответа.
— Погыча все окупит! — ободрял верных. — Придем первыми — возьмем свое. Я знаю, я был на Колыме!
Как и прежде, он работал дольше всех, ложился спать последним, поднимался первым. Короткими ночами, в которых страшился своих мыслей, понимал, что в срок не вернется, а значит, может потерять Арину. «На все воля Божья!» — скрипел зубами, глядя в низкий, черный от сажи потолок. А утром, вырвавшись из пригрезившихся объятий, шумел, скрывая на делах дня томивший душу ужас: «Да как же я жить-то буду без нее? Лучше и не возвращаться вовсе!»
Уже смолили коч, тесали весла и шесты, а мира в отряде не было. Теперь против всех собачился Пашка Кокоулин. Сутулый, широкоплечий, жилистый, со сломанным носом, щучьим лицом и полуседой шевелюрой, он во всех бедах винил Бугра, а тот орал, втягивая казаков в раздоры. Отчего, почему появилась между ними неприязнь, Стадухин понять не мог. Долгим светлым вечером уставшие люди отдыхали возле разобранной юкагирской крепости. Караульные бодрствовали. Вдруг раздался выстрел. Казаки похватали оружие, готовясь к обороне. Стадухин взобрался на остатки заплота, недоумевая, почему не почувствовал опасности. Караульные, десятник Иван Пуляев с казаком Василием Владимирцем, волокли по земле Пашку Кокоулина с заломленными за спину руками. Тот выкручивался и лягался. Возле заплота его бросили к ногам атамана.
— Аребутку склонял к содомскому блуду!
— А кто свидетель? — заорал Пашка, скаля зубы.
— Я видел, как обхватил его сзаду и крутил. Якут тебя — сковородой по морде. А ты в него стрелил! — взволнованно кричал Пуляев.
— То-то поглядывал на толстого масляными глазами, — насмехался Бугор.
— Вот кто на всех навлекает гнев Божий. Утопить гаденыша: камней в карманы и в реку!
Чуть утих ор, Стадухин, склонившись над Пашкой, спросил:
— Хотел украсть толмача для Власьева?
— На его засраный зад прельстился! — просипел Кокоулин, злобно скалясь. — Да пошли вы… Сажайте в реку!
Казаки приговорили: перед убитым толмачом, до того, как хоронить, Пашку бить батогами. Чтобы никто не срывал на нем зла и не жалел, палачом избрали пришлого Юшку Трофимова. Кокоулин был бит, толмача похоронили как новокреста. Пашка отлежался после батогов и бежал, прихватив пищаль, пай рухляди и свои вещи.
— К Власьеву подался! — указал на пустые нары Стадухин.
Отряд избавился от очередного скандалиста, но склок и раздоров меньше не стало. А Пашка битья не простил: перед тем как уйти совсем, в одиночку крутился по лесу, приходил тайно к летовью, стрелял в бывших друзей из пищали и лука, прострелил руку Ивашке Пуляеву, ранил Ваську Владимирца и Юшку Трофимова. Отмстив за обиды, ушел с концами.
Едва Индигирка вошла в обычные берега, с парусом из отмятых и сшитых кож, с растяжками мачты, сплетенными из березовых корней, новый коч поплыл к морю. Этот путь был знаком Михею Стадухину. В Нижнем ясачном зимовье, у Андрея Горелого, отчасти оправдались надежды охочих людей купить хлеб. Здесь стоял торговый человек Надей Свешников с ватагой промышленных людей, возвращавшихся на Лену. Дела их были закончены, на шестисаженном коче они ждали, когда очистится ото льдов устье Индигирки. Муки у Свешникова было мало, другой товар Стадухина и беглых казаков не привлекал. Купец уверял, что прошлым летом отправил на Колыму судно с двумястами пудами ржаной муки, с подсолнечным и конопляным маслом, с медом. Его приказчик Федька Федоров передал через промышленных людей, что в зиму продал только половину.
— Это какой Федька? — насторожился Стадухин. — Катаев, что ли? Который со мной с Оймякона пришел?
— Он самый! — обрадовался купец. — На Колыме нанял в свой оклад гулящего, теперь служит у меня.
— Купи-продай! — чертыхнулся Михей, но вынужден был признать, что Федька грамотен и при уме.
— Братцы! — вскинул бороду и ласково застрекотал купец. — Дешевле семи рублей за пуд хлеб вы не купите ни здесь, ни там. Я отдам по шесть весь, что у меня здесь, и тот, что у Федьки, но остатки возьмете у него на Колыме.
Свешников уже высмотрел добытых соболей и приценился к ним. Цену на мех для Индигирки и Колымы называл обычную, не рядился, не придирался к пустякам. Зимовейщики Горелого подтвердили, что осенью покупали рожь по семь с полтиной за пуд. Предложение было заманчивым.
— Думайте, решайте, каждый сам за себя! — обратился к спутникам атаман.
Беглецы, отъедаясь купленным хлебом, подобрели, заленились. Ласковые слова и посулы купца расслабили души. Один только Бугор спорил и упреждал наперед меха не отдавать: мало ли что может случиться.
— Все равно придется зайти на Колыму, — неуверенно рассуждал Михей. — Тот хлеб, что есть, съедим за неделю. Новый привезут с Лены не раньше августа. С чем плыть на Погычу?
— Как знаете! — Упрямился Бугор. — Я куплю по восемь за пуд на Колыме, а не здесь по шесть — от топора уши…
— Свежая рухлядь дороже, — возражали ему. — С каждым годом мездра желтеет, соболь дешевеет…
— И купцу выгода — взять у нас рухлядь этим годом и увезти на Лену… И нам выгода…
— Как хотите! — упорствовал Бугор.
Все отдали своих соболей под свешниковскую кабалу без роста до Троицына дня, а после, как принято, гривенный с рубля. К той кабале купец приложил отписку Федьке Катаеву, чтобы отсыпал муки по уговору. Уже разбивались на парочки журавлиные и другие шумные птичьи стаи, очистились ото льда протоки дельты, суда разошлись по разным сторонам. Казакам возле моря пришлось ждать проходных разводий. Зеленела тундра, скрежетали льды, кричали гагары и гуси. Путь к Алазее открылся только в июле, но ветер дул с восхода и стадухинский коч продолжал болтаться на устье.
— Торговых черти любят! — завистливо щурился на закат Василий Бугор.
Помня прошлогодний урок, Стадухин не принуждал идти против ветра на гребях. Казаки съели купленный хлеб, ловили рыбу, стреляли гусей и уток, которых вокруг было великое множество. Наконец ветер переменился. Мореходы пропели молебен на удачный путь и подняли парус. Он вздулся и весело потянул судно на восход. Места были знакомы Стадухину. Несколько раз он попадал в тупиковые полыньи, но выбирался и снова шел в виду берега к знакомой дельте и вот берег круто повернул к полудню.
— Близко уже! — обнадеживал товарищей, сутками выстаивая на корме. — Почему-то прошлый раз быстрей добрались, хоть и шли впервой.
И снова пришлось отстаиваться, дожидаясь перемены ветра. Пошло на закат короткое северное лето. Михей уже метался по судну, бранился, но впереди был целый месяц. При удаче и Божьей милости от Колымы до Погычи он надеялся дойти за неделю, брал себя в руки, успокаивался, но в лицах товарищей примечал леность и неверие.
Задул попутный ветер, коч побежал на восход. Вскоре показался знакомый крест. Это была губа колымской протоки. Возле зимовья, кем-то восстановленного, расширенного и укрепленного, стояли два гусельниковских коча, но ожидаемой радости не случилось. По словам торговых и промышленных людей, Федька Катаев зимовал в Нижнем у Втора Гаврилова. Мука у гусельниковских людей была, и поход до Погычи мог бы продолжиться, если бы казаки не отдали своих соболей Свешникову. Выкупать его кабалу гусельниковские приказчики не пожелали, под новую запись рожь не дали.
Была и другая новость, вынудившая подниматься к Нижнему острогу. Двумя неделями раньше, Юшка Селиверстов с подручными охочими людьми привел с Яны старый коч. Бугор, не пожалев своих соболей и лис, поменял их на муку. Отряд поел хлеба. Стадухин оставил Василия с Артемом Солдатом при коче, с остальными налегке пошел вверх по протоке. За годы после его отъезда на Лену Нижнеколымский острожек был расширен и обнесен новым частоколом. Теперь это был острог с двумя избами, баней, государевыми и гостиными амбарами, хотя по старинке назывался ясачным зимовьем. Вытянутый на берег, здесь стоял знакомый коч. Из-под него, с долотом в руке, выскочил Юшка Селиверстов и бросился на шею Стадухину, а у того бурлило в горле, чтобы беспричинно обругать целовальника.
— Да как ты умудрился прийти раньше меня? Я же сутками льды высматривал, — вскрикнул вместо приветствия.
— Как полынья раскрылась, так и пошел! — ответил Селиверстов, обидчиво хмуря брови, и стал жаловаться: — Власьев-то отобрал у меня и якорь, и шейму. Уж я его лаял прилюдно, грозил жалобами — не отдал, пес!
— Пес! — согласился Стадухин, раздумывая, ругаться или радоваться тому, что Селиверстов ждал его в Нижнем, а не у моря. Жаль было железный якорь, смоленый пеньковый трос остался только тот, что дали на Яне промышленные люди.
После гибели Зыряна в Нижнеколымском острожке сидел на приказе Втор Гаврилов, избранный служилыми людьми. Из прежних оймяконских спутников Стадухина при нем служили Сергейка Артемьев и зыряновский казак Семейка Мотора. Вести посыпались на прибывших одна хуже другой. В сравнении с ними отобранный якорь и варовые ноги казались пустяком. Федька Катаев с мукой и товарами ушел на Анюй для торга и мены с инородцами. Колыма опустела: девяносто торговых, промышленных и гулящих людей ушли на Погычу с целовальником Поповым и казаком Дежневым.
— Кто отпустил? — закричал Стадухин, срывая с головы шапку.
— Я! — невозмутимо отвечал Втор.
— Да кто ты такой, чтобы отпускать людей прибирать царю новые земли? — казак в бешенстве стал бить шапкой по колену. Его товарищи с окаменевшими лицами рассаживались по лавкам, напряженно молчали, наблюдая перепалку.
Опомнившись, Стадухин до бровей насадил шапку на разлохматившуюся голову. Гоняя желваки по скулам, вынул из кожаного чехла наказную память воеводы, подал Втору. Тот почитал, шевеля губами и удивленно вскидывая брови, пожал широкими плечами, с упорной невозмутимостью ответил:
— Кабы успел прийти до выхода тех шести кочей, шел бы вместо Семейки и указывал. Раз не было ни тебя, ни Зыряна, — махнул рукой, крестя грудь, — наказную дал я, потому что принужден начальствовать над Колымой.
— Отначальствовал! — вскрикнул Стадухин. — Придет Васька Власьев, заменит!
— Вот уж не буду просить остаться. Было бы кому сдать — нынче уплыл бы на Лену.
При угрюмом молчании товарищей Стадухин попрепирался со Втором и вышел. Его люди молча двинулись следом к старенькому кочу.
— Ничего не поделаешь! — громогласно успокаивал их Юша Селиверстов.
— Да и что нам те семь кочей? Придем позже, но с воеводской наказной грамотой и подомнем всех под себя.
— Мне позже нельзя! — признался Стадухин, устало переводя дух. — Мне надо быть первым!
— Это уж как Бог дает! — громче прежнего стал разглагольствовать Юшка, озирая притихших беглых казаков. — Нет худа без добра! Догоним Федьку, заберем хлеб, — почесал затылок. — Вот только близко ли он? Этим летом на Погычу не успеть.
— Отчего ты сказал семь кочей? — запоздало спохватился Стадухин. — Вторка говорил — шесть.
— Так седьмой самовольно ушел, — хохотнул Селиверстов, радуясь, что говорит новость. — Герасима Анкудинова, беглого с Яны, знаешь?
— Как не знать? За него принял гнев от воеводы.
— Силой захватил торговый коч, пограбил острог и со всей колымской рваниной ушел следом за шестью.
— Молодец-удалец! — остывая, похвалил Герасима Стадухин. — Нет бы нам пограбить в протоке гусельниковских да плыть дальше…
— Без меня, что ли? — насупился Селиверстов.
— Вот и я говорю, нельзя, — вздохнул Михей. — И без тебя нельзя, и Стахеев — родня. Седьмая вода на киселе, а все ж! — Поднял голову с потускневшими глазами. При хмуром небе усы его были в один цвет с бородой. — Что делаем? Федьку с мукой ищем?
Посоветовавшись, казаки решили спустить коч на воду, идти на Анюй. На Малом, на Большом ли Анюе был Федька или уже подался к Среднеколымскому зимовью, о том Втор Гаврилов не знал.
— Ваську Бугра с Солдатом бросаем? — Михей обвел стылыми глазами смущенные лица спутников и ответил за них: — Терять еще время никак нельзя. Не пропадут с голоду, рыбы много, уток добудут.
— Хлеб-то Васькин съели! — стыдливо пробормотал кто-то из беглых. — А он нас упреждал.
— Тьфу! — выругался молчаливый Евсейка Павлов, вспомнив купца Свешникова. — Погнались за дешевизной! Бес попутал!
— Слишком часто путает! — скаредно просипел Стадухин, поднялся, щуря гневные глаза. — Попаримся в бане, выспимся и пойдем на Анюй!
— Эхма! Не льды, так болотина! — привычно ругали долю путники.
Чавкая промокшими бахилами, тянули коч против неровного течения реки. Тундровый берег менялся крутыми ярами, песчаные отмели — заломами. Одна радость: рыбы, дров и пресной воды было вдоволь, не то что в море. На галечниковых косах разгуливали глухари, вытягивали шеи, разглядывая людей. Легко добывалась водоплавающая и боровая птица, мясной зверь. Не голодали. На Анюе, уже изрядно измотанные бурлацкими постромками, казаки стали думать, стоит ли тащить коч против течения. Река была без обычных извилин и излучин, берега высокие, крутые. Не послать ли ертаулов до первых юкагирских кочевий да выспросить про Федьку?
Август перевалил на другую половину, кончился полярный день, к полуночи наступали сумерки, реку накрывало густым туманом, резко холодало, к утру иней выбеливал густые заросли черной смородины с огромными гроздьями крупной спелой ягоды.
Михей оставил людей возле коча и пошел вверх по Анюю с Казанцем, с пятого на десятое понимавшим юкагиров. Никого не встретив, они шли весь день, переночевали у костра, двинулись дальше и услышали лай собак, что удивило. Юкагирские собаки не лаяли, а выли, как волки. Вскоре они вышли к чуму, крытому берестой. Молодой туповатого вида ходынец с размалеванным красками лицом, разинув рот, пялился на гостей. Казанец словами и знаками стал выспрашивать про русский коч. Ходынец, озадаченно глядя на него, долго мигал пухлыми веками, чмокал раскрытым ртом, сглатывая слюну, и указал рукой вверх по течению. Кое-как от него добились, что туда прошли не струги промышленных людей, а торговый коч. По указу Стадухина писарь стал выспрашивать, бывал ли ходынец в верховьях Анюя и где его исток? Инородец простодушно закивал, удивленно разглядывая пришельцев.
— Спроси про Погычу! — приказал Михей.
Иван Казанец стал расспрашивать, мужик, внимательно слушая, указал в верховья.
— Пахача! — лепетал, чмокая губастым ртом и приговаривая: — Чондон, Нанандар!
Писарь все-таки добился от инородца, что тот сам на Пахаче не был, но слышал о ней.
— Мы тоже слышали! — разочарованно посмеялся Михей и протянул мужику горсть корольков. Стал думать с Казанцем идти ли дальше искать Федьку или ждать. Решили идти.
Бывший казак, нынешний торговый приказчик не заявлялся у Втора промышлять на Анюе, но при нужде мог и зазимовать. Его коч, плывущий по течению, Михей с Иваном увидели на другой день и сочли это за удачу. Федька приветливо встретил бывшего атамана, почитал грамотку Свешникова, поглядел на его кабальную запись, виновато завздыхал, водя по сторонам плутоватыми глазами.
— Нет муки! — развел руками. — Берите другим товаром: неводные полотна, бисер, корольки, колокольчики.
— Да подь ты… со своими колокольчиками! — вспылил Стадухин. — Мы ради хлеба за тобой гонялись!
Зная вздорный характер атамана, Федор ни спорить, ни оправдываться не стал.
— Кабы знал весной, что мука обещана, не мотался бы по рекам, дождался бы вас и уплыл на Лену.
— Так возьми в долг у других торговых и отдай нам. Это справедливо!
— Ага! Под кабалу по восемь рублей за пуд? Дешевле не дадут.
— Дай кабалу! Свешниковскую тебе вернем — продашь если что!
— Он дал на себя, пусть сам расплачивается! — осторожно заспорил приказчик. — Да и нет уже ни у кого излишков на продажу. Федотка Попов с Бессоном Астафьевым весной дорого скупали. Гераська Анкудинов грабил.
Течение реки несло торговый коч к устью, Михей опять думал, что делать? Срок, в который обещал Арине вернуться, вышел. Нутром чувствовал, что теряет жену, а на его неоткрытую землю уже ушли семь кочей.
Ватажка беззаботно коротала время возле причаленного судна. Весть о муке опечалила всех, но люди смирились с очередной неудачей, понимая, что до замороза невозможно найти новую землю и обустроить зимовку, а быть застигнутыми холодами в гиблых местах никому не хотелось.
— Надо искать промыслов! — заговорили без споров.
Бывший казак, чувствуя вину, торопливо закудахтал:
— Зимовье Афони Андреева впусте. Ясачные анюйцы его не сожгли. Просите у Втора промышлять и собирать ясак по Анюю.
Стадухин, вспоминая неудачи и тяготы прошлой зимы, встрепенулся и снова стал распаляться на Гаврилова:
— Захотим, останемся. Вторка нам не указ!
Катаев уплыл к Нижнему острогу, пообещав передать Бугру с Солдатом, где искать спутников, а Втору Гаврилову — что Стадухин будет промышлять на Анюе. Отряд Михея не спешил подниматься по притоку, простоял на таборе день и другой, мирно переговариваясь и решая, как жить зиму. К вечеру к ним сплыл струг торгового человека Анисима Мартемьянова с тремя покрученниками на веслах. Дородный передовщик, кряхтя, выбрался из лодки — борода в пояс, из кольца в кольцо, как бараний лавтак, суконная новгородская шапка, кафтан. Подошел к костру, степенно поклонился сидевшим, расспросив, кто такие и куда держат путь, стал предлагать колокольчики и топоры.
— Муки бы посулил! — загалдели казаки.
— Муки у меня — зиму пережить, и то впроголодь, — признался. — Промышлять придется.
К костру подошел один из его покрученников, присел на корточки.
— Не узнал? — спросил Стадухина, вытягивая к огню ладони.
— Ивашка Баранов, что ли? — вскинул глаза Михей. — Переменился в бегах.
— И ты не покрасивел! — буркнул беглый янский казак.
— Что с Гераськой-то не ушел? Опередил он меня, самовольщик!
— Служили с ним при зимовье без жалованья, — не поднимая глаз, приглушенно отвечал Баранов. — Отправили покаянную челобитную. Но Гераська возомнил себя атаманом. — Иван поднял на Стадухина озлобившиеся глаза и мрачно процедил сквозь зубы: — Ненавижу властолюбцев! Спаситель на них проклятье наложил… Нет греха поганей. Человекоубийство отмолить легче, чем соблазн повелевать людьми.
Охочие и беглые казаки смущенно умолкли. Стадухин покряхтел, повертел головой, пытаясь найти поперечные слова.
— Узнаю по речам Пашку Левонтьева. На Индигирке бунтовавших юкагиров бил по головам Книгой. Вразумлял!
Анисим тихо рассмеялся и стал оправдывать покрученника:
— Зол не только в словах, но в бою и в работе! И товарищ верный, спутник надежный. Ходил с Поповым прошлым летом, а нынешним не пошел.
— Я его давно знаю! — отмахнулся Стадухин и спросил Баранова: — Говорят, вас море не пустило прошлым летом, а нынешним что с Поповым не пошел?
— Сон был! — уклончиво ответил беглый янский казак. — Мать-покойница упредила не ходить. — В его взгляде мелькнуло что-то темное, непрощеное.
— Мать надо слушать! — согласился Стадухин и перестал расспрашивать.
— Ты на Колыме казак известный! — плутовато щурясь, польстил ему Анисим. — С тобой можно идти туда, где промышленные люди еще не шалили.
— Можно! — с важностью ответил Стадухин. — На Погычу идем воеводским наказом, да вот беда, хлебный припас издержали. Дал бы нам пудов сто, мы бы тебе потом заплатили лучшими соболями.
— Дал бы! — угодливо кивнул торговый, разглаживая по животу густую бороду. — Да нечего! И на промыслы с вами пошел бы, и на Погычу своим подъемом!
— У меня два коча, — Стадухин окинул торгового светлеющим взглядом, обернулся к спутникам: — Что, братцы, возьмем?
— Со своим хлебом! — откликнулись беглые казаки.
— Мог бы и подъем дать нам в долг! — густым голосом пророкотал Селиверстов, выдвигаясь из-за казачьих спин. — С виду — не беден!
— Не только с хлебом, — не удостоив его взгляда, продолжил Анисим. — Есть догадка, — шмыгнул красным носом и бросил быстрый настороженный взгляд на Баранова, — будто Анадырь и Погыча — одно и то же и берет начало за горами, — указал в сторону хребта в осенней дымке.
— Что за Анадырь? — встрепенулся Стадухин, оглядываясь на Казанца. — Нанандара? Нам про реку говорил ходынец.
— Анадырь-Нанандырь! — кривя губы в бороде, проворчал Баранов. — Из верховий Колымы есть тропы-аргиши на Погычу и Чендон. Посуху идти надо.
— Про Чендон тоже слышали! — Напомнил про встречу с ходынцем Казанец и переглянулся со Стадухиным.
— Если не строить зимовья, то можно сходить поискать! — рассеянно пожал плечами атаман.
— С Колымы, не с Анюя! — поперечно напомнил Баранов.
— Ходили по осени на Индигирку! — загалдели беглые казаки. — Разбогатели, аж животы к спинам присохли.
Самые беззаботные рассмеялись.
— Осталось-то, по сказкам, всего три дня парусом! — вразумляя их, зарокотал Юша Селиверстов.
Ватага вывела коч в среднее течение Малого Анюя, где прошлой зимой промышлял Афоня Андреев. Зимовье действительно было целым. Кочевавшие здесь роды исправно платили ясак, промысловые угодья между ним и промышленными были поделены. Люди вытянули коч на сухое, протопили отсыревшую избенку и стали готовиться к промыслам. Стадухин с Юшкой Трофимовым и Евсеем Павловым пошел в верховья притока смотреть места и аргиши. Они шли по берегу, пока не увидели полтора десятка юрт. Над ними курились дымы, маня теплом и отдыхом. В стороне на возвышенности стояла крепость, сложенная из бревен и камней. Завидев людей с ружьями, мужики, бабы и дети побежали к ней.
— Кто разрешил? — выругался Стадухин. — Я с Зыряном одну крепость разорил, они другую поставили. Уговаривались, чтобы ясачным жить без укреплений!
Неласково встречали гостей анюйские юкагиры. Едва трое подошли на выстрел, из щелей полетели стрелы с тупыми наконечниками.
— Втроем не взять! — вопрошающе взглянул на казаков Юшка Трофимов.
— И не обойти лиходеев. Там стланик, здесь река, — побурчал Евсей.
Обледеневший мох холодил животы, они лежали и думали, что делать. Стадухин, щурясь, крепкими зубами перемалывал ветку.
— Вернемся! — Сплюнул. — Придем, выбьем и зазимуем в крепостице… Кто зачинщик, против того Бог!
К радости анюйских юкагиров пришельцы повернули назад. Через неделю к селению подошли двадцать человек, вооруженных пищалями, саблями и топорами. Как в прошлый раз, постреляли для острастки и ворвались в крепость. Анюйцы повозмущались, ссылаясь, что давали ясак и аманатов, а крепость построили для защиты от ходынцев, но по требованию атамана вынуждены были ее оставить. Жечь крепостицу Стадухин не стал. Охочие и промышленные из ее бревен за неделю срубили просторную избу с нагородней, баней, обнесли частоколом и поставили рогатки со стороны горного склона. Другого ясака и поклонов с анюйцев они не брали.
8. Где никого допреж
В те дни когда на Яне Михей Стадухин и Василий Власьев еще только говорили беглым казакам государево слово, а потрепанные кочи Федота Попова вернулись из неудачного похода, на Колыме собралось до четырех сотен русских людей, это была сила, способная защитить себя от немирных инородцев. Добрая половина ватаги, ходившей с Поповым и Дежневым к востоку от Колымы, хлебнув лиха в море, думать не хотела о новом походе. Другие были раззадорены неудачей, дескать, гладка дорога только в ад. Отступники не смутили Федота, он знал, что следующим летом наберет людей сколько надо, и после окончания промыслов заложил остов третьего коча. Пригодного для строительства леса было много, судно делали крепким и надежным, чтобы кроме товара и съестного припаса можно было взять на борт до двух десятков человек.
В то время как Михей Стадухин с беглыми казаками плыл к устью Индигирки, отряд Василия Власьева и Кирилла Коткина сухим путем шел к Верхнему колымскому зимовью, суда Федота Попова и Бессона Астафьева по большой, пенящейся водоворотами воде неслись к Нижнеколымскому острогу. Астафьевские промышленные люди возвращались с промыслов тоже на трех кочах.
На приказе сидел казак-первопроходец Втор Гаврилов. Челобитную с просьбой повторно отпустить на Погычу торгово-промысловую ватагу из шести кочей он принял благосклонно, но с усмешкой почесал косматый затылок, когда приказчики попросили отправить с ними государевым служилым того же Семена Дежнева. Еще по весеннему насту Дежнев вернулся с Алазеи с ясаком от тамошних юкагиров и четырьмя десятками своих соболей. Втор Гаврилов посочувствовал невезению товарища, но, как положено, взял с его добычи десятину. С простреленными ногами и рукой, с двумя рубцами на лбу, скрутившими кожу так, что выцветшие в цвет соломы брови задирались шалашиком, придавая лицу то ли удивление, то ли умиление тому, что до сих пор жив, Семен окончательно потерял веру в милость Божью. Еще в октябре, после прошлогоднего плавания, он подал Втору челобитную грамоту с просьбой отпустить на Русь. Приказный отнесся к ней с пониманием, но прошлогодний посул в сорок семь соболей был записан в окладную книгу, а после возвращения из неудавшегося похода взят не был. Приняв челобитную Попова и Астафьева, Втор стал уговаривать Семена еще раз попытать счастье.
— Что с того, что не повезло в прошлом году, нынче с Федоткой и Бессонкой просятся полсотни своеуженников и покрученников. Даст Бог, найдете богатые земли, государю послужите, себе что-то добудете.
Переминаясь с ноги на ногу, прерывисто и сипло набирая грудью воздух, Дежнев взглянул на товарища сквозь нависшие на глаза волосы, рассеянно пожевал и выплюнул рыжеватый ус.
— Я свое выслужил! Вернусь с тем, что Бог дал по грехам моим, построю дом…
— Какой дом? — то улыбаясь, то досадливо хмурясь, заводил беспокойными глазами Втор. — На тебе неправленная кабала за семь лет, а я должен взять прошлогодний посул. Вернешься голодранцем и сразу — на правеж. Забыл, как это там делается? — Втор мотнул косматой бородой на закат.
Дежнев помрачнел, резко вскинул голову, смахивая челку и обнажая отчаявшиеся глаза:
— Побойся Бога, мы ведь с тобой много лет выслужили. Неужели возьмешь с моих крох еще сорок семь соболей?
— Не самому же расплачиваться? Попов с Астафьевым сильно хотят, чтобы с ними шел ты. А то ведь Семейка Мотора просится, обещает в казну сто соболей.
— Припер! — С претерпеваемой болью в лице Дежнев опять шумно вздохнул и согласился: — Дам больше Моторы, но прошлогодний посул — не в счет?
— Зачтется в нынешний! — кивнул Втор. — Даст Бог, вернешься небедным, и я с честью отпущу тебя на Лену. Если, конечно, меня не переменят, — оговорился. — Устал от этой службы, — пробормотал, оправдываясь.
Семен метнул затравленный взгляд на целовальника Третьяка Заборцева, смущенно помалкивавшего при разговоре казаков, снова пожевал ус и пообещал против сотни соболей, явленных Семеном Моторой, — полторы, с тем, чтобы идти к Погыче с усовским приказчиком Поповым и с гусельниковским Астафьевым. На другой день он продал всех своих соболей Федьке Катаеву, а деньги вложил в поход. Отступать было некуда. Семен Мотора, узнав, что Дежнев обещал против его посула полторы сотни, нахлобучил шапку и хлопнул дверью съезжей избы. Но в тот же день ко Втору прибежал Герасим Анкудинов и предложил отправить его вместо Дежнева, пообещав казне двести соболей. Услышав об этом, Семейка Дежнев побагровел от негодования и стал ругать Втора, что принуждает к посулу, который невозможно выполнить.
— Или забыл, как Гераська Анкудинов с Ивашкой Барановым грабили торговых людей? — напомнил приказному.
Втор, виновато посмеиваясь и почесывая пятерней бороду, сослался на то, что не может не принять челобитную на царское имя и радеет за государеву выгоду. Колымский целовальник Третьяк Заборцев опять отмолчался. Страсти разгорались. Кабальный должник Дежнева Герасим Анкудинов, почуяв заминку, предложил Втору отпустить его за двести сорок соболей. Потом набавил еще сорок. Покладистый Семен Дежнев разъярился, брови его распрямились, шрамы на лбу побагровели, он стал лаять приказного: тот не мог не понимать, что собрать столько соболей невозможно даже в самом богатом краю.
— Ты же знаешь, что государь не получит с Гераськи ни хвоста! Зачем потакаешь? — кричал. — Он и тысячу пообещает, что ему? По прошлогодней кабале не может со мной расплатиться: всего-то двенадцать рублей десять алтын с полуполтиной. Тебе бы как приказному поставить его на правеж, а не принимать несбыточные посулы.
Намеки на попустительство по службе не смутили Втора, он только приговаривал, что радеет за государеву прибыль, хотя глаза его блуждали и беспокойно прыгали по рубленым стенам. Пригрозив ему жалобой, Дежнев выскочил из съезжей избы, заплатил писарю, и тот написал с его слов от его имени жалобную челобитную царю. Жаловался казак на Герасима Анкудинова, обвинив его не только в старых и нынешних грехах, но и в своих догадках. Втора Гаврилова с Третьяком Заборцевым он не упоминал, но из челобитной было ясно, что приказный и целовальник потакают беглому янскому казаку. С пламеневшим лицом при свидетелях Дежнев подал челобитную колымскому приказному. Тот почитал, покряхтывая и досадливо качая головой, укоризненно взглянул на старого товарища, постыдил за смутные догадки, будто Герасим набрал три десятка самых беспутных людей, грозит торговых и промышленных бить, грабить, идти на Погычу самовольно, а там бить и грабить иноземцев, с которых Дежнев собирается взять прибыль; будто торговые и промышленные Гераську с его людьми боятся и оттого идти с ним, с Семеном, на Погычу не хотят.
— Кто же тебе поверит, что шесть десятков хорошо вооруженных людей боятся трех десятков босяков? — Втор вскинул обиженные глаза и жалостливо посоветовал: — Может, перепишешь?
За написание челобитной было заплачено по ленским ценам — рубль. Так просто выбросить на ветер еще один Дежнев не желал.
— Отправляй, как есть! — уперся, бодливо глядя на приказного сквозь челку.
— Тебе ответ держать, — вздохнул Втор и подписал челобитную.
Дело было сделано. Тяжба между Дежневым и Анкудиновым проходила на слуху колымского сброда и становилась посмешищем. Гераська при Семене ворвался в съезжую избу, молодецки подпер бока кулаками, спросил, сколько соболей он явил по последнему слову, и пообещал к тому посулу на семьдесят больше. Втор Гаврилов положил на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами и объявил:
— Не верю! С караваном пойдет Семейка не за двести восемьдесят, как явил, а за двести восемьдесят пять. У него кое-что есть на черный день, а на тебе неправленая кабала и связчики на подбор: вошь в кармане, блоха на аркане. Что с вас взять?
Торговые люди, снаряжавшие кочи своим подъемом, с облегчением вздохнули и поддержали приказного. Поход намечался отчаянный, без богатой добычи из него лучше бы не возвращаться ни Дежневу, ни Попову, ни Бессону Астафьеву, поскольку они вкладывали в предприятие все, что имели.
Бессон погрузил на свои суда нераспроданный товар. Вместе с медными котлами, топорами, пешнями, колокольчиками, одекуем, пользовавшимися спросом у диких народов он надеялся с выгодой продать за Камнем тринадцать компасов в костяной оправе, бараньи кафтаны, одеяла, варежки, чарки, рыболовные снасти, рубахи ярославские, красные кожи, медные пуговицы, холст, восковые свечи, перец, неводное прядево, шесть гладких пищалей, три винтовые, порох. Двести пудов муки брали на себя его покрученники и своеуженники. Все это по таможенной оценке стоило тысячу семьдесят три рубля. Целовальником от торговых и промышленных людей снова выбрали Федота Попова. Один из бессоновских кочей брался вести бывалый мореход и передовщик Афанасий Андреев, другой — сам Бессон, третий был доверен казаку Семену Дежневу.
Но распря между колымскими служилыми людьми на том не закончилась. Анкудиновский промышленный Пятко Неронов за двенадцать дней до похода подал Втору жалобную челобитную, что Семейка Дежнев бранил его нептребной бранью, Сидор Емельянов и Иван Зырянин жаловались, что Дежнев грозился их побить. Все они просили царского суда и старались задержать казака на Колыме. Семен же перед выходом подал исковую челобитную на целовальника Третьяка Заборцева, в которой требовал уплаты за семьдесят соболей. К отплытию были готовы шесть судов с грузом и с шестью десятками мореходов. Но желавших идти на Погычу было больше. Герасим Анкудинов, грозя Семену Дежневу, метался по низовьям Колымы, прельщая торговых людей снарядить его в поход.
20 июня на Мефодия-перепелятника, шесть судов при обычных торжествах и напутствиях пошли от Нижнего острожка правой протокой. Вблизи моря караван догнал большой коч, народу на нем было вдвое, против разумного. Он пристал к борту бессоновского судна, которое вел Семен Дежнев, на корму перескочил Герасим Анкудинов, объявил, что идет на Погычу своим подъемом, а представить государеву служилому наказную память или отпускную грамоту отказался: я, дескать, и сам служилый. Коч у Герасима был добрый и крепкий, явно принадлежащий торговым людям. Как он оказался у него, Анкудинов говорить не желал, на расспросы зловеще посмеивался. На его судне теснилось три десятка самых неудачливых колымских беглецов, крикунов и пропойц.
— Что с ними делать? — растерянно развел руками Дежнев, спрашивая совета у целовальника.
— Что поделаешь? — нахмурился Федот и глубже натянул шапку. — Не пустить следом не можем… Пусть идут куда хотят, за то им самим ответ держать: мы их к себе не принимали.
Наконец задул попутный ветер, между коренным берегом и льдами появилась широкая полынья.
— С Богом, что ли? — Волнуясь, Федот Попов взглянул на старого промышленного Пантелея Пенду. Тот огляделся по сторонам, скинул шапку, обнажив бронзовое лицо в сугробе седых волос, и согласился, что день для выхода благоприятный. Герасим Анкудинов со своими удальцами стоял в стороне и предусмотрительно не выходил в неведомое первым.
На шести кочах были подняты железные и каменные якоря. Скинув шапки, мореходы запели молитвы, обычно читаемые перед выходом. Суда покачивали мачтами, течение реки и отлив несли их к морю. Ватага Герасима Анкудинова тоже выбрала якорь, сбилась в кучу, луженые глотки беглецов заголосили, прося заступничества и доброго пути у Николы Чудотворца. Федот нахлобучил шапку, махнул рукой Пантелею Пенде, чтобы старый мореход шел первым. Ертаульный коч выгреб на ветер, белая борода Пантелея затрепалась на пол-аршина впереди лица. Его люди потянули фалы-дроги, над судном поднялся и вздулся смазанный жиром кожаный парус. Чуть зарываясь в волну тупым носом, обвязанным пучками прутьев, первый коч двинулся к восходу, за ним потянулись поповские суда, следом пристроились бессоновские. Герасим Анкудинов скромно пошел в конце каравана и вскоре вызвал одобрение опытных мореходов: его судно, приспустив парус, легко перекатывалось с волны на волну и не отставало. Вдали, по правому борту, среди черных туч розовели тесные просветы. По жавшемуся к воде небу неслись сырые облака, оседали влагой на одеждах и парусах. Ветер был свежим с коварными порывами и завихрениями, срывавшими брызги с волн.
— Не нравится он мне! — Федот с беспокойством оглянулся на судно, которое вел племянник Емеля. Сказать вслух, что такой ветер зачастую переходит в бурю, опасался и с надеждой посматривал на корму впереди идущего ертаульного коча, то опускавшуюся, то задиравшуюся на пологих волнах. Трепавшаяся на ветру борода Пантелея Пенды стала мешать старому мореходу, и он затолкал ее за пазуху.
Промышленные люди сидели вдоль бортов, опасливо поглядывали на отдалявшийся берег, для укрепления духа читали молитвы. В большинстве они выбирались на Колыму морем, но управлять судами могли немногие. Вскоре раздался утробный вопль: Емелькина якутка исторгла из себя съеденное утром. Следом, сплевывая тягучие слюни, свесилась за борт юкагирка Афанасия Андреева. Прожиточные своеуженники взяли в поход женщин, на что в старые времена среди промышленных людей был запрет. Их стало выворачивать первыми. Шутили над женками недолго. Лица одних промышленных были свежи, у других напряглись и посерели. Приглушенные, стыдливые звуки рвоты стали раздаваться с других судов.
А ветер усиливался, круче и выше поднимались волны, пенились белыми гребнями. Кочи стало разносить, но все они были видны друг другу. Герасим Анкудинов, восхищая опытных мореходов, не только держался на плаву, но с удальством болтался неподалеку от Дежнева и покрикивал, мстительно подначивая казака. Вскоре пропали даже розовые блики среди туч, без видимого солнца караван шел к восходу дольше двух суток. Наконец на тундровом берегу показался крест. Промышленные, ходившие в эти места с Мезенцем и Пустозером, радостно закричали, указывая вход в залив, где можно спрятаться от бури, которой все ждали и опасались. С востока проход в него был укрыт скалами, по правому борту суда защищал от ветра низкий и плоский остров. Они обошли его и оказались в просторном заливе с полоской битого льда на воде. На песчаной косе лежали обкатанные прибоем стволы деревьев. Удивленные появлением судов, низко над мачтами носились многочисленные утиные стаи, занудно кричали бакланы.
— Губа! — Федот Попов указал спутникам на плавник. — Где-то река с лесом, а значит — с соболями, — смутно намекнул на возможное окончание морского похода и добавил тверже: — Надо освежить запас воды.
— Слава Богу! — с облегчением воскликнул Дежнев, скинул шапку и перекрестился на восход. Его судно шло под веслами рядом с поповским кочем. — Тут нам буря не страшна!
— Здесь у нас была мена! — торопливо рассказывал пустозерский промышленный. — На острове много костей: оленьи рога и бычьи головы, — он осмотрелся по сторонам, желая с чем-нибудь сравнить, и указал на бочку с водой: — Такие и поболе! Из земли торчит шерсть неведомых зверей, под толстой кожей старое дохлое мясо: с голодухи съешь — помрешь!
Семь кочей протиснулись сквозь битый лед и неспешно вошли вглубь губы. Оголодавшие анкудиновские беглецы бросили якорь и стали ловить рыбу. Гусельниковские суда остановились неподалеку от них. Федот Попов повел свой коч дальше. Емеля и Пантелей пошли за ним. В поисках устья реки они осматривали мелководные заливы и потратили много времени. Бессоновские суда и анкудиновсие беглецы нагнали их через сутки в виду отмелей густо заросших тальником. Сначала показалось селение с кожаными лодками на песчаном берегу, с полуземлянками из плавника и костей, затем открылось устье реки, загороженное двумя песчаными косами. С отчаянными криками с озер налетели чайки, из воды высовывались черные и глазастые нерпичьи головы.
Было тепло, сеял мелкий дождь. Река впадала в губу многими заболоченными рукавами. Устье густо заросло ивняком. Легкие лодки с судов Попова поднялись до пресной воды и наполнили березовые бочки. В то же время промышленные люди Бессона Астафьева с казаком Дежневым высадились на сушу, чтобы осмотреть селение. Едва они подошли к нему, из-за землянок полетели камни и стрелы. Промышленные отступили, для острастки дали залп. Порезать кожаные лодки здешних жителей Семейка не дал. Под насмешки Анкудинова его люди вернулись ни с чем.
— А дозволь нам сходить на погром! — молодецки подбоченясь, крикнул Герасим и широким жестом указал на своих голодранцев, ловивших рыбу.
Их коч был обвешан распластанной юколой из жирных гольцов. Но Дежнев, не удостоив беспокойного соперника взглядом, приказал дожидаться возвращения судов целовальника.
Река оказалась явно не той, какую искал Федот Попов. Заправившись питьевой водой, он вернулся к кочам каравана. К тому времени кожаные лодки жителей исчезли. Дежнев снова послал на берег отряд промышленных, чтобы взять аманатов. Вместе с ними пошли на погром анкудиновские беглецы. Но землянки с кровлей, обтянутой толстыми кожаными ремнями, были покинуты. Из зарослей ивняка то и дело выскакивали толпы мужиков, похожих на чукчей с Чукочьей реки, в сторону охочих людей летели камни и тяжелые стрелы с костяными наконечниками.
— Недружелюбно встречают! — с удрученным видом развел руками Дежнев и велел возвращаться. Идти на приступы и аманатить ему явно не хотелось.
Анкудинов со своими беглецами обшарил землянки и вынес несколько мешков вяленой рыбы.
— Давай, веди нас! — корил Дежнева. — Ты государев человек, не я!
Его люди, понуждая других промышленных следовать за ними, несколько раз высаживались на берег, пытались преследовать здешних мужиков, но те растекались по зарослям ивняка и тундре, преднамеренно завлекая в сырые болота. Дежнев посмурнел, раздосадованным голосом стал пытать промышленных, ходивших сюда с Мезенцем и Пустозером:
— Однако вы были здесь не с мирной меной?
Те уверяли, что в прежнем походе не пытались аманатить и почти, не грабили.
К этому времени установилась благоприятная погода. Рассеялись тучи, небо стало прозрачно-голубым, по вершинам далекого хребта катилось ясное солнце, ветра не было, не было даже легкого движения воздуха. Пока охочие двух ватаг и приставшие к ним беглецы думали, как подвести под государя здешний народец, на небе показалась тучка, все замерло: умолкли крикливые гагары и чайки, рыба перестала плавиться и пускать круги по воде, стало тяжело дышать. Задуло с полудня, со стороны гор, да так резко, что люди на судах вынуждены были схватиться за шапки. Ветер резко усиливался. Кочи поволокли за собой якоря по дну и стали продвигаться к выходу из губы.
Пенда сунул шапку за пазуху вздувшейся камлеи, длинные волосы и борода превратились в треплющийся белый флаг. С дежневского коча сорвало лодку. Она заскакала по воде, едва касаясь гребней кормой и носом. Пантелею с его людьми удалось вытянуть якорь и развернуть коч по ветру. Погоняемый им, он без паруса помчался в открытое море. Другие последовали его примеру и были выброшены из губы ураганом. Тут уже никто не думал, куда и как плыть: все заботы были о том, чтобы удержаться на плаву. Буря отнесла суда ко льдам. Опытные мореходы иногда заходили в них, спасались от волн. Такие заходы требовали большого умения и немалого везения. Пока Пантелей не решался на это, гребцы устало висли на веслах, стараясь не упускать друг друга из вида, держались возле льдин.
Буря, резко начавшаяся при ясном солнце и безоблачном небе, так же неожиданно закончилась. При безветрии еще долго гуляли волны и скрежетали льды. Вдоль берега открылось широкое разводье чистой воды. Отдохнув, мореходы опять налегли на весла, выгребая ближе к суше. Остались за кормой скалистые сопки мыса, мимо которых кочи вынесло из губы. По левым бортам до видимого края расстилалось море с плавающими льдами, по правым, в полутора верстах, сколько хватало глаз виднелась тундра, изрезанная мелкими речками и озерами. Подойти к берегу не позволяла глубина. Задул легкий попутный ветер, потрепанные кочи подняли паруса и продолжили путь на восход. Впереди опять шел поповский коч под началом Пантелея Пенды, борода старого сибирца колыхалась, указывая направление. Замыкал караван Герасим Анкудинов.
— Еще верных трое суток прошли от губы, — с недоумением переговаривались на судах. — Где Погыча?
Всем было ясно, что сутки в море не мера пути: волны, ветер, течения могут как погонять, так и сдерживать, и все же со дня на день ждали увидеть устье реки и конец плавания, но в море падали только ручьи и мелкие речки. Пропадала за кормой равнина, которой, казалось, нет конца, берег стал круче и скалистей.
С моря было замечено селение, неподалеку от него устье небольшой реки. С берега веяло прелью гниющих растений и свежей сыростью пресной воды. Жители толпились возле землянок, настороженно следили за судами. Кочи вошли в залив, встали на якоря, спустили лодки с пустыми бочками и подарками для инородцев. Но едва гребцы приблизились к суше, жители беспричинно напали на них. С кочей стали стрелять, лодки спешно набрали воды в бочки и вернулись.
— Мезенец с Пустозером озлили их всех, что ли? — злей прежнего ругался Федот Попов, рассерженно оглядывая берег. — Отчего никто не хочет торговать?
— Вот и я думаю, неспроста это! — поддакнул Дежнев с кормы своего судна. — Третье селение проходим — везде одно и то же.
Рыба в море не ловилась, вдали от судов удивленно фыркали нерпы. Промышленные стреляли по ним, пуская по воде веретена порохового дыма, который расправлялся в редкие облака и полз по ветру. Все видели, что явно ранили морских зверей, но добыть их не могли. Анкудиновские беглецы опять голодали. По христианскому милосердию поповским и астафьевским людям пришлось делиться хлебом. Кочи подошли еще к одному селению с землянками из камней и костей, у воды лежали большие байдары. На приглашение торговать и эти жители стали пускать стрелы, метать камни из пращей. Взять у них аманатов или ясырей не удалось.
— На кой они нам? — вразумлял попутчиков Пантелей Пенда. — Надо идти, пока Бог дает попутный ветер. Не упомню такого везения, как нынешнее. Не упустим его — дойдем до Погычи!
Дежнев охотно соглашался, что задерживаться из-за пустячного торга и ясака не стоит. Анкудинов зловредно корил всех, что не радеют государю, не подводят под высокую руку здешние народы, но вынужден был идти за шестью кочами. И снова они шли в виду берега, пока не открылся другой залив, перегороженный торчавшими из воды камнями. Место походило на губу, образованную устьем большой реки. Она расширялась, имела несколько глубоких заливов. Здесь тоже были селения. Кочи с трудом отыскали устье небольшой каменистой речки без признаков леса. Она не могла быть Погычей. Это так расстроило мореходов, что лежбище моржей и заморная кость, найденная при отливе, не сильно обрадовали, Пантелея Пенду они и вовсе рассердили. Его внимательные, глубокие глаза нетерпеливо заметались по скалистым берегам, по морю и небу с золотой паутиной солнечных лучей.
— Надо спешить! — поторапливал он. — Здесь явно нет соболя. А ветер попутный! — Глаза его горели, пальцы рук судорожно сжимались в кулаки.
Федот понимал причину беспокойства старого промышленного. О том, что до ледостава уже вряд ли удастся вернуться на Колыму, догадывались многие, но вслух не говорили. «Соберем кость на обратном пути!» — решили передовщики и согласились, что иного пути, как на восход, у них нет.
Суда вышли из залива при низком солнце, тусклой медью мерцавшем сквозь тучи, снова подняли паруса. Вершины Великого Камня, маячившего за тундрой, здесь подступали к самой воде, волны бились о черные неприветливые скалы, крутые и отвесные. Между тем пропали отблески солнца, потемнело сырое, серое небо и легло на воду, на мотавшиеся мачты. Попутный ветер усилился, поднимая крутую волну, и началась буря. Шторм не унимался трое суток.
Изнемогая от усталости, Федот передал руль своеуженнику Осташке Кудрину и прилег. Спал он глубоко и не сразу очнулся, когда почувствовал, что его трясут за плечо. Открыл глаза, увидел в сумерках склонившегося над ним спутника с мокрой, выбеленной солью бородой.
— Необходимый Камень то ли кончился, то ли повернул к полудню. Нас уносит на восход, к островам.
Федот поднялся, схватившись за растяжки мачты, стал смотреть за корму — черные скалы удалялись. Коч Герасима Анкудинова болтался в полете стрелы, зарываясь носом в волны. Время от времени они захлестывали его борта. Шапками и кружками беглые мореходы отчерпывали воду. Сам Герасим неутомимо маячил на корме. Другие суда разбросало по сторонам, но все они были видны. Федот достал из сундука маточку-компас, посмотрел на заплясавший наплав. Суда несло на юго-восток. Герасим помахал ему рукой, указывая на острова. Целовальник отодвинул плечом Осташку, встал к рулю, приказал измотанным пугливо озиравшимся людям поднять парус. Гребцы перестали грести против ветра, отдаваясь волнам. Иные пытались и не могли отодрать от весел скрюченные пальцы. Кочи Попова и Емели с приспущенными парусами пошли к островам, Дежнев и Анкудинов последовали за ними. В отдалении вели свои суда Бессон Астафьев и Афанасий Андреев, с полуночной стороны приближался коч Пантелея. Был август, круглосуточный день менялся ночными сумерками. При неясной видимости суда вошли в укрытую от волн бухту, борт к борту встали на якоря. Гребцы попадали возле своих мест, не имея сил сушиться.
— Караул по часу, — присел на корме Федот. — Я первый! Все отсырело, надо бы фитили просушить, да дров нет. — Подумав, он решил не мучить людей, не отправлять на берег за плавником. — Суши фитили и подсыпку за пазухой! Отдыхать всем!
На его судне были две фузеи с кремневыми замками. Он поставил их рядом с собой, проверил кремешки, подсыпал сухого пороху на запалы. До берега было саженей двадцать, глубина позволяла не опасаться отлива, но принуждала следить за якорным тросом. Перебарывая усталость, Федот разглядывал угрюмые безлесые скалы. Суша походила на остров, хотя могла быть продолжением Камня, возле которого так долго и трудно шли на восток. Льдин на воде не было, но много их лежало на суше: принесенные ветрами, выброшенные прибоем, одни чернели обкатанными боками, другие поблескивали сколами. Федот то и дело ронял голову на грудь, перед взором пролетала какая-нибудь нелепица, из чего он понимал, что недолго спал, заставлял себя встать, ходил по борту, перешагивал на другие суда, осматривая их. Укрывшись парусами, одеждой, одеялами, повсюду корчились люди: храпели, сипели, кашляли, стонали. Пару раз перевернув склянку песочных часов, Федот разбудил Семена Дежнева и с наслаждением укутался в сырое одеяло. Пока он стоял на часах, рубаха и кафтан подсохли на теле, вскоре потеплело и стало греть одеяло. Федот вытянул ноги и провалился в глубокий сон. Проснулся он от того, что его опять трясли за плечо. На карауле стоял бессоновский своеуженник Елфим Меркурьев. Спросонья, он показался Федоту веселым и удивленным: смотрел куда-то за борт, указывая одной рукой, другой толкал целовальника.
Попов поднялся щурясь. Рассвело. Из-за низких туч не понять было, какое время суток. На берегу толпились полтора десятка людей в одежде из кож и птичьих перьев. Их лица были покрыты узором татуированных родовых знаков, как у тунгусов, а из губ ниже уголков рта торчали клыки. Федот крякнул от удивления, протер глаза. Береговые люди не показывали признаков враждебности. Судя по всему, они приплыли на кожаной лодке, которая вверх дном сушилась на камнях. Попов, с укором взглянув на Елфима, перекрестился.
— Могли перерезать! — шепеляво пробормотал, мысленно вспоминая сказы бывалых сибиряков времен своей юности про людей безголовых, одноногих и одноруких, со ртом меж лопаток.
— Руками машут, торговать зовут! — смешливо взглянул на него Елфим.
— Буди Семейку! — приказал целовальник, стряхивая с глаз остатки сна.
Любопытство оказалось сильней усталости. Один за другим поднимались промышленные и беглецы Герасима, продирали глаза, таращились на инородцев, а те миролюбиво махали руками и показывали причудливые раковины.
— Спусти-ка нашу лодку, — приказал Федот племяннику, — возьми бисера, корольков да посмотри их товар. — Обернувшись к Дежневу, который, задрав нос, сквозь нависшие волосы таращился на диковинных людей, спросил с усмешкой: — Аманатов брать будешь?
Семейка потеребил бороду, не находя прямого ответа, глаза его растерянно потускнели.
— Так ведь не знаем, что у них, сколько и чьи, — пробормотал, неуверенно ежась и оправдываясь.
Сквернить первую встречу с неведомым народом ему явно не хотелось. На пару с Елфимом Меркурьевым в лодку сел бессоновский промышленный Фома Семенов.
— Буду глядеть на вас с коча! — напутствовал их Семен Дежнев, — если что, пальну картечью.
В другой лодке с разинутым до ушей ртом плыл племянник Попова Емелька Степанов. С судов за ними наблюдали с ружьями при тлевших фитилях. Это ничуть не смущало зубатых людей: похоже, они не знали огненного боя. Емелю с покрученником и Елфима с Фомой тесно обступили, едва они вышли на сушу, и восторженно завыли, увидев бисер и стеклянные бусы, стали совать свой товар: раковины, шкуры птиц, стрелы, наконец, догадались предложить несколько моржовых клыков средней и малой величины. Мена стала налаживаться. Посланные вскоре вернулись, а зубатые все не расходились, восхищенно разглядывая бисер и корольки.
— Зубы у них ненастоящие! — поднимаясь на борт, пояснил любопытным Емеля. — Дыры в губах, в них вставлены кости… Показали нам, что вокруг вода. Значит, мы на острове.
— А товар бросовый. Кроме моржовой кости, брать нечего.
Инородцы, поняв, что торг закончен, сели в лодку и стали выгребать из залива, бесстрашно болтаясь на волнах.
— Вдруг рыбий зуб привезут на мену, — разглядывал полученные клыки Елфим. — Маловаты. А меньше брать не велено. Я им показывал, что большие нужны, похоже, поняли. Бисер-то охотно берут.
Фома Семенов, поглядывая на Емелю, прыскал со смеху:
— На Емельку пялились, улыбались душевно, в зятья примеряли. Может, высадим? Приплывем лет через двадцать, а тут все рыжие.
— А что? — с удальством отвечал Степанов. — Высаживайте, если дядька позволит!
— А якутку кому?
— Не пропадет! Женка добрая и не брюхатится.
— Выбираться надо, чтобы не зимовать среди камней! — не принимая веселья, напомнил Федот.
— Куда? — с горькой усмешкой спросил Фома. Улыбка, мерцавшая в уголках его глаз, пропала, они застыли прямо и неподвижно, как у слепого.
За Федота ответил Пантелей:
— Да теперь уже только в одну сторону. Обратный путь заказан: через две недели в устье Колымы встанет лед.
Люди смущенно примолкли, услышав то, что было у всех на уме. Нечаянное веселье стихло. Такого долгого пути к Погыче никто не ждал. Зубатые люди наведывались в залив несколько раз. При высокой волне и сильном ветре, они бесстрашно ходили по морю на больших кожаных лодках. В каждой было по десятку гребцов, слаженно работавших веслами. Бисер и корольки потрясли их красотой, Емеля — своим видом, но больших моржовых клыков они везли мало.
Едва стих ветер и улеглись волны, семь кочей вышли из залива на гребях и направились на закат дня, к темневшей полоске коренной земли. В туманной хмари снова завиднелись вершины гор. Льдин в море было мало. Дождавшись попутного ветра, суда подняли паруса. В сумерках августовской ночи на руле впередиидущего коча стоял сам Федот Попов. Его покрученник, стоявший на носу судна, вдруг завопил. К нему кинулись все, кто бодрствовал. Люди не сразу поняли, что видят, а потому крестились, вглядываясь в неведомое. На воде лежал огромный кит. Он не шевелился и не пыхал воздухом. Впереди него другое чудище шевелило лапами и тянуло тушу в ту же сторону, куда шли кочи. Федот повел судно в обход кита, и его люди увидели, что чудище — это огромная кожаная лодка, в которой сидело больше полусотни человек. Они слаженно гребли веслами и тянули за собой тушу. Ни такой огромной рыбины, ни такой лодки никто из мореходов прежде не видел. В виду догнавших их кочей дикие бросили весла, ощетинились копьями и костяными луками, показывая, что готовы обороняться. Судя по виду оружия, это были чукчи. Несколько стрел воткнулись в борт. Федот велел не отвечать стрельбой и пройти мимо. Суда обошли инородцев с их добычей, те снова налегли на весла, продолжая тянуть тушу к берегу.
Скалы стали приближаться. Кочи правили к тем местам, откуда были унесены к острову. Здесь оказалось много плавучего льда, иные заливы забиты им. У черных скал, покрытых мхом, суда кидало придонными волнами, они то и дело рыскали, не слушаясь руля и весел. Гребцы, выбиваясь из сил, мысленно молились и высматривали расселины, по которым можно выбраться на сушу. Здешний берег круто уходил на юго-запад, а суда сносило ветром прямо на камни. Гребцам приходилось налегать на весла, чтобы не быть выброшенными на них. Своей силой быстрей всех ходил коч Анкудинова. Благодаря многолюдству он вырвался вперед, высматривая место возможной стоянки. Вдруг ладное торговое судно так резко остановилось, что сорвалась с варовых ног и упала к носу мачта, сидевшие за веслами повалились.
— Отпрядыши! — закричал Федот, махая рукой, чтобы другие держались дальше от берега.
Очередная волна сперва отхлынула, обнажив черное днище коча, затем приподняла его над подводным камнем, и бросила к скалам. Судно стало тонуть. Гребцы, кто стоя, кто сидя, изо всех сил налегали на весла, пытаясь выброситься на мель. Следующая волна прошлась по палубе.
— Помогайте, братцы! — закричал Герасим.
Его люди побросали весла, стали отвязывать лодки, но они не могли уместить и четверти ватаги. Между тем шесть кочей сбились в кучу и качались на волнах, отгребая от скал. Семейка Дежнев вертел головой по сторонам и кричал:
— Спасать надо!
Федот обернулся к Пантелею. Тот передал руль кому-то из подручных людей и встал на носу с шестом. К нему под борт подвел судно Афанасий Андреев, с того и другого спустили лодки. Два коча с большими предосторожностями приближались к тонущему судну. Анкудинов резал на нем тросы и кидал в свои лодки, набитые мокрыми, продрогшими людьми. Они подгребли к ближайшим судам Попова и Дежнева, освободились от груза и спасаемых, по одному гребцу в каждой вернулись к полузатопленному кочу, который со скрежетом било о скалы. Федот спустил на воду свои легкие берестянки, они засновали по пологим волнам, вывозя терпящих бедствие. Последним поднялся к нему на борт Герасим Анкудинов. Злой, как бес, отыскал дурным взглядом одного из промокших, стучавших зубами товарищей, резким ударом хлестнул по лицу.
— Я зачем тебя ставил на шест? — заорал, размахивая руками.
Побитый спрятался за спинами столпившихся людей, выискивая защиты от разъяренного атамана.
— Что бросили? — через борт спросил Анкудинова Дежнев.
— Одеяла, одежка, харч, парус… Пока волна не уляжется, как достанешь? Якорь! — отчаянно вскрикнул и хлестнул себя по лбу мокрой ладонью. — Железный, два пуда!
— Якорь бросать нельзя! — согласился Федот.
Два перегруженных людьми коча, его и Дежнева, отгребали от берега к другим качавшимся на волнах. Анкудинов схватил за ворот незадачливого впередсмотрящего с набухавшим синяком под глазом.
— Плыви за якорем! Ишь, успел одеться…
— Один, что ли? — жалобно вскрикнул тот, оглядываясь на товарищей. — Я же мокрый. Околею!
Одному снимать якорь даже Герасиму показалось делом невозможным.
— Со мной пойдешь! — рявкнул и стал спускаться в лодку, привязанную к борту.
Ценный якорь был вывезен. Посиневшие от холода люди втянуты на борт поповского коча, им дали сухую одежду и отдых. Шесть судов с предосторожностями продолжили путь, выискивая место для стоянки. Запас дров кончился, сушиться было нечем. Между тем пришлось идти на гребях вдоль берега еще день и другой, пока караван не вошел в просторный залив. Берега его были низменными, покрытыми тундровым мхом. Укрывшись от ветра и волн, кочи встали на якоря. От бортов к суше засновали лодки с бочками для пресной воды, затем с плавником. На небольших, но многочисленных береговых озерах еще кормились утки. Промышленные набили птицы, наловили рыбы, на судах задымили очаги, люди стали готовить горячую пищу.
Отдохнув, мореходы повели суда вдоль берега в поисках устья большой реки. Просторный залив с редкими вольно плавающими льдинами открылся за мысом, кочи вошли в его спокойные воды. В одной из бухт гребцы заметили много больших байдар и полтора десятка полуземлянок, сложенных из камня, на скале стояла крепость из китовых костей. Против нее кочи остановились. Песок и окатыш были в аршине под плоскими днищами судов. Якорей не бросали, удерживаясь на отмели шестами. Семен Дежнев, вздыхая и почесываясь, нехотя стал готовиться к встрече с инородцами, чтобы говорить им государево слово и требовать ясак.
— Может, для начала поторговать?! — тоскливо взглянул на Федота Попова.
Тот, пожав плечами, ответил:
— По мне, так и вовсе никого ни к чему не принуждай. Захотят, сами попросятся под государеву руку.
Но чукчи, увидев кочи, выскочили из землянок в деревянных и костяных латах с копьями и луками, воинственно закричали, размахивая оружием.
— Ну! Иди давай! — Анкудинов с поповского судна опять подстрекал колеблющегося Дежнева. — Говори государево слово! А мы, если что, — на погром!
— Сперва торг! — твердо объявил Дежнев, тряхнув челкой. — Потом, как Бог даст!
Федот сложил в лодку ходовой товар: бисер, корольки, топоры, железные полицы, которыми якуты и казаки укрепляли щиты. Со своим товаром также собрались плыть своеуженники: Осташка Кудрин и Юшка Никитин. Все вооружились, надели брони и шлемы: вид береговых чукчей не предвещал доброжелательной встречи. Племянника Емелю Попов оставил при своих судах за старшего. Трое с товаром сели в лодки. Двое из них, не замочив ног, высадились на сушу с мешками, один вернулся с пустой лодкой на привязи, затем переправил на берег еще двух своеуженников. С бессоновского коча к тому же месту поплыли для торга Фома Семенов и Елфим Меркурьев. Остальные, с ружьями наизготовку наблюдали за берегом. Над людьми Дежнева тоже курился дымок тлевших фитилей.
Сошедшие на сушу сложили часть товара и отошли к лодкам. Не бросая оружия, к обменному добру подошли два десятка мужиков, загалдели, обнадеживая торгом, но вместо того чтобы положить против понравившихся вещей свои, стали метать в гостей камни, копья и стрелы. С судов загрохотали выстрелы, по воде заклубился пороховой дым. Три десятка анкудиновских беглецов яростно завыли и стали прыгать за борт, в студеную воду. По пояс мокрые, выскочили на сушу, две толпы сшиблись с яростью и лязганьем оружия. Чукчи не выдержали рукопашного удара, побежали к землянкам. Вольница ринулась следом за ними. Дикие укрылись за камнями, стали осыпать нападавших стрелами. Пущенные из тяжелых костяных луков, они пробивали брони. Камни, брошенные пращами, гнули куяки и сбивали людей с ног.
Федот Попов был ранен в первые минуты боя, поскольку оказался впереди всех. Осташка Кудрин подтащил его к лодке, побросал туда же товар и стал торопливо выгребать к кочу, с которого уже не стреляли, но бегали вдоль бортов и тушили стрелы с огнивом. Чукчей отогнали от селения. Одни из охочих людей рубили и резали их лодки, другие обшаривали жилье, хозяева осыпали их градом камней. Долго держать такой удар беглые казаки и промышленные не могли и стали отступать к воде с добычей: одеялами, копьями, с рыбой и мясом. Кроме всего нехитрого добра на погроме были взяты три женщины. Одна отдалась без сопротивления, две другие визжали и вырывались. Кто на лодках, кто по пояс в студеной воде — погромщики кинулись к судам. Семейка Дежнев продолжал стрелять, не подпуская чукчей к воде. К нему присоединились люди Афанасия Андреева и Бессона Астафьева. Как только ходившие на берег поднялись на суда, они стали отгребать от берега.
Погода портилась. Ветер усиливался, но был пособным. На судах подняли паруса и стали уходить на полдень. Увидев отдалявшееся селение, одна из ясырок бросилась в воду. Она не утонула, но погрузилась по грудь и, помогая себе руками, стала выбираться к суше. Другая, глядя на нее, перестала вырываться. Ее держал за руку Фома Семенов, он добыл девку в бою. Третья, приветливо улыбаясь, что-то лопотала. Кочи все дальше и дальше уходили от немирного селения. Федот Попов, превозмогая боль, вспорол ножом кожу на бедре, вынул костяной наконечник. Емелина якутка пережала ему какие-то жилы и остановила кровь. Рану в неудобном месте, как могли, перетянули лоскутами разодранной льняной рубахи. Попов, бледный от потери крови, едва дополз до своего места в жилухе и слег.
За мысом пологий берег опять повернул к закату и стал едва виден в редкой темени подступавшей ночи. Ветер плескал крутыми, невысокими волнами, которые шумно шлепали по бортам. Пантелей попытался поставить коч на якорь. Герасим Анкудинов, сменивший на корме поповского судна Осташку Кудрина, сделал то же самое и выпустил трос на всю длину, но якоря волочились по дну.
— Людей много, выгребем! — бесшабашно крикнул, кося плутоватыми глазами на корму дежневского коча.
Меняя друг друга, гребцы всю ночь удерживали суда в виду темневшей полосы суши. К утру разъяснились невысокие извилистые берега, обсыхающие при отливе отмели. Промокшие и продрогшие люди увидели, что находятся в широком заливе, который мог быть и губой. Еще сутки суда продвигались на веслах, но ничего похожего на устье реки не было. Впереди шел поповский коч с Герасимом Анкудиновым на корме, за ним следовал Семен Дежнев, подобравший половину его людей. Вдали показалась гора с черными скалами, подступавшими к полосе прибоя, за ними тянулась долгая песчаная отмель. Вблизи гребцы увидели с десяток лежавших на ней моржей, еще столько же плескалось в воде.
— Вот ведь соблазн! — крикнул Герасим, указывая на них. — Одного зверя хватит, чтобы насытиться всем. Отощали на рыбе, — потрепал ослабший кушак.
— И то дело! — согласился Емеля, услышав его с другого коча. Он держался ближе всех к берегу, окликнул Юшку Никитина: — Пальни картечью по башке, только наверняка. — Тихо подвел коч к отмели, так, что под днищем зашуршали песок и окатыш. Непуганый морской зверь таращился на него, как на диковину. Юшка с двух саженей выстрелил в клыкастую морду. Дым рассеялся, зверь бился на небольшой глубине. Другие скрылись под водой, лежавшие на песке ползли к морю, помогая себе клыками.
Емелины гребцы шестами и веслами вытолкали коч на безопасную глубину и встали на якорь. Рядом с ними становились другие. Промышленные люди и казаки стали спускать лодки, чтобы набрать берегового плавника. Осташка Кудрин с Юшкой Никитиным, по пояс мокрые, пытались вытянуть на песок тушу моржа. К ним присоединился десяток доброхотов с других судов. Едва ли не с первых шагов отмель потрясла высадившихся на нее людей. Те, что вытягивали на сушу убитого моржа и елозили ногами, вскоре бросили тушу, стали рыться в песке и окатыше. Осташка распрямился, ополоснул находку в воде и поднял над головой.
— Заморная кость! — закричал. — Коричневая, сама дорогая!
Пока он размахивал зубом, показывая его Емеле, другие находили клыки крупней: в четверть пуда и больше.
— Да тут ее столько, что можно загрузить все кочи! — плясали, без вина пьяные. — Даже искать не надо!
Своеуженники, покрученники, беглые казаки высаживались на берег, выкапывали желтые и коричневые клыки. Ласковая волна прилива весело бренчала окатышем. Те люди, что были в мокрой одежде, выстукивая дробь зубами, вскоре бросили увлекательное занятие и стали собирать сухой плавник. В стороне от кошки — заливаемой приливом отмели — развели большие костры, приплясывая, сушились возле огня, пекли мясо убитого моржа, насыщались. Буйное веселье стихало, угасал счастливый день, сквозь поблекшую синеву неба проклюнулись первые робкие звезды. В сумерках даже самые ярые из казаков и промышленных бросили рыться в песке и стали готовиться к ночлегу, понимая, что рыбий зуб, валявшийся под ногами, только тогда станет богатством, когда его доставят хотя бы на Колыму, а путь туда закрыт по меньшей мере до следующего лета.
— Семейка подведет Погычу под государя, — опять стал язвить Анкудинов, — перезимуем и вернемся богатеями…
— Зимовать придется, но не здесь! — угрюмо отозвался Пантелей с кормы своего коча. Он наблюдал веселье со стороны, не принимая участия в добыче клыков.
Обогревшись, мореходы стали таскать и перевозить сухой плавник на суда. Среди обкатанных волнами лесин встречалась древесина невиданных пород. Собранная кость лежала грудами возле гаснущих костров, грузить ее на кочи не спешили. Анкудиновские удальцы с частью промышленных людей решили ночевать на суше, лежали у костров усталые и счастливые. Береговой ветер выстилал пламя по земле, уносил дым в море.
Отбитым у чукчей ясыркам дали волю. Они не ушли к погромленному селению, но умело и с удовольствием пекли мясо на углях, а после того, как съели за один присест по полпуда, повеселели. Одна из них оказалась рабыней и показывала, что довольна пленением, другая, чукчанка Иттень, тоже не рвалась к родне, от которой была увезена не так далеко. Знаками показывала, что у нее есть муж, а детей нет. Обе ясырки легко сошлись с Емелиной якуткой и Афониной юкагиркой.
Наевшись и отдохнув, люди невольно стали думать о будущем. На берестянке на берег выплыл Пантелей Пенда, подошел к огню, окинул взглядом кучу клыков, молча постоял возле бессоновской лодки, груженной отборным рыбьим зубом.
— Караул не выставили?! — укорил, бросив острый взгляд на Герасима.
— Сейчас, кинем жребий! — С грубой беспечностью казак сплюнул на тлевшие угли и приказал беглецам поделить ночь.
— Рыбьим зубом сыт не будешь, — не присаживаясь, проворчал старый промышленный. — Надо искать лес, промышлять соболя.
— Гоняйся за ним, мерзни! — огрызнулся бессоновский Фомка Пермяк. — А тут богатство под ногами.
— Сколько весу в сороке соболей? — спросил вдруг Пантелей.
— Кто их взвешивал, сорока-то? — Фома вскинул на него удивленные глаза.
— А пуд кости почем? — кивнул в сторону груженой лодки.
— Мы свою продали на Колыме по двенадцать рублей! — настороженно ответил кто-то из промышленных, ходивших с Пустозером и Мезенцем.
— Пуд рухляди дороже, чем полсотни пудов этой самой кости! — Пантелей едко усмехнулся в седую бороду. — В бурю, бывает, муку за борт мечут, чтобы удержаться на плаву, — намекнул, что морской поход не закончен. — Не добудем соболей — на обратном пути кость заберем. Зачем сейчас грузиться, не пойму?
— А как придем в Китай или Индию да поменяем на серебро и золото?! — с вызовом ответил Бессон Астафьев.
— Вернетесь и нагрузитесь, если будет нужда! — скаредно пробурчал старый промышленный, отошел в сторону, зацепил бечевой до звона высохшее обкатанное прибоем бревно, столкнул его на воду, сел в лодку и потянул к своему кочу, качавшемуся на ночной волне вблизи берега.
Поповские покрученники и принятые на их суда анкудиновские беглецы загалдели, они тоже хотели перевезти добытые кости на суда, но им благоразумно воспротивился Емеля Степанов, ссылаясь на дядьку и Пенду:
— Без того еле выгребали! Кто знает, что впереди?
Семен Дежнев, понимая, что Бессон Астафьев уже решил загрузиться, стал возражать и жаловаться:
— Я половину анкудиновских утопленников принял, по самые края бортов в воде. Малыми волнами, и то захлестывает…
По наказной памяти Втора Гаврилова властью были наделены он и тяжело раненый целовальник. Все вдруг вспомнили, что этот покладистый казак и есть начальствующий.
— Пусть чукчей под государя подводит! — в очередной раз съязвил Герасим, но его никто не поддержал ни смешком, ни взглядом.
Емеля по своему обычаю прихорашивался перед новыми девками и смешил их, не желая вникать в споры. Своеуженников сердили его пустопорожние разговоры, они ждали мудрого слова, поскольку наказная память Втора была у раненого Федота, а вместо себя он оставил племянника. Раз и другой спросили Емелю, что делать?
— Обратно нынче не пойдем, — не отрывая одурманенных глаз от девок, отмахнулся он и подмигнул хохотавшей якутке. — Летом, когда льды разнесет, кость заберем!
Бессон нахмурился, засопел с недовольным видом. Емелю настойчивей поддержал Семен Дежнев.
— Здесь заморная кость никому не нужна, раз валяется, что камни. Ну и пусть лежит. — Помолчав, со смешком добавил: — Если по двенадцать рублей за пуд, это мне сколько надо, чтобы один только посул отдать… Двадцать пять? Я читать-писать не умею, а считать-то куда как горазд!
— Каких двадцать пять? — возмущенно вскрикнул Бессон. — Меньше!
Дежнев, озадаченно шевеля губами, позагибал пальцы, смущенно рассмеялся:
— Все равно много!
— Мы тебя одежкой и товаром догрузим! — хмуро буркнул Бессон Астафьев, показывая, что коч, которым управлял Дежнев, принадлежит ему.
— Если себе и Афоне положу пудиков по пятьдесят — оно и лучше: не будем парусить. Прошлой ночью еле отгребли от скал.
Елфим Меркурьев, подбросив дров в костер, смахнул рукавом выступавшие от дыма слезы, хлюпнул носом и тихо изрек:
— Обогатится не тот, кто больше добудет, а тот, кому даст Бог вернуться первым и сказать про эту кошку.
Семен, почувствовав поддержку, встрепенулся, по его обветренному лицу разбежались смешливые морщины. В свете костра они казались глубже и резче.
— И воевода наградит, и царь милостью не оставит! Но хорошо бы и на Колыму вернуться не с пустым брюхом. Вам что? А я пошел почти с трехсот соболей.
— Нам что?! — качая головой, с горечью в голосе передразнил его Бессон Астафьев, но не стал делиться заботами.
Ночью его люди возили на суда отборную кость. Утром стало видно, что загрузили они не по пятьдесят пудов: кочи заметно просели. Днем бессоновские покрученники перенесли к Дежневу легкие, но объемные мешки с товарами, одеждой и снова принялись рыться в песке и окатыше. Было бы трудно оторвать их от этого занятия, но неожиданно на стан напали чукчи. С копьем, торчавшим из спины, пал на колени анкудиновский караульный. На отдыхавших у костров людей обрушился град камней. Охочие похватали ружья и куяки. На этот раз в ближний бой чукчи не шли, но издали метко пускали камни и стрелы. Анкудинов с Дежневым и Андреевым собрали стрелков в два отряда, под их прикрытием лодки стали возить на кочи раненых. У кого не было при себе пищалей, кинулись в студеную воду, выбрались на суда и стали стрелять оттуда. Фома Семенов-Пермяк на берегу, забивая в ствол новый заряд картечи, заметил, что ясырка Иттень топчется возле него.
— Беги к своим! — крикнул в запале и махнул рукой в сторону нападавших. — В тебя стрелять не будут!
Чукчанка поняла его, замотала головой, прижалась к спине промышленного. Как с заплечным мешком, он вернулся с ней на бессоновский коч. Последними уходили Дежнев с Анкудиновым. Обстреливаемые суда выбирали якоря, с берега в них летели камни и стрелы.
Семен смахнул кровь со щеки, удивленно хохотнул, воскликнув:
— Легко отделался на этот раз!
Коч с Емелькой на корме поднял парус и развернулся. Зубы сжаты, губы — в нитку, выпиравшие скулы покрыты кучерявой рыжей бородой. Окинув кормщика случайным взглядом, Дежнев не ко времени подумал: «Надо же уродиться таким пугалом!» И в который раз удивился, как Емелю преображает улыбка. На судне Федота Попова громко распоряжался Герасим Анкудинов. Коч схватил ветер и, вздрагивая, зарываясь тупым носом в крутые короткие волны, пошел на восход. Всем было ясно, что устья большой реки в заливе нет. Дежневский коч слегка отстал. Его гребцы налегали на весла и ругались:
— Хоть бы по косточке взять напоказ. Все бросили!
Камни не долетали до них. Вскоре стали падать в воду стрелы. Дежнев обежал борта, сбил тлевшее огниво. Лодок у нападавших не было, они подкрались к стану по суше и кочи не преследовали. Суда выгребли из залива при попутном ветре и снова пошли на юго-запад в виду пологого тундрового берега. На пятый день был праздник Покрова Богородицы. На безоблачном небе ярко светило солнце, осенняя тундра желтела так, будто возвращалось лето.
— Даже не пахнет снегом! — переговаривались гребцы, оглядываясь по сторонам. — А без него Покров не к добру!
— И не к худу! — спорили другие.
Остановиться, устроить дневку и праздновать у общего костра не было возможности из-за сырого заболоченного берега с сильным запахом гниющих трав, подход к нему загораживали вязкие отмели, за мысом он круто поворачивал на закат. Рябила вода, указывая мелководье. В черед читая молитвы кто какие знал, люди вели суда на гребях. Вдруг завиднелся такой же низменный берег с другого борта: караван оказался в очередном заливе. Он сужался, и вскоре в воздухе почувствовался запах реки. По всем приметам где-то неподалеку было устье. Ясырка Фомы стояла на носу коча, глядела вперед, крылья ее приплюснутого носа раздувались.
— Что там? — не отрываясь от весла, спросил промышленный.
Она поняла нового муженька, ответила коротко и приглушенно, но была услышана:
— Нанандара!
— Анадырь?! — удивленно и радостно закричали гребцы.
— Анадырь! — трубно гаркнул Афоня с кормы на ближайшее к нему судно. Оттуда слово полетело по каравану.
— Большая река — это хорошо! — озираясь, пробормотал Дежнев. — Однако отчего на душе так тошно, прости, Господи? Да еще в Покров! — Он взглянул на чистое безоблачное небо, отметил про себя тишину и недвижный воздух, тяжко выдохнул его из груди.
Чукчанка на афонином коче что-то обеспокоенно залопотала, указывая рукой по ходу судна на маленькое черное облачко. Фома не понимал, улыбаясь, глядел на нее и мотал головой с мягкой досадливой улыбкой на лице. Впереди резко сморщилась вода и по ней, выгибаясь, прошло веретено смерча. Чукчанка метнулась к мачте со спущенным парусом, прижалась к ней и обхватила двумя руками. Вздулись кожаные рубахи гребцов, полетели за борт шапки. Дежнев вспомнил, что все это уже было в губе Мезенца и Пустозера: тревожная тишь, солнце и тяжесть в груди. Ветер задул с такой силой, что против него невозможно было протянуть весла. Суда сами по себе развернулись, стали заваливаться на борта. Шедшие первыми — оказались последними. Отставших уносило на восход. Пантелею удалось развернуть коч кормой к ветру. Его гребцы рвали жилы, но не дались подставиться боком к резким вздымавшимся волнам. Другие суда сбило в кучу затем стало разносить. На коче Дежнева с хрустом переломилась мачта и улетела за борт вместе с увязанным парусом. Она сработала как плавучий якорь, и вскоре его судно оказалось отставшим от других уносимых ветром, а чукчанка — под лавкой, крепившей мачту. Коч Бессона Астафьева резко остановился и развернулся боком к ветру, явно сев на мель. Афанасий заставил своих гребцов идти на помощь. Они неуклюже помахали веслами, их коч как слепец ткнулся носом в борт бессоновского и тоже встал.
Ветер сорвал с головы Семена шапку, унес вслед трем быстро удалявшимся судам. «Плохая примета!» — успел подумать он. Людей у него было много. В трудный час это помогло. Они держали весла по двое, с трудом протягивали их над водой. Брызги, сорванные с волн, хлестали ливнем и быстро вымочили всех. Благодаря волочившейся мачте, распластавшемуся по воде парусу и сдвоенной силе гребцов Семену удалось подойти кормой к афониному кочу. С обоих судов швыряли за борт заморные кости, чтобы сорваться с мели. Едва Дежнев причалил, люди стали перегружать ему самый ценный товар. А он закрепил трос на утке, напрягаясь всем телом, держал его конец в руках. Афоня, Бессон, промышленные и анкудиновские беглецы перескакивали с борта на борт с пятипудовыми кожаными мешками на плечах: спасали муку. Другие продолжали метать в воду моржовые клыки. Но добрая варовая пенька — лучший из бывших на судне тросов — недолго удерживала напор ветра. Второпях никто не подумал о волочившемся парусе. Он проплыл под бортом и заломил нос коча на сторону. Очередным порывом ветра трос разорвало. Дежнев шлепнулся задом на лавку, а когда поднялся на четвереньки, два бессоновских коча отдалялись. Виновато глядя на оставшихся и махавших ему людей, Семен показал конец, который все еще держал в руках.
Главный пайщик и гусельниковский приказчик Бессон Астафьев случайно остался на уносимом судне, с ним — с десяток промышленных с других кочей, спешно перегружавших товар и муку. Часть дежневских и анкудиновских гребцов оказались на застрявших судах. Все спуталось. А ветер дул и дул. Ко всем неприятностям быстро темнело. Три коча, уносимые ветром, были уже едва видны. Дежнев передал кормовое весло Бессону Астафьеву, тот, смахивая рукавом со щек слезы и брызги, сам стал управлять гребцами. Больше всего они боялись сесть на мель, отгребая от низменного берега, волочившиеся мачта с парусом сильно тому мешали. По наказу Бессона Дежнев обрезал растяжки и освободился от них.
Под утро ветер ослаб, волны стали положе, уже не слышался плеск береговых накатов. Рассвело. Вокруг судна было одно только море без льдин. Обессилевшие люди покорились судьбе, отдавшись воле волн и ветров: забились кто куда мог, завернулись в одеяла, одежду, уснули на мешках с товаром и мукой.
Федот Попов очнулся от сна и бреда. В жилухе было сыро, на всех нарах спали, укутавшись в одеяла и кафтаны: сипели, храпели, кашляли. Качало. За бортом слышался плеск воды и скрип трущейся обшивки. Федот сполз в узкий проход между нар, на четвереньках выбрался наверх. Небо было низким, пасмурным, в воздухе висела невидимая влага. По одну сторону виделось только море, с другого борта был причален коч, сделанный на Колыме, который вел Емеля. Он и скрипел. Еще раз окинув взглядом свое судно, Федот разглядел на корме равномерно вздымавшийся бугор из шубы и одеяла, под ними был живой человек. Целовальник, перебирая руками лавки и варовые растяжки мачты, заковылял к нему и был услышан. Из-под меха высунулась смятая распластавшаяся по щеке к уху борода Герасима Анкудинова.
— Не помер? — обыденно зевнул он, крестя рот. — Даст Бог, поправишься. А нас носит невесть где.
Федот спросил про бурю, в какую сторону гнала суда. Постанывая, вытянул из-под бети сундук, в котором хранился компас-маточка. Вынул его из кожаного чехла — за слюдой закачался наплав, указывая стороны света.
— Туда грести надо! — указал на юго-запад. — Пусть люди отдохнут — и с Богом!.. Пенда где?
— Хрен кто знает! — шевельнул смятой бородой казак, намереваясь зевнуть, но вместо этого вздохнул. — Как разнесло, так больше не видели. Только с Емелей как-то удержались.
Промышленных и беглых казаков не будили, они проснулись сами, подкрепились юколой и мукой, разведенной в пресной воде, расчалили суда, разобрали весла, неспешно пошли в указанную целовальником сторону. Без особой надежды гладили гребями воду, пока не увидели за бортом траву, потом плывущее дерево, указавшие близость земли. Весла стали подниматься и опускаться быстрей, лица людей повеселели. По молитвам сквозь тучи робко заблестело солнце. Запас пресной воды кончился, расстелили парус и собирали дождевую.
Сначала со стороны заката завиднелись темные пятна, издали похожие на облака, потом они превратились в венчики горных вершин, которые долго не приближались. Герасим, стоявший на руле поповского коча вместо кормщика, правил к ним. Следом вел судно Емеля. Лишь на другой день из морской дали показалась полоска земли. Кочи подошли к крутому скалистому берегу, похожему на мыс, где разбились анкудиновские беглецы. Здесь было много бухт. На корму опять выбрался Федот Попов, тощий, осунувшийся, но уже явно выживший, осмотрелся по сторонам. Легкий ветер шевелил отросшую и побелевшую бороду.
— Где сможем — надо приставать! — приказал и, сочувственно оглядев беглого казака, обвисавшего на руле, сменил его: — Отдохни! Как-нибудь справимся! — Обернулся к другому кочу. Емеля помахал ему рукой.
При устойчивом ветре с севера суда шли вдоль каменистого безлесого берега, пока Федот не высмотрел укрытую бухту с отмелью и грудами выброшенного прибоем плавника. При отливе, который был здесь полноводней, чем в Студеном море, ему удалось провести судно между камней на тихую воду. Под днищем захрустели песок и окатыш, нос коча выполз на сушу и на миг застыл в радостной и опасливой тишине. Емеля тоже провел судно возле мыса и ткнулся в берег неподалеку от дядьки. Покачиваясь на ослабевших ногах, казаки и промышленные сходили на сушу, падали на колени, отбивая обетное число поклонов, хотя никто не знал ни того, где они, ни какие народы живут поблизости. Господь уберег от потопления, и это было чудом.
— Умолила Пречистая Сына за нас, грешных! — Молились со слезами.
Якутка со стонами сползла с опостылевшего судна, легла на песок. Едва оправившись от первой радости, спасшиеся нашли ручей и долго не могли напиться сладкой водой. Отдохнув, развели костры из плавника, пробовали ловить рыбу — не поймали. День прошел в обыденной суете стана, на другой, после молитв и благодарственного молебна, Федот стал говорить покрученникам, своеуженникам и людям Герасима Анкудинова:
— Новый год начался радостью и бедами, все бабье лето проболтались в море, дождями и снегом раны омывали. Теперь распогодилось. Устье Колымы уже льдом забито, а здесь лето.
Его люди молчали, беглые, потупившись, вспоминали свою недолгую радость на кошке, мечты о богатстве и благополучии дальнейшей жизни. Бес, искони ненавидящий всякое счастье, посмеялся над всеми: одни заплатили жизнью за недолгое чувство удачи, другие — ранами и муками.
— Хорошо бы вернуться на Анадырь, там зимовать! — хмуро, без былой удали сказал Герасим и пожал плечами: — Да будет ли попутный ветер? И сколько туда идти? Един Господь знает, где нас носило.
Спасшиеся скромно и уважительно стали советоваться. Федот внимательно слушал их.
— Мне бы ваши заботы! — горько усмехнулся. — Коч потерял. С Пантелеем Демидычем треть товаров, без которых ни на Лену, ни на Русь лучше не возвращаться. Прости, Господи! — перекрестился, глядя на угли костра.
— Я так думаю, — осторожно заговорил Емеля с некрасивым, изможденным лицом, — раз не потопли милостью Божьей, пошлем ертаулов осмотреться, где можно зимовать. Если есть лес и соболь — останемся до весны.
— Неизвестно, как здесь встретят, — поддержал племянника Федот. — Но попробовать надо.
Глаза его запали под лоб и высвечивались оттуда, проникая в самую душу. Он пытливо оглядел подначальных и анкудиновских людей, добавил строже, показывая, что не потерпит споров.
— А зимовать придется! Торговать, менять всем воля, а понуждать к ясаку запрет, — строго взглянул на Герасима.
Тот понял его по-своему, пробормотал, оправдываясь:
— Не бывает так много народу в голодных, безлесых местах, как было на кошке! Чую, случаем ввязались в чью-то войну. Будь у нас острожек — отбились бы.
— Кто не желает мирно зимовать со мной — иди пешком куда знаете! — строже добавил Федот. — Припас рыбы, мяса пополним, мука есть, отъедимся, отдохнем, оглядимся, что за места… Однако, лето да и только, — блеснул запавшими глазами, задирая голову к светлому небу.
В те же дни Бессон Астафьев, потерявший два коча, высмотрел среди камней, защищавших берег от прибоя, проход и решил выброситься на сушу. Но на гребне волны утробно хрястнул остов судна: кто стоял на ногах — повалился, кто лежал — покатился. Другая волна сбросила коч с камня и придвинула к берегу. Двадцать четыре промышленных, беглых, приказчик с казаком, чукчанка и юкагирка выбрались на сушу мокрые, но живые, а брошенное полузатопленное судно билось в полосе прилива, как рыбина на кукане. Спасшиеся, лязгая зубами, собрали сухой плавник, высекли огонь и развели костры.
— Потонет мука, пропадем! — высморкался в руку, смахнул слезы и снова кинулся к судну Бессон. Волны прибоя захлестывали его по пояс. Он добрался до коча, вскарабкался на борт. — Спасай добро, братцы! — слезно крикнул, обернувшись.
Но начинался отлив, волны не могли уже утянуть судно на глубину, метавшегося Бессона не слушали, взоры спасшихся обратились к казаку. Семен, подставляя огню отжатый кафтан, бросил на суденышко мимолетный взгляд и пролепетал посиневшими губами:
— Да ну его!.. Уйдет вода — вытащим воротом!
Бессон, при раздраженном молчании промышленных и казаков вернулся с самым ценным грузом — мешком компасов.
— Нет бы муки прихватить! — проворчал Фома. Слегка обогревшись, в одних ровдужных штанах, ежась и втягивая голову в голые плечи, побрел к судну. За ним потянулись другие.
К счастью, на берегу было много плавника, выброшенного волнами. Жгли его, не заботясь о завтрашнем дне. На раскалившихся камнях пекли лепешки, осматривались. Место походило на слабо защищенный от ветров залив с низменными берегами, на закате виднелись безлесые горы. В поисках питьевой воды ертаулы ушли вглубь и обнаружили устье небольшой реки. Поев горячих лепешек, чукчанка с юкагиркой побрели вдоль мокрой полосы отлива с пенившимся белым валом наката, собирали морскую капусту, рыбешек, черные раковины моллюсков, морских ежей и крабов. Вернувшись, посекли ежей, высасывая икру, напекли, натолкли своей еды, стали потчевать мужчин. Пренебрегая насмешками товарищей, Фома с Елфимом благодарно приняли ее от женщин. Пожевав одно, другое, Пермяк важно изогнул бровь, подул на горячую раковину, перебрасывая ее с руки на руку, попробовал, облизнулся, заел морской капустой:
— А что? Лучше, чем голяшки от сапог!
При полном отливе коч оказался на мели. Бессон обошел его и с печальными вздохами смахнул слезы. Дежнев крякнул и принужденно хохотнул.
— Вдруг наладим? — указал глазами на пробоину в четверть днища.
Вид полузатопленного судна не обнадежил. Бессон с Фомой осмотрели его изнутри.
— Становой брус переломлен, кокоулины!.. — опять безнадежно всхлипнул приказчик, окинул взглядом безлесый берег и остатки плавника. — Не наладить!
Семен Дежнев, почувствовав его отчаянье, беспечально улыбнулся:
— Одной муки пудов полста! Тепло, не то, что на Колыме. Отдохнем, отъедимся… Вдруг в верховьях лес! — указал в сторону устья речки.
— Какой отдых? — раскричался Бессон, выпятив на него бороду. — За неделю сожжем все вместе с кочем и околеем, чуть прижмут холода. Возвращаться надо! Искать Афоню…
— Правильно говоришь! — ничуть не обидевшись на крик, ласково поддержал его Дежнев и беззаботно спросил, оборачиваясь к людям за спиной: — Цела ли накваса? Где-то видел бурню. Поставим тесто, напечем хлеба, а там, глядишь, Бог надоумит, что делать!
— Идти надо, — громче загалдели спасшиеся, — к Афоне, на Анадырь!
Коч разгрузили и вытянули воротом за полосу прибоя. Едва просохли на ветру подпалубная жилуха и кладовая, обмазали глиной размытый чувал, развели огонь. Ночи были холодными, по долине дул сильный ветер, гасивший костры. Ертаулы сходили вверх по реке. Она текла с гор, а на них, сколько хватало глаз виднелись только карликовые березы. Наладить коч было нечем. Быстро холодало, забереги схватывались льдом, который не таял к полудню. Вскоре покрылась льдом река. Бессон заспешил и разрешил драть обшивку коча, чтобы делать лыжи и нарты, предложил брать в долг спасенный товар.
— Берегом надежней, не заблудимся! — зароптали было анкудиновские беглецы.
Бессон опять сорвался в крик:
— Много груза утянем тундрой? Мой коч побили, теперь товар мне одному волочь?
Первыми оделись в красные сапоги и льняные рубахи своеуженники Елфим с Фомой, затем одолжился Дежнев, взяв на себя кроме рубахи овчинный кафтан.
— На полночь идти надо, прямиком! — поглядывая на компас, настойчиво повторял Бессон. С ним уже никто не спорил.
Тянуть нарты по льду реки было много легче, чем по камням и мерзлому мху сырого берега. Весь груз, снятый с коча, разом увезти невозможно, ясно было, что придется его челночить. Нарт делали много, с расчетом, чтобы не перегружаться, досок с расшитого коча хватало. В тех местах, куда выбросило коч Федота Попова, даже потеплело, будто с большим запозданием стало входить в раж бабье лето. Дул холодный ветер, но, спрятавшись за камнями, можно было погреться на солнце. Спасшиеся сложили каменку и напекли хлеба. В заливе ловилась рыба, ватажка добыла жирного сивуча. Его мясо дурно пахло, но это не претило часто голодавшим людям, не раз отъедавшимся нерпами.
Федот с Емелей отправили в разные стороны ертаулов высмотреть места промыслов. Те вернулись на другой день и подняли ватагу в ружье: за ними гнались здешние люди и обстреливали из луков. Промышленные и беглые казаки отбились, выставили караулы, но желания остаться в этих местах для зимних промыслов убавилось.
— Не судьба! — с бесноватым блеском в глазах пробормотал Федот Попов. — Знать, на роду нам писано обойти Каменный Нос!
Емеля опасливо уставился на дядьку и пожал плечами: ему место нравилось. Он поежился, сконфуженно кашлянул:
— Если попробовать договориться о торге и мене?..
Дядька его не услышал, соображая о своем, промышленные молчали, беглые думали.
— А что? — Федот вскинул брови и обвел спутников диковатым взглядом.
— Пока ветер пособный, льдов нет, пойдем дальше, вдруг обойдем Каменный Нос.
Удивляя Емелю необычной сговорчивостью, покрученники и беглые казаки покладисто столкнули кочи на воду и отошли от стана на два полета стрелы. Полуголые инородцы в высоких собачьих торбазах высыпали на берег, победно кричали и потрясали луками.
— Куда плывем? — подступились к Федоту ватажные.
— Не ждать же попутного ветра, чтобы вернуться на Анадырь. Куда-нибудь выведет Господь! Найдем безопасный залив, просушим днища, просмолим, наловим рыбки…
Мягкая осенняя оттепель позволяла не спешить с зимовкой, попутный ветер гнал судно вдоль скалистого берега.
Федот разглядывал заливы, и грудь его наполнялась приятным волнением. Емеля бросал на дядьку настороженные взгляды, молча удивляясь свечению его глаз. Стараясь не отдаляться от берега, Попов смело вел кочи на полдень, с восторгом разглядывал снежные вершины остроконечных гор. Одна из них, непомерно высокая, курилась, как в сказках давно упокоившихся баюнов его юности. Суда обошли на веслах каменный мыс и оказались в большом заливе, укрытом от северного ветра. Лес по берегам был невелик и редок: приземистые, скрученные ветрами березы. Федот приткнул нос коча к ровному песчаному берегу, рядом причалил Емеля. Было время отлива: вода отступала, суда обсыхали. Ертаулы спустили лодки, пошли против течения искать сладкую воду. Поблизости оказалось несколько ручьев, рыбы в заливе было много. Забросив невод, мореходы одним уловом обеспечили себя едой на несколько дней, неподалеку от костров добыли медведя. Здешняя земля и вода кормили щедро. Никто не беспокоил пришельцев, хотя следы людей встречались. Ертаулы поднялись на лодках выше по реке и вернулись с радостной вестью.
— Там соболя, что мышей в брошенном зимовье, хоть лес редок! — говорили окружившим их спутникам.
Федот, слушая их, досадливо морщился и поглядывал по сторонам.
— Надежное счастье легко не дается! — с сомнением покачал головой.
Его слова возмутили некоторых промышленных и казаков:
— Не упомнить, сколько раз прощались с жизнью, самого еле отмолили, а ты говоришь…
— Бесовские соблазны приходят через сердце, — обиженно укорил кто-то из анкудиновских беглецов и перекрестился.
Федот смущенно улыбнулся. Найти эти места было непросто, но не для одного удачного промысла столько лет он претерпевал неудачи и тяготы, не для одних дикоживущих вез товар с Руси. Его неуверенно поддержали своеуженники, имевшие свои паи в товаре и снаряжении, а большинство промышленных и беглых казаков желали подняться по реке и готовиться к зимовке.
— И правильно! — согласился Федот. — Зачем толочься на одном месте? Кто желает — устраивайся здесь. Я оставлю вместо себя Емелю и с доброхотами поищу промыслов дальше.
Емеля уставился на дядьку с разинутым ртом, но, полупав рыжими ресницами, согласился, что в два зимовья промышлять сподручней, если, конечно, здешние люди не будут нападать.
— Найдем места богаче — вас переманим, не найдем — вернемся! — весело загалдели своеуженники, оглядывая озадаченных спутников.
— По желанию идти! — выкрикнул Герасим Анкудинов за всех своих беглецов. — Нам за ваш хлеб расплачиваться, и на Колыме всем задолжали.
— Пусть так! — согласился Федот, пристально глядя на казака. — Только старшим будет Емеля. Хлеб-то наш! — напомнил.
Остаться решили два десятка покрученников и беглых казаков во главе с Емелей и Герасимом Анкудиновым. Пять своеуженников и четверо покручеников решили попытать счастья дальше. Под началом Федота они просушили, просмолили днище малого построенного на Колыме коча, с приливом столкнули его на воду и на веслах вышли из залива.
Ветер не менялся, дул с северо-востока. Парус напрягся и повлек судно вдоль скалистого берега. На пути встречались заливы. Спутники советовали войти в них, осмотреться, но Федот упрямо гнал судно к полудню, укрываясь только на ночи. А они становились такими темными, какими на Колыме не бывали среди зимы. Вскоре в виду острова показался долгий и узкий каменистый мыс, за которым виднелось море. Между ним и островом вода бурлила беспорядочными волнами. Коч обошел мыс и круто повернул к полночи-северу. По курсу видна была только вода. Мореходам показалось вдруг, что их кормщик и главный пайщик засветился.
— Обошли Необходимый Нос! Не могло не быть ему конца.
— Дальше-то что? — обступили его спутники. Ветер сносил судно в открытое море.
— Пойдем своей силой в виду берега. А что? Колыма подо льдом, а тут осень!
— Попробуй угреби! — поворчали покрученники, но вынуждены были согласиться, что другого пути нет. Уйти своей силой в обратную сторону было еще трудней.
Промышленные стали выгребать вблизи пологого берега с плешинами низкорослого ивняка, с горной возвышенностью вдали. Темными ночами он едва просматривался, но слышался по шуму наката волн. В сумерках с судна высматривали удобную стоянку и ночевали, выставив караул. Через несколько суток вошли в устье полноводной реки, прикрытое насыпью из окатыша, бросили якорь, как всем казалось, в безопасном месте. И здесь суша вблизи моря оставалась пологой и пустынной, как тундра. Вдали виднелся низкорослый ивняк и топольник. Места, где остались Емеля и Герасим, тоже не походили на промысловые, но соболь был, были лисы, волки, медведи. Пятеро промышленных пошли вверх по реке и к вечеру вернулись радостные — промыслового зверя много. Сторожившие судно наловили рыбы, выпотрошили, распластали и развешали для просушки. На берегу догорал костер, на котором пекли и варили ужин.
На судне были приняты меры предосторожности: двое сидели возле якорного троса, остальные отдыхали. Безлунная ночь была темна, дотлевал погасший костер, при отливной волне резко усилился ветер с суши. Коч стало раскачивать с борта на борт. Караульные, сидевшие у якорного троса, решили разбудить отдыхавших, но когда вернулись к носу судна, обнаружили, что якорный трос уходит в воду отвесно. Тут только они заметили, что мерцавший в ночи костер быстро отдаляется. Усиливающийся ветер уносил коч в открытое море. Якорь болтался в глубине, не доставая дна, борт захлестывало волной, ветер срывал брызги с гребней волн, судно так раскачивало, что могло быть опрокинутым.
Светлячок тлевшего костра вскоре пропал из виду. Промышленные бросились к веслам, выправляя коч на волне, с него сорвало спущенный, но не закрепленный парус, он заполоскал на ветру, сбив с ног Осташку Кудрина. Федот Попов с мокрой бородой стоял у руля и кричал, чтобы принесли огня. Кто-то из его подручных, спрятавшись от ветра в крытом носу судна, высек и раздул огонь, вынес на корму горящий жировик в светильнике. При мечущемся в горшке огоньке несколько голов склонились над компасом. Судно несло на запад. Выгрести к берегу своей силой промышленные не пытались: вытянули и отвязали железный якорь, соорудили плавучий, прикрепили его к якорному тросу. Коч перестало разворачивать и захлестывать. Мореходы стали отчерпывать воду. И носило их так неизвестно где четыре дня сряду, на пятый среди плеска волн послышался скрежещущий гул наката.
— Не знаю, что безопасней, — признался Федот, смахивая с лица соль мокрым рукавом кафтана, — болтаться среди волн или идти к берегу.
— Бочки сухие! — пожаловались спутники. — Глотки тоже. Войти бы в речку да напиться.
— Вошли уже! — огрызнулся Федот. Он все еще сердился на караульных, не уследивших за якорным тросом.
Старые товарищи по многим походам оправдывались и обвиняли его, передовщика, что по приливу не завел коч дальше в реку, где можно было набрать пресной воды. Волнение не утихло и на другой день, но в тумане показался пологий берег с высокими галечниковыми отмелями, по которым гуляли темно-свинцовые волны. Федот всматривался в полосу прибоя и не мог оторвать от румпеля окостеневших скрюченных пальцев.
— Эвон что там? — крикнул Осташка, тыча рукой куда-то в сторону берега, где то взлетал на волнах неуклюжий коч, то проваливался так, что видимым оставался только конец мотавшейся мачты.
— Свои! — сгрудились на одном борту промышленные.
Их тоже заметили, пальнули в небо холостым зарядом. Людям Попова не скоро удалось высечь огонь, запалить отсыревший фитиль, чтобы дать ответный выстрел. Встреченное судно шло в опасной близости берега. Вскоре стало ясно, что коч не из своих, разбросанных бурей, и держится против волны, стараясь устоять против каких-то известных меток.
— Прилива ждут! — догадался Федот и крикнул связчикам: — Выгребай, чтобы не разнесло.
На встречном судне стали указывать в сторону берега, призывая следовать за ними. По понятным только им приметам тамошние мореходы уловили начало прилива и пошли к проходу за высокую отмель, намытую волнами из песка и галечника. Коч Федота направился следом. Оба судна вошли в просторную лагуну, люди увидели устье реки, густой, вечно зеленый лес с желтым крапом осенних лиственниц и берез. Обессилевшие гребцы повисли на веслах, как уснувшие рыбины на снизках. Через некоторое время, подгоняемые приливом, суда счалились. На встреченном коче было десять казаков и промышленных людей. Видно, они долго голодали: у всех огромные запавшие глаза, истончавшие губы.
— Не с того ли света, братцы? — суеверно крестясь, стали спрашивать спасшиеся.
— Тьфу ты! — шепелявя, ругнулся один из десятка с густой проседью в бороде. По виду он был старшим. — Думали, Семейка окладной хлеб послал.
— Какой Семейка? — насторожился Федот, думая о Дежневе.
— Атаман Шелковников с Ахоти! А вы кто?
— Ленские промышленные! — ответили с поповского коча.
— И мы ленские! — прошепелявил все тот же седобородый. — Меня — Лексейку Филиппова с Ермилкой Васильевым, с двадцатью служилыми и промышленными Семейка Шелковников послал к восходу искать новых земель. У нас здесь зимовье, — кивнул в сторону леса. — Думали сходить на восход, посмотреть место для другой зимовки, но запоздали, попали под встречный ветер. Он и пригнал обратно.
— Жив Семейка? — подался вперед Федот Попов.
— Прошлый год летом, когда нас посылал, был жив!
— Вода есть? — нетерпеливо зароптали люди Попова, раздраженные долгим разговором.
— С полбочки, пейте во славу Божью… Вдруг у вас хлеб или какая другая еда? — безнадежно спросили, с тоской оглядывая остатки болтавшейся юколы. Но люди Попова кинулись к бочке, крепко привязанной к основанию мачты и обтянутой кожей.
— Есть! — испив первую пригоршню, с глубоким выдохом ответил Федот.
— Давай! — вскрикнул казак. Лица его спутников повеселели, глаза загорелись.
Подкрепившись мукой, разведенной в воде, люди десятника Филиппова сели за весла. Коч Федота Попова последовал за ними. С приливной волной суда поднялись по речке. Выше устья стояло укрепленное тыном зимовье. Из него выбежали пятеро с ружьями. Двое махали шапками с нагородней. Зимовейщики с Ермилом Васильевым и посланные ими товарищи с Алексеем Филипповым прожили здесь год без хлеба и круп, на рыбе, мясе, древесной заболони, травах и корнях. Филиппов с товарищами возвращался пустым и оголодавшим, мечтая вволю поесть хотя бы сушеной рыбы. Встреча с кочем Попова, припас ржаной муки на нем казались им чудом. Чем больше узнавал Федот от здешних людей о местах, куда был выброшен судьбой, тем печальней становились его глаза, угасая, как светлячок костра, удалявшегося памятной ночью. Отряд Семена Шелковникова переволокся за Великий Камень путем, разведанным Иваном Москвитиным, и добрался до его зимовья на реке Улье. Там жили и собирали ясак оставленные Иваном люди. Позже вышли с Амура остатки отряда письменного головы Василия Пояркова. Поярков оставил семнадцать своих казаков и охочих во главе с Ермилом Васильевым.
Отряд Семена Шелковникова пришел им на смену, соединился с оставшимися там людьми и, бросив старое зимовье, двинулся дальше, на восход, в богатые и густонаселенные места. На многорыбной реке Ахоти, переименованной русскими людьми в Охоту, при непрестанных нападениях тамошних ламутов Семен со своими людьми построил острожек и отправил половину отряда под началом Ермила Васильева и Алексея Филиппова дальше на северо-восток. Так два десятка казаков и промышленных оказались в Тауйской губе, поставили на одной из впадавших в нее речек укрепленное зимовье, подвели под государеву руку ближайшие народы и брали с них ясак.
В зимовье был большой припас красной рыбы, икры и ягод. Люди Ермила радовались, что едят хлеб, люди Попова — что в очередной раз спаслись в бушующем море. В печали был один Федот. Выслушав рассказы шелковниковских и ермиловских казаков, он понял, что жестоко обманут ложными предчувствиями. То, что, скорей всего, он первым из русских людей обошел Необходимый Великий Камень, попав с его полуночной стороны на полуденную, ничуть не радовало. Дальше на закат был разведанный голодный край, потом река Амур, с которой живыми вышла горстка людей из полка Пояркова. Где-то в той стороне находился Китай. По рассказам поярковских казаков, войти в страну через Амур не удалось целым полком. А после всего пережитого ватагой Попова, на путь в обход Великого Камня мог прельстить торговых людей только враг рода человеческого.
Долго хмурился и молчал Федот, перемалывая в голове тяжкие думы. Ничего не оставалось, как вновь спасшимся от потопления, служить и промышлять при зимовье до весны, а потом возвращаться на восход к своей ватажке.
— Думайте решайте! — объявил вольным своеуженникам. — Какова милость Божья ко мне — знаете, вдруг с кем другим будете удачливей. Летом известным сухим путем можете уйти на Алдан и Лену. По словам здешних людей, — указал на зимовейщиков, — путь труден, но не опасен. Мне же без богатства возвращаться нельзя! Последняя надежда — соболя и кошка с заморной костью.
— Моржей и здесь много! — загалдели зимовейщики. — Оставайтесь, промышляйте!
На что Попов только усмехнулся в побелевшую бороду, блеснул леденеющими глазами, вздохнул и вспомнил жалостливый взгляд блаженного в кабаке Ленского острога, от пророчества которого открестился. «Может быть, зря!»
9. В немилости Божьей
Печалясь о несбывшемся, Федот Попов с девятью своеуженниками промышлял соболей и лис, нес обычные казачьи службы на Тауе в ермиловском ясачном зимовье, на южной стороне Великого Камня. Там отпраздновал зимнего Николу. В тот день с восточной стороны Камня два с половиной десятка промышленных людей с казаком Дежневым тянули нарты к Анадырю, а Стадухин с охочими и беглыми казаками промышлял соболя в верховьях Анюя на северо-западе. Стужа на Николу, «волчьего свата», вошла в полную силу: грохотал лопавшийся лед, трещали деревья по низинам. Ватажные разошлись по станам, атаман с тремя подручными людьми забивал мхом закуржавевшие щели зимовья. Все четверо так увлеклись работой, что не заметили приближавшихся людей. Распахнулась дверь, впустив в избу густые клубы, раскатившиеся до самого очага. Стадухин кинулся к сабле, брошенной на нары. Но дверь закрылась, едва осел студеный пар, из него показались головы в песцовых шапках. В обмерзших бородах краснели носы, в глубинах выбеленных ресниц остро сверкали влажные глаза. Михей узнал Василия Бугра и Артема Солдата, оставленных сторожить коч.
— Совсем сдурели? — в сердцах закричал на них. — Хоть бы у Вторки в остроге зимовали, если не сиделось в зимовье! — Бугор, разъяренно глядя на него, мычал и вращал выстуженными глазами. — Как живыми-то добрались? — мягче спросил атаман, помогая товарищам раздеться.
Оба казака сбросили рукавицы, свесили бороды над очагом, стали горстями отдирать сосульки и сплевывать льдинки с усов. Наконец Василий распрямился, обернулся и разразился такой бранью, что бывшие в зимовье люди облегченно захохотали.
— В Нижний выбрались — нет! Говорят — ушли на Анюй. Доперлись до устья — нет! Подсказали — в Афонином зимовье. Приходим — хрен ночевал… У головешек погрелись!
— Сожгли?
— Чтобы другие не подселились… Но нас не тронули, думали — промышленные!
— И то слава Богу! — успокаиваясь, перекрестился Стадухин.
— Хлеба давай! — потребовал Бугор, обрывая пустопорожний разговор.
Муку в зимовье берегли к Рождеству и уже поделили, но отказать прибывшим казакам не могли. Развязали мешок, выложили свежеиспеченный и замороженный каравай:
— Ешьте вволю! Что уж там!
Глаза на выстывших лицах потеплели. Казаки смахнули шапки, обнажив потные макушки с мокрыми завитками волос, положили чувственные поклоны на образа в восточном углу. Бугор с Солдатом застали Стадухина за сборами. Он, Иван Казанец и торговый человек Анисим Мартемьянов готовились к походу за хребет разведать слухи об оленных и собачьих тропах — аргишах на реку Погычу. Мартемьяновский покрученник, беглый янский казак Ивашка Баранов, пришел со стана с мерзлыми соболями и должен был вернуться с паем муки. Он неприязненно поглядывал на заимодавца, фыркал и злословил, что Анисиму через горы идти нельзя: морда у него лопатой, ноги короткие — не помрет, так будет обузой. Долгобородый Анисим от невежливых слов покрученника, строптиво топнул ичигом.
— Что каркаешь, беду кличешь?
— Упреждаю! — невозмутимо повел бровями Баранов, и Стадухин неожиданно поддержал его:
— И то, правда. Когда шли по болотам, сильно отставал и морда была, что рыбье брюхо.
Обида заклокотала в горле торгового человека, хотя сметливый ум подсказывал, что Иван с Михеем правы. Мартемьянов побаивался неведомого пути и вызывался идти лишь потому, что первым объявил о нем.
— Пес ты смердячий! — без зла обругал Баранова. — Голь перекатная! Иди сам, если тебе моя морда противна! А я утяну хлеб на станы.
Беглый казак не снизошел до перебранки, но, одобренный взглядом Стадухина, стал собираться. Бугор с Солдатом тому поспособствовали: зимовье не оставалось впусте. Михей с Иваном и писарем сходили в ясачное селение, взяли двух проводников с упряжками собак и двинулись в верховья Анюя. Вернулись они через месяц на Святой неделе. Все трое были чуть живы: черные от обморожений, осунувшиеся от голода, половины собак в упряжках не было. За них предстояло недешево заплатить ясачному роду. В зимовье вернувшихся встретили Анисим Мартемьянов с Юшей Селиверстовым, спешно затопили баню, а когда вернулись — трое связчиков и два вожа лежали на земляном полу, тупо глядя в потолок.
— Ну что, нашли? — не в силах сдержать любопытство, затоптался возле них Юша и уставился на Стадухина немигающим взглядом.
Анисим с виновато опущенными бровями короткими, толстыми пальцами теребил бороду, овчиной лежавшую на дородной груди.
— В пекло попасть легче! — сипло прошипел Стадухин и перекрестился.
— Надо весной по насту идти, — добавил Казанец простуженным голосом.
Баранов только кряхтел, выцарапывая сосульки из бороды, и благодарственно косился на образок Николы Чудотворца, поднатужившись, прошепелявил:
— Морем, однако, легче!
— Собаки пропали? — громче и напористей стал расспрашивать Селиверстов.
— Места гиблые! — Стадухин неохотно разлепил губы в коростах. — Ни дичи, ни рыбы. Пришлось скверниться в пост, иначе перемерли бы!
— Значит, не нашли! — пророкотал Юша, бросая на Мартемьянова гневные взгляды. — Я говорил, морем идти надо. Всего три дня хорошего ходу… Может быть, четыре или пять…
На другой день Стадухин наградил и отпустил вожей. На расспросы промышленных людей отвечал, что там, в верховьях, плоскогорье со множеством одинаковых круглых сопок, снег, лед и камень, среди них можно блудить всю зиму и вместо Погычи выйти на свой же след. Отдохнув, он перестал думать о сухом пути: караулил зимовье, принимал рухлядь, разбирал ссоры промышленных.
В те же дни ватага Бессона Астафьева с казаком Дежневым подошла к третьей гряде безлесых сопок. Пока речка, по которой двигались, тянулась верховьями к северу, шли по ней. Едва она повернула на полдень — перевалили через хребет, и попали в другую безлесую долину. Бессон поглядел на маточку, спросил ясырок про Анадырь. Те уверенно указали в ту же сторону, что и наплав компаса. Но и эта долина оказалась непопутной. Опять пришлось лезть в гору, тянуть груженые нарты, возвращаться за другими. Подножного корма почти не было, да и варить мясо было не на чем, питались одной мукой, и она убывала на глазах. Измотанные люди каялись, что пошли к Анадырю прямым путем, а не берегом моря. Один Бессон упорствовал, поглядывая в чертову банку с пляшущим наплавом. Ватажные роптали и грозили отобрать у приказчика компас, заодно выбросить дюжину других, взятых для продажи.
— Вдруг и они не чуют, что Анадырь где-то сбоку? — задыхаясь и пыхая клубами из обледеневшей бороды, пролепетал Семен, упав рядом с приказчиком на сыпучий снег, повел глазами в сторону женщин. — Всего неделю носило море, а идем девятую. Не может такого быть!
— Афоня нас искать не станет! — также тяжко дыша, отвечал казаку Бессон. — Сидит на Анадыре, промышляет. Хлеба у него должно остаться больше нашего. — Болезненно морщась от общей неприязни и подозрительности, поторопил: — Идти надо! Где-то рядом уже!
В то, что конец пути близок мало кто верил. Вид маточки в руках торгового человека злил, ясыркам перестали доверять даже их мужья: Фома с Елфимом.
— Похоже, они других сторон не знают, кроме полуночной! — жаловались на женок.
— Если выживем, на правеже выстою, но сделаю вклад в церковь! — не снимая меховой рукавицы, перекрестился Дежнев и всхлипнул: — Не дойду! Кости крутит, старые раны открываются.
Не только он, еще семеро промышленных были обессилены переходом и едва волокли ноги, из-за них и громоздкого тяжелого груза ватага двигалась медленно. И снова пришлось лезть в гору. За ней открылась тундровая равнина, кое-где поросшая одинокими малорослыми лиственницами. Блуждающими, испуганными глазами измотанные путники обшаривали лед обдутых озер. Вверху посвистывал ветер, внизу полосами змеилась поземка. Под снегом угадывалась вихляющая речка. Она тянулась почти в ту сторону, куда указывал компас, но ничего похожего на великую реку не было.
И снова волоклись по льду на север. Налегке возвращались за оставленными нартами с гусельниковским товаром. Ночевали в снежных ямах, отрытых в сугробах. Жгли маленькие тундровые костры под котлами, у которых в черед отогревали руки, в теплой воде разводили ржаную муку, присаливали и поливали постным маслом. Но на этот раз обдутый ветрами лед речки вывел к застывшему заливу, который был похож на те места, где остались кочи. Девки уверяли, что это и есть Анадырь. Вскоре путники наткнулись на занесенные снегом завалы плавника: где-то вверху был лес. Отогревшись у большого костра, они нашли поблизости от стана брошенную землянку.
Жилье был нерусским: вход сверху, в кровле, под ним очаг, по стенам ряды нар, разделенные позеленевшими от сырости кожами, и всюду сидячие, стоячие, подвешенные к потолку людские скелеты в кожаных одеждах: тоскливо, холодно, страшно, но лучше, чем в снежной яме. Чукчанка с юкагиркой ничуть не удивились костям и осматривали землянку с радостью. Их стали расспрашивать, чья она? Женщины без сомнения ответили — откочевавших оленных анаулов.
Осенив стены и кости Животворящим Крестом, путники из последних сил натаскали плавника, растопили чужой очаг. По стенам заплясали тени, из темени безмолвно скалились человеческие головы. Но землянка стала наполняться теплом. Приятный запах дыма глушил чужой, враждебный дух. Ночевали как есть: наводить порядок не было сил. Утром пренебрегли неодобрением женщин, вынесли и с честью сложили в стороне от землянки скелеты. Два дня отдыхали и отъедались остатками хлеба, на третий Бессон объявил:
— Дальше надо идти, искать Афоню или какое-нибудь селение. Иначе не перезимовать.
— И то правда! — глядя в сторону, пробормотал Елфим. — Муки осталось на неделю, если по горсти на брата.
С ними соглашались все, кто мог идти. Семен Деженев и семеро хворых спутников, полагаясь на Господа, предпочли принять кончину в тепле, вместо того чтобы опять волочься по тундре.
— Ну и ладно! — без упреков согласился Бессон. — Хлеб поделим, товар оставим при вас, налегке пойдем.
Они собрались — пятнадцать промышленных и трое беглых анкудиновских казаков. Ясырок тоже поделили, они нужны были, как толмачки тем и другим. Фома оставил хворым свою чукчанку, Елфим забрал юкагирку.
— Это справедливо! — порадовались больные промышленные и Семен Дежнев. — Если задержитесь вдруг, она нам поможет: ей такая жизнь в обычай и места знакомы.
Из другого угла кто-то нечленораздельно буркнул:
— Застанете перерезанными — она!
Люди Бессона Астафьева ушли, семеро с Дежневым и чукчанкой остались в землянке. Муку приказчик поделил по совести. Съели ее быстро. Иттень стала ходить с луком на охоту, приносила зайцев и куропаток. Где она пропадала, с кем могла вернуться, об этом вслух не говорили. Через три недели в землянку приползли трое безоружных: Фома с Елфимом и анкудиновский беглец. Отогревшись, сказали, что кочей не нашли, но были пограблены дикими. Без еды и одежды идти обратно смогли только трое, остальные лежат в снежной яме, ждут помощи.
К утру Дежнев собрал необходимое из пожитков и товаров Бессона. С Фомой и Елфимом, с пятью спутниками при ружьях и топорах пошел спасать товарищей. След Фомы и Елфима задуло. В поисках той самой ямы, где были оставлены немощные товарищи, проблуждали два дня. Искать дольше не было сил, и они вернулись ни с чем, рассуждая, либо Бессон и его спутники погибли и их замело снегом, либо всех увели в рабство.
В чужом жилье было тепло и сухо. Елфим с тоской поглядывал на веселую и полную сил чукчанку. Она приволокла по льду нерпу, мужниным ножом вскрыла жирное брюхо, набросала в котел куски сала, мяса и вырезала печень. Жарко горел очаг, а над крышей жилья, переливаясь разноцветными огнями, в полнеба мерцала полярная ночь.
— А у меня женку отняли! — виновато пробормотал Елфим, разглядывая чукчанку. Обернулся к Фоме, указав на нее глазами: — Не убегает!
В феврале из-за гор, за которыми бедствовали люди Дежнева, яркими лучами брызнули первые солнечные лучи, а в начале марта после Евдокеи-свистуньи из багровевшей над хребтом студеной хмари всякий день стало появляться солнце. Выкатываясь на чистую синеву неба, оно слепило, выжимало слезы из глаз, хотя воздух еще колко входил в грудь и обжигал нутро. На лабазе, густо обгаженном птицами, распушенным шаром сидел ворон, по-хозяйски оглядывал окрестности, время от времени издавал истошные кошачьи вопли. Если у кого-нибудь из зимовейщиков кончалось терпение, то прежнего ворона менял другой, будто дожидавшийся своей очереди.
Ватага Стадухина заканчивала промыслы, со станов сходились люди, лица их были черны от солнца и ветров, лоснились от жира потому, что, опасаясь обморожений, они не умывались и в зимовье первым делом топили баню. Ватага добыла соболей вдвое против Индигирки, но все надеялись на большее, под те мечты кабалились. С неделю люди радовались встрече, многолюдью, рассказывали о зимовке, промыслах, подсчитывали прибыли, расплачивались друг с другом, с торговым человеком Анисимом Мартемьяновым. В зимовье не голодали: в сенях поленницей лежали мороженые зайцы, в лабазе — куропатки и рыба, но припас стал быстро убывать. Стадухин объявил:
— Отмылись, отдохнули, пора позаботиться о пропитании! — И стал распределять, кому добывать мясной припас, кому заниматься подледным ловом, на разговоры о хлебе наложил строгий запрет.
В хлопотах о еде ватага пережила весну. В мае вскрылась река и коч, пригнанный Селиверстовым с Яны, поплыл к Нижнему острогу. Стадухинские люди с нетерпением ждали вестей о Дежневе, Попове и Астафьеве, о беглом казаке Герасиме Анкудинове, но первой новостью была та, что острог находился в осаде от чукчей. Вокруг горели костры и паслись олени, несколько стрел на излете воткнулись в борт стадухинского коча.
— Вот тебе и бражка! — с кислой улыбкой в глубине глаз пробубнил Василий Бугор, привычным движением вскинул на руку полупудовую пищаль, подсыпал пороху на запал.
Беглые казаки и промышленные стали готовиться к бою, надевать доспехи какие у кого были. Селиверстов, раздаивая тощую метелку бороды, назойливо советовал подойти к берегу выше острога, Кирюшка Проклов — высадиться ниже. Был обычный бой, в котором сожгли много пороху. Из беглых ленских казаков от ран погибли двое. Чукчи подобрали их куяки, ружья, сели на оленей и умчались в тундру. Преследовать их по тающим болотам никто не решился.
Среди осажденных тоже были беглые ленские казаки, переметнувшиеся к Власьеву: Никита Семенов, Иван Пинега. К удивлению Стадухина, среди них же оказался и старый сослуживец по енисейскому острогу Дружинка Чистяков, отколовшийся от беглецов еще на Яне. Все они благодарили спутников по побегу, вовремя прибывших к острогу, а в весеннем нападении винили Пинегу. Дружинка поглядывал на Стадухина с заискивающей тоской выцветших глаз, будто просился на ночлег.
Новостей было много. Василий Власьев сухим путем вышел с Индигирки на Колыму, обосновался в Верхнем Новоселовском острожке и отправил оттуда в Нижний целовальника Кирилла Коткина с беглыми казаками, приказав им принять дела у Втора Гаврилова. На прошлогоднюю ярмарку все они опоздали. Но в начале зимы Пинега ходил на Чукочью реку с власьевским и коткинским товарами, наменял у тамошних людей моржовых костей. Вернулся через месяц, в сопровождении двадцати мужиков, похвалялся, что убедил чукчей идти под государя. Но весной с той же Чукочьей реки пришли шестьдесят мужиков и осадили острог, чтобы пограбить понравившийся им товар.
Втор Гаврилов с Третьяком Заборцевым сдали власьевским поверенным Нижний острог, три ясачных зимовья, аманатов, коч с парусом и снастью, старый кочишко, на котором только по реке ходить, два карбаса, медь, железо, бисер, корольки и еще до осады, по льду, ушли к морю, чтобы с торговыми кочами поскорей вернуться на Лену. Втор Гаврилов взял с собой моржовую кость, выменянную Пинегой у чукчей, ясак и грамоты от нового приказного. Зыряновский казак Иван Беляна предупредил Стадухина, что Власьев на него зол за беспричинное нападение на анюйских ясачных мужиков и отписал воеводе, будто анюйцы, согнанные со своих угодий, ясак за этот год не дали.
Михей понимал, что вмешался не в свое дело, но вместо того чтобы повиниться, во всеуслышанье заявил, что ему с его наказной памятью никто на Колыме не указчик, и велел своим промышленным не предъявлять Коткину добытых соболей: у него был свой целовальник Селиверстов. Новых товаров на ярмарку еще не привезли: сушей из-за осады острога, морем из-за раннего времени года. Хлеба здесь не было. Не задерживаясь, Михей с товарищами поплыл к оставленному кочу, надеясь встретить там торговых людей и поменять добытую рухлядь на хлеб. Здесь в зимовье ждали попутного ветра и проходных разводий несколько торговых и промышленных ватаг. Самые отчаянные уже ушли к Индигирке на оставленном коче Стадухина. Среди них были Третьяк Заборцев и Втор Гаврилов, прослуживший на Колыме семь лет.
— Как это, на моем коче? — чуть не задохнулся от негодования Стадухин.
Глаза его вспыхнули такой злобой, что сообщивший об этом неповинный торговый человек испуганно поежился и отступил, бормоча:
— Власьев разрешил, дал наказную, что коч — казенный.
— Понятно, что не торговый, но охочие и беглые строили его не за жалованье… Ну Иуда! — взъярился Михей. — Много вреда сделал мне без отмщения. Воздам!
Возвращаться в Нижний искать правды у Кирилла Коткина, или плыть в Верхний к Власьеву не было времени. Иван Казанец, рассеянно проговаривая продиктованное атаманом, помогая себе языком и бровями, старательно написал воеводе жалобную челобитную, в ней Михей ругал Власьева и Втора Гаврилова, незаконно отпустившего караван Дежнева на Погычу.
С неделю ватага простояла, запасаясь юколой, и вот задул западник. Путь на восход был все еще закрыт льдами, но этот ветер принес с Индигирки добротный торговый коч брата нынешнего колымского целовальника, Матвея Коткина. Среди его покрученников был Тарх Стадухин, на том же борту оказался свешниковский приказчик Федька Катаев с грузом ржаной муки, перекупленной на Индигирке.
— Вот и животы приплыли! — со злорадной усмешкой воскликнул Михей, расправил по щекам золотистые усы и перепрыгнул на коткинский коч.
Сколько ни возмущался Федька, что рожь не свешниковская, а купленная им для торга, разъяренная стадухинская ватажка дочиста ограбила его. Торгового человека Матвея Коткина с покрученниками силой пересадили на старый коч, а на его добротное торговое судно перекидали все ненужное для похода.
— Меняю два малых суденышка на твое ладное! — весело злословил Михей на укоры Коткина. — Другое заберешь у брата!
— Мой брат — целовальник! Он-то причем? С приказного свой коч спрашивай! — жалобно плакался пограбленный торговый человек.
Стадухин радовался новому судну, случаем добытому припасу для похода, на который имел наказную память от воеводы. Призывы пограбленных к совести и справедливости слушал то злорадно улыбаясь, то начальственно хмурясь. Тарх вынужден был перейти к брату, поскольку его хозяин глядел на него зверем и клял все пинежское отродье, но пока отряд Стадухина не ушел, вынужден был считаться с силой. На просторном купеческом коче ценой не меньше двухсот рублей, с припасом хлеба и с воеводской наказной памятью.
Михей Стадухин ждал разводий, чтобы уйти к Погыче, пытал брата о новостях Якутского острога. Тарх смущенно вздыхал, конфузливо улыбался и отводил глаза, между его бровей все глубже и отчетливей напрягалась складка. Он не решался сообщить главного, пока брат не спросил в упор.
— Была жива-здорова, когда уходил! — промямлил, поднимая унылые глаза. — Пожар там спалил двенадцать домов и Гераськин, а твой обгорел не сильно. Гераська худо-бедно торгует. Любит его Бог… А я неудачно промышлял.
— Не могла Арина бросить Гераську? — крестя грудь, Михей впился в брата испуганными глазами. — Пригрела?
— Я не хотел быть им обузой, — снова опустил глаза Тарах. — Раз ты Матвея пограбил, мне с ним жизни не будет. Придется промышлять с тобой…
Старший нетерпеливо кивнул и переспросил, всматриваясь в ускользающие глаза брата:
— Кому не захотел быть обузой? — Поскольку Тарх мялся и думал, как сказать, приглушенно вскрикнул: — Арина живет с Гераськой?
— Живет, а как, не знаю! — пуще прежнего смутился Тарх. — Не по дворам же ему скитаться. Помогает ей. Дом твой подновил, Нефедку учит… Куда уж родней? Племянник все-таки! — Набравшись духу, зыркнул исподлобья и с дрожью в голосе добавил: — А спят вместе или порознь, того я не знаю!
— Так оно и лучше, — побелел Михей, тряхнул головой, скинул шапку, перекрестился на восход. По его обветренным щекам покатились слезы. Он смахнул их рукавом, нахлобучил шапку и больше не заводил разговоров об Арине.
Ветер разнес льды за губой. Стадухин с беглыми казаками и промышленными болтался возле устья, высматривая проходные разводья, а Федька Катаев с Матвеем Коткиным на его старом кочишке поплыли в Нижний жаловаться. Перед самым уходом оттуда сплавились на струге скандальные ленские казаки, переметнувшиеся к Власьеву на Индигирке: Федька Ветошка с Пашкой Кокоулиным. С ними выбрался из Среднего зимовья тамошний служилый Пашка Левонтьев. Власьев послал их для служб при ярмарке, но они узнали о стадухинском походе и приплыли самовольно со своим хлебным и путевым припасом, для этого кабалились у торгового Михейки Захарова.
— Мишка, возьми! — запросились, не каясь, не кланяясь, будто требовали возвращения долгов.
— Содому нам не хватало! — буркнул Бугор без прежнего запала. Он был отходчив.
Длиннорожий Кокоулин вперился в него хищным взглядом щуки. Ветошка напряженно молчал с окаменевшим лицом и поджатыми губами. Левонтьев смахнул с головы шапку, шершавой ладонью разгладил лысину, блестевшую капельками пота, со снисходительной улыбкой в уголках глаз, поучающе изрек:
— Господь велел прощать братьев семьдесят раз, помноженных на столько же, — похлопывал по известной всем суме с Библией и вскарабкался на борт.
— Возьми! — вступился за них добродушный и мягкий Иван Казанец.
Угрюмый Евсей Павлов, посопев обветренным носом, взглянул на атамана и согласно кивнул.
Печалясь утратой жены и от того подобревший, Михей Стадухин с неперегоревшей тоской в глазах вспомнил совместные походы при атамане Галкине и, к неудовольствию некоторых, тихо зароптавших, махнул рукой:
— Как решат раненые Заразой, так и будет!
Кирилл Проклов, Юша Трофимов, Иван Пуляев, которому Кокоулин прострелил руку, досадливо уставились на Пашку: спина колесом, широкие плечи, натруженные ладони со взбухшими жилами. Зараза с вызовом глядел снизу, выпытывая, что у них на уме.
— Молчите? — С грубой беспечностью вскинул жесткую бороду и желчно усмехнулся, шевельнув выгоревшими усами. — Когда вы меня били, я тоже молчал, а после задумал мщение, что били не за тот грех, напрасно позорили. Слава Богу, тебя, Васька, не высмотрел — убил бы под горячую руку. А сейчас ни на кого зла не держу.
— Он еще нас и прощает! — возмутился было Бугор, но осекся и презрительно бросил:
— Да хрен с ними!
То же самое приговорили другие раненые Кокоулиным-Заразой. Вместе с ними набирался отряд почти в три десятка человек. С такой силой нестрашно было отправляться к сильным народам, не знающим власти русского царя. Путь очистился попутным ветром с запада. Вольница казачьего десятника почитала молебен об отплытии, испросила милостей у Николы Чудотворца — заступника скитальцев, и подняла парус. Погода была ясной. Над тихим морем голубело небо без облаков, по синим хребтам в дымке неспешно катилось желтое солнце. Здесь берег выглядел веселей, чем между Колымой и Индигиркой: синие горы вдали, каменистая тундра, промытый галечник, на который набегала волна прибоя.
Клокотала вода под днищем коча, отдалялась суша. Погода не менялась до светлой полуночи, только рассеянное солнце собралось в красный круг, присело за гору и в его лучах зарозовели верхушки Великого Камня. Юшка Селиверстов весело приплясывал у руля, обитого жестью, указывал, кому и как пособлять движению судна. Купец Анисим Мартемьянов, спрятав пышную бороду за пазуху, клал поклон за поклоном на манящий восход, на крест, поставленный на носу коча. Плутовато поглядывая на него, Селиверстов окликал Кокоулина, дремавшего на носу коча:
— Здесь нет грязного мелководья… Пашка! Следи за цветом воды, по нему глубина видна. Хорошо смотришь?
— Хорошо смотрю!
— Шестом мерить не ленись!
— Две сажени! Дно вижу.
— А ты проверь. Чистая вода сильно скрадывает.
Зараза ткнул шестом по борту, поднял, осмотрел намокшую метку:
— Три аршина с пядью!
— Так-то! — торжествуя, рыкнул Селиверстов.
Ветер был ровен, коч быстро бежал вдоль берега сутки и другие. Юша дневал и спал возле руля. Если впереди блестели льды, загодя обходил их, удивляя бывалых людей искусным умением управлять судном. Михей Стадухин прохаживался с борта на борт, его усы золотились в лучах летнего солнца. Вдали показался русский крест. Промышленный, бывший в этих местах с Мезенцем и Пустозером, сказал, что там остров перед губой. Уже то, что коч больше суток шел с попутным ветром, было удачей. Стадухин положил на береговой крест семь поясных поклонов и скомандовал:
— Вперед! Даст Бог, зайдем сюда на обратном пути.
Из залива перед островом задул несильный, но пронизывающий ветер. В глубине его плавали льдины. Коч обошел остров приблизился к льдам, розовевшим от присевшего солнца. Впереди по курсу дремотным горбом вырисовывался мыс. Из губы потянуло теплым ветром с запахом морской травы и перепревшей гнили. Он рябил воду и разгонял волну, а вскоре стал срывать брызги с гребней, они заливали судно. Наконец ветер окончательно взъярился, так что стало трудно держать коч на курсе. Против мыса плясала бестолковая толчея волн, коч заливало сразу с двух бортов. Ветер был прежним, парус вздут, но до края залива шли так долго, что казалось, будто судно стоит на месте.
— Водяной тешится, держит за днище! — трубно, как морж, ревел Селиверстов. Оставив руль, перегнулся за борт, прислащенным голосом попросил: — Ты, дедушка, нас пропусти, а мы тебя маслицем попотчуем!
Михей Стадухин вылил на воду корец льняного масла, оно растеклось по воде и быстро пропало за кормой.
— Вон что! — Селиверстов хлестнул себя ладонью по лбу. — Ветер попутный, но течение встречное.
К зависти плывущих, следом за маслом атаман вылил за борт чарку водки, но и это не помогло, коч будто держали за днище. Гребцы стали помогать парусу силой. Судно побежало быстрей и наконец обошло глубоко вдававшийся в море мыс. За ним потянулась долгая отмель. Пришлось на версту удалиться от берега.
— Там мы с Мезенцем и Пустозером меняли рыбий зуб! — указал за мыс бывалый промышленный.
— Вперед! — мельком оглянувшись, скомандовал Стадухин. — Нам нужна Погыча.
Ветер усилился и выл в снастях на разные голоса. Временами он становился тише. Пропало солнце за низкими быстро обложившими небо облаками, на судно обрушился холодный секущий дождь. Юша маячил на корме, над промокшими плечами его кафтана курился пар.
— Гляди на воду! — кричал на нос судна. — Или меряй глубину, не ленись!
Беглый ленский казак Евсей Павлов с шестом в руках, втянув голову в плечи, тоскливо осматривался по сторонам. Море было серым, пологие спины волн катились вдаль, берег с крутым галечниковым валом едва виден, а под днищем всего два аршина. Надо было уходить еще дальше. Коч в очередной раз провалился между волн и, задев дно, скрипнул становым брусом. Юша разразился бранью. Поднялись двое казаков в кожаных плащах, потянули смоленые возжи-фалы, судно взяло курс круче к северу, в неведомое. Вскоре смурное небо разродилось июльским снегом. Он засыпал коч, выбелил парус, палубу, шапки и плечи людей, ложился на черные спины волн и пропадал в них. Но ветер не менялся.
Небо разъяснилось так же быстро, как и затянулось облаками. Снова светило солнце. Глубины позволили приблизиться к берегу. Безделье пути начинало томить оказавшихся не у дел людей. Михей Стадухин почувствовал их озлобление, приказал помогать парусу веслами и рассадил гребцов по паре на каждое. Они наваливались, помогая ветру перебарывать козни водяного.
Встречались заливы, но устья большой реки не было ни на четвертый, ни на пятый день. Люди стали волноваться. Юшка Селиверстов, теряя бравый вид, опасливо вертел красным мокрым носом и тряс свившейся в сосульку бородой. Михей Стадухин все так же упрямо командовал:
— Вперед!
На этот раз Тарх старался во всем прямить старшему брату, поблажек не ждал. Зная беду, которую Михей молча переживал, опасался, как бы старший не забыл, что отвечает перед Господом не только за себя, но и за жизни всех плывущих на судне.
Широкая волна попутно накатывала с запада и так поднимала коч, что становилась видна тундра. Берег был прямым и обрывистым, пристать к нему негде. Наконец вдали показалась сопка, перед ней ровный, устланный промытой дресвой берег, который небольшой бухтой углублялся в тундру. Потревоженные косяки гусей кружили над судном. Надрывно кричали чайки и гагары. На берегу валялся обкатанный прибоем плавник. Дрова на судне кончились, из бочек выскребали последние чарки воды. Спутники Стадухина стали роптать — семь суток безостановочного плаванья утомили их.
— Горячей каши поесть бы! — бросали укоризненные взгляды на атамана.
А он с удивленным лицом разглядывал каменные столбы за мысом. Таких скал было много по Яне и Индигирке, но эти поражали сходством с людьми. «К чему бы?» — суеверно думал Михей. Услышав просьбу спутников, согласился пристать к берегу. За мысом, слегка закрывавшим от западных ветров, была ровная усыпанная дресвой поляна. С востока бухту прикрывала сопка с каменными столбами. Из тундровых озер в море падал небольшой звонкий ручей. С шуршанием и скрежетом нос коча вылез на берег.
— Гиблое место! — приглушенно прошипел Юша Селиверстов, опасливо оглядываясь по сторонам. Старший Стадухин не стал выспрашивать, что пугает морехода, спрыгнул на берег, всей грудью вдохнул манящий запах пресной воды, но направился к скалам.
Ручей оказался сладким, по мокрой полосе отлива торопливо бегали кулики, выклевывая корма, выброшенные морем, на ветру покачивались метелки травы, вдали, на дюнах, маячили пасущиеся дикие олени. Над озерами кружили утки. Краем глаза Михей отмечал, что здесь можно запастись кормами, но сам как очарованный ходил от одного каменного столба к другому. Вглядываясь в них, старался понять к добру или худу стоят на пути и в какую стародавнюю пору чьи-то руки подправляли их, пытаясь о чем-то предупредить путников. Если о том, что впереди опасности и тяготы, так, где их не было? Если это стражники, на границе иной, неведомой земли, так туда и следовала ватага с наказом якутского воеводы. Едва он перевел взгляд под ноги — увидел под береговым обрывом занесенную песком бахилину.
— Гляди-ка, что нашел? — подошел к нему Пашка Левонтьев с деревянной ложкой. Холеная борода его была мокрой и благоухала свежестью пресной воды. — Были они здесь!
— Дальше ушли! — завистливо блеснули глаза атамана. — Молодец, однако, Семейка Дежнев, не убоялся, — кивнул на каменный столб.
Пашка тоже окинул скалу мимолетным взглядом, равнодушно пожал плечами, самоуверенно изрек:
— Ересь!
— Как знать?! — Со вздохом тряхнул бородой атаман и расправил рыжеватые усы.
Как-то неожиданно быстро закончились светлые ночи, Камень и море стали накрывать редкие сумерки. Было тихо и холодно. К утру приморозило и вода в питьевой луже возле ручья покрылась льдом. Здесь ватага простояла день, запасаясь птицей, дровами и водой. На другой, с непонятной тяжестью под сердцем, атаман приказал продолжить путь. На выходе из бухты обернулся к столбам, ему показалось, что каменные личины хохочут. При слабом ветре, помогая парусу веслами, ватага удалялась от берега. Широкая полоса отмелей вынуждала уходить от суши дальше и дальше.
Селиверстов на корме бегал от борта к борту, журавлем перегибался к воде, требовал постоянных промеров. В трех верстах от берега под днищем было всего полтора аршина воды. В случае бури здесь невозможно было ни вытащиться на берег, ни найти хоть какой-нибудь закрытый от волн залив. В полуночной же стороне за плавучими льдами ясно виднелась черная полоска гор с белыми плешинами снега. Море было тихим, но желтое стылое солнце начинало кутаться в громоздившиеся на горизонте облака. Они наливались красным и розовым светом, а цвет воды становился серым и тусклым. Селиверстов замер, уловив какие-то перемены, настороженно вытянулся, как суслик у норы, и трубно заорал:
— Спускай парус! Разворачивай!
С ним не спорили, не пререкались. Гребцы одного борта наваливались по двое на весло. Коч развернулся, в это время ветер широкой полосой прогнал рябь с севера, а в следующий миг обрушился на судно с такой силой, что бедняцкая борода Юши Селиверстова залепила ему глаза. Анисим Мартемьянов двумя руками отмахивался от своей, будто пытался освободиться от накинутого на голову мешка. Под спущенным парусом, на веслах, коч пошел в обратную сторону, боясь быть выброшенным на мель.
— Навались, братцы! — ревел Селиверстов. — Не успеем — подавит!
До того как ветер пригнал лед, они обошли мель и приткнулись к берегу в той же бухте, из которой вышли. Коч мотало с борта на борт. Казаки и промышленные спешно высадились, нашли обкатанный плавник, подвели под днище мотавшегося судна, воротом вытянули его на сушу. Ветер выл среди дюн и камней голосами нечисти. Временами он стихал, крытые палубой носовую и кормовую жилухи и кожаный парус, натянутый между ними, резкими иглами сек холодный дождь. Буря стихла на третьи сутки к утру.
В августе ночи стали темными. Старший Стадухин до рассвета лежал на узких нарах с открытыми глазами, прислушивался, как успокоенно плещет о берег волна. Едва рассвело — поднялся, выбрался наверх. По бортам лежали надувы снега, корма обросла острыми застругами льда. Море выглядело мрачным и холодным, вдали, за мысом, на черном после отлива песке тугими кожаными кулями лежали моржи. Их было десятка полтора. Еще столько же плескались у берега.
— Охтеньки! — страстно пробубнил под ухо Бугор. Он следом за атаманом вылез из жилухи и кинулся обратно, будить товарищей.
Промышленные и казаки крадучись высмотрели моржей, стали собираться на промысел. Одни ушли берегом, другие уплыли на двух легких лодках. Загрохотали выстрелы, ранеными быками заревели морские звери.
— Почти весь август впереди! — обнадежился атаман, глядя на подступившие льды. Селиверстов озадаченно отмолчался. Глаза его съежились и запали под лоб, обычно напористое лицо было настороженным.
После выстрелов большая часть зверей ушла в море. Казаки и промышленные свежевали туши, пекли мясо на кострах, хвастали добытыми головами. Федька Ветошка выворотил из песка заморный клык, потом другой. Спутники перестали гоняться за подранками, начали лопатить отмель и вскоре перерыли ее всю. Старший Стадухин, неприязненно морщась и стараясь не смотреть на туши с отрезанными головами, вынужденно подошел к кострам промышленных. Обмывая окровавленные руки в морской воде, Тарх тихо посочувствовал брату:
— Не отпустило? Через войны и убийства прошел, а к крови не привык… Отец, Царствие Небесное, жаловался, не мог тебя заставить рубить кур и гусей.
— Война — другое дело! — стыдливо поморщился Михей, вернулся к кочу и опять пошел к каменным столбам, предчувствуя, что радость добытчиков обманчива, стрельбой и кровью они спугнули удачу, баловавшую неделю сряду: милость Божья иссякает, а водяной дедушка взбешен. Битые льдины покачивались у самого берега, к востоку не виделось ни одной проходной полыньи.
— Придется сходить сушей, поискать устье Погычи! — хмуро сказал спутникам атаман, не разделяя их веселья, вымученно взглянул на скромного Казанца. — Мне нельзя оставить коч. Станут добычу делить, передерутся… Ивашка! — окликнул Баранова. — Иди с писарем, поищите реку или добудьте языков. Вы у нас самые мирные.
Оба Ивана были людьми покладистыми, нежадными до добычи. Пока их товарищи добирали с отмели заморные кости, они опоясались саблями, заткнули за кушаки топоры, с пищалями на плечах пошли морским берегом на восход. Прибой выбросил на сушу еще одну тушу моржа. Как ни холодна была вода, она уже вздулась, пустив дух. Промышленные отсекли голову, разделывать же ее не стали, в ожидании ертаулов бродили по тундровым озерам, били гусей и уток.
Через трое суток на четвертые вернулись израненные ертаулы. Казанец был бледен от потери крови, Баранов, опираясь на пищаль, едва волок ноги. Они привели двух мужиков со связанными за спиной руками. Пленники были одеты в оленьи кухлянки и узкие нерпичьи штаны, какие носят чукчи, но не были чукчами, которых колымские казаки и промышленные хорошо знали. Баранов сдернул с плеча пленного плащ из моржовых кишок, бросил на землю и опустился, не имея сил двигаться. Виснувший на нем Казанец со стоном упал. Ертаулов подхватили под руки, обмыли, перевязали раны, увели на коч.
Пленных с почетом развязали и накормили. Съев за один присест пуд моржового жира и мяса, они повеселели, не показывая удивления, с любопытством разглядывали бородатых людей.
Баранов с Казанцем лежали на лучших местах в жилухе. Беглый казак болезненно щурился, претерпевая боль, рассказал, что они шли возле моря двое суток, реки не встретили, но увидели две юрты при большом оленьем стаде. Мужики не подпустили их к себе для разговора, сразу стали отбиваться. Пришлось идти на погром, силой брать пленных.
— Язык у них свой, — постанывая, заговорил Казанец. — Не похож на чукотский. Называют себя хор. В пути сказали, что чукчи — их главные враги и часто бывают в тех местах, куда они пригнали своих оленей с дальних рек. Ждали нападения от них, а пришли мы.
— На погроме взяли это! — Баранов вытянул из-за голяшки ичига нож. Он пошел по рукам казаков и промышленных людей.
— Мой! — вскрикнул Анисим Мартемьянов. — Афоньке Андрееву продал. Помню, рядились из-за этой вот щербины, — указал пальцем на незашлифованную поковку.
Ясырей стали расспрашивать знаками и словами, какие кто помнил после стычек и встреч с чукчами. Сыто срыгивая воздух, они охотно отвечали, что бородатых людей их родичи видят часто. Прежде они жили в этих местах, но когда сюда стали пригонять свои стада чукчи и юкагиры — ушли за море. Бывает, и сейчас приходят, между собой говорят непонятно. Сменят изодранную обувь и опять уйдут. А недавно они были выброшены на мель в больших деревянных лодках. Родичи их пограбили и убили.
— От них получили? — показал нож Михей.
Пленники невинно закивали.
— Неужто весь полк перебили? — Михей Стадухин опасливо перекрестился при общей тишине.
— Не может того быть! — зашумели спутники. — Без малого сотня хорошо вооруженных…
— В море всяко бывает! — задергал себя за бороду Селиверстов. — Могло кочи побить о камни, кто живой из студеной воды выбрался — голыми руками бери.
Мореходы узнали от пленников, что с восточной стороны больших рек нет, — указывали на юго-восток, дескать, там есть, — Нанандара, Чендон. Оттуда они и пришли.
— Погыча? — нетерпеливо спросил Михей.
— Пахача! — замахали руками в ту же сторону.
На расспросы о Великом Камне пленные показывали, что чукчи приходят сюда с Нанандары на больших байдарах. На тех реках много разных народов и они беспрестанно воюют между собой.
— Выходит, дальше надо плыть! — приглушенно пророкотал Селиверстов.
— Какие там три дня? При хорошем ветре верст с тысячу прошли за семь-то суток, а до реки, дай Бог, еще столько же… Если не больше!
Погас чувал. В жилухах, под парусом было жарко и душно от множества сгрудившихся тел. Казаки и промышленные спорили, ссылаясь на прежние слухи и домыслы. Два Ивана, Казанец и Баранов, терпеливо ждали, когда им дадут раскрыть рты. Старший Стадухин водил глазами с одного говорившего на другого, озадаченно чесал за ухом. Взгляд его остановился на Казанце. Он цикнул на разговорившихся спутников, призывая к тишине.
— Указывают, — постанывая, заговорил раненый, — что прямой путь далек, туда и обратно кочуют все лето, а берегом они не ходят из-за чукчей.
Кокоулин, выставив челюсть с бородой, показал пленникам заморный моржовый клык, стал выспрашивать знаками, есть ли такая кость там, откуда они пришли? Коряки замахали руками, показывая, что этого добра там много.
— Как много? — оживившись, набросились с расспросами казаки и промышленные, пытали знаками, словами и решили из ответов, что клыков на морских отмелях так много, что им можно загрузить десять судов размером с коч. Заморная кость там никому не нужна, поэтому ни во что не ценится.
В расспросах громче всех шумел Юша Селиверстов: он то ерзал и злился от непонимания, то тряс бородой, вскакивал и крутился возле пленных, как петух с отрубленной головой.
— Пахача, Чендон, Нанандара там? — тыкал пальцем на юг. — Кочи пограблены где? Говорят, там же! — перебивал споривших. — Не по мелководной же речке они волоклись? Надо плыть на восход?..
Коряки, услышав знакомые названия рек, опять замахали на юго-восток, знаками уверяли, что костей там много.
— Где-то рядом конец Камню! — громогласно вещал Селиверстов. — Или он поворачивает к полудню.
Михей Стадухин помалкивал, вызывая недовольство спутников. Его туманный взгляд блуждал по говорившим и спорившим, ум цепко отслеживал сказанное. Он остро чувствовал, как редеет запал, на котором уходили с Колымы и шли к восходу, гадал, что сломило людей: буря с отгонными льдами или известие о гибели колымских кочей? Ночью атаман долго не мог уснуть. Кутаясь в одеяло из волчьих шкур, поднялся на корму. Ярко светила луна, низкие рваные облака стелились над морем, оно было тихим, берег пустынным: ни моржей, ни шумных, крикливых гагар, ни гусей. Из черной воды беззвучно высовывались морды любопытных нерп и так же тихо исчезали. Сна не было. Михей сменил часового, мешавшего ему думать, и дождался рассвета. На востоке, на черте видимого берега и моря, разорвало тучи и открылось громадное темно-красное солнце, зарозовел плавучий лед, закрывший путь. С полуночной стороны ползли темные тучи, вскоре они плотно прилегли на воду и заморосил дождь. Перемежаясь со снегом, он шел всю неделю.
Глядя на грязно-желтую, раскисшую тундру в холодном тумане, слушая нестерпимые вопли гагар, которые то каркали, то хохотали человеческими голосами, стервенели лица мореходов, все злей и отчаянней споривших о реках, с которых прикочевали коряки. Одни заводили разговоры о том, что никакой Погычи нет, но за кормой оставлены лежбища моржей с заморным рыбьим зубом. Вместо того чтобы идти в никуда, надо вернуться и взять богатство из-под ног. Немногие хотели идти дальше, спасать людей Семейки Дежнева, если некоторые остались живыми.
Хлеб был съеден, рыба в море не ловилась, моржовое мясо и жир с удовольствием ели только пленные коряки, казаки и промышленные питались птицей. Не дожидаясь улучшения погоды, Михей собрал людей в круг, стал спрашивать каждого: ждать ли разводий и ветра, чтобы идти дальше, или возвращаться? Из расспросов понял, что заводчиком возвращения был Юша Селиверстов и его поддерживали многие. Стадухин стал путанно говорить, что не может того быть, чтобы коряки поголовно перебили почти сотню ушедших к Погыче. Надо идти на помощь и зимовать.
— Они же живут! — поддержал брата Тарх, указывая на коряков. — Почему мы не можем?
— Они к зиме откочуют… Не дураки оставаться в голодной тундре.
— Зимовать, так в заливе, открытом Мезенцем и Пустозером, — загалдели сторонники Селиверстова. — Сказывают, там голец жирней, чем в колымской протоке, птицы больше, чем на Колыме и Индигирке. Чтобы не поморить себя голодом, хотя бы туда вернуться…
— Оттуда при доброй погоде сушей добраться до Колымы легче, чем строить зимовье, — криво усмехаясь, осадил крикунов атаман. Усы его словно выцвели без солнца, свисли к подбородку и были в цвет бороды. — Или вперед, или назад, так решать надо!
— Все перед походом брали кабалу в надежде на богатые промыслы. Если жить зиму ради брюха и ждать другого лета — пропадем в долгах. А здесь — какой соболь? Лучше вернуться на известные места и по пути выбрать кость, — разумно рассуждал торговый человек Анисим Мартемьянов, взволнованно теребя пышную бороду.
— Выбрать, сколько нагрузим, — с задором задергался целовальник и мореход. — И плыть в Якутский, просить хорошие кочи, хлеба. От коряков явственно знаем, что моржей и заморной кости там много.
Не желая дальнейшего спора, атаман бросил шапку на одну сторону, целовальник — на другую. Рядом с атаманской упали шапки Тарха, Василия Бугра, Евсея Павлова и Юши Трофимова. Последний поперечно проворчал:
— Вдруг Бог даст еще семь дней разводий и попутного ветра?
— А как не даст? — вскрикнул Селиверстов, задирая на Трофимова острую бороду.
Анисим Мартемьянов, вложивший в поход все, что имел, покачал головой с потупившимися глазами и пробубнил, что покойникам прибыли не надобны.
— Как всегда! — смиряясь, выругался Бугор. — Не башкой думаем — брюхом!
Атаман перевел взгляд на раненых Ивана Казанца с Иваном Барановым, оставшихся в шапках.
— Да ну вас! — обиженно выругался беглый янский казак. — Говорил, на полдень от Колымы идти надо. Они туда же указывают, — кивнул на пленных.
Пашка Кокоулин, побуравив лицо старшего Стадухина неподвижным взглядом, подхватил топор и стал злобно рубить плавник, показывая, что говорить не желает.
— Ты же атаман, — тихо укорил брата Тарх. — Заставь! Принудь!
Михей горько рассмеялся:
— Зимой передерутся, перережутся от тоски и безделья. То я их не знаю!
— Что мир решил — то Богу угодно!
На небе висело красноватое в дымке солнце. Над бухтой кружили гусиные стаи, сбиваясь в тысячные косяки, на озерах пожелтевшей тундры сипло верещали утки. За кормой вытянутого на берег коча тускло розовела полоса нагнанного льда. С непонятным волнением в груди Стадухин сходил к каменным столбам. В скальные щели набился снег, теперь явно виделось, что носатые люди смеются. Он покачал головой, повздыхал, смиряясь с очередной неудачей. Вскоре задуло с востока — спутники, каменные столбы, море и сам Илья пророк были против похода к Погыче. Коч столкнули на воду, Селиверстов направил его в узкое разводье и вскоре льды за кормой сомкнулись, отрезав обратный путь. Весла громыхали по плавучим лепехам, судно обжимали источенные бока льдин, которые шевелились и скребли смоленые борта. Раздвигая их шестами, коч вывели на проходимую глубину. Селиверстов велел поднять парус. Судно двинулось в обратную сторону, на закат. Коряки со связанными ногами удивленно переглянулись, разом перекинулись за борт и, как дождевые черви в норы, ушли в черную воду. Атаман, глядя на сомкнувшиеся над ними льдины, печально обернулся к Бугру:
— Еще двое за нас с тобой! Только не смирились, как мы.
— Плохая примета возвращаться с полпути! — не ко времени возмутился Васька, кряхтя и напрягаясь на весле. Его никто не услышал.
Ветер менялся, гонял льды вдоль берега, то и дело приходилось просекаться. Оказалось, что по мелким заливам и устьям речек, мимо которых прошли с попутным ветром, много станов. Их жители, высмотрев терпящих бедствия, нападали, чтобы пограбить. Стадухин со своими людьми отбивался, ходил на погромы, находил в юртах моржовые кости, подбитые ими лыжи и нарты. Не раз его спутники встречали на коренном берегу и островах залитые водой землянки, укрепленные толстыми деревьями и костями. Они были не такими, как жилье здешних жителей, и, по их словам, оставались с давних времен от бородатых зверобоев, живших у моря. Воевать было некогда. Устав от тягот пути, нападений и погромов, Стадухин не аманатил, не требовал ясак, не говорил государева слова и не звал под царскую руку.
— Другим летом! — оправдывался перед спутниками.
Путь на восход от Колымы был пройден всего за семь дней, в обратную сторону, только до Чаунского залива, богатого рыбой и птицей, шли две недели. Здесь ватагу стали догонять холода: розовое от вечернего солнца разводье к утру покрывалось тонким льдом: зима уже откровенно запускала когти в недолгую полярную осень. Дальние вершины Великого Камня белели снегами. Кажется, за одну ночь пожелтели листья на прибрежном ивняке и березках, в другую — покрылись инеем. Каждый день был дорог. Спутники Стадухина отъелись, пополнили припас рыбы и воды в Чаунском заливе и заспешили к Колыме знакомым путем. Юша Селиверстов, удивляя мастерством, словно загодя чуял перемены ветра и вел судно в такие дни, когда другие мореходы обычно отстаивались.
Седьмого сентября, перед Рождеством Богородицы, едва ли не в последний день, когда еще можно было войти в дельту, потрепанное штормами и льдами судно приткнулось к берегу Стадухинской протоки. Запах прелого ивняка, торфа, винный дух гниющего плавника, вид курной избы, из волоковых окон которой шел дым, ненадолго сделали лица людей радостными и оживленными. Здесь стояли знакомый коч Федьки Катаева и еще три торговых судна. Федька по-хозяйски вышел из зимовья.
— Что, Михайла, дошел ли до Погычи? — спросил, приветливо улыбаясь, будто не помнил ни злых слов, сказанных в начале лета, ни отобранной у него муки.
Стадухин поприветствовал его, но не ответил: походя в суете сделать это было непросто, но спросил о том, чем мучился весь обратный путь:
— Из дежневского полка кто вернулся?
— Не слыхал, — насмешливо прокудахтал Федька. — Оголодали, поди, в море? — продолжал расспрашивать о походе. — А у меня хлеб, мед, постное масло… Поменяю на рыбий зуб и соболей!
Из зимовья вышли три торговых человека. Двое прибыли на Колыму в прошлом году, их лица Михей помнил смутно, дел с ними не имел, третьего вовсе не знал.
— Ржи можно купить, — ответил осторожно. — Проелись. Почем продашь?
— Девять рублей за пуд! — злорадно сверкнул глазами Федька.
— Что так дорого? Летом по пяти рядились. Теперь промышленные ушли, спрос малый. Зачем ее в зиму гноить?
— До весны продам! — уверенно заявил бывший казак.
Про муку, которую отобрали по кабале на купца Свешникова, он не упоминал, про насильственный обмен кочей помалкивал. Потрепанное судно было вытянуто на берег. Люди разбрелись. Закурилась баня. Моржовые клыки были перенесены в избу. Юша Селиверстов неотступно находился при них, пересчитывал и взвешивал. Кости оказалось меньше десяти пудов. После вычета десятины и вклада в Спасский монастырь, который, моля Бога о помощи, соборно обещали в трудные дни, было добыто по двенадцать гривенок на каждого — пуд муки по ярмарочнм ценам.
— Надо ржи купить на всех! — подступились к атаману спутники по походу. В их лицах уже не было радости, что Божьей милостью вернулись живы.
— Надо! — согласился он.
— Так скажи Юшке, — с вызовом глядя на него немигающими глазами, поторопил Пашка Кокоулин.
Стадухин в сопровождении беглых казаков вошел в зимовье. Целовальник долго спорил и отнекивался, говорил, что кость государева, другим продавать ее не велено, убеждал потерпеть ради воеводской награды, которая будет больше, чем выгода со здешнего торга.
— Воевода если и пришлет награду, то через два-три года, — зловредно прошипел Пашка Кокоулин. — А есть хочется сейчас.
— Вы же хотели у государя прощение выслужить! — напомнил беглым Селиверстов.
— В другом месте выслужим! — отрезал Кокоулин.
Они с Ветошкой, давно отколовшиеся и переметнувшиеся к колымскому приказному Власьеву, решили вернуться к нему на службы. По общему тебованию Юша вынужден был отдать паевую долю. Большей частью ее выкупил случившийся здесь торговый человек Михайла Баев, родственник и приказчик купца Александра Баева. То, что он недавно прибыл на Колыму, видно было по его восторженному лицу, какие бывают у приезжих, еще не остывших от слухов и домыслов. С довольным видом оглядев предложенные на мену клыки, он согласился дать муку дешевле других торговых людей. С ним Стадухин и ударил по рукам.
В зимовье было тесно и многолюдно. Торговые люди Анисим Костромин и Михайла Захаров быстро собрались и на своих кочах отправились к Нижнему острожку. Беглые казаки, озлобившиеся на Стадухиных из-за неудачного похода, ушли с ними. Народу убыло наполовину. И тут, будто в отместку за летний грабеж, из Федьки посыпались колымские новости, одна хуже другой. Еще 20 июня, перед выходом Стадухинского отряда казаки поймали на Анюе мужика с размалеванным лицом. «Писаные рожи» — ходынцы иногда бывали на нижнеколымских ярмарках, а этот сказал, что пришел с Анадыря через горы. Его сородичи издавна выбирались сюда известными им аргишами. Эта весть быстро облетела русские остроги и зимовья. Состоятельные торговцы Матвей Кашкин, Матвей Коткин, Анисим Костромин, Михей Захаров загорелись идти на Анадырь сухим путем. Чтобы избежать беззакония, они подали челобитную сыну боярскому Василию Власьеву с просьбой отпустить с ними служилого и объявили «прибыль государю» с новой реки — сорок соболей.
Приказный Василий Власьев в отсутствие Стадухина дал им отпускную грамоту и Семена Иванова Мотору, который был в должниках у Анисима Костромина. Те торговые люди с казаком и двумя десятками покрученников попытались пройти на Анадырь, но путь оказался дольше и трудней, чем думали. Съев припас, который несли на себе, они оголодали и вернулись. Стадухин был взбешен. Колымский приказный сын боярский Василий Власьев бесчинствовал, нарушая права, которыми наделил их якутский воевода. На Погычу и на все неведомые земли за Колымой мог отпускать людей только он, Михайла Стадухин, только он ведал сбором и добычей рыбьего зуба. Такое право ясно и понятно давала ему одному наказная память якутского воеводы.
Слухами от Федьки были смущены многие из отряда и потребовали от раненого Казанца писать царю жалобную челобитную. Громче всех, как водится, кричал и возмущался Юша Селиверстов. Под диктовку атамана Иван Казанец без подробностей написал про морской поход, что Селиверстов все знает про моржей, рыбий зуб и путь, а морское дело ему в обычай. Докладывая царю и воеводе, что в том походе участвовали беглые янские и якутские казаки и подали ему челобитные с просьбой служить на новой реке, Стадухин просил поставить их в прежние оклады, обвинял Втора Гаврилова, Василия Власьева, Семейку Мотору, торгового человека Анисима Костромина во всех предыдущих ведомых ему и предположительных грехах. Его спутники слушали написанное по-разному: одни с поддержкой, другие с унынием.
— В другой раз я с тобой не пойду! — объявил Иван Баранов, угрюмо помалкивавший при дележе кости.
Анисим Мартемьянов свой пай и взятый костью долг продал Михею Баеву, а тот передал Селиверстову, доверив продать в Якутском остроге по тамошней цене и привезти для него на Колыму ржи с ходовым товаром. Баев обещал дать подъем для зимнего похода на Погычу-Анадырь, или летнего на Чендон и Нанандару морем, как решит ватага. Двое промышленных, отчаявшись разбогатеть на вольных государевых окраинах, решили вернуться на Лену. Они остались в зимовье при Селиверстове ждать попутного судна, караулить кость с рухлядью.
Протока уже несла с верховий лепехи льдин и сало. Михей Стадухин, просмолив подсохший коткинский коч, во главе ватаги двинулся к Нижнеколымскому острогу, надеясь застать там Василия Власьева. Бес распалял его против зловредного сына боярского и подстрекал к мщению. Он был зол и на сослуживца Семейку Мотору, на товарищей, переметнувшихся к колымскому приказному, жаждал скандала, был готов к нему, но в остроге от колымской власти оказались только Семейка Мотора и Кирилл Коткин. Увидев Стадухина с ватажкой, целовальник не дал ему рта раскрыть: замахал руками и запричитал, что не желает лезть в дела служилых. Если казаки чем-то недовольны, пусть идут в Верхний острог к Василию Власьеву. Брат целовальника, Матвей Коткин, тоже был в остроге. С ватагой покрученников он собирался подниматься в верховья реки на стареньком стадухинском коче и был до слез рад, что может получить обратно свое крепкое, просторное судно в целости со всеми прежними снастями.
Михей Стадухин с товарищами, даже не облаяв целовальника, бросился искать Семейку Мотору. Тот заперся в чулане и через дверь оправдывался, что не мог ослушаться колымского приказного и слезных просьб промышленных людей, у которых в больших долгах. Торговый Анисим Костромин из-за спин покрученников бранил Михея, нес нелепицу и сыпал угрозами, на которые казак отвечать пренебрег. Получилось, что возвращению Стадухина был рад один только Матвей Коткин. Он и отвлек его от гнева, расхваливая возвращенный коч. Казак не сразу понял, о чем лопочет торговый человек, но кипевшая ярость стала утихать и начала тяготить многодневная усталость. Михей сел, тихим голосом велел собрать бывших в остроге людей. Это дело оказалось непростым и нескорым. Его товарищи и спутники по-хозяйски топили баню, устраивались на ночлег. Опасливо озираясь, из чулана вылез Мотора. Беглые казаки, вернувшиеся из морского похода, мирно беседовали и обменивались новостями с бывшими подельниками, переметнувшимися к Власьеву. Драк между ними не намечалось. Торговые люди Анисим Мартемьянов, Михайла Баев, Матвей Коткин, Матвей Кашкин, Михаил Захаров и Анисим Костромин бойко зазывали вольных людей к себе в покруту на зимние промыслы. Богатым из морского похода не вернулся никто, всем надо было как-то выживать. Михей с удивлением наблюдал острожную суету, не совсем понимая, что происходит. Оставленный товарищами, словно оглохший, тупо оглядывался, но теперь он был не один: за его спиной, как тень, маячил брат Тарх. Часть ходивших с ними людей рядилась в покруту к Матвею Коткину. Иван Баранов открестился от промыслов и к радости целовальника заявил, что останется служить при остроге без жалованья.
— Хоть голодать не буду! — бросил укоризненный взгляд на Михея.
— Вольному — воля! — пожал плечами Стадухин. — Хотя… Удивляюсь тебе.
— Я тебе тоже! — с непонятной неприязнью огрызнулся казак.
Никита Семенов, когда-то злобившийся на Солдата и Кокоулина-Заразу, мирно разговаривал с ними. Все бывшие в летних неудачных походах со Стадухиным и Моторой расспрашивали друг друга о пережитых трудностях. Михей был уверен, что зимой невозможно перевались через синевшие на востоке горы: он это уже испробовал. По здравому разумению, надо было зимовать на Колыме: если сухой путь и откроется, то с мартовским настом, а морем — не раньше июльских разводий. Ждать тех времен при остроге могли только служилые и некоторые из торговых людей. Наконец почти все люди, бывшие неподалеку от Нижнего, собрались. Михей Стадухин обратился к ним с государевым словом, предлагая не ссориться, а идти на Погычу-Анадырь вместе под его началом, поскольку у него одного воеводская наказная память и только он вправе быть приказным на Погыче-Анадыре. Государево слово было доброжелательно выслушано промышленными и беглыми казаками. Торговые люди Михаил Захаров и Матвей Кашкин зароптали, поскольку у них в должниках были многие из собравшихся.
— Не верю! Никому не верю! — непотребно ругался Анисим Костромин, не желая вдумываться в сказанное и читанное.
За Мотору яро вступился беглый казак Никита Семенов, который никак не походил на глупого и крикливого.
— В твоей наказной сказано идти до новой Погычи морем от устья Колымы для государева ясачного и поминочного сбора, для прииску и приводу под царскую высокую руку погыцких неясачных тамошних землиц иноземцев… В Семейкиной наказной колымский приказный велит ему идти посуху на реку Анадырь, путем, указанным ходынцем Ангаром…
— Покажи наказную! — потребовал Стадухин, глядя на Никиту с нетерпеливой досадой. — Разве неясно сказано, что все реки за Колымой — мои, что сбором рыбьего зуба могу ведать только я?
— Тебе покажи! — смелей заверещал Мотора, получив поддержку от некоторых казаков и торговых людей. — При всех изорвешь и отопрешься!
Промышленные и беглые настороженно водили носами от одного говорившего до другого, чесали затылки и бороды, стараясь понять, кто прав.
— Покажи! — стали требовать. — Пусть выборные прочитают.
Мотора молчал, Никита размахивал его отпускной грамотой, нес нелепицу, но читать не давал. Промышленные и беглые казаки выбрали от себя Казанца и Костромина. Первым читал торговый человек. Споткнувшись на одном месте, помычал и бойко залопотал дальше. Казанец это про себя отметил, читал то же самое внятно и неторопливо. Наконец, смущенно улыбнувшись, громко и ясно произнес то, что проглотил Костромин: «Отправляется посуху на ту же реку, что и Стадухин». Толпа возмущенно зарокотала, неприязненно поглядывая на Мотору и Костромина, вступивших в сговор.
— Пусть воевода спрашивает с Власьева, по праву или не по праву он дал Моторе отпускную на Анадырь! Она у него есть, путь он знает. — разумно рассуждал Никита Семенов. — Вдруг Анадырь и Погыча не одно? — указал на самое слабое место в наказной памяти Стадухина. — Столько лет прошло, как услышали про Погычу, а никто там не был!
— Столько лет никто не дошел до верховий Колымы, какой спрос с Погычи? — вскользь поддержал его Иван Баранов.
Бывшие враги из беглых ленских казаков Артемка Солдат и Пашка Кокоулин-Зараза одобрительно завыли. Почему Семейка Мотора не желает идти под его началом, Михею было понятно, но почему его поддерживают вчерашние товарищи — не понимал. Они не спорили, не драли глоток, но смущенно стояли за Мотору, а значит, против него, Стадухина. Добрая половина беглых ленских казаков оказалась на стороне Власьева. Всем остальным было все равно, под чьим началом идти на новые земли, лишь бы прийти. Не вмешивался в распрю и Пашка Левонтьев. Он стоял в стороне, поблескивая гладкой лысиной, внешним видом показывая, что служит за государево жалованье. Летом бес прельстил его бросить службу ради богатства, Бог — вразумил невезением! Поборов обиду, Михей все-таки подошел к Никите Семенову, спросил с насмешливой тоской в глазах:
— Ладно, крикуны с петушиными башками, но ты-то понимаешь, что правда за мной. Зачем лукавишь против Господа? — и обернулся к Левонтьеву за поддержкой. Тот глубоко вздохнул и возвел к потолку набожный взгляд.
Пристальные глаза Никиты засовестились, он опустил их и признался:
— Против правды, но не против Бога. Не любит Он тебя. Не будет с тобой удачи. Я это понял еще на Индигирке.
— А с Моторой?
— С ним, может быть, дойдем и что-то добудем! Так мне душа вещует.
— Душа не ангел! — обидчиво вздохнул Михей. — Через нее бес прельщает соблазнами, — и опять бросил скользящий взгляд на упорно помалкивавшего Пашку Левонтьева. — Ладно уж, поступай как знаешь. Не держу на тебя зла, но воеводе отпишу!
Промышленные, гулящие, беглые из разных ватаг и отрядов стали расходиться по местам промыслов. Спутники Михея Стадухина в большинстве своем пошли в покруту к Анисиму Мартемьянову и Михейке Баеву. Эти торговые, почитав наказную память якутского воеводы, не имели сомнений. Ватага Мартемьянова ушла на обедневшие промыслы Анюя, в прошлогоднее зимовье. Баев еще только присматривался к делам Колымы, уходить далеко от острога боялся. Среди беспокойного, вечно настороженного колымского сброда выделялись добродушным видом и спокойствием старые промышленные. Из них Михей с Тархом хорошо знали Ивана Ожегова и Ивана Карипанова. С тех пор как им удалось выбраться из Жиган, они прочно осели на притоке в среднем течении реки по левому берегу, построили просторное зимовье, завели жен, выкупленных из рабства у юкагиров, имели от них детей. Ни тот, ни другой о возвращении на Лену и Русь не помышляли, добывали рыбу и мясо на пропитание, промышляли соболей и лис, каждый год приезжали на ярмарку, покупали муку, крупы, самые необходимые вещи, излишки с упоением пропивали, наслаждаясь острожным многолюдьем, весельем и новостями. Оба по старой памяти подошли к Михею Стадухину, предложили испить чарку из их фляги. Пили они уже не крепкое вино, а брагу.
— Все воюешь? — стали расспрашивать. — Никак не угомонишься?
Не дожидаясь ответа, стали хвалиться:
— А мы со всеми в мире! Среди колымских и индигирских мужиков имеем кунаков, среди якутов тоже. Они меж собой спорят и к нам за судом идут. Зимовье на баб бросили — душа не болит. Никто не сожжет, друзья кругом. Лось нынче стал опасаться людей, но его много. Мясо, рыба не переводятся, муку, мед привозят! Если нам что нужно от власти, так попа — детишек окрестить, с женами венчаться. А в остальном — иди она, эта власть… Нужды в ней нет. И что бы раньше так не жить!
— Хорошо, что хорошо! — недоверчиво глядя на них, пробормотал Михей. — По вашему виду не скажешь, что разбогатели.
— Зачем нам богатство? Суета от него и грех, — в один голос заспорили с казаком Ивашки, радуясь, что удалось разговорить его. — Возвращались богатыми с Индигирки, знаем, что с того бывает! Пока гоняешься за богатством: мерзнешь, мучаешься, кровь проливаешь — веселей, чем богатому при остроге. Тьфу на него, на богатство! Лежи оно под ногами — не поднимем!
— Значит, ангелы у вас добрые! — расслабляясь душой рядом со счастливыми людьми, сочувственно улыбнулся Стадухин. — У меня другая судьба!
— И то правда! — согласились промышленные, мотая бородами, похмельно вздыхая.
С братом Тархом, тоже нежадным до богатства, Михей решил уйти в зимовье, к Юше Селиверстову. Василий Бугор, Евсейка Павлов и Юшка Трофимов пошли с ними, предполагая перезимовать на подножных кормах. У Бугра болела поясница, Трофимов с Евсейкой надеялись получить свое в новом походе.
Сами собой утихомирились страсти и распри, люди стали расходиться по бескрайней тайге, острог пустел, но тишина ничуть не радовала остававшихся в нем людей. О том, что за частоколом мало защитников, догадывались и немирные западные чукчи. Подходило время их набегов, беспокойных дозоров и караулов.
10. Скитальцы
В те весенние дни, когда Михей Стадухин с ватагой беглых ленских казаков еще плыл с Анюя к Нижнему острогу, осажденному чукчами, Федот Попов, перезимовав на другой стороне Великого Камня, готовился к плаванию в обратную сторону. Здесь, в казачьем зимовье на Тауе куда его выбросила буря, являлся ему во снах образ с лицом пропившегося пророка из ленского кабака: иногда глядел жалостливо, а то и отворачивал озлившийся взгляд. Сначала Федот думал, что эти видения — предвестники кончины и печально, но безбоязненно ждал ее. Потом пришло понимание, что отводимый взгляд блаженного предвещает новые испытания.
И вот потеплело, на открытых местах опали и растаяли снега, укрывавшие зимовье по самые крыши. В тени деревьев еще томились черные сугробы, на берегу моря громоздились блестящие льдины, сглаженные солнцем, прибоем и ветрами. Осенние шторма придвинули к берегу реки дюну, накидали в лагуну груды плавника, покрытого пористым соленым льдом. Но по соседству со льдами и сугробами в считанные дни пробилась зелень травы, густо поднялись синие, белые, красные, сиреневые и желтые цветы. В безветрие среди них деловито жужжали шмели, мирно порхали бабочки и вставали на крыло лютые полчища гнуса.
Казаки готовились к опасному времени, когда к нерестовой речке начнут выходить ламутские роды. Все понимали, что без нападений лето не пережить и зазывали Попова с его ватажкой промышлять поблизости другую зиму. Но Федот только качал побелевшей головой, щурил выстывшие глаза и сжимал губы. На другой стороне Носа его ждали племянник и покрученники, здесь он сам и его своеуженники променяли казакам на рухлядь почти весь товар.
Люди Попова запаслись пресной водой, вяленой рыбой и, молясь о встрече с ватагой, вышли в море с попутным ветром. При ярко-синем море и ясно-голубом небе было холодно, как в Студеном море, ночи сумеречны, но не темны. Коч под парусом долго шел в виду берега с белой, бегущей по нему волной прибоя. Желая сократить путь и поглядывая на компас, Федот стал править круче к полудню и вскоре потерял землю из виду. Со всех сторон были только медлительные, плавные и тягучие без ряби волны в цвет свинца. Коч скользил по ним, как по постному маслу, то зарываясь тупым носом в обгонявший накат, то задирая его.
Спутники Федота, тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели под мачтой, грызли вяленую рыбу и молились. Вскоре показались знакомые горы, сверкавшие снегами. Потом из сизой дымки стал вырисовываться берег. Он был белым от снега с черной полосой отлива-прилива, со льдинами, лежавшими на верхней границе. Промышленные пошли вдоль него к югу и вскоре узнали места, откуда были унесены ветром.
Погода баловала. Мореходы без мук обошли мыс, которым заканчивался Носище Великого Камня, и взяли курс на север. С гор дул западник, но он часто менялся на прижимной и попутный ветры. Чтобы не унесло в океан, Федот держал коч вблизи скалистого берега. Светлым временем суток шли своей силой и парусом, ночами, которые были здесь темней тауйских, укрывались в бухтах и заливах, обильных рыбой и птицей. Коч упорно продвигался к северу, а устья реки, где осталась большая часть ватаги, все не было.
— Уговаривались же с Емелей, чтобы крест поставил! — ворчал Федот.
— Ничего! — ободрялись промышленные. — Весь август впереди!
Поставить крест Емеля не забыл. С коча увидели его, вошли в устье реки, бечевой и шестами поднялись против течения и увидели другое судно, вытянутое на берег. Неподалеку от него стояла изба без частокола, над крышей курился дымок. Навстречу прибывшим вышел Емеля, в его огненной бороде сверкала белозубая улыбка.
— А мы-то ждем! — раскинул руки. — На гору лазили смотреть вас — не углядели… А Богдашка пропал вместе с пищалью. — Лицо племянника искривилось: глаза сузились в щелки, губастый рот сжался бубликом.
— Который? Анисимов? Искали?
— Кого там… До тундры ходили и соседи помогали, сказали, что коряки захватили в рабство.
Где-то выше по реке половина ватажки промышляла рыбу, а здесь сушили юколу, пекли икряной хлеб. Федот бегло осмотрел избу. Диких мужиков не было, но кроме двух привезенных женок, якутки и юкагирки, по- хозяйски суетившихся у каменки, увидел двух девок в долгополых камлайках и вышарканных бахилах.
— Обживаетесь? — указал в их сторону.
Якутка вместо приветствия схватила берестяную люльку с любопытно молчавшим младенцем, показала Федоту рыжего якутенка и рассмеялась.
Пока подходила баня, Емеля рассказывал о зимовке: о том, что со здешними народами не ссорились, жили в дружбе и приязни, соболей и лис добыли много. Не голодали, но хлеб съели, ходовой товар поменяли на рухлядь. Случилась только одна беда — Богдашка! И еще в ватаге назревал раздор: одни хотели промышлять следующую зиму, другие боялись, что люди Бессонки Астафьева соберут всю кость и вернутся на Колыму первыми.
— Мы тоже об этом думали! — поежился Федот. — Ладно, Богдашка — молод и глуп, но Пантелей Демидыч, старый мореход, не мог пропасть бесследно. — Перекрестился и вздохнул: — Хотя, по-всякому бывает!
Пока прибывшие парились в бане и отдыхали, посыльные собрали всех бывших вдали от зимовья. На умученных и озлобленных они не походили. Герасим Анкудинов со смехом обругал Федота, что долго выбирался к оговоренному месту и скандально заговорил о наболевшем:
— Вам что? У вас одни прибыли на уме, а нам, чтобы выслужить прощение, десятинной податью не отделаться. Подводить здешние народы под государеву руку ты не велел, Семейка Дежнев невесть где, своей отпускной грамоты у меня нет. Но если мы вернемся на Колыму с рыбьим зубом и с вестью, где его много, царь нас помилует и наградит!
Герасим уставился на Федота и злорадно улыбнулся, будто ждал от него поперечных слов, но Попов повел плечами, смахнул икринки с бороды.
— Может быть, и так! — Опечалился, что о пропаже коча и разметанном караване никто не вспоминает. — Давайте поговорим!
Промышленные и беглые казаки, выжидающе смотревшие то на него, то на Герасима, заспорили. Федот поморщился, поднял руку, прерывая гвалт:
— Давайте по кругу, как исстари принято. Только сперва скажу: вдруг на Анадыре живы наши спутники. Искать надо!
— Разве успели подняться в верховья, в тундре-то что им делать? — опять загалдели люди Емели и Герасима, видимо, зимой об этом много говорили. — Если потеряли кочи, то построили новые и плывут в обратную сторону… Кто первым вернется с вестью о заморной кости, тот и получит награду.
Как было принято со времен стародавних среди промышленных людей, сняв шапку и поклонившись товарищам, в черед, по кругу стали говорить все желавшие высказаться, другие терпеливо слушали их. Ничего нового и умного сказано не было. Все были уверены, что бессоновские промышленные с оставшимися у них анкудиновскими беглецами и люди Пенды где-то так же удачно промышляли, а к этому времени, скорей всего, загрузились костью и подались в обратную сторону. Надо их догонять, а не искать.
— Им шубки, нам облупки! — поддакивал Герасим каждому выступавшему.
Те, что были осторожней, считали, что до ледостава уже трудно дойти до Колымы: разве только при явной удаче. Не желая зимовать в тундре и среди мертвых камней, предлагали загрузиться костью и вернуться на здешние богатые промыслы, а весной по незамерзающему морю идти в обратную сторону до льдов и с первыми разводьями на Колыму.
До начала следующих промыслов оставалось больше трех месяцев. Голода в этих местах не боялись. По соображениям Федота, чем сидеть в зимовье и разбирать пустопорожние распри, стоило погулять по морю, поискать разметанные кочи и помирить спорщиков. Решившись на сборы, заметно повеселели даже противники похода за костью. Запас юколы и утятины был. Промышленные добыли сивуча, испекли мясо, наполнили все бочки водой, на двух кочах вышли из залива, обогнули мыс и подняли паруса. На удачу, ветер был попутным до вечера, когда солнце стало приседать за горы. Едва оно спряталось, пустив стрелы по морю, парус заполоскал, по волне пошла рябь — из падей задуло.
Суда вошли в залив и встали на якоря, пережидая посветлевшую ночь без звезд. Где-то фыркали сивучи, с пушечным грохотом бил хвостом по воде расшалившийся кит. «Доброе начало — полдела!» — переговаривались мореходы. Суда продвигались к северу медленней, чем были уносимы оттуда. Люди стали узнавать места, где приняли последний бой с чукчами, и поняли, что прошли мимо залива, в котором были разметаны бурей. Но возвращаться к Анадырю никто не желал — корга была рядом. Ее нашли. К радости ватаги заморная кость лежала в тех же кучах, как ее оставили. Темнели прошлогодние кострища с припасом брошенного плавника.
— Значит, промыслы на Анадыре хороши! — утешали спутники Федота, опасливо щурившего стылые глаза.
На этот раз были приняты все меры предосторожности. Люди с оружием обошли окрестности. По сырой пружинящей под ногами тундре, болотистым кочарникам и каменистым сопкам подкрались к селению из пяти больших землянок. Жилье было укреплено изнутри и снаружи плавником и китовыми костями. Опасаясь хитростей, промышленные и казаки осмотрели землянки. Они были оставлены не позже весны: зола в очагах вымокла, кожи подернулись плесенью. Неизвестно, надолго ли, но обжитое чукчами место было покинуто.
В засадных местах ватажные выставили караулы, и началась веселая работа. Заморная кость самого дорогого цвета лежала в песке и галечнике во много слоев. Люди рыли ямы в пояс и снова натыкались на старые кости, свозили их на кочи. Возвращение наметили на Семенов день, потом перенесли на Рождество Богородицы. Пропал гнус, к утру лужи покрывались льдом, появились забереги, застывала вода в лодках. Но днями над желтой тундрой висело желтое нежаркое солнце, голубая волна залива ласково гладила отмель, а на морской берег даже в тихую погоду накатывались хмурые валы прибоя. Федот поторапливал, пытался вразумить хотя бы своеуженников. Его не слушали, ругали, что он, приказчик и хозяин, свое получил, а им, особенно покрученникам, достанется только треть от ими же добытого. И случилось то, чего передовщик опасался. Задул ветер с моря, и залив в одну ночь, так забило льдом, что просечься сквозь него не было надежды.
— Как в мышеловке! — выругался Попов. Ближе к берегу на приливной волне колыхались мелкие лепешки, скребли обшивку кочей. Глядя на них, он приказал: — Выноси кость обратно. Будем вытягиваться на сухое.
— Может, на льдину? — виновато предложил Анкудинов. — Вдруг вынесет ветрами?
— А ниче, перезимуем! — посмеивался Емеля. В огненном шаре длинных пышных волос и бороды белозубо розовело обветренное, нечернеющее лицо.
— Девки говорят, кит выбросился, еще шевелится, — махнул рукой в полуденную сторону. Обуянные страстями промышленные и казаки, увидев лед до самого моря, наконец, поняли, в какой беде оказались. Кит давал надежду на уготованную помощь свыше.
Женщины с удобством устроились в чукотских землянках. Они жили дружно, собирали плавник, поддерживали огонь, каждый день ходили по берегу, собирали в полосе отлива морскую капусту, черные раковины моллюсков, рыбу. Тунгуска тоже родила младенца, трое были явно на сносях и с беззаботной радостью ожидали родов. Это никого из их мужей ни пугало, ни настораживало, но и большой радости у них не было.
— Если чукчи вернутся — за жилье придется драться! — оглянулся в сторону селения Осташка Кудрин. — Зарвались! Что не остановил? — упрекнул приказчика.
— То не вразумлял? — сплюнул под ноги Федот.
— Бес попутал! Не устояли! — покаянно признался Тимоха Мисин. — Мы — ладно! Своеуженники-то чего?
Ссоры не было, но в растерянных упреках спутников Федоту представился раздор, который может случиться зимой от голода и безделья. Кости пришлось вынести на берег и сложить кучами. Кочи вытянули за полосу отлива. Караулы удвоили. Свободные от них разделывали мясо кита, копали ямы в тундровом суглинке с кристаллами льда, складывали китовину и жир, пригодный для еды и обогрева. Перетаскали к землянкам даже кости, которые горели, если их мешать с жиром.
— Лучше лосятины! — хвалил мясо Емелька. — Мягче… Что не жить?
С ним соглашались женщины, любившие его больше своих сожителей. Они жевали с утра до ночи, смешивая мясо с жиром, одна за другой рожали писклявых младенцев, с гордым видом носили их в кожаных зыбках, присыпанных древесной трухой с сухим мхом и были вполне счастливы.
Холодало. Залив так и не очистился ото льда, но битые льдины смерзлись одним полем, при отливе-приливе скреблись и вспучивались, издавая то причудливые, то душераздирающие звуки. К кромке старого льда прирастал новый. В землянках возле очагов было жарко, а по углам поблескивал лед. К счастью, чукчи не потревожили их с наступлением зимы. Среди черных мрачных каменистых сопок и застывших болот завыли пурги, менявшие одна другую. Чтобы выжить, надо было беспрестанно отапливаться. За плавником ходили во всякую погоду и все дальше, вырубали его изо льда, откапывали из снега, волокли по припою.
После Рождества началось бедствие. Если женщины от мяса и жира толстели, то мужчины исхудали и стали плеваться кровью, у многих почернели десны. Уже не хлеб, а древесная заболонь снилась им ночами. Больные, способные ходить, выискивали среди камней промерзший тундровый ивняк, грызли его шатающимися зубами, наслаждаясь терпкой горечью коры.
В феврале из-за моря показался ослепительный краешек солнца, окрасил кровью лед залива и дальний разлив воды. Емеля умер, глядя на них с восторженной улыбкой. К тому времени его крупные красивые зубы наполовину выпали, но лицо застыло красивым: длинные волосы, перепутались с такой же длинной бородой и пламенели в солнечных лучах. За ним стали умирать другие, будто Емеля-весельчак сманивал их за собой. С непокорной руганью отошел и успокоился удалой казак Анкудинов. Долбить могилы в каменистой земле не было сил. Тела складывали в расселину и закидывали снегом.
На зависть больным и умиравшим, женщины и их младенцы выглядели вполне здоровыми. В погожие дни они ходили в тундру за куропатками. Возвращались с лицами, испачканными кровью, а свеженины приносили мало. В землянке, где лежали больные, стояла либо нестерпимая вонь, либо стужа. Женщины и промышленные, державшиеся на ногах, перешли в другую и в черед отапливали больных. Когда растаял снег, тела умерших приложили камнями и поставили крест из плавника. Споров не было, все живые молились и напряженно ждали, когда отойдут льды.
В мае из трещин между припойным льдом и ледовым полем вылезли нерпы. Федот пополз с пищалью, долго целился в маленькую голову зверя, который дальше всех отполз от трещины. Бил картечью. Едва отнесло дым — вскрикнул от радости. Зверь лежал в луже крови и дергал ластами. Свеженина поправила здоровье, дала сил дожить до чаячьих яиц, которые собирали с камней шапками, и увидеть, как июньские шторма ломают, ставят дыбом лед, закрывший выход из залива. Едва его изломало, обессиленные люди столкнули на воду кочи, стали грузить отборную кость. Федот внимательно смотрел на осадку, как только его большое, восьмисаженное судно просело на обычную глубину, приказал: «Все!»
— Из Нижнеколымского выходили с хлебом на четыре пальца глубже! — заспорил было Осташка Кудрин, его вяло поддержали покрученники. Федот упрямо замотал побелевшей головой.
Двое своеуженников умерли. Остальные по праву вкладчиков загрузили паевую кость в другой, малый коч. Мех тоже был поделен по паям. На судно Федота взошли десять, на другое — восемь человек: это были все пережившие зиму. Женщины, увидев сборы, похватали детей и разбежались, будто кто угрожал им неволей. Запас воды, мяса и жира был загружен. Вдали тягуче перекатывались черные морские волны. Едва отлив и ветер вытолкали из залива большую часть скрежещущих льдин, кочи двинулись за ними. С востока поднимался огромный вишневый круг солнца. Оторвавшись от бескрайних вод, он пожелтел и яичным желтком рассекся по небу. Помолившись на него, Федот велел поднять ровдужный парус, смазанный китовым жиром, обошел мыс и, щурясь на восход, взял курс прямо на солнце. Следом за ним двигался коч под началом своеуженника Осташки Кудрина.
Вскоре судам пришлось спустить паруса, а гребцам сесть за весла. Коч Осташки обошел большое судно Попова. Федот пристроился за его кормой. И так они шли весь день, продвигаясь от скалы к скале. Для отдыха пытались встать на якоря, но они волочились по дну, а усиливавшийся ветер уносил от берега в море. Держаться против него не было сил даже у Осташки на его малом судне. Ничего не оставалось, как опять отдаться воле Божьей. Призывая в помощь Николу Чудотворца, гребцы только удерживали суда носом к волнам, и снова их понесло в неведомое. Образ ленского пропойцы с холодным трезвым взглядом стоял перед Федотом почти в яви, забываясь, он в голос ругал его, накликавшего тяжкие судьбы.
Из свежего ветер превратился в сильный, потом сделалась буря. Парус накрепко привязали, из шестов соорудили плавучий якорь. Вдали то взлетал на гребне, то пропадал из виду коч Осташки и отдалялся, пока не слился со свинцовыми волнами. То усиливаясь, то стихая до умеренного, ветер не унимался неделю сряду. Вода была выпита. Спасала сырость: небо бусило, водяная пыль висела над морем, цепляясь за гребни волн, коч обгоняли низкие облака, их влага оседала на расстеленном парусе, ее приспособились собирать в бочонок.
Однажды за бортом показалась морская трава, потом еще: где-то поблизости была земля. По правому борту темными пятнами мелькнули острова, затем по курсу горбатой рыбьей спиной поднялись из вод и приблизились скалы, на которых лежали облака.
— Где мы? — бормотал Федот и носком сапога чертил по настилу карту побережья, как его помнил. — Острова или земля против Яны, Индигирки, Колымы. Потом острова с зубатыми людьми… Нос Необходимого Камня, свесившийся к полудню…
Кончилось вяленое мясо, запас дров сожгли вперемешку с китовым жиром, теперь мерзли и жевали сырые кожи.
— Новая Земля! — поддакнул передовщику Михейка Щербаков. Он был худ, как пугало, потерял половину зубов и с белой бородой походил на мосластого старика. Федот перевел взгляд на других спутников, с которыми делил невзгоды последних лет: впавшие щеки и губы, выбеленные солью бороды — они были не краше Михейки.
— Слыхал на Индигирке от связчика, Царствие Небесное, — Щербаков прочертил пальцами со лба на запавший живот да по задравшимся как вороновы крылья плечам, — будто выносило его к острову. И там по запаху дыма он вышел к земляным избам. Встретили бородатые люди огромного роста, обогрели, накормили, выслушали жалобы, дали отдохнуть и с неделю никуда не пускали, а после говорят по-русски: «Никому не сказывай, что встретил нас!»
— Про Новую Землю много слухов! — рассеянно пробормотал Федот, не поднимая глаз и продолжая что-то вычерчивать носком сапога. — Похоже, она тянется против Индигирки, Колымы и мыса, откуда Нос свесился на полдень.
— Земля или остров за островом? — высказал догадку один из сидевших на корме. — Китов много, подплывают близко, как бы шалостью не перевернули коч.
Федот скользнул по говорившему туманным взглядом, передал руль, присел на четвереньки и стал чертить по доскам пальцем.
— И куда нас выносит? — спросил ухмылявшееся видение. — Ведь ты на десяток лет вперед все знал, отчего молчишь? Помер, что ли?
— Ты с кем говоришь? — с дрожью в голосе просипел Щербаков. Худое лицо его вытянулось, губы подергиваались.
Федот поморщился, вымученно улыбнулся:
— Это так! Сам с собой!
Ветер стих, будто внял молитвам странников. Успокаивались волны, устало перекатываясь и подталкивая судно к земле. Из-за низких облаков тускло блеснуло солнце. Мореходы подняли парус: последний съестной припас. Стала быстрей приближаться суша. Федот пристально вглядывался в береговую линию, продолжал рассуждать вслух:
— Не пойму! Опять к Носу пришли или что?
— Там камни — выше! — неуверенно возразил Щербаков и заскоблил вислую седую бороду.
Перед ними расстилалась тундровая равнина с редкими черными скалами, подступавшими к воде.
— Может, выбросимся? — неуверенно зароптали гребцы.
— А там что? — устало спросил Федот. — Вдруг болотина, как между Яной и Омолоном.
— Утки, гуси…
Щербаков поплелся на нос судна мерить глубину, опустил шест и не достал дна. Можно было подойти ближе, ветер позволял двигаться вдоль берега под парусом.
— Обойти Нос в другой раз никак не могли, — вразнобой спорили промышленные, поглядывая на передовщика. — И земля была бы по другому борту, и шли бы на закат.
Федот молча хмурил лоб и продолжал что-то чертить. Вскоре показался залив. Вдали от берега виднелся низкорослый низинный лес. Впередсмотрящие указали на отмель. На ней виднелся русский коч полузанесенный песком и окатышем. Спутать его с каким-нибудь другим судном было невозможно.
— Эвон еще один!
Федот перевел глаза и перед намытой дюной увидел неясные очертания другого судна. Волны гнали его на ту же отмель, то и дело обнажая и скрывая черные камни в сотне шагов от суши. При свежем ветре отмель с рифами была ловушкой для судов. Надо было либо подставляться бортом к волне и силой выгребать против ветра, либо выбрасываться туда, где лежали чьи-то суда. Передовщик перекрестился, обернулся к спутникам. Они уже поняли, что иного выхода нет, и со страхом ждали чуда.
— Молитесь, братцы! — оскалив желтые зубы в белой бороде, оживился Федот. — Помилует Господь — выйдем целыми, дождемся противного ветра, поплывем в обратную сторону. Ну, а не помилует по грехам нашим… — Блеснул глазами и махнул рукой. — Парус привязать накрепко! — приказал скрежещущим голосом.
Лицо его напряглось, ожесточилось, пальцы крепче сжали румпель, он зловеще хохотнул, мотнул головой и прорычал со злым весельем:
— Вот ведь как забавляются Доля с Недолей! Расшалились стервы незрячие! Нет им угомону: то покажут богатства несметные, то костлявую морду, накось, мол, выкуси… А поглядим, как на этот раз! — прокричал, высматривая путь.
Не отыскав безопасного прохода между рифами, Федот хотел перескочить через них на поднимавшейся волне. Для этого надо было подойти к камням вовремя.
— Суши весла! — крикнул в их близости.
Не всеми была понята команда, сидя спинами к опасности, гребцы не видели того, что видел передовщик.
— Назад что есть мочи! — закричал он. — Теперь вперед изо всех сил! Господи, помилуй! Отче Никола, помогай нам!
— Отче наш! — сиплыми от натуги голосами запели гребцы, налегая на весла.
Под правым бортом хрястнуло, судно так тряхнуло, что двое сорвались с мест и улетели в воду. Весло от удара о камень выскочило из уключины, упало на спины людей, вцепившихся в лавки. Все это произошло в один миг, в другой под днищем зашуршал, заскрежетал окатыш. Волна отхлынула, еще раз ударив коч бортом о камни со стороны берега, затем бросила на мель и отошла, вздулась, набираясь новой, злой силы.
— На шесты! — закричал Федот. — Удерживай!
Гребцы уперлись веслами в мокрый песок и камни. Волна догнала, ударив разбитый борт, хлестнула щепками, обломками досок, приподняла полузатопленный коч и протолкнула к берегу на несколько саженей. Оставив половину людей на шестах, Федот приказал другим спасать добро. При отливной волне ватажные забегали взад-вперед, вынося на сушу мешки с рухлядью, порох и оружие. Наконец, коч удалось вытянуть на отмель. Он вздрагивал от волн, но уже не сползал с прибоем. К тому же начался отлив и захлестывало все реже. Продрогшие промышленные бросились собирать сухой плавник. Федот скинул мокрый кафтан, отжал, расстелил на камнях, вылил воду из сапог и пошел к увязшему в песке судну. Предчувствие не обмануло — это был коч, который вел Пантелей Демидович Пенда. Попов погладил ладонью обсохший борт, подумал: надо бы откопать, поискать остатки товара, тела погибших, перекрестился, поминая их как мертвых. Товарищи развели огонь и сушили одежду. Двое пошли искать пресную воду. Федот вернулся к костру, скинул рубаху, тоже стал сушиться. Тимоха Мисин вылез из жилухи с мокрым меховым одеялом в руках, со шлепком бросил его на песок. С трудом ворочая языком, Федот спросил:
— Как проломило?
— Днище и обшивка по борту — в щепки! — не глядя на переводщика, ответил тот.
— Залатаем! — Федот указал взглядом на другой коч. — Или сделаем один из двух.
— Ну и ладно! — неуверенно согласился Тимоха. — Хоть в том повезло.
Спасшиеся от потопления осмотрелись, куда были выброшены. При отливе обнажилась ручьями впадавшая в залив речка. «Пресной воды искать не надо», — обрадовался Федот, разглядывая равнинное русло, туманные вершины гор вдали. Двое промышленных, ушедших к реке, вдруг побежали обратно к костру, как не бегают, напившись воды.
— Люди! — закричали, размахивая руками.
Федот чертыхнулся, стал заряжать отсыревшую фузею. Его товарищи, накинув на себя сырую одежду, вошли по колено в воду и привычно заняли оборону под прикрытием разбитого коча. Из-за темневшей полоски прибрежного кустарника река вынесла большую, но легкую лодку с тремя гребцами. Коч и люди возле него были явно замечены ими. Суденышко приткнулось к берегу. Издали казалось, что гребцы покрыты бурками или епанчами. Приближались они открыто, спокойно и уверенно, не так, как крадутся или налетают враги, чтобы пограбить претерпевших бедствие. И чем ближе подходили при общем молчании спасшихся, тем очевидней становилось, что это русские люди. У одного белая борода в пояс, по плечам лежали волосы, как снег.
— Не Пенда ли? — вскрикнул Тимоха.
— Да это же наши!
Федот вышел на сухой окатыш и спустил пружину фузеи. Слезы текли по его обветренным щекам и висли в бороде.
— Опять свела судьба! — обнял старого друга. — Коч узнал и, грешным делом, помянул тебя как упокоившегося.
— Суечусь еще! — с шепелявинкой ответил Пантелей, и Федот заметил в его глазах блеск беспричинной младенческой радости.
Пенда сбросил епанчу из отмятой оленьей кожи, оставшись в ветхом кафтане. Его спутники, поповские покрученники Лука с Никитой, были одеты в причудливые парки из птичьих перьев.
— Кто жив-то? — Федот хлюпнул носом и смахнул слезы с глаз.
— А все живы!
— Милостив к вам Бог! — всхлипнул. — А нас после нынешней зимовки осталось меньше двух десятков из тридцати. Да и то… На другом коче, с Осташкой Кудриным, выжили нет ли, един Господь знает.
Пантелей и Никита с Лукой, опустив головы, наложили на грудь кресты.
— А мы целы! — весело повторил Пантелей.
— Даже с прибытком! — лукаво улыбнулся Лука Алимпиев. В его глазах тоже промелькнула радость, какая иногда высвечивается в глазах ветхих стариков, уже отстранившихся от суеты земной жизни. — Беглых с Лены сюда же выкинуло прежде нас. Вместе с вами набирается русское сельцо, можно закладывать церковь во имя Николы Чудотворца.
— Какие беглые? — удивленно переспросил Федот.
— А Ивашка Ретькин, пятидесятник с промышленными, — Пантелей присел на брошенный плащ. — Укрывались от бури во льдах, зимовали на острове, питались медвежатиной да тем, что море даст, наполовину перемерли. Выживших Бог привел сюда, потом нас, теперь вас прибавил. Село, и только! Говорю, пора храм рубить!.. Голодные? — участливо спохватился.
— Даже воды напиться не успели!
— Идите налегке. Опасаться некого. Лука, проводи! — приказал спутнику. — В лодке свежая рыба.
Пока люди Федота Попова отпивались пресной водой и отъедались рыбой, Пантелей обошел выбросившийся коч, осмотрел проломы бортов, сходил со спутниками вдоль берега, приволок толстые бревна из обкатанного плавника, указал, где копать яму для ворота. Вскоре проломленный коч был разгружен и вытянут на сухое.
— Мы не сделали этого сразу, вот и занесло, — указал на свой коч, наполовину зарытый в берег песком.
Выглянуло солнце, покатилось по небу, указывая время суток, зарозовели облака над морем, с отливом волны отступили и бренчали окатышем возле черных камней, о которые разбило судно. В лужах отливной полосы плескалась зазевавшаяся рыбешка, чайки с криками носились над обнажившимся дном, кормились, хватая добычу. Тлел костер, Пантелей рассказывал, как скитался в море, прежде чем выброситься в этом же месте.
— Как караулы выставлять? — сонно поклевывая носом, спросил Тимоха Мисин.
Федот вскинул глаза на Пантелея, спрашивая совета. Тот беззаботно рассмеялся:
— У нас врагов нет!
Его спутники заулыбались, вспомнив что-то свое.
— В прошлом году воевали с островными собачьими людьми! — пояснил старый промышленный. — Нынче мир.
— Чукчи или юкагиры? — поднял виснувшую голову Тимоха.
— Другие! — Пантелей рукавом смахнул с лица осевшую влагу. — Здешние на собаках не ездят, а собачьими зовутся, потому что говорят про себя, будто произошли от похотливой бабы, слюбившейся с кобелем. Тут тоже все меж собой воюют: род против рода, племя на племя, бывает, родственники и те проливают кровь. Видно, такими всех нас Господь сотворил, — со вздохом наложил на грудь крестное знамение. — А живем с людьми, похожими на чукчей. Они роднятся между собой, бывает, приплывают из-за моря одни к другим. Хорошо живем, лучше, чем с родней! На наших нападали собачьи люди, много мужчин убили. Мы постреляли поверх голов, разогнали. Больше враги не появляются…
— У ваших-то какой язык?
— Свой! Ни на чей не похожий! — ответил Пантелей, не желая рассуждать о догадках, откуда какие люди могли прийти.
— Нас на Каменном Носу тоже приняли как сынов Божьих, — вздохнул Михейка Щербаков. — Двух девок подарили. Соболей палками били возле лабаза, в зимовье давили, как мышей, — вспомнил с усталым умилением в глазах.
Спутники Пантелея Лука с Никитой похвастались:
— У нас женок всем хватает, можем и вас оженить. Они здесь верные, да послушные.
— А зачем плыли к нам? От кого узнали? — приподнявшись на локте, спросил Федот. — Сорока на хвосте принесла или как?
— Вороны накаркали! — без смеха ответил Пантелей. — Умные птицы, недаром их тунгусы, якуты и здешние инородцы уважают. Приходит родовой князец, мой тесть, и говорит, в орон кричит, будто к устью выбросило кита. Здесь кит — главная еда, жир запасают бочками, с ним рыбу, мясо, ягоды едят, как мы с хлебом. Вот и поплыли посмотреть!
— Хлеб-то у вашего народа есть? — вкрадчиво спросил Федот и почувствовал, как напряглись его спутники.
— Нет хлеба! — со вздохом, но беспечально ответил Пантелей. — Здесь и не слыхали про него. Зато рыбы всякой много, мяса, корни, травы… С голода не помрешь. Везде можно жить, где нет царского холопья, — беззлобно рассмеялся. — Если они и доберутся сюда, то не скоро. — Дадут нам пожить по-людски.
— Вон что? — Опустил голову Федот. — так вы возвращаться не хотите?
— А что там? — сладко зевнул и потянулся Лука.
— Колготня, ссоры, властолюбцы, кабаки, — с беззаботной улыбкой в уголках глаз поддержал его Пантелей и тихонько вздохнул. — Говорите, Камень обошли с двух сторон, больше искать нечего, надеяться не на что… На кой такая жизнь, если некуда идти? — Насмешливо, но пристально взглянул на Федота поверх костра, будто хотел влезть в душу. — Кому даст Бог вернуться и обмолвиться про нас, тому воеводских кнутов не миновать. А ради чего? Слава Богу, соболя тут нет, ни серебра, ни золота ни у кого не видели: тешиться богатством и властью не с чего.
— Тяжко стало жить с тех пор, как обошли Нос и встретили шелковниковских служилых. — признался Федот, понимая больше, чем сказал старый друг. — Душа не на месте — хоть ложись и помирай… — пожаловался со вздохом. — Много раз, молясь о спасении жизни, спрашивал себя, ради чего Бога искушаю? Не для богатства же! Хотя достатка все желают. Хотелось добыть славы, заслужить восхищение своего народа, может быть, любовь. Чтобы старые рассказывали, молодые помнили. Да вот ведь оказалось, всю-то жизнь бес манил ложными посулами.
— Понимаю! — при наступившей тишине прокашлялся Пантелей. — Сам грешен.
Потрескивали головешки костра, бусило сумеречное, опять затянутое облаками небо. Промышленные молчали, думая каждый о своем. Тишина напрягалась, начинала томить.
— Моржи здесь есть? — спросил Федот.
— Мало! — резко ответил Пантелей, метнув непрязненный взгляд на груду клыков. — И слава Богу! — Зевнул, прикрывая ладонью щербатый рот. — Сыт, свободен, чего еще надо? — Сказал и снова удивил Федота переменой души, которая теперь казалась раскрытой, тогда как на Колыме была заперта на семь замков.
— Долг на мне перед купцом Усовым, — вздохнул приказчик. — Теперь уже огромный. Без богатства лучше не возвращаться.
— Не возвращайся! На мне тоже кабала — брал десять целковых, теперь уже, наверное, больше тридцати.
— Мне бы столько! — сонно пробормотал Федот.
На другой день спасшиеся сложили пожитки и добытые меха в легкую просторную лодку, обшитую кожами, потянули ее бечевой против несильного течения реки. Тропа по берегу была нахожена и прорублена, люди ходили здесь часто. На ней встречались медвежьи следы, но они не смущали Пантелея со спутниками.
Селение стояло на берегу большого озера. Над его гладью клубился туман, вдали виднелись горы со снежными вершинами. У истока речки кособочилась просторная съезжая изба, к ней приткнулись несколько жилых, по-сибирски тесных и приземистых хижин с плоскими крышами, без частокола и нагородней. В стороне курились вытяжные дыры островерхих берестяных юрт. Дым очагов стелился по сырой земле, маня теплом, уютом, отдыхом. Федоту показалось вдруг, что он где-то возле Нижнеколымского острога. Заметив многих путников, шедших берегом, из юрт стали выглядывать люди. Бородатые русичи простоголовые, неопоясанные, безоружные побежали к приближавшимся. Артемка Федоров завопил, узнав Федота Попова. Обнимаясь, принимая приветствия от своих спасшихся покрученников, Федот с печалью приговаривал:
— Пантелей Демидыч куда как лучше меня сохранил своих людей.
— Нам не впервой! — блеснул молодеющими глазами старый промышленный.
Федот обернулся, проследив за его взглядом. На пороге избенки с плоской крышей и трубой, обмазанной глиной, стояла полуголая женка с выпяченной нижней губой. Ее черные волосы были не покрыты, но заплетены в две косы, как у замужней, на плечи наброшена отмятая кожа, колени обнажены. В Сибири инородки стыдились голых ног больше, чем обнаженной груди. Здесь, похоже, совсем не знали стыда наготы. Из чума вышел мужик, густо размалеванный красной и белой красками. Только зад да промежность были прикрыты шкурой мехом наружу.
— Писаные рожи? — спросил Федот Пантелея.
— Другие! — коротко бросил тот, не сводя ласковых глаз с женщины. — И язык свой, и нравы.
К прибывшим выходили женщины разного вида, по-разному одетые — одна в русской льняной рубахе ниже колен. Вблизи Федот рассмотрел, что венцы жилья положены без мха, как на амбарах, спросить отчего так не успел.
— Пришли! — Скинул шапку Пантелей и, обернувшись к гостям, объявил: — Становись где кому любо. Животы заноси в съезжую избу. Там тоже можно жить.
Федота он повел к себе. Избенка в четыре квадратных сажени оказалась очень чистой, не по-русски ярко украшенной изнутри. Во всем чувствовалась женская рука. Молодая женщина, которую Федот увидел первой, приветливо улыбнулась ему. Пантелей что-то ласково проурчал. Она, стоя спиной к гостю, скинула кожу и через голову надела мужскую рубаху. Рукава свесились до колен, женщина шаловливо протянула их Пантелею, чтобы закатал.
— Женка моя! — сказал он по-русски все с тем же светом в глазах, который удивил Федота при встрече. — В Сибири не нашел ни суженой, ни богоданной, да и ни к чему было, а тут зажил оседло, мирно… И счастливо.
Женка, лукаво поблескивая черными глазами, выставляла на стол угощения: распаренное холодное мясо, ягоду, рыбу. Вина в доме не было, не было и квасу. Она достала глиняный кувшин с морсом и села на лавку, наблюдая за мужчинами.
— Отведай здешней ягодки! — предложил Пантелей, наливая морс в чарки. — Баню истопят, попаритесь, а пока подкрепись… Эх! — повел замутневшими глазами. — Сам всю жизнь бродяжничал, и вы уже с сивыми бородами, а все никак не остепенитесь. Поживу, бывало, среди служилых и тягловых, и так тошно станет — думаю, уж лучше одному.
Осушив чарку, Федот вскинул на него глаза:
— Семейка Шелковников в казачьем чине поставил острожек с полуденной стороны Камня. Ивашка Москвитин, по слухам, на Амуре, с Хабаровым.
— Служат?! — Пантелей поставил пустую чарку и смахнул капли морса с белых усов. — Меняется мир, благочестивая старина попирается барством и холопством. Или это зачем-то нужно Господу, или пытает наш народ, как потомков Израиля в пустыне. Городовые казаки никогда казаками не были, а вольные еще в Смуту стали делиться на голь и домовитых: одни хотели свободы, другие — государева жалованья, чинов, власти.
— Ты знаешь, чего я искал! — буркнул Федот и взял с блюда кусок мяса. — Да вот изверился.
— Все мы что-то искали! — разбирая рыбью голову, снова переглянулся с женкой Пантелей. — Пора и пожить в радость!
— А здесь край земли известен?
— Этого никто не знает! — По взгляду Федота Пантелей догадался о недосказанном и громко рассмеялся:
— Я свое отслужил Господу, никуда больше идти не хочу. Дом, семья, дети, внуки — другого счастья нет! Это ж надо! — Со смешливым удивлением вскинул брови. — Один из сотен дожил до полной седины, терпел муки, и все для того, чтобы понять простое. Наверное, бес водил и потешался. Помнишь моего товарища, который осел в Туруханском монастыре?
— Как же? На твоей полюбовной девке женился.
— Был грех! — беззаботно кивнул Пантелей. — Так вот ему смолоду дал Бог понять то, на что я жизнь положил. Бывает и так… — А что? — Встрепенулся, молодея лицом. — Можно и здесь построить Ирию, жить по старине и справедливости.
Федот с недоверчивой блуждающей улыбкой в глазах всматривался в лицо пожилого человека и видел его молодым. Белая борода и волосы казались чужими, прилепленными.
— Жена, дети, дом, любовь близких — щедрый дар Божий, — согласился, смущенно опуская глаза. — Это хорошо понимаешь, когда прощаешься с жизнью. Только я уже старый, а ты еще старей!
— Какой же я старый? — рассмеялся Пантелей. — Ты, видать, еще не исполнил своего, не освободился от суетного. — Отложил рыбью голову, вытер руки. — Иные из моих чудом спасшихся тоже бесятся. Бывает, боюсь — рук бы на себя не наложили. Ивашку Ретькина жалко. Иной раз думаю: уж лучше бы ему вернуться к кнутам и воеводам. Нет воли без Духа! — Погладил растопыренной ладонью по столешнице. — В Мангазее девка у меня была, до сих пор снится!
— Помню! — улыбнулся Федот. — Красивая. Теперь уже старуха.
Мимолетная боль тенью мелькнула на расслабленном лице Пантелея, чуть нахмурившись, он сказал резче:
— Хороша была Маланья, да не про Ананью! Я не мог не исполнить своего, она не могла таскаться за мной по Сибири по сию пору.
Побездельничать Федоту со спутниками не удалось. В тот же день они развязали мешки, чтобы показать добытых соболей, лис, бобров, и увидели, что кожа плесневеет. Пришлось спешно мездрить, сушить и отминать рухлядь. Постепенно узнавал Федот, что еда доставалась здешним жителям не трудней, чем на Колыме, может быть, легче, они были приветливы и радовались, что в селении прибыло мужчин, способных защитить детей и женщин. Все жили мирно и дружно. Примечал Федот и то, что его разговоры о возвращении не прельщают многих спасшихся с ним спутников, которые имели паи рухляди и рыбьего зуба: они беззаботно раздаривали соболей, моржовую кость на наконечники и украшения. Попов не думал принуждать их к возвращению, не напоминал о крестном целовании, но стал беспокоиться, что не наберет гребцов, чтобы отправиться в обратную сторону.
— А сам не хочешь остаться? — осторожно спрашивал его Пантелей.
— Честной Крест целовал купцу Усову! — оправдался Федот. — Грех не вернуться, если могу отдать долг. Господь спросит!
— Понимаю! — согласился старый промышленный. — А как пытать станут, где был?
— Не скажу! Перед иконами, под пыткой солгу! Вот те крест, — размашисто перекрестился, преданно глядя в глаза старого друга.
— Еще юнцом удивлял ты меня умом и смекалкой… Если и скажешь: плыть далеко, рожь не вызревает, соболя нет. Песцы, так их на Индигирке и Колыме что комаров. Серебро не искал, не знаю. Дай Бог, чтобы не было, а кому там жить тошно, — кивнул на закат, — сюда бы бежали.
Вдруг он как-то разом осекся, помолчав, заговорил тише:
— Помню, рассказывал тебе, что жил у чуди, да не все… Знай, вдруг сгодится! В чудском доме привязался я к их старейшине: скажи да скажи, что и зачем на белом свете деется и для чего. Старец умный, красивый: белые волосы в пояс, борода до колен. И был мне сон. Видел кузню небесную. Великаны-богатыри, похожие на того старца, ковали огромную поделку. Грели ее в огне, били молотами так, что искры и оковалки летели по сторонам. Проснулся я в страхе, рассказал сон старцу и попросил растолковать. Он объяснил, что кузнецы — это Сварог с Семарглом, куют будущую Русь. Ей больно и тяжко, но нет другой судьбы, как терпеть, чтобы когда-нибудь подняться в былом величии. «А оковалки и искры, что отлетали от раскаленного железа?» — спрашиваю. «Это ты и мы, все беглецы, которые ушли! — отвечал он. — И вы нужны: вами русская земля возвращается, но не за вами правда».
— Так то же древние боги? — удивленно пожал плечами Федот.
— Я тогда так же спросил, а старейшина ответил: «Боги не старятся, они вечные — люди меняются, забывают былое, переменяют Богам имена! Придет век — вспомнят и про них, и про нас». Что слышал, то говорю, — шевельнул плечами Пантелей. — Наверное, правильней отдать долги. Бог решит, куда тебя: в поковку, в искру или оковалок.
Пуще прежнего разбередилась без того смятенная душа Федота, удивленно вглядываясь в старчески-детские глаза бывшего замкнутого таежного бродяги и лешего, он с сомнением заговорил:
— Помню, читал в Библии, как ветхозаветные старцы Абрам, Израиль и другие жили долго, насладились жизнью, благостно отошли к Господу и приложились к своим предкам. Мы многих похоронили в урмане, по островам и в море. Дело обычное, а все же хочется в конце оказаться на родине.
— «И скончался Абрам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему», — крестя грудь, поправил Федота Пантелей, и тот заметил, как в его открытом взгляде мелькнула давняя претерпевшаяся боль.
Бередить ему душу дальнейшими расспросами и разговорами Федот не стал. Раз и другой сплавлялся к морю с покрученниками, которым не давало покоя их богатство. Они осмотрели разбитые кочи и стали расшивать их. К ночи сидели у костра, глядели на набегавшие волны. Ветер дул с запада.
— Здесь у него свой порядок, как ни моли Илью с Николой, как ни задабривай водяного дедушку — не переменится, пока не придет срок, — щурясь на водную гладь, вздыхал беглый пятидесятник Ретькин. Он думал о возвращении задолго до Попова.
Его спутники квасили ягоды, делали винцо, которое помогало пережить пасмурные дни. Ретькину оно не помогало.
— Тошно! — жаловался. — Даст Бог выбраться, осяду где-нибудь на окраинных государевых службах и буду помалкивать про эти заморские земли.
Желавших вернуться среди бывших и прибывших набиралось всего четверо, Федот был пятым. Помня прежние бедствия пути, другие не рвались в обратную сторону.
— Маловато вас, — посмеивался над ними Пантелей.
— Боятся! — желчно поскрипывал зубами беглый пятидесятник и предрекал: — Дай срок — отъедятся, отоспятся, станут думать, закручинятся и побегут назад, хоть бы под кнуты: нам, русичам, не дал Господь жить ради брюха!
Как догадывался Федот, сам Ретькин кнутов уже не страшился. Но спасшиеся с ним люди обжились, имели жен, чернявых детишек, которых растили в русском духе, языке и вере. Ретькин же кипел непонятной Попову злостью на свое чудесное спасение, на землю и народ, среди которого жил.
— Чем они тебе не угодили? — спрашивал.
— Подговаривают воевать обидчиков, отбирать лодки, парки из птичьих шкур, ракушки, которыми украшаются. — Чужое все! И что тут ни делай, все делаешь для чужих, не для своих! — Оглядывая окрестности, пытался что-то объяснить. — Надо стать таким, как они, или уходить, иначе кручина высушит кости.
Оправдывая себя долгами, Федот его не понимал.
— Неужели по воеводским кнутам соскучился? — пытал, нехорошо посмеиваясь. — Бывает, чем жестче хозяин, тем больше его любят. Воевода Головин таких чуял и приближал.
— Что ты знаешь про Головина? — горячился Ретькин. — Ты только зиму с ним прожил. Пушкин пришел творить правду, всех страдальцев от Головина приблизил, а тех, кто верно служил, стал обирать и притеснять. Хорошо было при атамане Галкине, он никого не принуждал ломать перед ним шапку, но война была непрестанной. С Головиным и жить, и служить было тошно, но он сделал мир, какого до него не было, а все хотели, и больше всех якуты. Кто из казаков сидит при городах и острогах доброй волей? — спросил и сам же ответил: — Новоприборные, старые да увечные. Но там, — указал глазами на закат, — знаешь, зачем живешь, не то что здесь. — Сердито поглядел на Попова: своими вопросами тот распалял его, вынуждая в чем-то оправдываться.
Разобрав кочи, подельники Федота решили, что из них можно сделать один небольшой, но добрый и крепкий.
— Лето здесь сырое, зато зима мягче, чем на Лене, — присев на камни, рассуждал беглый пятидесятник. — Раньше Семенова дня ветер не переменится.
— Так это же совсем скоро! — встрепенулся Попов. — Надо торопиться. — Подумав, поправился: — Еще раз зимовать на Носу — не привели Господи! Да и не угрести впятером. Сманить бы еще столько же.
— Можно коч сделать сейчас, а уйти ближе к весне, только не опоздать, не утерять попутный ветер! — с тоскливым лицом проворчал Ретькин. — К тому времени обязательно кто-то на кого-то обидится, со всеми перессорится и будет пополнение. Зимовали на острове, знаем!
И снова они чертили на песке Новую Землю, высмотренную издалека, многочисленные острова, кто как их помнил. И всегда выходило по-разному. Федот выменял на бисер хорошо отмятую кожу, замесил сажу на клею, вываренном из рыбьих костей, начертил карту Великого Камня от Байкала до обойденного Носа с Индигиркой, Колымой, Мотыклеей, Ахотью-Охотой, с помощью Пантелея Пенды нарисовал берега Большой Земли, на которую был выброшен.
11. Обманная река
Зима, запершая кочи Федота Попова в заливе с песчаной отмелью, богатой заморными клыками, на Колыме переживалась со смутами и раздорами. Втянутые в них отпускной грамотой Василия Власьева, данной Семену Моторе, беглые казаки, торговые и промышленные люди боялись быть опоздавшими или обманутыми. Стадухин грозил не пустить власьевских самовольщиков с Колымы на Погычу — Нанандару — Анадырь, обещал взять в поход всех гулящих и промышленных людей подъемом Михайлы Баева и Анисима Мартемьянова. Его противники держали в напряжении своих должников, не давая им расходиться и спокойно промышлять, и все беспрестанно следили друг за другом.
Самого Михея Стадухина всю зиму мучили нехорошие предчувствия. На Николу студеного — волчьего свата в полусне-полуяви он сел на нарах. В зимовье были темень и холод, в очаге едва розовели подернувшиеся серым пеплом угли. Михей поболтал пятками, нащупал мешки с костью и с удивлением вспомнил, что давно уж нет под ним пестуна, а снился он не к добру. Казак перекрестился, сунул ноги в ичиги, подбросил щепок на угли. Прикрыв ладонью смятую бороду, раздул огонь. Закашлял, закряхтел Бугор, переворачиваясь с боку на бок, высунул нос из-под одеяла, спросил шепотом:
— Что опять?
— Или острог в осаде, или заговор против меня! — так же шепотом ответил Стадухин.
— Немудрено! — зевнул Бугор, открыв лицо со спутавшимися в ком волосами и бородой, сквозь них разгоравшимся огоньком очага отсвечивали глаза. — Сон видел, или что? — спросил громче и с хрустом в костях потянулся, выползая из-под одеяла.
С треском вспыхнула растопка, ярко высветив озабоченное лицо старшего Стадухина. Бугор, свесившись с нар, накидал на нее дров. Услышав голоса, в дверь зимовья протиснулся обледеневший, покрытый куржаком Юша Селиверстов. Он стоял в карауле с полуночи.
— Чую нутром! — ответил Бугру старший Стадухин.
— Если брат чует — надо идти! — пробормотал Тарх и тоже сел на нарах. — Уж я-то знаю!
— По такой стуже, в Нижний? — припав к огню, заскулил Юша необычным для него тонким голосом и, как червь из норы, стал выкарабкиваться из обледеневшего тулупа.
На Крещение Господне в зимовье приволоклись двое обмороженных гулящих и донесли, что ватаги торговых людей Костромина и Захарова сходятся в Нижнеколымский острог. С братом, с верными беглыми казаками Василием Бугром и Евсейкой Павловым, с охочими Юшкой Трофимовым, Иваном Казанцем, едва оправившимся от ран, атаман Стадухин ушел по льду протоки к Нижнему острогу. Под лыжами и полозьями нарт шелестел сухой сыпучий снег, хрустела затянувшаяся наледь, от стужи с грохотом трескался лед реки. Намаявшись волчьим сном ночлегов в снежных ямах, шестеро зимовейщиков с двумя возвращавшимися гулящими людьми подходили к острогу. В виду его они стали двигаться крадучись, высматривая, нет ли осады: возле тына было натоптано больше обычного, ворота распахнуты.
— Не пойму! — пробубнил Бугор в обмерзшую бороду, — то ли никого не боятся, то ли сдурели.
— Кабы чукчи острог не обобрали! — прогнусавил Казанец и шумно прочистил хлюпавший нос.
Караульные на тыне все-таки были, насторожившиеся путники их высмотрели, и те заметили приближавшихся людей, не узнать своих не могли, но вместо того чтобы встретить, забегали, стали запирать ворота. А когда те подошли — со скрипом и клацаньем заложились изнутри брусом.
— Кто на приказе? — заколотил пятками в калитку старший Стадухин. — От кого запираетесь, дети блядины? Я этот острог строил, я его от чукчей спасал, разнесу в щепки — не будет мне суда!
Бугор с Евсейкой и Юшкой, Тарх с Иваном, задрав головы, поносно орали на острожников. Михей выхватил из-за кушака топор, стал рубить самое слабое место, где с другой стороны, изнутри, калитка держалась на им же сделанных из сучьев навесах. Тарх топтался за спиной брата, шмыгал носом, с опаской поглядывал на тын. Бугор с Евсейкой тоже схватились за топоры. Полетела щепа. В четверть часа они бы вырубили места навесов и выломали проход. Над частоколом показалась покрытая лисьей шапкой голова Семена Моторы, рядом с ним мельтешили испуганные лица гулящих людей.
— Ты кого ворота-то ломаешь? — попытался строжиться Семен. — Сам потом делать будешь.
— Уже делал, когда ты с Митькой Зыряном меня ругал. Раком всех поставлю! — пригрозил, отступая от калитки и задирая голову. Он знал наверняка, что стрелять служилые и промышленные не посмеют.
Калитку открыли. Путники ворвались, злословя собравшихся в остроге людей. Народа здесь было слишком много для зимы. Среди них десяток переметнувшихся к Власьеву беглых ленских казаков.
— Вон что! — заскрипел зубами Михей Стадухин. — Тайком от меня на Погычу собрались!
— Не на Погычу, на Анадырь! — воротя нос, пробубнил Мотора. — У меня отпускная от приказного!
— Знаю, кто Ваське зад вылизал и выманил ее! — злословил Бугор, не меньше Стадухина возмущенный, что его не пускали в острог. — Знаем, кто тебя, дурака, долгами опутал и принудил ее взять.
— Сколько говорить — Анадырь и Погыча одно и то же! — потрясая топором, кричал Михей. — Сколько мою наказную читать? Всем новым землям за Колымой, всему ясаку и моржовому промыслу — я и только я начальный человек. Ваське дальше Колымы совать нос не велено!
Восемь пришлых по-хозяйски затопили баню. Им с радостью помогали зимовавшие при остроге гулящие люди.
— Где Ивашка Баранов? — остывая, стал выспрашивать Михей.
— Ушел в Верхний, — охотно делились новостями. — В Среднем на приказе Мишка Коновал. Михайла Баев неподалеку, на бедных ухожьях. Чукчей боится.
— Сходите к нему, скажите, что я пришел! — приказал Михей, взглядом и тоном подавая надежду, что не забудет услуги.
Никита Семенов, Артемка Солдат, Пашка Кокоулин, Федотка Ветошка как-то незаметно разошлись по службам. При Моторе остался один Пинега. Так же постепенно уходили промышленные люди. На Срететье Стадухин проснулся со странным ощущением, что вокруг пустота. Кинулся искать Мотору, его не было, не было никого из казаков, кроме Пинеги, и гулящих, которым обещал подъем Михайла Баев.
— Ушел! — в ярости закричал Стадухин. Кинулся искать воротника, и того не было. — Сговорились! — Недоумевал.
Солнце еще только розовило морозную хмарь востока. Снег был сыпуч, без наста, по нему далеко не уйти. Ватага Моторы могла двигаться только по обдутому руслу реки. Старший Стадухин разослал посыльных к промысловым ватагам Баева и Мартемьянова. Бросив промыслы, баевские люди вернулись в острог. Среди них на четверть были ходившие в морской поход. Баев не меньше Стадухина обеспокоился ранним бегством Моторы, с которым по власьевской отпускной грамоте ушли девять беглых казаков и три десятка промышленных.
Стадухин никому не отказывал. Баев одалживал под кабалу всех желавших идти на Погычу-Анадырь. Февраль был суров, но уже попахивало весной. Двадцать пятого, на святого Тарасия-кумошника, Михей Стадухин сдал в казну старый казенный коч со снастями, повел своих беглых казаков, три десятка промышленных и гулящих людей по Моториному следу. Шли они медленно, перетаскивая челноком груз Михайлы Баева. В пути к ним примкнула ватага своеуженников передовщика Василия Вилюя. Его люди внимательно следили за распрей Стадухина и Моторы, по уговору были предупреждены о выходе.
Анисим Мартемьянов со своими покрученниками зимовал в верховьях Анюя на обедневших, но знакомых ухожьях. Весь бывший у него припас муки он вложил в морской поход, а в нынешнюю зиму покупал ее у Баева и Федьки Катаева. Кабальных грамот у Анисима скопилось изрядно, а нераспроданного товара оставалось мало. Богатому одними грамотами, ему ничего не оставалось, как идти следом за должниками и ждать, когда они разбогатеют. К этому времени его ватажка закончила промыслы, он сам, обветшавший и обносившийся, сидел в зимовье, мездрил и вымораживал рухлядь, отбирал по цвету и увязывал в сорока соболей. Угощать прибывшую стадухинскую ватагу было нечем. Как водится, к весне промышленные кормились одной лосятиной.
Студеными мартовскими утренниками вдыхаемый воздух еще покалывал грудь, но с крыши зимовья уже свисали сосульки, стаей поднимались гревшиеся возле дымов птицы. По-весеннему ярко светило солнце, проседали сугробы на склонах и к утру покрывались настом. С дальнего мартемьяновского стана вернулись последние покрученники, увидев в зимовье Михея Стадухина, обступили его, стали рассказывать, что видели Семейку Мотору с беглыми казаками, торговыми и промышленными людьми. Они прошли к верховьям Анюя. Получалось, что ватага Моторы, снаряженная купцами Матвеем Коткиным, Матвеем Кашкиным, Анисимом Костроминым и Михеем Захаровым, намеренно обошла мартемьяновское зимовье. Промышленные думали, эта новость приведет Стадухина в ярость, но он злорадно посмеялся и сказал:
— Надо поторапливаться!
Как водится со времен стародавних, по окончании промыслов в зимовье начался дележ добычи. Она оказалась незавидной: соболь был выбит или ушел в другие кормовые места. Но свисавшие с крыши сосульки, весенние проталины и ясное солнце обнадеживали людей будущей удачей. В зимовье жглись прежние долговые записи, писались новые. Баев дешево скупал остатки неклейменой рухляди и дорого продавал муку. Как и у Мартемьянова, кабальные грамоты стали большей частью его богатства, которую оставить без надзора он не мог, хотел или нет, но вынужден был идти в неведомый край за должниками. Торг на промыслах оправдывал себя: чем везти товар морем из Якутского острога на Нижнеколымскую ярмарку, надежней было скупать его у мореходов и продавать на местах. По разумению Баева, Анисим Костромин и Михайла Захаров это хорошо поняли.
Баев отправил в Нижний острог своего доверенного со скупленными мехами, чтобы облегчить себя, раздал в долг все, в чем была нужда спутников. Но и оставшийся товар занимал полдюжины нарт. Стадухинский отряд, вдвое многолюдней моторинского, пошел в верховья Анюя по его следу. Студеными утренниками наст был крепок как камень. К полудню под ярким, слепящим солнцем он раскисал, лыжи и полозья нарт начинали облипать и вязнуть. К этому времени стадухинский караван выходил на брошенный стан Моторы с остатками дров, лапника, с его кострищами, что изрядно облегчало приготовления к ночлегу. Среди ночи обильней текла вода по промерзшей до дна речке. Пока по берегам был лес, на станах жгли жаркие костры и с опаской поглядывали на белый вздымавшийся кряж. Несмотря на помощь должников, Анисим Мартемьянов отставал, охал, часто садился, чтобы отдышаться. Кончились лиственнички, ватага вскарабкалась на продувное нагорье. Почти исчезла карликовая береза, вокруг были бескрайние снега и голые камни, между которыми свистел ветер. В виду последней полоски леса старший Стадухин призвал к себе Василия Бугра с передовщиком промышленной ватажки Василием Вилюем.
— Мотора недалеко, — указал на свежий след. — Знаете, что идет посулами и обманом торговых людей. Ладно промышленные, — кивнул Вилюю, — но и наши с тобой товарищи, — перевел глаза на Бугра, — все понимают, но идут с ним. Догоните налегке, вразумите казаков и промышленных: не ведают, что творят!
Идти налегке, с оружием и одеялом, да еще по застывшим следам было много легче, чем волочь нарты. Оба Василия с радостью согласились догнать отряд Моторы, попытаться убедить товарищей по побегу и промыслам стать заодно, по воеводской наказной памяти. Они ушли при редеющем сумраке ночи, когда в снежных ямах, укрывавших от ветра, раздувались малые костерки, а наверху, за гружеными нартами, поземка наметала усы свежих сугробов.
Стан был разбит среди пологих предгорных увалов с редкими, низкорослыми, скрученными ветрами, жалостливо торчавшими из снега лиственницами. Дальше простиралось продуваемое со всех сторон плоскогорье, которое никто из русских людей не проходил. Поднялось солнце, стало слепить белизной снега, сколько хватало глаз долина вспучивалась одинаковыми с виду круглыми сопками, среди которых легко затеряться. Из сугробов торчали и безжизненно мотались на ветру редкие сухие стебли трав и обглоданные ветки стелющейся тундровой березки. Слезящиеся глаза радовали только каменные столбы — кекуры, время от времени встречавшиеся на пути. Старший Стадухин невольно поворачивал к ним, останавливался, вглядывался в очертания камня с синими и красноватыми полосами. Столбы глядели на него дремотно и безмолвно, а он смутно чувствовал их душу, гадал по очертаниям, что предвещают: слишком уж много путаницы было в нынешнем походе, растянувшемся на несколько лет, и конца ему не виделось. Давно знавшие Стадухина люди не переставали удивляться его лености: он словно дремал с мстительной усмешкой на выстывшим лице, не спешил, не погонял спутников, позволяя отдыхать сколько хочется, и оживал лишь тогда, когда надо было копать снег, строить снежные юрты, добывая скудный запас дров, попутно его собирали по всему дневному переходу, везли за собой к ночлегу. Отдых на плоскогорье изматывал людей больше, чем сам путь. Редких березовых веток, отрытых под снегом, хватало на костерки размером с кулак, над которыми навешивали котлы и таяли воду. Одежду и обувь сушили на себе, прижимались друг к другу, делясь теплом тел. Вернулись Бугор с Вилюем, опустив головы, сказали, что убедить к возвращению не удалось никого: все в долгах у тамошних торговых. Михей снисходительно хмыкнул, уязвленно мотнул головой.
— Помыкают Моторой, бездельники! Он покладистый, терпит. Ну да ладно! Мы свое слово сказали, мы их позвали, нет на нас греха!
Он поднялся раньше всех, никого не будил, не бранил дремавших караульных: раздул костерок, глядел на огонь то печально, как обреченный на казнь, то мстительно. Яма с обтаявшими иглами снежных стен наполнилась благодатным теплом, от которого брат Тарх и спутники впали в глубокий благодатный сон. Стоило впередиидущим заплутать, Стадухин объявлял дневку, его люди отдыхали, пока соперники, намучавшись, не находили правильный путь. Из-за этого стадухинский отряд шел много быстрей и мог догнать Мотору за день, но не делал этого. И все же плоскогорье оказалось не таким безжизненным, каким выглядело издали, след людей Моторы то и дело пересекали олени, копытившие мхи. Из борозд выскакивали зайцы, прижав уши, уносились прочь. Из-под ног время от времени свечой взлетали куропатки, шумно трепыхались, стряхивая с пера снег, с испуганными криками уносились по ветру.
След Моторы вывел стадухинскую ватагу к двум чумам, обложенным снежными кирпичами. Из вытяжных отверстий курились редкие дымки, на шестах болтали камусами шкуры с розовой мездрой. Сколько хватало глаз, вокруг была равнина, ископыченная стадами оленей. Рогатые быки задирали головы, всматриваясь в приближавшихся людей, возле чумов обреченно толклись полдюжины мужиков с закинутыми на плечо скрученными в кольца арканами. Вблизи казакам и промышленным стали видны их лица, покрытые красками. Юкагиры-ходынцы, оглядываясь, как загнанные в западню волки, угрюмо отвечали Казанцу, что Мотора взял у них мясо трех оленей, двух вожей и ясак — соболий половик, шитый из спинок.
— Вот и попался! — пробормотал атаман в обмерзшую бороду. В глубине обметанных инеем ресниц жестко сверкнули синие глаза. Он приказал своим людям идти быстрей, впрягся с братом в первые нарты, стал отрываться от каравана и поторапливать отстающих.
— Живут же люди и здесь! — пуская клубы пара из обмерзшей бороды, кряхтел Тарх. — А сперва казалось, ничего тут нет кроме смерти.
— Приспособились! — пробурчал Михей, понимая, что брат все еще корит спутников по морскому походу.
Старшему было не до воспоминаний: в его груди разворачивалась прежняя пружина, не дававшая покоя ни ему, ни людям. Он снова покрикивал на товарищей, принуждая идти, пока те не увязали в раскисших снегах. Судя по следам, отряд Моторы был где-то рядом. Истекала обычная весенняя ночь. Небо без звезд было затянуто низкими тучами. Два беглых ленских десятника — Ивашка Пуляев и Шаламка Иванов — бодрствовали в карауле, не давая другу другу уснуть, прислушивались к звукам, скупо поддерживали огонь стеблями полярной березки. Его хватало, чтобы обогреть накрытую одеялом яму. Окрестности просматривались на полсотни шагов. Помня строгий наказ Стадухина, они время от времени высовывались, чтобы осмотреться. Послышалось хорканье оленей. Шаламка поднялся в пояс, надеясь добыть свеженины, но вместо выстрела охнул и сполз в яму со стрелами, торчавшими из груди и живота. Ивашка вскочил с пищалью, не целясь, пальнул картечью в ту сторону, откуда они прилетели. Кажется, в тот же миг загрохотали ружья из других ям. В ночи послышался топот удалявшихся оленей. Михей, скинув треух, бился лбом в затвердевший край ямы, стонал.
— Не почуял людей! Поленился встать, думал, стадо!
Осмотрели раненого Шаламку, вынули стрелы, остановили кровь. Раны были опасными, особенно — в живот.
— Ходынцы отмстили за Моторин грабеж! — хрипел Стадухин в бессильной ярости. В ночи никто не заметил, какого племени были нападавшие, но все понимали, что гнаться за ними — дело безнадежное и опасное. Скорей всего, они этого ждут.
Атаман крикнул, призывая к себе десяток казаков и проворных промышленных людей, велел налегке с оружием бежать за ним, остальным отдыхать. Ертаулы догнали отряд Моторы до полудня. Семен с людьми стоял на месте, будто поджидал. Выпятив верхнюю губу с сосульками, свисавшими с усов, бодливо уставился на приближавшегося сослуживца. А тот, щуря вспухшие веки, подступал пружинисто и неторопливо, как кот к загнанной в угол мыши.
— По какому праву берешь ясак с моих людей? — спросил. — Еще раз показать наказную якутского воеводы? — Надвинулся на казака так, что тот отступил. — Только я могу ясачить к восходу от Колымы!
— Наложили мы на твою наказную! — крикнул торговый Анисим Костромин, заслоняя Мотору. — Здесь не Лена!
За его спиной с тоскливым видом встал Никита Семенов. Стадухин, не глядя на служилых, хлестнул ладонью в меховой рукавице, Костромин повалился на снег, завыл. Никто из его должников не кинулся на помощь. Михея и Семейку плотным кольцом обступили беглые ленские казаки, загалдели, но дотронуться до Стадухина не смели. Ивашка Пуляев стал отталкивать их от атамана.
— Из-за вас ходынцы Шаламку подстрелили! Зачем грабили?
Казаки смущенно отступили: Стадухин был с наказом воеводы и при исполнении, они же, хоть и в милости у колымского приказного Власьева, но беглые. Промышленные люди отнеслись к ссоре атаманов как к обыденному делу, их не касавшемуся, отдыхали и мирно переговаривались между собой. После атаманской ссоры и брани Мотора отдал взятый половик. Утром его ватага ушла дальше с вожами, которых Михей отбирать не стал и по насту повернул в обратную сторону. Ждавшие его люди быстро сожгли все, что можно было собрать в окрестностях, ради дров переволоклись на три версты по следу, откопали новые ямы в снегу. Уйти дальше они не могли из-за большого груза, оставленного ертаулами. Ко всему прежнему прибавилась нарта с раненым Шаламкой. Стадухин дал всем отоспаться, сопернику оторваться — и двинулся по его следам, едва различимым на крепком, как камень, вылизанном ветрами снегу.
Все выше поднималось солнце, бескрайняя белизна выжигала глаза. Кроме ног и нарт впередиидущих, не за что было зацепиться взгляду. Один за другим путники надевали кожаные очки с тонкими прорезями. К полудню снег обдавал лица жаром, мок, раскисал, прилипал к лыжам, полозьям нарт. Ватажные подошли к ямам стана Моторы, стихли обыденные сопение, шуршание, скрип полозьев. Старший Стадухин сорвал очки, огляделся. При монотонной ходьбе с защищенными глазами ни сам атаман, ни его люди не заметили, что равнина переменилась. Оставленный стан Моторы находился возле горы. На ее оттаявших обнажившихся осыпях, гремели камнями снежные бараны. Впереди была узкая долина. Из ее белого полотна торчали верхушки мелких лиственниц и сухой осоки. Еще дальше, радуя обожженные глаза, чернели каменные вороха осыпей.
— Подналяжем, братцы! — весело крикнул атаман и зажал губы рукой. Покрытые коростами, они закровоточили, засолонили язык. — Там дров много. Переночуем у костров, погреемся! — пробубнил сквозь пальцы.
— Сам виноват! — укорил его Бугор, сочувственно глядя на окровянившуюся бороду атамана. — Как перед девками, разглаживал усы на ветру, а они должны закрывать губы.
Путники разобрали бечевы нарт, проваливаясь в снег, поволокли их к редколесью и большими трудами подошли к осыпям. Среди камней на разные голоса подвывал ветер. Привалы на плоскогорье были такой же мукой, как ночлеги, а тут, укрывшись, можно было даже подремать под солнцем. На восточной стороне, после полудня появились лужицы талой воды. Последними приволоклись к стану нарты Анисима Мартемьянова. Сам торговый и не оправившийся от прошлогодних ран Казанец, скорей, висли на них, чем толкали. Юшка Трофимов с угрюмым Евсейкой, хрипя, подтянули их к большому костру. Люди жались к огню, благостно впитывали в себя его жар.
На другой день Стадухин догнал ватагу Моторы в узкой пади с каменными осыпями, редкими зарослями низкорослых лиственниц и стелющихся берез. Взятые у ходынцев проводники указывали на лед и другие верные приметы верховий Анадыря. На стане пылали костры. Спутники Моторы отдыхали, сушились, кое-кто уже готовился к ночлегу. Беглые казаки Никита Семенов, Федот Ветошка, Артемий Солдат, Павел Кокоулин Зараза, Иван Лютко, Дмитрий Васильев, Кирилл Проклов, к злобе промышленных людей, играли в карты и бездельничали возле особого костра. Бугор бросил бечеву нарт, заковылял к ним, присел, вытянув ладони к огню. Товарищи по побегу раздвинулись, уступая место. Михей Стадухин, шедший с братом впереди всех, высмотрел Мотору среди промышленных людей, подошел, схватил его за грудки, закричал в лицо:
— Долго будешь юлить, лис старый? С убитым Зырянкой на Колыме заводил смуту и двоевластие, опять за свое?
Семейка стал вырываться, отбиваясь кулаками.
— Сдурел, что ли? — закричал.
— Нельзя двум отрядам одну землю под государя подводить! — Стадухин так тряхнул соперника, что с Моторы слетела лисья шапка.
Беглые казаки вскочили с мест, оставив у огня Бугра, подбежали к Семену. Вокруг него и Михея по-песьи крутился крикливый купец Костромин, орал, грозил, но, помня трепку, дотронуться до Стадухина не смел. Промышленные люди равнодушно глядели на драку и не вмешивались в спор атаманов. Подскочивших ему на помощь казаков тут же оттеснили стадухинские промышленные и служилые: Пуляев, Евсеейка с двумя Гришками. Михей скрутил Моторе руки, связал кушаком, толкнул к Евсейке. Вилюй с промышленными не дал казакам отбить их атамана. Старший Стадухин с начальственным видом подошел к костру, возле которого грелся Бугор, и под одобрительные возгласы моторинских промышленных забрал карты. Казаки вяло заспорили, что здесь воеводской власти нет, но в драку не полезли. Один только Анисим Костромин все бранился и грозил, пока против него не возмутились свои же промышленные люди. В моторинском стане был явный разлад. Все понимали, что Власьева могут сменить уже нынешним летом, а Стадухин с его наказной памятью от воеводы отбрешется. Поругавшись для порядка, смирились и беглые казаки. Мотора сидел связанным у стадухинского костра, обидчиво сопел. Михей ощупал его парку, отобрал отпускную грамоту колымского приказного, из-за которой был раздор. Мотора стал слезно лаять старого сослуживца. Анисим Костромин опять подскочил к атаманскому костру.
— Ты ее нам давал? — заорал в новом приступе ярости.
— Докричишься! — сдержанно пригрозил Стадухин. — Пограблю стервеца.
Промышленные люди Моторы, услышав угрозу, со смехом поддержали атамана:
— Только прикажи! Передавим кровососов! — И тут же стали задирать торгового человека, желая отобрать у него свои кабальные записи. Притих и Анисим.
К стадухинскому костру подошел Артем Солдат, присел на корточки, посопел, мирно попросил вернуть карты. Михей молча отдал их. Утром к нему подошли проводники Моторы, взятые от ходынцев, через Казанца растолковали, что на этой реке живут их враги — анаулы, с низовий им одним возвращаться опасно. Михей одарил их бисером Баева и отпустил. Временный мир между отрядами был установлен. Большинству людей было безразлично, под чьим началом идти на Погычу-Анадырь, лишь бы прийти. Зааманаченный Семейка Мотора поартачился день-другой и дал письменное согласие идти на новую землю и подводить ее под государя под началом Стадухина. Михей освободил его. Сотня русских людей шла по неведомой земле, везла раненого товарища, отдаляясь от труднопроходимого кряжа, разделявшего их с обжитой Колымой. Среди тундровых мхов и скал стали появлялись островки березняка, узкие полосы тонкого лиственничника. Объединившийся отряд спешил в среднее течение, к сплошному лесу, но его все не было, встречались только колки. Рассвет наступал едва ли не после полуночи, когда крепчал наст, Стадухин всех будил и первым впрягался в нарту. В долине реки уже встречался высокий строевой лес. Казаки и промышленные отдыхали у жарких костров, иногда находили следы соболя, но тайги, к которой стремились, все не было.
На вешнего Егория светлая безветренная ночь припорошила падь свежим снегом, а денек выдался ясный. На голубое безоблачное небо выкатилось желтое солнце, вершок выпавшего снега стал оседать и таять, обнажая наст и лед, нарты и лыжи легко скользили по ним. Стадухины шли впереди. Вдруг Михей остановился, уловив запах дыма, сорвал с лица очки и увидел избу с наметенным под крышу сугробом с одной стороны, с поленницей дров — с другой. В следующий миг он бросил бечеву нарты, размахивая руками, побежал вперед. Казаки и промышленные останавливались, кто-то, глазам не веря, крестил грудь, кто-то бормотал молитву от чарования, но никто не сомневался, что впереди русское зимовье. Из-под крыши из волоковых дыр мирно курился дым, возле избы не было ни следов, ни караула.
— Крепко спят, однако, — остановился рядом с Тархом Бугор, шмыгнул облупившимся носом, завистливо просипел: — Никого не боятся. Вечный мир у них или что ли?
Будто услышав его, дверь медленно растворилась, собрав в складку выпавший ночью снег. Наружу вышли двое, одетые в овчинные кафтаны. Михей Стадухин застонал и сел на лед. Его спутники, быстро оправившись от удивления, двинулись к зимовью. Тарх, перекинул через плечо бечеву, елозя ичигами, один подтянул к брату нарту. Бугор, на ходу громко и одышливо рассуждал:
— Встречал в неведомых местах русских людей! Живут порознь родами, молятся колесу, говорят, будто поселились в незапамятные времена… Брешут! Беглые от власти. Ясак дают, поминки, чтобы не мешали жить по-своему.
Михей дернулся на его голос, но не ободрился, снова уставился на избу, на выходивших из нее мужчин и женщин. Мимо проскрипели полозьями нарты с товаром, стихали скрип и скрежет обоза. Михей видел, как зимовейщики побежали к его людям, заметил неподалеку от избы остов строящегося коча. Едва ли не на четвереньках, последним из обоза Тарх подтянул к брату их общую нарту, развернул боком, переводя дыхание, смахнул со взмокшей головы шапку, тоже сел. Старший Стадухин дал ему отдышаться, поднялся с угрюмым видом, поднял бечеву. Тарх оттер рукавом вспотевший лоб. Вдвоем они одиноко прошли по льду реки мимо зимовья на взгорке и толпившихся возле него людей. Тарх ничего не говорил брату, только оглядывался, Михей, не поднимая головы, глядел под ноги. Они остановились сотней шагов ниже, вытянули нарту к невырубленному береговому ивняку. Старший, все так же молча, стал ломать сухостойные ветки для костра. Тарх спросил:
— Схожу узнаю, кто такие?
Михей его не услышал. Младший вздохнул, виновато пожал плечами и зашагал в обратную сторону к избе, к толпившимся людям. Среди зимовейщиков, весело отвечавших на вопросы прибывших, он узнал Дежнева, которого поминал в молитвах как погибшего. Семен радостно раскинул руки:
— Пинежцев прибыло!
— Слава Те, Господи! — троекратно ликуясь с ним, пробормотал Тарх. — Коряки сказывали, будто убит…
— Иные погибли, — дрогнули губы в рыжеватой бороде казака, болезненно прищурились, замутились глаза. Семен тряхнул головой, отмахиваясь от пережитого, веселея, добавил: — А мы, восемь ртов, выжили с Божьей помощью!
Прибывшие и зимовавшие все еще окликали друг друга, переговаривались, спрашивали, торопливо рассказывали о себе. Мотора с разобиженным лицом размахивал руками, что-то втолковывал Дежневу. Михей Стадухин, окаменев изнутри, бездумно и одиноко обустраивал стан, готовясь к ночлегу: наломал сухостоя, сложил шалашиком ветки в укрытом от ветра месте, распушил ножом пару черенков, почиркал над огнивом кремнем по обушку топора, раздул огонек. Когда густо задымила растопка, коснувшись его лица теплом, по щекам казака потекли безмолвные слезы. Ради этого дня он отдал все, даже любимую жену, но лукавый посмеялся и обвел вокруг пальца.
— Семейка Дежнев спасся! — подошел к брату и присел рядом с ним Тарх.
— Говорит, коч без паруса носило неволей по морю, потом выкинуло на камни, двадцать пять ртов выбрались на сушу, десять недель шли к устью Анадыря через горы. Зимовали тяжко, мерли от голода. Половина ушла искать аргиши и пропала. Зимовейщики думали, будто они привели нас сухим путем.
Не отрывая глаз от огня, Михей слушал брата. Тарху показалось, что золотившиеся прежде усы поблекли, стали в один цвет с бородой, а она посивела, по опухшему обветренному лицу брата глубже легли морщины. Сипло вдыхая и выдыхая потеплевший воздух, к ним подошел Бугор, выволок наполовину разгруженную нарту, развернул против костра, сел, скрипнув копыльями, заговорил, переводя дух:
— Говорят, ниже по реке леса еще меньше, а дальше тальник, и то нешироко, к морю тундра да камень. Соболя не промышляли! Больше нашего мук претерпели и ничего не добыли, кроме диких баб. Здесь все, кто живы из девяти-то десятков. И все за посулы бесовские. Вот тебе, Васенька, Юрьев день! Привела дурная башка стары ноги прямо в Ирию: ложись и помирай от радости!
Стадухин помотал бородой, помолчав, просипел:
— Ладно, мы с тобой грешные! Это сколько же добрых людей обманулось? Старый Пенда, Федот Попов, Афоня Андреев…
— Семейка говорит, был на одном коче с Бессонкой. Выбросились на берег, волоклись к Анадырю, здесь разделились. Еще сказал, Пенду и Федота буря унесла, Гераська Анкудинов о камни разбился…
— А ведь нынче Егорий, казачий праздник! — поднял выстывшие глаза Стадухин. — Веселиться надо!.. Что же это Господь попустил в такой день? К чему бы?
— Давно не прямит казакам! Прогневили! — буркнул в сивую бороду Бугор и размашисто перекрестился.
Подходили промышленные из стадухинского и моторинского отрядов, разводили костры. Дальше идти было некуда, а дежневская избенка тесна. Не было Семена Моторы с Никитой Семеновым, не было торговых людей: Костромина, Захарова, Мартемьянова, Баева. Не шел на поклон к анадырскому приказному Михею Стадухину земляк и товарищ по прежним походам Семейка Дежнев. Уже на другой день прибывшие стали обустраиваться: грели огнем, долбили мерзлую землю, расходились по притокам рубить лес. Как-то незаметно со стана исчезли беглые казаки, шедшие с Моторой. Вскоре Михей увидел, что они поставили балаган возле дежневского зимовья. Неприязни между промышленными двух ватаг не было. Все стояли заодно, помогали друг другу советами и силой. На Анадыре поднималось государево ясачное зимовье. Только двое земляков не были рады встрече: Стадухин не шел к Дежневу, чтобы предъявить наказную память воеводы, потому что все о ней знали. Семейка, издали узнав бывшего атамана, не шел к нему, а когда Семен Мотора, с которым он всегда был в приязненных отношениях, сказал про отпускную грамоту Власьева, изъявил готовность признать Мотору анадырским приказным.
Елфим Меркурьев, покрученник Бессона Астафьева, поливал слезами кафтан торгового человека Анисима Мартемьянова, у которого в прежние годы был в покруте и числился в кабальных должниках.
— Ни соболя, ни кормового зверя, ни белой рыбы, — жаловался, хлюпая носом. — Зимовали на заморной красной. Уж ее-то здесь всем хватит. А белую поймать не можем — неводные сети драные, чинить нечем.
— Привез неводного прядева! — утешал должника Анисим.
Тот опять жаловался, что по соборному решению был приставлен к остаткам товаров Афонии Андреева и Бессона Астафьева.
— А где тот товар? — всхлипывал. — В те поры подьячих не было, записывать, что кому отдано, — некогда и некому.
Анисиму нечем было обнадежить должника. Он и сам был в долгах, хотя имел долговые записи с половины отряда. Многие из пришедших промышленных людей не хотели верить, что соболя здесь нет. Слышали, что Дежнев взял с анаулов девять спинок, где-то же их добыли? Анисим Мартемьянов с тоской поглядывал на покрытую льдом реку, с содроганием думал, что с тех пор, как уплыл с Лены, его судьба плелась руками незрячей девки Недоли. Уединившись от многоголосой толпы, Елфим рассказывал ему о своих скитаниях, о том, как были выброшены волнами на сушу.
— Что не зимовали, не промышляли в тех местах? — любопытствовал торговый, разглаживая длинную, густую, как бараний лавтак, бороду.
— По берегу тундра, леса нет, — уклончиво отвечал Елфим: — Остатки коча сожгли и пошли на полночь, через горы, прямиком к Анадырю. После узнали от анаулов, что были рядом с Погычей. Вот ведь как бес потешается. Анадырь и Погыча — реки разные…
— Как зимовали-то? — настойчиво выспрашивал Анисим, что-то сравнивая и складывая своим торговым умишком против слов Меркурьева и его товарищей. — Говорил, в устье леса нет.
— Плавник есть! Кое-как обогревались. К весне четверо померли от голода и цинги…
Анисим опустил голову, смущенно перекрестился, спросил со вздохом:
— А чего те, пропавшие, искали у моря? — И сам себе отвечал: — Селений, кормов. Нерпы, бывает, выползают на лед из трещин.
— Наверное, так! — пробормотал Елфим, — Весной построили из плавника струги, пришли к лесу, стали строить зимовье — анаульцы напали, Семейке Дежневу грудь ножом поранили. Отбились мы, взяли аманатов для мира, подвели под государя, наложили ясак.
— Анадырь — не Погыча! — бормотал торговый человек, чувствуя в словах должника недоговор. — А на Колыме сказывали, Анадырь и Погыча одно и то же! — Бросил на Елфима колючий взгляд: — Ясака — девять соболей, сами ничего не добыли, а коч строили. Хотели морем вернуться?
— Кормовых мест искать надо, — неохотно ответил Меркурьев. — Все в долгах, как возвращаться без добычи? Доброй волей на правеж, что ли?
— И то правда! — согласился Анисим. — Нынче ваши кабальные грамоты за полцены не продать. Что на Колыме, что на Лене, кроме правежа, ждать нечего.
Пометывая на торгового человека быстрые затаенные взгляды, Елфим скороговоркой пробормотал:
— Даст Бог, расплатимся, и с лихвой. И ты вернешься небедным. Держись только нас с Семейкой Дежневым.
Сошел снег, открылась желтая тундра с черневшим льдом озер. Не дожидаясь их таяния, стая за стаей прилетали утки и гуси, кружили над зимовьями. Наконец вскрылась и загрохотала река, оттаяли промерзшие до дна притоки. Прибывшие люди стали сплавлять лес на избы и амбары. Мотора с беглыми казаками рубил их рядом с дежневским зимовьем, а его промышленные — частью там же, частью возле Стадухина. Слегка обустроив государево зимовье, они разбились на чуницы по родству-землячеству и разошлись искать места будущих промыслов. И опять Михей работал как одержимый, поднимаясь раньше всех. Иван Казанец, беглые казаки Бугор с двумя Гришками, Антоновым и Вахромеевым, Ивашка Пуляев завозмущались:
— В гроб загнать хочешь или что?
Михей ворчал, чего, дескать, возле дымного очага валяться, когда можно сложить печь? На время переставал поторапливать товарищей, таскавших камни с реки, самому же бес покоя не давал: сложив печку, принялся за амбар. Ложился, как всегда, последним, глядел в потолок из жердей, растекался чутьем по реке и тундре, чувствовал Семейкино зимовье и не мог понять, что идет с той стороны: ни зла, ни угрозы, ни зависти — то ли недоверие, то ли безверие… И сговор. Сговор он ощущал явно, часто поднимался среди светлой ночи, подбрасывал дрова в очаг, снова ложился, томительно дожидаясь, когда проснутся товарищи.
Как-то подскочил, почувствовав злое. Замер. Посидел с закрытыми глазами — к зимовью крались враги, их ненависть растекалась по тундре, как пролитое масло по столешнице, смешивалась с веселым духом вскрывшейся реки. Михей сунул ноги в ичиги, накинул на плечи кафтан, вышел с обнаженной саблей. Беззаботно светилось ясное весеннее небо, шумел Анадырь. Гришка Вахромеев в шубном кафтане спал, сидя на колоде. Пищаль с торчавшим из ствола тесаком была приставлена к стене. Не было видно караула и в дежневском зимовье.
— Хочешь, чтобы всех перерезали? — прошипел Стадухин и поддал ему пинком под зад.
Гришка вскочил, водя по сторонам ошалевшими глазами. Михей приглушенно обругал его, велел запалить фитиль и побежал в другое зимовье. Откуда-то из-под стенки дежневской избы вылез беглый Лютко, с которым служили еще в Енисейском гарнизоне, удивленно уставился на Стадухина. По смятому лицу видно было, что спал, но чутко.
— Нет никого! — сипло оправдался, заводил по сторонам заспанными глазами.
— Кого увидишь, сонный? — приглушенно ругнулся Стадухин и приказал:
— Буди всех!
Распахнулась дверь, вышел Семейка Дежнев в кафтане нараспашку, с саблей в ножнах.
— Берите ружья, идите за мной! — приказал Стадухин.
Высунулся полуодетый Мотора, бросил на Михея неприязненный взгляд, зевнул, крестя рот, и скрылся. Лютко и Дежнев с ружьями пошли за Михеем и Гришкой. На ходу к ним присоединились бывшие в нижнем зимовье люди. Стадухин повел их в тундру с оттаявшими кромками льдин на малых озерах. Громко хлопая крыльями, с них поднимались утки. Из кочкарника вдруг вскочили дикие мужики с луками и рогатинами. Стрелять не стали, пригибаясь, побежали вспять. Их было с десяток.
— Всего-то, — осклабился Дежнев. — Наверное, птицу промышляли! По виду анаулы. У нас с ними мир.
Преследовать их казаки не стали. Семейка Дежнев смущенно пожимал плечами:
— Прошлый год аманатил! Зимой на заморной рыбе сын тойона чуть не помер. Пришлось отпустить. Они слабы здоровьем. Им белая рыба нужна, мясо.
Стадухин блеснул злыми глазами, хрипло рыкнул и повернул в обратную сторону. Казаки потянулись за ним.
— Зачем тебе коч? — пытал Семейку на ходу.
— Мы не знали про сухой путь, — припадая на ногу, без неприязни отвечал земляку казак.
— Теперь знаете, все равно строите?
— Не бросать же! — опять то ли насмехался, то ли придурялся Дежнев, выводя из себя Стадухина. — Сгодится по реке плавать, инородцев под государеву руку подводить.
— Сколько ясака взял за нынешний год?
— За прошлый девять соболей! — поежился Семен. — За нынешний еще не приносили. Они не сами добывают: у ходынцев покупают.
— Почему других аманатов не требовал?
— Зачем? — Дежнев с невинной дурашливостью уставился на Стадухина.
— А если зимовье обшарю, не найду посулов? — Ярился Михей.
— Обыщи! — соглашался Семен, не переча против власти Стадухина.
А тот опять еле сдерживался, чтобы не схватить земляка за ворот: не перечил, но поддерживал Мотору, который, хоть и дал отписку, признавая единую власть, хоть не имел на руках отпускной грамоты, но не желал даже разговаривать с атаманом, только обиженно глядел на него при встречах. Стадухин не сомневался, что Мотора, Костромин и Власьев будут наказаны воеводой, как только дойдет жалобная челобитная. Воеводская и государева правда были на его стороне. Злило явное непонимание, упорное недоверие и скрытные насмешки Дежнева. Заново укладываясь спать, он бормотал:
— Разбило коч где-то к полудню от Анадыря. Бывает хуже… Пошли к нему прямиком, через горы не по берегу. Понятно, в октябре по застывшим рекам — легче. Возле моря прокормились бы, а так весь хлеб съели. На что надеялись? Дождались вскрытия реки, пошли вверх, к лесу, коч строили, чтобы вернуться морем. Узнали от нас сухой путь. Говорят, соболя нет, а на Колыму возвращаться не собираются. Зачем сидят? Чего ждут?
— Боятся правежа! — пробубнил из-под одеяла Казанец.
— А здесь что? На заморной рыбе ждать, когда Господь призовет?
— На дураков непохожи! — покряхтывая, поддакнул Гришка Антонов и стал собираться: подошел его черед менять караульного. — Раз Анадырь — не Погыча, значит, что-то вызнали у диких.
— Выходит, так! — Михей обернулся к Баеву, спросил взглядом, что тот думает.
Торговый человек не надрывался на общих работах, откупался товаром или снимал рост с кабал. Сначала он ночевал у Дежнева, но каждый день приходил на стан Стадухина, теперь перебрался к нему, но постоянно навещал другое зимовье. Должники у него были и здесь, и там.
— Зачем спорить с Моторой? — обернулся с затаенным укором и тоскливо взглянул на атамана. — Одним — Анадырь, другим — Погыча. Кому что нужней, то и бери! — виновато осекся и поправился: — Если здесь нет соболя — лучше Погыча. У тебя на нее права бесспорные. Но могут и солгать, чтобы нас выпроводить.
— Не видел, чтобы соболь водился в тундре, — просипел Бугор. — Разве мало-мало, где-то по лесным колкам у речек.
В конце июля, в разгар лета, отмахиваясь от ревущих туч овода, на стан вернулись промышленные и стали достраивать зимовье. Не бездельничал и дежневский лагерь. Закончив конопатить и смолить один коч, стали закладывать другой.
— Зачем? — бесился от непонимания Стадухин и тряс за грудки Семейку Дежнева. Тот терпеливо и снисходительно отвечал:
— Вдруг обратно морем поплывем!
— Ты же узнал от диких, что не каждый год лед относит от Носа?
— Вдруг отнесет! — с улыбкой отвечал Дежнев. — И соль кончается, надо плыть к морю парить. Скоро красная рыба пойдет, чем солить?
— Тьфу на тебя! — в бешенстве вскрикнул Стадухин. — Видел новгородских упрямцев, сам из них, но такой один на всю Сибирь.
Дежнев беззлобными глазами с состраданием смотрел на земляка, распаляя его страсти. Хворый Шаламка Иванов с тоской прислушивался к раздору, качал головой на истончавшей шее. Тяжело раненый, он изначально был положен в дежневском зимовье, здесь и отлеживался. В июне стал выползать, чтобы погреться на солнце. Его даже комары и оводы не донимали, как других. Михей взглянул на товарища, смутился, присел рядом, стал объяснять свою правду, надеясь на понимание. Шаламка глядел на него с такой тоской, что сжималось сердце. Стадухин почувствовал, что он уже далек от них всех, там, где споры и соперничество глупы, суетны. Ночью не услышал, как к зимовью подошел Дежнев. Караульный впустил его и разбудил Михея. Семейка со вздохами пошарил глазами по восточному углу избы, перекрестился и сказал, что Шаламка помер.
— Эка жалость! — крестя грудь, сел на нарах Михей. — Я радовался, что на поправку пошел.
— Я тоже так думал, — снова вздохнул Семен. — За полночь стал звать тебя. Не успел я одеться — отошел. Пойдешь, пока не остыл?
Шаламку похоронили, отрыв могилу в вечной мерзлоте, пожелали ему лежать целеньким и нетленным до Великого суда. На девятый день, на помин души, в верховья реки пошла красная рыба. Анадырь потемнел от рыбьих спин, казалось, будто шевелится дно. Запасали рыбу впрок, в большом количестве. По сказам зимовавших здесь людей, другой еды у них не было. Промышленные, ходившие в верховья по притокам, говорили, что встречались с ходынцами, выпасавшими оленей. Надо было их аманатить, подводить под государя. Те, что ходили в низовья Анадыря, видели анаульскую крепость из плавника и китовых костей. Для безопасных промыслов надо было ее разрушить, тамошних людей зааманатить. Но припас рыбы был важней. Пришлось старшему Стадухину отложить службы и запасаться кормами. Рыбу складывали в ямы, отрытые в вечной мерзлоте. Уснувшую, выбросившуюся на берег — отдельно, на черный день и для собак, взятых у ходынцев. Рыбачили смешанными чуницами по родству, землячеству и товариществу, которыми собирались промышлять соболя. И только дежневские, спасшиеся от потопления в море, держались обособленно. Неподалеку от зимовий казаки добыли медведя. Мясо испекли и съели за один присест. Оно пахло рыбой. Казалось, этим запахом пропитаны река, мох, древесина изб. Анисим Мартемьянов перебирая пальцами богатую бороду, брезгливо нюхал пышные пряди и жаловался:
— По три раза на дню стираю со щелоком, все равно воняет!
— Мишка! — Василий Бугор вернулся к реке с пустой корзиной и окликнул приказного. — На стане Моторы — анаулы.
— Почему к нему пришли? — чертыхнулся Стадухин, обмыл руки от слизи и икры.
Распаляясь, приказал Бугру с Казанцем идти следом, быстрым шагом двинулся на другой стан. Подручные едва поспевали за ним. Там служилые и промышленные тоже занимались заготовкой рыбы. Моторы не было. Перед Семейкой Дежневым стоял тойон-анаул. Как принято у тунгусов, лицо его было покрыто синим узором татуированных родовых знаков. По виду собравшихся Стадухин понял, что он принес ясак. Дежнев с важным видом принимал соболей и говорил государево слово.
— По какому праву? — закричал Стадухин, схватил его за ворот, отобрав рухдядь, вытолкал Дежнева из круга и велел взять тойона в аманаты.
Никто из дежневсих людей не пошевелился, чтобы исполнить приказ. Казанец с Бугром смущенно топтались на месте, не желая ссор. Самому атаману было не по чину бросаться в толпу инородцев, хватать мужика: тем самым он ронял достоинство начального государева человека.
— Зачем хватать! — вполголоса зароптал Солдат, а Зараза, уставившись щучьим лицом, презрительно буркнул:
— Кому надо — тот пусть имает!
Их поддержали моторинские беглые казаки и дежневские промышленные.
— Не гневись, Мишка! — прохрипел на ухо Стадухину Бугор. — Не позорь нас перед дикими.
Стадухин, скрежеща зубами, опустил голову, послал Казанца в зимовье за прошнурованной и опечатанной ясачной книгой. При всех собравшихся внес запись о принесенных соболях и дал тойону грамоту, что принял от него ясак за нынешний год. Затем, смягчив невольный гнев, подрагивавшим голосом сказал анаулам государево слово, наградил их стеклянными бусами. Дело было сделано. Гостей плотным кольцом окружили собравшиеся промышленные люди, стали расспрашивать о Пенжине. Слухи об этой реке появились уже здесь, на Анадыре. Как прежде на Колыме души сибирских странников волновала неведомая Погыча, так теперь их помыслы и разговоры были о Пенжине — реке, где соболя так много, что его бьют палками. От анаулов и ходынцев промышленные знали, что когда коряки приходят на Анадырь без войны, то привозят для мены много собольих шкур. Расспрашивали инородцев и о Погыче. Те указывали в ту же сторону, что и Пенжина, но ближе к восходу, и называли реку Похача. «Анадырь — не Погыча!» — скрипел зубами Михей и ловил на себе торжествующие взгляды обиженных на него беглых ленских казаков.
— Почему не ловили аманатов? — гневно закричал на Бугра, едва они отдалились от дежневского зимовья.
— На кого орешь? — вспылил старый казак. — Ты еще на Ангаре сидел, а я был на Лене, первым через нынешний волок прошел.
Сказал так и будто посыпал солью старую рану товарища.
— Да если бы я с Ярком Хабаровыми да с тем же Семейкой Моторой тебя, первого, — передразнил Бугра, подражая его голосу, нажимая на слово «первый», — не вытащил из-под якутов, давно бы сгнил под тамошними мхами!
— То я с братом, без государева жалованья, не вытаскивал вас. Да кабы не мы, вам, псам воеводским, на Лену ходу бы не было!
Два старых товарища и сослуживца, один с сивой бородой, другой с проседью, набычившись, жгли друг друга разъяренными взглядами, пока не кинулись в драку. Недруги потешались, глядя издали, как они потчуют друг друга кулаками. Подбежали друзья, растащили. Бугор решительно ворвался в зимовье, которое строил, плюнул на пол, сгреб одеяло, пищаль и ушел к Моторе с Дежневым.
— Иди-иди! — кричал вслед Стадухин. — Еще вспомнишь и пожалеешь!
Он не сомневался, что следом за Бугром уйдет Евсейка Павлов, но тот, на удивленье, остался.
В августе было не до анаулов и ходынцев — запасались в зиму птицей, били уток и гусей, менявших перо. Стало скрываться на ночь солнце, повеяло осенью, утренниками подмораживало, пропал гнус, кажется, в один день пожелтели березы, береговой кустарник и мох, дышать стало легче и привольней. Как ни тошно было Стадухину встречаться с Моторой и Дежневым, но снова понадобилось идти к ним. Он пришел, смирив гордыню, встал фертом против двери, заломил шапку.
— Эй! Сидельцы! Выходите, последний раз буду говорить государево слово!
Вышел Мотора, уставился на Стадухина с упрямой обидой. За ним высыпали дежневские сидельцы. На прокорме у Аниськи Костромина они строили коч и новую избу.
— Не должно быть на государевой землице инородческих крепостей! Идите за мной, разрушим и возьмем надежных аманатов. Под них будем требовать ясак.
— Нельзя той крепости рушить! — из-за спин товарищей подал голос Дежнев. — Коряки их побьют!
— Ты государев указ о крепостях знаешь? — строго спросил Стадухин, щуря глаз.
— Знаю! — громче заспорил Семейка, выходя в круг. — Только те, кто его писал, здешней жизни не нюхали, и ту крепость рушить нельзя, иначе придется охранять анаулов денно и ночно.
— Отказываетесь?
— Отказываемся! — поперечно ответил Мотора, тряхнув вислой бородой.
— Все тому свидетели! — пригрозил Стадухин и развернулся к своему зимовью.
Он долго не мог уснуть и забылся только под утро. Тарх, стоявший в карауле, обогревался у очага. Обернувшись к брату, мимоходом сообщил, что моторинские люди уплыли по реке. Видимо, собрались загодя, на рассвете сели в струги и коч, тихо проплыли мимо зимовья.
— На промыслы — рано! — удивился старший. — Куда бы это? Не на Колыму же к осени?
Он сказал так, думая о предстоящих делах дня, а их было много. Похлебав ухи, бросил ложку, резко встал, опоясался и хлопнул дверью. Вскоре его рык и ответный лай Бугра донеслись из другого зимовья. Тарх выскочил из избы, увидел брата, ругавшегося с беглым казаком. До новой драки не дошло. Поорав и помахав кулаками, атаман вернулся.
— Ушли! Мать их! Оставили полтора десятка калек да торговых. Сбежали на Пенжину. — Помолчав, рассеянно добавил: — Костромин увел, а Ваську бросили зимовье караулить.
— И хрен с ними! — ничуть не печалясь, посмеялся Гришка Антонов. — Всех соболей не переловят. А еды у нас теперь с лихвой: их ямы стали нашими.
— Нет у них прав на Погычу, и Пенжина моя по указу, — ударил кулаком по столу атаман. — Догоним, вернем! — обвел товарищей строгим взглядом и понял по лицам, что не пойдут. Смирился, опуская голову, пробормотал: — Может быть, и правда, к лучшему! Здесь кому-то надо службу нести.
— Конечно, к лучшему! — поддакнул Тарх. — Споров не будет.
Закончив необходимые для зимовки дела, атаман взялся за государеву службу: казака Гришку Антонова послал вверх по реке к ходынцам с миром, с предложением дать выкуп за смертельные раны Шаламки Иванова, а впредь платить ясак, Гришку Вахромеева — вниз, к анаулам. В срок не вернулись ни тот, ни другой. Старший Стадухин забеспокоился нехорошим предчувствием, хотя опасаться беды было рано. Промаявшись день и другой, он собрал людей. Десять промышленных с Васькой Вилюем вызвались плыть к анаулам. Сам передовщик хромал, повредив ногу при заготовке птицы, а стругов не было, предстояла пешая ходьба. Товарищи убедили Вилюя остаться в зимовье, вдевятером отправились в низовья, искать заплутавшего или загостившегося Гришку.
— Пригрела какая-нибудь девка, не спешит на работы и караулы, — смеялись, успокаивая атамана.
Тот криво улыбался и поторапливал с выходом. Сам с беглыми казаками Ивашкой Пуляевым и Евсейкой Павловым отправился вверх по реке, искать другого посыльного. Вернулись они с поклеванными и испачканными воронами останками на волокуше. Ходынцы с их стадами оленей откочевали, догнать их было невозможно. Спешные похороны убитого положили конец распрям между зимовьями. Стадухин оставил при поселении торговых людей, Вилюя с пятью промышленными, сам с Бугром, Евсеем и Пуляевым, с тремя десятками своих и моторинских людей двинулся вниз по реке. Среди них были те, что весной видели крепость и знали путь к ней. На подходе удалось поймать анаульского мужика, от него выведали, что Гришка и девять человек, посланных ему на помощь, убиты. Коричневое, в глубоких бороздах лицо Бугра стало серым. Угрюмый Евсейка присвистнул, Ивашка Пуляев витиевато выругался, Михей сжал зубы, закрыл глаза. Открыв их, процедил, не разжимая губ:
— Не верю!
Казанец переспросил анаульца, тот пролопотал ответ и показал знаками, что всех перестреляли из луков.
— Тела где? — просипел Стадухин.
Казанец долго пытал пленного, и тот ответил, что они лежат где убиты: в тундре, на мхах.
— Что будем делать? — спросил Михей, обводя товарищей пристальным взглядом. Обветренное лицо его было багровым, усы пламенели в русой бороде.
— Мстить надо! — опустив глаза, прохрипел Бугор. — Не то всех перебьют. — И сорвался в крик, буравя Стадухина неприязненным взглядом: — Упреждал — нельзя показывать наши раздоры!
Стадухин блеснул злобным взглядом, мотнул головой, не ответив, перевел гневные глаза на Евсея с Ивашкой.
— Похоронить надо, — пожал плечами один.
— Иначе никак нельзя, — пробубнил другой, отворачиваясь.
Промышленные поддержали их. Отобьем останки, высмотрим подходы, похороним, после решим, что делать.
— Ну, стервецы! — выругался атаман. — Мало что скрылись в такое время — еще и все струги забрали.
Бывальцы вывели отряд к большому заливу. Это была еще не губа Анадыря, но часть солоноватой воды из устья попадала сюда. Берег, по которому шли, был каменист. После чавкающей болотины, проседавшей под каждым шагом, качавшихся под ногами мха и кочек идти стало легче. Анаульская крепость была устроена на возвышенном берегу. Возле нее сгрудились до десятка чумов, у воды лежали лодки, обтянутые кожами. Издали учуяв чужаков, протяжно завыли собаки. Люди, суетившиеся возле чумов, опасливо потянулись к крепости: они ждали мщения, потому подойти незамеченными не удалось. Пленный указал, где лежат тела убитых. Скрываясь за камнями и кустарником, ватажные подобрались к укреплению на сотню шагов, издали увидели раздетых и обобранных товарищей. До них было до полусотни шагов открытой местности — верный выстрел. Последние из анаульцев спрятались в крепости и выставили из бойниц стволы ружей. Обернувшись к Казанцу, атаман кивнул на ясыря, приказал:
— Пусть скажет, чтобы дали забрать убитых!
Казанец передал приказ пленному. Лицо ясыря напряглось, окаменело, глаза смежились в щелки, накрывшись пухлыми веками, он молчал и думал. Поторапливая, Бугор потыкал его в бок острием ножа. Наконец решившись на что-то, анаулец встал в рост, закричал. Его услышали. Он обернулся к Стадухину и махнул рукой, показывая, что можно идти. Михей намотал на ладонь бечеву, которой были связаны руки пленного, подтолкнул вперед, скрываясь за его спиной, двинулся к телам. Едва подошли к месту, крепость окуталась дымами и прогрохотал ружейный залп, который не нанес вреда. Казаки, шедшие за ясырем к телам товаришей, попадали на мох, из-за их спин прогрохотал ответный залп. Пленный провернулся змеем, вырвал бечеву из руки Михея, вскочил и, пригибаясь, побежал к крепости. Преследовать его не стали, но ползком потянули мертвяков. Пока прикрывавшие перезаряжали ружья, анаулы пришли в себя и пустили из бойниц тучу тяжелых стрел. Первым, как подкошенный, упал на колени бежавший к ним ясырь. Две стрелы ушли в мох рядом с Михеем, волокшим один из трупов. Третья воткнулась в мертвое тело. Рядом вскрикивали и стонали товарищи. Наконец, промышленные перезарядились и дали другой залп. Из крепости перестали пускать стрелы. Казаки и промышленные добрались до прикрытия из камней. Пуляев, посмеиваясь, выдергивал стрелы из своей камлайки, задрал подол, обнажив живот, пошарил по бокам.
— Вот ведь! Ни одной царапины!
Повезло только ему и Михею, остальные были переранены, но легко. Тарху пришлось резать кожу на боку, чтобы вытянуть зазубренную костяную стрелу.
— Что прокричал им шельмец? — тяжело дыша, спросил Михей Казанца. — О том только и думал, пока полз.
— Вроде так и сказал, чтобы дали забрать тела, — внимательно разглядывая мертвеца, с недоумением поежился Иван.
— Родька! Вилюевский покрученник! — подсказал Бугор, опознав убитого. — Серьга была в ухе — мочка разорвана, а лицо вспухло.
— Раздели донага. Стервятники! — поморщился Михей. — В чем хоронить?
— Пред Богом, поди, все так предстанем! — перекрестился Пуляев. — Подумав, добавил: — Однако нехорошо предавать земле голыми. А что делать? Другой одежки у нас нет.
Тел было девять. Среди убитых не опознали первого из посланных — беглого ленского казака Григория Вахромеева.
— Расстреляли на подходе, — разглядывая раны мертвецов, морщился Бугор. — Видно, даже слушать не стали: подпустили на выстрел и убили.
Поругивая моторинских и дежневских беглецов, люди Стадухина уволокли тела к берегу Анадыря, похоронили на сухом месте, насыпали холм, поставили крест из обтесанного плавника.
— Вернемся еще! — пообещал Михей, кланяясь могиле. — Привезем одежду, перезахороним. В мерзлоте долго пролежите нетленными.
Помянув покойных печеной утятиной, стали думать, как брать крепость. И тут на них вышли шесть моторинских и дежневских людей. Они тянули бечевником груженый струг и вели за собой полдюжины собак. Михей налетел на них, как пес на соперника. Казаков Проклова и Ветошку бил, торгового Михейку Захарова таскал за ворот, тыкал носом в товар, Фому Семенова, Елфима Меркурьева, Парфена Михайлова материл, отводя душу за убитых и раненых. При молчаливом согласии промышленных людей, ходивших на крепость, вытряхнул из мешков груз, который был в струге. Спутники ахнули, Бугор, скорчив удивленное лицо, поскоблил редеющий затылок. В мешках были льняные рубахи, попорченные плесенью сапоги красной кожи, пеньковые веревки, позеленевшие медные котлы. Больше всего стадухинских людей порадовали окаменевшие мешки с заплесневелой ржаной мукой.
— Откуда? — завозмущались они, бросая на беглецов подозрительные взгляды.
— Остатки Бессона Астафьева! — заверещал Елфим Меркурьев. — Я к ним приставлен по соборному решению. На меня все записано.
— Семейка говорил — от голода мерли… А тут мука?
— Только сейчас отыскали, прежде не могли! — оправдывался Елфим, закрывая добро спиной.
После всего увиденного лежавшие на дне струга моржовые клыки ни у кого не вызвали любопытства. Даже старший Стадухин с его единоличным правом сбора и добычи рыбьего зуба не спросил, откуда взяты.
— Надо вернуться к могиле, откопать и приодеть покойных! — загалдели казаки и промышленные. — А то, нам во грех, что явятся к Господу с неприкрытым стыдом…
Атаман поднял руку, прекращая галдеж, стал пытать встреченных, откуда идут, где люди Моторы и Дежнева. Шестеро сбивчиво отвечали, что ватажные в пути на Пенжину наткнулась на непроходимый стланик, стали прорубаться, а их отправили в низовья реки за кормами и гусельниковскими остатками. Мука в мешках на три пальца покрылась зеленой коркой, внутри же оказалась съедобной. Стадухин забрал все, что везли в струге, и велел варить саламату. После рыбы и утятины — еды, на которой жили, это был пир в помин убитых.
Ватага Моторы застряла где-то на малом Майне. Как ни сердились обобранные Стадухиным казаки и промышленные, но весть о том, что ходынцы и анаулы убили одиннадцать человек, потрясла и напугала их. Они соглашались, что надо поскорей найти и вернуть людей Моторы, объединиться, разорить крепость и подвести под государя, иначе во время зимних промыслов анаулы перебьют всех.
Кончался сентябрь. По берегам реки нарастал лед, в черной воде плескались белые лепешки сала, застывали протоки и старицы, с хрустом проседал под ногами мох. Казаки Проклов и Ветошка вывели стадухинских людей к оголодавшим и умученным беглецам. Люди Моторы тянули струги в обратную сторону.
— Гнался за нами? — Неприязненно уставился на соперника Мотора, но, высмотрев рядом со Стадухиным своих людей, непонимающе заводил носом, задергал бородой.
Больше обычного хромая, к Михею подошел Семен Дежнев. Глаза его запали, шея истончала.
— Опять драться будешь? — спросил с обычной насмешкой.
Душа Михея перекипела, он не ответил земляку, приказал развести костер и варить саламату. О случившемся наперебой рассказывали его люди.
— Аргишей не нашли, а прорубиться сквозь стланик оказалось не по силам, — жаловались отправившиеся на Пенжину. — Там ни рыбы, ни утятины — зайцы да куропатки, за дикими оленями гоняться некогда. Кабы не добыли медведя — и к реке выйти не хватило бы сил… А в зимовье припас рыбы.
Старший Стадухин приметил в отряде Моторы обычные при неудачах распри и недовольство. В большинстве люди были рады мирному единению отрядов. Выслушав прибывших, остыл и Мотора, спросил, сколько человек охраняют избы, посетовал:
— А то ведь анаулов погромим — можем вернуться на гарь от ходынцев. Не погромим — будут нападать… А там такой стланик, — оправдываясь, указал на полдень, — к весне не прорубиться. Разве зимой, по снегам перейти? Иначе никак…
Отмахнувшись как от пустого, неважного по нынешним бедам, Стадухин объявил:
— Надо думать, как подвести анаулов и спалить крепость. Кабы они не ушли к зиме. Ищи потом!
Беда объединила. Забыв былые распри, уважительно и нешумно, как при благочестивой старине, высказались все по кругу, соборно приняли решение: полутора десяткам промышленных тянуть суда к зимовьям, защищать их, объединившись с тамошними сидельцами, остальным идти застывшей тундрой воевать немирных анаулов. Атаманом на поход кликнули Михея Стадухина. Земляка миролюбиво поддержал Дежнев, заметив, как напрягся и засопел Мотора. Все взгляды обратились к нему, покряхтев, согласился и он, что Мишка в воинском деле искусней.
— Мы те места знаем, — Дежнев обернулся к Фоме с Елфимом. — Зимой вода солонеет, думали, море рядом, а до него еще далеко. Помним, где много плавника.
Осада повторилась. Но на этот раз казаки и промышленные подходили к крепости по льду, скрываясь за щитами, которые на полозьях толкали впереди себя. Издали увидев врагов, анаулы снова заперлись. В полусотне шагов дали неумелый залп из ружей, осыпали щиты стрелами. Ватажные продвинулись к самой суше, запалили факелы, чтобы поджечь крепость. Ворота распахнулась, наружу вырвалось до сотни мужиков с копьями и кольем. Ватажные дали залп. Едва успели вставить тесаки в стволы, из порохового дыма выскочили анаулы. Отбиваясь саблей и топором, Михей видел краем глаза, как бьют дубинами Фому Семенова и Тита, как с саблей в одной руке, с топором в другой крутится сутулый Пашка Кокоулин, а его лицо заливает кровь. Казак Ивашка Пуляев с торговым Мишкой Захаровым спина к спине отбивались от дюжины наседавших врагов. Со стороны видны были только мельтешившие сабли, топоры, дубины, рогатины. Бой длился недолго, но был жарким. Анаулов загнали в крепость и пригрозили сжечь. Наружу вышел тойон с разбитым лицом, высунув язык, показал на него пальцем. Михей отыскал глазами запыхавшегося Казанца, мотнул головой, призывая толмачить. Его скользящий взгляд отметил окровавленный лед, брошенные щиты, среди анаульских тел полдюжины своих, распластавшихся без признаков жизни.
— Тот тойон, что приносил ясак, был Колупай, этот — Локк, — переводя дыхание и вытирая шапкой взмокший лоб, указал Стадухину Дежнев. — Они разнятся родами.
Локк предложил жить в мире, дал в заложники сына и племянника — сына сестры, обещал выдать пеню за убитых людей. Пока Михей с Казанцем вели переговоры, ватажные обшарили чумы и крепость, свалили в кучу полтора десятка пищалей. Половина из них была с разорванными казенниками. К Дежневу подвели длинноволосого мужика, его беззубое лицо в бороде сминалось в кулачок и расправлялось, как у старца.
— Не узнаешь? — он шепеляво всхлипнул и смахнул слезы с глаз.
Семен вгляделся в его глаза, что-то вспоминая.
— Из поповских, что ли?
— Богдашка Анисимов, покрученник Федота, — закивал моложавый старик. Указал на сваленные ружья, похвастал: — Я учил стрелять! Не то бы многих поубивали.
Стадухин перекинулся с ним торопливым словом и оставил разговор на другое время. Его люди подожгли крепость: одни грелись возле огромного костра, другие присыпали золой раны. Анаулы растаскивали своих убитых, промышленные и казаки — своих. Погибли четверо, среди них беглые ленские казаки Иван Пуляев и Кирилл Проклов, которого атаман побил при встрече на Анадыре, а теперь мучился совестью и просил у убитого прощения. У другого ленского беглеца, Павла Кокоулина, была разбита голова и сильно кровоточила рана на ноге.
— Не жилец, — крестясь, пробормотал Бугор.
Был убит торговый человек Мишка Захаров, имевший кабальные грамоты на моторинских людей. Анисим Костромин плакал, охая и баюкая ушибленную руку. Богдашка показал, где закопали убитого казака Григория Вахромеева, пришедшего к анаулам первым. Его тело уложили на волокушу, с четырьмя другими убитыми, анаульские собаки потянули их в обратную сторону к братской могиле, на шестой волокуше везли Павла Кокоулина-Заразу, еще живого, но совсем немощного. За русскими людьми доброй волей ушли одиннадцать женщин, которых анаулы отпустили вдобавок к выкупу за убийство русских людей. Это были плененные ими в междоусобицах или купленные у инородцев чукчанки и корячки. Григория Вахромеева и четверых убитых при осаде положили к прежним. А тех по обещанию одели в отбитую и другую одежку.
— Это сколько же наших-то осталось? — Лютко Яковлев с недоумением стал было оглядываться и загибать пальцы.
— Не считай? — рыкнул Стадухин. — Не кличь другой беды!
Все спешили вернуться в зимовье, понимая, что до холодов туда не успеть. На промысел никто не надеялся, но там был припас еды. Отряд с аманатами отправился в верховья реки по крепкому льду. После похорон убитых женщины заметно повеселели, стали ласково поглядывать на ватажных.
— У нас голодать не будете! — обнадежил их Фома Семенов. От жены — чукчанки он научился ее языку. — Это мы ветшаем без хлеба, а наши бабы от мяса и рыбы толстеют, — хлопал себя по тощим ляжкам и смешил.
Женщины переглядывались, о чем-то лопотали между собой и бодро шагали в новую для них жизнь. Возвращались прямиком, то по реке, то по застывшей тундре. Припас и Пашку Кокоулина иногда несли на руках, мотаясь среди кочек, или волокли по застывшим притокам и озерам. Взятые на погроме корма кончились через неделю, другую шли голодом, на случайной добыче. Легкие на ноги ясырки убегали вперед с луками, били куропаток и зайцев. Крупной дичи не попадалась. Ружья, топоры, котлы и одеяла ватажные несли на себе. Укутанный в меха, все никак не отходил к Господу и не мог встать на ноги Павел Кокоулин.
В пути, у костров, полуголодные люди Стадухина и Моторы слушали освобожденного Богдана и снова томились душами от сказов про богатства земли, до которой не так далеко: от устья Анадыря при попутных ветрах морем — недели полторы хода. Богдашка с упоением рассказывал о высоких курящихся горах, о соболе и лисах, которых били возле зимовий, о тамошнем гостеприимном народе, с которым не было ссор. Он, Богдашка, гоняясь за дикими оленями, разбрелся с товарищами и вышел на стан коряков. Те его не убили, но увели за собой на пастбища. От них он узнал, что где-то неподалеку есть бородатые люди. Оказавшись на Анадыре, бежал от коряков, но попал в плен к анаулам. Здесь увидел своего, русского человека, приплывшего к крепости за ясаком, убеждал диких не убивать, но его не послушали. Все остальное было известно. Промышленных интересовала земля, богатая соболем. Снова и снова они расспрашивали о ней. Богдан не знал, где сейчас бывшие с ним спутники, надеялся, что вернулись на Колыму. От коряков же слышал, что те разграбили два коча, а людей убили.
— Мы тоже слышали! — сказал Тарх, окинув взглядом спутников по морскому походу.
Старший Стадухин с состраданием поглядывал на стонущего Кокоулина, на казаков, шедших с ним с Яны на Индигирку и Колыму, ходивших морем на восход. Все они думали, что бежали с Лены за богатством и волей, но уже больше чем наполовину погибли за государево дело без всякого жалованья и благодарности. Что-то переменилось в их лицах: уставшие после перехода, они слушали сказы бывальца, ни о чем не спрашивая, не перебивая. Промышленные уставали не меньше, но их глаза горели, лица прояснялись, будто готовы были опять идти в неизвестное, голодать и умирать ради каких-то посулов, которыми прельщает не то Господь, не то бес или тот и другой разом. Ватаги вышли к зимовьям во время метели. Последние версты двигались по запаху дыма, нащупывая твердь под ногами. Караульный, топтавшийся возле стадухинской избы, разглядел их в десяти шагах — подскочил с пищалью наперевес, узнал своих.
Метель не унималась с неделю. Набившись в избы, прибывшие люди грелись, ели и отсыпались. Только перед Спиридонием-солнцеворотом все стихло, и разъяснились сумерки полярной ночи. Отъевшись красной рыбой, зимовейщики бездельничали, делили приведенных женщин и женихались. Перед Святой неделей в стадухинское зимовье пришли четверо промышленных из отряда Моторы: Матвей Ильин, Калин Куропот, Иван Вахов, Иван Суворов. Они степенно положили поклоны на образ в хозяйском углу, расселись у очага, свесив бороды, показывая, что явились для важного разговора. Повздыхав, Иван Суворов поднял глаза и пожаловался:
— Живем, как трава! Едим, спим. Иные девок брюхатят, и ничего им уже не надо… Все надежды на рыбий зуб. Дежневские шепчутся про богатую коргу где-то к полуночи.
— Ты — человек государев, — поддержал товарища Вахов. — У тебя наказная от воеводы.
— Будто раньше об этом не знали? — озлившись, дернулся было Михей, но взял себя в руки, показывая, что готов слушать.
— Знали! — покорно склонив голову, согласился Суворов. — Только кабалились на поход у Костромина с Захаровым. — Досадливо поморщился, мотнул бородой: что, мол, об этом? Выпалил наболевшее: — Мотора дальше Анадыря не пойдет: собирается искать моржовые кости. А мы думаем, — указал глазами на спутников, — наказная грамота на кость у тебя, да и сколько ее утянешь на Колыму, если возвращаться тем путем, что пришли? Ста рублями прежних кабал не выкупить.
— Понимаю! — посветлев лицом, согласился Стадухин, соображая, что от него хотят.
— Богдашка Анисимов сказывает про Нос Великого Камня. Мы ходили с Моторой в ту сторону, знаем, что пройти можно, но только санной дорогой.
Прислушиваясь, к промышленным людям придвинулся Михайла Баев, сметливо заводил глазами с одного на другого. Заерзал на лавке Тарх, пристально глядя на брата. Старший Стадухин молчал.
— По-любому получается: зуб собирать или соболевать на Пенжине можно только с тобой! — окончательно высказались посланцы и, переведя дух, вопрошающе уставились на Михея.
С некоторых пор он мысленно благодарил Бога, что в последнем морском походе не принудил спутников плыть дальше, путем, пройденным Семеном Дежневым. Какие бы богатства ни блазнились, но прийти на край Великого Носа вторым, после побывавших там Попова и Анкудинова с их людьми, ему не хотелось, обирать не им открытую коргу — тоже.
— На Пенжину пойду! — твердо сказал Михей и хлопнул ладонью по колену, обтянутому штанами из нерпичьей шкуры.
— И то хорошо! — согласно закивали выборные. — Никто из очевидцев там не был, а дикие сказывают про лес и великие богатства.
Так же степенно откланявшись на образа, они ушли. Едва за ними закрылась дверь, впустив раскатившееся по земляному полу облако, загалдели вилюевские промышленные, и стала зреть в душе Михея уверенность, что надо уходить. Теперь уже и терять-то было нечего, кроме жизни, а ей хозяин — Господь.
Ночью рядом с ним маялся бессонницей, ворочался с боку на бок торговый человек Баев. Стадухин сел, свесив ноги, тот открыл глаза, прошептал:
— О том же думаешь?
— О том! — одними губами прошлепал торговый человек.
— Пора готовиться. Пока соберемся — покажется солнце! А там — март — ни зима, ни лето, крепкий наст, — громче заговорил Михей.
— Я свое отходил, — покашливая, отозвался из угла Иван Казанец. Не спал и он. — Все! С низовий едва ноги приволок. Думаю, если даст Бог вернуться на Русь, подамся в монастырь. По грехам, бросил прежний достаток, другого Бог не дал. И Васька после погрома едва приволокся. Зря ты его обидел.
— Зря! — согласился Стадухин, откинулся на одеяло и уснул легко, как давно не засыпал.
— Я тоже дальше не ходок, — пробубнил слушавший спутников Анисим Мартемьянов. — Печенкой чую — нет иного пути, кроме обратного на Лену… Если еще даст Бог выбраться!
— А кабалы простишь? — усмехнулся в темноте Баев.
— На этом свете сам взыщу или те, у кого я в долгах. Ну, а кто не вернется — тем Бог судья! Замолвят доброе слово пред Пречистыми очами — и ладно. — помолчав, добавил: — Кабалы убитого Мишки Захарова и его остатки взял на себя Анисим Костромин. Вдруг вернет родне то, что покойный выстрадал на Колыме и Анадыре.
Стадухину не пришлось объявлять о новом походе. Эта весть разнеслась сама собой, закрутила людьми, будто не они выбирали судьбу, а судьба их. Верный Стадухину казак Евсей Павлов, охочий Юшка Трофимов и другие еще недавно рьяно рвавшиеся в неведомое вдруг остепенились, будто почувствовали край пропасти. Иные, дравшие горло за Мотору и Костромина, переметнулись к нему. Евсеей Павлов был скрытен, знал свою правду, не выдавая сиюминутных сомнений словами. Стадухин завидовал его рассудительности и спокойной уверенности в себе. Но нашлась управа и на этого казака.
— Евсейку от корячки не оторвать! — смеялись промышленные. — Глаза мутные, тупые, как у лося на реве.
— Зря избу рубит… Уйдем — все зимовье ему достанется.
Евсей Павлов высмотрел среди приведенных девок корячку, и она приняла его. Они пытались спать в зимовье, завешавшись медвежьей шкурой. Но корякская женка от Евсейкиных ласк имела обыкновение громко орать. Ни уговорами, ни руганью ничего поделать с ней не могли. Желая отселиться, Евсей строил отдельную избенку. Юшка Трофимов, бывший Стадухину верной опорой, тоже обабился: чего не смогли сделать лишения бродячей жизни — сделала чукчанка.
Новый дух накрыл оба анадырских зимовья. Даже беспросветная февральская метель сладкоголосо напевала про Пенжину, манила чем-то радостным. Повеселели лица людей и их разговоры. Полярная ночь была на исходе, уже разъяснивались над тундрой легкие белесые сумерки. Почуяв сборы в новый поход, сама по себе собиралась ватага больше полусотни удальцов. С Моторой и Дежневым желали остаться только три десятка, но среди них оказались все беглые казаки. «На что надеялись?» — гадал Михей Стадухин.
— Думают здешними службами получить прощение от государя? — спрашивал брата.
— Дальняя окраина! — разумно рассуждал Тарх. — Немирных народов мало, женок много, с голоду не помрешь… А что? Известят Колыму про рыбий зуб и выслужат прощенье.
— Не из вольных! — жестко посмеивался старший Стадухин. — Пантелей Демидыч называл таких городовыми.
Те, что собирались идти в полуденную сторону, опять должились у торговых людей порохом, свинцом, неводными сетями, возбужденно толклись возле стадухинского зимовья, укладывали пожитки в нарты. Дежневские и моторинские люди наблюдали за сборами кто с тоской и завистью, кто со скрытой насмешкой, и все помалкивали, будто знали свою им одним понятную правду.
Холода стояли лютые, с грохотом трескался и вспучивался лед реки, птицы облепляли крыши зимовий, а утрами, белые от инея, толстые от распушенных перьев, нехотя снимались с мест. Но кончалась северная ночь. На Сретенье алел восток, а на святого Луку показался ослепительно алый край солнца. Боясь прогневить Господа, Михей Стадухин с умиротворенным лицом вошел в дежневское зимовье, положил на образ Николы Чудотворца семь поясных поклонов, поклонился бывшим товарищам — казакам, испросив прощения за дерзкие слова и обиды. Ответа не было, они смущенно глядели под ноги. При общем молчании Стадухин нахлобучил шапку, вынул из-за пазухи отобранную у Моторы отпускную грамоту Власьева, положил на нары и закрыл за собой дверь с чувством исполненного долга. За ним в одной заячьей рубахе вышел Бугор.
— Не гневись, Мишка! Не по злобе остаюсь, нет уже духу идти в неведомое. Кончился! И кабалиться невмочь: прежних кабал много.
— Понимаю! — мимоходом обнял казака Стадухин и пронзительно свистнул. Из зимовий стали выходить по-походному одетые люди. Михей рассеянно обернулся к Бугру, все еще топтавшемуся на ветру в одной рубахе.
— Скажи — отчего казаки переметнулись к Моторе? С какого ляда вы здесь выслужите государево прощение?
— До седой бороды дожил — ни перед кем спины не гнул. А ты мне: «Васька, хватай!..» — Бугор сплюнул, выругался: — У Моторы все по старине, соборно и сообща.
— Это хорошо! — согласился Стадухин, присматриваясь к сборам. — При мирной жизни у него, наверное, лучше… Ну, дай вам Бог спокойной службы! Прощай, что ли, Васенька! — Еще раз обнял казака и зашагал к своим людям.
Шесть десятков промышленных, стоя возле стянутых ремнями нарт, скинули шапки, с их голов закурился пар, волосы выбелило куржаком. Призвав в помощь Господа, Богородицу, Николу Чудотворца и всех святых покровителей, они и торговый человек Михайла Баев двинулись под началом казака к застывшей и заметенной реке. Двоевластие кончилось. Одни с облегчением, другие с тоской глядели вслед удалявшейся ватаге.
— Вдруг вернутся? — Ефим Меркурьев метнул опасливый взгляд на Семена Дежнева. В нем была тайна, связывавшая всех спасшихся людей Бессона Астафьева.
— Мишка не вернется! — покаянно крестясь, пробормотал Семен. — Новгородец! Или лоб расшибет, или добудет свое.
12. Каждому свое
В то время когда Федот Попов с Иваном Ретькиным собирали небольшое четырехсаженное судно из трех побитых, а Михей Стадухин воевал с анаулами в низовьях Анадыря, коч торгового человека Алексея Едомского подходил к Жиганскому острожку. По парившей черной воде Лены плыли редкие льдины, оторвавшиеся от заберегов, со дня на день должна была пойти шуга, затем встать и покрыться льдом река. Бурлаки налегали на бечевы, шлепали бахилами по студеной воде в ожидании теплых ночлегов, бань с сусленками и уже не берегли ни одежды, ни обуви, ни сил: спешили, подгоняемые посулами передовщика. На этом судне возвращались в Якутский острог Юша Селиверстов, посланный Михеем Стадухиным с моржовой костью и промышленный человек Гаврила Алексеев, ходивший с ним и с Пустозером к востоку от Колымы. Понимая нужду и спешку стадухинского целовальника, Алекса Едомский еще на Колыме принудил его продать соболей по тамошней цене, и не за деньги, а под кабальную запись. Юша был зол на него и на колымского приказного Василия Власьева, который, дождавшись перемены, ушел к Лене на коче Кирилла Коткина и не взял Селиверстова с государевой казной, отговорившись теснотой.
В морском походе Юша часто ругался с хозяином судна, который мнил себя искусным мореходом только потому, что по доброй погоде и Божьей милостью привел коч на Колыму. При нынешних ветрах можно было прийти на Лену вдвое быстрей, если бы Алекса доверил управление судном ему, Селиверстову, или хотя бы слушал его советы. Но вместо того стадухинский целовальник наравне с бывальцем Гаврилкой стоял на шесте и шел в бечеве как простой бурлак. Люди торгового человека потешались над ним: спящему пачкали бороду, мочились в сапоги. Гаврилка в травле не участвовал, но и не заступался за своего связчика, бывшего целовальника.
В устье Яны из стадухинской казны пропало два зуба по две гривенницы весом, потом кабальная грамота на пять рублей, данная Селиверстову Едомским на Колыме. Юша счел бессмысленным заводить сыск на чужом судне при общей неприязни, угрюмо помалкивал и придумывал мщение. До Жиганского острожка они дошли едва ли не в последний день перед ледоставом. Бурлаки гурьбой бросились в баню, парить остуженные кости. Селиверстов, переругавшись с таможенными казаками и тамошним целовальником, велел им составить опись. О пропаже клыков не заикнулся, взяв недостачу на себя. Годом раньше Втор Гаврилов привез от Власьева рыбий зуб, выменянный Пинегой у колымских чукчей. Насельники Жиганского зимовья на удивление равнодушно отнеслись к новостям с Колымы и к добытой моржовой кости, все их помыслы и разговоры были об Амуре, об охочих людях Ерофея Хабарова. Здесь Селиверстов узнал, что власть на Лене переменилась: против воеводы Петра Никитовича Пушкина был объявлен сыск и его, как прежде Головина, за приставами увезли в Москву, сменив латинянским выкрестом Дмитрием Андреевичем Францбековым. «Выкрест так выкрест! — подумал Юша. — С нерусью иной раз легче сговориться, чем со своими начальствующими».
В острожке ему рассказывали, что в междувластие, когда на Ленском волоке уже наводил порядок новый воевода, посланный на смену Пушкину, Ерофей Хабаров сумел войти к нему в доверие, поверстался в казаки и получил наказную память идти на князей Батогу и Левкоя, которые отказали в ясаке письменным головам Пояркову и Бахтеярову. Своим подъемом Хабаров набрал полк из казаков и промышленных людей, двинулся на Олекму, где был встречен людьми воеводы Пушкина с приказом доставить его в Якутский острог на сыск по делу о незаконном винокурении. Но было поздно: Хабаров помахал перед посыльными отпускной грамотой от нового воеводы и ушел вверх по Олекме. По его отпискам, о которых говорили по всей реке Лене, князцы Левкой и Батога бежали без боя, бросив пять городов с пушками, ружьями, с золотой утварью и казной. В Жиганах рассказывали, что весной Ерофей приезжал в Якутский острог наряженный, как царский сын, обвешанный золочеными доспехами и оружием, набрал новых охочих людей и увел на Амур, обещая вызнать дорогу к китайскому хану Богде.
Люди, зимовавшие на поденных работах, считали себя обманутыми судьбой: все они проплыли мимо устья Олекмы, стремясь пристать к какой-нибудь ватаге, чтобы добраться до Колымы. В Жиганах бывалец Гаврилка загулял вместе с промышленными Алексы Едомского, Селиверстов же, едва обсохнув после бани, — стал искать нарты и работных людей. В пути он презрительно слушал их догадки, что Батога с Левкоем — князья старорусских сибирских городов, что Сибирскую Русь надо искать на Амуре. В подтверждение гулящие ссылались на передаваемые по Лене сказы Ерофея Хабарова о брошенных князьями городах. Селиверстов с ревностью рассказывал о Колыме, о богатых костью лежбищах моржей и опять примечал в лицах спутников тупое равнодушие. Входя в раж, он показывал самые крупные моржовые клыки, прикидывал их стоимость по ленским ценам и снова не видел в глазах бедствующих людей ни восхищения, ни зависти.
— То я Олекмы не знаю или Ярка Хабарова, — насмешливо язвил. — Брешет, будто над дураками потешается!
Гулящие с ним не спорили, только переглядывались меж собой, а то и посмеивались. Обоз благополучно и быстро добрался до Якутского острога, Юша расплатился с работными и предъявил груз таможенному голове. Тот без проволочек поставил его перед дьяком и новым воеводой. Взглянув на него, Селиверстов понял, что Дмитрий Андреевич по нутру своему никакой не служилый, а самый обыкновенный купчина: жадный и хитрый. «Такого лестью и уверениями не проймешь, — подумал, — но покажи ефимок — и он твой благодетель! Видать, Ярко это хорошо распознал и обвел выкреста вокруг пальца». Думая так Юша, плутовато щурился и прикидывал, как ладить с новой властью.
Францбеков был наряжен в короткий фряжский кафтан поверх камзола, шея обвязана шелковым платком, голова покрыта шляпой с пером. Подергивая длинными усами, он перебирал моржовые кости, глаза его горели, пальцы подрагивали. Примечая всякую мелочь, Селиверстов приглушенным и вкрадчивым голосом ворковал, как ходил с Мишкой Стадухиным от Колымы на восход, узнал о четырех реках, по которым живут народы многие, а по тамошнему морскому берегу заморной кости столько, что можно грузить десятки судов. Дать бы ему, Юшке, добрый коч, да парус, железный якорь, да троса пенькового по нужде, уж он бы в одно лето собрал бы и привез такой кости пудов триста.
— Допрая затея, допрая! — шепелявя, хвалил его воевода. — Васка Власьев наменял пут и просит сто слушилых на чукчей!
— Ох уж этот Васька! — стал ругать бывшего приказного Селиверстов и выложил жалобные челобитные Стадухина.
Начальствующие люди читали их с доверием, но опять, как среди гулящих, тянувших его нарты, Юша не замечал в их лицах должного восхищения его посулами, про себя же завистливо ругал Хабарова: «Врет ведь про города с золотом, и ему верят…Не слишком ли я скромен? Латинянам того не понять, у них совести нет».
— А это пустяк! — почтительно согнув спину, небрежно кивнул на привезенный груз. — Мишка Стадухин отправил для смотра. Сгодятся ли? — Льстиво осклабился, потом, помрачнев, вздохнул: — Да и не вся здесь кость: принудил бес связаться с ворами, которые тайно меняли соболей у колымских юкагиров. Обокрали меня в пути люди Алексы Едомского, полпуда кости да кабальных грамот на пятьдесят рублей.
Воевода вопросительно взглянул на дьяка, тот на письменного голову. Подьячий взвесил кость, перечитал описи Нижнеколымского и Жиганского острогов.
— Немедля отправим людей для сыска! — уверили воеводу.
С моржовой кости были взяты отправленные Стадухиным в казну две головы и четыре самых крупных зуба весом в двадцать пять гривенок, полпуда обетной кости переданы Спасскому монастырю. Четыре пуда, бывших у Селиверстова, воевода купил за двести двадцать шесть рублей. Ленская цена оказалась много выше, чем предполагали на Колыме. Юша не ждал такой щедрости, но виду не подал. В Жиганский острог он возвращался на оленьей упряжке, в лисьей дохе и собольей шапке, с должностной важностью в лице. С ним были посланы для сыска якутский таможенный голова и трое служилых. С помощью жиганских казаков они обшарили государево зимовье и жилье, нашли у кабацкого откупщика два моржовых клыка, которые Селиверстов опознал. Откупщик указал на торгового человека Алексея Едомского, у которого их купил. Тот орал под плетьми, что давал на себя кабалу только на пять рублей. Но над огоньком вынужден был признаться в пятидесяти и в том, что кабальные грамоты сжег. Было несовпадение: по описям нижнеколымского и жиганского приказчиков, у Селиверстова недоставало всего пять соболей. Едомский явил здесь на пять больше, чем указано в описи. Но Юша выкрутился как змей, сказав, что взял мех от Стадухина для его жены, а Едомский вынужден был признать, что беспошлинно поменял эту рухлядь в Янском зимовье на хлеб и масло, и оговорил знакомого торгового человека. На том сыск кончился. Селиверстов смотрел на пострадавшего передовщика ясными глазами, в которых леденела радость отмщения. Алексей Едомский, щуря свои красные и затравленные, при свидетелях отдал ему пятьдесят черных соболей, из которых пять были взяты в казну.
Довольный собой, Селиверстов укатил в Якутский острог. С ним вернулся изрядно пропившийся Гаврилка Алексеев. По наказу Стадухина Юша навестил его жену. В ее подновленном и расширенном доме явно по-хозяйски жил мужнин брат Герасим. Женщина встретила Юшу неласково, но деньги из пая мужа взяла. Не выдержав, разрыдалась, срывавшимся голосом стала спрашивать про Михея. Селиверстов как мог оправдывал его за то, что после неудачного морского похода ушел на Погычу сухим путем, предсказывал товарищу славу и богатство, если жена потерпит годик — другой.
— Уходил на год — на два! — вскрикнула она с укором. — Скоро четыре, как сбежал.
Селиверстов повел ясными глазами по потолку, повздыхал, подергал себя за бороду, стал пространно рассуждать о бабьей доле, потом, с прищуром предложил:
— Что тебе мучиться одной-то? Возьми меня на постой. Никто ничего не заподозрит: товарищ и связчик мужа вернулся.
Арина долго с недоумением смотрела ему в глаза, не совсем понимая, что предлагает гость, потом вдруг разьярилась и вытолкала из избы. Селиверстов фыркнул, отряхнул шубу, поправил соболью шапку и весело зашагал к острогу. «Униженные возвысятся!» — вертелось в голове поповское поучение. Так и выходило: обиды морского похода обернулись прибылью. Но была и задача, над которой он беспрестанно думал: поход не дал ожидаемой славы, на Лене говорили не о нем, а о Хабарове, восхищались не привезенной костью, а пустыми посулами Ярка.
Юша бывал в кабаке, пьяным не напивался, но, собрав любопытных, много рассказывал о новых реках и землях, о богатствах, которые ждут крепких рук и затрат на добычу, радовался, когда чувствовал, что захватил сказками богатых торговых людей. Они начинали верить и думать, сколько денег вложить в следующий поход. Юша не мелочился, распаляясь в помыслах о богатстве, понимал, что воевода против государевой прибыли своей корысти не упустит, и решил просить у него пять тысяч казенной ссуды, надеясь получить половину. От тех богатств, которыми ворочал в уме, захватывало дух. Помимо ссуды надумал просить добрый казенный коч, три десятка служилых и промышленных людей, оружия, хлеба, товаров, подарков для народа, алкавшего власти русского царя. При очередной встрече воевода доброжелательно выслушал его просьбу.
— Мноко припыль, мноко расхот! — прокудахтал улыбаясь и предложил подписать кабальную грамоту на пятьдесят рублей.
«Догадался, что неправдой взял деньги у Едомского», — холодея, подумал Селиверстов, растерянно подоил бороду и со многими вздохами подписал. Он ждал торга, предполагал, что воевода скостерит просьбу о пяти тысячах до пятиста рублей, но выкрест ни словом, ни взглядом не показывал, что удивлен суммой. Через две недели Селиверстов узнал, что жалобы на сына боярского Василия Власьева возымели действие, бывший приказный Яны, Индигирки, Алазеи и Колымы был выслан служить на Ленский волок. Весть эта обрадовала Юшу, и он решил напомнить о себе. Воеводский холоп доложил о нем, и Францбеков принял без проволочек, вперед ждавших приглашения. Его гладкие, пухлые, чисто выбритые щеки подрагивали, как бабьи груди. Селиверстов повторил сказанное при прошлой встрече, добавил только, что Мишка Стадухин ждет помощи, чтобы подвести под государя многие народы.
— Мноко припыль, мноко расхот! — согласился воевода, непонятно чему рассмеялся и положил перед Селиверстовым готовую, уже написанную кабалу на пятьдесят рублей. Свидетелями были вписаны его люди.
Острый клок Юшкиной бороды затрясся, он тоскливо взглянул на Францбекова и наткнулся на такой леденящий блеск глаз, что спорить не посмел. Подписал. Воевода убрал кабальную грамоту в сундук и сказал:
— Прафильно гофоришь! Там тепе лучший коч. Пойтешь целофальником к Мишке, а ему пыть прикасным на Анадыре. Потпери пятнатцать челофек… — Уточнил: — четырнатцать, ты — пятнатцатый!
— Мало! — осторожно запротестовал Селиверстов. — Надо бы добавить.
— Хфатит, чтобы доплыть до Колымы! — отрезал Францбеков. — Там найтешь пестельникоф.
Повздыхав, почесав затылок, Селиверстов согласился, что в походе до Колымы хватит и четырнадцати человек. Разговор был закончен, он откланялся. За дверью воеводской половины на лавке вдоль стены сидели полтора десятка промышленных и торговых людей, терпеливо ждали, когда он, Юшка, наговорится с воеводой. Селиверстов распрямил спину, взглянул на них с важностью, подошел к столу таможенного головы, перекинулся острожными новостями, чтобы знали, что он здесь завсегдатай. Напоминать воеводе о себе Юша стал реже, но когда приспевало, заходил без очереди и всякий раз подписывал кабальные грамоты на десять или двадцать рублей. Желавших плыть на Погычу было много. Гулящие ходили за ним толпами, он обнадеживал их туманными посулами, но ждал и искал других. Промотавшийся Гаврилка во всем прямил, охотно подтверждал его рассказы, подсаливая своими подробностями и домыслами. Среди зимы на поденных работах крутилась одна голь, найти прожиточных своеуженников можно было только после возвращения людей с промыслов. Селиверстов возлагал надежды на торговых, всеми силами завлекал их вложить деньги в новый поход, отбирал людей пристрастно и осторожно, прикидывал, с кого что взять. Между тем примечал и шаткость нынешней власти, узнал от свидетелей и участников, что Дмитрий Францбеков и его дьяк прилюдно дрались, втягивали в свои распри приострожный люд, потом помирились и ратовавшие за дьяка оказались одураченными. Приказчик дьяка, Афонька, прилюдно посмеивался: «Был де Головин, по головам бил, приехал Пушкин — стало пуще, а как Францбеков приезжал, так весь мир побежал». Селиверстов догадывался, что купцами уже доставлена в Москву жалобная челобитная на непомерные воеводские поборы, и спешил получить свое.
Даурский человек Дружина Васильев решил вложить в его поход две с половиной тысячи рублей с условием, что Селиверстов, вернувшись на Лену, даст ему пятьдесят сороков соболей по колымским ценам. Вычегжанин Евдоким Григорьев подписал складную запись, по которой обязывался вложить крупную сумму, чтобы отправить на Индигирку, Колыму, Чендон и иные сторонние реки своих покрученников. Торговый человек Евдоким Курсов вложил в предприятие Стадухина и Селиверстова занятые у родственников деньги, чтобы самому с братом идти к неведомым землям. Наконец определился и воевода, пообещав на поход больше двух тысяч рублей казенного подъема. Юшка ликовал и важничал. Своими сказками ему удалось-таки пронять торговых и промышленных людей. «Не для одного кота Масленица!» — ухмылялся, представляя смешливое лицо Хабарова с его напускной важностью.
В кабаке Селиверстов высмотрел бабу-юкагирку, вывезенную с Колымы. Изрядно спившаяся, потерявшая треть зубов, она толклась среди гулявшего сброда и бойко отвечала на соленые шутки. Юша подсел к ней, поднес чарку, вызнал, что служила толмачкой в промысловой ватаге пропавшего передовщика Афони Андреева.
— Я со льдом плыву на Колыму и дальше, на Погычу! — стал хвастать сильным голосом, который был слышен за дверью кабака. — Могу тебя взять: Митрий Андреевич мне ни в чем не отказывает, — разглядывая новокрещенку, прикидывал, что для сожительства мог бы купить моложе и краше, но ему нужен толмач, а хорошему толмачу платят, как передовщику.
Думал и о том, что хлеба юкагирка ест мало, довольствуется рыбой и мясом. Польза от девки представлялась явной, и он стал предлагать свое покровительство.
— Ставь полуштоф и считай, сговорились! — поняла его Бырчик, крещенная Матреной, ни словом не вспомнив про прижитую дочь, на которую могла бы вытребовать хлебный оклад.
В предчувствии скорого выхода Юша то расхаживал по Якутскому острогу, как петух по хозяйскому двору, то носился, как голодная курва. Не все складывалось так гладко, как хотелось. Весенний паводок поднял воду в реке на две сажени, но Якутский острог, поставленный воеводой Головиным, не подтопило. К этому времени Юша стал терять счет долгам перед воеводой и торговыми людьми. По его прикидкам выходило, что одних только кабальных грамот им было выдано больше чем на три тысячи. Но он отчего-то уверился в трехстах пудах заморных моржовых клыков, которые если еще не привез Стадухин, то вскоре будут добыты и долги окупятся.
Селиверстов снимал угол у торгового человека Евдокима Курсова, которого обещал взять с собой на Колыму пайщиком. В той же избе ютился брат Евдокима Терентий и четверо гулящих людей. Вести туда юкагирскую бабу с дочкой Юша не пожелал: дорого, но сговорился занять горницу у жены служилого Гришки Татаринова. Она с двумя дочерьми и ясыркой жила просторно, ждала мужа.
Глядя на свой пустеющий мешок с клеймеными соболями, Юша возлагал надежды на лето и дальнейшую жизнь за казенный счет. Между тем тучи над властью Францбекова сгущались: торговые люди, бывшие у него в немилости, становились грубей и заносчивей, часто собирались толпами, о чем-то оживленно говорили и умолкали при появлении Селиверстова, который слыл воеводским ушником.
Река вошла в прежние берега, но кочи промышленных и торговых людей стояли при остроге, ожидая воеводского разрешения на выход. Один только Андрей Горелый со служилыми и промышленными людьми снова был отпущен на Индигирку. «Что дал, что обещал воеводе?» — пытался вызнать Селиверстов. Ценное время утекало, а Францбеков медлил, безмерно обирая перед выходом всякую торговую ватажку. Не выпускал и Селиверстова, обещая казенный коч с припасом, вымогая новые кабалы. Примечая признаки к перемене власти, Юша и злорадствовал, и боялся не успеть.
В середине июля гнус и адова жара выгнали из тайги последние ватаги промышленных людей. С Шилки и Амура приходили нелестные вести о походе Хабарова. Желавших бежать туда убыло, а на Погычу — прибавилось. Селиверстов отказывал одним, обнадеживал других, вымогая кабалы под будущую прибыль, но с каждым днем становился суетливей и беспокойней, чаще бегал к воеводе, уже не глядя, подписывал кабалы на себя и замечал явное беспокойство во всех начальных людях острога. Только на закате лета в воеводских помыслах что-то переломилось. На Ильин день дьяк с важным видом зачитал Юше воеводскую наказную память, в которой он назывался не промышленным человеком, а охочим, отпущенным служить без жалованья на Колыму и дальние неприбранные реки. Селиверстов слушал дьяка, кивал, не во все вникая, и в мыслях уже правил кочем.
По крыше съезжей избы стучал ливень — святая ильинская вода. Лето кончилось, подступала осень с дождями и бурями. В оставшееся время добраться до Колымы было непросто. «Ничего, — утешал себя Селиверстов. — Лишь бы вырваться из острога!» По наказной памяти казна вкладывала в его поход больше трех с половиной тысяч рублей снаряжением, припасом и товарами. С Селиверстовым воевода отправлял на Колыму указы. Среди них был ответ на челобитную Михея Стадухина о помиловании и восстановлении в жалованье служивших ему беглых казаков, о высылке в Якутский острог Анисима Костромина, Семена Моторы, Никиты Семенова и бывших с ними беглых служилых. Михей Стадухин воеводским указом назначался анадырским приказным. В этом тоже была Юшина хитрость. Вместо власти над всеми землями восточней Колымы он посадил Мишку на одну реку. Не зная, как отнесется к такому повышению товарищ по прежним походам, готовил для него отговорку, что хотел добиться правды в споре с Семеном Моторой. К зависти торговых ватажек, Юша получил лучшее казенное судно с запасом парусов и тросов. На него понесли неслыханное количество хлеба, соляной припас, три пуда пороха, три — свинца, два мушкета, судовой инструмент, подарки иноземцам: сто пятьдесят железных стрел, полсотни больших и малых железных пластин, столько же топоров, четыре тысячи синего одекуя — товар от самого воеводы. Большую часть этого богатства Францбеков вымучил с торговых ватаг купцов Гусельникова и Босого. Сверх четырнадцати человек, по начальному уговору, Селиверстов упросил воеводу взять на хлебный и соляной оклад бабу-толмачку с дочерью и добился своего, хотя Бырчишку требовали вернуть гусельниковские люди.
Снова Юшка расхаживал по острогу гоголем, небрежно принимая поклоны зависимых людей. Из четырнадцати набранных семеро шли в поход охочими людьми с правами новоприборных казаков. Среди них был Гаврила Алексеев, которому за зиму изрядно надоела обжитая река Лена. Все они выдали Юше кабальные грамоты на себя. Другая половина промышленных людей числились своеуженниками, со своими паями. Чтобы уйти, иные из них кабалились на стороне. Как воевода вымучивал с Селиверстова долговые обязательства на случай удачного похода, так он тянул деньги с кого мог. Рука руку моет. Юша предполагал, что кабалами дает воеводе посул за то, что тот снабдит его казенным добром сверх письменного уговора, а он при удачном возвращении отдаст казне долг и десятину с добытого. Но латинянский выкрест тоже надумал хитрость и перед самым выходом вынудил Селиверстова подписать уговор, по которому обязывал кроме долга казне отдать ему, Францбекову, две части из трех от всего добытого. Скажи он о таком договоре сразу — Юша не подписал бы его под кнутом, но куда было деться, когда кабалы на себя уже даны? Селиверстов попьянствовал пару дней, ни с кем не делясь бедой, и нашел свое положение не таким уж плохим. Кто знает, что будет завтра, а сегодня он был на коне.
Только 24 июля Францбеков дал ему на руки отпускную грамоту и в тот же день выпустил из острога еще четыре коча торговых людей: Луки Влодимирца и Семена Иванова — приказчиков гостей Шориных, другие два принадлежали Прокопию Широкову и Шаньге. Их передовщики и приказчики были злы на Селиверстова, но знали его как умелого, удачливого морехода и надеялись следом за ним безостановочно дойти до Колымы. Эти кочи были не последними из ждавших отпуска. Дольше всех Францбеков держал суда всесильных московских купцов Гусельникова и Босого, приказчики которых всеми силами и покровительством хозяев уклонялись от воеводских поборов. Надежды тех, что пошли следом за Селиверстовым, оправдались. Словно черт правил казенным кочем, в четыре недели Юша привел караван к устью Яны. При недолгой остановке суда заправились свежей водой и загрузились дровами. Коч Селиверстова выбрал якорь, и не опомнившееся от передряг пути торговые суда вынуждены были следовать за ним к Святому Носу.
Осеннее море перекатывалось крутыми, хлесткими волнами мелей. На них лежали низкие рваные тучи. Ветер срывал водяную пыль с гребней, подвывал в снастях. Суда мотались на волнах, вскидывались и зарывались в них, но шли за кормой коча, на которой бессменно маячил Юша Селиверстов. На мысу их остановил ветер с востока, суда вынуждены были встать на якоря и ждать перемены. Беспрерывно падал снег, вокруг стоянки собирались льдины, с каждым днем их становилось больше. Юшка метался по кочу, трубным басом орал на подвернувшихся людей. Вскоре он утих и стал появляться в подпитии. Промышленные и охочие зароптали: тайноедение и тайнопитие почиталось за великий христианский грех.
— За один прокорм в пути кабалились, что ли? — Возмущались новоприборные охочие Иван Обросимов и бывалец Гаврила Алексеев. Их с опаской поддерживали своеуженники. В носовой жилухе недовольство высказывалось громче и откровенней, в кормовой было тихо. Там хранился ценный товар и припас, ютились Юша с толмачкой и ее дочерью. Вдруг и оттуда донеслась селиверстовская брань. Полуодетая толмачка выскочила со штофом в руке, драной кошкой перескочила за борт на льдину, прыгнула на другую и вскарабкалась на коч Луки Владимирца. Как ни орал Селиверстов, Лука наотрез отказался выдать девку и штоф. Юшка в ярости выволок на палубу Бырчишкину дочь и швырнул за борт. Побарахтавшись в ледяной воде, девочка вылезла на льдину и перебежала на торговый коч, к матери.
Суда простояли на одном месте десять дней. Юша то и дело взбадривал себя чаркой, чем все больше злил подначальных людей, выходил на корму осмотреться и лаял сбежавшую толмачку. При безветрии стали замерзать полыньи среди наносных льдин, у берегов нарастал лед. Если усиливался ветер и раскачивались волны, покров взламывался, пригнанные льдины с хрустом и скрежетом выползали на берег.
В канун Семенова дня, когда в Студеном море все суда спешат стать на зимовку, Селиверстов со вздохами и бранью решил повернуть в обратную сторону, к Нижнему янскому зимовью. Как только он приказал выбрать якорь, на торговых кочах сделали то же самое. Едва он двинулся по разводьям к устью Яны, они пошли следом. Сделано это было вовремя, потому что ветер усилился и началась буря. Льдины с треском и скрежетом бились, наползали одна на другую. Собаки промышленных людей выли, люди бранились. Селиверстов в обледеневшей парке, с красным носом и сосулькой бороды день и ночь стоял на руле, осипшим голосом приказывал то грести, то отталкивать льдины, то править парусом. За его кормой следовали торговые судна. По соображениям Юшкиных людей, им было легче. Но на них уже думали только о спасении жизни, бросали за борт тяжелый груз, чтобы облегчиться и задобрить разбушевавшегося водяного дедушку.
Снегопад то и дело переходил в такую густую метель, что с кормы не было видно носа судна. И все же Селиверстов привел коч к устью Яны. За ним в реку вошли три торговых судна. Здесь, в затишье, они целый день прождали четвертое, Шаньги, но оно так и не пришло. Приказчики московских гостей Шориных и Лука Владимирец плакали, печалясь о брошенных в море товарах. На другой день Юша решил, что ждать Шаньгу — понапрасну терять время, и пошел к Нижнему янскому зимовью. По его разумению, ничего не оставалось, как зимовать там. Торговые кочи двинулись следом.
Буря собрала возле государева зимовья больше сотни мореходов, шедших с Колымы и на Колыму. Кроме людей, прибывших с Селиверстовым, здесь стояли суда московских купцов Василия Гусельникова, Макса Бушковского, Григория Юрьева. Кочи Гусельникова вышли из Якутского острога позже Селиверстова: воевода держал их до самого августа, но благодаря задержке буря застигла их на Яне и они не потерпели убытков. Здесь стало известно, что коч Андрея Горелого, первым ушедшего из Якутского острога, выкинуло на берег в устье Хромы и раздавило. Тем летом Студеное море не жаловало ни торговых, ни служилых людей, а Горелый уже второй раз терпел разбой почти в одном месте. Коч Селиверстова с обледеневшими снастями и бортами приткнулся к берегу против зимовья, неподалеку от уже вытянутых на сушу судов. Голодные собаки промышленных людей соскочили на землю и поджали хвосты, не успев обнюхать меток: их окружила стая здешних, обжившихся промысловых псов. Из курившихся балаганов, с заметенных снегом судов к прибывшим потянулись торговые и промышленные люди, неволей застрявшие на Яне. Узнав Селиверстова, одни поворачивали обратно, другие глядели на него злобно и неприязненно. Приказчики, которые нынешним летом заискивали перед Юшей и просили его замолвить слово перед воеводой, вместо приветствия кричали:
— Не утоп, гаденыш? Не принял водяной дедушка из-за вони? Так мы ему в помощи не откажем!
Неласково встречала Селиверстова Яна, но это его не смутило. Потрепанный, но не сломленный он вытягивал шею и отвечал слегка осипшим голосом неприязнью на неприязнь. Купеческие приказчики, торговые и промышленные люди сдержанно позлословили и разошлись, нарочито, напоказ, стараясь оказать какую-нибудь помощь ватагам других прибывших судов. Селиверстову же помогать никто не желал. Его коч был вытянут на сухое своими силами. В переходе от Святого Носа многие товары и неводные сети вымокли, Юша велел развесить их на козлы для просушки, сам, сбросив обледеневшую парку, надел соболью шапку и с воеводской отпускной грамотой отправился в зимовье, где был уважительно принят все тем же янским приказным Козьмой Лошаковым, ожидавшим перемены. Ласковое слово и собаке приятно. Поубавив спеси и важности, Селиверстов рассказал о новостях Якутского острога, о своих нуждах и пригласил приказного на судно, где, запершись с Козьмой и двумя верными своеуженниками, загулял. Его люди стали колотить кулаками и пятками в дверь жилухи:
— Муки, масла дай!
Юша, чертыхаясь и злословя, выдал им пропитание на два дня. Не успел он с друзьями приложиться ко второй чарке, в дверь заколотил Гаврилка Алексеев:
— Вина давай! Не было уговора, чтобы кому хотел, тому наливал!
— Вы свое в Якутском выжрали! — не открывая, рявкнул Селиверстов.
Артем Осипов, один из его собутыльников, язвительно поддакнул:
— От самой Троицы гуляли впрок!
Люди на палубе попрепирались и ушли, но вскоре с их стороны послышались пение, хохот и громкие голоса.
— Муку на вино поменяли! — рыкнул Селиверстов. Хмельной, ринулся было разбираться, но осторожный янский приказный схватился за шапку.
Юша с двумя собутыльниками проводил его в зимовье, а на обратном пути, возле коча Луки Владимирца, увидел свою толмачку. Здесь тоже гуляли, радуясь чудесному спасению. Толмачка плясала возле костра.
— Пора и честь знать! — объявил ей мореход. — Погуляла — и будет!
Своим видом он показывал, что больше не сердится на сбежавшую девку, но Бырчик разразилась непотребной бранью:
— Пошел вон, недопесок! Не буду тебе служить!
— Куда ты денешься? — принужденно хохотнул Селиверстов. — В моей наказной грамоте записана!
— Сунь ее себе в зад! Мы не в остроге, а на воле! — выкрикнул кто-то из веселящейся толпы.
— Кто сказал невежливые слова про воеводский наказ? — рыкнул Селиверстов, двинулся грудью на гулявших, но остановился, словно уперся в скалу.
Люди, которым он не делал плохого, но провел сквозь льды, обернулись к нему с такой злобой, будто хотели разорвать.
— И на воле, языки укорчивают! — он неуверенно огрызнулся дрогнувшим голосом и отступил, вернулся на коч.
В носовой жилухе спали. Возле развешанного для просушки товара не было караула. Обругав бездельников, Селиверстов поставил протрезвевшего Артема Осипова, другому верному охочему велел его сменить в полночь. Перед сном пересчитал товар и не нашел неводной сети. «Вот на что гуляли!» — ожгла догадка. Голова вытрезвела. Он хотел будить Гаврилку, чтобы дознаться, кто унес и продал невод, но одумался вести сыск среди пьяных.
Утро показалось ему подозрительно тихим. Падал снег. На борту, под сугробом, в шубном кафтане дремал караульный. Только по пару дыхания можно было понять, что он жив. Сети и товар, развешанные для просушки, были завалены снегом, следов возле них не было. Селиверстов осушил чарку вместо завтрака, раздул чувал, обогрелся, повеселев, направился к зимовью. На берегу, возле судов купца Гусельникова, толпился народ, доносились громкие голоса. Любопытствуя, Юша повернул к ним. Припорошенные снегом, с хоругвями и иконами, здесь стояли промышленные и даже казаки. Именитый гусельниковский приказчик Михей Стахеев что-то резко выкрикивал. Половина толпы поддерживала его веселыми возгласами, другая нестройно возражала. «Круги завели!» — догадался Селиверстов и побежал в зимовье.
— Смута зреет под носом, — ворвался в избу. — У кочей круги!
Здесь сидели братья Курсовы. Увидев Селиверстова, они смутились, опустили головы. Юша подозрительно зыркнул на них — не жаловались ли? По виду не походило. Приказный глядел на него ласково, ответил печально:
— Что поделаешь? — Смущенно возвел глаза на образ Николы зимнего, в митре. — Гарнизона у меня нет! Поговорят, позлословят и разойдутся. Опять же на промыслы пора, а кормовых мест мало, соболь выбит. Не договорившись, нельзя расходиться.
Слова приказного успокоили Селиверстова. С утра он думал, как взыскать с гуляк неводную сеть. С них и взять-то было нечего, кроме промыслового завода. Не дать муки в зиму — не станут промышлять, просидят на поденных работах казне в убыток.
— Мы вот что! — смущенно пробубнил Евдоким, глядя в угол. — Зазимуем, однако. Вдруг мало-мало расторгуемся… И товар свой на берег снесем.
К полудню Юша придумал хитрость: с верными людьми переловил собак промышленных людей Тимофеева и Курочкина, пообещав девке чарку вина, взял под руку ясырку Истомы Аверкиева, с которой тот сожительствовал. Девку и собак он увел в аманатскую избу и сдал под запись янскому приказному. Его промышленные и охочие люди вернулись с кругов после полудня. Они возбужденно переговаривались и заговорщически посмеивались. Селиверстов тоже ухмылялся, ожидая, когда хватятся собак, сошел на берег, стал раскапывать занесенные снегом козлы.
— Девка где? — подбежал к нему Истомка.
— Невод где? — язвительно усмехнулся передовщик.
— Не сторож я твоему неводу! — закричал Истомка и схватил Юшу за грудки.
Тот бросил заступ, присел, нащупал в снегу под сапогом камень.
— И я твоей ясырке не сторож! — придавленно вскрикнул, распрямляясь, ударил промышленного.
Тот завопил, схватившись за голову, из-под шапки на брови скатился кровавый ручеек.
— Не бей нас! — закричал новоприборный Ивашка Обросимов, а его дружок, бывший спутник Селиверстова по морскому походу Гаврила Алексеев пригрозил:
— Доведешь до греха, удавим гаденыша! На Яне хоть заорись — воевода не услышит.
Истомка с пробитой головой поднялся на ноги, поплелся к гусельниковским кочам, Селиверстов подумал, — жаловаться приказному и мысленно посмеялся. Но вскоре к нему прибежала толпа торговых и промышленных людей с гусельниковских, шоринских кочей, с других судов. Размахивая руками, впереди шел Михей Стахеев и поносно орал:
— Товар и животы, что у тебя лежат, Митька Францбеков с нас брал, без того не выпускал из острога!
Истомка, подскочив сбоку, с полного маху треснул Юшу в ухо, да так, что тот повалился в снег. Верные Селиверстову охочие стали неуверенно защищать его. Их побили, связали и развели по разным кочам. При всех собравшихся гусельниковский и шоринский приказчики стали шнырять по Юшиному кочу, выискивая свое, взятое и вымученное воеводой. Ушли все. Побитый Селиверстов поднялся в жилуху, нашел ополовиненную флягу, выпил, расправил задиристо торчавшую бороденку и, мстительно скалясь, стал подсчитывать, сколько товаров насильно изъято. Выходило рублей на пятьсот…
— На девятьсот пятьдесят! — пролепетал, грозя в сторону торговых кочей.
Он хотел идти к приказному писать жалобную челобитную, но выпил вторую и третью чарки, после чего, покачиваясь, бормоча угрозы, растопил чувал и повалился на меховое одеяло. Жалобу можно было предъявить с утра.
Среди ночи снегопад прекратился, на восходе среди туч жалко зажелтело уходившее в зиму солнце. Селиверстов выбрался из жилухи, осмотрелся и не сразу заметил, что козлы пусты. Вчера, в ссорах, он не снял с них сетей и товара, сегодня их не было. Вокруг козел виднелись следы, тянувшиеся к кочу торгового человека Григория Юрьева, теми же следами была истоптана палуба. Свои, набранные в Якутском остроге люди разграбили казенный государев товар. Селиверстов негодовал: такие преступления не сходили с рук даже вдали от воеводской власти. Он сгреб снег пальцами, растер по лицу, утерся нутром шапки, отряхнул кафтан и широким шагом двинулся к избе приказного, писать жалобу на взбунтовавшихся людей. Козьма Лошаков поохал, посочувствовал, принял жалобную челобитную:
— Чем могу помочь со своими тремя казаками?
— Хоть муку и съестной припас, что не разграблены, прими в амбар под казенный замок! — попросил Селиверстов.
— Клади, приму! — согласился приказный. — Скажу казакам, чтобы помогли перенести… А ясырку, что ты привел, хозяин забрал. Она признала его и караульный отпустил. И собак промышленные увели. Не по праву взял, без суда и свидетелей. — Помолчав, полушепотом, оправдался: — Они ведь, торговые и промышленные, уже открыто грозят убить тебя, и нам говорят, если станем в том убийстве их обвинять — перебьют, как свиней перед Рождеством. А шоринский приказчик Семен Иванов еще и хвастал: «Не диковинно де вас убить, много де воевод по городам убивают, да от того де ничего не делается». Ой, зря ты их так раззадорил! — Боязливо отвел глаза. — Здесь не воеводский острог. Если станут заодно — перебьют нас и оправдаются.
Селиверстов раздосадованно рыкнул, побагровел, неприязненно взглянул на приказного, но ссориться с ним не посмел: не было у него никакой другой поддержки на Яне. Бунтовавшие люди, набранные в Якутском, хорошо это понимали и разъярились, узнав, что он свез весь съестной припас в государев амбар.
— Голодом уморить хочет! — кричали заводилы: Ивашка Обросимов и Гаврила Алексеев.
Толпа бывших спутников ворвалась в его жилуху, стала требовать назад кабальные грамоты, которые Юшка с них вымучил. Он и возразить не успел, как его повалили и били, пока не отдал, потом вытребовали хлебный оклад, чтобы идти на промыслы, а того, что хлеб взят в ссуду, под будущие прибыли, никто знать не хотел.
Коротка полярная осень. Резкими заморозками, менявшимися недолгой оттепелью, уже напоминала о себе зима. Немилостиво начиналась она для Селиверстова, но он не унывал. Той зимой, когда Селиверстов обхаживал воеводу Францбекова, а Михей Стадухин еще только думал о походе на Пенжину, Попов, Ретькин и их связчики, желавшие вернуться на Лену, из трех разбитых сделали небольшой надежный коч с двойной обшивкой бортов. Смешанное селение, в котором они жили, было на редкость мирным и спокойным, люди доброжелательными. Первое время это сильно удивляло попавших сюда русских людей: вечное бесхлебье, безбабье сибирских ватаг и отрядов обычно сопровождались дрязгами и ссорами.
— И у нас были ясырки, — с любопытством выспрашивал Ретькина Федот Попов. — От них еще больше раздора.
— Там одна на десятерых, редко — на троих, — отвечал обжившийся беглый пятидесятник. — И женки от разных народов — каждая со своей правдой, одна другую не понимает. А тут единоплеменницы, жен всем хватает, даже излишек. Хочешь — двух бери: они не против и между собой уживутся.
— Наши люди тоже сбродные, каждый со своим законом, — раздумывая, соглашался Федот. — Вдруг от того и мира нет?
Казак оказался прав, во время сборки коча к ватажке примкнули два одумавшихся покрученника. Когда работы были почти закончены, решил вернуться на Лену поповский своеуженник. Он ни с кем не ссорился, ничего не объяснял и не оправдывался, не просился, а предлагал себя в ватажку, зная, что не откажут по малолюдству. С ним набиралось восемь мореходов. Днем они неспешно конопатили новое судно, заботились об удобстве в плаванье, вечерами сидели у костра, любуясь кочем, глядели на дальнюю черную морскую воду. Путь к ней преграждали шевелившиеся льды. Как-то к ним тихо подошел Пантелей Пенда, присел, ласково пожурил:
— Полгода не прожили, а осторожность потеряли: даже не оглядываетесь. Зря! Зря! — Смешливо взглянул на Ретькина. — Отвыкайте от спокойной жизни. А надумаете вернуться — примем!
— Не прельщай! — вздохнул беглый пятидесятник и помотал головой, отстраняясь от навязчивых мыслей. — Со всех сторон в грехах: там долги, крестное целование, ясырка, здесь женка, детишки. Не пропадут, конечно, а все же душа мается…
Федот Попов опасливо передернул плечами, он боялся, что напоследок кто-то раздумает возвращаться и если понадобится выгребать своей силой или вытягиваться на лед — сил может не хватить. Потрескивал костер, от головешек высоко взлетали и отскакивали искры. Одни вычерчивали в темноте почти прямые полосы, другие кружили и метались. Пантелей наблюдал их с сосредоточенным лицом, и Федот почувствовал, что они думают об одном: о его вещем сне.
— Вот ведь, — кивнул старому другу, — искры лягут на землю пылью, головешки истлеют горкой золы.
— Те и другие одинаково станут землей, прахом, — вскинул глаза и живо отозвался Пантелей.
Федот повел взглядом на закат:
— Как там ни плохо, но есть надежда, что потомство, пусть и раскосое, не забудет нас, не отречется. А здесь… Не знаю!.. Сам говорил, чудь живет, не мешаясь с инородцами, не то что мы.
— Здесь только ради брюха и блуда жить! — вымученно воскликнул Ретькин.
— Мы даем надежду! — жестко отрезал Пантелей и откинулся на сцепленные под головой руки, молча вскинул глаза к небу.
То ли миловал Бог, то ли попускал по грехам, но наконец задуло с востока. После обычных сборов, старые товарищи помогли столкнуть коч на воду. Он был тяжеловат для восьмерых: из крепких досок, с толстыми, бортами, округлым, как яйцо днищем, которое должно выдавливать льдами, а не ломать. Как ни тесна была жилуха, но закрывалась не кожей, а дверьми, между нар маленький чувал с вытяжной трубой. Остатки товара, рухлядь и кость тоже были надежно укрыты. Коч закачался на приливной волне и под веслами легко обошел камни, побившие все три судна, из которых он был сделан. Был поднят парус, весело зажурчала вода под днищем, шестеро покрученников и беглый казак бездельничали.
— Несет к земле зубатых людей! — Федот указал Ретькину на приближавшуюся туманность по курсу и передал руль.
Он не ошибся, уверив спутников, что знает обратный путь. Вскоре показался знакомый остров. Коч обошел его. Мореходы узнали залив, в котором когда-то укрывались от бури, вошли, встали на якорь на месте прежней стоянки, спустили на воду ветку с березовым бочонком, чтобы набрать свежей воды. В это время ветер переменился, пережидая его, судно стояло в безопасности. Помня прошлую встречу, зубатые люди принесли для мены моржовые клыки, но коч был набит ими. Федот выменял на бусы четыре больших кости, другие брать не стал, но щедро одарил тамошних жителей. На другой день их явилось до полусотни, все требовали подарков. Получив их, но меньше, чем в прошлый раз, дикие рассердились, стали швырять камни. Промышленные дали холостой залп — они разбежались, но потом приплыли с луками и копьями, готовые к войне.
К счастью, ветер стал меняться, мореходы выбрали якорь, вышли на веслах из залива и подняли парус. Зарываясь скулой в унимавшуюся волну, коч пошел на север, к темневшей полоске плавучих льдов. Вскоре Федот велел спустить и надежно закрепить парус, идти по ветру дальше было небезопасно. Но льды все равно приближались, уже слышался их скрежет, в нем чудились людские голоса и устрашающие вопли. Разводий среди них не было, не виделось и суши. Мореходам хватало сил лишь на то, чтобы отталкивать льдины от бортов и не быть затертыми. Выгрести в обратную сторону против ветра они даже не пытались, а ветер все не менялся. Как ни старались люди уклоняться от скрежещущего белого поля, вскоре коч со всех сторон был окружен льдинами. Выбрав одну из них, покрепче и побольше, Попов и Ретькин сговорились вытянуть на нее судно воротом. Большими трудами коч выполз на лед днищем, при этом якорный трос так изорвался, что не было и сажени без узлов. Дрова быстро кончились, на исходе были еда и вода. От усталости равнодушные к дальнейшей судьбе, мореходы завернулись в меховые одеяла и залегли на нары. Некоторое время со сном боролся один Федот Попов, потом и он предал себя в руки Божьи. Время от времени кто-нибудь выбирался на свежий воздух, оглядывался по сторонам и снова запирался в сырой жилухе. Спутники высовывались из-под меховых одеял и шубных кафтанов, вопросительно глядели на него и снова безнадежно укрывались, сберегая живое тепло в теле. Иногда падал снег. Его набивали в бочки, заносили в жилуху. Сырости и холода прибывало, но снег таял и давал воду. И так носило льдину с кочем до середины августа. Терпящие бедствие понимали, что через пару недель устья рек покроются льдом, и если покажется земля, придется просекаться к ней или тянуть судно по льду.
— Там она, там! — глядя на карту, писанную на коже, Федот указывал на полдень и вглядывался в дымку окоема. — Встанет лед — сделаем нарты, пойдем пешком.
Лед крепчал и смерзался, но идти было рано: белое поле двигалось, с грохотом трескалось, льдины вставали дыбом, наползали одна на другую. Наконец вдали показалась черная скала, льдина с кочем медленно приближалась к ней.
— Ну, как всегда, слава Те, Господи! — Федот, крестясь, усмехнулся истончавшими губами. — Помучили, теперь приласкают.
— Кто? — сипло спросил Иван Ретькин, походивший на обряженный скелет.
— От самого Оленека все думаю, кто? — признался приказчик. — То ли ангел-покровитель так суров, то ли бес так добр.
— Из-за казака все беды, — прошамкал Митька, покосившись на Ретькина, и добавил: — Ради греховного властолюбия женку и прижитых детей бросил.
Федот качнул побелевшей головой. Митька его понял, покаялся, осклабив черные десны:
— И то правда! Кто без греха?
Милостью или попущением Божьим льдину с кочем вынесло прямо к камню. Оцинжавшие мореходы уже съели кожи, бечеву и окорачивали голяшки бахил. Федот опасался, что тайком начнут есть кожаный парус, сивучью кожу с картой клал под голову. Островок оказался невелик. Леса на нем не было, но в скалах скопился голубой пресный лед, из камней торчал выброшенный волнами плавник. Двое оцинжавших покрученников, устав бороться за жизнь, умерли в виду суши, радуясь, что их тела не будут брошены во льдах. Остальные, едва передвигая ноги, попытались вытянуть коч на сушу или закрепить за камни. Из этого ничего не вышло, только изорвали остатки варовых ног — растяжки мачты. Очередное несчастье сломило дух, хотя появились дрова и вода, в жилухе стало тепло. Покрученники злились на приказчика и казака за то, что те сманили их на возвращение, а теперь не дают варить парус и злополучную карту. Все их надежды были связаны только с выживанием, о спасении коча, рухляди, груза моржовой кости уже не думали. Беглый пятидесятник считал свое положение справедливым наказанием, стал покладист и покорен, беспрестанно молился. Один Федот делал вид, что верит в милость Божью и освобождение из ледового плена, укорял спутников за уныние:
— Умишком оскудели, что ли? После стольких мытарств сидим в тепле, есть вода, радоваться надо, а не гневить Господа. Окрепнет лед, сделаем нарты, пойдем на полдень, — тыкал пальцем в карту, писанную по коже сажей. — Где-то здесь устья Колымы и Индигирки.
И правда случилась удача: голодным людям удалось застрелить небольшого, слишком любопытного белого медведя. Откуда взялись силы: на берегу развели костер из плавника и сала. Покрученники стали печь в котле кровь.
— В ней душа зверя, грех есть, хоть бы печеную! — попробовал вразумить их Федот.
Его не слушали, едва почернела — остудили, стали с жадностью глотать. Иван Ретькин, с печалью посматривая на спутников, пек лапы, шепелявя, приговаривал:
— Зимовал на таком же острове, но не на этом. Там была изба под землей. Лет сто как брошена, а то и больше, но цела, потому что искусно сделана.
Федот принес другой котел, натопил воды из пресного льда, мелко нарезал мяса с ребер, стал ждать, когда закипит. Ретькин, обжигаясь, скоблил обгоревший ворс, сдирал кожу, осторожно сосал парившие хрящи, охал, крякал, прерывисто и гнусаво вспоминал пережитое.
— Медведи да тюлени — другой еды не было. Лапы и ласты делили по жребию, в очередь…
Федот благостно вдыхал запах горящего сала, насыщаясь им, морщился от неуместного рассказа и ждал. Когда мясо выварилось, опять ждал, остужая его, потом мелкими глотками пил отвар. Ретькин тоже приложился к его котлу. Митька, насытившись, отполз и со страхом в лице прислушивался к тому, что происходит в кишечнике.
— Господи, помилуй! — шептал. — Не устоял перед соблазном.
Вскоре все схватились за животы, постанывая, полезли на коч. Федот тоже мучился болями, но к полночи они отпустили. Ретькин сдержанно постанывал, свернувшись в узел, покрученники катались на тесных нарах и выли. Федот сошел на сушу, чтобы не слышать их мук, помочь им он не мог, раздул костер, разогрел и погрыз хрящи лап. К утру стоны стихли, рассвело. Федот со спокойным равнодушием подумал, что все перемерли и, оттягивая время, пошел по острову осмотреться, нашел пресный ручей, напился и умылся живой водой, остановился против чудной возвышенности, похожей на половинку шара. Вспомнил, что-то похожее видел на острове, открытом Мезенцем и Пустозером. Вскарабкался, увидел такое же, как там, брошенное жилье, сделанное не так, как промысловые зимовья, но крепко и надежно для многих поколений звероловов. Перебарывая страх, что остался один, он вернулся на судно. Казак Ретькин лежал с благостным лицом, он был мертв. Тело одного из спутников было скручено, как живому вывернуться невозможно: и грудь, и зад в одну сторону. Митька с Максимкой спали. Федот не стал их будить, нарубил плавника и растопил чувал.
На другой день трое вынесли на берег мертвых и уложили в расселину скалы рядом с двумя другими, умершими от голода, приложили тела камнями, почитали молитвы, вырубили и поставили крест из плавника. Сил прибыло, все трое перестали плеваться кровью и оправились от опухоли. Коч был накрепко приморожен к льдине, а ее вместе со звеневшим и трещавшим полем относило от острова к закату. Федот походил вокруг судна, постучал пешней, пробил лунку вершков на пять, до воды не добрался. За его работой пристально следили Митька с Максимкой. Взглянув на них, он отметил обострившиеся глаза с затаенной завистливой злобой, которую не раз видел у больных, раненых и обреченных на гибель. О том, чтобы вытянуть коч на сушу, нечего было думать. Выжившие запаслись дровами, водой, испекли остатки мяса и отдались судьбе. Вместе со льдами коч стал удаляться от острова. Со счета дней они сбились. По прикидкам должна была быть середина сентября. После очередного снегопада по небу блекло растеклось розовое солнце. Федот со спутниками ел, спал и набирался сил. Вскоре остров пропал из вида. Поскольку в чувале круглосуточно поддерживали огонь, дрова быстро кончились. Федот еще раз обошел судно, как коня по холке, похлопал ладонью по борту и стал рубить мачту.
— Отдохнем, обогреемся, — приговаривал, ни на кого не глядя, — сделаем нарты и пойдем к полудню.
Дров не жалели, сварили остатки медвежатины, стали расшивать доски с бортов, делать нарты. Все понимали, что не смогут взять с собой и десятой части добытой заморной кости. Студеное море забирало свое добро, дав поиграть с ним седобородым детям.
— Рухлядь надо брать — она легкая, — бормотал Федот. — Во льдах можно положить под себя, обогреться. — Если Бог даст быстро выбраться — вернемся за костью.
— Сколько нашей и сколько твоей! — нехорошо блеснул глазами Митька, а Максимка скривил губы.
— Знаете свой пай. И родственникам покойных надо отдать долги!
— Не про рухлядь говорю, про рыбий зуб!
— Грузите, сколько знаете, что уж теперь, — отвечал Федот, не подавая виду, что чувствует разлад. — Надо метки оставлять, чтобы вернуться, вдруг заметет след.
— Будем оставлять, — неуверенно поддакнул Митька, глаза его сделались прежними: усталыми и тоскливыми.
В тепле, с припасом пресного льда и остатками мяса идти никуда не хотелось. Сладко ворковал бес, прельщая отдыхом и сном, незаметно переходящим в безболезненную кончину. Жаль, конечно, что во льдах, без погребения, но не всем дается почесть в конце пути.
— Работать надо! — подстегнул себя Федот и оторвался от чувала.
Они сделали три нарты в полторы сажени длиной. Грузились по силам. Федот никого не неволил, не напоминал о прежнем уговоре и крестном целовании. Сам положил на низ пуда четыре лучших клыков, сверху — меха, увязанные в сорока. Мешки, в которых они хранились, съели во льдах. Получилась гора в рост. Он покрыл груз остатками паруса и перетянул нарезанными из него ремнями. Спутники так же нагрузились костью и паевыми мехами. Помолившись на восход, Федот поелозил ногами по льду, но не смог сорвать нарты с места. Спутники, не оглядываясь, протянулись на сажень и выдохлись. Пришлось разгружаться. Федот сбросил полтора пуда кости, снова перетянул поклажу ремнями, попил воды из топленого снега, напрягаясь, первым потянулся в полуденную сторону. Он быстро уставал прокладывать путь, связчики, меняя его и друг друга, выдыхались еще быстрей, потом припадали к нартам, отдохнув, снова брались за бечевы. И опять примечал Федот в их лицах гневно обострившиеся ноздри, набухшие веки, злобу в прищуре. Шли до сумерек. Выбившись из сил, остановились, поели холодного вареного мяса, сбросили с нарт поклажу. Мороз был несильный, обложившись рухлядью, Федот спал крепко. На следующий и третий день продолжалось то же самое, только убыло мясо, а матерой земли все не было. И еще, он стал выдыхаться чаще спутников и отставать. Между собой они не разговаривали: молча отдыхали, молча ели и ложились спать. После пятой ночи Федот проснулся от кряхтенья и скрежета. Митька с Максимкой, не глядя на него, собирали нарты, забирая остатки мяса. Часть моржовой кости с их нарт была брошена на лед. Ни слова не говоря, даже не взглянув на лежавшего товарища, они накинули на плечи бечевы и двинулись в полуденную сторону.
— Бросили! — Перекрестился Федот.
Он встал, собрал нарту, окинул взглядом оставленные моржовые клыки, сложил их колодцем и, налегая на бечеву всем телом, двинулся по следу связчиков. С облегченными нартами те шли быстрей, до полудня маячили впереди, затем пропали из виду. Федот остановился, достал компас-маточку, сверил направление. Покрученники уходили лишка к востоку. «Лучше бы к западу!» — глухо пробормотал. Попробовал сменить направление, но быстро выбился из сил. Тянуть нарту по следу было легче, и он вернулся на проторенный путь. Ночевал один. Набил флягу снегом, приложил к животу под одеждой. Подрагивали натруженные руки и ноги, знобило тело.
Утро было ясным. На востоке взошло солнце, бросив длинные тени от торчащих льдин. «Теперь Митька с Максимкой одумаются и возьмут круче к западу!» — с облегчением подумал Федот и долго молился на солнечный круг, дававший надежду. Солнце и белизна снега слепили, он старался глядеть под ноги, на ичиги. При разброде следов поднял глаза, увидел полынью с черной водой, перевернутые нарты, разбросанные мешки с рухлядью. Взгляд его не сразу отыскал валявшихся на льду Митьку с Максимкой. Оба были мертвы.
Только вблизи Федот разглядел белого медведя. Кровь на людях и звере была застывшей: по-видимому, встреча произошла еще вечером. По следам можно было понять, что покрученники увидели зверя на краю полыньи, бросили нарту и выстрелили из фузеи. Раненый медведь задрал обоих, разорвал ремни, раскидал одеяла, мешки, кости и теперь лежал, уткнув морду в лапы, то ли жив, то ли мертв. Для Федота его туша была надеждой на жизнь. Бросив рассеянный взгляд на тела спутников, он вытянул из-под ремней ружье, подсыпал пороху на запал, ощупал кремень, тихо взвел пружину. К медведю подходил крадучись, на всякий случай приставил ствол к его уху. Фузея громыхнула, дернулась медвежья голова, из дымившейся раны выступила тягучая кровь. Федот сунул руку в шерсть зверя, нащупал выстывавшее тепло, но когда вспорол брюхо и запустил ладони во внутренности под слой жира, оттуда запарило. На свернутой в несколько раз медвежьей шкуре разгорелся костер из нарты и сала. В котле варилось мясо с ребер, на шомполах пеклись его тонкие полоски. Первым делом хотелось наесться и сыто уснуть рядом с неприбранными телами. После всего, что было пережито, последняя пара голодных дней казалась пустяком, и все же он осторожно, небольшими кусочками валял печеное мясо во рту, сосал, глотая слюну, прислушивался к тому, что делается в животе. Здесь, в ледовой пустыне, всякая неосторожность могла обернуться мучительной смертью. Сгорела шкура, протаял лед, залив огонь, но мясо в котле успело свариться. Сделав глоток-другой отвара, Федот с сожалением бросил взгляд на котел и стал укладываться. К утру в кишечнике знакомо засосало. Он погрыз мерзлого вареного мяса и снова уснул. Поднялся поздно, снова развел огонь на новом месте, разогрел ужин, сварил впрок, наелся и опять улегся. Проснувшись вечером, почувствовал, что силы восстановились, надо было что-то делать. В сумерках развернул смерзшиеся тела головами к западу, обложил льдинами, связал бечевой крест из полозьев нарты.
Рассвело. Федот оставил часть кости, но прибавил к прежнему грузу мешки с рухлядью покойных, полпуда вареного и печеного мяса. Сверяя путь по компасу, отыскал глазами причудливо торчавшую льдину в полуденной стороне, перекрестился, дернул нарту, она подалась. Останавливаясь для отдыха, он шел день и другой, пока не заметил сухую траву на льду. Подолбил его топором и докопался до мха. Под ногами была суша. Матерая ли? — Огляделся. Получалось, что, глядя под ноги, прошел вдоль мыса. Радуясь открытию и всем телом ощущая под собой твердь, впрягся в нарту, быстрей зашагал прежним курсом, раздумывая, где находится. Вскоре завиднелся низкий тундровый берег. Лед стал крепче, переменился скрежет полозьев. Федот снова огляделся, разгреб ногами снег, сколол кусок льда топором, попробовал на вкус. Он был солоноват, но не морской. Путник понял, что находится в устье реки или протоки. Стал гадать, где? Навязчиво чудилось, что места знакомы и они западней Колымы. По приметам походило на устье Индигирки, но в голове не укладывалось почему мыс по левую руку.
В сумерках он хотел остановиться на ночлег, но разглядел очертания струга или коча, завалившегося на борт. Из последних сил вытянул нарту к тому, что принял за судно, и случилось чудо: остановился перед балаганом, собранным из расшитых бортов коча, в нем были очаг, волоковое оконце для вытяжки дыма, припас сухих дров и сложенные один на другой пять мешков смерзшейся ржи. По всем приметам это было устье Омолоя, где когда-то он долго стоял на якоре в ожидании Бессона Астафьева. Кто-то здесь выбросился на мель и оставил часть груза. В голове прояснилось, земля и море встали на свои места. Можно было идти к Нижнему янскому, где есть люди, или к брошенному зимовью на Омолое, где людей могло не быть. Благодарственные слезы потекли по щекам Федота, когда он раздул огонь в очаге.
— Благодарю Тя за милости Твои! — забормотал, хлюпая носом. — Мучаешь и спасаешь! За что не берусь — убытки, несчастья, гибель товарищей? — пожаловался.
Согрелся балаган, согрелся и он до того, что начал раздеваться. Сварилась каша из ржи. Насытившись, Федот уже думал о том, чтобы, оставляя метки, вернуться к полынье, от нее к брошенной кости, дальше к кочу, нагрузиться по силам и привезти сюда. С такими надеждами уснул при тлевших углях. За ночь балаган выстыл, но в нем вылезать из-под одеяла было приятней, чем под открытым небом. Первым делом Федот обошел окрестности, отыскал плавник из лиственниц, выброшенных течением. Нарубил веток, обстучал комель — дерево было просохшим или еще не напитавшимся влагой. Он натаскал дров, растопил очаг. К вечеру небо потемнело, закружились снежинки. К утру след припорошило, но он был виден. Федот наварил впрок каши, заморозил ее и потянул легкие нарты в обратную сторону. Кроме еды взял с собой только топор, засапожный нож и меховое одеяло. Едва вышел на хрупкий морской лед, прежний след стал теряться, приходилось часто останавливаться, подолгу высматривать старую колею. Небо разъяснилось и снова потемнело, опять с заката понеслись колючие снежинки, но он успел увидеть крест.
Тела товарищей под ледовым холмиком были прикрыты наметенным сугробом, казались собранными в последний путь и не мутили душу. Федот помолился, смахнул снег с порубленной нарты, нашел их ружье, котел, топор, моржовые клыки, обмел медвежью тушу, настрогал мяса, вырубил медвежий бок, чтобы развести на нем огонь «Что не сгорит, то останется в дорогу пропекшимся», — подумал, нащипал лучин с остатков нарты, развел костер. Затрещало, схватилось пламенем сало, черный сытный дым, пополз по льду. Снег повалил гуще и вскоре накрыл так, что пропал из виду крест. Разгребая сугробы ногами, Федот нашел одеяла покойных. Им они были не нужны, а ему облегчали ночлег. К утру снегопад поредел, в воздухе кружились редкие веселые снежинки, сквозь них тускло просвечивало солнце. Попов высунул нос из-под одеял, осмотрелся, затем тяжко поднялся, сбрасывая с себя сугроб, поискал глазами старый след и не увидел его. «Ну, вот и все! — пробормотал, разгребая снег над заметенным кострищем. — Милует Бог жизнью, да не милует богатством». Искать коч в бескрайнем ледовом поле было делом безнадежным.
Жира он не жалел, развел большой костер на льду. Когда огонь зашипел в проталине — передвинул его. Разогрел мясо, плотно поел, собрал нарту и двинулся на полдень. То теряя прежний, местами едва различимый, след, то снова выходя на него, Федот даже не думал о том, что может заплутать, присаживался для отдыха, глядел на компас и вдаль — не покажется ли мыс, вышел к заливу и вскоре был возле балагана. Здесь у очага он окончательно решил, что в одиночку коч не найти. Вывезенной с него кости и рухляди не хватало, чтобы вернуть даже половину старого долга, а купец по уговору потребует рост за тринадцать лет, и тогда остаток жизни пройдет на правеже. Со всей ясностью Федот понял, что если коч не найдется, то лучше ему не возвращаться не только на Русь, но и в Якутский острог.
— Зря не остался с Пантелеем! — пробормотал вслух, глядя на огонь.
Очаг постреливал искрами. Они бойко взлетали к черному потолку, падали на меховое одеяло и пахло паленой шерстью. Остро вспомнился разговор у костра за морем, при живых еще спутниках. Пришла догадка, что покойный Иван Ретькин боялся дожить до времен, когда внуки забудут русский язык и растворятся на чужой для него земле, в чужом для него народе. Отдохнув в балагане, Федот сложил в нарты рухлядь, фузею, одеяло, взял один моржовый клык, остальное спрятал и двинулся к зимовью, которое было головной болью якутских воевод. Соболя на Омолое не промышляли, не каждый год непогода собирала в этих местах торговые суда, а потому держать здесь служилых людей было накладно. Но иногда тут случались воровские ярмарки.
Погромыхивая полозьями, поскрипывая мерзлыми копыльями, нарта легко шла по крепкому речному льду. Ветер дул в спину. Федот узнал изгиб берега перед зимовьем, увидел дымы и окончательно уверился, что это Омолой. Вскоре его взгляду открылись три торговых коча, вытянутые на сушу. Одинокий путник был замечен, зимовейщики пошли ему навстречу. При виде жилья и людей силы стали оставлять Федота. К нему подбежали четверо: молодой с синими камушками восторженно блестевших глаз на радостном лице, другой был старше, с глазами добрыми, в которых примечалась тихая вселенская печаль, и еще двое мужей им под стать с ангельскими лицами и выбеленными стужей бородами.
— С праздником! — Подхватили бечеву нарты и легко потянули ее к зимовью.
— С каким? — спросил Федот. Свой голос показался ему чужим и незнакомым.
— Михайлов день! — С любопытством разглядывали его встречавшие, но не спрашивали, кто таков и откуда идет.
Он тоже разглядывал их, не находя в лицах ни степенной кичливости торговых, ни удали промышленных, ни важной заносчивости служилых людей. Все были одеты в неумело сшитые парки, штаны, ичиги из плохо выделанных шкур, но глаза и лица поразительно светлы.
— Казаки в зимовье есть? — спросил Федот. Прокашлявшись и затаив дыхание, ждал ответа, что он помер, и ни впереди, ни позади уже нет ничего.
— Только торговые, их работные да мы, гулящие! — приветливо улыбаясь, охотно ответил один из самозваных помощников.
— Это Омолой? — на всякий случай переспросил Федот.
— Омолой! — ответил другой и добавил: — Нас льды не пустили дальше, маемся тут.
Ноги Федота с каждым шагом наливались свинцом, а освободившиеся от бечевы плечи превращались в крылья, не от того ли, как во хмелю, ему казалось, что неправдоподобно искрится снег и лед под ногами? Гулящие привели его к знакомому Омолойскому зимовью. Возле изб толпились любопытные. Вблизи Федот узнал приказчиков купцов Свешникова и Босого. Они обступили его, степенные, важные, мнительные, ни словом ни взглядом не показывали, что знакомы. Среди них, как луна при солнце, поблекли и пропали «ангелы» в драной одежке. Со всех сторон посыпались вопросы. Федот водил глазами и не мог раскрыть рта, чтобы ответить.
— Человек едва на ногах держится, — подхватил его по руку Федька Катаев. Приказал кому-то внести нарту в сени, ввел Федота в жарко натопленную избу и стал выпроваживать любопытных. — Отдохнет, все скажет!.. Подтопите баню: со вчерашнего не должна совсем выстыть.
Против очага был неубранный праздничный стол с запахом печеного хлеба и кислой браги. Федот окинул его тоскливым взглядом и припал к горячим обводам чувала из обожженной глины. Катаев с улыбкой спросил:
— Хлеба? Браги? Или сперва попаришься?
— Не узнаешь? — просипел Федот. — Федотка я Попов, приказчик купца Усова.
Ахнул Федька Федоров Катаев, пристально вглядываясь в обветренное лицо пришельца, почесал затылок приказчик Кирилла Босого. От Юшки Селиверстова оба слышали, что кочи Федота Попова и Бессона Астафьева пропали, а люди погибли, теперь разглядывали пришлого как выходца с того света.
— Так оно и есть! — непослушной, тяжелой рукой, Федот отодрал шапку от волос и бороды, натужно перекрестился. — Может быть, Осташка Кудрин своих людей сберег и вернулся, а мои все погибли! — Зевнул от морившего тепла и положил на восток три поясных поклона. — Вдруг что слышали о нем? — спросил, с трудом ворочая косным языком.
Приказчики удивленно переглянулись, озадаченно помотали бородами.
— А знаете ли что про Луку Сиверова, приказчика купца Усова?
Во льдах он часто вспоминал бывшего связчика и надеялся, что Лука разбогател на приострожной торговле.
— Слыхали! — обыденно ответил Федька, и плутоватые лучики разбежались из уголков его глаз. — Проторговался, запил, хотел вернуться на Русь, но одумался и, по немощи, принял постриг в Спасском монастыре.
— Вон что! — Федот ниже опустил тяжелую голову.
В дом ворвались полупьяные работные, веселые и любопытные, выразительно покосились на кувшин с брагой. Катаев намазал икрой ломоть хлеба, подал Федоту. Он пожевал без жадности, до предложенной чарки не дотронулся. Работные люди весело выпили во славу Божью, подхватили его под руки, увели в баню. Отогревшись, Федот едва не уснул на полке, но теми же работными был одет и возвращен в избу. Только на другой день, проснувшись после полудня, он всласть напарился и насладился праздничным столом. Даже в первом, ярком хмелю на расспросы зимовейщиков отвечал туманно и осторожно, но доброжелательно слушал предложения скупить рухлядь за хорошую цену. По утрам его не беспокоили, давая покой после многих трудов. А он подолгу лежал, притворяясь спящим, думал. Едва поднимался, его, как милого гостя, усаживали за стол. От горячего вина Федот благоразумно воздерживался, хотя душа алкала праздника и забвения. Отдохнув, сходил в балаган, привез нартой остатки моржовой кости. Торговые люди пустили по рукам заморные клыки. Добыча восхищала их, хотя все понимали, что она не окупает затрат на предприятие, длившееся десять лет сряду. Попову сочувствовали, предлагали дармовую выпивку в утешение и за помин погибших, но стоило ему открыть рот, замирали, вдумываясь в каждое произнесенное им слово.
— Сколько же там животов? — спросил Федька, пристально глядя, когда он обдуманно рассказал о затертом льдами коче.
— Рыбьего зуба пудов полтораста! — ответил Федот таким же немигающим взглядом и уловил в глазах свешниковского приказчика мелькнувшую насмешку.
— Юшка Селиверстов хвастал, будто с Мишкой Стадухиным нашел отмели, где можно грузить костью многие суда. Не те ли, что к восходу от Колымы?
— Может быть, те, — принужденно зевнул Федот. — Я как мог загрузил пару кочей, и то переусердствовал, едва не потонул, — встал из-за стола. — В бури часть кости пришлось пометать за борт…. «Если бы Осташка вернулся, о том бы знала вся Лена», — подумал, а вслух сказал: — По уговору с погибшими две доли мои, третью надо отдать их родне. Согласен поделить все, что есть, на четыре части и отдать четверть тому, кто поможет отыскать брошенный коч.
— Тридцать пудов? — покряхтывая, поскоблил затылок Катаев и бросил на Попова плутоватый взгляд. — А как не найдется?
— На все воля Божья! — Федот развел руками как когда-то купец Усов и добавил: — Можно по-другому: плачу поденную тем, кто пойдет со мной, тогда ни с кем не делюсь.
— Чтобы вывезти сто пудов разом — человек двадцать надо, с нартами и собаками, — стал торговаться свешниковский приказчик. — Столько здесь нет.
— Посоветовал: — Иди с десятком. Не даст Бог найти, затрат меньше!
— Надежней играть в кости, чем сыскать твой коч в застывшем море, — насмешливо прищурился приказчик Босого.
Все они явно торговались, желая рисковать не меньше чем с половины. Но за время отдыха Федоту удалось осмотреться и вникнуть в их дела. Промысловая ватажка Босого, возвращавшаяся с колымских и индигирских промыслов, ушла в Жиганы сухим путем, при зимовье остались немногие люди, постоянно участвовавшие в походах двух приказчиков и чудная, по-монашески замкнутая ватажка гулящих, тех самых, которых Федот принял за ангелов. Шестеро тихих и набожных бродников с блаженными лицами пробирались на Колыму попутными судами и поденными работами. Катаев подобрал их в Якутском остроге, соблазнившись трудами за прокорм, уговорился, что будут исполнять всякие работы до Колымы-реки, а дальше вольны идти, куда пожелают. Но противные ветры и поздний выход с Лены остановили его коч на Омолое. Гулящие готовы были идти куда угодно, лишь бы не в обратную сторону.
При судах и товаре зимовали и работные люди. Они соглашались искать брошенный во льдах рыбий зуб, но кормов требовали изрядных: хлеба, мяса, коровьего масла и каждый день по чарке крепкого вина. Мука в зимовье была по колымской цене. И все же сказка Федота не давала приказчикам покоя, они снова завели разговор о моржовой кости и отпустили своих людей с четырьмя упряжками, больше на Омолое не было. Федот принял их помощь, в случае неудачи обещал расплатиться неклеймеными соболями. Привезенные им моржовые клыки и рухлядь остались в зимовье. Упряжки вернулись к Рождеству, в самые холода. Люди были поморожены, собаки обессилены, коч не найден. Федот отдал приказчикам два сорока соболей, попил после бани квасу, до Рождества держался, а после загулял. Работные люди, ходившие искать коч, бросали на него хмурые взгляды, а гулящие стали доверчивей, при случае заводили туманные разговоры о греховности нынешней власти и церкви. Один из них как-то оговорился, что царь, вступивший на престол после отца, похоже, не читал Закон Божий.
— В острогах за такие слова… — посмеиваясь, покачал хмельной головой Федот.
— Знаю! — беззаботно ответил немолодой уже беглец с печальными глазами и бородой, распадавшейся опавшими крыльями птицы. — Потому и не живу там.
Федька Катаев чаще и настойчивей говорил о кости и рухляди, готов был купить их за хорошую цену, чтобы перепродать. Ему выгодно было вернуться в Якутский с Омолоя, а не с Колымы. После Масленицы Попов окончательно вытрезвел и занялся делами: поменял что имел на малый, четырехсаженный коч, скупил у Катаева сто пудов муки, десять — меда и конопляного масла, неводные сети — товар, который приказчик вез на Нижнеколымскую ярмарку. При себе оставил только два сорока соболей на прокорм себя и гулящих людей, которых высмотрел при зимовье. Приказчики, глядя на них, посмеивались.
— Убогих Бог любит! Их берут для удачи в промысловые и торговые ватаги, но по одному.
— А я взял шестерых, — ухмылялся довольный сделкой Катаев, — и застрял на Омолое! Но не зря!
Блаженные люди на Руси ни в какие времена не переводились. Бог их любит, ради них помогает другим. Федот решил прибрать всех.
— Куда столько? — выспрашивали любопытные.
Кивая на Катаева, он отвечал:
— Не разлучать же ватажку! Лихих, умных, жадных до прибыли повидал, с ними Бог удачей не миловал. Вдруг с этими повезет.
В то время как Федот Попов зимовал на Омолое, Стадухин с полусотней промышленных людей вышел с Анадыря на лед Майна. Под конец февраля лютовала зима: таких холодов, какие случились перед Евдокеей, не было и на Крещение. Поповский покрученник Богдашка Анисимов звал идти на Нос берегом моря: это дольше, но надежней. Пути, каким его везли на Анадырь коряки, он не помнил. Но промышленные, пытавшиеся пробиться на Пенжину с Моторой и Дежневым, звали идти через горы. По их разумению, Нос, о котором рассказывал Богдашка, и Пенжина находились где-то рядом. Михею Стадухину не хотелось идти путем, пройденным другими русскими людьми, и перевес оказался на его стороне. Ватаге везло. На Майне встретились ходынцы, писаные рожи, которые следом за дикими оленями гнали свои стада в верховья Анадыря. В пути они были побиты и пограблены коряками. Промышленным не пришлось требовать вожей, двое из рода, отец и сын, узнав, куда идет ватага, вызвались вести их для мщения за убитых и плененных родственников. Ярко раскрасив лица разведенными на жиру красками, они добровольно присоединились к русскому отряду. Ватага продолжила путь на полдень. Низинные тундровые берега Майна вспучивались невысоким сопочником, сходились в пологие пади, снова распадались равниной. Река в этих местах промерзала до дна, как многие небольшие речки Сибири, густо паря вода текла по льду, застывала и тут же покрывалась новой, выдавленной из глубин земли. Она хлюпала под снегом у берега, а холод стоял такой, что промокшая кожа ичигов и бахил ломалась.
Горы по берегам становились все выше, и наконец ходынцы указали распадок, по которому с Пенжины ходили коряки. Морозы не отпускали, хотя по утрам светило солнце. Если на Оймяконе в стужу было безветрие, то здесь дул хиус. Не сильный, но холодный ветер вымораживал глаза, выбеливал кожу даже под бородами. Промышленные, ходившие с Моторой и Дежневым, не ошиблись: непроходимый осенью стланик был накрыт снегом и, несмотря на лютый холод, держал людей на лыжах. Время от времени наст проваливался, и не всегда под идущим впереди. Путник с лыжами падал в пустоты, в которых хорошо скрываться от ветра. Обилие сухих дров давало в них сносный отдых и ночлег: путники закрывали ямы нартами и разводили костры, которые быстро прогревали защищенное пространство. Ходынцы по утрам раскрашивали друг другу лица, промышленные не умывались, мазались бесцветным гусиным жиром. Старший из вожей утробно кашлял, то дрожал от холода, то потел. Ни зверя, ни птицы, никаких других кормов в снежной пустыне не было, глаза слепили студеный ветер и солнце. Здесь зароптали даже старые промышленные, пережившие многие тяготы:
— Перемрем все! Пропади они, Погыча и Пенжина!
Как и в походе на Анадырь, Михей почувствовал, что добрая половина отряда повернула бы назад, если бы не надежда на близкие перемены к лучшему. Михайла Баев в голос каялся и не с добром поглядывал на Стадухина, сманившего его на Анадырь с благополучной Колымы. Михей чаще всех шел первым, закрывая спиной брата, прокладывал след, на привалах ободрял спутников.
— Нам холода в обычай! — сипел в обледеневшую бороду. — Хиус в лицо — плохо, на Оймяконе было лучше, но мы легче терпим холод и голод, — кивал на ходынцев. — Господь нас миловал крепким здоровьем.
Тарх поддерживал брата:
— Семейка Дежнев аманатов не держит, что дохнут на заморной рыбе. А самому ему хоть бы что. Да еще изранен — целого места на теле нет.
Вроде бы все правильно говорили Стадухины, бодрились, укрепляли дух спутники, с сочувствием поглядывали на вожей, жалели и берегли их, прикрывая от ветра. Но в долине реки, о богатствах которой много говорили на Анадыре, от внутреннего жара сгорел старый вож. Захлебываясь кашлем, он до последнего вздоха наставлял сына, как должно мстить корякам. Вскоре потеплело, появились куропатки и зайцы, в остальном Пенжина оказалась такой же голодной, как Анадырь.
Промышленные не нашли благодатной земли и в низовьях реки, где она стала равнинной, не промерзающей. По берегам появились мелкие лиственницы, береза и тополь. Ветер временами усиливался, но уже не был так жгуч, как на плоскогорье. После тягот пути ватага вышла на след поднявшегося из берлоги медведя. Еще не отощавшего, его догнали, убили и съели за дневку. Отдохнув, вышли на корякское селение возле устья Оклана — притока Пенжины.
Это была большая изба, врытая в землю по самую крышу. Коряки яростно отстреливались, убили трех промышленных, многих переранили, двоих тяжело. Но после всего пережитого ватага дралась с таким остервенением, что удержаться в своей избе-крепости коряки не смогли и убежали. Для пришлых, голодных и обмороженных людей это была жизнь! За коряками ушли их собаки, равнодушно наблюдавшие за боем. Они не лаяли, не виляли хвостами, смотрели на людей пристально и выли, как волки. Промышленные обшарили избу, в которой смогли просторно разместиться всем скопом, в ней нашелся большой запас сушеной рыбы и вяленого мяса. После месяца трудного пути, за тепло и пищу люди готовы были сражаться до последнего вздоха. К тому же от Богдашки и ходынцев все знали, как жестоко коряки истязают пленных мужчин. Дым очага выходил через распахнутую дверь в потолке полуземлянки, стелился по избе. На лучшие места положили раненых. Промышленный человек Шарап Важенин вытягивал к огню руки в черных струпьях, щурил слезившиеся от дыма глаза. В бою за кров, тепло и еду погиб его брат. Плечом к плечу рядом с ним сидел Мишка Баев с разодранной щекой. Обветшавший, ничем не похожий на бывшего откупщика от ватажных работ, дурными глазами глядел на котел с варившимся мясом. Двое из погибших людей были его кабальными должниками.
— Теперь коряки мерзнут! — хлюпнул носом от едкого дыма, жалея врагов.
Его нечаянное сострадание возмутило Шарапа и других промышленных.
— А мы не мерзли? — зашипели со всех сторон, бросая на купца разъяренные взгляды. — Не ожесточишь сердце — погибнешь, а они тебя не пожалеют.
— У них родни много, приютят! — так же шмыгая носом, прекратил перепалку Стадухин, скользнул скорбным взглядом по метавшемуся в беспамятстве раненому, спросил: — Кто помнит, что нынче за день?
— Федул-ветряк! — подсказал кто-то.
— Вон что! Пришел Федул — тепла надул!
— Федул, чего губы надул?
— Кафтан прожег.
— Велика ли дыра?
— Один ворот остался.
— У нас не так ли?
— Не так! — возразил атаман-передовщик. — Надо воды нагреть, помыться, сил нет чесаться.
— Убитых обмыть бы, отпеть и предать земле! — подсказал опечаленный гибелью брата Шарап.
— Помоем, — согласился Стадухин. — Но после. Они уже не чешутся.
— Греются возле нашего огонька, — со слезой всхлипнул Шарап. — Радуются, что мы в тепле.
Сверху из дыры свесился караульный с рыбьим хвостом в бороде. Вынул рыбину, облизнулся, крикнул:
— Бегут с луками и пиками, человек до ста!
— Отобьемся! — мотнул головой Михей Стадухин, расправил по щекам рыжие усы, обвел товарищей молодецким взглядом. — По жребию! Половина со мной — остальным отдыхать и греться.
Нападение отбили. Взяли в плен раненого корякского мужика с обильной проседью в волосах, затащили в землянку, остановили кровь на плече, присыпали рану золой, перевязали кожаным лоскутом, стали выспрашивать о том, чему сами поверить не могли: Пенжина ли это, как утверждал ходынский вож? Коряк в драной парке хорошо понял Богдашку.
— Пенжина! — подтвердил.
Ходынский вож тоже его понял, залопотал, с ненавистью разглядывая пленного:
— Пенжина-Пенжина!
Мужик оказался разговорчивым, безбоязненно отвечал на расспросы и с усмешкой обещал, что через месяц соберется много коряков и всех пришлых перебьют. Огненные ружья не помогут: пока они стреляют два раза, коряки успевают выпустить по двадцать стрел.
— Спроси, где лес на избу рубили, — приказал Богдашке Михей. — Вокруг тундра да каменная пустошь.
Коряк без принуждения ответил, что лес есть в верховьях Оклана, пешком идти четыре дня. Промышленные разразились приглушенной бранью:
— Лучше здесь помереть, чем идти в обратную сторону…
— Не я про Пенжину нелепицы сказывал, — напомнил старший Стадухин, отвечая на негодующие взгляды. — Вы наговаривали про богатства, а от кого слышали, теперь не дознаться.
Подначальные люди смущенно притихли.
— Спроси про Погычу? — приказал толмачу.
Вож-ходынец и в пути не раз указывал, что река Похача за горами, на восходе, по другую сторону от Пенжины. Уязвленный, что ему не верят, с ненавистью взглянул на коряка. Богдашка спросил. Пленный указал в ту же сторону, что и вож, только, по его словам, там не было ни леса, ни соболя. При упоминании о Гижиге на черном, обветренном лице коряка появилось что-то вроде улыбки.
— Там есть все! — ответил Богдашке. — Соболь, лиса, медведь, летом много оленей.
Ночью, во время общего сна и отдыха, пленный тихо, с умением, удавился на той самой полоске кожи, которой ему перетянули рану. Проснувшийся ходынец стал пинать его тело с синим, будто в насмешку высунутым языком. Его оттащили. Останки пленного положили рядом с убитыми и умершими от ран.
Чтобы не заводить сырости в избе, ватажные мылись за стенами, поливая друг друга теплой водой, натираясь щелоком. Помывшиеся не успели просохнуть — опять пришлось отбиваться от нападения. Коряков с каждым днем становилось больше, они лезли в бой с отчаянным упорством, но промышленные успели похоронить убитых, отдохнули, отъелись, стали думать о будущем. Многим сидение в избе казалось бессмысленным, потому что подвести коряков под государеву руку было делом явно непосильным. По крепкому насту половина ватаги сделала вылазку на восход, к Погыче. Разведчики вернулись разочарованными: за горами, что виднелись с Пенжины, открылись другие, до самых вершин покрытые снегом, а путь к ним был безжизненной пустошью.
Стадухин дал ертаулам отдохнуть и послал их вверх по притоку Пенжины. Удавившийся пленник не обманул: там они нашли очень высокие тополя в обхват и больше. Потом была сделана вылазка вниз по реке. В двух днях пути от захваченной корякской избы промышленные увидели, что река несколькими протоками впадает в залив. При отливе чернели камни морского дна с застрявшими на них льдинами. За колышущимся крошевом из битого льда виднелось открытое море.
Весна брала свое. Все ярче светило солнце, опадали сугробы. В короткие сумеречные ночи было не до сна: коряки перестали лезть напролом, но делали по нескольку нападений в сумерках. Новые пленники, будто сговорившись, рассказывали прелестные сказки про Гижигу, а свою жизнь ни во что не ценили, почитая за геройство удавиться или зарезаться: брать у них заложников было делом бессмысленным.
— Ивашка Баранов тоже говорил про Гижигу, — вспомнил беглого казака Тарх. — Звал идти сухим путем. Не поверили! — Сжав губы, метнул испытующий взгляд на брата: — Может, зря?
— Про Погычу на Колыме много говорилось, — с горечью ответил Михей.
— А я, грешный, с чужих слов, брехал больше всех. — Покаянно перекрестился. — Вот она, рядом!
— Должно быть, голь, хуже Анадыря! — вздохнул Тарх, ходивший к восходу смотреть Похачу.
Ветер с полудня уже нес тепло, привыкшие к бродяжничеству люди чутко принюхивались к нему. Стоило им отдохнуть и отъесться, как снова кто-то прельщал их неведомыми и благодатными землями.
— Здесь не удержаться, ясак не взять, землю под государя не подвести и пушнины не добыть, — согласился с ними атаман. — Надо идти в лес, строить струги, искать другие места и народы!
— Где-то уже рядом! — брызгая слюной, беззубо шепелявил Богдашка. Смяв в кулак бородатое лицо с ясными глазами и облупившимся носом, он тоже ловил ноздрями весенний ветер. — Чую запах леса… А коряки пусть забирают свою избу, авось успокоятся и перестанут нападать.
Оставив захваченное жилье, ватага поднялась к топольнику, сделала засеку и заложила три четырехсаженных коча. Коряки с неделю не нападали, но не успокоились тем, что вернули свое жилье. Вскоре два десятка мужиков крадучись подошли к засеке и стали пускать стрелы по работавшим людям. От них отстреливались, ходили погромом, но они упорно выживали чужаков со своей земли. Промышленные люди ловили рыбу в полыньях, били из луков зайцев и куропаток, добывали много коз, тем и питались, дожидаясь вскрытия реки. Нападения не прекратились даже тогда, когда она очистилась ото льда. Ватажные торопливо достроили и просмолили кочи, козьими жилами сшили малые паруса из отмятых шкур.
В конце мая при большой воде суда спустили на воду и поплыли по течению. В устье притока остановились. Здесь были похоронены убитые товарищи. Промышленные люди думали, что воинственные коряки откопали тела и бросили воронам. Но, к неожиданной радости, кресты стояли целыми, могилы неразоренными. Ночи были светлыми, оттаял гнус. При ветре он прятался, но в затишье — бросался на людей темными роями, облепливал лица и одежду. При утреннем и заходящем солнце зеркально блестела река. Один ее берег чернел волнистой грядой оттаявших сопок, желтел галечниковыми косами с редкими кустами ивняка, на другом виднелся светлый ветловый лес. При розово-голубом закате, который вскоре переходил в такой же рассвет, суда подошли к устью обманувшей надежды Пенжины, о которой много говорилось на Анадыре. Михей с кормы поглядывал на брата. Тот с разинутым ртом озирался, любуясь пенжинским утром.
— Не зевай! — грубовато окликал старший, Тарх, смущенно опустив голову, начинал чаще шевелить шестом, промеривая глубины.
Не он один восхищался причудливым светом весны. Гребцы на веслах и люди, набившиеся между ними, молчали с такими лицами, словно входили в рай. Глядя на них, старшему Стадухину самому навязчиво казалось, что так оно и есть: незаметно, без мук, все перемерли и входят во что-то ясное, всегда помнившееся в глубине души, томившее ее. А если входят в этакую красу живыми, то впереди должно быть только счастье. Вот только гнус, будь он неладен, ел поедом даже на середине реки. Впереди показались отмели со многими протоками с застрявшими в них льдинами.
— Ушла вода! — обернувшись к брату, крикнул Тарх. — Придет!
Меньше всего Михей надеялся на каменные якоря и тросы, плетенные из корней. Как смог, принял меры предосторожности. Но когда на шитики пошли волны прилива, заохали люди, не раз прощавшиеся с жизнью в Студеном море. Суда сорвало с якорей и разбросало. Один из кочей так ударило о камни, что проломился борт. Полтора десятка промышленных выбрались из студеной воды на другие суда. Стадухин со смехом вытянул на борт мокрого Михайлу Баева. Разбитый коч строился под его началом, он был на нем кормщиком.
— Однако недолгая судьба твоему!.. — кивнул на беспомощно бьющееся о камни судно.
— Посмотрим, как другие, — рыкнул Баев, отжимая бороду и сбрасывая мокрую одежду.
Двум перегруженным судам все же удалось вырваться из полосы пятисаженного прилива и выйти на безопасные глубины. Шалил водяной дедушка после зимней спячки, потешался. Волны отлива помчали суда к полудню, им помогал усиливавшийся холодный ветер с севера.
— Зато гнуса нет! — осторожно бодрились мореходы.
Этот ветер пригнал темные тучи. Помрачнело, прилегло на воду небо, пропала из виду земля. Трое суток кочи болтались на тягучих серых волнах. Не зная, в какую сторону плыть, гребцы только удерживались на них, не давая захлестывать себя. На четвертый день, по молитвам морскому Николе, небо разъяснилось, показалось холодное красное солнце, рассеялись тучи и открылась сверкающая снегами гора с острой вершиной. На ней, как флаг, висело небольшое облако.
— Узнаю! — радостно закричал Богдашка. — Я эту гору видел с другой стороны. Неподалеку от нее мы хорошо промышляли с Емелей и Гераськой.
Ближе виделся горный хребет. Вся суша была белой от снега, чернела только прибрежная полоса отлива.
— Он! — не унимаясь, кричал Богдан, указывая на берег. — Конец Великого Камня. — Можно вернуться на Анадырь морем. Я знаю путь!
Но возвращаться уже никто не желал. Прежние жалобы и слабость вспоминали со смехом. Суда счалились, поскрипывая сырой обшивкой, качались на пологой, перекатывавшейся волне. Михей Стадухин понял, что пришел час, которого он ждал и опасался. Щурясь, долго глядел на розовевшие горы с острыми вершинами, затем обернулся к спутникам, громко объявил:
— Кто пойдет с Богдашкой — богатство добудет. Даст Бог, вернетесь на Лену, станете похваляться мешками с рухлядью, голытьбу брагой тешить, но слава достанется тем, что пришли туда первыми. А там, — указал на закат, — никто не был. Там можно с судьбой поспорить, народу и царю послужить. А они нас не забудут милостями.
— На кой с судьбой спорить? — не сводя глаз с черной полосы отлива, громко спросил Баев. — Все равно одолеет!
— Это кому как Бог даст! — строго взглянул на него старший Стадухин.
Снял шапку, стал креститься и кланяться на восход, мысленно упрашивая своих святых покровителей, чтобы с ним остался хотя бы десяток охочих людей. Промышленные перебирались с судна на судно, перетаскивали свои немногие пожитки. Ненадолго скрылось солнце за тучей и снова зарозовело. Двое топтались у счаленных бортов, не зная, на какую сторону перейти. Товарищи той и другой половины со смехом зазывали их. Наконец оба решились, и Стадухин подумал, что они непременно погибнут. На его судне оказалось чуть меньше половины ватаги. Он не ждал такого от людей, много говоривших и помышлявших о богатстве.
Суда расчалились. Бывшие связчики поклонились друг другу. Среди оставшихся со Стадухиными было много должников купца Баева. Они махали ему шапками, а он похлопывал себя по груди, напоминая о записанном долге. Баевский коч поднял куцый парус, обвисший при слабом ветре. Гребцы налегли на весла и повели шитик к видимому берегу. На стадухинском судне разобрали весла и своей силой пошли в другую сторону. Вскоре кормщик увидел знакомый мыс, далеко вдававшийся в море, от которого были унесены оба коча. Михей обошел его и так же в виду берега повел свое судно на полночь. Дул боковой западник, прижимая к скалам. Добытых шкур не хватило на добрый парус. Сшитый в одно лоскут лишь помогал гребцам при свежем попутном ветре. На третьи сутки горы стали отступать от берега, покрытого тундровой зеленью.
— Неужели опять болота? — стали тревожиться промышленные, разглядывая сушу.
Высмотрев далекий мыс по левому борту, Стадухин натянул шапку до ушей, молодецки выкрикнул:
— Умаялись грести против ветра? А как напрямик попытать счастье?!
Уставшие гребцы запели молебен морскому Николе, Стадухин взял курс на едва видимый мыс, судно оторвалось от близкого берега и пошло к полуночи. В пути пал туман. Михей поглядывал на маточку и вел коч в неведомое. Его люди за веслами чутко прислушивались к звукам и обрадовались, когда послышался шум приливной волны, гремящей окатышем. Услышал сушу и кормщик, послал брата на нос, мерить глубины шестом. Вскоре разъяснилось низкое небо, за крутым берегом из-за желтеющего окатыша показались зеленые верхушки деревьев. Тарх закричал:
— Лес, братцы! Похоже, хвойный, густой! Должен быть всякий зверь!
То, что мореходы приняли за берег, оказалось высокой и длинной отмелью, намытой волнами. За ней был широкий залив с устьем реки. Коч вошел в нее с приливом. Едва стала отходить в море вода, промышленные бросили каменный якорь, чтобы удержаться на месте.
— Не Гижига ли? — озираясь по сторонам, спросил брата Тарх и начал расспрашивать ходынца. Тот водил по сторонам плоским, раскрашенным носом, мигал невидимыми ресницами, вспоминая рассказы сородичей.
— Гижига!
— Ты здесь бывал?
— Нет! Слышал!
— Вот ведь, старый шкодник, что учудил! — опасливо корили водяного промышленные люди.
Другие страстно молились Николе Чудотворцу, благодарили за легкий путь, случайный выход в благодатное место.
— Если не Гижига, то лучше, чем Пенжина, — фыркнул Михей, оглядываясь по сторонам. — Зимовать можно.
Едва обнажились при отливе отмели реки, люди разошлись по суше и стали привычно обустраиваться: одни с треском ломали сухостой и раздували костры, другие разметывали сеть. Старший Стадухин выставлял караулы. Не надо было далеко идти от стана, чтобы увидеть, что Бог привел в места, обильные зверем и рыбой: рыбачившие хотели поправить выставленную сеть, а она оказалась забита рыбой.
— Похоже, не зря страдали! — с сердечной радостью перекрестился атаман и стал осматриваться, где поставить зимовье.
Едва скрылись последние нарты стадухинской ватаги в заснеженной долине Анадыря, в дежневском зимовье наладился покой, нарушенный прошлогодним нашествием промышленных людей. Почти все спасшиеся спутники Бессона Астафьева жили в одной тесной избе с корякскими, анаульскими, чукотскими женками и теперь могли расселиться. Моторинские и бывшие стадухинские казаки с оставшимися холостыми промышленными людьми тоже зажили просторно. Сходиться в задружные семьи и чуницы их принуждала только непомерная нужда в дровах, которых каждой избе требовалось много.
Первое время все жили мирно, хотя неделями выли пурги с секущим снегом, который, пробиваясь через малые щелки, наметал в избах сугробы, ветры срывали с крыш дранье, прикрепленное к земле ремнями из кож: конец зимы и начало весны выдались ненастными. Но люди не свирепели от вынужденного безделья. Разве невоздержанный Бугор поругивался со вспыльчивым Костроминым — тот давал товар в долг по дорогой цене: аршин холста два рубля, один кремешек для фузеи — полтина. Но зимовейщики знали, какими трудами и расходами все это было доставлено на Анадырь. Запаса красной рыбы с лихвой хватило до весны. За зиму она так приелась, что даже дикие женки жевали ее с таким видом, будто во рту были опилки. Едва пошли к северу дикие олени, мужчины и женщины отправились на промысел мяса. У важенок было время отела, люди и волки добывали их, изможденных родами, вместе с новорожденными телятами. Когда в вечной мерзлоте была вскрыта очередная яма с красной рыбой, возле нее, как обычно, закрутились собаки, купленные у юкагиров и перебежавшие от них. Студеной ночью они беспокойно завыли. Семейка Мотора, приподнявшись на локте, прислушался.
— На гон распелись или что? — сонно пробормотал, не желая выходить из зимовья. По общему молчаливому согласию караулов он не выставлял. Подкинул дров на тлевшие угли. перекрестился и с головой укрылся меховым одеялом.
Собаки бесились и другой ночью. Семен долго ворочался с боку на бок, потом скинул одеяло, сунул ноги в ичиги, подобрал полено, чтобы успокоить их. Скинув закладной брус, высунулся наружу и тут же прикрыл дверь.
— Медведь! — сипло прошептал, выглядывая ближайшую пищаль.
Бугор сбросил одеяло, схватил свою заряженную, прислоненную к стене, подал Моторе, выхватил из очага тлевший сучок. Семен прицелился, Василий приложил к запалу без подсыпки тлеющий огонь. Пищаль громыхнула. С нар вскочили полураздетые казаки, схватились за оружие. Мотора, отставив ружье с курившимся стволом, снова приоткрыл дверь. Пороховой дым рассеялся. Раненый медведь отбежал на сотню шагов и залег на открытом месте.
— Наш! — радостно вскрикнул Мотора. — Пусть полежит и отойдет с миром.
Зверь не успел растерять жир. Его мясо сильно пахло рыбой, но это никого не смущало. Рыбным духом в здешних местах были пропитаны земля, вода и воздух. Съели мясо быстро. Доедая, разговорились о том, что лето не за горами, пора подумать, как жить и для чего. Разговоры перешли в соборный совет, затем в сход.
— К морю плыть пора! — говорили дежневские бывальцы. — Достроить кочи, нагрузиться костью!
Прошлой осенью Фома Семенов с Елфимом Меркурьевым, с беглым Федотом Ветошкой отыскали остатки бессоновских судов. Они были обметаны песком и вросли в мель. Моржовую кость замыло в кочах, но она там была.
— Сколько ее? — рассуждал Семен Дежнев. — Пудов полтораста-двести… Мне одному надо тридцать по колымским ценам, чтобы расплатиться за посул. Да погибшим вернуть остатки, да Гусельникову потерянное добро… Уж если плыть, так на коргу, где нас побили чукчи. Там кости много. Сколько построим кочей, столько нагрузим.
— Нагрузим! — ехидно спорил Костромин. — А Мишка Стадухин вернется, предъявит наказную от воеводы и отберет.
Казаки и промышленные примолкли, раздумывая каждый о своем.
— Раз соболя нет, по-любому надо смолить кочи, — сипло пробубнил Бугор. — А Мишку обманули! — Кручинно вздохнул. — Про кость ничего не сказали.
— Да я бы ему все, как на духу, — начал оправдываться Дежнев. — Тамошней кости всем хватит. Но он, Мишка, и говорить со мной не хотел: только рыкал да размахивал кулаками.
— Стадухин до богатства нежадный, — опять завздыхал Бугор. — Ему надо было прийти первым. А тут ты! Вот и бесился!
— Мне через гору не уйти, — клацая костылями, выполз на середину круга Павел Кокоулин. Поводил по собравшимся немигающим щучьим взглядом. — Морем вдруг и даст Бог вернуться.
После войны с анаулами все думали, что он не жилец, но Пашка, пролежав зиму, выжил и начал ходить. Весной посыльные от объясачных Стадухиным анаулов принесли полтора десятка соболей без пупков и лап, предложили поменять сидевшего в аманатах племянника тойона на его дочь. Дело было обычным: через девку хотели породниться с казаками и наладить вечный мир.
— Ну как, Семейка? — окликнул Мотору беглый казак Никита Семенов. — Ты у нас главный государев человек. Оженим, что ли, для мира?
Смущенно посопев в вислую бороду, Мотора позыркал на присланную тойонскую дочь, пробормотал:
— Хороша! Если народ не против — возьму, а прежнего аманата отпущу. Зиму на наших кормах — хворал. Бабы у них живучей.
С зааманаченными прошлой осенью анаулами, зиму прожили мирно, их беспокойство было понятным: коротким летом надо успеть запастись кормами и каждый сильный мужчина на счету. По русскому закону почетного аманата принуждать к работам нельзя, а дармоед при зимовье в тягость. Беглые казаки и промышленные согласились поменять племянника тойона на его дочь. Дежнев долго выспрашивал анаулов про морской путь к полуночи, которым пришел в эти места. С помощью Казанца узнал то же, что слышал прежде: ходят за Нос только чукчи, от них известно, что обойти дальний мыс удается не каждый год, чаще пролив бывает забит льдами. Несколько раз спросив об одном, казак озадаченно потер переносицу и в раздумье покачал головой. Присланная девка оказалась бойкой, легко сошлась с женщинами, которых на стане было около десятка, приязненно возилась с их детьми и не чуралась обычной работы. Мотора, вздыхая, ходил вокруг нее, присматривался и все не решался взять в женки.
— Молода! — ворчал. — Мне бы постарше, постепенней.
— Смотри, а то я возьму! — грозил Никита.
На очередном сходе люди Моторы и Дежнева сговорились достраивать и конопатить кочи, заложить коломенку. По вскрытии реки и залива решили сходить к бессонкиным остаткам и дальше, к богатой костью корге, потом думать о возвращении на Колыму. Иных промыслов на Анадыре не было. Решить-то они так решили, но пока готовили к плаванью кочи, пошла на икромет рыба. Не запастись ей — обречь себя на голодную зиму.
— Вот это жизнь! — не то радуясь, не то злясь, ворчал беспокойный Бугор.
— За все прежние годы отоспался… Мишка Стадухин уже и мир бы наладил и кость привез, а мы только думаем, идти ли к морю, чтобы прибрать останки с побитых судов.
Василия поддерживал его недруг Анисим Костромин. Заодно с ними стали драть глотки беспокойные зимовейщики, которых подстрекал к промыслам купец Мартемьянов. Очередной сход решил отправить их к морю, искать прибыли, остальным запасаться рыбой и готовиться к зиме.
Лето было жарким. При высоком солнце возле изб носились ревущие тучи овода. Комары унимались только при ветре, набиваясь в избы. Оттуда их выживали дымокурами. Едва были просмолены кочи и заложена коломенка, к зимовью прибежали ясачные анаулы, которых побили ходынцы.
— Не дает Бог богатства! — Дежнев со вздохом воткнул топор в колоду и вытер взмокший шрамленый лоб. — Первое лето к зиме готовились, второе — от Мишки бегали, теперь война. Вековать нам здесь, что ли?
Сход приговорил Фоме Пермяку с больными и торговыми людьми сидеть при зимовье, караулить добро, баб с детишками, запасаться рыбой, остальным, объединившись с анаулами, идти на погром ходынцев.
— Догнать оленных людей в тундре почти невозможно, — чесал бороду Мотора. — Воевать с ними — того трудней. — Ему не хотелось отрываться от молодой проворной женки, к которой начал привыкать, но служба обязывала. На анаулов напали два сильных многочисленных ходынских рода, во главе которых стояли братья. — Родня! — рассуждал Мотора. Братья будут крепко стоять друг за друга.
Семен Дежнев, беглые казаки и промышленные под его началом ушли вместе с анаульскими мужиками воевать ходынцев. Отряд вернулся только осенью с аманатом от одного из ходынских родов — чуванцев. На нартах приволокли тела убитых товарищей. В боях с ходынцами погибли спутник Дежнева Елфим Меркурьев, приставленный к остаткам гусельниковских товаров, промышленные Иван Нестеров и Петр Кузьмин. Их похоронили возле зимовья. Ясачные анаулы были отмщены. Дежнев опять был ранен ножом, но неопасно. Фома с торговыми и калеками сумел запастись красной рыбой. Зима ожидалась не такой обильной, как прежняя, но и не страшила голодом. До холодов люди снова принялись утеплять избы, запасаться птицей и строить коломенку. Пропал овод, ослабели, заленились комары, вскоре исчезли и они. По берегам Анадыря появились забереги, лужи затянулись льдом. По хрусткому мху тундры прискакали на оленях ясачные ходынцы — чуванцы, с которыми воевали летом. Их погромили коряки. Семен Мотора снова стал собирать отряд. На этот раз караулить зимовье остались раненые и немощные под началом торгового человека Анисима Мартемьянова. С Моторой, Дежневым и беглыми казаками увязался Павел Кокоулин, уставший сидеть в зимовье наравне с женщинами.
Отряд вернулся в декабре, по заметенной снегом тундре, как это было год назад со Стадухиным. Наказного атамана Семена Мотору и его целовальника привезли на нартах вперед ногами. Оба погибли в боях. Многие были легко ранены, Анисим Костромин не мог ходить без помощи товарищей, Павел Кокоулин получил еще одну рану. Анадырь спал, покрывшись льдом. Выла метель, срывая с волоковых окон и труб дым очагов. Вернувшиеся были встречены теплом и ласками женщин. Убитых предали мерзлой земле, помянули белой рыбой, которая считалась лакомством, грибами, ягодой шикшей, собранными женками, и ягодным вином.
На Анадыре осталось три десятка русских людей. Опасаясь распрей и раздоров, они сошлись в одной избе и сообща решили, что впредь атаманом быть Семейке Дежневу и служить ему по наказной памяти Семена Моторы. В помощь и для совета от беглых казаков и промышленных людей избрали другого атамана — Никиту Семенова, чтобы им друг друга от греха удерживать. Наставляли их править по справедливости и заветам благочестивой старины, во всем советуясь с кругом. Дежнев поклонился товарищам с первым наказом:
— Будем зимовать, доделывать коломенку, а всякие раздоры решать мирно и сообща.
Никита Семенов с общего согласия предложил женке убитого Моторы, впредь жить с ним, и она с радостью согласилась.
13. По сторонам Великого Камня
Едва стадухинская ватага обустроила табор и люди насытились рыбой, атаман уснул на корме обсохшего коча, Тарх накрыл его меховым одеялом. Проснулся Михей, почуяв запах печеного мяса, сел, огляделся, соображая, где находится. Розовела река, над морем в низких облаках висело полуденное солнце. За время его сна промышленные обошли окрестности, добыли оленя, нашли ручей со сладкой водой, все выглядели довольными и отдохнувшими.
— Подкрепись, Мишка! — позвали к кострам.
Стадухин напился свежей воды, умылся в реке. Расправив мокрую бороду и рыжие усы, подцепил ножом шипящий кусок мяса.
— Следы людей есть, но никого не видели, — рассказывал Тарх. — Река рыбная. Прошлогодней тухлятины по берегам много. Есть лисы, соболь, медведи. Олени выходят к морю… Мы тут говорим между собой, даже если не Гижига, все равно можно зимовать. Не бывают такие места безлюдными, найдем кого под государя подвести.
— Добро! — промычал Михей, пережевывая мясо.
— Придут! — загалдели промышленные. — Погоди, пойдет на нерест рыба — явятся!
— Хорошо бы не коряки! — опять пробурчал Михей. — Если весной выжили с Пенжины, то теперь у нас сил втрое меньше.
Не внял Господь атаманским молитвам: на дым костров вышли пятеро мужиков с луками и рогатинами, остановились в полете стрелы, высмотрели судно, засеку, бородатых пришельцев.
— Коряки! — вскрикнул ходынец. Лицо его перекосилось, он схватился за лук, прицелился в шевелившийся кустарник.
— Поздно! — перехватил его руку Михей, удержав от напрасного выстрела. — Теперь придут, не задержатся. Надо ставить частокол и рубить избу. — Подумав, вытер рукавом усы, добавил хмуро: — Что делать? Коряки так коряки… Видать, судьба!
До Петровок промышленные люди успели поставить тын в полторы сажени высотой, срубили стены избы. Покрыться крышей и поставить нагородни не успели. Устье реки было не самым удобным местом для ловли рыбы, а время — для войн: всем надо было запасался кормами в зиму, но беспокойные коряки устроили нападение. Михей почувствовал их издали. Роились комары, моросил дождь. Порывы ветра хлестали им по заплоту и стенам, стелили по земле едкий дым. Стадухин, закрыв глаза, дремотно поклевал носом и встрепенулся:
— Крадутся! Человек полтораста… — Усмехнулся: — Дождь им не помеха.
— Задрал голову, подставляя небесной влаге лицо и бороду. Стены избы защищали только от ветра. — Берестой покрыться, что ли! — Ругнулся, поднимаясь на ноги: — Нельзя. Подпалят!
Не хватило трех или четырех дней, чтобы встретить приступ в готовом, укрепленном зимовье. Строили его с размахом, предполагая, что со временем разрастется в острог. Не повезло. У кого были кремневые ружья, подсыпали порох из натрусок, прикрыли запалы шапками, у кого фитильные пищали и мушкеты — запалили трут. Огненный бой не испугал нападавших, похоже, среди них были люди, воевавшие на Оклане. Коряки не полезли напролом, как при первых встречах, но, скрываясь за деревьями и кустарником, подошли на ружейный выстрел и стали осыпать стрелами недостроенное зимовье. Пущенные с огнивом, они не долетали до тына, мокрая трава мешала пустить пал. Три десятка корякских удальцов короткими перебежками подкрались шагов на тридцать. Промышленные дали по ним залп картечью, половину переранили, уцелевшие побежали обратно.
— Вот и языки! — указал на оставленных атаман и отставил перезаряженную кремневую пищаль, собираясь выйти из-за частокола.
Моторинские промышленные Матюшка Калин, Иван Суворов, Калинка Куропот вызвались идти с ним.
— Ты здесь нужней! — оттеснил брата Тарх, поправил топор за кушаком.
Михей молча согласился с младшим. Четверо приволокли двух мужиков. Один был ранен в ноги, другой в живот.
— Этого не надо было брать, — поморщился атаман. — У нас не выживет, а свои, может быть, и выходили бы.
— Не разглядели! — оправдался Тарх. — Видим — живой. Подхватили…
Ходынец, мстительно улыбаясь, стал выспрашивать пленных, что за река, на которой они находятся. Услышав ответ, обвел спутников победоносным взглядом:
— Гижига!
— Не ошиблись. Привел Бог! — перекрестился атаман.
Он привык к ходынцу, перестал его чувствовать, только следил, чтобы не мучил пленных. Но пока отдыхал после боя, тот бесшумно задушил раненого в ноги, другой умер сам. Коряки с прежним озлоблением стали нападать на недостроенное зимовье. В самую горячую пору стадухинский отряд сидел за частоколом и отбивал до пяти нападений в сутки. Охочие люди отстреливались, ходили на погромы, брали в плен мужиков и женщин. Михей говорил им государево слово, отпускал и аманатил, но не мог принудить к покорности и миру, потому что коряки не боялись смерти и охотно умерщвляли себя. Им сковывали руки и ноги, чтобы не могли чинить смертоубийство, они отказывались от еды и питья, ни с кем не разговаривали, по двое-трое суток сидели без движения, пялясь в одну точку, и умирали, а их сородичи при больших потерях продолжали осыпать зимовье стрелами, не оставляя каждодневных попыток сжечь его. Отряд Стадухина тоже нес потери. «Да сколько их и откуда берутся?» — удивлялись охочие. Никто из них не мог знать, что на другой стороне Анадырского плоскогорья, на Колыме-реке еще в прошлом году поменялась власть. После многих мытарств, трудностей и мучений пути, потеряв кочи на Индигирке, на смену Василию Власьеву пришел новый колымский приказный Тимофей Булдаков. Он обосновался в Среднем остроге, где сидел на приказе казак-первопроходец Мишка Коновал и служил не в прием беглый янский казак Иван Баранов.
От Стадухина и Моторы известий не было. Еще до их ухода с Колымы Иван Баранов подал Власьеву челобитную — идти своим подъемом с тридцатью промышленными и охочими людьми на Чендон-Гижигу, о которой слышал от инородцев. При этом он явил в казну двадцать соболей. Не принятое прежней властью прошение было передано новому приказному, и тот отпустил ватагу. Случилось так, что эти люди ушли с верховьев Колымы почти одновременно с полусотней Михея Стадухина, двинувшейся с Анадыря на Пенжину. В верховьях Гижиги ватага Ивана Баранова была встречена оленными ходынцами, которых беспрестанно притесняли коряки. Тойоны родов Ларчега, Тонгылыта и Чонога сами явились к пришельцам с просьбой о помощи, дали ясак и подарки русскому царю, присягнули на верность. Иван Баранов предложил писаным рожам выдать аманатов, и они с радостью согласились на это, чтобы иметь защиту казаков.
Еще сам того не зная, беглый казак Баранов с товарищами проложил главный путь с Колымы к Охотскому морю и нашел место для будущего государева острога. Его люди помогли ходынцам отбиться от нескольких воровских набегов, и стычки прекратились. Корякские роды оставили верховья реки не из страха перед пришельцами, но по зову единоплеменников, призвавших воевать в устье Гижиги. При непрестанных боях в низовьях реки в ее верховьях промышленные и охочие люди Баранова построили укрепленное зимовье, промышляли рухлядь и мясного зверя. Но промыслы разочаровали их: на Колыме соболя было больше. В конце февраля Баранов оставил в зимовье десять охочих людей, с остальными и с тойонами известным ему путем ушел в Верхний Колымский острог.
Снег был крепок, как камень, ветер лют, но он дул в спину. Баранов вернулся в мае без больших тягот и потерь, сдал Тимофею Булдакову тойонов с аманатами, явленных соболей и государеву десятину с добытого. Поход, к которому он стремился и призывал несколько лет сряду, разочаровал его. Река за Великим Камнем никого не удивила и не обогатила, сам Баранов не добыл ни славы, ни богатства, разве заслужил прощение за янский побег: колымский приказный обещал написать о нем якутскому воеводе. Никто не мог знать, что легкими стычками и спокойными промыслами в верховьях реки охочие люди обязаны неудачливой ватаге Михея Стадухина. Через несколько лет барановское зимовье получит разряд государевого, затем расстроится в острог. На тамошнем приказе выслужат средние чины знакомые Баранову и Стадухину казаки, куда как менее известные, чем они сами.
В низовьях Гижиги соболя было много, но коряки не давали отойти от зимовья даже на днище. Станов здесь не рубили, ухожий не тропили, промышляли только поблизости, на погромах у коряков отбивали мехов больше, чем добывали. Стадухинские люди зароптали. При очередном погроме вож-ходынец принял в грудь отравленную стрелу с костяным наконечником. Отмстив за родственников, с тяжкими телесными муками и с миром в душе он ушел к ним в Нижний мир. К тому времени, когда среди проталин зазеленела трава, других надежд, кроме безвестной гибели, не осталось даже у Михея Стадухина. Удержаться на Гижиге без сильного войска оказалось делом невозможным. То, что придется уйти, он понял раньше других и всю зиму с лютыми ветрами берег коч, жестко отбивая все попытки сжечь его.
На вешнего Егория собралась в круг потрепанная ватага. Как принято со времен ветхозаветной старины, атаман дал всем высказаться и всех выслушал. Его люди соборно решили плыть дальше на закат в виду берега, туда, где до сей поры русских людей не было, а тамошним народам нужны мир и государев порядок.
— Ну и ладно! — с облегчением согласился старший Стадухин. — Не дает Бог богатства, может быть, даст славу! Оставляем шесть могил — это плохо! Но они были первыми — Бог их наградит!
Еще в те дни, когда стадухинские охочие и промышленные люди, одурманенные пенжинскими рассветами, шли к морю на трех кочах, на другой стороне Великого Камня очистилось ото льда устье Омолоя и открылся морской залив. При безветрии, ясной голубизне неба и воды на пологих волнах степенно покачивались белые льдины, а над тундрой, с трех сторон окружавшей зимовье, блуждало оранжевое солнце. Здесь не были в диковинку ни ветхие отпускные грамоты енисейских воевод, ни кожи с росписями Бекетова и Галкина: торговые люди не спрашивали их друг у друга. Никто ни с кого не требовал ни покупных, ни продажных пошлин. Федот Попов собирался идти в море первым и пред уходом из Омолойского зимовья сказал, что отправляется искать потерянный коч. Служилых в зимовье не было, Федота не пытали, зачем взял так много хлеба и можно ли найти брошенное суденышко в бескрайнем Студеном море? Попов вывел купленный коч из устья реки и следом за льдами двинулся к северу. На борту у него был хороший припас еды и дров, березовые бочки полны питьевой воды. Гребцы, слывшие на Омолое блаженными, все свободное время молились или, собравшись кружком, вдумчиво читали толстую Библию, часто отрывались от чтения и подолгу спорили в поиске каких-то истин. Молодой устюжанин с не сходившей с лица восторженной улыбкой в кучерявившейся бороде, помалкивал, переводя синие глаза с одного говорившего на другого. Вологодский печальник с распадавшейся надвое бородой все свои рассуждения и замечания переводил на конец света. Нетерпеливый тотемец, что-то теребя беспокойными пальцами, опускал глаза долу, и возражал, не поднимая их на спутников:
— Рим тысячу лет ждал конца света, а дождался только своей кончины. Не о том говорим… — И толковал прочитанное как преступления властью Закона Божьего.
— И померший царь Михейка с отцом его, патриархом, русский народ не любили, и нынешний, здравствующий, не любит. Тридцать лет сряду воюет с ляхами, шведами, турками и ими же, выкрестами, себя окружает. Видать, Книгу Царств не читал, не знает, что бывает с царями, предпочитающими инородцев единокровникам.
— Я видел покойного Михейку, как тебя! — рассказывал беглец из посадских людей Москвы — печальник и скромник. — С виду черноглазый татарин, только говорил чисто. А здесь сказано, — почтительно кивал на Библию, — «не может быть царем инокровный».
— Грех хулить мертвых! — прислушиваясь к разговорам, укорил спутников Федот.
— Правда грехом не бывает! — поднял глаза вологжанин, и борода его трепыхнулась крыльями умирающей птицы.
Читавший Библию грамотей уважительно заспорил:
— Давид и Соломон были великими царями, но про их грехи все доподлинно сказано. — Погладил кожаный переплет Книги. — Тысячу лет люди читают и вспоминают о них… А про склоки и преступления других царей?! — недоговорив, покачал головой.
— В Книге Царств много чего о преступлениях власти! — поднял ангельские глаза тотемец. — Если бы цари да бояре Закон Божий читали, то боялись бы погрешать против своего народа, знали бы, как наказуется этот грех.
Обойдя стороной мелководье, далеко вдающееся в море, Федот, насколько смог вошел во льды, среди них дождался попутного ветра, высмотрел разводья и взял курс на восход. Он пристально разглядывал ледовое поле к полуночи, будто все еще надеялся найти брошенный коч, но ради него дальше на север не пошел. Поблуждав среди плавучих льдин, увидел и узнал черневшую вдали оконечность Святого Носа, стал пробиваться к ней. За кормой в розовой дымке сливались небо и море, от низкого солнца розовели плавучие льды и призрачные горы полуночной земли. Шестеро нанятых спутников, уверившись, что Федот не поведет коч в обратную сторону, к Лене, ни о чем его не спрашивали. Они не были мореходами и старательно исполняли наказы передовщика, а он, все еще присматриваясь к ним, порой ловил себя на догадке, что эти блаженные читают его тайные помыслы и соглашаются с ними. Гребцы каждый день варили кашу. В спокойные часы отдыха, садились кружком возле мачты, снова читали и обсуждали Библию или заводили разговоры про Сибирскую Русь и Великий Тес. По их догадкам, воеводы так и не выведали пути к Старой или Беглецкой Руси и от богопротивной власти туда ушли многие. Федот Попов за годы скитаний по Сибири не раз встречал людей, искавших Ирию, но впервые судьба свела его с целой ватажкой, и вся она оказались на его судне. Он слушал их с загадочным прищуром глаз, с улыбкой, скрытой бородой и усами. А они, наслышанные о его скитаниях, доверчиво тянулись к нему, ловили каждое оброненное им слово.
— Еще смолоду знал я промышленного, Пантелея Пенду, — однажды вспомнил Федот. — Как-то встретились на Колыме, и старик говорил, что нашел Тес в самом его начале или в конце. Будто это прямая дорога от Чердыни до Байкала. Может быть, и дальше, но идти через мунгал он не решился.
— Мудрый был человек! — со вздохом перекрестил грудь вологжанин. — Царствие Небесное!
— Почему же Небесное, — усмехнулся Федот, обводя пристальным взглядом замерших слушателей.
— В Жиганах говорили, погиб!
Попутчики были осведомлены о делах Колымы больше, чем предполагал Федот.
— Говорили послухи, не видальцы! — с той же загадочной улыбкой поправил спутника.
— А коч был твой? — впившись в него взглядом, чуть слышно спросил вологжанин.
— Мой! — согласился Федот, скрытно посмеиваясь одними глазами. — Да только Пантелея Демидыча и тех, кто с ним были, мертвыми я не видел.
Глядя на него, спутники настороженно молчали, и Федот, прекращая туманный разговор, велел спустить парус, сесть за весла, выгребать к берегу. Ветер сносил их к полуночным льдам и туманам. За Святым Носом путь к восходу был забит льдом. К этому времени закончились дрова, в тесной жилухе, куда могли вместиться для сна и отдыха только четверо, было сыро и холодно, ковш уже скреб по днищам березовых бочек с остатками воды, но никто не роптал, соглашаясь с кормщиком, что пока дается, надо идти, а голод и жажду можно потерпеть Бог миловал: одним ветром и открывшимися разводьями Попов привел судно к знакомой губе, в которую впадала река со множеством галечниковых кос. Небо затянуло тучами, по всем приметам ожидалась буря. В губе в защищенном от ветров месте коч встал на якорь и его накрыл густой июльский снегопад. Он ничуть не опечалил мореходов. Они запасались пресной водой, ловили рыбу, стреляли уток и гусей, которых было на диво много. Ватага отъедалась, отдыхала и благодарила Господа за милости. Всего провианта, которым запаслись, могло хватить недели на две, но Федот требовал больше и больше, будто собирался безостановочно плыть до самой осени. Спутники безропотно подчинялись ему, хотя стало трудно пробираться с кормы на нос судна.
Через две недели задул попутный ветер. Дождавшись, когда появятся широкие разводья, передовщик взял курс на восход. Два дня коч весело бежал под парусом, на третий солнце скрылось за тучами, хмурое небо прильнуло к морщившейся воде, ветер сделался порывистым, начал раскачивать волны, но Федот не принимал никаких мер к тому, чтобы укрыться от непогоды. Несмотря на беспрестанные молитвы его людей, очередная буря все-таки застала их в открытом море. С бесноватой одержимостью в глазах кормщик велел спустить парус, держаться на волнах веслами и отталкивать льдины шестами. Голос его становился все резче и громче. Он весело поглядывал по сторонам, смахивал с лица соленые брызги, иногда начинал петь и громко разговаривать с кем-то, видимым ему одному. Спутники, доверчиво смотрели на него, распевали молитвы, временами умолкали, прислушивались к голосу Федота и удивленно переглядывались. Кормщик не молился, а пел новгородские былины о буйном удальце и все чему-то посмеивался. Буря стала стихать на третий день. То поднимая на гребнях волн, то со скрипом и скрежетом опуская между ними, коч несло к востоку. Федот приказал поднять парус, оставил при себе двух помощников, остальным разрешил отдыхать. Потом отпустил и подручных.
Когда они проснулись, чувствуя себя отдохнувшими, судно почти не качало, под днищем журчала вода, парус был вздут. За бортами по всем сторонам не было ни суши, ни льдов. Низко над горизонтом висел огромный тускло-красный круг солнца. Передовщик все так же стоял у руля и улыбался. Вологжанин смущенно предложил сменить его. Федот равнодушно согласился, положил перед ним маточку, указал, куда вести судно, завернулся в одеяло и лег у ног сменщика. Спал он долго. Все шестеро спутников бодрствовали и беспрестанно молились. По правому борту показалась земля, это был не прежний пологий тундровый берег, а неприветливые черные скалы. Вологжанин попытался подойти к ним, но парус заполоскал, ему пришлось выровнять судно на прежнем курсе. Будить передовщика спутники не стали, и он беззаботно проспал почти сутки. Когда Федот поднял голову, сел и посмотрел за правый борт, на далекие скалы, все с облегчением вздохнули. Ветер опять был порывист и срывал брызги с волн. Попов сонно рассмеялся, повертел головой по сторонам, окинул взглядом небо.
— Похоже, скоро опять дунет во всю мощь, надо править к берегу! — Потянулся и встал.
— Я пробовал! — жалобно оправдался вологжанин, сжимая румпель окостеневшими пальцами. — Полощет! — кивнул на кожаный парус и указал рукой на тупой нос судна.
— Держи пока так! — беззаботно приказал кормщик. — А я поем. Есть хочется, будто гнус кишки погрыз!
Дожевывая юколу, он вернулся на корму, отстранил вологжанина от руля.
— Приспускай парус! — приказал. — Готовьтесь идти на веслах. Будем выгребать скулой к волне.
— Куда? — настороженно спросил кто-то из гребцов.
— Куда Бог выведет! Хватит гоняться за богатством! — воскликнул, задрав бороду к низкому небу, и распахнул руки, будто хотел обнять какую-то невидимую силу. — Надо слушать Господа, чего Он от нас хочет! Так ведь, братья? — обвел попутчиков глазами, светившимися силой и решимостью.
— Так! — согласились они и разошлись по местам.
Вести четырехсаженный коч своей силой в шесть пар рук было делом многотрудным. Гребцы запели, призывая в помощь Николу Угодника, обессиленные, выгребли к какому-то заливу и в нем укрылись. Вскоре засвистел ветер, началась буря страшней прежней. Ватажные радовались, благодарили Бога и Николу за помощь явную. Федот внимательно осмотрел берега бухты, велел спустить на воду лодку. Молодой непрестанно чему-то улыбавшийся устюжанин указал глазами на благодарственно молившихся. Попов опять рассмеялся и отмахнулся, как от пустого занятия, удивляя спутников:
— Иначе и быть не могло!
На пару с мезенцем он сел в лодку, выгреб к устью ручья, пригоршней попробовал воду на вкус.
— Сладкая! — крякнул от удовольствия и стал наполнять бочку. Он и на коч вернулся будто с присохшим к глазам беззаботным прищуром, весело объявил:
— Прошли мы мимо Колымы, братцы! Я здесь бывал, помню. — Непонятно чему хохотнув, добавил: — И мимо большого залива пронесло. Мыс там долгий — течения и ветры дурные. Ох, и помучались в прошлый раз, а теперь без сучка без задоринки. Бьюсь об заклад, после бури задует западник.
Шестеро спутников смотрели на него удивленно и настороженно, даже молодой устюжанин, поблескивая синими камушками доверчивых глаз, на этот раз не улыбался.
— Почему? — ласково и вкрадчиво спросил вологжанин, дернув кадыком на истончавшей шее. — Есть к тому приметы?
— Нет! — беззаботно ответил Федот. — Но если так случится — все скажу, ничего не утаю. — И возвращаясь к заботам дня, добавил строже: — Отдыхайте! Я постою в карауле, пока Бог дает силу: здесь нас в прошлый год пытались пограбить… Отдохнете, пополним припас воды и дров. Ишь, сколько плавника на камнях? — И опять удивил спутников, обронив: — Теперь спешить некуда!
На четвертый день буря стихла. Залив забило льдинами, но за ними видны были чистые разводья воды. Вскоре разъяснилось небо и с запада действительно задул умеренный ветер.
— Ну, вот и случилось! — торжественно крестясь, объявил Федот. — Теперь понятно, чего хочет от меня, грешного, Господь! Да и от вас тоже. Прошлым годом выбросило меня на Большую землю. Там уже много наших людишек и Пантелей Демидыч с ними. Звали меня остаться — не захотел: долгов убоялся. Но Господь от них освободил, и теперь я знаю, куда бы ни плыл, куда бы ни шел — все равно вернусь туда не своей, так Его волей. И вам уже не будет обратного пути. Так уж судьбой завязано, так нам всем на роду написано. Смиритесь или погубите души, как погубили их многие мои товарищи.
— Исполним волю Пославшего нас! — радостно закрестились товарищи, кланяясь на восход, встреч солнца.
Той весной, когда Федот Попов с шестью спутниками еще только готовился к выходу с Омолоя, с бедных янских промыслов в Нижнее государево зимовье вернулись охочие и промышленные люди, пограбившие Юшу Селиверстова и Артема Осипова. Как гуляки с больной головой бегут к месту бывшего веселья, так они, оголодавшие, кинулись к Селиверстову, будто не помнили осенних драк, грабежей и поносных слов. «Юша, дай хлеба!» — стали просить. Но Селиверстов ничего не забыл, он всю зиму думал о возмездии, о том, как принудить бунтарей к делу и взыскать убытки.
— За что вас кормить? — спросил загодя приготовленными словами.
За его плечом с важным видом стоял Артем Осипов. В стороне, будто открещиваясь, тоскливо и обиженно топтались братья Курсовы. Прежде всего вышедшие с промыслов люди обязаны были вернуть Юше кабальные грамоты. Селиверстов напомнил ленский уговор, что приверстанные в казаки без окладов служат ему, а своеуженники дают треть добытого. Осмотрев их добычу, он презрительно бросил связки соболей, белок и горностаев, волчьи шкуры даже разворачивать не стал.
— Не стоит того, чтобы кормить по прежнему уговору! — поморщился с недовольным видом.
К его злорадству, главные крикуны и заводилы Ивашка Обросимов и Гаврила Алексеев в один голос завопили:
— Ты в грамотку-то загляни, о чем договаривались в Якутском?
— И вы вспомните, как блюли крестоцелование! — язвительно укорил их Селиверстов. — Поскольку прежний уговор порушен, я волен поступить с вами, как с пришлыми. А вот Артемка, — указал глазами на верного ему охочего человека, безбедно зимовавшего при коче, — своих кабал не отбирал, казенного добра не крал, и я его кормлю… Хотите хлеба? Покупайте… Десять рублей пуд.
— Спятил, что ли? — громче заорали горлохваты. — На Колыме, сказывают, пуд по восьми рублей в долг.
— Туда и езжайте! — презрительно захохотал Юша, вспомнив урок, который дал ему латинянский воевода-выкрест.
Он хотел вытребовать с бунтовщиков добычу и кабалы, принудить безропотно подчиняться, идти куда укажет. И поскольку был уверен, что Францбекова непременно переменят, пустил слух, который думал использовать в будущем:
— Я явил в казну пятьдесят пудов рыбьего зуба, но с такими неслухами, как вы, терплю убытки.
— Да мы у других торговых хлеб возьмем по восьми рублей!
— Берите! — опять посмеялся Селиверстов и пошел в съезжую избу, показывая, что разговор закончен.
— Сами на Погычу пойдем! — крикнул вслед Гаврила. — Я за Колыму ходил больше твоего, путь знаю, торговые с честью возьмут нас к себе!
В негодовании охочий выдал то, о чем в ватажке сговаривались зимой: найти торговых людей и с ними идти на Погычу. Гаврила знает путь и выведет всех вперед Юши. Бывалец, ходивший в море с Пустозером и Стадухиным, стал обходить торговые суда, готовившиеся к плаванью, предлагал себя с ватажкой в покруту. Его слушали, кормили, поили, в то время как оголодавшие связчики втридорога покупали хлеб на паевые меха и грозили Селиверстову:
— Жалобу царю отпишем!
Смущаясь, к Юше подошел янский приказный Козьма Лошаков, со вздохами сообщил, что вынужден принять жалобную челобитную от его людей. Они писали якутскому воеводе об обидах и просили любых других служб, только не с Селиверстовым.
— Стахеев с приказчиком Босого переманивают, — попытался ободрить и обнадежить Юшу. — Напиши ответную, я — приму!
Между тем тяжба ватаги с передовщиком принимала дурной оборот. При том, что на Колыму с ее богатыми промыслами рвались все, в покруту к Селиверстову не просились даже самые промотавшиеся из янских гулящих людей: видимо, бывшие спутники запугали их. В негодовании Селиверстов носился по кочам, готовившимся к отплытию, поносно ругал своих беглых и потакавших им торговых людей. Они слушали его с насмешками и злорадными ухмылками.
— Думаете, здесь останусь? — раскатистым басом кричал Селиверстов. — Плохо знаете Юшу! — Бил себя кулаком в грудь. — Один уведу коч на Колыму и приду раньше вас, а там наберу людей сколько надо! — В расчете на будущих послухов добавил: — Я явил в казну пятьдесят пудов кости — я их привезу!
Про себя же думал: «Если Митьку Францбека сменят, не дам ему добытого: он снаряжал меня за казенный счет».
На весеннего Егория в Нижнем зимовье собралось много народу, люди гуляли, кликали весну, и только Селиверстов с верными людьми оставался в одиночестве. Их не звали, при встречах не здоровались. Юша с Артемкой Осиповым так и простоял в стороне, глядя на чужое веселье. Братья Курсовы, тоже сами по себе, занимались своими делами. Сошел лед с реки, очистился ото льда залив. Торговые суда одно за другим уходили с Яны к Святому Носу. Юша негодовал, призывал на них бурю, грозился вывести в море свой тяжелый коч с четырьмя подручными людьми, но вынужден был задержаться на Яне. Его бунтари также околачивались возле Нижнего зимовья. Они не нашли торговых людей, которые приняли бы к себе всю ватажку. Одно дело подразнить Юшу, отмстить за былое, другое — рисковать убытками. Не сразу, но бывальца Гаврилу взяли в покруту ради его сказок о походах к востоку, а с ним одного только Ивашку Обросимова. Остальным селиверстовским охочим и промышленным было отказано.
— Иуды! Вы же нас предали! — корили Гаврилу с Ивашкой бывшие связчики по промыслам. — Вы — главные заводчики против Юши.
— Что делать? — смущенно отвечал Гаврила. — Просил за вас всех, — не взяли. Просите сами!
— Как мы без тебя на Погычу пойдем? — бранились ватажные и в бессилии грозили написать о предательстве связчика царю.
— Пишите! — согласился Гаврила.
Они опять сбросились паевой рухлядью на один рубль, писарь, похмыкивая в бороду, изложил их жалобу теперь уже на Гаврилу, ни словом не упоминая ссоры с Селиверстовым. Приказный Козьма Лошаков почитав, рассмеялся:
— Кто же примет эдакую нелепицу? Порушив крестоцелование, хотели сами идти на Погычу, но не нашли ни коча, ни подъема, а во всех бедах виноват Гаврила, подбивший на побег. Пусть, де, царь за то Гаврилу накажет!
Но мех по уговору был отдан, писарю заплачено, заводилы уже чувствовали себя в очередной раз обманутыми и потребовали челобитную принять. Приказный почесал затылок, покачал головой, грамотку подписал. Юша не ошибся в ожиданиях: бунтовщики проели-пропили добычу и с покорностью вернулись на его суд, обещая впредь служить верно и бунтов не заводить. Из четырнадцати набранных им в Якутском остроге бросили его только трое да толмачка Бырчик-Матрена. Он вышел в море позже всех, надеясь нагнать торговые суда и прийти на Колыму первым. Вначале ему везло. Но попутный ветер, уносивший к восходу Федота Попова и торговые кочи, с каждым днем слабел, за Святым Носом он стал меняться, и Юша успел укрыться в безопасном месте. Артем Осипов по команде кормщика бросил за борт двухпудовый железный якорь, и тут их накрыл густой июльский снегопад.
— Оно и лучше! — петушился Селиверстов, стряхивая снег с бороды. — Един Господь знает, что сейчас терпят торговые суда и где прячутся.
Встречный ветер гнал льдины, они окружали коч. Стоять пришлось неделю и другую. На судне не голодали, не мерзли, стала заканчиваться вода в бочках — топили снег. Ветер все же переменился и отогнал льды. Юша дождался проходных разводий и повел коч на Индигирку. Не дойдя до ее устья, он опять укрылся, чтобы запастись свежей водой, птицей, рыбой и топливом. Здесь его нагнало казенное судно с Лены, им правил именитый мореход-первопроходец Иван Ребров. Когда Юша уходил из Якутского острога, мореход был в немилости у воеводы: не желая кланяться выкресту и о чем-то просить, нес унизительные караульные службы. Из того, что старый казак правил казенным судном, Юша понял — власть переменилась.
— Юшка, что ли? — Ребров подвел свой коч к его борту. — Однако недалеко ушел. Да и куда к лешему выпускать в море после Ильина дня?!
— На пятой неделе был против Яны! — прихвастнул Селиверстов. — Кабы не встречный ветер, добрался бы… А ты на Колыму?
— Туда, на приказ, менять Тимоху Булдакова! — степенно, но без гордыни ответил Ребров, будто шел на рыбную ловлю.
— Вот как?! — удивленно взглянул на него Селиверстов. — Торговые, с дружком твоим, Михейкой Стахеевым, моих людей на Яне к бунтам подстрекали. А я явил воеводе полста пудов рыбьего зуба. Ты на Колыму придешь, взыщи с них!
— Сразу взыщи! — ругнулся Ребров. — Лепятся все, как банные листы. Меня новый воевода послал не только на приказ, но искать новые земли, к полуночи от Яны и Индигирки! А твоего благодетеля-выкреста приставы повезли в Москву под белы рученьки. Проворовался. На Семенов день вступил в воеводство царский стольник Иван Павлович Акинфов. По нашим жалобам вел сыск и описал Митькины животы: рухляди на две тысячи рублей с лишком, денег — почти четыре тысячи, кабал тыщ на семь.
— Туда и дорога благодетелю! — не скрывая радости, просиял Селиверстов, смахнул шапку и размашисто перекрестился. — С меня только вытянул кабал на половину отнятого, Ирод!
Ребров встал на якорь неподалеку от Селиверстова. Бывшие при нем люди спустили на воду лодку с пустой бочкой, с другой стали выставлять сеть. Селиверстов громогласно давал им советы, потом переправился на казенное судно и стал навязчиво, в подробностях, рассказывать, как зимовал. Он так пристально смотрел Реброву в глаза, льнул к его лицу носом, что тот отстранялся, отходил, якобы по делам, Юша же следовал по пятам, беспрестанно жалуясь, ругая торговых и промышленных людей.
— Чем помочь? — двумя руками отстранил его от себя Ребров.
— О чем я тебе сейчас говорил?
— На Колыме разберемся, но и ты помоги мне, сходи в Нижнее Индигирское, к Коське Дунаю с Гришкой Татариновым, передай груз и наказы.
Пристально глядя на нового колымского приказного, Юша скрюченными пальцами подоил бедняцкую бороду и раскричался:
— Как колымский приказный, ты обязан мне помогать, а не принуждать к своим делам! У меня воеводский наказ подвести под государя новые земли!
— А у меня наказ найти их! — Ребров повел глазами в полуночную сторону с призрачной дымкой гор. — И на Индигирку с Алазеей, и колымские дела надо успеть принять. — Рассмеявшись, добавил: — У тебя наказ от прежнего вора Митьки, которого увезли за приставами, а у меня от нынешнего воеводы!
Суда простояли рядом двое суток. За это время Юшин голос так надоел ребровским людям, что они стали лаять его. Но установился свежий попутный ветер, и Селиверстов снялся с якоря.
— Ты первым пришел морем на Индигирку, нижние остроги ставил, ты — приказный, вот и плыви туда сам, по указу! — отказал в просьбе Реброву.
Тот чертыхнулся, но спорить не стал.
— Какие наказы! — оправдываясь перед собой, в голос рыкал Селиверстов. Его люди висели на вожжах, удерживая парус к ветру. Резкая, менявшаяся волна мотала коч, он зарывался в нее тупым носом и шел на восход. — Нам зимовать на Индигирке не с руки!
Ветер и льды вынудили его укрыться в устье Алазеи и простоять там две недели. В Стадухинскую протоку Селиверстов вошел при явной перемене ветра. Его рык был слышен за версту. Помощники суматошно носились по судну, то приспуская, то подбирая парус, и Юша подвел коч к самому зимовью, не намочив весел. За расширенным кем-то частоколом виднелись крыши двух изб и амбара. За время, проведенное Селиверстовым вдали от Колымы, здесь появилось несколько землянок и балаганов. Против них стояли три коча. На берегу толпились люди, изумленно наблюдавшие за галсами Юшиного судна. Все они ждали попутного ветра, чтобы вернуться на Лену.
— Удачлив, бес! — восхищались. — Искусен, как черт у котлов.
От них Юша узнал, что о Стадухине и Моторе известий нет. Два года — не срок, чтобы хоронить товарищей, но не было новых вестей и о Нанандаре — Анадыре, Чауне и Чондоне, за два лета никто туда не ходил, хотя про моржовую кость говорили и колымская цена на нее поднялась. Чтобы продолжить путь, Селиверстову хватило бы и своих людей, после бунта и покаяния они были терпеливы и верны, но он разумно опасался, что если не найдет Стадухина с его полусотней, то зимовка в неведомых местах может стать для него последней. Весть о походе Ивана Баранова на Гижигу не вызывала у Юши любопытства: вернувшиеся оттуда отдали посул, заслужили похвалу приказного, но богатства не добыли. К тому же идти за Камень в верховья Гижиги можно было только весной. Другая новость была не лучше: торговые кочи, зимовавшие на Яне, опередили его. Обстоятельства вынуждали идти к Нижнеколымскому острогу, а значит, зимовать на Колыме.
Мимолетным сном ночного караульного промелькнула короткая колымская осень. Едва не в один день пожелтели лиственницы и березы, заленился комар. В памяти служилых, промышленных и гулящих людей остались многолюдная летняя ярмарка с небывалым обилием товаров, снижение цен на хлеб, а пережитая зима запомнилась началом оскудения соболиных промыслов.
То же самое, только в разное время было на Лене, Яне, Индигирке: пока до Ангары и Енисея доходили слухи об их богатствах, промыслы истощались. Прибывшие люди обеспокоенно шныряли среди бывальцев, выспрашивали о землях и притоках, поили, ласкали, на руках носили старых колымских промышленных. Два Ивашки, Ожегов и Карепанов, постоянно жившие выше Среднего государева зимовья, были окружены почетом, тяжко пьяные, несли нелепицу о Погыче-Анадыре и Гижиге-Чондоне, на каверзные вопросы то помалкивали с видом знатоков, то сопели, под пристальным вниманием любопытных. Ожегов, с лицом в цвет перекаленного кирпича, осерчал, когда в десятый раз спросили про Анадырь.
— Я Мишке с Семкой говорил: на кой вам Погычи-Анадыри, если в верховьях Колымы никто не был? Тьфу на тамошние промыслы и богатство. Нам здесь всего хватает. Лосей много — сажень в холке, таких на Ангаре нет. Птицы, рыбы много, нынче за пуд ржи всего три соболя просили. Попа бы прислали и чего не жить?
— Так нет, — стал вторить товарищу встрепенувшийся Карепанов, — вместо попа шлют служилых, приказных, целовальников, чтобы наводили свой говенный порядок… Как наведут — уйдем на Анадырь или за Камень!
— Ты не шибко-то языком! — опасливо посоветовал кто-то из слушателей.
— Окоротят!
— Тут не Якутский и не Жиганский! — пуще озлился Ожегов. — Пусть тамошние холопы держат язык за зубами. Нам лучше с медведями, чем с вами, пугаными.
— Мы-то что плохого вам сделали? — зароптали слушатели. — Поим, кормим!
Ожегов поводил по сторонам соловыми глазами, не нашелся, что сказать. Иван Карепанов, клевавший носом, опять поднял голову:
— Пять соболей за пуд ржи! Чего не жить? Под конец за три отдавали. А им все мало! Смекаете? — Прищурил глаз и поднял палец. — Соболь — зверь умный! Станете давить без совести — уйдет! И мы уйдем, хоть хлеб подешевел! — икнув, пригрозил кому-то.
К беспокойству прибывших, почти все здешние люди говорили, что соболя стало мало. С одной стороны, боялись спугнуть удачу, с другой — мало на Лене и мало на Колыме сильно разнятся. Проворный Михей Стахеев к возвращению Селиверстова успел сбыть ленский товар, оставил на Колыме новую ватагу покрученников и подался в обратную сторону. Другие торговые, теряя надежду вернуться этим годом, подумывали о зимовке. Ярмарка сворачивалась, но колымский приказный Тимофей Булдаков был в Нижнем.
— Прими жалобную челобитную на Стахеева и торговых людей! — рыкнул Юша, входя в съезжую избу. — Из-за их козней не успел на Погычу по воеводской наказной.
Из-под нависавших на глаза мохнатых бровей Булдаков бросил на бывшего целовальника неприветливый взгляд и указал на образа. Селиверстов посопел с недовольным видом, смахнул шапку, трижды поклонился и перекрестился.
— Пиши! — равнодушно ответил. — Приму! — Булдаков ждал перемены и думал о возвращении.
— Отстал от меня хваленый мореход Ребров с двумя десятками гребцов против моих-то, — прихвастнул Селиверстов, поправляя шапку. — Шел менять тебя, но повернул на Индигирку к Гришке Татаринову и Коське Дунаю.
— С того надо было начинать! — ласковей взглянул на Юшу Булдаков и вернул наказную память, которую внимательно вычитывал. — До замороза осталось недели с две, пойдешь искать Мишку или зазимуешь?
Селиверстов замялся, показывая, что еще не принял решения, хотя от самого стадухинского зимовья тянул время, чтобы задержаться на Колыме. На ярмарку он опоздал, надо было готовить и отправлять людей на промыслы. Как только снесли в амбары животы торгового человека Евдокима Курсова, сам он, угрюмо и печально молчавший весь год, распрямился против Селиверстова и крепким голосом закричал:
— Да чтобы я еще раз с тобой рядом ближе чем за версту нужду справил… Да провалиться бы мне на том самом месте голым задом!
Юша только отмахнулся от надоевшего ему складника: пользу от него он уже получил, а его брат Терентий Курсов заявился промышлять с селиверстовской ватагой.
Именитый мореход Иван Ребров, к Юшиному злорадству, приволокся с Алазеи сухим путем. Его коч был затерт льдами в устье той реки. Только в конце ноября он добрался до Среднеколымского зимовья, оставил на тамошнем приказе Мишку Коновала, а на Святой неделе пришел в Нижний и принял дела у Тимофея Булдакова. На бывшего при Тимофее целовальника торговые люди подали жалобы, новый приказный заменил его Семеном Шубиным и стал принуждать Селиверстова как приверстанного в государеву службу идти в Верхний острожек на приказ: все равно, мол, бездельничаешь.
Юша ждал лета, ярмарки и вестей о Стадухине, по той причине оставить Нижний не хотел, стал совать всем наказную память Францбекова, напирать, что послан подводить под государя неприбранные земли, а не служить на обретенных. Не желая склок, старый мореход принудил Юшу к службе в Нижнем, а сам с целовальником Василием Клеуновым двинулся в Верхний.
Близилась весна. Сквозь морозную хмарь тускло светило холодное солнце, розовели снега и льды, укрывшие реку, синел хребет, за который ушли Стадухин с Моторой, к полудню верещали кедровки и грохотал трескавшийся лед, темнели обдутые ветрами галечниковые острова и прибрежные скалы. Ребров по-хозяйски осматривал заросли топольника и крепкий лиственничный лес, его коч остался на Алазее, нужно было строить новый.
В то время как Селиверстов вел коч с Яны на Колыму, поредевшая ватага Михея Стадухина при противных и боковых ветрах уходила от злосчастной Гижиги. Море было тихим и ласковым, на берегу рядом с выброшенным прибоем льдом зеленела трава и поспешно расцветали ярко-желтые и оранжевые цветы. За зиму люди сшили хороший парус из отмятых кож, но часто приходилось идти своей силой против ветра. Тем летом, приведшим Селиверстова с Яны на Колыму, ватага Стадухина пыталась закрепиться на двух реках и всякий раз сталкивалась с непокорными коряками. Из-за частых нападений заметно убыли порох и свинец, перед каждым выстрелом приходилось думать, стоит ли их тратить. Охочие все чаще отбивались из луков стрелами, пущенными в них коряками, и Стадухин, не желая терять спутников, все дальше уводил их в неведомое. Только оно все еще волновало и радовало ватажного атамана, давало ему силу. После Анадыря он часто вспоминал кабацкого пророка, посулившего славу, богатство и разрядное атаманство: рассеянные, воспаленные глаза гуляки, пьяные слезы: «А намучается-то, не приведи Господи!».
После Семенова дня, когда на другой стороне Великого Камня Юша Селиверстов собирал ватажку для колымских промыслов, здесь дули сырые ветры с частыми дождями. Стылая, черная вода густела, лениво перекатывалась с волны на волну, обдавала солеными брызгами Тарха, стоявшего на носу судна с шестом. Он пристально вглядывался в очертание берега. Ни споров, ни долгих разговоров не было: все понимали, что истекают последние осенние деньки, когда еще можно закрепиться на суше и зазимовать, позже обустроиться будет трудно. Многим из стадухинских спутников здешние места казались гиблыми: зимы с ледяными ветрами менялись сырыми, туманными, холодным летами. В недолгие ясные и теплые недельки лютовал прожорливый гнус. При незамерзавшем море в полосе прилива в июне лежали наносные льдины, озера оттаивали к июлю. Даже чистые раны здесь подолгу гнили не зарастая, а нанесенные костяными наконечниками с отравой губили людей мучительной смертью.
Утробно рокотал прибой, коч мотало. Шли мимо моржовых лежбищ. Их было много, иные по две версты длиной, но даже самые вздорные из промышленных людей уже не желали промышлять рыбий зуб, только издали высматривали клыки у моржей и спорили, какая им цена на Нижнеколымской ярмарке. В глубине души Михею Стадухину была неприятна охота на этих зверей. Он не говорил, что промысел зуба богопротивен, но вразумлял рассуждением, что тратить на добычу клыков порох и свинец — нельзя, а копьем или стрелой моржа не убьешь. К тому же никто не знает, куда приведет Бог, и грузиться впрок клыками опасно.
На Рождество Богородицы коренной берег круто повернул к полуночи. При повороте крутая зыбь прибойных волн ударила в борт, обдавая солеными брызгами, ветер стал прижимать к суше, изрезанной бухтами. В них можно было укрыться, но ватага спешила найти место для зимовки. На Федору-обдеру вошли в залив. До другого мыса было верст двадцать. При противном ветре Стадухин пожалел гребцов и повел коч вдоль низменного восточного берега. Западный был возвышенным, покрытым редким приморским лесом. Приближаясь к нему, Михей высмотрел лагуну, закрытую галечниковым валом, защищавшим устье какой-то речки от морских волн. На намытой дамбе стояли летники, возле них толклись люди, по одежде не походившие на коряков. Стадухин указал гребцам на берег, те обернулись по курсу.
— Ну вот! И лес, и народ ждет нас и государева порядка.
Покачиваясь на зыби, коч дождался прилива, благополучно вошел в лагуну, затем в устье реки. После короткого спора воды начался отлив, речка потекла к морю, под плоским днищем судна заскрежетал галечник, и вскоре оно оказалось на мели. Но едва коч обсох от летников, к нему побежали до полусотни мужиков. Из кедрового стланика выскочила добрая сотня таких же удальцов, ждавших нападения. Все они кричали, размахивали копьями и луками.
— Не коряки, явно! — С любопытством разглядывал их Михей. — По виду ламуты. И так много разом? Будто ждали.
— Наверное, издалека высмотрели, — подсказал Тарх, — хотят пограбить.
— Пожалуй, так! — согласился атаман. — Только вот, почему приняли за врагов, если мы первые?
— Они всех рады пограбить! — шмыгая носом, неприязненно выругался моторинский промышленный.
Михей повел бровями, соглашаясь, что может быть и такое, натянул глубже шапку, привычно скомандовал:
— Готовься к бою!
Укрывшись за бортом, его люди стояли в лужах холодной воды. Подпустив нападавших, дали залп. Стреляли поверх голов, для острастки. Дикие остановились, стали пускать стрелы из луков, но не удивились огненному бою.
— Стреляные, что ли? — посетовал атаман. — Явно ламуты: кожаные халаты нараспашку. Неужто мы и здесь не первые?
Нападения не прекращались пять суток сряду, пока охочие не пленили двух мужиков властного вида. С пятого на десятое по-тунгусски в отряде говорили все. Михей опять удивился: со слов ясырей выходило, будто они думают, что казаки вернулись после того, как были изгнаны. Атаман потребовал от заложников мира и прокричал о том нападавшим. На какое-то время они оставили ватажку в покое, и промышленные начали строить укрепленное зимовье.
— Миловал Бог! — поглядывая на брата, перекрестился Тарх. — Вдруг и дождемся лета. Зимой дикие не горазды воевать.
— Мы здесь не для того, чтобы зимовать! — поправил брата старший Стадухин. — Нам надо осесть надолго. — Помолчав, добавил: — А меня, грешного, так и подмывает плыть дальше.
Той весной, когда Селиверстов готовился вести коч с Яны на Колыму, а Стадухин еще только собирался оставить Гижигу, Анадырь очистился ото льда и стала спадать шалая вода. Пережитая зима была метельной, одну пургу меняла другая. В конце марта, оцинжав от красной рыбы, люди промышляли зайцев и куропаток, лечились и отъедались свежим мясом. Женщины ели его сырым и были здоровы. В заботах о выживании до строительства кочей не доходили руки, о них спохватились только со вскрытием реки. В конце июня к плаванию готово было только одно судно, его и спустили на воду. Женщины сшили парус из оленьих кож, мужчины сплели тросы из кож и корней.
На сходе казаки и промышленные решили, что к бессоновским останкам должен отправиться Семейка Дежнев со старожилами, знавшими, где их искать, и Никита Семенов с беглыми казаками, а от торговых людей — Анисим Костромин. Плыть к морю собирались пятнадцать человек. Другая половина мужчин оставалась при зимовье, охранять добро, женщин с детьми и аманатов, чинить сети, городить реку в шиверах и готовиться к путине. Дежнев и старожилы знали, что Анадырский залив освободится ото льда не раньше июля, потому не спешили. Василий Бугор с Павлом Кокоулиным ругали их, упрекая в лености, вспоминали Мишку Стадухина, не потакавшего лодырям. Никита Семенов разумно помалкивал, полагаясь на бывальцев, Семен Дежнев добродушно посмеивался над крикунами.
По спадающей воде коч сплавился по реке и вышел в залив. Он был чист ото льда. До остатков бессоновских кочей ватажка не дошла. В канун Петрова дня на морской стороне за устьем Анадыря люди увидели мыс, он был черен от моржей. Вода и суша на полверсты шевелились и плескались от множества зверей, уши закладывало от их рева. Дежнев ахал и хлопал себя по ляжкам, Бугор с Кокоулиным восторженно лаялись, Семенов с Костроминым глядели на явленное чудо, раскрыв рты.
— Можно и здесь поискать кость, братцы! — весело крикнул Дежнев. — Это лучше, чем шарить бессоновские остатки в студеной воде!
Он подвел коч к отмели, затопляемой приливом. Такое место промышленные люди обычно называли коргой. Ватажка вытянула судно на сухое место и закрепила. С края корги на песке грелись молодые самцы, еще не пытавшиеся собрать гарем из самок.
— Ступайте с Богом, не до вас! — словно гусей, стал сгонять их с лежек Дежнев, прихлопывая в ладоши.
Они не делали выпадов, не угрожали клыками, но сползли в воду, освобождая проход к матерым самцам. Семен поворошил носком ичига оттаявший под ними песок, нагнулся и поднял обломленный клык. Бугор восторженно заревел, стал рыться в песке и откопал череп с клыками. Куда делась зимняя нерасторопность? Десять дней сряду пятнадцать человек лопатили отмель. Неподолгу, в черед, отдыхали, наспех пекли на углях мясо, ели и снова копали окатыш на оттаявшую глубину. Ниже были вмерзшие кости. С ними не возились, брали то, что сверху. Росла и росла гора клыков против коча. Моржей не били: застрелили пару ревнивцев, не желавших уступать места, их жиром и мясом питались.
— Братцы! Не пора ли возвращаться? — забеспокоился Дежнев. — Не добудем в зиму рыбы — с голоду помрем.
— Успеем еще! — огрызались Костромин с Кокоулиным, продолжая ворошить песок и галечник.
Наконец забеспокоился и Никита Семенов, вскинул на Дежнева озабоченные глаза.
— Не утянем ведь против течения!
— Зачем тянуть? — Дежнев весело блеснул глубокой синевой в морщинистой сетке обгоревших глазниц, ополоснул руки, настойчивей скомандовал: — Все! Пора возвращаться! Без нас рыбой не запасутся… Но зачем тянуть? — повторил, плутовато оглядывая распрямлявшихся товарищей. — Если будем возвращаться морем — мимо не пройдем. Куда они денутся? — кивнул на кучи клыков.
— Ну, нет уж! — в голос заспорили спутники.
— На карачках, но притащу в зимовье и выкуплю кабалы у Мартемьянова, — рыкнул Бугор. — Он их не даст, если кости останутся здесь.
— И я не дам! — поддакнул Костромин, с вызовом глядя на Дежнева.
Тот перекрестился, поплевал через левое плечо.
— Больше двухсот пудов собрали. Еще жир, мясо, кожи!
Его опасения наконец-то дошли до спутников, они стали смущенно стряхивать песок с одежды.
— Не дай Бог — дунет! — Семен с опаской взглянул на небо. — Не угрести!
— Тогда грузим и возвращаемся, — мрачно глядя исподлобья, согласился Кокоулин, нагнувшись, выворотил последний клык, ополоснул в морской воде, бросил в кучу, сунул под мышки красные, мокрые руки.
На берег накатывалась степенная волна прилива. Не отдохнув после тяжких трудов, люди столкнули судно на воду, стали грузить его.
— Поспешим, братцы! — со страхом оглядывая высокое ясное небо, поторапливал Фома Пермяк. — Так же было, когда нас унесло.
— До озера дойдем, там безопасней! — вторил ему Дежнев, не любивший всякой спешки.
Бури не случилось, при безветрии они дотянули коч до озера.
— Бог милует! — сдержанно радовался и крестился Дежнев. — Если выберусь на Лену с богатством — сделаю вклад в церковь!
— Попы про нас забыли, — сварливо ворчал Костромин. — Ни в живе, ни в покое, поди, не поминают!
— Молчи! — опасливо шикнул на него Дежнев. — На всех беду накличешь! — Стал отвешивать поясные поклоны на восход и свой след, откуда шли: — Господи, помилуй нас, грешных!
До озера, возле которого он прожил первую и самую трудную зиму, вести груженый коч помогал прилив, течение реки ощущалось плечами только во время отлива. Дальше тянуть судно стало трудней. Полтора десятка казаков и промышленных людей, едва живые от усталости, но счастливые и радостные, продолжали путь. Василий Бугор на привалах падал, хватал воздух ртом в седой бороде и не вспоминал зарок — тянуть привалившее богатство на карачках. Кокоулин зажимал ладонью открывшуюся рану. Дежнев хромал больше обычного, опирался на посох, потом на костыли, вскоре стал постанывать:
— Все равно не поспеть к рыбе! Надорвем жилы. Надо отправить посыльного, пусть приведет подмогу!
— По жребию? — задыхаясь, спросил Бугор.
Дежнев окинул спутников пытливым взглядом: лучше других выглядели долговязый Артемка Солдат и крепко скроенный, осторожный Федька Ветошка. Будто получив от них поддержку, предложил:
— Иди ты или Пашка! Мы еще ничего!
— Я тоже ничего! — смущенно заспорил Бугор. — Иди, Пашка! Тебе тяжельше. Я что? Отдышусь и дальше. Поспать бы, да хлеба или белой рыбки. — Скривился: — Приелась моржатина.
Кокоулин приволокся к зимовью, когда мимо него в верховья реки шла на нерест рыба. Рана на ноге сильно кровоточила, Пашка опирался на сучковатые костыли и вблизи изб упал без сил. Его увидели беглые казаки Васильев и Лютко Яковлев, бывшие при аманатах. Юшка Трофимов и торговый человек Анисим Мартемьянов чинили сети, остальные запасались красной рыбой. Услышав от Кокоулина о найденной корге и богатстве, которое тянули к зимовью четырнадцать доброхотов, все зимовейщики побросали дела и побежали на помощь бурлакам. С женщинами, детьми и аманатами остались Казанец, Кокоулин и Мартемьянов. Глядя вслед, уходившим с ошалевшими глазами, купец с волнением прикидывал, сколько зуба возьмет с должников. Возле устья белой реки дежневские бурлаки окончательно выбились из сил, развели костер на сухом месте тундрового берега, пекли на рожнах мясо и красную рыбу, варили кашу из икры, отдыхали, ожидая помощи.
— Что добыли? — с ходу стал выспрашивать Данила Филиппов, прибежав первым. — Зараза сказал, пудов двести заморной кости?!
— Могли взять больше, тянуть не по силам! — Указал на привязанный коч Никита Семенов.
— Тамошнего рыбьего зуба всем хватит! — отвечал на его приветствия и расспросы Дежнев. — Мяса тоже! — Спохватился, приглашая прибывших к костру: — Ешьте! Глаза бы наши на него не глядели.
Артем Солдат со смехом задрал подол неопоясанной кожаной рубахи, показал ребра.
— Моржатина жирна, а отощали хуже, чем на заморной рыбе.
— Мешать надо: мясо жирное, рыба сухая. Бабы в зимовье делают варку — толченую с вареной.
Пришедшие на подмогу влезли на коч, пересмотрели добытую кость. Глаза их горели от долгожданной удачи.
— Зверя возле мыса несчитано, — посмеивался Дежнев. — За день можно запастись мясом на всю зиму.
— В другой раз женок возьмем, — щуря приуженные глаза, гоготал Фома Пермяк. — Отъедятся в зиму — двумя руками не обхватишь. Моя за один присест полпуда сметет.
Глядя на насытившихся помощников, Никита Семенов поторопил:
— Впрягайтесь, что ли! Чем быстрей доберемся до зимовья, тем лучше!
Два с половиной десятка бурлаков бечевой, шестами и парусом при попутных ветрах привели коч к зимовью. Нападений не было. Навстречу им выкатился Анисим Мартемьянов, на ходу он крестился и кланялся на восход, обметая чуни густой бородой. За ним толпой шли женщины с детьми. Из открытой двери высматривал прибывших Кокоулин. Коч притянули к берегу, не отдохнув, стали носить моржовые клыки в амбар. Анисим Мартемьянов подрагивавшими пальцами щупал заморные и свежие кости, бормотал благодарственные молитвы, приценивался. Пока казаки и промышленные разгружали судно, женщины развели костер, навесили котлы, стали варить привезенный жир.
— Рыба во всю идет! — жаловался Анисим. — А мы что можем? Только караулить. Много ли с бабами запасешь? — Бросил неприязненный взгляд на скакавших возле костра женщин. — Прошлогодние ямы оттаяли. Весной их мхом не завалили, они наполнились водой и обвалились. Надо новые долбить, а не с кем.
По оценке прибывших, зимовейщики с женщинами не так уж плохо поработали: рыба была свалена в короба, на вешалах сушилась юкола, в холодке стояли бочки, перепачканные икрой. Разговор о дележе добычи начался еще в пути, но, добравшись до зимовья, все решили заняться им после путины. Едва река снабдила людей основной едой, тундра покрылась шапками грибов. Их тоже запасали, потом ягоды, ставили вино к праздникам. В середине августа управились с насущными делами и решили, что плыть на коргу другой раз поздно.
— Мишки Стадухина на нас нет! — ворчал Бугор, хотя сам в низовья реки не рвался. — Соль парить надо!
— Пошлем полдесятка казаков, напарят.
— Не о том думаем, — кипятился Мартемьянов и в две руки пушил бороду. — Рыбий зуб взвесили, разложили по паям. По здешним ценам его оказалось на две с половиной тысячи!
— На три! — стали азартно рядиться казаки и промышленные.
Торговые люди, Костромин с Мартемьяновым не соглашаясь, приценивались, перевешивали клыки, напоминали, что на Колыму их везти не бесплатно, а здесь они что кочки или камни, бесполезный груз. После долгих споров сошлись на трех тысячах. Едва Дежнев напомнил, что надо отложить десятину казне, да про его и моторинский посулы, лица связчиков вытянулись, стали суровыми, как на иконах, в следующий миг они закричали:
— Что останется нам?
— Сам подстрекал на корге, чтобы сложить кучей, в зимовье не везти! — сердясь, выкрикивал Бугор.
Семен смущенно улыбнулся, вздохнул, повел глазами по потолку.
— Как скажете! — согласился. — Сколько положим в казну?
— Три пуда! — с вызовом выкрикнул Бугор. — Ей и того много! — Что мы от казны получали? А ничего! Который год без жалованья.
Бугра поддержали все зимовейщики, отмолчался даже Никита Семенов.
— Может быть, хотя бы, пудиков десять? — Смущенно предложил Семен и, услышав недовольный ропот, пожал плечами. — Как скажете. Три так три!
Глаза Бугра, на посеченном морщинами лице, потеплели. Делили привезенную кость поровну. По паям выходило около ста рублей на брата.
— Всего-то? — удивленно переговаривались беглые казаки и промышленные. — С чего думали, что разбогатели?
— Да там этих зубов тысячи пудов, — вразумлял их Дежнев севшим голосом. — Построим кочи, другим летом догрузимся. Даст Бог — вернемся на Колыму морем, а нет, так потянем через горы пудов по тридцать на брата. На ярмарке продадим вдвое дороже!
— Там и дадим десятину, — смиряясь, проворчал Бугор.
Весь его пай переходил к Мартемьянову в обмен на кабалы, данные перед походами на Погычу, потом на Анадырь. Где-то гуляли по рукам другие долговые записи, выданные в Жиганах, на Яне и Индигирке.
— Разве это богатство? — бормотал он, сжигая кабальные грамоты. — На Колыме соболей-рублей добывали больше.
— Так ведь там за ними бегать надо в самые холода! — терпеливо укорял его Дежнев. — А тут зиму брюхо чесали у очагов, женок тискали, богатство само пришло в руки за один месяц. В другой раз пойдем тремя кочами, возьмем втрое больше.
— Надо делать четыре! — буркнул Мартемьянов, разглядывая полученные клыки.
— Не выгрести во льдах по шесть пар рук на судно! — Дежнев болезненно поморщился, вспомнив былое, печально мотнул головой.
— Возле Носа против островов — как из трубы дует! — поддакнул Фома Пермяк, один из трех последних спутников по походу с Колымы.
После дележа и расчета души анадырских зимовейщиков привычно возалкали веселья, но поставленное вино еще только квасилось. Бугор, оттопырив губу, плеснул ложкой на язык, поморщился и сплюнул:
— Хмеля нет, но кислит!
От души веселились только женки, отъедаясь свежей рыбой и икрой.
— Ничего! — утешал себя Бугор. — Если даст Бог вернуться на Колыму, отгуляемся. Отчего-то богатство меня не любит, — жаловался Казанцу.
Стадухинский писарь не спорил, не торговался, равнодушно и даже с печалью глядел на дележ добычи, взял свою долю, и на его скупом улыбками лице чуть дрогнули уголки губ. Он расплатился с долгами, вздохнул, обернулся к Бугру и доверительно спросил с такой тоской в глазах, от которой у того похолодело в животе:
— Васенька? Неужто мы шли на край света только за богатством?
Беглый казак замер, изумленно глядя на него, потом охнул, сморщился, обхватил голову руками, застонал:
— Забыл! Совсем забыл, Господи! Как терпишь ты меня, погрязшего во грехах?
Весна застала Селиверстова в Нижнеколымском остроге в обычной для этого времени осаде от чукчей. Из старых казаков здесь был только Пашка Левонтьев, при зазимовавших торговых людях и целовальнике Семене Шубине ютились с десяток прожившихся гулящих людей. Застать острожников врасплох нападавшим не удалось. На подходе, вблизи надолбов, Юша, высунувшись из-за тына, и так потряс чукчей громовыми ругательствами, что пыла у нападавших убавилось. Пашка умело использовал заминку и устроил защиту силами бывших при нем людей. Вскоре олени перекопытили снежный наст, объели без того редкий мох, а из ближайших зимовий стали выходить первые промысловые ватажки. Чукчи сняли осаду и верхами ушли на свою речку. Пострадал один Пашка Левонтьев: тяжелая чукотская стрела, пущенная из бронебойного лука, сбила с него шапку и глубоко распорола холеную лысину. Товарищи смеялись и язвили, что сходству со святым угодником пришел конец. Пашка был не на шутку встревожен раной, каждое утро и на ночь посыпал ее свежей золой, перед сном прикладывал Библию. Селиверстов попытался собрать отряд для преследования, но люди за ним не шли.
— От государева дела отлыниваете! — грозил он жалобами и прельщал царской милостью.
— Нашей кровью хочешь выслужить себе милости! — досадливо ворчали гулящие и промышленные.
— Почему вашей? — кипятился Юша, удивленно вскидывая брови.
— Нам от царя с воеводами одна милость: кнут да дыба!
Как охочий, имевший наказ подводить под государя новые народы, Юша хотел наказать немирных чукчей, но воевать задарма не желали даже его повинные в янском бунте люди, а взять с чукчей на погроме было нечего. Их даже не пытались подводить под государя, поскольку соболей и лис они не добывали, выкупа за пленных не давали, предпочитая смерть позору неволи. Пока посулами и угрозами Юша пытался собрать отряд, оттаяла тундра, превратившись в бесконечное множество озер и сырых перемычек кочкарника, идти туда стало не только опасно, но и бессмысленно.
Очистились реки, южные ветры отогнали льды от морского берега, с Индигирки пришли первые торговые кочи. По слухам и предположениям, товаров на Нижнеколымскую ярмарку везлось так много, что ожидалось очередное снижение цен. Прожиточные промышленные люди не торопились расставаться с добытой рухлядью и выжидали. Селиверстов был обеспокоен таким поворотом торговых дел, спешно менял на хлеб рухлядь у тех, кому ждать ярмарки было невмочь, идти же по указу морем на Погычу-Анадырь не спешил. С верховий реки сплыл колымский приказный Иван Ребров и удивился, что Юша все еще при остроге. Сам с верными людьми он собирался за море, искать неведомые полуночные земли.
— Что сидишь? — спросил охочего.
— Тебя жду, — не растерялся Селиверстов. — Дай толмачку Алевайку. Она знает языки и море ей в обычай.
— Сдурел, что ли? — выругался Ребров. — Моя толмачка, живет у меня в женках, я ее всему учил?!
— Никто из моих толмачить не может, — стал скандально кричать Селиверстов, призывая в свидетели послухов. — Иные только по-якутски понимают! — Без толмача идти морем никак нельзя!
— Тогда сиди! — обругал его Ребров и занялся делами.
Угрожая отправить воеводе жалобную челобитную, Селиверстов побежал искать писаря. Приказный только презрительно плюнул ему вслед. В тот же день Юша положил перед ним жалобу, в которой оправдывался, что не пошел морем в места, о которых говорил в Якутском остроге, потому что нет толмача, и во всем обвинял приказного. Ребров прочитал челобитную, неприязненно рассмеялся, принял ее к делу с другими грамотами и передал Семену Шубину. Смененный целовальником Василием Клеуновым, Шубин собирался в Якутский острог.
Промышленные с дальних станов приносили вести, будоражившие души колымчан: будто в верховьях Анюя появились люди Михайлы Стадухина. Во что бы то ни стало Селиверстов решил дождаться встречи с ними. Его устраивало даже то, что Ребров отобрал у него казенный коч и ушел на нем в море. Вскоре с верховий Анюя приплыли на плоту беглый казак Данила Филиппов и торговый человек Анисим Мартемьянов. Ступив на берег, Анисим пал на колени и стал отбивать обетные поклоны. К ним сбежались бывшие в остроге люди, помогли вытянуть плот на сухое. Анисим же же, цепляя бородой намытый весной сор, все бил и бил лбом о землю, отсчитывая обещанные пять сотен. Данила Филиппов, низко сгибаясь в пояснице, семижды поклонился на крест над распахнутыми воротами и по просьбе собравшихся стал развязывать мешки с моржовыми клыками. Приострожные люди сгрудились и топтались возле них, едва не наступая Анисиму на бороду. Юша и ребровский целовальник Василий Клеунов не могли сдержаться и выждать, когда к ним в съезжую избу приведут прибывших, сами вышли на берег. Малорослый Селиверстов попробовал протиснуться вглубь толпы с одного бока, с другого, перескочил через Анисима и пробился в первый ряд, чтобы видеть все своими глазами. Данила подавал кости. Заморные, коричневые, с причудливым узором прожилок, они переходили из рук в руки, вызывая шумные восторги. Василий Клеунов распорядился нести весы и тут же взвесить рыбий зуб. Его оказалось сорок пудов с гривенкой. Тридцать шесть принадлежали Анисиму, который, отбив поклоны, распластался на земле и, вздрагивая всем телом, проливал радостные слезы. Пуд с гривенкой Семейка Дежнев отправил для показа властям, два пуда положил на хлеб и сусленки, два — принадлежали беглому казаку. С Анисимом и Данилой были доставлены с Анадыря первые грамоты и челобитные. Юша Селиверстов жадно выспрашивал про реку, Михайлу Стадухина, про коргу, найденную Дежневым. Данила, сам не ходивший на моржовый промысел, как умел, описывал лежбище моржей, простодушно отвечал на вопросы, наслаждался теплом и хлебом, который был в остроге даже весной. Вот уж истинно менялись времена: он по кусочку отщипывал от ломтя в четверть краюхи, расправляя усы, закладывал в рот, благостно щурился, неспешно жевал и бормотал:
— Полтора года ни крошки! Почти на одной заморной рыбе. Хлеб снился прелестней, чем девка в молодости.
Селиверстова его откровения не трогали, он спрашивал и переспрашивал про сухой путь, про залив и отмель с моржами, подливал прибывшим квасу, отламывал новый ломоть. Наевшись, казак привычно завернулся в просохшую парку, прогоркло вонявшую золой и потом, улегся на лавке. Отдохнув, с чувством и расстановкой парился в бане и все отвечал и отвечал то на глупые, то на каверзные расспросы, не понимая, с чего ему такая честь. Кость перевезли через горы нанятые Мартемьяновым ходынцы. Со всего груза Клеунов взял десятину лучшими клыками, принял в казну пуд с гривенкой для государя, затем собрал всех бывших возле острога торговых людей, и они оценили заморные клыки по пятнадцать рублей за пуд.
— Тысячу вложил, половину получил! — слезно всхлипывал Анисим. — Остальное в кабальных записях на людей, от которых другой год ни слуху ни духу. Такое наше торговое счастье!
Семен Шубин, готовившийся к плаванью на Лену на своем коче, купил у Анисима кость по колымской цене и стал уговаривать беглого казака плыть с ним в Якутский острог.
— Ага! — мялся Данила. — Доброй волей под воеводские батоги? Слыхал, против нас объявили сыск, у кого какое добро осталось — забрали в казну. А на мне кабала. Нет уж! С приставами отправят — сбегу… Лучше здесь, при гарнизоне, служить без жалованья.
— Дурак! — весело потирал руки бывший целовальник. — Тебе воевода все простит: чарку нальет, за кость заплатит. Что воевода? К царю поедешь, уж тот-то наградит…
— Кнутом?
— Ну и дурак! Атаманским жалованьем.
Нескоро удалось убедить Данилу, что он совершил геройство. Видя всеобщее расположение, казак поверил, что в Якутском остроге его могут принять без батогов. Он не скрывал пути на Анадырь. По его словам, выйти туда с верховий Большого Анюя проще простого: выше леса станет пропадать ключ — идти на полдень, чтобы солнце на восходе светило в левое ухо и тень по правую руку. И так до верховий Анадыря — реки горной, скалистой, с долиной глубокой. Она приведет к Семейке и Никите, их стороной не обойти. Правда, меж верховий Анюя и Анадыря плоскостина с одинаковыми пупами, меж которых можно плутать, пока не помрешь. Потому если солнца нет, лучше сидеть… А солнца может не быть долго, и дров на плоскогорье нет.
Промелькнуло короткое лето с ярмаркой. Как повелось, на нее съезжались не только колымские промышленные и ясачники, но и вольные инородцы с других рек. Расписанные лица ходынцев, татуированные родовыми знаками щеки анюйских и алазейских юкагиров были привычны для завсегдаев торгов и не вызывали любопытства. Ради торга здесь терпели и скандальных чукчей. Пуд ржаной муки уже отдавали за четыре хороших соболя. Залежалую, с жучком — за три.
Селиверстов прибыльно торговал, Семен Шубин с анадырской костью и беглым казаком Данилкой приближался к Лене. Коч Ивана Реброва носило неведомо где. Ко времени ледостава он не вернулся.
— Утоп! — забеспокоился Селиверстов. — Вот тебе, дедушка, и лучший, самый именитый из мореходов.
Но с Алазеи сухим путем вышел сменщик Ивана Реброва на Колымском приказе казак-пятидесятник Иван Кожин и принял Нижний острог. В это время на другой стороне Великого Камня густо парило не застывающее в зиму море. Осенью стадухинская ватага взяла от местных ламутов надежных аманатов и наложила на их роды ясак. На какое-то время нападения прекратились, избу с нагороднями укрепили высоким тыном.
Пришла зима. Жгучие ветры с гор наметали сугробы в рост человека, сырые, с моря, покрывали их настом. Чувал в зимовье топился беспрестанно. Ламуты ушли от устья еще до холодов. Михей Стадухин не чувствовал зла, но строго следил, чтобы караульные не теряли бдительности. Похоронив шестерых товарищей на Гижиге, он уже не верил самому себе. Стаял снег, очистилась река, злоба и ненависть затлели со всех сторон суши, только с морской веяло равнодушием и прохладой. Предчувствия не обманули атамана: забыв прежние клятвы, ламуты снова подступили к зимовью, а вскоре редкие постреливания из леса сменились осадой. Охочие привычно отбивались, ходили на погромы в ламутские селения, аманатили, принимали новые клятвы.
Среди лета Михей Стадухин решил осмотреть ближайшие реки. Он оставил в зимовье брата с надежными людьми, при тихой погоде и отливе с шестью товарищами вышел из устья реки в залив. Ветер сносил коч в открытое море, гребцам приходилось изо всех сил налегать на весла, чтобы удерживать судно возле берега. Они шли в полуденную сторону к следующей реке и вскоре увидели намытую волнами кошку из окатыша. С приливом вошли в лагуну и поднялись к устью. Еще издали место показалось Стадухину обжитым. Вблизи открылось множество пней, не почерневших на срубе, затем — обгоревшие венцы избы, щетинившиеся остатки частокола и надолбов.
— Эвон кресты у леса! — указал Матюшка Калин.
Михей перевел глаза, увидел их, не тронутые огнем: желтые, нестарые, одиноко скрытые зелеными ветвями деревьев. Коч подвели к берегу, бросили якорь, дождались отлива. Из лесу никто не выходил, места были пустынными. Судно обсохло, мореходы спустились на илистое обнажившееся дно, обошли не сильно заросшую травой гарь. Это было русское зимовье.
— Года два, не больше, как ушли или были перебиты! — при унылом молчании товарищей пробормотал Михей. — Может быть, незадолго до нас.
— С нашей стороны никто не мог прийти! — Матюшка скинул шапку, перекрестился. — Знать, оттуда приплыли! — Кивнул на полдень и направился к холмикам могил, из которых сиротливо торчали добротные тесаные кресты.
На уровне нижних перекладин на них были вырезаны крестильные имена усопших и убитых: «Яшка — сам помер», «Иван — убит», «Иван — убит», «Ермила — убит». Сначала надписи не сказали ничего, кроме того, что здесь были свои, русские люди. Михей склонился к одному из крестов, потрогал пальцами вырезы, прочитал вслух: «Ермила».
— Ермила! Ермила! — спохватившись, сипло забормотал севшим голосом.
— Не Васильев ли? Казак Ермила Васильев, уходил в полку Васьки Пояркова? Если он, то куда же нас бес привел? — Помолчав, нахлобучил шапку, горько усмехнулся: — И тут не первые! Вот ведь как нечистый посмеялся! Видать, набрехал ленский пропойца, пророча атаманство, славу и богатство. Ирод! — Он тяжко и прерывисто вздохнул: — Наатаманился я что-то! — Поскорей бы Господь прибрал, что ли! — Поднял лицо к низкому бусящему небу. — Там, поди, скажут, зачем все было… — Обвел спутников рассеянным взглядом. — Перед тем как отправить к чертям, должны же объяснить, кто так сладко прельщал. Иначе как?
На том разведка берега была закончена. Коч вернулся к зимовью и был поставлен на поката. Михей Стадухин как-то разом сник и замкнулся, стал подолгу валяться на нарах, никого ни к чему не принуждая. Когда чувствовал опасность, поднимал людей, без ярости отбивал нападения и снова ложился, рассматривая незрячими глазами расщепленные бревна кровли.
Безнадежная для Стадухина зима на южной стороне Великого Камня, на его северной стороне была полна радостных ожиданий для Юши Селиверстова. Обнадеживая людей дальним походом в неведомые земли, ссужая их хлебом, ему удалось собрать в покруту десяток гулящих людей. Со своими присмиревшими охочими и промышленными у него набирался отряд. К нему примкнул передовщик Степан Вилюй с вольной ватажкой своеуженников, чтобы идти на Анадырь, к брату Василию, ушедшему со Стадухиным. Это был уговор на весну, а до тех пор все они решили соболевать на небогатых промыслах, которые были на пути к Анадырю. Юша с нетерпением ждал наста и уже в феврале, на святого мученика Власия, стал собираться. Целовальник внес о том запись в книгу, а приказный выдал в разное время доставленные купцами указы воевод: и о высылке в Якутский острог беглых казаков, и о помиловании, о назначении казака Михея Стадухина анадырским приказным. Беглецы, служившие на Колыме, здешними властями не выдавались, поскольку были нужны на месте. Но указ есть указ: о том, что грамоты переданы Селиверстову, целовальник и приказный сделали записи, и дело было исполнено.
На Тимофея-весновея Юша с частью своих людей был в устье Анюя. Нанятые им гулящие под началом верного Артема Осипова потянули караван нарт с хлебом и товарами. В верховьях реки чуницы Вилюя и Осипова стали челночить их. Наст был крепок, как камень, ледяной ветер дул то в спину, то в бок. Селиверстов налегке прокладывал путь, вспоминая наставления Данилы Филиппова, часто сверял направление по компасу. За ним, не знавшим сомнений, медленно, но верно двигался караван нарт с товарами и мукой. Почти не блуждая, Юша вышел к каменистой пади с застывшим ручьем. Прежние путники поставили здесь крест.
В конце апреля, на мучеников Евсея и Савву Стратилата, ватага вышла к зимовью из пяти изб с полудюжиной амбаров. Селение не было защищено ни частоколом, ни даже надолбами от оленных всадников. Похоже, здешние люди жили привольно и безопасно, не выставляя караулов. Два десятка мужчин и два десятка женщин с прижитыми детьми высыпали из изб, с любопытством уставились на приближавшихся русских людей. Самые нетерпеливые бросились навстречу. Юша издали узнал сутулого Кокоулина, близоруко щурившегося Василия Бугра. Семейка Дежнев, сбив на лоб шапку и улыбаясь, зашагал навстречу. На подходе Федька Ветошка высмотрел из-под ладони впередиидущего и крикнул:
— Да это же Юшка, стадухинский целовальник!
Анадырцы и колымчане смешались. Зимовейщики с веявшим от них теплом жилья взяли из озябших рук бечевы нарт, поволокли к избам. Узнав, что везут хлеб, весело загалдели. Стадухинскую избу тут же освободили для людей Селиверстова, частью развели их по своим домам. Уставшим от долгого перехода радостная встреча, тепло, вареная красная рыба с душком казались намоленным счастьем. Над поселком завитал праздничный дух пекущихся лепешек. Последний раз здесь ели хлеб во времена двоевластия Стадухина и Моторы. Селиверстов сидел в казачьей избе, окруженный беглыми казаками, которых хорошо знал, рассказывал о Колыме, Лене, о Данилке Филиппове и Анисиме Мартемьянове, указавших путь на Анадырь.
— Значит, Мотора помер? — отогревшись, переспросил, хотя знал об этом от Данилки.
— Убит! — Дежнев со вздохом наложил крест на грудь.
Он не видел Селиверстова больше десяти лет, а до того встречались редко, но трубный, раскатистый голос запомнился ему со времен осады Ленского острога, когда Юша привел на подмогу осажденным промышленных людей. У Селиверстова же остались в памяти открытое лицо казака и светло-голубые глаза, светящиеся щенячьей верой в счастье. От прежнего новика с половинным жалованьем остались разве они, да и те были подернуты хмарью усталости. Скулы стянуло вечное бесхлебье, изуродованный шрамами лоб закрыт подрезанной челкой, свисающей на глаза, к тому же казак хромал, одна рука сохла и висла. «И дал же Бог добыть без малого триста пудов рыбьего зуба» — с завистью разглядывал его Юша.
— Прошлое лето не промышляли! — доверительно рассказывал Дежнев, искоса глядя на гостя сквозь пряди нависших волос. — Делали коломенку. И время было непутевым: то дождь, то снег…
— Могли бы зимой, через горы, отправить хотя бы государеву десятину, — вкрадчиво пожурил Селиверстов и, приметив перемену в лице Дежнева, сообщил: — Я привез наказную память воеводы, чтобы на Анадыре быть приказным Мишке Стадухину, а Мотору выслать в Якутский на сыск. Васька Власьев за самовольство уже наказан. — Поводив по сторонам глазами, громче спросил притихших людей: — Сколько отложили в казну?
— Три пудика! — вместо Дежнева ответил Никита Семенов, хмуро наблюдавший за гостем.
На Лене, Яне и Колыме ему не раз приходилось сталкиваться с напористым целовальником. До драк не доходило, и оттого на душе казака была досада. Давнее озлобление не унялось и при новой встрече. За сказанным об обвинении Власьева и Моторы должны были последовать другие дурные вести.
— Убытки казне! — посетовал Селиверстов. — Двадцать пять пудиков утаили, — с пониманием ухмыльнулся и предъявил казакам наказную память воеводы.
В красном углу, под образами, плечом к плечу сидели Никита Семенов и Семен Дежнев. Справа от Никиты — беглые казаки: Федот Ветошка, Василий Бугор, Евсей Павлов, Павел Кокоулин, Артемий Солдат, Дмитрий Васильев, Лютко Яковлев, на стороне Дежнева — торговые и промышленные люди: Фома Пермяк, Анисим Костромин. Остальные в другой избе привечали прибывших.
— Надо бы за Казанцем сходить, он горазд читать! — Дежнев схватился было за шапку. — Или ты, Пашка, прочтешь? — спросил Кокоулина.
— Казанец лучше! — отговорился беглый казак. Поднялся, горбясь, как рассерженный кот, покрылся шапкой, вышел и вернулся с Иваном.
Тот окинул сидевших подслеповатым взглядом, еще раз кивнул Селиверстову, взял грамоту, подошел к оконцу, стал читать медленно, вдумчиво, раз и другой перечитывая непонятное. В избе было тихо. Казаки с замершими лицами и тусклыми глазами о чем-то напряженно думали, Юша ерзал на лавке. При общем молчании Казанец свернул свиток и вернул Селиверстову. Семен Дежнев рассеянно пожал плечами, улыбнулся и первым нарушил недоуменное молчание:
— А я думал, перемену мне прислали! Устал… Пятый год здесь. Из Ленского ушел — тому тринадцатый!
— Я и пришел на перемену! — приглушенно рокотнул Селиверстов.
— Не понял! — фыркнул Федька Ветошка. — Мотора убит, Стадухина нет, тебя послали морем на реки, о которых мы слышали от коряков, — окинул озадаченным взглядом Ивана Казанца и беглых казаков, бывших в стадухинском походе.
— Ты Стадухину на перемену или что? — испытующе зыркнул на Селиверстова из-под бровей Пашка Кокоулин.
— У тебя наказ плыть морем, брать кость, прибирать новые земли! — хриплым подрагивавшим голосом пояснил Никита Семенов и сердито рассмеялся. — На Анадыре кого надо мы уже подвели под государеву руку.
Селиверстов вперился в него леденящим взглядом, будто тот сказал что-то непотребное. Смотрел долго и пронзительно. Никита отвечал таким же, пока Юша не перевел глаза в сторону.
— А то, что до прошлого года не могли никого послать на Колыму, нашей вины нет, — стараясь сгладить неловкость встречи, стал обстоятельно объяснять Дежнев. — Из девяти десятков ходивших в обход Великого Камня спаслось всего ничего, нынче остались — я да здесь двое. Один ушел с Мишкой… Этим летом мы собирались вернуться, делали кочи, — стал оправдываться. — А через горы на Колыму везти кости ни сил, ни кормов нет. Данилку и Аниську с ходынцами отправили подъемом Мартемьянова. Под них аманатов держим… И ходили-то на коргу один только раз.
— Много там кости? — вкрадчиво спросил Селиверстов.
— Всем хватит! — простодушно ответил Дежнев, а Никита Семенов засопел, раздраженно щурясь.
Юша стал дотошно выспрашивать, какая из себя корга. Ответы слушал внимательно и все качал головой, будто в чем-то сомневался. Вскинул глаза на Василия Бугра, перевел на Ивана Казанца, затем на Евсея Павлова, бывших с ним и со Стадухиным в последнем морском походе. На Ветошку глядеть не пожелал.
— Не та ли, на которой мы кость брали?
Ветошка раздраженно проворчал:
— Все они одна на другую похожи!
— За семь ден сюда не доплыть! — не с добром скривился Никита. — Что напраслину-то мелешь?
Селиверстов не удостоил его взгляда и ожидая ответа от бывших спутников, небрежно обронил, глядя на Казанца:
— При том ветре, что был, не спуская парус, больше тысячи верст могли пройти!
Бугор с остекленевшими глазами и удивленным лицом долго соображал, что ответить. Потом пожал плечами, прокашлявшись, кратко просипел:
— Коряки говорили: Нанандара далеко, а близко больших рек нет!
— Там были скалы у воды, за ними каменистая тундра, не так, как здесь, — наконец ответил Казанец. — И устья реки не могли не заметить.
— О чем говорите? — возмутился Дежнев, резким движением смахивая волосы с загоревшихся глаз. Они сверкнули пристально и напористо. — Если про ту коргу, с которой нас чукчи выбили, так прежде нее был каменный мыс, выперший в море, против него остров с зубатыми людьми. За мысом суша пошла на закат, и крепость там, на скале, из камня и китовых костей…
— Мы этих крепостей не меньше вашего видели! — не глядя на него, приглушенно пророкотал Селиверстов. В голосе Казанца он уловил неуверенность, отметил про себя, что в ватажке есть распри. Якобы примиряясь, терпеливо и снисходительно, как детям, стал объяснять: — Ну кто вы? Семейке Дежневу и Федоту Попову дал отпускную грамоту Вторка Гаврилов, который сидел на приказе без права, потому что Зырян погиб. Да и нет ее у вас, сами сказали, у Попова осталась. На Колыме говорят, Семейка Дежнев пять лет скрывается от служб, государев ясак не берет, народов под высокую руку не подводит. Власьев послал Мотору — его убили! Ты служишь по его отпускной, — усмехнувшись, кивнул Дежневу. — Мишка Стадухин ушел на Пенжину… — Выдержав долгую паузу, объявил: — Значит, мне должно править по его наказной памяти!
— Мишка — казак! А ты кто? С каких пор целовальники служилыми правят? — вскрикнул Никита. — Народ у тебя есть, хлеба много, — отрезал, неприязненно глядя на Селиверстова и обрывая туманный разговор. — Тропи путь на Колыму, вози кость, а мы будем ее добывать!
Юша с терпеливой важностью взглянул на него и покачал головой:
— И промышлять, и возить будем вместе! Дело государево, и вы мне в нем поможете. Я явил казне полсотни пудов, своих денег да заемных вложил без счета.
Беглые казаки притихли, стараясь понять, чего втайне добивается бывший целовальник. Селиверстов обвел их немигающим взглядом и решительно повторил:
— Мотора убит, Стадухин ушел, значит, мне быть приказным по его наказной памяти, потому что я нынче приверстан в служилые без государева жалованья.
— Читали твою отпускную грамоту! — опять возмутился Никита Семенов. — В ней ни слова о том, чтобы ты менял Мишку. — Голос беглого казака звучал громко и скандально. — Слышали от твоих промышленных, что Митька Францбеков — вор, за приставами в Москву отправлен на сыск, а потому нам его указы по среднему месту!
Семен Дежнев, положив руку на плечо товарища, стал успокаивать зароптавших казаков и Селиверстова:
— Добудешь свое! Мы поможем. Дали уже стадухинскую избу, амбар. Струги успевай делать сам. — Помолчав с напряженной улыбкой, добавил твердым голосом: — А на приказ у нас сход ставит!
Казаки, торговые и промышленные загалдели, поддерживая последние слова выборного атамана. Селиверстов, глядя на них, задумчиво доил бороду, до поры помалкивал, что у него есть и другие воеводские наказы, которые касаются здешних людей.
Если в казачьей избе случился не совсем приятный разговор, то по другим народ веселился. Среди набранных Селиверстовым людей у зимовейщиков было много знакомцев и земляков. Им показывали добытую кость, рассказывали о корге, куда приплывает так много моржей, что счета им нет. Прибывшие чувствовали себя дотянувшимися до богатств, которых искали. Зимовейщики раскупили привезенный хлеб по двойной против Колымы цене, покупали за кости порох, свинец, холст, топоры, неводные сети. Бисер, корольки, колокольчики оставались нераскупленными даже у Анисима Костромина, который жил на Анадыре четвертый год. Их было много среди товаров Бессона Астафьева, остатки которого брал на себя Елфим Меркурьев. Но его убили, и тот товар был сложен в амбаре, потому что никто не хотел связываться с гусельниковскими приказчиками и с разбором потерянного.
Селиверстов примечал, что никакой государевой службы на Анадыре нет. Ходынского аманата наградили бисером, топором и отпустили, как только узнали, что Филиппов с Мартемьяновым благополучно добрались до Колымы. Остались два аманата от воевавших между собой юкагиров. Родственники приносили под них ясак, сколько могли или считали нужным. Ходынцы же за этот год и вовсе ничего не дали, поскольку возили кость на Колыму. Семейка с Никитой их не неволили. У выборных атаманов не было ни ясачных книг, ни правильного счета. Просто все знали, какие роды сколько и что дали в казну. Не нравилось это Селиверстову, подначивал его бес взять власть в руки и навести порядок. Но, помня янский урок, он приглядывался к людям и понимал, что даже свои, приверстанные на Колыме, попав в дежневскую вольницу, не поддержат. Он дал всем отдохнуть и стал потихоньку понуждать к делам, чтобы леностью не распустить до греха неповиновения. Для начала решил построить струги, избу и амбар.
Весна брала свое. На потемневшем льду реки к полудню появлялись лужицы и ручейки. Поблизости от зимовья лес был вырублен. Селиверстовские промышленные по подсказке бывальцев ушли валить деревья, чтобы по вскрытии реки сплавить по воде. Главной заботой Селиверстова был коч или шитик. Он велел волочь по льду к зимовью отборные деревья, подарками и лестью упросил Бугра найти становую лесину и всеми силами склонял к себе бывшего спутника по походам. Не оставлял вниманием и других недовольных выборной властью. Был у него в том дальний умысел. Однажды он приметил, как Бугор, вспыхивающий от всякого пустяка, как береста от фитиля, в очередной раз переругался с Семейкой и Никитой. Юша выждал подходящее время и явился в казачью избу с грамотой, отправленной с ним для Стадухина. Еще после морского похода Михей посылал воеводе жалобную челобитную на Вторку Гаврилова, Мотору, Костромина, на переметнувшихся к Власьеву Семенова, Ветошку, Кокоулина, Васильева, но Бугра, Евсея Павлова и охочего Юшу Трофимова оправдывал, просил зачислить себе в службу. При всех собравшихся торжественным голосом Селиверстов прочитал воеводский ответ Стадухину и объявил, что Василию Ермолину Бугру, Евсею Павлову и Юше Трофимову воеводским указом велено служить Стадухину в прежних окладах. Не остывший еще от спора Бугор заорал:
— Вот вам крест, Аниську Костромина в колодках приволоку на Лену! Попил кровушки: гривенка пороху — по шести рублей.
Юша самодовольно почувствовал, что выбрал подходящее время, словно сухих веток подбросил на угли: все бывшие в избе стали лаяться между собой. Он же, посмеиваясь, вышел. Вскоре оттуда выскочил красный от негодования Бугор, хлопнул дверью, прокричал кому-то:
— Пупки моржовые! Под себя гребете, о себе только думаете!
Из ругани Селиверстов понял, что дежневские люди спелись с Костроминым и что-то неправильно поделили. Посмеиваясь, тайком потирая руки, он предложил спорщикам послужить ему. Так было положено начало новому двоевластию на Анадыре. В очередной раз отколовшийся Бугор забрал свои вещи и переселился в стадухинскую избу. Возвращавшиеся с вырубок люди Селиверстова строили свое жилье. Юша как мог потакал старому казаку. Дорого заплатив за горячность на Яне, он был осторожен в словах, поступках и с удовольствием пожинал плоды хитроумной сдержанности.
Обе ватаги жили раздельно, каждая своей жизнью. Дежневские люди конопатили и смолили коч с коломенкой, готовились к промыслу рыбьего зуба, к нересту красной рыбы. Перессорив беглых казаков, которых хорошо знал, Селиверстов задумал подчинить себе других. Он снова уловил в противном стане приметы к спору и закрутился возле их изб. Там шел сход казаков и промышленных. Юшу они к себе не пустили, он мог только наблюдать издали и догадываться, о чем шла речь. Против всех собравшихся, опираясь грудью на посох, стоял беглый казак Евсей Павлов и угрюмо слушал в чем-то обвинявших его. Сход решил наказать казака и приговорил сделать это Дежневу. Семен взял батожок, подступился к Павлову, все так же безмолвно стоявшему и опиравшемуся грудью на посох, замахнулся, чтобы нанести оговоренное количество ударов по спине. Но Евсей резко выпрямился, отбил посохом батожок, развернулся и, ни слова не говоря, пошел к избам Селиверстова. Его женка-корячка с младенцем на руках выглянула из открытой двери придела, прирубленного к избе, и поплелась следом за мужем. Власти в руках Селиверстова прибыло, он торжествовал. Пока люди Дежнева и Семенова с возмущением обсуждали Евсея, воспротивившегося соборному приговору, Юша вошел в их круг, размахивая воеводским указом с висячей печатью. Казаки и промышленные с удивлением уставились на него.
— Указ якутского воеводы, отправленный Ваське Власьеву. — Громким, раскатистым голосом Селиверстов стал читать, что воевода требует выслать в Якутский острог для сыска торгового человека Анисима Костромина, казака Смена Мотору, беглых казаков Никиту Семенова, Федьку Ветошку, Павла Кокоулина, Дмитрия Васильева.
— Митька Францбеков, что ли? Он сам под сыском, не пристало нам слушать его указы! — вспылил Никита Семенов.
Дежнев поморщился, попросил Ивана Казанца прочесть написанное. Тот почитал, подтвердил — так оно и есть.
— Ты единственный на Анадыре служилый с жалованьем. Тебе ответ держать! — уставился на Дежнева Селиверстов, пренебрегая выкриками недовольных.
Собравшиеся притихли. Все понимали, что за слова, которые Семен Дежнев скажет при свидетелях, придется держать ответ перед властью. Казак нахмурил шрамленый лоб, потупил глаза, но, тряхнув бородой, тут же вскинул их на Селиверстова:
— С этими людьми мы служили многие службы, кровь проливали. На сыск их не дам! — объявил твердым голосом.
— С Анадыря, как с Дона, выдачи нет? Так, что ли? — скривил губы Селиверстов.
— Сам сказал! Не я! — резко ответил Дежнев и развернулся к избе. Сворачивая грамоту, Юша трубно выкрикнул: — Кто мне послужит, за того замолвлю слово перед новым воеводой. Он меня послушает.
— Вези на сыск! — насмешливо выкрикнул Кокоулин. — Чую, иначе отсюда не выбраться: вдруг за приставами и доставят в Якутский живым.
Селиверстов ушел, помахивая грамотой, но вскоре в его лагерь перешли беглый казак Митька Васильев и охочий Юша Трофимов. Не задержался и Пашка Кокоулин, незадолго смеявшийся над Юшей: сутулясь и припадая на ногу, пришел к нему же. Но споры в казачьей избе не кончились, раззадоренные люди продолжали ругаться. День и другой от кого-то отбрехивался Федька Ветошка, потом хлопнул дверью, с пищалью на плече, опоясанный саблей, мелкими шажками в нерпичьих штанах с низкой мотней покатился к селиверстовскому стану, а вскоре с Кокоулиным и Васильевым подал Юше челобитную служить ему. Из десятка беглых казаков, бывших опорой Моторы, в лагере Дежнева остались Никита Семенов и Артем Солдат. От Селиверстова же ушел к ним Степан Вилюй с двумя промышленными людьми.
Вскрылась река, и едва вошла в обычные берега после половодья, Юшины покрученники пригнали плоты, срубили две избы и два амбара. Поставлены они были в стороне от Семейкиного зимовья, ближе к воде, рядом со стадухинской избой. Семен Дежнев, Никита Семенов и Анисим Костромин со своими промышленными людьми стали готовиться к плаванию на коргу. Дежнев всеми силами не показывал неприязни ни к перебежчиками, ни к самому Селиверстову, при встречах всем говорил приветливые слова. Никита Семенов был хмур, встреч избегал, но и он не говорил дурного. Увидев их сборы, Юша засуетился: его коч был только наполовину обшит бортами, но помог Бугор, потребовав у Дежнева:
— Семка, отдай коч или коломенку! Мы их строили, — указал на беглых казаков, тесавших доски возле селиверстовской верфи.
Сам Юша, ожидая очередного спора, мягко и вкрадчиво попросил:
— Выручай давай! Дело государево!
К немалому его удивлению, Дежнев согласился отдать коломенку:
— Бери! Если твои и мои люди будут охранять зимовье — можешь послать человек двадцать.
Селиверстов от такого предложения оторопел, оправившись, принял его со сдержанной благодарностью и важностью.
— Пусть твои караулят своих баб, мои пойдут за костью!
И все же на промысел моржовых клыков отправились по полтора десятка от ватаги, другие остались охранять селение и запасаться рыбой. Впереди шел коч Дежнева и Семенова с их промышленными людьми, за ними коломенка, отданная Селиверстову. Все переметнувшиеся к нему казаки были в ней. Ближе к морю на берегах реки лежали выброшенные течением льдины. Июльское солнце еще не растопило их. Мелководные озера на пустынных тундровых берегах были черны от уток и гусей. Над устьем Анадыря висели дымы. Это насторожило Дежнева. Его коч пристал к берегу. Ниже причалил коломенку Селиверстов и стал обеспокоенно спрашивать:
— Откуда быть кострам?
— Могут быть промышленные или чукчи, — оглядывался по сторонам Дежнев. Лицо его было озабоченным. — Юкагиры и коряки здесь тоже бывают.
Суда вышли в губу — дымы пропали, некоторое время чувствовался их запах, вскоре его разнесло. Залив был забит льдом, моржей на отмели не было.
— Рано пришли, — посетовал Дежнев. — Не вылегал еще зверь. Но так лучше копать заморный клык.
— Семка! — закричал Дежневу Бугор. — После нас тут кто-то был: костры жгли, пекли мясо!
Дежнев с Семеновым подошли к нему. На песке чернели чужие кострища, возле них валялись моржовые позвонки и кости ласт.
— Не только мы сюда ходим! — присвистнул Никита Семенов, сбил шапку на затылок, пошел смотреть места прошлых стоянок.
Бугор указывал селиверстовским промышленным места копок, рассказывал, где и сколько клыков нашли в прошлый раз. Юша с обиженным видом осматривал ямы, сокрушался, что до него перелопатили едва ли не всю коргу. Промышленные и казаки двух ватажек стали долбить не оттаявший еще песок, искать заморные кости. Сам Юша, сбросив кафтан, ковырял галечник палкой с обожженным концом, бил обухом топора и вскоре издал трубный рев, вывернув из мерзлоты моржовый клык. Беглые казаки, переметнувшиеся в его ватажку, собирали плавник, намереваясь греть землю. Все были заняты, никого не приходилось погонять.
Возле устья Анадыря в губу впадало несколько рек. Они были разделены холмами. Утрами, при низком солнце, по воде опять стелился дым и пахло гарью. Иные из казаков и промышленных забеспокоились, говорили, что кожей чуют чужих людей, требовали выставлять караулы. Караульные, томясь бездельем, то и дело бросали посты, подходили к товарищам, сами начинали рыться в песке.
— Надо идти, узнать, кто там! — не выдержал явного беспорядка Никита Семенов. — А то ведь подкрадутся для тайного убийства. Пока мы соберемся да вооружимся — половину перестреляют.
— Чукотские костяные луки бьют дальше и точней пищалей! — поддержал его Семен Дежнев.
— Что им здесь? — заспорил Селиверстов, неохотно распрямляясь в отрытой яме. Голос его отозвался от дальнего холма.
Никита Семенов опасливо оглянулся, вжав голову в плечи, поежился.
— Что и нам, — ответил приглушенно и неприязненно. — Зуб, мясо, жир, шкуры. Чукчи из них лодки шьют, из кишок — одежду.
— Пусть забирают мясо жир, шкуры, — прищурившись, Юша всмотрелся в редкий дымок, стелившийся по воде, чихнул. — Зуб — нам! А зверь еще не подошел, что народ баламутите?
Никита плюнул под ноги, Семен Дежнев заковылял к беглым казакам, переметнувшимся к Селиверстову. Они согласились, что надо идти к местам, откуда появляется дым. На корге остался Юша с промышленными людьми, приведенными им с Колымы. Все они страстно лопатили отмель, грели кострами песок и галечник, урывками спали у огня, хвастались найденными клыками, зачарованно любовались растущей кучей моржовой кости. Оторвать их от этого занятия было трудно. Дежнев с Семеновым повели беглых казаков и своих промышленных людей берегом моря. Ватажка скрытно подошла к сопке, над которой появлялся дым. Никита предложил обойти ее. Бугор с Заразой заспорили, призывая разделиться на два отряда: одним взбираться наверх, другим зайти с противной стороны. Семенов насупился, рассерженно мотнул бородой, но возражать перебежчикам не стал, с Дежневым и Костроминым скрылся за склоном, другие стали подниматься на гору. Бугор остановился на полпути, переводя дыхание, огляделся.
— Хорошее место! — пробормотал, отмахиваясь от гнуса. — Отсюда устья трех рек видать. Не могли нас не заметить.
Едва он это сказал, сверху полетели стрелы. Бой был так густ, будто метали их до сотни стрелков. Люди Бугра укрылись среди камней и мхов, дали залп. На них, размахивая копьями, побежали то ли коряки, то ли чукчи. Перезарядить ружья не удалось из-за близости врагов, одни торопливо вставляли в стволы тесаки, другие схватились за топоры и сабли.
— Коряки! — крикнул Кокоулин. — Одного застрелил явно! — Он вскочил, отбил разряженной пищалью копейцо нападавшего, взял его на тесак и завыл, заскакал, как подбитая птица.
Бугор отбивался топором и саблей, Солдат прикрывался от ударов прикладом пищали. Сверху прогремел нестройный залп, облако сизого порохового дыма понесло к морю. Вблизи Бугра упал коряк с простреленной головой, сильно обрызгав казака кровью. Другие побежали вкруг горы. Пашка, морщась от боли, перетягивал ногу и ругался:
— Нет бы в ту же самую, что прошлый раз, а то в здоровую… Как ходить теперь?
Его товарищи перезарядили ружья, побежали наверх. Бой шел возле землянок, покрытых мхом. Дежнев с товарищами выбивал из них оборонявшихся. До полусотни мужиков с женщинами и детьми, отстреливаясь, отходили к реке. Каменных юрт было полтора десятка. В каждой жило по нескольку семей. Отступив, коряки не раз поднимались с разных сторон, осыпая пришельцев стрелами, копьями и камнями. Но запас их скоро кончился, и они бросили селение.
Казаки и промышленные обшарили землянки и не нашли никакого ценного добра, кроме бабы. Ее, не оказывавшую сопротивления, не показывавшую страха или неприязни, вывел за руку Бугор. На удивление всем, ясырка заговорила. Перемежая русские слова якутскими, сказала, что была выкуплена у своего рода промышленными, имела детей, но они умерли, долго и счастливо жила с передовщиком. Прошлой зимой люди той ватаги стали умирать. Умер муж. Живые сели в лодки и уплыли неизвестно куда. Ее захватили чукчи, у них отбили коряки. Семен Дежнев рассеянно слушал якутку, перетягивая очередную неглубокую рану, его парка из оленьих шкур валялась у ног, по льняной рубахе расплывалось бурое пятно. Якутка надорвала рукав и помогла остановить кровь. Морщась и покряхтывая, Семен пожаловался:
— Угораздило надеть почти новую! Знал ведь — что ни бой, то рана!
— Зашьешь! — буркнул Бугор. — Кто-то из ваших вблизи от меня коряку голову прострелил. Я с ног до головы в крови, а коряка уже не починишь.
— Я целил, — постанывая, признался Дежнев. — На тебя трое шли.
— Ловок! — укорил Бугор. — Как мне башку не разнес? Бог пулю отвел.
— Все равно бы тебя убили… Стрельну, думаю, вдруг спасу!.. — как о пустячном, оправдался Дежнев, прислушиваясь к словам плененной якутки. — Слышите, что говорит, — поднялся, подбирая парку. — Жила с людьми Федота Попова, которых унесло к полудню. Наверное, он держал ее в женках и помер от цинги. Прижав перетянутую руку к животу, Семен положил поясные поклоны на восток об упокоении душ. — Дорого, однако, дался Великий Камень!
Ватажка переночевала в захваченных корякских землянках, на вражьем припасе сухого плавника и сухой оленины. Якутке дали волю. За коряками она не пошла, но тенью ходила за Бугром.
— Васька! Продай ясырку! — в смех предложил Селиверстов, когда отряд вернулся на коргу.
— Многогрешен, но людьми не торговал! — насупясь, ответил Бугор. — Переманишь лаской, забирай. — Он не сразу понял, что такими словами Селиверстов укорял ходивших на погром. Куча моржовых клыков в их отсутствие заметно увеличилась, а ясырка в здешних местах стоила меньше пуда кости.
Лето выдалось прохладным, от корги долго не относило лед. На икромет пошли кета и горбуша, а моржи все плескались возле берега, не желая вылезать на сушу. В реке ловили кижуч, чавычу, гольцов, попадалась и белая рыба: сиг, вострок, ряпуша, нельма, чир, горбун, валек. Но добывалась она трудно, отрывая от главного дела, и хватало ее только на еду. Дежневские и селиверстовские люди лопатили и лопатили песок с галечником, откапывая все новые заморные клыки. Время заготовки красной рыбы было упущено, все надежды на зимние корма теперь связывались с немногими оставленными в зимовье мужчинами и женщинами, да еще рассчитывали на мясо моржей. Их, выползших на берег, стреляли картечью. Зверь был живуч. Метили в голову и подходили близко, рискуя быть растерзанными теми самыми клыками, ради которых проливали кровь. Якутка варила рыбу и мясо, топила жир, веселя Бугра, съедала их в большом количестве. На обильных кормах она быстро толстела и семенила на коротких ножках, перекатываясь с боку на бок. Васька, глядя на нее, хохотал, она тоже смеялась, в глубоко запавших под лоб глазницах весело подрагивали черные ресницы.
Моржи полезли на сушу с Ильина дня, но вскоре похолодало, приливы снова понесли лед. Промысел оказался не таким удачным, как ожидали, но полторы сотни пудов моржового клыка Селиверстов добыл. Дежневская ватажка набила моржей, вырубив с голов клыки и накопала заморной кости чуть меньше. На этот раз кочи и коломенка с ценным грузом, с хорошим запасом жира и мяса были приведены к селению своими силами. Добравшись до зимовья, дежневская ватага без шума поделила добычу и занялась обыденными делами. Среди людей Селиверстова споры начались еще при возвращении, а при дележе случился скандал. На глазах спутников Юша отобрал в казну десятину лучшими клыками, чем вызвал недовольство переметнувшихся к нему казаков. Затем, опять же лучшей костью, отложил пятьдесят пудов, якобы явленных воеводе, все остальное предложил поделить поровну.
— Все по закону, данному нам государем и верными ему воеводами! — попытался оправдаться, увидев возмущенные лица казаков и промышленных людей.
Его торговые пайщики Савва Тюменец, Григорий Евдокимов и Терех Курсов тоскливо разглядывали кучи мелких клыков, которые на треть были обломками. Василий Бугор, услышав о «государевой справедливости», долго не мог вымолвить слова, только грозно мычал и пучил глаза. Федька Ветошка сначала приглушенно засрамословил, потом заверещал раненым зайцем, схватил Селиверстова за бороду и выволок из амбара. За Юшу попытался вступиться верный ему Артем Осипов, но был побит.
— Что разорались, как вороны на падали? — крикнул Пашка Кокоулин, исподлобья уставившись на расшумевшихся людей. — Юшка предложил поделить так, вам решать как.
— Десятину платить не будем, все равно возьмут на Колыме или в другом месте! — очухавшись, заревел Бугор.
— Не будем! — неуверенно поддержали его торговые и промышленные. — Юшка не приказный и не целовальник, такой же охочий, как мы!
Ветошка, по давней неприязни к Кокоулину, сверкнул глазами, бить раненого не поднялась рука. Молчун Евсейка Павлов презрительно глядел на споривших из дальнего угла. Он со своей корячкой спокойно и радостно пережил лето в зимовье, а вернувшиеся подельники опять втягивали его в обычные и надоевшие ему дрязги.
— Делим по справедливой старине! — орал Бугор, перекрывая голосом раскатистые Юшкины стоны.
Тот вернулся в амбар изрядно потрепанный, с затравленными глазами, сиплым голосом пригрозил:
— Напишу воеводе о самоуправстве… И про Семейку Дежнева, что коргу до нас перелопатил, три сотни пудов кости добыл и похваляется, что три пуда отложил в государеву десятину… Про все напишу!
Его угроз не слушали, разложили кость на тридцать пять паев. По жребию каждый взял свое. Селиверстов неприязненно покосился на кучку, в которой не было и пяти пудов, отряхнулся и громогласно потребовал вернуть долги. Опять начался дележ и спор. Покрученники отдавали две части из трех, своеуженники — треть. Торговые предъявляли должникам кабальные грамоты. Ветошка и Бугор расплатились за товары, сложили остатки в мешки и ушли к дежневским избам. Не дождавшись Ваську к ночи, утром туда же перешла якутка, отбитая у коряков и привязавшаяся к нему, хотя никакой надобности в ней у Бугра не было.
На другой день на стан Дежнева и Семенова пришли селиверстовские торговые люди Савва Тюменец с Григорием Евдокимовым. Переговорив с ними, Дежнев, Семенов и Анисим Костромин согласились, что охочее полуказачье, Селиверстов с Осиповым, принуждают людей к несправедливости. Они не осудили Ветошку, таскавшего Юшу за бороду и приняли беглецов, не поминая прежних обид. Утихли страсти и на селиверстовском стане, там тоже жизнь пошла своим чередом.
— Он склонял меня к предательству! — не мог остыть Бугор. — Кого вздумал пугать воеводской опалой… Меня, — бил себя кулаком в грудь. — Первого на Лене!
Со слов вернувшихся казаков Семейка с Никитой поняли, что Селиверстов не оставил умысла объявить коргу найденной им со Стадухиным и обвинить самовольных приказных Дежнева и Семенова с их воровским сбродом, что выбрали кость на себя. Бугор с Ветошкой и Евсейкой отказались подписывать ту жалобную челобитную. Торговым людям такой поворот в анадырских промыслах не нравился.
— Я этого козла давно знаю! — водя по сторонам настороженными глазами, скулил Анисим Костромин.
— То я его не знаю! — поддакнул Никита Семенов.
— Если упрется — в штаны наложит, но будет стоять на своем! Надо писать встречную челобитную.
Дежнев таращился в угол и яростно чесал бороду.
— Свидетелей-то у него нет! Разве Пашка-Зараза подпишется под ложью? — рассуждал, благодарно поглядывая на вернувшихся казаков. — Спаси вас Господь! Ты, Васенька, хоть и горячий, а не подлый. Ну чем мы тебя обделили? Пай давали равный, по жребию. Зачем сеешь раздор?
— Не могу терпеть несправедливость… Почто мне такая доля? — огрызнулся Бугор.
— После у Господа спросишь! — встревоженно оборвал его Костромин. — А пока надо писать встречную: не были Юшка с Мишкой на нашей корге. Он, луженая глотка, хочет весь зуб прибрать.
— Надо! — согласился Дежнев и вопросительно взглянул на Казанца.
— Есть бумага! — ответил тот. — От Стадухина осталась.
— Грех на нас! — со вздохом признался Бугор. — Одну жалобную челобитную от Селиверстова подписали: про то, что вы, Семейка и Никитка, не радеете государю и разогнали от зимовья ясачных юкагиров.
— Ты же знаешь почему! — вспылил Никита Семенов.
— Чтобы частокол не ставить! — громче и злей ответил Бугор.
— Там ругаются, здесь ругаются, заткнуть бы уши! — проворчал Ветошка.
— Вот построю избу, один буду жить. — Помолчав, добавил со вздохами: — Подписали по горячности. Злы были на вас, а он подсунул готовый лист. Сказано ведь, нельзя не быть соблазнам, но горе тому, через кого они приходят!
Выговорившись, Федька побагровел, засопел и умолк. Новая затевающаяся распря прекратилась в самом начале. Пока мужчины бранились, Васькина якутка с удобством устраивалась в избе, поддерживала огонь, варила рыбу, пекла икряные лепешки, но знаки внимания и заботы оказывала только седому Бугру.
Весна была голодной: последнюю рыбу доели на Сретенье, кормились зайцами и куропатками. Проваливаясь в раскисающие к полудню снега, дикие олени потянулись на север. Оленихи телились в самое неподходящее время. Волки и люди кормились ослабленными важенками и телятами, которых догоняли: одни на лыжах, другие на широких лапах. Люди радовались, что весна выдалась ранней и теплой. Еще не вскрылась река, а гнус ожил. Солнце палило по-летнему, журчали ручьи, вода бежала по льду, затем река взорвалась, Анадырь взбесился и стал подступать к избам. Насельники кинулись спасать свое добро, потом общее: выносили на возвышенное место ружья, одеяла, котлы, затем стали бегать, спасая добытую кость, хотя ей вода не вредит. Стадухин поставил зимовье в низине, близко к реке. Селиверстов расстраивался там же, и когда завалился амбар, в котором была сложена часть моржовых клыков, Юшин вопль перекрыл рев реки.
— Спасай добытое! — Носился он у кромки плещущей воды, хватал что подворачивалось под руку.
Дежневский амбар тоже свалило и унесло. Но из него успели вынесли больше половины кости. Люди обоих станов сновали по клокочущей воде, пока течение не валило с ног, потом с пригорка смотрели, как одна за другой развалились и поплыли по мутной воде шесть изб с амбарами. Кто-то беспрестанно молился, Селиверстов беззвучно плакал. Пашка Кокоулин с Артемом Осиповым утешали его:
— Кости тяжелые, далеко не унесет, а избы жаль, много трудов положено.
Беда не обошла стороной и дежневское зимовье, но все же ему досталось меньше, чем стадухинскому. Снесло две крайние избы и ту, что была поставлена первыми пришедшими сюда людьми.
— Любит тебя Бог! — Одышливо сипел за спиной Дежнева Бугор. — Мы еще с Мишкой о том говорили. Жив ли? Три года ни слуху ни духу. Дай Бог вернулся на Лену другим путем или дошел до Ирии, вестей не шлет, чтобы не набежали всякие селиверстовы…
— Не гневи Бога! — отмахнулся Дежнев. — Не искушай хоть в такой час. — Но, не сдержав любопытства, спросил со смущенной улыбкой: — Неужели Мишка так говорил?
— Так и говорил: «Наверное, Семейку Бог любит!» Завидовал!
— Мишка мне завидовал? — недоверчиво хохотнул Дежнев.
Побуйствовав, река стала входить в свои берега, течение успокаивалось. Люди расходились по сырым избам, среди обломков, ила и сора разыскивали остатки разметанного добра.
— Сорок пудов пропало! — выл Селиверстов в сторону уцелевших дежневских изб, будто они были виноваты в пропаже. — И казенный амбар смыло. В нем — восемь пудов. Я ведь под эту коргу явил пятьдесят. Что отдавать?
— Врет, подлый, и Бога во свидетели призывает, — возмущался Никита Семенов. — А Господь за его ложь карает нас всех. Утопить бы гаденыша, в воду посадить.
— Я тоже явил двести восемьдесят соболей, — бормотал Дежнев, нашаривая ногой моржовые клыки в стылой мутной воде. — Считать на кости — тридцать пудов. Что теперь, Бога винить?
— А мне Господь совесть разбудил! — плакал Бугор. — Сколько кровушки пролил? Сколько боли людям и зверям сделал? За что?
— На то их Бог создал, чтобы нас питать! — с кряхтеньем проворчал Никита, склонился, вытащил из-под ноги заморный клык, по виду четвертинный в пуд.
— Я прежде тоже так думал, — разглядывая найденную кость в посиневших руках товарища, продолжал жаловаться Бугор. — А нынче, после потопа, вспомню безголовых моржей — душа болит. Этот год ты меня на коргу не посылай, лучше избы рубить буду.
— Мы тем моржам кишки выпускали, — оправдался слушавший его жалобы Дежнев. — Что не собрали анаулы или ходынцы, то заберут коряки и чукчи.
— Моя кость! — закричал Селиверстов с берега.
Дежнев, Семенов и Бугор, бродившие в воде, обернулись. Они стояли на уровне его изб.
— Не могли твои кости поперек течения в реку сползти! — скаля щербатые зубы в бороде, съязвил Бугор. — Поди, не лягушки!
— Избы мои, и кости против них мои! — скандально закричал Селиверстов.
— Ну его! — отмахнулся Дежнев. — Выходи на сухое.
Трое вышли из реки. Юша потянулся к клыку в руках Семенова.
— Вот тресну по башке, поймешь, могла ли твоя кость оказаться против твоей избы! — пригрозил Никита. Клык не отдал. Три казака скинули промокшие бахилы, босиком пошли к уцелевшему жилью.
— Совсем сдурел! — сдержанно ругался Никита.
После наводнения на стан Дежнева вернулся с повинной немногословный Евсей Павлов. Встал против Семейки, молча протянул батожок.
— Там больше несправедливого! — пробубнил, склонив голову. — Хлещи, чего уж там!
Наказывать казака за давнее Дежнев с Семеновым не стали. От него узнали о челобитных, которые настрочил Юша и подписали верные ему люди. Никита пытался образумить Пашку Кокоулина с Митькой Васильевым, но его неловкая попытка поговорить с ними обернулась тем, что Селиверстов прибежал в казачью избу, размахивая написанной челобитной, в которой жаловался, что самовольные приказные подсылают своих людей, чтобы оправдаться в неотсылке казны. Сгоряча он зачитал и другой воеводский указ, по которому Дежнев обязан был выслать в Якутский острог всех беглых казаков.
— Прошлый раз ты читал, что мне с Евсеем и Юшкой Трофимовым велено служить Стадухину, — недоверчиво скривился Бугор.
— То был другой указ! — не смутился Селиверстов.
Казанец зашел со спины, посмотрел в грамоту через плечо.
— Верно! — сказал. — И тебя с Евсейкой требуют для сыска. — Только грамотка от воеводы Пушкина, за прошлые годы.
— Все равно, — тряхнул бородой Селиверстов. — Я вам указ доставил и зачитал, вы обязаны принять или ответить.
— Ответим! — решительно, без замешательства кивнул Дежнев, резко посуровев лицом. — Казанец отпишет, что я тех людей не отпустил и впредь не отправлю на сыск, хоть бы грозили кнутами.
— Иди отсюда подобру, пока не встряхнули! — пригрозил Бугор.
Селиверстов выскочил из казачьей избы, стал кричать на покрученников, собиравших разметанные избы и амбары. Велел им бросить насущную работу и смолить новый коч. Раздор усиливался. Митька Васильев и Пашка Кокоулин затребовали свои паи из уцелевших дежневских амбаров. При дележе ссора между ними и казаками обострилась. Двадцать пудов добытого взяла река, а они желали прежнего пая и не хотели слушать о переделе. После скандала, едва не дошедшего до драки, двое бывших товарищей забрали что им отдали и перенесли в свои избы.
— Юшка травит на нас! — с печалью качал головой Семен Дежнев.
— Травит! — поддакнул немногословный Евсей. — Нет врагов злей, чем из бывших друзей… Предавший редко винится, чаще оправдывается, обвиняя тех, кого предал.
— Знаем! — скрипнув зубами, согласился Семенов и обернулся к Дежневу.
— Однако нынешним летом ты на коргу не ходи, карауль добытое. По слухам, Юшка здесь останется: мало ли что удумает.
Река очистилась от весенней мути. Со дна были подняты последние клыки, которые удалось найти, с берегов собраны разметанные венцы изб и амбаров. Никита Семенов просмолил коч и спустил его на воду. Подходила пора плыть на летний промысел. Дежневцы соборно решили отправить на коргу одиннадцать казаков и промышленных людей, остальным — восстанавливать порушенное жилье и запасаться в зиму рыбой. Селиверстов спустил на воду новый коч и дежневкую коломенку. Как и предполагал Никита, по каким-то причинам сам остался в зимовье, назначив на промысел начальными людьми казака Павла Кокоулина и охочего Артема Осипова: одного на коч, другого на коломенку, но в подчинение к Павлу, чем вызвал обиду и недовольство верного ему человека. Они отправились в низовья не только без обычных торжеств и проводов, но ушли, когда дежневские люди спали. Никита Семенов, услышав шум, не поленился, поднялся, выглянул из двери и увидел их плывущими по реке. «Пройдоха!» — подумал о Юшке, но удивился, что казаки, Пашка с Митькой, пренебрегли плохой приметой. Узнав о том, Дежнев посмеялся:
— Нарвутся на чукчей или коряков, прибегут за помощью.
Коч Никиты Семенова вернулся перегруженный добытой костью. За ним тянулась селиверстовская коломенка. Возвращались они поздно, зимовейщики уже беспокоились. Заметив суда, Юша с облегчением перекрестился, велел своим людям бежать на помощь. Те пронеслись мимо усталых семеновских бурлаков, впряженных в бечевы, с лицами, изъеденными гнусом, с давленой кашей из комаров в бородах, на лбах и щеках. Сам Селиверстов шагал неспешно, заложив руки за спину. Проходя мимо дежневской ватажки, мимоходом спросил Никиту:
— Удачны ли промыслы?
— Слава Богу! — ответил тот с перекошенным лицом.
Большего сказать не успел. Селиверстов прибавил шагу, прошел мимо людей, ослабивших бурлацкие бечевы и как-то странно глядевших на него. Печальную новость сообщил ему Артем Осипов. Юша долго тряс головой, не в силах понять, что произошло. Потом сел на камни, обхватил голову руками и тихонько завыл.
За все годы на Анадыре это были самые удачные промыслы. Моржи рано выползли на берег. Пашка Кокоулин с Митькой Васильевым, с двенадцатью покрученниками добыли за месяц две сотни пудов моржовой кости. Коч был перегружен. Артему Осипову с его людьми везло меньше, они были не так проворны, но успели добыть больше ста пудов и добирали последнее. Груженые суда Никиты Семенова и Павла Кокоулина уже стояли на якорях, приготовленные к возвращению на станы. Артем Осипов сталкивал на воду и догружал коломенку. Вдруг Фома Пермяк завопил, указывая на маленькое темное облачко посреди чистого неба: «Тяни на берег! Крепи! Быть буре!» Семенов с недоумением окинул взглядом ясное небо, пожал плечами, но прислушался к совету бывальца. Пашка Кокоулин посмеялся над опасениями промышленного, вывел из-за отмели тяжело груженный коч и направился к устью Анадыря: он боялся сесть на мель при отливе. И тут при ясном небе завыл ветер, срывая песок и галечник с суши, картечью захлестал им людей.
— Держи коч! — закричал Никита, хотя благодаря отливу уже треть судна была на суше. Но его так раскачивало, что могло столкнуть на глубину. Кокоулина с Васильевым со всеми бывшими на их коче людьми пронесло мимо корги в залив.
— Вдруг на мель выкинет! — перекрестился, глядя вслед Фома Пермяк.
Никите с его промышленными пришлось потрудиться и помокнуть, но они удержали коч возле берега. После бури коломенку разгрузили, ходили на ней в виду берегов залива до самого моря, но унесенных не нашли. Будто в чем-то оправдываясь, об этом рассказывал Селиверстову его верный охочий Артем Осипов:
— Фомка говорил — семь лет назад из тех же мест их унесла такая же буря. Но выплыли! Даст Бог, и наши вернутся! Все-таки четырнадцать человек.
— Ага! — сипло прошепелявил Юша. — Придут голы-босы и станут требовать паи из нашей добычи.
Артем оторопел от незнакомого голоса и сказанных слов.
— Оставил меня Господь, Артемушка, оставил! — неловко поднялся с земли Селиверстов и по-стариковски пошамкал: — Теперь надо надеяться только на себя.
Унесенные ветром не вернулись ни через месяц, ни к тому времени, когда река покрылась льдом. Зычный Юшин голос стали забывать даже его люди. Примечали, он начал разговаривать сам с собой. Дежнев с Фомой утешали потерпевших, ссылаясь на свои бедствия и скитания, рассказывали, как десять недель шли к Анадырю.
— Ага! — бормотал Селиверстов. — Придут голы-босы! Покарал Господь! Две сотни пудов, половина моя.
Его люди перенесли зимовье дальше от реки, но оно, как прежнее, оставалось обособленным от дежневского. Частокол не ставили ни те, ни другие, подводить здешние народы под государеву руку было некогда. В это время рассорились два ходынских рода, во главе которых стояли родные братья. Тот и другой обратились к русским людям за помощью. На станах думали, кому помогать и как мирить. Узнав о распрях ходынцев, на них напали коряки, с которыми те часто воевали из-за оленных выпасов. Казаки и промышленные помогли ходынцам отбиться, после войны помирили братьев и вместо ясака потребовали перевезти свой груз в верховья Анюя. На том договорились крепко. Под уговор Селиверстов зааманатил одного из тойонов и стал спешно собираться на Колыму. Его люди щепали сырую осину, делали лыжи и нарты. Приметив сборы, Никита Семенов объявил:
— Юшка и прежде корил, что не радеем о государевой прибыли, придет в Якутский первым, так оболжет — под кнутами не оправдаемся. Надо отправлять казну!
Зимовейщики молчали, опустив головы, каждый думал о себе.
— Может быть, и пора! — неуверенно согласился Анисим Костромин. — Вдруг Мишка Стадухин вернулся на Лену, а мы не знаем. От его людей у меня кабал на тысячу. А если не вернулся, — опечаленно огладил бороду… — Эх! Сидеть бы в лавке при Якутском остроге, не мерз бы, не голодал, а был богаче.
— Воеводы обирают, головы, дьяки, писари! Мало их кормить, еще и кланяться надо, благодарить, что вреда делают меньше, чем могут. Шею бы уже сломал, — проворчал поперечный Бугор.
— Да уж! — ниже опустил голову Анисим. — Было время, сам продавал муку, потом покупал у вас, — поднял глаза на Тюменца с Евдокимовым, — по десяти рублей за пуд.
— Если привезем в Якутский казну — простят бегство с Лены?! — то ли спросил, то ли объявил молчун Евсей.
— Вам с Васькой уже простили! А как нам? — Никита Семенов кивнул на Солдата и Ветошку, жавшихся к огню чувала.
— Пятнадцать лет, как ушел с Лены! — вздохнул Дежнев. — Тамошняя кабала, наверное, утроилась… Мне без перемены нельзя бросать Анадырь: хоть Моторина отпускная грамота, но есть. Уйду, Артемка Осипов всех подомнет. Чую, будет хуже Юшки.
— Нас с тобой в Якутском не поставят ли на правеж за бессоновское добро? — напомнил Дежневу Фома Пермяк. — У гусельниковских людей руки длинные. Они с того света взыщут. А мы с тобой последние из живых.
— В ту пору некому было записывать, кто что из их товара брал, да и некогда, — пожал плечами Дежнев. — Но кто из нас что взял, отдадим костью по совести. И родственникам покойных надо доли вернуть.
На удивление промышленным людям, беглые казаки пожелали вернуться на Лену с частью казны, какую им по силам доставить. Только Никита Семенов отмахнулся: «Великому мужу и честь велика! Если вас простят — вернусь!»
— Мне-то чего бояться? — хорохорился Бугор. — Ни дома, ни богатой родни. Брат Илейка, по слухам, на Амур подался. Кнуты, батоги, тюрьмы — в обычай.
— Я тоже погожу! — опасливо поежился и раздумал идти на Колыму Артем Солдат. В отличие от других беглых он как-то незаметно, но с упорством рассчитался со здешними долгами, и пай моржовых клыков был у него весомей, чем у большинства казаков.
Ватажный сход решил отпустить вслед Селиверстову Василия Бугра, Евсея Павлова, Федьку Ветошку, промышленных Степана Вилюя, Петра Михайлова и Тереха Микитина, с ними отправить часть государевой казны и челобитные грамоты, упреждающие Юшины жалобы. По-хорошему и разумному, надо было дождаться хотя бы февральского наста. Но Селиверстов, зааманатив тойона Чечкоя с тремя его сородичами, напомнил об уговоре, и ходынцы взялись возить на оленях груз до верховий Анюя. Дежневским людям ничего не оставалось, как присоединиться к ним. Государеву казну Семен и Никита доверили Евсею Павлову, с ним отправили жалобные челобитные на Селиверстова и ответы на наказы воевод.
И опять Бог Юшу миловал: в пути не случилось ни злых метелей, ни долгих снегопадов. Русские и ходынские люди вповалку спали в чумах на двух станах, засыпали и просыпались под клацанье рогов пасущегося стада оленей. Погонщики возвращались по своим следам к чумам прежнего стана, запрягали свежих быков в другие нарты с костью, перевозили к переднему стану, разбирали старый. Караван продвигался медленно, но без прежних мук пешего перехода. На плоскогорье Селиверстов пришел в себя, как петух, отоспавшийся после бражной гущи, и над безмолвным простором заметенного снегами кряжа опять загремел его раскатистый голос. Он спорил из-за нанятых ходынцев, за всякую помощь в пути требовал с дежневцев платы. Против него стоял Васька Бугор, бил и встряхивал, беглые казаки грозили убить к злорадству селиверстовских покрученников, и те, назло хозяину, бескорыстно помогали им в пути. Ходынцы, как водится, молча злорадствовали всяким русским распрям. К Васькиной досаде, за ним увязалась ясырка. Как ни уговаривал ее остаться на Анадыре с любым казаком или промышленным — не захотела. Бугор выругался, проворчал, оправдываясь перед товарищами: «Не гнать же!» И вынужден был взять ее. Обузой в пути она не была. В мужских торбасах, в долгополой кухлянке, семенила за Васькиными нартами, старалась быть хоть чем-то полезной, но старый казак то и дело замечал на опавших щеках застывшие слезы, жалел, терпеливо поругивал. Несмотря на сносные ночлеги, он и сам задыхался, отставал, подстегивая себя бранью, во сне стонал, скрипел остатками зубов, понимая, что это его последнее пешее путешествие и оно в обратную сторону — на закат дней.
Через горы перевалили все живы, не растеряв груза, вышли на лед Анюя, в знакомые места. Дальше ходынцы не шли. Евсей наградил своих возниц бисером, топорами и отпустил. Была середина марта, собольи промыслы закончились, в Верхнем анюйском зимовье бездельничала ватажка гусельниковских покрученников. Петр Михайлов и Терех Микитин, избалованные анадырской жизнью, заскулили, жалуясь на тяготы пешего пути, их поддержал Степан Вилюй, промышленные стали уговаривать казаков ждать вскрытия реки, чтобы сплавиться с грузом. Но Селиверстов спешил в Нижний острог и, отдохнув пару дней, нанял гусельниковских промышленных тянуть по льду его нарты с грузом. Те были рады на его кормах поскорей уйти с опостылевших мест к амбарам с хлебом, к острожной бане с сусленками.
— Нельзя, чтобы явился без нас! — твердо объявил молчун Евсей. Он думал подолгу, но ошибался редко.
Хорошо зная Юшку, Бугор согласился:
— Нельзя! Оболжет, долго будем оправдываться! Ты вот что, — предложил Евсею. — Оставайся с казной, а мы, — кивнул Ветошке, — уйдем налегке. Надо быть при нем.
— Тогда и я пойду! — присоединился к ним Вилюй.
Казаки уложили в нарты пожитки и паевую кость. На другой день решили идти, не сомневаясь, что нагонят Селиверстова.
— Ты мою якутку возьми! — тайком предложил Бугор Евсею.
Женщина была занята работой — пекла мясо.
— На кой она мне? — хмыкнул тот, бросив на женку смурной взгляд. — От своей корячки едва сбежал.
Спутники приглушенно рассмеялись.
— Девка — золото! — стал расхваливать якутку Бугор. — Не хочешь — не бери! — досадливо поморщился. — Оставь при себе. Летом вернешь мне в Нижнем.
Якутка поняла, что говорят о ней, прислушиваясь к приглушенному говору, обеспокоенно заводила приплюснутым носом, к ночи залезла под Васькино одеяло и уцепилась за его рубаху.
— Боится, что сбежишь! — сонно гоготнул Евсей.
— Боюсь! — сказала она по-русски.
Утром в студеном мареве зарозовел восход, красное солнце пустило по снегам свои стрелы, поднялось над плоскогорьем, зазолотилось, стало слепить. Казаки сорвали с мест груженые нарты, сбросили шапки для молитвы. Из зимовья выкатилась одетая в путь якутка в торбазах, малахае, кухлянке-тагалан и встала рядом с Васькой.
— Ну, и куда ты в такой холод, дура? — перемежая русские и якутские слова, ворчал Бугор. — Сидела бы в тепле, весной, без хлопот сплыла бы ко мне с Евсейкой.
Женка молча заткнула ему за кушак сшитые волчьи рукавицы. Евсей опять приглушенно заржал, пуская пар из бороды.
— Умучаешься ведь… Оленей нет, чтобы везли! — безнадежно скулил Бугор.
По пористому раскисающему льду обе ватажки одновременно прибыли в Нижнеколымский острог уже при ярком солнце и пряных ароматах древесных почек. На приказе сидел казачий пятидесятник Иван Кожин, при нем служили старые стадухинские казаки Пашка Левонтьев с лысиной, обезображенной рваным шрамом, и Ромка Немчин. Мореход Иван Ребров, правивший Колымой до него, как ушел на поиск Полуночной земли при Селиверстове, так не возвращался. Были и приятные новости: Данила Филиппов, добравшись до Якутского острога, заслужил прощение и награду от нового воеводы. Федька Чукичев, служивший на Индигирке с Андреем Горелым, вышел в средний чин и воеводским указом ушел на Гижигу, в зимовье, срубленное Иваном Барановым, чтобы ставить там государев острог.
— Вот те и Федька! — посмеялся Бугор и тут же посмурнел, кручинно покачал головой: — Все же ушел на восход, а я вот возвращаюсь… Брата надо отыскать!
И он, и Евсей не ошиблись. Первое, что попытался сделать в Нижнем остроге Селиверстов, — объявил против беглых казаков «государево слово и дело», по которому колымский приказный за казенный счет обязан был сопроводить его и дежневских казаков в Якутский острог, но вместо того Кожин постарался выпроводить всех с Колымы вместе с моржовыми клыками. После непринятого «слова и дела» у Селиверстова начался спор с гусельниковскими покрученниками. В него опять были вовлечены все зимовавшие в Нижнем и сам приказный, изрядно уставший от напористого охочего. Только все скопом принудили Юшку расплатиться по уговору.
В середине мая вскрылась, к началу другого месяца очистилась и вошла в обычные берега Колыма-река. К острогу стали выходить промышленные ватажки. В конце июня с Анюя приплыл на плотах Евсей Павлов с двумя промышленными и грузом моржовой кости. Клыки опять пошли по рукам, к ним приценивались, выспрашивали о трудностях промысла.
— Что завидуете, придурошные! — вразумлял любопытных Бугор. — У иных из вас нынешний пай дороже, чем мои десять пудов, добытые за четыре года.
— Ты с долгами по кабалам расплатился! Зимами в избе сидел, по станам не мерз! — возражали ему промышленные.
— Лучше зиму по станам, чем один раз через горы! — открещивались дежневские промышленные, избалованные голодной, но легкой жизнью на Анадыре.
Желая поскорей выпроводить их, Кожин дал Селиверстову казенный коч, бывший при остроге. Но с ним и под его началом наотрез отказывались плыть на Лену дежневские люди.
— Из своего пая переплачу, чтобы твоей морды не видеть, — кричал Бугор на укоры и обвинения Селиверстова.
— Нельзя его упускать! — напоминал Евсей, назначенный старшим при казенной кости. — Лучше потерпеть и дойти до Лены вместе. Юшу водяные дедушки любят.
— Я без людей не останусь! — рыкал в ответ Бугру Селиверстов. — Вот выйдут с промыслов, еще и заплатят, чтобы увез на Лену. А тебя приставы задарма привезут на сыск. В тюрьме сгною! — грозил ненавистному казаку.
Людей он действительно вскоре нашел. С ним уговорилась плыть на Лену ватага торговых и промышленных людей передовщика Данилы Вяткина. Селиверстовский коч пошел к Стадухинской протоке, оставив при остроге людей Семена Дежнева. Евсей поругивал товарища за неразумные слова и печалился, что отстал от недруга. Но Степан Вилюй встретил на Колыме торгового человека из родственников. Тот имел коч, собирался возвращаться на Лену и за умеренную плату согласился взять государев и паевой груз. Возле зимовья они догнали Селиверстова. Юша стоял в ожидании разводий и попутного ветра, его судно было обвешано сушившейся рыбой.
— Встань где подальше, — скаредно попросил морехода Бугор, — чтобы хорька не видеть.
Но разминуться двум спорщикам не удавалось. Юшка с важным видом похаживал по казенному кочу, не оборачиваясь в сторону подошедшего судна, покрикивал на попутчиков. Сколько придется ждать, отстаиваясь в этом месте, никто не знал. Прибывшие тоже стали пополнять запас рыбы, сушить юколу. Бугор, хоть и просил найти стоянку подальше от Селиверстова, сам то и дело метал взгляды на его коч, щурился и вглядывался в тамошних людей. Иных он узнавал и окликал, те кивали ему, но не отвечали.
— Боятся Юшку рассердить! — приглушенно ругался Василий и орал во всю мощь: — Вятка! Ты с кем поплыл? С дерьмом собачьим! Явитесь в Якутский — он с вас мзду заломит втрое против уговора.
Селиверстов, побегав по корме, напыжился, нахохлился и ответил зычным голосом:
— Гузка ты гагачья! Борода белая, а ума не нажил. Провоз оговорен по рукобитью.
С неделю промышленные, торговые и казаки ловили рыбу, меняли воду на свежую. Все были заняты делом, и только Васька с Юшкой целыми днями лаялись, вспоминая былые обиды друг на друга, собирая всякие слухи и домыслы. Время от времени в их перепалку втягивался Степан Вилюй, отпуская в сторону Селиверстова язвительные замечания. Наконец задул полуденник. Льды стали отходить, открылся путь к Алазее, но Селиверстов медлил, не выбирая якорь. Наслышанный о его мореходном искусстве, родственник Степана Вилюя ждал непонятно чего, а люди ругали и поторапливали его. Не выдержав их раздраженной поспешности, он опасливо передернул плечами и согласился идти первым.
— А как обгоним хваленого да придем раньше! — с удальством поглядывал на море Бугор.
Гребцы разобрали весла, скинули шапки, запели молитвы Николе Угоднику, скорому помощнику и покровителю странствующих, с пением вывели судно на курс и подняли ровдужный парус, смазанный жиром. Ветер вздул его, зажурчала вода под днищем. На селиверстовском коче без суеты выбрали якорь и вышли из протоки. Над судном тоже взметнулся парус, и оно стало быстро нагонять оторвавшийся торговый коч. Бугор с Вилюем бросились помогать ветру силой весел, но Селиверстов догнал их, хитроумно закрыл своим парусом ветер так, что ровдуга соперников обвисла и заполоскала, громогласно захохотал, показывая Бугру срамные знаки. Его коч обошел соперников в такой близости, что задел концом реи. Посрамленные Вилюй с Бугром хлопали глазами, скрежетали зубами и беспутно срамословили.
— Водяной дедушка ему родня! — глядя вслед удалявшемуся судну, не смог скрыть восхищения Степан. — Правду говорят, нет морехода удачливей!
К вечеру Юшин парус был в версте от них.
— Ну и пусть! — смирился Бугор. — Нам идти следом безопасней.
При солнце и светлыми ночами селиверстовский коч долго маячил впереди, превращаясь в темное пятно, а другой, боязливо прижимаясь к мелководному тундровому берегу, ловил менявшийся ветер и выгребал своей силой, его парус то и дело полоскал. Впереди показались плавучие льды. С грехом пополам, этому кочу удалось миновать устье Алазеи, к Индигирке он пробивался на веслах, отталкивая льдины и уклоняясь от подступавшего ледового месива. Но морской Никола не оставил помощью, помог укрыться в протоке. Селиверстова там не было.
— У кого глаза моложе? — крикнул Бугор с носа судна, указывая на унылый тундровый берег.
Кормщик, бросив руль, подбежал к нему, всмотрелся из-под руки:
— Лодка под берегом! Похоже, казаки перебирают сеть.
Гребцы опустили весла, все вместе высмотрели шатер из кож, курившийся дым костра. Коч тоже был замечен и лодка стала выгребать к нему из-под берега.
— Гришка, что ли? — свесившись за борт, крикнул Бугор. Казак в лодке обернулся. — Это же Гришка Татаринов! — уверенней объявил Василий.
Лодка приткнулась к кочу, на борт взобрался якутский казак, со смехом обнял Бугра, весело поприветствовал Евсея и Ветошку:
— Здорово живете, беглецы? Слышал, разбогатели!
— Мы с Гришкой Верхоленский у бурят отбивали, людей Курбатки Иванова спасали от напрасной гибели, а после по его челобитной в тюрьме сидели! — хохоча, тискал казака Бугор. — Как здесь-то оказался?
— Служу в Нижнем индигирском с приказным Коськой Дунаем!
— Кто таков? — стали выспрашивать Евсей с Федькой.
— Сын боярский с Московии, из стрельцов. Пришел с новым воеводой. А я жду оказии на Лену, — закряхтел Татаринов, высвобождаясь из навязчивых объятий Бугра.
— Мы — на Лену!
— Значит, вас жду с челобитными от Коськи и индигирских промышленных.
Коч увели вглубь протоки, в безопасном месте встали на якорь, чтобы дождаться попутного ветра, запастись кормами и водой. Промышленные спустили за борт лодку, казаки, обступив Григория, выспрашивали о ленских новостях. Веки казака набухли, злобно обострились крылья носа.
— Курбатка из Верхоленского ездил в Москву с казной, вернулся сыном боярским, привез из Тобольского жену, двух сыновей и сел на Олекминский приказ. И у Головина, и у Пушкина, и у нынешних воевод в милости… Куда Бог смотрит? — напустился на Бугра, будто тот потакал несправедливости.
— Он добрый казак! — смущаясь злых слов товарища, стал оправдывать Курбата Василий. — И пострадали мы с тобой не сильно от его жалоб…
Григорий только пуще рассердился, стал злей ругать сына боярского.
— Давно это было, Бог с ним, — нахмурившись, осадил его Бугор. — Юшку Селиверстова не видел? Упустили!
Евсей, глядя на Татаринова, тер виски и рассуждал вслух, чем Юша может навредить:
— Мы прощены воеводским указом, правда, за Мишкой не пошли, жалованья не дадут…
— Мне бы брата найти! — завздыхал Бугор. — Со мной в бега не пошел — ладно. Служил бы в Якутском! Так нет. Говорят, подался в другую сторону, на Амур. Гришка не говорил о Лене ничего нового и вразумительного, переводя разговор на Курбата.
— Да я уже все забыл! — начал злиться и досадливо морщиться Бугор. — Скажи лучше, как сюда попал?
Татаринов повеселел, заулыбался:
— Шли из Якутского на шести торговых кочах. Против Святого Носа дунул полуденник, три унесло к Большой земле, — махнул рукой в полуночную сторону с едва видимой полоской белых гор. — Чуть стих ветер, купчишки заорали — скорей назад, пока льдами не затерло. А я им — нет! Пока не погляжу острова, назад не пойду. Два малых обошел на лодке, на один — средний, высаживался, кричал, звал людей, видел следы с аршин и пустую каменную избу. Еще бычьи копыта, во! — Развел пальцы на окружность малого походного котла. — Но торговые с кочей так вопили, что пришлось вернуться…
Судно с тремя беглыми казаками, с ватагой промышленных людей и грузом моржовых клыков с неделю простояло в индигирской протоке. Мореходы отъелись птицей и рыбой, дождались попутного ветра. Только в августе их коч обошел Святой Нос, прибыл в Янский залив и, не заходя в Нижнее янское зимовье, поспешил к устью Лены. Но Крестовая протока оказалась забитой льдом и не только она. Большими трудами мореходам удалось просечься к устью Омолоя. Там уже отстаивались три судна, два из них были казенными.
— Горелый! Ты, что ли? — не сразу узнал морехода Бугор.
— Не помолодел! Белый как лунь! — вместо приветствия ответил казак.
— В какую сторону?
— Опять на Индигирку! — с унынием ответил Андрей Горелый. — И снова нет пути. — Встрепенулся, приосанился: — Может и лучше, что на знакомую реку… Прошлый раз вы с Мишкой хорошо мне помогли.
— Нам и нынче пришлось укрываться на Индигирке, — отговорился Бугор, смущенно приняв благодарность за прошлое. — Приняли грамотки и отписки от тамошних Коськи Дуная и промышленных. Гришку Татаринова видел.
— А я везу им воеводский указ принять Колыму у Ивашки Кожина.
Эта новость Бугра не заинтересовала.
— Мишка вернулся ли? — Хлестнул себя ладонью по лысеющей макушке. — Слышал, Федьку Чукичева отправили на Гижигу. Что не тебя?
— Про Мишку ничего не знаю, а Федька нынче в чине сына боярского! — с натужной веселостью сообщил Горелый.
— Слыхал! А что не ты?
— Припомнили давленый коч! — вздохнул бывший спутник Стадухина по оймяконскому походу, злей добавил: — Чины выслуживают при острогах, а не на дальних службах!
Почувствовав, что казак не желает говорить о себе, Бугор стал выспрашивать ленские новости.
— С тех пор как вы бежали, переменили трех воевод! — отвечал Горелый. — Пушкина и Францбекова за приставами увезли для сыска. Последнего, стольника Ивана Павловича Акинфова и дьяка Осипа Степанова мирно переменили царский стольник Михайла Семенович Лодыженский и дьяк Федор Васильевич Тонков. Нынче они правят. Ничего плохого про них не скажу.
— Ляхи, что ли?
— Бояре! — с тоской в глазах пожал плечами Андрей. — Не балует, однако, погода! — пожаловался, оглядывая низкое небо. — А Юшка Селиверстов успел, проскочил в Лену. Удачлив!
На коче казачьего десятника Горелого на Индигирку шли торговые, промышленные и служилые люди. Казаки с государевым жалованьем могли переждать зиму на службах, а промышленным и торговым сидеть на месте и проедаться накладно. Промыслов на Омолое не было, на Яне — худые. Ватага с коча Андрея Горелого хотела выбираться на Индигирку сухим путем, и Бог послал им бывальцев, прошедших всю полночную сторону Великого Камня до устья Анадыря. Торговые выспрашивали про волоки, про зверовые места на Колыме и Анадыре, приценивались к моржовым клыкам, предлагали обмен на хлеб почти по якутским ценам, а они снизились вдвое с тех пор, как рожь стали сеять по Лене и Киренге. На другом коче на смену Семену Дежневу и по его челобитной, отправленной с Данилой Филипповым, шел посланный из Якутского острога стрелецкий сотник Амос Михайлов. Одну зиму он просидел в Жиганском остроге, другую вынужденно зазимовал на Омолое. По его словам, беглый ленский казак Данилка, вернувшись с Анадыря, был встречен воеводой с царскими почестями. Амоса послали на Анадырь, а беглеца Данилку — в Москву.
Анадырцы два дня пьянствовали, отвечая на расспросы и в почесть, потом стали торговаться на меха и кость. Якутка ни на шаг не отступала от Бугра, в ее запавших глазах настороженно подрагивали черные ресницы. Вина она не просила, если Василий наливал чарку — не отказывалась, но пила один раз, второй не брала. Потом глядела на огонь и тихонько пела запомнившиеся с детства песни. У нее было завидное для Бугра достоинство: не напиваться до беспамятства, и она строго приглядывала за гулявшим муженьком. А он плакал, поминая друзей, выспрашивая о брате.
— Семейка Шелковников на Охте помер, лет уж семь-восемь, — продолжал травить душу Горелый. — По ту сторону Камня прокормиться легко, трудно отбиться: тысячами нападают…
— Сколько же голов положено, — крестясь, всхлипывал Василий. — За что? За это, что ли? — косился на моржовые клыки.
— Иные в чины вышли: в атаманы, дети боярские, — терпеливо отвечал Андрей.
— На кой чины? — умиляясь своей пьяной жалости, Бугор смахивал слезы с бороды, трубно хлюпал носом, — И людей обижать — грех, и пресмыкаться перед начальствующими! Детьми боярскими — дворяне, теми — стольники и окольничие, а ими бояре так помыкают, как не смеют казаками и стрельцами. Бояре, сказывают, всю жизнь перед царем на карачках ползают… Для чего? — стучал кулаком по столешнице. — И что я с Мишкой разругался? Что не пошел с ним? Вдруг бы в Ирию попал?
— За такие слова в Якутском вытрезвел бы в холодной казенке, а опохмелили бы батогами, — со скрытым вздохом упредил беглого казака Горелый и добавил тише: — И меня бы тряхнули на дыбе, что слушал, а не донес.
— Знаю! — смиряясь, всхлипнул Бугор. — Понять не могу, зачем туда плыву. Брата надо найти. Не слыхал про Илейку-то? — перепросил в который раз, будто забывал прежние ответы.
— По слухам, на Амур подался. Туда многие бежали. Ярка Хабарова в Москву приставы возили, а он перед царем так отбрехался, что вернулся сыном боярским.
— Тьфу на них! — пьяно выругался Бугор и насторожился. — А на Амуре что?
— Война! — скривился Горелый. — Хлеба, говорят, вволю, добра всякого на погромах много берут. И на Руси — сколько себя помню, все война: то с ляхами, то с турками, то со шведами. Летом опять собирали деньги на ляхов.
— Тьфу! — опять ругнулся Василий и тихо, по-щенячьи заскулил. — Не хочу туда, а надо!
Вилюйские промышленные Петруха Михайлов с Терехом Микитиным гуляли с размахом, выспрашивали о Лене, откуда давно ушли. Новости их не радовали, возвращение не сулило ничего хорошего. По просьбам и посулам промышленных людей, застрявших на Омолое, они продали остатки паевой кости торговому человеку и решили вернуться на Колыму сухим путем.
В те дни, когда в ожидании попутного ветра на устье Колымы собачились Васька Бугор с Юшкой Селиверстовым, Михей Стадухин с братом и последними охочими сидел в укрепленном зимовье на устье Тауи и обыденно отбивался от нападения ламутов. После того как на ближайшей реке нашлись русские могилы и остатки зимовья, он как-то разом успокоился, уже не вскакивал по утрам, но подолгу лежал, глядя в потолок незрячими глазами, ждал, когда отдохнут и поднимутся другие. И в работах заленился: уже не хватался первым, но часто замирал в задумчивости с топором или с ложкой в руке.
Во времена, когда Юша Селиверстов вез с Анадыря на Колыму груз моржовой кости, его зимовье до самой крыши было завалено снегом. С горных вершин Великого Камня неделями дул, выл и буйствовал студеный северный ветер. Михей прислушивался и чудилось ему, будто хохочет бес, прельщавший обойти Камень, суливший славу и богатство, которые и нужны-то были не столько самому, сколько для жены и сына, а они были потеряны. Пусть не по самому краю, но он обошел Камень, пусть недолго, но был первым. Но теперь Дух, манивший чудесами благодатной земли, смущенно помалкивал, а то и корил пролитой кровью товарищей. «Ангел или бес?» — Теребил бороду казак, вспоминал Пашку Левонтьева, наставлявшего не верить сердцу своему, будто по словам Спасителя, через него прельщает бес. Время от времени его тяжкие мысли прерывались ощущением опасности. От этого становилось легче. Душа растекалась по округе, забывала саму себя, и старший Стадухин, позевывая, предупреждал:
— Крадутся в полуверсте. Хотят аманатов отбить, нас пограбить, железо забрать!
Его сердце остыло. Он давно не чувствовал неприязни ни к корякам, ни к ламутам, перебившим его людей. Выжившие товарищи в большинстве сроднились с теми и другими через ясырок и относились к их единокровникам снисходительно. Женщинами в ватажке менялись, их проигрывали и выигрывали, отдавали за долги, но в русских зимовьях им жилось лучше, чем в своих беспрестанно воевавших родовых селениях. Неприхотливые в обыденной жизни, они были сыты, рожали детей и радовались благополучию. Их детей в зимовьях ни в чем не ущемляли, они имели равные права с казаками и промышленными людьми. А единокровные народы, избалованные обилием еды в лесах и реках, шалили, не понимая выгод порядка, который кровью русских людей давал им русский царь.
Время от времени беды вразумляли ламутов: при очередном нападении коряков они прибегали за помощью. Служилые и промышленные прогоняли врагов, на какое-то время наступал мир, некоторые роды добровольно давали ясак и аманатов для верности. Но доброй памяти надолго не хватало, и снова начинались стычки. Когда шла на нерест рыба — они перерастали в непрерывные нападения. Аманаты рассказывали, что казаки, которые приходили в здешние места до стадухинского отряда, захватили их лучших соплеменников: Тавуна илкагирского и Лукача убзирского родов. За первого родственники дали выкуп соболями, второй приказал, чтобы за него не платили, но убивали чужаков. Весной его сородичи подожгли зимовье. Нападение было отбито, на погроме казаки взяли у ламутов много добра, а Лукач умер от печали. По туманным рассказам в плохих переводах на русский язык Михей Стадухин догадывался, что еще до встречи с людьми Ермила Васильева ламутам были известны казаки, огненный бой и многие русские обычаи. Ясного ответа на свои домыслы он не получал, но предполагал, что духом этой войны верховодит некий умный тойон или шаман, живший среди русского народа, знавший Бога и казачье воинское искусство. Все чаще ему вспоминался Чуна, плененный на Оймяконе, многие разговоры с ним. Семен Шелковников не внял советам и взял новокреста в отряд. «Как сложились их судьбы и службы?» — гадал атаман, и чем дольше жил в этих местах, тем бессмысленней представлялся ему нынешний поход. Он замкнулся от товарищей, зато мысленные споры с Чуной и ленским пропойцей, пророчившим разрядное атаманство, славу и богатство, стали навязчивой болезнью. Забываясь, Михей начинал спорить с ними вслух, ловил испуганные взгляды спутников, спохватывался, оправдывался, пытался смеяться над собой.
Когда снежная зима с ледяными материковыми ветрами стала меняться сырым, прохладным летом, голодной весенней порой, было затишье в нападениях. Среди осевших сугробов пробивалась зелень, спешно поднимались цветы, улавливая всякий случайный, рассеянный лучик солнца. Михей тесал весло в полусотне шагов от зимовья. На частоколе бочком сидел Тарх, одной рукой отмахивался от гнуса, другой болтал, раздувая тлевший трут из березового гриба. Из-за тына торчал ствол пищали. Брат был в карауле. Из лесу вышел медведь. Атаман, занятый веслом, не сразу почувствовал его приближение, обернулся, когда зверь показался из-за деревьев. Ощущения были причудливыми: взглянув на медведя, Стадухин ясно вспомнил Чуну, его лицо, спокойный голос, уверенный в своей правоте дух. Что-то похожее исходило от зверя. Михею показалось, что такого красавца он не видел во всю прежнюю жизнь. Медведь был почти двух аршин в холке, широкий лоб, свисавшие брылы, как шаманьи волосы, длинная шерсть на лапах колыхалась крыльями морских птиц, шевелилась в такт шагам. Сильный, здоровый, чистый, шерстинка к шерстинке, беззлобный от уверенности в своей силе, он надвигался на казака. Страха не было. Любопытней всего Михею казались маленькие глаза зверя, в которых высвечивался плутоватый и насмешливый ум шамана Чуны. На миг даже почудилось, что это он и есть в медвежьем облике. На глазах изумленного брата, глядевшего на них с частокола, Михей прислонил недотесаное весло к стволу дерева, легонько метнул топор, воткнув его в кору.
— Почему на этот раз уродился медведем, если жил для своего народа? — неожиданно для самого себя спросил и смешливо хмыкнул в бороду: — Прельстился жалованьем толмача?
Медведь, не сбавляя и не прибавляя шага, мотнул лобастой головой. В подслеповатых глазках вспыхнуло что-то недоброе, заставившее Михея потянуть нож из-за голенища. У зимовья закричали. Товарищи не могли стрелять, опасаясь попасть в атамана. Кто-то пальнул в воздух, истратив ценный заряд пороха и свинца. У зверя дрогнули тонкие черные губы под таким же черным носом, чуть обнажились зубы. Это было похоже на усмешку. Выстрел не испугал его.
— И впрямь Чуна! — удивленно пробормотал Михей, опуская нож лезвием книзу.
В лицо пахнуло жаром и едким запахом зверя, но он не почувствовал в нем злобы или угрозы. Скорей, от медведя струилась доброжелательность, смешанная с каким-то причудливым покаянием. Он поравнялся с человеком, легонько толкнул его боком и двинулся дальше к устью реки, подставляясь под выстрелы людей в зимовье.
— Не стрелять! — закричал Стадухин и с ножом в руке выбежал вперед, прикрывая собой зверя.
Медведь окинул его подслеповатым взглядом. Черные губы опять дрогнули. Михею показалось, что он шепеляво хоркнул:
— Узнал, казак? — Чуть косолапя, обогнул почерневший сугроб, скрытый от солнца ветвями, ушел за деревья, где выстрелы были неопасны.
— Ты что? Ополоумел? — слезливым голосом завопил с частокола Тарх.
— Наш атаман давно умишко потерял! — громко выругался Калинка Куропот, перебирая пальцами тетиву тунгусского лука с положенной на нее стрелой при железном наконечнике. — Пора менять!
— Кликните другого! — рассеянно ответил Стадухин. В мыслях и чувствах он был с медведем.
— Из кого? — Калинка вдруг сорвался на крик. — Нас осталось десяток калек.
Михей сунул нож за голяшку ичига, поднял глаза на обступивших его товарищей, перевел на брата с перекошенным лицом и пояснил:
— Я супротив них заговор знаю!
— Топор-то зачем бросил? — успокаиваясь, всхлипнул Тарх.
— Нельзя читать заговор с топором!
— Срамота! — сплюнул Калинка. — Вдруг кто выберется живым на Лену. Спросят про лихого казака Мишку Стадухина. Язык не повернется сказать — медведь задрал! Тьфу! — Еще раз в сердцах сплюнул под ноги.
Это было весной, а летом одна осада меняла другую, припас свинца и пороха кончался. Зимовейщики отстреливались из луков стрелами нападавших и берегли коч, который ламуты пытались сжечь. За него дрались жестоко, выходя из-за тына на погромы с саблями, тесаками, топорами. Мира и единства среди осаждавших не было. Если при стычках им не удавалось никого убить или хотя бы отбить аманатов и женщин, одни роды винили в этом других, те валили на соседей, плативших ясак, ясачники прибегали за защитой, просили помощи, потом снова изменяли. После очередного нападения Тарх твердо сказал, не глядя в глаза брату:
— Надо уходить!
— Надо! — пробормотал Михей и, помолчав, добавил: — Дольше сидеть — всем гибель!
Вера, с которой он шел и плыл сюда, пропала еще на пепелище Ермилового зимовья. Блазнившаяся слава поманила и ускользнула, как он сам из объятий любимой женщины, и достанется тому, кто пришел сюда первым: так заведено на Руси, а может быть, и на всем белом свете. Калинка Куропот, зазывавший Стадухина в этот поход с Анадыря, а теперь мучимый гниющими ранами, принял его печальную заминку за сомнение, бросил на него колючий и требовательный взгляд:
— Со дня на день ветер переменится!
Окинув виноватыми глазами товарищей, Михей кивнул, соглашаясь. Уже не было нужды собираться в круг, спрашивать каждого: по лицам все было понятно. Чтобы спустить коч на воду и выйти в залив, надо было отогнать осаждавших от зимовья, а их собралось сотни полторы. Ламуты прятались за деревьями и кустарником, присматривались, чтобы пойти на очередной приступ, поджечь или проломить частокол.
— Аманатов отпустим? — спросил брата Тарх.
— Полезут пуще прежнего…
— Надо отпустить одного с подарком, — тяжело дыша, подсказал Калинка.
— У нас есть две гривенницы бисера.
— Думаешь, станут делить и передерутся?
— А чем они лучше наших? — едко скривился промышленный.
— Пятерых с собой возьмем! — поддержал его Тарх. — После где-нибудь высадим. Как быть с женками?
— Сами решайте! — досадливо отмахнулся атаман.
Пытаясь отстраниться от своей безнадежной тоски по Арине, он пробовал сожительствовать с анадырской анаулкой, потом с ламуткой. С той и другой было плохо. Михей оставил их и больше не пытался сблизиться с женщинами, но не запрещал этого товарищам.
— Кто захочет идти с нами — заберем, кто нет — тем воля! — как о разумеющемся объявил Тарх.
— Можно попробовать, — поколебавшись, согласился Михей. — Наградим самого захудалого аманата, под которого родня не дала ясак.
Тарх снял колодки с одного из безучастно сидевших заложников, вывел к воротам, вложил ему в руку кожаный узелок с бисером и откинул закладной брус.
— Иди! — мотнул головой в сторону леса.
В щелках глаз ламута недоуменно блеснули черные бусинки. Сжав в руке узелок, он сиганул в сторону, как поднятый с лежки заяц, пригибаясь и виляя из стороны в сторону, побежал на полусогнутых ногах. Хитрость удалась, ламуты отступили вглубь леса и на кошку, где стояли их берестяные чумы. Воспользовавшись этим, ватажка собрала пожитки, охочие взвалили мешки на заложников, сами понесли к кочу раненых товарищей. Из семи ясырок две остались в зимовье: корячка и ламутка.
— Дура! — на прощание обругал женку Тарх. — Чем плохо было со мной?
Корячка что-то неприязненно гыркнула. Тарх подхватил пищаль, не оборачиваясь, пошел следом за товарищами к кочу, который стоял на покатах в двух десятках шагов. В нем укрывались трое, стерегли со стороны реки.
— Мы тут тоже говорим — уходить надо! — Стали помогать складывать добро. — Скоро начнется отлив!
Они приняли раненых, положили их на одеяла. Поднявшаяся вода стояла в реке, как в озере, замерев в противоборстве течения и прилива, чуть бугрилась волнами в месте спора. Рассеялись облака, обнажились синева и багрянец здешнего вечера. Солнце беспечно висело над розовеющей водой.
— Налегай! — скомандовал Михей и уперся плечом в борт.
Коч соскользнул на воду, закачался, оживая. Ламуты увидели, что пришельцы бросили зимовье, завыли, подступая к незащищенному частоколу. Несколько стрел чмокнули воду возле судна.
— Теперь вся рыба в речке ваша! — обернувшись к озиравшимся заложникам, съязвил Тарх. — Ешьте на здоровье!
— Вспомнят еще добрым словом, когда коряки придут! — Стадухины бросили на воду лаги и последними вскарабкались на борт.
Река потекла к морю. По пояс мокрые гребцы разобрали шесты и весла. Брошенные аманаты постояли в недоумении, поняли, что отпущены, и побрели к берегу. Едва на судне подняли парус — над зимовьем закурился дымок.
— Придурошные! — с сожалением выругался Калинка. — Могли бы от чужаков спасаться.
— От большой любви к нам! — усмехнулся старший Стадухин. — Ну, и куда теперь? — спросил с кривой усмешкой в седеющей бороде. Золотившиеся когда-то усы как-то незаметно вылиняли в один цвет с ней. — На Гижигу или Пенжину? Может быть, на Погычу?
— Лишь бы не в обратную сторону! — ответил Тарх, поглядывая на ясное солнце и непонятно чему радуясь.
— Бог выведет по грехам! — буркнул Калинка. — Кому что на роду написано — то и сбудется!
— Мое сбылось! — холодно скалясь, сквозь зубы процедил Михей. — Хоть бы вам выйти на Лену! — взглянул на брата. — Мне-то уже разве только на правеж к Господу!
— Великому мужу и честь велика! — с претерпеваемой болью в лице вздохнул Калинка, задрал полу кожаной рубахи, обнажив повязку из листьев. Она была напитана гноем и сукровицей.
А возле устья речки все выше поднимался столб дыма. Ламуты весело плясали возле горящего зимовья и победно потрясали оружием.
— Не глумитесь! — укорил говоривших Тарх. — Силком нас никто не гнал. Сами судьбу выбирали.
— Бог рассудит! — мотнул бородой Михей и приказал крепить парус.
Отмель, прикрывавшую вход в устье реки, удалось обойти на веслах при отливе. За ней ветер дул порывами, морщиня пологие спины волн узкими полосами. Парус мотало и полоскало, пришлось его спустить. Опять на веслах гребцы повели судно в виду сопок. На другие сутки обошли мыс.
— Ни воды, ни еды! — пожаловался брату Тарх. — Женки жуют кожу.
— Высматривай речку! — бесстрастно ответил Михей.
Так, останавливаясь, чтобы набрать воды, наловить рыбы, накопать корней, они неспешно плыли в неведомый край. Чаще всего дули гнилые ветры с востока: сырые с дождями и туманами. Раненые умирали, их предавали земле, на видном месте ставили кресты, которыми отмечали путь от самой Пенжины.
— Красота-то какая! — отвлекаясь от мрачных мыслей, указал на берег Тарх. — На наши родные места похоже.
Михей обернулся, неприязненно щурясь, проворчал:
— Ничего хорошего по эту сторону Камня нет. Глазу остановиться не на чем… Там Ангара, Индигирка, Колыма. А тут… — Шевельнул губами в бороде, будто хотел сплюнуть, но не решился рассердить водяного.
Ветер гнал волну с юго-запада. Скручиваясь белой трубой, она неслась вдоль высокого, ровного, покатого берега из песка и окатыша. На нем густо, без обычных криков, сидели чайки. По мокрой полосе бегали трясогузки, собирая выброшенные морем корма. Вода в бочке кончилась, одежда гребцов и женщин отсырела. А на берегу валялось много плавника. По верхней кромке мотались на ветру зеленая трава и кустарник. Впереди показался долгий мыс, похожий на вытянутую по воде в море журавлиную шею и голову с длинным острым клювом. В этом месте к берегу выходил хребет сопочника и заканчивался округлой горой вроде туловища птицы. За ним тянулась вдаль цепь безлесого отрога и уходила к едва видневшимся с моря снежным вершинам.
— За мысом должна быть речка! — указал Михей. — Он прикроет от волн, надо только подналечь на весла, чтобы не пронесло.
Коч обошел мелководье. За мысом глазу открылись зелень травы и высокий ивняк, низко спускавшийся к воде. Здесь не хлестал берег обычный пенистый бурун. По команде кормщика гребцы изо всех сил налегли на весла, но коч продвигался медленно, потому что ватажка уменьшилась наполовину и оставшимся в живых не хватало сил. К тому же тяжелый плоскодонный коч стал опасно раскачиваться, подставившись бортом к волне, его сносило за мыс, и вскоре стало ясно, что к устью речки не выгрести.
— Может, на берег выбросимся? — спросил брата Тарх. — А что? Не так уж и высока волна. Удержимся. Плавника много, подложим поката, вытянем за полосу прибоя. Он нам и поможет, попинывая в корму.
Старший Стадухин нахмурился предложение брата было опасным. Но надрывно пищали младенцы на руках оголодавших женок, обиженно грызли их иссохшие груди.
— Выброситься можно, только хватит ли сил потом столкнуться на воду?.. Хотя… Отлив.
— Сильно пить хочется! — зароптали спутники, глядя на заворачивавшиеся волны, бегущие по ровному, укатанному прибоем берегу.
— Господи, благослови! — пробормотал Михей, разворачивая нос судна к суше.
Коч резко ткнулся в окатыш. Четверо соскочили за борт, удерживая его за трос. Но другая волна, ударив в борт, повернула корму, третья захлестнула судно, вымочив людей. Женки с детьми быстро выбрались на сушу и отбежали на безопасное расстояние. Похрустывая окатышем, резвая бездетная девка взобралась наверх, замахала руками, радостно закричала. Ее поняли. Коч выбросился на кошку, за ней была река. Кое-как судно удалось закрепить. Волна не стягивала его обратно в море, но захлестывала корму и борт. Коч быстро наполнился водой и, полузатопленный, перестал дергаться. Михей поднялся на кошку. Она была широка, местами заросла кустарником, высоким пыреем и другими травами. Посреди реки на намытом островке виднелся русский коч по самые борта занесенный песком. Сверху открылись оконечность кошки и устье реки, впадавшей в море. До него оставалось версты полторы. Можно было без мук войти в реку, но бес попутал выброситься на сушу в самом неподходящем месте. Вода в реке оказалась даже несолоноватой. Путники напились, переренесли через кошку берестянку с изодранной сетью, чтобы наловить рыбы. Михей с Тархом стали разжигать костер. Едва он задымил, атамана окликнул промышленный и махнул рукой к полуночи. Он вскинул глаза, пригляделся. На дальнем конце кошки, возле леса, мельтешили четыре пятна, похожие на людей. Они приближались к костру.
— Вроде наши! — пристально вглядываясь, бормотал Тарх. — И коч наш, — кивнул на середину реки.
— Неужели до москвитинского зимовья дошли? — Михей с тоской в глазах скривил губы в бороде.
Четверо русичей, вооруженных мушкетами и фузеями, приблизились к обсохшему кочу, помахали шапками и вскоре подошли к костру.
— Куда же вы пристали? — весело укорил стадухинских спутников незнакомый служилый. — Заметет волнами, как этот, — мотнул бородой в сторону гнивших остатков коча на острове.
— Вы чьи будете? — строго спросил Стадухин.
— Якутского острога служилые. А вы?
— И мы Якутского, только плывем от Пенжины, а идем от Колымы!
Сивобородый присвистнул, сбил шапку на затылок, обнажив глубокие залысины. Михей назвался, тот дурашливо отшатнулся и открестился:
— Чур меня! В Якутском сказывали — пропал! — и продолжил приветливей:
— Оттуда еще никто не приходил. Вы — первые! А мы в трех верстах отсюда ставим ясачный острожек на месте сгоревшего, шелковниковского.
— Хоть так первые! — желчно усмехнулся старший Стадухин и спросил: — Семейка-то жив ли?
— Помер! Давно, еще в старом острожке, — обыденно ответил седобородый и строже добавил: — А нас послал приказный, сын боярский Андрей Булыгин. Видели, как вас куряло. Велел помочь провести коч в устье Охоты. Сами вы нипочем не пройдете.
Опустив глаза, Михей снял шапку, перекрестился, положив поклоны на восход. За ним стали поминать енисейского торгового, усть-кутского целовальника и якутского казака-десятника знавшие его люди. Тем временем гости со всех сторон осмотрели полузатопленное судно, плутовато поглядывая на ясырок, стали бойко отвечать на расспросы. Старший Стадухин слушал их и вспоминал пророчество хмельного бражника в ленском кабаке. Озадачив пришлых людей, говоривших о здешних делах, спросил вдруг:
— Ярко Хабаров жив ли?
— Уходили из Якутского, был жив! Поверстан в средний чин.
— Раз служит в детях боярских, судьба ему помереть от старости, — поморщился Михей, удивляя сказанной нелепицей.
Сивобородый с прищуром взглянул на солнце, потом на ясырок, чистивших рыбу.
— Долго еще простоим. Подкрепитесь, отдохните… Рыбы здесь много, хлеба нет…
— Мы про хлеб забыли. Последний раз на Анадыре ели.
— И мы в пост сквернимся, бывает, морских пауков варим. Ничего. Живы. А Бог милостив, простит!
— Что за народишки здесь по реке?
— А ламуты сидячие! То и дело бунтуют, собираются толпами сотен по пять и больше. Да ладно бы… — вздохнул сивобородый. — Огненного боя не боятся, наш строй знают.
— Откуда? — вскинул заблестевшие глаза Михей. — Мы тоже приметили.
Охотские служилые стали обстоятельней рассказывать, что в москвитинском зимовье на реке Улье Василий Поярков оставил семнадцать служилых под началом Ермила Васильева. На подмогу им пришел Семен Шелковников с большим отрядом. И был у него ламутский аманат…
— Чуна?! — Стадухин впился взглядом в говорившего.
— Задолго до нас это было, — смутился сивобородый. — Мы с воеводой Лодыженским из Тобольского пришли. По слухам, тот аманат бежал где-то в верховьях и верховодил бунтовщиками, собирал их тысячами. Летом Шелковников с полусотней охочих и служилых отправился сюда, на Охоту, где много рыбы, зверя и людей: места эти разведали еще люди Ивана Москвитина. Но здесь шелковниковских охочих уже ждали. Семейка со своими и ермиловскими отбился, поднялся по реке и поставил острожек. Закрепившись, отправил встреч солнца половину отряда под началом Алексы Филиппова и Ермила Васильева. Они дошли до реки Мотыклеи, где тоже много ламутов, поставили зимовье с частоколом, подводили под государеву руку тамошние народы и продержались года с два.
— Выбили их и сожгли! — перебил рассказчика Стадухин. — Мы в тех местах пережили три зимы, видели сгоревшее зимовье и крест Ермила, — опять скинул шапку.
— А Шелковников был здесь в непрестанной осаде. Когда стало совсем худо, отправил посыльного в Якутский с просьбой о помощи. На выручку пришел с отрядом казак Семейка Епишев. Писал воеводам, что его встретили десять сотен ламутов сбруйных и ружейных, в реку не пускали, не давали соединиться с Шелковником. Но Епишев все же прорвался, застал острожек целым. Говорил, будто вокруг стояли ламутские чумы, горели костры, женки готовили еду, мужики ловили рыбу. В острожке же чуть живы от голода сидели два десятка наших, а Семейка помер. Епишев освободил и накормил их, принял от целовальника двадцать два сорока ясачных соболей…
Тарх присвистнул:
— Хорошо, однако, сидели!
— Есть соболишко, — с пониманием кивнул сивобородый. — Похуже колымского, зато много. Только Епишев с казаками недолго продержался: из-за нападений бросил острожек и уплыл на Улью. Аманаты разбежались, ламуты острог сожгли и растащили. Мы заново строим, воюем, аманатим, и вам придется здесь зимовать. Через Камень идти поздно…
— Пора! — Сивобородый кивнул на стихающий спор воды в устье. — Отчерпаем воду из вашего коча — а там, вместе, даст Бог, столкнем его в море, пока не занесло песком.
14. Награды и счастье живых
Той осенью, когда остатки стадухинской полусотни встретились с ленскими казаками Андрея Булыгина, а Бугор пьянствовал на Омолое, Юша Селиверстов сумел пригнать коч к Жиганскому острожку и заставил своих людей вытянуть его на берег. Утром по реке пошла шуга.
— Головой думать надо! — хвастал удачей, гоголем похаживал среди служилых, торговых и гулящих насельников, выспрашивал ленские новости, об Анадыре же старался помалкивать, и в некогда ясных глазах его тлела розовая муть прожилок.
Добыча говорила за себя: шестьдесят восемь пудов рыбьего зуба, взвешенные жиганскими таможенниками, привели в изумление всех бывших здесь людей. Столько кости не провозил никто. Желавших угостить и разговорить Селиверстова было много. Но он удерживался от хмельного и уклонялся от бесед, с озабоченным видом ходил на реку, долбил пешней крепнущий лед, скупал нарты и нанимал гулящих людей, тянуть груз до Якутского острога. Новости же оттуда были двоякие: воеводу Францбекова увезли в Москву за приставами по жалобам о вымогательствах. Это хорошо! На то Юша и надеялся, когда уговаривался о дележе прибыли. Беда, что с тех пор воеводу Ивана Акинфова сменил воевода Михайла Лодыженский и, по слухам, у него были в чести торговые люди, грабившие Селиверстова на Яне. Юша ломал голову, как взять с них долг за отнятое добро. За годы, проведенные в походе, он так часто говорил про обещанные казне пятьдесят пудов кости, что поверил в это сам. И все же время от времени бес злорадно напоминал, что кроме кабал воеводе Францбекову им был подписан уговор на отдачу двух из трех частей прибыли. К тому же Юша обязывался привезти шестьдесят сороков колымских соболей по тамошним ценам, за которые взял деньги перед походом. Были и другие долги. По его мысленному рассуждению, если новый воевода возьмет в казну пятьдесят пудов кости, то он хотя бы вернет свои кровные вложенные в дело двести рублей, что-то останется от скупленных на Колыме соболей. Если воевода потребует все по письменному уговору — быть в долгах великих. «Каким местом думал, когда подписывал грамоту!» — язвил бес. Селиверстов в споре с ним пересчитывал, с чем бы мог явиться в Якутский острог, кабы не паводок да не угнанный ветром коч, и ревностно доказывал себе, что делал все правильно, но Бог попустил, а лютый взыскал.
Едва окреп лед, Юша ушел к Якутскому острогу с караваном собачьих упряжек. За нарты, труд и хлеб уговорился расплатиться деньгами, не скупился на задаток, не обманывал, но и не давал погонщикам передышки. С измотанными людьми и собаками он прибыл на место к Михайлову дню. Время было позднее, ворота заперты, но воротник с караульным казаком, узнав, какой груз и откуда, впустили всех. Погонщики подвели упряжки к съезжей избе, собаки легли на снег, Юша в изнеможении упал на тесовое крыльцо. На этот раз он не притворялся, силы оставили его. Собаки выгрызали лед из лап, погонщики едва передвигались от усталости. Был сумеречный вечер с низким серым небом, сквозь которое тускло пробивался свет зажигавшихся звезд. Воевода и служилые люди отдыхали. Ни одного знакомого человека Селиверстов не встретил. Таможенный казак бегло осмотрел груз, открыл съезжую избу, велел заволочь нарты в сени, выдал из казны рыбу на питание собакам и людям, отправил всех на ночлег в свободную тюрьму. А при остроге их было больше десятка. Селиверстову все это показалось плохим знаком, но спорить не было сил, к тому же казенка оказалась хорошо протопленной прислуживавшей якуткой. Отогревшись, его люди разомлели и опустились на земляной пол. Утром Юша почувствовал себя отдохнувшим и голодным. Он наелся холодной рыбы, сваренной якуткой, стал чистить и расправлять смятый кафтан, чтобы предстать перед воеводой в красной одежде. Голова его работала ясно, придумывая новые слова оправданий на разные случаи опроса.
— Где тут вчерашние? — рявкнул кто-то за тесовой дверью.
Селиверстов с готовностью распахнул ее, увидел незнакомого казака, привезенного новым воеводой, поскольку тот держался не по чину важно и самоуверенно.
— Кормите собак! — приказал и добавил, бросив уважительный взгляд на шапку, обшитую черными собольими спинками: — Спозаранку воют, запертые!
Погонщики стали одеваться, Юша вышел следом за ними. Не дождавшись посыльного от воеводы или письменного головы, встал у крыльца съезжей избы, напоминая о себе. Все для него было новым, будто ушел отсюда лет десять назад. Наконец, на холод выскочил служка в жупане, с лицом, похожим на моржовую морду без клыков, огляделся, поежился, задирая плечи к ушам, окликнул, дыхнув паром из-под усов, нависших до выбритого подбородка. Нарты стояли в сенях с оттаявшими, но не развязанными узлами ремней. Возле них на лавке сидел торговый человек со знакомым лицом. Соболья шапка лежала на его коленях, редкие русые волосы были аккуратно расчесаны на пробор и свисали до плеч, сквозь них просвечивали темечко и макушка. Приглядевшись, Юша узнал свешниковского приказчика Федьку Катаева из бывших стадухинских казаков. На вопросительный взгляд Селиверстова тот кивнул и рассмеялся:
— Гляди узлы! Не вскрывал ли кто твои животы!
— А ты кто такой? — заносчиво спросил было Селиверстов.
— Целовальник! — коротко ответил Федька и опять утробно хохотнул: — Был казаком на Оймяконе и Колыме, потом торговым, нынче выбрали целовальником. Чего только не случится на этом свете, — самодовольно ухмыльнулся и спросил: — Как там Мишка Стадухин, жив ли?
— Пропал! — неохотно ответил Селиверстов, осматривая узлы. Вскинул плутовато прищуренные глаза: — Мстить будешь за Мишкин грех?
— Нет! — резко ответил Федька. — Я на него зла не держу. Правильный был казак! — Перекрестился. — Теперь и не пойму, отчего его не любили: работал больше всех, под стрелы лез первым, чужого не брал…
Селиверстов почуял в Федькиных словах намек на свои грехи, прокашлялся, пожал плечами, отмолчался. Смотр привезенной кости и рухляди велся при таможенном и письменном головах, при целовальнике Федьке Федорове Катаеве. Последним пришел дьяк, потребовал наказную память, сверил ее с принятой от Францбекова. Таможенный голова, наглядевшись на отборные клыки, побежал к воеводе сообщить о прибытии охочего человека с Анадыря. Селиверстов при начальных людях старался помалкивать, только пометывал на них быстрые скользкие взгляды и гадал, как с него потребуют явленное при Францбекове. Примечая восхищенные лица служилых, надеялся, что возьмут десятину и отпустят. Казаки поставили кресло, накрыли его шкурами. В избу вошел воевода в куцем нерусском кафтанишке, при ляшских усах, с толстым, гладко выбритым подбородком, как это нынче было принято у большинства людей царских чинов. Дородный и одышливый, он важно сел на приготовленное место, с любопытством уставился на рыбий зуб и привезенную рухлядь. От его приветливого вида на сердце Юши потеплело. При воеводе, дьяке и целовальнике заново была пересчитана, перевешана кость, перещупаны соболя и лисы. Со всего привезенного вычли десятину. Федька привел торговых людей. Они степенно откланялись воеводе, оценили оставшуюся рухлядь и кость.
— Что у нас по Селиверстову? — не поворачивая тяжелой головы на короткой толстой шее, спросил письменного голову воевода-стольник.
Тот пошуршал свитками бумаг, обыденным голосом ответил:
— При сыске у прежнего воеводы Дмитрия Андреевича было найдено на его имя кабальных грамот на три тысячи шестьсот рублей с мелочью.
— Взыскать долг? — спросил воевода у дьяка.
— Пожалуй, так! — накоротке ответил тот, соглашаясь, что это справедливо, окинул взглядом моржовые клыки, переговорил с таможенным и письменным головами, те закивали. Федька Катаев с угодливым видом стоял в стороне, показывая, что готов согласиться с каждым их словом.
Селиверстов, беззвучно разевая рот, как вытянутая на сушу рыба, соображал, отчего должен оплачивать кабалы, вымученные с него Францбековым. Между тем казаки позвали погонщиков, сидевших на крыльце. Им за работу выплатили из казны по уговору. Довольные расчетом, они ушли, чтобы погулять перед постом.
— Собак самим кормить! — крикнул вслед казак, приходивший утром в тюрьму, даже при воеводе не терявший теперь уже напускной, скоморошьей важности.
А Юша все водил по сторонам побелевшими глазами и думал, что расчет случился для него не самый худший: взяли только долг Францбекову и десятину, о прибыли не вспомнили. Письменный голова долго считал, шевеля губами, потом громко объявил:
— Остается долгов одна тысяча триста девяносто шесть рублей три алтына и деньга.
Пучеглазый воевода пытливо, с угрозой, уставился на Селиверстова и тот, чуть заикаясь, объявил первое, что шепнул на ухо бес:
— Ваське Бугру и Степке Вилюю дал пятнадцать пудов для провоза… Идут следом!
— Зачем передоверил? — удивленно спросил таможенный голова. — У тебя был добрый казенный коч шести саженей.
— А как бы что-то не заладилось? — пролепетал Селиверстов, соображая, что Бугру с Вилюем раньше Троицы в остроге не быть, а, вдруг, и вовсе пропадут в море. — Остальное — на Анадыре, у охочего Артемки Осипова, которого оставил вместо себя. Не было оленей и собак, чтобы вывезти!
Его ответ показался начальным людям удовлетворительным. С сомнением кашлянув, воевода объявил:
— Подождем!
С одежки и шапки обмершего Селиверстова спороли соболей, оценив, бросили в общую кучу и отпустили. Растерянный, ободранный, он вышел на крыльцо съезжей избы и понял вдруг, что идти не к кому. В остроге не было ни одной доброй души, к кому бы он мог обратиться за помощью в немощи и нынешней бедности. Оглядевшись по сторонам, увидел бабу, рвавшуюся к съезжей избе. Не сразу узнал жену Михея Стадухина. Зато она узнала его и окликнула. Казак, не пускавший ее, оглянулся. Юшины глаза вспыхнули, он сбил на ухо ободранную шапку, расправил плечи и бодро двинулся навстречу женщине.
— Где Мишка? Живой ли? — с надеждой и отчаяньем в голосе вскрикнула Арина.
— Покойным никто не видел, — со вздохом ответил Селиверстов. — Разговор про него долгий, — поежился, показывая, что мерзнет.
— Пойдем к нам! — позвала она.
Обнадежившись, Юша двинулся за женщиной в посад. Арина ввела его в дом. В красном углу в шелковой рубахе, струящейся с широких плеч, по-хозяйски сидел младший брат Михея Герасим. На его руках барахтался младенец, по правую руку от него Мишкин сын, входивший в юношескую пору. Степенно крестясь и кланяясь на образа, Селиверстов опять торопливо соображал, что бы это могло значить. Заматеревший и кое-что наживший Герасим поднялся навстречу гостю, ответил на его поклон, указал на место за столом:
— Раздевайся, грейся, садись!
Пока Селиверстов топтался возле печки и снимал кафтан, он перекинул младенца с руки на руку, достал откуда-то березовую флягу в медных обручах.
— Выпьешь ли с дороги во славу Божью? — спросил и вскинул глаза на Арину.
Застывшая в распахнутой дохе, она так и стояла у двери в ожидании новостей. Герасим словно напомнил ей о госте. Она сорвалась с места, бросила верхнюю одежду на лавку, начала выставлять чарки, закусь.
— Подкрепись Христа ради! — усадила гостя за стол.
Юша сел, Арина взяла с рук Герасима запищавшего младенца, обнажила полную, налитую грудь, приткнула его к розовому соску. Селиверстов смущенно отвел глаза, она же не спускала с него своих, ждущих. «Младенец зачат явно после Михея, — отметил про себя Юша. — То ли роднятся, то ли во блуде живут?» Вздохнул, присматриваясь к дому. Решив, что все-таки живут, опечалился. Выпил, поел, стал рассказывать, что слышал о Стадухиных Михее и Тархе. Арина слушала молча, беззвучные слезы катились по ее щекам. Герасим тяжко вздыхал, опуская голову, Мишкин отрок шмыгал носом.
— Не десятком — полусотней ушли, больше. — стал утешать их Герасим. — Даст Бог, вернутся. Далеко ведь заявились, за Камень, в неведомое.
От этих слов Юша опять обнадежился погреться возле вдовы. Его оставили ночевать Христа ради. Еще два дня он протолокся в чужом доме, а после мягким, но твердым стадухинским голосом Герасим его выпроводил, и пришлось известному на Лене человеку идти в острог, просить службы ради пропитания и крова. Будто в насмешку над былыми заслугами, его отправили на верфь к судовым плотникам.
Но пережилась студеная, хмурая зима, промелькнула короткая весна, настало жаркое лето. Селиверстов быстро освоился на службе в корабельных плотниках, с месяц помахал топором и был поставлен десятником, к лету уже верховодил на верфи. Правда, его прежняя заносчивость пропала: как опустились плечи при объявлении долга, так уже не расправлялись и вместо былого бравого петуха он походил на курицу, суетливо озабоченную поиском пропитания.
Оттаявшая мошка погнала людей из тайги. С промыслов возвращались ватажки промышленных людей. После Троицына дня к острогу приплыли беглые казаки и Степан Вилюй. В животе у Селиверстова как-то нехорошо захолодело. Вскоре приставы привели его в съезжую избу и поставили перед воеводой. Там уже стояли Васька Бугор, Евсей Павлов, Федька Ветошка и промышленный Степан Вилюй. Седой и косматый, Васька обернулся к Селиверстову коричневым, обгоревшим, покрытым рубцами и рытвинами лицом, окинул яростным взглядом.
— Второй кнут мой! — заорал, не смущаясь начальных людей, и разорвал на груди кожаную рубаху. — Зови палача. Станет оправдываться после первого — бить обоих до суда Божьего!
— То есть пока кто не сознается во лжи! — С сочувствием и насмешкой взглянул на старого казака воевода, потом перевел строгий взгляд на Селиверстова.
Его подручный служка в жупане стал было вязать Юше руки за спиной, чтобы встряхнуть на матице избы — первый кнут доносчику. Он побледнел, смущенно поежился, виновато взглянул на взбешенного Бугра и признался:
— Бес попутал! Убоялся большого государева долга, оговорил Ваську. — И залопотал давно приготовленными словами: — Должников у меня много на Колыме и Анадыре. Они тому свидетели, — кивнул на казаков. — Если соберу свои долги, расплачусь и с государевыми. Отпустите, Христа ради! С прежним воеводой рассчитаюсь и казне великую пользу сделаю.
Казаки с Вилюем были поставлены перед воеводой и оправдывались не только по селиверстовскому ложному обвинению. Зимуя на Омолое, чувствуя себя богатыми, они хорошо погуляли, а двое промышленных людей, возвращавшиеся с ними на Лену, продали паевую кость и повернули в обратную сторону. Но Евсей Павлов, сопровождавший дежневскую казну, предъявил отпускную грамоту колымского приказного, где было указано, что десятину те промышленные оплатили в Нижнем остроге и она положена к казенной кости. Плата покупной и продажной пошлин, по их свидетельству, осталась на Проньке Аминове. Всех отпустили без кнута и батогов. Бугор, не остыв от страстей, в сенях пнул Селиверстова под зад. Тот рыкнул возмущенным голосом, но драки не случилось. В следующий миг Васька вопил и тискал в объятьях сына боярского, входившего в съезжую избу. Из его восклицаний Юша понял, что это Курбат Иванов, приглядевшись, сам узнал его, с недоумением пожал плечами и понуро вышел. Он помнил Курбата, казака по тобольскому окладу, знал, что тот долго служил в верховьях Лены, ставил там острог, из первых служилых ходил к Байкалу. Свесив голову и глядя под ноги, Юша вышел, вспоминая острожные слухи, что в среднем чине Курбат служил приказным на Олекме, не собрал объявленный посул и был в опале. С Юши, содрали все меха, которые чего-то стоили, но оставили на плечах суконный кафтан. Курбата, похоже, обобрали дочиста, описав в казну дом и все животы. Судя по одежде сына боярского, который вошел в съезжую избу, ему была оставлена только шапка. Сам опальный за великие долги, Селиверстов сочувствовал служилому, но поговорить с ним не случалось. Через неделю приставы снова привели его в съезжую избу. Перед письменным головой и дьяком стоял тот самый сын боярский Курбат Иванов в кожаной рубахе и чирках, сшитых из сношенных бахил.
— Гуляешь? — гневно пытал его дьяк.
— Жена с детьми меж дворов скитаются, милостынями живут, — смущенно оправдывался тот. — А Васька позвал в кабак по старой памяти. Не смог отказать товарищу.
Дьяк рассерженно кашлянул, перевел взгляд на Селиверстова, стоявшего перед ним с немигающими глазами и подрагивавшей бородой. Спросил, не переждав его поклонов, встречал ли Амоса Михайлова и где? Не совсем понимая, зачем понадобился начальным людям, Юша отвечал, что встречал в Крестовой протоке, в устье Лены.
— По свидетельству Ермолина и Павлова, сотник зимовал на Омолое, — хмуря брови и шелестя бумагами, поданными писарем, проворчал письменный голова.
— Третий год добирается к месту службы! — чертыхнулся дьяк и вскинул глаза на Селиверстова. — Говорят, ты мореход искусный и удачлив. Поплывешь Леной и Студеным морем на Колыму, потом пойдешь на Анадырь. Во всем будешь прямить Курбату — отправляем его на перемену Дежневу, — строгими глазами указал на бедно одетого сына боярского. — И будешь собирать там свои долги.
Дьяк встал и вышел, а письменный голова начал устно наставлять Курбата:
— Догоните Михайлова, отнимите у него прежнюю наказную память. Пусть служит на Алазее… Если доберется хотя бы туда. — Писец, скрипевший пером, поднял голову, присыпал сырые чернила песком.
Голова взял у него грамоту, стряхнул песок, стал внятно читать. Оторвавшись, устно добавил:
— В числе прибранных людишек возьмете казака Данилу Филиппова.
— Одной бедой с тобою связаны — оба в долгах, — тяжко вздыхая, обратился Юша к Курбату, едва они были отпущены. И добавил со злостью, сдерживая голос до шипения: — Лишь бы отсюда выбраться! — Вспомнив Студеное море, дальние реки, распрямил грудь и пророкотал так, что был услышан в съезжей избе, и на сторожевой башне: — Какой кочишко готовить к плаванию, не сказали? — И показалось ему, что беды, преследовавшие в прежнем походе, наконец-то отвязались.
В конце июля казенный коч с Селиверстовым на корме и с его подневольным приставом сыном боярским Курбатом Ивановым отчалил от пристани Якутского острога. Курбат вез на Анадырь жену и двух сыновей, еще не вышедших в служилый возраст. Данилка Филиппов, наслышанный от анадырских товарищей о грехах Селиверстова, неприязни к нему не показывал, а Курбат, как и Мишка Стадухин, жестко пресекал среди своих людей всякие споры и распри. На воде Юша вновь почувствовал себя человеком, каким его создал Бог. С мстительной усмешкой то и дело оборачивался к верховьям Лены, понимал, что обратно уже не вернется, но беспечально глядел на далекую размытую черту, соединяющую небо с водой, и с тихой радостью в груди думал: так бы вот плыть и плыть всю оставшуюся жизнь, и лучше всего одному. Хотя нет! Бабу бы! Русскую, добрую, покорную, тихую, ласковую.
— Ваську, дружка твоего, — обернулся к Курбату и голос его раскатился по воде до дальних берегов, — угораздило на старости лет связаться с якуткой. Тиха, покорна, как собачка, всюду за ним ходит. Васька в кабаке гуляет, она против крыльца сидит. Однако баба есть баба! Тишком да лаской принудила дом купить.
Курбат, вымученно улыбнувшись, покачал головой.
— Я думал, старого бродягу могила исправит. Однако ж, — обернулся к жене, чистившей рыбу, — на всех есть хомуток. Так, наверное, и лучше! — Помолчав, добавил: — Васька купил дом пропавшего Ивашки Ретькина. А тот, когда бежал, бросил женку тунгусской породы. Не гнать же! Васька ее пожалел и живет теперь с двумя. Обоих кормит.
Для Селиверстова эта новость была в диковинку. Покряхтев, то ли с осуждением, то ли с завистью, он проворчал:
— Куда попы глядят?.. Однако, как всегда, нас поздновато отпустили. Ладно хоть до Ильина дня. У моря будем молить Николу о попутном ветре. Пройти бы Святой Нос, там до Колымы недалече! — И громко, чтобы все слышали, похвастал, покосившись на Филиппова. — Оттуда мы с Данилкой приведем вас на Анадырь лучше всякого вожа.
В устье Алдана коч Курбата Иванова встретился со стругами служилых и промышленных людей, плывших с ясаком с Ламы из-за Великого Камня. Среди них были люди Михея Стадухина и его брат Тарх. Он узнал Селиверстова, подвел струг к корме казенного коча. спросил:
— Что там брат Герасим? Жив?
— Живой! Рыбой торгует, прижил младенца от Мишкиной жены!
Пропустив мимо ушей весть про младенца, Тарх радостно перекрестился:
— Слава Богу!
— Мишка жив ли? — спросил Селиверстов. — Шесть лет ни слуху ни духу!
— Живой был, когда уходили аргишами. Служит в Охотском острожке у Андрейки Булыгина.
— Что к жене и сыну не возвращается? — язвительно осклабился Юша.
— Больше половины ватажных погибли, — смахнул с головы шапку и перекрестился Тарх. — Брат кается, будто по его вине, отслуживает грех. Там война беспрестанная, а служилых мало… — И спохватился: — Торговый Мишка Баев, Богдашка — поповский покрученник, объявились ли?
— Не слыхал! — открестился Юша и спросил громче: — Много ли богатств добыли?
Тарх печально помотал головой.
— Есть соболишки, но не головные, как на Колыме. — Вскинул заледеневшие глаза: — Не за богатством шли, неведомых земель искали, хотели государю и тамошним народам послужить, удерживая их от братоубийства.
— Бог наградит! — скаредно рыкнул Селиверстов, повертел головой на изъеденной гнусом шее, зычным голосом велел выбирать якорь, а гребцам разворачивать судно по течению. Над его кочем вскинулся и вздулся парус.
Случайно встреченные люди со стругов вышли на берег, подвязали бахилы, впряглись в бурлацкие бечевы и потянули лодки против течения, к Якутскому острогу.
Чтобы удержать землю, прибранную для государя Семеном Шелковниковым, Андрею Булыгину пришлось заново с боями пробиваться на реку Охоту и подниматься к сожженному шелковниковскому зимовью. Ламуты нападали непрестанно, носились на оленях возле коча и засеки, стреляли с оленьих рогов, как с сошников, не только из луков, но из пищалей тоже. Десяток охочих людей, случайно прибывших со Стадухиным, были для Булыгина даром Божьим.
— Весной отпущу с наградой! — обещал им. — Отпишу благодарственную грамоту, рухлядью поделюсь, которую возьмем на погромах!
У отряда была мука — самая желанная награда для анадырских скитальцев. Они привычно встретили обычную для этих мест зиму, в сравнении с прежними почти мирную. Гулявшая по равнине река выносила столько плавника, что дров хватало, и очаг в зимовье горел сутками. Как только окрестности завалило снегом, оленные ламуты откочевали, поблизости остались только сидячие. Зимой никого из стадухинских людей не убили, никто не умер. Сливались в одно дни и ночи: сон и разговоры. Мело и пуржило неделями. Студеные ветры с Великого Камня выбелили густой топольник. Караульные менялись часто, возвращались обледеневшие, с сосульками вместо бород и шапок. В протаявшей дыре, под закуржавевшими бровями поблескивали вымороженные до голубизны льда глаза и краснел нос.
— Где-то в тех местах, откуда вас вынудили уйти, зимовали Алексейка Филиппов с убитым Ермилом! — слушая рассказы стадухинских людей, говорил им Булыгин. — Об этом мы слышали от Семейки Епишева. Вас и Филиппова выбили оттуда, Епишева — отсюда… Сам виноват! — беззлобно поругивался. — Удержаться легче, чем заново пробиваться на старое место и строиться на гари: все нынешнее лето — одна рука на топорище, другая на пищали… А Епишев распустил своих казаков кругами да советами: никого ни к чему не принуждал, к совести призывал. Они ему на шею сели, помыкали, даже били, вместо караулов в карты играли, ясырок друг другу продавали, блудили скопом. Двое остались у меня — спросите, расскажут. — Обводя своих казаков строгим взглядом, Булыгин жестко, как о непреложном, напомнил: — Где заводятся блуд, игра, тщеславные страсти, там гибель у порога! Всегда так было и будет!
— Мои не сильно-то и блудили! — перекрестился Михей Стадухин. — А как закрою глаза, встают один за другим, будто укоряют. И я все думаю — за что полегли?
— Божьего замысла нам знать не дано! — нетерпеливо дернулся Булыгин.
Была редкая тихая ночь без пурги. Все спали. Светила ущербная луна, на нагороднях маячил караульный, всматриваясь в серебристую гладь наметенных сугробов, льды за кошкой на морской и речной стороне. В зимовье пылал очаг, было тепло. На нарах и полатях в два ряда отдыхали свободные от караулов люди. Одинокие-холостые лежали открыто или под одеялами, те, что сожительствовали с женками, завешались кожами и шкурами. На аманатской половине приглушенно постукивали колодками заложники. Михей Стадухин лежал с закрытыми глазами, закинув руки за голову, дыхание было ровным и глубоким, как у спящего. Вдруг он пробормотал, не открывая глаз, шепелявя одеревеневшим языком:
— Крадутся! Копают ход к тыну. Мешки с берестой и жиром волокут.
Его словам никто не удивился. Приказный Андрей Булыгин сел, зевая, свесив ноги, спросил:
— Далеко?
— Шагов полсотни!
— С какой стороны?
Михей указал рукой.
— С полчаса провозятся! — крестя бороду, снова зевнул сын боярский, взглянул на склянку с пересыпавшимся песком, стряхнул сон с глаз и приказал отдыхавшим: — Одевайтесь, что ли! Будем обороняться.
— Шагов на пятнадцать подпустить и пальнуть картечью из крепостной пищали! — тоже поднимаясь посоветовал Стадухин.
— Однако у тебя дар! — с благодарностью взглянул на него Булыгин.
— Дар! — угрюмо согласился Михей. — А товарищей не спас! — Перекрестился, стал одеваться.
С тяжелой крепостной пищалью на плече он поднялся на нагородни, велел караульному запалить фитиль и отойти. Зацепил крюк пищали за венец, встал на колено, подсыпал пороху на запал, поманил караульного рукой в меховой рукавице, взял фитиль, пускавший искры по ветру. Долго целился с закрытыми глазами. Прогремел выстрел, от которого дрогнула изба. Караульный заскакал, захохотал. Прорытая ламутами пещера обвалилась. Как тонущие, в снегу барахтались людишки, сбивали друг друга с ног, цеплялись один за другого. Казаки на лыжах бросились ловить и вязать их…
Прошла зима. Опадали сугробы, обнажая тайные попытки нападавших: слежавшиеся мешки с берестой и жиром.
— Останься, Мишка! — стал просить Стадухина приказный. — С твоим даром полка стоишь!
— Останусь! — согласился старший Стадухин. — А людей моих отпусти. Много лет безвестны. Пусть идут на Лену кто хочет.
Пришла поздняя весна с рассеянным солнцем, такая же, как на Тауе, Ини и прежних реках на этой стороне Великого Камня. Остатки стадухинских людей известным путем ушли по каменистой долине реки к видневшимся вершинам хребта. Михей остался на Охоте отслуживать вины за неудачный поход на Погычу. Под раскидистыми ветвями тополей истлевали черные сугробы, рядом с ними торопливо распускались цветы. И опять, как на Тауе, Михей тесал весло на краю леса, в стороне от зимовья, и снова внутренним взором почувствовал близость зверя, вспомнил, что все это уже происходило. Ощущения были настолько похожи, что ему подумалось: либо шалит память, либо в эти места забрел тот самый медведь. Он обернулся без страха. Среди зелени ветвей и папоротника в рост человека скорей почувствовал, чем разглядел маленькие зоркие глаза в щелках глазниц, потом высмотрел человечью голову без шапки. Догадавшись, что обнаружен, из кустов вышел ламут в распахнутом кожаном халате, с распущенными по плечам густыми, будто присыпанными мукой волосами. Он был немолод, оружия при нем не было. В следующий миг Михей узнал постаревшего Чуну, удивленно мотнул бородой, прислонил к дереву недотесаное весло и воткнул в кору топор.
— Вот я и пришел! — буркнул гость по-русски.
— Давно не виделись! — поприветствовал его казак. Присел на свежий истекавший весенним соком пень, лицом к лесу, спиной к зимовью, кивнул на валежину против себя, приглашая к беседе.
— Дарова! — Припухшие веки Чуны смежились в две щелки. Он присел на корточки. — Поговорить пришел!
— Догадываюсь! — Михей сбил шапку на затылок и приготовился слушать.
— Как жив-здоров? Много ли соболя добыл? Еды всем хватает? Не хворают ли жена и дети? — как принято, издалека начал беседу шаман-новокрест.
Михей только кивал, не втягиваясь в пустопорожний разговор и Чуна, недолго помолчав, перешел к делу.
— Однако, все воюем, убиваем, в плен берем! — Пухлые веки ламута раздвинулись, обнажив пристальные зрачки, тонкие черневшие губы дрогнули в усмешке. Пучки волос в их уголках и на подбородке были белей снега.
— Хорошо научил воевать свой народ! — не то похвалил, не то укорил его Стадухин.
— Хорошо! — согласился Чуна, печально скривив губы. И добавил, не опуская взгляда: — Зря учил!
— Вон что! Неужели с покаянием? Хочешь сдаться в аманаты?
Ламут цокнул языком, резко мотнул головой, показывая, что аманатиться не желает, почесал затылок, запустив руку в длинные волосы.
— Силой меня не взять, — усмехнулся. — Духи научили умереть, когда захочу. Зачем вам падаль? А смерти я не боюсь, — распахнул халат. — Не веришь? Воткни нож в сердце!
На груди его среди других оберегов Михей заметил небольшой дочерна вышорканный кедровый крест.
— Народ жалко: мэнэ и орочи!* (мэнэ — самоназвание эвенов Охотского побережья, живших на одном месте; орочи — оленные, кочующие эвены) Развоевались — не могу остановить. Духи говорят: если мой народ победит — его не станет! — Чуна смешливо смежил пухлые веки, из-за которых остро и пристально поблескивали зрачки.
— Нас победить невозможно! — пожал плечами Стадухин.
— Можно! — резче возразил ламут. — Ты все понимаешь! — Покачал головой, опуская взгляд долу. — Если мой народ победит, он будет воевать между собой, пока не истребится. И не станет моего народа: ни мэнэ, ни орочей. Духи так сказали. И я знаю, так будет.
— Могу взять тебя в почетные аманаты! — помолчав в раздумье, предложил Стадухин. — Воевода отправит к царю. Вернешься главным ламутом, ровней нашим боярам. Казаки по твоим указам будут помогать тебе править твоим народом.
— Э — э! — с укором посмотрел на Михея Чуна. — Ты тоже крестился во Христа-Спасителя, а предлагаешь стать Иродом. Зачем учил Закону Божьему?
Стадухин с непониманием взглянул на него, и Чуна продолжил с упреком:
— Помнишь Валаама, под которым олениха заговорила человечьим языком?
— Сказывали попы! Заговорила! А ты прошлым летом медведем обернулся, попугать меня хотел?
Губы ламута с белыми кисточками волос в уголках рта дрогнули, он пропустил сказанное про медведя и продолжил:
— Валаам был почетным шаманом своего народа. А Бог велел ему говорить хорошо о врагах, которые осадили его город. Ангел смертью грозил, если откажется. Безрогий олень заговорил человечьим голосом. Валаам испугался, стал ругать свой народ и хвалить врагов. И что вышло? Свой народ его проклял. Враги захватили город и убили. Правильно сделали. Лучше бы умер от меча ангела и не предавал своих. Тогда бы и Бог его похвалил. Зачем ему Бог, если нет его народа? Зачем он Богу без своего народа?
— Вот как?! — почесал бороду Михей. — Об этом тебе надо с попами говорить или с Пашкой Левонтьевым. Понимаю, что почетным аманатом к царю не пойдешь, нам в острог — не дашься. Чем могу помочь?
— А! Вот теперь правильно спросил, — со знакомой плутоватой улыбкой придвинулся к нему Чуна. — Берешь в плен моих людей, говоришь им государево слово, лучших куешь в цепи, других отпускаешь… Все правильно делаешь. Неправильное говоришь государево слово. Я пришел научить, как надо. Не говори: «в вечное холопство», «царь помилует», говори: «Царь войн и убийств не любит. Всех, кто воюет и убивает, его люди ловят и наказывают. Кто мирно живет, кто никого не грабит, тому от царя защита вечная». А чтобы его казаки за порядком следили — им есть надо! Правильно? — Чуна тихонько рассмеялся, потряхивая головой. — Вот, царь и просит от сильных мужчин по пять соболей в год, чтобы кормить казаков. Если они начнут сами охотиться, когда порядок наводить?
Теперь рассмеялся Михей, сдвинув шапку на брови.
— Можем и так говорить, кто нам укажет. Только есть государево слово, записанное на бумаге.
— Царь далеко! — досадливо отмахнулся Чуна. — Ламутов не знает. И слова его много раз переписывают другие люди. Делайте, как я говорю, и будет мир. Рыбы в реках всем хватит! — Он метнул на казака озлившийся взгляд, выругался по-русски и поднялся.
Больше шаман к острожку не выходил. Эта была их последняя встреча, хотя после раздумий Стадухину хотелось поговорить с ним. Следующим летом от пленных было известие, что Чуна ушел к предкам.
Нападать на острог ламуты стали реже. Один за другим роды мирились с единой властью, с ясаком и находили преимущества мирной жизни. После той встречи минуло больше двух лет. Из Якутского острога пришла смена Булыгину и его казакам. Не ожидая для себя ничего хорошего на Лене, после двенадцати лет скитаний перевалил на другую сторону Великого Камня и Михей Стадухин. Против устья Алдана на обустроенном стане бурлаков возвращавшийся с Ламы отряд встретил два приткнутых к берегу коча. На одном шли с Анадыря промышленные и торговые люди под началом беглого казака Никиты Семенова. На другом из Якутского острога на Колыму плыл отряд казаков и охочих людей под началом сына боярского Ивана Ерастова. Среди них было много старых служилых, знакомых Стадухину по временам Бузы, Постника и Зыряна.
— Мишка? Живой? — ахнул Никита, едва струги Андрея Булыгина приткнулись к берегу поблизости от кочей. С радостным лицом подошел, обнял, смахнул навернувшуюся слезу, пристально оглядел людей, высаживавшихся из стругов, выискивая уходивших с Анадыря на Пенжину, никого не узнал, вопрошающе вскинул глаза на Михея.
Тот смущенно потупился:
— За Пенжиной ватага разделилась надвое. Мишка Баев увел своих на богатые поповские промыслы, я — в другую сторону. Из них десяток вышли на Лену два года назад. Остальные погибли. Я — последний! — Виновато вздохнул: — Этими самыми местами гнался за вами, беглыми, чтобы остановить и вразумить, а наградят поровну! — Болезненно сощурил веки.
— Простят! — уверил его Никита. — Мы с Семейкой отправляли с казной Данилку Филиппова, потом Ваську Бугра с Евсейкой Павловым. Всех простили и наградили!
— Это хорошо! — без радости в лице согласился Стадухин и спросил: — Жив Семейка Дежнев?
— Был жив! — рассеянно ответил Никита. — Мотору убили, Заразу с Митькой Васильевым бурей унесло. Приходил на Анадырь твой Юшка Селиверстов, два года промышлял рыбий зуб, правил по твоей наказной, потом оставил ее охочему Артемке Осипову и ушел за наградой. Артемка оставил другому, сам со мной возвращался, да вот загулял в Жиганах. Как при тебе начались двоевластие и раздор, так тянутся до сих пор. Значит, не наша вина! А я с торговым Аниской Костроминым возвращаюсь. В Нижнем Колымском купили вскладчину этот самый коч за двести рублей, — указал на добротное торговое судно. — А Ерастов пытает меня про кость, будто оставленную Артемке Юшкой Селиверстовым. Из своего ли пая он платил за коч или из казны?
— И где нынче Юшка? Живой? — полюбопытствовал Стадухин.
— Прошлым годом встретились с ним в Нижнем. Воеводским указом был отправлен на Анадырь, собирать долги перед казной. С ним Данилка Филиппов и новый анадырский приказный Курбатка Иванов. Все переменилось и здесь, и там, — вздохнул, оглядываясь по сторонам. — А на Анадыре из беглых ленских казаков с Семейкой Дежневым остался один Артемка Солдат — последний. А из охочих — твой писарь Ивашка Казанец.
— Ну и ладно! — кивнул Михей с благодарностью за новости, сам уже прислушивался к спору Ивана Ерастова и Андрея Булыгина. Ерастов напирал, размахивая какой-то грамоткой, Булыгин ругался и отнекивался. О чем-то сговорившись, один пошел к табору, другой к Стадухину.
— Слыхал про твой поход! — приветствовал его Ерастов. — Вместо меня ушел на Колыму, мою судьбу перенял!
Михей мельком взглянул на шапку сына боярского, спрашивать, как выслужил чин, не стал. Недоуменно пожал плечами:
— Чужую судьбу не переймешь! Видать, так уж мне на роду написано!
— А я иду на Колымский приказ. Кабы ушел тогда, за беглыми казаками, неизвестно еще, был бы жив ли! — Перекрестился, скинув шапку. — Как Бог положит — неведомо. Про тебя знаю от твоих людей и брата. Воевода их не оставил милостью.
— За что? — удивился Михей.
— Ивашка Баранов ходил с Колымы за Камень тем же годом, что и ты. Зимовье на Гижиге срубил, привел в Верхнеколымское зимовье аманатов и писал воеводе: если бы ты в устье не воевал, то ему бы, Ивашке, в верховьях не удержаться. — Стадухин потупился, вспоминая беспрестанные нападения коряков на Гижиге. Ерастов же с важностью сведущего человека продолжал:
— Тебя Господь под стрелы ставил, чтобы ему путь облегчить. Он с того похода богатства не нажил — но получил прощение и в жалованье восстановлен. А теперь там государев острог. Федька Чукичев его поставил!
Михей снова опустил глаза:
— Вон как Бог удумал!
— Нынешний воевода строг, но справедлив. Кто верно служит — без награды не остается. Брат твой Тарх попросился в службу на Колыму и был принят в выбылый оклад. Я его с собой звал, но он ушел прошлым летом.
Это была еще одна неожиданная новость. Стадухин обеспокоился, отчего брат вернулся на Колыму, не присушил ли Великий Камень? На Охоте они сговаривались, если выберутся на Лену, то возвращаться на отчину с тем, что дал Бог. И Михей плыл по Аладану с мыслями: если простят — проситься на Русь. Глаза его помутнели от раздумий, нахлынули смутные догадки. А Ивашка Ерастов о чем-то назойливо бубнил, чему-то поучал:
— Господень замысел сразу не поймешь… Я, грешным делом, обиделся, что сам выпросил поход, а ушел ты. А вышло — зря сердился. Грех!
Стадухин, отмахиваясь от мошки, кивнул ему и отошел к костру, который развели спутники. В жаркий день в лицо пахнуло дымом, навязчивый гнус отстал. На воде он не был так зол, как возле леса.
— Ишь что сказал! — с раздосадованным лицом пожаловался на Ерастова Булыгин. — Юшка Селиверстов указал на своего охочего Артемку Осипова, что оставил ему двадцать пудов кости. Тот всю зиму гулял в Жиганах и нынче сусло допивает. А у Ерастова воеводский наказ — найти Осипова, сыскать с него казенную кость, а если встретит на пути другого сына боярского, который бы возвращался в Якутский острог, то возложить сыск на него, самому же без промедления следовать на Колыму, для смены тамошнего приказного Коськи Дуная. — Андрей тихо и безнадежно выругался, покряхтел, поморщился, вскинул на Михея разобиженные глаза. — Так и написано. Сам читал! Тьфу! Мать его еть! Придется в Жиганы плыть.
— Я с тобой не пойду! — твердо объявил Стадухин.
— Кого там! И так помог дай Бог. В долгу перед тобой на всю жизнь… Никитка! — обернувшись к другому стану, окликнул Семенова. — И что вы этого Артюшку под белы ручки не затолкали в какую-нибудь бочку да не вывезли?
— Он сам по себе вышел с Анадыря! — от другого костра ответил бывший беглый казак. — Мы Юшку встречали, Артюшка ему сказал, что оставил вместо себя с прежней наказной от Францбекова охочего Никиту Кондратьева. Про долг перед казной не говорили, мы тому свидетели.
— Тьфу! — опять выругался сын боярский. — Юшка Артюшке, Артюшка Никитке… Сколько лет прошло, как выкреста Францбекова увезли на сыск, все не могут разобраться с его хитрыми делами?
— Наши люди ездили в Москву с казной: Кирюха Коткин с Алешкой Филипповым, — от своего костра отозвался Ерастов. — Сказывали, Францбеков оправдался перед царем.
— Нерусь она и есть нерусь! — опять безнадежно ругнулся Булыгин.
Разговоры у костров притихли. Рассерженно потрескивал огонь, от брошенной на него свежей хвои густыми коромыслами гнулись к северу дымы. Морщась и отстраняясь от жара, Ерастов писал грамоту, в которой докладывал воеводе, что сыск по Артемке Осипову передает сыну боярскому Андрею Булыгину, встретившемуся в устье Алдана. Вскоре его люди оттолкнули коч от берега, выгребли на стрежень, развернулись носом по течению и подняли парус. Ветер был попутным. С Ерастовым ушел в Жиганы сын боярский Андрей Булыгин и два его казака. На стане остались выходцы с Анадыря и Ламы. На другой день оба отряда пошли вверх по реке натоптанным бечевником, ночевали на одних бурлацких станах. Михей шагал, угрюмо глядя под ноги, перемалывая в голове нескончаемые думы, а у немногословного в прежние годы Никиты Семенова то и дело появлялась охота поговорить.
— Расскажи, что за Камнем? — любопытствовал на ходу и у костров.
Его спутники невольно придвигались, чтобы послушать.
— Да ничего хорошего нет! — с горечью отвечал Михей. — Ваше счастье, что не пошли: живы, прощены и богаты.
— Моржи-то есть?
— Иные отмели версты на две черны от зверя.
— А что не промышлял? На Анадырь народ пошел за костью. — Стал рассказывать, как и где нашли коргу, как промышляли моржей.
Стадухин брезгливо морщил нос:
— Поди, весь берег в падали, летом не продыхнуть?
— Кого там! — с горячностью заспорил Никита, когда-то восхищавший его неторопливыми, разумными суждениями. — Моржей и китов добывают только чукчи. Коряки с анаулами иногда добивают передравшихся подранков. Из-за туш между собой воюют. Как только поняли, что нам нужны одни головы, — наступил мир: приходили, брали сало, мясо, шкуры. Песцы, медведи, чайки кишки съедали — все довольны, корга чистая… С Ламы, по вашим сказам, ближе кость возить, а вы отчего-то не промышляли.
— Пороху, свинца едва хватало, чтобы отбиться от коряков и ламутов, — неохотно отвечал Стадухин, не выказывая любопытства к добыче бывших товарищей по походам.
Обе ватажки прибыли в старый Ленский острог с первыми льдинами, поплывшими по выстывшей реке. Здесь они взяли казенных коней, потянули струги и коч гужом — конной тягой. Посыльный из Ленского налегке прискакал в Якутский острог с вестью о выходцах с Ламы и Анадыря. На подходе их уже ждали таможенные и гарнизонные казаки, посадские и гулящие люди. Острог заметно переменился за время странствий Михея Стадухина и Никиты Семенова: расширился, потеснив жавшиеся к нему посадские избы. Часть стен была положена городом. Пока коч и струги крепили к причалу, в первый ряд встречавших протолкнулся дородный торговый человек с почтенной бородой. Он держал за руку мальчонку лет пяти. За ним шла женщина, покрытая дорогим камчатым платком. Глядя на торгового, Михей чуть не открестился, подумав, что ему привиделся покойный отец. Потом увидел глядевшие на него из-под платка большие глаза, казавшиеся подслеповатыми от слез. В них тускло мерцала безысходная горечь. С первого взгляда Арина показалась ему постаревшей: сетка морщин опутала лицо, годы придавили плечи, уже не бросалась в глаза былая стать осанки, но это длилось один миг, в следующий она опять предстала такой, какую встретил на Илиме. Слезы ручьями покатились по ее щекам, когда Михей подошел к ней с повинной головой и встал, скинув шапку.
— Где же тебя носило столько лет? — вздрагивая и захлебываясь, пролепетала она. — Говорил ведь только на два… — И, уткнувшись лицом ему в грудь, зарыдала.
— Так уж вышло! Прости, Христа ради! — прошепелявил он одеревеневшими губами.
— Прости! — с укором отстранилась она и шмыгнула носом. — Сын твой, Нефед! — указала на молодого казака — новика.
Михей не замечал никого, кроме Арины и брата. Тут только перевел глаза, увидел стройного юнца, опоясанного цветным кушаком и саблей. Узнал в его лице свое, родовое, исконное, удивился, что тот уже приверстан в казаки, прикинул, сколько лет было, когда уходил последний раз и сколько скитался, обнял, чувствуя, как щеки под бородой щекотят горячие слезы. Сын отчужденно переминался с ноги на ногу, он помнил отца другим. Михей перешел в объятья брата Герасима. Тот передал мальчонку Арине, притиснул старшего, всхлипнул на ухо. Толпа на причале становилась все гуще. К реке бежал весь посад и свободные от служб острожные жители. Знакомые лица о чем-то спрашивали Михея, он кивал, отвечал невпопад, а видел одни только большие и влажные глаза Арины.
— Да иди ты с Богом! — толкнул его в бок булыгинский казак. — Без тебя сдадим казну и явим твою рухлядь.
Михей краем уха услышал, что народ требует показать ламские меха и анадырский рыбий зуб. Никита Семенов с настороженным лицом переминался возле коча, ожидая таможенного голову. Брат подхватил Михея под руку, повел к дому. Посад был новым, незнакомым. В каком-то месте ноги старшего Стадухина сами двинулись в сторону бывшего дома. Вспомнив, что Тарх говорил про пожар, он остановился, с болью в лице, отыскивая пепелище или пустырь. Герасим потянул за рукав, приговаривая:
— Твой-то не сильно погорел, я его подновил! А мой — дотла. Потом строил новый — пришлось продать. Наше дело торговое, лихое: сегодня богат, завтра гол, — говорил на ходу, смущенно оглаживая рассыпавшуюся по груди бороду.
Михей не понимал, что им за печаль до его избушки, которая с горючей тоской вспоминалась во время холодных и сырых ночевок. Герасим остановился против просторного пятистенка с тесовой двускатной крышей. Из дома вышла молодая женщина с раскосыми глазами, покрытой головой и черными косами по плечам.
— Нефедкина жена! — указал на нее Герасим и стал оправдываться: — Что с того, что молод? Служит. Оклад положен. Слюбились, и мы не стали вразумлять. Сами грешны, — смущенно вздохнул. — Пусть живут!
Молодуха на миг опустила глаза и снова с любопытством вскинула их на свекра. Вошли в дом. Он был новым и чужим. Большая печь, покрытый шелковой скатертью стол. Разве чуть уловимый запах жилья сохранял что-то от прежнего. Положив поклоны на образа в красном углу, Михей протиснулся в его остаток, переделанный в теплый чулан, узнал свою печь, возле которой прожил много счастливых ночей и дней. Все было печальным и жалостливым, корило за долгие скитания по чужбине. Он со вздохом закрыл чулан и одобрительно кивнул брату:
— Добрый дом срубил!
Герасим отчего-то мялся у стола, Арина чего-то смущалась. Михей не сразу догадался, что кому-то надо сесть на хозяйское место в красном углу, а кто здесь гость, кто хозяин, попробуй разберись. Арина по-матерински положила руку на голову мальчонки, которого вел за собой Герасим, приосанилась, взглянула на Михея строже и суше:
— Последний! — сказала со вздохом. — Отбабилась!
Домочадцы застыли, ожидая слова старшего.
— Все равно мой! — воскликнул он с напускным весельем. — Наша кровь!
— Поднял мальчонку на руки, щекотно ткнулся бородой в детскую щеку. — Гераська, садись-ка в хозяйский угол, — приказал и поклонился младшему брату: — Спаси тя Господь! Твоими трудами все живы и здоровы! — Обвел взглядом домашних: все в камчатых рубахах и платьях, легкими волнами струящихся с плеч, в добротной обутке.
— Ты старший и дому хозяин! — вяло запротестовал брат.
Михей взял его под руку, подтолкнул на хозяйское место. Герасим повздыхал, смущенно покрестился, сел. Бессильно опустилась на лавку Арина, не сводя с Михея туманных глаз. Весело зыркая на гостей раскосыми глазами, Нефедкина молодуха забегала от печи к столу. Распахнулась дверь, весело и шумно в дом ввалился рябой и поседевший Михей Стахеев, земляк, именитый приказчик купца царской сотни.
— Будь здоров, пропащий Лазарь! — вскрикнул. — Всей Пинегой встречаем и радуемся. Раненько тебя похоронили и сына в оклад поставили.
Арина со вздохом поднялась с лавки, стала усаживать гостей. Встал навстречу земляку и Михей Стадухин.
— Что белый? — с хмельным задором спросил Стахеев.
— На себя посмотри! — с грустной улыбкой огрызнулся Михей. — Эвон, половина Пинеги перебралась в Якутский острог. А я, грешный, думаю вернуться к отцовым могилам.
— Куда возвращаться? — насмешливо вскрикнул Стахеев, шлепнув ладонями по ляжкам, глаза его сузились, на скулах под сивой бородой заходили желваки. — Знаешь, что там? То-то и оно! А я знаю! — Безнадежно мотнул бородой и, трезвея, обронил: — Еще услышишь, как в Москву поедешь!
— Мне, по грехам, что здесь, что в Москве висеть бы на дыбе, — вздохнул и спохватился. — Что об этом? Гуляй, Пинега! Живой еще!
Сидели гости долго, разошлись поздно. В баню Михей так и не сходил, с тяжелой головой лег на лавку, привычно укрывшись паркой. Проснулся поздно. Открыл глаза. Через оконце струился дневной свет, Арина сидела рядом и, склонившись, смотрела на него спавшего. Лицо ее разгладилось и успокоилось, глаза высохли и высветились.
— Старый стал? — спросил он шепотом.
Она без смущения улыбнулась, легонько вздохнула:
— Красивый, — сказала в голос, не боясь разбудить домашних. — Лучше прежнего.
Встала, перекрестилась на образа, шаркая чунями по тесовому полу, вышла и притворила за собой дверь. Вскоре вернулась с запахом осенней прохлады, струившейся с одежды.
— Баню подтопила. Гераськины рубаху и штаны положила на лавку. Иди! А то смердишь кострами.
Михей сел, свесив ноги. Начинался новый день и — новая жизнь. Он усмехнулся баламутившимся мыслям: седой уже, возле своего острога, в своем доме, а вот ведь опять не знал, как обернется и чем закончится этот день. Он долго и неторопливо парился, выбивая из тела хмельной дух, потом терся щелоком и обливался теплой водой, сидел в предбаннике, остывая, попивая отвар шиповника, прислушивался к полузабытым звукам посада. После утренних молитв и завтрака стал беспокойно поглядывать в оконце, ожидая посыльного. Вынужденная тишина в доме напрягалась, грозя прорваться чем-то буйным и бессмысленным. Посыльного не было. Устав ждать и претерпевать гнетущую тишину, Михей поднялся, положил на образа три поклона, мысленно простился с братом, сыном, поцеловал в пухлую щеку невестку, подхватил на руки и подбросил к потолку племянника, записанного его сыном. Герасим удивленно пробубнил:
— Со вчерашнего присматриваюсь — Якунька-то на тебя больше походит, чем на меня.
— Одна кровь! — ответил Михей, поклонился Арине как чужой жене и пошел в острог.
К вечеру он не вернулся, но в дом с радостной вестью вбежал Нефедка, гаркнул с порога:
— Батьку в Москву отправляют! Дождется Булыгина из Жиган и пойдет с костяной и собольей казной. И Васька Бугор, Никитка Семенов, Евсейка Павлов — все с ним. Даже торговый, Костромин.
— Опять на год! — слезно всхлипнула Арина вместо того, чтобы радоваться.
— От царя без награды не возвращаются! — сверкая глазами, попытался оправдать отца сын.
Герасим стоял, прислонившись дюжим плечом к выстывшей печи, смотрел под ноги и накручивал на палец прядь бороды. После разбора, расспроса и воеводской чарки в съезжей избе старшего Стадухина зазвал к себе Бугор.
— Смотри, как живу! — хвастал или жаловался на пути к дому. — С малолетства скитался по чужим углам, удивлялся: как люди умудряются свой дом построить и на одном месте жить. — Он тяжело дышал, выгибался в пояснице, будто был мучим болью. — Я же зимовий рубил без счета, Енисейский, Братский, Верхоленский, Ленский, Якутский строил, а своей избы не имел. Под старость Бог вразумил… И наказал по грехам…
Он рассказал Михею печаль-кручину, как еще на Омолоне заметил, что нет прежней радости от вина, а похмелье муторное, непоправимое. Здесь, в Якутском, стало того хуже.
— От одной чарки сердце в ушах колотится, — пожаловался. — Ни спать, ни плясать. А деньги есть. От воеводской чарки не посмел отказаться — задыхаюсь теперь!
Для якутки, отбитой у коряков, он купил у казны избенку в посаде, оказалась пропавшего пятидесятника Ретькина, отобранная по царскому указу. В нем жила его бывшая женка-тунгуска. «Не прогоняй!» — попросила Василия.
— Что гнать, если живу просторно? Моя якутка — мирная, жалостливая: не противилась, чтобы и та жила. Между служб я избу перебрал, переделал, чтобы руки занять, о плохом не думать… Осталось печку сложить, да это уже другим летом: сейчас глина мерзлая. Так перезимуем… Мишка! — воскликнул с удивлением в лице. — С женками-то жить легче и веселей: что на одного дрова жечь, что на всех — один труд. А тебе кашу сварят, рыбу испекут. Обстиран, накормлен. Якутка коровье масло ест ложками и не дрищет… Тунгуска спит с собаками, псиной воняет. Все равно хорошо! А попы грозят лоб разбить! Магометанином ругают!
Василий уже знал и тяжело переживал, что его брат Илейка, не пошедший с ним в бега, убит в низовьях Амура. По Васькиному разумению тем и наказал его Господь, что не дал залить горе вином, принудил помнить о том ежечасно и мучиться.
Дом Бугра с плоской крышей, покрытой дерном, ничем не отличался от промыслового зимовья: отапливался очагом, сложенным из речных камней посередине жилья, из-под черного от сажи потолка дым уходил на две стороны в волоковые окна, земляной пол был покрыт лапником и сухой травой. Две широких лавки вдоль стен, стол в углу, кошма возле очага. От дыма сердито гудели разбуженные мухи. Якутка со слезившимися щелками глаз непрестанно курила короткую трубку, подсыпая в табак стружки, громко и надсадно кашляла. Зыркнув запавшими глазами в сторону гостя, одна из женщин налила воды в котел, повесила над огнем, другая принесла четыре рыбины и бросила в него головами вниз. Торчавшие хвосты стали чернеть и загибаться. Стадухин опустился на лавку, втянул носом привычные запахи зимовий, и ночлег в доме брата вспомнился ему как прерывистый волчий сон у костра. Но он недолго просидел так, вспоминая душевное тепло родни с блуждавшей улыбкой в бороде. Дверь в избу распахнулась, вошла Арина с головой, плотно обвязанной шелковым платком, окинула взглядом людей в сумраке и нависшем дыму, заметила Михея, кинулась к нему, не обращая внимания на хозяев.
— Чего удумал? — вскрикнула рассерженно, с едва удерживаемой слезой. — Или у тебя своего дома нет?
Пока Михей соображал, что ответить и как, она плюхнулась на лавку, ткнулась лбом ему в грудь и зарыдала.
— Жена! — с пониманием кивнул Василий. Поджав под себя ноги, он сидел на кошме возле огня и глядел на обуглившиеся рыбьи хвосты, торчавшие из котла.
— Неловко как-то, — пробормотал Михей. — И мне, и Гераське… Что уж, живите с Богом! Моя вина, бросил тебя. Думал, найду вольную землю за Камнем, заберу… Не нашел!
— И хорошо, что не нашел, — она хлюпнула носом, отрываясь от его груди. — Утешился, поди, больше искать нечего? — Отпрянула и решительно потянула за собой: — Пойдем домой!
Крепко сжимая его руку, обвисая на ней, она повела Михея. Встречные знакомые посадские люди ее не смущали. Здешнеие нравы сильно разнились с суровыми правилами Руси, где верные жены ждали мужей десятилетиями и почитались честные вдовы, не познавшие иных мужчин, кроме богоданного мужа. «Как вести себя? — лихорадочно соображал Михей. — Что сказать Гераське?»
— Меня ведь в Москву отправляют, — попытался вразумить жену.
— Когда? — насторожилась она.
— По зимнику!
— Не скоро еще! — отмахнулась, как от пустяка. — Нефедка сказал, без приставов, с казной!
— Все равно до лета!.. И грех на мне: я ведь доброй волей отдал тебя брату.
— С Москвы зимой, бывает, за полгода возвращаются! — о чем-то сосредоточенно думая, обронила она, никак не отозвавшись на признание. Видно, знала о нем от Герасима.
Не перекинувшись словом о будущем, они уже понимали, что возвращаются не для временного ночлега. Как на грех, к вечеру собралась вся семья. По поздней осени темнело рано. Огня в доме не зажигали, сумеречничали в ожидании ночи. Герасим с Нефедом сидели на лавке возле прибранного стола, о чем-то беседовали. В полутьме вечера лица их были неясны. Якунька забрался на колени к отцу. Поскрипывали полати. Молодая жена, ползая на коленках, стелила там постель. При всем внешнем покое в доме витал дух ожидания грозы. Арина и ворвалась в него, как молния. Не скинув верхней одежды, рухнула Герасиму в ноги, обхватила колени:
— Прости меня, старую похотливую дуру! Ничего с собой поделать не могу: не идет из головы и сердца вернувшийся муж.
Михей рыкнул, крякнул, сглотнул слезу и в следующий миг тоже опустился на колени перед младшим братом, вконец смутив его. Герасим вскочил.
— Чего это вы? — вскрикнул. — Ополоумели или что? Ладно уж! Чего там! — Громко всхлипнул и взревел, тоже заливаясь слезами.
Завыла Арина, ручьями потекли слезы по щекам Михея, громко заревела молодуха на полатях, приглушенно заголосили сыновья. Дом рыдал, облегчаясь от тяготившего всех предчувствия беды. Утешившись, Нефедка влез на полати. Арина, не находя себе места, соскользнула с печи на лавку, с лавки перебралась на печь, к Якуньке и Герасиму. Опять слезла на пол, где на сенном матрасе устроился Михей, приткнулась к его бороде мокрой щекой и влезла под одеяло. К полуночи, так и не засветив окна, дом умиротворенно уснул.
По заведенному порядку первыми поднимались женщины. Михей проснулся рядом с Ариной, раньше ее, чувствуя себя отдохнувшим. Они не посмели уединиться, но провели ночь обнявшись. Старшему Стадухину хватило и того, чтобы ощутить, как душа и тело напитываются живым теплом, счастливым покоем и тихой радостью обыденной жизни. С удивлением он отметил про себя, что ничего не видит и не чувствует дальше стен. Слышал, как в ночи ворочался с боку на бок, вздыхал Герасим, сонно жалел его, покаянно понимал, что если вчера был один мучим вопросом, как жить, то теперь все домочадцы боятся следующего дня и утра, хоть не просыпайся! Зевая, сползла с нар Нефедкина молодуха, бросила растопку в печь, поворошила выстывшие угли, пузырями надувая щеки, раздула огонь. Душисто запахло вспыхнувшей берестой. Она тихо вышла в сени, затем на улицу. По тесовому полу потек запах студеного осеннего утра: выстывшей земли и льда. Устыдившись долгого лежания, Арина вздохнула раз, другой и отлепилась от Михея.
— Что венчанного-то не приласкала? — с грубоватой принужденной насмешкой упрекнул ее Герасим.
Голос его был бодрым, хотя наверняка всю ночь не сомкнул глаз от дум. Зевая, откликнулся с нар Нефед:
— А чтобы ты не слышал!
— Я бы уши заткнул! Михейка, после двенадцати-то лет, вдруг бы помер под боком у венчанной жены!
— Живой! — отозвался старший.
Арина встала на лавку, заглянула на печь, с молчаливой благодарностью потрепала разметавшиеся волосы Герасима, плотней укрыла спавшего сына под его боком. Наступивший день перестал пугать мерещившимися страхами. После многих лет одиночества Михей восчувствовал полузабытое чувство крепости дома и силы семьи.
Тихо и счастливо он прожил в посаде до тех пор, когда окреп лед на реке и был проложен санный путь. На службы его не звали, жалованья не платили. Письменный голова не мог найти его в прежних списках гарнизона, отшучивался, что старшего Стадухина похоронили при прежних воеводах, в его выбылый оклад приверстали другого. О том, что воевода Пушкин отправлял Михея десятником, тоже не было записей. По всей письменной волоките выходило, что старому казаку надо либо ехать в Москву просить у царя должность, либо записываться в гулящие люди.
Вечерами в доме Стадухиных много думали и говорили, как жить дальше? Сообща решили, что попутно с Москвой Михей съездит на отчину, все вызнает и если можно всей семьей вернуться, то будет проситься на Русь. Тарх с Нефедкой наймут в свои оклады вольных людей, все приедут в родовую деревню, к могилам предков, выкупят отцовский дом и заживут по старине, как деды и прадеды. Вернуться можно было только всем родом, не иначе: как корявое, скрученное дерево на краю тундры сотнями корешков держится за ледяную землю, так здешние Стадухины уже срослись с ней многими связями, разодрать и разделить которые невозможно.
Из Жиган вернулся сын боярский Андрей Булыгин, сдал дела, недолго погулял, обоз с казенными мехами и костью под его началом отправился к Руси трудным, но коротким полуночным путем, нахоженным мангазейскими промышленными и казаками: по Вилюю на Туруханский острог и Тобольский город.
Вернулся Михей много раньше, чем его ждали. Уезжал в кафтане обшитом соболями, в собольей шапке и поддевке, приехал в сукне и волчьей шубе, но с атаманской булавой за кушаком, с мешком подарков для родни и оттаявшими глазами. Все бывшие при остроге пинежцы и сослуживцы не смогли втиснуться в стадухинский дом. Любители дармового угощения вскоре схлынули, остались любопытные до новостей. Они носились от Стадухиных в кабак, где скромно, без размаха, гуляли вернувшиеся из поездки.
— Рты вам в Москве позашивали, что ли? — возмущались, слушая их краткие ответы.
— Говорить не о чем! — опуская глаза, пожимал плечами Михей. — На Руси были поветрия и великий мор. Иные деревни целиком вымерли, другие поредели наполовину. А нынче смута: народ говорит — Бог наказал за то, что попы спорят, как креститься, в какую сторону вкруг алтаря ходить, каким крестам молиться, какие им шапки носить. Царь издал указ о жестком сыске беглых. Соловецкий монастырь заперся от него и патриарха Никона, молится по-старому. Народ власти противится, и не только народ, даже семьи боярского чина. Непокорных бьют, в монастыри и тюрьмы запирают, сжигают целыми деревнями. Иные сами себя жгут, запершись в церквях. Все всеми недовольны, против всех злы и ждут конца света, который, говорят, по числу Зверя — одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой от Рождества Христова. Пять лет осталось, поглядим, что будет. Нам, сибирцам, того не понять, как молились, так и молимся.
За зиму, которую Михей провел в разъездах, Герасим высмотрел казачку якутского вида и жил с ней невенчанный. Он предпочитал всем подвигам благополучие, уют и покой души. Оглядывая подновленный дом, Михей так остро чувствовал его желание сохранить семью хотя бы такой, какая есть, что в горле у него першило, а на глазах наворачивались слезы.
— Ты у нас самый правильный! — хвалил младшего.
Разрядное атаманское жалованье, которым царь наделил старшего Стадухина, было втрое против казачьего. Он получил в Москве плату за двенадцать лет дальних служб, был небеден, но возвращаться на Русь раздумал, среди домашних признался приглушенным голосом:
— Там жить, — все равно, что сидеть у костра на бочке с порохом! Все всем недовольны, по ямам и избам тайком ругают царя и патриарха, будто окружили себя обрезанными жидами и перекрещенными латинянами, хотят все вместе извести русский народ.
В отсутствие старшего Стадухина прежнего воеводу сменил новый стольник Иван Федорович Голенищев-Кутузов Большой. Как всегда при смене власти, какое-то время в остроге была неразбериха, в которую Михей не вникал, жил в семье, ожидая, когда позовут. В то самое время по церквям стали читать указ церковного Собора о лишении Никона патриаршего сана. Молчание вернувшихся из Москвы казаков стало обрастать сибирскими домыслами.
Наконец Стадухина позвали. К его счастью, ближних атаманских служб не было. После поездки в Москву ему сильно не хотелось оставаться при остроге, не хотелось и дальних служб. Его отправили приказным на Олекму. В пути из Москвы он много вызнал об амурских делах Ерофея Хабарова и Онуфрия Степанова. Ерофей служил на Лене в чине сына боярского, метался между службами и торговыми делами, по государеву указу пытался расплатиться с непосильными долгами, в которых увяз после похода. Его верного и стойкого казачьего десятника Онуфрия, убили на Амуре и охочие с самовольно бежавшими туда служилыми возвращались на Лену. Если прежде Михей боялся службы на Олекме, оттого что по той реке беглецы шли в Дауры и среди них могли быть старые товарищи, которых надобно ловить и отправлять на воеводский суд, то после гибели десятника-атамана Степанова на службу в Даурах набирали людей по жребию и отправляли неволей.
Соболь по Олекме был выбит. Три смены приказных начиная с Курбата Иванова оказались в воеводской опале за то, что не собрали обещанного ясака. «Что ж, Олекма так Олекма, — подумал Михей. — Не так близко, чтобы быть на глазах у начальствующих, и не так далеко, чтобы страшиться везти Арину с Якунькой».
В то лето, когда Андрей Булыгин и Михайла Стадухин возвращались на Лену из Охотского острожка, с полуденной стороны Великого Камня, Семен Дежнев на Анадыре наконец-то дождался перемены. Юша Селиверстов и Данила Филиппов привели к нему отряд из тридцати промышленных и пяти служилых людей, среди которых был колымский первопроходец Пашка Левонтьев. Вблизи зимовий с посохом в руке вперед вышел сын боярский Курбат Иванов.
— Хлеб идет! — завидев приближавшийся караван, радостно закричали по избам анадырские жители.
Из дежневских, стадухинских, селиверстовских зимовий выбегали полуодетые мужчины и женщины, возле них приплясывали босоногие детишки, которым, казалось, числа нет. Семен Дежнев с Никитой Кондратьевым, сменившим Артема Осипова, накинули парки, плечом к плечу пошли встречать приближавшийся отряд. Издали узнав Селиверстова, Кондратьев замахал руками, бросил на Дежнева небрежный взгляд и вырвался вперед: как Стадухин, а потом Селиверстов и Осипов, он был в разладе с людьми дежневского зимовья. И вдруг остановился, удивившись, что Юша наравне со всеми тянет нарты, а на идущем впереди шапка сына боярского. Кондратьев смутился, приотстал. Толпа зимовейщиков обогнала его. Семен Дежнев с радостью сдал Курбату свои избы и амбары, суда и одного аманата. У Никиты было семеро заложников. Он тоже сдал все, что было под его началом. Новый приказный без отнекиванья принял остатки добра Бессона Астафьева, которые никто не желал брать на себя. Обветшавшие, они лежали в амбаре, напоминая о давнем.
Первым делом Курбат Афанасьев Иванов покончил с двоевластием: отобрал у Дежнева наказную память Власьева, данную Моторе, у Кондратьева — указ Францбекова, присланный для Стадухина и запретил всякие вечевые решения, объявив, что советы слушает охотно, но решения принимает сам, по порядку, установленному государем и его верными боярами. С последними из промышленных людей, забредших в эти места во времена Стадухина и Моторы — Томилкой Елфимовым, Титом Семеновым, Тренькой Подберезником, Иваном Казанцем, с последним беглым ленским казаком Артемом Солдатом — Дежнев стал собираться на Лену. Из первых русских насельников Анадыря там остался один только Фома Пермяк со своей чукчанкой Иттень и детьми, которых она ему родила. Курбат привел с собой русскую жену и одного из сыновей. Другой умер в пути. Приняв зимовья, новый приказный пересчитал женщин: юкагирок, корячек, чукчанок, их оказалось двадцать шесть: в одиночку никто из здешних насельников не жил. Многие женки были крещены без попа самими промышленными, ими же венчаны ради благополучия потомства. Детей Курбат считать не стал.
— Ты лучше нас знаешь Закон Божий, можешь перекрестить! — посмеялся Дежнев, заметив, как Пашка разглядывает струганые кресты на женщинах и детях.
Левонтьев сильно переменился за годы, которые они не виделись: постарел, уже не ровнял бороды и не подрезал остатки волос. Они висели по его шее свалявшимися прядями. Некогда гладкая, холеная и блестящая лысина была обезображена шрамом.
— Чем я лучше? — он вскинул на Семейку глаза без былой самоуверенной ясности.
— Я думал, станешь попом! — сквозь нависшую челку с сочувствием взглянул на него товарищ по давним походам. — Всех нас сильно переменило прожитое.
— Одно дело спорить с попом, другое — быть им! — перекрестился Пашка.
— Это не по мне! И Книгу я продал Курбатке, чтобы не кабалиться в поход. Стал плохо видеть, буквы расплываются. Что ей лежать? Пусть другие читают, ума набираются.
— Тогда возьми мою женку, — в смех предложил Дежнев. — Послушная, добрая, собой хороша! Чего одному маяться?
— Возьму! — неожиданно согласился бывший обличитель блуда и кровосмешения.
Семен удивленно мотнул головой, стряхивая челку, пристально взглянул на товарища моложавыми глазами.
Оленные ходынцы, по уговору и за плату железом, всю зиму челночили моржовые клыки с верховьев Анадыря в верховья Анюя. А их было больше трехсот пудов. Весной, когда отряд Андрея Булыгина, сопровождавший казну Якутского воеводства, возвращался из Москвы, Дежнев и Солдат в Нижнеколымском остроге хлопотали о рыбьем зубе. К их счастью на приказе сидел дежневский товарищ по алазейским службам Иван Ерастов. Он принял Колыму у сына боярского Константина Дуная с казаком Григорием Татариновым. Ерастов ласково встретил Семена со спутниками, помог им отправить на Лену полторы сотни пудов моржовой кости на коче торгового человека Емельяна Ворыпаева. Но это была только половина груза: большего Емельян взять не мог. Перемены Ерастову не было, и он вынужденно зазимовал. С ним остались на зиму Дежнев с Солдатом, Иван Казанец и промышленные люди. При Нижнем также служил и зимовал казак Иван Пинега. Он и Солдат были последними из ленских беглецов, и оба хотели вернуться в Якутский острог. Здесь все еще служил опальный старик Дружинка Чистяков, подобранный беглецами в Столбовом зимовье. Он нес службы по разным местам то за жалованье, то не в прием, по-стариковски стараясь быть хоть чем-то полезным, и о возвращении не думал.
На Колыме Дежнев узнал, что его венчанная жена Абаканда умерла. Не любя суеты и спешки, он высмотрел вдову кузнеца Ивана Арбутова — крещеную якутку Кантемиру и при остроге безбедно дождался с ней лета.
Еще до вскрытия рек на перемену Ивану Ерастову пришел на лыжах с Алазеи сын боярский Федька Катаев. Спутник Стадухина и Дежнева по оймяконскому походу, бывший колымский торговый и бывший якутский целовальник, при воеводе Акинфове снова поверстался в казаки и даже вышел в средний чин. С тех пор как царским указом отменили запрет на торговлю служилым людям, воля ему стала ненадобна. Недоброжелатели злословили, что с братом Иваном он так выгодно торговал воеводским товаром, что получил выбылый оклад и чин. Ерастов сдал ему остроги, государевы зимовья, суда, аманатов, казенное добро и получил от нового приказного отпускную грамоту. В его распоряжении был казенный коч, он загрузил его остатками анадырской моржовой кости, взял на борт Дежнева с Кантемирой, Солдата, Ивана Казанца и с первыми разводьями двинулся в обратную сторону. Одним караваном с ним уходили торговые суда. На них возвращались на Лену целовальники Ерастова, с которыми он часто ссорился, и беглый ленский казак Иван Пинега. Плавание было трудным, в устье Индигирки коч Ерастова затерло льдами. Торговые люди и целовальники, шедшие одним караваном, бросили бывшего приказного, отказав ему в помощи. Глядя на удалявшиеся суда, Артем Солдат лаял бывшего подельника по побегу Ивана Пинегу, ничего другого попавшие в беду сделать не могли. Но людям Ерастова и Дежнева удалось прорубиться сквозь льды и продолжить путь. К зиме они добрались до Жиганского острога и привезли туда тело его первостроителя Ивана Казанца. Он умер в пути.
С богатой добычей и беспечальной вдовой Дежнев снова зазимовал и только другим летом прибыл в Якутск. Приострожный люд уже знал, с каким грузом возвращается старый казак-половинщик после двадцати лет скитаний: кроме государевой десятины он вез сто пятьдесят шесть пудов семнадцать гривен кости да в прошлом году переслал почти столько же. С таким богатством в Якутский острог не возвращался никто. Но не вся кость принадлежала Дежневу: пятьдесят восемь пудов он вез для родственников погибших товарищей, его личная доля была взвешена и вытянула на тридцать один пуд двадцать девять гривенок. Доля Артема Солдата — на двадцать семь пудов. Воевода скупил всю кость в казну, но государевых и занятых у торговых людей денег не хватило, чтобы расплатиться с анадырцами, поэтому Семен Дежнев не смог вернуть долги по кабалам и сделать обещанный вклад в монастырь. Заимодавцы же требовали денег с богатого казака. Семен просил выплатить половинное жалованье за двадцать лет, но такие выплаты решались только Сибирским приказом или самим царем. Воевода защитил Семена от правежа по кабалам и вместо полной расплаты обещал поездку в Москву с казной.
Михей Стадухин досрочно и с облегчением души сдал олекминские дела по присланному воеводскому указу, погрузил в струг ясачную казну, жену с Якунькой, житейский скарб, немногие нажитые на службе вещи и с ранней водой сплыл в Якутский острог. Главной новостью для него была та, что его сын Нефед с женкой без отцовского благословения уплыл на колымскую службу к дядьке Тарху.
Герасим по-прежнему жил в посаде, торговал и промышлял рыбной ловлей, он встретил родственников с большой радостью и не спускал с рук Якуньку. За время разлуки брат переменил прежнюю казачку на такую же болдырку, чисто говорившую по-русски. Бездетная, она дергалась, строптиво фыркала и язвила, примечая, что мальчишка называет мужа то отцом, то дядей: полукровные девки скандальны и заносчивы. Герасим за праздничным столом рассказывал про вернувшегося земляка Дежнева, жаловался на торговые дела. Олекминский атаман делился с братом своими заботами: явленный им посул со служб на Олекме удалось собрать с большим трудом. В следующем году такого ясака взять невозможно: промыслы истощились, пушного зверя не стало.
— А ясак требуют все строже: кабались, но отдай, что обещал! Что делать, не знаю! — Поднялся из-за стола, положил на образа три поклона и вспомнил про Дежнева: — Надо повидаться! Земляк все-таки. Не зазнался ли, как стал богат?
— Чем зазнаваться? — хохотнул Герасим, не спуская с колен Якуньку. — Что получил от воеводы, то отдал по кабале. Что сам давал в долг Анкудинову и Заборцеву — все пропало… Ох, и дурь эти ваши походы! — Метнул на старшего насмешливый взгляд.
— Дурь, она тоже от Господа, — пробормотал Михей, опустив глаза. — Или по Его попустительству.
Он часто приглядывался к младшему, который после оймяконского похода далеко от острога не хаживал, жил в тепле, сытости и не мог понять, зачем люди рвутся в дальние края, принимают муки, а если возвращаются с богатством, то пропивают его в печали по чему-то несбывшемуся. В бороде Герасима Михей приметил первый иней. Спорить с матерым мужем, объяснять ему, чего сам до конца не понял, не хотел, спросил только:
— Неужто Семейка не гулял по возвращении?
— Разочаровал голытьбу! — рассмеялся Герасим, оглаживая русую бороду. — В кабак не хаживал, никого не поил, угощения для расспросов не принимал. Да и с чего бы? Не вступись за него воевода — встал бы на правеж… Ко мне заходил ради землячества: один и с Кантемиркой. Сошлись, живут тихонько. Похоже, она брюхата.
— Крещеная якутка? — Вскинул глаза Михей.
Герасим кивнул.
— Вон что! А хотел на Русь вернуться! Меха и деньги копил. Живет где?
— Получил клеть в остроге.
Михей заспешил, схватившись за шапку, желание поговорить с земляком, с которым не ладил в походах, давно одолевало его. Нужда и гнус гнали из тайги промысловые ватаги. И те, что кое-что добыли, и те, что промотались, шныряли возле острога с глазами, алчущими радостей жизни. По Лене сплывали новички из служилых, промышленных, беглых, толклись в приострожной колготне с восторженными лицами. Надеясь на легкую поживу, возле них крутились ярыжки. Гостиный двор, кабак, мыльня, дома посадских людей были полны нахлынувшими людьми. Одни продавали и наживались, другие веселились и проматывали добытое. Острожные ворота и калитка были заперты. На проездной башне маячил караульный, тоскливо озирая суетящийся народ. Был светлый вечер с ясным солнцем на долгом закате. Стадухин с атаманской булавой за кушаком, с саблей на боку, широко расставив ноги, встал перед въездными воротами.
— Семейка Дежнев Анадырец в остроге ли? — спросил караульного, задрав голову.
— Здесь! У себя, — ответил тот и, свесившись на другую сторону башни, окликнул воротника.
Калитка распахнулась, Стадухин, скинув шапку, перекрестившись на Спаса, вошел. За его спиной клацнул закладной брус.
— Покажи, где живет! — приказал воротнику.
Тот указал на ряд врубленных в стену тесных казачьих изб. Подсказал, какая дверь. Михей постоял перед ней, пытаясь почувствовать, что там, и ничего не понял. Суетная поездка в Москву и год, проведенный с женой на Олекме, притупили чувства. Он постучал. Дверь открыла якутка средних лет, в русском платье, покрытая камчатым платком. Узкие глаза настороженно зыркнули на атамана.
— Не узнаешь? Твой покойный муж ковал мне якорь. Семейка у себя ли? — спросил. — Мы с ним земляки.
Якутка молча отступила от двери, приглашая войти. Обычная тесная острожная жилуха была наполовину занята печкой, в углу, между ней и бревенчатой стеной, с лавки торчали босые ступни хозяина.
— Семейка за любимым делом, — посмеиваясь, проворчал Стадухин и положил поясные поклоны на образа, высветленные тлевшей лампадой. — Смотрит в потолок и чешет брюхо!
Дежнев, кряхтя и зевая, выбрался из-за печи, смахнул с глаз волосы, удивленно замигал, уставившись на земляка.
— Не узнаешь? — усмехнулся атаман.
— Мишка, что ли? Слыхал, что вернулся с Олекмы, не думал, что зайдешь, — пробормотал, обуваясь в чирки, по-якутски расшитые бисером.
Кантемира молча глядела на мужа, ожидая распоряжений. Семейка гыркнул по-якутски, она неспешно достала котел и наполнила его водой.
— Решил зайти, — буркнул Стадухин, глядя в угол. — Соскучился по земляку и сослуживцу.
— И я тебя часто вспоминал, совестью маялся, что не сказал про коргу, с которой нас с Федоткой и Гераськой чукчи выбили. А ту, с которой кость привез, мы после тебя нашли. Бог дал. — Наконец он обулся, опоясался и встал в рост: — Ну, здоров будь, Михайла Васильевич! Знаю, в атаманы вышел. Так и должно быть.
— Почему? — Обнявшись с земляком, Стадухин присел на край лавки. Недолго помолчав, спросил: — Помнишь, что пророчил пропойца перед Оймяконом?
Дежнев беззвучно рассмеялся, задрав побелевшую рыжеватую бороду.
— Зря смеешься. Ни в ком не ошибся. Только мы с тобой остались на одну счастливую судьбу.
— Четверо! — поправил земляка Дежнев, выдавая, что помнит пророчества. — Курбатка! Я ему Анадырь сдал. И Ярко Хабаров жив, слава Богу.
— Если помнишь Курбатку и Ярка, то помнишь, что им было сказано. Я про нас с тобой. Чудно! Мне атаманство, тебе слава и богатство. На двоих одну судьбу пророчил, что ли?
— Какое там богатство? — снова беззаботно рассмеялся Семен. — Столько раз спасался чудом, притом, от страха, чего только не обещал Господу… Здесь в Спасский сделал вклад и едва не встал на правеж. Если поеду на Русь — Чудову монастырю должен по обету. Вот и все богатство. Разве царь велит выплатить жалованье за двадцать лет! — Смешливо сощурился, глядя на Стадухина сквозь волосы с густой проседью.
— Сказано было, тот один, кому выпадет счастье, — помрет на Руси, а я, грешный, от нее отрекся, — виновато поморщился Стадухин. — К народу своему, к отцам и щурам уже не приложусь, — пробормотал невнятно.
Семен смешливо сморщил иссеченное стужей и ветрами лицо.
— Поделим как-нибудь судьбу, что попусту переживать. Какой из меня атаман? Одна правая рука цела, все остальное в ранах, как у драчливого пса. И на Анадыре были одни склоки от моего атаманства. Ты все правильно делал. Зря я тебе перечил. Хотелось ладить с людьми по русской старине, править соборно, не как ты, а получались раздоры. Меняется народишко, уже не тот, что встарь. Гераська говорил — ты маешься, что вывел с Ламы меньше половины связчиков. Если бы я ушел на Пенжину, как хотел, — все бы погибли. Бог спас через тебя, не допустил.
Семен кликнул жену, поторопив, чтобы накрыла стол.
— Вино пьешь? — спросил. — Помню, не сильно-то любил, ругался, когда квасили ягоды.
— Нынче хуже прежнего, — рассеянно признался Стадухин, все еще думая о своем. — От запаха воротит. Не дал Бог радости пития.
— Да уж, — мечтательно осклабился Дежнев. — Там, бывало, первое дело гостя щербой угостить. Водицы вскипятил, рыбки настрогал — и готова ушица. Со стужи-то горячей жирной юшки?! — крякнул от приятных воспоминаний. — А тут нынче забыл, как быть голодным, не знаю, чем гостя приветить? Гляжу на хлеб — лежит на столе, а я его не хочу! Ну и жизнь! — не то восхитился, не то пожаловался.
В сказанном Стадухин уловил скрытую тоску, понятную только им, старым, бывалым, казакам.
— Это там, — кивнул на восход, — ломоть хлеба и кружка кваса в великую радость… Я поговорить пришел да прощения испросить перед Святой Троицей. Сердился на тебя, бывало.
— Я не злопамятный, — искренне рассмеялся Дежнев. — Сам грешен, на тебя серчал, перечил, потом много думал, что пока ты был с нами, редко кого убивали. Разве тех десятерых в низовьях Анадыря?! Да и то по нашей вине: не уйди мы на Пенжину, не отправил бы к анаулам одного казака. А как ты ушел, так нас часто кровью умывали.
Стадухин молча покивал.
— Чудно! — фыркнул в бороду, не в силах рассеять навязчивые мысли. — Одну судьбу на двоих девки не прядут, хоть и незрячие. Вот же стервы! — Шумно вздохнул, собираясь подняться, вспомнил, что еще хотел узнать, и со смущением посветлел лицом. — Что там на Колыме?
— При мне все на Анадырь рвались, за легким богатством, — стал обстоятельно рассказывать Дежнев. — Чтобы зиму брюхо чесать, как ты меня корил! — Весело шевельнул рыжеватыми усами, показывая щербатые желтые зубы. — Казака Третьяка Алексеева помнишь? Мы с Оймякона плыли, а он возвращался с устья Индигирки с Федькой Чукичевым?
Стадухин кивнул.
— Ходил с Блудной на Гижигу, взял два коряцких острога.
— Милостив Бог! — Стадухин метнул быстрый взгляд на образа. — Про Ивашку Баранова я слыхал.
— Соболя по Колыме выбили, но рыбы, мясного зверя много, мука дешевая: два соболя за пуд.
— Вот ведь! — лицо Стадухина опять помрачнело. — На Олекминском приказе Бог спас от правежа: вызвали раньше срока… А ты если будешь в Москве, хорошо подумай, захочешь ли остаться на Руси. Если нет — проси атаманское жалованье.
— Да мне еще белый свет в радость и женка брюхата! — беспечально перекрестился Дежнев. — Даст Бог пожить — не откажусь!
— Поживи, если не насытился! — одобрил Стадухин. — Не такие уж мы и старые, разве поизносились в походах. А так что не жить? — Чтобы не обидеть хозяина и домового, смахнул со стола кусок пирога с капустой, пожевал, кивком поблагодарил Кантемиру. — Плохо, что соболь ушел. Но все равно буду туда проситься: здесь тошно, на Олекме плохо. Если не увидимся на этом свете, хоть расстанемся мирно, что ли?
Шевеля бородой, он хотел уже откланяться, но дверь распахнулась, вошел белый как лунь Артем Солдат, тощий и сутуловатый, с удивлением уставился на Стадухина.
— Что, думал, помер? — насмешливо спросил атаман.
— Слыхал, что живой! — беззубо прошамкал Солдат.
— Я тоже слыхал, что ты богат!
— Кого там? — хмурясь, засопел казак. — Старую кабалу в Жиганах выкупил, немного осталось.
— На Русь будешь проситься?
— Не поеду! Женюсь, осяду в Якутском или где ближе к Ангаре. Дом срублю. — Осклабившись, Артем стал обстоятельно рассказывать о замыслах.
— Где тебя девки востроклювые целовали? — спросил Стадухин, указывая глазами на рубцы среди морщин.
— Так вот! Как ты ушел, анаульцы бунтовали, потом ходынцы! — обидчиво сопя и бросая колючие взгляды на Дежнева, пробубнил Солдат. — С коряками воевали за коргу! Многих наших побили до смерти, а мы с Семейкой хоть перераненные, но живые.
— Слава Богу! — посочувствовал атаман. — Хорошо, что со мной не пошел. Нынче богат и жених хоть куда: ни крив, ни хром. — Дай Бог бескровных служб! — пожелал бывшим сослуживцам.
— И тебе так же! — ответили казаки.
— Богу бы в уши! — буркнул в бороду Стадухин, откланялся и вышел.
Вскоре он узнал, что его ранняя перемена на Олекминском приказе была связана с гневом воеводы, стольника Ивана Федоровича Голенищева-Кутузова. Он получил жалобную челобитную от колымских ясачных людей, был взбешен тамошними беспорядками и созвал для сыска приказных, целовальников, в разное время служивших на Колыме. Стадухин сдал таможенному голове привезенную олекминскую казну и к назначенному сроку явился в съезжую избу. У ее крыльца пугливо толпились казаки, атаманы, дети боярские и целовальники. Иван Ерастов, сдавший Колымский приказ тамошнему первопроходцу, сыну боярскому Федьке Федорову Катаеву, был суетлив и бледен. Все знали, чем разгневан воевода. После многих милостей за доставку моржовой кости, надежд на поездку в Москву последний из вернувшихся приказных готовился принять первый воеводский гнев. Здесь были его колымские целовальники, приведенные приставами, Иван Денисов и Степан Журливый. Встретившись возле избы, они с неприязнью уставились друг на друга. К Стадухину подскочил пятидесятник Григорий Татаринов, с которым он давно не виделся. Среди хмурых и настороженных людей Гришка выделялся бравым видом и непомерной веселостью, перекинулся обыденными словами, отскочил к толпе тихо споривших казаков. Татаринов служил на Алазейском и Колымском приказах с сыном боярским Константином Дунаем, но Дуная среди толпившихся не было. К Стадухину тихо подошел товарищ по ламской службе и поездке в Москву Андрей Булыгин, отвел его в сторону.
— Нам бояться нечего! — буркнул на ухо. — Буду проситься на Колымский приказ. — Пристально взглянул в глаза Стадухина. — Душа вещует — смогу навести там порядок. — Помолчал, не сводя с Михея пытливого взгляда, и признался: — Если ты поможешь, как на Охоте. Времена там неспокойные, ясачные грозят неповиновением, но в сравнении с ламутами они, как дети.
Атаман опустил голову. Несмотря на то, что благополучная семейная жизнь успела мягко и сладко опутать его, опять вспомнились Колыма с ее водоворотами, синие горы, багрянец заходящего солнца на воде, желтый лист осени.
— Нынче порядок строгий, прежних послаблений нет: служба два года — не больше, — с сомнением качнул головой. — Жалко старуху. Ее даже на реке укачивает, не то что в море. А бросить не могу.
— Я тоже не люблю моря, — нетерпеливо передернул плечами Булыгин и стал прельщать дальней службой.
— Если сядешь на тамошний приказ, то меня с моим атаманским жалованьем при тебе не оставят, — потеребил бороду Стадухин. Желание вернуться на Колыму захватывало его.
— На Алазее сядешь! Рядом! Тебе будет на кого опереться, и мне!
— В верховьях Алазеи есть хорошие места и до Среднего острожка — недалеко, а там служат брат и сын… От Синицынского торгового зимовья всего-то верст двести.
— Пойдешь?
— Надо подумать!
— Все равно куда-то пошлют. Оставят при остроге — того хуже!
— При нынешних порядках при остроге плохо, — согласился Стадухин. — В верховьях Лены соболь выбит, в низовьях вовсе нет, а ясак требуют, как прежде. Новых народов под государя искать надо, так я уже наискался. — Вздохнул, тряхнув бородой. — Как Бог положит — так и сбудется. Куда пошлют — туда пошлют!
Из избы вышел воеводский холоп с немигающими змеиными глазами, объявил, что стольник воевода Иван Федорович ждет! Опасливо крестясь, толпа служивших на Колыме людей придвинулась к крыльцу и нерешительно затопталась. Первым переступил порог пятидесятник Григорий Татаринов. За ним, уступая друг другу, потянулись другие. Люди кремлевских чинов и их холопы представлялись Стадухину на одно лицо: короткополый немецкий кафтан, выбритый подбородок, длинные усы. У нынешнего воеводы из-под усов выпирала тяжелая челюсть, выпученные глаза гневно сверкали. Едва приглашенные вошли и встали перед ним, он громогласно заговорил:
— Ведомо стало мне, что на Колыме-реке сбор ясака ведут промышленные, принятые в службу без жалованья, и чинят ясачным народам всякие насильства: заставляют брать в долг железо по пятнадцать соболей за полуаршинный прут, десять соболей за топор, недоимку правят батогами, уводят жен и дочерей, продают их промышленным. Юкагиры жалуются, что полуказачье бесчинствует хуже служилых и требует с родов по тридцать пять сороков соболей вместо пяти с одного сильного мужика. Пошлин с себя они не платят, лучшие меха в государеву казну не кладут.
Тяжелый взгляд воеводы остановился на Иване Ерастове. Сын боярский, сутулясь, вышел из-за раздвинувшихся спин, дрожащим голосом стал оправдываться.
— Служилых не хватает, искони приходится звать в службу охочих. А за то, что они не платят оброчных денег, спрос с целовальников, — вывернулся, переводя гнев на своих недругов Ивана Денисова и Степана Журливого.
Те, побагровев, вынуждены были встать перед воеводой, оправдывать себя и прежних целовальников начиная со времен Стадухина и Зыряна.
— Все знают, кого полуказачье одаривает. Стенька требовал с них десятину, — Денисов указал на Степана Журливого, — они ему отказали с тем, что служат и дают приказным по десять, а то и пятнадцать соболей.
— Не брал! — гневно воскликнул Ерастов. — Все, что давали, записано в книги!
— Охочие никогда не платили ни явочных, ни отъездных пошлин, — смущая их, выкрикнул Григорий Татаринов, самочинно подступился к воеводе и его людям. — Я с Коськой Дунаем силой сыскивал с них соболей, вымученных у ясачных … А делают они вот что: бросят железный прут возле юрты — на другой год плату за него требуют. Я знаю!
— Велю впредь бить за то батогами перед инородцами и запретить охочим собирать ясак! — побагровев, пророкотал воевода.
Нынешней зимой на Колымском приказе сидел хитроумный Федька Катаев, он и сменил Ивана Ерастова. Жалобная челобитная была написана в его время. Один за другим приказные и целовальники, оправдывая себя, все грехи валили на него. Иван Ерастов, затравленно глядя на строгого стольника, вытирал пот с пылавшего лица. Стадухин про себя подумал: «Труднехонько будет Федьке выкрутиться на этот раз, но он верткий. Дай ему большую власть — наделал бы вреда хуже Францбекова, не смотри что новгородец». Ему, атаману Михайле, воевода вопросов не задавал, только окинул взглядом, когда указали, что он из первых на Колыме. При воеводском сыске молча стоял в стороне человек, судя по виду, подьячий. Он ничего не записывал, только внимательно всех слушал, переводя глаза с одного говорившего на другого. Сыск закончился, Михей отмолчался, довольный тем, вышел из избы и всей грудью вдохнул теплый летний воздух с запахом реки. Следом выскочил Ерастов с облегчением на лице. Для него разбор случился не ко времени — могла сорваться поездка в Москву. Воевода грозил ему батогами, но ни словом не обмолвился про обещанную милость. У Ивана оставалась надежда, что все прежние посулы остались в силе. Отдуваясь, он наскочил на Стадухина, заполошно кивнул и пропал с глаз. С видом победителя мимо прошел Григорий Татаринов. Ему сыск не повредил, он даже сумел обратить на себя внимание воеводы и его людей.
— Завтра подам челобитную служить на Колыме! — тихо пообещал Стадухину Андрей Булдыгин.
— А посул?
— Соберу! С ясачных больше прежнего не возьму, чтобы не гневить, но опишу их родственников. Ивашка Ерастов говорит, на ярмарки с верховий Анюя приходят человек двести ходынцев, которые ничего не платят. Подведу их под государя… За тебя буду просить, чтобы был рядом, на Алазее.
Стадухин опять покряхтел, не зная, что сказать.
— Поговорю со своими! — ответил, претерпевая смуту в душе и тяжесть под сердцем.
И пока шел к дому, все думал, как жить? Темные мысли лезли в голову при воспоминании о нынешнем сыске, о московских расспросах в Сибирском приказе. И думалось ему, что служилые справедливо называются холопами. Так оно и есть. Снова стал искушать бес проситься на волю, но уже здесь, в Сибири: хотя бы в посад, в торговые и промышленные люди. И полегчало, будто ангел махнул крылом и дал прежнего растраченного духа. Досаждала нудная мыслишка — на что жить? Разве Герасиму помогать? И все же домой он вернулся с надеждой на другую жизнь, рассказывать о сыске не стал, пожаловался только, что при остроге ни жить, ни служить не хочется.
— Что ни воевода — то новые поборы! — поддержал его Герасим. — Меняются часто. И что делать? Хотели на отчину вернуться, говоришь, там еще хуже.
— Хуже! — Сел за стол Михей. — Перебраться бы куда подальше, к Тарху и Нефеду на Колыму, что ли! — Вздохнул, начиная обдуманный разговор. — Ты там не пропадешь, — кивнул брату, — каждый год ярмарки. Лыжи, нарты, собаки — все в большой цене. А рожь — два соболя пуд. При Головине и Пушкине в Якутском была вдвое дороже. Притоки на Колыме рыбные, мясного зверя много, — стал увлекаться. — Соболь ушел — и слава Богу! Народу будет меньше, а мы и в песцовых шапках походим. А что? — Встрепенулся, обводя глазами брата и жену, — поехали! Соберемся, станем жить одним домом, по старине. Когда еще кремлевские сидельцы туда доберутся.
— Поедем! Поедем! — заерзал на лавке Якунька.
— Тарх с Нефедом, наверное, по зимовьям да летовьям бродяжничают, — благоразумно заметил Герасим. — Страшно на пустое место.
— Мне все равно, где жить, лишь бы за мужем и с детьми. Нефед там, — всхлипнула Арина, вспомнив старшего сына. — А добираться страшно. На Олекму шли — много претерпели, туда и вовсе. Наслушалась я про Студеное море.
— Далеко! — согласился Михей. — Но если совсем уходить, то перетерпим!
— Что удумали? — скандально вскрикнула женка Герасима и уставилась узкими глазами на сидевших. — Никуда не поеду!
— Я тебя и не зову! — опустил взгляд Герасим. Молодуха с визгом сорвалась с лавки, накинула душегрею, выскочила из дома, громко хлопнув дверью. — Пусть охладится! — зевнул вслед младший Стадухин. — Больно криклива.
— Такие, сказывают, в блудных страстях злей и слаще! — рассмеялся Михей, глядя на брата.
— По мне лучше ласковые и тихие, — сгоряча отговорился Герасим.
Михей с Ариной смущенно притихли, понимая больше сказанного.
— Есть у меня задумка, — прервал затяготившее молчание старший Стадухин. — Вместо того чтобы служить при остроге, месяцами пропадать в улусах, буду проситься на Индигирку или Алазею. Уеду, срублю дом, другим летом вы с торговыми и служилыми приедете на обжитое место и уже не вернемся.
Выцветавшие глаза Арины расширились, испуганно уставились на мужа. Она спросила одними губами:
— Опять бросишь на годы?
— Нынче дольше, чем на два, не посылают. Новых земель искать не буду, вот те крест, — размашисто перекрестился, не поднимаясь с лавки. — Скажешь — нет! Никуда проситься не буду. Куда пошлют, там и приму службу. Мы — холопы, хоть бы и государевы, судьбу не шибко-то выбираем. И на кой Тарх с Нефедом в служилые поверстались?
Неделя по возвращении с олекминских служб была гульной. Герасим занимался обычными делами, Михей по гостям не ходил, чем выводил из себя скандальную молодуху брата. Ее бесило, что Якунька называл тятькой и атамана, и ее мужа, девка не упускала случая съязвить про свальный семейный грех. Михей с Ариной тягостно помалкивали, не вступая в споры и пререкания, Герасим мрачнел, вздыхал, морщился, однажды взял ее под руку и вытолкнул за дверь.
— Не пропадет!
На третий день к Стадухиным пришел Андрей Булыгин, спешно положив поклоны на образа, стал жаловаться и просить совета.
— Подал дьяку и письменному голове сказку, а воеводе — челобитную служить на Колымском приказе. Обещал прежний ясак с прибылью. Но хитромудрый Гришка Татаринов против моей сказки и челобитной подал встречную — с посулом десять сороков в год к прежнему ясаку. Обещает с охочих людей брать десятину, подвести под государя анюйских ходынцев и верхнеколымских ламутов.
Атаман Стадухин удивленно хмыкнул, поскоблив сивую бороду:
— Дурья башка… Похоже, спина кнутов просит!
— Я так и сказал письменному голове. Но воевода Гришкиным сказкам поверил и посылает его на Колыму, а с ним для своего воеводского надзора подьячего Семейку Аврамова.
— Ну, и что теперь? — спросил Михей, равнодушно глядя на товарища.
— Молчат! На Индигирку отправляют Козьму Лошакова. На Алазею посылали в прошлом году, менять рано…
— На все Божья воля! — со вздохом пробормотал Стадухин. — Без служб не станемся, хомут найдется.
Знойный июль перевалил на другую половину. Отпускные грамоты разом получили люди с семи кочей. Три торговых судна отправлялись на Индигирку. В Нижние зимовья этой реки, Зашиверское и Подшиверское, на перемену прежним приказным шли Кузьма Лошаков, выслуживший чин сына боярского, и сотник Амос Михайлов. На Колыму послали два коча. На одном с торговыми людьми отбывал к месту службы Григорий Татаринов с подьячим Семеном Аврамовым, на другом — казаки со служилыми людьми. Только 27 июля, на Пантелеймона-целителя, караван пошел вниз по Лене. В обыденной спешке все вынуждены были презреть старое поверье, что в этот день нельзя возить хлеб с места на место.
— Дурь! — Взглянул им вслед Михей Стадухин и перекрестился, чтобы не навлечь беды. — К Семенову дню дай Бог дойти до Яны. А там — холода и заморозы. Меняются воеводы, начальствующие люди, но год за годом раньше середины июля уходят только торговые от знатных гостей.
Он был оставлен для гарнизонных служб, Булыгин с отрядом казаков ушел мирить рассорившиеся роды якутов. К Михайлову дню торговые люди, вышедшие с Яны сухим путем, принесли челобитные от Григория Татаринова и Козьмы Лошакова. За Святой Нос, к устью Индигирки, сумел пройти лишь один коч с отрядом сотника Амоса Михайлова. Все остальные были затерты льдами. Судно, на котором шел к месту службы Григорий Татаринов, вмерзло в устье Яны. Не желая зимовать, он со служилыми людьми лыжным путем отправился к Верхнему Колымскому зимовью. Вернувшись к Рождеству с Алдана, Стадухин узнал, что Андрей Булыгин с дюжиной служилых людей ушел на Яну сухим путем. К лету промышленные привезли от него челобитную с просьбой о помощи. Булыгин писал, что дошел до Нижнего Янского зимовья, принял янских, омолоевских и хромовских аманатов у служилого Бориса Михайлова, оставил при них своего человека Алешку Басурманова с пятью служилыми и нартным путем отправился на Индигирку. На пути ему встретились янские ясачные юкагиры и сказали, что казаки в Нижнем янском перебиты толмачом-новокрестом Ивашкой Сидоровым, аманаты отпущены на волю, Ивашка бежал к родне. Булыгин жаловался, что на Индигирке в Подшиверском зимовье всего семь казаков, торговых и промышленных людей мало, поскольку промыслы оскудели, а среди ясачных юкагиров зреет измена. К ней склоняются даже многодетные женки казаков и промышленных.
И снова воевода собирал людей, служивших на дальних реках, выспрашивал, отчего могли взбунтоваться ясачные мужики, не от насильств ли убитого на Яне Алешки Басурманова? Грозил отправить четыре коча торговых и казаков, чтобы наказать изменников, заново подвести их под государя или усмирить боем. На Алазейский приказ по прежним просьбам сына боярского Андрея Булыгина он назначил атамана Михайлу Стадухина. Опять был знойный июль. Со всеми обычными сборами и письменной волокитой раньше Ильина дня караван уйти не мог, а это был крайний срок. Стадухин не хотел повторять того что было в прошлые годы и подал челобитную, чтобы идти с Лены в верховья Яны сухим путем, проторенным Постником Ивановым, Дмитрием Зыряном, Василием Власьевым и многими другими. Оттуда по суху выбираться на Индигирку и Алазею, чтобы не зависеть от погоды и удачи, как на море. Он был уверен, что прибудет к месту службы раньше, чем люди, посланные судами. Пути через Янский хребет Михей не знал, но с Яны до Индигирки хаживал и просил в помощь проводника и толмача Микулу Юрьева, которого обещал оставить в Зашиверском зимовье на Индигирке. Из-за смут и людей, ждущих помощи, просьба атамана была удовлетворена. Воевода решил отправить с ним на Яну морехода Ивана Реброва с наказом привести на Колыму коч, брошенный Гришкой Татариновым. Стадухин получил отпускную грамоту и стал собираться в путь. Его скорые сборы были облегчены торговым человеком Лукой Новоселовым. В прошлом году купец отправил на Колыму товар с приказчиком, но тот почему-то остался на Яне. На Алазею с грузом ушел его покрученник, а там товар забрал целовальник Осип Иванов. Лука Новоселов шел искать свое добро и приказчика, возможно, погибшего от янских бунтов. По его челобитной воевода велел Стадухину разобраться во всем на месте: служилых посадил на прокорм к торговым, торговым дал защиту от служилых. Со всеми вместе набирался хороший отряд, способный усмирить бунтовщиков. За год приострожных служб в доме Стадухиных было много переговорено о переезде на Колыму, поэтому никто не удивился его назначению.
— Аж помолодел! — со вздохами укорила мужа Арина. — Ишь как глаза блестят. Надоела я тебе!
— Что говоришь? — Михей обнял жену, но в глубине души чувствовал, что четыре года спокойной, счастливой жизни начали тяготить. В недолгих отъездах он радовался кострам, ночлегам под открытым небом, пропахшим дымом зимовьям, вернувшись, втайне ждал новых, пусть небольших, но походов.
На этот раз не было ни слез, ни наказов, будто Арина тоже заждалась очередной разлуки. Михей неуверенно предложил ей и брату идти с ним через горы. И тут же сказал, что на другой год на Алазею непременно пришлют окладные хлеб, соль, крупы и можно будет добраться с грузом, а уж он к тому времени приготовит жилье. Арина сделала вид, будто не услышала про пеший путь.
— Хоть с дикарками не балуй! — благословила мужа.
— Баловал бы, да не получается! — Старший Стадухин с благодарностью взглянул на нее, обнял Якуньку, благословил брата и с легкой душой простился.
Три струга с нартами, лыжами и хлебом ушли вниз по Лене к устью Алдана, там люди высадились на низинный, заболоченный берег и пошли в сторону гор. Пышный мох ночами примораживало, утром нарты, поскрипывая, легко скользили по нему. Вблизи гор, по камням, идти стало трудней, и все же Стадухин радовался, что не взял коней — с ними он намучился в оймяконском походе. Долина притока сужалась. Микула Юрьев — бывалый проводник и толмач, шел впереди, высматривая знакомые приметы тропы, по которой несколько лет никто не ходил. Сначала волоклись широкой падью, заросшей ивняком, падал ранний, сырой снег, смешивался с пожухлой травой, налипал на полозья, от него быстро мокли бахилы. Путники разводили костры, сушились, шли дальше, и не было обычных для моря спешки и опасений — не успеть до ледостава.
Ветер разнес тучи, на небо выкатилось желтое солнце, стал таять снег, обнажая пышный мох. Глазам открывались рыжие полосы лиственничной тайги, стекавшейся по долинам, черные камни горных вершин. В лесу открытые ночлеги были теплы, дров не жалели. Стадухин, лежа к огню ногами, глядел в небо с ясными звездами. Над острыми вершинами лиственниц висел радостный месяц — золотые рожки, предсказывая долгую, сухую осень. Рассвело, и отряд поволокся дальше к вершинам хребта.
— Где-то здесь был крест! — Проводник беспокойно озирал седловину между сопками. На краю леса стояла одинокая лиственница. Ветры скрутили ее в узел, согнули и обломали ветки, но она была жива. — Не уйти бы в сторону! — Оглядываясь на пройденный путь, Микула опасливо вертел головой. — Мимо Яны не пройдем, но путь увеличим.
На седловине, под которой остановился отряд, креста не было видно. Микулка налегке сбегал посмотреть, не упал ли, и с воплями вернулся. Через некоторое время с той стороны вышел медведь. С тех пор как Михей отпустил питомца, отобранного у анюйских юкагиров, прошло много лет, но атаману показалось, что это тот самый заматеревший пестун. И опять он залюбовался сильной грудью, прядями шерсти, свисавшими с лап, лобастой головой и статью свободного зверя. Покрученники Луки Новоселова схватились за пищали и мушкеты. Атаман остановил их знаком и пошел к медведю, договариваться. Чувствуя за спиной страх спутников, подступил к нему шагов на пятнадцать, зверь не думал уступать дорогу: глядел пристально, потряхивая головой, будто его донимала мошка.
— Чего тебе? — строго спросил Стадухин. — Дай пройти!
Медведь стоял, не показывая признаков озлобления. Притупившимся чувством Михей ощутил, что зверь просто любопытен, скинул кафтан, помотал им над головой. Медведь неспешно повернулся боком и засеменил за пологую каменную вершину сопки. Спутники за спиной атамана восхищенно зашумели, а он оделся и махнул им рукой, призывая продолжать путь. Опасливо поглядывая на топтавшегося среди камней зверя, они вытянули нарты с грузом на седло и сбились в кучу.
— То самое! — крикнул проводник, указав на полуторааршинный крест, лежавший на боку.
— Чего пялится? — роптали торговые, с опаской поглядывая на медведя. — Позволь пальнуть для острастки?
— Не надо! — приказал Стадухин таким голосом, что спорить не посмели.
Глаза его горели, он чувствовал себя молодым и вольным, будто сбросил тяжесть последних лет. Обдутые ветром горные хребты тянулись на тысячи верст, между ними сверкали извивы рек. Бескрайняя желтая тундра убегала на север и пропадала в туманном мареве.
— А здесь лучше, чем в море, — пробормотал атаман, обернувшись к старому мореходу.
— Надежней, но не лучше! — одышливо ответил Ребров. Пеший подъем в гору им обоим давался нелегко.
Караван пошел к Яне. Михей пропустил спутников, и когда проскрипели полозьями последние нарты, обернулся к медведю. Тот с ленцой спустился на прежнее место и уставился на него.
— Сказать что-то хочешь? — приглушенно спросил Стадухин.
Зверь опять замотал головой с таким видом, будто укорял: «Эх, Мишка, Мишка!» «К чему бы?» — подумал атаман, вспоминая другие встречи с медведями, каждая из которых была знаком судьбы. На пути ватага обошла несколько каменных столбов, которых много на плоскогорьях между Яной и Колымой. Всякий раз Стадухин останавливался, ходил вокруг, высматривая знаки среди причудливых трещин и выступов. Они складывались в медвежью морду, то смешливую, с прижатыми ушами, то печальную. Через образ медведя камень тоже в чем-то ласково укорял: «Эх, Мишка, Мишка!» На шестой неделе отряд служилых и торговых людей вышел к Верхоянскому зимовью.
— Так-то! — самодовольно поучал спутников Стадухин. — Если Бог милостив, то кочи еще где-то возле залива, а мы уже здесь. — И к Реброву: — Садись в струги, руби плоты и будешь в Нижнем.
— Много ли груза на себе утянули? — заспорил мореход, оборачиваясь к торговому человеку Новоселову. — А ноги сбили, плечи в кровь стерли.
Зимовье было целым благодаря трем казакам да вовремя подошедшей ватажке промышленных людей: их осаждала сотня верхоянских эвенов. Чтобы избежать кровопролития, казакам пришлось отпустить аманатов. Они были изрядно напуганы прокатившимися по Яне погромами, голодали, боясь отходить от зимовья. Промышленные, вызнав от пришедших путь к Лене, стали собираться, чтобы выбраться к острогу до лютых холодов. Прибывшие попарились в бане, отдохнули, оставили в зимовье Ивана Реброва с его людьми и пошли на Индигирку, к Подшиверскому зимовью. Никогда прежде Индигирка не была так укреплена служилыми людьми. В Нижнем сидел на приказе сын боярский Козьма Лошаков, в Среднем — сын боярский Андрей Булыгин, стрелецкий сотник Амос Михайлов был в Верхнем — Зашиверском, в то время как на реке зимовало на редкость мало промышленных людей, и с каждым годом их становилось меньше.
— Ушел соболь! — сетовал Булыгин, встретив верного товарища. — Говорят, за Камень. И промышленные подались туда же. А те, что обжились, перероднились с ясачными родами, бескорыстно служить не хотят. Среди них много болдырей двадцати лет и старше: языком — русские, душой темные, заглянуть в себя не дают. — Помолчав, Булыгин вскинул на Стадухина затуманившиеся глаза: — Хорошо было на Ламе: вот тебе ламуты, вот мы! Здесь не поймешь, кто враг, кто друг.
После бани и угощения он тоскливо признался, что не надеется собрать посул, который объявил. С его слов Стадухину стало понятно, почему смененные на службах приказные и целовальники не спешат на Лену: там их ждал гнев начальных людей, возможно, правеж. Оглашенное царем и его боярами «Соборное уложение» с его жестким сыском и ростом налогов добралось до Сибири.
— Плох был Пушкин, но он только грозил взыскать с беглецов. Нынешняя власть уже не входит в нужды, не жалеет: разденет догола, жен и детей продаст, но свое возьмет.
— И что теперь? — настороженно спросил атаман, прикидывая обещания Арине и Герасиму, нельзя было допустить, чтобы его долги воевода взял с них. Из всего сказанного Булыгиным выходило, что ярмарки уже не те, торговые люди терпят убытки, а порядок, который несли здешним народам служиные, оборачивается против них самих.
— Хлеба едят меньше, особенно болдыри. В спросе только иглы, топоры, ножи, другой товар залеживается, — сын боярский продолжал печалить рассказами Луку Новоселова.
— А мушкеты? — вызнавал тот.
— На кой они им? С тех пор, как охочим запретили нести службы, промышленные со здешними живут мирно. Царь так уравнял всех, что многие и сами не прочь записаться в ясачные, платить пять соболей в год с сильного мужика и быть вольными от всякого тягла.
Стадухин недоверчиво поскоблил бороду. Уж очень печален и безнадежен был Андрей Булыгин на полуночной стороне Великого Камня. «Мне унывать с чужих сказок нельзя, — думал. — На Колыме сын и брат, на Лене брат и жена с сыном. Все ждут вестей радостных». С Индигирки на Алазею он не ходил, о том пути, не таком уж дальнем по льду вставших рек с двухдневным волоком через плоскогорье, знал только понаслышке. Своего проводника по воеводскому наказу атаман оставлял на Индигирке, при здешнем малолюдье и бунтах стыдно было просить у Булыгина вожей. Но начиналось время промыслов, которое новоселовские покрученники боялись упустить. Они в один голос запросились на здешние угодья. Булыгин их к тому подначивал и обнадеживал. Входя в нужду Стадухина и Новоселова, предложил отправить с ними на Колыму через Алазейское зимовье двух бывалых казаков.
На пути им встречались промысловые зимовья. Некоторые из них были брошены, а в заселенных проживало много стариков, болдырей и женщин от разных сибирских народов. В зимовье известного на Индигирке и Колыме торгового человека Ивашки Синицына к Стадухину подскочила разбитная старуха в пыжиковой душегрее и волчьих торбазах. Растягивая в улыбке беззубый рот, спросила по-русски:
— Не помнишь меня, казак?
— Не помню! — вглядываясь в морщинистое лицо, признался атаман.
— Матрена я! Служила толмачкой у гусельниковских, была в Якутском… Чуть не спилась там. Я же юкагирка, Бырчик-Хренчик, никакая не Матрена! — Расхохоталась. Она сильно срамословила и курила трубку, выпуская дым из ноздрей.
Не было уже по зимовьям прежних страстных расспросов про острожные новости, про богатые дальние промыслы и неведомые края, не спрашивали здесь и про ярмарки. Если на Лене еще говорили о Большой земле и Камчатке, то здесь не было и того. Зимовейщики принимали путников радостно: с мороза поили горячей щербой, усаживали к огню, топили баню, угощали мясом и рыбой, но говорили и спрашивали только о насущном, да и то сдержанно, будто боялись невзначай обронить что-то скрытое. О своих промыслах рассказывали, что они оскудели, но сами не рвались в богатые соболем места. Все они считали себя русскими людьми, но погромы на Яне их не пугали: соглашались, что на Индигирке нынче неспокойно, но караулов не выставляли даже на ночь. В Нижнее Алазейское зимовье люди Стадухина прибыли к Рождеству, в самые холода и метели. Круглый как шар от меховых одежек на нагороднях приплясывал караульный.
— Не спите! Это хорошо! — похвалил его атаман смерзшимися губами и подумал, озирая окрестности: «Неспокойное место. Чукчи много раз громили и сжигали это зимовье, а оно держится наперекор всему».
Здесь на приказе сидел пятидесятник Григорий Цыпандин. Он не ждал перемены среди зимы и был изрядно удивлен приходу Стадухина. Целовальник Осип Иванов растерянно суетился. Узнав, что прибыл хозяин забранного им товара, начал было оправдываться и спохватился:
— Что сразу про дела? — Принес из лабаза мороженую рыбу, стал строгать в кипевший котел. — Накормить, напоить с дороги, баньку протопить, после разберемся…
В укрепленном государевом зимовье служили три казака и приказный. С ними зимовал целовальник. У всех были молодые женки. Наметанным глазом Стадухин высмотрел среди юкагирок чукчанку и, к удивлению своему, ламутку из-за Камня. Спросил Цыпандина, как она попала к ним?
— От ясачных юкагиров! — неохотно ответил приказный. — Подарили в почесть. — Помолчав, пояснил: — Соболь ушел, а тамошние ламуты, бывает, теперь доходят до верховий Алазеи… — Беды наши! — С печалью взглянул на атамана. — Не собрал я посул, ни за тот, ни за нынешний год.
— Нынче с этим строго! — посочувствовал Стадухин, не зная, чем обнадежить сменяемого приказного. — В старые времена тоже не жаловали, но не так. И соболя всем хватало — бывало, штаны из него шили.
— Жалованье за два года отдал бы, чтобы воеводу не гневить, как при Пушкине. — Брови Цыпандина опустились шалашиком на тусклые глаза. — Пока поймут, что здесь уже нет рухляди, как раньше, много голов слетит безвинно. И тебе не собрать прежнего ясака. Гришка Татаринов по Колыме мечется без пользы: ладно бы родни у него в Якутском не было, а то дом, жена, сыновья. Чем думал?
— Решит Бог наказать — мудрец умишком оскудеет! — пробормотал Стадухин. — Это я знаю!
Он принял у пятидесятника зимовье и двух аманатов, забрал печать, пересчитал и опечатал мешки с казной. Одного заложника по описи не хватало. Дело выходило крученым и обыденным. Четыре года подряд здесь сидел в аманатах малолетний сын алазейского тойона, возмужал на казенных харчах и потребовал перемены. Отец привез на его место дочь в жены приказному. Тот не смог от нее отказаться, а забрюхатив, не хотел расставаться. Прежде думал вернуться с ней в Якутский острог, венчаться и крестить младенца, но по описи недоставало аманата, а другого тойон не давал. Пятидесятник всеми силами убеждал атамана, что юкагирский род верный, много лет исправно платит ясак.
Лука Новоселов так и не дознался до истинных причин, по которым был отобран его товар. Целовальник в свое оправдание придумывал разные нелепые причины. Часть отобранного была им поменяна на рухлядь по хорошей цене, и он предлагал расплатиться. Торговый требовал платы за расходы в пути, тому и другому спорам не виделось конца. Целовальника Стадухин решил оставить. Тот сговорился с Новоселовым и выдал ему кабалу. Григорий Цыпандин, вместо возвращения в Якутский острог, захотел искать служб на Колыме, пока не соберет явленного с Алазейского приказа. Он уговорил Стадухина отпустить женку с ним, а убыль в аманатах по записи принял на себя. Три казака оставались до перемены на прежних службах, с них, подначальных, спрос был невелик. С тем индигирские служилые, торговый человек и смененный приказный с женкой отправились на Колыму.
На Алазее промышляли две ватажки в десять и двенадцать человек. Весной атаман оставил зимовье на казаков и отправился с целовальником собирать ясак с юкагирских родов, но сначала зашел к промышленным. В зимовьях их встречали настороженно, добытое предъявляли неохотно, все или не все — один Господь знал. Осип отбирал десятину лучшими шкурами. Добыча была невелика, но этим людям хватало на самое необходимое, чтобы жить здесь, на месте, без возвращения в остроги, что в прежние времена было редкостью. В зимовьях оказалось много женщин. Семьи жили скопом, как сидячие коряки и чукчи. Разговора о следующей зиме с ними не получалось: передовщики отвечали на вопросы целовальника уклончиво. Ясачные юкагиры жаловались, что через Камень перешел многочисленный оленный род ламутов и теснит их на родовых угодьях. До войн и нападений пока не доходило, поскольку одни выпасали оленей, другие держали собак, но ссора назревала: юкагирские собаки драли слабых оленят и обессиленных важенок, за оленями и ламутами пришли волки и стали пожирать юкагирских собак. Ясачные требовали защиты, предлагали с помощью казаков выпроводить незваных гостей. Но ламуты были благом для служилых — их можно было объясачить. На обратном пути атаман с целовальником опять зашли к промышленным людям, говорили с ними о прикочевавших из-за Камня ламутах.
— Знаем! — внимательно выслушав его, за всех ответил передовщик. — У них сильных мужиков больше полусотни.
— Мы, бывало, впятером бились против сотни? — приняв бравый вид, попробовал шутить Стадухин, но не был поддержан. Промышленные глядели на него пристально и недоверчиво. «Другим стал народец!» — думал атаман и презрительно кривил губы в бороде.
— На погроме брать у них нечего — железных котлов не имеют, одежка из оленьих шкур. — деловито рассуждал передовщик. — Если освободишь от податей — можно подумать…
— Воевода настрого запретил! — сник атаман.
— Тогда сами воюйте! — усмехнулся передовщик. — Вас государь жалует, а мы платим без поблажек: десятину, покупные, продажные…
В поддержку говорившего по зимовью прокатился приглушенный рокот, и десять пар недоверчивых глаз отчужденно уставились на служилых. Из углов, с нар от печи зыркали черные глаза женщин, которые, как показалось Стадухину, понимали, о чем идет речь.
— Не я придумываю подати, царь с боярами!
Промышленные молчали, по лицам понятно было, о чем думают: «Пусть они и воюют!»
— Не договорились! — поднялся атаман, отказавшись от бани и угощения.
— Как их заставить? — завозмущался целовальник. — Отпускная грамота есть, подати оплачены.
— Кто нам указывает? — взъярился вдруг атаман. — Те, кто дальше Якутского острога не хаживали!
И с надеждой вспомнил подьячего Семена Аврамова, посланного на Колыму вместе с Григорием Татариновым. «Вдруг через него власть поверит, что, как прежде, по новому „Соборному уложению“ здесь жить нельзя?»
В другом промышленном зимовье им также отказали в помощи, угрозы атамана жалобной челобитной не помогли. Промышленные напирали на то, что живут в мире и даже в родстве со всеми здешними народами, исправно платят подати. Втайне они даже смеялись, говоря, что порадеть за государево дело не прочь, если их об этом попросит сам царь, а лезть под ламутские стрелы за чужие оклады, с которых им ничего не достанется, — не желают. Толмачей ни у той, ни у другой ватаги не было. Ламутские женки, по их уверениям, говорить по-русски не умели, общались с мужьями знаками или по-якутски. Между собой промышленные тоже часто перекидывались якутскими словечками. Стадухин вдруг явно почувствовал, что между ними глухая стена, что благодаря первопроходцам и промышленным, прижившимся на этой земле, здесь появился совсем другой народ. А давно ли все были заодно?
— Не дай Бог, чукчи осадят зимовье — промышленные уже не помогут! — пожаловался казакам.
— На нас нападают, на них почему-то нет! — ругались его спутники. — Перероднились, уживаются со всеми.
Стадухин собрал ясак только с юкаиров и подати с промышленных людей, которые, конечно же, утаили лучшие меха для перекупщиков. Собранный ясак и десятина не покрывали даже недобранный прошлогодний сбор в казну. Летом в устье Алазеи атаман с целовальником ловили рыбу, били линявшую птицу и поджидали коч с Колымы. Он должен был забрать алазейскую казну. Судно пришло вовремя. Стадухин на струге подошел к его борту, поднялся на палубу, высматривая знакомых.
— Федька? — Едва узнал спутника по оймяконскому походу в шапке сына боярского. Катаев вяло улыбнулся, по-казачьи обнял атамана. — Судьба крученая… То казак, то торговый и целовальник, то в детях боярских! — рассмеялся атаман.
— То у тебя не крученая? — утробно хекнул и пристально вгляделся в его глаза бывший сослуживец. После смены пятидесятником Григорием Татариновым он самовольно задержался на Колыме, страшась воеводского гнева, о котором был наслышан. — Пустеет наша река! — Вздохнул. — Торговые уходят, — указал взглядом на людей за спиной, — промышленных год от года меньше. — Спохватившись, спросил: — Ясак собрал?
— Явленного не взял!
— И я не взял! Пробовал торговать, но воевода пригрозил, чтобы вернулся на сыск… Отберут теперь все, что нажил, еще и с брата возьмут остатки.
— Вы богатые, откупитесь!
— Откупимся! — согласился Федор. — Все равно обидно. Мы первыми пришли на Колыму, а он в Жиганах не был, но будет орать, батогами грозить. Что они знают про наши реки? А вот ведь, власть!
Стадухин с целовальником сдали опечатанные мешки с казной, отправили челобитные с жалобами на промышленных людей и со своими оправданиями. Боясь упустить ветер, коч выбрал якорь, поднял парус и ушел на закат дня, к Святому Носу.
В начале августа в устье Алазеи пришел коч с Лены. Брата и жены на нем не было. С припасом муки, масла, толокна, соли на алазейские службы прибыли пять казаков. Это была хорошая подмога, на которую рассчитывал атаман. С судна снесли присланный груз, и оно пошло дальше, к устью Колымы.
Зимой ламуты откочевали, юкагиры на них не жаловались. По раннему снегу на лыжах с нартами в Алазейское зимовье пришел Курбат Иванов с промышленными людьми и женщинами. К радости атамана, вели их служилые Стадухины — Тарх с Нефедом. Не успел отец наговориться с сыном и братом, как зимовье окружили оленные чукчи.
— Однако милостив Бог! — посочувствовал прибывшим. — Поздно взяли ваш след. В тундре от них отбиться трудней.
— Милостив ли? — вскинул печальные глаза Курбат и горько усмехнулся, глядя на круживших возле надолбов оленных ездоков.
Чукчи стали пускать стрелы, казаки ответили залпом. Долгой осады Михей не опасался, выждал, когда олени кормились, а мужики отдыхали, и со своими людьми вышел на погром. Рукопашного удара десятка русичей нападавшие не выдержали, хотя дрались отчаянно. Казакам удалось схватить двух мужиков. Им скрутили руки, приволокли в зимовье. Взять под них ясак не надеялись, но хотели договориться о мире. В аманатской избе ноги пленных сковали одной колодкой, связали вместе руки, правую одного с левой другого, по одной оставили, чтобы напоить, накормить. Но чукчи нашарили под одеждой хорошо спрятанные костяные ножи и зарезали друг друга. Их тела атаман отдал родственникам без выкупа, и они ушли, осажденные же отделались легкими ранами.
— Милостив, но Господь ли? — продолжил прерванный разговор Курбат Иванов. — Как вернулся из Москвы в среднем чине — немилость за немилостью по пятам ходят. Кабы не сын и жена, лучше бы и не возвращаться в Якутский, прости, Господи! — Размашисто перекрестился, смахнув с головы шапку.
Для гостей топили баню и пекли хлеб. В зимовье было тесно и шумно.
— Что коча не дождались? — полюбопытствовал атаман, да сам же и ответил: — Хотя сухим путем надежней.
— Друг твой, Гришка Татаринов, мстил за давнее, а бес ему помогал. — продолжал жаловаться Курбат. — Меня переменили на Анадыре еще в прошлом году, пришел на Колыму с костью и картой, которую писал от устья к полуночи. Рисовать я горазд: карту Байкала делал, нынешнюю тоже.
— А Гришка что? Да и с какого боку он мне товарищ? В одной тюрьме ночевали, служб не служили.
Курбат отмолчался с обиженным видом и продолжил рассказ о своих бедах:
— Прошлый год просил у него коч, чтобы вывезти государеву соболью казну и кость. Не дал, сказал нету. В тот же год, осенью, пришел на Колыму морем казачий десятник Панфил Мокрошубов, я взял у него казенный коч со снастью и парусом, поставил на балки в устье Анюя, чтобы летом уйти на Лену. Но с моря подняло воду, и коч обморозило. Весной с целовальником и сыном отдалбливали его, но с Анюя поднялась большая вода и коч изломала. А Гришка в июле приплыл на ярмарку на двух судах. Я опять просил. А он: «Не будет тебе отпуска в Якутский острог в этом году!» Пришлось мне поставить балаган, сложить в нем кость и рухлядь, судовую снасть, покрыл я все парусом, и свои пожитки в том балагане были. И неизвестно как балаган загорелся. Соболиная казна сгорела, и парус, и мои пожитки: икона Богородицы в окладе, книги — всего на двести рублей. И все из-за Гришки. Дал бы мне коч — ничего бы не было. Обнищал я, государеву кость продавал, чтобы не помереть с голоду. Решил идти сухим путем, чтобы зимой не проесть последнего. Опять же собак, нарты, муку, соль пришлось покупать дорого — убытков на шестьсот семьдесят пять рублей с лишком.
— Много! — посочувствовал Стадухин. — Помочь тебе нечем.
— И так помог: отбились от чукчей. А Гришка мстил за то, что я понуждал его строить Верхоленский острог. Больше двадцати лет минуло — помнит, хоть не говорит.
«Как на плаху идет! — подумал Михей, сочувствуя и смущаясь, как невольный свидетель чужого несчастья. — С верой в чудо, с надеждой на справедливость!» Слишком уж часто стали встречаться служилые люди с беспросветным отчаяньем в глазах.
— А что сам коч не построил? — спросил. — Лесу на Колыме много.
— Не было такого указа, чтобы мне строить! — затравленно вскрикнул Курбат. — Я на Анадыре государев порядок навел. Там ни ясачных книг не было, ни податей толком не брали. Я все устроил по наказной памяти. С двоевластием покончил, зимовья тыном обнес… А промышленные обратно побежали, раз нет ни кости, ни соболей. Пришлось их силой удерживать. Там надобно держать полсотни служилых!
— Прокорми-ка такую прорву?! И для чего? — удивленно пожал плечами атаман.
— Чтобы был порядок по наказу, данному воеводам нашим мудрым государем! — обидчиво вскрикнул Курбат.
Понимая, что задевает больное, Стадухин не стал ни спрашивать, ни говорить о своих домыслах про порядок. Приятным был разговор с сыном и братом. Они с радостью поддерживали, чтобы всем перебираться на Колыму.
— Промышленные и торговые скоро схлынут — река останется. Глядишь, и соболь вернется, — рассуждал Тарх и хвастал: — Я что удумал?! Обойти Камень от Колымы до Пенжины, но не на кочах, как прежде с тобой, а на стругах: их легче вытаскивать на лед и на берег. Гришка согласился, что это дело нужное, подписал челобитную на царское имя, отправил воеводе. Жду ответ!
— Зачем? — удивился старший. — Все уже пройдено Семейкой Дежневым, Бессоном Астафьевым, Федотом Поповым и нами. Кончилась земля, искать больше нечего, надо устраиваться на том, что есть.
— Никто так не ходил! Ивашка Рубец с шестью служилыми на карбасе ходил с Колымы на Анадырь бить моржей, а их не было. Они взяли с собой Фомку Пермяка и дошли до усть-Камчатки. До Пенжины никто не ходил. Даст Бог, на этот раз будем первыми!
— Зачем? — Распаляя брата, Михей поднял на него равнодушные глаза и вспомнил, что так же пытался втолковать свои страсти Герасиму.
— Чтобы людей удивить, народу послужить и не было бы больше споров, до каких мест мы дошли прошлый раз. И карту хочу сделать! Курбат через нее ждет воеводской милости. Написал Байкал — средним чином пожаловали, за анадырский берег могут в Москву отправить, долги простить. На это и надеется.
От души старшего Стадухина отлегала тяжесть сострадания. Не таким уж безнадежным было возвращение Курбата. Михей помнил, что напророчил ему ярыжка в ленском кабаке, но не говорил о том. Сам Курбат пророчества не слышал, разве послухи сообщили. Из бывших свидетелей в живых остались только трое, и сбылось не все: в разрядные атаманы Михей вышел, но славы и богатства не нажил, под Москвой не помер. Эта мысль ободрила его, и опальный сын боярский уже не казался ему таким затравленным, как в день встречи. Молчаливое раздумье старшего брата злило Тарха. Он, остро поглядывая на Михея и племянника, нетерпеливо ерзал по лавке. Со стадухинской горячностью с отцом заговорил Нефед:
— Анадырские служилые и промышленные привезли на Колыму деревянное блюдо. Его море выбросило на обобранную коргу. — Сын выждал, когда в глазах отца появится любопытство, и со страстью выпалил: — Русское блюдо, нашими людьми, нашими знаками расписанное… Не кончилась земля — продолжается за морем!
Атаман покряхтел, покачал головой и стал расспрашивать Курбата об Анадыре. Из первых дежневских спутников там оставался последний промышленный — Фомка Пермяк, из колымских первопроходцев — Пашка Левонтьев. Корга, найденная Дежневым и беглыми казаками, так оскудела, что ни Курбату, ни Юше Селиверстову собрать явленного не удалось. Фома рассказал им про другую, открытую в морском походе с Федотом Поповым и Бессоном Астафьевым. Ее и решил отыскать анадырский приказный. Отправились к ней кочем в июле. Раньше не пускали льды, забившие залив. Фома взял с собой чукотскую женку родом из тех мест. Трудностей в пути было много, будто нечисть потешалась и не пускала, но по молитвам Николе Угоднику и Чудотворцу добрались-таки. Чукчанка узнала места, из которых ушла двенадцать лет назад. То самое селение, которое брали с боем, было жилым, возле него Иттень встретила бывшего мужа и говорила с ним. Все было на месте, но не было ни горы костей, собранных до нападения чукчей, ни самой отмели: ее смыло волнами. Отдохнув, Курбат Иванов с сыном, женой и подручными людьми стал собираться в Подшиверское зимовье к Андрею Булыгину. Тарх с Нефедом шли туда же, посланные Гришкой Татариновым. Нетерпеливо повизгивали собаки в упряжках, низко над снегами висело сумеречное небо с тусклой половинной луной. Ветра не было — начало пути складывалось удачно.
В июле с двумя казаками атаман опять приплыл к морю и остановился в старом балагане. Вода в устье и озерах была темна от линявших гусей и уток. Казаки били их сотнями, потрошили, закладывали в мерзлотные ямы, ловили рыбу неводной сетью, сушили юколу. Днем светило ясное солнце, ночь была светла, как вечер на закате. Вдали, за морем, смутно виднелась Большая земля, о которой первым сказал в остроге Михей Стадухин. Но побывали возле нее и на ближайших к ней островах немногие: Иван Ребров и Григорий Татаринов. Других слухов о людях, ходивших к неведомому, не было. В начале августа к устью Алазеи подошел коч торговых и промышленных людей, встал на якорь вдали от берега, спустил на воду лодку. На сигнальный дым костра выгребли двое. Одного из гребцов Стадухин узнал, это был Григорий Татаринов. Он подгреб к топкому тундровому берегу, вместо приветствия ревниво спросил:
— Ну что? Собрал явленное? — Настороженный взгляд на осунувшемся лице заметался по сторонам, будто казак опасался засады.
— Недобрал! — признался Стадухин.
— Я тоже недобрал! — Тяжко вздохнул Татаринов. — И много! Хотел казну выслать, на Колыме остаться. Кого там! Воевода прислал указ, чтобы явился. На правеж поставит, дом отберет, жену, детей не пощадит: будут скитаться меж дворов. Вот ведь, дернул бес за язык — сам напросился.
— Курбат Иванов проходил зимой, в обиде на тебя!
— Просидел все лето, казенный коч ожидаючи! — с досадой в лице отмахнулся Григорий. — Дал ему мокрошубовский — не уберег, балаган спалил, костяную казну и анадырскую карту на меня свалил — я везу их воеводе. Ждал бы уж лета да плыл со мной. Так нет, в зиму ушел, чтобы первым жалобы подать.
— Если карту оставил, значит, государю послужить хотел, за себя и сына в пути не боялся, за карту переживал! — в раздумье возразил Стадухин. — А ламуты с Алазеи сошли, я их объясачить не успел. Да и служилых мало, а промышленные радеть государю не хотят.
— На Колыме так же. Промышленных мало, а те, что есть, живут ради брюха. Переменился народишко.
— Переменился! — согласился Стадухин и устыдился жалоб: — Ничего. На другой год, даст Бог, соберу с излишком, все покрою!
— Дай Бог! — пожелал ему Григорий, побросал в лодку мешки с соболями, оставил запись в ясачной книге и сел за весла.
— Как там мои? — спохватившись, крикнул вслед Стадухин.
— Служат, в Среднем. Им что, государев хлеб едят. Мясо, рыба есть, девок хватает. А им, дурам, лишь бы порожними не ходить — рожают и рожают.
В то лето с Лены не было ни одного судна, а следующим атаман ждал перемены. Его казаки ходили весной к ясачным юкагирам, не дожидаясь, когда те придут сами. Ясак собрали неполный: род, подсунувший Гришке Цыпандину жену вместо аманата, откочевал на Колыму.
— Идти надо! — сердился атаман. — Нынче приказным прибыль к ясаку, как собаке кость: схватила — уже не отберешь. Если дали ясак там — попробуй верни его к алазейскому!
Мука кончилась, напечь блины на Масленицу было не из чего. И так и эдак выходило, что надо идти либо на Колыму, либо на Индигирку. Колыма ближе и нужней, но время опасное: можно столкнуться с немирными чукчами. Индигирка дальше, но там могут быть застрявшие торговые люди, от которых можно узнать якутские новости и разжиться хлебом, там могли зимовать Герасим с Ариной и Якунькой. Пока Стадухин с казаками решал, куда идти, в зимовье неожиданно-негаданно явился Григорий Татаринов с гулящим человеком из якутских болдырей.
— Здорово живем? — пробубнил сквозь смерзшуюся бороду. Сбросив мохнатые верховые рукавицы, потянулся к огню. Его спутник пал на колени, приткнув к чувалу голову и руки. Щеки и губы болдыря были в коростах обморожений. Он недолго погрелся и завыл, затряс руками, сунул их в ушат с водой, стоявший под лучиной.
— Ты же летом проходил? Разбился, что ли? — удивился Стадухин возвращению пятидесятника.
Гришкины усы и борода смерзлись в сосульку. Припав к огню, он сгребал горстями и бросал ледышки на пол.
— Дошли до устья Лены с Божьей помощью! — просипел. — Там затерло… Но, по верным известиям, твоя и Курбата казна доставлена в Жиганы.
Стадухин удивился больше прежнего: если казна в Жиганах, отчего Гришка здесь? Но от расспросов удержался: гости были чуть живы от усталости.
— Разоблакайтесь, окуржавели! — привечал их. — Как раз щербу к полднику сняли с огня. С душком, из осеннего улова.
Засидевшиеся казаки засуетились, забегали, стали поить путников горячим отваром ухи, затопили баню, выложили на стол лепешки из толченой сухой рыбы. Болдырь помалкивал, боясь окровянить губы, чуть разлепляя их, осторожно проталкивал на язык кусочки снеди. Гришка молча, с сопением и шмыганьем ел, потом грелся в бане. Напарившись, стал моститься ко сну и только тут полусонно пробормотал:
— На Лене говорят, Семейка Дежнев вернулся из Москвы разрядным атаманом.
— Вот так Семейка! — Стадухин удивленно мотнул бородой, и тень улыбки пробежала по лицу. — А что Ярко Хабаров? — спросил вкрадчиво.
— Говорят, живой, сидит на Киренге, что ни наживет, что ни наторгует — все отбирают за старые долги.
Последние слова Гришка едва пролепетал и засвистел остуженным горлом. Болдырь лежал на спине, глядел в потолок, смеживая пухлые веки в щелки. По их ускользавшим взглядам, настороженным ответам Стадухин догадывался, что оба не столько идут на Колыму, сколько уходят с Лены. На другой день Татаринов попил ухи, пососал рыбью голову и признался, что бежал.
— Реку взял замороз. Думаю, и слава Богу! Чем позже вернусь в острог, тем лучше: вдруг воеводу переменят — легче оправдаться. А он, Кутузов, прислал другой приказ, чтобы я немедля явился налегке. Понятно для чего. — Гришка вскинул на атамана дерзкие глаза беглеца. — Слышал про Курбата Иванова, что с ним стало? — спросил с перекошенным лицом.
— С той стороны до тебя никого не было!
— Я вез моржовую кость, собранную им в казну, и его карту, а он явился к воеводе налегке, — Гришка скривил губы в коростах, — думал оправдаться. И старого казака, сына боярского, били батогами, послали на сыск в Москву. Семейка Дежнев как раз возвращался из Москвы, укрыл Курбата на Чечуйском волоке, отказался выдать приставам илимского воеводы. А Ивашка Ерастов сдал и помер Курбат от обиды. Жена и сын теперь побираются по дворам. Так-то нас жалуют за дальние службы. — Гришка мотнул головой с захолодевшими глазами и стал рассказывать дальше: — Оставил я верным людям ясак: свой, твой, Курбаткин, его карту, свои животы, пока их не отобрали. Подумал, если помру в пути — жену и сыновей пощадят, вернусь по воеводскому приказу — приму кончину позорную, дом отберут, жену с сыновьями по миру пустят… И пошел в обратную сторону по медвежьему следу, будто за свежениной. Заблудился и пропал. Пока разберутся — воеводу переменят. По снежным ямам ночуя, много чего понял. Как-нибудь расскажу. — И, опустив непокорные глаза, посоветовал: — Ты меня не покрывай себе во вред: спросят — отпиши, здесь, мол, беглый пятидесятник! За приставами сюда отправлять — накладно, а выслужить прощенье или дождаться перемен можно.
Стадухин в задумчивости покряхтел, поскоблил бороду. Дел действительно было много. Если бы Гришка привел десятерых беглецов и им нашлись бы службы. Но он чего-то недоговаривал. Гости отдохнули день и другой, с лица болдыря по имени Путилка сошли коросты обморожений, слиняла путевая угрюмость. Он оказался болтливым и смешливым. Едва кто-то из казаков спросил, как шли, пухлые веки болдыря смежились в щелки, он стал хохотать, поглядывая на Гришку:
— Плохой охотник! Плохой охотник!..
— Ты больше моего скулил! — подначил спутника Татаринов и стал рассказывать: — Через день помирал. По утрам пинками гнал его из ямы, а он кричал: «Уйди! Помереть хочу!»
— С Индигирки на Алазею кочевали оленные тунгусы — пять мужиков, три бабы, согласились проводить нас, наши одеяла и котлы погрузили на оленей. — стал рассказывать. — Одно название, что оленные, род бедный, оленей мало — чум да детишек везут, остальные пешком. Дольше двух дней на одном месте не стоят, соболя в пути промышляют, чтобы дать нам ясак и купить нужное на ярмарке.
— Сами бегают, что волки, — похохатывая, встрял Путилка. — Мы к вечеру едва ноги притащим, надо еще ломать подстилку под чум, варить мясо. А они кого: есть еда — обжираются, про другой день не думают, нет еды — постятся. Один мужик отстал, они его и ждать не стали, говорят: «Плохой охотник!» Собака пропала — беды нет: «Плохой охотник!» Одну такую, непутевую, нам дали, потому что отстаем, но табор чует. Как-то следы замело, блуждали мы, ночевали в яме без одеял. Просыпаюсь, Гришка собаку обнимает и плачет: «Плохие мы охотники!» — Путилка снова затрясся от смеха.
Гришка смущенно улыбнулся в бороду, оправдываться не стал.
— Дал Бог увидеть, как добывают соболей! — признался, без обиды глядя на попутчика. — Полгода такой жизни — и я бы помер.
— Кто им виноват, что не хотят промышлять клепцами, только гоном? — стали оправдываться казаки.
Татаринов без спора помолчал, а оставшись наедине со Стадухиным, заговорил о скрытых помыслах. То смущенные, то понурые или злые глаза его, удивлявшие атамана, бесновато заблестели.
— Пришли мы в эти края, соболя выбили, нашумели, Москву рухлядью завалили, кому-то богатства нажили, но как пришли, так уйдем, а юкагиры, ламуты, чукчи как были, так останутся. И болдыри останутся, — кивнул на одеяло Путилки.
— И я бы остался! — не понимая, к чему клонит Татаринов, признался Стадухин.
— На Анадыре так же! Выбрали кость, делать там больше нечего, кроме как свои оклады высиживать. Юшка Селиверстов делает вид, что долги собирает, сам прячется от власти. Он хитрей Курбатки, поэтому здесь и помрет. — Гришка помолчал, пристально глядя на атамана, и, решившись, заявил со злой удалью в лице: — А я, казак Гришка Татаринов, могу все переменить! Опять будет многолюдье, прежние ярмарки, опять потекут толпы доброхотов.
— Соболя пригонишь из-за Камня, что ли? — насупившись, уставился на него атаман.
Закинув голову, Григорий беззаботно рассмеялся, дергая острым кадыком, затем резко умолк и вытряхнул из кожаного мешочка на гайтане камушек с небольшое яйцо. Подкинул на ладони.
— Как пуля! Подобрал на Колыме, помню где. Удивился, что камень тяжелый, что свинец… В самый раз для грузила, а? — Опять зловеще хохотнул. — Когда плыл от тебя, возле Омолоя встретил коч с рудознатцем Василием Шпилькиным. Он тебя знает по Енисейскому острогу. Я ему этот камушек и показал, — Григорий снова подкинул его на ладони, повертел между пальцев, разглядывая со всех сторон. Камень тускло поблескивал отсветом огня в чувале. — Это золото! Говорят, ты из первых искал по Колыме серебро, а золота не увидел!
Стадухин фыркнул раз и другой, разглядывая самородок, стал догадываться, отчего Гришка весел, несмотря на побег.
— Шпилькин, как увидел, вцепился — где взял? «Государевым словом и делом» грозил. Еле отобрал у него, еле отговорился, наплел небылиц и бежал… — Придвинувшись к Михею так, что коснулся своей темной бородой его сивой, зашептал: — Если вернемся в Якутский без ясака, голыми-босыми, но с золотом, нас воевода не только помилует за прошлое, сам царь-государь расцелует и наградит. Только возвращаться надо не с одним камушком, а со многими. И место указать верное, не как тебе серебряную гору… Пойдешь на Колыму? — в упор спросил Стадухина.
— По-любому, надо! — в раздумье поежился атаман. — Наши окладишки или на Индигирке застряли, или на Колыму увезены. Нынешним летом ни одного судна не было.
— Не говори никому до поры. А то, по слухам, как бывало, ринется толпа искать золото, нас с тобой сметут и забудут. Другие перед царем выслужатся.
— Бывало и так! — согласился атаман, торопливо соображая, чем может все обернуться, если отыщется золото.
— А что ты его воеводе не объявил?
— Ага! Знаю я их! Отберет за недоимку, под пыткой вызнает, где нашел, и пошлет Шпилькина. Хватит принимать муки Христа ради! Воеводы и всякие кремлевские чины так не делают, а жалованье у них ого, не сравнить с нашим!
— Может быть и так! — Стадухин озадаченно выругался. — А вдруг не надо искать золото? — опасливо передернул плечами. — Я вот, думаю, и хорошо, что не нашел серебра по указу. Если Колыма опустеет — соберем вокруг себя верные народишки, чтобы защититься, заживем без разбоя и грабежей, — тоже поделился тайными помыслами.
— Не выйдет! — самоуверенно заявил Татаринов. — Я об этом думал еще там, на Колыме. Никак нельзя сильным не грабить слабых. Найдем золото, при нем получим тихую службу для себя и детей наших.
Слова опального пятидесятника показались Стадухину разумными. Хотя, вспоминая разговоры с нынешними промышленными людьми, он иногда завидовал им и сам надеялся обжиться в этих местах, как они. Но слух о Курбате Иванове опять подтвердил правду пьяного пророка. Из тех, кому бес завязывал судьбы в кабаке, в живых оставались трое, благополучие и слава были обещаны одному. Новость о Семейке не вызывала у Стадухина зависти, но снова привела в замешательство: на кого из них двоих смотрел пропойца и почему он, Мишка, решил, что обещанное достанется ему, а не Семейке? И тут же укорил себя за то, что никогда не принимал земляка за путнего казака, хоть он был не только не робок, но в бою надежен и рубака изрядный. Золото давало надежду на блазнившиеся смолоду славу и богатство, только теперь они казались суетными и не были нужны. Несмотря на гостеприимство алазейских казаков, Гришка спешил на Колыму.
— Побарахтались в сыпучем снегу, — жаловался на пережитые муки. — Теперь, по насту что не идти… И кого тут осталось? Две-три недели лыжного хода.
— Есть путь короче, но там по весне можно столкнуться с чукчами, а они до всякого железа, топоров и пищалей сильно охочи.
Как ни спешил Татаринов, уверившийся в своей удаче, атаман с двумя казаками принудили его идти дальним, безопасным путем в Среднеколымское зимовье к Тарху и Нефеду. Пятеро на трех собачьих упряжках без груза, они отправились туда среди ночи. Едва окреп наст, собаки рванули нарты, будто надеялись на сытые корма впереди. К полудню под солнцем, которое, отражаясь от снега, жгло лица, полозья стали облипать, собаки проваливаться в сырые сугробы. Остановились на ночлег, выкопали яму до мерзлого мха и сухого стланика, развели костер, натаяли снега, напились и подкрепились той же рыбой, которой кормили собак. День был долог, лежать возле огня приятно. Собаки отдыхали, опасного Стадухин не чувствовал. Впрочем, он перестал доверять прежнему дару еще на Олекме, жизнь при Якутском остроге и вовсе притупила его. Среди ночи, едва смерзся наст, упряжки направились к волоку на приток Колымы. Через пару переходов, переправившись через кипевшую речку, люди и собаки намочились стоявшей под снегом водой. Лапы собак обмерзали, они ложились на снег, выгрызали лед из когтей, промазанные дегтем бахилы путников обледенели. Пришлось сделать остановку в неподходящем месте и сушиться. Едва окреп наст, пошли дальше и вошли в редколесье со множеством сухостоя.
Сидя у костра, Гришка Татаринов мечтательно размышлял о Божьем замысле на свою судьбу, вспоминал службы в верховьях Лены, на Илимском волоке, на Алазее и Колыме, тер лоб черными потрескавшимися пальцами, пытаясь объяснить, зачем обошел Андрея Булыгина, выпрашивая приказ на Колыме? Уверял, что делал это не ради наживы, а для справедливости, которая часто попиралась на его глазах. И вот теперь понял, что через испытания Бог вел его к благополучию. Атаман хмурил брови, слушал пятидесятника вполуха, для него лучшим временем на Колыме помнились первые годы. Если бы не распри с Митькой Зыряном, бесхлебье, тоска по жене и родственникам, что еще надо для счастья? Ему уже не хотелось шумных ярмарок, путаницы с приказными людьми, и в скрытых своих помыслах старый Стадухин скатывался к тому, что если бы жил заново, то так, как промышленные Ожегов с Карипановым. А станут мыть золото, пришлют сидельцев, которые заведут известные порядки. От тех порядков Ожегов с Карипановым уйдут, бросив прежнюю обустроенную жизнь. Долго не смогут жить и Стадухины. «Тогда зачем искать золото?» — спрашивал себя. Об этом мучительно думал, засыпая и просыпаясь в ночи. Однажды подскочил с колотившимся сердцем — бес шепнул: надо убить Гришку!
Так, каждый со своими думами, версту за верстой, то вышагивая, то сидя в нартах, они преодолели большую часть пути. Здешние места были безопасней алазейских. Ночевали, ожидая наста. Едва он окреп и пришла пора подниматься, тревожно зарычали и заскулили собаки, прядая ушами и воротя морды в разные стороны. Стадухин ясно почувствовал злое. Караульный дремал, положив голову на колени. Атаман прислушался и различил среди настороженного собачьего рыка клацанье оленьих рогов. Он вскрикнул, запалил фитиль мушкета от тлевшей головешки, поднялся в рост, высунувшись из снежной ямы, и увидел рога, густым кустарником надвигавшиеся на стан. Атаман выстрелил, почти не целясь, и еще до отдачи приклада в плечо и порохового дыма узнал в нападавших ламутов, которых в этих местах не могло быть. «Снится!» — подумал и стал торопливо перезаряжать мушкет. Ствол грел руку, как в яви. «Будто по-настоящему!» — в замешательстве думал, считая происходящее сонным наваждением. Его спутники схватились за ружья. Но стрелы полетели со спин, и двое сползли в снежную яму с тлевшими углями костра. В несколько мгновений две лавины рогов схлестнулась над ней. Гришка, вставив в ствол тесак, отбивался. Один за другим ему под ноги рухнули два оленя, задергались, сбивая с ног людей. Запахло паленой шерстью и горелым мясом…
Когда Стадухин пришел в себя, то почувствовал время, чего не бывает во сне. Было тихо и холодно, его знобило. Краем глаза он не увидел ни оружия, ни нарт. Не было и убитых оленей. Казаки и болдырь лежали вповалку с неживым видом. Атаман чувствовал только одну из своих рук, еще боль в груди и в животе. Он попробовал придвинуться к лежавшему навзничь Гришке, но в глазах потемнело, все завертелась и придавила темень. Потом едко запахло зверем и стало тепло. Атаман увидел над собой знакомого медведя, рано поднявшегося из берлоги. Шершавым горячим языком зверь лизал онемевшую руку, и в нее возвращалась боль.
— Чуна! — сипло простонал Стадухин. — Твоя взяла! Победил-таки!
Медведь без зла продолжал лизать руку вместо того, чтобы грызть ее, и Михей понял, что ему нужно. Преодолевая боль, подполз к закоченевшему Гришке, нашарил под его одеждой мешочек с самородком, вытряхнул золото на бесчувственную ладонь и протянул медведю. Рука, шарившая по осклизлой выстывшей груди убитого, приняла от нее холод, по телу пошел озноб. Медведь одним махом слизнул с ладони камушек, как какую-нибудь муху, и прилег, согревая Стадухина жаром своего тела. Посопев возле уха, сварливо заворчал голосом Чуны:
— Ты все понял, Мишка? Дал царю реку — пусть берет, дал соболей — пусть одевается и богатеет, но золото в реке не для него и не для нынешнего века. Оно для тех, кто еще не родился. Нельзя брать чужого, верхние люди этого не любят…
— Спасибо, что согрел, старый болтун! — покашливая, прошепелявил Михей. Отчего-то ламутский шаман показался ему близким и приятным, как родич. Из груди вырвался смешок, и сразу остро кольнуло, он закашлял, потом, давясь, спросил: — Ты жил для своего народа, отчего родился медведем? — Теперь Стадухин ясно понимал, кому предрекал богатство и славу ленский пропойца, улыбнулся, вспомнив неунывающего земляка.
— Пустое спрашиваешь, — укорил медведь голосом Чуны. — Верхние люди награждают по-другому…
— Батька, не помирай! — вдруг перебил его голос Нефедки.
Не было ни медведя, ни Чуны. Михей почувствовал, что лежит на нарте, услышал скрип снежных застругов под полозьями.
— Зимовье рядом. Мамка с дядькой и братом с нами зимуют. Отогреем, отпарим, раны перевяжем. Ты не выпускай дух! Держи его крепче! — Сын плотней укрыл отца песцовым одеялом, по-юкагирски гортанно крикнул, погоняя собак.
Затем Михей услышал прерывистый голос Тарха, видно, тот бежал за нартой:
— Мишка крепкий. Даст Бог, довезем!.. С медведем все говорит. Много крови вышло. — Склонился над братом, обдавая его теплом дыхания, закричал: — Мы еще Камень обойдем, всему свету покажем Стадухиных! Ты держи дух, не выпускай!
Заключение
В стобцах Сибирского приказа не сохранилось сведений о том, в каком месте отошла душа первопроходца и сибирского казака Михайлы Васильевича Стадухина. Известно, что он погиб в 1666 году в пути с Алазеи на Колыму. В тот год на Руси жили ожиданием конца света, а Тарх, или Тарас Стадухин, с ватагой отчаянных казаков и промышленных людей ушел на стругах из устья Колымы и добрался до устья Анадыря, повторив путь Дежнева, Попова, Астафьева и Анкудинова с их спутниками, затем, обойдя Камчатку, они дошли до устья Пенжины. Пролив, который на современных картах незаслуженно носит имя Витуса Беринга, в том году был забит льдами. Тарх переволокся из Студеного в Чукотское море, переименованное в Берингово, по скалам мыса, который сейчас носит имя Семена Дежнева, или построил за ним новые струги из плавника.
Но Тарас Стадухин и его удальцы были даже не вторыми в их смелом предприятии. В 1661 году, по челобитной Семена Дежнева, на Анадырскую коргу для добычи моржовой кости были отправлены из Якутского острога шесть казаков во главе с десятником Иваном Рубцом. Восьмисаженный коч, на котором они плыли разбидся в устье Лены, до Колымы отряд добирался попутными судами, там получил карбас и на нем, в конце августа 1662 года добрался до Анадыря. Моржей на корге не оказалось: «зверь в море отпятился». Иван Рубец взял на борт Фому Семенова Пермяка и той же осенью дошел до устья Камчатки-реки, зазимовал в ее верховьях.
В следующие два века такие дерзкие походы не удавались хорошо оснащенным государевым экспедициям под руководством служилых иностранцев, среди котрых были даже спутники Кука, поднимавшиеся до семидесятой широты. Это их имена остались на картах Русского севера, это они оставили записи об ужасах высоких широт, которые подлинным первопроходцами были «в обычай».
После поездки Михаила Стадухина и Андрея Булдакова в Москву в сохранившихся документах теряются имена их спутников: Василия Ермолина Бугра, Никиты Семенова, Анисима Костромина.
Семен Дежнев в Москве был поверстан в атаманы, получил жалованье за годы службы, плату за привезенные моржовые клыки, слегка разбогатев, вносил щедрые вклады в монастыри и церкви. Несмотря на свои многочисленные раны, служил в Арктике еще десять лет, пережил вторую жену и был женат на третьей. В 1671 году с Нефедом Михайловичем Стадухиным вторично выехал в Москву с собольей казной и там умер.
С 1666 годом связаны последние сведения об искусном мореходе Юше — Юрии Селиверстове: он переезжал с Анадыря на Колыму и продавал моржовые клыки. Неясен конец Ивана Реброва, возможно погибшего среди северных островов. Имена многих других героев романа также исчезают из челобитных и отпускных грамот: Мишка Коновал Савин почему-то служит не в прием в Среднеколымском зимовье, последние сведения о Пашке Левонтьеве связаны с Анадырем, последнее упоминание о Фоме Семенове Пермяке — его просьба покинуть Анадырь и вернуться на запад.
Впереди была еще целая треть авантюрного XVII века: загадочный Албазин, златокипящая Камчатка. Но уже менялся Дух времени, все жестче распалялась смута многовекового противостояния русского народа и российского правительства, давал знать о себе следующий, дворянско-нерусский XVIII век с его стратями наживы, властолюбия, утрированного подражания Западной цивилизации.

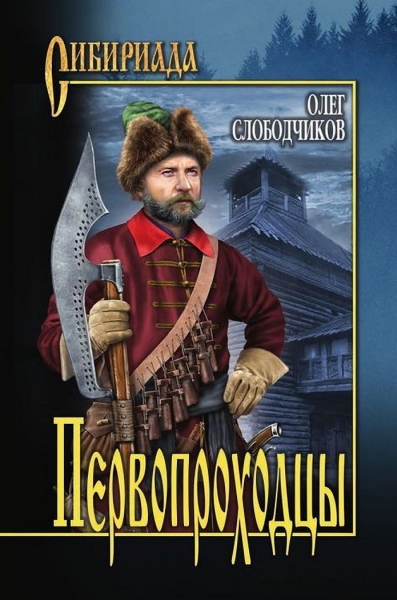


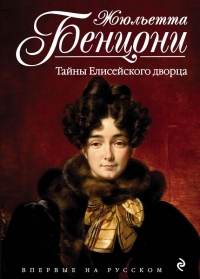


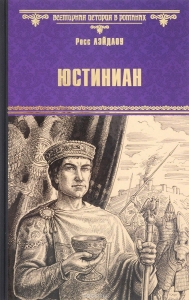
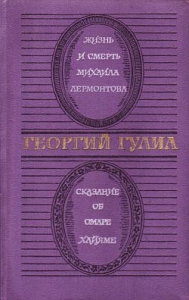
Комментарии к книге «Первопроходцы», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев