ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда в стихотворении «Missa solemnis» («Солнечная месса») двадцатишестилетний Йозеф Томан обращался к божественному Солнцу и просил дать ему, начинающему поэту, огненную силу творческой фантазии, он еще и предполагать не мог, что такой же любовью к Солнцу наградит и героя своего последнего романа «Сократ» (1975). «Солнечная месса» вошла в книгу стихов, драматических сцен и лирической прозы «Праздник лета» (1925), которой молодой секретарь общества прогрессивных чешских художников «Манес» заявил о себе как одаренный литератор. Пятьдесят лет, разделяющие два эти произведения, не погасили в чешском писателе «солнечности», воинствующего оптимизма, хотя на его долю выпало немало житейских испытаний.
«Я родился в 1899 году в Праге, но детство мое прошло в городке у подножия гор – в Рожмитале около Тремшина: отец мой работал там литейщиком, – вспоминал Томан. – Хозяином городка был в ту пору пражский архиепископ, а жители в большинстве своем гнули спину в его обширных владениях, включавших и литейный завод, и лесопилки, леса, пруды и поля.
Такая социальная структура этого городка с малых лет поставила меня на сторону маленького, угнетаемого человека. Во всех моих литературных трудах сюжет носит социальный характер».[1]
Рожмитальские воспоминания легли в основу романа Томана «Осиное гнездо» (1938),[2] в котором мещанам-стяжателям, способным ради корысти пойти на преступление (речь идет о семье гробовщика, и это придает некоторым страницам романа характер мрачного гротеска), противопоставлены люди, не признающие власти денег, будь то философствующий бродяга, старый браконьер или молодой литейщик. Тяга горожанина Томана к простым и сильным человеческим характерам, к природе сказалась и в романе «Люди под горами» (1940), рисующем быт глухой чешской деревни, и в созданном совместно с женой писателя Мирославой Томановой уже после второй мировой войны романе «Медвежий угол» (1957), по тематике и мыслям во многом перекликающемся с «Русским лесом» Леонида Леонова.
Но была в творчестве Томана и другая тематическая линия, тоже связанная с впечатлениями молодости. В 1915 году юноша, жизни которого угрожал костный туберкулез, едет с отцом на берега Адриатики и, прощаясь с югом, посещает Венецию. А через пять лет начинающий банковский служащий, не поладив с начальством, уезжает в Италию и в качестве представителя одной из чешских фирм совершает оттуда коммерческие вояжи в Малую Азию, Грецию, Испанию, Францию, Северную Африку. В 1925 году супруги Томаны посещают Италию во время свадебного путешествия и неоднократно возвращаются сюда в качестве туристов.
Образы и сюжеты, навеянные историческим прошлым и природой Средиземноморья, мифами и искусством разных народов, античностью и Ренессансом, чрезвычайно характерны для лирики и первых драматических опытов Томана. В 1929 году выходит его повесть «Давид Грон», многие страницы которой представляли собой литературный дневник путешествия по Италии. Однако само восприятие античности и Ренессанса у молодого Томана остается в русле художественного наследия таких чешских писателей конца XIX – начала XX века, как Ярослав Врхлицкий, Юлиус Зейер, Йозеф Сватоплук Махар, противопоставлявших великое прошлое и прекрасную природу юга серой будничности современной им буржуазной Чехии.
Один из проницательнейших исследователей литературы М. М. Бахтин отмечал: «Мы обычно стремимся объяснить писателя и его произведения именно из его современности и ближайшего прошлого… Мы боимся отойти во времени далеко от изучаемой эпохи. Между тем произведения уходят корнями в далекое прошлое».[3]
Отголоски древней фольклорной стихии звучали в смехе Ярослава Гашека. А писатель-коммунист Владислав Ванчура, в новаторском творчестве которого Томан на рубеже 20-х и 30-х годов увидел для себя новый художественный ориентир, соединил с этой никогда не оскудевавшей в чешской литературе и пробивавшейся сквозь книжные напластования подспудной народной струей языковую культуру и философскую глубину чешского гуманизма и чешской реформации XIV–XVI веков.
Хотя друг Ванчуры известный чешский поэт Витезслав Незвал, выражая взгляды молодых революционно настроенных писателей, утверждал: «Поэт не знает, как одевались солдаты в том или ином веке. Поэт не знает истории… Мы не в состоянии представить себе, чтобы поэтическое произведение могло возникнуть из документов»,[4] именно Владислав Ванчура и его последователи проложили в чешской литературе XX века путь современному историческому роману. Чрезмерному увлечению психологическими нюансами в прозе прустовского типа и натуралистическому бытописательству они противопоставили традиции ренессансной эпики, чисто книжному, музейному восприятию прошлого – ощущение его злободневности, тенденциозному прославлению барокко в творчестве писателей-католиков – ренессансное мироощущение.
Этим мироощущением пронизан и роман Томана «Человек откуда-то» (1933). Книга решена в юмористическом ключе. Но юмор, как утверждал Ванчура, – это не столько шутки и комические ситуации, сколько особый угол зрения, мудрая снисходительность, роднящая создателя образов Дон Кихота и Санчо Пансы с «правосудием сказок». Только благодаря «правосудию сказок», всегда карающему порок и вознаграждающему добродетель, томановский Кайман, бродячий лекарь и продавец мазей (следует иметь в виду, что одним из первых чешских фольклорных сценических персонажей был Продавец мазей из драматического отрывка XIV века), возглавивший народное сопротивление феодалам и церкви, в конце концов, подобно Санчо Пансе, становится властителем острова, где установляет благоденствие и справедливость.
От «Человека откуда-то» с его весьма условным историзмом через повесть «О несмелом Кришпине и нетерпеливой Катержине» (1934) (ее герой – молодой переплетчик – от руки переписывает «Метаморфозы» Овидия в подарок своей возлюбленной, а будучи отвергнут ею, находит утешение в любви к книгам) и драматизацию легенды о «народном короле» Вацлаве IV и банщице Зузане, созданную в 1938 году Йозефом Томаном и Мирославой Томановой для антифашистского театра Э. Ф. Буриана, ведет путь писателя к исторической прозе.
Большое значение для творчества Томана-романиста имел драматургический опыт. Его «Черное солнце» (1929) – первая чешская пьеса о борьбе африканских народов против колонизаторов. Реальная катастрофа дает драматургу материал для драмы «Дом без окон» (1933) – о каменщиках, засыпанных обломками рухнувшего дома. В золотой фонд чешской радиодраматургии вошла лирическая пьеса Томана «Река чарует» (1936), где, как это часто у него бывает, реалистически воссозданная бытовая атмосфера сочетается с поэтической символикой, восходящей к мифу, к народной легенде.
К середине 30-х годов Мирослава Томанова, которая всегда была первым литературным советчиком и критиком мужа, вырастает в его полноценного соавтора. Вместе они пишут пьесы «Приятельница» (1936), «Жаба в роднике» (1938), «Виноградник» (1938). Из-за своей социальной остроты и антифашистского подтекста эти пьесы вызвали яростное сопротивление реакции. Их старались не допустить на сцену, снимали с репертуара, шельмовали в критике.
В период гитлеровской оккупации Чехословакии Йозеф Томан, все более сближавшийся с левым, революционным крылом чешской литературы, становится активным участником антифашистского Сопротивления. Клуб общества «Манес» превращается в один из опорных пунктов борьбы против фашизма. Здесь встречались и писали статьи сотрудники подпольной редакции газеты «Руде право». Юлиус Фучик, член подпольного ЦК Компартии Чехословакии, появляется здесь под именем учителя Ярослава Горака. Владислав Ванчура, возглавивший нелегальный Национально-революционный комитет интеллигенции, вовлек в его работу и Йозефа Томана. 12 мая 1942 года Ванчура был арестован. В тот же день сотрудники гестапо собирались арестовать и Йозефа Томана, но по счастливой случайности не застали того в Праге. В поезде на пути между Брандисом и Прагой Йозеф Томан, переезжавший с места на место, чтобы скрыться от преследования гестапо, узнал из газеты о казни друга. В таких условиях в 1941–1944 годах создавался роман Томана «Дон Жуан».
Еще в апреле 1935 года супруги Томаны вместе с группой художников из общества «Манес» посетили Испанию. В Севилье им показали «Ла Каридад» – огромную монастырскую больницу с мраморными полами, золотыми подсвечниками и картинами на стенах. А на каменной плите у порога храма Милосердия писатель прочел надпись: «Здесь лежат кости и прах худшего из живших на земле, Мигеля Маньяры. Молитесь за него!» И герой Томана – это не легендарный дон Хуан Тенорио, который у Тирсо де Молины заключал сделку с дьяволом и в наказание за свои прегрешения проваливался в тартарары, а так называемый подлинный Дон Жуан – граф Мигель де Маньяра Виссентелья-и-Лека, в конце жизни построивший «Ла Каридад». В художественную литературу его ввели Мериме, Дюма, испанский драматург Сорилья. Томан целиком сохраняет сюжетную канву народной и церковной легенды о возвращении великого грешника на путь праведный под воздействием великой силы женской любви. Но он попытался осмыслить эту легенду исторически. Рисуя Дон Жуана вслед за Э. Т. А. Гофманом – как «бунтаря против морали своей эпохи» и – вслед за Мериме – как жертву породившей его среды, чешский писатель стремится быть верным характеру изображаемой эпохи и избранной им среды.
В романе Томана Дон Жуан, которого вновь и вновь воскрешали Мольер и Гольдони, Байрон и Ленау, Пушкин и А. К. Толстой, предстает натурой сложной и противоречивой, сочетая в себе черты едва ли не всех своих значительных литературных предшественников. Это и всевластный феодал, ни перед чем не останавливающийся для удовлетворения своей прихоти, и вольнодумец, протестующий против церковной догмы о греховности всего земного, и титан страсти, восстающий против самого бога, и романтическая жертва вечной неудовлетворенности, вечного несоответствия реальности идеалу, и человек, пороки которого порождены воспитанием. Но духовный путь героя обретает внутреннюю логику и высокий смысл, поскольку он отражает подлинную диалектическую противоречивость исторического развития европейской культуры.
В XVII веке радостный свет Ренессанса уступает мистическому мраку барокко. И в этой борьбе света и мрака формируется характер томановского героя. В противовес комедийно-ренессансной трактовке похождений Дон Жуана Томан подчеркивает духовную опустошенность своего героя, внутренний холод, таящийся на дне страсти, эгоизм и феодальную жестокость, скрывающуюся за индивидуалистическим протестом против бога и общества. Ведь Ренессанс для Томана – это не только эпоха расцвета гуманизма, возрождения философии античности, торжества научного эмпиризма, возникновения социально-утопических идеалов, не только эпоха великого искусства и великой литературы, но и эпоха индивидуалистического титанизма. Утверждение барокко не было лишь победой феодальной реакции и контрреформации, оно знаменовало собой кризис индивидуалистического ренессансного мировоззрения. Вот почему бунт дона Мигеля бесперспективен.
Герой Томана примиряется с богом. Но не с жестоким богом карающей инквизиции, а с богом последней возлюбленной дона Мигеля – прекрасной и самоотверженной Хироламы, с человеколюбивым богом монаха Грегорио. Для Мигеля последних лет его жизни, так же как для творчества его друга – художника Мурильо, бог – символ альтруистического начала, символ всеобъемлющей любви. Служи богу, служа человеку, – таков итог духовных исканий героя романа. Писатель не делает его ни атеистом, ни социальным утопистом. И он прав, ибо это было бы насилием над логикой образа, над легендой, над духом времени.
Даже в искаженном цензурой виде роман был воспринят в Чехии 1944 года как смелый протест против фашистского «нового порядка», захватнических войн, фанатического мракобесия. А второе издание романа, вышедшее в 1945 году, позволило читателям познакомиться с полным авторским текстом и стало основой для перевода на многие европейские языки.
Если в повествовании о Дон Жуане Томан, вступая в полемику с великими литературными предшественниками (от Кальдерона до Ростана и от Шиллера до Чапека), стремится найти реальную психологическую разгадку характера человека, ставшего легендой, то в романе «После нас хоть потоп» (1963) о годах правления римских императоров Тиберия и Калигулы писатель полемизирует с легендой, созданной еще античными историками, и, опираясь на марксистский исторический метод, изучение малоизвестных источников и знание человеческой психологии, создает новую концепцию этой сложной эпохи. Нужно сказать, что историки отдали должное писателю, пригласив его на один из своих международных симпозиумов в качестве докладчика.
Согласно концепции Томана, Тиберий не зверь в образе человеческом, а мудрый, проницательный политик. Трудный путь к власти и логика политической борьбы постепенно превращают его в жестокого тирана, страдающего от собственного одиночества. Высокомерно презирая плебс, на который он мог бы опереться, император вынужден целиком полагаться на преторианскую гвардию и в конце концов оказывается обманутым им же возвеличенными приспешниками. Извергом, поначалу прикинувшимся благодетелем своих подданных, рисует писатель наследника Тиберия Калигулу. Загадочную метаморфозу, происшедшую с этим правителем, – метаморфозу, над причиной которой безуспешно ломали голову многие историки, – он объясняет и личными качествами Калигулы (безмерное честолюбие, извращенность, трусливая изворотливость), и объективной логикой событий (зависимость от сената и ненависть к нему).
Тиберию и Калигуле противостоят, помимо последних бескомпромиссных защитников римской демократии, философ Сенека и актер Фабий Скавр. Оба они убежденные тираноборцы. Но Сенека одинок в своей борьбе, и, проповедуя стоическое бесстрашие, он постоянно оказывается во власти страха, постоянно отрекается от самого себя. Бывший раб Фабий Скавр всем своим существом связан с плебейским Затибрьем, и ощущение народной поддержки дает ему огромную нравственную силу противостоять злу тирании и остаться верным собственной человеческой сути.
Народная масса, действующая как многоликий коллектив и персонифицированная в ряде эпизодических персонажей, – еще один активный герой романа. Автор сочно и многопланово рисует сцены из жизни римского плебса, свободолюбивого и гордого даже в эпоху императорского террора. Эти люди хотят жить трудом своих рук и презирают самые щедрые подачки. Чувство справедливости в них неистребимо. И роман завершается символической сценой: Калигула, направляющийся на казнь Фабия, видит собственную статую – обезглавленную, поверженную в грязь. Актер Фабий, наложивший на себя руки в тюрьме, одерживает моральную победу над всесильным тираном.
Когда летом 1972 года я спросил Йозефа Томана, над чем он работает, он признался, что уже семь лет пишет роман о Сократе. Дела осталось еще на год, полтора… Но работе мешала болезнь, полиартрит. Слабело зрение… Если бы не помощь Мирославы Томановой, которая еще в 1943 году написала на историческом материале антифашистскую патриотическую пьесу «Колокол моего города», а также помогала мужу в работе над романами «Дон Жуан», «Славянское небо», «После нас хоть потоп», роман не был бы закончен. Йозеф Томан умер через два года после его выхода в свет – 27 января 1977 года.
Великий древнегреческий мудрец Сократ, который, по мнению молодого Маркса, был «воплощенной философией», но отличался от предшествовавших философов тем, что выступал как «носитель не божеского, а человеческого образа» и был «не таинственным, а ясным и светлым, не пророком, а общительным человеком»,[5] попал в литературу еще при жизни. Хотя Цицерон написал позднее, что Сократ свел философию «с неба на землю», Аристофан в комедии «Облака» (423 г. до н. э.) изобразил его висящим в корзине между небом и землей и мудрствующим о природе вещей. «Отец комедии» был идеологом консервативного аттического крестьянства и видел в философии Сократа опасность для традиционных устоев афинской демократии. Аристофан обвинил философа в безбожии, в том, что он развращает юношество, отвлекая его от практических дел и обучая софистическому искусству изображать правое неправым, а неправое – правым. Спустя двадцать четыре года те же обвинения были предъявлены Сократу на суде, где он построил свою защиту так, что чуть ли не вынудил судей вынести ему смертный приговор. Фортуна предоставила философу еще месяц жизни, который он провел в беседах с друзьями, упрямо отказываясь бежать, а затем хладнокровно выпил чашу с цикутой. Смерть Сократа потрясла современников, а сам он, нареченный устами Дельфийского оракула мудрейшим из людей, но не написавший ни строчки, стал для античного мира фигурой не менее легендарной и значительной, чем Христос для средневековья. Первыми посмертными защитниками Сократа от несправедливых обвинений были знаменитый философ Платон и историк Ксенофонт. Их апологии (защиты) Сократа и другие «сократические» сочинения наряду с комедиями Аристофана и немногословными замечаниями Аристотеля – единственные дошедшие до нас «достоверные» источники об этом «демиурге философии» (Маркс). Но свидетельства Платона и Ксенофонта настолько отличны друг от друга, что не могли не породить многовекового спора о том, каким же был подлинный Сократ.
Часто – в согласии с Платоном – Сократа изображали основоположником аристократического идеализма. У Ксенофонта Сократ – скучный моралист, и остается непонятным, чем же, собственно, он восстановил против себя своих обвинителей и судей.
Образ Сократа привлекал не только историков и философов, но и художников (Давид), скульпторов (Антокольский, Коненков), композиторов (Эрик Сати). Уже в середине XVII века французский писатель Луи Гез де Бальзак написал трактат «Христианский Сократ». Основанное на диалогах Платона понимание Сократа как предтечи христианства мы найдем и у Ламартина («Смерть Сократа»), и даже у Короленко (фантазия «Тени»). Лишь выдающийся новогреческий писатель Костас Варналис в своем блестящем памфлете «Подлинная апология Сократа» (1931) совершенно по-новому осмыслил конфликт «овода» и «коня». Его Сократ – обличитель Республики, по характеру своему ничем не отличающейся от Тирании, и саморазоблачитель, опровергающий перед лицом суда и публики те свои идеи (а точнее, идеи, приписываемые ему Платоном), которые служили основанием власти богатых и сильных. Сократ Варналиса – это Сократ XX века. Его защитительная речь, внешне построенная по образцу апологий Платона, Ксенофонта, Лисия, Либания и оперирующая теми же именами и историческими фактами, в действительности обращена к буржуазной Греции 30-х годов нашего столетия. Это современность в исторической тоге.
Йозеф и Мирослава Томаны поставили перед собой иную задачу. Они стремятся понять и воскресить истинный облик Сократа как исторической личности, пытаясь разобраться в противоречиях далекой эпохи, которые привели к юридическому преступлению, остающемуся загадкой уже почти две с половиной тысячи лет. Но и для них современность – ключ к пониманию прошлого. Владислав Ванчура, в конце жизни работавший над многотомной художественной эпопеей «Картины из истории чешского народа», писал: «… старую жизнь мы лучше всего можем понять через знание современной жизни… лучшими историками были поэты».[6] И супруги Томаны следуют заветам своего литературного учителя. В послесловии к первому изданию романа «Сократ» (1975) И. Томан говорил: «Только наши дни смогли пролить более ясный свет на эпоху Сократа, потрясаемую упорными, кровавыми классовыми боями. Современная классовая борьба и ныне уже точные методы ее постижения помогают лучше понять классовую борьбу прошлого, а та в свою очередь подтверждает закономерность научно-теоретических открытий, к которым пришли классики марксизма.
Так же как это происходит в современном мире, еще тогда заговорщицкие группы афинских олигархов объединялись с самыми реакционными отечественными и зарубежными силами, чтобы подорвать или даже свергнуть демократию.
Мой Сократ окрашен современностью, опытом автора, живущего в XX столетии и ставшего свидетелем ряда общественных перемен и переворотов…
Я намеренно усилил некоторые черты Сократа и сделал более определенной его историческую миссию, чтобы тем самым усилить воздействие произведения на современного читателя».[7]
Сократ в романе – истый простолюдин, верный сын афинской демократии. Его духовный облик складывается в эпоху Перикла, в период того невиданного расцвета Афин, который дал миру Фидия, Софокла, Эврипида. Авторы подчеркивают в Сократе богатую художественную одаренность. Сын каменщика Софрониска и повивальной бабки Фенареты, обещавший стать незаурядным скульптором, в конечном счете предпочитает ваять души и посвящает себя тэхнэ маевтике – повивальному искусству диалектического рождения истины, тождественной для него красоте, пользе и добродетели. Его мечта – сделать «арете» (доблесть, добродетель), достоинство, украшавшее избранных, свойством каждого афинянина. В борьбе афинских олигархов и демократов писатели нащупывают драматический нерв всего действия романа. И Сократ выступает в нем как защитник идеалов Перикловой демократии в период, когда ее принципы все более утрачивают свое истинное назначение. Исторические факты, кажущиеся историку-эмпирику разрозненными и случайными, историк-поэт объединяет в единую цепь заговора против демократии. Осуждение и изгнание ближайшего друга Перикла философа Анаксагора, осуждение Фидия, нападки на возлюбленную Перикла Аспасию, процесс над Алкивиадом – все это звенья, которые ведут к конечной цели – реставрации власти олигархов. Сократ сражается против этого заговора, борясь за душу Алкивиада, противодействуя тлетворному влиянию софистов, насаждавших индивидуалистический анархизм, убеждение в полнейшей относительности всех знаний и ценностей, эгоистический практицизм. Весь смысл существования Сократа – в его учениках, в его беседах с десятками и сотнями людей в гимнасиях и посреди торжищ, на площадях и улицах Афин. Казалось бы, многие из тех, к кому обращено учение Сократа, не оправдывают себя в глазах учителя. Надежда демократических Афин, Алкивиад, чьей необузданной натурой удавалось управлять только Сократу, запутывается в расставленных для него сетях и предает Афины Спарте. Другой ученик Сократа, двоюродный брат Алкивиада Критий, тайно переходит на сторону олигархов и позднее возглавляет кровавую диктатуру Тридцати тиранов. Духовный переход на сторону аристократии уже после смерти Сократа совершит Платон. А тот многоликий демос, к которому обращался и интересы которого отстаивал Сократ, всего через год после свержения власти Тридцати тиранов окажется игрушкой в руках демагогов (и в античном, и в современном значении этого слова) и осудит на смерть собственного любимца. В конце жизни Сократ осознает, что его проповедь не в силах устранить главного препятствия на пути совершенствования человека – «зла нищеты» и «зла золота». И все же он умирает с верой, что в каждом человеке – солнце. Нужно только дать ему светить.
В полемике с Платоном, в чьих диалогах его учитель изображен неким аристократом духа, и с Фридрихом Ницше, ненавидевшим Сократа как плебея, поборника силы разума и добра, Томаны опираются на Ксенофонта, памятуя замечание Ленина по поводу гегелевской трактовки Сократа: «Ксенофонт в „Memorabilien“ лучше, точнее и вернее изобразил Сократа, чем Платон».[8] У Ксенофонта, как говорил сам Томан, меньше идеализации Сократа по сравнению с Платоном, больше конкретных деталей. В его «Сократических сочинениях» авторы романа нашли много интересных фактов, звучащих сейчас весьма современно. Но Сократ не получился бы у них живой фигурой, если бы они сделали его пресным, многословным моралистом, каким тот предстает у Ксенофонта, если бы писатели в самом герое не раскрыли пьянящую солнечность, черты лукавого Силена.
Роман начинается прологом, где рассказывается о рождении ребенка, приветствовавшего мир не плачем, а смехом. На дворе каменотеса Софрониска стоят статуи богов. И сами боги берут новорожденного под свое покровительство. Этот мотив, оправданный традициями древнегреческой литературы, не случаен. В романе «Славянское небо» (1948), рассказывающем о похождениях молодой крестьянской четы в славянском раю у Перуна и Золотой бабы, Томан воскрешал славянскую мифологию. В «Сократе» древнегреческая мифология – основа мироощущения героя и его современников. Обвиненный в безбожии или по крайней мере в еретическом поклонении новым богам, Сократ, крестник Солнца-Аполлона, до конца жизни исповедует язычески-радостную веру в красоту земного бытия, в гармонию человека и природы.
Находилось немало историков и философов, отвергавших легендарного Сократа только для того, чтобы традиционную легенду заменить собственным, подчас совершенно фантастическим домыслом. Томаны изображают Сократа таким, каким он вошел в сознание потомков. Писатели лишь по-новому осмысливают и очищают от случайных напластований этот почти мифологический образ.
«Сократ» – монороман. Все остальные действующие лица вращаются вокруг главного героя, как планеты вокруг Солнца. Да он и есть само Солнце древних Афин. Но и другие персонажи изображены достаточно выпукло, а многие из них и нетрадиционно. Таков Алкивиад – не просто беспринципный честолюбец, а человек, в котором благородные побуждения, искренний патриотизм борются с честолюбием и необузданными прихотями баловня судьбы. Такова жена Сократа Ксантиппа, изображенная не сварливой фурией, какой она вошла в античные анекдоты, а самоотверженной и любящей, хотя и острой на язык женщиной. Таков Платон, болезненно изнеженный аристократ, который в силу этого не мог и не хотел сохранить для потомков подлинный облик своего учителя. А рядом с ним не одинаково полнокровно, но всегда художественно убедительно живут суровый Анаксагор, мудрый и благородный Перикл, завистник Критий, двуличный Анит, прекрасные и просвещенные женщины Аспасия и Теодата, простые и сердечные Софрониск и Фенарета, юные Коринна и Мирто – первая и последняя возлюбленные Сократа. Остаются в памяти даже второстепенные фигуры, вроде доносчика Анофелеса.
Как и в прежних своих книгах, Йозеф Томан вводит читателя в дворцы и хижины, знакомя его с представителями всех слоев общества. И так же, как и в романах «Человек откуда-то», «Дон Жуан» и «После нас хоть потоп», главная проблема романа – отношение героя и народа. Давид Грон, во многом автобиографический герой первой повести Томана, видел выход из духовного кризиса современного общества в простой и уединенной жизни на лоне природы. Прямой противоположностью ему был деятельный Кайман, любимец бедняков, почти со сказочной легкостью добившийся торжества справедливости. Путь графа де Маньяры – это путь от бунтарского одиночества к служению «бедным и несчастным». Одинокий Сенека, исповедующий, в сущности, ту же жизненную философию, что и Давид Грон, убеждается в бессилии своей проповеди, обращенной к правящему классу, в бессилии мысли, не овладевшей массой. В конце романа он ищет понимания у собственного раба и осознает, что «единственный истинный римлянин» – актер Фабий Скавр, черпающий свою силу в обитателях Затибрья, которые ежедневно покрывают римские стены крамольными надписями. Сократ, как бы объединяющий духовную зоркость Сенеки и самоотверженность Фабия Скавра, сталкивается с тем, что и народ неоднороден и неоднозначен в своем поведении. Долг личности, понимающей свое историческое назначение, – и служить народу, и быть «оводом», жалящим его, пробуждающим его от апатии, смирения, самоуспокоенности.
Связь образа Сократа с героями предшествующих книг Томана отчетливо сознавал и сам автор: «…почему я выбрал героем своего нового романа именно Сократа? Это мой излюбленный тип: веселый народный философ, полный оптимизма, и – что уж ходить, как кот вокруг горячей каши, – такой же неистребимый оптимист, каким был мой отец, каким ощущаю себя я.
Если оглянуться назад, то такого мудрого старика, как Сократ, я найду почти в каждом своем романе…
Но Сократ, этот нестареющий старец, малоизвестным девизом которого были слова „Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя“, одновременно и родной брат моих бунтарей против несправедливости и насилия власть имущих, будь то продавец мазей Кайман, актер Фабий или Дон Жуан».[9] Йозеф Томан отмечал и композиционное сходство своего последнего исторического романа с предыдущими: с романом «После нас хоть потоп» его роднит «широкое изображение эпохи и событий», с «Дон Жуаном» – особенности романа-биографии, охватывающей путь героя от рождения до смерти. Авторы действительно проявили себя мастерами композиции.
Повествование охватывает 70 лет жизни Сократа, весь период наивысшего расцвета Афин и наступившего после смерти Перикла упадка. Но авторы романа (именно в композиционном построении наиболее существенным образом сказалось творческое участие Мирославы Томановой) сумели сконцентрировать действие вокруг нескольких кульминационных моментов, перемежая его своеобразными лирико-драматическими «интермеццо», делающими нас свидетелями воображаемых диалогов писателя с героем. (Впервые к такому приему Йозеф Томан прибег в книге «Итальянская палитра» (1962), вошедшая в нее глава «Разговор с императором» стала зародышем романа «После нас хоть потоп».) Небольшие главы, мелькающие как эпизоды в кинофильме, образуют многоцветную мозаику. Обычно они контрастны по настроению и эстетической окраске, в них чередуются юмор и трагика, лирика и драматизм. Каждый из эпизодов – законченная сцена, построенная с учетом законов драматургического действия и запечатленная в слове со скульптурной пластичностью и красочной живописностью. А в целом возникает широкая историческая панорама с четко прочерченными главными идейными и сюжетными линиями, и на переднем плане высится величественная фигура Сократа.
Стилистика каждого исторического произведения Йозефа Томана соответствует духу изображаемого времени. Отсюда, например, барочная образность в «Дон Жуане». Задумывая роман «После нас хоть потоп», Томан пришел к выводу, что для него не подходят ни ораторские периоды Цицерона, ни краткие, афористические фразы Сенеки. Вот почему писатель обратился к современному языку и только в зависимости от конкретных сюжетных ситуаций вносил в него те или иные архаические элементы. Современным языком написан и «Сократ», хотя авторы широко пользуются и древнегреческой лексикой в названиях реалий. Особенно современно звучит речь повествователя, но и герои говорят языком наших дней, прибегая даже к нынешнему просторечию. Энергия, лаконизм, афористичность удачно сочетаются с метафорической манерой описания и передачи мысли, свойственной мифологическому сознанию. Живописность и пластичность повествования заставляют порою вспомнить о «Саламбо» Флобера.
Впечатления, навеянные давней поездкой Томана в Грецию, обрели художественную реальность в постоянном интимном общении с античными авторами. И на этом фундаменте возникло продуманно-строгое и величественно-простое, как сам Акрополь, здание. Факты были только теми обломками руин, из которых авторы воссоздавали прошлое, домысливая недостающие звенья по законам художественного правдоподобия.
Томанам удалось выдвинуть вполне самостоятельную концепцию личности Сократа, тесно связанную с новым пониманием породившей его эпохи. Дают ли исторические материалы основание для художественной гипотезы, высказанной в романе? Томановское изображение Сократа весьма близко той концепции, которая во второй половине 60-х – 70-х годах утвердилась в работах таких советских историков философии, как А. Ф. Лосев, Ф. X. Кессиди, В. С. Нерсесянц. А. Ф. Лосев писал, например: «Ни в наружности Сократа, ни в его поведении не было ровно ничего аристократического… Аристократы считали его развязным простолюдином, а демократы видели в нем своего разоблачителя… Сократ своими с виду простыми, невинными вопросами разоблачал не только пошлость обывательских представлений, но и ни на чем не основанную самоуверенность сторонников тогдашнего демагогического режима. В конце концов оказалось, что он решительно всем стоял поперек дороги… Мог ли он, острый мыслитель и проницательный критик современной ему действительности, быть приверженцем тогдашней демократии или аристократии, олигархии или тирании? Мог ли он… не видеть политической ограниченности вождей рабовладельческой демократии, не чувствовать грозно надвигавшейся социально-политической катастрофы? Ясно одно: мыслящему человеку в этой обстановке деваться было некуда. Сократ слишком хорошо чувствовал развал на стороне как демократов, так и аристократов, слишком хорошо видел нарушение и с той и с другой стороны законов справедливости, как он их понимал, чтобы питать какие-нибудь определенные социально-политические симпатии или антипатии. Но именно в силу своего антидогматизма Сократ и получил общеантичное значение…»[10]
Чешская «апология» Сократа не историко-философское сочинение. Перед нами роман, который претендует на историческую достоверность не в деталях, а в общем понимании личности и эпохи. Это итог авторских раздумий, адресованных современности. Йозеф Томан, принципиальный противник искусственной актуализации истории, был убежден, что взгляд на прошлое помогает человечеству глубже понять себя. «Так летчик, поднявшийся над Прагой, видит не только сутолоку переполненных людьми и машинами улиц, но и город в целом», – говорил он автору этих строк.
Одну из глав своей книги «Человек откуда-то» писатель назвал «Веселый мессия». Его завещанием людям были слова Сократа: «Живите блаженной жизнью на земле! Metaforite! Изменяйтесь! Изменяйте мир!» А Мирослава Томанова, известная советскому читателю по роману «Серебряная равнина» (1970), посвященному боевым соратникам Людвика Свободы, и лирическому сборнику «Размышления о неизвестном» (1974), где воскрешен образ молодого чешского композитора, ушедшего в партизаны, недавно завершила незаконченные воспоминания своего мужа, следуя его принципу «выкапывать старые корни, из которых растут новые побеги».
Олег Малевич
СОКРАТ – ИСКАТЕЛЬ БЛАГА
«Много на свете дивных сил, но сильней человека – нет.»
СофоклПРОЛОГ
Смех – привилегия богов и людей.
Демокрит[11]Богиня усмехалась.
Она только что проснулась, расправила свои стройные члены и окинула взором двор, загроможденный изваяниями, торсами, глыбами мрамора. Удовлетворенно отметила, что день ее праздника открывает хрустальное утро, сверкающее, как росинка на цветке овечьего гороха.
Богиня перевела взор на своего соседа, дядюшку Мома. Бог Мом еще спал. Богиня с участием разглядывала его ухмыляющееся лицо, не законченное Софрониском: искривленные губы, один глаз прищурен, насуплены брови, а ухо наставлено жадно – чтоб ни словечка не упустить.
Но вот и Мом открыл глаза – его разбудил стук сандалий: подбегала молодая женщина с цветами в руках. Это напомнило Мому, какой сегодня день, и он обернулся к богине, собираясь начать поздравительную речь. Но молодая женщина его опередила: она пала на колени и обняла ноги богини, воззвав:
– О, Артемида, великая богиня!..
Богиня усмехалась.
– Вот я принесла цветы олеандра ко дню твоего рождения… А эту медовую лепешку я жертвую тебе за Фенарету… Слышишь, как она стонет? Прошу тебя очень, облегчи ее боли!
Женщина вскочила и убежала в дом, где повитуха Фенарета, жена скульптора Софрониска, сама лежала в родовых муках.
– Я еще вчера сказал себе, что должен первым поздравить нашу богинюшку! А эта вертихвостка все мне испортила! – в бешенстве бросил Мом.
Богиня смеялась, обнажив белоснежные зубы.
– Ну не ругайся, Мом, да поздравь меня!
– Негодница. Опередила меня, толстоногая дурнушка…
– Довольно! – весело воскликнула богиня, скользнув взглядом по своим прекрасным, стройным ногам. – Принимаю твои слова как поздравление, не то ты, войдя в раж, и вовсе о нем забудешь и станешь бог весть как долго бранить несчастную бабенку, старый ворчун! И многих олимпийцев бесстыдно высмеивал, а после этого жалуешься, что ты самый нелюбимый из богов и что папаша Зевс согнал тебя с Олимпа!
Мом проворчал:
– Просто Зевс старый недотрога! Чуть что, сразу обижается…
– Тсс! Не сваливай на него. Всему виной твой неуемный язык, вечно ты всем недоволен, вечно судишь всех и вся…
– А разве это дурно?
– Милый дядюшка Мом, – сказала богиня. – Тебе и на земле-то трудненько бы приходилось с такой ехидной натурой, а уж что говорить об Олимпе, где нет афинской демократии…
– Ни афинской, ни небесной, – сварливо перебил ее Мом. – Олимп – и демократия! Ха! Олигархия, да что я говорю – тирания!
Богиня предостерегающе подняла руку:
– Осторожней, Мом!
Тот спохватился – ведь Артемида сама принадлежит к высшей небесной олигархии – и заговорил извиняющимся тоном:
– Ты – исключение, дорогая. И твой брат Аполлон – тоже. Но остальные-то? Гера, Афина, Посейдон, Арес, Афродита…
Едва имя богини любви коснулось слуха Артемиды, она опустила руку на рожки мраморной косули, всюду ее сопровождавшей, и попросила:
– Расскажи мне, как это вышло с твоим… скажем, уходом с Олимпа! Говорят, ты бранил Прометея, создателя человека, за то, что он поместил сердце в его груди? И будто упрекнул Прометея: раз сердце человека скрыто, никто и не видит, что в нем кроется, и от этого в мире много зла. И еще будто ты нелестно отозвался об Афине и даже о самом Дие. Но мой брат Аполлон рассказал мне, что Зевс изгнал тебя за то, что ты якобы порочил красоту его дочери Афродиты.
– А с какой стати мне было ее щадить? – удивился Мом. – Я – бог насмешки и глупости в одном лице. Было так, как ты говоришь. Зевс повелел: «Внимательно осмотри это божественное создание, страшно мне любопытно, найдешь ли ты, придира, хоть малейший изъян в красоте моей дочери». Все стихли. Ага, думаю, ловушка! И отвечаю: «Погоди, дорогой Дий! Какую красоту ты имеешь в виду – тела или души?» Афродита презрительно фыркнула, а Зевс разбушевался. «Ступай в болото, Мом, со своей душой! Это сумасшедшие афинские философы выдумали такое учение, и, как мне донес Гермес, оно ширится, словно сам Эол раздувает его по земле. Мне это не нравится, похоже, что человек хочет возвыситься над нами, богами. Этот мятежный человечий дух долетает уже и сюда, на вершину Олимпа! Я говорю о красоте тела. Смотри и суди!» Ну, смотрю, разглядел девчонку спереди, сзади – никак не найду никакого изъянца. Белая, пышная, как морская пена, кожа что тебе косский шелк, никаких недостатков…
Артемида пренебрежительно рассмеялась:
– Эх ты, бог издевки, вечно ищешь недостатки, а тут промахнулся! А ее пропорции?!
Мом осклабился:
– Это и есть то единственное, в чем я попрекнул Афродиту!
– И правильно, – заносчиво заметила Артемида. – Была бы я одной из трех богинь перед судом Париса – яблоко досталось бы мне!
Мом ехидно возразил:
– Не бахвалься, малышка. Я-то давно торчу здесь со своим недоделанным лицом и помню, как Софрониск только начал рисовать и высекать тебя. Знай: твои прекрасные ноги взяты с пятнадцатилетней рыбной торговки – клянусь Герой, весь дворик провонял рыбой, когда она сюда приходила. Твою грудь Софрониск приглядел у тринадцатилетней цветочницы с агоры, а лицо твое высечено по образу некой гетеры, которую сюда приносили в носилках рабы, чтоб ты знала.
– Благодарю за новости, – кисло сказала богиня. – Ну и что, хуже я от этого? Важно, что получилось, знаешь ли! – надменно закончила она.
В этот миг, словно пучок стрел, упали на Артемиду лучи солнца, ослепив ее.
– Что это? – испугался Мом. – Ты горишь! Горишь белым пламенем! Ты вся – пламя и жар…
Артемида блаженно засмеялась:
– Это брат! Феб Аполлон! Никогда не забывает о нашем общем дне рождения и всегда бросает мне букет лучей.
Богиня послала Фебу воздушный поцелуй и помахала ему рукой. Из дому выбежала соседка Мелисса, жена сапожника Лептина, бросилась к каменной ограде:
– Ноксен! Ноксен!
Из-за ограды отозвался мальчишеский голос:
– Что, мама?
– Слетай на агору за Софрониском! Он там устанавливает мраморную колонну! Пускай бегом бежит домой, жена его умирает…
Мелисса повернулась, опустилась на колени перед Артемидой:
– Благородная, благодатная, светлая! Смилуйся над Фенаретой! Ей все хуже и хуже… Стольким матерям в Афинах помогла счастливо разродиться, а сама не может… Помоги, помоги ей, покровительница рожениц!
Вопль страдалицы поднял Мелиссу с колен.
– Отчего же ты ей не поможешь? – проворчал Мом. – Это ведь твоя работа. Оттого что справляешь – в который раз – свой двадцатый день рождения, так и оставишь несчастную в беде?
– По-твоему, я не знаю, что и когда мне делать? Опять ты всюду суешь нос, опять все не по тебе! Вот тебя и не любят. И Зевс за это прогнал тебя с Олимпа…
– А разве я не прав? Там в тебе нуждаются, а ты тут вертишься передо мной – все бы тебе хвастать, что задочек у тебя прямо два финика, не такой объемистый, как у Афродиты!
– Молчи, злоязычный! – прикрикнула на него Артемида.
– И разве я не прав, осуждая то, что мне не нравится?
– Важно, как ты это делаешь. Издеваешься, поносишь, а можно ведь и иначе – без оскорблений да насмешек!
Мом парировал вопросом:
– А ты видела хоть кого-нибудь, кто умел бы так делать?
– Не видела, – созналась богиня. – Ни среди богов, ни среди людей. Судить легко – а ты укажи на дурное, да при этом подай совет, как обратить дурное в хорошее, – вот было бы замечательно! Ну, может, родится такой человек, сумеет так… Может, им будет как раз тот человечек, что рождается сейчас…
– Хотел бы я посмотреть, – съязвил Мом.
Отчаянный вопль роженицы нарушил безмятежность ясного дня.
Облачка пыли с немощеных улочек дема Алопека взметывались из-под босых пяток мальчика; на агоре его подошвы прошлепали по гладким плитам мостовой.
Рванули слух пронзительные звуки военных труб на Акрополе. Ибо сегодня – в шестой день месяца Фаргелиона, в четвертый год семьдесят седьмой Олимпиады, при архонтстве Апсефиона, более того, в день рождения богини Артемиды и бога Аполлона – глашатай возвестил:
– Наш полководец Кимон с афинским флотом разбил персов в Памфилии, у реки Эвримедонт! Архонт приказал угощать в пританее всех пришедших, кроме метеков и рабов!
С ликующими кликами «Афинам и Кимону – слава!» хлынула толпа в пританей. Каменотес и скульптор Софрониск от радости хлопнул тяжелой лапой по плечу своего помощника Кедрона:
– Слыхал, телепень? И в такой день у меня должен родиться ребенок! Давай живее! Успеть бы хлебнуть да закусить в пританее…
Солнце поднялось выше. Агора – прямо улей. Гефестова кузница в недрах Этны. Гул, звон, крик, зной.
– Слава Кимону!
– Слава!
– Гляди не надорвись! Нынче в славе, а завтра в канаве – как всегда…
– Молчи, свиное рыло! Воду мутишь – а жрать да вино хлестать со всех ног бежишь, так?!
Софрониск перекрикивает всех:
– Мой ребенок родится в счастливый день! Такой день! Какая честь!
– Мой муж вернется с войны… – грустно говорит рыбная торговка.
– Узнает, что ты путалась с этим проходимцем Сосией, и морду тебе набьет!
– А тебе что? Свою грязь подбирай! От вас по всей улице течет…
Добежал запыхавшийся мальчик:
– Софрониск, скорей домой!
– Что случилось? – вырвалось у того с испугом.
– У Фенареты уже нет сил… Хочет проститься с тобой… Умирает…
Софрониск уронил молоток.
– Кедрон, убери инструменты…
Бросился со всех ног.
На бегу отвечает людям – ибо кто же не знает, что повитухе Фенарете приспело время?
– Стольким женщинам помогла… А ей-то кто поможет?
– Теперь ей самой нужна какая-нибудь Фенарета…
– Пойдем с нами, выпьем! – кричат Софрониску уже захмелевшие на радостях.
– Не могу – жена умирает…
Бегом!
Соседки окружили изваяние богини Артемиды, залитое солнечным сиянием. Стоят на коленях, причитают, молятся.
– Артемида! Илифия! Покровительница рожениц! Не оставь Фенарету! Дай жизнь ее ребенку за те тысячи детей, которых она помогла родить!
В доме смолкли крики. Прекратились боли, выталкивающие плод. Зловещая тишина.
С Акрополя сюда долетает рев труб, усиливая напряжение. Слышно тяжелое дыхание Фенареты. Видно ее искаженное лицо, огромный живот, клепсидру в лучах поднимающегося к зениту солнца – капли отсчитывают страшные секунды – и устремленные к двери глаза роженицы, в которых написан ужас. Что же он не идет?!
Софрониск добежал, ворвался во двор через калитку с надписью «Зло, не входи!», лавируя меж мраморных глыб и торсов, разбросанных под сенью платана, влетел в дом – без дыхания пал на колени у ложа, прижался лбом к холодной руке жены.
– Хотела еще увидеть тебя, Софрониск… – Голос ее слабеет.
Муж рыдает – женщины выпроваживают его во двор.
Обложили роженицу амулетами, травами и снова вышли преклонять колени перед Артемидой, повторять свои мольбы и плач. Напряжение невыносимо. Около Фенареты остались только соседки – Мелисса и Антейя. Склонились над ложем.
И случилось это ровно в полдень. Пронзительный крик вырвался из груди страдалицы. Мелисса приняла ребенка – толстенького, розового, с большой головой. Антейя выбежала на порог:
– Родился! Мальчик!
Какое мгновение!
Муж Мелиссы, сапожник Лептин, перелез через ограду, прижал Софрониска к груди:
– Вот теперь выпьем! Да неразбавленного! Сын у тебя, понимаешь?! И явился он на свет как раз когда Гелиос в зените!
Софрониск ликующе кричит солнцу:
– Разом две жизни подарены мне! Фенареты и сына!
Носят подарки родильнице. Купают младенца и так его хвалят, что и во дворе слыхать:
– Какой здоровяк! То-то намучил маму! А глазки-то какие большие! И лобик до чего высокий! А вон на плечике круглое родимое пятнышко… На что похоже? На медовую лепешку? Нет, нет – на солнышко!
Да! На солнышко!
Мелисса вынесла выкупанного младенца во двор – показать отцу. Софрониск поднял его на вытянутых руках, тем самым, по древнему обычаю, признавая ребенка своим сыном.
Артемида вскричала:
– Удачной охоты, мальчуган!
Мома прямо передернуло:
– И что ты выдумываешь! Это сыну-то афинского каменотеса охотиться на зайцев, оленей или кабанов? Подобная блажь могла возникнуть только в твоей голове. Кому ж еще думать об охоте при рождении ребенка, как не богине охоты, ха-ха-ха!
Но Артемида осадила Мома:
– Но, дядюшка Мом, разве охотятся только на зверей? Человек всю жизнь за чем-нибудь охотится. Каждый час, каждый день его улов – всякое знание, всякая частица красоты! Человек и человека уловляет… Жизнь – нескончаемая ловитва, запомни!
Неистово пылающий полдень осыпает розовое тельце новорожденного золотыми молниями. Дитя сморщилось, шевельнуло губками – что сейчас будет? А, заплачет, как все… Но нет! Дитя открыло беззубый ротик и громко засмеялось.
Невиданно! Отец в изумлении уставился на ребенка. А женщины загомонили:
– Ах, бездельник! Со смехом явился на свет!
– Нравится ему, видать, на свете-то!
– Я пятерых родила – и каждый раз сколько реву!
– Мои дети тоже плакали – все…
– А этот малыш, едва вылез из материнского чрева, уже смеется!
– Ох и озорник же вырастет!
– Какое имя ему дашь? – спросил Лептин.
– Мой дед тоже озорной был. Назову по нему – Сократом.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Речка Илисс течет под стенами Афин, огибает их с юга и впадает в Кефис.
Неглубок Илисс, его излучины вдаются в луга с невысокой травой и рассеянными кое-где кустами и глыбами камня; в одном месте берег поднялся невысоким холмом, и стоит на том холме платан, а под платаном – маленький алтарь с деревянной фигуркой Пана, осыпанной цветами. Долинка, по которой ползет Илисс, – аркадский сон, пастушеская идиллия, и никого бы не удивило, если б на этом холме над потоком появилась небольшая отара овец, предводимая Стесихоровым Дафнисом, играющим на свирели из тростника.
Раннее утро. Вода с тихим плеском бьется о камни. Поднимается от воды и тает легкий туман. С востока, над Гиметтом, разливается серебряный рассвет.
Над кустами показались уши осла, объедающего сочные листья. Сократ сидит на камне, не слишком-то заботясь об осле. Перкон – животное умное, пасется сам, позволяя Сократу следить плещущий ток воды.
Panta rhei – все течет, убегает, дважды не вступишь в одну и ту же реку, – вспоминается юноше открытие Гераклита; да, это так: вон как далеко унесло желтый нарцисс, который я бросил в воду! А здесь уже – другая вода, новая, за нею стремится еще иная, и так до бесконечности. Подобна этому и человеческая жизнь. Всякое мгновение, всякое чувство блаженства или боли, всякий образ исчезает из глаз, всякий звук затихает, теряется всякий запах, все – движение, и человеческое сердце тоже непрестанное движение – до тех пор, пока жив человек.
Река, чудится, зазвенела. Глади ее коснулись лучи солнца. Сверканием приветствует вода новый день.
Сократ ждет свою милую, посматривает через кусты на тропинку из города. Ждать ему пришлось недолго.
Кипарисовой аллеей, с корзиной белья на плече, идет Коринна. Сократ любуется ее походкой, легкой – девушка словно танцует; он дал ей приблизиться вплотную к кустам, опустить корзину в траву – и вышел.
– Замри, как стоишь, Коринна! Не двигайся! – попросил он.
Коринна послушалась, замер и Сократ, изумленный, онемевший перед красотой подруги, перед этим хрупким утренним образом. На Коринне только белый пеплос, ее ноги босы, ее гладкое лицо и смуглое тело словно выточены из сандалового дерева, черные волосы, стянутые лентой, кое-где выбились, и шевелит их ветерок. Чернотой, блеском и живостью гармонируют с волосами глаза Коринны.
– Одно утро минуло, когда солнце взошло, – проговорил Сократ, – но теперь, когда вышла ты из кипарисовой аллеи, встало второе!
Он пал перед ней на колени, обнял ноги ее и стал целовать их сквозь мягкую ткань.
Коринна нагнулась, погрузила руки в густые кудри юноши.
Она вся как в дурмане, каждый поцелуй Сократа словно жалит ее, впускает в кровь ей яд, от которого не умирают, от которого теряют сознание в блаженстве. И уже не видит Коринна искрящегося солнечного утра – вокруг нее тьма, объемлет ее благоуханная ночь, все тело ее млеет, поддается поцелуям, Коринна вся во власти Сократа, но не страшится того, что в глазах у нее потемнело, – напротив, это желанно.
Увы! – выше и ниже по речке уже пришли полоскать белье девушки и женщины дема Алопека, подняли щебет и хохот – точно стая гусей! Коринна неохотно высвободилась.
– Надо белье полоскать, – вздохнула она, – и сразу же домой…
– Ну да, тебя не отпустят больше одну, если узнают, что я тебя тут поджидаю, – засмеялся Сократ. – А не отпустят – придешь ведь ко мне в другое место?
– Приду. Приду. Ты притягиваешь к себе кого хочешь. Тем более меня, такую глупую девчонку. – Коринна, уже на коленях, уже полоща белье, вопросительно оглянулась.
Сократ понял.
– О нет, я не позволю тебе называть себя глупой! Любишь ли ты этого мочой провонявшего красильщика Эгерсида, который жаждет поскорей заполучить тебя?
– Не люблю я его. Как ты можешь спрашивать?
– Ага, вот тебе и доказательство твоего высокого ума. Не ослепили тебя ни его дом, ни парочка-другая его рабов, ни какая-нибудь замызганная тетрадрахма. Ты не продаешь свою красоту, ты хочешь быть счастливой, а это возможно только со мной…
Коринна полощет белье сильными взмахами, вода так и вскипает, и пенится, и, не оглядываясь на Сократа, девушка говорит:
– Да, только с тобой могу я быть счастлива…
От холодной воды порозовели ее руки. Это заметил Сократ.
– Ты прекрасна, как розовоперстая Эос, и стократно прекраснее ты в своем подоткнутом пеплосе, чем Эос в ее воспетых Гомером шафранных одеждах…
Девушка встала, смущенная такой похвалой. Но Сократ с восхищением художника любовался ею и еще добавил хвалы – правда, уже в другом тоне:
– Горе мне – я не Зевс, чтоб любить тебя, как он любил земнородных в различных своих воплощениях!
Серебристым смехом прозвенела Сократова земнородная:
– Кем же больше всего хотел бы ты обернуться?
– Лебедем, возлюбленная моя. Представь, что это полотно, которое ты сейчас полощешь, – лебедь. Всю тебя обоймет крылами, окружит, и окажешься ты в плену этого нежного заточения. Хочешь? Или – золотым дождем? Я б осыпал тебя поцелуями с головы до пят, что ни капля золота – то поцелуй, ни одного, самого крошечного, местечка не оставил бы нецелованным…
– Ах ты, мой бесстыдник! – счастливо вздохнула Коринна и невольно погладила себя по плечу, словно уже падал на нее этот дождь. Как прекрасно было бы всей ей отдаться Сократовым ласкам!
Коринна сложила в корзину белье. Сократ поднял девушку, положил ее руки вокруг своей шеи и впился губами ей в губы.
Огородник, везущий на рынок овощи, пожелал им:
– Афродита да будет с вами, голубки!
Сократ ответил:
– А с тобой Гермес – пусть ускорит твой шаг и затмит тебе очи!
И снова стал целовать подругу.
Коринна подняла корзину на плечо. Огляделась. И спросила с испугом:
– Где же твой Перкон?
Не видно ослиных ушей над кустами! Животное исчезло. Однако Сократ не встревожился. Свистнул в два пальца, и тотчас в ответ прозвучало Перконово «и-а, и-а!».
2
Сократ остался один на берегу Илисса. Стоит он под огромным платаном, который вытянул тысячи зеленых ладоней и ловит в них солнце. Стоит Сократ у маленького алтаря, перед деревянной, источенной червями фигуркой бога Пана; краска с нее облупилась, нет левого уха, нет правой руки. Задумчиво смотрит Сократ на все это.
Сколько раз, поди, хлестали тебя земледельцы бичами, когда ты долго не посылал дождя, или коровы плохо доились, или не уродился ячмень! И цветы у тебя все повяли, а то и вовсе засохли. Люди уже мало ценят тебя. А, вот один букетик свежий! От какой бы это бабенки? Верит еще в твою помощь? Вера горами движет, говорит моя матушка, да только неизвестно, что она на самом деле разумеет под верой, повитуха-то…
Сократ отошел на несколько шагов. Граница между платановой тенью и солнечным зноем резка. Сократ больше любит солнце, чем тень. Стал там.
Вчера, когда Фенарета, уставшая вызволять на свет новорожденных, и Софрониск, утомленный тесанием мрамора, уснули, Сократ зажег светильник, развернул свиток, взятый у Критона, и до глубокой ночи читал и раздумывал об Анаксимандре, который высшим законом всего сущего объявил вечное коловращение материи.
О вечном коловращении материи думал Сократ перед появлением Коринны, дочери соседа, и теперь вернулся к этим думам.
Он следил, как медленно описывает окружность тень от платана, под которым он стоит. Солнце движется всегда с одинаковой скоростью. Никогда оно не ускорит движение, не замедлит, не остановится хоть на миг. Странная власть в этой равномерности – она успокаивает и беспокоит.
По тени, отбрасываемой солнцем, Анаксимандр изготовил солнечные часы. Отсчет времени людям нужен, хотя и не всегда приятен. Особенно неприязненно косятся на эти расчеты те, кто растрачивает время попусту. Что ж, постараемся как можно меньше тратить его зря!
Придя к такому выводу, Сократ сказал себе: а сам-то хорош, бездельник! Любопытство тянет тебя к людям, на агору, и там ты полдня донимаешь их расспросами вместо того, чтоб работать над изваянием Силена для перистиля Критонова дома. Отличный заказ! Кто может похвастать таким в свои семнадцать лет? Впрочем, и то верно – кто может в свои семнадцать лет похвастать тем, что уже с шестилетнего возраста месил глину и обтесывал камни? Эх ты, лодырь! А как радовался, какое диво собирался вытесать, даже побился об заклад с Критоном, что закончишь работу к определенному дню! Так что – бегом домой, и за дело!
Напрасны упреки себе самому, впустую благие намерения. Любопытство и любознательность как клещи присосались к Сократу и отлично вспухают на его крови. Он поднял взор от ползущей тени платана – и вот уже другими глазами видит знакомую долину под стенами Афин.
Старый философ Анаксимандр заставил сегодня Сократа смотреть на реку, деревья, кусты, на луга со стадами овец, пасущихся под звуки пастушьей свирели, не просто как на прелестную идиллию. Он заставил Сократа размышлять – как возникла такая совершенная гармония, при которой только и могут жить и люди, и все твари.
Скользя по долине задумчивым взглядом, увидел Сократ на том берегу Илисса философа Анаксагора, своего учителя. Высокий, стройный философ шел неторопливо, храня серьезный вид. Его окладистую бороду – какие носили философы – уже сильно подернула седина, хотя не было Анаксагору еще и пятидесяти лет. Его тонкий гиматий пышными складками ниспадал до самых сандалий.
Сократ резко свистнул, но осел давно насытился и, улегшись в траву за спиной хозяина, не отзывался. Сократ ухватил Перкона за оголовок:
– Тебе, как вижу, тоже нравится валяться в холодке, да чтоб тебя цветами осыпали, как Пана! Вставай, ленивая шкура, живо! Мне надо поскорей к Анаксагору, учиться, не то выйдет из меня больший осел, чем ты!
Приговаривая так, Сократ дотащил осла до речки и рядом с ним перебрался вброд на ту сторону.
– Привет тебе, дорогой Анаксагор! Хайре! – крикнул он, еще не выйдя на берег.
Анаксагор поднял руку в знак приветствия.
– И ты мне дорог, Сократ! Сегодня особенно, ибо, вижу – от нетерпения подойти ко мне ты даже не сел на осла, чтоб он перенес тебя через речку сухим.
– А верно! – весело удивился юноша, оглядев себя. – Я и не заметил: с меня течет весь Илисс!
Он стянул с себя хитон и стал его выжимать.
– Труд каменотеса тебе на пользу, юный друг, – сказал Анаксагор, с удовольствием обежав взглядом хорошо сложенную фигуру Сократа, состоящую, казалось, из одних мышц. – А сколько в тебе солнца!
Сократ надел выжатый хитон на свое смуглое тело. Заговорил об Анаксимандре и его воззрениях.
– Но ты, Анаксагор, в последнюю нашу встречу упомянул о выводах, к которым пришел, размышляя о том, как возник мир и как он развивался и развивается. В ту ночь я не мог уснуть, все думал, как же все это отлично от Гомеровой «Илиады», где небо, море, земля и подземное царство заселены таким количеством богов, божков и демонов!
– А не испугаю я тебя так, что ты и сегодня не сможешь заснуть, если открою свой взгляд на солнце? – спросил философ.
Сократ уверил его, что теперь-то он и вовсе не заснет от любопытства, и Анаксагор поведал ему, что солнце не что иное, как гигантский раскаленный камень.
Сократ обомлел. Его большие выпуклые глаза сверкнули, по широким скулам скатились капли пота.
– Мое солнце! И – камень?! – воскликнул он в горестном разочаровании. – А я-то поклоняюсь ему каждое утро! Солнце – мое любимое! Без его любви не было бы жизни! Не было бы ни людей, ни зверей, ни растений! Солнце – возлюбленный, жарче которого нет!
Анаксагор положил ему руку на плечо.
– Тише, мальчик. Да я ведь и волоска не тронул на голове у твоего возлюбленного!
– Тронул! Тронул! – бурно возмутился Сократ. – Если солнце – камень, значит, оно не златовласый бог Гелиос в короне лучезарных лучей! Значит, не выезжает этот бог день за днем в поднебесный путь на золотой колеснице, запряженной четверкой крылатых коней!
Анаксагор спросил:
– Долго ли способен ты глядеть в лик солнцу?
Сократ угадал в вопросе ловушку, но честно ответил:
– Лишь короткий миг.
И попался.
– Как же может кто-то – хотя бы и бог – веками жить среди такого жара?
– Боюсь, его спалило бы дотла, – тихо молвил Сократ, но тут же вскипел. – Но это значит, что ты, Анаксагор, сжигаешь дотла Гелиоса!
– Гелиоса – да, мой дорогой, но тем не менее я не перестаю поклоняться солнцу, как и ты. Рассуждай так: то, что утверждаем мы, философы, никогда существенно не отличается от древних мифов. Часто мы только переводим на язык прозы стихи и поэтические метафоры, прорицания и видения. Анаксимандр, о котором ты упомянул, первым начал писать прозой. Понимаешь, что я хочу этим сказать? Да? И еще вопрос. Не давал ли тебе твой друг Критон из отцовской библиотеки сочинения Гераклита Эфесского? Да? Но тогда ты, несомненно, прочитал, что Гераклит считает праотцом всего сущего вечный огонь. Это так?
Сократ кивнул.
Анаксагор, обычно серьезный, улыбнулся.
– Ну, и разве Гераклит не утверждает, что причина любых перемен – огонь? Что огонь – сила? И даже – что огненная сила – носитель Разума? Этот Нус, этот Разум я, милый Сократ, считаю началом всего. Разум – вот великий бог, которому должны поклоняться люди! Так чего же тебе еще? Утверждая, что солнце – огненный камень, разве не воздаю я ему больше, чем если бы видел в нем только возницу в сверкающем венце?
– Может быть, дорогой Анаксагор, – восстал в Сократе дух противоречия, – но в этом уже нет красоты!
– Не говори так! – резко осадил его Анаксагор. – Это совершенно одно и то же, ибо истина то же самое, что красота!
Однако Сократ не мог совладать со своим волнением и продолжал бурно возражать:
– Но тогда, мой учитель, ты изгоняешь богов и с Олимпа! Если нельзя жить в огне, то нельзя жить и во льдах, в холоде!
– Я изгоняю богов с Олимпа, – серьезно подтвердил Анаксагор. – Да и возможно ли, чтоб они могли там жить, испытывая человеческие, животные желания, занимаясь любовными интригами, убивая и мстя друг другу, вредя или, напротив, помогая другим богам, и полубогам, и людям? Раз уж человек начал представлять себе богов такими же, как он сам, с его хрупкой земной оболочкой и естеством, тогда он должен сообразить, что очутиться на Олимпе, где вечные льды, – значит замерзнуть. Да, мой юный друг, я изгоняю богов и из подземного царства, где нет воздуха и нечем дышать, и из морских глубин. Иной раз я чувствую себя словно среди пьяных, которые тупо верят в богов не без хитрого умысла – сваливать на них все свои падения и неудачи.
Сократ молчал. Жевал травинку. Молчал упорно. Философ посмотрел на него:
– Ну что? Ты чем-то опечален?
– Я скульптор, – ответил Сократ. – Мое ремесло – высекать в камне или отливать в бронзе богов, которых ты устраняешь из мира. Может быть, по праву, но я…
– Но я сказал же тебе, что красота есть истина. Ты художник, твоя поэзия – в мраморе и в металле, ты – поэт формы и материи, и кто же станет требовать, чтоб ты изображал солнце в виде ячменной лепешки? Почему бы тебе не изображать его, как Гомер, – лучезарным возницей? Или бегуном с олимпийским факелом…
– Ах, дорогой мой, мудрый, великий! – в восторге вскричал Сократ.
– Ты всегда торопишься, мальчик. Красота пускай остается – но да исчезнут суеверия о богах. Как раз на днях я начал писать об этом.
Сократ в изумлении отступил:
– Писать против богов? И ты не боишься?
– Кого? Богов? Их же нет!
– Людей!
Анаксагор наморщил лоб.
– Да, людей… Тут есть чего бояться. Но именно теперь, благодаря влиянию Перикла с его широтой взглядов, пожалуй, опасность сильно уменьшилась. Тем более для меня – ведь я его близкий друг и советчик. Но даже если б она и была, опасность… Правда не должна знать страха.
– Ты герой, Анаксагор! – с восхищением сказал Сократ.
– Разве писать – героизм?
– Думаю, иногда и писание – подвиг, если судить о написанном предстоит глупцам.
Перешли через мост. Встречные почтительно приветствовали философа, Периклова друга; иные улыбались юноше.
– Когда я вышел из оливковой рощи там, над рекой, – сказал Анаксагор, – я видел двух человек…
Сократ покраснел, но, памятуя материнский наказ – никогда не лгать, – тотчас сознался:
– Да, я был не один.
– С тобой была та Коринна, о которой ты однажды рассказывал мне? Очень красивая девушка…
– Что ты говоришь? – вспыхнул Сократ. – Красивая? А Пистий, который восхищается рыжеволосыми женщинами, говорит – она недостаточно хороша… Итак, прав я! Я видел верно!
– В таком споре, – сказал Анаксагор, – верно видит не тот, на чьей стороне, быть может, правда, а тот, кто любит. Так, ну а где же тот третий, что был у реки? Где осел?
Сократ хлопнул себя по лбу:
– Осел – вот он! Прости, что не провожу тебя. Лечу искать Перкона!
И помчался обратно к реке.
3
Бежал по каменистому руслу бледно-асфоделевый Илисс, уносил время Сократовой юности.
Реже стали свидания с Коринной, и реже встречи с Анаксагором. Сократ лихорадочно трудился над Силеном. Не считал дней, не считал недель… В мыслях засело: надо торопиться! Но еще засели слова Анаксагора: «Ты художник, твоя поэзия – в мраморе… ты поэт формы и материи…» Торопливость не на пользу искусству.
Сначала Сократ рисовал – не счесть, сколько набросков отверг, сколько изменил, сколько моделей вылепил из глины, чтоб затем лепить снова и сызнова.
Наконец однажды ему показалось, что он добился желаемого.
Его Силен – подвыпивший старик. Тяжеловесно притопывает в шатающемся танце, и все же заботливость сковывает его движения – он ведь держит на руках маленького Диониса. Бай-бай, малыш, славное было винцо, я укачиваю тебя, бай-бай… Глаза Силена усмешливы и чуточку насмешливы – а может, сверкает в них пророческая искра.
Лоб мудр, как и подобает воспитателю бога. Но что у него за уши? Остроконечные, будто козлиные! Они как бы намек на первобытную, животную необузданность, они напоминают о мгновениях экстаза, мгновениях языческого воспарения к той красоте, какую дает ощущение полнокровной жизни.
Покончив с моделями из глины, Сократ набрасывается на мрамор, яростно высвобождает из мертвого камня облик развеселого старика, предводителя сатиров, придает ему живую телесность.
По мере того как движется солнце с востока к западу, Сократ оказывается попеременно то в тени, то на солнце. В каждой жилке его пенится кровь, но сам-то он чувствует скорее, как пенится кровь в прожилках мрамора…
Сегодня дворик Софрониска притих в напряженности. Сократ – на лесах, заканчивает Силена. Шлифует его бороду, полирует лоб и нос, обходит вокруг, рассматривает, опускается на колени, чтобы взглянуть снизу, – он неотрывно прикован к Силену руками и взглядом.
Напряженная тишина висит неподвижно, словно орел в поднебесье. Напряжение тем сильнее, что за Сократом наблюдают его друзья, его сверстники. Молодой Критон, Симон, Пистий, Киреб, Ксандр с Лавром. Они даже дыхание удерживают, чтоб не нарушить глубокой сосредоточенности Сократа; сам же он дышит громко, порой даже с хрипом, и гудят, скрипят у него под ногами доски лесов, возведенных вокруг изваяния.
Внимательнее прочих следит за работой Критон. Он и стоит ближе всех к хлопочущему Сократу. Критон изящен, он кажется хрупким – из здоровяка Сократа вышло бы двое таких. Пастельно-голубая хламида Критона из дорогой ткани, а единственный перстень с геммой ненавязчиво указывает на происхождение его владельца из богатой аристократической семьи. Узкое лицо с высоким лбом и тонкими чертами выражает напряженное ожидание. Критону вдвойне важна удача Сократа – хочется ему, чтоб отец вовремя сделал подарок матери и чтоб не обманул ожиданий Сократ, которого он глубоко полюбил.
Пистий, закончивший учение у отца, чеканщика, худощавый верзила, высится над остальными, любуясь – он и сам понимает толк в ремесле – мастерством Сократа.
Будущий пекарь Киреб, любитель посмеяться, смотрит на Сократова Силена и не знает, уместно ли будет пошутить насчет того, что Сократ не приделал Силену козлиный хвостик – ведь теперь уже не исправишь…
Братья Ксандр и Лавр вместе с отцом разводят под стенами Афин овощи и цветы для рынка на агоре. Там-то они и познакомились в свое время с Сократом. Он очаровал их остроумными, порой рискованно-озорными шутками, которыми обменивался с продавцами и покупателями. Сегодня братья очарованы Силеном. Ксандр разглядывает виноградные листья в венке Силена, их форму и прихотливое расположение.
Симон не выдержал молчания. Показав на складки Силенова хитона, робко выговорил:
– А тут ты забыл…
Сократ вздрогнул, как от удара.
– Что? Я забыл? Где?! – чуть не вскрикнул он. – Ах, там? Нет, тут не хочу, чтоб блестело. Изваяние не башмак, который ты начищаешь, чтоб он весь блестел; у изваяния должны быть тени… – И добавил уже мягче, почти задумчиво: – Как у тебя, у меня, у всех…
Симон был соседом Сократа. Лишь невысокая ограда отделяла дворик отца Симона, башмачника Лептина, от дворика Софрониска. Симон с малых лет привык подчиняться Сократу, который привил ему свои вкусы, а в особенности любознательность. Сократ говаривал: ты станешь самым образованным башмачником в Греции – Симон принимал это и в шутку, и всерьез. Поэтому он и теперь не обиделся на резкость Сократа.
А тот ходил вокруг Силена все быстрей и быстрей, разглядывал скульптуру со всех сторон, выдувал ртом тонкую мраморную пыль из недоступных щелочек, куском кожи натирал мрамор то тут, то там – и под конец обнял изваяние, шепнул ему в остроконечное ухо:
– Ну вот, мой веселый спутник Диониса, будем же с тобой здоровы!
Обернулся к юношам от мраморного старика.
– Дорогой Критон, – спросил, притворяясь озабоченным, – когда я должен передать Силена твоему отцу?
– Послезавтра, – ответил Критон. – Не успеешь?
– Эвое! – вскричал Сократ. – Я выиграл спор! Силен может отправиться к вам уже сегодня!
– Эвое! Эвое!
Сократ длинным прыжком соскочил с лесов прямо к ним, засмеялся счастливо:
– А знаете ли вы, петушки мои, каков заклад? Отец Критона сказал: «Если закончишь статую к назначенному дню – то есть в канун дня рождения моей жены, получишь сверх платы шестнадцать котил неразбавленного хиосского вина». Шестнадцать котил! Добрый хус! Радуйтесь же со мной, мальчики! Выигрыш разопьем вместе!
– Не забегай вперед, – осадил его Симон. – Прежде отец Критона должен увидеть Силена, и, только если он его примет, будет вино.
– Ты прав! – согласился Сократ.
Критон побежал звать отца.
А Сократа вдруг охватили сомнения: торжества, восторгов будто не бывало. Самое тягостное для художника – неуверенность, как-то будет оценено его произведение, – он старался заглушить, яростно разрушая леса, разбивая их молотком, словно одержимый демонами. Друзья помогали ему, относили доски в сторону, очищали пространство вокруг Силена от обломков мрамора.
Сократ мерил изваяние озабоченными, вопрошающими взглядами, когда во двор вошел отец Критона. Седой, высокий, он поднял руку в знак привета и направился к Силену. И вдруг попятился в каком-то изумлении, да так и замер. Долго молча смотрел он, на лице его прорезались морщины. Потом медленно обошел скульптуру, рассматривая ее во всех ракурсах.
Не отрывая от статуи взора, проговорил наконец:
– Невероятно! Он в самом деле танцует! И подвыпил, добрый весельчак… Да он живой, клянусь Зевсом! – Повернулся к Сократу. – Ты один его делал?
Сократ ответил утвердительно, и Критонов отец обнял его:
– Не знаю, мальчик, сознаешь ли ты, сколь велико твое искусство. Поздравляю тебя и благодарю за то, что смогу порадовать жену изысканным подарком…
Сократ жадно ловил слова Критонова отца, но посреди его речи вдруг повернулся и бросился в дом – за родителями. Первой он нашел мать. Схватил ее, прижал к своей груди, осыпанной мраморной пылью, расцеловал ей лицо, руки, захлебываясь от счастья и благодарности, оглушил бессвязными выкриками:
– Я с ума сойду! Он сказал мне… нет, ты сама должна услышать, что он говорит! И отец! Где он? Отец! Отец!
– Что случилось? – спросил входя Софрониск, но Сократ уже и его обнимает, целует его руки, жесткие от работы с камнем, и тащит обоих к Силену и к Критонову отцу.
Тот и им похвалил работу сына, похвалил Софрониска – хорошо обучил мальчика, – а под конец произнес слова, значившие для Сократа куда больше, чем любая похвала, чем выигрыш хиосского вина или плата за труд: Критонов отец обещал сказать о Сократе влиятельнейшему человеку в Афинах, Периклу. Перикл собирает вокруг себя всех, кто способен прославить Афины, он поддерживает молодых людей в их первом полете; возможно, Сократа тоже пригласят к нему.
У Софрониска от этого голова пошла кругом. Сам он пробивался трудно – сыну открывается дорога, о какой только мечтать! С волнением, чуть ли не гневно, обрушился он на Сократа:
– Не я ли постоянно вбиваю тебе в голову, паршивый мальчишка, что ты унаследовал мое дарование? Ты же ценишь это меньше засохшей оливки!
Затем, размахивая своими большими руками, он обратился к Критону-отцу:
– Клянусь молниями Зевса, велика наша с женой радость, что сына хвалишь ты, такой просвещенный человек, знаток искусства. Я и сам думал, что Силен ему удался, однако твое мнение стоит большего – ведь, когда дело касается сына, невольно бываешь пристрастным… Но меня словно демоны рвут на части, до того бесит меня мысль, сколько он мог бы сделать, если б не шатался по Афинам, не приставал бы ко всем встречным с назойливыми расспросами о вещах и людях, до которых ему дела нет! Теперь, вижу, я не должен более терпеть этого!
Критон-старший видел, как помрачнел Сократ, но спорить с Софрониском не стал.
– Ты строг к сыну, милый Софрониск, так и должно быть. А знаешь, я тоже пожалуюсь на Сократа: он не условился со мной о плате за Силена. И теперь имеет право выжать из меня сколько угодно. – Он улыбнулся Сократу. – Итак, дорогой чудотворец, выжимай!
Сократ в смущении пожал плечами. Напрасно подсказывал ему Софрониск – подсчитать стоимость мрамора, его добычи, доставки, затраченного времени, – Сократ не в состоянии был произнести ни слова.
Отец Критона ушел с тем, что заплатит ему по собственному разумению. Силена же пускай поставят в его перистиле завтра утром, а плату и выигрыш он пришлет сейчас же.
После ухода Критонова отца начали было прощаться и друзья Сократа, но он крикнул повелительно:
– Всем оставаться! Будет пир! Что-нибудь да найдется в нашем подвальчике, а хиосское пришлют!
Он побежал в дом собрать съестное, и там отец ухватил его за кудрявый вихор и стал трепать, приговаривая:
– Ох и осел же ты, всем ослам осел! Мог потребовать от такого богача хоть тысячу драхм – видишь ведь, понравилась ему статуя! А ты и сам будто опьянел, стоишь, глаза таращишь…
– Я работал с радостью… – тихо возразил Сократ.
Мать ему улыбнулась.
– Но – с моим мрамором, – сердито попрекнул сына Софрониск.
– Полагаешь, отец Критона так скуп, что не заплатит хотя бы за камень?
– Я еще не выжил из ума, чтоб думать так – но где прибыль? А могла быть тучной, сердцу на радость. Я надрываюсь, мать надрывается, мы начинаем стареть… – Горло его перехватило. – Сегодня бы мог принести в дом кучу денег, но ты, олух, проворонил!
– Прости меня, отец. Такая на меня свалилась радость, что как-то не шли у меня из уст слова об оплате…
Софрониск невесело засмеялся.
– Хорош сынок! Слова об оплате у него из уст не выходят, а то, что в эти уста должны входить еда и питье, – это второстепенное, так? Об этом, мол, позаботятся другие?
Долго бы еще точил Сократа отец, словно ионическую капитель колонны на Акрополе, которую он в ту пору обтесывал, но, заговорив о еде и питье, сам почувствовал желание перекусить и остановился. Желание свое он, однако, прикрыл ссылкой на друзей Сократа, которые-де ждут угощения, а среди них тот, кто сейчас важнее прочих, – Критон; тут уж всякую бережливость по боку!
Фенарета с Сократом не выставили на стол во дворе ничего, что хоть отдаленно напоминало бы пышное угощение. Просто вынесли то, чем бы закусить обещанное хиосское вино: лепешки, козий сыр, лук, соленые оливки и затвердевшие медовые пряники. Фенарета тоже сердилась на сына: зачем загодя не сказал, какое событие ожидается сегодня. Теперь вот такой скудный ужин, срам один!
– Ох и недотепа ты, мальчик, – с сердцем сказала она, но тут же в ее черных глазах блеснула ласковая искорка; Фенарета погладила сына по курчавой, как барашек, голове, тоже осыпанной мраморной пылью. – Нет, хорошо, что ты не раззвонил до времени. Еще сглазил бы – и были бы теперь слезы вместо радости.
Стук в калитку! Во двор вошли рабы Критонова отца, внесли корзины с едой и лакомствами, с обещанным хиосским вином и мешочек с серебряными тетрадрахмами. Потребовали, чтобы Сократ при них пересчитал монеты и подтвердил получение трех тысяч драхм. Ясно, как небо Эллады, что Софрониск был доволен сверх меры. И в три тысячи раз вкуснее показались ему изысканные яства, присланные, помимо платы, щедрым и благородным ценителем искусств. Да и все прочие не ленились. Трюфели, лангусты, жареная рыба, паштеты, баранья нога – все мигом исчезало со стола. Пирующие торопились пробиться через эти препятствия к вину.
Вино быстро подняло настроение молодежи – оно становилось буйным.
Софрониск был человек рассудительный, он подумал: не будем с женой мешать им. Пускай козлята пошалят вволю. Чем больше они порезвятся, тем прочнее засядет в памяти Сократа этот знаменательный для него день. Большие события должны завершаться большой попойкой. Так и следует.
4
– Зачем сопрягать драгоценный хиосский топаз с родниковой водой? – вскричал Сократ. – Погрешим! Пускай наш язык узнает подлинный вкус этого сокровища среди вин!
Пили, шумели, смеялись, шутили над тем, что Перикл влюбился в Аспасию из Милета, знаменитую гетеру.
Перикл отдал свою законную жену другому мужу и взял в дом Аспасию. Этот поступок до того напрашивался на анекдоты, что даже друзья Перикла не в силах были воздержаться, а уж тем более его политические противники, аристократы и сочинители комедий, чьи злые языки и всегда-то были беспощадны, о ком бы ни шла речь.
На афинских стенах появлялись хвалебные и позорящие надписи. Эти настенные схолии были различны, как различны были люди, писавшие их.
Мир вертится вокруг Эллады, Эллада – вокруг Афин; Афины вертятся вокруг Акрополя, Афиняне вокруг Перикла, Перикл вокруг Аспасии. Стало быть, мир вертится вокруг Аспасии!Демократы оставляли хвалебные надписи – их сейчас цитировал Киреб:
Нищета нас не ожидает — При Перикле не голодают!– Отлично! И как подходит к тебе, милый пекарь!
– Но есть и другие надписи, ха-ха-ха! Вот послушайте:
О афиняне, возможно ль Нашему народу Видеть, как Перикл достойный Лижет ж… сброду?Несмотря на хмель, все возмутились:
– Перестань! Какая гадость! Боги ведают, кто написал такую гнусность…
– А я знаю кто, – заплетающимся языком сказал Киреб. – Я его застиг… как раз дописывал…
– Кто же это? Кто?
– Оборванец какой-то… Ха-ха, я ему говорю: и много ты этим зарабатываешь? А он: Фукидид хорошо платит, и мне, и им…
– Видно, у господ аристократов – тебя это не касается, Критон, – отменный вкус, – заметил Симон.
Неразбавленное хиосское – прекрасное, вкусное, предательское – действует, негодное, вовсю. Пирующие все смелее исследуют заманчивую тему: об Аспасии. Один утверждает – она уловила Перикла в свои сети красотой; другой – покорила его мудростью; третий – будто связями с чужеземными и отечественными знаменитостями. Критон считает, что Аспасия поймала Перикла искусностью в любви. И он на этом настаивает:
– Искушенность в любви действует сильнее, чем воловьи глаза! И сильнее персей Афродиты с ягодками на кончиках, уж поверьте мне, друзья! Я сам собираюсь проверить это…
– Да что вы делите ее на части, – подал голос Сократ. – Перикл взял ее потому, что она обладает всем этим вместе. Аспасия – великолепная женщина.
Критон вдруг пристально вгляделся в Сократа, который с чашей в руке стоял рядом со своим Силеном. Посмотрели в ту сторону и остальные – о олимпийские боги!
– Видишь? – в священном ужасе прошептал Симон Пистию.
Тот украдкой соединил указательный палец с мизинцем – защита против сглаза, отвращающая злые чары черного демона: ведь то, что он увидел, – кощунство, безбожие…
Заметив, что все притихли, замер и Сократ, хотя он, единственный из всех, понятия не имел, что так напугало его друзей.
Танцующий Силен был скорее живой, чем неживой, его лицо порозовело под лучами закатного солнца. Сократ же, чьи волосы и потное тело были припудрены мраморной пылью, стоял, такой же порозовевший, как Силен, скорей неживой, чем живой, в своей неподвижности. И как они были похожи!
У Силена широкий лоб, курносый нос, выпуклые глаза – Сократ изваял самого себя!
Киреб начал смеяться.
– Чего это ты? – спросил Сократ, которого уже тоже так и подмывало расхохотаться.
А Киреб уже прямо ржал, тряся животом, и, не в силах промолвить слово, только показывал рукой на Силена. Его смех заразил и остальных.
– Да что с вами, Критон? – не понимал Сократ. – Что тут смешного? – Его непонимание пуще веселило друзей. – Да говорите же, громы небесные! Онемели вы, что ли?
Критон ответил намеком:
– Оглянись, дорогой, сам увидишь!
– Что я должен увидеть? – поспешно оглянулся Сократ.
– Да собственное свое изображение!
Сократ вспыхнул гневом:
– И это – я? Я – этот старый козел, вечно пьяный, вечно рот до ушей? Глупости говоришь, Критон!
– Да нет. Он отлично знает, что говорит, – вмешался Киреб. – А почему ты этому старому козлу, который насмехается над людьми и вместе с толпой сатиров творит всякие безобразия, – почему ты не приделал ему копыта? Ха-ха-ха! – Киреб прямо давился смехом. – И с чего это ты не привесил ему к заднице хвост? Из деликатности к самому себе?
– Превосходно! – воскликнул Критон. – Перед нами Силен, но очищенный от признаков древней козлиной породы! Меня вдруг осенило: потому-то и показался Силен живым моему отцу, что это ты сам, Сократ!
Сократ не двигался. Молча смотрел он на Критона, только рука его крепче сжала чашу. А тот прекрасно видел, что речь его, развеселив гостей, омрачила Сократа, но не в силах был остановиться, чем бы ни кончилась игра. Показав рукой на Силена, а потом на Сократа, он продолжал:
– Не ему – тебе недостает кое-чего, чтобы стать вам еще ближе друг другу: венка из виноградных листьев, да набекрень!
Киреб встал, пошатываясь, подошел к стене, по которой вился виноград, сорвал свежий побег, свернул венком и надел на голову Сократа, который даже теперь не вышел из неподвижности.
– Танцуй! Как он! – потребовал Критон.
Медленно и твердо, почти не разжимая губ, Сократ сказал:
– Вы мне заплатили. Переплатили даже. Так что – танцуй, Сократ, повесели нас за это!
Ни сама обстановка, ни настроение Критона не были таковы, чтоб побудить его извиниться за шутку. Напротив, он надулся:
– Какие бесы в тебя вселились? Почему не танцуешь? Смейся со мной вместе! Смейся со всеми нами!
Сократ хмуро молчал. И увядал смех его товарищей, пока совсем не сник. А Критон от судорожного уже хохота вдруг перешел к жалостливому хныканью:
– Я, наверное, обидел тебя… Ударь меня! Побей меня, Сократ! – Подойдя к приятелю, он подставил лицо.
Сократ не двигался. Критон потянулся снять с него венок – Сократ сухо отрезал:
– Оставь!
Критон отступил, собираясь с силами, а для чего – он уже и сам не знал.
Солнце садилось. Заря угасла, хотя вечер еще не совсем погрузился в темноту.
К Критону вдруг обратился Симон:
– А ну-ка, остроумный Критон, разгляди Силена получше!
Критон обернулся. Белый с прожилками мрамор изваяния светился в сумерках.
– Не видишь? – напирал Симон. – Кроме того, что ты сказал, не видишь ничего больше?
Критону легче было высказать через Симона то, на что не повернулся у него язык, когда он обращался к Сократу непосредственно:
– А что я увидел? Разве дурно – предаваться вину и веселью? Да ведь Сократ – по уши в вине! Здесь, по стенам его дома, вьется лоза, в Гуди у него виноградник, в погребе бог весть сколько каменных чанов… – Он повернулся к Сократу. – Зачем же стыдишься этого, великий скульптор? Мы ведь эллины! Отчего же нам и не пить? Сам Зевс пьет, один его божественный глоток – целый хус! Бедняга Ганимед с ног сбивается, пока натащит столько вина для одного Громовержца, а тут еще другие боги! – Критон робко улыбнулся Сократу. – Не поверю я, Сократ, не можешь ты хотеть, чтоб мы бегали по воду к источнику Каллирои! – Но что-то в лице Сократа не понравилось Критону, он взорвался. – Да пил ли ты сегодня? Хмуришься, киснешь – клянусь девственной Афиной, ты ни капельки не захмелел! Скажите, друзья, пил он? Вы видели?
Все наперебой закричали, что Сократ пил как все, и даже больше других.
Симон встал, подошел к Критону:
– Причина в том, что Сократ всего может вынести больше, чем мы, понимаешь?
Критон вскипел:
– Ты, Симон, не вмешивайся сейчас! Это наше с Сократом дело!
– Нет, стой, – не уступал Симон. – Это дело не только ваше. Сократ мой друг, так же как и твой. Почему же нельзя мне вмешаться в ваш спор? Мне – можно! И не тебе помешать нам! Тебе – меньше всего! Куда ты смотришь? Я же сказал: на Силена смотри! Не видишь – на руках у него маленький Дионис?
Критон – юноша умный и образованный. Рассудок его не притупляется даже во хмелю, хотя работает порой как-то неровно.
Слова Симона о маленьком Дионисе будто подтолкнули его мысль – и разом открылись ему все связи. Искра, вспыхнувшая в Силене, перескочила на Диониса, от него так и сыплются искры, сыплются от сатирического культа, отовсюду, куда ни шагнет юный бог и его наставник Силен. Из дифирамба родится музыка, танец, и пение, и декламация… И вот уже огромное пламя разгорелось, огненными языками взвиваются мысли, чувства, страсти, клики восторга и свет, озаряющий тысячи сердец и умов людей, сидящих в театре, когда на сцену в силеническом ликовании вступает во главе хора сатиров трагический поэт… Критон покраснел от стыда.
– Стоит ли вдаваться в подробности, – буркнул он грубо и раздраженно.
– Сейчас – стоит, – с глубокой серьезностью ответил ему Симон. – Коль скоро ты заговорил о вине – почему умолчал о мудрости? Силен, пестун и неразлучный спутник Диониса, не топил в вине разум, как ты сегодня, Критон, но находил в нем мудрость. Вот где ищи сходство между этими двумя – Силеном и Сократом, – просто закончил он.
А Сократ, словно пробудившись от хмурых сновидений, вдруг звонко расхохотался:
– Симон, Симон! Знаю, у тебя доброе сердце, и сказал ты то, что, по-твоему, следовало сказать, чтоб не сочли меня никчемным пьяницей. Но я сердился на Критона не за то, чем он меня почтил, а за то, что он напился и не совладал со своим языком, и если я, скажем, немножко похвастался своим Силеном, то он решил похвастать остроумием. Не нравилось мне, что он падает все ниже и ниже – вы ведь знаете, как я его люблю! Не нравилось мне, что сам он превращается в этакого рогатого козла, в которого хотел превратить меня!
Веселье вернулось за стол. Киреб рассмеялся так, что расплескал вино.
– Критон – рогатый козел! Ха-ха-ха!
Критон не держался на ногах. Сократ подхватил его под руку:
– Дорогой Критон, ты, как я сказал, высоко почтил меня. Ты пошел в отца – тот мне за Силена переплатил, ты же меня переоценил. Да что вы, друзья, могу ли я быть воспитателем бога? Тем более столь прославленного, как Дионис? Знаете, почему мне удался Силен? Потому что я делал его с любовью, как ни одну другую скульптуру, и во время работы – признаюсь вам – я непрестанно думал о маленьком боге, чудотворце, который гонит прочь заботы и несет людям пьянящую радость… Хотел бы и я – ах, как бы я хотел! – освобождать людей от забот и дарить им взамен что-нибудь получше. Но где взять мне для этого столько человеческой силы, коли уж нет у меня божественной?
– Есть, Сократ! Есть у тебя такая сила! – вскричал Критон, целуя Сократа в губы. – Словом своим ты умеешь извлечь из любого человека что хочешь. Удивительная у тебя сила! Искусство это у тебя от матери, сила – от отца…
– Щедр ты сегодня ко мне, Критон! Ха-ха! – засмеялся Сократ. – Но лучше всего, что придется мне тащить тебя домой, вместо того чтоб самому улечься на отдых. Знаете ли, дорогие, сегодня я ведь с рассвета на ногах!
5
Сестра Гелиоса, молочно-серебряная Селена, еще не выехала сегодня на своей колеснице гулять по небосводу. В отличие от брата она не так аккуратна, чтоб можно было видеть ее каждую ночь, как Гелиоса – каждый день. Женские капризы… Иной раз вместо ночи она появляется на дневном небе – бледненькая, осунувшаяся, тяжко больная от несчастной любви к прекрасному пастуху Эндимиону. Какое уж тут счастье, когда боги одарили ее возлюбленного не только вечной молодостью, но и вечным сном! А то, что кому-нибудь, скажем путникам и мореплавателям, будет ночью мало света, вовсе не беспокоит Селену.
Зато звездам ни капельки не досадно, если она не появится. Кому же приятно, чтоб тебя затмевали?
Недвижно стоял во дворике Сократ, поджидая, когда из ветвей оливы выглянет Коринна: сегодня он условился с ней о свидании. Заложив руки за спину – в одной руке букет роз, – смотрел он в небо, наблюдая, как проклевываются звезды, как то одна, то другая, выскочив из густо-синего гнезда, начинает сверкать и светить.
Вот ведь как! – текут мысли Сократа. Ночь принадлежит влюбленным, а всякая звездочка, едва вылупится, уже так и трепещет от любопытства, глазенки распахивает, чтоб не ускользнул от нее ни один поцелуй… Не бойся, малышка, сегодня поцелуев будет достаточно, я не обману твоих ожиданий…
Коринну тоже не смущало отсутствие луны – в темноте легче выбраться из спящего дома. Руками, босыми ногами обхватила она ствол оливы. Верхушка раскачалась, зашелестела, хрустнула веточка, и тихо донеслось из листвы:
– Я здесь!
– Спешу к тебе, – ответила белая тень во дворике; слова эти означали, что Сократ, в полотняном хитоне, взобрался по кубам мрамора к стене, опершись одной рукой, вскочил на ограду и пошел, балансируя, к Коринне, протянул ей розы. Желтые лепестки словно светились в синей ночи.
Коринна зарылась носиком в цветы, вздыхая: «Ах, а-а-ах!» Так свеж и прекрасен аромат роз – никакой самый знаменитый арабский кудесник не сумел бы составить таких благовоний, ибо как сделать, чтоб запах, заклятый в серебряном флакончике, сохранил свежесть живого цветка?
Тихий смех прозвенел в ветвях оливы:
– Чем я заслужила, Сократ?.. Такая честь подобает дочери персидского царя царей, а не Коринне, дочери башмачника Лептина…
Сидя на ограде, Сократ наклонился к Коринне, ответил с жаром, и в словах его слышалась музыка:
– Был бы я Ксерксом, царем царей, велел бы для твоих ножек вымостить золотыми дариками дорогу от Сард до Пасаргад…
Засмеялась Коринна дразнящим смехом, а он, одурманенный любовью, продолжал:
– Был бы я верховным жрецом Баала, принес бы тебе, мое божество, гекатомбу из тысячи быков с позолоченными рогами…
Коринна перестала смеяться, осторожно продвинулась ближе к стене.
– Был бы я царем Сарданапалом, воздвиг бы для тебя дворец с висячими садами, каких не было у самой Семирамиды…
– «Был бы, был бы…» – Коринна прервала его любовное красноречие и тоже обрушила на него поток – однако не словесных узоров, а укоров. – Все-то у тебя «если бы да кабы», еще три месяца назад, на берегу Илисса, ты толковал, во что бы хотел превратиться, если бы был Зевсом, чтоб расцеловать меня всю! А между прочим, мог бы сделать это и без всяких превращений, но ты столько времени не показывался у Илисса! Я полощу там белье, уже десять раз прополосканное, прямо руки коченеют, жду, жду, чуть не плачу, все твержу себе – сегодня уж обязательно придет – и нет! Опять оставил Перкона без пастьбы, лишь бы не встречаться с дочкой чумазого башмачника… И я – ничего не могу с собой поделать – опять я там плачу… – Коринна и сейчас заплакала.
Сократ не сразу пришел в себя. А ведь девушка-то права, что бранит меня: я преступно пренебрегал ею, но справедливости ради скажу – не пренебрег ли я тем самым и собой? Сократ объяснил Коринне, что мешало ему все эти дни проводить с ней сладкие часы на берегу Илисса. На заре, пока не сошла роса, они с Перконом отправлялись на луг; поспешно накосив травы и уложив ее в двуколку, он тотчас бежал домой: трудиться над Силеном, чтоб закончить его к назначенному сроку и выиграть спор с отцом Критона.
– Знаю, все я знаю, – всхлипнула Коринна, – но Силен уже четырнадцатый день стоит в перистиле Критонова дома!
Сократ сделал нетерпеливый жест.
– Да, только отец сразу запряг меня в работу: каждое утро мы уходим на Акрополь, там я помогаю ему тесать ионические капители для колонн. А это нелегкий труд – бьешь да бьешь молотом, а сам дрожишь, как бы не откололся лишний кусок мрамора. И все это время я голодал! Перкон бы не выдержал, а мне вот пришлось выдержать такое долгое голодание по тебе…
Сократ поднялся рывком, подошел ближе к Коринне, которая уже спустилась с дерева на ограду и стояла, придерживаясь за ветку.
– Но больше я не желаю голодать! – И Сократ решительно протянул к ней руки.
– Остановись! – повелительно сказала Коринна. – Еще один вопрос. Разве не мог ты сказать мне об этом? Только подмигивал, когда я влезала на оливу, да рукой показывал – тише, тише, не мешай!
– У меня тоже вопрос! – быстро парировал Сократ. – А зачем ты меня слушалась? Обижалась? А может, просто хотела, чтоб я удачно завершил работу?
– Конечно, поэтому.
– Видела – я весь горел?
– Видела. Но не знаю – к кому горишь ты теперь?
– Как к кому?! – чуть не закричал Сократ.
– Тебе лучше знать. Ты приглашен к Периклу – мне Симон говорил. Тебя, конечно, примет Аспасия и, чего доброго, предложит самую красивую овечку из своего питомника любезниц…
Сама Коринна не слишком-то верила в правдоподобность такого блаженства для Сократа, но, мучая себя, нарочно утверждалась в подозрениях.
– У меня нет одежд из индийских шелков, я не умею красить губы, подводить веки зеленоватой тенью и чернить ресницы! Откуда взять мне лак для ногтей и золотой порошок, чтоб посыпать волосы, придавая им блеск! Чем мне накрасить соски грудей, как делают гетеры, чтоб они просвечивали сквозь ткань пеплоса? – И, впав в какой-то скорбный экстаз, она закончила так: – Не умею играть на кифаре, не умею декламировать гекзаметры и элегические дистихи… А мои жалкие танцы? Могу ли я сравниться с обученными прелестницами, которые танцем пробуждают в мужчинах чувственное желание?..
Сократ не выдержал долее. Прыснув со смеху, он схватил в объятия горестную Коринну и, как бы по секрету, шепнул ей на ушко:
– Ах ты моя глупенькая, да я потому-то и люблю тебя, что ты не прелестница и не похожа на них, а просто – моя девочка, моя Коринна, без всяких притираний и дорогих одежд прекраснее всего знаменитого выводка Аспасии… Веришь мне?
Надо ли ждать ответа? Он целует Коринну, целует – но ее уста остаются сомкнутыми, и Сократ вспыхивает:
– А Эгерсид?! Ну-ка, отвечай! Слыхал я – пока я тут тесал мрамор, он увивался за тобой! Не раскрыла ли ты ему, объятия в отместку за то, что я так долго оставлял тебя без внимания?
– Он мне не нравится, и я всегда от него убегаю, – сказала Коринна.
– Этого мало, – властно заявил Сократ. – Ты должна ему сказать, что и видеть его не желаешь, пусть больше не ходит к вам. Выставь его за дверь. Или, может, ты его любишь?
– Тебя я люблю!
Коринна обвила руками шею Сократа, подставила губы – ждет поцелуя.
Сократ поднял ее на руки, снес с ограды во дворик.
– На земле любить нам будет вкуснее, – сказал он, опуская Коринну на пышный ковер благоуханных трав.
Тем временем Селена выехала на небо. Грустным взором обвела она Афины, заглянула и во дворик Софрониска.
Влюбленные! – вздохнула. Каменотес Сократ и дочь башмачника Коринна. Как он пылок. Губ не оторвет. Всю готов проглотить. Ее-то я уже совсем не вижу. Пуще опечалилась Селена: ах, если бы так любил меня мой Эндимион! Хоть одну ночь испытать такое блаженство!
Но у каждого своя судьба, с тоской думала она. Эндимиону достался в удел вечный сон при вечной юности и красоте, а мне – вечное неутоленное желание. Смотреть на красоту тоже наслаждение. Желание в сердце тоже благо…
Серебряным светом обняла луна смертных любовников. Сократ увидел лицо Коринны в полном сиянии.
– Ты счастлива?
– Да… О да!..
– Ты была красива, а сейчас – прекрасна…
6
Юноши из дема Алопека прошли через раздевальню палестры на площадку для состязаний в гимнасии Ликиона.
По песчаной беговой дорожке бежали несколько обнаженных юношей. Песок откидывался из-под их пяток, смазанные маслом тела блестели. Бежали они не в полную силу – берегли себя для состязания.
Запыхавшиеся, смеющиеся – двое из пяти пришли к цели одновременно, – они весело спорили насчет той исчезающе малой разницы во времени, которая, быть может, была, а может, и нет. Познакомились с нашими; бегуны были из дема Керамик и явились сюда повидать своего бывшего наставника Клеба.
– Хотите состязаться с нами? – спросил желтоволосый керамичанин у Критона, сидевшего в кругу юношей из Алопеки; искупавшись и умастив тело, они отдыхали в тени платана, поджидая Сократа.
– Быть может, – ответил Критон. – Не знаю. Вот придет Сократ…
– Кто это Сократ? Ваш наставник?
Алопечане переглянулись, и Критон сказал:
– Сократ наш друг, но и предводитель.
Симон засмеялся:
– Сократ везде и всегда – предводитель!
– Благодаря своей силе? – спросил керамичанин.
– Силе.
– Воодушевлению.
– Уму.
– И веселью, – дополнил Киреб. – К нему любой потянется!
– А, вон он! Хайре, Сократ!
Сократ удрал от отца, с работы на Акрополе; он мчался бегом всю дорогу и совсем запыхался. Крикнул:
– Сколько бежим? Пять или десять?
Наставник Клеб усмехнулся:
– Слыхали? В этом весь Сократ. После долгого бега, дышит еще как гончий пес, а уже снова готов бежать!
Все рассмеялись. Познакомили Сократа с юношами из Керамика. Критон что-то шепнул ему.
– Конечно, будем состязаться с вами, – заявил Сократ, окинув соперников взглядом скульптора. Сложены отлично!
Пистий подал ему порошок мыльного корня, и Сократ, сбросив хитон, смыл с себя пыль и пот.
Керамичане тоже разглядывали его. Средний рост, сильные ноги, крепкие плечи, выпуклая грудь, ручищи каменотеса.
Симон, с любовью наблюдая за ним, морщил лоб: сказать ему сейчас, перед состязанием? Огорчу, испорчу настроение… Нет, подожду…
Сократ ополоснулся, вытерся. Натерся маслом, сделал несколько переметов.
– Вы все еще не ответили: сколько бежим?
– Пять раз туда и обратно, – сказал Клеб.
Десять юношей стали в ряд на беговой дорожке, низко склонившись.
Клеб ударил в гонг.
Сорвались с места.
Длинноногий чеканщик Пистий повел бег. Вторым шел желтоволосый керамичанин. По пятам за ним Симон с Критоном. Сократ – на пятом месте.
Наставник следил за ними; сплюнул, в гневе царапнул грудь ногтями. О лентяй! Бездельник! Лодырь! Ведь это срам, как он бежит! Трусит по дорожке, словно скучно ему, глазеет на знакомого бегуна, который целуется со своим любимцем там, под кипарисом… Всемогущий Зевс, пошли ему свои молнии в пятки!
Пробегают уже третий стадий. Пятки бегунов отбрасывают песок. Сократа только что обогнали двое – этот увалень Киреб и черный керамичанин. Сократ уже седьмой! Когда он пробегал мимо наставника, тот крикнул в ярости:
– Сократ! Может, еще в носу поковыряешь?!
Сократ весело рассмеялся и, повернувшись к Клебу, озорно ковырнул пальцем в носу.
Но тут же подумал: осрамлю ведь я Клеба. Я негодяй! Он похваляется мной, как фараон живым леопардом, твердит, что я одержу победу на играх в Олимпии, а я так поступаю… Нет, милый Сократ, ну-ка наддай, как говорит отец Софрониск! Ах, как он, поди, проклинает меня в эту минуту за то, что я сбежал…
Сократ сосредоточился на беге, глянул на спины и пятки бегущих впереди и наддал.
Обошел Киреба и черноволосого. Время еще есть. Бегут только шестой стадий. Критона взял довольно легко. Но трое впереди держатся. Сократ прибавил шагу. Задышал открытым ртом, легче стал ступать на носки, чуть ниже пригнулся – и на восьмом стадии промчался мимо Симона и Пистия. Желтоволосый красавец керамичанин по-прежнему впереди… Ого! Теперь уже бег – дело чести: Алопека против Керамика! Оставался последний круг. Сократ дышал уже трудно, со свистом, но прибавлял скорости. У желтоволосого будто крылья выросли. Сократ собрал все силы. Пронесся мимо соперника, словно буря над гребнем Пентеликона, и домчался до цели, обогнав керамичанина на тридцать стоп.
Клеб обнял его, расцеловал, надавал тумаков… Он приплясывал вокруг Сократа, как африканец вокруг идола, и опять целовал в потные щеки, и кричал, что такого еще не бывало в Элладе: на шестом стадии этот олух, этот мой любимец, идет седьмым, ковыряет в носу, глазеет по сторонам, ловит мух – и побеждает!
Не позволяя Сократу пить, Клеб энергично пичкал его розовой мякотью фиг, а сам павлином расхаживал вокруг Сократа и его товарищей. Долгое время тишину нарушало только дыхание – дыхание бегунов.
– Слушай, как же тебе удалось победить? – в изумлении спросил наконец Пистий.
Сократ медленно поднял на него глаза и просто сказал:
– А я захотел.
– Видали! – воскликнул Критон. – Захотел! И все! Сократ, ты будешь стратегом. Стратег должен обладать твердой волей. Иначе ему головы не сносить.
– Куда мне в стратеги! – засмеялся Сократ. – Я хотел бы стать продавцом оливок на агоре. Чтобы все время вокруг меня толпилось много, много людей.
– «Захотел»! И этого ему достаточно! – повторил Киреб. – Это ты перенял от своего учителя Анаксагора?
– Да нет, – задумчиво ответил Сократ. – Но если б мне когда-нибудь довелось кого-нибудь учить – от чего упасите меня боги, – то я непременно учил бы именно этому.
Он растянулся на траве, закрыл глаза. Товарищи все смотрели на него, и керамичанин вполголоса сказал Критону:
– Странный малый, правда? Но воин из него выйдет не хуже Ахилла.
Сократ услышал над собой тихий голос:
– Мне надо кое-что сказать тебе…
Узнал Симона и не открыл глаз.
– Эгерсид… – нерешительно начал Симон и запнулся.
– Что – Эгерсид? – вяло спросил Сократ.
– Опять приходил к нам.
Сократ открыл глаза, приподнялся на локте:
– И Коринна прогнала его, да?
Симон даже испугался.
– Что ты! Не может она его прогнать: наш постоянный заказчик, и хороший заказчик… Вчера заказал новые сандалии и выбрал для них дорогую кожу. А разве Коринна говорила – прогонит?
Сократ сел, припоминая.
– Нет, кажется, этого она не говорила. – И бурно: – Зато сказала, что любит меня!
Симон сжал плечо друга, чтоб подчеркнуть серьезность своих слов:
– В том-то и дело! Она так и сказала Эгерсиду – что любит тебя!
– Отлично! Этого я и хотел!
– Многого же ты хочешь…
– И что, здорово обозлился Эгерсид? Буянил? Этого я тоже хочу! – обрадовался Сократ.
– Ничуть он не обозлился. – С каждым словом Симон становился все серьезнее. – Он стал похваляться перед отцом, что к трем рабам прикупил четвертого, что расширяет свое красильное дело…
– И распространяет по Афинам вонь мочи, которую добавляет в краски, – перебил его Сократ.
– Не смейся. Отцу было приятно слышать, что Эгерсидова мастерская процветает…
– Так что он сможет заказывать у вас еще более дорогие сандалии? – опять прервал его Сократ.
– Да нет! А впрочем, это тоже, – поправился Симон. – Но что хуже всего – Эгерсид намекнул отцу, что интересуется Коринной…
– Что-о? Так он вот как? Подбирается к Коринне через рабов, отца и сандалии?! – взорвался Сократ.
– А что до тебя, – закончил Симон, – то он, мол, сам сведет с тобой счеты.
Сократ проницательно посмотрел на друга.
– И все это ты рассказал мне лишь после состязания, думая, что я разозлюсь и не смогу поддержать честь нашего дема? Милый мой Симон, я не разозлюсь. Я это приветствую. Я рад. И когда же это будет? Когда мы с ним потолкуем насчет того, кто в чей огород лезет?
– Не знаю. – Симон был глубоко озабочен. – Но ты должен подготовиться. Не забывай, ростом он на голову выше тебя.
– Выше, богаче, хитрее, нахальней – а сердце-то Коринны завоевал я! Так какую же цену имеет все остальное?
7
Сократ с Критоном спустились к морю, в афинский порт Пирей. Сократ должен был передать поручение отца корабельщику, который возит мрамор с островов, а Критон увязался за ним. Заманчиво было – заглянуть в порт.
Море ударило по всем чувствам. Сверкающая, переливчатая, бескрайняя гладь до самого горизонта, плеск и гул бесчисленных волн в гавани, покоящейся в объятиях суши. Над головой – темно-голубое небо. Море под небом – глубоко; еще глубже небо над морем. От непостижных глубин кружится голова…
Воздух пропитан соленым запахом сверкающего моря, в него вторгаются резкие запахи свежей рыбы, смолы, растопившейся на солнце, прогорклого масла и человеческого пота. Пирей, куда стекаются все торговые пути, – торжище, которому нет равных на берегах Средиземного моря; здесь торгуют всеми товарами, известными в мире, торгуют и людьми, и деньгами. Беспрерывно под шепот, под крики, под драки что-нибудь переходит из рук в руки.
Рабы и портовые грузчики выгружают зерно – своего у Афин не хватает, – грузят корабли товарами на вывоз: оружием, изделиями из металла, керамикой, предметами роскоши, драгоценными украшениями…
Пирей расползся в стороны – верфями, складами, мастерскими, доками, причалами для судов, в том числе военных; он вобрал в себя налезающие друг на друга заезжие дворы, корчмы, публичные дома, виллы богачей и целые улочки крохотных хибарок, в единственной каморке которых, без окон, теснится, словно в звериной норе, целая семья, зато на столах, выставленных на улицу, продают перед этими хибарками мясо, рыбу, овощи, хлеб…
Самые оживленные и многолюдные места этого переполненного города – вокруг контор менял, трапезитов, через загребущие руки которых проходят сотни мин и талантов, и ты будто видишь, как с этих груд серебра капает кровь, выжатая ростовщиком, ибо лихва – смысл и цель его жизни.
Выполнив поручение отца, Сократ прогулялся с Критоном по молу, к которому толстыми канатами причалены суда. На их палубы и с палуб потоком текут товары и люди – матросы, важные судовладельцы, египтяне, сирийцы, персы в шелках, полуголые рабы, юркие финикийцы – этих всюду полно, и голоса их крикливее прочих…
Наши друзья присели на перевернутую барку. Невообразимая суета царит на суше и на воде. Барки вьются между кораблей, крики, ругань на всех языках летят с суши к морю и с моря возвращаются на берег…
Беспрерывно оглушает скрип воротов, цепей, грохот повозок, ритмичные команды рабам на судах и в порту…
Под всю эту мешанину звуков, грохота, спешки, которые не охватить ни зрением, ни слухом, медленно выходит в море черная триера, украшенная резьбой и расписанная красной краской, похожая на шкатулку для драгоценностей.
Борта триеры высоко поднялись над морской гладью, огромный клюв на ее носу вытянут к морю, на спине ее, подобно крыльям фламинго, вздуваются цветные паруса, и, под звуки флейты, удары десятков длинных весел отодвигают триеру от родного причала. Великолепное афинское судно отправляется в плавание к устью Нила.
Сократ и Критон восхищенными взглядами провожали горделивый корабль – драгоценность на груди моря. Они, афиняне, испытывали гордость: Аттика, с мраморной своею главой, Афинами, отобрала у варваров господство на Средиземном море; уже не финикийский Тир – афинский Пирей! Господство это длится около тридцати лет, и Перикл бережно хранит и умножает славные плоды великих трудов Фемистокла. Экклесия охотно утверждает расходы Перикла на строительство новых судов, внутренние помещения которых обязаны отделать самым лучшим образом афинские богачи на свой счет.
Со всех четырех сторон света окружили Элладу варвары, как их называют эллины, а в Элладе Афинская республика – самое культурное государство.
Все, что в других странах существует только для царей, фараонов, их ближайших родственников, да еще для верховных жрецов, в Аттике доступно всему народу (исключая рабов): театры, стадионы, бесплатные угощения в праздники…
Афинский полис – единственное во всем тогдашнем мире государство – управляется самым демократическим народовластием, которое в описываемые годы с каждым днем укреплялось вширь и вглубь.
Критон оторвал взгляд от триеры; ускоряя ход, она все уменьшалась, скользя по глади моря.
По мере того как угасал день, все ярче светился Сунийский маяк. Маяк – комета, поставленная на голову, из ее сопла вверх и вдаль хлещет пламя, неся кораблям спасение в бурю. Да и сам Пирей – спасение, ибо даже в грозные ураганы в его гавани тихо, и суда всех размеров находят здесь надежное укрытие.
Критон тронул Сократа за плечо:
– Странный ты сегодня, Сократ. Такой веселый и говорливый, а сегодня хмуришься, слова не обронишь. Что с тобой?
– Да. Тебе я скажу. Досадую, что Перикл до сих пор не пригласил меня. Три месяца прошло…
– У него много дел, забот – ты ведь знаешь, его борьба с Фукидидом, главой олигархов, все обостряется. Отец говорит – Перикл уже и не знает, за что раньше взяться…
– И нет ему дела до какого-то там ученика каменотеса. Мне ясно.
– Нет, нет, Сократ. Ждешь ты долго, это верно… Но знаешь что? Я попрошу отца напомнить Периклу…
– Ни в коем случае! – вскинулся Сократ. – Не хочу! Я мог бы попросить Анаксагора, но не делаю этого. Не желаю никого упрашивать. И хватит об этом, друг.
Стемнело. Ночь пала на море, но Пирей засиял, замерцал сотнями огоньков – даже сами Афины не светятся так. Зажглись бесчисленные факелы, лампы, светильники…
Друзья поднялись, пошли на зов огней, и огни втянули их в улочку, где перед каждым домом висел цветной фонарь или фаллос. Гигантские желтые и зеленые дыни, огромные ярко-красные яблоки подмигивали, покачиваясь под морским ветерком.
Из открытых дверей в улочку ворвалась музыка. Авлос, двойной авлос, свирель, кифара, бубен, топот танцующих… Старухи сводни приглядывались к обоим юношам, и, вмиг распознав аристократическое одеяние Критона, для верности пощупав его плащ, они – почтительно или дерзко, услужливо или назойливо, кто как умел, – зазывали друзей в вертепы. Но те проходили мимо. Вот другая улочка, еще уже, тесные домишки, под их стенами, у входов, стоят полуголые проститутки, другие выставляют напоказ свои прелести из-за откинутой занавеси. Критон задыхался. Но даже и более стойкий Сократ, повидавший куда больше Критона, не остался равнодушным. Крепкая нагая фракийка неподвижно сидит на пороге в проеме двери – картина в раме. Девушка с распущенными волосами и одной обнаженной грудью манит Критона жестами необузданной вакханки, она приближается к нему и, чуть прикоснувшись телом к его телу, издает стоны наслаждения…
Критон оттолкнул ее – вакханка прижалась к Сократу; но и тот не обнял ее, и тогда она спросила:
– Вам женщина не нужна? Он – твой любовник?
Только отвергнешь одно предложение – новое тут как тут. Пышная сирийка, словно бабочка крылом, взмахивает полой несшитого пеплоса, то открывая, то закрывая низ живота.
– Войдите, миленькие! – зовет ласкающе. – Не раздумывайте! Войдите!
Критон и Сократ проходят мимо предлагаемого товара, хотя по спине у них так и бегают мурашки.
В тени под стеной лежит старая проститутка, ее пеплос из грубой ткани винного цвета совсем почернел от грязи. Длинными тощими руками она ухватила Критона за ногу и с неожиданной силой заставила его остановиться. Обнимает его ногу, все выше и выше, страстно целует ее…
– Дай мне заработать, господин, – клянчит она сквозь поцелуи, – я такое умею, как ни одна здесь…
В тягостном смущении Критон отвечает:
– Мне ничего этого не нужно…
– Молоденьких ищешь! – засмеялась старуха. – Как всякий новичок… Но попробуй, что я умею!
Критон с отвращением почувствовал, как она прямо присосалась к его бедру.
– Пусти! – крикнул он. – Пусти, не то пинка получишь!
– Пожалеешь…
Вмешался Сократ:
– Пойдем, Критон!
Тот, уже без всякой деликатности, силой вырвался из костистых пальцев, от присосавшихся губ. Старуха взвыла будто от боли:
– Ты меня поранил до крови! – Она лгала. – Одари за это голодную…
Критон вынул кошелек.
Но тут из темноты вынырнула другая проститутка и, подбежав к Критону, завизжала:
– Ничего ей, подлой, не давай! Выпрашивает оболы, а у самой серьги до плеч! Глянь! Да золотые!
У старухи захрипело в горле, прежде чем она произнесла сурово:
– Их я на хлеб не сменяю. Они со мной в могилу уйдут.
Критон бросил старухе драхму. Чистое серебро звякнуло о камни – старуха мгновенно навалилась на монету, прикрыла ее своим телом.
Вторая проститутка пустилась вслед за Критоном, за господином, который не считает денег:
– Пойдем со мной, малыш! Видишь вон желтый фонарь, там мое место, и твое тоже, это самый усладительный дом в Пирее…
Критон ей не ответил. Они миновали «самый усладительный дом любви», из дверей которого неслись сладко-томные звуки авлоса. На стене дома было начертано со многими ошибками:
Здесь самые пригожие, молоденькие ждут утех, дарят утехи благородным навархам, кормчим и цвету мориков…За пределы этого дома проститутка не осмелилась выйти – дальше был уже чужой участок. Прислонилась к стене, утомленная напрасной попыткой; стала подстерегать новую жертву.
По улочкам шатались моряки всех портов Афинского морского союза и варварских стран Востока и Запада, одетые в самые разнообразные одежды, но все – с кинжалом у пояса.
Три сирийца заняли всю ширину улочки – чтобы пропустить их, Сократу с Критоном пришлось прижаться к стене.
– Где лучше всего? – спросил один из сирийцев.
– В корчме «У Афродиты Каллипигии», – ответил другой.
– Что значит «Каллипигия»? – поинтересовался третий, привлеченный звуком незнакомого слова.
– Это значит, что у нее роскошный зад, – объяснил второй и дополнил свои слова жестом, как бы огладив рукой воображаемые ягодицы.
– Туда и пойдем, – решил третий.
Тут навстречу им попалась высокая девушка. Ее несшитый пеплос распахивался на ходу. В свете синего фонаря она казалась мертвенно-бледным призраком. Моряк мигом изменил свое решение, схватил этот встречный призрак, притиснул к стене – и оба закачались, как лодка в бурю.
Критон и Сократ от волнения приумолкли.
– Куда пойдем? – хрипло вырвалось у Критона.
Большое красное яблоко, висевшее на узорном металлическом стержне, подмигивало маняще.
Завеса колыхнулась, из дома вышла красивая девушка – кожа медного цвета, волосы, черные и блестящие, как шерсть быка, перехвачены надо лбом пурпурной лентой; лимонного цвета пеплос доходил до середины икр.
– Войди к нам, господин, – льстиво заговорила она, разглядев дорогой плащ Критона. – Мы – самое роскошное заведение в Пирее. У тебя, красавчик, наверняка есть чем заплатить.
Критон обернулся к Сократу:
– Пойдем с ней?
Тот заколебался.
Девушка окинула Сократа взглядом.
– Твой раб может подождать снаружи, – сказала она Критону. – Или ты за него заплатишь?
– Пошли! – коротко бросил Критон.
– Мое имя – Ионасса, – сказала девушка, вводя их в небольшую прихожую. Там спал чернокожий, свернувшись подобно огромной змее, так что голова его уткнулась в колени.
Обойдя спящего, вступили в темное помещение с низким потолком. Здесь как раз зажигал масляные лампы владелец заведения, морщинистый человек с синими мешочками под глазами. Скрестив на груди руки, он поклонился входящим:
– Синдар к твоим услугам, господин.
Он хлопнул в ладоши – появилась черная рабыня с амфорой вина и кратером.
– Или предпочтешь неразбавленного?
Критон, привыкший во всем советоваться с Сократом, старался теперь решать самостоятельно.
– Конечно, неразбавленного!
Синдар подсел к столу, Ионасса скрылась.
– Музыка! – крикнул хозяин.
В углу нерешительно, неуверенно запела флейта.
Критон с некоторым смущением улыбнулся Сократу:
– В хорошенький вертеп нас занесло!
– Да все они, верно, схожи друг с другом, – отозвался тот. – Сразу видно – посещают их не Критоны.
Это было и слышно. В полумраке раздавались хихиканье, шепот – бог весть чьи, бог весть по какому поводу. Но вот светильники разгорелись, и открылась вся «роскошь» заведения: всюду, куда ни глянь, – яркие пятна. Занавеси, покрывала, пеплосы, хитоны, настенная роспись… Всюду краски! Броские, кричащие, восточные краски: обжигающая серно-желтая, ядовито-зеленая, красный цвет рвет глаза из орбит, синий как морская глубь, черная на золоте, алая на серебре… Флейтистка, с ног до головы осыпанная блестками, выступила из темноты, чтоб явить гостям свою красоту и привлечь их внимание к своему искусству.
Вернулась Ионасса с девушкой для второго гостя. Та подошла к Сократу, неся на губах горькую улыбку, словно взывала к милосердию.
– Я Амикла, – назвалась.
Ее светлые волосы казались белыми в неверном свете ламп этого пестрого вертепа.
Ионасса предложила Критону лакомства. Сказала – для возбуждения желания.
– Печень трески в самосском вине стоит драхму – дорого, правда? Да, у нас цены выше, зато и наслаждения редкостны. Но тебе ведь неважна цена…
– Об этом не беспокойся, – хвастливо отозвался Критон.
Стали есть, пить. Тяжелое родосское вино хорошо исполняло свое назначение. Покончив с едой, перешли в маленькую темную каморку, где стояли два ложа.
Вино появилось и здесь. Девушки разделись.
– Тут – царство Эрота для благородных, – сказала Ионасса. – Твой раб останется с нами?
Второй раз ждал Сократ, что слово «раб» будет исправлено на «друг». Но Критон ответил только:
– Останется.
Ионасса, дотронувшись до руки Сократа, сказала с понимающим видом:
– Ну конечно. Правда, у нас вы в безопасности – вот в других домах действительно нередко льется кровь…
Она крикнула что-то флейтистке, невидимой теперь, и та сменила флейту на кифару. На тесном пространстве между двумя ложами Ионасса начала варварский танец.
Критон схватил ее в объятия, посадил к себе на колени. Девушка ласкала его медленно, опытно. Он уже ничего не видел, не слышал, только ощущал это гибкое, надушенное тело, которое терлось о его тело.
Амикла успеха не имела. Сократ гладил ей грудь и все расспрашивал. Откуда она. Чья дочь. Когда покинула отчий дом. Почему. Нравится ли ей здесь. С кем ей приходится…
– Какое тебе дело, мало ли свинских рыл… Матросы, от которых разит всякой вонью! – гневно вскинулась Амикла. – И нечего расспрашивать! Ты сам раб, а не знаешь, что значит прислуживать кому-то?
– Я не раб.
Амикла смягчилась; обхватив Сократа обеими руками за шею, поведала: она тоже не рабыня. Ее отец, владелец грузового судна, до тех пор брал в долг у менял на закупку товаров, пока те не пустили его по миру, а судно проглотили долги…
– И пришлось ему наниматься на работы, какие выполняют только рабы, и вся наша семья впала в нужду. Я тоже, – закончила Амикла.
Сократ все гладил ей грудь.
– И жениха не нашлось? Ты ведь красивая.
Амикла запустила пальцы в кудри на затылке юноши.
– Чтоб прокормиться? Так себе все и представляют: супруг-кормилец. Но пусть теперь меня кормит моя красота! Хочешь ты жениться на мне? Наверное, хочешь, раз так всем интересуешься. Вот и выведи меня отсюда! Возьми в жены! Ты – жених, будто созданный для меня. А я готова на животе поползти хотя бы и за таким босоногим бедняком, как ты!
Она прижалась к нему теснее.
Сократ почувствовал, как по его голой груди ручьем потекли ее слезы. Он только не знал – искренние или притворные.
– Почему ты не ухватилась за моего друга, почему села ко мне?
Амикла понизила голос:
– Право выбирать имеет одна Ионасса. А мне уж что останется.
Сократ молча протянул ей три драхмы – все, что имел. Девушка кинула молниеносный взгляд на матерчатый занавес, из-за которого заглядывал в каморку владелец дома. Нарочито оттолкнула руку Сократа, вскрикнув:
– Зачем щиплешь мне грудь? Больно!
Голова Синдара исчезла. Амикла шепнула:
– Вот теперь давай деньги… Скорей! Спасибо!
Ее поцелуи стали жарче. А Сократ в упоении гладил все ее тело, словно ладони его хотели запомнить очертания этих округлых боков и грудей. Амикла отвечала ему ласками. Опытность рук скульптора – и опытность рук проститутки… Сократ закрыл глаза – наслаждение осязанием было острее.
Вдруг он насторожился. Уловил обрывки разговора между Ионассой и Критоном. Открыл глаза. Те двое уже не сидели – лежали. Но Ионасса все еще отдаляла то, чем должно было завершиться.
– Какой ты нежный… Как сладко пахнут твои волосы и ладони… Я еще никогда не любилась с таким ухоженным мальчиком. Я люблю тебя… Ты должен приходить ко мне! Обещаешь? Будешь приходить, правда?
Руки Сократа замерли на теле Амиклы; он с изумлением прислушался к речам Ионассы, увидел склонившееся к ней лицо Критона – такое знакомое, сейчас оно показалось Сократу совсем чужим…
И еще одно лицо увидел Сократ – то, что высунулось из-за занавеси, – лицо Синдара. Его потные волосы прилипли ко лбу. Сильнее набрякли синие мешочки под глазами. Синдар упивался зрелищем – но вот он дал знак Ионассе заканчивать.
– Я сразу влюбилась в тебя… С первого взгляда! – Ионасса поцеловала Критона. – А ты меня любишь?
– Люблю… Люблю…
– Зачем лжешь?! – вырвалось у Сократа. – Зачем употребляешь это слово всуе? Какая там любовь!
Ионасса надулась:
– Что себе позволяет твой раб? Ты любишь меня, а я тебя…
Сократ заметил – обнимая Критона за шею, Ионасса в то же время нащупывала ногой его кошелек. Между тем она продолжала:
– Никто еще не очаровывал меня так сразу, как ты…
– Лжешь, – бросил ей Сократ с той же злостью, что и Критону.
Ионасса хотела что-то возразить, но ее опередил Критон:
– Как ты смеешь оскорблять ее? Что пристал? Оставь нас в покое!
Сократ ушам своим не поверил. Не слова Критона – их враждебный тон изумил его. Задумчиво провел он ладонью по волосам Амиклы. Та шепнула:
– Ты прав – она лжет! Уже сколько лет она любовница Синдара… – И добавила с ненавистью: – Потому и позволено ей выбирать. Нам-то – нет…
Сократ глянул на уродливое лицо Синдара, наблюдавшего за действиями Ионассы с Критоном. И с таким чудовищем будет делиться мой Критон!
Амикла уже нетерпеливо сказала:
– Ты имеешь на меня право… Ну же!
Но Сократ, рассерженный, повернулся к Критону:
– Ты что, на голову свалился, что не распознаешь фальшь, с какой ластится к тебе эта девчонка? И не догадываешься почему?
– Не оскорбляй ее! Я запрещаю! – крикнул Критон, и лицо его перекосилось от злобы.
– Зря я тебя взял с собой, голубок. Попадаешься на сладкие словечки какой-то шлюхи… Вставай! Уходим отсюда. – И Сократ шагнул к нему.
Критон схватил со столика железный светильник, замахнулся:
– Не отстанешь?! Чего привязался? Смотри, брошу!
– Бросай!
Критон швырнул в него светильник, Сократ поймал его на лету. Фитиль погас, масло разлилось.
Ионасса легла на спину, притянула к себе Критона.
– Возьми и ты меня… – позвала Сократа Амикла.
Но в этот момент раздался крик. Чья-то смуглая рука оттолкнула Синдара, сорвала занавес, и появился загорелый, бородатый моряк. Это был Драбол, который возит товары из Пирея на Эгину, а в день Афродиты посещает Ионассу, щедро расплачиваясь. Быть может, он не знал, что Ионасса – любовница Синдара, а может, и знал, но ему это было безразлично – во всяком случае, Драбол был здесь постоянным и уважаемым посетителем.
Увидев свою Ионассу на ложе в объятиях красивого юноши, Драбол взревел, как тур, раненный стрелой в глаз.
Ионасса слишком поздно почуяла опасность, но делала, что могла, чтоб обелить себя. Повернулась на бок, притворяясь, что отбивается от Критона, закричала:
– Зря канючишь! Не хочу тебя! Пусти, говорю! Отпусти, а то укушу!
– Проклятая сука! – разразился бранью Драбол. – Сколько я тебе денег перетаскал! А она тут с каким-то молокососом возжается! Нынче – мой день! И мой час! Рожу тебе разобью!
Ионасса зашла еще дальше в своем притворном отвращении к Критону:
– На, смотри, хочу я тебя или нет! – И она плюнула ему в лицо.
Тот никогда не испытывал подобного унижения. Он побледнел – и в ту же секунду тяжелая рука Драбола опустилась на лицо Ионассы.
Критон уже поднимался с ложа, когда моряк схватил его жилистыми руками за шею и начал душить. Критон сипел, хрипел, брыкался, но тиски Драболовых лап не разжимались. Сократ кинулся на помощь другу, но тут, по знаку Синдара, явился чернокожий исполин, схватил Критона и Сократа, выволок обоих из дому, стукнул несколько раз головами и отшвырнул к противоположной стене, как паршивых котят.
Поднявшись с трудом, оба со всей возможной быстротой двинулись к Длинным стенам и стали подниматься к Афинам.
Критон остановился, упершись лбом в стену: его рвало. Сократ подумал: грязь снаружи, грязь внутри – вот и рвется вон. Я и сам блевал бы, будь у меня желудок послабее…
Двинулись дальше. Критон шел медленно, еле передвигая ноги. Сократ спросил:
– Тебе еще плохо?
– Плохо… А главное, я сам себе противен! Как я обращался с тобой! Плохо мне, тошнит от самого себя… Можешь ты простить меня, Сократ?
– Уже простил.
– Ты-то сразу распознал эту подлость…
– Потому что знал то, чего не знал ты. Эта твоя «любовь» каждую ночь валяется со своей любовью – Синдаром. – Сократ решил не щадить друга.
Критон закрыл руками лицо, не находя слов, чтобы выразить брезгливое отвращение.
– А заметил ты, сколько красок в этом вертепе? Все цвета радуги, и главное – все яркие, кричащие. Лишь одного цвета там нет – белого.
– Потому что там ему не место, – сказал Критон.
– Вот именно. Но ты, кажется, не расплатился?
Критон невольно взялся за пояс – кошелька не было.
– Расплатился, – буркнул он. – Все деньги украли. А было почти тридцать драхм! Но кто мог их взять? Эта девка? Или содержатель?
Сократ усмехнулся:
– Радуйся тому, что мы сегодня испытали!
– Чему тут радоваться? Я еще и сейчас чувствую на лице плевок этой девки, еще и сейчас будто тону в этой грязи…
– Нет, мы оба должны радоваться…
– Но чему, скажи?
– Мы узнали, какой страшной силой обладает в известные моменты страсть, инстинкт…
– Ужасная сила! Отвратительная – но непобедимая… Скажи, может ли что-либо побороть ее?
– Не знаю, Критон. Разум и воля слишком слабы перед ней. Может быть, чувство? Может быть, если включить любовь в гармонию красоты, чтоб она дарила блаженство… Не знаю. Слишком это сильно…
8
– Вот тебе сандалии. Нельзя же идти туда босиком, – сказала Фенарета.
Сын посмотрел на нее вопросительно, однако отговариваться не стал. В храм я хожу босой, подумал он, но туда и впрямь неприлично пойти так.
– Еще хитон сейчас принесу. Купила недавно, пускай будет новый, когда пойдешь записываться в эфебы.
Мать вышла, а сын, сидя на своей постели, принялся рассматривать сандалии. Крест-накрест – кожаные полоски. Похожи на коричневых змеек.
Обулся, застегнул пряжки. Брр! Ступню сжимает, давит на подъем – нога не свободна… Встал, притопнул.
Мать вошла, неся белый хитон.
– Тебе к лицу, мальчик! – обняла его. – Да хранит тебя Афина – и успеха тебе. Шагни через порог правой ногой. Ты рад?
– Еще как, матушка! Не каждого приглашают к Периклу…
Не пышным – простым был дом Перикла. Далеко ему было до вилл иных аристократов, зато в нем богатство мыслей – вклад самого хозяина – и тонкий вкус, который внесла в этот дом вторая Периклова супруга, Аспасия. Частыми гостями были в этом доме выдающиеся мужи, философы, ученые, строители, художники, которых Перикл привлекал в Афины со всех концов Афинского союза городов.
Одно из просторных помещений служило рабочим покоем – именно там рождался новый облик Афин. Несколько столов, составленных в ряд, покрывали чертежи. Большой план города, которому собиравшиеся здесь люди назначили расти и расцветать невиданной еще в мире красотой, – этот общий план составлял центр всего. Вокруг были разложены детальные чертежи зданий, уже перестроенных или только перестраиваемых, чертежи и макеты новых зданий, эскизы их внешней и внутренней отделки.
Эти еще воображаемые строения заполнили комнату. Когда же вся эта красота заполнит город? Даже те, кто изо дня в день склоняются над планами, еще не знают ответа; знают только – красота рождается не сразу. Приносят наброски – тут изменить, там добавить что-то новое, – и всякий раз Перикл требует, чтоб это новое было еще богаче и великолепнее.
Великий скульптор Фидий, в чьи руки Перикл собирается отдать руководство всем преобразованием Афин – человек, заросший бородой, с глазами как горячие угольки, – водит указкой по плану города, задерживается там, где ведется строительство, и объясняет Периклу, как продвигается восстановление храмов и городских стен, некогда разрушенных персами.
Закатное солнце пробилось сквозь занавеси, упало на лицо Фидия, которое вдруг выразило непривычное напряжение. Аспасия, сидевшая в резном кресле, наклонилась к Софоклу:
– Посмотри на его лицо!
– Да. Оно не такое, как всегда. Оно взволнованно, и указка беспокойно скользит по планам. Словно у Фидия лихорадка, – шепотом ответил Софокл. – Но гореть – прекраснее, чем охладевать!
Фидий закончил свой отчет. Теперь он взял свитки папируса и развернул их на свободном столе – Парфенон! План сверху, общий вид, эскизы отделки, предложенные самим Фидием. Лес дорических колонн обступил гигантский храм Афины Девственницы. Он высился на темени Акрополя, подобный царскому венцу. Более сорока колонн устремились в вышину, еще увеличенную для человеческого взора благодаря наклону колонн внутрь. Цветная роспись изображала шествие в праздник Панафиней – это шествие будет высечено на фризе. Оба фронтона предложены тоже в красках: синей, красной, желтой.
Воцарилась тишина. Никто не осмеливался заговорить прежде Перикла.
Тот хранил серьезный вид. Полные губы его большого рта были сжаты. У Перикла – узкое лицо, череп вытянут ввысь. За глаза его называли «лукоголовым», в глаза – «олимпийцем». Молча, внимательно изучал Перикл проект Фидия.
Аспасия тихо сказала Софоклу:
– Какой храм! Помню, ты читал нам недавно отрывок из твоей неоконченной трагедии: «Много в природе дивных сил, но сильней человека – нет!»
Перикл озабоченно поморщился.
– Вижу на твоем лице восторг – но и опасение, – сказала ему Аспасия.
– Умница моя, – пробормотал Перикл, не отрывая взгляда от проекта.
– Поразительно! – выдохнул Софокл.
– Это твой замысел, – обращаясь к Периклу, скромно молвил Фидий. – Мы с архитекторами Калликратом и Иктином помнили все твои пожелания и требования.
– Но все это гораздо великолепнее, чем я себе представлял!
– К залу с шатровой крышей – одеону – у народа Афин прибавится еще одна драгоценность, – сказал Анаксагор.
Перикл по своему обыкновению улыбнулся уголками губ:
– А как же иначе, дорогие. Фукидид поставил себе целью объединить афинских аристократов, чтобы с ними пойти против народа; я же научился мыслить мыслями народа, видеть десятками тысяч его глаз и, решив жить для народа, – строить для него.
– Замысел Парфенона – твой, – повторил Фидий, встревоженный и огорченный тем, что о самом храме Афины Перикл все еще ничего не сказал.
Аспасия кивнула:
– Да, Перикл умеет из-под земли добывать сокровища для города, но сила этой красоты, Фидий, – она от тебя.
– Это какая-то оргия красоты, – восхищенно заметил Анаксагор, а Софокл добавил:
– Такая красота пробуждает в человеке стремление приблизиться к ней.
Однако лицо Перикла не прояснилось. Его большие пытливые глаза все время блуждали по плану, по эскизам архитравов и фриза, на красном фоне которого выделялись синие фигуры. Наконец он заговорил:
– Оргия красоты, говорите вы. Да: видение, возносящееся перед взором человека, заставляя его делаться лучше. Но это устрашающая красота, она и возмущает!
Фидий беспомощно опустил руки. Он понял. Он-то знал, во что обойдется Парфенон. Знал – если Афины увенчают свою главу этим венцом, возникнет новый повод для ненависти и зависти всех полисов – членов Афинского морского союза. Уже и теперь они поносят Афины как беспутную расточительницу, которая увешивает себя драгоценностями за их счет; ведь вовсе не из страха перед персами перевел Перикл казну союза с острова Делос в Афины, а для того, чтобы иметь ее под рукой.
Перикл поднял голову и сказал твердым тоном, каким он обращался к многотысячной афинской экклесии:
– Знаю, о чем вы думаете и что боитесь высказать передо мной. Скажу сам: я беззастенчиво черпаю из союзной кассы, укрытой на Акрополе. Да, я поступаю так – но разве я вор? Или трачу на себя?
Бесшумно вошел раб, доложил Периклу, что пришел Сократ, приглашенный на этот день и час.
– Пускай придет в другой раз. Я потом передам когда, – сказал Перикл.
Анаксагор жестом руки остановил раба и обратился к хозяину дома:
– Когда же попадет к тебе бедный юноша, если ты все дни проводишь над планами? Он и так ждет уже несколько месяцев…
– Кто этот Сократ? – спросила Аспасия. – Кажется, я слышала это имя.
– Сократ – молодой одаренный скульптор, – ответил Фидий. – Я видел у Критона его Силена. Превосходная работа.
– Скульптор – и мой ученик, – дополнил Анаксагор.
– Отлично, – сказал Перикл со свойственной ему легкой полуулыбкой. – Стало быть, у Сократа и у меня один и тот же учитель. Ну, дорогой Анаксагор, если ты сделаешь из него такого же безумца, как я…
И он распорядился провести Сократа в перистиль:
– Пускай там подождет. Я приглашаю его отужинать с нами.
Едва раб вышел, Аспасия озабоченно спросила, что так тревожит Перикла. Он мгновенно вскипел:
– Как будто вы не знаете! Против меня вытащат самое худшее!
Они понимали, что означают эти слова. Перикл был суеверен. Он не мог преодолеть в себе ужаса перед сверхъестественными силами, перед мстительностью богов. Сколько раз видел он их месть осуществленной!
Анаксагор употребил невероятные усилия, стремясь переубедить Перикла, избавить его от суеверия, как врач избавляет больного от недуга. Но перед глазами Перикла все стояла кровь, кощунственно пролитая некогда одним из рода Алкмеонидов – его рода.
Во времена, когда Килон со своими приверженцами пытался захватить власть в государстве, архонтом был Мегакл, потомок Алкмеона. Мятежники были окружены на Акрополе, но нашли убежище у алтаря Афины, что по древним законам обеспечивало им безопасность.
Мегакл обещал мятежникам милость, если они покинут святыню. Но едва они оттуда вышли, Мегакл, нарушив священный обет, велел их перебить. За такое вероломство весь род его был проклят навек.
В течение двух столетий всякое несчастье, постигавшее членов этого рода, почиталось местью богов; проклятие это было весьма удобным оружием для врагов Алкмеонидов – они могли прибегнуть к нему в любой момент.
– Я тоже проклят, – глухо проговорил Перикл. – Я тоже поплачусь за то кровавое злодеяние…
– С болью слушаю тебя, мой Перикл. В новой трагедии об Эдипе, которую я сейчас пишу, я хочу рядом с туманным роком поднять на щит поступки человека, на которые он решается самостоятельно…
– Хвалю тебя за это, Софокл. Пришла уже пора, чтобы в противовес устаревшим суевериям обрели должный вес разум и действия людей, – промолвил Анаксагор, подумав при этом, что, быть может, именно Перикл вдохновил Софокла поднять волю и разум человека выше легенд и мифов.
Тем временем Сократ сидел в перистиле; перед ним поставили вазу с фруктами, у ног его лепетал небольшой водомет, из соседнего покоя долетали до него голоса. Сократ слушал, что говорит его учитель.
Анаксагор же продолжал:
– Вспомним, что говорит Прометей у Эсхила: «Мне ненавистны поистине боги…» Я тоже ненавижу их, друзья мои. Они везде, во всем, всюду суют свой нос, карают людей, сами будучи распущеннее их, они отравляют воздух ядом угроз и ужасов – и при всем том их даже просто нет!
Перикл догадался, что друзья стремятся освободить его от злого гнета, но все-таки настаивал на том, что есть некая таинственная власть судьбы.
– А я убежден, что ты, мой Перикл, будешь первым, кто одолеет власть судьбы – если допустить, что таковая существует, – снова заговорил Анаксагор.
– Но как и чем, Анаксагор? – вмешалась Аспасия.
– Ты, Перикл, делаешь Афины таким могущественным и прекрасным городом, что должен снискать приязнь всех сил земли и неба. Этим, – философ показал на план Парфенона, – ты не только искупишь какое угодно проклятие, но приобретешь благосклонность всех таинственных сил…
– Да, да! – Глаза Аспасии загорелись любовью к Периклу. – Будет так, как говорит наш философ!
Указка Фидия нацелилась острием на план Парфенона, коснувшись святыни Афины.
– Приснился мне однажды сон, дорогой Перикл. Ты бы назвал его искушением, но был он до того прекрасен, что я проснулся в несказанном восторге. И сон этот повторялся каждую ночь, пока я не начал рисовать и лепить то, что посетило меня в сновидении.
Перикл заметил, на каком месте остановилась указка Фидия.
– Тебе явилась во сне Афина Паллада?
– Да, – с таинственным видом кивнул скульптор. – Она сверкала, и сверкание это проникло мне в мозг, в сердце, в руки, осияло всего меня…
То, что Афина явилась во сне Фидию, сильно подействовало на Перикла.
– Расскажи подробнее, как выглядела богиня.
Фидий – словно он и сейчас видит этот сон – с благоговением принялся описывать:
– Афина вся была из слоновой кости, в одеянии чистого золота, ее глаза блистали драгоценными камнями. Левой рукой она опиралась на золотой щит, в правой держала маленькую богиню Нику – Победу.
– Победу?! – выдохнул Перикл.
– Да. Победу Афин – и твою, Перикл.
Тут Перикл опомнился:
– Остановись, Фидий! Ты обманываешь меня. Ты не богиню описываешь, но статую, над которой уже начал работать!
Упрек порадовал Фидия.
– Да, и с трепетом жду, что ты скажешь о моем замысле.
Перикл умерил свое раздражение: здесь был Анаксагор, который всегда предостерегал его от порывов гнева. И все же внутренняя дрожь охватила Перикла при словах скульптора.
– Что ты говоришь? Статуя из хрисоэлефантины? Слоновая кость, золото, драгоценные камни… И ее ты собираешься поставить в этом храме?!
– Полагаю, такой красоте там и место, – ответил Фидий.
– Мало тебе, Фидий, – гнев Перикла неудержимо возрастал, – мало тебе, что красота, о которой мы толкуем, возмущает и наших союзников, и Фукидида со всеми его сторонниками? Не знаешь разве, что такое – борьба за власть? Что такое заговоры против демократического правления?
Словно не слыхав этих слов, Фидий мечтательно проговорил:
– Лицо богини было похоже на твое, дорогая Аспасия. У нее было твое выражение, твой мудрый лоб, твои сияющие глаза…
– Ну нет, Фидий! – загремел Перикл. – Так нельзя! Аспасия мудра и прекрасна, но злоупотреблять этим не годится…
– Ты прав, мой дорогой, – подхватила Аспасия. – Не допускай этого! Мне и так уже не раз казалось, что у некоторых богов и героев, вышедших из-под резца Фидия, твои и мои черты…
– Удивительно ли это, если я почти каждый день у вас, если обоих вас чту и люблю? – возразил Фидий, защищая будущее свое произведение.
Перикл спросил, велика ли будет фигура Ники, которую Афина должна держать на ладони.
– Выше человеческого роста, семь-восемь стоп…
– Но тогда твоя Афина должна быть исполинской! – вскричал Перикл.
– В шесть раз больше, – спокойно ответил Фидий. – Меньшая потерялась бы в пространстве Парфенона.
– Ты страшный человек, Фидий. Ты хочешь погубить меня. Но на сей раз я не дам согласия! Подумать только – одеяние до пят, которого хватило бы на шесть скульптур, и все из чистого золота! Какая расточительность! Нет, нет, Фидий. Такой ошибки я не совершу!
Сократ ждал. С восхищением разглядывал статуи – бронза, мрамор, алебастр, – расставленные в перистиле под открытым небом и под навесом портика. Среди кустов рододендрона, осыпанных бледно-фиолетовыми и розово-алыми цветами, разгуливали белые павлины с хвостами, подобными веерам, на каждом пере – блестящий зеленоватый глазок, на маленьких головах коронки. Сократ следил взглядом за благородными коронованными птицами. Временами они издавали неприятные крики, которые мешали юноше слушать взволнованные голоса в том покое, где решался вопрос о будущей короне Афин.
Различая голос Анаксагора, Сократ радовался: присутствие учителя ослабляло чувство стесненности, охватившее юношу. По сравнению со спокойным тоном Анаксагора остальные три голоса звучали куда возбужденнее.
Знаком был Сократу и голос Фидия. Он слышал его приказы и пояснения, когда работал с отцом на Акрополе. Голос Фидия звучал четко и явственно даже среди перестука молотков, скрипа колес и воротов, среди ругани и перебранки на всевозможных языках… В этом голосе – почти всегда повелительность и увлеченность. Голос Фидия колеблется между этими двумя тональностями, меняется только его сила.
Софокла Сократ слышал впервые. По голосу не узнать, что этот человек потрясает толпы людей в театре; но даже и в обычном разговоре у Софокла то и дело слышался стихотворный размер.
Разобрав, о чем говорил Перикл, Сократ затрепетал. Он понял, какой силой обладает этот с трудом сдерживаемый голос прирожденного оратора, покорявший всех, кто его слушает. Алкмеонид… Род, чьи корни уходят в глубокую древность. Слава и проклятие сопровождают его до сей поры. В голосе Перикла Сократ уловил восхищение Парфеноном и Афиной Фидия, – восхищение, которое тем ярче подчеркивает крайний ужас: ведь словами своими Перикл предает себя в руки врагов…
И у Сократа сжалось сердце, когда он услышал это резкое, выкрикнутое с болью: «Нет, нет, Фидий. Такой ошибки я не совершу!»
А среди этих мужских голосов, не забывающих, что сейчас они обращаются отнюдь не к тысячным толпам народного собрания, звучит мягкий и теплый голос Аспасии. Да ведь это кощунство – так подслушивать, но могу ли я не слушать? Быть может, после не решусь взглянуть им в глаза…
И, не отдавая себе в том отчета, Сократ напрягает слух. Говорит Перикл. Говорит вполголоса. Сократ не разбирает слов, не может разобрать, но вот голос Перикла повышается, окрашиваясь глубоким внутренним волнением:
– Я что – краду? Как могут столь превратно истолковывать?.. Зову в свидетели все Афины! До конца жизни не возьму из союзной кассы ни единой драхмы для себя! Притесняю собственную семью, вызывая ее ропот. Мой домоправитель Эвангел отмеряет им все до обола… Почему? – удивляетесь вы порой. Я вам скажу почему. Я стал на сторону народа, я предпочел бедное большинство богатому меньшинству. Неужели же я сделал это, чтоб обогащаться за счет бедноты? Чтоб извлечь корысть из убеждения, что народ и есть та сила, которая может принести Афинам величайшее могущество и славу? Чего бы я после этого стоил? Такой мелкой, такой жалкой цели не может ставить перед собой Перикл! И тот, кто утверждает это, – лжец. Законы Дракона установили смертную казнь за украденное яблоко! Какого же наказания заслуживал бы тогда я?
Слышит Сократ страстный порыв Перикловой души и впервые убеждается в правоте того, что говорят о Перикле: будто на языке его – грозные молнии.
– Смертью не искупил бы, столь велико было бы такое преступление перед афинским народом, что и не придумать закона, который достойно покарал бы за это! Народ? Что он такое – бездушная масса, без глаз, без сердца? Нет, о нет! Это глаза, слившиеся в одно исполинское око, тысячи сердец в театре Диониса, сплавленных в одно великое сердце. Спесивый богач зовет на пир нескольких друзей, кормит, пока те едва не лопнут, вином поит, под конец предлагает развлечение: фокусник, флейтист, в придачу обнаженная танцовщица, – и гости на седьмом небе. Но для исполинского ока народа, для его великого сердца такого зрелища мало! Народу нужны театры, где могут поместиться тысячи, его требования тысячекратно превышают запросы пирующих. Народу мало одного актера на сцене, одного певца – он желает, чтоб были целые хоры, хоровая декламация, пение, танцы, диалоги, единоборство больших идей… – Перикл посмотрел на Софокла. – Да, милый Софокл, ты это хорошо знаешь. Недостаточно просто пощекотать чувства народа. Он хочет участвовать в борьбе свободной воли человека против слепой судьбы, он желает, чтоб его захватил вихрь страстей и красоты. Вот что нужно огромному оку и великому сердцу народа! Кровь, слезы, смерть, кара, искупление – и равные всему этому смех и радость. Жить жизнью героев! Страдать с ними, с ними побеждать. Рыдать в экстатическом упоении державной красотой, головокружительной глубиной мысли… Никакой одиночка в мире – только народовластие может удовлетворить самого требовательного зрителя – народ, его исполинское око и великое сердце…
Тихо слушают друзья Перикла. Фидий напряжен до предела. Догадывается – Перикл, говоря о театре, имеет в виду и Парфенон, и его Афину. Но Анаксагор заразил его неверием в богов… Неужто отвергнет мои планы?!
Пристально вслушивается Сократ, даже рот приоткрыл: что же даст Перикл огромному оку, великому сердцу народа?
Взгляд Перикла еще не отпускал Софокла:
– Театр для тысяч зрителей поднимает дух, гонит прочь тоску тысяч, театр силой духа и слов повышает духовный уровень тысяч. Не то у варваров: властитель – бог, и далеко внизу под ним – получеловек, полуживотное. Почему мои недруги обвиняют меня в славолюбии? Почему? Да ведь дело вовсе не во мне! Народу не желают они давать то, что дает ему моими руками народовластие, а народовластию они не желают дать то, что дает ему народ! Вот в чем причина. И в этом я твердо уверен.
Перикл перевел взгляд на Анаксагора.
– Мне стыдно за минуту слабости. Она виной тому, что в памяти моей всплыли злой рок и давнее проклятие. – Теперь он посмотрел на бледного, трепещущего Фидия. – Величие и красота Парфенона покорили меня, покорила твоя Афина, Фидий! Ныне Афины принадлежат всему народу, а потому будет принадлежать ему их царственный венец – Парфенон и великолепие богини Афины. Ты великий художник, Фидий, великий скульптор, архитектор, ты повелитель материи и пространства. Я дам столько мин, сколько тебе понадобится. Дам эти мины и таланты – и знаю наперед: экклесия одобрит все расходы с энтузиазмом. Экклесия сердцем почувствует, что красота возвышает человека; чтоб ослепить его, она должна быть ослепительной, целый мир красоты должен окружать человека…
Затаив дыхание слушал Сократ эту исповедь Перикла. Целый мир красоты должен окружать человека, чтобы возвысить его…
– Все, чем мы хотим возвеличить наш город, должно быть исполнено единого духа. Я долго думал – и не нахожу лучшего исполнителя для этого, чем ты, Фидий.
– Я боялся, что ты назовешь мое имя, дорогой Перикл, и в то же время желал этого.
Перикл подошел к Фидию и крепко обнял его.
– Возрадуемся! – сказал Софокл. – Нынешний день прекрасен.
– А что же ты молчишь, Анаксагор? – спросила Аспасия.
– Я ожидал, прекрасная, твоего вопроса: почему не возразишь ты против храма и статуи, – ты, который учишь нас, что богов нет?
– Ты с нами не согласен?
– Согласен полностью. Я против того, чтобы человек позволял угнетать себя верой в богов, которых выдумал сам. Но могу ли я быть против того, чтобы старые эти басни стали поводом для создания произведений искусства? Да еще столь блистательных, какими будут Парфенон и Фидиева Афина? Ведь эти старые боги с маской вечной юности взросли на земле Эллады, как смоквы или оливы. И если Фидии населят наш мир мраморными божествами, я и сам уверую в их могущество – через красоту…
– Отлично, дорогой Анаксагор, – подхватил Софокл. – Наша жизнь вся пронизана мифами, в них – древние корни фантазии наших Гомеров и Гесиодов, и мы, создатели трагедий, черпаем из того же источника.
Каждое слово было теперь слышно Сократу, и он вспомнил слова Анаксагора о том, что художник, даже зная, что солнце всего лишь раскаленный камень, вправе представлять его себе в облике Гелиоса, катящего на золотой колеснице по голубому ипподрому небес. Да, боги – творения человека, и фантазия художника преобразует их в творения искусства…
По мере того как раб зажигал масляные лампы в канделябрах, выступало из темноты помещение для ужина. Сократ не решался поднять глаза на тех, кого он невольно, не видимый ими, подслушивал. Труднее всего было смотреть ему на Перикла, чьи исповедь и признание он только что выслушал. И он искал прибежища для своего взгляда у Анаксагора. Старался разогнать свою стесненность.
Анаксагор улыбнулся:
– Мы с Сократом старые друзья. Ходим по утрам гулять вдоль берега Илисса, пасем там его Перкона. А так как при этом мы еще философствуем, то порой забываем про осла и уходим домой без него, правда?
Аспасия и Софокл рассмеялись. Сократ покраснел.
– А потом он, – Анаксагор кивнул на Сократа, – во все лопатки мчится за ослом, и мне приходится продолжать путь в одиночестве…
Аспасия, еще смеясь, проговорила:
– По крайней мере, Сократ, ты иногда веселишь немножко нашего не в меру серьезного мудреца. А бывать с ним для тебя, несомненно, наслаждение…
– Если ты любишь наслаждения, – дополнил Софокл.
– Люблю, – смело отозвался Сократ. – И сегодняшний вечер для меня – величайшее наслаждение из всех, какие я когда-либо испытывал…
– Не преувеличиваешь ли ты, юноша? – усмехнулась Аспасия.
Анаксагор сказал:
– Сократ преувеличивает всегда и во всем. Мне приходится без конца напоминать ему о необходимости быть умеренным – но сегодня, я убежден, он не преувеличивает.
Сократ впервые видел Аспасию. Видел ее глубокие азиатские глаза, в которых светился желтый, как львиная шкура, свет. Он не осмеливался надолго погружать в них свой пытливый взор.
Раскрылись накрашенные кармином, совершенной формы губы, блеснули алебастровые зубы:
– Преувеличивать свойственно юности… и искусству. Следует быть умеренным и в требовании умеренности.
Она обращалась к Анаксагору, а затем снова повернула голову к Сократу. При этом движении золотая диадема сверкнула крошечными рубинами, колыхнулись мягкие складки шафранного пеплоса и накидки, застегнутой на плече золотой пряжкой. Тонкая ткань обрисовала совершенные формы ее тела. Прекрасная, приветливая, мудрая. Удивительно ли, что в свое время она ослепила персидского царя? Удивительно ли, что ослепила и Перикла?
Что-то стукнуло, зазвенели осколки. Аспасия подняла глаза на прислуживавшую рабыню. Та убежала, и в ту же минуту появился домоправитель Эвангел и доложил госпоже, что рабыня Файя уронила вазу, на которой изображена богиня радуги Ирида.
– Моя самая красивая ваза… – огорчилась Аспасия.
– А, это та, с превосходной Иридой, – вздохнул Фидий. – Большая потеря!
– Это преступная неосторожность. Файя заслуживает сурового наказания, – заявил Эвангел.
Сократ наблюдал за Аспасией. Ее лицо прояснилось.
– Файя любит причесывать меня. – Аспасия взглянула на домоправителя. – Целый месяц она не будет меня причесывать.
Эвангел вышел.
– И это достаточное наказание? – спросил Фидий.
За стеной послышался женский плач.
– Это очень жестокое наказание, – возразил Софокл. – Если бы Аспасия запретила мне приходить к ней на ужин, я был бы в таком же отчаянии, как и эта девушка.
Сократ смотрел на Аспасию как зачарованный. Она ему улыбнулась и обратилась к Фидию:
– Ты хвалишь Сократова Силена, Фидий. Скажи нам, какую работу хочешь поручить Сократу?
Фидий задумался. Мысленно он уже распределил работы над Парфеноном. Пока что он поставит Сократа в ученики к опытному скульптору, сам проследит, как себя покажет юноша, а потом? Доверить ему, если он оправдает надежды, самостоятельное дело? После возведения Парфенона Перикл думает начать строительство новых Пропилеев… Фидий повернулся к Сократу.
– Сперва будешь исполнять мелкие вспомогательные работы. Позже, если принесешь мне удачные эскизы, доверю тебе большое произведение.
– Правильно, Фидий, – заметил Перикл. – Молодым людям надо давать большое дело, пускай проверят свои способности и силы. А ты, Сократ, не испугаешься?
Тот скромно ответил:
– Резец я держу в руках с шестилетнего возраста. Я бы желал получить большую работу.
– Хорошо, – сказал Фидий. – Для фриза над новыми Пропилеями ты изваяешь трех Эринний: Аллекто, Тисифону и Мегеру.
Глаза Аспасии выразили испуг.
– Эриннии?! – воскликнул Сократ. – Этого, прости… это я не могу. Хотел бы, очень хотел, но – не могу…
– Сократ! – возмущенно перебил его Анаксагор. – Ты осмеливаешься отказать Фидию?!
Сократ упорствовал.
– Эриннии, три старухи в развевающихся лохмотьях… Крылья и когти как у коршунов… Вместо волос – клубок змей, глаза, налитые кровью… Нет, этого я не могу. Прости меня, великий Фидий, не могу.
Фидий был задет; он вскипел:
– Неслыханно! Я выбрал для тебя работу, на которой ты можешь дать волю фантазии, показать свой ум… Тебе просто не хватает смелости. Ты не художник!
Перикл отодвинул блюдо с ореховым печеньем в вине.
– Остановись, Фидий, – сказал он. – А мне Сократ теперь-то и понравился. На его месте всякий, хотя бы и опытный, художник поклонился бы тебе до земли за такое предложение. Хмурься, Фидий! Но я не верю, чтоб тот, у кого хватило мужества в глаза тебе отказаться от твоего предложения, был лишен смелости художника.
Фидий не отступал:
– Этот безбородый юнец идет наперекор не только мне, но и тебе, дорогой Перикл. Ты ведь сам желал поместить над Пропилеями трех Эринний, чтоб они предостерегали от кровавых преступлений всякого, проходящего под ними!
– Да, – вымолвил Перикл – он думал о роке Алкмеонидов, который не переставал ужасать его. – Да, я хочу, чтобы никто не нарушал клятв, никто не осквернял бы древних обычаев… – Он взглянул на Сократа. – Почему же, Сократ, не хочешь ты ваять Эринний?
В поисках поддержки Сократ устремил взгляд на Анаксагора.
– Эриннии преследуют не только тех, кто повинен в кровавых злодеяниях и нарушении прав. Они карают и невинных – за то лишь, что в жилах этих несчастных течет якобы проклятая кровь. А что такое проклятая кровь? Ты, дорогой Анаксагор, учил меня иному. От тебя я знаю, что человек сам готовит себе добрую или злую судьбу и не должен платить за преступление, совершенное его предком. Выше суеверий поднял ты разум человека.
Аспасия просияла:
– Ты хороший ученик своего учителя, юный друг! Что скажешь теперь, дорогой Фидий?
– То было желание Перикла, пускай он и говорит, – устранился Фидий от дальнейшего спора.
Перикл замкнулся в задумчивом молчании.
Рабыня убрала со стола остатки жареного барашка, дроздов, начиненных печенью, медовых печений. Поднесла каждому медный тазик – сполоснуть руки.
Другая рабыня поставила перед каждым столик с грушами, синим крупным виноградом, третья принесла свежих роз в вазы. Чудесный аромат разлился по покою.
Сократ, стараясь загладить неблагоприятное впечатление, которое он произвел, еще ухудшил его. Мнение юноши всякий раз шло вразрез с мнением Перикла.
– Не люблю Эринний. Мне отвратительна их несправедливая непримиримость. И чтоб такие увенчивали вход к величайшей гордости и красоте Афин?!
Аспасия видела – у всех на лицах собрались тучи. Она вертела в руках розовый бутон, нюхала его, улыбалась Сократу.
– А что бы ты предложил на фриз Пропилеев, милый Сократ?
Тот ответил ее улыбке и сказал, не раздумывая:
– Трех Харит.
Это поразило всех.
– Ах, да! Доброжелательные Хариты, а не мстительные чудища! Это было бы прекрасно! – воскликнула Аспасия. – Входящих приветствовали бы богини прелести и счастья – Эвфросина, цветущая Талия, лучезарная Аглая… Перикл, любимый мой, ты переменишь свое желание?
Перикл молчал, задумавшись.
– Можно мне добавить? – тихо спросил Сократ.
– Тебе мало сказанного?! – рассердился Анаксагор.
– Нет, милый Анаксагор, – очнулся от задумчивости Перикл. – Позволим Сократу сказать все. Я ценю его прямоту.
И Сократ отважился на последний выпад против Эринний, против Фидия и Перикла:
– Сияет на небе солнце, и навстречу солнцу воссияет золотая и мраморная красота Акрополя. Это земное сияние под небесным гармонирует со светом жизни. Я предлагаю для Афин не кровавое прошлое, но светлое и радостное будущее: пускай над Пропилеями танцуют три Хариты, держась за руки в знак того, что добро, лучезарная красота и расцвет города соединены неразлучно!
Перикл взял руку Аспасии, притянул к себе, понюхал розовый бутон. Вздохнул глубоко и поцеловал обнаженное плечо Аспасии.
– Милый Фидий, ты доверишь Сократу трех Харит? – спросил он.
– Если ты согласен – охотно.
На прощание Аспасия сказала Сократу:
– Я рада тому, что теперь ты будешь частым гостем у нас, юный друг.
– Мне скоро восемнадцать. Меня ждет военная служба, – возразил Сократ.
– Жаль, – ответила Аспасия. – Значит, через два года.
– Да, – подхватил Перикл, – через два года твой первый путь да будет сюда, к нам.
– А эскизы Харит можешь готовить уже сейчас в свободное время, – прощаясь, сказал Фидий.
Он основательно хлопнул юношу по плечу, как то делывал Софрониск, и добавил с грубоватым дружелюбием:
– Дерзок ты, молокосос, но в башке у тебя кое-что есть…
Привратник подал Сократу зажженный факел:
– Хайре!
Сократ бодро вышел на улицу, но тотчас остановился. Что это? Кружится голова? Отчего? От вина? Глупости… От Харит! От моих Харит!
Он скинул сандалии, привязал их к поясу и бегом помчался домой. Кружится – и пускай! Кружись, кружись, головушка, есть из-за чего!
Пламя факела, отбрасываемое на бегу назад, делалось плоским. Сократу казалось – кружится вся улица. Это понравилось. Отлично! Все кружится вокруг Перикла… Вокруг моих Харит… Веками будут танцевать над Пропилеями три красавицы, веками будут смотреть на них люди и говорить: это Сократ!
Но отец? Что скажет отец? Ах ты олух, скажет, хорошую ты отмочил штуку! Танцующие фигуры! Да кто же будет для тебя плясать-то?
Сократ представил себе отца, идущего рядом.
– Это не сложно, батюшка! Посмотри – я сам покажу этот танец!
Он воткнул факел в землю и начал плясать, подпевая себе. И показалось ему, будто он ясно слышит голос отца: «Перестань, дуралей! Такой увалень – и Харита! Все равно что козел и стрекоза!»
– А я Коринну позову! – воскликнул Сократ. – Сниму с нее пеплос, она с удовольствием постоит для меня и потанцует…
«Ах ты паршивец, – рассердился воображаемый Софрониск, – да ведь ты выдумал этих Харит вовсе не ради украшения Афин, а ради дочки башмачника, чтоб всегда была под рукой и ты мог бы раздевать ее…»
– Клянусь Герой, нет! Я думал о городе, и только твои замечания навели меня на мысль о Коринне – в танце она будет великолепна…
И, подпевая себе своим звучным голосом, Сократ, словно дикарь, стал отплясывать вокруг факела танец Эвфросины.
Из-за угла вышли два скифа – блюстители покоя и порядка в Афинах.
– Что тут происходит?! – загремел один из них.
– Я – Эвфросина, богиня хорошего настроения… И вот – танцую…
Другой стражник узнал его при свете факела:
– Вот так так! Да это Сократ… Откуда ты взялся?
– Иду домой. Был у Перикла на ужине.
– Да, вино не только чувствуется – его даже видно! – засмеялся скиф.
Сократ выдернул факел из земли, сунул ему в руки:
– Дарую вам свет, о мужи! Отсюда я уже и впотьмах доберусь.
И помчался словно наперегонки – возвестить родителям великую новость; однако насчет будущего участия Коринны в этом чудесном деле он решил пока умолчать.
Вскоре он вбежал к себе во дворик, и встретили его запахи родного дома – запахи лаванды, шалфея и козьего молока.
9
Сократ, босой, шагает рядом с двуколкой, которую тащит Перкон по ухабистой, каменистой дороге. В двуколке сидит Коринна в белом пеплосе, перехваченном в поясе. За повозкой идут товарищи Сократа, освободившиеся на сегодня от всех прочих дел. Они вышли ранним утром и двинулись вверх по течению Илисса, к Агре. Дорога все время поднимается – Гиметт выслал свои довольно высокие отроги до этих мест. Утро стоит янтарное. В воздухе носятся рои пчел, пахнет медом, которым славится этот пчелиный рай даже за пределами Эллады.
Гуди – маленькое селение на западном склоне Гиметта, неподалеку от Афин; там предки оставили Софрониску в наследство клочок земли с виноградником – пять сотен кустов, сорок олив и несколько фиговых деревьев.
Цель похода – сбор оливок. Помощники получат свою долю. А в том, что соленые оливки – отменное лакомство, никого не нужно убеждать.
Сократ шагает бодро, копыта ослика постукивают в веселом ритме, двуколка тарахтит по камням, а чтоб шуму стало еще больше, Сократ во все горло запел импровизированную песенку, восхваляя прелесть деревеньки Гуди:
Тебя, о Гуди, славное местечко, Со сказочной Аркадией сравню! О Гуди, ты лежишь в нежнейшем Объятии лугов, во влажно-хладной тени Оливовых дерев! Давно я не пил чистых твоих вод, Черпнув из родника Обеими ладонями – той чашей, Которую всегда ношу с собой…Симон. Критон, Пистий и Киреб шагают в такт Сократова пэана.
Калиткой сквозь медовый аромат вошли в сад Софрониска на окраине Гуди.
В верхней части сада расположилось хозяйство соседа, сын которого Главк – сверстник Сократа. Сразу за калиткой был сарай, там друзья взяли по шесту для сбивания оливок и по корзине. Теперь они стали похожи на отряд гоплитов с копьями и щитами. А Главк бежит навстречу с радостным криком:
– Сократ, наконец-то!
Он падает в его объятия, оба валятся наземь, борются, тузят друг друга, в свалку встревает овчарный пес, тоже старый знакомый, мягкими губами покусывает Сократа и Главка.
Когда они, смеясь и задыхаясь, поднялись с земли, Сократ представил свой отряд:
– Мой милый Главк, ты сейчас узнаешь героев Троянской войны, которая готовится здесь. Что этот, – он показал на Критона, – сам Агамемнон, царь Микен и верховный вождь ахейских войск в походе на Трою, тебе, конечно, известно. Но этот вот, – жест в сторону Пистия, – его брат, спартанский царь Менелай, он оттого так худ, что в Спарте на завтрак, обед и ужин едят одну черную похлебку с уксусом. Негодный Парис, сын троянского царя Приама, похитил его жену, прекрасную Елену. В том, что упомянутая Елена не очень-то противилась похищению, виновата, пожалуй, эта самая черная похлебка с уксусом, после которой рот отнюдь не благоухает, а Елена была особа тонкого воспитания. Слушай дальше, милый Главк: вот этот человек (пекарь Киреб) – замечательный герой Ахилл, прославившийся не только своей знаменитой пяткой, но и неслыханной храбростью и кровожадностью. Здесь, – он подтолкнул вперед Симона, – ты видишь друга Ахилла, Патрокла, убитого жестоко и жестоко отомщенного. А эта красавица – нет, это не Елена, из-за которой вспыхнула и угасла братоубийственная Троянская война. Посмотри, Главк, как хороша она, с какого бока ни взгляни! То сама Афродита, которая, получив яблоко от Париса, раздула весь этот пожар и теперь спешит с нами вместе погасить его. А вот, – Сократ ударил себя в грудь, – стоит перед тобой самый доблестный воитель, злоязычный, но правдивый, метким словом одинаково сбивающий спесь и с царя, и со щитоносца, – Терсит, которого боятся все! Но это еще не все, о муж из Гуди, ибо вот это животное, – он притянул за узду Перкона, – вовсе не осел, а знаменитый Троянский конь, в чьей утробе… ну, да вы сами знаете, что содержится и должно содержаться в такой утробе!
Под общий хохот Сократ закончил речь столь неожиданным поворотом, сорвал оливку и с удовольствием стал ее жевать.
– Я нахожу, что наши неприятели, вот эти тысячи оливок, готовы пасть. Призываю военачальника и верховного вождя, царя Агамемнона, отдать приказ к наступлению!
Критон весело подхватил:
– Ахейцы! Воины! Вперед на врага – и всех в плен!
– Стойте! – закричал Главк. – Сначала перекусить после длительного похода!
Ячменные лепешки, три кувшина молока – и, разделившись попарно (один сбивает плоды, другой собирает их в корзину), они бросились на «врага».
– Я еще не видывал и не слыхивал, чтоб Афродита оказывалась в паре с трещоткой Терситом… Ну что ж! Сегодня вижу такое впервые, – пошутил Критон, когда Сократ с Коринной направились к высокому и довольно удаленному от всех дереву.
Сократ поднял девушку как перышко, подсадил на дерево. Усевшись на ветке, она стала болтать ногами, засмеялась, открывая зубы, белизной превосходящие паросский мрамор. Сократ снял с нее сандалии, перецеловал все пальчики на ногах. Ей было щекотно, она смеялась так, что, посрамленные, умолкли все птицы в саду. Сократ погладил пятки Коринны – как влюбленный и как скульптор.
– Вот это пяточки! – восхитился он. – Как два каштана…
– А щиколотки, по-твоему, пустяк? – по-детски наивно кокетничала Коринна.
– Щиколоточки нежные, как горлышко высокой вазы для одного цветка, а здесь ваза так красиво округляется, – любовался Сократ, поглаживая ей стройные икры. – Коленочко маленькое, круглое, как яблочко, а выше…
– Сократ! Сколько у вас уже корзин?! – озорно крикнул Симон.
Коринна показала брату язык и ответила:
– В два раза больше, чем у тебя! – Но тут же смущенно посмотрела на Сократа. – Я виновата, соблазняю тебя…
– Соблазняй, милая, и не бойся: мы их догоним. Я знаю одну хитрость, как ускорить сбор.
Он поставил корзину под веткой, отягощенной плодами, и сильно тряхнул ветку, после чего осталось сбить шестом лишь несколько оставшихся оливок; корзина быстро наполнилась.
По всему саду раздавались шутки, возгласы, смех. Труднее всего было добраться до верхних оливок. Коринна, поскольку была легче юношей, залезала выше всех и сбивала плоды с самых недоступных веток, – сама смуглая оливовая веточка. Сократ пристально следил за каждым ее движением, бесстыдно заглядывал под задравшийся подол пеплоса, на бедра и живот девушки и, восхищенный явленной ему красотой, забывал об оливках.
Коринна – простое и чистое дитя природы. Нет в ней ложной стыдливости городских девиц. Она знает, что хороша, видит, как восхищается ею Сократ.
– Я тебе нравлюсь? – тихонько спрашивает она.
– Ах, нравишься! Нравишься! Ужасно ты мне нравишься!
– И мои длинные ноги тебе нравятся?
– У тебя красивые длинные ноги, будто созданные для танца…
– Я люблю танцевать, когда меня никто не видит.
– Тебе как раз надо танцевать, чтоб тебя видели. Жаль, когда пропадает втуне хоть малая капелька красоты… Станцуешь?
– Ладно, если хочешь. Я очень рада, что нравлюсь тебе. Вся ли?
– Вся – все то, что я вижу.
– Тогда смотри на меня, раз я тебе нравлюсь!
Сократ понизил голос:
– Вечером осмотрю тебя всю, хорошо?
Девушке было невдомек, что это говорит не только влюбленный, но и скульптор.
– Осмотришь меня? Зачем?
– Хочу знать во всех подробностях, что я люблю.
– Ну хорошо, – беспечно согласилась Коринна и полезла еще выше.
Он не сводил с нее глаз, пока она не спустилась на нижнюю ветку и не спрыгнула прямо в его объятия, губы к губам.
Сестры Главка тем временем зажарили баранину на ужин себе и гостям. Хорошенькие, славные девушки лет около двадцати, они накрыли ужин под фиговым деревом, расстелив циновку прямо на траве. После трудов золотисто-поджаренное мясо, пахнущее чесноком, было съедено с большим аппетитом и обильно запито домашним вином.
После ужина Сократ повел всю компанию в виноградник, у входа в который на пьедестале стоял высеченный из камня бюст бога Диониса.
На маленьком алтаре перед изваянием Сократ принес жертву богу – горсть лучших оливок и большую гроздь винограда. Девушки сожгли благовония.
Перед жертвенником Диониса простиралась лужайка. Сестры Главка увенчали себя и Коринну венками из полевых цветов, готовясь к ритуальному танцу в честь Диониса. Главк заиграл на авлосе.
Сестры его, босиком, в белых, до колен пеплосах, стянутых в поясе красными лентами, распустив волосы, начали на траве священный танец, постепенно перешедший в дикие прыжки и оргиастические движения вакханок.
Когда они кончили и выслушали похвалу, Сократ, ко всеобщему удивлению, заявил:
– Теперь будет танцевать Коринна.
Коринна встала, распустила свои черные волосы и вышла на середину лужайки. Сократ попросил Главка наиграть мелическую песню в три стопы.
Нежно, подобно нимфе, пробуждающейся ото сна, Коринна начала танец, мелко переступая босыми ножками. Дважды приподняв ногу и сильно притопнув, девушка плавно закружилась, ритм танца становился все отчетливей и тверже. Каждый наклон тела уравновешивался движением руки, на каждый поворот головы отзывались ладони и пальцы. Стройные ноги переступали ритмично, перекрещивались, открывая многогранную красоту своих форм; и по мере ускорения ритма Сократу, который так и пожирал глазами танцовщицу, все явственнее казалось – тут танцует не одна, тут две танцуют, двоятся сладостные движения ног и тела – нет, кажется, целых три девы пляшут передо мной!
Клянусь Гераклом и его дубинкой! Три плясуньи, одна другой прелестней, это же мои три Хариты! Три Хариты, заклятые в теле одной Коринны! Да ведь так еще лучше, чем я думал!
Сократ был несказанно взволнован. Он не сводил глаз с того, что прямо-таки священно для скульптора: форма, форма, форма – и каждая непохожа на другие, нет, все схожи между собой и все же далеки друг от друга, все гармонируют друг с другом в одном: движением воспевают радость жизни – ладным, чарующим, стройным движением!
– Эврика! – вскричал Сократ и пал на колени перед Дионисом. – Благодарю тебя, милый бог, за этот день! – радостно вознес он хвалу Дионису и начал распевать в его честь дифирамб:
Славься, Дионис, сын бога, Дионис, Ты, людей утеха, приносящий жар, вина даритель, Виноградного увенчанный лозою! Ты ее плодами, соком сладким Нас освобождаешь от тяжелых мыслей, Отгоняешь горестные беды, дружбу насаждаешь, Ты, творец и раздаватель счастья, Буйный Бромий, Сумасбродный Вакх, Бог экстаза, что так сильно страсти разжигаешь! Эвое! Эвое! Дружелюбный бог, Мира и веселья повелитель, Дифирамбов радостный любимец, Сам их сладостный певец, Славящий восторги, упоенье, — Эвое! Эвое!И все подхватили ликующе:
– Эвое! Эвое!
На исходе дня афиняне простились с жителями Гуди, и двуколка, нагруженная полными корзинами, покатила, влекомая Перконом. Дорога шла под гору, выпитое вино подгоняло сборщиков, и путь совершался быстро и весело.
Коринна с Сократом шли позади. Они держались за руки, и лица обоих сияли: его – восторгом, ее – счастьем. И оба – любовью.
10
На плоской крыше Софронискова дома лежал навзничь Сократ, подняв к заходящему солнцу свиток папируса, с которого читал нараспев стихи Ивика:
Только весною цветут цветы Яблонь кидонских, речной струей Щедро питаемых, там, где сад Дев необорванный. Лишь весною же И плодоносные почки набухшие На виноградных лозах распускаются. Мне ж никогда не дает вздохнуть Эрос. Летит от Киприды он — Темный, вселяющий ужас всем, словно сверкающий молнией северный ветер фракийский, и душу Мощно до самого дна колышет Жгучим безумьем…[12]Рядом сидел Симон, держа на колене покрытую воском табличку, на которой записывал особенно ему понравившиеся метафоры и мысли стихотворения. Приятный голос Сократа, горячее чувство, с каким он выделял некоторые слова, придавали строкам поэта особо искреннее звучание.
С улицы послышалось:
– Хайре, Сократ!
Сократ и Симон вскочили, приветствовали с крыши друзей.
– Что вы там делаете? – спросил Киреб. – Крышу починяете?
– Ловим последние лучи солнышка! – ответил Сократ. – Сейчас спустимся.
Юноши являлись к Сократу не с пустыми руками: они всегда приносили с собой что-нибудь к ужину. Все это складывалось на одно большое глиняное блюдо и делилось поровну.
Последним показался тот, кого с нетерпением ждал Сократ.
– Привет тебе, милый Критон! – встретил он друга, и тут же с языка его сорвалось: – Принес мне еще что-нибудь?
– Принес, – усмехнулся Критон, поднимая над головой футляр со свитком папируса. – Не мог же ты успеть прочитать то, что я дал тебе в прошлый раз?
– А для чего у меня глаза и масляная лампа?
– Ты проглотишь все свитки нашей библиотеки прежде меня! Акула ты!
Библиотека Критона-старшего! Когда-то я еще проглочу ее или хотя бы догоню Критона-младшего! Сократ мысленно перенесся в библиотеку на вилле Критона: вдоль стен на полках сандалового дерева хранились сотни свитков, густо исписанных, нередко с рисунками и цветными картинками. Каждый свиток был вложен в цилиндрический футляр из выделанной козлиной кожи и закрыт круглой золотой крышечкой, на которой было выгравировано имя автора и название книги. Крышечки сверкали, слепя глаза. Не статуи, не настенная роспись, не занавеси, не сундуки с дорогими одеждами, не шкатулки, полные драгоценностей, – библиотека – вот что было величайшим сокровищем дома. Здесь хранились переводы вавилонских, древнееврейских, египетских, персидских рукописей. Затем шли эллины: Гомер, Гесиод, Сапфо, Алкей, Анакреонт, Пиндар, Архилох…
– Да, я акула, – согласился Сократ. – Я тоже, перевернувшись на спину и разинув пасть, бросаюсь на добычу. Все проглочу!
– И это? – Критон протянул ему футляр, в котором был уложен свиток с вавилонским эпосом о Гильгамеше, искавшем бессмертие.
Сократ жадно схватил свиток.
– Это на твоей совести, дорогой Критон: я теперь с большей охотой беру, чем даю! Этим я хочу сказать, что почти без всякого удовольствия тружусь теперь с отцом над ионическими капителями.
И, обращаясь уже ко всем, Сократ со смехом сказал, что все узнанное им из свитков Критона не выходит у него из головы, даже когда он бьется над главами колонн, причем этих-то глав и нет у него в голове!
Друзья нисколько тому не удивились. Им известна разница между ремеслом и творчеством. Капители колонн все должны быть одинаковые, и, хотя труд этот нелегок, он все же не искусство.
– Страшно то, – заговорил Критон, – что, чем больше я читаю, тем пуще неразбериха у меня в голове.
– Хорошенькое дело! – засмеялся Киреб. – Этак, пожалуй, книги и вовсе тебя отпугнут!
– Ты полагаешь – лучше оставаться невеждой? – глянул на Киреба Сократ.
– Страх перед неразберихой в голове имеет и хорошую сторону, – отозвался Симон вместо Киреба. – Он понуждает навести порядок в этой неразберихе.
Критон покачал головой.
– Легко сказать, Симон, – навести порядок! Во всех утверждениях этих поэтов или философов столько противоречий, что в одиночку не разобраться.
И Критон привел первые вспомнившиеся ему примеры: Анаксимен считает праматерией космоса воздух, Гераклит – огонь, да сверх того он еще учит, что борьба – праотец всего. Один философ считает, что земля – шар, другой – что она плоская. Тут больше предположений, чем утверждений.
– Ответь, – обратился Критон к Сократу, – так же ли относится Анаксагор к Пифагору, как самосцы, считающие Пифагора пророком и чудотворцем, чуть ли не богом?
– Нет. Анаксагор чтит Пифагора за его открытия, особенно за открытые им законы геометрии и физики, но столь же глубоко возмущает моего учителя пифагоровский мистицизм: признает первичность материи, а верит в переселение душ! Анаксагор говорил мне: «Я не допускаю мысли, Сократ, чтоб две сотни лет назад я жил в теле осла, чем вовсе не хочу задеть чувства твоего Перкона. И не допускаю мысли, что когда-нибудь превращусь в царя Персии или в нильского крокодила».
– Это так, Сократ, но тем самым он лишний раз подтверждает, какой хаос царит в воззрениях философов! – воскликнул Критон.
– Пускай! – рассмеялся Сократ. – Сначала мы должны узнать возможно больше – а что потом?
Юноши переглянулись: что потом? Откуда им знать?
Сократ, все еще смеясь, ответил сам:
– Да вы ведь уже сказали! Ты, Симон, считаешь, что все это надо привести в порядок, ты, Критон – что тут больше предположений, чем утверждений, и что одному с этой задачей не справиться. А не справиться одному – значит, надо заняться многим. Вот нас тут целая группа – может, и достаточно?
– Понимаю твои слова так, что мы будем все это разбирать сообща? – жадно спросил Критон.
– А как же иначе? И ведь мы уже отчасти так и делаем, тебе не кажется? – ответил Сократ.
– Но ты всегда должен быть с нами! – поспешил вставить Симон.
А Ксандр с Лавром вдруг выпалили:
– Будь нашим учителем, Сократ!
– Вы что! – вскинулся тот. – Могу ли я кого-либо учить, когда сам только учусь?
Критон отщипывал мелкие кусочки от своей лепешки.
– Все мы еще учимся, – начал он, осторожно подбирая слова по мере того, как развивалась его мысль. – Но ты, милый Сократ, ты один умеешь применить к жизни все то, чего мы касаемся учась. Каждая твоя мысль как шило, но шило это делает в конце концов полезную работу – не правда ли, Симон?
– Именно так, – кивнул сын башмачника.
На смуглом лице Киреба сверкнули белые зубы:
– Над каждым домом начертано какое-нибудь название или изречение, например: «Войди к нам, прибыль!», «Крылатый Гермес» или «Здесь живет счастье». Что, если и нам окрестить твой дом? Отцу твоему незачем об этом знать, а мы давайте назовем это дом «Мыслильней Сократа»!
– Прекрасно, Киреб! – восхитился Симон. – Это будет школа – и в то же время не школа…
Сократ хохотал:
– Мне-то что, называйте наш дом, как хотите!
– Ты смеешься? – сказал Критон. – Но мы-то все, насколько я могу заметить, берем это всерьез…
– Разве смех мешает серьезности? – возразил Сократ. – По-моему, к серьезному лучше идти дорогой веселья!
Киреб, проглотив прожеванный кусок, сказал:
– Это верно: я тоже люблю смеяться, а вот же, едва кончу печь хлебы, бегу сюда – есть хлеб Сократа, хоть он и жестче моего…
– А теперь я скажу вам, друзья, что мне не по душе у великого Пифагора, – уже серьезным тоном молвил Сократ. – Говорят, он всегда тщательно избегал смеха и веселья. Судите сами, что же это за человек, если он отвергает хорошее настроение – веселую половину души?
– Значит, остается другая половина, невеселая, утешь его, Зевс! – не раздумывая, ответил Киреб.
Сократ с сожалением прибавил:
– Если говорить всю правду, то должен открыть вам – ведь и мой дорогой учитель Анаксагор не любитель смеяться. Он и Перикла удерживает от смеха.
– Дева Афина! – патетически воскликнул Киреб. – Может, он потребует, чтоб и мы стали серьезны, как камни? Может, у афинян это будет считаться признаком хорошего воспитания?
– Если б такое требование было выставлено, – сказал Сократ, – то я считался бы самым невоспитанным.
– Слава тебе и радость нам! – вскричал Киреб. – Это следует запить!
Чистым вином совершили возлияние богам, затем, для себя, смешали вино с водой в кратере. Наполнили кружки, и Киреб торжественно провозгласил:
– Пьем в честь дома, нареченного «Мыслильней Сократа»! Да не иссякнет в нем никогда источник веселья!
– Эвое! Эвое! Да поддержат нас боги! – Все подняли свои кружки.
Не изменяя веселости, Сократ спросил, однако, будто серьезно:
– Как рождаются боги?
Ксандр, тоже серьезно, ответил:
– Уран породил Крона, а Крон – Зевса.
Критон глянул на Сократа – глаза того улыбались – и сказал полувопросительным тоном:
– Все возникает из чего-то, все – от кого-то…
– Безусловно, – кивнул Ксандр. – Это как непрерывная цепь. Зевс с Герой и многими смертными женщинами наплодил кучу законнорожденных и внебрачных богов и полубогов, которые опекают нас от первого вздоха и до посмертной жизни.
– Непрерывная цепь? – повторил Сократ. – Стало быть, продолжают рождаться новые боги? А как быть с Афиной, милый Ксандр? Говорят – она родилась из головы Зевса, но осталась девственной. Так что же – может, она еще выйдет замуж и родит детей?
– Не знаю.
– И про Диониса, которого Зевс выносил в бедре, ты тоже не знаешь, будут ли у него потомки? – усмехнулся Сократ.
Ксандр признался, что не знает и этого, но полагает, что больше никакие боги рождаться не будут.
– А я вот слышал, что и в недавние времена родился новый бог, и расскажу вам об этом. Жил раб по имени Самолксид из Фракии. Любимый раб Пифагора, он имел большие возможности – и использовал их. Научился читать и писать, много знаний перенял от своего господина. Пифагор жил на острове Самос, где тогда правил тиран Поликрат, который хотел заставить ученого строить военные машины для битв с неприятельским флотом. Понимаете вы? Чтоб великий Пифагор выполнял приказы надменного тирана? Никогда! В самосском порту стояло на якоре судно, готовое ночью отплыть в южноиталийский Кротон. Если Самолксид поможет Пифагору бежать, он будет отпущен на волю и получит кошелек серебра. Самолксид помог Пифагору перебраться на судно, а сам вернулся на родину в суконной шапочке вольноотпущенника. Всеобщее ликование, а в доме опасения: сами нуждаются, а тут лишний рот. Как одолеть беду? И что же происходит? Однажды на глазах у односельчан Самолксид падает мертвым. Под причитания плакальщиц, под стенания родных и соседей его хоронят в том месте, которое он назначил сам: в саду за его домом. Жизнь пошла дальше. В годовщину его похорон пришли люди к могиле – ба! Каменная плита сдвинулась, и Самолксид восстал из гроба, бледный, но живой и здоровый.
– Ты шутишь, Сократ, – с упреком сказал Симон. – Какая чепуха!
– Не может быть, – подхватил Пистий.
– Тише, – остановил их Критон. – Дайте ему досказать.
– Все это время, – продолжал Сократ, – Самолксид тайно скрывался в подземелье, куда брат носил ему еду, и там он обдумывал свои планы. Фракийцы тяжело переживали, что их легендарный земляк и герой Орфей был убит молнией Зевса за то, что осмелился наделить богов человеческими страстями и пороками. Фракийцы горели негодованием на Зевса, отнявшего у них почитаемого героя, самого знаменитого певца, который пением своим трогал сердца людей, диких зверей и даже завораживал деревья и камни. И вот Самолксид, поднявшись из могилы, встал на надгробную плиту и воскликнул: «Фракийцы! Почтенные граждане, слушайте меня! Я явился возвестить вам нового бога!» – «Возвести! – закричали в исступлении люди. – Кто он?» – «Это я», – молвил Самолксид. Люди удивились, но стали слушать дальше. Самолксид сумел им внушить, что древний бог Крон вселился в его тело и восстал из мертвых. И пошел Самолксид излагать пифагорову мистику цифр: единица – это разум, семерка – здоровье, восьмерка – любовь, десятка – счастье, и блаженство, и прибыль. Он говорил им, что высоту звука можно выразить математически в соответствии с длиной колеблющейся струны. Ошеломленные такими таинственными словами, люди слушали и услышали, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равняется сумме квадратов катетов…
Юноши покатились со смеху, хлопая Сократа по спине. Но тот повернул рассказ в другую сторону:
– Эта смесь учености и мистики окружила Самолксида божественным ореолом, но приязнь людей он приобрел тем, что, используя знания Пифагора, лечил их и давал добрые советы. По каковой причине жил бог Самолксид в полном благоденствии, почитаемый повсеместно во всей Фракии.
Нахохотавшись всласть над богом Самолксидом, друзья спросили Сократа, кто поведал ему про такое чудо?
– Анаксагор, – ответил Сократ, волнообразным движением ладони от подбородка вниз намекая на окладистую бороду философа.
Симон задумчиво почесал в затылке.
– А ведь ты, Сократ, рассказал не такую уж чепуху! К нам в сапожную мастерскую ходит много заказчиков, и от них я слыхал – люди-то все ждут какого-то спасителя…
Киреб согласно кивнул:
– Я тоже слыхал об этом в пекарне моего мастера. Многие верят, что когда-нибудь родится некто и все устроит так, чтоб никому на свете не бедствовать.
То же подтвердил и Пистий:
– И мне известно – люди ждут такого бога.
Сократ слушал молча. Знал и он: люди ждут. Но чего? Кого? Спасителя? Чуда? Улыбнулся глазами.
Обманщику Самолксиду никогда бы не сделаться идолом у фракийцев, если б он не облегчал их невзгоды. Следовательно, почему же люди ждут спасителя? Потому что ждут от него помощи. Помощи во всем. Помощи советом и делом. Но ждать, все время ждать, правильно ли это?
И Сократ заговорил:
– Чудес не бывало и не бывает. Однако время от времени являются люди, которые хоть немножко, да улучшают жизнь. Возьмите Перикла. Как он все расшевелил, и в стране, и на море… И ведь это только начало! То ли еще будет!
Если наших друзей занимали Самолксид с Периклом, то Эгерсида интересовал исключительно Сократ. Донесся до него слух, что Коринна ездила с ним в Гуди. Подкрепившись пшеничными лепешками, намоченными в тяжелом сладком вине, Эгерсид двинулся в путь, представляя себе, как он раздавит нынче Сократа, словно спелый финик!
Эгерсид мог себе позволить такую уверенность. Все у него было большое и широкое: рот, нос, плечи, грудь. Он шел – и земля стонала под его тяжестью. Раздавлю! Раздавлю! Очутившись во дворике Софрониска и увидев Сократа в кругу друзей, он еще решительнее повторил про себя: «Раздавлю!» И повелительно крикнул Сократу:
– Эй, ты! Выйди-ка со мной! Хочу потолковать с глазу на глаз!
Лицо и тон Сократа изобразили приятное удивление:
– А, это ты, Эгерсид! Присоединяйся к нам! Что за тайны? Все здесь мои добрые друзья, к которым, несомненно, относишься и ты. Ты самый мой дорогой друг, да что я говорю – мой почитатель! Я отлично знаю, мой милый, что твои уста произносят мое имя даже чаще, чем уста вот этих моих друзей. В каждой фразе твоей шипит этот самый «Сократ», каждым словом восхваляешь ты меня, распространяя славу обо мне. Рад тебя видеть, мой красильщик!
– Я тоже рад тебя видеть, – гулко прозвучало в ответ.
– Не говорил ли я? – оживленно подхватил Сократ. – О, Эгерсид – мастер красильного дела! Он, конечно, приукрашивает и меня в своих мыслях и речах, изображая замечательным юношей. Жаль, я этого не слышал!
– Не жалей! Твое имя вправду не сходит у меня с языка, как ты говоришь, да только с бранью, потому что ты вор – хочешь украсть у меня Коринну!
Симон встал между двумя петухами, одним разъяренным, другим зло насмехающимся.
– Что значит «украсть»?! – накинулся он на Эгерсида. – Сократ с детства знает мою сестру и любит ее!
– Может быть, а Коринна-то будет моей! – самоуверенно заявил Эгерсид.
Услыхав свое имя, Коринна взобралась на оливу.
– Зря он бахвалится, – трезво проговорил Симон, поворачиваясь к Сократу. – Коринне до него и дела нет. Это я слышал от нее самой.
Верзила нахмурился.
– Я тоже кое-что от нее слышал. Этот ученик каменотеса морочит ей голову, а у самого и положить-то ее некуда, разве что на камень.
– Ни твоя спальня, ни мои камни не определят, кого из нас будет любить Коринна. Она сама решит, – сказал Сократ.
– Ошибаешься, мой милый. Решать буду я. – Тут Эгерсид набрал полные легкие воздуху и выкатил грудь. – А тебя я сдуну с дороги, как цыпленка, и дело с концом.
– Глядите, как все просто, – спокойно заметил Сократ. – И когда устранишь меня, поступишь с Коринной, как со штукой сукна. Сунешь в кадку с краской, выжмешь, высушишь в тенечке, и станет Коринна такой, какой ты хочешь ее видеть: розовенькой, податливой, сладенькой…
Олива зашелестела, словно по ней пробежал порыв ветра.
– Как раз! – с жаром вступился за сестру Симон. – Дастся она затолкать себя в кадку с краской такому дуралею, как ты!
Эгерсид не знал, к кому повернуться прежде – к Симону или к Сократу.
А Симон продолжал:
– Недооцениваешь ты Коринну! Она-то поумней тебя. Она, брат, ученые разговоры слушает!
– Что врешь, чьи это разговоры?
– А вот наши! – Симон показал на Сократа и друзей. – Она слушает, когда мы тут рассуждаем о разном…
Коринна осторожно отвела ветки и глянула во дворик.
– Например, – Сократ поднял к оливе глаза, – о положении женщины в Афинах…
– Понятно, – сказал Эгерсид. – Про вас уже всякое болтают. Занимаетесь глупостями. Сами испорченные и Коринну портите. После этого чего удивляться, что у нее от ваших разговоров ум за разум зашел…
– А что хорошего может она услышать от тебя? – спросил Сократ. – Не станешь же ты говорить с ней о том, сколько выручаешь за окраску тканей? Надеюсь, ты не собираешься заполучить пятого раба к твоим четырем? Знаешь что, Эгерсид: чтоб быть нам с тобой равными соперниками, дам тебе добрый совет. Ты красишь ткани, я раскрашиваю скульптуры. Так что по ремеслу нам не в чем похваляться друг перед другом. Но тебе не хватает желания познать мир, как то пытаемся делать мы. А ведь в глазах Коринны это, быть может, многое значит. И вот что, Эгерсид: приходи к нам! Удостой нас своим участием!
– Чтоб ты меня учил? – насмешливо фыркнул Эгерсид. – С ума сошел! Это я пришел проучить тебя! Тебе это необходимо, как свинье – почесаться! – И красильщик с угрозой шагнул к Сократу. Тот встал. В напряженном ожидании дрогнули ветви оливы, замерли друзья. Сократ, притворяясь испуганным, попятился к ограде. Ободренный этим, Эгерсид пошел на него, сжимая кулаки.
И вдруг Сократ строго вымолвил:
– Слишком громко ты мыслишь. Твоя речь ясна: кулаком в челюсть… Только, дорогой красильщик… – Тут он внезапно схватил Эгерсида за обе руки, прижал их к его бокам. – Коли не хочешь ко мне в ученье, придется нам расстаться! Хайре!
Он поднял огромного парня и перебросил через ограду на улицу, словно мешок с фасолью.
Звук падения. Затем – оханье и брань.
Во дворике хохотали, с оливы со смехом соскользнула белая тень, а Эгерсид сидел за оградой на корточках, – думу думал. Думал он очень сильно и затрудненно, зато по существу: нет, так дело не пойдет. Погоди – увидишь! Я все-таки перекрашу Коринну в такой цвет, в какой пожелаю!
11
Сегодня вечером Селена была не так бледна, как обычно. Ее желтизна жгла и томила – словно кто-то капнул в нее кроваво-красного вина из того винограда, что принесли тогда в жертву гудийскому Дионису.
Цикады тоже… Неужели и им в кровь попала капля того вина, что звенят они как сумасшедшие, будто каждая воспевает свою влюбленность?
Сократ ждал, напрягая слух и зрак; лениво влачилась жаркая ночь. Когда же?! А, вот – белая полоска промелькнула через двор. Бросился к ней.
Коринна поцеловала его.
– Любишь меня?
– Люблю.
– И мой широкий нос?
– Он тебе идет. Если б у всех афинских мужчин были одинаково прямые носы – то-то была бы скука! Мне всегда хотелось чего-нибудь особенного. А главное – веселого! Твое же лицо весело, и сам ты всегда весел, и твои скульптуры тоже!
Сократ гладит девушке волосы, лицо, плечи…
– С малых лет ношу я за матерью корзинку, когда она ходит к роженицам; сколько я навидался грязи, голода, сколько наслушался причитаний, плача! Просто утонуть можно… Надо же чему-то и радоваться, и смеяться! Так неужто мне еще и в камне высекать разные ужасы?
Селена разглядела Коринну со всех сторон и вся засияла розовато-золотистым светом.
Сократ, восхищенный, любовался девушкой.
– Благодарю тебя, Селена! Ты светишь великолепно. И я теперь рассмотрю мою милую глазами скульптора…
– Постой! Что ты делаешь?
– Прочь пеплос! Так… Плечи округлые, груди – словно тебе двенадцать лет, а не двадцать! – Он сдавил ладонями маленькие груди, она же тихо смеялась, лепетала ненужное:
– Перестань…
– Маленькие, твердые, как теплый мрамор, живот выпуклый – ни мало, ни много, как раз в меру… Бедра длинные, роскошные. – Он повернул Коринну. – Зад – само совершенство… А теперь хорошенько слушай, что я скажу. Когда меня приглашали к Периклу, то поручили изваять в мраморе для фриза над новыми Пропилеями трех Харит: слева Аглаю, справа Талию, посередине – Эвфросину. И всех – в танце.
Коринна прижимала к груди сброшенный пеплос, не зная – ревновать ей или нет Сократа к богиням очарования, радости и красоты. Но прежде, чем она нашла слова, чтобы выразить чувство ревности, услышала от Сократа: он еще в Гуди наблюдал за ней, на дереве и во время танца, и собирается ваять Харит с нее, с Коринны!
Девушка так и ахнула:
– С меня?! Я буду одной из Харит?!
– Нет, Коринна: ты будешь всеми тремя Харитами!
– Как же ты это сделаешь?
– Тебя – Аглаю я изображу в движении танца в профиль; тебя – Талию – в три четверти, вот так, – он повернул ее соответственно, – а тебя – Эвфросину – с лица. Что скажешь, моя триединая?
Она уставилась на Сократа широко раскрытыми глазами. Смысл сказанного доходил до нее не сразу.
– И все три – с меня?
– Ну да! С тебя. Сейчас же и начну делать наброски…
Тут она радостно вскрикнула – Сократ закрыл ей рот ладонью. Притихнув, она произнесла:
– Над Пропилеями… я в трех лицах! Ах, какая я буду знаменитая! – И вдруг осеклась. – Наши меня узнают! О молнии Зевса, отец меня изобьет!
– Никто тебя не узнает, не бойся. Сделаю тебе другую прическу и нос подлиннее. Никто – только мы с тобой будем знать, что три Хариты – это ты. Прелестные Хариты будут встречать своим танцем всех всходящих на Акрополь!
Она пала ему на грудь:
– О милый! Красота, Блаженство, Радость – твоя Коринна! Обними меня крепче! Люблю тебя…
Целует его страстно и долго и увлекает за собой в угол дворика, и там, под кустами олеандров, падает навзничь, потянув его на себя.
Удары крови в жилах заглушает пенье цикад, кусты олеандров раскачали свои ветви, нежно шелестят…
– Наконец-то ты вернулась, девушка, – сказал Мом своей приятельнице Артемиде.
– Захотелось немного побродить по свету, чтоб не быть такой отсталой, как Афродита, которая, правда, все время где-то бегает, но – за мужчинами, а вовсе не ради того, чтоб увидеть новенькое.
– И что же ты видела?
– Горы, долины и токи вод, цветы и репейник, богатство и нищету, радость и горе… Но лучше всего мне в Аркадии да еще здесь, в этом уголке среди мраморных глыб, возле тебя, Мом…
– Благодарю, моя стройная красавица, за внимание. А что ты скажешь о своем подопечном, который смеялся, едва появившись на свет?
– Он мне нравится, Мом. Мальчик – прямо огонь.
– Ну а то, что он с этой девчонкой?..
– Пускай – на здоровье! Это частица жизни… Слышишь, как они блаженно вздыхают?
Эос еще протирала глаза за вершиной Гиметта, а из домика уже долетел голос Фенареты:
– Сократ! Вставай!
– Встаю! – отозвался он, как каждый день; мать не заметила, что ответ его пришел не из дому.
Коринна поспешно набросила на себя пеплос и кинулась на шею Сократа:
– Это было прекрасно!
Долгий поцелуй – и Коринна скрылась.
Сократ пошел к дому, да остановился у мраморных глыб. День, золотой цыпленок, вылуплялся из яйца.
Мать вышла на порог.
– Вот как! Раненько же ты нынче поднялся, сынок. С чего бы это?
– Что-то позвало меня. Быть может, моя обожаемая Артемида.
Он поклонился богине и снова замер без движения. Стоит – а мысли несутся. О чем следует думать больше всего? О том, что такое звезды? Откуда взялись они? Почему зажигаются? Куда уплывает Селена в лунном челне? Из чего – земля? Где конец света? В чем величайшее наслаждение любви? Что было сначала: душа или тело? Что будет после? Думать…
– Мальчик! Что же ты стоишь, о боги?! Подумай о козе – напои! Покорми осла! Приготовь мне дров для печи! Воды наноси! Да наточи резцы для отца!
Сократ рассмеялся, подбежал к матери, поцеловал, поднял ее на руки:
– Я понял, мама, о чем надо думать прежде всего: о козе, об осле, о дровах и воде для тебя, об инструментах отца, а уж потом и о звездах!
12
Прибежал запыхавшийся раб:
– Жена владельца большой пекарни Эвколия готовится родить и зовет на помощь Фенарету!
Мать попросила сына сопровождать ее. По дороге Фенарета сердито ворчала:
– Опять босиком пошел! Скоро эфебом станешь, гражданином Афин, а ходишь босой, словно нет у нас денег на обувь!
– А у меня собственные подметки!
Сама Фенарета – в красивом плаще, ее волосы свернуты узлом, и ей это к лицу, хотя немолода уже. А босоногий сын в том же хитоне, в котором работал с утра, и будто нет у него ничего общего с матерью. Фенарету всюду встречают приветливо – люди больше живут на улице, чем в домах, переставляют свои табуретки с солнечной стороны в тень.
– Взгляни, Фенарета! – Молодая женщина протягивает повитухе ребенка. – Всего три месяца назад мы с тобой его родили! Был чуть побольше пиниевой шишки, а нынче каков!
– Да будет с ним благосклонность Артемиды.
Детишки тоже знают Фенарету. Весело скачут вокруг нее:
Фенарета, Фенарета, Обойдите вокруг света, Лучшей мамы не сыскать! Ее детей не сосчитать! Хайре, хайре, Фенарета!Проходит Фенарета с сыном по афинским улочкам, а за ними летят голоса:
– Удачи тебе! Пойдешь обратно – загляни к нам!
Дошли. Домоправительница усадила Сократа в перистиле на кресло, велела рабу принести для него медовых лепешек, винограду, фиг. Сама же повела Фенарету в спальню, откуда доносились болезненные стоны.
Много времени прошло, наконец Фенарета вынесла новорожденного:
– Мальчик! Да прехорошенький, как дынька!
Положила выкупанного младенца в мягко выстланную корзину.
– Присмотри за ним, – велела Сократу и вернулась к родильнице.
Сократ стал разглядывать плачущего малыша. Вот еще один червячок, красный, сморщенный, беспомощный. Сейчас ты еще только зверюшка, не более того. Душенька пуста, еще ничто в нее не запало, ни хорошее, ни дурное. Вот как начнешь входить в разум – закипит у тебя в головке, словно в котле… Я это знаю. То же самое происходит со мной сейчас. Вот ведь как – не было ничего, а вдруг – ты! Будущий афинский гражданин, каким вскоре стану и я. Да, пока что непохож ты ни на стратега, ни на возницу олимпийской четверки… Но чего нет, то еще может статься!
Но что же ты все плачешь! Шшшш, шшшш… Не пугайся жизни, червячок! Знаю, не пустяк – вытащили тебя в эту суету, и ничего-то ты не понимаешь, ни в чем не разбираешься, не знаешь даже, как и с самим-то собой быть. Ты еще просто жалкая крошечка, отданная на милость всему, что тебя окружает: людям, предметам… Зажужжала муха, Сократ помахал рукой, чтоб она не села на личико ребенка. Вон даже муху отогнать не умеешь…
Вышла Фенарета. Она еще дрожит от напряжения, но довольна. Мать младенца в порядке.
– А малыш плачет? Как все… – Фенарета взяла его на руки, чтоб успокоить легким покачиванием. – Все новорожденные плачут. Только ты смеялся!
– Чему я смеялся, мама? – спросил Сократ.
– Откуда мне знать? – улыбнулась Фенарета. – Наверное, радовался, что явился на свет.
Сократ любовался матерью с младенцем на руках. Вот так же, конечно, баюкала она и меня…
– А я, мама, и вправду рад, что родился. Иной раз меня охватывает такое… такое удивительное чувство: до чего же странная случайность, что среди стольких людей, живших до нас, и тех, что будут после нас, родился и я – да еще именно у тебя с отцом, и именно в нашей стране! Надо быть глупцом, чтобы не понимать, как счастливо я родился…
Фенарета укачивала младенца, колыхался длинный пеплос от ее движений. Лицо ее, выражавшее нежность, было прекрасно.
– Так бы и расцеловал тебя! – вырвалось у Сократа.
– Ах ты, шалая головушка! – мягко отозвалась мать, улыбнувшись. – Смотри, он уже не плачет. Вот и славно, мальчуган! Скоро придет папа. Понянчит тебя, обойдет с тобой все алтари в доме… Это свет колол тебе глазки, правда? И ты чувствовал себя в корзиночке таким заброшенным…
– Ты, мамочка, всегда знаешь, что нужно малышу, который и говорить-то не умеет…
– Таким маленьким и не надо говорить, – возразила Фенарета, не отрывая взгляда от младенца. – Легко угадать, что им требуется: желания у них такие простые и естественные. Пройдет много времени, пока они вступят в жизнь. Такой младенчик – это ведь только надежда, не больше. Иной раз судьба щедро осуществляет эту надежду, а иной раз и губит…
– Судьба?.. – медленно произнес сын.
Смотрит Сократ на давние и недавние работы отца. Все это боги, богини, герои и знаменитые люди. Бюст Эсхила, Деметра в венке из колосьев…
Сколь странен мой мир: мать помогает рождаться живым людям, отец – каменным. Крошечный человек, которого мать вытаскивает на свет, беспомощен, отдан на произвол всему и всем. Он хнычет, ревет, кричит, сосет грудь. Больше он пока ничего не умеет.
Отец творит взрослых. Человека и бога. Но он может придать им одно лишь движение, один взгляд, одно выражение. Да, это красота – но неподвижная, оцепенелая, неизменная. Даже если это сама муза танца Терпсихора или Дискобол, от них всегда исходит покой неподвижности, они застыли в движении. Это образ живого человека – но не жизнь его. Да и то образ, уловленный в одном определенном мгновении. Окаменел человек и не двигается. Камень есть камень.
Живое человеческое дитя, которое принимает мать, так же беспомощно, как этот мрамор. Из рук матери выходят дети – из рук отца каменные великаны. Чья работа нужнее? Обе нужны! Работа матери – добро, но есть ведь и красота в рождении ребенка. В работе отца красота, подлинная красота, но есть в ней и добро! Однако и в том, и в другом чего-то недостает… Здесь новорожденный – там человек из камня, а между этим трепетным комочком и застывшим в камне образом остается пробел. Что же заполняет этот огромный пробел? Рост человека! Его чувства, инстинкты, мысли, деяния, труд… Самое главное, самое важное!
Анаксагор отрицает богов. Тогда, значит, остается только человек. Но как быть человеку, если он утратил опору, если за ним не стоят боги, не направляют каждый его шаг от рождения до могилы? Как быть человеку, если он должен рассчитывать только на себя? Ведь боги – это какая-то опора для человека. Анаксагор отнимает у него богов – а что дает взамен?
Смеркается, а Сократ все стоит неподвижно, погруженный в думы. Как быть с этими человеческими детенышами? Над этим, пожалуй, стоит поломать голову…
– Ты прав, Сократ.
Он вздрогнул:
– Кто это сказал? – Оглянулся. – Ты, богиня моя? Вижу – на губах твоих еще трепещет отзвук моего имени… Заклинаю тебя твоим очарованием, скажи: могу ли я хоть что-то сделать для этого?
Ласковое дуновение освежило его лоб. И не Артемида – внутренний голос тихонько ответил: «Когда войдет тебе в кровь познание, что красота есть добро, а добро – красота, когда в сердце твоем и мозгу то и другая сольются воедино, в калокагафию, тогда ты поймешь, что надо делать».
Через ограду заглянул Симон.
– Над чем задумался, Сократ?
– Я открыл для себя важное слово и поделюсь им с тобой – калокагафия!
13
Сократу исполнилось восемнадцать лет, и он был занесен в списки афинских граждан Алопеки, к которой приписан и его отец. Сократ стал эфебом.
Он принес обязательную торжественную присягу:
«Не оскверню священного оружия и никогда не покину товарища в бою, один и вместе с другими буду защищать все, что нам свято и дорого. Не умалю могущества и славы родины, но буду всегда приумножать их. С готовностью буду повиноваться властям и законам, уже установленным, и тем, которые впредь примет народ; если же кто-нибудь попытается отменить или нарушить законы – не допущу этого и буду отстаивать их один и вместе с другими. Так же я буду хранить веру отцов. Да будут мне свидетелями боги!»
Защищать все, что нам свято и дорого, не умалять, а приумножать могущество и славу родины… Отныне и до шестидесяти своих лет будет Сократ подлежать воинской службе, будет обязан исполнять эту клятву и браться за оружие, когда это понадобится родине.
А это ей понадобится. Афинская республика – неутомимая воительница. Обороняется и наступает. В день, когда родился Сократ, она увеличила силу и славу свою, разбив персидское войско в Памфилии, у реки Эвримедонт. Она увеличила силу и славу свою, покорив Эгину и Беотию, – тогда Сократу было тринадцать лет. Но умалились могущество и слава ее в войне с Египтом, когда в дельте Нила погибла большая часть ее военного флота. Этот разгром Сократ уже переживал тяжело: ему было пятнадцать.
Однако афиняне не пали духом и, следуя совету Перикла, построили новые военные суда, более мощные и в большем количестве. Враги со всех сторон подстерегали Афины: Персия, Спарта. Даже в греческих полисах, союзных Афинам, время от времени вспыхивали попытки свергнуть демократический строй и вернуться к правлению олигархов.
В напряженности этой не совсем без вины были и сами Афины – глава морского союза, его защитница от неприятеля, но в то же время ловкая хозяйка, в обмен за свои услуги опустошавшая общую казну. Члены морского союза возмущались тем, что Афины богатеют, усиливаются, хорошеют; они кричали, что чувствуют себя не равноправными союзниками, а скорее рабами этой гордой царицы морей…
По причине такого множества врагов, отдаленных и близких, уже известных и возникающих вновь, Афины не могли себе позволить не только отложить оружие, но даже довольствоваться оружием вчерашним, как на суше, так и тем более на море.
К военной службе и ко всему, что с ней связано, здесь относились серьезно, твердо, неумолимо. Строго – вплоть до смертной казни – карали стратега, проигравшего битву.
Строгостью сопровождалось и военное обучение эфебов. Их построили ровными рядами и повели походом к крепости Мунихий, что возле Пирея. Здесь новобранцам предстояло нести службу и познавать основы военного дела.
Сократа зачислили в отряд тяжеловооруженных воинов, гоплитов, составлявших ядро войска, которое действовало главным образом на суше, однако и на море тоже, когда корабли сходились борт о борт. Для защиты воинам служили шлем с высоким петушиным гребнем, медный панцирь, деревянный, обтянутый кожей щит и медные поножи. Для наступательных боев они учились метать дротики, владеть обоюдоострым мечом и кинжалом.
Военная служба – тяжкий, для многих непосильный труд – укрепила и закалила Сократа. Он легко переносил все лишения, все трудности, зной и холод, мог долгое время обходиться без еды и без сна. Выделялся во всем. Кто первый гимнаст отряда? – Сократ. В беге, в метании копья в цель – Сократ. В учебных поединках гоплита с гоплитом побеждал опять-таки он. Ему нравилось, когда они, под песни и пенье военных труб, совершали марши по Аттике, какими бы длительными и изнурительными ни были переходы. Многие не выдерживали, падали, а Сократ не прислушивался к себе, не подстерегал момент, когда отзовется в нем усталость, – он думал о том, когда покажется Эгилея, Анафлист и, наконец, Сунион – и море, море, связывающее его родину с друзьями и недругами путями, которые не исчислишь, не обозначишь, потому что море смыкается за кормой всех кораблей, смывая их след. Море само – одна слившаяся воедино безбрежная дорога…
На втором году Сократа перевели в пограничную крепость Филу. А когда кончился срок его службы, Афины славили победу над персами у города Саламин на Кипре. Битва эта доказала, насколько справедливо было требование Перикла отдать все силы строительству военного флота, и исполнено оно было отлично.
Когда Сократ возвращался домой, с греко-персидскими войнами было покончено. Наступил счастливый период мира, период, когда Афины могли дальше богатеть, усиливаться и украшаться.
Радостный, спешил домой Сократ поскорее обнять родителей и Коринну. Вот он уже на улочках Алопеки. Люди избегают его… Едва отвечают на приветствие… Что это? Словно я в чужом городе… Встревоженный, Сократ бросился бегом.
Сильно застучал колотушкой в калитку. Тишина. Никто не идет открывать. Он обошел дом и перелез во дворик через ограду. Услышал блеяние козы и голос Перкона. Тревога спала с души. Кинулся к дому, отодвинул щеколду: дом пуст.
Выбежал на порог – стоит во дворике Мелисса, жена соседа башмачника; в руке у нее горшочек парного молока, теплого, еще вспененного.
– От вашей козы, – сказала, протягивая ему горшочек.
– Этого-то мне и хочется! – засмеялся Сократ. – Сюда, сладкое молоко, хочу как следует глотнуть родного дома после долгого отсутствия!
Он залпом осушил горшочек. Когда он допил, Мелисса обняла его и горько зарыдала. Сердце его сжалось: случилось что-то страшное… Взял Мелиссу за плечи:
– Говори! Говори же скорей, Мелисса!
– Посланный в Мунихий ничего тебе не сказал?
– Нет. Я был далеко. В Филе.
Постепенно, задыхаясь от слез, поведала Мелисса о несчастье, постигшем его. Софрониска и Фенарету унесла горячка.
Сократ стоял, не воспринимая ни слов Мелиссы, ни собственных ощущений. И лишь после долгого молчания спросил отсутствующим тоном:
– А у вас как?
Мелисса оглянулась на свой дом, видневшийся поверх ограды, за которой росла олива, и быстро, небрежно как-то ответила, что все они здоровы, Коринна уже год как замужем за Эгерсидом, и у нее ребенок.
Отец, мать, Коринна. Сократ остался один.
14
Рана болит, не утихает. Боль тройная – по каждой утраченной любви особая. Как почти все афиняне, Сократ был невероятно чувствителен и к радости, и к скорби.
Сколь вакхически был он счастлив, когда снимали оливки в Гуди, столь же глубоко несчастен он теперь. Бродит по дому, по дворику как потерянный, босиком, в одном и том же хитоне, который давно следовало бы выстирать. Оброс бородой, и еда, которую поставила перед ним Мелисса, остается нетронутой.
Мелисса пришла опять – молоко скисло, лепешки обгрызли мыши. Соседка призвала на помощь сына. Оба наперебой пытались вернуть Сократа к жизни. А он уставился в пространство… Слышит их? Нет? Не отвечает, словечка не проронит.
– Видели бы тебя таким родители! Не очень-то порадовал бы ты их, Сократ! Даже после смерти покоя им не даешь… Да ешь наконец! Хоть слово скажи! Разрази тебя Зевс!.. Ах нет, не дайте, боги! Ты что? Онемел?
Соседка уходит в сердцах.
Симон остается.
– Спрашивал меня вчера Анаксагор, когда ты придешь к Илиссу. Что ему передать?
Молчание.
Симон взял лепешку, откусил, затем отломил кусок, вложил Сократу в рот. Сократ стал жевать. Отдавал он себе отчет, что ест? Или нет? Но Симон рад уже и такому успеху. В тот день хорошо ему было шить сандалии.
Сократ бродит по двору между скульптурами и мраморными кубами. Молоток отца. Упал, зарос лавандой. Сократ поднял его, подержал в руке – и машинально побрел в дом. Лег, не умывшись, как был; спит – не спит…
Утром вместо матери явился Симон, принес лепешку и молоко. Стал кормить Сократа, как вчера: я глоток и ты глоток… И все говорил, говорил, не желая замечать, слушает его Сократ или нет.
– Коринна не хотела за Эгерсида, плакала, убежала к бабушке в деревню. Отец силком приволок ее обратно… Все повторяла: «Люблю Сократа…» Пей молоко, еще, еще! Забудь ее. Мама посылает тебе чистый хитон, а я сшил тебе сандалии. Впору ли? Ну-ка, примерь!
Впервые Сократ заговорил:
– Освобождаешься от всех потребностей – человеку ведь так мало нужно, – даже сандалий не надо… Но ты добрый, Симон, я возьму их…
– А к Периклу пойдешь? Ты говорил – когда вернешься…
– Нет. Не буду я скульптором.
Симон даже испугался:
– Как? Что?! Не будешь?.. Почему?!
Сократ уставился на молоток, лежавший на скамье:
– Может ли радовать меня работа – без отца? Камни во дворе напоминают мне, что его уже нет…
– Что же ты будешь делать?
– Не знаю.
Долгая тишина.
Симон растерянно переминается с ноги на ногу.
– А ты не хочешь поговорить с друзьями? Каждый день справляются о тебе…
Сократ не ответил. Симон ушел, а он почти целый день просидел на постели. Ужином его опять накормил Симон. Потом сказал:
– Пойдем. Покажу тебе кое-что.
Вывел Сократа во двор. На ограде, словно голуби на карнизе, сидели рядышком все его друзья. Никто не заговаривал, все только смотрели на него. Сократ отвернулся – глаза его блестели.
Симон тихонько спросил:
– Ты плачешь?
Поколебавшись, Сократ огрызнулся:
– Не говори глупостей, сапожное шило!
Ушел в дом.
Назавтра он и Симон долго стояли над общей могилой Софрониска и Фенареты. Молчали.
– Поставил бы над ними что-нибудь из мрамора… – тихо молвил Симон.
– Меня ужасает жестокость судьбы, – отозвался Сократ. – Почему так случилось? Отец был добр и справедлив. Всю жизнь трудился. Еще теперь звучат у меня в ушах удары его молотка. А мама?!. Самая ласковая на свете, мать тысяч детей, дарительница жизни – и вот сама скошена в расцвете лет… За что? Какое зло совершила?
На могиле цвели нарциссы. Свежие…
– Кто их поливает?
– Откуда мне знать? Сюда ходит столько женщин, которым она помогала, – это они ухаживают за цветами, и миски с едой приносят ей…
О матери осталась память как о дарительнице многих жизней. От отца остались статуи, барельефы – частицы красоты. После них обоих остался я. Оба они отдали городу, что могли. Что отдам ему я?
Вернувшись с кладбища, Сократ лег, измученный скорбью.
Знаю, что сделаю. Заколочу окна. Прибью запоры на дверь. Заживо похороню себя!
– Не делай этого!
Сократ замер. Испугался. Оглядел комнату. Кто это сказал? Кто сказал ему: «Не делай этого»? Ведь он явственно слышал! Строптивость его взбунтовалась.
– А вот же сделаю! – яростно крикнул он. – Не выйду отсюда! Запрусь! Погибну тут!
– Не делай этого! – уже повелительно прозвучал тот же голос.
Сократ съежился на ложе и до утра не сомкнул глаз.
Друзья стояли у дома Сократа, ожидая, когда он их позовет.
– После того, что с ним случилось, нельзя врываться к нему, как прежде, с шумом и скаканьем через ограду, – сказал Критон.
И его послушали.
От Симона они знали, что Сократ опустился, призраком бродит по дому и двору. Поэтому они не ждали, что расслышат его шаги, – ждали его голоса.
Он появился внезапно. Лицо, обычно озаренное внутренним светом, теперь – серое, давно не бритое, горестные складки, щеки бледные, и взгляд уже не такой мягкий, не такой проницательный, как бывало.
– Входите, – тихо сказал он и молча обнял каждого.
Расселись на мраморных кубах, как два года назад. Здесь мало что изменилось – не хватало лишь нескольких кусков мрамора да рук, что обрабатывали их. И нет больше искр, зажигавших одушевление в доме, хотя тот, кто, бывало, рассыпал эти искры, сидит перед ними – не твердый духом, как прежде, а вялый, сгорбленный; жует травинку, сорванную меж камней.
Друзья заговорили о новостях. Сократ сидел, уставившись в мраморную плиту. Он слышал, что говорят, но как-то смутно. Будто сквозь тучу, которая окутала все вокруг него и не хочет рассеяться. Туча укоров, туча саранчи, пожирающей все, что стремится в нем к жизни…
Зачем я убегал от отца, когда должен был помогать ему в работе? Зачем именно в последнее время заставлял родителей опасаться, что вырасту ненадежным, разбросанным человеком?
Критон коснулся его плеча:
– Ты слушаешь нас, Сократ?
Он молча кивнул, но туча, поглощающая все светлое в нем, не рассеялась. Какой страх вселил я в их души, – страх, что из меня ничего не выйдет, что стану обузой для них, бездельник, неудачный сын – раскрыл было крылья к полету, да и остался прикован к земле…
– Удар, постигший тебя, страшен, мы переживаем его вместе с тобой, – говорил Критон.
– Мы чувствуем твое горе, Сократ, – подхватил Пистий.
– Да, все мы, – закончил Киреб.
– Ты не слушаешь нас! – уже резче сказал Критон.
…А они-то озабоченно внушали мне: работай, трудись, не убивай время на бесполезные вещи… Даже легкомыслие юности должно иметь меру! Ах, знаю, мамочка, – умеренность, умеренность во всем, софросине…
Отец, как, наверное, я был нужен тебе, когда силы твои шли на убыль! Как нужен был я вам обоим в вашей болезни!..
– Спасибо тебе, Симон, и твоей матери, – тихо промолвил Сократ.
Впервые благодарил он соседей за заботу о родителях, о доме, о себе самом…
Но ответа Симона он уже не слышал. Продолжал мучить себя. Почему не сумел я сказать Коринне: жди меня? Не я ли сам столкнул ее в вонючую Эгерсидову кадку с краской?
Критон уже не мог удержаться от гневного тона:
– Твоя боль – нам как собственная. Так чувствуем все мы, собравшиеся здесь. Но ты ведь из нас самый сильный! Ты ли это, Сократ? Сократ никогда ничему не поддавался! Скажет: хочу! – и бывало так, как он сказал. Теперь похоже, что ты уже не в силах сказать свое «Хочу! Хочу жить!» Скорбь твоя сильнее тебя, всего скрутила. Это ли твоя умеренность, та софросине, которую ты внушал нам?
Сократ отвел глаза от камня, удивленно поднял их на Критона:
– Неужели я это делал?
– Нет, вы посмотрите на него! – вскричал тот. – Он еще спрашивает! Он не знает, что делал! Зачем отрицаешь? Или сегодня уже потеряло значение то, о чем ты толковал нам вчера?!
– Не сердись на меня, дорогой Критон, – тихо сказал Сократ. – Я действительно не знаю, чтоб я что-то внушал вам. Я ведь и сам нуждаюсь в том, чтобы кто-то пестовал во мне добрые начала…
Друзья удивились этим словам, но Сократ продолжал:
– Моя мать часто напоминала мне о необходимости быть умеренным. Софросине… Это слово так красиво звучало в ее устах… Быть может, поэтому я, сам того не сознавая, передавал его и вам. Сам же я мало им руководился. Или ты, Критон, забыл притон в Пирее?
Краска выступила на тонком лице Критона.
– Забыл! И не желаю вспоминать. Зато ты, Сократ, забываешь то, что забывать не имеешь права! Что ты обещал Периклу и Фидию?
– Хариты? – выговорил Сократ медленно, словно встали перед его внутренним взором не радостные богини, а мстительные Эриннии.
– Да. Хариты! – Критон улыбнулся другу. – Я рад, что ты вспомнил.
И он рассказал Сократу, что Фидий вот уже более года руководит всем строительством в Афинах. На Акрополь нескончаемым потоком свозят мрамор, там целый муравейник, толпы ремесленников, каменотесов, скульпторов – своих и пришлых… Слово «пришлые» Критон подчеркнул.
– Фидий сказал о тебе моему отцу: Сократ не показывается. Видно, его уже не интересует эта работа.
– И не интересует! – вырвалось у Сократа – он подумал о Коринне. – Да я и не смогу теперь…
– Почему? – спросил Симон. – Тебя покинуло твое «хочу»? Критон прав. Сократ уже не Сократ.
Критон обвел всех многозначительным взором, миновав одного лишь Сократа.
– Его уже не сдвинешь с места – окаменел, как этот мрамор. Афинянин ли он еще?
– Что ты сказал?! – возмущенно вскинулся Сократ. – Это мне-то?! И ты, Критон?
– Я сказал тебе правду, – твердо ответил тот и повернулся к остальным. – Пойдемте. Не будем мешать ему. Оставим его с его одиночеством и отчаянием, если таково теперь его «хочу». Уйдем, друзья!
Встали разом, пошли прочь. Только Симон еще оглянулся, но и он, следом за остальными, покинул Сократа.
Сократ тоже встал. Долго стоял среди разбросанных глыб, статуй, торсов, каменных рук, ног, голов, словно зажатый этими обломками мрамора. Смеркалось – а ему чудилось, будто света становится больше. Белел мрамор, светлело небо над оградой со стороны города…
И вдруг Сократ вспрыгнул на камень и, перескакивая с глыбы на глыбу, промчался через двор, распахнул калитку с криком:
– Критон! Симон! Киреб!
И застыл на месте.
Ибо стоят за оградой все они – Критон, Симон, Киреб, Пистий, Ксандр, Лавр… Изумленно смотрит на них Сократ, никак не опомнится от неожиданности. Заметил потом: смеются глаза Критона – и разом все понял. Забушевал:
– Шуты! Комедианты! Разыгрывать меня вздумали?! Тыкать, как котенка носом в молоко, чтоб пил? Смеешься надо мной, Критон, что теперь я лакаю как оглашенный?
– А разве плохо вышло? Я, да и все мы, тоже сегодня сказали «хотим»! Вот и захотели! – уже в полный голос смеется, Критон, и вторят ему друзья.
Глаза Сократа мечут молнии:
– Бездельники! Шалопаи! Негодники! Значит, Сократ уже не Сократ? И даже не афинянин? Да разве оглох я на оба уха! Даже по ночам чудится мне – кто-то зовет… Тот же голос, который запретил мне похоронить себя здесь…
Пылают глаза Сократа, кровь прилила к щекам, поднялись руки. А голос? – Это опять его прежний мелодичный, красивый, звучный голос, ясный, в нем – жар и ветер, в нем – Зевсовы громы:
– Хотите подсказывать мне, как школяру? Клянусь всеми демонами – я сам лучше всех знаю, кто меня зовет! Мои Афины меня призывают!
Критон усмехнулся и произнес с невинной простотой:
– Потому-то мы тебя и поджидали – пойдем с тобой.
– Так чего же мы тут торчим? Скорее в город, хочу наконец приветствовать мои Афины! – Он вдруг рассмеялся. – Ну и подцепили же вы меня на крючок – это меня-то, который и сам любитель закидывать удочки!
Двинулись все вместе.
– Эй, Сократ! – окликнул его Пистий. – А дверь не запрешь?
– Зачем? Воры ко мне не явятся. А время не ждет!
ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРВАЯ
«Протекло четверть века. Сорокапятилетний Сократ забыл Коринну и влюбился в Ксантиппу, юную дочь гончара из дема Керамик…»
Рывком распахнулась дверь, и в мой кабинет вошел Сократ.
– Вхожу без предупреждения, ибо в прихожей нет раба, который оповестил бы тебя о моем появлении, к тому же я возмущен…
Я притворился, будто не расслышал его последних слов, и со всем пылом приветствовал дорогого гостя.
Но старый философ, не слушая меня, сердито продолжал:
– Мало о ком столько написано за все эти столетия, как обо мне. Один мне рукоплещет, другой свистит и топает ногами, как плохому миму. Тот превозносит, этот ругает… Клянусь псом! Можешь ли ты разобраться во всем этом, если вдобавок сам-то я ничегошеньки не написал?
– Потому я и радуюсь так, Сократ, что ты посетил меня…
– Погоди! Когда я узнал, что ты собираешься писать обо мне роман, да когда объяснили мне, что такое роман, в котором автор якобы имеет право по своему произволу…
– Ну, не совсем, – попытался я возразить, но Сократ не дал мне договорить.
– … Я сказал себе: присмотри-ка за ним, ступай побеседуй…
– Ты не представляешь, как я этому рад.
– Но сначала я буду ругать тебя! Я возмущен!
– Чем, дорогой Сократ?
– Я ведь слышал, как ты тут разговаривал сам с собой…
– Приношу свои извинения – дурная привычка…
– Э, у меня она тоже была, – отмахнулся Сократ. – Но к делу. С тем, что ты написал обо мне до самого того момента, когда позвали меня мои Афины и я во главе товарищей помчался на агору, я согласен. Но в самом начале второй части – какая ошибка! Будто я забыл Коринну! Откуда ты это взял, гипербореец? Никогда! Ведь то была моя первая настоящая любовь, а она не забывается. Правда, она отравила даже мое искусство… Жизнь перестала меня радовать, обещание изваять Харит для Пропилеев меня тяготило. Однако время рассекает гордиевы узлы лучше всякого меча. Я чувствовал, что и теперь Коринна – больше моя, чем этого зловонного красильщика. Он впряг ее в работу, словно пятого своего раба, а я видел в ней богиню. Да не одну – трех богинь сразу! Причем видел я ее такой в тот миг, когда она была прекрасней всего, и такой она останется во мне навсегда.
– Ты и вознес ее такой над Пропилеями!
– Да – но ты не знаешь, как далеко было до этого, когда я вернулся с военной службы. Фидий похвалил мои рисунки: да, да, мило, мило – слышать его похвалу мне было приятно, ведь рисовал-то я скорее сердцем, чем рукой, – но тут же он заявил, что фриз может подождать, и ну гонять меня, как борзая лисицу!
Сократ поднялся с кресла, прошелся по кабинету своей утиной походкой; босые ступни его грузно шлепали по паркету, плащ развевался на ходу. Он грыз семечки, сплевывая шелуху в цветочные горшки на подоконнике. Глянул на меня своими выпуклыми глазами:
– Видел бы ты, как гонял меня Фидий! Говорил: хочешь быть скульптором – будь настоящим! Не просто каменотесом – художником! Ох, и труд же был – без конца единоборствовать с камнем… А тогда для этого было столько возможностей – тучи мраморной пыли стояли над Афинами…
– О каких возможностях ты говоришь, дорогой Сократ?
– Клянусь псом! Вспомни только: после нашей победы над персами на Кипре, под Саламином, вдруг мир, конец персидских войн. В силах ли ты представить себе, что это значило для Афин? Владычество над морем, над островами, портами, морская торговля, богатство!
Незадолго до появления Сократа я решал трудную задачу: как поведать читателю обо всем том, что произошло за эти два десятка лет прежде всего с самим Сократом, но и с Афинами, со всей Элладой. И вот Сократ задает мне тот же вопрос! Пожалуй, можно воспользоваться случаем, чтоб осведомить читателя о событиях тех лет, почерпнув сведения из самого достоверного источника: непосредственно из уст моего героя.
И я попросил Сократа рассказать о том, что он считает самым важным из происходившего в тот далекий век, когда он жил.
Бесхитростный философ легко дал себя уговорить. Он рассказывал, лузгая семечки, а я записывал с таким усердием, что бумага под моим пером едва не дымилась:
– Борьба Перикла с Фукидидом, вождем аристократов, завершилась остракизмом – Фукидид был изгнан из Афин на десять лет. Демократия одержала верх над аристократией. Ты знаешь, конечно, – основу демократии положил Солон. Для нашего мира это было равносильно чуду. Клисфен возвел стены этого здания, а Перикл расширил его и украсил.
– Поначалу он, должно быть, натолкнулся на сопротивление со стороны многих… – осмелился я вставить.
– Еще бы! До сей поры живо помню, как все тогда кипело в Афинах. Могло ли нравиться богачам, что Перикл у них отнимал, а низшим прибавлял и оболов, и власти? Не могло – ты киваешь, и ты прав.
Сократ рассказал, что Перикл хотел сгладить вопиющее различие между богатыми и неимущими. Поддерживая неимущих, он укреплял экономическую, военную и политическую мощь Афин.
Установив бесплатный вход в театры, он дал возможность народу расширить свои горизонты, повысить образованность, улучшить нравы, пробудить в нем любовь к Афинам.
То, что могло быть принято за милостыню, подачку, благотворительность, на деле приносило пользу всей общине; что казалось просто зрелищем – поднимало дух народа.
– А что, по-твоему, больше бесило аристократов – убыль денег или власти и авторитета?
– Думаю, то и другое в равной мере, – ответил я.
Сократ засмеялся:
– В равной мере? Нет! Больше всего они ярились на народное собрание, на нашу экклесию. Видишь ли, Перикл превратил экклесию в верховную политическую институцию. Четырежды в месяц собиралась экклесия на холме Пникс и народ голосованием решал все важнейшие вопросы. Пникс стал пугалом для богачей. Там ведь решались и их дела, что сказывалось на их доходах, на их былом влиянии. Периклу было чего опасаться – не только тех аристократов, которые открыто шли против него, но куда более страшного – ибо незримого – недруга. Ходишь по Афинам, ничего подозрительного вроде и нет, а между тем в этой вилле или в той шепчутся, сдвинув головы, девять, человек, одиннадцать человек… Никто даже не знал, сколько их в городе, таких гетерий, таких сборищ богачей-олигархов, тайно присягнувших все силы отдать для свержения демократии и захвата власти…
– Неужели Перикл не боялся их? – удивился я.
– Не могу сказать. Может, боялся, может, нет – во всяком случае действовал без оглядки. – Сократ погладил свою лысину. – Было у Перикла одно свойство, чуть ли не страсть – любил опасность. А быть с народом против тех, кто наверху, чертовски опасно.
– Ну а тысячи талантов, истраченных на строительство? Экклесия проголосовала за них? Ведь это было опасным шагом против полисов – членов морского союза: общая казна, откуда черпал Перикл, складывалась из их взносов. Или я ошибаюсь?
– Нет, нет. Не ошибаешься. Экклесия тоже поняла, что это опасная игра. Но не забывай – Перикл был великий государственный муж и зажигательный оратор. Он привлек народное собрание на свою сторону не описанием того, какими прекрасными станут Афины, а тем, что указал на выгоды, которые получит от строительства афинский народ. Возрастет красота Афин – поднимется и благосостояние всех жителей. Вот чем завоевал он голоса – и голоса восторженные.
Затем Сократ – и сам восторженно – рассказал, как расшевелил Перикл все Афины, всю страну, даже море с островами. Все пришло в движение! Он то и дело являлся в народное собрание с каким-нибудь новым предложением: возвести Длинные стены, расширить гавань в Пирее, увеличить число триер и – строить, строить… «Лукоголовый олимпиец», сказал Сократ, хоть и любил больше всего искусства и философию, отнюдь не был пустым мечтателем. Он обеими ногами прочно стоял на земле и думал об экономической прочности Афин и всей Аттики.
Усевшись снова в кресло и удобно вытянув ноги, Сократ продолжал:
– Представь только, какое оживление внесло строительство одного лишь Парфенона! Надо было добывать мрамор на Пентеликоне, грузить, возить, доставлять на Акрополь, обрабатывать; затем – лес, драгоценные ливанские кедры, слоновая кость из Африки, золото… Перикл дал работу людям на суше и на море. Всем ремесленникам: чеканщикам, каменотесам, скульпторам, живописцам, ткачам – да разве всех перечислишь? Каждого, у кого были здоровые руки и хоть какое-то умение, – каждого занял делом Перикл! Брал от всей страны – но и возвращал всей стране. – Сократ встал, протянул ко мне свои большие, сильные руки. – Вот и я этими самыми руками помогал со рвением, участвуя в великолепных трудах. И горжусь этим, напиши там у себя!
Я был поражен картиной, вставшей передо мной со слов старого философа. И у меня сорвалось удивленное:
– Замечательный человек был Перикл!
– Да, но он был честолюбив и охоч до славы, как все из проклятого рода Алкмеонидов. Забывал о софросине! – Он засмеялся своим чудесным жизнерадостным смехом. – Софросине – великая мудрость человечества, но кто из нас не забывал о ней частенько? Ты, например? – повернулся он ко мне.
– Конечно, дорогой Сократ! На каждом шагу грешу против софросине. Хотя под старость…
– Не говори мне о старости! – расхохотался Сократ. – Я старше тебя на двадцать четыре столетия!
Когда мы насмеялись, он рассказал мне, как в определенные дни посещал кружок Аспасии, к которой ходили знаменитые художники и философы. Там он познакомился с Эврипидом, там началась их большая дружба. С Анаксагором Сократ встречался постоянно. Философ уже написал о том, что некогда, на берегу Илисса, говорил Сократу о богах, и часть его рукописи ходила по рукам в тайных списках, распространяя неверие, хотя в то же самое время возродился величественный храм Афины, Парфенон, а закон по-прежнему карал неверие смертной казнью.
– А как ваши Хариты, учитель? – Я машинально перешел на «вы», и Сократ тотчас меня оборвал:
– Как ты со мной говоришь? Сколько Сократов сидит перед тобой? Странные обычаи у вас тут, на севере! Ну да ладно. Не извиняйся. Хариты, спрашиваешь? Я уже стал терять надежду, что когда-либо изваяю их. Еще я опасался, как бы Фидий не разгневался на меня за мою страсть беседовать с людьми, помогая им родить правильные взгляды, скрытые в них и не желающие вылезать наружу…
Был однажды такой случай: на мозаичные работы были поставлены два брата, и они не поделили между собой вознаграждение. Старший орет: ты вор! Младший орет: не вор я! Ну и схлестнулись. У одного палец сломан, у другого нос разбит. Скажи-ка, милый, ну можно ли было равнодушно смотреть на такое безобразие?
– Смотря кому, – ответил я. – Сократу – решительно невозможно!
– Ага, знаешь меня уже, – усмехнулся он. – Я и встрял. Утихомирил драчунов, а то бы так друг друга отделали, что ни один не смог бы заработать даже того обола, из-за которого подрались. А после стал я залезать к ним в душу своими вопросами, да так глубоко, как повитуха заходит рукой в лоно роженицы.
Из старшего вытянул на свет божий признание, что вообще-то он обязан делиться с младшим поровну, но берет себе больше. Из младшего – что он действительно стащил у брата часть денег, чтоб было поровну, как им и полагается за равный труд. Старший оправдывался тем, что у него большая семья, младший – тем, что хочет семью завести.
Начал я с ними рассуждать об этом запутанном деле, а вокруг набежала целая толпа – каменщики, художники по мозаике, рабы, надсмотрщики, да со своими ослами… Как превратил я все это в зрелище для публики, а братьев-соперников в актеров импровизированного спектакля, тут и начали мои голубчики соревноваться в справедливости: сплошное благородство да примерная братская любовь! Старший возвращает младшему деньги, чтоб тот мог жениться, младший сует их старшему, чтоб хватило прокормить семью. Из трагедии, которая грозила окончиться братоубийством, вылупилось зрелище для богов, и все, способные видеть и слышать, подняли дружный хохот при виде того, что я породил. На хохот явился Фидий: «Вы что, ребята? Почему не работаете? А, вон оно что! Опять Сократ!..»
Я не смог ему хорошенько растолковать, что предотвратил сейчас преступление. Трудно объяснять такие вещи: пока убийство не совершено, напрасно и говорить о нем…
Частенько боялся я, что Фидий возьмет да выгонит меня за подобные представления, когда я показывал на публике свое повивальное мастерство, но он этого не делал. Берег меня для Харит.
Сократ проглотил слюну.
– Мне уже перевалило далеко за тридцать, когда начали возводить Пропилеи, и Фидий сказал: «Вот тебе три куска мрамора, высекай богинь!»
Харит я закончил успешно, и поместили их в центре над входом в Пропилеи. Фидий пригласил Перикла – смотреть; он пришел со своими друзьями и советчиками, а я через Симона позвал Коринну. Не знаю, была ли она в толпе, которая мгновенно окружила правителя. Думаю – нет: Симон говорил как-то, что она не хочет показываться мне на глаза – располнела, и дочь у нее уже почти такая же взрослая и красивая, какой была некогда она сама. Так что не Эгерсидова, а моя Коринна вознеслась над Пропилеями, через которые проходят на Акрополь тысячи людей, любуясь ею в образе танцующих богинь…
Ну а после я делал все, что было нужно; только споры мои с Фидием учащались, и жизнь моя все резче раскалывалась надвое. – Он улыбнулся своей светозарной улыбкой. – Ты, конечно, понимаешь, между чем и чем!
– Понимаю, – ответил я. – У нас, чехов, есть такая старинная книга, называется «Спор души с телом».[13]
– Клянусь псом! Это хорошо! Правда хорошо. То, что происходило со мной, можно назвать «Спор камня с человеком»! – Он засмеялся. – Ты угадал, друг. Ну скажи, мог ли я усидеть наверху, на Акрополе, обтесывая мрамор, в то время как под Акрополем, в стое пойкиле – по-вашему, в портике, расписанном фресками, – собирался держать речь кто-либо из софистов, Протагор или Горгий? Они часто приезжали в Афины. Мог ли я не ходить слушать их? Ты помнишь, еще с отцом бывали у меня подобные споры: резец и мрамор – или «ворон считать», как он называл мою тягу к науке! Но теперь все было сложнее. Новая философия! Я смотрел во все глаза, слушал во все уши – а они у меня были большие, как у давнего моего приятеля Перкона, которого я отдал соседу в Гуди: пускай лучше живет у него, чем страдает в Афинах от моего недосмотра… Как и Анаксагор, эти два софиста, Протагор и Горгий, отрицали существование богов. Это меня и привлекло к ним. К тому же как они назывались-то: учители мудрости! Пришли-де мы учить, образовывать каждого… Понимаешь – каждого! Но ведь, клянусь кербером, и я хотел того же, стремился к этому! Вот уже не одной лишь материей, вселенной, атомами занялись философы – начали и о человеке думать! Я ликовал, и в рвении своем готов был голову сложить за Протагора, за то, что он сказал: «Человек – мера всех вещей».
Сократ засмеялся.
– Впрочем, я тогда еще не знал, что софисты младшего поколения научатся перекрашивать белое в черное, научатся толковать и в положительном, и в отрицательном смысле любое утверждение, а стало быть, и эту великолепную формулу Протагора. Но хватит об этом. Теперь представь: мои старые друзья и многие новые, молодые – Алкивиад, Эвклид, Критий – стали называть себя «учениками Сократа», «сократиками» и ни за что не соглашались от этого отказаться. Они являлись ко мне, ходили со мной на агору, на рынок, а там меня всегда уж поджидали люди, жаждущие моего совета. Устраивались они на ступеньках портика, где обычно выступали всякие фокусники, где бренчали кифары и танцовщицы скакали по ступеням, как буквы по папирусу, когда у пишущего дрожат руки. Девчонки те были тщательно подобраны, все пригожие, фокусники – настоящие волшебники. Но стоило появиться мне – народ тотчас окружал меня, и фокусникам оставалось только свернуть лавочку. Сократ! Опять будет на что поглядеть! То-то будет развлечение!
Сократ глянул на меня:
– Ты несколько удивлен, мой молодой друг? Ага! Думаешь: как же так, Сократ – и развлечение? А между тем развлечение-то было, хотя я вовсе не собирался развлекать людей. Я до тех пор донимал кого-нибудь из них, пока он не сбрасывал маску, которая изображала мудрого, а скрывала глупца. Это-то и нравилось зрителям до крайности – пока задевало других. Ого, братцы, Сократ из каждого сумеет вытащить на свет, что там у него в печенках, ха-ха! Пускай возьмет теперь в работу Небула или Тубула, а меня – меня пусть не трогает! Бывало, такой насмешник воображал, что можно, пожалуй, чему-нибудь у меня и подучиться – зато если я брался за него самого, то тут уж хохотали другие, просто зеваки. Я уже говорил тебе, что ко мне обращались за советами в самых разных делах: торговых, судебных, семейных, например как помирить вспыльчивого мужа со сварливой женой, да боги ведают, в каких еще. Я давал советы, как умел, серьезные или веселые, но – всегда бесплатные… Впрочем, нет! Не всегда! Сколько раз платили мне оплеухами и пинками! Что скрывать – однажды торговка окатила меня ведром воды из-под снулых рыб, мутной и вонючей. Тьфу, до чего неприятно! Но не думай, была в моих занятиях и хорошая сторона: дашь сегодня человеку совет, он меня за него обругает, чуть ли не побьет, а завтра, глядишь, превозносит меня как своего спасителя. Нет, я имею полное право сказать – люди меня любили, хоть и называли порой вовсе нелестно – «умник-разумник», а то даже «пройдоха»; но к этому они прибавляли словечко «наш»: наш умник-разумник, наш пройдоха. Один продавец оливок говорил, что без меня и Афин-то себе представить не может. Понимаешь, тут-то и был камень преткновения: я хотел быть внизу, на агоре, а Фидий желал меня видеть на Акрополе. Одним словом, тянуло меня от камней к живым людям…
– Я знаю, – заметил я. – Известность твоя росла, привязанность народа тоже, всюду ты был желанный гость – могу себе представить, с каким нетерпением высматривали люди, когда же ты наконец появишься…
– … в новом телесном облике, – иронически хохотнул Сократ. – Да, я был уже не прежний гибкий юноша, а бородатый брюхан, лупоглазый, с толстыми губами и лысиной, ха-ха!
– Но всегда притягательный и неотразимый – так, по свидетельству Калликла, выразился о тебе Алкивиад! – Я засмеялся тому, что на сей раз последнее слово за мной.
– Прекрасное было время… Потомки назвали ту эпоху «золотым веком», и думаю, они правы. Земля тогда рождала всего в изобилии: оливки и ячмень, но точно так же – искусства, знания, жажду познавать… Все приносило плоды, великолепные, как золотые яблоки в садах Гесперид. Перикл осуществил свою мечту: Афины становились Элладой в Элладе. Культурным центром тогдашнего мира. Желаемое стало действительностью.
Сократ вздохнул.
– Но постепенно эту эпоху подъема начала разъедать некая кислота, которая распространялась от олигархических гетерий. Пока Перикл был в полной силе, тайные сии стратеги не осмеливались покуситься на него, но, когда он постарел и ослаб, они повели наступление – сначала на тех, кто был ему предан, а там, чем дальше, тем ближе стали подбираться и к нему самому…
Сократ умолк. Не отвечал на мои вопросы. Стоял неподвижно, уставясь в пространство. Меня это встревожило, но я вспомнил, что это его давняя привычка – простаивать, погрузившись в думы, хотя бы и сутками.
Наверное, сейчас он в мыслях своих подходит к трагическому концу Перикла. Не простоит ли он так до утра? А мне так не хочется, чтобы он молчал: мы ведь только что коснулись событий, столь важных для судьбы Афин, да и самого Сократа…
Однако вскоре он обернулся ко мне со своей широкой улыбкой:
– Раз как-то сижу я у Перикла – была одна Аспасия, больше никого… Перикл по моей просьбе рассказывал о своем путешествии с отрядом военных кораблей к Понту Эвксинскому. Вдруг с горьким плачем врывается к нам мальчик лет пятнадцати. Лицо перекосилось, покраснело, даже его расшитый хитон был мокрым от слез. Перикл прервал речь и заботливо спросил подростка, что случилось. А тот все плачет, рыдает, словно его режут на части.
– Кто был этот мальчик? – с нетерпением спросил я.
– Алкивиад. Тот, о котором ты сам упомянул.
– Племянник Перикла и новая надежда Алкмеонидов, – пробормотал я.
Сократ утвердительно кивнул и стал рассказывать дальше – о том, как Перикл и Аспасия, встревожась, допытывались у мальчика, что же с ним стряслось, а он кричал, рыдал, топал в ярости ногами и никак не успокаивался. Тогда Сократ спросил, известно ли ему, что одна из высших добродетелей мужчины – софросине? Алкивиад огрызнулся: «Знаю! Ты хочешь, чтоб я перестал плакать, но он такой милый, такой красивый, прихожу, глажу его по морде, целую, а он голову свесил и глаза у него такие печальные!»
Аспасия сообразила, что речь идет о любимом жеребенке Алкивиада, и спросила озабоченно: «Уж не болен ли твой Оникс?» «Болен, болен!» – всхлипнул мальчик. «Это ужасно, мой милый», – сочувственно сказала Аспасия и потянулась обнять Алкивиада, но тот увернулся и заплакал еще горше.
– Я взял его за руку, – продолжал Сократ. – Взял крепко, чтоб он не мог ее вырвать. «Ты полагаешь, что плачем поможешь жеребенку?» Он сердито сверкнул на меня глазами, но слушать стал. «Был у меня любимый ослик, – продолжал я. – Звали его Перкон. Раз он заболел, и я сам его вылечил. Попробую вылечить и твою лошадку, хочешь?»
До этого случая, встречаясь со мной в доме Перикла, Алкивиад как бы не замечал меня. А тут притих. Теперь, когда он перестал плакать, стало видно, до чего этот мальчик прекрасен. Не было в нем ни одной, самой мелкой черточки, которая нарушала бы эту чудную красоту. Прелестное лицо в рамке буйных кудрей, глаза, как звезды, ясные, тело стройное, как тополь. Даже для Эллады, где так много красивых юношей, Алкивиад был дивом.
Он окинул меня внимательным взглядом, от лысины до босых ступней. И вдруг глаза его засияли, он метнулся ко мне – пал на колени, ноги мои обнял, крича: «Да! Ты, Сократ, спасешь моего Оникса! Пойдем скорее, я отведу тебя к нему!» – «Постой минутку, сначала я спрошу тебя…» – «Спрашивай, только скорей!» – «Кто кормит Оникса?» – «Раб Дурта, фракиец, но он любит Оникса!» – «Больше никто?»
Алкивиад смутился. «Иногда и я сам… Вчера вечером я дал ему…» – «Ну-ну, что же ты ему дал?» – «Ореховые лепешки, намоченные в сладком вине… Он это любит! И сколько он их съел!»
«Довольно, – улыбнулся я. – Я узнал достаточно. Не бойся. Не погибнет твой Оникс. Когда я пойду домой, Перикл будет так любезен, пошлет со мной раба, я дам ему коренья. – Я обратился к Аспасии. – Щепотку на котилу кипятка, дать отстояться и влить в посудину, из которой жеребенок пьет. – И снова мальчику: – Три раза в день, и так три дня подряд, в течение которых ничего не давать ему есть, – и он будет здоров».
Вспоминая этот эпизод, Сократ долго тихо посмеивался, а в моем воображении стояла картина: у ног Силена – красивый, балованный, капризный мальчик, необузданный, полный причуд, он обнимает, целует колени Сократа, обоих так и тянет друг к другу, хотя они – прямая противоположность во всем, кроме волшебства речи и голоса, и крепнут между ними удивительно прекрасные, несмотря на все превратности судьбы, прочные узы…
И я понял, что произошло в ту минуту.
Перикл внимательно наблюдал за обоими, особенно за внезапным порывом любви Алкивиада к Сократу. Он сразу угадал, что здесь возникает привязанность, у которой более глубокие корни, чем благодарность к Сократу за его желание вылечить жеребенка. Перикл знал, как высоко ценит Сократа Анаксагор, как любит его афинский люд, и подумал, что у Сократа есть качества, каких недостает Алкивиаду: скромность, трезвость, настойчивость. Перикл сказал себе, что Сократ со своей умеренностью, пожалуй, единственный, кто сумеет укротить этого бесенка.
А Сократ, улыбаясь, рассказывал дальше:
– Вдруг ко мне обратился Перикл: «Дорогой Сократ, не хочешь ли ты учить Алкивиада?» Крайне изумленный, я ответил: «Мне его учить? Могу ли я осмелиться! Знаю ведь, что сам ничего не знаю… Быть может – Анаксагор…» – «Анаксагор стар, – возразил Перикл, – мальчик будет утомлять его. И будто ты ничего не знаешь! Скромничаешь! Но сделаю тебе уступку, скажу иначе: хочешь быть Алкивиаду другом?»
Я без колебаний ответил: «Другом – с радостью». И мальчик вскочил: «Да, да!» Бурно обнял меня: «Я тоже хочу этого!» И в самом деле, с той поры Алкивиад все время проводил со мной, звал к себе, мы вместе ели, беседовали, он шагу без меня не желал ступить. Говорил: когда ты со мной, я хороший. Без тебя мной овладевают злые демоны…
Сократ улыбался вдаль, сквозь века. Наверное, видел внутренним взором тот день, когда он, одержимый страстью поднимать дух человека все выше, все выше, завоевал любовь этого красивого, надменного человеческого детеныша.
– Чем старше становился Алкивиад, – продолжал старый философ, – тем больше очаровывал он людей своим обликом… и своими сумасбродствами. Многие мужчины и юноши мечтали сблизиться с ним. Заискивали перед ним, льнули к нему. Находились даже льстецы, внушавшие ему, что славой и величием он превзойдет самого Перикла. Но Алкивиад всех отвергал. Так оттолкнул он однажды Анита, богатого кожевенника, который впоследствии стал во главе Афин.
Со мной, напротив, Алкивиад хотел быть постоянно. Он охотно принимал от меня даже то, что я отнюдь не восхвалял, не преувеличивал его достоинств, а бранил за пороки. Он говорил: «Ты, мой любимый Сократ, делаешь для меня самое лучшее. Терпеливо вычесываешь мои недостатки, словно блох из шкуры блохастого пса. Не удивляйся же, что я пристаю к тебе и цепляюсь за тебя. Потому что блохи эти жестоко меня кусают!» А гребень у меня был весьма частый!
Вспоминая об этом, Сократ смеялся.
– Говорят, что ты, общаясь с Алкивиадом, отдавал ему частицу своей славы, – заметил я.
Сократ нахмурился.
– Не люблю судить о вещах с одной стороны. И на меня падала частица Алкивиадовой славы – славы его древнего рода, его пленительной непосредственности и необузданности…
Он перестал хмуриться, усмехнулся сам себе:
– А как ты думаешь! В глазах афинян я был не меньшим чудаком, чем он. Босоногий бородач, вечно в одном и том же полотняном хитоне и коричневом гиматии, человек, у которого так мало потребностей, что и нищему не сравниться, – и этот-то чудак желает добра и красоты для всех, от мелкого люда на рынке до вылощенных сынков богачей, претендующих на роль первого стратега… Буду откровенен с тобой, чужестранец, как был откровенен со своими.
– Прошу тебя об этом.
– Так слушай. Привязанность Алкивиада, вскоре перешедшая в преданную любовь, была в ту пору честью для меня и великой радостью. Но отвергнутые им поклонники, влюбленные в него до потери рассудка, смертельно ненавидели меня за его любовь.
– Как Анит, – вставил я. – Этот, дорогой Сократ, питал к тебе ненависть до конца жизни…
– Моей и своей, – договорил за меня Сократ. – Но сейчас я не хочу об этом вспоминать…
– Расскажи еще об Алкивиаде, дорогой гость! Вспомни о любви двух таких разных и все же одинаково притягательных личностей, наложивших свою печать на историю Афин…
И Сократ продолжал рассказ:
– Софросине? Куда там! Алкивиад ни в чем ее не придерживался, хотя и старался. Так же было и с его привязанностью ко мне. Во время несчастливого похода к Потидее он настоял на том, чтобы мы жили с ним в одной палатке, и сражались мы рядом. Многие дивились, почему он не выбрал себе товарища более благородного происхождения. Но оказалось, что выбор его был неплох. Когда мы пошли врукопашную, Алкивиад бился как лев, пока не упал раненый. – Сократ заговорил быстрее. – Я бросился закрыть его своим телом и дрался над ним с превосходящим противником, только мечи звенели…
– Пишут, что тебе удалось вынести его из этой битвы.
– Неужели мне было бросить его в такой резне, чтобы его добили? – строго спросил Сократ.
– И будто бы ты отказался принять награду за храбрость, которую заслужил, и отказался в его пользу? – решил я проверить, правда ли это.
– А почему бы мне и не поступить так? – Он несколько удивился моему вопросу. – Мне-то награда была не нужна. Что мне с ней делать? Зато Алкивиаду, в котором я надеялся воспитать для Афин второго Перикла, этот лавровый венок славы был и к лицу, и обязывал его…
Он замолчал.
Я глянул на него. Сократ побледнел, на лбу его прорезались морщины, он весь как-то сжался. Я вскочил, встревоженный:
– Тебе нехорошо?!
– Ах нет… Просто, вспоминая, все удивляюсь… Почему за каждое доброе дело мне приходилось дорого платить – иной раз сразу, а то и много лет спустя, в глубокой старости… Везде ли это так или только Афины знали подобную неблагодарность?
– По-моему, не только Афины… – начал я, но он не захотел расспрашивать, он остался в своих Афинах и – словно я мог что-то изменить – страстно воскликнул:
– Откуда мне было знать – кого я тогда вынес из битвы… для Афин и для самого себя?! Откуда?! Ах, мой новый друг, о наших предках и богах рассказывают легенды, полные чудес, но мы тогда, в Периклов «золотой век», да и какое-то время после него, сами переживали легенды, полные чудес…
Он вдруг забеспокоился. Встал.
– Кажется, уже очень поздно…
– Да, – я глянул на часы. – Скоро утро.
– Я должен идти приветствовать солнце, – сказал он, ласково кивнул мне и вышел.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Периклов «золотой век» – а вокруг Афин – зависть, ревность, ненависть, мятежи.
Стоит кому-либо из союзных полисов войти в Парфенон и увидеть дивно прекрасную Фидиеву Афину – золото, слоновая кость, драгоценные камни, – захватит дух у такого человека, настойчиво застучит в мозгу корыстный вопрос: а почему у нас нет такого Парфенона? Такой богини, чтобы золото стекало с ее головы до пят? Мы тоже хотим иметь такое чудо света!
Откуда берет Перикл целые горы серебра на подобное великолепие? Из наших денег! Из союзной казны! А счетов не показывает. Скажете, Афины нас защищают? Ха! Не от кого. Мир у нас. Персы уже не в силах подняться, и со Спартой заключен мирный договор на тридцать лет. К тому же ходят слухи, будто Перикл тайно посылает спартанцам по десять талантов серебра в год, чтоб закрепить этот мир.
Да, зрелище поразительное, когда из Пирейской гавани выходит в море афинский флот. Сотни великолепных триер, их паруса раздуты скорее гордыней, чем ветром. А нам-то это к чему? К тому разве, чтоб нас же пригибали к земле страхом или жестоко карали за попытки отложиться от властительных Афин! Мы хорошо помним, что сделал Перикл со взбунтовавшимся Самосом…
И от того, что Афины стали Элладой в Элладе, нам-то какой прок? Только гуще сделалась тень, в которой нас заставляют прозябать, в то время как Афины расцветают на солнце!
Такие мысли хранили союзники Афин, и такие вели они речи.
И никому из них не приходило в голову, что одними деньгами такой красоты не создашь: что для этого нужен дух человека, разум человека и страстная любовь к Афинам. А то, что всякого хоть мало-мальски умелого человека тянуло в Афины из союзных полисов, тоже мало радовало их.
Невозможно было остановить это движение. От одной победы над материей к другой, от одного нового здания, статуи, росписи к другим… Этот поток захлестнул Афины. Одна работа порождала следующую, всякая новостройка уже сама по себе требовала новых. Нельзя, чтоб вокруг Парфенона зияли развалины – шедевры архитектуры на Акрополе взывали к продолжению.
Украшались уже и другие города Аттики – и зависть, и ревность прочих полисов, членов Афинского морского союза, нарастали, подобно потоку, который невозможно остановить.
Периклу подваливало к семидесяти; он уже плохо видел, что делается вокруг, плохо слышал, что говорится. Терял гибкость. И не понял вовремя, что этот поток тащит за собой и его, что для Афин и Аттики он забирает из союзной кассы все больше и больше денег, чем следовало бы главе морского союза.
Недовольство и мятежи, вспыхивавшие тут и там, Перикл подавлял силой. Торговля процветала, бороздил море гордый флот. Афины украшались – чего же ему беспокоиться? Не достаточно ли сделал он за свою жизнь? Разве не стали Афины самой грозной силой? Периклу ли бояться ропота союзников?
Распря между аристократической Спартой и афинской демократией тянется годы. Перикл привык к ней. Привык тем легче, что при народовластии Афины расцветали непрерывно, в то время как Спарта отставала во всем, кроме суровой, жестокой системы воспитания, делавшей спартанцев воинами от младых ногтей.
Но пусть попробуют сунуться! Наш флот ворвется в их порты, Хлынут с кораблей наши гоплиты…
Мечты Перикла претворялись в действительность, а действительность рождала в нем новые мечты, уносившие его все выше и выше.
Враги Афин, враги Перикла, враги демократии и ее успехов почуяли, что настал удобный момент нанести удар, – и нанесли.
Зачем сразу война? Война не уйдет. Сначала – расшатать изнутри!
Спартанские аристократы укрепляли связи с аристократами и олигархами во всем Афинском морском союзе. Подстрекали членов союза требовать самоопределения. Им-де выгоднее не подчиняться Афинам, а поставить во главе своих полисов собственную аристократию…
И в самих Афинах спартанцы нашли союзников из числа олигархов и их приспешников. Поколебали даже часть экклесии. Но, поскольку еще нельзя было направить удар непосредственно на Перикла, а тем более на самое демократию, они через обманутую экклесию ударили по ближним Перикла.
Он стареет, слабеет. Лишится советчиков, близких – легче будет одолеть и его самого. Так рассуждали недруги и – начали действовать.
Аспасию обвинили в сводничестве и безбожии. Фидия – в краже золота, выданного ему для работ. Анаксагора – в том, что он в своей книге отрицает существование богов, сея неверие по всем Афинам, по всей Аттике, по всей Элладе.
Удар за ударом.
Тяжелее всего тот, что обрушился на Анаксагора; остальные обвинения строились только на слухах, на показаниях сикофантов и подкупленных лжесвидетелей, а тут – осязаемое доказательство: сама книга.
Была ночь. Сильно застучали в калитку. Сократ выбежал из дома, вскочил на камень, заглянул через ограду: там стоит раб Перикла, хорошо знакомый Сократу. Раб шепотом сказал:
– Приготовься к дальней дороге и сейчас же беги к Периклу!
Перикл уже ждал. Он отвел Сократа в комнату Анаксагора. Тот сидел, закутавшись в длинный дорожный плащ; с ним была Аспасия. Светильник лил тусклый, мерцающий свет. За спиной философа стоял Алкивиад. Перикл, задыхаясь, сказал:
– Сегодня нашего дорогого Анаксагора обвинили в преступном неверии. Сколько слов и слез стоило мне отстоять Аспасию, но на сей раз тщетны были мои речи. Завтра Анаксагор должен предстать перед судом гелиэи… Он должен немедленно бежать. Хочу попросить тебя…
Сократ не дал ему договорить:
– Я провожу Анаксагора до корабля!
– Благодарю. С вами пойдет Алкивиад.
– Хорошо. В путь!
Попрощались. Посадили Анаксагора на осла, раб взял осла под уздцы. Алкивиад зажег факел. Пошли.
Важно было выбраться из города. В воротах их остановил страж, из караулки вышли еще двое. Алкивиад заявил, что везет в деревню больного деда. В Афинах ему плохо. Сократ сказал, что сопровождает их для безопасности. Алкивиад передал стражам закупоренную – и очень дорогую – амфору с вином. Те повеселели, но один из них все старался разглядеть Анаксагора, сидевшего на ящике с несколькими свитками, прикрытом попоной. Найдут эти свитки – станет ясно, кто едет, и в руки стражей попадет доказательство бегства Анаксагора, а следовательно, и его вины. Сократ поставил на карту свою популярность и любовь народа: он вышел под свет факела.
– Клянусь псом, афинские воины! Разве вы меня не знаете?
– Сократ! – воскликнул старший из стражей. – Проезжайте, почтенные!
– А как хлебнете этого чудесного хиосского за наше здоровьице, – подхватил Алкивиад, прибегнув к просторечию, – пожелайте дедушке, чтоб хорошо доехал! Такой он у нас славный, набожный старичок… Вот вернется в свое именьице – целого вола принесет за вас в жертву всем двенадцати главным богам!
И он прошел через Диохаровы ворота своим изящным, танцующим шагом. Пропустив их, стражи принялись за несмешанное хиосское, и их радостные крики долго провожали путников в темноте.
В Брауроне Анаксагора с его свитками посадили в челн, а затем и на корабль, готовый отплыть, и долго смотрели ему вслед, пока судно не растаяло в утреннем тумане.
Недолго прожил после этого Анаксагор – скончался в Лампсаке. На его могиле положили плиту с надписью: «Здесь покоится великий Анаксагор, чей дух возносился к высшим истинам».
А Сократ с Алкивиадом вернулись в Афины, из осторожности через другие – Сунийские – ворота. В городе царило шумное оживление. Люди сбегались к агоре.
Посередине просторной мощеной площади высилась поленница для костра, вокруг стояли вооруженные скифы. Рабы принесли две охапки свитков, положили на дрова.
– Что это, граждане? – спрашивали люди.
– Книги Анаксагора о богах, – отвечали им. – Сам-то он бежал, а писания его сожгут публично…
Холодок ужаса пробежал по спине Сократа и Алкивиада, когда взвилось пламя и едкий дым окутал агору. Убивать мысль! Жечь разум!
С языка Сократа сорвалось слово, которым эллины называли чужие, отсталые народы:
– Варвары! Остановитесь!..
Стражи не заметили, кто это выкрикнул.
На площади было тихо. Только шипел огонь, пожирая дух Анаксагора.
Тогда впервые оптимист Сократ увидел будущее Афин в тучах.
2
Светлыми ночами, когда лишь стражи да пьяницы бродили по улицам Афин; жаркими ночами, когда люди спали на плоских крышах домов, чтоб овеяло их хоть легонькое дуновение с моря; душными ночами, когда с Пелопоннеса стягивались тучи и грохотали грозы с ливнями; черными ночами, когда луна и звезды забывали о земле и светились во мраке лишь огни перед Парфеноном, Перикл сиживал в перистиле своего дома. Один.
Аспасия уходила спать, и Перикла давило бремя одиночества. Как крысы из нор, выползают недруги, опустив забрала на лица, и бьют, бьют…
– За что они так на меня нападают? – спросил он однажды Сократа.
– Кто перерос противника – всегда под ударом, дорогой Перикл, – ответил философ.
– В том ли моя вина, что я всю жизнь радел о благе города?
– Вина – уже в том, чтобы знать больше других, а тем паче – делать больше.
– Неужели таковы мерила, Сократ?
– Да, дорогой Перикл: так мы еще малы.
Перикл не мог примириться с потерей Анаксагора, с унижением и очернением Аспасии, которую позорящие надписи на стенах и стихи в комедиях называли бывшей милетской гетерой, доныне занимающейся сводничеством, услаждающей друзей Перикла после пира молодыми девушками. Болезненно переживал Перикл и ложное обвинение Фидия в воровстве.
Он думал о своих политических противниках. Знаю, чего вы хотите. Вижу вас насквозь, вредоносные! Сначала добиваетесь разрушить мою защитную стену – устранить моих сильных друзей, а там, стакнувшись со Спартой, снести и каменные стены Афин…
В этих невеселых мыслях Периклу все чаще являлось лицо одного из вождей демократов, богатого кожевенника Клеонта. Сам Перикл ничего не знал – ему пересказали близкие. Люди все больше и больше склоняются на сторону Клеонта. Нынче, говорят они, Афинам нужен не бывший блестящий стратег, а блестящий стратег, но теперешний. Клеонт держит такие речи, словно он-то и есть такой стратег…
Старый Перикл туже запахнул свой гиматий, вздрогнул, будто услышал шелест крыл мстительных Эринний. За давние, за чужие вины?..
Однако такие мрачные минуты не убавили его воинственности. Напротив, они скорее подогревали ее.
А честолюбие и любовь к славе подливали масла в огонь.
Перикл укреплял военную мощь Афин, внушая страх недругам; расширял влияние Афин, покорял все новые города Эллады, новые колонии, вводя там народовластие, сурово и беспощадно расправляясь с олигархами.
Сократ с тревогой наблюдал за ходом Перикловых мыслей, Спарта – за Перикловыми делами. Два государства, оба греческие. И все же заклятые враги! Ибо в Афинах у власти были демократы, в Спарте – два наследственных царя из двух родов, деливших между собой царский трон.
Зависть и ненависть спартанцев уже переросли размеры той многоталантовой взятки, которую Перикл год за годом тайно отправлял в Спарту – за ненападение.
При поддержке олигархов в полисах морского союза, где заранее разожгли вражду к Афинам, Спарта грозила войной.
Народное собрание в Афинах клокотало. Преобладало нежелание воевать. Но Перикл верил в силу Афин:
– Располагает ли Спарта столь богатой казной, какая есть у нас? Кто морская держава – Спарта или мы? В чьем распоряжении все крупнейшие торговые порты – в ее или в нашем?
И не слышал Перикл тихих возражений друзей: а такой же ли у Спарты незащищенный, ранимый, доступный тыл, как у нас? В гордыне своей Перикл приветствовал проскочившую искру, которая зажгла пламя войны.
Недолгим было торжество Афин по поводу расширения своего влияния. Коринфяне натравили Спарту на афинского хищника. Спарта пригрозила Периклу войной, в то же время предлагая мир. Под двумя условиями.
Первое: Афины изгонят из Аттики всех Алкмеонидов, не щадя самого Перикла, ибо этот проклятый род несет несчастье всей Элладе.
Второе: Афины предоставят свободу всем членам своего морского союза.
Экклесия, многотысячная толпа, собравшаяся на холме Пникс, разразилась гомерическим хохотом. А не желают ли спартанцы, чтоб мы в благодарность за любезное предложение подарили им еще Акрополь со всеми его сокровищами?!
Но не вся экклесия смеялась. Не смеялись аттические крестьяне, желавшие мира, не смеялись и многие афинские граждане, на которых крутость обоих условий нагнала страху.
И опять была черная ночь, жаркая и душная – дышать нечем. Перикл зовет Аспасию, судорожно прижимает ее к себе, пугает словами, в которых звучат отголоски его страха:
– «Перикл, ты больше вредишь Афинам, чем приносишь им пользу!»
Такую поносную надпись он сам прочитал на стене, возвращаясь, как всегда пешком, после народного собрания.
Примет ли экклесия условия Спарты? Изгонит ли его из страны? Допустит ли развал морского союза? Пойдет ли тем самым на ослабление демократии, быть может поставив ее на край гибели?
Экклесия клокотала, как лава в кратере вулкана, но в конце концов отвергла недостойные условия.
Ответ был молниеносным: вспыхнула война.
Афинский флот блокировал пелопоннесские порты, засыпая их камнями и огнем из катапульт. Спартанский царь Архидам дважды вторгался со своими тяжеловооруженными отрядами в Аттику. Он повелел вырубить фруктовые сады и гордость Афин – гигантские оливовые рощи. Он грабил и поджигал сельские усадьбы и дворы крестьян.
Деревенский люд, от мала до велика, со своими рабами, хлынул под охрану афинских стен, спасаясь от грабителей, поджигателей и убийц. Стены защищали от копья, меча и огня, но в Афинах и в Пирее, переполненных беженцами – как только могла ты допустить это, о Афина, защитница своего города! – появился новый враг, против которого бессильны стены, укрепления, оружие, – чума, черный мор.
Афины превратились в разворошенный муравейник. Днем и ночью бегают, падают, корчатся в муках люди, стонут, кричат…
Афинский флот вынужден был вернуться от Халкидики – среди матросов тоже вспыхнула чума. Только под Потидеей осталось сухопутное войско. Сократ вез в Афины раненого Алкивиада.
Доставив его домой, Сократ направился к себе. Калитка – настежь, во дворе сидят и стоят незнакомые люди. Молча, угрюмо смотрят они на пришельца, даже на приветствие не ответили. Сократ вошел в дом. И там полно чужих.
– Чего тебе?! – грубо окликнул его обросший тощий человек.
Сократ засмеялся:
– Это я вас должен спросить, уважаемые! Я-то у себя. Это мой дом.
– Значит, ты Сократ? – уже мягче спросил незнакомец. – Наши говорили о тебе. Но нам негде жить…
То была не просьба, не наглость – просто частица страдания. Сократ обвел взглядом кучку непрошеных гостей. Похоже – две семьи, их родственники и дети. Он обошел весь свой дом.
– Освободите верхнее жилье. Там буду жить я, все прочее предоставляю вам. – Его смиренно благодарили, кланялись. – Больных среди вас нет?
– Пока никого.
– А что за люди во дворе?
– Они разместились в сарае и козьем закутке. И тем довольны…
«Довольны!» – повторил про себя Сократ, и легкий морозец пробежал у него по спине.
Наверху он снял снаряжение гоплита, нашел на прежнем месте свой старый хитон и гиматий. Вот как – не воруют… Пока не воруют.
Он вышел в свой город. Под сияющим белоснежным великолепием Акрополя город лежит, как падаль, кишащая червями. На каждом шагу – семьи беженцев с детьми. Ютятся в храмах, под портиком, на лестницах, в парках, на свалках – всюду, всюду! – и многие, зараженные чумой, бредят в жару. У источника Каллирои толпы дерутся за кувшин воды, у ног их ползают чумные – хоть мокрый камень лизнуть… Плиты белого города покрываются почерневшими трупами. Их не успевают уносить и сжигать, многие не в силах превозмочь ужас перед возможностью заразиться, перед риском самому превратиться в черный труп. Мертвецы на жаре быстро разлагаются. Ароматы лавров и кипарисов задушены трупным смрадом, поднимающимся со всех сторон.
У тех, кто еще здоров, и у тех, кто уже болен, ужас перед смертью вызвал невероятно могучее желание жить, страстную жажду повеселиться напоследок, урвать хоть какую-то сладость… А ночь полна сияния звезд…
Сократ стоит, погруженный в думу. Видит – государственные рабы, закрыв платками нос и рот, выносят трупы из дома богача, а возле ждут в засаде люди, надеясь, что дом опустеет. Последним выносят тело, покрытое златотканым покровом.
И тотчас в дом проскальзывают первые хищники. Изнутри доносится крик. Мужчина? Женщина? Убийство? Изнасилование? Или это чей-то предсмертный вопль? И после – тишина; гиены в образе людей ринулись в дом, грабят, громят, растаскивают… Делят добычу под яростные крики…
Стражи? Да есть ли еще стражи в умирающем городе? Не превратились ли и они в гиен?
У ног Сократа чернеет несколько еще живых. Они не молят богов – они проклинают Перикла, веря, что несчастье на Аттику и столицу навлек он.
Сияние, разлившееся над Гиметтом, возвещает восход солнца. Сократ приветствует его.
– Привет тебе, сверкающее, доброе! Помоги Афинам, ибо тысячи свиваются здесь в муках, и Танатос во множестве уловляет их в свои сети… Сожги своим пламенем черное зло!
Со всех сторон выныривают недруги Перикла; страна, горячечная, воспаленная, вся больна из-за внезапного скачка от благополучия к бедствию, страшного скачка от беспечных радостей к смертельной опасности.
Аспасия, хоть и неверующая, тайно приносит жертву перед домашним Зевсовым алтарем:
– Смилуйся над нами, Громовержец! Не допусти, чтоб и Перикл расплачивался за проклятый род Алкмеонидов!..
Бьется Аспасия челом об землю, плачет. После жертвоприношения идет к Периклу. Просит его, пока не поздно, покинуть вместе с ней Афины, спасти обоих от чумы.
Он вперил в нее долгий взгляд.
– Возьми своих служанок и уезжай в наше имение. Я не могу покинуть Афины.
В тот же день Аспасия оставила дом Перикла.
Сама чума стала на сторону Перикловых врагов.
Скосила обоих его сыновей, сестру. Когда Перикл хоронил второго сына, он и сам уже был болен. Стоял, опершись на посох, не позволял пришедшим на похороны приближаться к себе – чтоб не заразились. С закрытыми глазами слушал вопли плакальщиц, и из-под век его – впервые в жизни – скатывались слезы. Его унесли в носилках, и дома он слег. Лежал, беспокойно ворочался, галлюцинации мучили его, он все время слышал отчаянные, монотонные заплачки плакальщиц – и казалось ему, то рыдает его собственное сердце.
Домоправитель Эвангел, вольноотпущенник, много лет прослуживший Периклу, оставался с ним. Тщетно метался он в поисках врачей – бывало, они приходили в гости к Периклу; теперь они давно покинули Афины…
Эвангел один ухаживал за Периклом. Обертывал ему грудь холодными компрессами, окуривал спальню.
Эвангел почти не спал. Бодрствовал в углу Перикловой комнаты и тихо разговаривал с богами, тихо молился, в преданности своей предлагая Танатосу себя вместо Перикла.
Волны горячки на время опали. Перикл – словно отдернулась пелена, заслонявшая взор, – увидел Эвангела. Большого труда стоило ему облечь мысль в слова, выговорить:
– Есть тут еще кто-нибудь?
– Нет, господин. Только ты и я.
– Почему ты не ушел с остальными?
Молчание.
– Говори же!
– Ты отпустил меня из рабства. Дал мне свободу.
– А ты не воспользовался ею, – трудно, с укором вымолвил Перикл. – Остался…
Эвангел боролся с глубоким волнением; голос господина доходил до него тоненьким дыханием знойного ветерка. Он сказал:
– Так мне нравится – остаться.
– Вот как. Благодарность, – с горечью проговорил Перикл. – Благодарность вольноотпущенника… А что афиняне? Любят ли еще меня эти толпы больных?
«Толпы мертвых, – мысленно поправил его Эвангел. – А мертвые уже не знают ни любви, ни ненависти».
– Больных уже не так много, – вслух сказал он. – Ты, величайший из людей, один из последних. Чума уходит.
Потрескавшиеся от жара, бледные губы чуть растянулись в улыбке.
– Позволь, я переменю тебе компресс – Эвангел наклонился над ложем.
– Нет, друг. Не прикасайся ко мне. И не противься больше мору. Пускай завершает на мне свое дело…
Эвангел настаивал:
– Ты долго сопротивлялся болезни, как никто другой, продержись еще немного – выздоровеешь…
– Для кого? Для чего? – Голос Перикла слабел, угасал. – Для Афин я уже мертв. Что мог дать государству – дал. Живому Периклу за это не достанется признания; придется подождать, пока его не станет… Дашь мне немножко воды?..
Он потерял сознание и так скончался.
3
«Фокиону и его жене Леониде – привет от дяди Лептина из Афин!
Весточка твоя порадовала меня, вы здоровы, и все у вас благополучно. Тот, с кем ты послал нам съестные припасы, передал мне все твои слова.
Насчет возврата денег, которые я ссудил тебе пять лет назад, головы себе не ломай. Я не ростовщик, а твой кровный дядя, и потому вполне довольствуюсь процентами, которые ты выплачиваешь мне мукой и маслом.
Ссудой ты распорядился по-хозяйски. Поди, много попотел, пока починил дом после этих разбойников спартанцев и привел в порядок поле и сады, чтоб приносили добрый урожай.
С деньгами я тебя не тороплю. Знай, война выгодна всем ремесленникам. И нам, башмачникам. Хотел бы я иметь десять пар рук. Сам я уже мало что могу, зато Симон прилежен. Правда, мудрствует по-прежнему, даже за работой, все чего-то записывает, но если он и дело знает, так с какой стати его упрекать?
Старые отцы шпыняют да поучают даже сорокалетних сыновей, а у нас наоборот. Симон поучает меня, старого отца. Набрался разной премудрости от нашего соседа Сократа. Я тебе о нем напишу дальше.
Не поверишь, сколько деревенских застряло в Афинах. Многие не стали возвращаться к своим разоренным очагам. Я им, в общем, не удивляюсь. Ты, дорогой Фокион, живешь далеко отсюда, а в окрестностях Афин никто не знает, что будет завтра, да будет ли и сам-то он завтра жив. Вдруг опять навалятся лакедемонские гоплиты? Забряцают оружием, а что есть против них у крестьянина? Фаланга олив да отара овец? Все это только приманивает грабителей, и кровь тогда льется ручьем. Многие земледельцы и рабы, прибежавшие сюда в начале войны, так тут и остались. Житье у них как у пса под забором, зато они за стенами, а о том, что эти самые стены стали для них уже клеткой, они и думать перестали.
Иной раз гадаю – может, я к ним несправедлив, что они обленились как вши, разбаловались и уже воротят нос от крестьянского труда. Конечно, это настоящая каторга – начинать на голом месте, зато их труды окупались бы, как уже было со многими, да и с тобой тоже.
Теперь об этом Сократе. Ты опять переслал ему привет через меня. Я передал, и он тоже шлет всем вам привет. Ты все вспоминаешь с благодарностью, каким добрым он был к вам, когда вы тогда бежали в Афины от спартанцев и поселились в его доме.
Ты прав, он, в сущности, человек добрый, но чем дальше, тем чудаковатее. О себе не заботится, дома и на улице ходит босиком, еще не женился, хотя, говорят, ухлестывает тут за одной торговкой керамикой – она моложе его на много лет. А вот о любом другом у него – забота. Прежде-то гудел в уши только молодежи, с ними и Симон был, а теперь уж взялся гудеть в уши чуть ли не всем афинянам. В общем-то он желает им добра, но не каждому по нутру, чтоб из него клещами вытаскивали, что там в нем есть, даже пороки, которые люди прячут от посторонних. Вот и множатся у Сократа друзья и недруги что тебе грибы после дождя.
Передавал ты мне еще через посланного, как тебе уже хочется мира и что все у вас там сыты войной по горло, и спрашиваешь ты меня, когда это все кончится, дескать, я тут поближе к властям и, наверное, знаю больше.
Ошибаешься, милый племянник, от тебя-то ближе к Дельфийскому оракулу! Мы здесь ничего не знаем про конец войны.
Иной раз вместе с Симоном ломаем себе голову, что же это с нами происходит. Со смертью Перикла все тут будто начало замирать. Знаю, тебя больше интересует, сколько ты соберешь корзин оливок да сколько шерсти настрижешь с овец за год, но то, про что я тебе теперь пишу, – ответ на твое беспокойство, когда же дождемся мы мирного времени. Не знаю, сумеет ли Клеонт обеспечить мир. Вспомни только, что он вытворял, когда Митилены на Лесбосе откачнулись от Афинского союза. Всех митиленцев собирался побить! Истребить! Уничтожить! И аристократов тамошних, и демократов. Этого он, правда, не добился, но все же тысячи убитых, разрушение митиленских городских стен, потеря флота говорят сами за себя, верно? Может, странно тебе, что мы, после Перикла-то, выбрали именно Клеонта. Трудно нам было после чумы, сам знаешь. Кто нас вызволит из беды? – говорили мы себе. Клеонт! Слыхал бы ты его в экклесии! Не речь, а рев. Очень уж мы бедствовали, вот он и увлек нас. Многие отдали ему голоса. Ох и показал же он нам потом!
Демагог! Ему власть в голову бросилась. Одно время Спарта мир предлагала – это когда проигрывала, – так он отверг. Бахвалился – мол, не прекратит войны, пока не раздавит и не растопчет Спарту. А теперь, когда Спарта наступила нам ногой на горло, сваливает вину на афинский народ: мол, слабый он, не воинственный. Видал хитреца!
Теперь Клеонту и от Аристофана здорово достается. Тот расписал его в своей комедии „Всадники“, да так, что от него теперь и собака кость не возьмет. Не останься у нас от Перикла такая свобода слова, Клеонт бы ему голову велел оторвать вместе с ядовитым языком.
Чтоб у тебя было представление, до чего доходит этот Аристофан, посылаю тебе два образчика из этой комедии.
„У нас хозяин Демос из Пникса; он брюзга, глухой старик, капризен, груб и до бобов охотник… Он в этом месяце купил раба, кожевника, по роду – пафлагонца, распрощелыгу, преклеветника!“ (Это он про кожевенника Клеонта, понял?!) И дальше – то-то рот разинешь!
„О презренный крикун! Захлебнулась земля твоей наглостью. Всюду царит лишь она. Суд, казна, и собранье народа, и архивы полны только ею. Взбаламутил ты грязь, ты весь город смешал, оглушил громким криком Афины, и за взносами дани следишь ты со скал, как в морях рыбаки за тунцами“ 1.
1 Перевод К. Полонской. Аристофан. Комедии в двух томах. М., 1954, т. 1, с. 102, 117.
Этого, милый Фокион, по-моему, достаточно, и ты поймешь, что не могу я тебе сказать, как будет с войной, раз все тут у нас запуталось. Кто может предвидеть, до чего доведет нас Клеонт?
Желаю вам хорошей жизни, тебе, Леониде и детям. Да будет Деметра ко всем благосклонна, и пусть добрый бог Пан хорошенько охраняет ваш дом и стада».
4
– Главк, эй, Главк! Слышишь меня?
– Еще бы! Тебя, Сократ, поди, и на Сунионе слыхать! Иду! – Главк по-прежнему статен и крепок. – Вот ты и снова к нам заглянул! Все Гуди тебя приветствует, и первым – твое поместье!
Оба рассмеялись слову «поместье», дружески похлопали друг друга по плечам.
– Хочешь молока с лепешкой?
– Нет, благодарю, – сказал Сократ. – Поем, когда солнце поднимется над Кеем.
С ходу поднялись на холм, к винограднику.
– Как здесь дышится! – вздохнул всей грудью Сократ. – В городе-то мы дышим грязью да помоями…
– И вонью из дубильни Клеонта, так?
– Клянусь псом, прямо задыхаемся! – отвел душу Сократ.
Они взяли мотыги и принялись окапывать кусты винограда.
Сократу повезло – в Главке он нашел добросовестного помощника: он отдает Главку часть урожая, а тот – уже со своими детьми – ухаживает за Сократовым виноградником, собирает виноград и оливки, давит их и возит Сократу в Афины оливковое масло, соленые оливки, хорошо перебродившее вино, даже делится с ним теми драхмами, которые выручает за избыток урожая с участка Сократа.
Философ же иногда ходит в Гуди – поработать на винограднике и удовольствия ради.
– Я как Антей, – говорит он. – Руками-ногами должен держаться за землю, чтоб не лишиться силы!
Взяв горсть земли, Сократ размял ее, дал высыпаться сквозь пальцы.
– Здесь я всегда радуюсь жизни, хотя она порой и колет меня пуще тернового венца, – сказал он Главку. – Здесь я забываю о падении нравов в Афинах. Здесь, с мотыгой в руке, я с самого утра любуюсь солнцем, тогда как афинские улочки все в тени. Здесь после доброй работы сажусь я с тобой и с твоими детьми за чашу вина, и это заставляет мою кровь обращаться быстрее, все черные мысли уносит ветер с гор, и я снова становлюсь прежним жизнелюбом, который и родился-то, смеясь во весь рот!
Потом Главк-младший запряг осла и повез в Афины для Сократа несколько мехов перебродившего вина и соленые оливки. Философ весело шагал рядом с повозкой, распевая:
Упал я в высокие травы, И молвил Эрот златоглавый, Взмахнув серебристым крылом Над моим безобразным лицом: «О жалкий, напрасны грезы твои — Ты недостоин любви!»А тем временем вокруг стола во дворе Сократова дома собрались, как обычно, его друзья, ученики: Симон, Критон, Критий и молоденькие Антисфен с Эвтидемом.
Они ждали Алкивиада – тот, избрав политическое поприще, задержался сегодня в совете – и Сократа, который должен был вернуться из Гуди. Симон разделил на равные доли еду – по обычаю, каждый принес с собой что мог. Только Критон всякий раз приносит столько, что хватает и на ужин Сократу, и на весь следующий день.
– Дарион, хоп! – донесся с улицы звучный голос, и великолепный пес редкостной породы стрелой перемахнул через ограду и дружески обнюхал собравшихся, хорошо ему знакомых. В калитке появился Алкивиад в лазурном хитоне и белой хламиде, расшитой золотыми цветами лотоса. У всех прямо дух захватило от восхищения этим прекрасным образом – один лишь Критий сжался от зависти и прикинулся равнодушным.
Душа Крития полна желчи: что бы ни вытворял этот смазливый молодчик, все равно соберет дань восхищения! Такой щеголь – и бродяга Сократ! Ха, то-то зрелище для афинян, эта парочка! Но я-то знаю, почему Алкивиад любит показываться в обществе Сократа. Беспутный, необузданный расточитель хочет внушить Афинам, что он, племянник Перикла и возможный преемник его в должности стратега (а для этого ему нужно завоевать большинство голосов в экклесии), как родного отца или старшего брата, чтит философа, этот образец скромности, справедливости, мудрости. Глядите, мол, мужи афинские, дивитесь! По виду вертопрах, в душе-то я человек такой же праведный, как мой учитель, и таким же я буду, когда стану вашим вождем… И этак грациозно сделает ручкой – аристократ, в сравнении с которым я, Критий, выгляжу серой мышью…
– Где Сократ? – спросил вновь пришедший.
– В Гуди, – ехидно ответил Критий. – Виноградник рыхлит. Шел бы и ты с ним вместе землю копать.
– Неплохая идея! – улыбнулся красавец. – Алкивиад в винограднике, с мотыгой! Полагаете, это было бы мне к лицу?
– А что тебе не к лицу, тщеславная душа? – осклабился Критий; он заметил – молоденький Эвтидем, прельщенный красотой Алкивиада, нежно погладил ему щиколотку. Алкивиад легонько отстранил Эвтидема и нетерпеливо заходил по двору.
– Жду не дождусь узнать мнение Сократа об Аристофановых «Всадниках». В театре к нему нахлынуло столько народу, что мне не удалось с ним поговорить.
Эвтидем, отвергнутый Алкивиадом, явно расстроился. И Критий взял его под свое крылышко. Усадил рядом с собой, стал гладить по голове, по лицу…
И тогда пробудилось в Критий страстное желание…
С улицы донеслась песня, заглушаемая грохотом повозки.
– Сократ!
Симон открыл ворота, и Главк-младший, следуя за Сократом, ввел во двор упряжку.
Пришлось прервать бурные приветствия – надо было убрать на место привезенное и откупорить один мех для сегодняшнего ужина.
Сократу и Главку помогали в этой работе Антисфен и Симон. Накачали воды из колодца, принесли кратер для смешивания вина с водой, черпачком разлили вино по чашам. Главк тотчас уехал восвояси.
– Итак, друзья! – поднял Сократ чашу, когда все уселись за стол. – Земля, наша древняя мать, шлет вам привет из Гуди! – Он глянул на Алкивиада. – Что это с тобой, милый? Отчего такое мрачное лицо? Чем ты встревожен?
– Да, Сократ, ты нашел точное слово: я встревожен. Нападками Аристофана на Клеонта. Мне видятся в них нападки и на демократию. Его злой язык не останавливается ни перед чем. Слыхал я – он и на тебя пишет комедию!
– Неужели, по его мнению, я этого стою? – засмеялся Сократ. – Вряд ли. Тем не менее хотел бы я знать, чем «Всадники» так захватили зрителей и даже судей, которые отдали им первую награду. Что вы об этом думаете?
– Клеонт хочет многого, – сказал Алкивиад, – но он мало что знает и умеет. Он рад бы раздавить весь Пелопоннес, но в военных делах умеет только болтать своим дубленым языком. Между тем он ведь теперь хозяин не над одной своей дубильней и над своими рабами – он глава Афинского морского союза! А союз распадается, вдобавок наши мелкие стычки со спартанцами грозят перерасти в новую большую войну. Но Клеонта, плохого стратега, совершенно не заботит одна из самых важных вещей в войне – тыл.
– Какой тыл? – спросил Сократ.
– Экономический и этический.
Сократ одобрительно улыбнулся.
– Отлично! Я рад, что прозвучало это слово – этика. Как же обстоит с ней дело в нынешних Афинах?
Антисфен, юноша угрюмого характера, ответил с возмущением:
– Этика… Бедняжка – нищая она! Ее уже почти и не заметно. Люди судятся друг с другом, дерутся за кусок, повальная испорченность нравов, хотя после чумы прошло уже пять лет. Великий дух Афин, высоко реявший с Акрополя, прибит к земле потоком разврата и алчности…
Критон положил Антисфену руку на плечо:
– Как мрачно смотришь ты на жизнь! Быть может, потому, что родился в недоброе время. Мы, знававшие лучшие времена, верим, что они вернутся. Нам необходим мир! Война превращает людей в негодяев.
Алкивиад вспыхнул, стукнул по столу:
– Не всякая война, Критон! Но – война, скверно ведомая и растянутая до бесконечности. И в этом виноват Клеонт!
Под платаном воцарилась напряженная тишина.
Первым ее нарушил Сократ:
– Афинский народ заслуживает лучшего вождя. И, рукоплеща Аристофановым «Всадникам», он тем самым требует нового правителя, рачительного хозяина и стратега.
Симон, который, как всегда, обслуживал трапезу, споткнулся о какой-то предмет возле мраморной глыбы, заросшей плющом. Поднял этот предмет – оказалось, заржавленный резец скульптора. Узнав резец, Симон попытался спрятать его, но Сократ уже заметил.
– Что ты нашел, Симон?
– Да так, резец… Весь ржавый… Резец твоего отца.
– Постой! Покажи-ка…
Удивленно смотрели все на Симона – отчего у него такое испуганное лицо? А он бормотал:
– Да говорю же – ржавый… никуда не годный…
– Дай сюда!
Симон неохотно подал. Сократ внимательно разглядел инструмент.
– Зачем ты лжешь, Симон? Не видишь мой знак? Ты ведь отлично его знаешь. Мой это резец.
Повертев инструмент в руках, Сократ зашвырнул его подальше, в мусор под стеной.
Заговорил Антисфен:
– Ты, Критон, упрекнул меня за мрачный взгляд на жизнь. Говоришь – вы, старшие, верите, что вернутся лучшие времена. А вот Сократ, который дольше всех нас жил в эти счастливые годы, не верит в их возвращение!
– Я не верю?! – изумился Сократ. – Я?!
– Конечно, – ответил Антисфен. – Не веришь, что опять начнут строить какие-нибудь новые Пропилеи, не веришь, что тебе понадобится резец для каких-нибудь новых Харит!
– Все время, что мы сидим сегодня за ужином, – молвил Сократ, – не я вас, а вы меня поучаете. И теперь, вижу, не один Антисфен – все вы удивлены, что я выбросил резец как ненужную вещь. Вот вы говорили о Клеонте, о том, что война превращает людей в негодяев. Каким же способом разрешает эту проблему Клеонт? Думаете, он не видит, что творится в Афинах и как обстоит дело с нашими союзниками? Видит – но не знает, как с этим справиться. Потому и кричит! Потому и хочет заглушить криком все эти беды. Он видит один лишь способ – насилие. Все, что подает голос против него, – истребить, перебить, стереть с лица земли. На все у него одно лекарство – война. Но она не излечит болезни народа. Она ничему не поможет, ничего не исправит. Вы сказали, война делает людей негодяями. А подумайте: не следует ли делать из негодяев – людей?
Было слышно, как слетел с платана лист, подточенный гусеницами.
– Я выбросил резец! Да ведь уже столько лет я не занимаюсь ваянием! Новые Пропилеи сейчас строить не станут, это верно. Так что же вы хотите, чтоб я вытесывал надгробные плиты для мертвых? Нет, нет. Я хочу заботиться о живых!
5
Неделю за неделей ходит Сократ в гимнасий Академа, что за Дипилонскими воротами, заниматься физическими упражнениями и беседовать с молодежью. Сегодня вышел на улицу – день пылает белым пламенем, словно олимпийский факел, а воздух влажен, напоен дыханием моря и цветов, которые любят пчелы.
Слегка переваливаясь, неторопливо шагал Сократ, и шлепанье его босых ступней по плитам мостовой было похоже на плеск рыб, пойманных в сети.
В том месте, где река Эридан пересекает его путь, в деме Керамик, он всякий раз наблюдал одно и то же. В стороне от главной улицы, на крошечной площади, расстелив на земле ковер, выставлял на продажу свои изделия гончар Нактер. Продавала же юная девушка.
На этой маленькой, залитой солнцем площади открывалась Сократу такая картина: помимо будничного гончарного товара – кувшинов, блюд, мисок, – красовались на ковре прекрасные амфоры с ручками, пузатые ойнохои, кратеры для смешивания вина с водой, калафы и стройные лекифы для масел – все высокого художественного достоинства. А над этим оранжево-коричневым лесом керамики, расписанной ярким черным или красным, геометрическим или растительным орнаментом, или фигурками людей и животных, возвышалась великолепная живая амфора. Стройная девушка безукоризненного сложения; смуглое, твердо очерченное лицо под массой блестящих черных роскошных волос. Уперев руки в бока – прямо ручки амфоры! – она озирала свое разноцветное царство благородных и обычных сосудов. И с терпением, поистине восточным, ожидала покупателей.
Долго с восхищением любовался Сократ ее силуэтом. А она не показывала виду, что замечает его. Однако разглядела она его хорошо и оценила верно. С малых лет видела вокруг себя изображения мужчин на глиняных сосудах. Желала себе в мужья такого же вот героя – когда еще и не догадывалась, зачем ей вообще нужен муж.
Туманные грезы со временем отлились в четкое представление. И вот здесь, на солнечной стороне улицы, неделю за неделей останавливается мужчина – а что останавливается он ради нее, девушка поняла моментально. На нем всегда простой белый хитон без рукавов и длинный коричневый гиматий, отброшенный за плечи. Мужчина опален солнцем, атлетического сложения, и, если представить его без бороды, она дала бы ему лет тридцать пять. Девушка поняла, что этот человек ни в чем не уступил бы Ясону, Ахиллу, Одиссею, а уж тем более божественному Силену. Но что в нем было лучше всего, то это взгляд, завораживающий, но не так, как завораживает взгляд змеи, от которого цепенеет жертва; этот взгляд покорял сиянием доброты, и от него сразу становилось радостно и легко.
Смотрит Сократ, смотрит… но что это? Девушка, руки в боки, начала легонько раскачиваться в ритме мелодии, которую бренчит на кифаре какой-то местный Орфей… Правда, девушка не обращает на кифареда никакого внимания, поддается только мелодии и – улыбается Сократу…
Ну, хватит таращить глаза! – решает Сократ, но едва он сделал один шаг – ох! К выставленному товару подходит какой-то чужестранец. А подошел чужестранец – тут же, как оно бывает, потянулись за ним и другие покупатели, и зеваки, и детишки со всей площади – мигом собралась толпа вокруг горшков, кувшинов, ваз и зашумела, закричала… Всех покупателей, всех любопытных быстро утихомирил звонкий, повелительный голос девушки. Он звучал уверенно, твердо и решительно.
Молодая красавица держится так, что Сократ смотрит на нее словно загипнотизированный. Любующимся взглядом пожирает сцену, развертывающуюся перед ним; он захвачен. Да он и не сопротивляется!
Ну и язычок! Острый что бритва. Вот девушка отгоняет подростка, который схватил высокий белый обливной лекиф– схватил только для того, чтоб полюбоваться вблизи красивой торговкой.
– Поставь сейчас же на место! Нахал! Товар не по твоим чумазым лапам! И вы молчите, о боги!
Сократ тихонько смеется себе в бороду: зато ты не молчишь, красноречивая красотка!
– Знаю я, что тебе нужно! – звенит девичий голос. – Щупать и пачкать лучшие изделия да глаза на меня пялить, воображая, будто щупаешь меня… Не выйдет! Хватит! Молчи, бесстыдный, и проваливай, пока я не запустила в тебя черепком!
Какой великолепный аттический говор! – наслаждается Сократ. Могла бы давать уроки Горгию… А сколько выразительности! Жаль, что на театре играют одни мужчины…
Мальчишки-керамичане хохочут над подростком, однако тот не «проваливает». Только попятился немного, ибо вперед выдвигается чужестранец в парчовом плаще, сопровождаемый рабом.
– Приветствую тебя, господин, у Нактера, знаменитого торговца самой прекрасной керамикой в Афинах! Боги твои и наши благословили твои шаги, приведшие тебя к нам. Выбирай тщательно, ибо здесь что ни сосуд – то драгоценность.
Сократ чуть не зааплодировал. Просто наслаждение слушать эту девушку!
– Расписную амфору для масла нужно тебе? О господин! Нигде не найдешь ты такой работы, какую могу предложить тебе я. Скажи лишь, какой желателен стиль: чернофигурный? Или краснофигурный? А может быть, вольный стиль в манере Полигнота? И какой сюжет: мифология, палестра, быт? Ах так. Понимаю. Тебе нужна аттическая керамика, на красно-оранжевом фоне которой ярко-черным лаком изображен эпизод из мифа… Нет? Ага. Значит, краснофигурную. Конечно. Поразительный вкус. Вот то, что ты ищешь, господин! Эта амфора, конечно, дороже чернофигурной, но и так, при своей красоте, идет за полцены. Слышишь, как изумительно звенит, если постучать по ней? Да, конечно, она обожжена в печи моего отца. Сколько стоит? Двести драхм. Много? О господин, в другом месте за такую вещь ты заплатил бы и триста, и более – если б только были такие в других местах, но их нет. Говоришь, сто восемьдесят?
Тут девушка заметила, что к ней направляются богатые носилки, и поспешила закончить торг.
– Согласна. В виде исключения. Как подарок твоей сирийской родине. О да, это сразу видно. Уже по тому, как ты себя держишь. Завернуть? Сохраните, боги! Амфора выскользнет из ткани, и произведение искусства превратится в груду осколков. Твой раб пускай бережно понесет ее…
Она приняла сто восемьдесят драхм, вежливо, но с царственным достоинством попрощалась с чужестранцем и перевела взгляд на носилки.
Из носилок вышла молодая женщина в трауре. За ней следовали две рабыни.
Торговка почтительно склонила голову, ожидая, когда с ней заговорят.
– У меня умерла мать. Мне нужен хороший жертвенный сосуд на ее надгробие.
– Могу предложить тебе несколько прекрасных лекифов, госпожа… – Девушка проворно нагибалась, поднимая и показывая сосуд за сосудом.
Женщина, рассматривая их, заметила Сократа – он стоял неподалеку. Повернулась к нему, приветливо кивнула. Сократ, узнав ее, ответил тем же.
– А ты действительно красива, – сказала девушке покупательница. – Отец не солгал. – Она улыбнулась. – Мой отец – поэт Софокл, он пишет трагедии.
– Разве он меня знает? – удивилась продавщица.
– Ты ведь Ксантиппа, дочь знаменитого гончара Нактера?
– Да. Это я. Но не могу припомнить…
– Быть может, о твоей красоте отец слышал от кого-либо из друзей. – Женщина кинула на Сократа беглый взгляд. – Что стоит этот лекиф с бледно-голубым изображением Харона на белом фоне?
– Его расписывал сам мастер Бриг, госпожа. Лекиф стоит двести пятьдесят драхм.
Покупательница взяла в руки благородный сосуд, внимательно рассмотрела.
– Он действительно хорош. Логейра, заплати, а ты, Аграна, осторожно отнеси его в носилки. Много счастья тебе, Ксантиппа! – Женщина улыбнулась и села в носилки, жестом попрощавшись с Сократом. Мальчишки-зеваки побежали за носилками.
Сократ все слышал. Действительно, он недавно расхваливал Софоклу прелесть Ксантиппы. Чем старше мужчина, тем больше у него опыта, зато меньше смелости. Но дольше нельзя колебаться, нечего стоять тут, подобно нищему…
Он подошел к девушке со словами:
– Очаровательная царица этих красочных чудес, позволь поклониться твоей красоте!
– Я тоже благодарю случай – или, быть может, твою волю? – который привел тебя ко мне.
– Боюсь, моя красавица, что обману твое ожидание и не куплю…
Его перебил звонкий смех, такой же белый и чистый, как зубы девушки.
– О нет, Сократ, я не опасаюсь, что ты пришел покупать! Он не удивился тому, что девушка его знает. Ведь его знают все Афины. А вскоре обнаружилось, что знает она его даже очень хорошо.
– Итак, ты пришел…
– Я уже сказал. Поклониться твоей красоте…
Она тряхнула головой, взметнулась ее черная грива.
– А я-то подумала, ты пришел беседовать со мной!
Теперь они смеялись оба. И Ксантиппа, видя, как весело принял Сократ ее шутливый тон, так же и продолжала:
– Ты наверняка хочешь выманить у меня признание, до чего я сама себе кажусь мудрой, а потом разоблачишь меня при помощи своей диалектики и докажешь, как безнадежно я глупа…
Он был восхищен ею, но еще не хотел отказываться от веселого тона, чтоб не лишать себя дразнящего наслаждения ее смехом.
– Ты, верно, знаешь по рассказам имя Фенареты?
– Кому же не ведомо имя твоей матери!
– Повитухи, которая, быть может, и тебе помогла выкарабкаться на свет…
– Не быть может, а точно. Это я знаю от моей матери.
– Так вот, от нее я унаследовал повивальное искусство, тэхнэ маевтике, и теперь на многих нагоняю страх: вдруг возьму да и вытащу – не из чрева, правда, но, что куда хуже, из их головы – мысль… если там, впрочем, есть хоть какая-то. Потому что бывает, – Сократ принял печальный вид, – что в голове у человека нет ничего, одна пустота и мерзость запустения, и – представь! – из-за такого открытия я обычно перестаю нравиться тому человеку…
– И ты удивляешься? – спросила Ксантиппа. – Бедняга прячет под крышкой, что у него там есть, ты дерзко поднимаешь крышку, а из-под нее вместо бессмертных слов о гармонии и Сократовой калокагафии вырывается всего-то немножко пара… Вон и мне становится страшно, как вперишь ты в меня свой взор…
– Тебе бояться нечего! Ты неглупа, прекрасная Ксантиппа, – убежденно сказал Сократ. – У тебя отличная школа. Та же, что и у меня.
Тон Ксантиппы стал резким:
– Не издевайся! Нет у меня никакой школы.
– Есть, милая. Мое торжище больше, твое меньше, но и там и тут – люди. – Ксантиппа смотрела изумленно и недоверчиво, из полуоткрытых губок не вырывалось ни словечка. – Вот я кое-что скажу о себе, и ты поверишь, что я не смеюсь над тобой, что мы действительно ученики одного мастера.
Ксантиппа даже попятилась и вскрикнула, задев босой ногой высокий лекиф – тот закачался.
– Ничего, не упал, – успокоил ее Сократ.
– Да я сама чуть не упала! Такие удивительные вещи ты говоришь… Пожалуй, мне и слушать-то тебя не следует… – Она покачала головой, дивясь и себе, и Сократу, но, не дожидаясь его ответной реплики, закончила повелительно: – Так что же ты хочешь сказать о себе? Говори!
Сократ засмеялся.
– Многому я научился из книг, многому от ученых мужей, но еще большему научили меня люди на рынке. И я не перестаю учиться у них. А сегодня и от тебя я получил урок!
– Хочешь сказать, что я твоя учительница?! – расхохоталась Ксантиппа. – Ну, это у тебя удачно получилось!
– А что ж, иной раз и у меня что-то получается удачно. Хотя бы вот то, что я остановился около тебя. Сколько лет меряю шагами афинские улицы, сую нос во все уголки – и только ты, сегодня, сказала мне: куда, куда ты все стремишься, Сократ, со своей премудростью! Может, остановишься наконец? Есть ведь и я на свете!
– Кто? – не поняла Ксантиппа. – Я?
– Ах нет, девочка. Любовь. Прекраснейшее в мире безумие. Ты же преподала мне урок: хорошо бродить с места на место, но иной раз лучше остановиться. Остановиться – если такая остановка означает влюбиться. Я очарован тобой, Ксантиппа, лошадка моя! – просто сказал Сократ.
– Неделю за неделей жду я, когда появишься ты, и остановишься, и станешь глядеть на меня, словно видишь что-то… что-то…
– …прекраснее чего нет в моих глазах! – закончил он свое признание.
– Какое блаженство, что это говоришь мне именно ты!
– Можно спросить, почему ты употребила почитаемое мною слово – блаженство – в связи со мной?
Девушка притихла. Гладила рукой горлышко лекифа, ясные глаза ее слегка затуманились.
– Почему?.. Потому что от тебя ко мне струится что-то такое чудесное, не знаю, что это, – но я от этого делаюсь счастливой…
Довольно трудно было Сократу пробраться в своем длинном гиматии между сосудами и не свалить ни одного. Но это ему удалось, и он, обняв девушку, жарко ее поцеловал.
6
– Опять сегодня ждать его до бесконечности, – хмуро бросил Антисфен.
– Да, бродит где-то наш хозяин дома, – усмехнулся Критон.
– Когда-то из-за девушки он питал пристрастие к сапожному шилу, теперь – к гончарному кругу, – в том же тоне подхватил Симон.
Несколько в стороне сидел на мраморном кубе Критий. Нежно прижимая к себе юного красавчика Эвтидема, нашептывал любовные стихи, которые сам для него сложил.
– Ты ее знаешь, Критон? – спросил Антисфен. – Должно быть, это какая-то звезда небесная, если проповедник знаменитой софросине до того себе изменил, что забывает свои любимые собеседования – и нас тоже…
– Говорят, его Ксантиппа весьма красноречива, – ответил Критон. – Что, впрочем, не удивительно для торговки; нечего удивляться и Сократу – молчаливая-то вряд ли привлекла бы его. К тому же она, по слухам, поразительно красива, и тут уж сомнений быть не может – у Сократа безошибочный вкус к красоте.
– Да уж, конечно! – раздался от калитки громкий голос, и во дворик вошел сам хозяин. – Ах вы нетерпеливцы, или не знаете, как далеко отсюда до Дипилонских ворот и обратно, включая прогулку по берегам Эридана?
– А! – торжествующе вскричал Критон. – Наконец-то признался! Слыхали – прогулки вдоль Эридана! Я спрашиваю: с кем?
Сократ счастливо, мечтательно улыбнулся:
– С Ксантиппой – с Иппой, с моей лошадкой!
– Значит, ты сильно влюблен? – удивился Антисфен.
– Порядочный человек не должен ничего делать наполовину – к тому же, кажется, Эрот поразил меня божественным безумием…
Друзья уже не смеялись. Только Антисфен заметил:
– А как же возвещенная тобой софросине?
– Бывает такое сочетание звезд, говорят астрологи, когда следует придерживаться софросине, – усмехнулся Сократ, – но оно бывает и таким, когда нужно противиться ей и отбрасывать ее!
– От чего же это зависит? – спросил Критий, поглаживая шею Эвтидема.
Сократ подумал: «Как раз тебе об этом и спрашивать?!» – но ответил:
– Зависит это, милый Критий, от того, какова любовь. Любовь – это стремление к наслаждению и к добру. Если отсутствует второе – значит, это не любовь. Великий, хотя и маленький бог Эрот, дитя и столетний старец в одном лице, желает, чтоб божественное безумие, которое он пробуждает в сердцах людей, проявлялось в красоте любви, ведущей к гармонии душ.
– Это относится и к немолодым влюбленным? – язвительно осведомился Критий.
– Обязательно, – ответил ему Симон вместо Сократа. – Ибо они мудрее, их чувства глубже и способны вызвать такие же у тех, кого они любят. Взгляни на Сократа! По нему видно, что могучее влечение к красоте и жизни, которым поразил его Эрот, – достоинство не одной только молодости!
Сократ же бросил еще один камешек в огород Крития:
– Тем более что Сократа никогда не привлекали мальчики, а только женщины, такие же прекрасные, как Ксантиппа. Мужчине нужна женщина, а не мужчина.
Критий глянул на него строптиво:
– Каждый хвалит свое – и имеет на это право.
– Что ж, пора нам собираться, – сказал Сократ, не отвечая больше Критию. – Гиппий скоро явится на агору, и мы не должны заставлять его ждать.
В эту минуту калитка распахнулась, и во двор вбежала девушка в крестьянской одежде с покрывалом на голове; тяжело переводя дух, она шлепнулась на ближайший камень.
Все кинулись обнимать ее. Сократ погладил ее лицо, раскрасневшееся от бега:
– Привет тебе, дорогой Эвклид! Счастливо ли добрался?
Эвклид, ученик Сократа, был гражданином Мегары; а так как мегарцам под страхом смерти было воспрещено ступать на землю Аттики и на афинские мостовые, он, отправляясь к Сократу, проделывал весь путь по ночам, переодевшись девушкой.
– Все в порядке, Сократ! Из Мегары я вышел после полуночи. До Элевсина бежал, а в пределах Аттики, когда уже рассвело, шел бодрой девичьей походкой, вот с этой корзинкой на руке…
– Кого-нибудь встретил по дороге? – спросил Критон.
– Ни души. Я хожу малолюдными тропками, а под утро присоединяюсь к торговкам.
– Ты самый самоотверженный из нас! Столько раз в месяц пробегать эти сто шестьдесят стадий! Никогда я не смогу отблагодарить тебя, Эвклид.
– Для меня награда – каждое твое слово, Сократ, – просто ответил Эвклид, сбрасывая женскую одежду, под которой оказался его собственный хитон.
К Сократу обратился Эвтидем:
– Говорят, Гиппий замечательный оратор!
– Ну и что?
– Да нет, я… просто так…
Сократ широко улыбнулся ему.
– У тебя ясные глаза, Эвтидем, по ним легко читать!
– И что же ты прочитал?
– То, что ты стесняешься выговорить: «Тебе не страшно, Сократ?» Видишь, я прочитал правильно. Ты покраснел, как роза.
– Да что ты, Эвтидем?! – вскричал Критон. – Чтоб Сократ – и боялся?!
Сократ жестом руки остановил его:
– То, что нам известно о Гиппий, указывает, что справиться с ним будет не так-то легко. Нельзя недооценивать такого противника, искушенного во многих науках, и к тому же первоклассного оратора. Или этого вам кажется мало?
– Но разве слово, пускай ловко сказанное, – достаточный аргумент в диспуте? – спросил Антисфен.
– А ты хочешь от Гиппия дел? – возразил ему Эвклид.
– Нет, конечно. Но – мыслей, – стоял на своем Антисфен.
– Надо заниматься человеком, – вставил Сократ.
– Это делают и софисты, – возразил Критий, имея в виду формулу Протагора. – Что ты тогда скажешь, учитель?
Сократ внимательно посмотрел в глаза Критию и ответил:
– Очень просто. Тогда я скажу: важно, кто как на человека смотрит и какие питает замыслы на его счет.
Они вышли со двора. Со всех сторон летят к Сократу веселые, бодрые приветы. Даже те люди, которых он когда-то брал в оборот, вскрывая, что в них истинное, а что притворное, причем делал это публично, – даже эти люди, пряча оскорбленное самолюбие, сердечно здороваются с ним.
Сократ пробирается между палатками торговцев, за ним следом ученики. Рынок шумит. «Купите! Купите! Лучшие селедки, самые дешевые! Сюда, сюда! Даром отдаю!»
– Хайре, Сократ!
– Будь весел, Дион! И ты, Фарнака! Что торговля?
– Эй, Сократ! У меня свежие фиги! Возьми – за доброе слово!
Он подошел к старой женщине, продающей семечки нута.[14] Почти каждый день покупает он у нее. Покупает? – Получает даром в знак уважения.
– Как могу я брать с тебя деньги, добрый человек? Бери сколько хочешь! Я у тебя в долгу… Читай!
На дощечке неумелой рукой, но старательно вырезано:
«У МЕНЯ ПОКУПАЕТ СОКРАТ!»
Смеются все вокруг, Сократ говорит:
– Ты бы, Фиона, после слова «покупает» написала: «за так!»
– Ах, что же это ты говоришь о себе, словно о воришке!
– А он и есть воришка! – добродушно хохочет сосед, торговец оливками. – У меня он выкрал тайну моей души! – Сократ оборачивается к нему, и торговец спешит объяснить: – Заставил меня сознаться, что я колочу жену… Но я больше не делаю этого, Сократ!
Остановились у лавочки их приятеля Пистия. Ныне Пистий уже самостоятельный мастер, продает свои изделия – чеканные украшения из бронзы, серебра, золота. Лавочка его на самом краю рынка, чтоб было перед ней место для носилок, в которых рабы носят благородных красавиц или гетер.
Пистий, широко улыбаясь Сократу, делится своей радостью:
– Богач Ментин заказал мне золотой обруч на шею, по египетскому образцу. Тяжелое, великолепное украшение. И знаешь, для кого? Ты ее хорошо знаешь! – Он переходит на шепот. – Для гетеры Феодаты. Сама приходила ко мне мерку снимать. Заработаю, пожалуй, драхм восемьсот! Что скажешь?
– Что Ментин на твоем месте заработал бы тысячу восемьсот! Поступи и ты так же. У него есть чем заплатить! – смеется Сократ.
– Ладно, – потирает руки Пистий. – А теперь складываю товар и запираю лавчонку! Хочу послушать, как ты будешь гонять этого космополита, хе-хе!
– Как бы он не загонял меня, милый Пистий! Заходи как-нибудь вечерком, если сможешь…
– Я бы рад, да жена…
– Ага! – усмехнулся Сократ. – Держит тебя на коротком поводке… А ты не давайся!
– Говорят, и ты женишься?
– Уже и тебе про это известно?
– На рынке известно все… – И, наклонившись к Сократу, Пистий шепнул: – Керамик – прелестная Ксантиппа…
7
Сократ с друзьями вошел под сень портика. Возле огромной фрески Полигнота, которая изображала битву под Марафоном, стояла кучка софистов и их приверженцев – они ждали молодого, но уже прославленного по всем греческим городам софиста Гиппия из Элиды.
Пришли послушать диспут между Сократом и Гиппием и риторы. Здесь был Лисий из Сиракуз – один из старейших логографов и верный демократ. И Антифонт, сочинитель судебных речей, сторонник олигархов – давний противник Сократа.
Тот, со своими, остановился подальше от софистов. Вокруг тех и других собрался народ.
– Прямо два войска перед битвой! – усмехнулся Сократ. – Но у наших противников крепкий исторический тыл – за ними Марафон…
– Марафон – прошлое, – возразил Критон. – Нам же важно будущее.
Между тем толпы граждан облепили и ступени портика, и пространство перед ним. Все знали, что здесь предстоит.
В дальнем конце портика появился стройный мужчина. Он приближался неторопливой походкой вельможи. Густая окладистая борода придавала ему важный вид. На нем был длинный, в пышных складках хитон, по которому вышит золотом без конца повторяющийся мотив: египетская пирамида, пальма и сфинкс. Этот роскошный хитон ниспадал до самых пят, а поверх него была наброшена хламида цвета топаза. В тщательно завитые волосы была воткнута веточка лавра, вычеканенная из серебра. Увешанный золотыми украшениями – которые сам изготовил, – человек этот держал в руке эбеновый посох с золотым набалдашником. Весь облик его – образец изысканной утонченности и надменности.
А против него – босоногий Сократ, простой, загорелый, сильный, как аттический крестьянин.
Толпа приветствовала обоих философов рукоплесканиями. Антифонт кинулся навстречу знатному гостю. Тот первым приблизился к Сократу с учтивым приветствием.
– Я – Гиппий из Элиды, учитель мудрости.
– Это видно, – заметил Сократ. – А я – Сократ, любитель мудрости.
Гиппий обвел его взглядом с головы до босых ног.
– Видно и это – если верить тому, что я о тебе слышал.
Софисты переглянулись с усмешкой: первый удар!
Сократ произнес спокойно и вежливо:
– Добро пожаловать к нам, о Гиппий, познавший мир. Афины для многих распахивают свои ворота. Сердце же – лишь для немногих. Ты пришел из Элиды?
– Родину свою Элиду я почти не вижу в последнее время. Чаще навещаю Спарту, восхищаясь ею. Был я также в Сиракузах, Акраганте и в Египте. Посетил Сарды, Родос, Галикарнасс, Милет, Самос, Эфес и, наконец, фессалийскую Лариссу, откуда и прибыл сюда.
Все это Гиппий перечислял с плохо скрытым хвастовством.
– Я тоже совершил путешествие, – отозвался Сократ. – Ездил в Гуди.
Взрыв смеха в толпе слушателей.
Один из софистов шепнул Гиппию:
– Это деревушка близ Афин…
Гиппий:
– У тебя там имение?
– Именьице. Пятьсот душ. – Каждый кустик винограда Сократ превратил в душу.
– О, это значительное состояние. Но мне говорили, что ты беден?
– Тебе лгали. Я очень богат.
Все изумленно воззрились на Сократа. А он продолжал:
– Есть у меня пятьсот виноградных лоз. Есть крыша над головой и множество верных друзей, и здесь, и там, – он махнул рукой в сторону рынка, где взорвался гром оваций.
– Итак, мы познакомились, Сократ. Это мне очень приятно. Я мечтал побеседовать с тобой, ибо слава о тебе обошла все страны, лежащие на берегах нашего моря. Я слышал о тебе удивительные вещи, особенно же похвалу твоей мудрости.
– Преувеличиваешь, почтенный Гиппий. Кто же может претендовать на мудрость! Если следовать твоему учению, которое велит сомневаться во всем, должно усомниться и в существовании мудрости.
– В этом я не сомневался никогда, ибо сам – учитель мудрости.
– Но вот вопрос: что такое мудрость вообще?
Гиппий слегка занервничал:
– Ах да, я слышал о твоем методе – вытягивать у людей воззрения и знания, дабы путем дедукции прояснять понятия…
Сократ засмеялся:
– Тэхнэ маевтике! Конечно. Тебе не говорили, что моя мать была повитухой? Повивальное искусство я перенял от нее. Человек больше ценит то суждение, которому я помогаю родиться у него, чем то, которое высказал бы я сам.
Гиппий выпятил грудь:
– Я же признаю другой метод: лекцию и состязание в искусстве риторики.
Сократ покачал головой:
– Со мной это не получится. Я привык вести собеседование. Согласен ли ты?
– Я сумею ко всему приспособиться.
– Тему нашей беседы ты, конечно, выберешь сам.
– Просвещение народа – этим ведь занимаешься и ты, Сократ, и я. Я, например, обучаю математике, астрономии, грамматике, музыке, литературе, родословной богов и героев, физике и риторике.
– О горе мне! – вскричал Сократ. – Как же мне вести диспут с ученым, постигшим все, что нас окружает! Мне, жалкому невежде, который занимается только душой человека?!
Жалобное восклицание Сократа дало ему преимущество перед софистом. Гиппий это мгновенно уловил. Отойдя назад, чтоб увеличить пространство между собой и публикой, он передал свой посох Антифонту, желая освободить обе руки для жестикуляции, и начал выспренне:
– Кто повелевает звездами в небесной выси и солнцем? Говорят – олимпийские боги, однако я не вижу никого, кто бы это делал, никто не является нашему зраку, и многое на земле творится по чьей-то таинственной воле, о которой нам ничего не известно. Может ли кто назвать человека, который разгадал бы эту загадку? Вы молчите… Кто должен повелевать человеком? Он ведь и сам знает, по какому пуститься пути, чтоб не вред ему вышел, а польза…
Кто-то зааплодировал. Гиппий посмотрел в ту сторону и слегка поклонился. Затем продолжал:
– Подвяжи крылья птице – она не сможет летать и будет биться в дорожной пыли, беспомощная и убогая. Что же связывает крылья человеку, что пригнетает его к земле, хотя, по твоим, Сократ, словам, душа человека, будучи окрыленной, должна летать?
– Я восхищен тем, как много ты обо мне знаешь, Гиппий, – скромно вставил Сократ.
– Что же душит гражданина? Закон – вот тиран человека, вот преступник против свободы; к тому же, не будучи неизменным, он всегда имеет лишь преходящее значение. Закон ограничивает желания и действия человека. Закон ограничивает его свободу. Свобода же, как говорил еще Эсхил, есть наивысшее достояние человечества.
Громкие овации покрыли эти слова. Речь Гиппия была смелой и действовала сильно. Опираясь на Протагорово «человек – мера всех вещей», он развивал этот посыл, искажая его, и свел наконец к тому, что каждый имеет право на неограниченную свободу.
Случайно ли выбрал Гиппий эту тему? Нет, без сомнения. Он отлично знал, какое в Афинах настроение. Ему была известна широкая свобода слова в Афинах. И он знал, чем подкупить слушателей.
Право человека на свободу! И это требование высказывается во время затяжной войны, которая то вспыхивает ярким пламенем, то едва тлеет, но не угасает!
В этот период афинский люд стремился как можно свободнее утолять свои животные и собственнические вожделения. Неограниченная свобода! Какие красивые слова, как легко слетают они с уст, как великолепно звучат в ушах, именно для того и наставленных, чтоб ловить дерзкие призывы и проповеди, которые освобождают человека от всего, что его связывало, утверждая его право на вольность дикаря! Именно теперь и желательно пробуждать в людях тоску по древней свободе, – тоску, до сей поры переходящую от прадедов к правнукам…
Но кому она желательна сейчас, эта тоска? – подумал Сократ, ибо он думал не только о том, что говорит Гиппий, но и о том, кому он говорит, в какое время и по каким побуждениям.
А толпа ликует, славя Гиппия. Ученики Сократа не отрывают взгляда от учителя, который невозмутимо лузгает семечки.
Когда овации стихли, Сократ приблизился к Гиппию.
– Восхищаюсь тобой и преклоняюсь перед твоим умом. Блестящая декламация. Жесты складные, плавные и вместе с тем сильные, энергичные, всегда эффектные, отлично согласованные с ритмом фраз…
Гиппий победоносно озирается на своих друзей олигархов. Но те, зная Сократа, хмурятся: сначала-то хвалит, а что будет потом?
Сократ, не меняя вежливого тона, постепенно оживлялся, становился веселее.
– Из речи твоей, блистающей поэтическими образами и отлично подобранными словами, меня больше всего заинтересовало, как ты сумел свести мудрое изречение Протагора – что человек есть мера всех вещей – к требованию неограниченной свободы для человека. Поистине, посмотреть – прямо Элисий! Позволишь ли мне, почтенный Гиппий, исследовать этот твой тезис?
– Отчего же? Исследуй, дорогой Сократ!
– Благодарю за разрешение. Но, давая его мне, ты, конечно, понимаешь, что тезис твой я буду исследовать на твоем же примере. – Глаза Сократа улыбались, но в лице не дрогнул ни один мускул.
– На чьем же еще? – самодовольно ответил Гиппий. – Речь мою оценили уже все, кто нас слушает: меня немало порадовали рукоплескания, – так стану ли я отказывать тебе в этом? Ты доставишь мне большое удовольствие.
– Итак, разберем сообща твою речь. Ты сказал, что закон – тиран человека?
– Сказал.
– Хорошо ли я тебя понял? Ты считаешь, что не существует неких сверхъестественных, невидимых сил, которые бы эти законы установили?
– Ты понял меня очень хорошо.
– Но в таком случае законы могли установить только сами люди. Согласен, милый Гиппий?
– Конечно. Это подтверждает мой тезис, – твердо ответил софист.
– Но ради чего установили люди законы? Чтоб им было хуже или лучше?
– В одних случаях лучше, в других хуже… – Гиппий слегка повел рукой в сторону слушателей.
Те одобрительно зашумели.
– Не стану этого оспаривать, – неожиданно для Гиппия сказал Сократ. – Но пойдем дальше, рассмотрим законы, с которыми человеку лучше, нежели без них.
– Следую за тобой! – охотно откликнулся Гиппий, уверенный, что, чем ближе подойдет Сократ к некоторым законам, тем легче будет подвергнуть их критике.
Сократ переступил с ноги на ногу, как бы удостоверяясь, что стоять ему удобно, и заговорил о тех законах и реформах, с помощью которых Солон ограничил избыток роскоши у одних и взял под защиту других, обедневших.
– Солон, – сказал Сократ, – назвал единственными виновниками всякого зла и бедствий алчных богачей, эвпатридов, которые наживаются на земле и на труде рабов. Неограниченная свобода выгодна именно им. Твоя речь, милый гость, звучит так, словно ты говоришь богачам: удачи вам, друзья, наживайтесь без затраты своего труда!
В толпе слушателей уже какое-то время накипало, и теперь вскипело. Софисты роптали, топали, Антифонт замахал руками:
– Этого Гиппий не говорил!
Но кто-то из стоявших поближе воскликнул:
– Не говорил, но так можно было его понять!
– Хайре, Сократ! Хайре, Сократ! – выскакивали отдельные голоса и скоро слились в единый хор.
Сократ мягкой улыбкой успокоил возбуждение. Вот он протянул к Гиппию обнаженную руку, без браслетов и перстней:
– Мы встретились сегодня впервые, милый Гиппий из Элиды, но твои мудрые речи, которые слышали во всех греческих городах, дошли до меня прежде тебя самого. Буду ли я несправедлив к тебе, если скажу вот здесь, при всех, что никто из учителей мудрости не признает столь открыто, как ты, естественное право человека – против права, установленного и одобренного многими людьми?
– Я горжусь этим, Сократ, – возразил Гиппий. – Каждый человек жаждет естественного права, данного ему природой.
Сократ, словно не зная, как быть дальше, спросил:
– Ты изучаешь историю?
– Конечно, – ответил Гиппий. – Мог ли я обучать истории, если б сам не был ее учеником?
– Очень рад услышать это. Значит, мне уже нет надобности поучать тебя, коли сама история учит, что все права и преимущества забрали себе богатые и могущественные, отказывая в них всем прочим.
Гиппий широким взмахом распахнул хламиду и с большим нажимом произнес:
– Я признаю естественное право за каждым человеком!
На пафос софиста Сократ возразил будничным тоном:
– На словах – да, допускаю. Однако от слов твоих до дел далеко, да последние, пожалуй, никогда у тебя и не родятся. А вот Солон, как тебе известно из истории, ограничил законом неограниченную свободу богачей наживаться корыстно. Так что же – эти законы на пользу или во вред людям, милый Гиппий?
– Зачем ты спрашиваешь меня о том, что знаешь сам? – раздраженно отозвался тот.
– Очень просто, – объяснил Сократ. – В любом утверждении скрыто его частичное отрицание и в любом отрицании – его частичное утверждение. Ты, больше меня повидавший мир, мог бы помочь мне лучше разобраться в этом.
Гиппий в тщеславии своем думал показать себя мудрее Сократа:
– Частичное отрицание еще не отрицает всего утверждения, так же как и частичное утверждение не опровергает отрицания в целом.
– Отлично, Гиппий! – воскликнул Сократ. – Но тогда ты, несомненно, согласишься, что закон одним во вред, другим же на пользу. И тут нельзя умолчать о том, что наши демократические законы – на пользу многим, во вред немногим. Однако… – Сократ почесал бороду. – Ты, Гиппий, если память мне не изменяет, сказал, что признаешь естественное право за всеми.
– Не могу отрицать этого. Здесь много свидетелей тому, что память твоя верна, но я и не собираюсь этого отрицать. – Гиппий самодовольно усмехнулся и процитировал строки из элегии Солона: – «И тех, кто здесь, на родине, влачился в гнусном рабстве, дрожа пред господином, я освободил. Законов мощью это я свершил, соединив умело насилье с правом, и сделал все, что обещал». – Гиппий засмеялся уже громко. – Ты хорошо расслышал, Сократ, слово «насилье»? От кого-нибудь из вас ускользнуло ли слово «насилье»? – обратился он к толпе.
– Ни от кого! Мы слышали! – закричали зрители. – Продолжай, Гиппий!
Гиппий поклонился народу, как бы уже прощаясь.
– Мне нечего больше сказать. Солон умело сочетал право с насильем, и вы ныне живете под этим насильем, подчиняетесь ему, почитаете его, пускай без охоты, как меня в том заверяли во всех городах вашего союза.
Толпа придвинулась ближе к ораторам.
– Благодарю тебя за беседу, – молвил Сократ, – но, прежде чем закончить ее, позволь мне спросить. Почему это естественное право, эту неограниченную свободу, ты проповедуешь во всех городах, на всех островах Афинского морского союза, в то время как – ты сам это сказал – на родине своей, в Элиде на Пелопоннесе, ты менее чем гость, милый Гиппий? Тебе не по нраву строгость ваших законов, правил и обычаев и ты предпочитаешь нашу страну, где царит столь великая свобода слова, что от нее кружится голова у таких, как ты? Или тебе и этого еще мало и ты хотел бы вызвать у нас неповиновение законам и тем самым вернуть нас ко временам глубокого варварства и тирании? Тебе кто-нибудь за это платит? Ты учитель мудрости. Это твое ремесло или ты кормишься чем-то иным?
Гиппий, оскорбленный, преодолел себя и решительно заявил:
– Это мое ремесло!
– То, что делаю я, – возразил Сократ, – я считаю своим призванием и долгом.
– Оно и видно по твоей внешности – босой… потрепанный хитон, засаленный гиматий… – презрительно бросил Гиппий.
– Послушай, друг! Выведи меня из заблуждения. Быть может, у вас вообще нет никаких законов и всем страстям человеческим дана полная воля? И ты, несчастный изгнанник, бежишь от этой вольности к нам, чтоб тебя, чего доброго, не растерзали страсти других?
Толпу всколыхнул смех. Люди захлопали. Гиппий выпятил грудь. Вскинул выше голову. А Сократ продолжал:
– Почему же тогда желаешь ты нам того, от чего сам бежишь?
– У нас тоже есть законы, – вынужден был Гиппий признать то, что старался опустить в своей речи. – Но если б их и не было, я не считаю себя до того уж слабым, чтоб бояться сильнейших меня! Я смогу их обезоружить, и, если хочешь знать, я ни в чем не испытываю недостатка. Я могу путешествовать, где захочу, я совершенно не завишу от моих знаний, таланта и способностей. Такой независимости я желал бы для всех, ибо знаю, до чего сладостен ее вкус.
Сократ воздел руки:
– О, позволь поблагодарить тебя от имени этого небольшого собрания – я говорю небольшого, ибо вижу здесь всего несколько сот человек, мы же привыкли собираться и решать дела при участии шести тысяч; но все равно – прими благосклонно и эту благодарность!
Гиппий промолчал.
Сократ подошел к нему и, прикасаясь пальцем к его чеканным пряжкам, браслетам, запонам, перстням, спросил:
– Это золото?
Золото? Слово это заставило вздрогнуть человека, который уже некоторое время бродил в толпе.
– Чистое золото! – хвастливо ответил Гиппий. – Чеканил я сам, и камни – настоящие. И все это – из того, что мне платят за мои уроки.
– Эй-эй, какую роскошь я вижу? – раздался в тишине громкий голос, и через толпу пробрался человек с бронзовой бляхой на груди. Он поспешно подошел к Гиппию, беззастенчиво разглядывая его шелка и золотые украшения. Гиппий брезгливо отшатнулся, а человек проворчал:
– Я астином, надзиратель, поставленный народом следить, чтоб не было излишней роскоши. Это у тебя золото, это тоже. Штраф будет велик, гражданин! Твое имя?
Но Сократ уже держал астинома за плечи:
– Не торопись, приятель!
– Хайре, Сократ. Ты защищаешь этого расфранченного щеголя?
– Это софист, Гиппий из Элиды. Он явился в Афины, чтобы побеседовать со мной. Он чужестранец и не знает наших установлений. Можешь спокойно обойти его своим усердием.
Астином еще раз смерил взглядом разодетого чужестранца и сказал:
– Если ты за него ручаешься, Сократ, я отказываюсь от штрафа. Хайре!
Он отошел, но остался в толпе любопытных.
– У тебя ценные знакомства, – сказал Сократу Гиппий. – Прими мою благодарность за заступничество.
– Я сделал лишь то, что полагается по отношению к гостю. Но хочу сделать больше. Хочу я, милый Гиппий, дать тебе на дорожку подарок. – Он лукаво усмехнулся. – Что скажешь, если я поведаю тебе, сколь безгранично я свободен? Быть может, на своих путях ты будешь рассказывать о нашей встрече и смеяться над Сократом: мол, знаете, люди добрые, что он сказал мне на прощанье?
– Прошу, говори. Я готов принять твой дар, – сказал Гиппий в надежде понравиться тем, кому он хотел понравиться.
– «Подумайте только! – заговорил Сократ как бы от лица Гиппия. – Этот странный, дурно одетый, босой человек считает себя самым свободным из людей, потому что – ой, меня душит смех! – потому что он-де не раб своих страстей и еще потому, что подчиняется законам, данным Афинам прославленными предками! И если закон хорош – а чудак убежден, что афинские законы хороши, – и если сам он, при его тонком чутье к добру, им подчиняется, то это, по его словам, еще увеличивает его свободу, ха-ха-ха!»
– Это не смешно, – несколько помрачнев, в задумчивости проговорил Гиппий.
– «А еще, дорогие друзья, – продолжал Сократ предполагаемую речь Гиппия, – этот чудак утверждает, будто самым свободным из людей его делает то, что нет у него почти никаких потребностей – кроме потребности в самом необходимом питании и одежде, ха-ха!»
– Позволь мне теперь, дорогой Сократ, поблагодарить тебя за подарок. Быть может, ты дал мне больше, чем думал. Потому что теперь мне ясно, отчего ты ходишь босой и так дурно одет. Необходимость ты возводишь в добродетель…
Через расступавшуюся толпу приближался к философам высокий молодой человек. На черных кудрях его пылал венок из жгуче-алых роз. За его плечами развевался и волокся по земле алый шелковый плащ. Лицо его разрумянилось, глаза слегка затуманены: нетрудно было угадать, что идет он с пира.
– Ты учишь даром, бедный Сократ, – говорил меж тем Гиппий, громко, чтоб вся толпа слышала, как он торжествует, и уже едва справляясь с гневом, вызванным его унижением. – Не ценишь ты свою мудрость – как же можешь ты после этого хотеть, чтоб ее ценили твои ученики, твои слушатели? От нищих, которым ты желаешь уподобиться внешностью, не потекут к тебе ни оболы, ни драхмы. Нищий нищему не поможет. А состоятельные люди не дураки. Не станут они платить тебе за твое «знаю, что ничего не знаю»!
А высокий юноша шел легкой походкой, гибкий и сильный, как великолепный хищник. На ногах его были мягкие сандалии, ремешки которых, перекрещиваясь на голенях, доходили до колен. Молочно-белый хитон матового шелка, в богатых складках, был коротким, зато алый плащ – таким длинным, что тащился за ним по земле, как шлейф. Рядом с юношей бежал громадный пес, редкостное, драгоценное животное. Фигура юноши привлекла всеобщее внимание. Эвтидем восторженно вздохнул.
Молодой человек приблизился, как раз когда Гиппий позорил Сократа, и слышал все. Двинувшись к софистам, он бросил собаке:
– Дарион, стойку!
Великолепное то было зрелище: гигантское животное, мгновенно замершее с оскаленными клыками…
Его хозяин повернулся к Сократу:
– Спускать?
– Да сохранят тебя боги, Алкивиад! Мы просто немножко повздорили – нельзя же за это отдавать Дариону наиболее нежного из нас двоих!
Тут вдруг и толпа, и сам Сократ разразились хохотом:
– Смотри-ка, спускать-то уже и не на кого!
В самом деле, Гиппий растворился в толпе, как капля воды в реке.
8
Алкивиад подошел к Сократу. Низко поклонившись ему, он обратился к учителю – и сладостен был звук его ритмической речи, тем более что согласную «с» он выговаривал с пришепетыванием, а слова были исполнены любви и восхищения:
– Мой дражайший Сократ! Даже когда на афинское небо выезжает в золотой колеснице сам Гелиос, его сияние кажется мне не столь ослепительным, как то, что озаряет меня, когда я вижу твое лицо!
Все улыбается юному красавцу, все внимает ему с удовольствием. Только двоюродный брат его, Критий, следит за Эвтидемом, который старается хоть коснуться плаща Алкивиада. Это ему удалось, и Эвтидем в блаженстве прикрыл глаза. Все кому не лень любят этого спесивого франта: Сократ, народ, даже мой Эвтидем, думает Критий. Меня же не любит никто…
Алкивиад бурно радуется:
– Наконец-то я увиделся с тобой, дорогой Сократ!
Сократ отозвался с иронией:
– В самом деле! И как это мы нынче встретились… Опять у тебя на голове венок из роз! Ты с пира идешь. Целый месяц бегаешь от меня, кутишь. Но что я вижу? Кто изуродовал твоего Дариона? Кто отрубил ему хвост?
– Мне и самому жалко. Хвост был ему удивительно к лицу.
– Лицемер! – прошипел Критий. – Люди говорят, ты же сам это и сделал!
– Не может быть, – сказал Сократ.
Алкивиад смиренно сознался:
– Это правда. В минуту слабости… выпил много вина… Моя жена Гиппарета пыталась помешать мне, плакала… В самом деле поступок позорный, каюсь…
– Такое редкостное животное! – вставил Критий. – Ты сам говорил, что пес стоил семьдесят мин!
– О Гера! – ужаснулся Сократ. – Вдесятеро дороже всего, что есть у меня в Афинах и в Гуди!
– Все потому, что не было со мной тебя, дорогой Сократ!
– За это тебя осуждают все Афины, – проговорил Критий.
– За то, что со мной не было Сократа?
– За то, что ты изуродовал прекрасную собаку.
– А мне этого и надо, – возразил Алкивиад. – Пускай лучше говорят о моей шалости, а не о чем-либо похуже.
– Разве есть что и похуже сказать о тебе? – спросил Сократ.
– Есть, клянусь Зевсом!
Сократ нахмурился:
– Так вот почему ты так долго от меня прятался?
Алкивиад покаянно признался: да, ему стыдно было показаться на глаза Сократу. Он предался обольщениям гетер, пьянству, кутежам… Тогда Сократ спросил: было ли ему действительно стыдно показаться на глаза, или он не показывался, чтоб можно было кутить без помех? Алкивиад воскликнул с жаром:
– Если б ты, мудрейший, но и храбрейший, не спас мне жизнь под Потидеей и не вынес меня с поля боя, сегодня я соединился бы уже с тенью Перикла в подземном царстве! И теперь, Сократ, прошу тебя второй раз спасти мне жизнь, иначе я погиб! Сам я не умею сдерживать себя и укрощать. Слаб я перед страстями, что одолевают меня…
– Друг, ты меня огорчаешь!
– О Сократ, учитель мой, сколько в тебе достоинств! – не слушая возражений, страстно молит Алкивиад. – Не отвергай моей просьбы! В тебе такая великая сила, ты можешь все, даже защитить меня от напора бешеных страстей. О, я жажду снова, как на войне, делить с тобой палатку и еду, биться с врагами бок о бок с тобой и учиться у тебя всему доброму! Как я чту тебя, мой самый бесценный друг! Мой спаситель!
– Ну хватит, – оборвал его хмурый Сократ. – Ты преувеличиваешь, хотя знаешь – я этого не люблю.
– Я теперь не отойду от тебя, Сократ! – вырвалось у Алкивиада. – С тобой я делаюсь лучше. Без тебя же мной овладевают демоны зла. А я, мой дражайший, не так уж скверен, чтоб радоваться этому! Желать этого! Зевс свидетель – я несчастен, когда поступаю плохо. Кори меня, Сократ, свяжи меня силой своего слова, бичуй меня, топчи!
– Перестань, Алкивиад. Ни в чем ты не знаешь меры. Ни в грехах, ни в раскаянии. Не говорил ли я тебе сотни раз, что одна из высших добродетелей человека – софросине! Умеренность, чувство меры… Она – предпосылка для всех прочих добродетелей, без нее же ты клок соломы, треплющийся по ветру!
Но не так-то легко было утихомирить Алкивиада.
– Когда Сократ говорит о добродетелях – это как богослужение! Вся афинская молодежь должна слушать…
– Потому что я обнажаю то, что есть в ней нездорового? В том числе и в тебе?
– Ты обнажаешь недобрые поступки, но и недобрые мысли. Ты как пророк, как ясновидящий… – Алкивиад никак не успокоится. – Мы любим тебя больше всех, Сократ! Ты наш отец, ты голос бессмертных богов! – И снова самоуничижение. – Чем был бы я без тебя! Один ты в силах укротить меня, тигра, и я смиренно лежу у твоих ног. Но больше я от тебя – ни на шаг! Поведу жизнь простую и прекрасную, как ты…
Алкивиад сорвал с плеч свой алый плащ и швырнул его со ступеней портика. Плащ, взвившись, пролетел по воздуху, словно живое пламя, – и вот уже люди бросились рвать его: каждому хочется добыть кусочек этой восточной роскоши.
Критий язвительно бросил двоюродному брату:
– Собаку свою тоже кинешь толпе?
– О нет. Ее я люблю больше… – он посмотрел в глаза Критию, – больше, чем людей, у которых желчь переливается через край…
Сократ был рад раскаянию Алкивиада, которое выразилось внешне в том, что он с себя сбросил драгоценный плащ. Но тут он вспомнил о живописце Агафархе, которого Алкивиад запер у себя в доме, пока тот не распишет ему все стены, и спросил о нем. Алкивиад сознался, что все еще держит художника в плену.
– Какой позор! Какое насилие! И после этого ты обещаешь мне перемениться?!
– Я скоро выпущу его, Сократ. Он скоро закончит. Он украсил мне весь дом. Гиппарета в восторге от его искусства. Согласись! Если его отпустить, он, вернувшись, уже не сможет сделать столько, как сейчас. Запертый же среди голых стен, он, желая вообразить себя на свободе, расписывает их пейзажами и фигурами людей. Отлично работает!
Кругом засмеялись.
Засмеялся и Критий: сколько дерзости, какие причуды… Сколько безобразий совершает Алкивиад – и ему-то стать первым человеком в Афинах?!
– Почему ты, Сократ, обладая всеми необходимыми для этого знаниями, не хочешь посвятить себя военному делу и политике? – повернулся Критий к философу.
– Если б я занялся этим, милый Критий, то, пожалуй, кое в чем и преуспел бы. Но тогда я был бы один. А я хочу трудиться во имя того, чтобы искусством управлять овладело как можно больше людей – к выгоде Афин. Поэтому я посвятил себя не политике, а вам. Таким путем я умножил самого себя. И я сближаю вас с другими, чтобы вы стали добрыми друзьями… – Видит ли Сократ, с какой ненавистью смотрит Критий на Алкивиада, которому влюбленно улыбается Эвтидем? – Чтоб помогали друг другу жить добродетельно, пользуясь при этом всеми дарами жизни…
А поодаль, под портиком, два эпигона софистов поучают толпу, как легче и быстрее добиться успеха, власти и благосостояния.
– Барыш – всеобщий закон! Барыш – цель гражданина нашего времени! – наперебой кричат они.
– Барыш – это полные горсти серебряных монет, – сказал Сократ, – но что внутри у того, кто ими владеет? Убожество, пустота, ибо подлинное богатство – в образованности, в мудрости, в арете…
Раздался режущий смех. Это подросток, афинский оборванец Анофелес, смеется таким режущим смехом, прислонившись к мраморной колонне. И насмешливо смотрит на Сократа:
– Очень уж ты витаешь в облаках, Сократ! Не видишь, чем дышат люди. Эти двое правы. Людям нужна только щепотка мудрости, как перца, зато – много хитрости, чтоб скорее дорваться до успеха. Что нам добродетель, граждане? Что она нам, скажите на милость? Разве ею насытишься? Наоборот – за добродетель-то и платят голодом, бедностью, а то и собственной головой, ха-ха! Что, премудрый Сократ, разве я не прав?
– Ты прав, Анофелес, – усмехнулся Сократ. – Прав, как и эти софисты.
И Анофелес вскричал:
– Слава мудрому Сократу!
9
Гончар Перфин праздновал рождение пятого ребенка, сына, а так как был он довольно зажиточным человеком и дом имел просторный, то и пригласил друзей на кувшин вина под острые закуски. Приглашен был и отец Ксантиппы Нактер.
Пир получился веселый и шумный, ибо старший сын Перфина неплохо играл на авлосе, чьи звуки к месту и не к месту смешивались с голосами гостей.
Нактер оказался средоточием шуток, сыпавшихся на него со всех сторон.
– Друг, возьми-ка плетку да почеши спинку своей старшенькой!
– С чего бы это? – удивился Нактер. – Не могу пожелать лучшей дочери, чем моя Ксанта!
Перфин – в одном глазу серьезность, в другом смех – сказал:
– Что правда, то правда, в Керамике никто не умеет продавать горшки лучше твоей девчонки!
Сосед же Нактера раздраженно проворчал:
– Хорошо тебе хвалить дочь, Нактер! А мне что делать? Всех покупателей переманивает!
– Не у тебя одного, дружище. – Перфин обвел пальцем сидящих за столом. – У всех у нас отбивает покупателей, хитрюшка! Но коли не возьмешь ты вовремя плеть, Нактер, потеряешь такую знатную торговку. Мы-то, конечно, вздохнем с облегчением!
Гончары засмеялись и, смеясь, продолжали подтрунивать над Ηактером.
– А хорошенькая она у тебя, даже Гермес со своей гермы глазки ей делает!
– Сдается мне, дельце-то уже слажено! Уже не будет покрываться пылью наш товар – теперь запылятся твои горшки, Нактер!
Тот все еще считал такие разговоры шуточками, неотделимыми от семейного торжества.
– Чего это вы разорались? Брюхо набили, вина напились, теперь забавляетесь на мой счет, так?
– А коли так – что ж, смейся с нами, и дело с концом!
– Знаю я вас, хитрецы! Небось сказали себе: разыграем Нактера! Всем нам известно, как он умеет злиться! – Говоря так, Нактер уже и впрямь злился. – Только не больно-то расходитесь, голубчики! Ксанта – моя правая рука! Так что не пугайте меня! – Нактер грозно повращал глазами. – И кому это из вас пришла в башку дурацкая мысль, что я ее потеряю? Тебе, Перфин?
– А как отцы теряют дочерей? Ты сам-то не отобрал ли в свое время дочку у другого отца? – И Перфин толкнул Нактера под ребро.
Нактер понятия не имел о том, что творится в сердце дочери. Но он не подал виду и проговорил, будто ему известно все:
– Но-но-но, милый Перфин, что за спешка? Сынок твой уж дождаться не может, когда приведет в дом мою Ксанту? Посоветуй-ка безбородому сосунку потерпеть пару годочков без супружеских ласк…
– Безбородый! Сосунок! – грохнул смехом Перфин.
– А то кто же? Конечно, сосунок! – распалился Нактер.
Его заглушил взрыв хохота:
– Слыхали? Сократ ему – сосунок!
Нактер вытаращил глаза, как собака, у которой застряла в горле рыбья кость.
– Что? Кто? Чего болтаете? Какой Сократ?
– В Афинах, насколько мне известно, есть только один! – давился смехом Перфин. – Я сейчас лопну! Сократ – жених Ксантиппы, а папенька-то ничего не знает!
Слово «жених» побудило Нактера действовать. Он стукнул кулаком по столу и под ржанье гончаров помчался домой.
Еще с порога он заорал:
– Вставайте! Поднимайтесь! Вон из постелей! Да не вы, мелюзга, вы – марш обратно в свой чулан, дрыхните дальше! Жена, вставай! Ксанта, сюда!
Жена села на постели; Ксантиппа, сонная, растрепанная, босая, в измятом пеплосе предстала перед отцом.
Нактер сначала долго ругался, понося всех богов и мерзкий мир – для разбега. Потом громовым голосом осведомился у дочери:
– Ты, негодница, знаешь Сократа?
– А как же. В Афинах все его знают.
– И ты его знаешь, жена? – Он упер руки в боки, чтоб обеспечить себе прочную позицию.
– Конечно, знаю. Часто вижу его на рынке.
– Вот-вот, шляется по рынку, по улицам, словно бродяга, ничего не делает, только языком мелет да за дочкой моей ухлестывает!
Дочь Нактера давно выросла из детских сандалий, когда она не позволяла себе перебивать отца. И теперь она резко прервала его:
– Я думала, отец, ты человек ученый. И значит, не должен употреблять слова, недостойные ни тебя, ни Сократа.
– Какие еще слова?
– Ну ты ведь сказал, что он ничего не делает, только языком мелет.
– А разве это неправда?
– Неправда, отец. Он учит людей, с которыми вступает в разговоры.
Нактер вытаращил глаза:
– Чему же это он их учит?!
– Думать, – кратко ответила Ксантиппа.
Думать! Для Нактера это было слишком сложно.
– Да нешто надо учить думать? Вот дурак-то!
Жена Нактера была далека от сути спора. Она попыталась приблизиться к нему, задав практический вопрос:
– А что у тебя, Ксанта, с этим Сократом?
Ксантиппа почти пропела:
– Я возьму его в мужья!
– Что-о?! Сократ хочет на тебе жениться?! – Мать была поражена.
– А я – выйти за него. Мы уже договорились.
– Без меня?! – вскричал Нактер.
– Сумели и без тебя, отец.
Тучи сгустились в родительской спальне, и грянули громы.
Отец:
– Да у него ничего нет!
Ксантиппа:
– У него буду я.
Отец:
– Он к гетерам ходит!
Ксантиппа:
– Перестанет.
Отец:
– Не работает!
Ксантиппа:
– Я научу его работать.
Отец:
– Только разговоры разговаривает!
Ксантиппа:
– Я тоже люблю поговорить, будет диалог.
Мать:
– И питается-то кое-как… Одни семечки лузгает…
Ксантиппа:
– Буду для него готовить.
Мать:
– Целыми днями – на агоре да в гимнасиях…
Ксантиппа:
– При мне будет дома сидеть.
Мать:
– Ночи напролет кутит, ходит по пирушкам, речи держит…
Ксантиппа:
– Устрою ему пирушку дома и речи держать позволю.
Отец:
– Говорят, он хочет даже людей изменить!
Ксантиппа:
– Я изменю его!
Мать задала щекотливый вопрос:
– Чем жить-то будете?
Любая другая девушка в Элладе, посвященная в обстоятельства Сократа, теперь смутилась бы. Но Ксантиппа… и есть Ксантиппа.
Открыв шлюзы своего красноречия, она заговорила:
– И вы полагаете, ваша дочь не подумала о главном? Клянусь всеми расписными горшками – плохая была бы она хозяйка! Во-первых: я получу приданое, и немалое, как не раз обещал отец. Постой, отец! Тихо! Теперь говорить буду я. Приданое мы, разумеется, проедать не станем. На эти деньги мы купим то, что нам поможет кормиться: осла, козу, хорошие орудия для работ в имении. – (Деловитая Ксантиппа позволила себе тут небольшую гиперболу, чтоб поразить родителей.) – Какое имение, спрашиваете? Да Сократово, в Гуди под Гиметтом, я была там с ним – у него виноградник, оливовая роща, несколько фиговых деревьев и так далее. В общем, имение. Его, да в хорошие руки, – с помощью Деметры столько принесет, что рот разинете!..
Она остановилась перевести дух, и Нактер воспользовался этим:
– Но на винограднике и в саду должен кто-то работать!
– Сократ и я.
– Козу доить, навоз убирать…
– Сократ и я.
Все наскоки родителей разбивались о волю Ксантиппы, как волны о вековечные скалы, – но прибой не ослабевал.
– Он на двадцать лет старше тебя!
– Лысеть начал!
– Даже сандалий у него нет!
– Кормится за счет своего благодетеля Критона, как нищий!
– Бросил ваяние, которое давало приличный заработок!
– Есть у него несколько учеников, только он, слышишь, Ксантиппа, говорят, ни обола с них не берет!
– Стойте! – вскричала девушка, почувствовав, что спор дошел до апогея. – Он учит и сыновей богатых…
Отец с матерью настороженно подняли головы.
– Но я уговорю его, и он будет брать плату с них за учение! – решилась заявить Ксантиппа.
Родители присмирели. Перед их внутренним взором всплыли лица самых богатых Сократовых «учеников», известных всем Афинам: Алкивиад, Критий, Критон, Хармид…
Ксантиппа так закончила ночной разговор:
– У нас с Сократом появится столько денег, что мы и знать не будем, куда их девать. Спокойной ночи.
И, повернувшись, она отправилась спать.
Нактер стал раздеваться на ночь. Жена сказала:
– А я, отец, вовсе не удивляюсь нашей дочке. Это я должна признать. Ходила я намедни на рынок, за рыбой. Глядь – Сократ. Хоть и босой, а выступает что тебе царь, а за ним толпа. Потом он обратился к народу – уж не помню, чего он говорил, только было все это так трогательно да весело, что люди смеялись и плакали. У него, отец, великая власть над людьми. Верь мне.
Жена погасила светильник и легла рядом с мужем, который уже засыпал, утомленный событиями.
Тут к ним влетела Ксантиппа и торжествующе крикнула:
– Мама! Отец! Главное-то я еще не сказала! Я буду знаменита!
10
Симпосий у богача Каллия получился великолепный – благодаря отличному предсвадебному настроению Сократа. Сегодня он беседовал с сотрапезниками о любви. Высоко поднял любовь к женщине над «однополой мерзостью», как он назвал любовь мужчин к мальчикам.
– Ты потому, Сократ, с таким жаром превозносишь любовь к женщине, что сам влюбился в хорошенькую и очень молодую девушку. Говорят, она на пятнадцать лет моложе тебя?
– На двадцать, – поправил Сократ.
– Зато язычок у нее будто куда старше, – ядовито заметил давний соперник Сократа, софист Антифонт, ученик Горгия.
– Рассказывают, Ксантиппа – единственный человек в Афинах, способный одолеть могучего Сократа своим острым язычком. Уже до того она подчинила его себе, что он готов на ней жениться! – поддразнил философа и Каллий.
К нему тотчас присоединился будущий поэт, молодой Агафон, в ту пору еще только ожидавший постановки своей первой трагедии, которой ему суждено будет ждать еще несколько лет:
– А взять свою невесту в ученики Сократ не может – та ему слова не даст выговорить!
Шутки сыпались со всех сторон.
– Какое зрелище нас ждет: великий философ под маленьким каблучком!
– Тут не поможет даже повивальное искусство, унаследованное Сократом от матери! Из души Ксантиппы вылетит отнюдь не феникс, а стрекотунья-сорока!
– Говорят, даже знаменитая диалектика Сократа не устоит против Ксантиппы!
Критон с Критием спешили защитить учителя; Алкивиад уже с угрозой поднял тяжелую серебряную чашу – бросить в обидчика, но Сократ остановил их движением руки: пускай выговорятся и язвительные ругатели, вроде Антифонта, и те, кто шутит добродушно. Сам он только усмехался в бороду да смаковал хиосское вино. Но вот шутки иссякли – сотрапезники ждали, что-то ответит Сократ.
А тот стал защищать выбор невесты такими словами:
– До сих пор, когда я возвращался ночью с симпосия или с пирушки, меня встречали дома одиночество и немота. Вино развязало язык, а ты изволь молчать, как молчит сама тьма! Нет, так нельзя. Нехорошо все время быть одному. И оставалось мне произносить монологи, чтоб не чувствовать себя одиноким. А дом? Ужас! Неуютно, пусто, глухо, грустно… Вот когда женюсь – о, клянусь подземным псом Кербером, тогда будет совсем другое дело! Возвращаюсь поздно ночью. Слышите – поздно. Любая другая давно сбежала бы от меня. Но Ксантиппа, моя Иппа, милая моя лошадка, образец всех жен, – да я так и вижу: ждет меня хоть ночи напролет! Издали узнает мои шаги, издалека летит ко мне ее звонкий, веселый голос. Так и звенит он, так и поет, когда она засыпает меня ласковыми словами… Немотствующий дом превратился в шумный зал, где живым эхом звучат слова… А ее голос! Да это как если бы звенели…
– Горшки и миски! – вставил Антифонт.
– Как если бы звенели соловьи. – Сократ будто не слышал Антифонта. – Голос Ксантиппы – пенье священной цикады, и Антифонт побелел бы от зависти, если б только услышал, сколько бодрости и жизнерадостности скрыто в горлышке этой прелестной девы. Редкий человек способен так глубоко впадать в священный экстаз, как она. Знал бы мою Ксантиппу бог радости Дионис, поместил бы ее в первых рядах поющих менад за звонкий ее голосок! Все риторы могли бы у нас поучиться. Клянусь псом! Иной ритор едва выжимает из себя слова, заикается, повторяется, помогает себе руками, ногами, прямо пляшет на трибуне – а она? Встанет, подобная Артемиде, чуть выдвинет вперед красивую ножку, левую руку в бок, правую поднимет изящным жестом, откроет ротик – и полетят слова к покупателям, к родителям, ко мне, да со свистом – не слова, а туча стрел, не речь – персидская скачет конница! О, верьте мне, дорогие друзья, очень и очень многим следовало бы поучиться у нее. Изучать богатство выражений, подражать своеобразной решительной манере, перенимать интонации и так далее… А какой она знаток синонимов! Слышали бы вы, сколькими меткими сравнениями из царства природы и духа умеет она сказать хотя бы просто, что я опоздал на свидание! А как она меня описывает! Как меня знает! Я и сам себя не знаю так…
– Хотя твой девиз совпадает с девизом дельфийской святыни: познай самого себя! – крикнул Критий под общий веселый шум, и смех усилился.
– Ах вы мелкие душонки! – вскричал Сократ. – Знаю я, почему вы так на нее напустились: завидуете, что Ксантиппа будет моей! Завидуете, что смогу теперь упражняться дома для словесных битв с такими, как Антифонт, и вообще с софистами нового толка. Завидуете, что есть у меня моя Иппа-лошадка, буйная и неукротимая! Но если я выдержу рысь, и галоп, и все аллюры этой кобылки, выдержу прикосновения ее зубок и копытец, если справлюсь с ней – тогда уж наверняка сумею справиться и с непослушными, брыкающимися, как норовистый конь, афинянами!
Поднялся столь оглушительный хохот, что Сократ вынужден был сделать паузу, которой он воспользовался, чтобы допить чашу и сделать знак рабу наполнить ее снова. После этого он снял с головы венок из роз и поднял его над собой:
– Самыми роскошными розами приличествует увенчать тебя, моя белорукая и острословная невеста! Подумайте, дорогие: Ксантиппа прославлена уже теперь по всем Афинам и даже за пределами Аттики. А что ваши возлюбленные и жены? Я даже не знаю, есть ли они у вас! Если же и есть у вас какие-нибудь курочки, то имена их мне не известны. Не будь Ксантиппа в моем вкусе, зачем бы мне, достигшему возраста мудрости, брать ее? Ну скажи ты, Антифонт, моя черная тень, а в остальном умная головушка, – зачем? И право, я уже заранее радуюсь, как буду поздно возвращаться домой; нет, я не стану прокрадываться к постели на цыпочках, подобно вам, трусливые тихони, – я вступлю в свой дворец под гром барабанов и труб, и гром этот будет куда торжественнее, чем тот, что сопровождает варваров в битвах…
Грянули бурные рукоплескания, веселый хохот…
Огромные топазовые глаза совоокой Фидиевой Афины видели с высот Акрополя горстку светлячков. Мы же, находящиеся внизу, в улицах города, видим факелы, которые высоко держат рабы, а вокруг них – нескольких человек.
То почтенные мужи возвращаются с пира у богача Каллия.
А в скором времени топазовые очи Афины увидели с высот Акрополя другую горстку светлячков, медленно плывущих из дема Керамик к дему Алопека.
То были свадебные гости, с факелами провожавшие в дом Сократа его жену Ксантиппу.
11
Театр Диониса постепенно заполняется зрителями. Сегодня у Аристофана великий день: его комедия «Облака» состязается с комедией Кратина «Бутылка».
Почти ни у кого нет сомнений: молодой остроумный Аристофан победит старого пьяницу Кратина с его крупнозернистой комикой. Недаром же в прошлом году Аристофан вызвал бурю восторга в Афинах нападками на Клеонта в своих «Всадниках».
Клеонт и архонты, правители города, усаживаются на свои места. На самое почетное место провели Дионисова жреца. Пришел на представление и Эврипид. Устроители бегали, разыскивая Сократа, да так и не нашли. А он, сгорбившись, сидел в самом высоком ряду. Его ученики добыли себе места поближе к сцене. Ксантиппа, услыхав, что комедия задевает ее мужа, бросила все и примчалась в театр в последнюю минуту перед закрытием входа.
Прозвенел гонг, и действие началось.
У старого Стрепсиада есть сын Фидиппид, расточительство которого заставило отца влезть в долги. Стрепсиад слышал на агоре, что есть мудрецы, по прозванию софисты, которые умеют слабое сделать сильным, а несправедливость превратить в справедливость. Старик отправляется в их «мыслильню», чтоб обучиться этому искусству и с помощью словесных выкрутасов избавиться от кредиторов. Проникнуть в «мыслильню» разрешается только посвященным. Там, в окружении бедных, отощавших учеников, в подвешенной корзине раскачивается учитель софистики, изучая солнце.
Комедия начинается весело, остроумно, зрители довольны, смеются, Аристофан уже видит себя на сцене с лавровым венком на кудрях – как было после премьеры его «Всадников».
Но вот мудрец сходит на землю из своей корзины, чтобы принять в «мыслильню» Стрепсиада, подвергнув его обряду посвящения; актер, играющий софиста, оборачивается лицом к публике. И на этом лице – маска Сократа!
Зрители на мгновение опешили. Разве Сократ – софист? Но тотчас по театру пробежал смех, будто ветерок поднялся. А, значит, комедия будет об их любимце, об этом чудаке Сократе, и маска, в которой больше сходства с лицом Силена, чем с его собственным, увеличивает веселье. Комедия развивается дальше: бессодержательную, расплывчатую мудрость софистов символизирует – и пародирует – хор облаков; им поклоняются как божествам, словно бы отринув существующую религию. Софистика – новая мода, новая мудрость, призванная вытеснить все, что было прежде.
Смех разом отрезало: насмехаться над религией равно опасно как для автора, так и для Сократа, да и кое-кто из зрителей мог бы пострадать за то, что смеялся. Но комедия есть комедия – это ведь не жизнь, так отчего же и не посмеяться, ведь еще сам Перикл говорил: празднества и игры для того и устраиваются, чтоб дать утомленному духу разнообразный отдых, позволить ему воспрянуть после упадка и меланхолии!
Далее в комедии выясняется, что Стрепсиад к ученью туп; он посылает в «мыслильню» вместо себя своего неудачного сынка Фидиппида – и в огромный амфитеатр вернулось веселое настроение, зрители хохочут снова, и лишь кое-где этот хохот звучит ехидно.
Клеонт задумался, наморщив лоб. Он сравнивает: год назад Аристофан грубо высмеял его самого – Сократа же он только вроде добродушно поддразнивает. Почему? Боится ударить сильно потому, что Сократа слишком любит народ? Да нет, Аристофан не из пугливых. Если уж меня не испугался – кого и чего ему бояться? Выходит, по его, что я – наглец и крикун, но сам он наглее меня, сам орет устами актеров и хора…
Клеонт то подается вперед, то откидывается назад – изменяя дальность взгляда, хочет дать отдохнуть глазам. Ждет напряженно: проткнет ли наконец Аристофан Сократа острым словом или нет? А дело к тому идет…
Фидиппид – полная противоположность отцу: он жадно внимает речам софистов о неограниченной свободе, мгновенно научается всяким ораторским вывертам, и старый Стрепсиад, вдохновленный познаниями сына, прогоняет кредиторов; но между отцом и сыном возникает спор о вкусах в области искусства: отец любит Эсхила, сын – поклонник Эврипида. Начинается драка, и Фидиппид, избив отца до крови, доказывает ему, что, согласно новому софистскому учению, сын имеет право колотить и отца, и мать…
Свист, топот, крики! Актерам пришлось прервать игру – их не слышно в нарастающем реве публики. Афинский народ вступился за своего босоногого чудака. Он не может примириться с такой несправедливостью к Сократу. Со всех сторон летят к Аристофану бранные слова.
– Скоморох! Это не наш Сократ!
– Долой безобразника!
– Долой! Не желаем ничего слышать!
И свист! Свист!
Ученики Сократа вне себя от негодования. Они тоже свистят. Можно ли так выворачивать Сократа наизнанку?! Он ведь хочет, чтоб мы стали лучше, он не внушает нам подобных пакостей!
Свист, топот, крики из тысяч грудей потрясают амфитеатр. Аристофан бледен. Он съежился, он страстно желает, он молит богов, чтоб буря эта не утихала, не позволила бы доиграть до конца спектакль, позорящий Сократа.
Но в первом ряду поднялись Клеонт и архонт басилевс, движением руки требуя тишины.
Семнадцать тысяч зрителей, хоть и ворча, все же постепенно успокаиваются; комедия продолжается.
Актеры, словно им самим уже тягостно, торопятся поскорей доиграть. Старый Стрепсиад, избитый родным сыном, до того рассвирепел, что со злости поджигает «мыслильню» безбожника Сократа, натравливающего сыновей на отцов…
Но тут рассвирепели и зрители. Ученики Сократа – Алкивиад, Симон, Критон, Антисфен – чуть не выплюнули легкие, крича. Бесновались и софисты. Ведь в образе Сократа Аристофан высмеивал их!
Автора закидали тухлыми яйцами, гнилыми яблоками.
И тогда, под это беснование публики, произошло странное: кто-то показал на средний проход между скамьями – по нему медленно, шаг за шагом, спускался с самого верха Сократ.
Его увидели. И встретили громовыми овациями, переросшими в подлинный триумф.
Антифонт – он не видел Сократа – наклонился к расстроенному Аристофану:
– Слышишь, какое ликование? Ты победил!
Но тут только оба поняли, кому рукоплещет театр. А Сократ, улыбаясь своей приветливой, светлой улыбкой, меж тем сходил по ступеням и тоже аплодировал.
Он аплодировал не Аристофану, который так исказил его образ, – он рукоплескал публике, справедливо осудившей злобный пасквиль.
Провал Аристофана был полным.
Сократ спустился в первые ряды. Здесь его ждали ученики и друг, Эврипид; но был здесь и Аристофан.
Сократ подошел к нему первому и насмешливо поздравил со смешной несмешной комедией… Но он один и отнесся к представлению так легко.
Алкивиад перепрыгнул из третьего ряда в первый и в необузданной ярости набросился на Аристофана:
– Какое свинство! Неужели не нашел ты никого другого для осмеяния?! – Не обращая никакого внимания на Сократа, пытавшегося утихомирить его, Алкивиад с жаром продолжал: – Говорят, ты, Аристофан, хороший повар. И верно – знатно смешал ты нынче коренья и пряности, подливка хоть куда – но где же жаркое? Его-то ты и сжег! Героя-то нету! А может, ты действовал со злым умыслом, превратив Сократа, противника софистов, в их главаря? Не останавливай меня, дорогой Сократ! Так оно и есть!
Аристофан сумел сохранить хладнокровие.
– Я всего лишь комедиограф, забавляю народ, и только безумец может принимать комедии всерьез, даже чуть ли не трагически, как делаешь ты, Алкивиад!
– Комедия, говоришь, но люди-то узнают…
– Мужей, которыми гордятся Афины, – ловко ввернул Аристофан. – Клеонт, Сократ, Эврипид… Я умножаю их славу.
– Ты выставляешь их на смех! Бросаешь в них грязью! – крикнул Алкивиад.
Сократ, неторопливо переваливаясь, подошел к ним:
– Сегодня он сам себя выставил на смех. Ждал лавров, а что получил? Публику, милый Аристофан, ты, как оказалось, не завоевал. Дай-ка! У тебя тут на хламиде растеклось вонючее яйцо… Позволь, сотру кончиком моего гиматия. Он у меня старый, ничего ему не сделается.
Каждое прикосновение Сократа, каждое его слово Аристофан воспринимал как пощечину. Он вырывался, но не мог освободиться от Сократа, не мог уйти. Пришлось терпеть.
Тогда заговорил Эврипид:
– По моему мнению, со сцены должен говорить воспитатель граждан, ты же, Аристофан, подлинного воспитателя молодежи, Сократа, изобразил как ее развратителя! Зачем? Почему твоя комедия так все искажает, путает, смешивает, хотя в ней четко видны торчащие острия ненависти к людям определенного рода…
– Какого рода? – встревожился Аристофан.
– Ну во всяком случае, не того, что твое окружение. Вы, ретрограды, не хотите, чтобы молодые делались лучше, образованнее отцов. Вы не можете примириться с тем, как, скажем, я сам или Сократ смотрим на человека, с тем, что мы верим в возможность его совершенствования, верим, что путем более глубокой образованности он сделается добродетельнее и полезнее общине. А ты все перевернул! Умышленно! Устами актеров ты намеренно кричал, что Сократ подстрекает сыновей не уважать отцов и развращает молодежь. Теперь все отцы будут возмущены против Сократа.
– Не все! – воскликнул вдруг один из вождей демократов, кожевенник Анит, подойдя к столпившимся вокруг Сократа. – Именно теперь, посмотрев твою комедию, Аристофан, я решил отдать своего сына в ученье к Сократу. Ты, мой милый, задеваешь людей, к которым принадлежу и я!
Аристофан, поняв, что своими нападками только сплотил демократов и их друзей, собрался с духом, чтобы нанести Сократу более сильный удар, чем в комедии:
– Но Сократ публично, по всем Афинам, проповедует, что сыновья должны превосходить отцов!
Сократ не позволил долее защищать себя ни Эврипиду, ни Аниту или Алкивиаду. Он сам весело возразил:
– А разве это не верно? Или развитие человека должно идти вспять? Если б афиняне не хотели, чтоб их сыновья стали более образованными, знающими, способными, чем они сами, тогда, значит, я – лучший отец для этих юношей, чем их собственные отцы!
Кто еще оставался поблизости, все зааплодировали. Но Эврипид озабоченно нахмурился.
Аристофан усмехнулся:
– И ты думаешь, Сократ, что афинские отцы похвалят тебя за то, – тут он софистически сместил смысл Сократовых слов, – за то, что ты хочешь, чтоб сыновья презирали их и превозносились над ними?
Сократ, лузгая свои семечки, уселся на каменную скамью в первом ряду, в то время как остальные остались стоять, возвышаясь над ним. Но поразительная вещь – сила слова! Сократ заговорил медленно. Речь его звучала просто и величаво:
– Когда бы отцы признавали только то, что было и есть, и отстаивали бы только это, я считал бы честью для себя, восстань они против меня. И такая же, даже большая для меня честь – то, что я любим их сыновьями.
Молодые люди, окружавшие его, восторженно закивали.
– Право, я предпочел бы, чтоб меня ненавидели отцы, чем сыновья. Заглядывая в будущее Афин, я твердо верю – и всеми силами буду этому способствовать, – что люди будут становиться все лучше и лучше.
Ученики бросились обнимать Сократа, и с их ликованием смешивались рукоплескания Эврипида, Анита, нескольких зрителей, задержавшихся в амфитеатре, и актеров, которые – уже без масок – вышли из уборных под сценой. Аплодировал даже тот, кто играл роль Сократа.
Аристофан корчился, словно его колесом переехало; глаза его налились кровью. Насколько любил он задевать других, настолько же тяжело переносил, когда задевали его самого, и горе тому, кто одерживал над ним верх в словесном поединке.
Сократ встал, с довольной улыбкой раскинул руки:
– Сегодня Афины показали, как они меня за это любят! Видишь, Аристофан, а ведь этот день должен был стать твоим великим днем…
12
Жизнь новобрачных складывалась не так, как представляла себе Ксантиппа. Не Сократу – ей самой пришлось взять в руки хозяйство.
На деньги, полученные в приданое, она купила осла – Сократ дал ему имя Перкон; купила козу – Сократ угощался теперь парным молоком; во дворике она развела огород – Сократ приправлял сыр чесноком и луком.
Если Ксантиппа не могла с чем-нибудь справиться сама, она обращалась к соседям. Симон давно был женат, его дети уже подросли, и, когда Ксантиппа приходила за помощью, он посылал их.
Симон питал к Сократу глубокую благодарность за то, что столькому от него научился: он мог теперь сам писать рассуждения о добре и красоте. Помощь Ксантиппе он считал справедливой платой учителю.
Все же помощь Симоновых детей была недостаточна, и Ксантиппа трудилась с утра до вечера, чтоб как-то прокормиться и поменьше зависеть от Критона. Она обрабатывала запущенный виноградник в Гуди – Сократ, беседуя с друзьями, любил потягивать винцо; сбивала и собирала в корзинку оливки – Сократ предпочитал оливки домашнего соления.
Ксантиппа гордилась тем, как ловко она управляет домом, Сократ восхищался ею, и так шли дни за днями. Не зная, за что браться раньше, Ксантиппа придумывала, как облегчить себе работу. Сегодня она собралась стирать. Поднявшись на цыпочки, окликнула через ограду Симона. Тот, даже не спрашивая, что ей нужно, тотчас отправил к ней сына. Мальчик помог Ксантиппе подкатить к Колодцу известняковый куб, на который она поставила корыто.
Заплетя волосы в две косы, она принялась за стирку. Вся облилась водой, ее пеплос тонкого полотна прилип к телу, колени были черные – утром она, ползая на коленях, сажала в грядки рассаду салата.
Из дому вышел Сократ, поцеловал Ксантиппу, потом вынес лепешку, несколько фиг и подсел к столу.
С удовольствием смотрел он на молодую жену – ее черные косы, похожие на двух толстых змей, подскакивали по спине; работа радовала ее – Ксантиппа даже запела. Взгляд Сократа упал на камень под корытом, и он расхохотался:
– Великолепная картинка!
– Чему ты смеешься? – Ксантиппа с недоумением оглядела себя.
Сквозь мокрый пеплос просвечивают сосцы ее грудей, под животом наметилась черная тень. Этому он смеется?..
Нет, нет. Вот он отвечает:
– Да знаешь ли ты, что поставила корыто на голову бога?
– Что? – Ксантиппа осмотрела камень. – Какой еще бог? Обыкновенный известняк!
– А ты погляди получше с той стороны, к колодцу. В этом известняке сидит сын Ночи, бог насмешки Мом. Отец задумал его бюст, но не закончил, я начал было доделывать, да тоже так и не высвободил его из камня. Мы крепко связаны с Момом. И не чарами какими-нибудь, а уделом насмешников…
Ксантиппа, с детства продававшая богов, изображенных на керамических сосудах, знала их родословную и питала к ним почтение. Она испугалась:
– А я-то на него грязной водой брызгаю… – Она поспешно обмыла лицо бога. – Почему же ты его не доделал?
– Была у меня другая работа, поважнее, а потом я понял – надо выбирать: либо ваять богов, либо заниматься людьми. И Мом поплатился за мой выбор.
– Вот почему он внушил Аристофану написать на тебя комедию!
– А что ты знаешь об этой комедии? – заинтересовался Сократ.
Ксантиппа, подняв против солнца выстиранную вещь, смотрела, не остались ли на ней пятна.
– Хотя бы то, – весело ответила она, – что ты, оказывается, любишь сидеть в корзине и разглядывать облака. Всякий раз, убирая в козьем закутке, я вижу, как ты поклоняешься солнцу, и вспоминаю эту комедию. Мне тогда тоже чудится, будто ты висишь в корзине над нашим двориком, а я под нею сажаю чеснок.
– Ты видела комедию? – И, когда Ксантиппа кивнула, упрекнул ее: – Почему же ты от меня скрыла?
Ксантиппа, склонившись над корытом, терла белье; отбросив на спину косы, перевела речь:
– Вот беда – там все перепутано… То правда, то ложь, то веселое, то злое… А вышла я из театра – вокруг кучки людей увивался этот комар, Анофелес. Он не знал, что я твоя жена, все жужжал: «Сократ безбожник, Сократ развращает молодежь…»
– А что люди?
– Брезгливо отворачивались от этого паразита.
– Почему же ты про все это не рассказала мне сразу? Ты ведь всегда мне все рассказываешь, – удивился Сократ.
– Потому что в тот вечер, когда ты вернулся из театра, ты был такой печальный – мне не хотелось…
– Может, и ты думаешь, что я порчу молодежь, что есть у меня причина печалиться?
– Нет, нет! Как я могу так думать, ведь я слушаю, когда ты беседуешь с друзьями! Голос у тебя такой звучный, что всюду слышен: в чулане, в погребе, в огороде, на улице… – Она заговорила тише. – А вот в том, что ты веришь в богов, я не решилась бы поклясться. Недавно ты говорил, будто Эврипид утверждает: если боги совершают позорные поступки, например мстят, если они такие злобные и безжалостные, – значит, они не боги! А это кощунство!
– И я сказал, что согласен с этим, да? – перебил ее Сократ. – И прямо сказал: богов нет.
Она в ужасе закрыла ему ладонью рот:
– Что ты говоришь! Как это нет богов?! О Гера, наша общая мать! И перестань хихикать, слышишь? Смех – дар божий, как ты говоришь, но здесь он неуместен! Сейчас же помоги мне откатить бога на достойное место! Вон туда, к тамариску…
Она кинулась к камню, но Сократ ласково отстранил ее, поднял камень и перенес к тамариску. Ксантиппа нарвала диких маков, связала в букет, вынесла вазу, наполнила водой – готовилась воздать почести Мому.
Сократ тем временем покончил с лепешкой, заел ее фигами, выпил кружку вина. Отряхнув ладони, он подошел к Ксантиппе и попрощался с ней жарким поцелуем.
– Куда? Куда опять?! – рассердилась та. – Опять болтаться по городу?!
– Опять, Иппа моя.
– И не отдохнешь?
– Сегодня нет. Мне надо к людям.
– А когда тебе к ним не надо! – вздохнула Ксантиппа. Сократ ушел, а она поставила вазу с крупными огненными маками прямо под искривленный нос Мома.
Села перед богом на пятки – это ведь почти то же самое, что стать на коленки, – и тихо, но горячо заговорила:
– Прости меня, бог Мом! Я не знала, что ты заточен в этом камне. Но ничего, я это исправлю. Буду теперь помнить про тебя. И на бродягу моего не сердись. Понимаешь, он одержимый. Он одержим мыслью, что должен беседовать с каждым жителем Афин. Если он не поговорит с каким-нибудь рабом, торговцем, сапожником, служанкой – вплоть до пританов, архонтов и демагогов, – жалуется мне, что даром потерял день жизни и чувствует себя несчастным. Он хотел бы, чтоб день длился в три раза дольше, чтоб успеть ему потолковать со всеми… – Ксантиппа оглянулась. – Но говорит он очень хорошо, люди слушают с удовольствием. Я и сама иной раз так заслушаюсь, что молоко на огне убежит… И он все время хочет чего-то новенького, понимаешь? Мне кажется – он все что-то ищет. Нелегко мне с ним жить. И я ревную! А он только смеется: «Гера тоже ревнует Зевса – вот какая у нас сварливая, упрямая главная богиня!» А я ему: «Потому что ты такой же распутник, как Зевс!» – «Ах, милая моя, – отвечает он, – в этом и есть красота человечности: не будь в ней изъянов, была бы она скучной. Однако наш великий Дий бегает за юбками постоянно, а я со времени нашей свадьбы знаю только тебя одну!» – «А что ты говорил нынче ночью во сне?» – напускаюсь я на него. «Понятия не имею, – отвечает, – но рад буду узнать». И я его голосом произношу: «Прекрасная! Недосягаемая… Ах, острое слово вскрывает тайные раны! Что теперь скажешь, вероломный? Кто же эта прекрасная и недосягаемая?» И знаешь, Мом, что было? Он расхохотался, да и говорит: «Открою тебе, что прекрасно и недосягаемо: совершенная красота человека!» И опять засмеялся. «Всему-то ты только смеешься, зубоскал, – говорю. – Ты вон даже во сне смеешься!» И знаешь, милый бог, что он ответил: «Смеется тот, у кого совесть чиста!..»
Ксантиппа погладила грубо обтесанный камень, наклонилась, чтобы лучше разглядеть лик Мома, наполовину увязший в камне, и просительно закончила:
– Так ты уж прости, что я облила тебя грязной водой, и ему тоже все прости! Я его люблю…
Она поднялась, встала на цыпочки и крикнула через ограду:
– Симон! Симон!
Когда тот отозвался, спросила:
– Не знаешь, почему это Сократ только заглянул домой да и снова ушел?
Симон с заготовкой сандалии в руке вышел на порог:
– Верно, все из-за этого Брасида. Слыхать, опять он идет на нас со своими спартанцами.
– Дева Афина! – ахнула Ксантиппа.
– Не пугайся. Он не на Афины идет, а далеко на север, на наши союзные города.
– Но ведь это тоже как бы и мы сами, правда?
– Правда, – кивнул Симон и ушел к себе.
13
Симон не ошибался.
Брасид форсированными маршами двинулся на север через Фессалию и Халкидику к городу Амфиполису, афинской колонии, и осадил его.
Клеонт, на кораблях, полных афинских гоплитов, поспешил на помощь Амфиполису и разбил свой стан неподалеку от стана лакедемонян.
– Как когда-то у Потидеи, – ласково шептал Алкивиад Сократу. – Снова мы с тобой в одной палатке, делим пищу, всегда вместе на отдыхе и в бою, всегда рядом, милый мой Сократ.
Завязалась битва, стукнулись щит о щит, зазвенели мечи, ручьями потекла кровь афинян и спартанцев. Афинской крови текло больше, ибо афиняне проиграли битву. Вожди обеих сторон, Клеонт и Брасид, нашли в ней свою смерть.
Сократ и Алкивиад, невредимые, вернулись в обессиленные Афины, жаждущие мира. К миру взывали крестьяне Аттики, мира хотела и Спарта – и тогда на сцене появился давний проповедник примирения Никий: мир был выгоден для его мошны.
Никию удалось склонить народное собрание к тому, чтобы заключить со Спартой мирный договор на пятьдесят лет. Как прочен мир, заключенный на такой долгий срок! Никий заключил мир со Спартой, но в экклесии он мира не нашел.
После гибели Клеонта во главе радикальной демократии встал Алкивиад и начал длительную борьбу с Никием за благосклонность народа.
Алкивиад обсуждал положение дел с Сократом. Как обычно, он сидел на обломке мрамора, Сократ же расхаживал перед ним, грызя семечки.
– Этот прекрасный полувековой мир имеет целью ослепить нас! Ему даже новорожденный не поверит! – страстно говорил Алкивиад. – Мир рассчитан на крестьян, это ловушка для земледельцев: спите, мол, спокойно, жители Аттики! Мир вам обеспечен на полсотни лет, а тем временем – готов спорить на десять мин! – уже нынче спартанские эфоры готовят планы нового вторжения в Афины! Никию это на руку: мол, мир, граждане, все-таки мир, договор есть договор, сложите руки на коленях, – а в одно прекрасное утро вся Аттика будет наводнена спартанскими гоплитами!
Сократ кивнул:
– А те отлично знают свое ремесло. Я всегда восхищался дисциплиной и надежностью спартанских воинов.
Никий и многочисленные аристократы в народном собрании целыми месяцами убаюкивали афинский народ видениями братского любовного союза между Спартой и Афинами.
– Какой может быть любовный союз между нами, демократами, и Спартой, аристократической испокон веков?! – взвился Алкивиад. – Они, наверное, хотят сказать – между спартанскими аристократами и аристократами афинскими!
Народ медленно, но все более и более явно склонялся на сторону Алкивиада. Он весь в Перикла, говорили о нем. Тот тоже всегда был непримиримым противником Спарты.
– Под угрозой не одни Афины – все наши союзники! Под угрозой морская и экономическая мощь государства. Во имя спасения родины готовьте войско и флот, мужи афинские!
Страстная речь Алкивиада имела успех. Члены народного собрания сотнями присоединялись к нему.
Однако прилежно трудился и Никий.
– Неужели вы не цените столь драгоценный, с таким трудом добытый мир, что хотите готовить новую войну? Разве не хлебнули мы ее досыта?
Кто-то в запальчивости крикнул:
– Аристократы хотят продать Афины Спарте! Что тогда? Спартанцы перебьют всех нас, демократов, или превратят в рабов!
Словно раскаты грома прокатились над экклесией, открывая путь Алкивиаду к высшей вехе.
Установили день, когда экклесия выберет для Афин новых десять стратегов.
14
– А не заглянуть ли нам к какой-нибудь из афинских красавиц? – бросил Антисфен, когда они после ужина вышли из виллы Критона, и добавил: – Говорят, Феодата – из самых красивых и образованных гетер, каких когда-либо знала ночная жизнь.
Алкивиад вопросительно посмотрел на Сократа.
– «Говорят» – обманное слово, – заметил тот. – Красота по слухам – этого мало. Я всегда жажду смотреть на красоту вблизи. Веди нас, Алкивиад, ты ведь все знаешь.
Алкивиад сказал привратнику, что Сократ с друзьями желают поклониться прекрасной Феодате. Имя Сократа произвело такое впечатление, что всех троих тотчас ввели в просторный зал, из которого открытые двери вели в сад; из сада заглядывали сюда ночь и звезды, вплывала ароматная свежесть.
Покой был обставлен роскошно – ковры, занавеси. За столиком сидел бледный молодой человек, из-за его спины рабыня наполняла вином его чашу.
Молодой человек представился вошедшим, сказав, что он – трапезит из Пирея.
Легкий звон кифары стих – Феодата встала с кресла, чтобы встретить гостей.
– Благодарим за ласковый прием, – поклонился ей Алкивиад. – А дочь твоя не выйдет приветствовать нас?
– Тимандра еще в Эфесе, – ответила Феодата. – Но скоро приедет, чтобы отпраздновать у матери свой четырнадцатый день рождения.
Сократ глаз не мог отвести от Феодаты. Юная мать – прекрасная мать! Лицо ослепительно белое под высокой, сложной прической волос, окрашенных в темно-рыжий цвет. Глаза же темные, как агат, рот широкий, чувственный, но вместе с тем и нежный.
– Сядешь с нами?
– Конечно. Только отдам распоряжения моим девушкам.
– Ага! – радостно воскликнул Сократ. – Не успели мы войти, как ты меня уже порадовала!
На вопрос Феодаты – чем именно, Сократ ответил:
– Тем, что чтишь в рабынях людей и называешь их «мои девушки».
Феодата улыбнулась ему:
– Я их люблю. Извини меня ненадолго.
Она вышла, а скульпторское око Сократа, в котором вечно светился художнический восторг, отметило совершенную красоту сложения Феодаты и ее походки.
Гетера велела рабыням увенчать гостей розами, принести мясные и сладкие закуски и охлажденное вино. Она вернулась в длинном пеплосе с тонкой вышивкой по подолу и в бледно-сиреневой накидке: то и другое казалось сотканным из воздуха и благоуханий, то и другое прозрачно, так что просвечивали под ними округлые плечи и великолепной лепки груди. Под грудью дыхание ткани стянуто лентой, чтоб подчеркнуть линии тела.
Взгляд Феодаты прикован к Сократу. Тот удивился:
– Если бы я смотрел на тебя одну, Феодата, это было бы вполне объяснимо, но удивительно, что ты смотришь только на меня!
– Я много слышала о тебе и мечтала с тобой познакомиться. Когда ты вошел, стало будто светлее.
– Мой долг, да и всех, входящих под твой кров, оценить твою ослепительную красоту.
Началось соревнование в похвалах и восхищении рыжеволосой красавицей; Антисфен одолевал молодого трапезита, который был способен лишь сравнивать ее с разными Афродитами – Кипрской, Книдской…
– Клянусь псом, сколько же у нас Афродит! – тихо заметил Сократ; но тут трапезит вспомнил еще Афродиту Анадиомену, которая-де выступает из морской пены точно так же, как Феодата из волн своего прозрачного пеплоса.
Сравнение недурно, подумал Антисфен и пустился во весь дух сравнивать красоту гетеры с розовой лилией, с бутоном дикого мака, с песней, со свежестью, что царит на вершине Парнаса…
Сократ молчал.
Феодата слушала, улыбаясь по обязанности, и выжидательно смотрела на философа. Ждал и Алкивиад, что-то он скажет. А Сократ с удовольствием отведывал угощение; поев, ополоснул пальцы в серебряном тазу и осушил их виссонной тканью. Затем, вытерев бороду, он проговорил:
– Следовало бы теперь и мне, божественная Феодата, присоединить свою долю к восхвалению твоей красоты. Но хотя я захвачен ею и потрясен до мозга костей и ввергнут ею в такой же экстаз, какой овладевает мною при восходе солнца, не позволяй мне этого делать.
– Почему, Сократ?
– Трудно говорить о великой радости, какую внушает нам красота, если душа внезапно сжимается и болит…
– Болит?.. И – внезапно?.. Стало быть, боль эта навалилась на тебя здесь, у меня?
– Вот именно, прекрасная.
– О боги, какое же зло причинил тебе мой дом?
– Не дом твой, а ты сама.
Феодата вскочила, в испуге протянула к нему руки:
– Чем же, о я несчастная?! Сократ быстро сказал:
– Прошу, помедли так, в этом движении, с этим испугом на лице! – И к остальным. – Видите? Медные волосы, откинутые резким движением, брови раскрылись, как небесные врата, ресницы – волшебные стрелы, которые ранят, но сладостной раной, лодыжка, изящной кривой переходящая в белую колонну голени, над широкими боками – тонкая талия, и выпуклость груди с двумя яблочками, шея, несущая голову, губы, за которые не трудно умереть… И все это я говорю только от одного из пяти чувств человека!
– Ах, какая хвала! – вздохнула гетера, влюбленно глядя на Сократа. – Но ты сказал – я причинила тебе боль!
– Конечно. – Сократ обеими руками обвел, не прикасаясь, линии ее плеч, рук, боков и ног и горько закончил: – А я, глупец, оставил ваяние!
– Никто, Феодата, не выскажет тебе большей хвалы, чем эта! – сказал Антисфен.
Алкивиад добавил:
– А я завершу ее. Я почти каждый день провожу с Сократом, но еще не слыхал, чтоб он хоть раз пожалел о том, что оставил ваяние, – только сегодня, увидев тебя, Феодата!
Она опустилась на пол у ног Сократа и положила голову ему на колени:
– Не знаешь ты, как я счастлива, что ты пришел ко мне, и до чего несчастна, что не дано мне стать прообразом твоей статуи…
Сократ медленно провел ладонью по ее волосам, от темени до самых их кончиков:
– Тебя пишут лучшие наши художники, и это смягчает мое сожаление.
Антисфен поднял глаза на Сократа:
– А тебе не хочется, ради Феодаты, снова взять в руки резец и молоток?
Сократ покачал головой.
– Да, то была бы славная работа. Я, пожалуй, еще не забыл – нет, нет, даже наверное; такой образец разом вернул бы мне былое мастерство…
– Что же тебе мешает? – спросила Феодата.
– Я черпаю воду решетом, – усмехнулся Сократ. – Занимаюсь человеком, хочу, чтобы он стал лучше, но приверженцы софистики путают мои карты…
– Ах, я знаю. Замечаю сама, – вздохнула Феодата. – Младшие софисты дурно влияют на души. Разглагольствуют без умолку, прямо подавляют человека словами. Разрушают в нем всякую веру в себя…
– Подрывают все, как дикие кабаны, – нахмурился Антисфен. – Стремятся обратить мир в первозданный хаос… При нем-то им, конечно, жилось бы наилучшим образом. Долой народовластие, долой законы, долой какой бы то ни было порядок, устрояющий совместную жизнь людей! Они поклоняются произволу, который позволяет отдельной личности, не считаясь с прочими, добиваться успеха для себя… – Антисфен виновато посмотрел на хозяйку. – Но в какие дебри забрела наша беседа от твоей красоты?
Феодата покачала головой:
– Мы говорим о вещах более важных, чем моя внешность… – Перевела взор на Сократа. – Меня поражает наглость, с какой софисты публично учат людей, как сделаться прожженными себялюбцами…
Сократ засмеялся горьким смехом.
– Можно ли поражаться человеческой слабости, заставляющей людей слушать подсказки софистов о том, как взобраться повыше и извлечь для себя побольше выгоды?
Феодата брезгливо передернулась.
– Ужасно, что их слова имеют такую большую власть.
– Да, – подхватил Сократ. – Слово – великая сила, но не одно только их слово; вот почему у меня и у моих друзей нынче много дела.
Феодата повела рукой в сторону Алкивиада.
– Ты, Сократ, пестуешь человека, как сирийские садоводы – дички. Они их прививают, делают все, чтоб вырастить прекрасные плоды…
Молодой богатый трапезит слушал все эти разговоры с неудовольствием. Он пришел взять свое, заранее известив о посещении, а непрошеные гости задерживаются… Давно миновала полночь. И он не выдержал:
– Время позднее. Пора Феодате решать, кого из нас оставит она сегодня у себя для любовных утех!
Положив руку на свой кошелек, он вызывающе посмотрел на гетеру, уверенный, что та не устоит перед звоном золота.
Феодата обвела мужчин взглядом, словно раздумывая.
– Я очень жадная. Я просто хищница и не скрываю этого. – Она глянула на молодого менялу, который горделиво выпрямился, уже чувствуя себя победителем. – Сегодня же особенно обуяла меня невероятная алчность. Поэтому, друзья, не сердитесь, если я хочу мужчину, в котором два мужа!
– Как это понимать? Скажи яснее…
Феодата встала.
– Хочу того, в котором одновременно живут философ и художник! – И она низко поклонилась Сократу.
Все были поражены. Меняла спрятал свой кошелек и удалился.
Алкивиад заявил, что они с Антисфеном выбрали для себя по молодой рабыне и потешатся с ними. Оба ушли в сад, примыкающий к залу, сговариваясь потихоньку подглядывать, как будет Сократ ласкать Феодату: интересно, удастся ли ему сохранить сдержанность, к которой он так часто призывает их!
Гетера погасила яркие светильники и зажгла оранжевую лампу. Бросила в огонь несколько палочек аравийских благовоний и принесла целую охапку подушек. Все это создало атмосферу интимности, дурманящей чувства.
– Ты попался в сети продажной женщины, – тихо проговорила она. – Не уйти ли тебе? Я слышала – ты недавно женился.
– Да, – улыбнулся Сократ. – Но это не причина, чтобы я ушел, хотя я очень люблю жену.
– Говорят, Ксантиппа поразительно красива.
– Это правда. Иной красотой, чем твоя.
– И, наверное, ревнует тебя.
– Ты угадала.
– Угадать нетрудно. Такого человека!
Сократ засмеялся.
– А я вот дивлюсь ее ревности. Разве это не в порядке вещей, что я люблю Ксантиппу и в то же время восхищаюсь Феодатой?
– Думаю, да. Однако я плохо тебя развлекаю. Вот – пробудила в тебе сожаление, что ты, из любви к человеку, перестал высекать его в камне. Но ведь и то, что ты делаешь теперь, – искусство.
Он гладил ее, задерживал пальцы на ее обнаженной шее, наслаждаясь этим прикосновением.
– Отбрось все, что тебя терзает, пока ты со мной… Молю тебя, Сократ! Сегодня у меня праздник. Забудь мучительные мысли, стань весел, как ты сам советуешь другим…
Сократ поцеловал ее:
– Когда мы входили, я слышал – ты играешь на кифаре…
Феодата села на подушки у его ног; оранжевый свет подсвечивал ее медные волосы. Устремив взор на Сократа, она вполголоса запела стихи Архилоха, аккомпанируя себе тихими аккордами:
По любви безмерная тоска В глубину души моей проникла, Зрение окутав черной мглою, Жалкий разум из груди исторгла…Сократ любил музыку и пение. Слушал, улыбался.
– Вместе с тобой плыву на волнах твоей песни, и это несказанно прекрасно… – Он притянул ее к себе. – Как умеешь ты насытить все чувства человека, милая! – проговорил он с изумлением.
Он преодолевал искушение, исходящее от ее красоты. Даже сам увеличивал опасность…
Алкивиад с Антисфеном подглядывают сквозь ветви олеандров; они поражены.
– Но это больше, чем терпеть голод, жажду, зной и холод! – шепчет Алкивиад.
Антисфен взволнованно вздыхает:
– Сократ действительно сильный человек: что хочет, то и может…
Бледнеет над горами небо, масло в лампе на исходе, она еле светит, и лица в полумраке еще загадочнее, еще желаннее. Феодата жарко целует Сократа на прощание:
– Сегодня я узнала, мой дорогой, новую, глубокую связь между мужчиной и женщиной, неизвестную мне доселе. Это доказывает твою правоту, что наслаждение – не одно, их сотни, может быть, тысячи, и ты умеешь открывать и дарить их…
– У тебя же, Феодата, редкостный дар: возвращать, насыщая, все множество наслаждений.
– Можно мне попросить тебя?
– Ну конечно же!
– Приходи поскорее снова!
Он расцеловал ее:
– Я и сам заранее радуюсь этому.
Он ушел – из-за олеандра выступил Алкивиад, раскрыв объятия.
Феодата попросила его ничего сегодня от нее не требовать.
15
Сократ идет домой от Феодаты. Скоро утро – над гребнем Гиметта светает, заря растекается по небу.
Сократу хорошо. После вина у него легкий шаг. Прямо танцевать хочется… Из груди рвутся слова песни Феодаты:
По любви безмерная тоска В глубину души моей проникла, Зрение окутав черной мглою, Жалкий разум из груди исторгла…Шлепают босые ноги по плитам мостовой. Сократ думает о Ксантиппе, радуется, что скоро ее обнимет. Где найдет ее? Позавчера она сидела, съежившись, обнимая колени, на глыбе гранита, волосы распустила, и они покрывали всю ее. Очень нескоро удалось ему развернуть этот горестный комочек, прижать к себе. Как-то будет сегодня? – с опаской думает Сократ, тихонько открывая калитку.
Уже видна дверь дома, а Ксантиппы нигде нет. Не ждет его, как обычно. Легко ступая, Сократ прошел к дому – и тут дверь распахнулась, вышла Ксантиппа с подойником в руке.
Сократ ожидал громы и молнии. Зубы жены блеснули, но в ласковой улыбке:
– Ай-яй-яй! Ты уже здесь? А я только еще доить иду… Или сегодня не весело было, что ты спешишь домой?
Приветливость жены сбила Сократа с толку. Он приготовился встретить грозу – а погода-то ясная…
– Хорошо ли выспалась, милая? – уклонился он от ответа.
– Спасибо, отлично! Тихо было в доме. Никто не храпел, не хихикал во сне, не разговаривал…
Величайший мастер диалога опешил. Стал выкарабкиваться, как умел.
– Это хорошо, что ты ложишься спать, когда я где-нибудь задерживаюсь. Розовенькая ты, будто только что выкупалась…
– О, как ты меня хвалишь! – Ксантиппа отставила подойник, подбоченилась. – Зато ты всю ночь глаз не смыкал, будешь теперь отсыпаться, а мне – целый день спину гнуть… Клянусь совоокой Афиной! А все – твои несчастные беседы. Только из дому – уже хватаешь кого попало и пошел выматывать ему душу… Ах ты, неуемный язык, все бы тебе говорить, говорить, конца-краю нету! Ах ты мой болтливый пустозвон, дырявый кувшинчик, горшочек ты мой кипящий!
Сократ продолжал льстить ей:
– Вот видишь, милая, я прав! Всем риторам и синонимистам поучиться бы у тебя богатству речи… О певучий аттический язык, обогащенный Керамиком! Прямо музыка льется из твоих хорошеньких губок…
Но Ксантиппа не дала отвлечь себя от практической стороны:
– Что это с твоим хитоном? Клянусь Герой! Весь облит вином…
– Это – был симпосий у Критона…
Ксантиппа уже начала раздражаться:
– Вот как! Глядите-ка! Я тут торчу среди камней, как в тюрьме, вокруг немота, а ты пируешь? Лакомишься паштетами да селедочками, винцо потягиваешь, я-то знаю, сколько ты в состоянии выхлебать, вот тебе и весело… Молчи! Оставь меня! Я издали слышала, как ты распевал, да только не от той радости, что ко мне идешь, а от той, какая у тебя там была!
Он нежно обнял жену:
– Знаю. Я негодяй, что все время оставляю тебя одну, но я ведь не виноват, что женщинам запрещено бывать в мужской компании. Как раз сегодня у Критона говорили о том, как это несправедливо по отношению к нашим женам, что мы запираем их дома, словно кур в курятнике, и именно сегодня я подумал – надо подать проект закона, чтобы девушки получали образование наравне с юношами и ходили бы слушать философов. Только образование улучшит положение женщин. Они станут подругами своим мужьям, и тогда не одни гетеры будут хоть мало-мальски образованны, будут владеть, например, искусством декламации, танца, пения и музыки… Это будет переворот в обществе, дорогая!
Ксантиппа вырвалась из его рук и завела свое:
– Что ты болтаешь? Хочешь меня еще пуще разозлить? Это как же – чтоб я оставила наш виноградник в Гуди, пускай гниет на корню, пускай в доме беспорядок, коза пускай подыхает – не будет ни капли молока! – а я чтоб пошла учиться, в то время как ты будешь таскаться по городу?!
Она вдруг осеклась, принюхалась к его хитону.
– Благовония! Ты был у гетеры! – Голос ее дрогнул. – О, бессовестный! Так вот они, твои премудрости! Лжешь, что с приятелями беседовал, а сам всю ночь с гетерой вожжался!
Слова ее рвались сквозь всхлипывания, пальцы так и вцепились в плечи Сократа.
– Был я, Иппа, у гетеры. Мы были у Феодаты. Но я не вожжался с ней. Ел, пил, разговаривал. Феодата – высокообразованная женщина. А ты – самая прекрасная и славная из афинянок! Я рассказал Феодате, как люблю тебя.
Он закрыл поцелуем рот Ксантиппы, уже открывшийся было для отповеди, и нежно повел ее в дом.
Ушли…
Мом, сердитый на Артемиду за то, что девчонка все время оставляет его одного, а сама носится где-то по Аркадии, с интересом слушал супружеский диалог.
Старый ворчун полюбил Сократа с самого его рождения, но казалось ему – еще больше привязался он к его женушке. Хотя бы за то, как ловко она бегает по двору – черные волосы развеваются, глаза – живое пламя… К тому же Ксантиппа не забывает почтить его букетиком цветов. А что у нее язычок ловко подвешен? Да это лучше, чем если б была она божьей овечкой…
16
Трое сидят под платаном: Сократ, Алкивиад, Критий. Четвертого не видно.
– Спите, дремлите, похрапывайте, дрыхните как убитые – вот что советует нам Никий! Но кто же поднимет Афины к былому могуществу? Спящие? – говорил Алкивиад.
– А Никий и не видит, что их надо поднимать. Зато это видит афинский народ, мореходы, ремесленники, торговцы, – отозвался Сократ. – Я слушаю твои выступления в экклесии и слышу, как принимает народ твои речи. Люди верят в твою рачительность и талант полководца. Потому и любят тебя, Алкивиад.
– А какая тебе от этого выгода – нетрудно угадать, – вставил Критий.
Алкивиад замахал руками, словно отгоняя осу:
– Нет, нет! Пока меня не проводят с собрания первым человеком в Афинах – и слышать об этом не хочу!
Крития непрестанно гложет зависть: я ведь тоже племянник Перикла, тоже ученик Сократа, и способности мои не меньше – я поэт, и все же ползаю по земле, в то время как Алкивиад взлетает орлом!
И он процедил ядовито:
– По-моему, Алкивиад, тебя любят больше за красоту, которую ты еще подчеркиваешь крайностями чужеземной моды.
– Ах, милый Критий, – возразил Алкивиад, – очутись ты в моей шкуре, знал бы: когда женщины и мужчины любят тебя за внешность – это тягостно, а часто даже противно!
– Но ты и с теми, в чьей любви не нуждаешься, разговариваешь сладко…
– Верно, – кивнул Алкивиад. – Не умею я вызвать к себе неприязнь, быть с людьми кусачим и язвительным. Но уж если кто меня взбесит – могу так отдубасить, что тот своих не узнает; зато на другое утро – я уже у него, готов донага раздеться и просить, чтоб он меня отхлестал кнутом в отместку…
Сократ молчал. Обмакнув палец в вино, рисовал на столе Эрота с луком и стрелами. Заметил на висках Алкивиада набрякшие жилы. Какой человек, мой милый Алкивиад! Хищный зверь – и вместе кроткий ягненок…
– Я не умею стать неприятным даже собственной жене. Любит она меня. Говорит – до безумия…
– То-то сбежала от тебя к своему брату, – злобно заметил Критий.
– Ах да, – вздохнул Алкивиад. – Хочет довести меня до того, чтоб я не смотрел на других женщин и сходил бы с ума от любви к ней одной, как она сходит с ума по мне… – Он повернулся к Сократу. – Скажи сам, дорогой, разумно ли, что Гиппарета хочет запретить мне ходить к Феодате и другим гетерам? А почему мы, мужчины, посещаем гетер? Потому что находим у них то, чего нет у нас дома…
И он стал развивать мысль: жена должна быть не просто самкой, но и другом мужа, с которым тот мог бы говорить обо всем, как с мужчинами.
– У гетер нередко можно рассуждать о разных вещах даже лучше, чем на пирушках, на которых хозяин усердно потчует тебя жарким, паштетами, вином, а то и живым мясцом… Начинается шумное веселье, шутки, приходят фокусники – и тогда всякое разумное слово воспринимается как очередной фокус. Меж тем как у гетер…
– Остановись, Алкивиад, – сказал Сократ. – Что хочешь ты скрыть под этой речью?
– Я отстаиваю свое право на выбор! А моя ревнивая Гиппарета воображает, будто по причине безумной любви ко мне вправе стать моим тюремщиком…
– Алкивиад говорит о безумии! – усмехнулся Критий. – Но лишь в отношении других…
Сократ спросил:
– В чем, Алкивиад, видишь ты безумие любви Гиппареты?
Алкивиад как-то сник, на лице его появилось страдальческое выражение:
– Она и впрямь обезумела. Подала архонту требование о разводе. Сегодня я должен предстать перед судом.
– И ты спокойно сидишь тут с нами вместо того, чтоб идти на суд и защищаться?! – изумился Сократ.
– Я защищаюсь здесь, перед тобой, Сократ. Мне очень важно, чтоб ты знал, как я с ней мучаюсь.
– Мучаешься?
– Да, Сократ. Разве не безумие, что она судом хочет принудить меня, как собачонку, лежать у ее ног и каждый день клясться в страстной любви? Но этого она на суде не заявит. Будет без конца доказывать, какой я дурной, прикрывая этими словами угрозу и давление на меня. Насилие! Скажи, Сократ, сколько раз предостерегал ты нас от насилия в делах любви?
Но Сократ осведомился:
– А ты – не любишь жену?
В калитке показался запыхавшийся судебный служитель и передал Алкивиаду повеление судьи: немедленно явиться в зал суда.;
– Твоя супруга, как предписывает закон, лично вручила судье требование о разводе… Теперь она и судья ждут с нетерпением, когда ты наконец явишься для разбирательства…
Тут недобрый вестник взглянул в лицо Алкивиада и в страхе попятился.
– Постой, приятель! – остановил его Алкивиад. – Передай судье, что я не явлюсь. Ну чего же ты ждешь? Повторять мне, что ли?!
– Я искал тебя в твоем доме, и, пока нашел здесь, прошло много времени… Если все-таки пойдешь на суд – дело-то серьезное, – так поторопись… – пролепетал служитель.
– Это ты поторопись передать судье мои слова, не то я разобью этот кувшин о твою голову! – крикнул Алкивиад.
Сократ строго посмотрел на своего ученика:
– Разве тот, кто хочет править государством, не обязан быть образцом послушания закону?!
Алкивиад не отвечал; мысленно он следовал за служителем. Вот теперь тот, наверное, вышел из Алопеки, теперь входит в город, пересекает Мелиту…
Между тем в зале суда Гиппарета, в невыразимом напряжении ожидавшая мужа, почувствовала себя дурно. Принесли воды, охладили ей виски, судья исчерпал уже все слова ободрения. Он больше не надеялся на то, что Алкивиад все-таки явится, и устал выдумывать все новые и новые утешения. Сейчас он и сам в них нуждался. Знал – Алкивиаду предстоит вскоре стать во главе государства, а он, несчастный архонт, не сумел помирить его с женой, как то следовало и надлежало…
Алкивиад не ответил на уговоры серьезные – Сократа и ехидные – Крития подчиниться закону и отправиться в суд. Вместо этого он набросил на плечи хламиду, сколол ее пряжкой и пустился в танец… Танцуя, дошел он до калитки и весело помахал друзьям на прощание.
Когда он скрылся из виду, Критий промолвил:
– Ужасный человек. Даже не дождавшись развода, помчался к гетерам праздновать это событие…
Служитель вбежал в зал суда и сокрушенно доложил, что ему не удалось привести Алкивиада.
– Он просто выгнал меня…
– А ты-то что же? – взъелся на него архонт.
– Он пригрозил разбить мне голову кувшином, я спасся бегством…
Отчаянный вопль Гиппареты предварил ее горькие причитания:
– О я злосчастная! Он не придет! Как я несчастна! Он меня не любит! – Звеня браслетами, она заломила свои холеные руки. – О, зачем я потребовала развода! Какой злой демон внушил мне эту мысль! – Гиппарета пала на колени, в мольбе протянула руки к архонту. – Злосчастная, я хотела только пригрозить ему разводом! Надеялась – он поймет, признает недостойность своего отношения к любящей жене, к матери двух сыновей, которых я ему родила! Надеялась, он исправится, бросит кутежи, озорство!
– Мне очень жаль, но суд уже ознакомился с твоим требованием, доказательств достаточно, и потому, дорогая Гиппарета, нам не остается ничего иного, кроме как удовлетворить твою просьбу о разводе… – сломленным голосом сказал судья.
Гиппарета повалилась как подкошенная, рыдала, кричала в отчаянии:
– Убейте меня! Я не хочу жить! Я не хочу жить!
В зал влетел Алкивиад.
– Что ты тут делаешь, милая? – раздался над нею его голос. – Хочешь в царство Аида? Откуда такое сумасбродное желание, когда в моем доме для тебя – настоящий Элисий?
И прежде, чем женщина успела опомниться, прежде, чем судья сумел выговорить слово, Алкивиад подхватил Гиппарету на руки и выбежал с нею на площадь.
– Эй! Граждане! Глядите! Алкивиад! – раздались голоса в толпе, вечно бездельничающей на агоре.
– Что это он несет? – Кучка зевак побежала за ним.
– Клянусь Зевсом! Собственную жену!
Гиппарета отбивалась, выкручивалась, била ногами, отталкивала его голову, кричала – не помогало ничего! Алкивиад бежал по городу, неся ее на руках, и за его плечами развевалась хламида и распустившиеся волосы его жены. Ее несшитый пеплос распахнулся, и восхищенным взорам толпы открылись ее белые ноги. Смех провожал их. И веселые крики:
– Похитил собственную жену!
Кучка любопытных и шутников, следовавших за Алкивиадом, разрасталась с каждым шагом.
– Молодец Алкивиад!
– Отлично, Алкивиад!
– Вот поступок настоящего мужчины!
Поняв, что сопротивление бесполезно, Гиппарета обхватила мужа за шею, а он на бегу целовал ее до самого дома.
Афины ликовали! Афины смеялись! Афинам представился редкостный спектакль!
Весть о похищении Гиппареты летела по городу. Долетела она и до Сократа, все еще сидевшего с Критием под платаном. Сократ хохотал так, что едва мог связно выговорить:
– Вот так выходка! Ну и выходка, ах ты шалопай эдакий! Какие там суды! Иди ты в болото, архонт! И ты, Гиппарета! Ты любишь меня, я люблю тебя – выкраду, как жених невесту, и будем мы снова как молодожены!
– Да, шутка неплохая. Есть чему смеяться, – сказал Критий. – А нет ли тут, дорогой Сократ, еще одной причины для смеха?
– Глядите-ка! – не успокаивался Сократ. – Хочешь мне, повивальной бабке, помочь родить? Уже перенял от меня это искусство?
– Я перенял побольше, чем это. Однако испытывать на тебе свое повивальное искусство я бы не осмелился. Но, как кровный родственник Алкивиада, я рад и думаю, что и ты, его друг, радуешься его ловкости и сообразительности. А то ведь еще немного – и он из-за разлада в семье потерял бы популярность среди порядочных афинян. Сегодня же, утащив Гиппарету из зала суда, он завоевал сердца многих. С его стороны это был отлично рассчитанный ход перед выборами.
Сократ слушал, задумавшись, и задумчиво произнес:
– Я и радуюсь.
– Тем более он сделал это на виду у всех. – Критий подсластил свою кислоту. – Мы-то знаем, как оно бывает. Ведь за каждый удачный шаг Алкивиада люди хвалят тебя, его учителя.
– Но тем самым ты хочешь сказать, что за каждый его неудачный шаг они же меня бранят, – сказал Сократ.
– С чего бы им тебя бранить? Алкивиад слушает тебя с благоговением: твое слово и его дело – едины. Это он показал недавно. Ты осуждаешь аристократов за то, что они презирают бедняков; Алкивиад же, наш будущий стратег, желая доказать, что твое мнение, противное аристократам, он усвоил полностью, что ему чуждо присловье аристократов «бедность дурно пахнет», накрыл богатые столы и впустил к себе в дом всех голодных, нищих, сирот павших воинов и тех, кто неспособен трудиться из-за недугов, безруких и одноногих… И сам пировал, пел с ними, ничуть не смущаясь тем, что люди эти не мыты и не натерты благовонными притираниями. Одним словом, он отлично умеет добиваться благосклонности народа.
Сократ устремил на Крития взгляд своих больших глаз:
– Я непонятлив, милый Критий. Скажи мне, ты хвалишь Алкивиада или поносишь его?
За оградой кто-то приглушенно засмеялся. Критий вздрогнул; но больше ничто не нарушало тишины, и он успокоился. А за оградой сидел Симон, записывал высказывания Сократа – он часто так делал.
С хорошо разыгранным восхищением Критий ответил:
– Можно ли поносить Алкивиада? Этот необыкновенный человек способен привлечь к себе кого угодно, прямо-таки очаровать… – И льстиво добавил: – Так же как и ты, Сократ. Злой человек счел бы, что Алкивиада следует предать суду гелиэи за его необузданные выходки, – тебе не кажется? Но ведь ни ты, ни я – не злые люди. Ты выбираешь самые мягкие выражения, говоря о его своеволии, ты находишь все это просто проявлением его непосредственности, а люди, часто слушающие тебя, привыкли перенимать твою точку зрения. Однако, боюсь, то, что к лицу юноше, не подобает мужу и стратегу.
Сократ воздел руки:
– Клянусь Герой, я разделяю с тобой это опасение, мой милый! Боюсь – не избрали бы Алкивиада стратегом слишком рано… Ты говоришь – муж. Да, ему тридцать один год. Но в нем столько еще милой детскости и наивной игривости… Взгляни на него – увидишь лицо, сияющее счастьем и любовью…
Критий до крови закусил губу.
– Почему ты смотришь на меня так пристально, Сократ?
Тот снова поднял руки и дал им опуститься на стол:
– Думаю об Алкивиаде – вот и смотрю на тебя, который о нем говорит.
– И видишь, что мое лицо не сияет счастьем и любовью, – вызывающе сказал Критий. – Кивни же, кивни! Не бойся меня. Скажи правду! Я отталкиваю всех… Даже этот молокосос Эвтидем меня не любит. Ни из приличия, ни из вежливости не обнаруживает ко мне расположения – ни в какую! Нет в Афинах никого, кто любил бы меня, когда рядом ослепительный Алкивиад…
В эту минуту Сократ понял, как чужд ему, как далек от него этот человек, горький словно полынь.
– Этого нам не изменить, милый Критий. Это дело натуры… Людям всегда больше нравится лицо, озаренное любовью и приветливостью…
– Чем то, на котором написаны ненависть и угрюмость…
– Зачем такие резкие слова?
– Они – сестры тех, что сказал ты.
Сократ подумал: эта ненависть теперь и ко мне… Нет, не только теперь. Давно уже. И стало ему неприятно быть рядом с человеком, у которого ненависть уже не только в сердце, но и на устах.
– Мы забываем пить, – сказал он, наполняя обе чаши; потом мягко обратился к собеседнику: – Видишь ли, Критий… Я ведь учил вас обоих одинаково…
– Нет! – вырвалось у Крития. – Его – больше!
– Он сам большему научился у меня. Быть может, и тому, как привлекать к себе людей. – Сократ пригубил вино, слегка причмокнул. – В сущности, сегодня мы все время говорим об Эроте: о любви человека к человеку, к женщине, к любимцу. Кстати, отнюдь не все Афины любят Алкивиада, это преувеличение. – Гнев овладевал Сократом. – Достаточно наберется таких, кому он противен до глубины души. Но он, невзирая на это, ни на кого не давит; ты же, Критий, видишь, что Эвтидем тебя отвергает, но пользуешься всяким случаем потереться об него, как свинья о забор…
Критий опешил. Сжал руками доску стола, глаза его налились кровью. Поджав губы, он заговорил ядовито, злобно:
– Наконец-то, Сократ, искреннее слово! Я давно понял, что ко мне ты испытываешь не те чувства, что к остальным ученикам, и в особенности к Алкивиаду…
Сократ хотел что-то сказать, но Критий резко перебил его:
– Я еще не кончил! Особенно к Алкивиаду, в которого и ты влюблен. Молчи! Я знаю. Вот почему ты его – хотя он моложе меня – выпестовал и поставил на то место, где должен был стоять я!
– Выпестовал, милый Критий, не отрицаю. Но – поставил на какое-то там место? Так может сказать лишь тот, кто сам в душе насильник. Молчи теперь ты! Кто знает, быть может, и ты когда-нибудь станешь стратегом – тогда я пожелаю тебе допускать насилие единственно словом и единственно ради доброго дела. – Сократ вздохнул. – Ах, если б мог я провидеть будущее – что каждый из вас двоих принесет нашей родине?!
– Ты часто говоришь как провидец, а мое и Алкивиада будущее видишь недостаточно ясно?
Сократ встал.
– Будущее таит в себе чудеса красоты и блага, но творцы их – те, кто обращает к нему свое воображение, свою фантазию, смелые помыслы, поэтическую образность…
Поднялся и Критий.
– Но из нас двоих разве не я – поэт? – Гордой поступью он двинулся к калитке и там еще обернулся. – Мне больше нечего искать у тебя, Сократ, если ты видишь во мне свинью. Наш диалог пока закончен.
Когда Критий ушел, над оградой появилась взъерошенная голова Симона.
– Опять подслушивал? – укоризненно спросил Сократ. – Да? И что скажешь?
– Оба они одинаковые – равно страстные, упрямые, неукротимые…
– Спасибо за ободрение, – иронически молвил Сократ.
17
Над Грецией – одно небо, голубое, как цвет василька, один свет – прозрачнейшее сияние; один у Греции Олимп, населенный народцем богов и богинь, которые все пропахли человечьим духом, как морской причал – запахом рыбы. Одни Дельфы в Греции, которым открыто будущее. Один язык в Греции – в нем так мало различий, какую область ни возьми, – но нет у нее единой идеи, одной общей цели.
Войны обостряют классовые раздоры и борьбу за власть; эти обостренные споры в свою очередь разрешаются остриями копий и мечей. Страна, оскудевшая, опустошенная войной, ищет обогатиться и возвыситься с помощью новой войны. Но даже оборонительные войны превращаются в грабительские.
Элладу все мучительнее раздирают противоречия, кровавые междоусобицы. Как тут поверить в Никиев мир? Какое значение имеет то, что в мире нуждаются владельцы поместий и крестьяне Аттики или владельцы рабов, на труде которых они наживают бешеные деньги? А остальные граждане?
Можем ли мы, афиняне, поставить над собою миролюбивого Никия, слабого, стареющего человека, который во имя неверного мира протягивает руку тем, кто издавна воспитывает своих юношей и девушек в суровом воинском духе? Того, кто обещает вдобавок спартанцам помощь Афин, если взбунтуются их илоты?
Нет, мы хотим, чтоб нашим главой был не глупый в своей хитрости старец, а доблестный муж, который не позволит водить себя за нос и вооружится сам, когда сосед вооружается.
Кто этот муж? Ответ один: сын Клиния, племянник Перикла, ученик Сократа — Алкивиад.Афинян поведет этот молодой, еще не прирученный хищник, красивый до того, что дух захватывает, гибкий, ловкий, отважный, дитя Фортуны, жарко любимый, жарко любящий, гордость Афин, надежда народа.
«Никого столь щедро не наделила судьба прекрасною внешностью, никого не осыпала она богатейшими дарами жизни так, как Алкивиада», – говорили о нем в более поздние времена, но и современники его знали это. Под бурное ликование народа Алкивиад был избран и введен в должность стратега.
Но Алкивиад не был бы Алкивиадом, воспитанником Сократа, и никакой радости не ощутил бы он сегодня, если б с ним вместе не радовались все афиняне.
«Всякий, кто по дружбе захочет прийти сегодня в мой дом перед заходом солнца, будет желанным гостем!» – так устами глашатаев звал Алкивиад всех граждан на пир.
Толпа у стен вокруг его садов все гуще, люди не могут дождаться, когда откроют ворота. Анофелес забрался по спинам на стену, наблюдает оттуда за приготовлениями к пиру.
– Боги Олимпа! – кричит он в изумлении. – Я ослепну от такого зрелища!
Голодная толпа под стеной бранится:
– Да говори же! Что ты видишь?
Тощий верзила дернул Анофелеса за ногу:
– А вот стащу тебя, бездельник! Или ты и за то, что видишь, будешь клянчить подачку?!
– Сбрось комара!
– Не волнуйтесь, граждане! Сейчас все перескажу, – торопливо откликается Анофелес и, заслонив ладонью глаза от солнца, в восторге выкрикивает: – О животворный Гелиос! Прекрасная Афродита, вдохновительница любви! Великий Пан, оберегатель стад!..
– Ты не у алтаря, дуралей! Говори, что видишь!
– О Дионис, бог вина и плодородия! – не прекращает взывать к богам Анофелес.
Кто-то нагнулся за камнем, но Анофелес уже спрыгнул по ту сторону стены.
– Негодяй! Паразит несчастный! А нас-то тут как мух!
– Не хватит на всех!
– И мы даже не знаем, что там готовят!
– Знаем! – вскричал какой-то подросток, которого отец подсадил на стену. – Сад полон рабов! Носят дрова к кострам, насаживают на вертела говяжьи окорока, свиней, телят, гусей, овец! Рабыни носят блюда с горами сельдей, корзины, полные сладостей, груш, фиг, орехов, амфоры с вином, их целая вереница, по пятам друг за дружкой… – Вдруг он истошно заорал: – Пожар! Горит! Весь сад в огне!
Дым повалил через стену – то рабы подожгли все костры и принялись вращать вертела. Дым пахнет древесным духом, жиром, жарящимся мясом, дразнит обоняние нетерпеливых – и тут раздается отчаянный вопль:
– Ворота открыли! Мы не попадем!
– Попадем!
Кое-кто уже прорвался внутрь, кто посмелее – лезет через стену, в воротах столпотворение, тело к телу, давят друг друга, кричат, зовут на помощь… Рабы наводят порядок. Впустили столько голодных, сколько могут вместить сады, после чего с великим трудом ворота закрыли. В садах настоящий Элисий, ибо Алкивиад щедр, прямо расточителен. А за воротами – отчаяние. Грохают кулаки по медным створкам: ведь Алкивиад в состоянии накормить все Афины! Алкивиад может все, что пожелает! Алкивиад словно прочитал эти мысли: на стену поднимаются трубачи и глашатаи:
– Граждане Афин! Достанется каждому. Все рассчитано, чтоб ни один человек не ушел, не поев и не выпив. Терпение!
А в садах пирующие уже дерутся за первое угощение: печень на вертеле, рыбный салат… Руками зачерпывают с блюд густую подливу, овощи, гороховую кашу…
Во всех покоях Алкивиадова дома раздвинуты занавеси, по всем помещениям снуют рабы и рабыни, разнося тазы для ополаскивания пальцев, амфоры с вином, кратеры, воду. Подошло время открыть пир, а Алкивиад все еще не подает знака. Его окружает пестрая толпа друзей: здесь богатый кожевенник Анит, один из ведущих демократов, Эврипид, Критон, двоюродный брат Критий, другие ученики Сократа – Аристипп, Антисфен, Эвтидем, Симон, и еще, и еще… Но нет Сократа.
Алкивиад с трудом скрывает свое беспокойство, даже досаду. Почему не идет? Придет ли вообще? Алкивиад выслушивает хвалебные речи гостей, едва отвечает, все смотрит на вход.
Наконец – пришел! Босиком. Белый хитон, коричневый гиматий.
Улыбнулся – и разом озарился весь пиршественный зал. Ясней проступила на стенах роспись Агафарха, ярче стали цветы, одежда гостей, лица…
Алкивиад вскочил, с грохотом опрокинул накрытый столик, серебро, золото зазвенели на полу. Кинулся к Сократу, низко ему поклонился, вскричал в экстазе:
– Вот, дорогие друзья, вот подлинный стратег Афин! Это ты, неотразимый Сократ, все время говорил в экклесии моими устами, я был лишь твоим глашатаем! Не я – ты победил!
Гости захлопали, радостно зашумели.
– Слава Алкивиаду, слава его творцу Сократу!
А тот стоит, растроганный любовью Алкивиада, но и смущенный.
– Тебе я обязан всем! – с жаром твердит Алкивиад.
– Довольно! Довольно, мальчик, – останавливает его Сократ. – Или хочешь, чтоб я ушел? Задумал выжить меня отсюда?
Алкивиад обнимает, целует Сократа.
– Неужели же мне благодарить тебя тайком? Нет! Пускай все знают, кто дал Афинам Алкивиада! Да смел ли бы я называться твоим учеником, если б, раздувшись от гордыни, забыл сегодня своего учителя!
Обняв Сократа, он подвел его к гостям и усадил рядом с собой.
– Верно, – заговорил философ, – я стараюсь, чтоб каждый уходил от меня лучшим, чем пришел ко мне. Но могу я далеко не все. Многое зависит от самого ученика. Иной раз вмешивается таинственная богиня Тиха, осыпает человека счастьем из рога изобилия, а бывает, что, как говорит мой дорогой друг Эврипид, вмешиваются страсти и необузданные порывы…
– Это так, – подхватил Эврипид. – Страсти играют большую роль в жизни человека. Но это еще не причина к тому, чтобы я отрицал роль случайностей и того, что дано человеку при его рождении.
Алкивиад дал знак домоправителю, и тотчас по всем покоям зашуршали босые ноги рабов, разносящих холодные и горячие блюда. Из перистиля донеслись тихие аккорды кифар.
Со своего места за дальним столиком, укрывшись за цветами в высокой вазе, Критий во все глаза наблюдает, как Алкивиад сам обслуживает Сократа. Выбирает для него с блюд не просто хорошие куски – нет, самое лучшее из лакомств, желе, корзиночки из теста, наполненные паштетами из дичи и мяса, кусочки куриной печени с миндалем… Горечь, овладевшая Критием при виде взаимной любви этих двух людей, подсказала ему странную мысль…
Спартанцы время от времени объявляют «священную войну» илотам, своим невольникам, устраивают на них охоту, как на диких зверей, истребляя самые сильные экземпляры. Но что такое порабощенные илоты, живущие на берегах Эврота, заросших высокими камышами? Животные! Критий прикрыл глаза. А вот объявить священную войну тем, за почетным столом! Вот это была бы охота – выбрать лучшие экземпляры людей!
Упиваясь такими мыслями, Критий перестал смотреть на Сократа, за которым ухаживал Алкивиад. Запустил зубы в утиную ножку…
Эвтидем, влюбленно поглядывавший на Алкивиада, был озадачен. Критий, обычно старавшийся быть поближе к своему любимцу, сегодня сел в другом конце зала и даже не глядит на него. Почему? Что я ему сделал? Юношу вдруг охватило чувство заброшенности. Ему недоставало комплиментов, которые, бывало, нашептывал ему Критий, недоставало поползновений Крития прикоснуться к нему… И стихов своих ему больше не приносит!
Тем временем гости насытились до того, что не в силах были одолеть даже дроздов, фаршированных желтками и зеленью, и только отщипывали кусочки печенья с орехами и миндалем, пропитанного тяжелым вином.
Алкивиад, широко раскинув руки, обратился к Сократу:
– Скажи, мой дорогой, чем могу я отблагодарить тебя за все те годы, что ты учил меня?
– Учил? – довольно нелюбезно переспросил Сократ.
Алкивиад схватился за сердце.
– Я не могу перенести – только брать у тебя и ничего не давать взамен! Скажи только, чего тебе хочется, – все тебе дам! Объявляю об этом при всех…
– Помнишь, что я тебе ответил, когда ты много лет назад спросил, сколько должен платить мне?
– Помню. Ты тогда ответил, что потребуешь от меня высокой награды.
– А ты небрежно махнул рукой. И гордо сказал: «Слыхал я, ты учишь даром, но я денег не считаю. Я унаследовал большое богатство и заплачу сколько хочешь».
– Ты же, Сократ, тогда засмеялся во все горло! «Что ты, мальчик, я учу только даром, так буду учить и тебя!»
– А ты надулся! – Сократ и теперь рассмеялся. – Ибо если б ты мне уплатил, то не чувствовал бы себя перед кем-то в долгу.
Алкивиад вспыхнул.
– И ты хочешь, чтоб я до сего дня испытывал это тягостное чувство, и не позволишь мне от него избавиться?!
– Мой милый, не думаешь ли ты, что сегодня я запрошу с тебя меньше, чем в те давние годы?
Гости прислушивались с напряженным любопытством. Они не могли угадать, чего бы мог потребовать от богача Алкивиада человек, у которого так мало потребностей.
Эврипид спросил Сократа:
– А чего ты пожелал тогда?
– По всей вероятности, любви, – съязвил Критий.
– Конечно, любви, милый Критий, – согласился Сократ. – Я требую от ученика больше чем денег: я хочу, чтоб он жил так, как я его учу. – Сократ посмотрел на смутившегося Алкивиада. – И ты тогда сказал мне: согласен.
– Да, я сказал так, но ведь с твоей стороны то была просто скромность, и тебе полагается большая награда, драгоценный дар…
– Именно этого я и требую от тебя, Алкивиад. С тобой и со всеми моими учениками я вел собеседования для блага Афин. Ради любви к ним я не считаю дней, отданных тебе, Алкивиад, и мне было бы стыдно принимать за это деньги. Скромность, говоришь? Напротив, я очень нескромный: хочу, чтобы ты любил Афины такой же великой любовью, как моя, и служил бы им верно.
У Алкивиада сверкнуло что-то в глазах, голос дрогнул:
– Ты благородный человек, Сократ! Ты лучший сын Афин! Я бесконечно благодарен тебе за любовь к Афинам, которую ты привил и мне… – Борясь с растроганностью, он произнес веско, словно приносил здесь, при всех, торжественную клятву: – Пока я жив, буду верно и честно служить Афинам!
Глубокие чувства взволновали всех сотрапезников. Гости поднимались с мест, тост следовал за тостом.
Рабыни в подпоясанных пеплосах разнесли венки из роз. Алкивиад взял венок из рук девушки, поцеловал его и возложил на голову Сократа. Тот хотел воспротивиться этому, говоря, что первый венок принадлежит сегодня Алкивиаду, но новоиспеченный стратег только улыбнулся:
– Нет, нет! Рядом с тобой я кажусь себе взбалмошным мальчишкой, которого бросает во все стороны беспокойный нрав. Никогда не достичь мне твоего чувства меры, гармонии твоих добродетелей – нерасторжимости добра и красоты…
– Ты вызываешь меня на то, чтоб теперь я начал золотить твои добродетели? – спросил Сократ.
– Ох нет, ради богов, нет! Я обязан теперь подтвердить их действиями, – сказал Алкивиад.
Новая волна ликования прошумела по залу, зазвенели, сталкиваясь, золотые чаши.
Никто не заметил, как в тот момент, когда Алкивиад увенчивал Сократа розами, Критий вышел.
Сады Алкивиада в пламени. В вышине огни сливаются в единое розовое зарево. Масляные лампы и светильники, развешанные на прочных веревках среди деревьев, озаряют, украшая, сады; костры пылают, новые и новые куски мяса жарятся на вертелах, целые туши баранов и свиней, сотни факелов разгоняют мрак, языки огня лижут друг друга – и все же не в силах они разогнать густые тени в зарослях лавров, олеандров, рододендронов и цитрусов.
– Берите! Хватайте! Ловите! – кричит раб, снимая с вертела и разделывая золотисто поджаренного барана. – Только рот не обожгите!
– Ах, божественное яство, прямо амброзия! – слышны голоса вокруг костра и крики. – Теперь еще нектару! Амфоры сюда!
Кто похитрее, уволакивает в кусты целые бараньи окорока и лопатки, чтобы там, в укромности, съесть их в своей компании. Выйди с такой добычей на свет – еще вырвут из рук…
Все глубже ночь, все полнее желудки, и кровь разгорячена вином – веселые становятся веселее, разговорчивые болтливее.
– Я так скажу, – заявляет с полным ртом, но с пустым карманом один свободный гражданин, – готов сцепиться с кем угодно, а только такого стратега у нас в Афинах спокон веку не было. Алкивиад! Да это все равно что целый месяц пировать на Олимпе! Прямо баловать нас будет…
– Похоже на то, – пережевывая хрустящие, жирные куски, его сотоварищ мысленно перебирает греческий календарь, в котором что ни месяц, то праздник или торжества, связанные со жратвой. – Уж и нынче видать, какие тучные будут у нас Панафинеи, Элевсины, Большие и Сельские Дионисии, годовщина победы у Саламина… Были бы мы здоровы, а о нашем брюхе позаботится этот двойник Аполлона…
– Да уж, сквалыга Никий видит только прибыль от своих рабов, зато этот быстроглазый молодец видит всю Аттику, весь наш союз, он всю землю видит и море тоже. Задремали мы было, а он нас разбудил и – посмотришь! – здорово тряхнет этот трухлявый, тухлый мир!
– Не спорю, – ложится на спину полный надежд гражданин и наклоняет к себе амфору, так что вино струйкой течет ему прямо в горло.
Алкивиада хвалят даже те, кто остался за воротами: рабы спускают через ограду, прямо в протянутые руки, корзины, доверху набитые вкусной едой. Элисий выплеснулся из садов.
В покой, где, окруженный ближайшими друзьями, потягивает вино новый стратег, любуясь колышущимся танцем нежных гречанок, в руках и в волосах которых веточки мирта, раб вводит здоровенного детину: это кормчий Антиох, желающий поговорить с Алкивиадом.
Лицо его кажется Алкивиаду знакомым, но сколько же лиц знакомо полководцу и участнику многих битв!
Антиох представляется сам:
– Я тот, кто много лет назад, на агоре, поймал твою перепелку, когда она испугалась и выпорхнула у тебя из-под плаща.
Случилось это давно, в день, когда собирали доброхотные даяния в пользу города. Алкивиад тогда назвал огромную сумму, на агоре поднялось ликование, и юноша в радостном волнении перестал прижимать к груди свою любимицу.
Алкивиад обратился к друзьям:
– Подумайте только, каким я был хвастуном! Я ведь обещал тогда этому человеку в благодарность за перепелку, что, если стану когда-нибудь стратегом, назначу его кормчим своей триеры!
А кифары и бубны звучат, звучат, и танцовщицы не прекращают волнообразных, мягких движений. Зал огласился смехом. Антиох смутился.
– Да нет, я не за обещанным пришел, славный Алкивиад, это я в шутку, позабавить тебя в твой великий день. Ведь и ты тогда, конечно, просто пошутил.
Алкивиад перестал смеяться и сказал серьезно:
– Тогда-то я пошутил, но за то, что ты теперь явился за обещанным – не лги! – за то, что ты поверил мне, назначаю тебя кормчим на моем корабле.
– Ты меня осчастливил! – в восторге вскричал Антиох.
– Это ты осчастливил меня, – возразил Алкивиад. – Люблю тех, кто мне верит, на море люблю таких вдвойне, а в битве – втройне! – Он выпрямился. – Кроме того, мне нестерпима мысль, что есть в Элладе хоть один человек, который мог бы сказать: «Алкивиад не держит слова, хотя бы и данного в шутку!»
Иссякает масло в светильниках, догорают костры. От больших куч золы пышет жаром. Словно у домашних очагов, валяются вокруг них полунагие мужчины, юноши, рабыни – и проститутки, ибо в конце всякого празднества наступает их черед. Кто кого ухватил, тот с тем и лег. Вино, даже разбавленное водой, туманит мозг и возбуждает инстинкты. Черным вихрем пролетает над деревьями и кустами животная, первобытная тяга к спариванию. Запах пота смешивается с ароматом цветов и благовонных масел.
Стоны, вздохи, бредовые слова страсти – невидимой невидимому, незнакомой незнакомому…
Музыка смолкла. Гудит над садами единственный тон, древний зов земных недр, пробивается сквозь темно-синюю ночь, как кровь пробивается по жилам.
Критий сидит с Антифонтом под колоннами перистиля. Софист Антифонт никак не поверит новости – Критий разошелся с Сократом!
– А теперь-то ты к кому же? – пьяно бормотал он.
– Конечно, милый Антифонт, поближе к тебе. Пойду к твоему учителю Горгию…
Критий поднялся с мраморной скамьи.
Но он-то отдает себе отчет, что разошелся не с одними Сократом и Алкивиадом – он разошелся с демократами вообще. Разошелся… Только ли? Да нет… Сколько раз друзья звали меня в свою гетерию. Что ж, ладно. Но ведь это не пустяк – принести клятву на верность олигархии, на свержение демократии… А впрочем, к чему колебаться? Давно мне уже не по нутру их порядки, согласно которым простые люди должны жить лучше благородных. Критий сухо засмеялся: а, драгоценный братец Алкивиад! И ты, старикашка Сократ! Задали бы вы мне жару, узнай вы, что я собираюсь делать… Хорошо, что узнать-то вы этого не можете…
Когда Критий вышел в сад, навстречу ему, облитый серебристым рассветом, попался Эвтидем, любовно ему улыбавшийся.
«Вот он, забор, о который трется свинья», – подумал Критий.
Эвтидем обратился к нему с укором:
– Почему ты избегаешь меня сегодня, милый Критий? Я по тебе соскучился…
– Поздновато. Наш с тобой диалог тоже закончен.
– Нет! Нет! – бросился к нему Эвтидем. – Не говори так, дорогой! Я люблю тебя…
– Проваливай, – процедил сквозь зубы Критий и, когда Эвтидем протянул к нему руки, оттолкнул его так, что юноша упал на ограду фонтана и в кровь разбил лицо.
Критий, не взглянув на плачущего, пошел к воротам.
Из садов входила прохлада, и с нею бесшумно вошла в виллу тень. На одном из столов лежало блюдо тяжелого золота, на блюде осталось несколько фисташек. Тень бросила фисташки в рот, а блюдо спрятала в объемистую суму, в какую нищие собирают подаяние – лепешки, объедки… Убедившись, что никто за ней не следит, тень юркнула в сад и, прикинувшись тенью деревьев, огляделась вокруг. Всех, кто с вечера вошел в ворота, скосило вино. Путь был свободен. Медленно, от дерева к дереву, тень приблизилась к раскрытым воротам. В это время к ним же с другой стороны быстрым шагом направлялся молодой человек в шелковой хламиде.
– Примешь ли ты мой смиренный привет? – прошептала тень.
– Конечно. И ты уже уходишь?
– Собираюсь, – по словечку «уже» тень поняла, что человек этот, явно высокого рода, чем-то расстроен. – Я нищий, – засмеялась тень, и в ее желтых зубах открылись две щели, придававшие волчье выражение худому, продолговатому лицу. – Я нищий, но не люблю толкаться среди нищих. Среди них я чувствую себя одиноким.
Критий с интересом посмотрел на своего ночного спутника.
– Странно. Мною здесь тоже владело чувство одиночества и отчужденности…
– Среди тех? – Нищий показал на дом, а слово «тех» выговорил весьма почтительным тоном. – Но ты ведь и сам из тех, благородный Критий!
Оставив без внимания, что имя его известно назойливому, Критий спросил:
– Ты чей?
– Я принадлежу тем, кто нуждается в моей помощи, славный мой господин.
Они вместе вышли за ворота.
– Чем же можешь ты кому-либо помочь?
– Я – Анофелес, господин.
– Ах так! Значит, и я тебя знаю.
– И тебе, благородный Критий, возможно, когда-нибудь понадобится моя помощь.
Критий внимательно посмотрел на него.
– Тогда, – продолжал Анофелес, – позови меня, благородный господин, и узнаешь, чей я.
Критий бросил ему золотой дарик. Анофелес поймал его на лету и опустил в суму – золото звякнуло о золото. Критий усмехнулся этому звуку.
18
Двое из толпы рабов, поджидавших хозяев, зажгли факелы от костра, горевшего за воротами, и подошли к Критию.
– Ступайте домой. Я пойду один, – сказал тот.
– Без света? – послышался от ворот голос Анофелеса.
Критий засмеялся:
– А чего мне бояться?
Он двинулся во тьму. На перекрестке быстро свернул к дему Кидатеней. Месяц менялся так же, как настроение Крития: то мерк, заслоненный облаком, то снова начинал светить вовсю. Но Критий уже не колебался: он принял решение.
Он подошел к маленькой дверце – черному входу в ограде одной из вилл. Тихо постучал. Дверца мгновенно открылась, на пороге встал старик раб.
– Там еще сидят? – Критий показал на дом.
– Кто ты, господин?
Критий взял светильник из рук раба, посветил себе на лицо.
– О да, господин! – воскликнул раб. – Я тебя знаю. Ты ходишь к нам, правда с другого входа. Доложу о тебе.
Старик побежал к дому, шурша по траве босыми ногами.
В небольшой комнате, освещенной только двумя светильниками, царил полумрак. Вдоль стен стояли ложа, перед каждым – столик с солеными и сладкими закусками, с амфорами вина и чашами. Здесь гостей не обслуживали рабы и рабыни. Странный пир… Гости сами себе наливают. Гости хотят быть одни. Им не нужен яркий свет. Здесь ничего не записывают: все нужно запоминать. За дверью сторожит любимый вольноотпущенник хозяина дома. Он надежен. Он глух.
Старый раб вбежал, пробрался к ложу на переднем месте – там возлегал хозяин дома, Писандр, афинский демагог. Раб известил его, что у калитки ждет Критий.
– Наконец-то! – засмеялся Писандр.
Гости подхватили радостное восклицание.
– Почему именно сегодня? – заметил Антифонт.
– Вероятно, это и должно было случиться именно после пира у Алкивиада, – отозвался Ферамен.
– Введи гостя, – велел рабу Писандр.
Критий был встречен дружескими возгласами. Олигархи, один за другим, обнимали и целовали его.
Писандр уложил новоприбывшего напротив себя. Улыбнулся:
– Какой дорогой гость! Ты – и у меня… у нас, – поправился он. – И в такой день! Что ты принес нам, милый Критий?
Тот с волнением ответил:
– Ничего, кроме самого себя!
Ликующие голоса:
– Разве этого мало?!
– Какой подарок для нашего дела!
– Не скромничай, Критий!
Но Критий лицом и голосом изобразил скромность – научился у софистов:
– Я пришел потому, что хочу быть с вами.
Когда взрыв восторга утих, Антифонт сказал:
– Хорошо ли ты обдумал? Ведь ты переходишь к нам в тот момент, когда твой кровный родственник, избранный стратегом, начнет укреплять демократию в Афинах!
– Да, – подхватил Писандр. – Уж он-то рьяно примется за дело, этот Сократов выкормыш. Теперь нам долго ждать благоприятного случая…
Критий скривил губы в усмешке:
– Я тоже Сократов выкормыш. И именно для того явился к вам, чтоб нам не пришлось долго ждать.
– Не понимаю, что ты имеешь в виду? – удивился Ферамен. Критий сурово произнес:
– Желаю принести клятву!
– Помилуй Зевс, да мы верим тебе, как брату, – с одушевлением вскричал Писандр. – Однако действительно – каждый в нашей гетерии обязан поклясться в том, что он сделает все для свержения демократии. Твою присягу, Критий, должно принять в торжественной обстановке. Через неделю. А теперь говори свободно.
И Критий заговорил:
– Как я уже упомянул, я тоже ученик Сократа. Но Алкивиад перенял от него не самое ценное. Я взял у Сократа больше: софросине, искусство не быть опрометчивым.
– Алкивиад – прославленный муж, и он опасен для нашего дела, как никто до сих пор. – Писандр сделал ударение на слове «никто».
Критий усмехнулся:
– Алкивиад опаснее всего для самого себя. Знаю я моего знаменитого двоюродного братца. У него есть все, что нужно для счастья и что может привести к желанной славе, но, – тут он громко рассмеялся, – но, дорогие друзья, боги одарили в его лице не человека, а хищника! У людей же – так уж оно повелось – рождается естественное желание уничтожить хищника.
Ферамен кивнул:
– Алкивиад не живет – он мчится по жизни. Куда – вот вопрос.
Критий посмотрел в лицо Писандра, слабо освещенное тусклым огоньком лампы.
– «Любезно богам – вы слышите, Музы? – давать человеку пути направленье…»
Писандр захлопал в ладоши:
– Я аплодирую не только поэту, но и самой мысли! Вмешаться в великие планы, остановить поход, возникший в воображении мегаломана…
– Ты тоже поэт, Писандр, – подобострастно молвил софист Антифонт. – Я всего лишь обыкновенный судебный ритор, выступающий по делам об убийствах, но осмелюсь пройти дальше по твоему следу, благородный Писандр. Остановить поход – но прежде чем брызнет первая капля крови.
Писандр перевел взгляд с Антифонта на Крития.
– Так встретим же с радостью Крития, который принес нам не только себя, но и Сократову софросине. Знать цену времени и цену тому, как развиваются события, – вот главный вывод для каждого из нас; а потом – направлять, с чувством меры, терпеливо, но и неутомимо готовить час, когда с чистого неба грянет гром…
– Отлично, славный Писандр! – вскричал Антифонт. – За это стоит совершить возлияние Гермесу, богу хитрецов!
Чаши подняты. Рисунки на золотых сосудах словно шифр, сложный, как заговор олигархов.
– О чем говорил на пиру Алкивиад? – спросил Крития Писандр.
– Ни о чем особенном. О любви к Афинам. Заговорили о практическом воплощении этой Алкивиадовой любви.
– Радикальный демократ, он захочет вернуть Афинам прежнее могущество и славу, – сказал Ферамен.
– Сравняться с Периклом? – бросил Антифонт.
– О нет, превзойти Перикла! – воскликнул Критий. – Распространить демократию на всю Элладу, Афины же сделать ее главой.
– Ну нет! Это пустые мечты мегаломана…
Ферамен отверг такое предположение – не потому, что не верил в его осуществление, но как раз потому, что верил.
– Перикл тоже был мегаломаном, а сколь многого сумел добиться! – медленно проговорил Писандр.
– То, что удалось Периклу, не может удаться Алкивиаду, – с пророческой убежденностью возразил Антифонт.
– Почему? – Писандр намеренно задал этот вопрос, чтоб друзья не успокоились. – А если эти мечты понравятся всем демократам Эллады и островов? Да они откроют тогда ворота Алкивиаду! Он легко выиграет войну…
– Стало быть, мы никогда не дождемся своего часа! – одновременно воскликнули Антифонт с Фераменом.
Критий поднял и медленно опустил руки.
– Сойдем с облаков на землю, с высот мечтаний к действительности, друзья. Ибо чем смелее мечта, тем легче она рушится.
Тишина. Потом – Писандр:
– Сама по себе?
Тишина. И – Критий:
– Этому помогут.
Язычки пламени в светильниках будто подскочили и сделались ярче. Писандр собрался произнести речь, но не успел проглотить кусочек миндального пирожного, вдохнул ртом, и крошка проскочила ему в дыхательное горло. Он поперхнулся, стал задыхаться, лицо налилось кровью, посинело, набрякли жилы на лбу.
Испуганные гости вскочили, кинулись на помощь, осыпая Писандра вопросами – что с ним случилось?
А тот кашлял, руками отгоняя всех от себя. Наконец от кашля крошка выскочила. Писандр вытер ладонями лицо и проговорил с большей настойчивостью, чем было задумал:
– О любви Алкивиада к Афинам надо будет поставить в известность наших приверженцев по всей Элладе, на материке и на островах; ибо эта любовь означает, что, куда войдет с войском Алкивиад, туда же войдет с ним и демократия. А кто из лучших позволит портить себе жизнь народовластием? Если поклонники демократии захотят открыть перед Алкивиадом ворота городов, олигархи должны будут захлопнуть их у него перед носом!
– Ты хорошо видишь, проницательный Писандр, – похвалил его Антифонт.
– Все мы, собравшиеся здесь, и ты тоже, милый Антифонт, пустимся в дорогу, – заявил Писандр, все еще откашливаясь. – Завтра же условимся, кому куда и когда ехать.
Гости в знак согласия подняли обе руки, ладонями к Писандру.
– Итак, нам нечего опасаться, – подвел итог Ферамен. – Война окажется не такой-то легкой!
– Хороший руководитель думает о послезавтрашней опасности еще вчера, – заметил Критий.
Помолчали, освежаясь сочными персиками. У Ферамена сорвалось:
– Алкивиад – страшная сила…
– Бедняга, – лицемерно пожалел брата Критий. – Он слаб, если подумать, что он хочет поднять Афины. Как их поднимешь, когда на них висят сотни тяжелых гирь – голодные, бездомные, ненасытные глотки… – И он сам пренебрежительно засмеялся вместе со всеми. – Клеонт протянул черни палец – и сразу пришлось платить присяжным в гелиэе за безделье по три обола вместо двух. Того и гляди, голодные поднимут вопль, требуя четвертый обол, а где возьмет их мой бедный братец, если он хочет строить новые корабли, увеличивать численность войска, вооружения – да я уже прямо вижу, как у него от всего этого раскалывается голова!
У Писандра от смеха заколыхался живот.
– Когда захватим власть, у нас-то голова раскалываться не будет! Первым долгом прекратим расточительную выплату лодырям и голодранцам, а наш Антифонт объяснит им, что для них же лучше не получать эти три обола, чем получать.
Взрыв хохота – пламя в светильниках заметалось и чуть не погасло.
Ферамен сказал:
– Естественно! Кто же лучше всего разобъяснит им это, как не всеведущие софисты!
С улицы донеслись веселые крики. Отблеском факелов озарились высокие проемы в стенах, и имя Алкивиада то и дело вторгалось сюда, словно толпа бросалась камнями.
– Чернь тащится по домам с пира. Уже все кости обглодали, – с отвращением проговорил Аспет. – А знаете, уважаемые друзья, разумнее всего не желать никакой войны. Сколько рабов опять перебежит к противнику…
Писандр насмешливо прищурился:
– То-то я ждал, когда же ты, милый Аспет, подашь голос! Еще бы – ты загребаешь огромные деньги, отдавая свору своих рабов внаем на рудники, вот и боишься: вдруг да сбежит голов с полсотни!
– А что же мне, даром их отдавать? Может, ты так поступаешь? – довольно миролюбиво возразил Аспет, мысленно обругав Писандра: «Проклятый брюхан, сам-то из всего выжимаешь куда больше, чем все мы, вместе взятые! Мы еще не на коне, а ты уже фараона из себя корчишь и чтоб мы тебе кланялись».
Писандру не нужно было услышать эти слова – он и так понял.
– Не сердись на меня, дорогой друг. Я пошутил. Но хочешь говорить серьезно – давай. Даже если долго не будет войны, то есть если Афины будут гнить, как стоячее болото, целых полвека – а так это себе представляет Никий, – то все равно рабов у нас будет чем дальше, тем меньше. Эти говорящие машины страшно невыносливы – чуть что, заскрипит в них – и конец! Победоносная война доставит нам новых рабов. Их станет опять сколько надо, но тогда наше дело проиграно. Вполне ли ты предан ему, Аспет?
– Я? До смерти!
– Прости, дорогой Писандр, – вмешался Антифонт, – что я перебиваю вас и осмеливаюсь досказать за тебя твою мысль. Хуже всего для нашего дела – победоносная война; и, наоборот, война проигранная лучше всего: она даст нам возможность…
– Умолкни, дорогой, – строго прервал его Писандр. – Больше ни слова!
Антифонт наклонился к нему:
– Скажи, друг, не играем ли мы тут собственными головами?
Писандр мило ему улыбнулся:
– Спарта знает о нас – и она недалеко.
ИНТЕРМЕДИЯ ВТОРАЯ
Конечно, лучше не держать в селенье льва – но, уж коль держишь, не перечь ему ни в чем!
АристофанЯ как раз дописывал сцену пира в садах Алкивиада, когда ко мне вошел смеющийся Сократ.
– Вижу, вы в хорошем настроении, – встретил я его.
– Ты все говоришь со мной, будто я – два или три человека, – напустился он на меня. – Вот странная манера! Но я пришел рассказать тебе кое-что веселенькое.
Он уселся в кресло, удобно вытянул свои босые ноги и начал:
– Держал семь пар коней. На это способны и другие эвпатриды, подумаешь ты. Конечно. Но – каких коней! Однажды в состязании четверок он взял все три награды…
– Кто, прости? – недоуменно спросил я.
Сократ выкатил на меня глаза:
– Как кто? Вот вопрос! Алкивиад, конечно. Разве в те поры говорили о ком-либо другом? Можно ли было в Афинах говорить о ком-то еще?
– О тебе, Сократ.
– Да, – согласился он. – Потому, что Алкивиад был моим любимым учеником, и еще потому, что тогда у меня родился сын.
– Лампрокл, – поспешил я показать свою осведомленность.
– Так. А знаешь ты смысл этого слова – Лампрокл? Не знаешь. Оно от двух слов: lampas, то есть «факел», и lampros, что означает «блистательный». – Сократ рассмеялся. – Мне нравился «факел», Ксантиппе «блистательный», вот мы и договорились. Лампрокл был славный мальчуган. От матери взял красоту и красноречие, от меня… что же от меня? Ей-богу, ничего, разве что привычку шататься по городу – но, конечно, без моей страсти к повивальному искусству и к игре в творца и усовершенствователя человеческих душ.
– Не надо, дорогой, насмехаться над тем, что люди веками почитали в тебе и почитают до сего дня, – заметил я.
– Ну, я-то могу себе это разрешить! – Он озорно рассмеялся и снова заговорил о сыне. – Человеческий детеныш сам по себе вещь прекрасная, но в наш дом его появление внесло много шума. Ксантиппа превратилась в настоящую наседку, и тут уж не обходилось без громкого обмена мнениями. Ксантиппа рассчитывала, что теперь я больше времени буду проводить дома. Но ты понимаешь – для моей работы нужен был более зрелый материал. Работа же моя, право, была необходима: нравы в Афинах падали все ниже и ниже, дел нашлось бы для стольких же тысяч воспитателей, сколько тысяч жителей в них было. Короче, на каждого афинянина по Сократу. Да с кнутом в руке. Впрочем, этика без доброй воли, этика, навязанная под угрозой наказания, никуда не годится, и так, мой милый, все и идет… Да нет, я шучу. Мои друзья, мои так называемые ученики – кроме Крития, который ушел от нас, – доставляли мне радость. Они научились познавать самих себя и учили этому других, а ведь это, то есть учить других, быть апостолами, и значит – распространять человеческое самосознание все дальше и шире, о чем я и мечтал. А гордость моя, Алкивиад, занимал уже место Перикла. Он часто советовался со мной, нередко слушался меня, и лишь кое в чем мы с ним расходились.
Сократ нахмурился, в сердцах стукнул по столу.
– Как стратег, он был сплошное отчаянное озорство! Не слушал меня, упрямый осел!
Но тут же Сократ весело расхохотался, и я понял – он смеется чему-то далекому, удивительному.
– Можно спросить, что тебя развеселило?
– Конечно! Понимаешь, вспомнил… Лампроклу было три или четыре года, и пристал он ко мне, чтоб я вырезал ему из дерева какую-нибудь зверюшку. Я отыскал славный обрезок акации, белый, как женская грудь, и – за работу. Дело спорилось: инструмент-то у меня был. «Что это будет, папа?» – «Собачка». Лампрокл захлопал от радости: собачка! Я люблю собачек. Когда фигурка была готова, он с торжеством понес ее домой, показать матери. И тут я вдруг слышу: Лампрокл говорит «гав-гав», а Ксантиппа – «и-а, и-а»! И хохочет так, как редко хохотала. Выходит она из дому, зубы, глаза – все у нее смеется: ты, говорит, обещал ему собачку, а гляди-ка – ведь это осел! И я, старый осел, тоже расхохотался: думая об упрямце Алкивиаде, вырезал вместо собачки осла!
Я засмеялся тоже.
– Ну, будь весел. Ступай спать, сынок.
Я улыбнулся:
– Право, Сократ, я уже не так молод, чтоб ты называл меня сынком…
– Ну, как-никак, а на две с половиной тысячи лет будешь помоложе меня!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Друг и ученик Сократа Херефон, никому ничего не сказав, отправился в Дельфы. Там он спросил пифию, есть ли в Элладе человек мудрее Сократа. Жрица, от имени бога Аполлона, ответила так: нет среди людей никого независимее, справедливее и мудрее Сократа.
Ликуя, Херефон прибежал к Сократу. Тот лежал на каменной скамье перед домом, погруженный в размышления. Херефон сообщил ему новость, Сократ же ответил:
– Милый Херефон, ты знаешь, я тебя люблю, но такой шум – для дураков! Иди ты в болото!
И повернулся на правый бок.
Херефон махнул рукой, подумав: так я и знал! Опять эта арете! Теперь – скромность. Но погоди! Сейчас про это узнают все!
И верно, вскоре полгорода было на ногах. Ответ Дельфийского оракула облетел Афины. Врагов огорчил, друзей обрадовал.
Долетела весть и до Алкивиада, и тот сейчас же понял, что она принесет выгоду и ему. Если Сократ мудрейший из эллинов, то не может быть не мудрым желание его лучшего ученика – воскресить давнюю мечту афинян о покорении Сицилии.
Жалоб на бедность в Афинах предостаточно. Со смерти Перикла государственная казна почти пуста. Однако жалобами ее не наполнишь. Все хотят, чтоб жизнь стала лучше, а вот воевать за это?.. Сколько людей согласно взяться за оружие? Благословен будь ответ Аполлоновой жрицы! Он поможет нам привлечь на свою сторону всех колеблющихся, шептунов, трусов, запечных лентяев…
Алкивиад верхом прискакал в Алопеку. Осадив коня, крикнул поверх ограды лежащему Сократу:
– Ты уже знаешь? Был у тебя Херефон?
– Был, – сказал Сократ и повернулся на левый бок.
– Клянусь всеми совами Афины! – вскричал Алкивиад. – И ты валяешься? Вставай! Это надо отпраздновать!
– И не подумаю, – проворчал Сократ.
Ксантиппа все слышала. Вышла во двор:
– Когда не надо, ты бегом бежишь! А когда надо – с места не сдвинешься! Входи, милый Алкивиад, – крикнула она гостю. – Не бойся, он пойдет! – Она тряхнула мужа за плечо. – Поднимайся же! Надень чистый хитон и не заставляй ждать дорогого гостя!
Меж тем Алкивиад, спешившись, вошел во двор.
– Благословенна будь, милая Ксантиппа, за твои слова. Мы с твоим мудрецом отпразднуем нынче, а ты отпразднуешь завтра с Лампроклом, и не только завтра… Лампрокл! Малыш! Что ты любишь больше всего?
Мальчонка недолго думал:
– Ореховые лепешечки, медовые коврижки, и виноград, и фиги… – Он потянул мать за подол. – А что я еще люблю?
– Отстань!
Алкивиад смеялся:
– Бедный ребенок, как ему нелегко – нам с тобой, Сократ, куда проще выбирать: дар Диониса!
Сократ не поддался на призыв славы, но перед зовом лозы не устоял. Двинулись.
– Куда ты меня ведешь? К Феодате?
– Вот именно, дорогой. Тебе что, не хочется?
– Отличная мысль.
Идти было недалеко, и вскоре они подошли к вилле гетеры; на плоской крыше горели канделябры, и доносились оттуда женские голоса.
Алкивиад, став лицом к вилле, пропел анакреонтические стихи:
Пьет влагу черная земля, Ее саму пьет вечно жаждущее древо, А море горные потоки питают; оно же Поит собою солнце И бледные уста луны. Зачем же вы меня корите, други, За то, что и меня томит такая жажда?На крыше радостно закричали:
– Алкивиад!
В доме поднялась суматоха, затопали босые ноги рабынь – вот открылась входная дверь.
Алкивиад с Сократом стали подниматься на крышу. На лестнице их встретила Феодата в белом, пышно-складчатом пеплосе, подпоясанном по талии, в оранжевой накидке на плечах, предохраняющей от ночной прохлады. Хотя первым по узенькой лестнице поднимался Алкивиад, Феодата сначала обняла Сократа; затем поцеловала в губы обоих.
Следуя за нею, мужчины подошли к пушистому ковру; с разбросанных подушек, озаренная лунным серебром, приподнялась юная дева, приветствуя пришедших. Она с трудом верит своим глазам. Так много слышала об Алкивиаде, о его мужественной красоте, но действительность превосходит всякое воображение. Тимандра затрепетала.
Феодата обратилась к гостям с вопросом:
– Что это нынче в городе? Факелы мечутся по улицам, подобные огненным змеям. Возбужденные люди нарушают тишину пением, ликующими кликами…
– Эти нарушители ночного покоя – мои друзья, – засмеялся Алкивиад. – Пировали у меня, а теперь разносят по городу замечательную новость, которую Херефон принес из Дельф от самого Аполлона…
– Перестань, – строго перебил его Сократ.
– Не перестану, клянусь Аполлоном, и перескажу эту новость! Дельфийский оракул изрек: нет в Элладе человека мудрее Сократа!
Феодата, прослезившись от радости, обняла философа. Девушка подошла, сказала с пленительной застенчивостью:
– Позволено ли, Сократ, и мне, неизвестной, сердечно поздравить тебя?
Он обнял девушку, расцеловал в обе щеки. Потом внимательно оглядел ее.
– Неизвестная, говоришь? – Он перевел внимательный взгляд на Феодату, которая воздела руки к луне:
– О Селена, украсившая нас серебристым сиянием, ты, конечно, тоже знаешь, что этот человек не только мудр, но и всеведущ!
Сократ улыбнулся.
– Ну, не нужно быть всеведущим, чтоб понять: эта прелестная дева – твоя дочь!
– Да. Тимандра моя доченька, – просто сказала Феодата. – Сегодня мы празднуем четырнадцатый год ее жизни.
Гости, совершив возлияние богам, выпили в честь юной новорожденной.
– Да не позавидуют Хариты твоему обаянию – оно же пускай возрастает с годами! – пожелал ей Сократ.
Алкивиад погрузил долгий взор в агатовые глаза Тимандры и различил на дне их золотые искорки.
– Да даруют тебе боги все, чего ты сама пожелаешь!
Тимандра тоже не в силах оторвать глаз от Алкивиада.
Стало тихо – шумные толпы удалились, их уже не слышно; угасали на террасе огоньки, на которых жгли ароматические смолы. Их запах заглушило благоухание расцветшего шалфея, поднимающееся из сада вместе с пением цикад.
Феодата вынула из чеканного ларчика лист папируса и подала Алкивиаду:
– Это письмо я получила от одного из друзей – будь так добр, прочитай нам его.
Алкивиад подошел к светильнику и начал вслух:
– «Пьем тебя, словно воды реки, берем в руки, словно розу. Не стыдись своей доступности, напротив, гордись, что желанна ты стольким людям. Ведь и воды реки – для всех, и огонь не принадлежит одному, и солнце – божество, единое для всего человечества. Дом твой – храм любви, кто вступает в него – жрец; кто увенчает себя в нем венком – паломник к божеству, и дар его – десятина, приносимая в жертву. Властвуй же над подданными, к их радости, и да сопровождает тебя и впредь их уважение».[15]
– Какой у тебя голос, Алкивиад! – вздохнула Тимандра. – Он так и влечет к себе…
– У тебя же, Тимандра, влечет к себе все, – молвил Алкивиад.
Феодата сняла накидку с плеч дочери – из-под одежды выскользнула маленькая твердая грудь.
– Дотроньтесь, – попросила Феодата.
Сократ сжал ладонью девичью грудь и восхищенно проговорил:
– Сам насмешник Мом не найдет здесь изъяна…
Феодата обратилась к Алкивиаду, но тот не шевельнулся:
– Не смею…
– Спасибо тебе, – тихо промолвила девушка.
Сократ задумчиво смотрел на эту сцену. И это – Алкивиад?!
Светильники, расставленные по углам ковра, отбрасывали в ночь желтое зарево, и оно, смешиваясь с нежно-серебряным сиянием луны, создавало чарующее бледно-зеленое освещение, в котором золотые украшения Феодаты казались выкованными из льда. Раковины на шее и запястьях Тимандры метали опаловые отсверки.
Алкивиад лег так, чтоб видеть одну Тимандру. Сократ сказал:
– Прекрасная дева, ты уже доставила большое наслаждение нашему зрению. Но наслаждение наших глаз стало бы полнее, если бы дала ты им полюбоваться лепотою движений…
Тимандра взглянула на мать. Та кивнула. Девушка сняла шелковые сандалии:
– Я буду танцевать босиком.
Она вошла в круг, озаренный светильниками, блеснув белизною ступней, освобожденных от обуви, тонких щиколоток и прелестных пальчиков.
Феодата ударила по струнам кифары, начав торжественным аккордом храмовый танец жриц Деметры.
Под простые, строгие звуки Тимандра исполнила танец, составленный из плавных шагов, движений рук и коленопреклонений перед богиней. Что-то трогательное было в том, как эта девочка с глубокой серьезностью двигалась перед незримым алтарем Деметры.
Закончив, она снова переглянулась с матерью, отошла и вернулась обнаженная, с одним развевающимся шарфом в руке. Она стала танцевать для Алкивиада. Легкая ткань то прикрывала, то обнажала ее совершенные члены, реяла над головой, подобная вспугнутой птице, обвивала сверкающее девичье тело и водопад черных волос. Смятение, царившее в сердце Тимандры, сталкивалось со смятением зрелого, искушенного мужа. Древний демон Эрот ранил обоих. Они видели только друг друга. Божественное безумие. Божественное опьянение. То была уже не жрица Деметры – то была хмельная вакханка из свиты Диониса, призывно колышущая бедрами, дева, истомленная зноем извечной ночи, под покровом которой древние инстинкты превращают девочку в сжигаемую желанием женщину.
– Да будет добрым тот бог, что ведет твои босые ножки к мужчине и твою распаленную грудь – на его грудь, – проговорила Феодата.
Среброногая кружится так близко от Алкивиада… Даже светильники будто перестали светить, посрамленные сиянием белого тела.
Алкивиад пожирает глазами Тимандру, ноздри его трепещут, приоткрытым ртом он жадно втягивает воздух, дыхание его стало частым, тяжелым. А ритм танца – все быстрее, кифара Феодаты поет и гудит, удар за ударом, дикий вихрь аккордов, а над ними – один, несмолкающий, высокий звук, сводящий с ума, неумолимый, властный, словно бичующий кровь…
Движения танцовщицы все смелее, она раскрывает кому-то объятия, кого-то манит, и опять улетает, и возвращается, и кружится, кружится, как опьяневшая, – и вправду она опьянела…
– Ты бледна, Феодата.
– Ах да. Наверное. Это пройдет, Сократ.
– Прислонись головою к моей груди – хочешь?
– Ах да. С радостью. Твое сердце тоже так сильно колотится, Сократ.
– Солгу ли тебе, что это – от вина и ночных ароматов?
– А каково ему? И она, моя маленькая, козленочек мой, моя голубка нежная…
– Я сотру слезы с ресниц и с лица твоего, Феодата. Ты плачешь.
– Как всякий, кто теряет того, кого любит…
– Не плачь. Не дрожи больше. У тебя ведь было с ним много прекрасных дней.
– Да. Но живое создание, человек, зверь… ненасытно! – И вдруг с нежностью: – Но ведь это моя дочь. Мое единственное дитя. Да будет богиня Тиха благосклонна к ней…
Тимандра, танцуя, приблизилась вплотную к Алкивиаду, на секунду влетела в его протянутые руки – и вновь упорхнуло это живое очарование. И, словно споткнувшись, она остановилась, сотканная из белого света.
Перед этой красотой пал на колени Алкивиад.
Сократ держит Феодату за руку:
– Говорю вам, дорогие мои: любить – не недуг, недуг – не любить.
Снова усилился, приближаясь, шум в городе, напомнив об изречении дельфийской пифии.
Феодата встрепенулась, сказала с раскаянием в голосе:
– Афины славят твою мудрость, мой Сократ, а мы здесь заняты днем рождения моей девчушки… Теперь я сожалею об этом.
– Милая моя Феодата, – возразил улыбаясь Сократ. – Мог ли бы я придумать лучший способ отпраздновать свою мудрость, чем так, как было этой прекрасной и немудрой ночью.
2
Остров Саламин в своей восточной части похож на кисть руки с растопыренными пальцами. На одном из этих пальцев поместилось имение Эврипида. В склоне, сбегающем к морю, укрывалась от глаз людских просторная, светлая пещера; в ней обычно работал Эврипид. Когда к нему являлся Сократ, чтоб по просьбе драматурга высказать свое мнение о его труде, рабы Эврипида ставили столик и кресла на обрыве над пещерой, под сенью нескольких пиний. Отсюда открывался великолепный вид на материк, на море и на острова.
Стоял солнечный день, но Эврипид, перед тем, как сесть в кресло, закутался в широкий дорожный плащ из овечьей шерсти. В глазах Сократа блеснули лукавые огоньки:
– Опять ты усадил меня на этом обрыве?
– Ты сам так пожелал, – возразил Эврипид, определяя, с какой стороны дует ветер.
– Но ты ведь больше всего любишь сидеть в своей норе, как суслик, – поддразнил друга Сократ. – Здесь тебе явно не по себе.
Эврипид повернулся спиной к ветру и укутал плащом голые ноги.
– Как видишь, я предохранил себя от всяких неприятностей.
– Клянусь псом, о каких неприятностях ты говоришь? Меня тут ничто не задевает – если не считать чудесного вида на море, на корабли да вон на тех овец, белых, как молоко!
– Не задевает?! Да тут дует с моря! Не чувствуешь? И тень от пиний жидкая, того и гляди, солнце голову напечет… Не слышишь? Пастушья свирель, овечье блеяние, собачий лай, возня и крики моих людей в оливовой роще, жужжание пчел…
Сократ не дал ему докончить, засмеялся:
– Ужас! Крылья бабочек шумят, как ветви платана в бурю… Слышишь? Топот жука в траве, рев шмеля на цветке – слышишь? На цветке дикого мака, чья окраска бьет по глазам, – видишь? Если б не серьезный разговор, сбежал бы я от тебя к твоим пастухам и сборщикам оливок…
Оба посмеялись. Поэт воскликнул:
– Это на тебя похоже! Бродячий философ, как тебя называют… Тебе просто необходимо, чтоб тебя что-нибудь задевало. А я со своими трагедиями вынужден укрываться в пещере, где меня ничто не коснется… – Он опять немножко передвинулся, чтоб уйти от назойливых солнечных лучей, проникавших сквозь ветки пиний. – Только там, в тишине, куда не проникнут дождь, ветер, солнце, голоса, – там являются мне Медея, Геракл, Ипполит, Федра… Только там слышу я отчетливо их рыдания, жалобы, проклятья, мстительные крики, трепет любящих сердец…
– Прости меня, дорогой Эврипид, – Сократ сжал его локоть. – Я просто испытывал тебя. Подозреваю давно, что ты мучаешься здесь, наверху, со мной, лишь бы я не запросился в твою пещеру, к твоим героям. Ты ведь боишься, как бы я не пустился с ними в собеседование, а тогда какая уж трагедия!
– Тебе, моему другу, дозволено все, – ответил Эврипид. – Спустимся!
– Нет! – вскричал Сократ. – Останемся здесь. Ты меня знаешь – я на шутку скор, и твои трагические герои, явившись, еще обидятся на меня, да и будут таковы… Как ты тогда их догонишь?
Эврипид с облегчением засмеялся:
– Ну, если ты с таким деликатным вниманием относишься к моим героям, принимаю с благодарностью!
– Осторожно! – крикнул Сократ. – Не шевелись! Молчи!
Эврипид все же дернулся, хотел встать, но плащ связывал ему ноги, и он невольно подчинился Сократу, испуганно глядя в его выпуклые глаза.
– Она еще там, не двигайся. – Сократ медленно поднес руку к бороде Эврипида, в которой запуталась пчела.
Эврипида охватила холодная дрожь, в лице его не осталось ни кровинки.
– Ну-ка, маленькая, ну-ка, золотце, иди, иди сюда… – ласково приговаривая, Сократ осторожно взял пчелу за крылышки и отпустил на волю.
– Ты, может быть, спас мне жизнь, – весь еще под действием испуга едва выговорил Эврипид.
– Тебе-то нет, а вот пчеле – наверняка. Но и у тебя теперь не вздуется на подбородке шишка! – засмеялся Сократ.
– Вот сам видишь. – Эврипид сплюнул. – А ты хочешь, чтоб я воспевал эту дикую природу!
Тем временем пчелка уже отыскала нужный ей цветок, да и у Эврипида поднялось настроение после перенесенных страхов.
– Меня называют самым трагическим из поэтов. Послушай, друг, а не написать ли мне разнообразия ради какую-нибудь комедию?
– Чтоб отплатить Аристофану за его насмешки над нами с тобой? Это я приветствую, более того, готов и советом помочь…
– Какое будешь пить вино? – спросил Эврипид.
– Белое. У тебя – всегда белое, топазовое. – Сократ усмехнулся. – Но если подумать – ведь у нас в каждой комедии выведен этакий плут и бесстыдник со здоровенным кожаным фаллосом, торчащим из-под одежды, с которым он проделывает непристойные телодвижения, сопровождая их скабрезными прибаутками, не знаю, переваришь ли это ты, с твоей тонкостью чувств, о трагичнейший из поэтов!
– Что ж такого, – засмеялся в ответ Эврипид. – Каждому свое: и богу плодородия, и нам, чувственным людям, для возбуждения. Однако согласись, милый Сократ, такой бесстыдник в одну минуту заставит хохотать весь театр! Вот чему я завидую.
– Я тоже люблю посмеяться, – возразил Сократ, – но все равно больше ценю трагедию; трагедия, правда, не заставит весь театр держаться за животики, зато заставляет думать.
Они совершили возлияние богам, плеснув на землю струйку золотистого вина, и пригубили. Сократ причмокнул, облизал губы.
– Милый Эврипид, ты – трагичнейший из поэтов? Нелепая ошибка! Тогда, значит, и я – трагичнейший из философов. А разве про меня так скажешь?
– Про тебя? Чепуха! Ты насмешничаешь, фыркаешь, дерешься, гладишь, ласкаешь, а все для того, чтоб расшевелить людей, чтоб они стали лучше.
– Но то же самое делаешь и ты, Эврипид, хотя и с помощью душераздирающих монологов твоей Медеи: Самый трагический поэт? – Сократ протянул руку к фосфоресцирующему морю. – Кто пролагает пути новым добрым нравам и законам, тот самый веселый человек. Веселье мерится не смехом, а радостным чувством и действием. Ты – веселый бес. – Сократ и сам развеселился. – Бросаешь в публику смоляные венки без счета. Иной раз в благодарность за эти пылающие венки тебя увенчивают лаврами, однако случается – ты слишком сильно пугаешь зрителей, и они тебя освистывают. – Сократ отпил вина из серебряной чаши. – Вино у тебя лучше, чем у Каллия. – Он вытер ладонью усы и бороду. – Но, клянусь псом, много у тебя грешков перед афинянами! – Весело тараща глаза, он стал перечислять: – Ты против произвола правителей. Против несправедливых законов. Против олигархии, тирании, монархии. Не всякому по нраву то, что ты столь резко выступаешь против Спарты. И у поэтов ты бередишь желчь новшествами, изменяешь мифологию, своими трагедиями отрицаешь их трагедии, выводишь, правда, на сцену богов, но для того лишь, чтобы на их примере изобличать человеческое. И в сущности, твои боголюди уже просто люди со всеми потрохами, и вот – ты ссоришься и с богами, и с людьми.
– Клянусь дубинкой Геракла, многовато! – удивился Эврипид.
– А я только начинаю, – возразил Сократ. – Ты вступаешься за права женщин и защищаешь их от мужчин. Этим ты восстановил против себя всех, кто не настоящий мужчина, а ведь есть и такие.
– И женщин тоже! – со смехом подхватил Эврипид. – Обо мне толкуют, будто я после двух неудачных браков стал женоненавистником.
– А то, что ты принижаешь роль рока? – продолжал Сократ. – Думаешь, дорогой, людям нравится, что ты делаешь их самих ответственными за поступки, лишая возможности все сваливать на Мойр или Ананку?
– Это, безусловно, неприятно людям, согласен. Но как же они не сообразят: почему, когда они поступают дурно, осуждают вовсе не рок, а их самих? – усмехнулся Эврипид. – Но не пугай меня больше, лучше выпьем.
– О почтенный поэт, это еще не все. Самое худшее, что ты натворил и теперь творишь в своих «Троянках», я оставил под конец.
– Ладно, добивай меня, – наморщил лоб Эврипид.
– Так слушай же о самом позорном: о рабах ты отзываешься как о людях! По-твоему выходит, что раб может быть нравственно выше свободного. Ужас! Ты – философ на сцене, позор! Ты – ученик Анаксагора! Друг Сократа! Трижды позор!
– Довольно! Довольно! Довольно! – закричал Эврипид, махая руками. – Я раздавлен. Я пропал. Но отдаешь ли ты себе отчет, Сократ, что ко всем моим преступным грехам причастен и ты?
Сократ попытался изобразить сокрушение, и получилась такая гримаса, что Эврипид расхохотался.
– Клянусь всеми псами! Вон и он наконец хохочет от души! Слава тебе, брат! – обрадовался Сократ и поднял чашу. – Отливаю Аиду, чтоб он не слишком мучил в Тартаре нас с тобой за наши грехи, и пью за то, чтобы общие наши грехи росли как грибы после дождя!
Поднял чашу и Эврипид.
– За это, дорогой Сократ, следует не просто выпить, а прямо-таки напиться! Ах ты коварный! Я уже трепетал, что ты посоветуешь мне бросить писание!
– Да разве я на такое способен? – возмущенно вскричал Сократ. – Тогда бы позволительно было подумать, что по дороге сюда меня забодала пестрая корова! Впрочем, – уже веселее закончил он, – я ведь сызмальства несколько тронутый…
Они вернулись к «Троянкам». Эврипид прочитал то, что успел написать.
Сократ подумал и сказал:
– Хочешь знать мое впечатление? По-моему, самый сильный образ у тебя – Андромаха, то место, когда ее сына Астианакса собираются сбросить со стен завоеванной Трои, и еще – царица Гекуба, когда ее принуждают отдать милую дочь Кассандру в наложницы Агамемнону. Вот явление с царем Менелаем и его блудливой женой Еленой я хотел бы послушать еще раз.
– Хорошо.
– А заключительная сцена? Ты уже думал о ней?
Эврипид невольно перевел взор на северо-восток, в том направлении, где стоял когда-то могучий фригийский город Троя.
– Примерно так: Троя горит. Греческие воины тащат связанных троянских девушек и женщин к кораблям, которые увезут их в неволю. Их плач, руки, воздетые к небу, озаренному багровым отсветом пожара… Гигантское пламя, грозная стихия – и страдание женщин и детей, образ ужасов, которые несет с собой война для беззащитных и невинных…
– Отлично, Эврипид! Мне это очень нравится. У тебя великолепный размах!
– Придешь в следующий раз – все это будет уже на папирусе.
Они поднялись, пошли к дому. Эврипид помрачнел.
– Только, пожалуй, афинский народ освищет эту трагедию. Я изобразил там греков варварами в сравнении с троянцами, и вся пьеса направлена против войны, тогда как Афины, по-моему, к войне-то и готовятся.
– Ты не ошибаешься. Война вот-вот разразится.
Они проходили через оливовую рощу, и Сократ, словно бы этим меряя время, заметил:
– Оливки начинают наливаться…
– Ты боишься за Алкивиада? – спросил Эврипид.
– Боюсь Алкивиада, – ответил Сократ и надолго замолк.
Солнце закатывалось в серебре. Скоро ляжет роса. С холма протрубили в бычий рог – сигнал пастухам гнать стада в загоны.
– Сегодня же вечером принеси жертву Пану в благодарность за погожий день, хозяин, – сказал Сократ и добавил с улыбкой: – Только сушеные фиги припрячь для своего друга Сократа. Для Пана ты, конечно, найдешь что-нибудь другое…
Усмехнулся и Эврипид:
– С удовольствием обделю бога ради тебя.
Подошли к дому; Сократ обнял друга и сел в повозку, запряженную парой мулов, – она отвезет его к пристани.
3
Даже став стратегом, Алкивиад не отказался от своих сумасбродств и беззастенчиво совершал их на глазах у всех. Репутация легкомысленного кутилы и любителя наслаждений была ему выгодна. Ею он обманывал врагов. Они переставали бояться его.
Но его боялся Никий. Однажды Алкивиад уже одолел его и все время заслоняет его в экклесии. Никий предостерегал своих приверженцев:
– Я его хорошо знаю. С малых лет его воспитывали как будущего полководца. И вырос он честолюбцем, какого не упомнят Афины. Лошади, корабли, военные упражнения, даже словесные схватки – во всем он желает побеждать. Быть вторым – да ему легче умереть! Говорю вам – под маской веселого малого сидит хищник!
Приверженцы Никия важно качали головами:
– Да что тебя встревожило, дорогой Никий? Разве он что-нибудь против нас затевает?
– Милые друзья, – укоризненно возражал тот, – вы хотите меня рассмешить? Да что бы он ни затевал, это всегда будет против нас, миролюбивых людей. – Он погрозил кулаком отсутствующему Алкивиаду. – Этот змей, как собственные сандалии, знает любой город, любую пристань и на материке, и на островах, а в последнее время повадился плавать по морю. То его на восток несет, то на запад… Во имя чего бы? Тесно ему в Афинах? Путешествия для забавы? В поисках любовных приключений? Уже пресытился афинскими наложницами? – Никий сменил язвительный тон на увещающий. – Послушайте меня, друзья! Этот его разукрашенный плавучий дворец отнюдь не увеселительное судно, это военный разведчик!
Меж тем тот, кого так опасался Никий, действительно объезжал города и порты. Тут остановится ненадолго, там поживет… И нигде не выступает первым мужем Афин – только добрым товарищем на пирах за чаркой вина, во всевозможных развлечениях.
Причина? Знать, где какое положение. Кто как настроен – в пользу афинской демократии или в пользу олигархов; кто какие чувства питает к Афинам, к другим полисам. А вторая причина? Приобретать друзей. Алкивиад прошел у Сократа хорошую выучку: мало обладать знаниями! Он отлично усвоил, как уловлять друзей, как завоевывать их сердца: протяни к человеку руки – отпугнешь. Сделай так, чтоб тот, кого ты хочешь привлечь, сам протягивал руки к тебе. Силой никого не принудишь ни к дружбе, ни к любви, и не существует для этого никаких заклинаний. Неискренне льстя человеку, очень скоро себя разоблачишь. Делай добро своей жертве! Будь с ней терпеливым и ласковым! Дай совет! Помоги!
В обществе людей самых различных положений и характеров, в среде моряков и сухопутных воинов Алкивиад вел себя с абсолютной непринужденностью и к тому времени приобрел уже тысячи друзей, поклонников и благодарных почитателей.
Когда-то ему твердили: ты прославишься больше самого Перикла. Но – как прославиться? Алкивиад помнил – еще при Перикле многие афиняне мечтали о покорении Сицилии. То была великолепная мечта. Алкивиад долго приглядывался, сравнивал силы Афин с силами Сицилии. Все взвесил. И сказал наконец: да, да! Я воскрешу эту мечту. Отправлюсь туда с тысячами моих воинов, добуду Сиракузы, с ними всю Сицилию – и тогда задрожит передо мной сама Спарта!
В гетериях же рассуждали так: Алкивиад победит, его уже не остановишь, он пойдет все дальше и дальше, станет властителем всей Эллады и всюду введет свою безумную радикальную демократию.
Что тогда будет с нами? Мы тут клянемся смести демократию, а сметут-то нас самих…
В народном собрании против Алкивиада поднимались волны сопротивления, высокие как горы, а Алкивиад навстречу им гнал горы зерна, мяса, фруктов, золота, меди, серы, толпы рабов. И еще – позора: за то, что афиняне ни в чем не умножили дело Перикла, но во всем его преуменьшили.
Не только экклесия – рынок тоже кипит и клокочет, как море, бичуемое ураганом. Сторонники мира шлют своих агитаторов и сюда.
Но видение покоренной Сицилии все четче, определеннее, неотвязнее. Оно не дает покоя ни воинам, ни мирным жителям, оно манит, прельщает…
Остров в десять раз больше Аттики! И мы над ним господа! Какая добыча! Какой неиссякаемый источник богатства!
Афиняне до того уже вызолотили Алкивиада, что сверкание его видно из дальней дали. Одно солнце в небе – Феб Аполлон, одно солнце на земле – Алкивиад.
«Сицилия наша!» Афины, вздувшиеся, как чрево беременной женщины, лопаются от этих криков. Стены исписаны известкой, углем, красками: «Удачи походу на Сицилию!», «Благо тебе, Алкивиад!»
Карту Сицилии чертят на песке палестр, на утоптанной земле дорог, на стенах домов. Рынок на агоре так и кишит возбужденными толпами. Голоса «за» и «против» злобно схлестываются.
– Шляется по ночам к Феодатиной дочке Тимандре, а надушен так, что провоняли все улицы, по которым он проходит!
– Пускай! Сам надушенный – хочет, чтоб и у нас были благовония. Вытащит нас из нужды – или, может, у тебя, горлодера, лишние оболы завелись?
Горлодер, которому хорошо заплачено за дранье глотки, скалится:
– Не запыхайся, дружок! Угря еще только за хвост держим, а ты уже к столу садишься…
– Это старый пердун Никий все тормозит!
– Видно, знает почему!
В кучке близстоящих поднялся шум:
– Ах ты грязная рожа! Уж не ты ли, оборванец, наполнишь пустую казну? Да только чем? Разве что навоняешь – так ведь в казне-то и без тебя одна вонь…
Народ взбудоражен.
– Поход на Сицилию – выгода родине, наша выгода!
Горлодер потихоньку отступает, прячется в толпе, но еще гавкает напоследок:
– Или наше несчастье!
Съев пару оплеух, он исчезает, посеяв, однако, сомнения и тревогу. Люди думают о том, что среди них нет единства. Один кричит «но», другой – «тпру». А это плохо для войны. Кто-то говорит:
– Слыхать, в помощь Алкивиаду хотят назначить Никия. Где логика?
– Логика, видать, есть. Никий не помог ему в походе на Аргос, не поможет и теперь. Видно, кому-то так нужно.
– Свинство!
Но тут чей-то бодрый голос:
– Да нам только двинуться – все само в руки упадет! На Сицилии много людей, которые только и ждут, чтоб мы привезли к ним демократию. Они там по горло сыты тиранами. Встречать нас будут – ворота настежь!
Женщины, словно осы, облепили лавки, жужжат, гудят, торгуются, а товары быстро исчезают, чтоб завтра и послезавтра торговцы могли драть в пять раз дороже. На оболы – обычную рыночную монету – счет почти уже и не идет. Надсмотрщики, назначенные следить за тем, чтобы торговцы не превышали установленных цен и весов, не хотят ссориться с ними в столь неверные времена. Надсмотрщикам тоже есть надо, надо покупать. И они поворачиваются спиной к торговке, которая требует серебро за мешочек бобов и говорит покупательнице:
– Не удивляйся, гражданка. Нынче ничего нет. И не будет. – Но заканчивает утешительно: – Вот станет Сицилия нашей, полон рынок натащат – тогда и обнюхивай, свеж ли товар, а мы все разоримся…
Покупательница озирается, ища помощи против обдиралы. А надсмотрщика давно и след простыл. Теперь он будет платить за свои покупки, поворачиваясь спиной. Хорошее платежное средство в такие времена.
На стене портика намалевана огромная карта Средиземноморья. Государства его обозначены разными красками. Перед картой – толпа.
– Где же эта самая Сицилия?
– А ты, умник, не знаешь? Вот она!
– Чего ж это она такая желтая?
– Сера. Хлеб. Золото.
– О, Афина, какие сокровища! Они-то нам и нужны! – И спрашивающий пялит глаза на Сиракузы, обведенные красным кружком, словно уже охваченные пожаром.
– Потому-то и идем на них, баранья твоя башка!
– Еще не идем. Еще экклесия не проголосовала, еще…
– Еще тебя ждут, дубина, твоего милостивого разрешения начать войну!
– А я бы и не дал такого разрешения. Кабы от меня зависело – запретил бы.
– Вон как! Это почему же?
– Опять прольется кровь афинян! Да самая лучшая!
– Ну, твоя-то вряд ли прольется. Не бойся.
Рев, смех. Рев, негодование.
– Таких засранцев, как ты, в других местах камнями побивают, понял?!
– Дайте ему пинка, паршивому изменнику!
А тот уже испарился как дух – отправился сеять семена недоверия на другой конец агоры. Везде люди, везде уши, везде доверчивые простачки, которых можно обвести вокруг пальца.
Женские голоса:
– Далеко-то как! Сицилия! Долго же не увидим мужей…
– Замена останется!
– И вообще, как оно там, на этой Сицилии? Слыхала я, есть там громадная гора, а из нее огонь…
4
Сократ возвратился домой, еще в калитке окликнул Ксантиппу:
– Иппа, душенька! Вот я и пришел к ужину…
Он поиграл с Лампроклом, который, изображая гоплита, размахивал очищенной от коры веткой, словно мечом, и топал по двору босыми ножками. Потом Сократ вымыл руки, удобно уселся за стол под платаном, где всегда ужинала семья, и стал ждать.
Вышла Ксантиппа, и Сократ удивленно на нее воззрился: не поцеловала его, как обычно, ни словом не попрекнула за то, что целый день его не было дома. И еды никакой не вынесла. Села напротив, сложив руки. Ага, подумал Сократ. За день здесь что-то произошло…
– Ну, говори, милая, сказывай, что у тебя на сердечке, да и дай нам поужинать. Мы проголодались, правда, Лампрокл?
– Хочу я немножко побеседовать с тобой.
– Что? Ты? Клянусь псом, беседы мне всегда по душе, даже в собственном доме. Но нельзя ли после ужина?
– Нельзя.
Он вздохнул и потянулся к сумке за семечками.
– Ну начинай, дорогая. Я готов.
Ксантиппа, устремив на мужа черные глаза, заговорила так:
– Сократ учит: отсутствие всяких потребностей – свойство богов; чем меньше у нас потребностей, тем ближе мы к божественному, к совершенству. Так что сегодня мы станем богами.
Сократ, не догадываясь, к чему она клонит, воспринял ее слова с юмором:
– Вот как! Это мне нравится. Какой же богиней хочешь ты стать? Которую выберешь из всей толпы?
– Я еще подумаю. Сначала выбирай ты.
– Я? Мне, видишь ли, не приходило в голову… Который из них лучше? Нет, не так. Которому из них лучше живется? Ясно, кому: Зевсу! У него есть личный виночерпий Ганимед, и стройнобедрая Геба носит ему на стол яства, и на каждом шагу у него красивая земнородная – наш Дий гуляка из гуляк! Я, Иппа, выбираю Дия.
Ксантиппа улыбнулась – в уголках ее губ залегла маленькая черточка коварства.
– Так! Наш папочка выбрал величайшего обжору на Олимпе, да не накажут меня боги! Кто бы ожидал от столь мудрого аскета. Значит, я лучше следую учению Сократа, чем ты.
– Как это понять, милая?
– Ну, возможно меньше потребностей – это ведь божественно, правда? Вот я и выбираю Эхо.
Сократ удивился:
– Эхо? Богиню Отзвука? Почему?
– Во-первых, она очень болтлива, как и я. Во-вторых, слыхал ты когда-нибудь, чтоб Эхо чем-то питалась?
– Я люблю хорошую шутку, – с упреком сказал Сократ. – Но такие речи вместо еды…
– Вот именно, дорогой. Бери свой дорожный гиматий и отправляйся на Олимп.
– Что мне там делать?
– Напросись там на ужин, как ты привык делать здесь. А я возьму Лампрокла, мы встанем у портика на агоре и, быть может, выклянчим себе что-нибудь на ужин.
– Клянусь псом, что это значит? – всерьез рассердился Сократ.
Ксантиппа в ответ привела неумолимые расчеты:
– Сколько мы выручили от продажи оливок? Несколько драхм. На эти деньги купили муки и уже всю съели. Из остатков оливок выжали масло и тоже съели. Вино из Гуди выпил ты с друзьями. А несколько кружек молока, что я надаиваю от козы, – это для Лампрокла.
– Почему же ты мне… – начал было Сократ, но его тотчас перебили.
– Готовится война. На рынке начинается паника. Ничего нет. Ничего не будет. Из-под полы-то все будет – конечно, за серебро. В нашем доме – ни обола. Софисты… Молчи! Я осведомлялась! Софисты берут в месяц по пятидесяти драхм с ученика. Сколько у тебя учеников? Да из каких богатых семей! И – ни гроша. Ловишь людей на крючок, как рыбак рыбу. А поймаешь – ни чешуйки тебе не перепадает. Молчи! Так и слышу твое: «Но, Иппа, я думаю о человеке, а не о драхмах! От человека зависит и его счастье, и счастье всех…» Какой тебе прок оттого, что ты заботишься об их счастье? А? Знаю, скажешь, мол, награда твоя велика: благо людей. Ну ладно. Накорми же меня и нашего мальчика этим благом! Ага, не можешь? То-то и оно, мудрая твоя голова! И опять слышу, как ты говоришь: чего нам не хватает, моя лошадка? У меня есть ты, у тебя – я, у нас обоих – малыш, который вырастет красивым в маму и глупым в папу…
Сократ расхохотался:
– Точно так, дорогая!
– Не сказал ли тебе в глаза Антифонт, какой ты безумец? Такой жизни не выдержал бы ни один раб! Питаешься – хуже быть не может… Раб не выдержит – а мне выдерживать? Нам с Лампроклом тоже вместо еды семечки лузгать? Но ты-то ведь ходишь по пирушкам! Так? К одному на обед, к другому – зачем же брать за учение хоть несколько жалких оболов! Тебе не нужно! Или никто не желает платить за твою мудрость?
– Дураки были бы, если бы платили. – Сократ еще пытался шутить. – А я ведь советую всем быть умнее…
Ксантиппа, не в силах продолжать в легком тоне, заплакала от злости и от жалости; Лампрокл, хоть и не понимал, в чем дело, присоединился к матери весьма громким ревом.
Сократ обошел вокруг стола, подсел к жене и взял ее, несмотря на сопротивление, к себе на колени. Вытирая ей слезы, целовал смуглое лицо.
– Ах ты, моя лошадка! Ну, ну, умерь свой бешеный галоп. Монолог свой ты произнесла отлично. Ну не реви, я ведь это всерьез, с самыми лучшими намерениями… Но почему же ты, дурочка, ничего мне об этом не говорила?
Ксантиппа отвечала сквозь всхлипывания:
– Да ведь все у тебя на глазах… Я говорю – ты не слышишь… Дух твой далеко… – Она повысила уже сердитый голос. – Вечно он где-то витает, твой дух, а я тут погибаю от работ и забот…
– Ну хватит, девочка. Вчера Критон говорил мне, что дела на рынке все хуже и хуже и, если нам что понадобится, чтоб я зашел к нему. У него, знаешь, два поместья под Гиметтом.
Она взглянула на Сократа сквозь слезы – отчасти с любопытством, отчасти с подозрением:
– А скажи мне… Ведь Критон часто нам помогает, почему же ты, не принимая ни от кого ни драхмы, от него…
– От него тоже ни драхмы! А еда – не деньги. Еда – не милостыня. Это – дар. Эй! Лампрокл! На коня!
Мальчик проворно взобрался к нему на спину и сел верхом на плечи.
– Н-но! – крикнул Сократ и выбежал со двора.
Ксантиппа, еще со слезами на глазах, смотрела им вслед, шепча с любовью:
– Сумасшедший…
Критон, как всегда, принял Сократа радостно. Погладив Лампрокла по кудрявой головке, поручил его рабыне, приказав угостить всеми лакомствами, какие найдутся в доме.
Оставшись с другом наедине, Сократ рассказал, что у Ксантиппы нет больше и горсти ячменной муки; Критон извинился перед гостем и вышел, чтоб распорядиться отнести в дом Сократа корзину с припасами, а также вино и масло.
– Ну вот, все устроено, – сказал он, вернувшись.
В таких случаях у Сократа всякий раз портилось настроение, и всякий раз Критону приходилось повторять, что ему просто приятно оказывать другу небольшую помощь. Но сегодня и после этих слов Сократ не перестал хмуриться. Тогда Критон повел его в свою библиотеку.
– Вижу, тебе мало моих уверений, что не ты мой должник, а, напротив, я – твой. Пойдем же, дорогой, ты кое-что увидишь…
В библиотеке Критон повернул Сократа лицом к стене, где на полках светились круглые золотые крышечки футляров, хранивших свитки папируса. Показав на эти крышки, Критон попросил:
– Будь добр, прочитай, что на них написано.
– «Критон: О доблести», – начал читать Сократ. – «Критон: О красоте и добре», «Критон: О любви духовной и телесной», «Критон: О справедливости»…
Сократ отвел глаза от полки и с изумлением посмотрел на Критона:
– Я знаю, что ты много писал, но столько!.. Я и понятия не имел…
Прикасаясь к золотым кружочкам, закрывавшим его труды, Критон объяснил:
– Надписи не точны. В этих свитках заключены не только мои мысли, но прежде всего твои, Сократ! И ты хочешь, чтоб я оказался таким жадным, чтоб только высасывать тебя, не шевельнув для тебя и пальцем? Я получаю от тебя дары, которые не оплатишь ничем на свете, – и в благодарность за это не имею права уделить тебе несколько жалких крох? Я буду пировать, угощать друзей, а лучшему из них позволю голодать с женой и сыном? Да за кого ты меня принимаешь?!
Сократ хмурился, протестующе махал руками, но Критон был неудержим:
– Ты, Сократ, богач, а я – нищий, вот и вся правда! Что такое мука, масло, сушеные фиги и что там еще? Поместья достались мне по наследству – какая в том заслуга? Разве честолюбие и гордость афинян не в том, чтобы приносить пользу родному городу? Не рассуждали ли мы с тобой об этом с юных лет? Брось! Тебе совестно – в то время как это мне должно быть совестно, что я все беру у тебя, чуть ли не ворую. Есть единственное, что хоть немного успокаивает мою совесть, но ты не желаешь этого понять и всякий раз превращаешь мою радость в нечто тягостное для нас обоих…
– А разве это не тягостно?! – взорвался Сократ. – Я по крайней мере так чувствую.
– Неверно чувствуешь! – разозлился и Критон. – А все потому, что сам себя не ценишь. Но ценить себя предоставь уж другим, в том числе и мне!
– Клянусь псом, дорогой Критон, ты нынче, кажется, кричишь на меня, – сердито проворчал Сократ.
– Пора наконец высказать тебе все, что я думаю. Ты явился с такими на первый взгляд простенькими, и при этом столь важными для человека мыслями, как никто до сих пор. Скажи сам – занимался ли кто-либо до тебя человеком? Долгие годы обрабатываешь ты душу человеческую! Творцов человека много – и ты один из них!
– Какие высокие слова! – вскричал Сократ. – Клянусь псом, ты меня замучишь!
Критон рассмеялся:
– Что ты, что ты! Аристофана, с его насмешками над тобой, ты можешь выдержать, а меня, который относится к тебе несколько мягче, не можешь?
– Лишь с большим напряжением сил, друг мой…
Критон закончил уже весело:
– Смотри, дорогой: если б я тебя не поддерживал, тебе пришлось бы зарабатывать на жизнь, и ты не мог бы вести с нами беседы, и не было бы этих маленьких солнышек, которые я тебе показал. И можешь сколько угодно сверлить меня взглядом! Ну ладно, перестань ершиться – или не хочешь доставить мне ту радость, ту славу, что есть хоть малая, да моя заслуга в том, что ты – есть?
Сократ перестал хмуриться.
– Я больше не сержусь, милый Критон.
– Наконец-то! – вскричал тот и добавил серьезным тоном: – Пока есть у меня – будет и у тебя, и у твоей семьи. Ну а чему быть, того не миновать. По мне, можешь яриться от мысли, что когда-нибудь потомки узнают – были в Афинах не только лежебоки, бездельники да дураки, но и свои Критоны…
Сократ снова нагнулся к золотым крышечкам, читая названия. Улыбнулся:
– «Сократ советует Критону, как оградить себя от ложных обвинений…»
Критон засмеялся:
– Вот видишь – если б не я, остался бы твой ценный совет тайной для людей…
Сократ, обернувшись, горячо воскликнул:
– Клянусь псом! Клевета на честных граждан – самое презренное, но, увы, и самое выгодное занятие. Но где взять такого Архедема, которого я рекомендовал тебе, чтобы он отгонял от тебя клеветников и вымогателей, как собака – волков от стада?
Они пошли из библиотеки. Отдергивая занавес, Критон спросил:
– А почему, Сократ, ты не пишешь сам?
– Об этом ты меня часто спрашиваешь.
– И ты всегда уклоняешься от ответа.
Сократ расправил занавес во всю его ширину. Складки разгладились, открылись вытканные в занавесе сцены путешествия Одиссея.
– Смотри: ткач золотою нитью выписал древние события. А я писать не могу. Я должен разговаривать. Мне необходим живой диалог, столкновение мыслей, чтобы то с одной, то с другой стороны рассмотреть все, что так запутанно и противоречиво. Когда же мне успеть еще и записывать мгновенно вспыхнувшие мысли и слова? Это по силам кому-нибудь другому. Я рад, что вместо меня это делаете вы, мои друзья, в том числе и ты.
Тем временем через заднюю дверь дома давно вышли рабы, неся Ксантиппе несколько больших амфор вина, сосуды поменьше с маслом и большую, тяжелую корзину.
Ксантиппа так и кинулась к корзине. О! Мука, горох, фасоль, копченая треска, отлично зажаренная баранья нога, горшочки, обвязанные ослиной кожей, а в них – соленые оливки и мед, в полотняных мешочках – сушеные фиги, сушеный виноград, орехи… А на дне! О, Гера со всеми ее сыновьями и дочерьми! Кошелек, туго набитый драхмами! Сократ, конечно, про деньги не знает – и не узнает. А то подхватится мой дурачок, побежит возвращать… Скорее спрятать понадежнее! Так. Остальное – в погреб, в чулан, и – приготовить пир! Неужто же все только у Каллия пировать да у подобных ему? Почему бы в кои-то веки и не у Сократа? Ксантиппа пела, собирая ужин.
Когда вернулись Сократ с Лампроклом, она поцеловала мужа так крепко, как только умела. И, ставя блюда на стол под платаном, с признательностью проговорила:
– Ты действительно великий мудрец, мой Сократ!
Через агору проходит отряд гоплитов, закованных в металл. Железная змея, стоглазая, стоногая, рассекает толпу. Бряцает железо, ритмичный шаг по камням мостовой – словно грохот боевых барабанов.
Гоплитов бурно приветствуют: отряд несет великую весть. Экклесия одобрила сицилийский поход.
Вышел Алкивиад. Рука поднята, сверкают белые зубы, сияет лицо. Крики:
– Хайре, Алкивиад!
Он отвечает:
– Хайрете, други, хайрете, товарищи мои!
Олигархи не вешают носа. Не допустим же мы, чтобы славу стяжал вождь демократов и тем усилил ее! Не допустим, чтобы он разгромил олигархов в Сиракузах, наших доброжелателей, наших тайных союзников, и тем ослабил нас! Не удалось одолеть Алкивиада в открытой борьбе – осталось другое оружие, а оно, если хорошенько все подготовить, стоит большего, чем все тысячи преданных ему гоплитов и моряков.
5
Солнце закатывается в сиянии вечерней зари. Алые отблески бросает алмазное ожерелье Тимандры. Прекрасна эта девушка. И еще хорошеет от любви. Полные губы ее временами легонько вздрагивают, большие глаза печальны, ноздри изящного носика чуть трепещут – крошечные волны под водопадом роскошных волос, чей аромат стоит над террасой, подобно облачку вечерних испарений.
Феодата оставила влюбленных наедине. Они сидят на подушках, разбросанных по ковру. Минута разлуки тяжела для обоих. Алкивиад думает уже о возвращении:
– Ты останешься в Афинах, Тимандра? Не скучаешь по своему родному Эфесу?
– Нет. Моя отчизна не там. Моя отчизна там, где ты, любимый.
– Будет ли так всегда?
– Так будет, пока я жива.
Он целует ей ладони, запястья.
– Когда я увидел тебя здесь впервые, такую хрупкую, маленькую… Я думал, ты еще девочка, но ты была так очаровательна – я жалел, что ты еще девочка…
– Я думала: ты пришел к моей матери, и мне стало больно у сердца…
– Когда же ты начала танцевать, я понял, что ты уже женщина и сама этому рада… – Он расцеловал ей пальчики.
– … Но ты смотрел не на мою мать, ты смотрел на меня…
– Преображаясь у меня на глазах, ты манила, овладевала мной… Наверное, сама Пейто, богиня обольщения, стоит у колыбели всех женщин… – Теперь он целовал ей грудь.
Она обняла его, погрузила пальцы в черные волны его кудрей.
– Помнишь, – спросил он, – что тогда сказал Сократ?
– «Любить – не недуг; недуг – не любить».
– И нет большего наслаждения, чем любить и быть любимым.
– Если б ты попросил меня встать – думаю, я лишилась бы чувств… Это от любви, милый?
– Да, это от любви. Судьба одаряет меня щедро, даже слишком щедро. Порой я думаю – к добру ли?
– Я слыхала – твой щит позолочен, и на нем Эрот с молнией. Я слыхала – у всякого, кто увидит тебя в твоих золотых доспехах и алом плаще, загорается сердце. У мужчин и у женщин. Но меня ты сразил молнией очей, молниями губ, голоса…
Он подложил ей под голову подушечку. Целовал… Феодата тихо прошла по мягкому ковру, гася светильники.
Всходила багровая луна. Тимандра, увидев ее, затрепетала.
– О, если б ты уже вернулся! И – ко мне!
– А если я вообще не вернусь?
– Когда вступишь победителем в Сиракузы, сходи к роднику нимфы Аретусы, выбивающемуся из-под зарослей папируса и папоротника. Если ты не вернешься, выпрошу милость у Великой Матери – пускай превратит меня в родник, как была превращена Аретуса. Но ты вернешься.
Она встала, принесла треножник; в котелке, подвешенном к нему, светились раскаленные угольки. Тимандра вздула огонь, накормила его ароматическими смолами.
Тихими словами, которых не понимал Алкивиад, взывала девушка к Великой Матери Кибеле. Просила любви. Просила жизни для Алкивиада. Просила, чтоб вернулся он победителем. Подавив возглас ужаса, вдруг до крови закусила губу. Алкивиад почувствовал ее смятение. Встал:
– Что говорит огонь?
Тимандра заливала угли очищающей водой, стараясь унять дрожание рук и голоса:
– Ничего страшного, любимый. Безумие моей любви погибнет со мною. Спасибо, Великая Мать!
Маленькая рука проделала магические жесты над серебряным амулетом с выгравированными на нем знаками Зодиака. Тимандра повесила амулет на шею Алкивиаду. Он надел ей на палец перстень с камнем цвета моря.
Полная луна посветлела, засияла ярко. В ее белом свете Алкивиад разглядел, что Сократ лежит на каменной скамье перед своим домом.
– Спишь, Сократ?
– Нет, что тебе от меня надо?
Алкивиад свернул свой шелковый плащ, хотел подложить его Сократу под голову. Тот неприязненно оттолкнул его руку, неприязненно повторил:
– Что тебе от меня надо?
– Пришел проститься с тобой.
– Ступай не прощаясь!
– Сократ! Без твоего благословения? Без слова любви, связывающей нас…
– Больше не связывает.
– Без твоего объятия и поцелуя – мне предпринять…
– Несправедливое дело?! – прервал его Сократ. – Зачем же я учил тебя, что полководец должен биться только за правое дело?!
Алкивиад вскипел гневом:
– Я считаю это дело справедливым! Сегеста, угнетенная Селинунтом, который поддерживают Сиракузы, просила нашей помощи. Помощи, слышишь?
Сократ поднялся. Гнев заговорил и в нем:
– Знаю я, как ты сочувствуешь Сегесте! Лжец! Знаю, какую помощь имеешь в виду: Сиракуз тебе захотелось!
Алкивиад сухо возразил:
– А это тоже ложь – что народное собрание признало войну необходимой?
– Потому что ты заморочил собрание своими речами. Потому что привлек в экклесию молодых безумцев, жаждущих битв, и моряков, алчущих грабежей и добычи! Но таким ты нравишься не всем афинянам!
– И мне не все они нравятся. Неужели же из-за этого отказываться от такого блистательного похода? – В голосе Алкивиада зазвучала насмешка. – Видел ли кто, чтоб у меня недоставало мужества? Уж ты-то, Сократ, не можешь в нем сомневаться!
Сократ нахмурился.
– Если ты добрый стратег – думай об Афинах! Ты хочешь прославиться, как Перикл. Но Перикл был славен тем, что он совершил во время мира, а не тем, как он вел войны. Ты же развязываешь войну из жажды славы. И это – мой ученик?!
Алкивиад умышленно пропустил мимо ушей последние слова Сократа и возразил, преувеличивая:
– Сиракузы опережают нас. Медленно, но верно они занимают место Афин во всем мире – от Индии до Иберии. Усмирить тиранические Сиракузы – мой долг, если я настоящий стратег.
– Опять ложь! – загремел Сократ. – В Сиракузах ты видишь ключ к военному походу в Африку, к покорению Карфагена, а затем – к завоеванию Пелопоннеса. Ты, честолюбец, хочешь властвовать над всей Элладой! – И он с горечью закончил: – Напрасно… впустую учил я тебя!
Эта горечь пуще негодования Сократа взбесила Алкивиада. Он почувствовал себя оскорбленным и униженным.
– Я афинский стратег и добиваюсь того, что нужно Афинам. Незачем мне покоряться тебе. Я уже не ребенок. А ты? Знаю! Две-три кровавые лужи страшат тебя…
Голос Сократа стал твердым:
– Крови я не страшился. В трех битвах я видел, как текла человеческая кровь. Но теперь видеть этого не желаю! Насилие, убийства? Стыдись!
Алкивиад презрительно засмеялся:
– Ну и покойся на своей скамейке! Ты уже стар!
Тем временем Сократ снова улегся на скамью и теперь ничего не ответил. Из дома выбежал маленький Лампрокл, разбуженный громкими голосами. Подбежал к Алкивиаду, которого любил:
– Посмотри, какой у меня большой орех! Расколи мне его!
Алкивиад поднял ребенка на руки, поцеловал в щечку.
Сократ, не двинувшись, строго окликнул сына:
– Лампрокл! Не прикасайся к нему! Сейчас же домой!
Гордый Алкивиад остолбенел, словно получив пощечину. Потом молча повернулся, вышел со двора и вскочил на коня.
Сократ сорвался с места, бросился к калитке, крича:
– Алкивиад! Постой! Я ведь не…
Только цокот копыт вдалеке.
6
Были б Афины гигантским кристаллом, играли бы всеми цветами радуги. Что ни человек – то особое мнение о сицилийском походе, а если и не совсем особое, то все же в чем-то отличное от прочих.
Экклесия избрала трех полководцев: Алкивиада, Никия и Ламаха. Уже сам этот выбор был не по душе Алкивиаду, получившему полномочия верховного военачальника. Ламах, правда, защищал Алкивиадов план экспедиции и помог при голосовании Алкивиаду против Никия – и был Ламах хорошим, мужественным воином; но пламенному Алкивиаду он казался недостаточно быстрым и решительным.
И почему включили Никия? Зачем навязали его Алкивиаду? В помощь – или для помехи? Никий не хотел этой войны – так может ли он вести ее с одушевлением? Любому гоплиту известно, что без одушевления сражаться нельзя, а экклесия этого не знает?
Неужели же Никий, этот проповедник мира любой ценой, хоть пальцем шевельнет во имя победы как раз Алкивиада, своего самого грозного соперника? Какие цели преследуют те, кто подсунул Никия в число полководцев? Какие цели преследует он сам? Уж не хочет ли он сорвать поход? Алкивиад чувствовал: вокруг него сгущается опасность. Поэтому – как можно скорее в путь!
Он лично наблюдал в Пирее за погрузкой продовольствия и людей, считал, пересчитывал, мерил, держал речи к войску, держал речи к народу, не спал, а завтра опять все сначала… Под погрузкой стояли полторы сотни триер. Людской контингент составлял многие тысячи. Аргос и Мантинея заявили об участии в экспедиции. Это ободряло.
Однако предсказания оракула были неблагоприятны для похода. Проницательное око Алкивиада распознало за этим враждебную руку. Сколько же получили жрецы Аполлона и Дельфийская пифия за составление недобрых прорицаний? И от кого?
– Воины! Отвага, твердость, решимость и несгибаемость – вот наш оракул! И очень хороший оракул!
Огромная толпа воинов всех видов оружия рукоплескала Алкивиаду. И он добился у экклесии разрешения отплыть вопреки неблагоприятным предсказаниям.
Последние приготовления, прощание! Но в ту же ночь на перекрестках афинских улиц и у домов были осквернены и сбиты гермы – столбы с головой бога Гермеса. Кто виновник такого кощунства? – с самого утра спрашивали себя афиняне.
Коринфяне – чтоб помешать походу на дружественные им Сиракузы?
Противники демократов?
Неизвестные пьяницы?
Нет, нет! Это – Алкивиад!
Никто не мог сказать, откуда взялся этот слух. Словно выполз из всех щелей. Из какой-нибудь норы олигархов? Но из которой? Все гетерии клялись Зевсом Громовержцем свергнуть демократию. Чьи уста первыми выговорили, что сбитые гермы – дело рук Алкивиада?
Зачем это ему? – недоумевали люди.
Словно из всех щелей выползал один ответ: разнузданность Алкивиада выше его заботы о родине! Он неисправимый гуляка. Такую пакость учинил перед самым отплытием! Но где свидетели? – спрашивали люди.
Как и каждый день, Сократ приветствовал солнце.
– Привет тебе, золотой друг! Добро пожаловать. Вставай, выходи из зари, добрый брат! Залей нас своим животворным сиянием! Ты наш очаг, наша печь и наш факел…
Он не докончил приветственной речи. За оградой послышались взволнованные голоса – люди кричали друг другу о том, что случилось ночью с гермами, бранились, проклинали святотатца… В ту же минуту во двор вошли Симон с Критоном и рассказали Сократу, что в этом кощунстве обвиняют Алкивиада и его сторонников.
Сократ, коренастый, крепкий, с бородой, еще спутанной после сна, Сократ, босиком стоящий на каменном кубе, в гневе своем был похож на одного из титанов. Он кричал – от злости, от боли, от ужаса – какая несправедливость!
– Да разве возможно то, о чем вы говорите? Верховный военачальник, человек, превыше всего мечтающий умножить славу и могущество родины?! – гремел Сократ. – Человек, перед глазами которого столь великий план, у которого голова лопается от забот о том, чтобы флот вышел в полном порядке, – чтобы этот человек, накануне отплытия, взял дубинку или кувалду и, подобно уличному мальчишке, бегал по всему городу, разбивая гермы, отбивая нос, подбородок, уши у самого популярного бога греков?! Да кто же поверит такой лжи?!
Критон посмотрел на Сократа снизу вверх:
– Но ты сам не желал этого похода и отговаривал Алкивиада.
Сократ спрыгнул с камня, заходил по двору, щелкая свои семечки, но от волнения путал – иногда выплевывал ядрышко, глотая шелуху.
– Да! Я против этого похода. И предостерегал Алкивиада перед дикой авантюрой, которая должна закончиться не в Сицилии, а в Карфагене и в конце концов – в Спарте. Я опасался, что Алкивиад развяжет страшное кровопролитие. Но есть еще и другие – те опасаются, как бы Алкивиад, победив, не установил на Сицилии народовластие вместо теперешней тирании и тем не усилил бы афинскую демократию! Не верьте предсказаниям оракулов, не верьте запугиваниям, мои дорогие! Верьте собственному разуму. Спросите себя – кто и почему заинтересован в том, чтобы сорвать сицилийский поход? Тот – виновник!
Поход оказался под угрозой. Алкивиад должен был предстать перед народным судом – гелиэей.
Тысяча тяжеловооруженных воинов Аргоса и Мантинеи заявили, что согласились идти на Сиракузы исключительно из преданности Алкивиаду и немедленно откажутся от участия, если с ним обойдутся несправедливо.
Алкивиад вне себя от возмущения кричал, требуя немедленного расследования.
Но вот ведь какая штука! Этого-то и не желали архонты!
Однако народ желал знать правду. И… смотрите-ка! Нашлись ловкие ораторы, которые так успокаивали взбудораженных людей: зачем же, мол, откладывать отплытие, а тем более лишать экспедицию столь прославленного полководца!
Разумными, дальновидными казались их слова: «Пускай отплывает, и да сопровождает его удача! Кончится война, тогда и предстанет он перед судом, тогда и ответит».
Но Алкивиад понял нечестную игру; он только не знал, как она разовьется дальше. С тем большей страстностью он возражал: «Ужасно – оставить за спиной обвинение и подозрения; еще более ужасно – отправлять меня во главе таких сил, когда я терзаюсь неизвестностью! Ведь если я не очищусь от такого обвинения – я заслуживаю смерти! Зато если обнаружится моя невиновность – а она обнаружится! – я пойду на врага, не опасаясь ложных доносов!»
Он обращался к глухим ушам, к глазам, затаившим коварство. Ему приказали вместе с двумя другими стратегами, Никием и Ламахом, отплыть без промедления. Алкивиад понял, что сейчас ему не одолеть сил, которые гонят его в неизвестность далекой войны. Но когда он в присутствии высших должностных лиц всходил на свой корабль, у него блеснуло в глазах: ну, погодите! Дайте мне только вернуться!
Узнав, что Алкивиад подчинился приказу, Сократ со всех ног бросился в военную гавань Пирея. Он бежал, бормоча вслух:
– Нельзя ему отплывать неочищенным! Нельзя! Нельзя!
Добежав до мола и протолкавшись сквозь толпу любопытных, он увидел: море ощетинилось кораблями, сотнями весел, сотнями мачт и рей.
Величие силы.
Величие человеческого разума.
Величие красоты.
Грозное величие.
Триера за триерой, переполненные воинами, выплывали в открытое море.
Сократ спросил, где корабль верховного военачальника. Ответ: ушел первым. И стоял Сократ, в отчаянии, но и с восхищением наблюдая движение триер. Мой Алкивиад! Командует такой мощью! И такое страшное обвинение оставляет за спиной!
Еще и теперь, быть может не замечая сам, Сократ твердил – напрасно твердил! – обращаясь к морю, к тому, кого оно несло на своей глади:
– Нельзя отплывать неочищенным! Нельзя! Нельзя…
Кто-то из толпы повернулся к нему, засмеялся:
– Что ты мелешь, старый? Вернется победителем – и не будет никакого суда! Встретят с триумфом…
Сократ не уходил, пока все триеры не подняли якоря, пока не раздулись их паруса, не погрузились в волны длинные весла. Он стоял на берегу, пока все корабли не вышли в море, пока последний не скрылся из глаз.
– Я этого не хотел! Я этого не хотел, но теперь мне осталось одно: всей душой желать ему победы. Прав этот человек: если Алкивиад победит – никто не осмелится возвести на него ложное обвинение…
И Сократ протянул руку к морю:
– Тогда – удачи тебе, возвращайся со славой, мальчик мой!
7
Отплыл неочищенным.
Ждать, когда он вернется победителем?
День за днем сходились для тайных совещаний гетерии олигархов. Что бы такое взвалить на Алкивиада, раз провалилась затея с гермами? Долго не могли найти ничего серьезного, достаточно действенного. И вот однажды Критий задумчиво произнес:
– Элевсинская мистерия?..
Собравшиеся ужаснулись:
– Мистерия?.. Но это означает…
Никто не выговорил вслух это слово: смерть. А Критий стал отнекиваться:
– Да я ничего не утверждаю. Я просто размышлял о разных возможностях. Сохрани бог! Он ведь мой родственник. Поймите же! Забудьте, что слышали…
– В таких делах нельзя считаться с родственными узами, – возразили ему. – Тебе делает честь, что ты не хочешь повредить Алкивиаду, но это единственный шанс. И ты присягал. Хочешь нарушить клятву?
– Нет, нет, – откликнулся Критий. – Я подчиняюсь вашему решению.
Вне себя от радости тут же решили:
– Итак, мистерия. Всякому будет ясно, что такой святотатец принесет экспедиции не победу, а гибель. За работу!
И заработали языки: обещали, уговаривали, грозили. Звякали серебряные драхмы. Нахлынули сикофанты. Нашлись свидетели. Являлись с вымыслами – но и с неоспоримой истиной.
Поначалу военные действия не были успешными. Преждевременный шум насчет покорения Афинами всей Сицилии достиг острова раньше, чем афинское войско. Сицилийские города закрывали перед афинянами ворота, сопротивлялись упорно.
Понадобились мощные удары, чтобы взять города Занкла и Катана.
Архонты выслали за Алкивиадом к Сицилии быстроходный государственный корабль «Саламиния».
Алкивиад стоял в своей палатке над картой, когда к нему вошли посланцы Афин. Он удивленно поднял глаза:
– Кто вы? Что вам нужно? Как вы вошли без доклада? Стражи!
– Не зови стражей, Алкивиад. Они все арестованы, так же как и тебя мы арестуем именем архонта эпонима и афинского народа. Приказ гласит: «Алкивиаду надлежит не мешкая взойти на государственный корабль, вернуться в Афины и предстать перед судом».
Алкивиад словно окаменел. Затем взорвался:
– Вы с ума сошли! Я ведь только начал… У меня все продумано! Такое войско! И чтоб я его покинул? Что тут будет без меня, не скажешь?
Капитан «Саламинии» спросил сурово:
– Ты не слышал приказ архонта и народа?
Алкивиад невольно схватился за свой короткий меч.
– Сдай оружие!
Стиснув зубы, он, колеблясь, протянул капитану меч. И, окруженный посланными, пошел к «Саламинии».
По дороге кучками собирались воины, слышались окрики:
– Что происходит, начальник?
– Куда ты ведешь этих людей, Алкивиад?
Он засмеялся, ответил, стараясь не выдать своей горечи:
– Они меня ведут, не я их! Надо ненадолго прогуляться в Афины. Через несколько дней я обратно к вам! Не падайте духом, ребята!
И он ускорил шаг.
На корабле его поместили в лучшей каюте, предоставив свободу передвижения. Он стоял на палубе: вцепившись в поручни так, что побелели пальцы, следил, как исчезают вдали берега Сицилии.
Корабельный колокол оповестил о том, что наступило время обеда. Алкивиад спустился в свою каюту, где его уже ждал молодой матрос с блюдами.
Алкивиад стал есть. Матрос не уходил. Алкивиад неприязненно взглянул на него:
– Тебе приказано сторожить меня даже за едой?
– Нет, господин. Я хочу говорить с тобой, если позволишь.
– Говори, парень.
– Оба мои брата – гоплиты в твоем войске. Мы все тебя любим.
Алкивиад медленно пережевывал пищу, наблюдая за матросом. Пригожий молодец с обветренным лицом и детски честным взглядом. Алкивиад улыбнулся ему:
– Хорошо. Сядь и продолжай.
Лицо матроса выразило прямо-таки испуг:
– Сесть – мне?.. Нет, нет! Ты просто слушай. – Он понизил голос. – Известно ли тебе, зачем тебя везут в Афины?
– Да. Отвечать по обвинению перед судом.
– А в чем тебя обвиняют – знаешь?
– Конечно. Какие-то негодяи, чтоб сорвать поход, разбили в Афинах гермы и все свалили на меня.
– Ах, хуже! Такое, за что одно наказание: смерть… – прошептал матрос. – Кто-то донес, что ты в своем доме устраивал Элевсинскую мистерию…
Алкивиад вскочил, уронив на пол блюдо, жилы вздулись у него на лбу:
– Но тогда война проиграна! Ее мог выиграть один я!
– Не кричи, господин, как бы не услыхали…
– Дай мне кинжал, мальчик! – приказал Алкивиад.
– Я дам тебе кое-что получше. – Матрос, придвинувшись вплотную, совсем тихо спросил: – Есть у тебя знакомые в Фуриях?
– Еще бы! Их ведь построил мой дядя Перикл и заселил афинянами. Я знаю там многих.
– Это хорошо. Завтра к вечеру мы придем в Фурии. Простоим сутки. Чтобы взять воду и дать отдых гребцам. Я могу доставить тебя, переодетого, на берег…
Есть ли еще в этом смысл? Алкивиад внезапно выпрямился и твердо сказал:
– Хорошо, парень. Приготовь все. Спасибо тебе.
8
В Фуриях нашлись люди, которые приютили племянника Перикла. Их тронула его судьба – они дали ему прибежище и заботливо за ним ухаживали.
А он не выздоравливал. Вчера еще стратег, командовавший огромным великолепным войском, вчера еще полновластный руководитель сицилийского, похода – сегодня потерпевший кораблекрушение, выброшенный на берег с пустыми руками… Беглец. Проситель. Жалчайший под солнцем нищий.
После столь высокого взлета к славе упасть в глубины бед и унижений – удар, слишком тяжелый даже для его выносливости. И все же его ждало еще более страшное испытание, Когда «Саламиния» вернулась в Афины без него, афиняне заочно приговорили его за кощунство и безбожие к смерти через отравление. Имущество, унаследованное им от предков, конфисковали. Вдобавок постановили, чтобы все жрецы и жрицы прокляли его. Не повиновалась этому приказу одна Теано, заявив, что ей, жрице, подобает молиться, а не проклинать.
Когда эта весть долетела до Алкивиада, он рухнул на ложе. Отказывался принимать пищу. Бредил. Устремлял взгляд в прошлое.
Много лет назад, в юности, он замешался однажды в тысячеглавую процессию, совершавшую паломничество по священной дороге из Афин в Элевсин. Алкивиад убедил себя, что Периклов племянник имеет право увидеть новое элевсинское святилище, отстроенное Периклом на месте древних его развалин. Любопытство подстрекнуло юношу посмотреть святилище во время таинственных обрядов.
Во главе процессии следом за статуей бога Диониса шли в длинных белых одеяниях увенчанные миртовыми венками жрецы и посвященные. Одни несли факелы, другие – связки колосьев. Над процессией звучали священные песнопения, и с ликованием раздавалось имя бога плодородия, бога необузданного веселья и вина: Дионис! Иакх! Дионис! Иакх! До Элевсина, до священных владений Деметры, процессия добралась уже в сумерках. Все посвященные – мисты – очистились купаньем в морском заливе и с зажженными факелами в руках закружились в бешеных плясках.
Сотни факелов мелькали на прибрежном лугу, и никто не замечал, что пляшет среди них незваный, непосвященный – Алкивиад.
По сигналу бычьих рогов паломники погасили факелы и через шесть ворот вошли из тьмы ночи во мрак огромного квадратного телестерия.
Проскользнул сюда и Алкивиад. Внутри храма, меж рядов ионических колонн – гробовая тишина. Мрак усиливал напряжение. Будил священный ужас.
Завесы раздернулись – и, озаренная внезапным ярким светом, посередине святилища открылась сцена.
Руководил мистерией верховный жрец, иерофант, в роскошной пурпурной мантии, в царском венце на длинных кудрях. По его знаку началось действо древнего мифа: хор рассказывал, как богиня Деметра ищет свою красавицу дочь Кору. Плутает мать по свету, тщетно вздыхая о дочери, тщетно ее призывая. Горестная Деметра наслала на землю неурожай, сама не принимает пищи и наконец после изнурительных странствий в поисках дочери является в дом Келея в Элевсине. Вот – богиня плодородия, дарующая людям злаки и мирную жизнь, сама для себя не находит покоя.
Она бродит по сцене шатающейся тенью, жалобный плач рвется из ее груди, крик боли, не похожий ни на божественный, ни на человеческий голос; это крик самой осиротевшей земли, вопль, поднимающийся из ее недр, пронзая слух и сердце.
Алкивиад дрожал всем телом.
Хор жалобно рассказывал богам о страданиях Деметры, нашедшей приют в доме Келея, неподалеку от которого, по преданиям, скрыт один из входов в подземное царство.
Гелиос видит все. Он видел, как Аид унес в свое царство Кору, когда она плясала с нимфами; сжалившись над несчастной матерью, Гелиос поведал ей об участи Коры. Деметра в отчаянии. Обессилев от страданий, от голода и усталости, она похожа на призрак, она еле держится на ногах, и единственное проявление жизни в ней – вздохи и плач.
Но Иамба, служанка в Келеевом доме, сумела развеселить Деметру, напомнив о сласти совокупления и оплодотворения всего живого, и смехом своим заново пробудила в богине вкус к жизни.
Открылось подземное царство, где бродят тени умерших, и по велению Зевса, Кора, супруга Аида, дочь Деметры и Зевса, возвращается на землю.
Она восходит из подземного царства в пышной славе, с охапками цветов в руках, под музыку и пение хора. После долгой зимы возвращается на землю весна. Обновляется жизнь. Смерти нет – есть вечность. Облачка ароматных курений поднимаются над сценой. Под внимательными взглядами мистов Зевс в священном соитии обнимает Деметру – оплодотворение женщины на трижды вспаханной земле должно сделать почву плодородной и принести урожай людям. Алкивиад и теперь, вызвав в памяти ту сцену, дрожит от возбуждения. Но он идет дальше в своих воспоминаниях.
…Звуки авлосов и кифар наполняли телестерий, через верхний проем постепенно вливался в храм слабый рассвет. Смерти нет – есть вечность…
Алкивиада не покидало глубокое впечатление от мистерии. Спустя несколько лет оно преобразилось в дерзкое намерение тайно воспроизвести мистерию в собственном доме – Алкивиаду хотелось еще раз испытать то мощное ощущение древней силы земли, ее вечного умирания и вечного воскресения. Он пригласил нескольких друзей – Сократа не позвал, опасаясь, что тот станет его отговаривать, – взял с них клятву молчать, и священный обряд начался.
Сам Алкивиад изображал верховного жреца – иерофанта в царском венце; его приятель – другого жреца, дадуха, факелоносца.
Роскошь Алкивиадова дома, красота «Деметры» и несмешанное вино, которое пили вместо кикеона, напитка мистов, – все это привело к тому, что подражание священному обряду вылилось в его поругание. Пьяный Алкивиад, увлеченный красою «Деметры», сбросил длинную пурпурную мантию иерофанта и, объявив себя самим Зевсом, на глазах у друзей предался любовным утехам с «богиней плодородия», которую представляла одна из афинских красавиц.
Мнимые мисты долго хранили молчание – и вот теперь кто-то его выдал… Алкивиад вскочил с ложа, словно хотел броситься на клятвопреступника, метнулся по комнате – и остановился перед занавесом. Он вдруг понял, почему этот кто-то его выдал, почему заговорил… Не для того, чтоб уничтожить его, Алкивиада: Алкивиада надо было уничтожить, чтоб погубить сицилийскую экспедицию! Донос был нужен, чтоб усилить не демократов, но олигархов!
Кто я теперь? Все еще не хочу поверить, но это так, это так: я изгой! Отнято все, что у меня было. Отняли родину, украли богатство, разлучили со всеми, кого я люблю! Как там моя Гиппарета? Маленькие сыновья? Укрылась ли с ними у своего брата? Или тот запер дверь перед женой и детьми приговоренного к смерти? Алкивиад сжимает в ладонях виски, на которых бурно пульсируют вздутые вены. А моя маленькая Тимандра? Вспоминает ли она еще обо мне?
Не вспоминай! Не хочу! Я изверг! Я проклят! Гнев переполняет кровью мозг Алкивиада. Он уже не владеет собой, разговаривает вслух, кричит:
– Но за что я проклят? За что осужден? Пусть не лгут, что из-за Деметры и Коры! Я проклят потому, что хотел того же, что и Перикл!
Ну, не совсем того же. Периклу не удалось осуществить свой замысел: чтобы по его призыву все эллины прислали в Афины своих представителей и договорились держаться вместе и сообща противостоять всем врагам. Но Перикл хотел достичь такого союза путем добровольных соглашений между греками – Алкивиад задумал навязать это соглашение силой. Однако сегодня он не вспоминал о способе осуществления своей мечты. Он оправдывал себя этой мечтой:
– Я видел счастье всех греков в объединении, в великой, непобедимой Элладе, главой которой стали бы Афины – самой прекрасной главой, какую могла бы себе пожелать Эллада! О я безумец! Глупец! Но я знаю, кому было нужно сорвать мой поход!
Мучительные образы и догадки терзают Алкивиада, в мыслях своих он, осужденный на смерть, прокрадывается в Афины.
Олигархи – вот смертельный враг, это их заговор, скрепленный ненавистью к демократии. Алкивиад с юных лет знал их гетерии, где они собирались советоваться, как бы свалить народовластие. Там, в своих гетериях, они клялись всеми средствами подрывать его, чтобы захватить власть и отменить все, чего добился народ.
Как не знать ему все это! Со многими олигархами, особенно из аристократических родов, он был в кровном родстве. Как стратег, он общался со многими плутократами того времени. Достаточно опыта – в том числе и в диспутах – приобрел он и с софистами, засевшими в гетериях.
Эти поздние софисты были философами, далеко не равными Протагору, Горгию, Пармениду или Гиппию. Новые софисты считали себя выше народа, они сделались политическими авантюристами, переняв от ранних софистов лишь то, что годилось для ослабления народовластия. Эти люди обливали грязью народ, видя в нем только наглость, подлость и глупость. Зато олигархов, этих немногих, противопоставляющих себя всем свободным гражданам, они восхваляли как людей, наиболее способных управлять государством. Сейчас Алкивиад вдруг увидел все гораздо яснее, чем когда жил в Афинах. Его несчастье ярким светом озарило прошлое. И прошлое его ужаснуло.
Смолоду знал он образ мыслей олигархов, знал, что могут натворить гетерии. Не забыл, как они, подобно стервятникам, набросились на почти семидесятилетнего Перикла, когда у того уже иссякли силы, когда с вторжения спартанцев и опустошения Афин началась Пелопоннесская война…
Неудачная война – самое благоприятное условие для осуществления их целей! Этого они сейчас и добиваются. Вот почему теперь на очереди – я. Не допустить победы Афин над Сиракузами! Не допустить победы демократии! Вот причина неблагоприятного предсказания для сицилийского похода! Их руки дотянулись до самой Спарты – почему бы им не дотянуться до Дельф?!
А когда это меня не испугало, когда меня поддержал народ, мои моряки – сразить меня самого! Алкивиад осквернил гермы! Ах, почему только уже у берегов Сицилии рассказал мне Ламах, о чем шептались в Афинах? В деле с гермами был замешан Критий! Почему Ламах опасался, что я затею драку с Критием и поход сорвется? Сначала выбить оружие из рук всех жаждущих власти там, дома, и лишь после этого двинуться в бой! Так надо было сделать! Ведь несомненно – Критий причастен и к доносу о том, что я осквернил Элевсинскую мистерию… Он давно про это разнюхал! Но сидел тихо, ждал подходящей минуты. И, как всегда, теперь тоже выставил вперед других, сам остался сзади, незримый…
Алкивиада трясло от боли, от гнева, от жажды мести. Он заболел от этого. Стонал. Плакал. Кричал:
– Но погодите! Я еще не выпил чашу с ядом, которую вы мне уготовили! Клянусь отомстить всем вам, вздумавшим почтить меня ядом, всем вам, приговорившим меня! Всем, кто согласился с этим, кто этому не помешал! Месть – всем Афинам! Низкий поклон вам за подобную благодарность! Клянусь громами Зевса, я тоже умею быть благодарным! Еще увидите! Безумцы, тупицы! Сократилось и постоянно сокращается число полисов, зависящих от Афин, а я, слышите, я хотел дать вам всю Элладу и еще больше! Ах, опять мечта… Прочь, мечтания!..
В Сицилии без любимого полководца ослабели мужественные сердца моряков и гоплитов. Нерешительное ведение войны Никием лишало их всякого желания биться не на жизнь, а на смерть.
Один! Один! – кричал в отчаянии Алкивиад. Во что вы меня превратили?! В призрак с чашей цикуты в руке? Не желаю быть призраком! Или нет, не так: хочу, хочу быть призраком – но внушающим ужас! Призраком с ядом в сердце… Я выпил эту чашу!
Люди, приютившие его в Фуриях, находили его с расцарапанной до крови грудью, с мутными, налившимися кровью глазами, с губами бледными, чуть ли не белыми. Алкивиад болен, шептали они друг другу, искали врача… Меж тем Алкивиад тайно покинул Фурии, и услыхали о нем тогда лишь, когда его уже принял спартанский царь Агидем: Алкивиад предложил ему свою службу.
Алкивиад, больной жаждой мести, оказался весьма желанным для спартанцев. Кто сумеет лучше нанести удар Афинам, как не тот, кто сам ими ранен! До чего же недальновидны эти афиняне, лишая себя столь блистательного полководца, да еще в тот момент, когда под его командой было такое сильное войско, что Сиракузы могли свалиться ему в руки, словно спелая груша! Взбешенный Алкивиад понравился царю, понравился царице, понравился всем спартанцам.
А сицилийскую экспедицию преследовали неудача за неудачей, пока все не завершилось катастрофой. Никий воевал ни шатко ни валко, просто нехотя. Военные действия затягивались, и каждая затяжка отнимала у афинян частицу надежды на победу. Тут вдруг против осадивших Сиракузы выступила погибельная сила, которой всю жизнь боялся Никий: рабы. В одну ночь рабы-гребцы бежали с афинских триер, превратив великолепный флот в беспомощное, небоеспособное скопление судов. Никий понял, что попал в отчаянное положение. С одним наземным войском Сиракуз не возьмешь.
Но этого мало. Спарта отправила на помощь Сиракузам свое войско. Пройдя форсированным маршем через всю Сицилию от Гимера, оно с тыла напало на афинян.
Сиракузцы воспряли духом, и афиняне, зажатые со всех сторон, тщетно попытавшись пробиться из окружения, сдались на милость и немилость противника.
Никий был взят в плен и казнен. Тех, кто остался жив из семи тысяч афинских воинов, обратили в рабство и погнали в рудники на самые тяжелые работы.
Спартанцы распаляли мстительность Алкивиада, предлагали ему что угодно, лишь бы он погубил Афины. Он привел спартанских воинов к самому слабому месту афинской обороны, к селению Декелея; там они укрепились и оттуда стали наносить удары по Аттике.
Сократ, сгорбившись, сидел напротив Симона; его голос, полный отчаяния, гулко отдавался от стен небольшой мастерской. Симон слушал, не прекращая шить сандалии.
– Симон, ты тоже мой ученик. Ты, несомненно, видишь пропасть между бегством от смерти и бегством ради мести? Да еще – мести родному городу. Всем нам!
– Н-да, – рассудительно ответил Симон. – Камушек катится со склона, увлекая другие камни, в конце концов захватывает с собой огромный валун…
Сократ дергал кусок дратвы, пытаясь разорвать, – дратва только врезалась ему в пальцы.
– Человек, с которым я делил пищу и палатку… Мой самый способный ученик! – горевал Сократ.
Симон помял в пальцах кусок кожи, натянул, придав желаемую форму.
Сократ смотрел на коротко остриженную голову своего преданного и заботливого ученика, который с юности ведет запись его мыслей. Сколь жалок башмачник в сравнении с героическим обликом Алкивиада! Но сколь велик добродетелью и добротой! Сколь прекрасную жизнь ведет он…
Ласково улыбнулся Симону:
– Знаешь, порой я тебе завидую. Сидишь мирно, обуваешь людей, добрая у тебя работа – никаких мучений не доставляет, не то что моя!
– Ошибаешься, дорогой Сократ. В моей работе очень и очень многое зависит от сырья. Случается хорошая кожа, бывает и плохая, а из плохой не сделаешь хорошей обуви. Когда попадается свежая кожа, мягкая и прочная, сандалии из нее во всю жизнь не сносишь. У тебя – так же. Юноши, что приходят к тебе учиться, – это ведь тоже сырой материал, правда? Вот видишь. Из плохого сырья и ты не сделаешь ничего хорошего, а? В том-то и дело: не все зависит от мастера. Важно еще – какой материал, какого качества получаешь для обработки. Так-то.
– Но ты, мой милый, сразу распознаёшь, что кожа плохая, и не станешь шить из нее обувь. А мне что делать? Человек – не сапожная кожа. Тут важно, что у него самого под кожей, а туда не заглянешь!
– В этом ты прав. Такая опасность есть, но все же у тебя гораздо больше хорошего сырья, чем плохого. И питомцами своими ты можешь гордиться.
– Да, – сказал Сократ, но лицо его не прояснилось. – Да. У меня хорошие ученики. Они моя радость. Но всю радость портит один дурной! Ты ведь знаешь, кем был для меня Алкивиад. Во всем – самый одаренный, самый способный… Я верил – он станет мудрее, утихомирится… Любил его… как родного… – Голос его сорвался. Он умолк.
Симон поднял на него глаза. Робко спросил:
– Ты плачешь? Со смерти твоих родителей не видал я, чтобы ты плакал…
Сократ не поднял головы.
– Говорят, я самый мудрый человек в Элладе. Не хочу кощунствовать, но это ложь. У меня, Симон, тоже, как у всякого, бывают глупые мечты…
– Не мучь себя, дорогой! Ведь в этом несчастье… – Симон оглянулся, словно сандалии, наполнявшие мастерскую, могли разнести по городу его слова, и понизил голос: – В озлоблении Алкивиада, в сицилийской катастрофе много виноваты и сами афиняне. Не сосчитать, сколько замешано в этом недругов народа, предателей, и тех, кто играет словами, и всяких прочих негодяев…
Сократ вздохнул:
– Милый Симон, ты всегда скажешь что-нибудь утешительное, но та истина, которую ты высказал сейчас, доставляет мне такую же боль, как и измена Алкивиада…
ИНТЕРМЕДИЯ ТРЕТЬЯ
«Поразительной была приспособляемость Алкивиада; как умел он приноровиться, подладиться к обычаям и образу жизни тех или иных людей, меняя окраску быстрее, чем хамелеон! В Спарте он вел чисто спартанскую жизнь: отпустил длинные волосы и бороду, купался в холодной воде, ел ячменные лепешки и черную похлебку, носил одежду из грубой холстины – трудно было поверить, что когда-то этот человек держал в доме повара, что он когда-либо знавал благовония, притирания и шелковые одежды…»
Сократ молчал, и я продолжал читать:
«В Спарте он занимался телесными упражнениями, жил просто, вид хранил серьезный. В Ионии бывал буен, предавался легкомысленным развлечениям. Во Фракии много пил и отлично скакал на коне, а живя у персидского сатрапа Тиссаферна, пышностью и богатством одеяний затмевал персидскую роскошь…»
Тут я вопросительно глянул на Сократа. Он сидел, устремив взор куда-то далеко, лицо его, обычно такое приятное, светлое и веселое, исказила болезненная гримаса. Не глядя на меня, он проговорил:
– Хочешь знать, как я все это переносил? По видимости – жил как всегда, чинил человеческие души, как чинит сапожник разбитые башмаки. Но сам я был разбит. Мой призыв – стремиться к благу – глухо звучал в грохоте войны. Что такое благо? И где было взять его мне после столь страшного удара? После той боли и горя, которые причинил мне – и себе! – Алкивиад?
Он посмотрел на меня блестящими глазами.
– Клянусь псом, я не знал, что делать! Проклясть Алкивиада или простить? – Сократ наклонился ко мне и, сдерживая бурное дыхание, продолжал: – Все годы, что я еще прожил, я бился над этим вопросом, и до сего дня не знаю, как его разрешить. Алкивиад… Он был добрый – и злой, принес родине вред – и пользу… Был неверным – и верным. Все в нем – сплошное смятение. Скажи «Алкивиад» – обозначишь этим словом только крайности и ни капли чувства меры. Хочешь слышать обо мне? Да разве не о себе говорю я все время? Алкивиад, ученик Сократа, бежал к спартанцам, Алкивиад наносит жестокие удары родине!
Алкивиад был далеко, я близко – ну и расплачивался за него. Даже друзья несколько охладели ко мне. А недруги? Все эти заговорщики из гетерий, непрестанно строившие козни против демократии? То-то подарок для них: прямо-то на меня накинуться они никогда не смели, так теперь – через Алкивиада! Если б каждое слово, брошенное тогда в меня, было камнем или дубинкой – верь мне, я пал бы под ударами!
Но потом опять все перевернулось. Алкивиад начал усердно действовать в пользу Афин. Он помог нашему флоту одержать победу над спартанцами у Ионийских островов и вернулся в Афины, покрытый славой. О боги! Видел бы ты мою медвежью пляску!
А что поднялось, когда по городу разнеслась весть: тотчас после своей речи в экклесии Алкивиад помчался к Сократу и пал на колени, умоляя о примирении!
До этого времени Ликон и Писандр так и шипели: учитель Алкивиада более виноват, чем сам Алкивиад! Сократ его испортил! Совратил с пути надежду Афин! Теперь этот же самый Ликон и всегда трусливый, продажный Писандр – оба притихли. Но в ту пору Алкивиад не был счастлив, как не бывает счастлив ни один осиротевший человек. Жена его Гиппарета несколько лет как скончалась. Мое отношение к нему уже не было таким жарким, как прежде. А никому другому в Афинах он не доверял. С одной Тимандрой было ему хорошо.
Сократ еле заметно улыбнулся – улыбнулся одними глазами.
– Но позже, когда недругам Алкивиада снова удалось замарать его – не стану утверждать, что повода к тому он не подал, – и изгнать из Афин, они опять накинулись на меня, как шершни…
– У меня такое впечатление, Сократ, что ты всегда недооценивал своих противников, – сказал я. – Неужели тебе не приходило в голову, что они могут повредить тебе, и очень жестоко?
– Мне никогда не приходило в голову, чтобы эта овчинка им стоила выделки.
– Есть, как я вижу, недостатки и в твоем величии, – сказал я. – Такая наивность, такая недооценка самого себя! Да ведь для каждого несправедливца, для каждого себялюбца, лжеца, стяжателя ты был величайшей опасностью, сильнейшим врагом!
– Воитель от младых ногтей, – засмеялся Сократ.
– Хорошо сказано… – Я тоже засмеялся, но подумал, что здесь сила духа противостоит силе хитрости, сила правды – могуществу серебряных монет, сила добродетели – силе страсти. И я перестал смеяться.
– Чем сильнее человек, тем больше у него врагов.
– И друзей, дорогой мой, – подхватил Сократ. – Для совершенной гармонии нужно и то и другое. Друзья, точно так же как и недруги, укрепляют дух человека.
Я стал мысленно перебирать друзей Сократа. Верными ему остались Критон, его сосед Симон, Эвклид из Мегары, Антисфен. В круг новых друзей вошли юный Аполлодор и, наконец, Ксенофонт. Сократ, словно читая мои мысли, вдруг проговорил:
– Ты хорошо знаешь моих друзей и недругов, но погоди – были ведь еще всякие мои оскорбители и язвительные ругатели. Аристофан? Конечно. Ты знаешь – читал у Платона, – как Аристофан в своих «Облаках» первый изобразил злом все мое доброе. Странный человек этот Аристофан. Вырос в Кидатенее, в деме аристократов, хотя сам к ним не принадлежал; и кажется мне – о демократах он отзывался куда язвительнее… Насколько остроумен был этот малый, настолько же дерзок, кусался больно и никого не щадил в своей неукротимости. Первейший мастер насмешки… Только глухого не мог рассмешить!
– Но много лет спустя он еще раз задел тебя в «Лягушках».
– Ах, ты об этом? – Сократ улыбнулся. – А мне приятно было, что хоть так он соединил мое имя с именем Эврипида. – Он глубоко вздохнул. – Жаль мне было только, что Эврипида он осмеял так скоро после его кончины…
Я вспомнил – греки верили, что умершие пребывают всегда в каком-то таинственном общении с живыми, и позорить мертвого запрещал в Афинах особый закон; тем лучше понял я горечь Сократа.
А он махнул рукой:
– Но таков уж был Аристофан: поборник старины, он беспощадно нападал на всякое новшество, кто бы его ни предложил. – Сократ строго взглянул на меня. – Не думай, однако, что я – само совершенство. Наверняка я злюсь на Аристофана больше, чем, быть может, вы сегодня. Правда, на представлении «Облаков» я изображал героя, притворялся, будто это меня не задевает, но – клянусь псом! – изрядно тогда бунтовала моя желчь! Подумай сам – я, не щадя сил, дерусь с софистами, ты ведь знаешь: их вечные сомнения, вечный пессимизм и мой оптимизм – все равно что вода и огонь! А он выставляет меня главарем этих крикунов! Ну что я мог об этом подумать? Сделал ли он это для того, чтоб потешить охочую до забав публику, изобразив, как я, босой и лысый, возношусь к облакам, или чтоб ударить меня за то, что я стараюсь воспитать для Афин новых Периклов и Анаксагоров? Нет, нет – надо сказать, были и у него свои достоинства: он, подобно канатоходцу, видел сверху всю нашу афинскую суету и отлично умел ее изображать…
– А как он относился к народу? Сочувствовал ему?
– А я и не знаю, – усмехнулся Сократ. – Иногда да, иногда нет. Он сочувствовал прежде всего своим комедиям…
Тут Сократ начал читать нараспев – не знаю, точно или неточно, – однако я узнал обращение автора «Всадников» к афинскому народу:
– «О народ, прекрасно твое могущество! Все пред тобою склоняется, все дрожит пред тобою в страхе, словно перед тираном. Но ты доступен соблазнам, тебя тешит пустая лесть, и легко тебя обмануть. Разинув рот, в восторге глядишь ты на тех, кто засыпает тебя фразами, и разум твой блуждает где-то далеко…»
Сократ посмотрел на меня:
– Вот и выбирай! Сам рассуди, что он кому дал – нам, тогдашним, и вам, нынешним.
Он помолчал, потом медленно произнес:
– То было очень трудное для меня время, но я еще приду к тебе поговорить о нем.
Я ожидал, что он помрачнеет от таких воспоминаний, а он, напротив, просветлел лицом:
– Представь, дорогой, я был уже довольно стар и понемножку начал удаляться от жизненных бурь, но именно тогда меня снова привлекла к жизни Мирто – желтоволосый, спелый дар Геи, Матери-Земли…
Я видел – он хочет сказать что-то еще, может быть, чтобы помешать мне перебить его воспоминания о Мирто каким-нибудь словом, и потому промолчал, слушая его. Тогда он продолжал:
– Да не ее одну – целую троицу получил я тогда в дар: Мирто, Ксенофонта, глубоко мне преданного, и – Платона. Платон – то была моя новая большая надежда: молодой человек, который ради того, чтобы беседовать и размышлять со мной, как изменить жизнь к лучшему, оставил поэзию и сочинительство трагедий, хотя имел к тому необыкновенные способности…
Я позволил себе вставить:
– Как некогда ты, Сократ, оставил ваяние.
– Да, действительно, точно так же, – кивнул он. – Только Платон и в молодости был серьезнее, чем я. И представь – он был потомок древнего рода, родственного Алкмеонидам, он даже приходился племянником Критию! До чего же несхожи меж собой эти побеги старинных родов: Перикл! Алкивиад! Критий! Платон! Даже мой демоний не в состоянии был справиться с этим и не предостерег меня…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Фракийский Херсонес, край медведей, волков, диких лошадей, воинственных мужчин, прекрасных дев. И – странно: по преданию, именно там – родина дифирамбов в честь Диониса, родина лиры Орфея. Край первозданных лесов и первозданной музыки.
Фракийский Херсонес – полуостров, похожий на меч, отсекший Самофракийское море от узкого Геллеспонта. Над длинным и диким отрогом материка, разделившим морские воды, свищут бешеные ветры, гоня по темному небу клочья туч. Среди ветром растрепанных клочьев мечутся хищные птицы. Отвесные береговые скалы – наполовину в воде, наполовину в ветрах, и вихри завывают над ними. Дремучий лес спустился с гор к югу, покрыл землю непролазной чащей, которая сам хаос. Только фракиец найдет здесь дорогу.
Ночь – черный краб, растопырившийся по поднебесью. Медленно проползает он, выпуская полночную тьму, что затопила весь край.
Один огонек мигает во тьме – кованый светильник в крепости Алкивиада на Фракийском Херсонесе, неподалеку от Козьих речек – Эгос-Потамов.
Здесь устроил Алкивиад уголок для Тимандры – не с восточной роскошью, а по-фракийски. Зрелище, дразнящее воображение: изнеженная, утонченная женщина в варварской обстановке. Дерево, дерево, дерево, железо, кожа, лыко и груда медвежьих, лисьих, рысьих шкур. На ложе, на скамьях, на полу и на бревенчатых стенах, вперемежку с мечами, кинжалами, луками. Вместо аравийских и индийских благовоний – запахи мускуса, юфти, запахи истлевших трав. В очаге гудит пламя, лошади ржут в стойлах, лают собаки, воют волки…
Нежная, как горный цветок, чуткая, как Эолова арфа, Тимандра посреди этой дикости; ее расшитый льняной пеплос стянут на талии широким кожаным, окованным медью поясом. Она полулежит на шкурах и с опаской провожает взглядом беспокойные шаги и жесты Алкивиада.
– Не понимаю тебя, дорогой…
Он снял со стены короткий фракийский меч, перевернул лисью шкуру мехом вниз и острием меча начертил на ней карту.
– Вот это берега Геллеспонта. Тут, наверху, – Лампсак, и там стоит со своим флотом Лисандр. Он хорошо укрыт. А здесь, ниже, в Геллеспонт впадают Эгос-Потамы. И около их устья стоит на якорях афинский флот. Болваны не понимают…
– Кто не понимает, дорогой?
– Эти тупицы, афинские военачальники: Тидей, Менандр, Адимант и другие идиоты, как их там… Они не понимают, что может случиться!
– Не сердись, милый, но я опять не возьму в толк – в чем же тут опасность?
Алкивиад ткнул мечом в устье Эгос-Потамов, да так сильно, что острие пробило шкуру и воткнулось в дерево. Алкивиад вскочил:
– Надо съездить к ним…
Поспешно поднялась и Тимандра. И – с ужасом:
– Сейчас? Ночью? В темноте? Шею сломаешь! Не езди, прошу, прошу тебя, не езди…
– Мой конь знает здесь каждый камень…
Метнулся к ней, поцеловал в губы – и хлопнула за ним тяжелая дубовая дверь, а голос его донесся уже со двора:
– Ребята! Седлайте моего коня! Живо!
Набросив на плечи шерстяной плащ, Тимандра выбежала во двор. И только различила: люди едва успели растворить ворота, как мелькнул в них и пропал во тьме одинокий всадник.
Пригнувшись к гриве, Алкивиад стегнул коня – тот полетел стрелой, и цокот копыт по каменистой почве сопровождал его, словно бубен, аккомпанирующий страстной песне варваров.
На флагманском корабле афинян все спало. Часовой по просьбе Алкивиада разбудил трех главных начальников. Они поднялись на палубу, сонные, позевывая.
– Кто там?
– Алкивиад!
– Что надо?
– Говорить с вами. Пришлите за мной лодку.
– О господи! – зевнул Менандр. – И ради этого ты нас разбудил? Не мог подождать до утра?
– Не мог. Дело спешное.
– Что за дело? – осведомился Адимант.
Алкивиад тихо скрипнул зубами и сломал хлыст.
– Речь не обо мне. Речь – о вас. Скорей давайте лодку.
Главный из троих, Тидей, возразил:
– Зачем лодку? Мы и так хорошо тебя слышим. Поделись же с нами своей мудростью с того места, где стоишь.
Сердце Алкивиада подскочило к горлу, но одновременно блеснула мысль, что лучше ему быть подальше от этих людей – хоть насилия над ним не совершат. Он бурно заговорил:
– Вы плохо выбрали стоянку! Крайне невыгодно! Пристани нет. Нет у вас тыла, который кормил бы команду! За продовольствием посылаете в самый Сест!
– Есть о чем заботиться! – насмешливо вскричал Адимант.
– Не перебивай его, – иронически бросил Тидей. – Великий Алкивиад еще не кончил.
Алкивиад метал слова, как охотничьи ножи:
– А ваши маневры! С утра тащите весь флот к Лампсаку, выманиваете Лисандра на битву и воображаете, что он попадется на удочку! Он и не думает трогаться, тогда вы возвращаетесь в это гибельное, невозможное место, позволяете команде сойти на берег и шататься, где вздумается! Это безумие!
Тидей расхохотался, за ним – его сотоварищи.
– Да разве вы не понимаете, что вам противостоит флот, привыкший действовать без шума, подчиняясь приказу единого начальника? Сами суете голову в петлю, Афины заплатят за это ужасной ценой!
– Афины? – издевательским тоном вскричал Тидей. – Что тебе до Афин, что им до тебя? Разве тебя назначили командовать флотом?!
– Заклинаю всеми богами! – яростно кричал Алкивиад. – Послушайте же меня! Не подвергайте флот такой опасности! – Он еще повысил голос. – Флот не ваша собственность, он принадлежит родине, Афинам…
– Которым ты изменил! – рявкнул Тидей.
– Но я же им и помог! – вне себя крикнул Алкивиад. – А вот вы, если не послушаете меня, – вы их погубите!
Тидей выпрямился:
– Здесь распоряжаемся мы, а не ты. Проваливай восвояси со своими запугиваниями!
И повернулся спиной.
До изнеможения выкрикивал Алкивиад брань, угрозы, просьбы – напрасно. С корабля ему не отвечали более. С проклятием вздыбил Алкивиад коня и поскакал обратно.
Он задыхался от злости, от отчаяния, от слез, рассказывая Тимандре, как все было. Не пригласили на корабль, заставили орать с берега, отвечали ухмылками, оскорблениями – Алкивиад чувствовал себя щепкой, выброшенной на берег, ненужным, недостойным доверия…
Рассказав, как Тидей бросил ему в лицо упрек в измене родине, Алкивиад начал сумбурную исповедь:
– Афиняне отняли у меня мечту всей моей жизни… Что такое – моя мечта? Я смертен, не вечно буду жить, зато Афины стали бы навечно главою Эллады! У меня отняли заслугу – вознести Афины на вершину мира… Сами себя этого лишили! Пускай лучше все гибнет, только б не досталась мне капелька чести и славы! Лучше косность предков, чем народовластие, которое на своих кораблях вез через море я!
Тимандра сидела на пушистых рысьих шкурах, слушала с сильно бьющимся сердцем.
– Знаю, я поступил позорно. Но разве потом я не искупил мой позор? Любому известно – я спас для Афин все, что еще можно было спасти, и я вернул бы им все, что они потеряли по моей вине – и по вине других…
Тимандра легонько коснулась края Алкивиадова плаща – плащ этот так и развевался вокруг нее: Алкивиад взволнованно метался из угла в угол.
– Да, милый, я это знаю. Никто другой не сумел бы – только ты!
Алкивиад остановился, заговорил с еще большим жаром:
– И афиняне это знали! Призвали меня обратно. Но я не побежал по первому зову. А как меня тянуло домой, Афины навсегда вросли мне в сердце и в мозг – и тебя мне хотелось обнять, Тимандра!
– Я грустила, что ты все не возвращаешься…
– Прежде я должен был с избытком загладить зло, причиненное мной. – Тут он снова вспомнил о том, что довелось ему выслушать сегодня, и голос его начал окрашиваться страстью и злостью. – Кто еще осмеливается сегодня говорить о моей измене? Кто? Только недруги Афин? Только дурак Тидей! Берегись, Тидей, как бы сам ты не нанес Афинам худшего зла, чем я!
Тимандра с тревогой наблюдала, как вздуваются вены у него на висках, как кровь приливает к лицу. Чувствовала – хоть и близко он, тут – но как далек от нее… Они могли быть так счастливы вместе – но он сердцем всегда остается в Афинах и будет мучить себя ими, пока жив.
– Иди сюда, милый, сядь рядом. Мне так одиноко…
Он сел к ней, но не утих. Горе свое, боль свежих ран, нанесенных ему тремя начальниками огромного афинского флота, изливал на подругу:
– Ответь хоть ты мне, Тимандра! Разве не смыл я свой давний грех? И не лучшим ли способом, как мне и подобало? Я не удовольствовался одним поражением спартанцев, от острова к острову гнал я этих грабителей, разметывал, жег их корабли, они пылали на морской глади, словно поленницы дров, и на них заживо жарились кровожадные лакедемоняне… Или это пустяк, что я очистил от них Ионийское море и можно было снова без помех доставлять в Афины зерно с берегов Понта?
– Ах да! – вздохнула Тимандра. – Ты сделал для Афин больше добра, чем зла.
– Я еще не вернулся домой, достаточно было одной лишь вести о непобедимом Алкивиаде, как Афины уже свергли олигархию Ферамена и восстановили народовластие. Одним этим не искупил ли я, Тимандра, то зло, которое причинил Афинам? Ты говоришь – да, искупил. Но почему же другие отрицают это? Что еще хотят от меня? Что? Скажи мне! – Голос его дрожал, горло перехватывала судорога. – Да я дал бы им то, о чем они и мечтать не смели! А теперь – не могу ничего, ничего, только смотреть, как надвигается гибель… – И из самой глубины своего отчаяния Алкивиад вскричал: – Ах мой Сократ! Мой отец! Прозорливый отец, зачем я не послушал тебя? Мир греков мог выглядеть иначе…
Он умолк, обессилев.
Тимандра нежно гладила его. Ее пальцы стали влажными от его пота. Она чувствовала, как сотрясается грудь Алкивиада под тяжкими ударами сердца. Он поднялся.
– Я должен опять ехать… Должен! Они ведь от страха, что вместо них победителем окажусь я, способны погубить Афины!
Он метнулся к стене, погрозил кулаком.
– Идиоты! Какие вы полководцы! Пустите меня на корабль! – кричал он в бессильном гневе. – Я вырвусь из этой ловушки! Схвачусь с Лисандром в открытом море! Заставлю его помериться силами со мной! Слышите вы, трое тупиц?! Я добуду победу! Спасу Афины! Я спасу даже ваши бараньи головы!..
– Светает… – промолвила Тимандра.
Алкивиад – ему чудилось, что стоит он на берегу возле устья Эгос-Потамов, – оглянулся на Тимандру, бледную в рассветных сумерках. Бросился наземь рядом с нею и, зарывшись лицом в рысий мех, застонал.
Следующий день принес ужасающее доказательство правоты Алкивиада.
Лисандр, командовавший спартанским флотом, внезапно всеми своими судами бросился на афинские корабли, запертые в узком заливе, как в западне. Лишь восьми триерам удалось прорваться. Остальные – почти две сотни – достались врагу. Около трех тысяч афинских воинов попали в плен, и всех их Лисандр приказал умертвить.
Узнав, что его предсказание сбылось, причем еще ужаснее, чем он предполагал, Алкивиад снова воспрянул духом. В нем заговорил афинский стратег, которым он не переставал быть в душе. Пока я жив – Афины не погибнут!
Не хотелось Тимандре покидать фракийское поместье Алкивиада, где им была обеспечена спокойная жизнь. Но Алкивиад, не слушая ее просьб, вывез ее из уютного гнезда и пустился с нею в путь – в Вифинию. Лишения, опасности в дороге? Не знаю, что это такое. Я должен во что бы то ни стало ехать к персидскому царю Артаксерксу, должен добиться от него помощи Афинам!
Но прежде нужно привлечь на свою сторону сатрапа Фарнабаза. Ладно!
– Мы поселимся в небольшой деревушке поблизости от резиденции Фарнабаза – в Даскилее, что во Фригии. Охотно ли ты едешь со мною, Тимандра?
– Да, милый. – Но глаза ее были печальны.
2
Разгромом афинского флота у Эгос-Потамов война не кончилась. Им началась катастрофа Афин.
Лисандр со своим победоносным флотом направился к Афинам, покоряя по пути остров за островом Афинского морского союза, всюду свергая демократический строй и сажая на место демократических правительств олигархов, сочувствующих Спарте; и всюду он оставлял свои гарнизоны.
Тем временем спартанский царь Павсаний привел своих гоплитов к Афинам по суше. Когда на кровавом своем пути по морю флот Лисандра подошел к Пирею, Афины, эта крепчайшая твердыня демократии, оказались окруженными со всех сторон.
Олигархи советовали сдаться, демократы не желали сдаваться и до последней минуты защищали город. Но тут начал действовать самый коварный фактор: голод.
Голод стал на сторону олигархов и сильно укрепил их в споре с демократами. Вести со Спартой переговоры о мире поручили Ферамену, известному стороннику олигархов и противнику демократов.
Для афинской республики условия мира были гибельными. Она обязывалась выдать победителям все свои военные корабли, снести до основания все свои укрепления, разрушить Длинные стены и признать суверенитет Спарты над всей Элладой.
А когда Афины стали совсем бессильными, дело погибели довершили под дозором спартанцев афинские олигархи. В народном собрании – где заседал и Лисандр, начальник спартанского гарнизона в Афинах, – Ферамен предложил отменить демократическую конституцию. Перед голосованием Лисандр, подыгрывая Ферамену, заявил: отклонение этого предложения спартанцы сочтут нарушением мирного договора.
После этого оставался уже только один шаг к тому, чтобы в Афинах, включенных в Пелопоннесский союз, власть перешла в руки Тридцати тиранов. И, как ни странно, во главе этих Тридцати оказался не испытанный могильщик демократии Ферамен, а тот, кто умел долгие годы оставаться в тени, – поэт, софист и ревностный олигарх Критий.
Критий полагал, что вынырнул из олигархической норы в самый удачный момент. Но едва он обогрелся в лучах своего нового положения, как почувствовал прилив давней горечи. Ей он, однако, противопоставил насмешку: что-то скажет теперь мой строгий учитель, когда я, беглый ученик, забрался повыше его любимчика Алкивиада?
Порой судьба сама сводит за человека старые счеты. Сегодня я хожу в пурпурной мантии тирана, а Алкивиад, изгнанный из Афин, валяется на волчьей шкуре с гетерой – где-то там, в диком краю варваров.
Критий собирался на совет. Прежде чем выйти из дому, оглядел себя в полированном серебре. Вид нехорош. Усмехнулся себе самому: как у всякого, кто ни в чем не знает меры. Познал я радости жизни – и еще познаю.
Его снова потянуло к Сократу. Но он хвалил себя за то, что в свое время ушел от учителя. После этого много лет общался со сливками афинского общества, главным образом с богатыми сынками в олигархических гетериях. Долгие годы тайно подстрекал их против народовластия, сплачивал их, готовил к решающей схватке. Много времени прошло, пока дождался этого. Постарел, но еще не стар.
Раб застегивал на его ногах пряжки золоченых сандалий.
Мысли Крития текли дальше. Он был хорошим учеником софистов; их эристика вошла ему в кровь, их способность разлагать любую ценность, их поклонение индивидуализму нравились ему до того, что и сам он стал усерднейшим из софистов.
До сих пор он и действовал хорошо. Спартанские и афинские олигархи оценили его по заслугам…
Критий резко оборвал ход мыслей. Пора было показаться среди тех, кто его ждет.
Во исполнение условий мирного договора афиняне сносят укрепления города.
Работники переругиваются. Спорят – не спорят…
– Ну и чудовище! Ну и выродок этот Критий!
– За что ты его?
– А это тебе ничего, что он спелся с врагами против собственного народа?
– Может, тут хитрость такая: вроде бы спелся, а сам потом будет защищать своих.
– Что-то непохоже, сказал бы я…
– Понятно: он ведь софист. А те больше языком воюют, чем мечом.
– Это-то так. Только, милок, кто они, его «свои»? Кого он защищать-то будет? Нас – вряд ли!
Не отвечая, второй работник размахнулся ударить по стене. Первый вздохнул:
– Прямо сердцу больно – рушить родной город! – Но тоже поднял тяжелую кувалду.
– Да ты, болезный, не город рушишь – стены.
– Это одно и то же. Развали стены храма – и алтарь не уцелеет.
– Ладно, отстань! – сердится второй работник: его тоже мало радует, что город раздевают. Без панциря стен он будет отдан на произвол всякому, кто только захочет вредить Афинам. – Мне больше хочется знать, чем мы, неимущие, жить-то теперь будем! – яростно продолжает он. – Пособия отменили, и за общественные работы теперь ломаного гроша не получишь. Три обола в день было мало, а ни одного обола – уж просто ложись да помирай!
– Прямо будто хороним кого…
Трррах! Рухнул кусок стены, подняв облако пыли. И снова, немного дальше – трррах! – словно кто-то разбил огромную амфору из обожженной глины…
– Еще посмотрим, кто кого хоронить будет, – не падает духом второй работник.
Олигархи прямо расцветают. Хлынули на всевозможные должности, спеша захватить местечки повыше. Толкаясь, рвутся вперед, ликуют: настал мой час! К веслу! К кормилу! К кормушке! Им выгодно несчастье Афин. Натасканные в софистике, они утвердились во мнении, что всегда прав тот, кто сильнее; они умеют представить унизительное порабощение Афин – добром. Голодным согражданам эти лжеспасители обещают благоденствие, но прежде обеспечивают благополучие себе самим – что же тут такого, мы ведь тоже афиняне! – а там будет видно. Давно исповедуют они собственное вероучение, сведя всю плеяду богов к трем идолам: деньги, влияние, власть.
Принимай эту веру кто может! Почитай, как мы, того бога, имя которому Плутос, бог богатства! Ибо разве не ласкает твой слух древняя присказка: «О Плутос, прекраснейший из богов! Даже низкий становится благородным, когда ты к нему благосклонен!»
Стражи ведут богача – он арестован скорее за то, что был богат, чем за приверженность к демократам. Богач молит отпустить его, обещает серебряные драхмы… Пинком ноги его заставляют умолкнуть. Стражи знают, что Анофелес, донесший на богача, издали следует за своей жертвой – точно ли предадут ее в руки тиранов, а вернее, в объятия смерти? Да и обещание заплатить – пустые слова. О деньгах богача уже позаботились другие: денежки под строгим надзором отправились куда надо, допустим в государственную казну, которой распоряжаются Тридцать тиранов.
Сократ стоит неподвижно, глядя на это бесчинство.
Люди узнают его, молча проходят мимо, чтоб не нарушать его мыслей. Даже Платон не осмеливается подойти. Закутавшись в плащ, бродит поодаль.
Спускается ночь на искалеченный город. Сократ все стоит.
Может ли он думать о сне? Может ли заснуть? Вместе с Афинами переживает он самые тяжкие их часы. С городом своим Сократ как с больным, которому хуже всего по ночам, ибо ночами охватывает его смертельная истома.
Отчаянный женский вопль в ночи. Что это – молитва? Кощунство?
– Дева Афина! Афина Защитница! Ужас! Будь ты проклята! Что же ты палладием своим не защитила свой город?!
Голос ломается.
– Смилуйся, смилуйся же хоть над нами, людьми! Не допусти, чтоб убили и моих сыновей! Мужа уже увели, теперь и их уводят… Помоги! Защити! Спаси!..
Быстрые тяжелые шаги по улице. Двое идут? Трое? Страшный крик женщины вспорол ночь. Не слышно больше мольбы. Смятенье в ночи. И непрестанно – шаги по мостовой: ноги босые, ноги в сандалиях… Невнятный говор прерывается вскриками – боли, злобы… Кто-то залился хохотом. Сумасшедший? Пьяный? Или – счастливчик, добравшийся до золота казненного?..
Кто там плачет? Ребенок? Кто вздыхает? Лавры, кипарисы, олеандры, утратившие свой аромат? Ветер доносит с моря едкий дым. Дым проникает в легкие, душит. Уже не качает море гордые афинские триеры. Остались от них одни тлеющие обломки, трутся друг о друга на волнах, не хотят ни догореть, ни утонуть. Неохотно исполняют повеление спартанцев уничтожить афинский флот.
Всеми чувствами впитывает в себя Сократ картины, скудно освещенные ущербным месяцем да кое-где чадящим факелом; мимы этого спектакля – без масок. Сколько дней уже втягиваются в город беженцы из тех мест, по которым прошли орды Павсания, оставляя за собой пустыню. Теперь беженцы ищут средства к жизни в городе – как прежде те, у которых когда-то царь Архидам, а позднее спартанцы, совершавшие вылазки из Декелеи, уводили скот, жгли дома, вырубали оливовые рощи.
К безземельным, которых в Афинах и так уже полным-полно, к увечным воинам, ко всей бедноте, прозябающей в голоде и холоде, прибавляется новая голытьба, новые толпы несчастных, не знающих, где приклонить голову. Афины вспухают, они подобны брюхатой самке – каков же плод этого нежеланного оплодотворения? Человек, утративший все человеческое…
Пришельцы шастают по домам и садам, брошенным демократами, подбирают с земли то, что кто-то бросил им или обронил впопыхах, выдают себя за лекарей, за прорицателей, набиваются в дома городских родственников…
Чувства афинян противоестественно выворачиваются наизнанку. Этих паразитов, явившихся объедать и без того голодных, они боятся пуще самих спартанцев, которые не делят с ними беду, питаясь в других местах, иначе и лучше.
Ночи не утихают. Не утихает и нынешняя. Она оживает. Руки, еще недавно честно возделывавшие землю, руки новых воришек сталкиваются у добычи с руками старых грабителей.
Но мимы этих ночей – в то же время зрители больших трагедий, чем те, какие они разыгрывают сами.
С надвигающейся ночью Платон все ближе подходит к учителю. Вот окликнул его:
– Сократ!
– Слышу тебя, Платон.
– Можно к тебе?
– Для тебя – всегда, мальчик. Но почему ты пришел ночью?
– Я здесь с вечера, только не решался – ты был погружен в размышления…
– Что ты хочешь?
– Мне страшно, Сократ. Ужас объял меня. Я искал опоры, поддержки и увидел – дать их мне можешь ты один. Но я видел еще – ты тоже удручен, и боялся, что не найду ободрения и у тебя… – И вдруг: – Мне страшно за тебя!
Сократ улыбнулся:
– Это ты о Критии?
– Ты не знаешь, как он жесток. В детстве он забавлялся тем, что привязывал животным к хвосту паклю и поджигал… Радовался, когда они метались, вопили от боли. И я у него на примете: он зазывал меня в свою гетерию, хотел, чтобы я сделал политическую карьеру, а я, как он говорит, изменил ему и пошел к тебе…
– Другими словами, я переманил тебя от него, так?
– Он и этого тебе не забудет.
– Он еще многое не забудет мне, мальчик. Но ты сказал – тебе нужно ободрение. Ты сам тверд, к тому же у тебя есть я. А как же Афины? Видишь ты эти разрушения? Вид страшный, правда? Но еще ужаснее – разрушения в человеческих душах.
Сократ обнял Платона за плечи и медленно двинулся с ним к дому, ибо начало светать. Тихо проговорил:
– Как только мы потеряли народовластие – воцарился ужас.
– Ужас, ужас… – кивнул Платон, но его прервал смех Сократа. – Чему ты смеешься? – спросил, пораженный.
Сократ не перестал смеяться.
– Слушал ты сегодня царя Павсания?
– Слушал.
– Он сказал – Афины навеки покорны Спарте! Да клянусь всеми псами, милый Платон, разве Эгос-Потамы и то, что творится теперь, означают, что Афины навек утратили величие духа? Афины еще долгие века будут державой духа, а эта солдафонская, бездуховная Спарта оставит по себе разве что дурное воспоминание. Нет причин, мальчик, впадать в отчаяние. Теперь многое зависит от нас. Мы обязаны восстановить в человеке то, что в нем рухнуло!
Платон обнял Сократа.
– Да, да! Как я рад, что могу быть с тобой… Ах, если б я мог быть таким же твердым и ясным, как ты, учитель!
– Учитель, сказал ты? Так слушай же мое поучение. Знаешь, чем отличается мудрый от немудрого? Добрыми надеждами!
3
На ступенях против Парфенона сидел Сократ со своими друзьями. Он обедал. Козий сыр, ячменную лепешку, несколько оливок запивал вином из бурдюка.
В этот предполуденный час на Акрополе было почти безлюдно. Но вдруг те немногие, что бродили здесь, побежали к Пропилеям, из которых вышла группка людей, поднимаясь на Акрополь.
Впереди, направляясь к Парфенону, шагал Критий в пурпурной мантии, за ним несколько человек из совета Тридцати и – две шеренги стражей Критий видел Сократа с учениками, но притворился, будто не заметил их. Они поступили точно так же. Критий и сопровождавшие его вошли в храм, чтобы совершить жертвоприношение.
– Пошел принести жертву Афине, а сам твердит – религия изобретена для того, чтобы приручать глупую толпу и властвовать над ней, – заметил Ксенофонт.
Сократ засмеялся:
– Не говорю ли я всегда, что в каждом человеке есть нечто хорошее?
– Разве это хорошо, когда неверующий приносит жертвы богам? – возразил Ксенофонт.
– То, что он приносит жертвы, нет, – ответил Сократ. – Хорошо то, что он неверующий.
Все засмеялись, а Платон оглянулся – не слышит ли их кто.
– И тем не менее Критий – самый несчастный человек во всех Афинах, – добавил Сократ.
– Критий?! – изумился Анит-младший. – Как же так? У него есть все, что может пожелать смертный. Огромное богатство, верховная власть, к тому же он образованный софист и блестящий оратор…
– И даже талантлив, – похвалил Крития Эвклид. – Пишет элегии и трагедии. Чего ему не хватает, скажи, Сократ?
– Софросине – умеренности, – ответил тот. – К тому же вы говорили пока только о его достоинствах.
– Правда, – заговорил Антисфен. – Ограничение числа афинских граждан тремя тысячами самых состоятельных – это ведь подлость. Теперь из всех нас граждане Афин – только Критон, Платон и Ксенофонт.
– Критий считает террор средством управления, без которого не обходится ни одна власть, – с возмущением сказал Платон. – И хотя правит он всего несколько недель, мы уже видим результаты: бесконечные убийства, конфискация имущества, сумасшедшие налоги, реквизиции…
– Они выходят из храма, – предупредил Ксенофонт. – И Критий смотрит сюда. Сократ, может быть, тебе уйти?
– С чего бы? Я обедаю.
– А я ухожу, – сказал Ксенофонт. – Не хочу с ним встречаться.
С Ксенофонтом ушли все. Сократ остался один.
Критий снял пурпурную мантию, бросил ее на руки одному из стражей:
– Ступайте все вперед. Я вас догоню.
Он подошел к Сократу, который спокойно продолжал есть.
– Хайре, Сократ.
– Будь счастлив, Критий.
– Позволишь посидеть с тобой?
– Не только позволю, – улыбнулся Сократ, – но предложу тебе сыру с лепешкой. Я как раз обедаю.
Критий сел на ступеньку.
– Скудный обед. Но благодарю – не буду.
– Напрасно. Разве не помнишь, какие лепешки печет Ксантиппа? Сказка!
– Сидишь тут словно нищий. Я был бы для тебя лучшим благодетелем, чем Критон. Если бы ты, конечно, захотел. Я не забыл, что ты мой учитель.
– Бывший, – мягко поправил его Сократ. – Я тоже не забыл те времена. Но ты ошибаешься, видя во мне бедняка. Если кого из нас двоих можно так назвать, то не меня.
Критий обиженно поерзал.
– Почему же это я бедняк? – сердито спросил он.
– Клянусь псом! Это ведь так просто: я тут сижу себе над городом в холодке, дышу свежим морским ветерком, ем с удовольствием лепешку с сыром и чесноком, запиваю винцом из Гуди. Тебя, знаю, ждет пир. Угри, фаршированные дрозды, паштет из гусиной печенки с фисташками, медовое печенье, хиосское вино. Отлично. Великолепно. Да только со всеми этими вкусными вещами ты вкушаешь еще очень несладкую сладость…
– Какую же? – нетерпеливо воскликнул Критий.
– Страх, – сказал Сократ.
Критий засмеялся режущим смехом, каким смеялся всегда, когда чувствовал себя задетым.
– Ты в своем уме? Чего мне бояться?
– Загляни дома в зеркало – какой ты озабоченный, желтый, весь извелся. Не удивительно. Ни одного куска не можешь ты проглотить с удовольствием, ни одного глотка вина, охлажденного льдом. Знаю. Ты завел рабов, которые должны отведывать пищу, приготовленную для тебя. А что, если яд-то подействует через несколько часов?
– Перестань! – вырвалось у Крития.
– Нет, правда, есть такие яды, я не выдумываю. И не только это. У тебя куча льстецов, вокруг тебя кипит дружеская беседа, но можешь ли ты знать, что у кого-нибудь из твоих друзей… гм, странное слово… скажем лучше – из твоих сотрапезников, не спрятан под хитоном кинжал для тебя?
– С этим должен считаться всякий…
– Не всякий, – перебил его Сократ. – Я, например, – нет, потому что мои друзья не могут ждать от меня зла, я от них тоже. А ты даже спать спокойно не можешь. Бедняк.
Критий вскочил.
– Довольно! Ты неисправим. Когда-то ты из-за Эвтидема назвал меня свиньей, а сегодня такая дерзость… Постой! Вспомнил – я ведь хотел тебя спросить. Про Саламин. Помнишь, где это?
– Конечно. Я ездил туда к Эврипиду.
– Знаешь там некоего Леонта?
Сократ поднял глаза на Крития:
– Богача?
– Владельца поместья, – поправил его Критий.
– Что тебе от него надо?
– Чтоб он приехал потолковать со мной.
Сократ задумчиво смахнул с хитона крошки. Потом сказал:
– Да, ты любишь посадить… – поправился, – посидеть с богатыми демократами…
– Нищие башмачники или гончары не так опасны, – резко ответил Критий. – В охоте на крупную дичь я соревнуюсь с Хармидом.
– Я предложил бы тебе соревнование другого рода. И тогда был бы рад помогать тебе… – Сократ заколебался.
– Говори. Вижу, мы сможем договориться.
Сократ тихо сказал:
– Соревновался бы ты, властитель Афин, с властителями других государств в том, чтобы сделать Афины самыми счастливыми… Вот это было бы соревнование! Тебе позавидовал бы весь мир!
– Проповеди! – взорвался Критий. – Оставь свои назидания про себя! Короче: я желаю, чтобы ты привел ко мне Леонта с Саламина!
Сократ отпил из бурдюка и вытер усы.
– Такое поручение, право, не для меня. Не сердись, Критий, но тут я тебе не помощник.
От злости у Крития сорвался голос:
– Да ты знаешь, что говоришь?!
– Как не знать. То, что думаю, как всегда.
– И обо всем этом ты беседуешь с учениками?
– А почему бы и нет? – удивился Сократ. – Нынче ведь такие вещи очень важны для каждого афинянина. Ты не находишь?
Но Критий уже спешил через Пропилеи в город.
– Ну вот, теперь, пожалуй, придется мне самому обзавестись отведывателями еды и питья да присматривать, не прячет ли кто для меня кинжал! – засмеялся Сократ и по старой привычке пошел полюбоваться фризом работы Фидия на челе Парфенона.
4
– Ну вот, еще с одним покончено. Можешь убрать… – Отравитель вгляделся в бледное лицо лежавшего перед ним человека: заметил в его глазах признаки жизни. – Впрочем, погоди еще.
Помощник отравителя махнул рукой:
– Ничего, может и на носилках дух испустить. Сам знаешь – приказано не возиться…
Но отравитель не позволил подгонять себя. Он добросовестно отправлял свое ремесло, когда в его руки передавали преступников, так может ли он работать небрежно теперь, когда речь идет о невинных жертвах? Он не отрывал взгляда от глаз отравленного, из которых все не уходила жизнь.
– Я знавал его. Мудрый и справедливый был человек. Выступал с речами на агоре, под портиком…
– За что же мы его… того?
– Много говорил.
Помощник отравителя покачал головой:
– Удивительное дело. Мудрый, а такой дурак…
В совете Тридцати Критий держит речь.
– Боги благословляют нашу работу…
Голос:
– Работу?..
Критий раздраженно:
– Кто это сказал?!
Молчание.
Критий:
– Мы поднимем Афины с помощью Спарты. Как – Спарта? Наш исконный противник? Наш спаситель! И кто не хочет этого понять…
Голоса:
– Слава Спарте! Слава царю Павсанию! Слава…
Имя Лисандра с трудом выговаривают даже уста Тридцати. Критий голодным взором окидывает тех, кто не так уж ревностно вторит ему: хочет их запомнить.
Критий:
– Что еще у пританов для совета?
Притан:
– Смертные приговоры, вынесенные вчера вечером, – на подпись.
Притан читает приговоры.
– Голосуйте! – велит Критий – и подписывает.
Голос:
– Говорят, вчера ты приказал без суда казнить Лесия и Тедисия!
Тишина. С улицы доносится плач, вопли.
Ферамен:
– Боюсь, ты переходишь границы, Критий. Человеческая кровь – не вода из Илисса. Тедисий был уважаемый гражданин – и тебе было достаточно, что какой-то сикофант нашептал про него – быть может, облыжно?
Критий побледнел, положил стило и, пронзая взглядом Ферамена, отрезал:
– Мне этого было достаточно!
Ферамен:
– Ты один еще не совет Тридцати!
Критий:
– Разве вы сами не дали мне право решать в некоторых случаях единолично?
Ферамен:
– Такое право тебе дали только на первые дни нашего правления и только для исключительных случаев. Лесий же, Тедисий и другие, которых ты устранил, не были исключительным случаем!
Критий:
– Здесь уже несколько раз прозвучали строптивые голоса. И прежде всего твой голос, Ферамен. Но продолжим совет. Когда закончим, выйдут все, кроме Ферамена.
Олигархи по-прежнему собираются в своих гетериях. Обсуждают положение. Все ли так хорошо, как кажется? Или – так плохо, как пугают некоторые?
Они не могут договориться, что дальше, чья очередь подняться выше, а кого пора устранить. Одни поддерживают Крития: нас мало, а противников много, и даже смертоносная рука Крития кажется не такой уж энергичной в сравнении с многочисленностью тех, кого следует умертвить или запугать. Другие стоят за Ферамена. Призывают к разумным, осторожным действиям – не надо раздражать народ… Третьи ни туда ни сюда – не знают, чего им держаться.
Сборища олигархов прежде проходили в определенном порядке. Сначала – разговоры о том, что им портило кровь: о народовластии. Каждый приносил сюда, что успел узнать новенького, предложения так и сыпались – чем да как ослабить ненавистную демократию. После этого наступал черед попойки, которая примиряла участников, нередко переругавшихся насмерть из-за различия мнений. Тот же, кто не предавался разгулу без оглядки, кто не умел надлежащим образом распалить свои инстинкты или инстинкты других, а затем удовлетворить их, тот, отличаясь от прочих, был подозрителен.
Но теперь в гетериях благотворное примирение не наступает. Не помогают и тяжелые вина. Споры продолжаются даже во время оргий с девушками или юношами. Критий? Или Ферамен? Какой метод лучше – жесткий? Или мягкий?
И ни у кого из них, даже если спросить их по отдельности, нет своей твердой, неизменной точки зрения. Их речи, подобно флюгеру, поворачиваются в ту сторону, в какую дует ветер. Но в одном, как яйцо с яйцом, схожи все олигархи, все заговорщики разных гетерий, и даже сами Тридцать тиранов: афинский народ нагоняет на них все больший и больший страх, в то время как страх народа перед террором ослабевает.
Из страха перед демократами Критий не перестает убивать, маскируя жестокость правления тиранов красивыми словами. Ораторов для этой хорошо оплачиваемой работы он находит предостаточно.
Оратор за оратором выступают у портика, обмывают языками тиранов, и те выходят чистенькими, доблестными спасителями несчастных Афин.
Выступает и ритор Ликон. Его речи отличаются мастерским умением, от усердия у него воспаляются суставы челюстей – но олигархам кажется, он говорит в их пользу, у народа же создается противоположное впечатление.
Критий – Ферамену:
– Ты недоволен? Я отдал тебе роскошную виллу, полную драгоценных вещей, оставшуюся после одного… ну, ты знаешь… Все мы кому-то не нравимся, даже кое-кому из аристократов. Ни один из Тридцати не получил так много – и тем не менее они довольны. Ты хочешь большего? Рабов? Скажи, чего ты хочешь!
Ферамен:
– Ничего этого мне не нужно. Но я не люблю черный цвет, и у меня чуткий сон. Ночи напролет слышу плач и причитания. Не люблю слез, а их полны глаза…
Критий:
– К чему ты мне это говоришь?
Ферамен:
– Умирая, Перикл сказал – самое большое его счастье в том, что ни одному афинскому гражданину не пришлось носить траур по его вине. Что скажем мы, когда будем умирать?
Критий – с раздражением:
– Зачем ты говоришь «мы»? Ты заявил в совете, что не согласен с моими действиями. Не увиливай!
Ферамен:
– Ну… прежде всего – что скажешь ты?..
Критий:
– Я знаю мой долг, а того, кто мне мешает, следует устранить…
Ферамен:
– Но, великий Зевс, счет идет уже на тысячи!
Критий:
– Будешь продолжать в том же духе – я и тебя причислю к нашим противникам.
Ферамен:
– Но ведь ты и для того еще убиваешь богачей, чтоб захватить их имущество!
Критий:
– Как можешь ты смешивать две такие разные вещи? Да, богачей – которые против нас. Что касается имущества… А ты не знаешь, как выглядит наша казна? Мы вынуждены быть безжалостными, конфисковать имущество, увеличивать налоги, проводить реквизиции…
Ферамен:
– Но, Критий, мне волей-неволей приходится общаться с людьми – я ведь один из «тридцати извергов», как нас называет народ, – так вот, на кого я ни взгляну, все от меня отворачиваются! И ночью, во сне, приходят ко мне мертвецы, с которыми я пировал еще вчера…
Критий:
– Дрянь ты, Ферамен, и плевать мне на твои жалкие чувства. Спартанцы приказывают…
Ферамен взорвался:
– Спартанцы не приказывают убивать, хотя они и рады видеть, как мы истребляем своих же!
Критий с яростью:
– Много себе позволяешь, Ферамен! Я не могу не убивать. Это в высших интересах, не в моих личных! Или ждать, когда начнут убивать нас?
Ферамен:
– Когда во главе Афин стоял Алкивиад, он никого не обижал, устраивал пиры даже для бедняков – весело было у подножия Акрополя…
Критий:
– Что?! Уже и ты хочешь посадить Алкивиада на мое место?
Ферамен уклонился:
– Как ты, поэт, можешь устраивать такие гекатомбы? Или не был ты учеником Сократа?
Критий:
– Дойдет очередь и до Сократа!
Ферамен:
– Ну, этого ты не сделаешь!
Критий:
– Довольно. Ты – один против двадцати девяти. Завтра явишься в совет и заявишь при всех, что берешь назад все, что когда-либо говорил против меня и против спартанцев!
Ферамен:
– А если не возьму назад?
Критий вышел, не ответив.
После заката в сумраке тюремной камеры мигает тусклый огонек светильника. У осужденного немеет тело, оцепенение поднимается от ног к сердцу.
Отравитель философствует:
– Н-да, мой милый, живем среди обломков. А кто их делает, обломки-то? Кабы только спартанцы! Так нет, и наши туда же; сами-то они обломки крушения, да и мы с тобой тоже. – Он кивает на человека, умирающего так медленно.
Но вдруг он спохватывается, принимает почтительный вид – входит Критий, закутанный в длинный плащ.
Не поздоровавшись, без всякого обращения, Критий спрашивает:
– Как дела?
Отравитель нерешительно:
– Работы много… Не поспеваю за тобой, господин.
– Что за дерзость? За мной? Ты хочешь сказать – за нами?
– Оговорился я, – оправдывается палач.
Но Критий не удовлетворен; отступив на шаг, крикнул:
– Как это не поспеваете? Нарочно?
– Нет, господин. Мы-то стараемся. Но наше дело требует времени – а когда цикуты мало, тем более. Все ночи не спим.
– Скольких можете обработать за ночь?
– Раз на раз не приходится, – уклончиво объясняет палач. – И не от нас зависит. Некоторые – ну, вы понимаете кто – бывают уже полумертвые от страха, когда их приносят, в других, – он взглянул на лежащего, – словно девять жизней, одной чаши им мало.
Критий перевел взгляд туда же, куда смотрел отравитель, и процедил сквозь зубы:
– Другого способа не знаешь?
Отравитель промолчал.
Критий двинулся к выходу. Поняв, что это означает для него, отравитель быстро выговорил:
– Душить…
Перед тюрьмой – толпа. Страшные длинные ящики, в них всегда тишина, наводящая ужас: у тех, кого привозят сюда, во рту кляп; тем же, кого отсюда увозят, кляп уже не нужен. Страшный караван носильщиков смерти проходит через шеренги стражей.
Голоса:
– Послушали б Алкивиада, победили бы мы у Эгос-Потамов!
– Был бы Алкивиад в Афинах – такая бойня была бы невозможна!
– Вместо слез текло бы вино!
Алкивиад! Таинственным эхом отдается это имя по всему городу.
Помощник отравителя принимает у носильщиков очередную жертву.
Отравитель разглядывает человека – как всех до него. Видимо, осужденный защищался. Он весь в крови. И все же палач узнает его, и у него вырывается:
– О всемогущий Зевс! Ты ли это, господин?! Ферамен?
Ферамен не отвечает. У него кляп во рту.
Но отравитель продолжает, обращаясь к нему:
– Ужасно! Вы уже и друг друга отправляете к Аиду! А впрочем, что я говорю! Что тут ужасного?
Помощник шепчет палачу:
– Ты сказал – теперь моя очередь душить, но этого я не могу, этого ты сам…
Отравитель засмеялся:
– Успокойся – ни один из нас к нему не притронется. Он получит питье, сколько бы времени это ни заняло…
5
Ранними утрами Сократ прогуливался по берегу Илисса – там, где юношей ходил на встречи с Анаксагором и на свидания с Коринной.
Возвращаясь, останавливался в тени пиний неподалеку от домика, в котором жил с семьей внук великого государственного мужа Аристида, прозванного Справедливейшим из людей.
Внук Аристида выходил из дому только по утрам – продать свои изделия. Во времена такой дороговизны трудно было прокормить себя, жену, детей да еще сестру Мирто плетением лыковых корзин и кошелок.
Мирто ела скудную пищу, выслушивая грубости брата и язвительные замечания невестки. По утрам, когда брат с женой отправлялись на рынок с товаром, Мирто выходила в неогороженный садик, брала кифару и пела песни – и всем известные, и свои, сочиняя слова и мелодию. Она знала – под пиниями стоит Сократ. Стоял он там и сегодня.
Но сегодня он подошел к ней и заговорил:
– Ты внучка Аристида?
– Да, Сократ. Я Мирто.
– Часто слушаю твое пение.
– Я всегда пою для тебя, когда ты стоишь под пиниями.
– Мне приятно слушать тебя, смотреть на тебя. – Он легонько приподнял ей голову. – Ты плачешь?
Она рассказала ему о своей печальной доле. Сократ задумался. По его просьбе Критон, конечно, возьмет Мирто в свой богатый дом. Но тут же в нем взыграла ревность – с какой стати этому прелестному созданию жить вблизи от Критона! Удивился своему чувству, попытался прогнать его – не получилось. Громко засмеялся.
– Могу я узнать, чему ты смеешься, Сократ?
– Себе и другим я внушаю: познай самого себя! А все еще сам себя не узнал. Более того, в себе, в своей душе нахожу такие уголки, которые – клянусь псом! – вовсе и не мои! – Он погладил девушку по желтым волосам. – Такая красавица – и не замужем?
– Нет у меня приданого. Ни обола. Да и мне не всякий подходит…
– Из-за нескольких драхм отнята у тебя часть жизни! Да это беда – всеобщая наша беда…
– Тяжело мне. В доме брата каждый кусок становится поперек горла, как подумаю, что объедаю его детей… И ту же мысль читаю в глазах брата и его жены…
– Попробую, Мирто, что-нибудь сделать для тебя.
В последнее время Ксантиппе нездоровилось. Она обрадовалась тому, что Мирто сможет помогать ей по дому, даже заменить ее. И Ксантиппа сама отправилась к Мирто и предложила ей прибежище у себя.
– Только знай – ты переходишь из нужды в нужду. Мы бедны…
– Зато ласковы и приветливы. А это больше чем богатство.
Мирто перешла не только из нужды в нужду, но и из безопасного места туда, где грозит опасность.
Он сидит на бортике бассейна, окруженный юношами и взрослыми.
Людям так нужен светлый взгляд на жизнь – и они собираются вокруг Сократа, слова которого хоть немного рассеивают мрак этих времен убийств и грабежей.
– Ты учишь молодежь вопреки запрету Тридцати лучших? Нарушаешь закон, Сократ? – раздается голос Анофелеса, который незаметно затесался в кружок друзей.
– О нет, милый Анофелес, я не нарушаю закон. Ты только хорошенько прочти его текст, вывешенный на пританее. Там написано, что я не имею права обучать юношество искусству риторики, но ни словом не сказано, что мне запрещают с кем-либо беседовать, а этим я сейчас и занимаюсь. Я ведь никого из вас не учу, друзья мои. Вот вы собрались тут все, с кем я часто беседую. Скажите: взял ли я с кого-нибудь из вас плату, как подобает учителю? Хоть обол? Нет. Видишь, милый друг! А рот мне закон не зашил.
Смех, рукоплескания.
Ученики уводят своего наставника в дальний уголок палестры, надеясь, что будут там с ним без посторонних. Это приятное местечко, здесь пахнет тимьяном и тихонько журчит ручей, облизывая выступающие из воды камни. Над ручьем носятся стрекозы.
– Когда-то я говорил вам, каким должен быть хороший правитель, – начал Сократ. – Тогда со мною были Алкивиад и Критий – правда, Критон? Но Ксенофонта, Аполлодора, Анита и тебя, Платон, тогда еще не было с нами. Сегодня я расскажу и вам.
– Ты хочешь говорить об этом здесь? – спросил, озираясь, Критон.
– Об этом я хочу говорить везде, – спокойно ответил Сократ.
И он стал рассказывать, отлично заметив, что в ручей соскользнул Анофелес – видно, тоже хотел поучиться.
– Я упомянул Алкивиада и Крития. Да, с ними обоими беседовал я о том, сколь почетна и благородна задача – править своей страной. Искусство правителя – самое сложное из всех человеческих занятий. Человек, поставленный на первое место в общине, обязан многое знать, уметь, быть рассудительным и отважным, и надо, чтобы в разуме его и в сердце была гармония добра и красоты.
Можно ли научиться искусству правления? Я убежден, что – да. Сегодня – судите сами! Вы, вероятно, скажете, что правитель прежде всего должен быть справедливым. Легко ли это? Добро не птица, летающая в небе; то, что добро для одного дела, может оказаться злом для другого. Точно так же и справедливость. Ее тоже нужно рассмотреть со всех сторон прежде, чем определить – на чьей стороне, за какими людьми должна она стоять, чтоб называться справедливостью…
Платон пристально, с лицом, все более серьезным, смотрит на Сократа, который в своих рассуждениях подходит к самым опасным границам. Его поняли все. То, что справедливо для всех граждан, не может быть справедливым для Крития.
Макушка головы Анофелеса выдавалась над линией берега – доносчик сидел в ручье на камне и лихорадочно записывал на табличку обрывки Сократовых речей. Полностью фразы он не успевал записать, да и не совсем понимал их.
Сократ, как обычно, избрал для своих рассуждений пример из сельской жизни, чтоб пояснить мысль.
– Честолюбие многих афинян заключается в том, чтобы стать во главе города и заботиться о тысячах сограждан. А прославиться? Это всегда удается, если слово «прославиться» понимать слишком общо, не спрашивая себя – как. Как же следует действовать правителю, хозяину, чтобы одним словом выразить возможность для него прославиться? Возьмем пастуха, на попечении которого отара овец. Если пастух уменьшает свое стадо – не назовем ли мы его скорее волком для своих овец, чем добрым пастырем?
Друзья Сократа теснее придвинулись к нему, невольно стремясь сделать так, чтобы сказанное им осталось между ними. Но они соглашались с ним, и сердца их бились свободнее.
– Вы согласны? – улыбнулся Сократ и весело продолжал: – Но если мы назовем его волком – можно ли назвать его пастухом? Нет? Я того же мнения, что и вы. Правильно ли ты записываешь, Анофелес?
Платон в ужасе прошептал:
– Анофелес это слышал?!
Все испуганно повернулись к ручью. А Сократ продолжал:
– И добавим: если так поступает правитель – правитель ли он еще?
У слушателей мороз пробежал по спине.
– Чистые воды источника Каллирои дала Афинам природа – но потоки человеческой крови отворил в Афинах человек…
Анофелес, пригнувшись, бежал по руслу ручья, перепрыгивая с камня на камень.
6
Похвастаться на людях новой одеждой всегда успеется, сказал себе Анофелес; и он бегает по городу в старом рванье.
– Люди! Свобода! Каждый может делать, что хочет! Нет у нас никаких правителей!
– Сдурел ты, шут? – удивляются мужчины.
– Нет у нас правителей! Нет правителей! – выкрикивает Анофелес.
– Издеваешься над нашим горем! – кричат ему вслед женщины.
– Ничего подобного! Сократ сказал – кто плохо правит, тот не правитель! Вот как!
– Придержи язык, дуралей!
– Разве мудрый Сократ не прав? Кто не умеет шить – не портной, кто не умеет стряпать – не повар! Может, скажете, нет? – Анофелес расхохотался, ожидая, как подействуют его слова.
И дождался. В кучке мужчин один строптиво пробормотал:
– Да уж, это ужасное правление не продержится долго…
– А чего тебе не хватает, приятель? – допытывается Анофелес.
– О том, что у нас есть, лучше не говорить. Набито нас в Афинах что сельдей в бочке. А чего нам не хватает? Хлеба, мяса, денег, работы, земли, крыши над головой… – И тише добавил: – И демократии, которая сделала бы нас снова людьми…
– Держим и мы кое-какие железки в горне, – ободряюще заговорил другой афинянин. – Первая – Фрасибул, укрывшийся в Филе, вторая железка – демократы в Фивах, но есть и третья, уж из нее-то выкуется славный меч!
– Кто же это? Говори! – настаивает Анофелес.
И бедняк доверчиво отвечает мнимому бедняку:
– Алкивиад.
Анофелес выражает сомнение:
– Он-то нам чем поможет? Как знать, где он сейчас…
– Я знаю, где он, – похвастал моряк-инвалид. – Он со своей Тимандрой бежал в Азию, обедает с персидским царем. И каждый день выпрашивает у него по триере. Как наберет сотни две – будет здесь!
– Ох! Скорей бы! – восклицает Анофелес и скрывается, тихонько посмеиваясь.
В роскошной вилле Крития раб доложил хозяину: пришел Анофелес. Зачем явилась эта мразь? За подачкой? С доносом?
– Впусти.
Анофелес проскользнул в дверь и замер в почтительной позе. Критий смерил его холодным взглядом:
– За милостыней? Об этом ты мог сказать привратнику.
– Благородный, высокий господин! Мне ничего не надо. Просто пришел поклониться тебе – как старый знакомый, как твой почитатель. В твоем лице Афины дождались наконец крепкой узды. – Он поднял руки и, как бы в пророческом исступлении, продолжал: – Вижу – тобою очищенные Афины взрастают в новой славе! Вижу – на Акрополе, рядом с Афиной Фидия, стоит твое изваяние…
– Перестань. Я не спешу помирать, чтоб мне ставили памятники.
– Сохраните, боги! Это я из почтительности…
– Ну, довольно лести. Что хочешь за нее?
– Сохраните, боги! Я пришел не просить. Я принес тебе нечто более ценное, чем то, что можно оплатить серебром.
– На кого доносишь?
– Сохраните, боги! Доносительство презираю, но могу ли я, честный гражданин, сидеть сложа руки, когда… даже язык не поворачивается! До чего же ужасно, что о тебе говорят, будто ты плохо правишь, а стало быть – ты не правитель.
– И ты посмел ко мне с этим?.. Вон! – рявкнул Критий.
– Не торопись, благородный господин. Дело серьезное. И опасное. Люди уже повторяют… Уже и на стенах появились позорящие тебя надписи: «Пастух ли тот, кто уменьшает стадо? Правитель ли Критий, который истребляет сограждан? Критий не умеет править – Алкивиад умеет! Пускай вернется!»
– Думаешь, я не знаю, сколько у меня врагов? Но меня заинтересовало сравнение с пастухом. Какой дурак это выдумал?
Анофелес выжидающе промолчал.
Критий вынул из шкафчика кошелек, бросил на стол. Зазвенело серебро.
За одну минуту семикратно изменилось выражение лица Анофелеса:
– Дурак, сказал ты? О нет, господин. Нет. Сама Дельфийская пифия объявила этого человека мудрейшим…
– Что?! Так это мой…
Критий побагровел. Значит, мало ему было обозвать меня свиньей? Так я не правитель? Готовит почву для возвращения Алкивиада? Своего любимчика?
– Болтливый болван, – небрежно бросил Критий и, не прибавив ни слова, швырнул кошелек Анофелесу.
7
Скиф в полном вооружении соскочил с коня и трижды грубо ударил в калитку коротким мечом. Сократ завтракал, Мирто поливала цветы.
Услышав стук, Сократ крикнул:
– Какой невежа рвется к нам?!
Скиф вошел:
– Тебе надлежит немедленно в моем сопровождении явиться в булевтерий к Первому из Тридцати, Критию.
– Хо-хо! – рассмеялся Сократ. – В сопровождении такого великолепного воина с мечом! Какая честь! – Он спокойно продолжал уплетать лепешку с медом, запивая козьим молоком. – А скажи-ка, приятель, меня ожидает одна только его просвещенная голова или там будет много таких голов?
– Он ожидает тебя вместе с Хармидом.
– Отлично, сынок. Оба они мои ученики, и, когда я по их предписанию явлюсь к ним, они окажутся в достойной компании.
– Не ходи! – вскричала Ксантиппа.
– В твоем предложении, Ксантиппа, что-то есть…
– Приказ Первого гласит… – начал было скиф, но Сократ, словно его тут и нету, продолжал:
– Ты права, мне не подобает идти пешком: Критию следовало бы прислать за мной носилки. Но он всегда был немножко невоспитан. Прощу его и пойду.
– Все Афины увидят… – Рыдания перехватили горло Ксантиппы.
– Увидят мою славу, – договорил за нее Сократ.
Критий увидел его через проем в стене. Тихо выругался. Слишком поздно сообразил, что совершил ошибку. За Сократом, ведомым скифом, валила толпа – мужчины, женщины, молодежь… Валила толпа с угрожающим ропотом.
Критий сидел в кресле на возвышении – Сократу он указал на низенькое сиденье напротив себя.
Сократ, не ожидая, когда с ним заговорят, смерил взглядом разницу в высоте сидений:
– О высокопосаженный Критий, вот я пришел по твоему приглашению в это уютное помещение. Что у тебя новенького?
Критий протянул ему лист папируса. На нем был написан закон, запрещавший Сократу обучать искусству риторики в гимнасиях, у портика и в других публичных местах.
– Тебе это известно?
– А как же! То же самое вывешено и внизу, чтоб каждый мог прочитать, и в обоих текстах одна и та же грамматическая ошибка. Вот здесь, видишь? Тут надо писать омикрон, а не омегу.
Критий яростно дернул бровью.
– Не задерживай меня! Мне некогда. Стало быть, тебе известен закон?
– Да. Только не понимаю, при чем тут я?
Критий бросил на него гневный взгляд.
– Не прикидывайся дураком, великий философ!
– Ну, если ты прикидываешься деспотом, великий услужающий…
– Что? Кто услужающий – я? – обиделся было Критий, но поспешил обойти щекотливое место и резко заговорил: – Нам известно, что ты общаешься с молодежью и обучаешь ее искусству риторики!
Сократ встал и как бы нечаянно подошел к проему в стене, чтоб его слышали и на улице:
– Восхищаюсь твоим всеведением. Ты меня поражаешь. Когда ты ходил у меня в учениках – всеведением не отличался. Видимо, источник его – тайный; на возвышенных местах нередко бывает много тайного. Ведь и Олимп окутан облаками, чтоб даже Гелиос не видел, что там творится. Но к делу. Ты сказал, тебе некогда, и я думаю, у тебя действительно мало времени…
– Что ты имеешь в виду?
– Понимай как хочешь. Так вот, насчет обучения. Ты ошибаешься.
– Нет. Мы знаем – ты обучаешь. Я сам знаком с твоей тэхнэ маевтике и с тем, сколько коварства за ней скрывается.
– Ах да, прекрасная философия, помогающая человеку родить мысль. Но, насколько я понимаю, вам тут не нравится мысль, что афинский народ может рождать мысли…
Снаружи раздался взрыв хохота.
– Сядь сюда! – повелительно крикнул Критий, указав на сиденье, и задернул тяжелый занавес в проеме. Затем он раскрыл ладонь перед носом Сократа и сжал ее в кулак. – Раз уж ты так любишь порождать в людях мысли, скажу тебе, какую мысль ты породил во мне, в правителе, понял, повивальная бабка?! Я издаю новый приказ: Сократу запрещается вообще разговаривать с молодежью!
– О, это удивительный запрет. Издавался ли где-нибудь когда-нибудь подобный?
– Не послушаешь – берегись, Сократ, я все еще щажу тебя! – Даже через тяжелый занавес слышен был ропот толпы. – Я щажу тебя потому, что ты был моим учителем, но, если ты не повинуешься, тебя ждет палач…
На площади раздались нетерпеливые крики:
– Сократ! Что с Сократом? Сейчас же отпустите Сократа!
Критий побледнел.
Заметив это, Сократ проговорил успокаивающим тоном:
– Не бойся, мой дорогой, я тебе помогу.
Он встал, подошел к проему своей утиной, переваливающейся походкой и отдернул занавес. Его встретили ликующими кликами. Сократ поднял руку, прося тишины.
– Вот он я, милые мои друзья! Мне здесь очень хорошо. Высокопосаженный принял меня как гостя и только что посулил мне государственные почести…
– Прекрати! – крикнул Критий.
Сократ, отойдя от проема, спросил:
– До какого возраста запрещаешь ты молодежи разговаривать со мной?
– До тридцати лет.
– Клянусь шеей лебедя Леды, цифра тридцать как-то особенно вам по душе! Впрочем, теперь уже – двадцать девять. Это много. Нельзя ли скостить десяток?
– Хватит с меня твоих шуточек! – рявкнул тиран.
Но Сократ продолжал расспрашивать:
– А как быть с продавцом оливок на рынке, если ему меньше тридцати? Случится, к примеру, что я не смогу ему сразу уплатить – ты ведь знаешь, цены скачут вверх с каждым днем, – а говорить с ним мне нельзя, я не смогу сказать ему, что остаток отдам завтра, уйду, а он пошлет за мной скифа, как за вором… Ты, конечно, согласишься, что это не подобает Сократу…
– Глупости выдумываешь!
– Вовсе нет. Сунься-ка нынче на рынок без денег! Горсти гороха в долг не дадут. Или если, скажем, встретится мне юноша, спросит: скажи, гражданин, как найти мне прославленного Крития? Мне и ему нельзя ответить?
Критий вдруг понял, что Сократ разговаривает с ним отнюдь не как с правителем, тем самым подтверждая донос Анофелеса. Он встал, указал Сократу на дверь.
Выйдя из булевтерия, Сократ попал в объятия своих учеников. Его засыпали вопросами – чем кончилось?
– Критий почтил меня новым запретом. Отныне я вообще не имею права разговаривать с теми, кто моложе тридцати лет.
– Ах, это за то, что ты сравнил его со свиньей, когда он отирался об Эвтидема, – сказал Критон.
– Скорее за то, что ты распространил по Афинам мысль: тот не правитель, кто, подобно негодному пастырю, уменьшает свое стадо, – возразил Ксенофонт.
– Это – страх, – вымолвил Платон. – Страх, который Сократ внушает Критию.
– А мы-то хотели, чтоб ты нам рассказал… – жалобно протянул Аполлодор.
Сократ ухмыльнулся.
– Но мне позволено разговаривать с теми из вас, кому больше тридцати – как Критону или Симону. С младшими разговаривать закон мне запрещает. Постойте! Не ершитесь, не возмущайтесь, будьте внимательны: вам, молодым, закон не запрещает слушать, когда я буду беседовать со старшими. Об этом, клянусь шкурой Кербера, в законе ничего не сказано!
Обнимают, уводят Сократа, весело шумя.
Когда Сократ покинул булевтерий, отдернулась одна из завес, и в зал вошел Хармид.
– Ты хорошо слышал, Хармид?
– Каждое слово, особенно – его. Но я уверен, он и теперь не подчинится. Ты говоришь – надо нагнать на него страху. Да разве этот упрямец знает, что такое страх? Он сам нагоняет страх на нас!
– Порой я думаю, не лучше ли предать его суду за подстрекательство: один свидетель у меня есть, других найдем играючи, а тогда – чаша цикуты, и будет покой.
– Не будет, милый Критий.
– Ты прав – он и мертвый будет вредить нам. И даже больше, чем живой. Афиняне нас ненавидят, его любят. И все же я был бы спокойней, если б его не стало.
– Замолчи – он был не только твоим, но и моим учителем, – сказал Хармид, передернувшись от отвращения к Критию.
– Нет, с ним пока подождем. Сейчас нам опаснее Алкивиад. Народ уже громко кричит, призывая его, а если ему удастся поднять на нас персидского царя, будем иметь дело и с ним, и с афинским демосом. Пока Алкивиад жив, нам и в собственном доме небезопасно.
– Что ты задумал? – Голос Хармида звучал зло, возмущенно. – Он тоже любимец Афин. И мой и твой родственник.
– Эту работу я предоставлю спартанцам. Пойду к Лисандру. А за Сократом установлю наблюдение.
– Делай, как разумеешь, а я не желаю иметь со всем этим ничего общего. Но берегись: в том, за что тебя упрекал Ферамен, после его смерти упрекают уже и другие из оставшихся двадцати восьми. Взвесь все хорошенько – если обезвредишь Алкивиада и Сократа, как бы не погубили нас раздоры в собственных рядах!
Критий сверкнул глазами:
– Спасибо, что предупредил, – вижу, придется нам все-таки казнить Сократа! Что мы уменьшаем стадо – это лишь часть правды, а целая правда – в том, что мы избавляемся от паршивых овец. И если парша распространяется быстро, это значит, что мы должны действовать еще быстрее.
8
И даже в теперешнем положении оставалась слабая надежда, что дела афинян не погибли окончательно, пока жив Алкивиад. Ибо как раньше, будучи в изгнании, он не любил бездеятельной и спокойной жизни, так и теперь, если он будет иметь достаточно сил, он не снесет надменности лакедемонян и бесчинств Тридцати. Эти мечты народа не были невероятными…
И даже в теперешнем положении оставалась слабая надежда, что дела афинян не погибли окончательно, пока жив Алкивиад. Ибо как раньше, будучи в изгнании, он не любил бездеятельной и спокойной жизни, так и теперь, если он будет иметь достаточно сил, он не снесет надменности лакедемонян и бесчинств Тридцати. Эти мечты народа не были невероятными…
Плутарх[16]
С каждым днем мысль об этом все больше пугала тиранов. Критий велел доложить о себе Лисандру; мужлан сидя принял поэта, софиста, главу правительства, и выслушал, так и не предложив ему сесть.
– Спартанцы не смогут спокойно владеть Афинами, пока жив Алкивиад, – так закончил Критий.
Лисандр отпустил Крития кивком головы. И тотчас отправил гонца в Даскилею на Пропонтиде, к сатрапу Фарнабазу, чтоб устроить нужное.
День тот имел странные краски, звуки и запахи. Ветер дул с фракийских гор, где пребывает Сабазий, как здесь называли Диониса. Ветер холодный, бешеный, будоражащий и пьянящий. На гребне свистящего ветра летел высокий, непрекращающийся звук, неизменной высоты, неизменной пронзительности.
День был окрашен в цвет тумана, который стелется у самой земли, коварно выползает из всех расщелин, впитывается во все, что встречается ему на пути.
Алкивиаду привиделся дурной сон. Ему снилось – он переодет в платье возлюбленной, и Тимандра подкрасила ему лицо, словно он женщина.
Алкивиад был хмур; беспокойно ходил по комнате. Вчера он ужинал у Фарнабаза; но ко всем намекам, что пора ему, Алкивиаду, двинуться в поход во главе персидского войска и освободить Афины от спартанцев и от власти Тридцати, тот оставался глух и нем.
– Должен же Фарнабаз прислать за мной и дать мне персидское войско! Почему он медлит? Кто, кроме меня, может спасти Афины?
Уже много дней Тимандра с тревогой следила за нетерпением Алкивиада. Ей тоже не нравилась мешкотность сатрапа, и теперь, улавливая нотки отчаяния в голосе любимого, она вся дрожала. Как он страдает! Чем помочь ему? Как успокоить?
– Что означает этот сон, Тимандра?
Мороз пробежал у нее по коже до самых ног, до ногтей на ногах, окрашенных кармином. Тимандра была суеверна и боялась дурных снов. Она ответила нежно:
– Он означает, что ты – это я, а я – это ты. Мы с тобой – одно, понимаешь?
Она привлекла его к себе, на шкуры, разложенные по полу перед очагом, и заговорила, ласкаясь:
– Как я люблю тебя, Алкивиад! Как хочу, чтоб и ты любил меня такой же любовью…
Ее агатовые глаза, всегда такие завораживающие, сегодня сверкали напрасно.
– Сатрап Фарнабаз – хитрый варвар, – сказал Алкивиад. – А царь Персии хитрее его настолько же, насколько могущественнее. – И вдруг закричал: – Долго ли собираетесь вы играть со мной в прятки?! Выслушаете ли меня наконец? Послушаетесь?!
Тимандра прижала его ладонь к своей груди. Жалобно проговорила:
– Сегодня ты даже не погладишь свою маленькую Тимандру? Не любишь меня больше, дорогой?..
– Чем объяснить, что царь Персии медлит? Может, он опять полюбил спартанцев больше, чем нас?
Тимандру охватила дрожь. Почему это так мучает Алкивиада? Почему мало ему нашего скромного счастья?
– Мне холодно без твоих ласк, – прошептала она. – А у тебя сегодня был такой хороший сон – ты был мною, а я тобой…
– Слышишь этот звук? – перебил он ее.
– Какой звук, любимый?
– Такой высокий, непрерывный звон…
Она прислушалась.
– Ничего не слышу. Он звенит в тебе, этот звук, от мучительного ожидания.
Она поднялась, пробежала по шкурам за кифарой, торопливо ударила по струнам.
– Сейчас ты перестанешь его слышать!
Запела.
Дурное свершается мгновенно, хотя надвигается медленно, подумал Алкивиад. Но какое дурное, по какой причине? Что может быть хуже для меня, чем ждать, словно нищему, у ворот сатрапова дворца? Я должен, должен вернуться в Афины! И – со славой! Ах, я уже слышу ликование толп, вижу пылающие факелы…
Кифара Тимандры звучала – глухие, темные аккорды; голос ее дрожал от страха, напрасно старалась она окрасить его страстной жаждой любви. Почувствовала, что сейчас расплачется, и умолкла. Отложила кифару, бросилась к Алкивиаду, обнимала его, целовала…
– Люби меня! Люби меня! Я погибну без твоей любви!
Он отвечал ей объятиями, поцелуями.
– Я-то тебя люблю, но ты скоро перестанешь любить меня, нищего, жалкого просителя. Я б на колени упал перед персидским царем, слезами смягчил бы его сердце – да он меня к себе не допускает!
– Взгляни, Алкивиад. – Тимандра показала на высоко прорубленное окно, задернутое занавесом. – Я еще не видела таких кровавых закатов.
– Здесь, на севере, закаты пышнее, чем в Афинах…
Но багровые отсветы на занавесе шевелились.
Алкивиад вскочил.
– О боги! – в ужасе воскликнул он. – Смотри! И на восточной стороне зарево! Это не закат, Тимандра. Дом горит!
Бревенчатый дом, подожженный с четырех сторон, стоял в пламени.
Алкивиад, как ребенка, подхватил Тимандру на руки, вынес из дому. Одним прыжком вернулся внутрь, обмотал плащ вокруг левой руки, правой схватил меч – ждал воинов, а не убийц из-за угла.
Выбежал через огонь навстречу врагу. Ярко озаренный пожаром, со сверкающим мечом в руке, стоял он – разъяренный, страшный демон. Наемные убийцы, сбежавшиеся было к горящему дому, отступили к лесу. Имя Алкивиада внушало им страх. Сам он наводил на них ужас.
Он стоял перед пылающим домом, словно в огне, тучи дыма минутами совсем скрывали его.
– Сюда, ко мне, негодяи! Выходите против меня! Всем вам головы снесу!
Почудился издали отчаянный зов Тимандры:
– Алкивиад!
Заглушая треск огня и грохот рушащихся балок, он крикнул:
– Не бойся, Тимандра! Меня никто не одолеет!
Трусливые тени стали метать в него копья с опушки леса, засыпали дождем стрел. Он пал бездыханный.
Ветер свистел, раздувая пламя, но тени Фарнабазовых наемников укрылись во тьме, и ночь поглотила их.
Дом догорал, когда Тимандра нашла тело любимого.
Горько зарыдала она. И так просидела над мертвым возлюбленным до рассвета.
Утром она умастила Алкивиада благовонными маслами, обернула в свои белые одежды, увенчала ему голову венком из зеленых листьев.
Когда хоронили Алкивиада, впереди небольшой погребальной процессии несли его копье – в знак того, что те, кого он оставил на земле, будут мстить его убийцам.
9
Гой, сегодня все напейтесь, пейте даже через силу: умер Критий!
Надпись на афинских стенах
Много афинских демократов, спасаясь от тиранов, вовремя покинули Афины и Аттику, укрылись в Фивах и в пограничной крепости Филе.
И вот после долгих месяцев кровавого правления настал час, когда Критий стоял на высоком пьедестале из тысяч трупов, а тираны не могли уже договориться меж собою – убивать ли больше или меньше, и кого, и за что, у кого что отнять, кому отдать; когда одни афиняне въезжали в роскошные дома убитых, восхваляя тиранию, а другие, поселившись на свалках, взывали к справедливости, – старый воин, флотоводец Фрасибул, верный сторонник народовластия, двинулся во главе демократов на Пирей и Мунихий, разгромил олигархов и освободил государство от ненасытных убийц.
Критий пал в бою, сраженный множеством ран, нанесенных спереди и сзади.
По дороге к агоре тянется шествие, во главе его – Фрасибул и Анит. В колонне шагает приплясывая странный человек. На его голове венок, с которого, развеваясь, свисают разноцветные ленточки; человек восторженно вскидывает руки, выкрикивая:
– Да здравствует демократия! Да здравствует Фрасибул, освободитель!
Это Анофелес. Граждане весело приветствуют его как шута, неотъемлемую принадлежность города.
С таким же энтузиазмом, как Фрасибула, приветствует народ Сократа и его учеников. Сократ, как всегда, босой, на нем его обычный – единственный – гиматий, но лицо сияет празднично.
Юная девушка подбежала к нему, увенчала розами. Какой-то мужчина протянул ему кувшин:
– Выпей, Сократ! Сегодня – несмешанное!
Сократ, отхлебнув, восклицает:
– За счастливую жизнь!
На возвышении для ораторов, на которое совсем недавно поднимались Павсаний, Лисандр и Критий, – лицом к площади, набитой людьми так тесно, что и оливке некуда упасть, встали сегодня Фрасибул, демагог Анит и ритор Ликон.
Анофелес в своих лентах пробился к Сократу:
– Что же нету тебя среди ораторов в столь торжественный день?
Взяв кончиками пальцев одну из ленточек его венка, Сократ возразил:
– А зачем это мне?
Анофелес – громко, выспренне:
– Но ты показывал пример бесстрашия перед кровавыми деспотами, перед худшим из них – Критием! Это знают все Афины!
– Ну и разве недостаточно, что это знают все Афины? – удивился Сократ. – Неужели же мне еще об этом рассказывать?
Старому воину Фрасибулу легче схватиться с полчищем неприятеля, чем сочинять возвышенные фразы. Он говорит сурово и кратко.
Анит, полагая, что лаконичность Фрасибула не придала достаточного блеска великому моменту, сочным голосом заводит торжественную речь – о вражде богов, о жестокости спартанцев, которую превосходила только жестокость афинской олигархии, возглавляемой Критием. Обещает:
– Мы отпустим на свободу всех, кого бросили в темницу Тридцать тиранов, вернем конфискованное имущество… Обновим славную демократию. Восстановим народное собрание, буле и гелиэю. Вновь введем обычай справедливого избрания архонтов и пританов из числа полноправных граждан путем жеребьевки. Установим бесплатный вход в театры и плату за время, отданное служению городу. Будем выдавать пособия неимущим гражданам…
Долго говорил Анит, много наобещал, под восторженные клики толпы камень за камнем укладывал в основание храма обновленной демократии, которая отныне будет править в Афинах.
Ликон, весьма искушенный в риторике, начал от Гомера и довел до нынешнего великого дня. Речь свою он заключил высокопарной фразой:
– Граждане Афин, друзья! Власть народа даст вам все, что до сей поры виделось вам недосягаемым!
Толпа расступилась. Государственные рабы вынесли амфоры вина – первое из того, что было недосягаемо для бедняков.
ИНТЕРМЕДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Едва он сегодня вошел и без приглашения направился своей переваливающейся походкой к креслу, которое я всегда ему предлагал, я сразу набросился на него с нетерпеливым вопросом:
– Как могло случиться, Сократ, что ты невредимым пережил власть тиранов? Повиновался запрету Крития и перестал беседовать с молодежью?
Округлый живот Сократа заколыхался от смеха:
– Как тебе такое на ум пришло, милый мой северянин? Ты ведь уже немножко знаешь меня. Мог ли я прекратить беседы? Да для меня это все равно что перестать дышать… А было так. Выйду, как обычно, пошататься по городу, встречу знакомого юношу, только заговорю с ним – а он палец к губам и давай бог ноги! Я зову, я кричу ему – куда! Самые преданные мои ученики не желали меня узнавать. Оберегали, добрые души, от меня самого. Не стану врать, это делало меня счастливым – в остальном же очень мало радости приносило мне то время. Критий рассчитывал, что сикофанты застигнут меня, когда я буду по-прежнему «подстрекать» молодежь против него, и я за это поплачусь головой. Но скажу тебе – молчать, когда Критий сотнями умерщвлял своих же, афинян, было для меня мукой… Зато позднее я щедро вознаграждал себя – вплоть до самого…
– Знаю, – поспешил я прервать его. – Когда Афины стали снова свободны, ты начал нападать и на вождей демократии.
– Ошибаешься, друг, – возразил Сократ. – Нападал я на Крития – демократию же всегда только стремился улучшить. Вспомни: права женщинам, облегченье рабам и хорошее образование для всех… Мог ли я молчать, глядя на Анита? Но я не хочу быть несправедливым, даже к нему. После Пелопоннесской войны он получил в наследство разруху. Трудное было время. От могущественных Афин, главы морского союза, остался маленький клочок земли, разоренной дотла… Конечно, нелегко было вести хозяйство в таких бедственных условиях. Но демагог Анит и ему подобные совершенно выпустили вожжи из рук, вместо хоть какого-то порядка воцарились полный произвол и разврат. Не обижайся поэтому, что я тебя поправил: таких, как Анит, уже нельзя было назвать демократами – то были демагоги, зараженные софистикой. Объяснить народу умели все, а вот решить – ничего. Зато где только могли гребли к себе, как все эти крысы, что повылезали тогда из нор. И не спрашивай, до чего возмущал я их своим простым образом жизни и наставлениями к скромности и умеренности. Со старыми и с молодыми я без обиняков обсуждал то, что есть, и то, что должно и чего не должно быть.
– Я читал о так называемых плутократах, – вставил я. – Они нахватали больше богатств, чем когда-либо было у старых аристократов. Лисий так отзывался об этих скоробогачах: «Люди эти находят родину в любой стране или общине, там, где им открывается возможность большой наживы. Их родина – не община, а имущество».
– Прекрасно написал Лисий, – похвалил Сократ. – Так метко и я не сумел бы сказать! Но я должен объяснить тебе, что еще из всей софистики особенно подходило всем этим крысам, в том числе Аниту.
Сократ взъерошил бороду и перечислил грехи софистов. Отрицание объективной истины. Каждый человек имеет право убеждать прочих, будто истина – то, что ему таковой кажется. Единственный авторитет – индивидуум. Сила тождественна праву. Нравственно то, что полезно сильному. Даже умно построенная речь может стать инструментом силы.
– Достаточно ли внимательно ты слушаешь? – многозначительно осведомился Сократ. – Понимаешь, для чего они использовали риторику? Хотели сказать, что ловкостью языка достигнешь на свете большего, чем мудростью и добродетелью. А софросине? По их мнению, это просто чепуха, раздутая старым чудаком Сократом. Они же, напротив, требовали всего сверх меры, через силу и невоздержанность свою называли радостью жизни. Грубость и бесчувственность полагали свойствами, привлекательными у избранных. Заносчивость свою изображали чувством собственного достоинства. А недисциплинированность провозглашали свободой. Их неустанные проповеди произвола привели со временем к страшным последствиям.
Сократ сидел опустив голову, руки его покоились на коленях; он показался мне очень бледным.
Но вдруг старый философ выпрямился, щеки у него порозовели, и он быстро заговорил:
– Я рассказал, как плохо было тогда. Спекулянты хлебом и прочими товарами немилосердно выжимали последний обол у людей – и моя небольшая семья жила не лучше других. Как раз в ту пору случилось такое, что лучше б мне провалиться… А все из-за Ксантиппы…
Я давно собирался расспросить Сократа о его жене, да не решался; но теперь у меня сорвалось с языка:
– А правда, что Ксантиппа была сварливой и злой женщиной?
– Клянусь клыками Кербера! – возмущенно вскричал он. – Какой только не изображали злые языки мою бедную Ксантиппу! Настоящей Мегерой! Ох и люди же! Точили бы лучше об меня свои зубы… Это я был упрям! Она от меня страдала, не я от нее!
– Ах, Сократ! Опять ты преувеличиваешь. Вижу, сказывается темперамент грека…
– Ладно, ладно, – надулся Сократ.
Он встал с кресла, заходил из угла в угол – по ковру его босые ноги ступали бесшумно, по паркету со шлепаньем. Но вот он остановился передо мной.
– Отвечу тебе одним лишь примером, и надеюсь, этого будет достаточно, чтобы показать подлинную картину наших отношений. Ксантиппа прихварывала – ей перевалило за пятьдесят. Всю домашнюю работу делала Мирто. Ксантиппа была рада, что мы взяли Мирто к себе, она и сама полюбила девушку, словечка недоброго ей не сказала, но… Но, как уж оно бывает, тяжело ей было, что я свое сердце делил пополам… Что ж, правда: половину я оставил Ксантиппе, вторую отдал Мирто. Это не улучшало расположение духа моей жены, и порой она меня основательно пробирала. Однако тут я был совершенно не виноват. Сам знаешь – мужчина в таких делах никогда не бывает виноват, – произнес он с серьезным видом, однако лукаво подмигнув мне одним глазом.
Я кивнул с такой же серьезной миной, хотя кто знает – быть может, и меня выдал один мой глаз, лукаво подмигнув Сократу…
– А потом и случилась неприятность. – Сократ помрачнел. – И неприятность эту причинил Ксантиппе я. Мой бывший ученик Аристипп из Кирены, что в Северной Африке, основал у себя на родине школу. Он принял мою мысль, что образованность дает человеку ощущение высочайшего блаженства. Но, хитрая лиса, Аристипп на первое место поставил наслаждение, гедоне объявив его смыслом жизни, и тем завоевал огромную популярность, пускай и оговаривался робко, что в каждом наслаждении следует соблюдать мою софросине. Ловкач, скажу тебе, был этот Аристипп, брал с учеников высокую плату – и разбогател. С того-то и началось. Этот гедонист Аристипп презрел мой принцип – ни от кого не брать денег за учение; быть может, он рассуждал так: я тут живу как в Элисии, а у Сократа собачья жизнь, пускай же мой старый учитель не испытывает нужды на склоне лет. Намерение-то у него было доброе, вот и послал он мне с особым гонцом двадцать мин! А знаешь ли ты, человек из далекого будущего, что такое двадцать мин?! – возбужденно вскричал Сократ. – Это две тысячи драхм! Сумма, намного превышающая все, что я имел!
Итак, сваливаются на нас двадцать мин: вот он, конец всем бедам, рукой подать, до глубокой старости нам обеспечен сверкающий серебром достаток, Ксантиппа уже благодарит богов… Деньги явились как по заказу, знаю, все знаю, и то, что это в первую очередь принесет облегчение больной Ксантиппе… Дрожу весь словно в лихорадке – но не могу иначе! Отвергаю дар! Иппа моя обращает на меня умоляющий взгляд, руки протягивает – напрасно: я возвращаю Аристиппу царский подарок. Лампроклу с Мирто пришлось увести Ксантиппу на ложе. Она теряла сознание.
Даже и после этого я велел гонцу удалиться с его кошелем.
Что же ты теперь обо мне думаешь, неведомый мой северянин, к которому я явился сам не знаю через сколько Олимпиад?
У меня прямо-таки зубы стучали от волнения. Ведь прежде всего своему учителю обязан был Аристипп тем, что смог открыть в Кирене школу, пользующуюся такой широкой славой, и разбогатеть. Но к тому времени я уже слишком хорошо знал Сократа, чтобы понять, как трудно ему было, сострадая к семье, принять такое решение; но еще я понимал, что только так и мог он поступить.
Сократ не вынес моего молчания в таком больном для него вопросе и спросил:
– Так как же считаешь ты, глядя на все это из такой дали: быть может, я должен был сгрести эту кучу серебра… после того как всю жизнь отказывался принимать плату за то, что стараюсь подсадить людей ступенькой повыше?
– Нет, Сократ! – чуть ли не крикнул я. – Нет, ты не мог принять это серебро!
– Вот и хорошо. Ты со мной согласен. Но по отношению к Ксантиппе это было безжалостно. И я понимал ее, если впоследствии, когда у нее ничего не бывало на ужин, она попрекала меня этими двадцатью минами и бранилась так, что вся улица сбегалась, точно на пожар. Верь мне, и никому иному: хорошей женой была мне моя Иппа. Другая бы в ту минуту бросилась на меня, словно гарпия, и царапалась бы, и визжала, пока я не взял бы серебро – между нами говоря, в общем-то отчасти и заслуженное. Но после этого я был бы уже не тем Сократом, какого вы нынче знаете.
Он вздохнул.
– И это не все! Позднее я еще хуже поступил с Ксантиппой и со всеми моими. Буду рад, друг – а я убедился, что ты мне друг, – если ты не пойдешь по пути недругов, изобразивших мою Ксантиппу злой бабой. Напиши правду – в нашей супружеской упряжке иноходцем-то был я, а не Иппа.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Под низенькими кустами тамариска, прямо на голой земле, любятся мужчина и женщина. С трех сторон их окружает свалка, четвертую замыкают остатки снесенных стен, уже поросших сорной травой.
На расстоянии стадия от парочки стоит неподвижный Сократ, ученики его расселись на обломках стены.
Осторожно приближается страж порядка, скиф. Он все видит, но не вмешивается. Распаляясь, жадно наблюдает он происходящее. Под ногой его скрипнул камешек – мужчина поднял голову, увидел скифа, увидел его глаза. Любовные труды прерваны.
Только тогда скиф крикнул:
– Вы нарушили закон нравственности! Это публичный разврат! Девка задрала голые ноги, будто она дома!
Женщина опустила пеплос, села, ответила криком:
– Это я-то девка? А? Слышите, боги?!
Мужчина встал, напустился на скифа:
– Что-о? Нравственность, публичный разврат? Девкой ее назвал? К твоему сведению, паршивый варвар, это моя жена! А безнравствен – ты, коли пялишь на нас глаза… и вообще, как ты смеешь препятствовать исполнению супружеских обязанностей?
– В общественных местах этим запрещено заниматься, вы не дома…
– А у нас нет дома! Наш дом – здесь! Наш дворец – вот это вот. – Мужчина со злостью раскинул руки. – Вон тот обломок – наш стол, тот – мое кресло! А тут тебе и перистиль с роскошными цветочками. – Он показал на заросли репейника, опунций и тамариска и, теперь только заметив Сократа с его друзьями, добавил: – И со статуями! А статуи-то живые, видал? – Он махнул рукой в сторону неподвижно стоящего философа.
Скиф, однако, не собирался сдаваться.
– Знаю я вас! Бродяги! Бездельники! Дармоеды! Клопами к Афинам присосались!
– Заткнись, морда! Я-то здесь дома – проваливай с моего места!
Скиф опрометчиво брякнул своим коротким мечом, опрометчиво прокричал что-то насчет примерного наказания тюрьмой или штрафом.
Тогда шевельнулись кусты, из-за обломков стены стали подниматься еще и еще несчастные.
– Кто тут орет?!
– Это я только начинаю! – закричал мужчина, почувствовав поддержку. – Ты чего тут свой меч дергаешь? Я тебя так дерну, что душа с телом расстанется! Видали невежу? – обратился он к сотоварищам. – Вздумал наказывать нас за то, что нам негде жить! Дай нам дом, как у Анита, покажем мы тебе тогда такое, чего тут не увидишь, только приди! А еще говорят – свобода в Афинах… Хороша свобода – прогонять нас с нашей свалки!
Обитатели ям один за другим выползали из-за развалин. Кучка оборванцев двинулась к скифу. Тот попятился:
– Да я что… Я, граждане, только хотел предупредить этих супругов… Дурного и в мыслях не было – в их же интересах… Вот этот старик – свидетель…
Но Сократ молчал и не двигался, и скиф поспешил унести ноги.
Оборванцы повернулись к Сократу, но тот, не сказав ни слова, медленно пошел прочь, сопровождаемый учениками.
По дороге обсуждали то, что видели и слышали. Бездомные люди живут и любятся на городской свалке, заменившей им дом. Закон же это запрещает. Вместе с тем он допускает, чтоб были люди, которым негде приклонить голову. Ксенофонт спросил:
– Найдешь ли тут виноватого? У этого человека нет иной возможности, кроме как поселиться в развалинах. Он не может быть виноватым. Кто же тогда? Что же тогда, Сократ?
Сократ печально глянул на него и сказал только:
– Пойдем дальше.
2
Они остановились у источника Каллирои. Сократ сел на бережку ручья, вытекавшего из водоема, в котором перед свадьбой окунаются невесты. Омыв ноги, он обратился к друзьям:
– Вот и хорошо, что вы подошли поближе: увидите, сколько грязи у меня на ногах. Но грязь уже унесла вода… А какая вода унесет худшую грязь Афин?
– Грязь – неподобающее слово, когда речь об Афинах, учитель, – возразил Платон.
– Ты ее не видел, правда? – Сократ встал. – Пойдемте, я поведу вас, как обещал…
– Куда?
– Чтоб вы видели.
– Но я спросил – куда ты нас поведешь?
– В Тартар.
– Что это еще за чудачество? – тихо спросил Антисфена Федон.
Пошли.
Чем дальше проникали они в квартал, где поселились безземельные, тем уже и извилистее становились улочки; тут и там, словно щели, оставшиеся после выбитого зуба, зияли пустыри на месте обвалившихся лачуг.
На их развалинах, на кучах камней рос репейник, но под ними сохранились подвалы. В подвалах – тьма, крысы и холод, на поверхности – отбросы и смрад.
– Приподними гиматий – запачкаешь подол…
Перекресток. Куда дальше?
Сократ сказал:
– Здесь – вход в Тартар. – Он показал рукой на улочки, по которым сновали толпы нищих, изможденных женщин и рахитичных детей. – Вот река Стикс, река ужаса, там – Ахерон, река вздохов, а это – Кокит, река плача… Воздух здесь как на гноище.
– Не хватает Леты, реки забвения, – вымолвил Антисфен.
Федон:
– Лета – всегда в конце…
– Бросимся в волны Ахерона, – предложил Сократ.
Они медленно двинулись вперед – странные фигуры на этой улочке, тонущей в волнах вздохов.
– Где ты, мой виноградник на склоне горы? Созрела ли хоть единая гроздь? Или затоптали тебя без следа?..
– Я был сам себе хозяин… Было у меня поле, пастбища, был дом. Стада коров, множество добра, а нынче я за весь день не выклянчил даже на ячменную лепешку!
– О моя оливовая роща, как сладостно было отдыхать в твоей тени! Когда поспевали оливки, как славно было собирать их! А теперь? Теперь перед глазами моими – одно уродство…
– Перестань ты вздыхать! Уж лучше утопиться…
Лающий смех с мусорной кучи:
– Да где тут утопишься? Разве что в грязи, ее тут больше, чем воды в Илиссе!
– Ох как больно! Больно! Нарыв с каждым днем взбухает… Что же это со мной? О великая Гера, спаси меня, помоги!..
Видят ли вздыхающие, как руслом Ахерона проходит группа теней? Или это – люди? Кое-кто в группе одет красиво, даже богато, но вон тот молодой человек – в дырявом плаще, а ведет их босой старик в потрепанном гиматии…
– Что им тут надо?
– Чего надо, эй! – яростно крикнули им. – Вы не наши! Были б наши – не так бы выглядели!
И женщина – пронзительно:
– Убирайтесь!
И снова волнами вздуваются вздохи…
Сократ с друзьями свернул в улочку направо.
– А что это за река, Сократ?
– Сам на знаю, погоди, Аполлодор, увидишь…
В начале улочки – пустырь на месте обвалившейся хижины, только старая олива торчит еще… но что это? Какой странный плод свисает с нее…
– Удавленник! – ужаснулся Платон. – О боги!
Под оливой лежит, рыдая, женщина.
Сократ подступил к ней, тихо молвил:
– Позволишь спросить – что здесь произошло?
– Повесился! Мой муж это! У нас пятеро детишек… Понял?!
– Понял, – ответил вместо Сократа Платон и сунул монету в руку несчастной.
Она развернула ладонь, глянула – да так и обомлела…
– Пошли дальше, – поторопил Платон.
Вдоль стены тащится оборванец, за ним крадется другой такой же, в лохмотьях, – с ножом в руке.
Первый круто оборачивается, успевает поймать уже поднятую руку с ножом, выкручивает ее, нож падает.
– Ты, Бассон? Убить меня хотел? За что?
Бассон стонет от боли в вывихнутой руке, дышит прерывисто:
– Тебе дали три обола! И ты еще ничего не истратил, я знаю, я следил за тобой…
Слезы текут у него. От боли? От стыда?
Навстречу бежит плачущая женщина, за нею – двое малых детей:
– Мама, мамочка, возьми нас! Не убегай!
– Я не ваша мать!
– Наша! Мама! Ты наша! Мы всегда были с тобой!
– Ищите себе другую маму, у которой есть чем кормить вас!
И женщина бежит дальше по кривой тропке между лачуг, дети с плачем – за ней…
– Это Стикс – река ужаса… – шепчет Аполлодор.
Старуха стучит в запертую дверь лачуги:
– Открой, Элиада, это я!
Голос изнутри:
– Сейчас, дай доползу до двери…
Старуха:
– Мне нынче повезло, у меня восемь оболов!
Голос изнутри:
– О боги, молчи! Как бы кто не услыхал!
Дверь приоткрывается. Старуха просовывает руку в щель:
– Возьми пять – с меня и трех хватит…
Платон:
– Мне холодно. Нельзя ли идти побыстрее, Сократ?
Аполлодор:
– Медленно течение Стикса…
Они прибавили шагу. Впереди них бредет, качаясь, пожилой человек – и вдруг падает лицом вниз.
Сократ склонился к нему:
– Что с тобой? Что случилось?
– Не могу больше… Не держусь на ногах… Дышать нечем… Пить! Воды!
Федон кинулся к лачуге:
– Человек упал! Идите скорее! Дайте ему воды!
– А тебе-то что? – ответил изнутри грубый мужской голос.
Федон:
– Дай напиться упавшему… Может, он умирает!
– Это наше дело. Не твое. Проваливай!
– Река ужаса… – повторяет Аполлодор.
Завернули в следующую улочку. Быстро смеркается. Скоро станет совсем темно. Со всех сторон доносятся крики, плач, проклятия, жалобы, возгласы отчаяния…
– Почему они так жалобно кричат? – спросил Сократ человека, сидевшего перед хижиной.
– Больные они. Зараженные. Все тело в язвах, болячках, все гноится. Я ношу им холодную воду. Больше ничего не сделаешь.
– Идемте, – сказал Платон. – Заклинаю вас всеми богами, идем дальше!
Проходят мимо ограды. За нею слышится безутешный плач. Отворяют калитку – видят: низенький человек подобострастно склоняется перед верзилой, который, расставив ноги, мочится, как вол.
Рядом с низеньким человеком – обнаженная девочка, щеки ее пылают от стыда. Закрыться бы ей – ах, руки малы!
– Лучший товар, господин. Отличное качество. Ты только пощупай. И для тебя – всего за сто драхм. А стоит все четыре сотни. – Человечек оживляется. – Есть у меня еще одна, ей только десять… Замечательная! Сейчас приведу….
– Отличное качество! – хохочет покупатель и от скуки хлещет девочку коротким хлыстом по груди, по животу.
Девочка вскрикивает, плачет… Сократ рывком распахнул калитку, вырвал хлыст у верзилы:
– Смотрите, благородные господа, каков храбрец! Новый греческий герой! Современный Ахилл!
Верзила, дрожа от ярости, кликнул рабов, велел расправиться с Сократом и его друзьями.
Но рабы не осмеливаются – остановились в нерешительности. Тем временем низенький выволакивает из сарая следующую жертву…
– Уйдем отсюда скорей, – пробормотал Антисфен. – Страшная река – Стикс…
Наконец, почти уже в темноте, Сократ привел учеников к Лете, реке забвения. Тела спящих и бодрствующих валяются по всей улочке. Среди них попадаются и мертвецы. Но больше всего – пьяных, ибо вино дарит забвение.
– Войду к фараону, царю египетскому, и даже не поклонюсь ему, слышите – не поклонюсь… – бормочет пьяный.
А другой, расчесывая лишай:
– Ох, как хорошо здесь, только вот крысы бегают у меня по лицу какие-то мокрые, ну, зато охлаждают…
– Вот бы поймать их да съесть…
– Принеси козла в жертву Пану, как полагается в праздник…
– Господин! – Молодой женский голос из хижины. – Купи меня на время! Всего за пять драхм…
Этот возглас словно разбудил улицу. Где-то забренчали на кифаре, кто-то запел печальную песню.
Сразу зашевелилось множество людей, стараясь перекричать друг друга, высыпали на улицу женщины – молодые, немолодые, старые…
– Я голодная, купи меня, господин!
– Нет, меня – она вчера ела! И я – моложе! – Женщина кинулась к Антисфену. – Ты, конечно, не богач, но пять-то драхм дашь мне…
– Не хочу! Не дам! – брезгливо отшатнулся тот.
Из хижины выскочил мужчина.
– Почему ты ее не хочешь, господин? Это моя жена… Знает толк в этом самом… Купи ее! У нас четверо детей… Она тебе и за четыре драхмы даст – по драхме на ребенка… Смилуйся!
К Платону, словно лунатик, приблизилась молодая девушка, вдохнула благовония, которыми сбрызнута его хламида:
– Ах, как пахнет… Так, давно когда-то, пахло от моего пеплоса… Возьми меня, пригожий юноша, возьми на часок. Пойдем со мной. Я зажгу светильник, и ты увидишь, как я красива… Сладко буду любить тебя! – Она перешла на шепот. – И – даром! Ничего не хочу за это! Хочу забыться!
Она крепко обняла Платона худенькими руками, светившимися в темноте. Он вырвался, кинулся к Сократу:
– Зевсом заклинаю тебя, учитель, пойдем, прошу, уйдем отсюда!
Спотыкаясь в темноте, они выбрались из Тартара – и открылось их взору мраморное чудо, белоснежный Акрополь, а над ним – яркий диск луны.
3
Под стеной роскошного дома Анита, в тени, расположилась кучка людей без работы. Эти недобровольные лентяи, пиявками присосавшиеся к городу, коротают время, играя в кости, в щелчки, обмениваясь грубыми шутками, вспоминая о доме и ругая обстоятельства.
Неподалеку от них, на самом солнцепеке, стоит Сократ, погруженный в думы. На него посматривают с удивлением и тревогой. Кто это? Чего ему надо? Голодранец какой-то – гиматий засален, ноги босы… Дурак – в такое время дня торчит на солнце с непокрытой башкой…
Молодой мужчина из тех, кто сидел в кучке, глянул, высоко ли солнце, – поднялся и зашагал к центру города.
– Ты куда, Кирон?
– Работать. Взяли меня – амбар строить.
– Видали! Его-то приняли, клянусь Деметрой и Корой! А почему – его? Почему не меня? Ну как же. Молодой, сильный. Нас-то, кто постарше, небось не берут. Хоть ложись да помирай!
– Молчи! Тебе похлебку выдают?
– Плевал я на эту бурду! Обещали златые горы, а на поверку – шиш.
– Чего ты удивляешься, – урезонивает один изгнанник из оливового и виноградного рая другого изгнанника. – Много тут нашего брата.
– А вот и буду удивляться! Четвертый год у кормила народолюбцы, а для нас и пальцем не пошевелили. Зато языком трепать горазды. Все-то у них свобода да свобода. Только – для кого? – Бедняк погрозил кулаком дому Анита. – Погоди, болтун! Тряхну я свободно твой кошель, который тебе рабы наполняют!
– Ладно, не хвались, лучше за костями следи, – оборвал его игрок, недовольный тем, что прервали игру; он потряс стаканчик и выбросил кости. – Тройка, двойка, четверка! Девять у меня. Знаешь, как было в Коринфе, губошлеп? И в Аргосе тоже. Голодные бросились на богачей, поубивали их, и все дело.
– А какой им от этого вышел прок – небось молчишь! Ничего они не выиграли, а только головами поплатились.
– Клянусь копытами всех сатиров, этот чудак на солнце портит мне кровь! – вскричал Бирон. – Эй ты! Чего это ты бросил якорь на самом припеке? Чего торчишь, как столб у дороги?
Сократ услышал, двинулся к ним.
– Иди, иди к нам, кум! Сдается, ты в таком же положении, что и мы, верно?
Сократ подошел, поздоровался. Его внимательно разглядывали. Босой. Ветхий плащ. Нет, их одежда из лучшей ткани, осталась от лучших времен, и на ногах кожаные сандалии.
– Право, тебе, кажется, еще хуже приходится, чем нам!
– Ну и тряпье на тебе! И босиком ходишь?
– У меня собственные подошвы, – усмехнулся Сократ. – Тоже кожаные, да прочные какие…
Смех.
– Вроде я тебя где-то видел. Милостыню, что ли, собираешь по городу?
– Нет, друг…
– Но-но, ты полегче! Сразу в друзья лезешь! Да знаешь ли ты, что такое – друг?
– Сокровище и благо жизни.
– Как ты сказал? Говори понятней, Харон тебя возьми!
– А может, я тебя где-нибудь слышал?
– Не из тех ли ты… как их… а, из софистов? Нищенствующих?
– Софисты не нищенствуют, – вступился Сократ за честь своих противников. – Они продают свои знания.
– Ну, этого добра я покупать бы не стал, разрази меня гром! Его и руками не пощупаешь…
– А оно между тем порой стоит больше, чем то, что можно пощупать руками, – так-то, гражданин Афин! – возразил Сократ.
– Брось насмешки, старик! Ну да, я гражданин Афин, а дальше что? Чего нам только не наобещали! Все на ветер – правда, слушать приятно. Все же хоть немножко чувствуешь – кто-то что-то делает, чтоб в Афинах лучше стало…
– А ты знаешь, что для этого нужно? – живо перебил его Сократ.
– Откуда мне знать? Это их дело – придумывать, не наше. Мы землю понимаем, а не денежные счеты.
– Ах, клянусь Гестией! Домашний очаг, стадо овец, и земля так сладко пахнет! Какие были времена, когда вокруг тебя золотился ячмень…
– А чуть подальше наливались синие гроздья винограда, зеленели оливы… Да что – и вспоминать-то больно! Огонь, пламя – один пепел остался… Проклятые спартанцы!
– И вам уже нельзя вернуться? – спросил Сократ.
– На чужое-то? Ведь все это давно не наше. Пришлось продать за гроши, чтоб с голоду не помереть. Толстосумов, что могли скупить все, нашлось ой-ой сколько! Как подумаю, что теперь мой ячмень золотится для такого обиралы…
Поднялся еще один из кучки бедняков.
– Ну, мне пора к хозяину, – проговорил он, потупившись; слова с трудом сходили у него с языка.
– Как это – к хозяину? – заинтересовался Сократ, на что другой бедняк ответил:
– Чего ты удивился? Служить хозяину идет. Так, поденщина.
– Афинянин – афинянину? – ужаснулся Сократ.
– А что мне делать? Ничего другого не остается.
– Утратить достоинство гражданина? Бедняк – злобно:
– Утратить голод! Вот перетаскаю на своем горбу весь груз с его парусника – утратит голод и моя семья!
Из перистиля Анитова дома донеслись аккорды кифары, пение. В столовом покое, выходящем в перистиль, – пир горой; запахи яств перетекают даже поверх стены.
По этим аппетитным запахам бедняки, зная обычаи, стали гадать, что делается в доме, а главное – что там едят.
– Теперь – вальдшнепы, фаршированные желтками, – сказал Сократ.
– А ты ведь прав, старый. Пожалуй, вальдшнепы и есть. Что мы, бывшие земледельцы, узнали запах, это понятно. А ты-то откуда знаешь?
– Случается и мне бывать на пирах.
– Ага. Стоишь, поди, в дверях да декламируешь Гомера?
– Вроде того, – усмехнулся Сократ.
– Клянусь козлом Пана, у меня слюнки текут!
– Вот житуха-то, а?!
– У кого?
– У кого, у кого… У Анита! У вождя народа. Нашего вождя.
– Ха-ха! Наш! Это он прикидывается нашим. Только это курам на смех, прямо как в комедиях Кратина.
– От него кожами разит, будто от целой дубильни! А вот как до его собственной кожи добраться?
– Да, трудновато. Пожалуешься на него, а судьей-то будет над собою он сам. Так что лучше держать язык за зубами.
Сократ сказал:
– Я знаю силу, очень большую силу, которая даже такого человека может довести до падения, изгнания или смерти.
– Что же это за сила, мудрец? Я ее тоже знаю?
– Знаешь. Разве не чувствуешь ее в тех запахах, что долетают через стену? Эта сила – неумеренность. Она порабощает человека пуще всякого рабства.
– Да брось ты!
– Постой: сейчас там разносят жареную камбалу, – сказал Сократ.
– Да ну тебя! Зажми свой нос, нюхало! Мне сейчас интересней потолковать про неумеренность. Как это она может ввергнуть в рабство?
– В рабство страстей, милый мой. И владеют эти страсти человеком до тех пор, пока не доведут до беды… – Тут Сократ понюхал воздух и причмокнул. – Клянусь псом! Теперь рабы носят на стол фаршированных поросят, отлично подрумяненных, с розовой корочкой…
– О молнии Зевса! – не выдержал Бирон. – Ты так в этом разбираешься, словно сам едал, а могу поспорить на пару быков, что таких поросят ты отроду не отведывал…
Сократ с улыбкой возразил:
– Поймать бы тебя на слове – если б сохранил ты еще свое имение, – проиграл бы сейчас пару быков!
– Не напоминай ты мне все время об имении, и нечего зубы скалить, а то не сдержусь да брошусь на того прожорливого пустобреха…
Ксирон тихонько поддал жару:
– Сын моего бывшего раба теперь – раб у Анита, и он говорил мне: денег-то сколько у хозяина спрятано, а все новые да новые так рекой и текут к нему… Сто человек жили бы по-царски на эти денежки до самой могилы…
Наевшись и напившись, гости ушли – у Анита не было в обычае предаваться после пира философским беседам. Остался только молодой поэт Мелет, приятель Анита-сына. Сейчас Мелет принял живописную позу и хмельным голосом начал читать приятелю свои новые стихи. Анит-сын, захмелевший градусом больше, чем поэт, сам его стихов не понимает; но Сократ публично их высмеивал, и этого младшему Аниту достаточно. Слушает он Мелета, как слушают жужжание мухи. Что за приземленный дух, думает о нем Мелет, не стоит ему даже и стихи-то читать. Да ладно уж, не даром ведь…
– Ты заметил, дорогой Анит, как я меняю метр? Три спондея перемежаю дактилем. Это – новшество, ни один поэт до меня…
– И после тебя тоже, – еле ворочая языком, перебил его Анит. – Ты начинаешь новую эру… или это называется модой, что ли?
Сын кожевенника сидел в мраморном кресле, покрытом прекрасно окрашенным лисьим мехом; сейчас он ленивым движением вернул рабыне поданный ею флакончик:
– Не хочу. Аромат слишком слабый, прямо, я бы сказал, целомудренный. – Он ткнул рабыню в живот. – Чего хихикаешь? Что я про целомудрие заговорил? Это ведь не для тебя, так? Давай другой, да живо! – Рабыня подала еще один флакон. – Этот слишком резок. Не хочу. Другой!
Мелет повернулся к нему:
– Как ты разборчив, милый Анит… впрочем, нет! В наше время разборчивость – признак возвышенных натур…
– Эх ты, блеющий козел, я ведь для тебя выбираю!
Мелет подошел неверным шагом, сверля Анита своими водянистыми глазами. Это я-то – блеющий козел?.. Однако обиды не показал.
– Принеси-ка, Гликерия, аравийское благовоние. Это будет для тебя в самый раз, Мелет, в нем девять ароматов… Найдешь его, верно, в спальне матери, Гликерия. Живо!
Рабыня второпях схватила первый попавшийся флакон в спальне госпожи, но это оказалось розовое масло. Анит же не выносит запаха роз… Понюхав, он так швырнул флакон, что тот вдребезги разлетелся о мрамор пола.
– Дура, коза, это розы!
Гликерия бросилась на пол. Не думая о том, что может порезаться об осколки, пальцами, ладонями стала собирать драгоценное масло, натирать им лицо, все тело…
Мелет вытаращил глаза:
– Капля розового масла стоит бог весть сколько серебра, а флакон был полон… Тысячи…
– Пустяки. – Анит важно махнул рукой. – Запах роз мне противен, как вонь отцовой дубильни. Весь дом провонял… Да и во всех нас впитался этот смрад, так и разит от нас…
Мелет с льстивой улыбкой сделал отрицательный жест, подумав при этом, что в доме действительно смердит невыделанными кожами, зато серебро Анита не пахнет.
– О какой запах! Клянусь молнией Зевса, так пахло когда-то в моем саду, где розы…
Люди за стеной принюхиваются. Хоть что-то! Нечего в рот положить, так хоть ароматом насытиться…
Э, гляньте-ка! Рабы открывают калитку, выходит Анит-старший, одетый умышленно скромно, чуть ли не бедно. Но движения его и осанка вполне подобают одному из высших правителей Афин. Увидев кучку бедняков под стеной, он поспешно запирает калитку и, проходя мимо, громко здоровается:
– Привет вам, мужи афинские!
Восторг, рукоплескания, крики:
– Да здравствует Анит! Да живет вождь народа! Слава демагогам!
Анит скрылся из глаз, и тогда вскипел Бирон:
– За глаза ругаете, а как покажется, рукоплещете ему – эх вы, герои! Гнилушки вы!
– Да ты и сам хлопал! Я видел! – возмутился Ксирон.
– А как же! Если б я не хлопал, он бы меня приметил, и тогда вовсе пропадать! Но, к вашему сведению, я вовсе не хлопал. Я только притворялся.
Встречаемый приветствиями, не спеша шагает Анит. Бедняки поднимаются с земли, тянутся за ним к общественной кухне. Сократ идет с ними.
– Молодцы демократы, – говорит Ксирон, как бы оправдывая свое рвение. – Хоть похлебку дают! Аристократам бы плевать на нас.
– Ладно, Ксирон, смотри, не споткнись о свою похвалу. У вождей народа всего по горло и даже выше горла! Неумеренность! Это ведь то самое, о чем толковал этот бедняга. – Он показывает на Сократа. – Да уж на это они мастера: сами обжираются без меры, а нам – без меры – как бы поменьше…
Ярко пылают пиниевые поленья, повара помешивают в котлах.
Демагоги Мухар и Сусий, ритор Ликон пробуют похлебку, причмокивают – отличная, мол! Все ждут Анита.
А вот и он: важно несет свое тело, облаченное в старый гиматий. Здоровается с друзьями и подходит к котлам. Попробовал, задумчиво прикрыв глаза, облизал губы, еще попробовал.
– Превосходно, повара!
Он сам берет половник, наливает первым голодающим.
– Клянусь псом, как говорит этот оборванец! – бормочет Ксирон. – Опять какие-то помои! – Но тут он ловит на себе строгий взгляд Анита и умолкает, чтоб через минуту заявить:
– О, хороша! Очень хорошая. Превосходная! Слава Аниту! Слава демократии!
У Анита изумительная память. Он каждого называет по имени. Расспрашивает о жене, о детях, о больном брате. Настоящий народолюб. И как хорошо распорядился: кивок притану – и тот выходит вперед, читает ожидающим похлебки список тех неимущих, кто, по жребию, получит денежное пособие от казны. При этом он добавляет, что со временем такое пособие получат все. Счастливчики ликуют. Снова кричат славу вождям народа.
Анит стоит над котлами, горделиво выпятив грудь. Вид у него великолепный. Заметно, что он собирается держать речь. И тут глаза его встречаются с глазами Сократа. Прямо дыхание перехватило: глаза Сократа не веселы, не ласковы, как обычно. Хоть и круглы – колются. Анит бессильно уронил руки, разом сник. Зачем он тут, этот пройдоха? Неужели за похлебкой? Исключено. До такой степени он не унизится. Следит за мной? Наверное, так и есть. Он способен жестоко высмеять меня, стоит мне заговорить. Но почему он здесь, с этими людишками? Что у него с ними? Сам голодранец, как и они, – не заведет ли речь о разгульной жизни нас, демагогов? Нет. Вполне достаточно того, что он стоит здесь в своих отрепьях и так вызывающе смотрит на меня…
Взгляд Сократа сделался еще острее. У Анита задрожали колени, руки. Не знает, куда деваться. Горло стянуло. Боги, да ведь все эти люди – голоса! Голоса на суде, всюду там, где решают голосованием, особенно на выборах! Мне необходимо говорить перед ними!
Громче ропот нетерпеливой толпы. А Анит и слова не в силах вымолвить. Тысячу Керберов на этого старика! Какая страшная власть в его взгляде! Я весь словно оцепенел… Но все же Анит собрался с силами:
– Дорогие мои друзья, я хотел обратиться к вам как афинский демагог. – Опыт оратора уже помог ему найти нужный тон. – Но мне только что сообщили – я должен срочно удалиться в булевтерий для важного совещания. Так что на сегодня извините меня. Желаю вам приятного аппетита. Хайрете, друзья!
Толпа в недоумении молчит: что могло случиться? Анит торопливо уходит и слышит за спиной столь знакомый ему смех Сократа.
4
В день четвертой годовщины низложения Тридцати и победы демократии в Афинах держит перед народом речь глава демократов демагог Анит. Нелегко ему говорить, хоть он и опытный оратор, и умеет складывать фразы в тоне и манере народной речи. Говорит он о том, как медленно заживают раны, нанесенные общине, а в мысли его при этом вкрадывается другое: как быстро наполняется его кошель – кошель рабовладельца…
– Народ избрал нас, о мужи афинские, и мы делаем все для народа. Для блага народа, для его пользы, для расцвета Афин. – Жиденькие аплодисменты, и Анит спешит продолжать: – Жизнь в нашем государстве улучшается с каждым днем…
– Верните наши дома, наши поля!
– Мы требуем!.. Требуем!..
До сих пор в Афинах никто не осмеливался прерывать оратора. Анит вытер пот на лбу.
– Терпение, мужи афинские! Мы вернем Афинам былую славу, богатство и могущество…
– Как?! – выкрикнул кто-то.
И другой:
– Когда?!
Анит оставил без внимания неприятные вопросы.
– Народ – верховный владыка над всеми нашими учреждениями, над нами, даже над законами…
Тут ему показалось – стоит в толпе Сократ. Почудился пристальный взгляд его больших глаз.
Анит перевел взор на другую часть толпы – ужас! И там Сократ, Анит видит его большие глаза – глаза, устремленные на него, такие же проницательные, как у того, первого… Куда бы ни обращал взгляд Анит – всюду видит он Сократа и его глаза.
– Мужи афинские… расцвет города… в ваших руках… право выбирать… голосование…
Анит путается, слышит шепот Ликона:
– Кончай скорей!
Несколькими выспренними фразами завершает он торжественную речь в честь четвертой годовщины освобождения от тиранов и приглашает народ явиться вечером к пританею, где будут раздавать вино.
Афиняне и пришлые принимают приглашение с непривычным холодом. Толпа расходится разочарованная. Опять пустые обещания…
Анит сидит в зале совета, вытирает лоб, с которого струями стекает пот.
– Тебе нехорошо, Анит? – спросил Ликон.
Тот ответил вопросом:
– Видел ты в толпе Сократа?
– Не видел.
Ага. Лжет. Он должен был его видеть.
Ликон, оглянувшись – одни ли они, – заговорил:
– А ты веришь тому, о чем речь держал? Веришь в новый расцвет Афин?
– Конечно, – насупился Анит.
– Мы здесь одни, – сухо заметил Ликон.
Анит пересел к нему поближе, понизил голос:
– Но разве могу я сказать народу, что мы скоро докатимся до нищенской сумы? Перикл – и мы! Страшно подумать. Могу ли я открыть народу, что наша казна зияет пустотой? Что мы отчаянно выжимаем налоги из чужестранцев, из купцов, что мало даже пошлин, которые мы взимаем в Пирее…
Он следил за выражением лица Ликона, и показалось ему, что на этом лице появилась ехидная усмешка. Вскочил:
– Хочешь, я обвиню тебя в том, что ты ничем нам не помогаешь, а, напротив, подрываешь мощь государства?!
Вскочил и Ликон, возмущенно крикнул:
– Что-о?! Я подрываю?!..
– Вы, софисты, уже сколько лет требуете полной свободы. Вот ты только что слышал, как меня прерывали криками. Когда это бывало? И далеко ли от криков до действий? На первых порах вы брезговали этими пришельцами из деревень, да и городской беднотой тоже, а как сосчитали, сколько их, так и начали задницу им лизать, явились с вашими милыми поучениями – мол что человеку хочется, на то он и имеет право! И прав тот, кто сильнее… О демоны ада! Нынче все плюют на законы! И что получается? Вместе с чернью вы твердите, что поддерживаете демократию, а на деле идете против нее!
Ликон выпучил глаза:
– Владыка Олимпа! Что ты на меня так взъелся, милый? Можно подумать, сам ты так уж точно соблюдаешь законы!
– А что? – огрызнулся Анит. – Разве я их нарушаю?
Ликон хитро усмехнулся:
– Это тебе лучше знать. Однако народ полагает, что народовластие означает – заботиться о народе.
Анит в волнении повысил голос:
– А что мне делать? Могу я вернуть земли этим людям? Пускай будут рады, что мы эти земли скупили – люди получили хоть что-то. Впрочем, Ликон, ты и сам купил изрядные угодья…
Ликон самодовольно выпрямился.
– Да, и это моя заслуга! Я построил новые селения, накупил скота, обработал землю, посадил оливы. Община должна быть благодарна нам, таким вот Ликонам, за то, что мы оживили пустыню и кормим Афины!
– Верно, – согласился Анит. – Но в таком случае – чего же ты хочешь от нас? Или нам плетьми выбить из города этих паразитов? Это, по-твоему, забота о народе? И где взять для них оболы, не скажешь? Разве на стольких голодных хватит государственной казны?
Ликон не утратил хорошего расположения духа.
– Видишь! Вот мы и договорились. Афины переполнены голодными, и ты говоришь, что ничего не можешь для них сделать. Дороговизна растет, за все требуют деньги, проценты ростовщиков взметнулись до небес…
– Это намек на то, что я одолжил тебе денег? – покраснев, перебил его Анит. – Разве этим я не помог городу, способствуя тому, что поля снова начали приносить урожай?
– Конечно, конечно, милый, – сладенько ответил Ликон. – А знаешь, мне ведь опять понадобятся денежки… Надо прикупить пастбища.
Анит наморщил лоб.
– Это в интересах государства, и потому сделаю тебе новый заем. – Вздохнул. – Поверь, мне и самому больно, что столько наших сограждан становятся поденщиками… Они вынуждены наниматься на самые тяжелые работы, и приходится им туже, чем моим рабам…
– В самом деле это грустно, – помрачнел Ликон. – Таков уж наш афинский характер – мы обращаемся с рабами мягче, чем где бы то ни было. Странное дело – свободным не в пример хуже… И я спрашиваю себя: что будет дальше? Не поднимутся ли против нас?
– Вот за это-то я больше всего упрекаю вас, ораторов. Вечно вы скулите тут с вашей софистикой… Что вы распространяете в народе? Полезное? Как бы не так! От вас – только жалобы, малодушие, безнадежность, отчаяние. Тем, кто вас слушает, вы замазываете глаза черной краской, и они не видят уже ничего, кроме тьмы небытия. Вы способны только разрушать, не созидать. Вызываете неуважение к авторитетам. К чему это приведет? К распаду, который когда-нибудь погубит всех нас!
Анит умолк, с утомленным видом опустился в кресло. Ликон, не садясь, снисходительно проговорил сверху вниз:
– Отведи душу, Анит. Но ведь сам ты больше всех кормишь народ софистикой.
Про себя Ликон подумал: когда-нибудь мы схватим друг друга за горло, но сейчас у нас иные заботы. И софист прибегнул к софистике:
– Ты взволнован, милый Анит. Отчего бы это? – Помолчав, он сухо ответил сам: – Потому что видел в толпе человека, который роет тебе могилу, – Сократа.
Анит отшатнулся: вдруг понял, до чего прав Ликон.
– Что ты говоришь, Ликон? Ты, верно, хотел сказать – «который унижает тебя, насмехается над твоим невежеством, указывает пальцем на твоего сына как на устрашающий образец развращенности», а ты сказал: «который роет тебе могилу»!
Ликон сел напротив Анита и дружески улыбнулся ему:
– Ладно, не стану возражать тебе, приведу только одно место из речи Сократа к бедноте – я случайно ее слышал. Сократ говорил так: «Мужи афинские, я не математик и не эконом, чтоб сосчитать, насколько обогащается государственная казна и насколько за это же время толстеет мошна кое-кого из демагогов. Я простой человек, но зрение у меня хорошее – видите, какие у меня большие, навыкате, глаза?..»
При упоминании о глазах Сократа Анит ощутил трепет. А Ликон продолжал пересказывать речь Сократа:
– «И слух у меня хороший, я слышу, что обещают демагоги, а потом то, что говорит народ об исполнении этих обещаний. Я – крот, роющий подземные ходы. Я – гром, ударяющий в высокие деревья. Я – ветер, что разгоняет туман, пыль и тучи, очищая воздух. Не моя вина, если кое-кто боится ветра и грома. Я учу вас, дорогие мои, видеть и слышать, но учу вас еще мыслить и сопоставлять…»
Анит прилагал все усилия, чтоб притвориться спокойным. Ликон же продолжал:
– Это было в Керамике, недавно, – он обращался к тамошним гончарам. Я слышал конец его речи и видел ее воздействие на мелких ремесленников, которым в наши времена трудно сводить концы с концами.
– Но что он еще говорил? – не выдержал Анит.
Ликон, нарочито равнодушным тоном, стал дальше плести свою ложь:
– Говорил он как раз о тебе. О том, что твой сын утопает в роскоши, словно отпрыск царского рода, меж тем как он сын обыкновенного кожевенника, необыкновенного разве тем только, что у него сундуки набиты серебром.
– Что им от меня надо?! – страстно вскричал Анит. – Неужели же и мне стать нищим по той причине, что в Афинах полно нищих? В городе толпы бездельников – что же мне, бросить дело и валяться с ними на свалках? Или отпустить рабов и тем умножить число несчастных, которым негде голову приклонить? Не хотят ли, чтоб я покинул свой дом и пошел жить с чернью в завшивленных норах, полных мышей и крыс?
– Ах, как легко ты возбуждаешься, милый Анит. Я ведь только передал, что слышал. Я не хотел тебя задевать…
– Ты, быть может, и нет. Но этот бродячий брехун Сократ – тот хотел задеть меня! Все перевернуть, разрыть, кишки мне вырвать… И против него, любимца народа, я бессилен!..
Ликон пожал плечами, взмахнул рукой и поднялся.
– Пора нам к народу – праздник все-таки…
Анит провел ладонями по лицу, как бы стирая выражение растерянности, перекинул через левое плечо конец нарядного плаща и вышел первым.
Они проходили через портик к агоре. Неподалеку, у колонны, перед кучкой людей держал речь какой-то человек – коренастый, босой, лысый, в потрепанном гиматии. Анит вздрогнул, изменил направление. Но и в другом месте увидел босого, лысого, коренастого старика, обращавшегося с речью к другой кучке народа. Анит заколебался. Остановился в нерешительности, обернулся к Ликону:
– Что ж, посмотрим и мы его знаменитое повивальное искусство!
Прикрыв лица плащами, стали слушать. Сильный голос гремел под колоннами:
– Я – крот, роющий подземные ходы. Я – гром, ударяющий в высокие деревья. Я – ветер, что разгоняет туман и очищает воздух. Почему же, о мужи афинские, есть люди, которые страшатся ветра и грома?!
Оратор обернулся, и Анит увидел – хоть и говорит он Сократовыми словами, но это не Сократ.
5
Позавтракав, Сократ отправился в гимнасий Академа, куда он часто хаживал беседовать с друзьями и спорить с противниками.
Миновал дем Лимнэ. Остановился около театра Диониса, задумался. Сколько лет прошло с тех пор, как в этом театре Аристофан высмеял его в своих «Облаках», изобразив софистом? Двадцать четыре. Многое изменилось со времен «Облаков» до нынешних туч. Сколько гроз прошумело над Афинами! Скольких друзей я уже потерял! Мой Алкивиад, как кровоточило мое сердце из-за твоего извилистого пути и ужасного конца!.. А другие любимые: Перикл, Анаксагор, Эврипид… Их призвал в Элисий бог Аид, Ксенофонт переселился в Персию… Уход одних этих людей так страшно обеднил Афины! Только я, старик, остался, брожу все по улицам, раздариваю людям свои мысли, желая достичь одной-единственной цели: изменить человека, сделать его лучше. Неужели мое желание так уж чрезмерно, что мне так мало удается?..
Пошел дальше. И тут в нем заговорил внутренний голос. То его демоний предостерегает – не ходи в Академию! Сократ остановился снова. Почему? Какая ждет меня там опасность? Или наступил мой черед?.. А в сущности, почему бы и нет? Не высказал ли я уже все, что хотел? Что хотел – вероятно, да. Но высказал ли я все, что должен был сказать? Многое, сказанное в прошлом, сильнее действует сегодня – и не утратит своего действия в будущем. Время – неумолимый счетовод: неустанно следит, подсчитывает, что было исполнено и что еще остается. На моем счету осталось еще много, очень много…
Сократ заторопился. Необходимо снова вытащить на свет то, что было сказано, но до сих пор не исполнено.
Он пересек агору, прошел под портиком и двинулся к дрому, священной дороге, что ведет к Дипилонским воротам, и дальше, за черту города, к Академии. Он был уже в нескольких шагах от нее, когда опять отозвался его демоний. Не ходи туда! Сократ уже хотел остановиться, когда заметил в воротах Академии Мелета с сыном Анита; оба очень учтиво приветствовали философа. И он вошел следом за ними.
А какую встречу оказали ему Ликон и его приверженцы! Льстивый восторг, подобострастное ликование, аплодисменты…
Сократ поздоровался с друзьями. Не заметил – до чего они расстроены и бледны. Не заметил, как переглядываются Ликон, Анит-младший, Мелет и ученик Антифонта Спекион, безмолвно договариваясь о том, кому когда говорить.
Высокопарные слова похвалы, лести, раболепия сыпались на лысую голову Сократа.
Ликон заговорил первым: он заявил, что преимущество Сократа перед всеми афинянами бесспорно, ибо слова его не расходятся с делами. Сын Анита, этот лукавый молодчик, избалованный в семье, погрязший в пороках и распущенности, начал с правды: в то время когда многие берут большие деньги за мелкие советы – как достичь личного успеха, Сократ отдает свою мудрость, подтвержденную Дельфийским оракулом, кому угодно – и даром. Даже тем, кто этого не просит, указывает он, как стать лучше и счастливее…
Платон внимательно следил за тем, кто, что и как говорит, – он был встревожен. Видел – Ликон сделал знак глазами, и слово взял Спекион, завзятый софист новой формации и такой же недруг Сократа, каким был его учитель Антифонт. С медовой улыбкой на жестком лице Спекион начал с притворного сожаления:
– И видишь, Сократ, находятся все-таки неблагодарные, которые не ценят твоей щедрости, а повторяют друг за другом, что, если сам ты не ценишь своих советов, значит, и нет в них ничего ценного!
– Ты не сказал – для кого, Спекион! – возразил Сократ. – Для тех ли, с кем я беседую, для меня или для общины? Мне важно, чтобы как можно большее число моих учеников или приверженцев усвоило добродетели, на которых покоится благо семьи и государства. Считаешь ли ты, что умножать число достойных граждан – дело бесполезное и не имеет никакой цены?
– Клянусь Зевсом, этого я не считаю! – воскликнул Спекион. – Я только повторил, что говорят другие.
– Ты повторил это потому, что сам сомневаешься. Заявляю тебе и всем вам: я ни от кого платы не беру, потому что не продаюсь. – Не обратив внимания на возмущенное выражение лица Спекиона, он продолжал: – Не желаю делаться рабом, обязанным собеседовать с тем, кто мне заплатит. Я хочу быть свободным. Хочу свободно рассуждать с друзьями, вместе с ними доискиваться всего того, что делает человека более совершенным, и усваивать это. Наградой мне служит сознание, что я умножаю число более совершенных людей.
Мелет франтовским движением закинул на плечо полу плаща и дерзко взглянул на Сократа:
– Этим ты хочешь сказать, что те, кто учится за деньги у софистов, не стремятся к добродетели или к совершенству, а думают только о личной выгоде? Не кажется ли тебе, что подобным утверждением ты оскорбляешь софистов, их учеников и многих, присутствующих здесь? Поскольку себя, который учит даром, ты решительно не считаешь рабом, то очевидно, что других учителей мудрости ты мнишь рабами, а их учеников – рабовладельцами.
Первый, неожиданно сильный удар. Друзья Сократа со стесненным чувством вперили взгляды в своего учителя. Но тот спокойно возразил:
– Кто берет у кого-либо деньги, принужден делать то, за что он их берет. Или это не так?
Ликон провел ладонью по бороде, жесткой, как хворост. Он махнул рукой, но оборвал повелительный жест на середине и скривил узкие губы в фарисейски-смиренной учтивости:
– Никто из нас не сравнится с Сократом в скромности. Он – самый скромный человек под солнцем. Ни от кого не принимает платы, не желая становиться чьим-либо рабом, довольствуется пищей, питьем и одеждой, какие не удовлетворили бы и раба. Я тоже – признаю это здесь – не сумел бы довести свои потребности до уровня ниже того, какой подобает рабу. – И, язвительно усмехнувшись, он добавил: —Я не умею ходить босиком, полуголым, терпя голод и жажду…
Мелет, Анит и Спекион злобно захохотали.
Сократ же, не теряя ровного расположения духа, ответил так:
– Многие полагают, что удовлетворенность и благо – а кому же не хочется достичь этих состояний! – заключены в роскоши и богатстве. Я же считаю, что не иметь никаких потребностей – свойство богов. Иметь их как можно меньше – значит приблизиться к божественному. А то, что близко божественному, близко и человеческому совершенству.
– Отлично! – раздались голоса.
– Отлично, – шепнул Ликон Мелету. – Он сам лезет туда, куда мы хотим его заманить. Теперь ты, Мелет. Высмеивай меня.
Мелет раскинул руки:
– Ой, дорогой Ликон, какой удар получил ты! Горе тебе… Стало быть, ты очень далек от совершенства! Сними скорее сандалии, сбрось хламиду, минуты не оставайся в этом позорном состоянии!
– А мне как поступить, Сократ? – с наигранной наивностью спросил Анит. – Раздеться донага? Я тоже хочу приблизиться к божественному…
– Ты уже очень близок к нему, мой милый, – сказал Ликон. – Чуть ли не руками касаешься. Ведь Сократа, единственного из нас, посещает бог и беседует с ним. Но кто может беседовать с богом? Опять-таки только бог!
Удар был столь сокрушителен, что у Сократа искры из глаз посыпались. Он пошире расставил ноги, чтоб чувствовать себя прочнее. Все притихли, ошеломленные недвусмысленным обвинением Ликона. Теперь Сократ вдруг понял, что очутился среди врагов, которые добиваются большего, чем просто унизить его и высмеять.
Тишину нарушил Мелет, проговорив с хорошо разыгранным недоумением:
– Как же это, клянусь Зевсом? Самый скромный под солнцем человек – и бог?..
Ликон успокоительно ответил:
– Я пошутил, друзья.
– Не совсем, Ликон, – вмешался Спекион. – Я спрашиваю, кто из людей может похвастать тем, что часто общается с демоном… ах, простите! Я хотел сказать – с демонием! – Спекион обвел присутствующих своими зелеными холодными глазами. – Никто из вас? – Он подождал. – Никто. Прими мое восхищение, Сократ! Я опасаюсь высказать вслух, о чем мы сейчас тут думаем, – как бы не покарали меня боги, с которыми ты столь тесно связан. Еще обрекут меня смерти за то, что я не признаю твоей божественности…
– Это подло, Спекион! Так все извращать, искажать, заостряя против Сократа! – возмущенно заговорил Платон.
– Кто этот юноша? – Спекион притворился, будто не знает. – Ах да, племянник блаженной памяти кровавого Крития…
– Еще большая подлость! – вскричал Критон. – Ты делаешь честь своему учителю Антифонту и даже превосходишь его, но смотри, как бы тебе не превзойти его и в том, как он кончил, и не попасть в руки палача куда быстрее, чем он!
Спекион, а с ним и Ликон приготовились наброситься на Критона, но Антисфен оказался проворнее – он поспешил на помощь Критону, а тем самым и Сократу:
– Вот как действует эпигон софистов! Это уже любитель не мудрости, а выворачивания наизнанку! Что ни слово, то противоположный смысл… А цель?
Сократ подошел к Антисфену:
– Успокойся, милый, дай Спекиону говорить свободно – ведь и такое жонглирование словами не лишено интереса. Узнаем хорошенько, что такое софисты. Договаривай, Спекион, прошу тебя.
Спекион сощурил свои зеленые глаза:
– Нет, договаривать я не стану! Но хочу спросить тебя, Сократ. Ответь, пожалуйста: правда ли, что ты вводишь в Афины новую религию?
Друзья Сократа ужаснулись, противники насторожились. Все замерли. У Сократа морозец пробежал по спине. Он понял, что попался в ловушку. Обвел взглядом собравшихся – его выпуклые глаза блестели ярче обычного. Лица, лица перед ним: дружеские – озабоченные, враждебные – злорадно осклабившиеся, и все ждут, сумеет ли он выпутаться из тенет. Усилием воли Сократ подавил растерянность. Овладел собой настолько, что голос его прозвучал с прежней твердостью и невозмутимостью:
– Я рад, мой милый: ты заговорил о том, что неясно тебе и, видимо, еще некоторым слушателям. Подумайте, друзья, сколько созданий, живущих на земле, в воде и в воздухе, сотворили боги. Но одного лишь человека создали они подобным себе. Дали ему совершенное тело, более того – дали душу, сокровище превыше прочих. Из всех тварей только человек, пускай смертный, живет на земле, подобно бессмертным богам. Чувства его и разум способны созидать. И он создает не только полезные предметы для повседневных потребностей, но и творения искусства – творит их из слов, мыслей, из мрамора, красок, звуков, из голосов, из света и теней…
Одобрительные возгласы друзей покрыли слова Сократа. Но петля врезается ему в горло:
– Следует ли понимать тебя так, – спрашивает Ликон, – что Сократ славит человека вровень с богами?
– Ничего подобного он не говорил! – вскричал Антисфен.
– Перекручиваешь слова, как змея свой хвост! – возмущенно подхватил Аполлодор.
– Это допрос, а не диспут! – гневно бросил Федон.
Ликон удовлетворенно усмехнулся:
– Допрос? Откуда взялось тут это слово? Чего вы испугались, милые сократики? У нас ведь неограниченная свобода слова. За это нас превозносит весь мир. А вы сегодня испытываете такой же страх, как во времена тирании. Почему?
Сократ плотнее завернулся в гиматий, словно защищаясь от новых нападок. Увидев, что глаза всех обращены к нему, он собрал всю силу своей воли и заговорил:
– Некоторые люди ошибаются, полагая, что хорошо разобрались в вопросах жизни и больше им нет нужды размышлять о них. Мне же кажется – боги дали людям возможность во всех своих действиях, при решении всех дел руководиться знаниями. Поэтому следует развивать разум человека, показывать ему, что полезно, а что нет, что – добродетель, а что – порок. Но прежде всего должен человек познать самого себя. Тогда он поймет, способен ли он к той или иной деятельности, способен ли выполнить доверенную ему задачу или иное дело, поставленное перед ним. – Дыхание Сократа стало свободнее, голос окреп. – Заглянуть в самого себя столь же необходимо, как и видеть окружающее. Человек должен чутко прислушиваться к самому себе, чтобы расслышать тот внутренний голос, которым говорит в человеке божественное, предостерегая от опасностей, в которые он, не будь такого внутреннего голоса, ввергся бы слепо. Этот внутренний голос – не мое только преимущество, не только мой дар. Мое преимущество перед другими лишь в том, что у меня тонкий слух и я умею хорошо слушать…
Движение прошло среди друзей Сократа, показывая, что слушают они внимательно, однако напряжение не ослабло. Мелет шепотом спросил Ликона – что, собственно, имеет в виду Сократ, говоря о своем демонии: это исключительно его привилегия или подобный демоний посещает и нас всех? Ликон покачал узкой головой в знак того, что не знает. Еще Мелет прошептал – не хочет ли Сократ подвигнуть всех присутствующих к тому, чтобы и они приняли новую веру? Ликон сжал локоть Мелета костлявыми пальцами:
– Ты высказал ценную мысль, Мелет! Но на сей раз хватит о его демонии: он и так выболтал больше, чем нам нужно!
Ликон пронзительно взглянул на Спекиона, что-то ему шепнул, и тот спросил Сократа:
– Стало быть, сам человек не знает, что полезно и добродетельно?
И по знаку Ликона на Сократа посыпались вопросы других Ликоновых сторонников и выучеников:
– Значит, тот, кто не учился у премудрого Сократа, – круглый невежда и будет бросаться в огонь, со скал, в море, подобно самоубийце или сумасшедшему?
Пробежали смешки. Тогда еще один юнец из тех, что явились разбить Сократа, в надежде унести с собой хоть лепесток сомнительной славы, в экзальтации вскричал:
– Без Сократа – все мы сыны погибели и…
– Тихо, друзья! – прервал его резкий голос Ликона. – Я не позволю насмехаться над человеком, достойным уважения всех эллинов! – Он повернулся к Сократу. – Нам интересно, – он подчеркнул весомость своих слов загадочным множественным числом, – нам интересно, что думает Сократ о людях, стоящих во главе государства. Знают ли они, что полезно и добродетельно, хотя никогда не были твоими учениками, Сократ?
Волнение среди слушателей. Им кажется – тут-то и конец Сократу. Но он уже справился со своим испугом и заговорил весело, как всегда, когда ему приходилось вступать в спор с противником:
– Известно ли вам, дорогие, что такое совесть? Кажется, слово это придумал и явил мой любимый Эврипид. С каждым днем я все больше и больше ценю это понятие и призываю тех, кого Ликон обозначил сейчас словечком «мы», самим заглянуть в свою совесть. Если же они еще и сегодня не знают, что добродетельно и полезно нашей общине, хотя я уже полвека растолковываю это на улицах Афин, то я готов повторить еще раз. Знаю, среди вождей народа, демагогов, – Сократ вперил свои выпуклые глаза в Ликона, – есть замечательные ораторы, и они стремятся снискать любовь людей, тщательно подбирая слова. Однако ораторское искусство, лишенное знания того, что полезно обществу, обществу не полезно, обманно и вредно.
Возгласов одобрения становится больше, чем выкриков несогласия. Сократ распалился. Перестал следить за собой, заговорил громче:
– Демагог призван быть мечом и копьем народа, завоевывать для него достойный образ жизни. Для того, кто хочет пользы обществу, превыше всего должна быть именно польза общества, а не его собственная!
Буря одобрения захватывает даже кое-кого из противников Сократа.
Мелет, стараясь утихомирить эту бурю, поднял руки, закричал:
– Тише! Тише! Будет говорить демагог Ликон!
Ликон выждал, когда уляжется шум, и среди напряженной тишины заговорил с подчеркнутой значительностью:
– Утверждая это, ты, стало быть, убежден, что нынешние правители больше пекутся о собственной выгоде, чем о благополучии Афин, и что таким правителем прежде всего является глава демократов Анит…
Ликон сделал умышленную паузу, и в тишине прозвучал язвительный вопрос Сократа:
– Ты, Ликон, подозреваешь нашего народолюбивого Анита в таких некрасивых делах?
Друзья Сократа расхохотались. Лицо Ликона сделалось серым, как пепел.
– Это ты его подозреваешь! – выкрикнул он.
– Но, милый Ликон, я ведь не называл ни Анитова, ни твоего имени!
Смех приверженцев Сократа грянул с новой силой: им известно, что Ликона можно нанять на любую работу, даже на такую, которая была бы направлена прямо против афинской демократии.
Сократ перешел в наступление:
– Или у тебя нет глав, Ликон, чтобы видеть, все ли у нас в порядке? Заклинаю тебя богиней справедливости, к которой мы так часто взываем, скажи, заметно ли у нас хоть какое-то улучшение или все катится под гору?
Множество голосов из толпы:
– Под гору! Под гору!
Голоса эти – в пользу Сократа, не Ликона. Казалось бы, последний совсем загнан в угол и бой склоняется к победе Сократа.
Ликон бледен от напряжения, лицо его осунулось, но он поднимает руки, повышает голос:
– Слышишь, Сократ? Слышишь, как твои собеседования пробуждают в людях мятежный дух и вносят разброд?! Понимаешь, мой дорогой, не пугайся, я говорю только правду, но я желаю тебе добра, ибо ведь правда не вредна, правда помогает всем, так вот, ты, Сократ, не добродетели учишь – ты развращаешь нашу молодежь!
Даже Анит, Мелет и Спекион онемели, изумленные ловкостью Ликона, и их восхищение софистикой, которая умеет злом подавлять добро, стало куда больше, чем было, когда они сюда пришли.
Аполлодор тихо сказал Критону:
– Мне страшно за Сократа…
– Мне страшно за Афины, – громко возразил Сократ, расслышав эти слова.
6
Анит-младший вместе с поэтом Мелетом вошел в дом любви.
При виде статуэтки Эрота Анит усмехнулся:
– Привет тебе, возлюбленный царской дочери Психеи! Поклоняюсь тебе, хотя безбожник Сократ разжаловал тебя из богов в демоны… Эй, Демонасса! – обратился он к владелице Афродитина рая. – Мы хотим принести ему жертву!
Демонасса подала гостям цветы олеандра для жертвоприношения.
– Я же в честь вашего посещения, дорогие гости, почту, как всегда, Афродиту.
Демонасса подошла к богине и у каменных ног ее зажгла зернышки аравийской смолы.
Усадив затем гостей, она хлопнула в ладоши. Отдернулись тяжелые завесы, и вышли девушки – известное всем украшение этого дома.
– Семь звезд первой величины ночного неба Афин, – хвастливо сказала Демонасса.
– Семь звезд кружат вокруг твоего лица, подобные лишь малым огонькам, о Демонасса, чья красота затмевает все звезды, прекрасная, прекрасная, но недоступная! – галантно сымпровизировал Мелет.
Из-под полуопущенных век Анит наблюдал за Демонассой – и вдруг в облике этой красивой зрелой женщины явилась ему волшебница Кирка, некогда принимавшая на своем острове Одиссея, царя Итаки.
Кирка. Кирка, дочь бога солнца Гелиоса. Недавно Анит слышал ее имя. Когда? От кого? Ах да! От Сократа – от человека, ради которого я притащил сюда сегодня этого стихосплетающего мула…
Мелет с недовольным видом отослал прочь первую из девушек, приблизившуюся было к нему:
– Нет. Эта меня не возбуждает. Другую!
Он оставил себе Неэру, дочь пустыни, жгучую, как черный жар. Похотливая дрожь охватила его. Крикнул:
– Вот эта будет моя, ладно?
Этого прихлебателя, который уже годы паразитировал в доме кожевенника, Анит презирал, не отдавая себе отчета, что сам-то он паразитирует на собственном отце. Зато в товарищи по распутству он не мог найти никого лучше Мелета.
– Нет. Она будет моя, – отрезал теперь Анит.
Он вспомнил о Сократе, и это внушило ему некую идею. Он вышел в задние помещения дома, где трудились рабы-евнухи, и вернулся довольно скоро, закутавшись в длинный плащ.
– Я немножко озяб, – объяснил он.
Мелет все еще рассматривал девушек – вдобавок он желал убедиться, здоровы ли они, – и наконец выбрал Харину, желто-золотую львицу с пышными прелестями.
Анит начал свою игру, смысла которой никто не мог угадать; он принял недовольный вид.
– Ты сегодня не выспался, дорогой? – озабоченно спросил Мелет, опасаясь, как бы не ускользнули от него наслаждения Афродитина рая. – Или не в настроении?
– Напротив, клянусь Зевсом! У меня нынче самое прекрасное настроение, какое ты только можешь представить.
Анит сбросил плащ; под ним оказалась груботканая рубашка, какие носят рабы. Не обращая внимания на всеобщее изумление, он разулся.
– К чему без нужды нежить себя, прикладывая к собственной подошве еще другую? – заметил он.
Мелет смотрел на него пытливо. Грубая рубашка? Босые ноги? Что это – причуды богача?
Хозяйка дома предложила гостям редкостные лакомства.
Анит, развалясь в кресле и вытянув босые ноги, проворчал:
– Черепаховый суп? Нет, нет! И барашка, жаренного в вине, не надо. Сельдь с каперсами? Телятина под пряным соусом? Яйца с икрой по-скифски? Видеть не желаю!
– Ты что, объелся? Желудок испортил? – осведомился Мелет, который уже прямо трясся, вожделея ко всему названному.
– Напротив. Я голоден. И аппетит у меня что надо. Поэтому, – Анит обратился к Демонассе, – козьего сыру на всех с ячменными лепешками!
– Что ты мелешь? – поразился поэт.
– Не спеши, дорогой гость, – сказала Демонасса. – У меня есть еще паштет из печени с трюфелями и миндалем, сильно сдобренный пряностями…
– Нет, нет, не надо ничего возбуждающего! – упорствовал Анит.
Мелета охватил гнев. Видали, каков барчук? Угощает, не спросив желания гостя! И он строптиво произнес:
– Тогда уж лучше ничего не есть…
– Значит, это ты объелся и испортил желудок, если тебе надо возбуждать аппетит и поглощать то, что вредит телу и духу. Будь добра, милая Демонасса, вели принести то, что я заказал: козий сыр с лепешками.
Девицы влюбленно улыбались Аниту, хотя в их улыбках читалась некоторая горечь: что это с ним такое? Кончились папочкины драхмы?
Принесли заказанное – ко всеобщему неудовольствию. Все нехотя отщипывали кусочки лепешек, сыру, долго пережевывали – в глотку не лезет, когда из кухни доносятся чудесные запахи жаркого и пряных подливок. А Анит причмокивал с удовлетворенным видом, хвалил и сыр, и лепешки: как вкусно, какая здоровая пища, как легко спится после нее…
Почему он так с нами обходится? – думала Неэра. И какие злые у него нынче глаза… Невесело будет любиться с ним сегодня, а придется изображать страсть – не то замучит он меня…
– Что же ты сегодня так скромно, дорогой? С какой стати лишаешь себя наслаждения? – спросила Анита Демонасса.
– Ошибаешься, милая госпожа. Я ем с огромным удовольствием. Теперь, будь добра, угости нас еще родниковой водичкой.
Мелет в ярости стукнул кулаком по столу:
– Ты забыл, где мы находимся! Вина! Как всегда – хиосского!
– Ах, Мелет, в какой грех ты впадаешь! В какую пропасть катишься! Сначала острые блюда, теперь тяжелое вино – а там, глядишь, захочешь обнять голую женщину?
На него смотрели, словно он и впрямь лишился рассудка. А он упрямо продолжал:
– Вспомни о волшебнице Кирке, которая опоила спутников Одиссея волшебным зельем – а чем было это зелье, как не тяжелым вином? – и угостила пряными блюдами, чтоб превратить в свиней!
Демонасса поднялась с оскорбленным видом:
– Стало быть, это я – Кирка?
Она подала знак девушкам, те тоже встали. В свете ламп обрисовались под прозрачными тканями их прелестные формы.
Мелет не в силах был долее сдерживать нетерпеливое желание есть, пить и любить. Схватив Демонассу за руку, он воскликнул:
– Прекрасная госпожа, будь нашей волшебницей Киркой! Напои нас допьяна! Накорми! Дай нам самых красивых девушек твоего дворца! Если уж мой благодетель и друг отрекается сегодня от наслаждений, то я доставлю их вам! Видишь, Кирка, эту золотую пряжку? Отдаю ее тебе в залог и заказываю все, что ты нам предложила. Лучше, насытившись лакомствами и любовью, стать свиньей Кирки, чем лишать себя всего этого, подобно нищему! – Он усадил девушек, не преминув при этом ощупать их. – Что скажите, соблазнительные свинки? Отведаете со мной пряного паштета, жареного ягненка, фаршированных вальдшнепов и хиосского вина? – Мелет захрюкал. – Что вы выбираете – сладкую жизнь свинушек или горькую человеконенавистников?
Девицы приняли игру, завизжали поросятами:
– Сладкую, слааааденькую!..
– Слышишь? – повернулся Мелет к Аниту. – Отказываться от того, что дарят человеку богиня Деметра и бог Дионис, может только святотатец и дурак!
– А кроме – никто? – громко, чужим голосом спросил Анит.
Он встал, прошелся раскачивающейся утиной походкой, шлепая босыми ступнями по мозаичному полу. Никто ему не ответил, тогда он проговорил:
– Известно ли вам, дорогие мои, что и в доме Афродиты следует соблюдать умеренность?
– Сократ! – вскричал Мелет, и все захлопали в ладоши. – Ну и комедиант наш Анит, здорово это у него вышло – притащить в дом радости Сократа с его умеренностью!
Мелет захохотал и, обхватив золотоволосую Харину, начал целовать ее.
– Несчастный! – возопил Анит, все еще в роли Сократа. – Что ты делаешь? Ты пьешь яд с ее губ!
– Клянусь Гераклом, о Сократ, ты приписываешь поцелуям слишком грозную власть! – возразил Мелет.
– А ты не знаешь, что существуют ядовитые пауки, размером меньше полуобола, но стоит им впиться в кожу человека, и они способны уморить его болью и лишить рассудка? Не знаешь, что животное, именуемое женщиной, страшнее ядовитых пауков, ибо прикосновение ее губ ввергает в безумие? Беги, спасайся от нее, пока не поздно, как это делаю я!
И Анит с упрямым выражением стал вырывать Харину из рук Мелета, крича:
– Нечего тут развратничать! Какое беспутство! Всех девок вон!
Демонасса проговорила сухим тоном, не допускающим возражений:
– Ты извинишь меня, любезный Анит, если я закончу нашу сегодняшнюю встречу иным образом. Харина! Подай господам хламиды и проводи их к воротам!
Анит расхохотался уже своим обычным смехом:
– Милая моя Демонасса, значит, мне и тебя удалось обмануть! И вы все поверили, – он обернулся к остальным, – что Сократ, стараясь изменять людей, превратил даже меня в добродетельного юношу? – Он стал расхаживать по комнате, выкрикивая: – Поверили, стало быть, что я откажусь от наслаждений, от всех приятностей жизни и стану ходить как оборванец?! Что Сократ превратил меня в такого же хилого сухаря, как Антисфен? Или как Платон, который, хоть и молод, держит себя стариком? Может, вы вообразили, что если Симон сидит на заднице и шьет сандалии, то и я стану скрести вонючие шкуры в заведении моего отца? – Анит сбросил грубую рубашку, под которой оказался розовый хитон, раскинул руки, словно желая обнять всех. Он и жест-то этот перенял от отца. – Не бойтесь, голубчики мои! Я Сократу не удался! Я– из числа Сократовых неудач. Хо-хо, на моем примере вы видите, что Сократ развращает молодежь! Этот старый брюзга до того надоел мне своей арете, что я страстно захотел прямо противоположного!
– Вот отличные плоды учения у этого старого растлителя молодежи! – осклабился Мелет.
Анит уже хвастливо распоряжался:
– Будем пировать! Несите блюда! И миску для блеванья – ни в чем не будем себе отказывать! И что за мелочность – по девке на брата? По три нам на ночь! Эй ты, умеренный старикашка, покажем мы тебе сегодня софросине! Угощаю всех!
Он взял у Демонассы золотую пряжку, вернул Мелету. Тот обнял приятеля:
– Наконец-то Анит стал снова самим собой! А то у меня уже совсем в глотке пересохло. Большой у меня аппетит и на жаркое, и на Харину! – воспламенился было поэт.
– Погоди минутку. Дорогая Демонасса, вели приготовить угощенье, достойное тебя, а мы с Мелетом пока выйдем в перистиль, подышим ароматом лилий.
– Это еще зачем? – воспротивился Мелет. – Чего ради оттягивать?
Анит молча взял его под руку и увлек в перистиль. Там он подвел Мелета к каменной скамье.
– Зачем ты привел меня сюда? – недоумевал Мелет.
– Помнишь, что сказал Сократ в гимнасии Академа о моем отце?
– Еще бы. Старик основательно его поддел… – Мелет понизил голос. – Неужели твой отец смолчит?
– Смолчит? – Анит как бы просмаковал это слово. – Нет, никто из нас, кого он задел, молчать не может – в том числе и ты, Мелет.
– Разве он нападал на меня?
– Резче, чем на всех нас, дружок. Сократ не признает тебя поэтом, насмехается над твоим искусством.
– В сущности, ты прав. Это так. Он меня не признает.
– И это несправедливо! – разгорячился Анит. – Я не знаток поэзии, но настолько-то в ней разбираюсь, чтоб со спокойной совестью утверждать – ты, мой Мелет, пролагаешь новое направление в греческой поэзии. Твои стихи – я говорю искренне – так своеобразны, так необычны, что их не всякий поймет. Их глубокий смысл в состоянии постичь только самые образованные… – Анит кашлянул. – Причем воспринимаются они по-разному… Ах, ты! – Он погрозил Мелету пальцем. – До чего же ты хитроумен, порой я просто поражаюсь, сколь различное истолкование допускают твои творения…
– О, не говори… – скромничает Мелет.
Но Анит все неотступнее:
– Ты мне открыл, что хочешь достичь большего, чем заплесневелый Гомер, чем Алкей или Сапфо… И ты смолчишь, когда Сократ публично высмеивает твои новшества?!
Мелет до того взволнован, что не в состоянии – как он привык – говорить только то, что он хотел бы внушить людям о себе; теперь он высказывает свои истинные мысли:
– Сомневаюсь… Я… Анит, ты ведь друг мне?
Анит со смехом потер пальцы правой руки, как бы пересчитывая деньги:
– Разве я не доказываю это достаточно осязательно?
– Конечно, доказываешь, – поспешил заверить его Мелет. – Поэтому откроюсь тебе… мне нравится делать то, чего никто не делал до меня. И горжусь этим. Я должен отбросить старое, то, что уже было, иначе нельзя, клянусь змеями Лаокоона! Но как к этому подступиться, чтоб еще и слушателей поразить? Поразить – мало. Их надо ошеломить. А то все ни к чему. Постой! Не вставай! Дай договорить! Сам знаешь, нынче у нас в головах сплошь софистика – все перевернуть вверх ногами, как софисты… Мои стихи – это опыт в ответ на опыт. Тебе кажется, то или то – прекрасно? Куда! Это уродливо. Думаешь, то-то или то-то уродливо? Ошибка! И в безобразии я хочу видеть красоту. На что нам устарелые ценности? Нам подавай самое непривычное, самое неестественное! Обожаю хаос! В лирике, в драме, во всем. Ломаю себе голову, но все время чувствую – все, что я пишу, еще не настоящее, не то счастливое, великое… – Мелет опечалился, голос его дрогнул. – Ты говоришь, мои стихи умны. Но я, не сердись, – я этому не верю. Я вижу свои творения глазами этого ужасного старика Сократа, а не своими и не твоими, Анит, ты слишком добр ко мне…
Анит слушал внимательно, даже дыхание затаил. Признание поэта поразило его – оно еще крепче связывало Мелета с семьей Анита.
– Дорогой Мелет, – заговорил он, хотя его мнение о стихах поэта было еще хуже, чем Сократа и Мелета, вместе взятых, – зачем ты терзаешь себя суждениями врага и не радуешься похвале и наградам, которыми осыпает тебя друг?
Мелет удрученно сознался:
– Я, Анит, все время слышу его голос… Он все время звучит во мне!
– Сократ – злой дух! – вскипел Анит. – Он завораживает. Вот почему взял он такую власть и над тобой. Он хотел бы подчинить себе и моего отца, и многих из нас, людей имущих, которые живут так, как велит наше естество…
Мелет вздохнул свободнее. Погладил руку Анита, лежавшую у него на колене. Анит продолжал доверительным тоном:
– Однако мой отец тоже не дурак. Он прекрасно понимает, против кого направлены собеседования Сократа. Отец отлично знает, какую клевету распространяет о нем Сократ. Будто мой отец – плохой демократ! Можно ли сказать о нем хуже? – Анит хохотнул. – От кого требует Сократ все эти добродетели? Скромность, трезвость, умеренность? От голозадых бедняков? Нет, это относится к нам, богатым. На нас он нападает! Но мой отец не имеет права молчать, ждать…
Анит оборвал, как бы спохватившись. Мелет крепко сжал его руку:
– Чего ждать?
– Да хотя бы нового Коринфа, нового Аргоса. Нельзя ему медлить, не то рабы объединятся с беднотой и поубивают нас!
– Ты хочешь сказать – Сократ натравливает на вас бедноту?
– Нет, этого он не делает. – Анит ненавидяще цедил слова сквозь зубы. – Достаточно того, что он шляется по городу, этот босоногий брат нищих, и объясняет, что справедливо, а что нет.
Мелет хмуро сказал:
– Да, этого достаточно. С меня же хватит и того меньше: его насмешек. Но это грозный удар! – выкрикнул он.
– Конечно, удар, – подхватил Анит. – И ты не собираешься защищаться?
– Сначала пускай защищается твой отец.
– Он так и сделает. Думаешь, я тут с тобой разговариваю забавы ради? Мне нужно знать – согласен ли ты помочь отцу?
Мелет встал в испуге:
– Я – твоему отцу? Но как?
Анит тоже поднялся и дружески хлопнул его по плечу.
– Как? Тоже мне вопрос! Как поэт. Как оратор.
Мелет молчал, не в силах опомниться.
– Награда будет велика, Мелет.
Молчание.
– Так передать ему, что он может рассчитывать на тебя, на моего лучшего друга?
Молчание.
Анит смотрел на длинные, до плеч, склеенные потом волосы Мелета. На бледном, испитом лице выступал большой нос, распухший словно от слез.
Анит нетерпеливо постучал ногой по полу.
Мелет поднял руку – словно к присяге.
Анит обнял его:
– Спасибо, друг. Сократ превыше всего почитает свет – так пойдем же к нашим светлячкам!
И, засмеявшись, он взял поэта под руку.
На столиках уже были приготовлены холодные закуски, охлажденные вина, рабыни носили дымящееся жаркое.
Оба гостя со своими избранницами накинулись на вкусные яства, жадно запивали их тяжелым вином, хватали то куски дичи, то ломти жареного ягненка, и снова пили, и набрасывались на сладости, на фрукты, и снова – мясо, вино, гусиная печенка, вино, селедки, вино…
Анит был в таком приподнятом настроении, что даже Демонасса, нередко видавшая его у себя, его не узнавала. Или у молокососа какой-то праздник? Ночка-то ему дорого обойдется. Но опасаться нечего – не хватит у сынка, заплатит папаша.
Анит так и сыпал новыми распоряжениями. Одни Демонасса исполняла, другие нет, но все заносила на дощечку. От вина у Анита уже заплетался язык, заплетался он и у Мелета, которому никак не удавалось воспеть стихами ушки-раковинки Харины.
Девицы переглянулись с Демонассой: да, сегодня улов, выраженный в драхмах, будет необычайно обильным. Ну и довольно, не стоит навлекать на себя гнев Анита-отца.
– Пора нам насытить другой голод гостей, – прошептала Неэра.
Девицы томно задышали.
Анит и Мелет нетвердым шагом удалились со своими «светлячками» в соседнее помещение, более уютное и менее освещенное. Мелет плелся сзади всех.
– Ты не задернул занавес, золотце, – сказала Харина, бросаясь на ложе.
Неэра, шедшая следом за Анитом, оглянулась.
– Неважно, – пробормотал Мелет. – Никому не противно смотреть, как люди наслаждаются…
Но Неэра задернула занавес. В быстром ритме зазвучали кифара и бубен, затем раздались подмывающие звуки авлоса. Любовные игры… Смех… Поцелуи… Счастливые вздохи… Приглушенные стоны.
Молодой своей силой Анит укрощает Неэру, она же впилась в него и впрямь как ядовитый паук, упомянутый Сократом, и лишает его рассудка.
– Я тебе нравлюсь, мой боровок?
– Которая из вас искуснее в любви – ты, Неэра, или Харина? – спрашивает Анит.
Харина хвалит Неэру, та – Харину.
– Так мы ничего не узнаем! – заявляет Анит. – Поменяем девчонок, тогда станет ясно!
Теперь в его объятиях – пышное тело, покачиваются широкие бока…
Чувственная Неэра, сама стихия, берет приступом Мелета, извивается, распаляет его похоть, а тот уже весь дрожит, молит: довольно, довольно!
Гости обессилели, уже и говорить не в состоянии, лепечут только. Полные желудки, раздутые животы… Пьяные вдрызг, они лишь смутно различают голоса новых девиц, понятия не имея, когда те появились.
– Миленький, иди ко мне, это я, твоя Идэа…
– Люби меня, свою Нефеле…
– Открой глаза – увидишь, как я красива…
Под утро вошла сюда волшебница Кирка с бледными жемчугами на шее.
Вповалку валяются тела. Анит – в объятиях Мелета. Ковры и ложа испачканы блевотиной, смрад нестерпимый…
– Свиньи! – сказала Кирка и задернула занавес.
7
Там, где Илисс огибает холм Мусейон, Анит-старший построил на берегу большую дубильню.
Шкуры вымачивают в чанах. Моют в проточной воде. Удаляют шерсть, скребут раковинами или ножами. Мнут, обрабатывают соком дубовой коры, квасцами, жиром, превращая в мягкие, выделанные кожи.
У всякого ремесла свои недостатки. У кожевенного дела недостаток весьма чувствительный – отвратительная вонь, которой пропитывается одежда, весь человек, стоит ему только пройти по мастерской.
Еще Анит построил виллу с садом; богатея, приумножил и богатство обстановки. Нынче у него гости: Ликон и Мелет. Втроем они разбирают, что сказал Сократ в гимнасии Академа.
Анит слушает; гости возмущаются, а он молчит. С большим удовольствием обошел бы он молчанием весь этот эпизод. Но нельзя. Многие слышали, как Сократ обвинил демагогов, и прежде всего Анита, хотя и не называл его имени. Анит не имеет права молчать, он обязан найти способ защитить себя в глазах общины.
Ликон сказал ободряюще:
– И это вовсе нетрудно сделать – старик отличнейшим образом попался на нашу удочку!
Анит нахмурился.
В эту минуту занавес отдернулся, и вошел его сын.
– Благо – вот наша цель, говорит Сократ! Это и нам известно. Скажи, Мелет! Неэра – вот штучка, правда? Ты тоже ее имел – гибкость-то какая!
– Умолкни! – вскричал отец. – Опять несешь непотребное, олух!
– Я веду философский разговор.
– Этому ли учит тебя Сократ? Пьянствовать? Блудить? А как же его умеренность?
– Сократу – сократовская умеренность, мне – анитовская. Человек ведь мера всех вещей, не так ли? У меня же мера иная, чем у дряхлого старикашки…
Анит понял, что сын подыгрывает ему против Сократа, и тотчас ухватился за это:
– И зачем я, несчастный, посылал тебя к этому погубителю нравственности! Я-то надеялся, он подготовит моего сына для политической карьеры, достойного преемника моего…
– Достойного? – прыснул со смеху молодой Анит. – Да ты сам ходишь на люди в мешковине, чтоб хоть внешне не отличаться от Сократа! Это я достойный, не ты! Я не притворяюсь, как ты, отец!
– Ты смеешь дерзить мне, негодяй?!
– Но, папочка! Ты же послал меня к Сократу, чтоб он сделал меня умнее тебя. И, по-моему, это ему удалось…
– Какая наглость! – вскричал Анит, но Ликон мягко положил ладонь на его руку:
– Не брани сына, Анит! Он не виноват. Ясно, что его испортил Сократ.
– Точно так же, как Крития и Алкивиада, – с горечью подхватил старший Анит. – Славные пташки вылетают из его гнезда… Хвастает, что превращает червивые яблоки в здоровые, а между тем оказывает пагубное влияние на молодежь.
– Это я-то червивое яблоко? – нагло засмеялся сынок. – Ах да, правда! Черви наползли на меня с папенькиных кож, ха-ха! Так и кишат внутри – вот отчего мне все время хочется пить, пить… и жрать!
Анит отослал сына. Но имя Сократа осталось. Оно кричит изо всех углов, словно некая угроза.
– Такому, как он, трудно зажать рот, – сказал Анит, обращаясь к Ликону. – Сократ живет бедно, как бедняки, и это дает ему право обвинять богатых.
Ликон смекнул, что разговор о беспомощности демагогов в области экономики следует перевести на почву религии.
– Но Сократ вводит новое божество. Он утверждает, что живет в нем некий божественный голос, божественный демоний, который руководит им, и будто его устами говорит сам бог.
Молчание, насыщенное тихой радостью.
– А как из-за этого ширится в народе неверие! – воскликнул Ликон.
– Человек, превозносящий себя выше богов! Святотатец, самовлюбленный спесивец! – подхватил Мелет.
– Святотатец, спесивец… – повторил Ликон. – Этого и будем держаться.
– Надо будет… Как вы думаете, что будет надо? – спросил Анит.
– Обратиться к закону, – отрезал Ликон. – Привлечь его к суду.
– О боги, нет, нет! – испугался Анит. – Сократ – замечательный человек. Я сам почитаю и люблю его…
– И все же твои благородные чувства не должны помешать исполнению долга, – налегает Ликон. – Ты сам сказал – беру в свидетели Зевса! – что чувствуешь себя виноватым, доверив ему воспитание сына.
– Положим. Но ведь Сократ – гордость Афин! Его знают и почитают даже в других странах…
– Однако тебе известно…
– Заклинаю тебя Афиной, смилуйся, Ликон! Не требуй этого от меня! Изменить старой дружбе?.. Человека, который, быть может, действительно несет нам божественное послание…
– Ты должен очистить Афины от этого злого духа! – воскликнул Ликон.
Анит рванул хитон на груди, закричал:
– Да кто же возьмет на себя ужасную роль обвинителя?!
– Я! – волнуясь, произнес Мелет. – Сегодня же напишу…
– Нет, нет! – крикнул Анит. – Уйдите! Оставьте меня одного с моим горем! – Крик его становился все громче. – Ах я несчастный, самый несчастный, злополучный!..
Ликон и Мелет вышли, но еще и за стенами слышали причитания Анита. Раб, стоявший за дверью, спросил их, надо ли войти к господину.
– Не входи. Он в горе и желает быть один.
Лица уходивших выражали спокойствие и удовлетворение. Мелет улыбнулся привратнику. Ликон погладил собаку на цепи у ворот.
Анит прислушался к шагам – ушли? Тогда он сел к столу, допил вино из чаши Ликона и, обмакнув палец в лужицу вина, вывел на столе слово:
SOKRATE[17]
А в это время в общественном саду за Дипилонскими воротами, где много святынь и жертвенников разным богам, качалось на ветру развешанное меж священных олив тряпье. На ступенях Гефестова алтаря сидела женщина, напевая колыбельную хныкающему ребенку, которого держала на руках.
Из города возвратился ее муж вместе с другими двумя такими же бедняками; он громко смеялся.
Женщина подняла к нему глаза:
– Тебе нынче повезло, Форкин?
– Мне тоже повезло, – похвалился его товарищ Гиперион. – Мы все вытянули жребий, будем присяжными на суде.
– Кого же вы будете судить?
– Откуда нам знать? – вмешался третий, Кипарисс. – Сегодня я вытянул жребий впервые и скажу вам, милые мои, не очень-то мне все это по нутру.
– Может, ты не нуждаешься? – резко бросил ему Форкин.
Кипарисс повел плечами.
– Как-то это не по мне. Поставят перед тобой незнакомого человека, а ты его суди! И может, как раз мой боб окажется решающим, и человек тот, может, вовсе невинный, расстанется с жизнью.
– Ты прав, – сказала женщина. – Кто же хочет убивать невинного? Так ты клади белый боб, а не черный!
Кипарисс с горечью засмеялся:
– Ну да, добрый совет что золото! Положу белый боб – и, может, он-то и будет тем самым, из-за которого выпустят на свободу убийцу…
На это женщина уже ничего не сказала. Склонившись над ребенком, она прикрыла ему личико от солнца уголком старого пеплоса, в который было закутано дитя.
– А я давно перестал ломать себе голову над этим, – пренебрежительно заметил Форкин. – Зарабатываю на смертях и на помилованиях, чтоб самому не сдохнуть, да еще и забавляюсь.
– Не понимаю, что тут забавного, – нахмурился Кипарисс.
– Есть забавное, милок, есть! Это тебе все равно что театр, – объяснил Форкин новичку. – То плач, то смех, малость от Софокла, малость от Аристофана…
– Верно, – вмешался Гиперион. – На суде я всегда натянут как лук – так мне интересно, что будет с обвиняемым; чуть ли не кровью потею…
– Тоже мне удовольствие! Что за охота кровью потеть? – Кипарисс в задумчивости поднял с земли два камешка и стал тереть их друг о друга.
Форкин обхватил Кипарисса за шею:
– Понимаешь, дружок, на суде играют без масок. И лица у них играют, и слезы настоящие. И чаша, которая ждет приговоренного, не пустая, как на сцене, нет – в ней настоящий яд, и потому жертва на суде корчится куда больше, чем актер в театре Диониса…
– Да что ты несешь, кровожадная тварь! – взорвался Кипарисс. – Убери-ка лапу!
Тогда Форкин простер руку к алтарю Гефеста и бранчливо закричал:
– Клянусь хромоногим Гефестом, огненным кузнецом, я не потерплю, чтобы кто-то ругал суд, когда он нас кормит!
– Послушай, Кипарисс, – добродушно заговорил Гиперион, – ты только подумай, скольким людям от этого выгода. Мягкое сердце никого не прокормит! Гляди: сикофант застукает кого-нибудь на деле, и пошло! Знаешь, сколько вокруг этого кормится? Сам сикофант, писец, притан, скифы, архонт, да нас, пять сотен присяжных из народа, да сторожа в тюрьме, и в конце концов – палач. Только для нас, неимущих, судебных дел маловато…
Кипарисс смотрит на Гипериона – и не видит; тот исчез из поля его зрения, в какие-то неведомые дали унесся взор Кипарисса, и обещанные оболы за участие в суде никак не вызывают в нем ощущения того счастья, какое владеет Форкином.
– И что я там буду делать?
Голос безрукого калеки:
– Очень просто. Голосовать. А вернешься с полным кошелем – не забудь тех, кому не повезло вытянуть счастливый жребий…
Кипарисс чувствовал – его неудержимо толкают на это дело: не только вынутый жребий, но и люди, которые недавно помогли ему, когда он после тщетной борьбы потерял свое маленькое поле. Он взволнованно отвечал:
– Вам легко говорить! Виновен обвиняемый или нет? Как тут разобраться? – Он резко повернулся к Форкину. – Вот ты – как ты разберешься, за что голосовать?
– А это – смотря что услышу про обвиняемого.
– Услышишь обвинителя и защитника. А как узнаешь, кто из них прав? И сам обвиняемый – как ты его-то взвесишь?
Заплакал ребенок. Женщина горестно сказала:
– Опять есть хочет…
Форкин подошел к жене:
– Потерпи, завтра что-нибудь принесу… – И Кипариссу: – Я почти никогда не знаю обвиняемого. Вижу впервые в жизни. Обвинение говорит – он преступник, сам он возражает – нет, я порядочный человек. Как тут быть?
Женщина, укачивая ребенка, тихонько запела.
Кипарисс медленно проговорил:
– Значит, это самая тяжелая работа, какую тебе когда приходилось делать…
– Что я белый боб положу, что черный – в любом случае получу три обола, – сказал Форкин. – Так чего же тут рассуждать?
Под тихую песню женщины Гиперион пробормотал:
– Хорошо сказал Кипарисс – самая это тяжелая работа…
Кипарисс далеко отшвырнул камешки.
– Не пойду я на этот суд!
– Не будь бабой! – крикнул Форкин.
– Не пойду! Не стану я за три обола убивать человека или отпускать преступника!
– Это только сначала. Потом привыкнешь.
– Не привыкну.
– Но ты должен пойти ради всех нас! От этого тебе не отвертеться.
Кипарисс промолчал. Колыбельная песня зазвучала громче и сладостней в ночной тишине. Форкин смягчился:
– Знаешь, как нам разрешить спор?
– Хотел бы я знать, – миролюбиво отозвался Кипарисс.
– Бросим жребий. – Форкин вытащил из сумки тряпицу, в которой была увязана монетка. – Ты будешь сова, то есть черный боб, я – Афина, стало быть, белый.
Он подбросил монетку. Все внимательно следили за ней.
– Афина! Белый! – первым крикнул Гиперион.
– Вот и все, – засмеялся Форкин. – Значит, я положу белый, а ты черный боб. И мученьям конец.
Все засмеялись тому, как одним махом они свалили с себя ответственность, передав ее в руки богини удачи Тихи.
Женщина перестала напевать, сказала:
– Вот как решается жизнь или смерть человека…
Сова – Афина, черный боб – белый боб… Как упадет монетка, так и будет…
8
Сократ стоит, прислонившись к стене. Вокруг него играют дети. Солнце клонится к закату. Щуря глаза против света, Сократ разглядел роскошные носилки, несомые рабами.
Подчиняясь приказу, рабы остановились. Из носилок вылез человек в дорогих одеждах; подрагивая в коленях, он приблизился к Сократу. Легкая язвительная усмешка сморщила его лицо. Каждое его движение говорит о том, что этот человек осознает свое превосходство над философом.
– Хайре, драгоценный Сократ!
Сократ заслонил глаза ладонью от солнца. Он не узнает человека. И медленно отвечает:
– Хайре. Но почему ты назвал меня драгоценным?
– Потому что я убежден – ни в одном городе на свете, кроме Афин, нет второго Сократа.
– Не пойму – речь твоя насмехается или льстит?
– Когда узнаешь, кто это говорит, поймешь: ни то, ни другое. Просто я хотел почтить тебя.
– Не знаю, кто ты. Прости, против солнца плохо видно.
Человек взмахнул рукой. Это движение взвихрило волну благовоний, которыми пропитаны его прическа, кожа, его одежда.
– Я презренный бедняк, бродяга. Когда-то уличные мальчишки кричали мне вслед: «Комар! Комар!» Многие, вместо того чтоб положить обол в мою протянутую руку, плевали мне на ладонь. И сам ты никогда не дарил меня приветливым взглядом; быть может, тебе противно было даже мое имя…
– Анофелес, – назвал теперь это имя Сократ.
– Да. Комар. Значит, узнал-таки. И согласишься – нельзя правильно судить о человеке в его юности, ибо лишь зрелые годы показывают, удачна или неудачна была его жизнь.
– А сам ты как о себе судишь? – спросил Сократ. – Ты был удачлив?
Анофелес приподнял полу шелкового плаща и усмехнулся:
– Нужно ли отвечать?
– Прошу тебя об этом, – возразил Сократ, чувствуя, что входит в свою стихию.
– Исполняю твою прихоть, хотя и не очень люблю об этом говорить.
– Неприятные воспоминания? – бросил Сократ.
– Да нет. Но – старые обиды, несправедливость… Помнишь, как в годы правления тиранов обо мне ходили слухи, будто я сикофант?
– А ты им не был? – с детской наивностью спросил Сократ.
Анофелес оставил без внимания оскорбление.
– Я беседовал с властителями, с власть имущими, – возразил он. – Но ведь это же делаешь и ты. Это ли – работа сикофанта?
– Смотря по тому, о ком ты с ними беседовал и как. Того, кто в беседе с деспотами клевещет на человека за его спиной, кто хоть единым словом очернит человека, изменив мнение деспотов об оклеветанном в худшую сторону, сам оставаясь в тени, – того и называют сикофантом или доносчиком.
– Спасибо за поучение, – иронически отозвался Анофелес. – Благодарение богам, завистников у меня много! Я и не надеялся никогда на такой успех.
– Чем же меришь ты размеры своего успеха? – живо подхватил Сократ.
– Именно тобой! Ты для меня – самая убедительная мера. Ты был беден; теперь ты еще беднее. Твой плащ сваливается с плеч, твои босые ноги разъела грязь. За всю жизнь ты никогда не наедался досыта – и это пока ты жил один. Теперь у тебя на шее жена, сын, да еще эта нищенка Мирто. Твой дом наполовину развалился, от твоего ваяния остались лишь обломки камней, что валяются по двору. Старость застала тебя в большей нужде, чем та, которую я терпел в юности. Теперь – прости мою искренность, Сократ! – ты представляешься мне бедняком, бродягой, который назойливо пристает к людям…
– Ты сказал очень метко, – живо ответил Сократ. – Я бедняк. Нет у меня серебра, нет ни золота, ни виллы, ни рабов. Я бродяга: брожу по городу с утра до вечера. И я назойлив. Пристаю ко всем, к кому могу, с тем лишь различием, что ни у кого ничего не беру для себя, но – отдаю.
Анофелес захохотал.
– Знаю! Отдаешь! Пустыми руками раздаешь слова, которые никого не накормят и растают как дым…
– Не перебивай меня, Анофелес. Я сказал: я пристаю к людям, вытаскиваю из них, как повитуха ребенка, все, что сокрыто в человеке. Беседую, помогаю людям понять, что они сами могут научиться любой добродетели.
Последнее слово прозвучало в устах Сократа так просто и правдиво, словно вместо «добродетель» он сказал «хлеб».
– Да, ты стремишься к благороднейшей, к лучшей цели, этого у тебя не отнимешь, – похвалил Сократа Анофелес. – И все же ты – лишь учитель бедноты. Ты презирал софистов, резко отвергал их учение. И вот – эти софисты, к которым ныне я причисляю и себя, оказались практичнее: все они приобрели немалое имущество, объединились с демагогами, некоторые из них достигли высоких должностей, и всем им живется отлично.
Почудилось вдруг Анофелесу – бывший ваятель Сократ сам превращается в изваяние, каменеют складки его гиматия, только руки остаются живыми, их движения похожи на движения рук повитух, они хотят что-то извлечь из Анофелеса…
И он искренне предложил:
– Но что же мы тут стоим? Садись ко мне в носилки, продолжим беседу в моей вилле! Пора подумать об ужине…
Сократ не шевельнулся, и Анофелес потянул его за гиматий:
– Пойдем же, дорогой! Мой стол достаточно богат, чтоб усладить твой вкус!
Сократ легонько высвободил руку, улыбнулся:
– Спасибо, Анофелес. Но сегодня я уже приглашен к ужину.
Анофелес мгновенно нашел другой путь:
– Я могу поддержать тебя миной-другой. Ты примешь от меня дар, но это будет твоим подарком мне!
Сократ засмеялся коротко и весело:
– Тебе, благородный Анофелес, ничего не нужно от Сократа!
9
Нередко нас всю жизнь сопровождает что-то от юных лет – какой-нибудь жест, слово, мотив, привычка. Мирто осталась верна обычаю, усвоенному с детства, еще в доме деда: к ужину надевать праздничное платье.
В длинном белом пеплосе, в мягких сандалиях она неслышно ходила вокруг стола, обнося гостей жареной рыбой и вином.
Ксантиппа наделяла ужинающих ячменными лепешками к рыбе. Свет скользил по ее черным волосам, углубляя морщинки на лице. Рядом с ней слева сидел Лампрокл, справа Анит-младший. Возле Сократа поместились Аполлодор и Платон, напротив – Критон с Симоном.
Вокруг стола бегала ручная овца, выпрашивая подачку.
Дворик Сократа полнился веселым смехом. Не смеялся лишь один гость, притворяясь, будто смеется, – Анит. Он знает нечто, чего никто здесь еще не знает. Сегодня он пришел к Сократу только затем, чтоб насладиться своей победой над человеком, сурово осудившим его нравы. Анит сидит как на иголках; одним ухом слушает рассказ Сократа о встрече с Анофелесом, когда-то попрошайкой, а ныне пригласившим его на ужин, другим ухом ловит звуки на улице: когда же раздастся топот копыт?
– Судя по тому, что ты говоришь, – обратилась Мирто к Сократу, – этот внезапно разбогатевший Анофелес доносил на очень многих.
– Доносчик и клеветник недостоин называться человеком, – заметил Сократ.
Анит с трудом владел собой.
Симон сказал:
– Эту мысль ты впервые высказал шесть Олимпиад тому назад.
– Откуда такая точность? – спросил Аполлодор.
Был удивлен и Сократ:
– А я и сам не помню, когда говорил так…
Симон перелез к себе через щель в ограде и вскоре вернулся с целой охапкой свитков папируса. Перебирая их, бормотал:
– Погодите, сейчас найду…
– Клянусь всеми псами, какой огромный труд! – вскричал Сократ, разглядывая свитки; стал читать заглавия: – «О добре», «О красоте», «О поэзии», «О богах», «О любви», «О философии», «О добром расположении духа», «О музыке», «О чести»…
– А, вот! – воскликнул Симон. – Здесь! Видишь? «Доносчик и клеветник недостоин зваться человеком…»
– С каких же пор ты все это записываешь? – спросил изумленный Аполлодор.
– Мне еще мальчиком было любопытно, что говорит Сократ. Когда сидишь на табурете и шьешь сандалии – есть время поразмыслить о том, что слышал. В ту пору Сократ учился и у старых софистов, но то, что он говорил, не говорил ни один из них. Ну, захватило это меня, я и начал записывать. Впрочем, Критон, Симмий и Кебет тоже записывают, что слышат от него.
– Я тоже, – вставил Платон. – Пишу каждый вечер. И Ксенофонт многое записал. Да и другие.
Аполлодор спросил:
– Почему ты, дорогой учитель, подходишь к человеку иначе, не так, как прочие?
Сократ улыбнулся юноше:
– Я простой человек. Обыкновенный и незамысловатый. Мне приятнее складывать человека, чем разнимать его на части. Правда, сначала-то я его на части разбираю, но потом собираю обратно. Скульпторы берут лучшее от десятка мужчин или десятка женщин и отдают это одной статуе. Так и я мечтал поступать с живым человеком, с его образом мыслей, с его чувствами. Все меня сверлила одна мысль: мать моя принимала беспомощных червячков – отец высекал в камне взрослых, совершенных людей; и никто на свете на думал о том, что же происходит между этими двумя состояниями, какое внутреннее развитие проделывает такой червячок, пока не станет взрослым. Кто же вложит в человека знания, кто научит его мыслить, научит добродетели и поведет к благу? Ну вот, я и попробовал заняться этим…
Каждое слово Сократа било Анита по нервам, ему казалось – все направлены против него. Тут старый философ посмотрел ему прямо в глаза. Анит покраснел, потупился.
– Есть учители мудрости, – продолжал Сократ, – которые поставили себе задачей разлагать, разрушать, расшатывать. Мое величайшее желание – складывать и наполнять. Скульптор – строит. И если я в свое время с тяжелым сердцем оставил ваяние, то принципу его – строить – я всегда оставался верен. Над этим я тружусь уже довольно долго – и не жалею.
Сократ встал, отлил несколько капель вина из своей чаши.
– Совершаю возлияние трем милым мне образам, которые преданно шли со мною рядом. Первому – Аполлону, дарителю света, второму – Дионису, дарителю восторгов души, и третьей – Артемиде-охотнице.
Анит расслышал на улице топот копыт. Побледнел. Встал и тоже, как все, совершил возлияние богам. Рука его так дрожала, что он расплескал вино. Перед спокойными словами Сократа, перед его твердостью, перед огромным смыслом его жизни и его мыслей Анит почувствовал себя негодяем. Все хорошее, что еще оставалось в нем, восстало против того, что должно было вскоре свершиться. Ему вдруг гнусной показалась его собственная измена, отвратительным – поступок отца и Мелета. Но было поздно.
Он не вынес напряжения, сдавившего ему виски. Вскочил и без единого слова выбежал со двора.
– Куда это он? Что с ним такое? – встревожились гости Сократа, но тот мягко улыбнулся, отвечая:
– Не обращайте внимания, милые. Порой даже в дурном человеке вспыхивает на минутку искорка совести – или стыда…
– Дурной человек? Что ты говоришь, учитель? – недоуменно спросил Аполлодор. – Какое зло причинил тебе Анит?
– Успокойся, мой маленький. Ничего злого со мной не может стать.
Критон сказал:
– Но он был странен в последние дни. Не нравился он мне.
– Критон прав, – подхватил Платон. – И мне он не нравился.
Сократ беспечно отмахнулся. И в эту минуту во двор вошел скиф. Поздоровался и сказал:
– Архонт басилевс посылает Сократу это письмо. Мне велено выслушать твой ответ.
Мирто охватила дрожь. Ксантиппа не могла отвести испуганных глаз от посланца, друзья в тревоге смотрели на Сократа. Тот развернул свиток и прочитал вслух:
– «Архонт басилевс этим письмом вызывает Сократа, сына Софрониска из дема Алопека, на пятый от нынешнего день, к третьему пению петуха, предстать перед народным судом по обвинению в непризнании богов, признаваемых государством, во введении других, новых божеств, далее, в развращении молодежи».
В гробовой тишине, полной ужаса, прозвенел крик Аполлодора:
– Мой Сократ!
Сократ, нажав ему на плечи, усадил на скамью и обратился к посланцу:
– Передай архонту басилевсу – я явлюсь в назначенное время. Хайре.
Удрученная тишина.
– Не падайте духом, друзья. Афины услышат моих обвинителей, но они услышат и меня.
Критон взял старого друга за руку.
– Но подумай, Сократ, в таких случаях афинский закон…
Тот быстро перебил его, глянул укоризненно:
– Я знаю, что ты хочешь сказать.
Напряженное молчание. Светятся белые стены дома, излучая впитанное за день солнечное сияние. Роса пала на кусты олеандра, в воздухе разлит дурманящий аромат.
Но никто не воспринимает прелесть вечера. Симон за всех выразил тревогу:
– Что же станет с тобой?!
– Дело не во мне самом, друзья. Дело в моих мыслях: что станет с ними? На свете всегда будет происходить борьба между хитростью и мудростью. Побеждать будет то одна, то другая. Но как бы долго ни длилось колебание весов – в конце концов чаша хитрости окажется более легкой… – Сократ погладил Аполлодора по волнистым волосам. – Мудрость – не неподвижная глыба мрамора. Мудрость – живое пламя, которое надо постоянно поддерживать и питать. И это – ваша работа, друзья.
Аполлодор благоговейно слушал, прикованный взором к учителю.
– И ты возьмешься за эту работу, – сказал ему Сократ. – Правда, мой маленький?
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
Много рассветов простоял за свою жизнь Сократ под открытым небом, ожидая восхода солнца. Он любил эту тишину, когда дух человека, не отвлекаемый ничем, бродит по тропинкам, едва ли столь же легко проходимым при свете дня. Но нынешнюю ночь он простоял всю напролет.
Он поднялся на мраморный куб, чтобы лучше видеть Гиметт, из-за которого встанет его милый крестный – солнце.
Сегодня не было тишины. Из домишек Алопеки, теснившихся друг к другу, задолго до рассвета доносились обрывки взволнованных разговоров: с той стороны, с этой – отовсюду!
Бог сна Гипнос не властвовал этой ночью над афинскими крышами. За многими стенами звучали возбужденные речи: ведь утром предстанет перед судом человечнейший из афинских граждан – Сократ.
А он недвижно стоит на мраморном кубе. Слышит этот непокой, слышит испуганные голоса, слышит – сегодня его город не может уснуть. Улыбается: вот оно, благо! В столь злой час я не одинок.
С ароматами олеандров и кипарисов смешивается запах дыма. Кое-где уже встают, кипятят к завтраку молоко, пекут лепешки – суд продлится до вечера. Спешат – не опоздать бы, видеть, слышать, быть с ним…
Бодрствуют и Ксантиппа, и Мирто. Последняя босиком скользнула во дворик, увидела на фоне неба неподвижный силуэт Сократа. Вышла из дому и Ксантиппа. Обе женщины в страхе прижимаются друг к другу. Видят: вокруг силуэта Сократа бледнеет небо.
Мирто прошептала:
– Пусть бы солнце не всходило сегодня!
Мелет велел Абиссе разбудить себя на рассвете. Обычно, когда она приходила его будить, распускала волосы, как он любил. Сегодня Абисса свернула волосы в тугой узел и перевязала цветной лентой. Она знает, куда собирается господин, и потому не ложится к нему, как всегда, чтоб приятным было для него вступление в день.
Абисса нежно поцеловала Мелета:
– Светает, дорогой. Впереди у тебя великий день.
Он ответил на нежность жестокостью: так ущипнул за грудь, что женщина заплакала от боли.
– Да, Абисса, – сказал он, поднимаясь с постели. – Великий день. Мой и Сократа. Сократа и мой.
Абисса посмотрела ему в лицо. Как оно постарело за ночь. Или это глаза постарели? Почему? Ведь судить-то будут не его…
– Ванна готова?
– Конечно, господин, – сказала рабыня, провожая его в ванную. – Какую одежду приготовить тебе?
Мелет мысленно перебрал дары, полученные вчера в виде аванса от Анита. Крикнул, уже сидя в ванне:
– Терракотовый хитон, золотой браслет и… Какой бы взять плащ?
– Алый? – предположила Абисса.
– Нет! Скажут, – подражаю Алкивиаду.
– Может, новую зеленую хламиду, расшитую золотом?
– Вот то, что нужно! Буду во всем новом.
Он оделся после купания и сел завтракать. Абисса рассказала ему о волнении в городе. Но всеми помыслами своими Мелет был уже в ареопаге.
Доев, он повторил перед зеркалом свою обвинительную речь против Сократа, тщательно следя за точностью ораторских жестов и мимики.
Вдруг злобно рассмеялся: погоди, старый! Превращенный в свинью волшебницей Киркой, уж я нынче хорошенько тебе похрюкаю!
Орлы, гнездившиеся на гребнях Гиметта, поднялись в воздух и полетели на север. Они всегда просыпались немного раньше, чем Феб выводил из конюшни своих золотых коней.
На плоской крыше своего домика стоял пекарь Мерин, протирая глаза. Увидел – плывут в небе орлы в сторону Пентеликона.
– Светает, – сказал он, ни к кому не обращаясь, ибо эллины так любят говорить, что разговаривают даже сами с собой, если не находится собеседник.
Но из соседнего дворика на его слова отозвались:
– Н-да, пожалуй, скоро пора! – Это говорил сосед Мерина, Люстрат. – Приготовь что-нибудь поесть, для меня тоже.
– Я возьму с собой лепешки. Они уже испеклись. В лавке сегодня останутся жена с сыном. А ты захвати вина. Денек будет адски жаркий…
– Не рад я, что вытянул жребий, – угрюмо заявил Люстрат.
– А я так прямо трясусь от нетерпения. Глаз ночью не сомкнул. – И Мерин снова потер утомленные глаза.
– Я тоже. – Люстрат стоял на крыше, расставив ноги; взмахнул руками. – Какая ужасная ответственность! Я не знаю, что ему дать.
– Там увидим… – успокоил соседа Мерин.
Однако Люстрат не желал успокаиваться.
– Что ты там увидишь такого, чего бы не знал уже теперь? Запутанное дело! Не разберешься. Я своими ушами слышал, как он внушал тут одному, – пускай, мол, больше полагается на собственный рассудок, чем на высказывания Аполлоновых оракулов. И нечего со всяким вопросом бегать в Дельфы, надо самому находить ответ. В том смысле вроде, так будто лучше получится. Н-да… Может, он и не точно так выразился, как я тебе передаю. Но мы, стоявшие вокруг, поняли его так, что человеческий разум выше божеского. Скверно, правда? И точно так же я своими ушами слышал, как он говорил о том, что нужнее всего для нас, афинян. Вот тут и выбирай, что важнее!
Мерин не разделял озабоченности соседа. Засмеялся:
– К чему раньше времени голову ломаешь? Там ведь будет Ксантиппа. Она все и решит. Представляю, что она будет вытворять! Вот когда пригодится Сократу ее красноречие! Увидишь – на колени бухнется, с плачем будет молить нас о милосердии, будет рвать свои роскошные волосы… Так разжалобит всех присяжных, так разделает на все корки – и тебя тоже! Вот мы и размякнем. Бедняки ведь! Сам посуди: у него мальчонка, да еще другая жена – неужто же мы проголосуем, чтоб из него еще штраф выжимали? Или отправим в изгнание? Он так любит свои Афины – станем ли мы… И думать нечего!
Люстрат покачал головой:
– Ну, не знаю, не знаю, скажу только, очень уж запутанное дело. Говори что хочешь, а у старика рыльце-то изрядно в пушку, это уж как есть. И не все на это так легко смотрят, как ты.
– Хочешь, поспорим – не будет ему ни штрафа, ни изгнания?
– Не хочу.
В сверкающей полосе над восточным горизонтом вынырнул золотой сегмент, всплывая все выше и выше.
Сократ приветственно поднял руки:
– Привет тебе, великое светило! Благословенно будь, что явилось!
Низко поклонившись солнцу, он повернулся. Медленно прошел по двору, от камня к камню. Проходя, прикасался к ним, гладил шероховатую поверхность. Куб гранита заиграл сверкающими крупинками, когда на него упали солнечные лучи.
А вот и Мом! Мой старый милый Мом, насмешник, мой дядюшка и учитель! Ты и сегодня усмехаешься мне, хотя знаешь, какой день меня ждет. Что ж, братец, ты остановился на полпути: не понял, что насмешка – меньше, чем смех…
Сократ повернулся к Артемиде и преклонил колени перед ее красотой. Моя любимая! Ты оберегала мое рождение, когда солнце было в зените своего пути. Ты приветствовала мой первый смех…
Он помолчал, затем, как всегда, поцеловал прекрасное колено.
Под Гиметтом уже замелькали рои золотистых пчел.
– Пора, – сказал Сократ, вставая из-за стола.
– Идем, – одновременно отозвались Ксантиппа и Мирто.
– Вы со мной не ходите.
Они не ответили; молча взяли в руки давно приготовленные кошелки.
Молча вышли во двор – прежде Сократа. Ксантиппа, обернувшись, тихо сказала Мирто:
– Лампрокл придет прямо туда с моим отцом.
– Прошу тебя, Ксантиппа! И тебя очень прошу, Мирто, не ходите со мной, останьтесь дома.
– Сократ, – перебила его Ксантиппа, – я взяла лепешки для тебя. Быть может, это затянется. – И она грустно улыбнулась.
– Я вернусь до захода солнца. Подумайте лучше о том, чтоб встретить меня добрым ужином.
– Ох, если б нам было дано встретить тебя добрым ужином! – вздохнула Ксантиппа.
– Чего ты боишься? – спросил Сократ.
– А этого мало, что тебя обвиняют в ниспровержении богов? Как ты из этого выпутаешься? Я-то ведь лучше всех знаю, что в богов ты не веришь. Подсмеиваешься над ними. С этой вот мраморной Артемидой забавляешься потому только, что она – женщина…
Он засмеялся.
– Ну, если б судьей была Ксантиппа – плохи были б мои дела, пришлось бы последовать за Анаксагором! Как я выпутаюсь, говоришь? Ты, моя милая, не можешь сказать обо мне ничего хорошего. Но не все я делал плохо! И Афины это знают. Сегодня ночью я слышал их.
Женщины не ответили. В это время в калитку постучали. За воротами стояли два скифа.
– Нас послал архонт басилевс…
– Знаю. Я готов, – ответил Сократ.
Он вышел на улицу, где уже собралась кучка любопытных. Ксантиппа с Мирто вышли следом. Сократ примирительно сказал им:
– Ладно, проводите меня немного. А что у тебя в этой большой кошелке, Мирто?
Она было отдернула руку, но Сократ поймал ее и заглянул в кошелку.
– Что такое? Ба, клянусь всеми псами – тут венок из роз!
Он мягко улыбнулся Мирто, подумав: вот как хочет она меня встретить, когда я выйду оправданный из судилища, – розами увенчать мою старую голову!
Но вокруг стояли зеваки, и он сказал:
– Как это славно с твоей стороны – когда я выйду после суда, ты украсишь себя розами в мою честь!
Демагог Анит тоже не спал всю ночь. Ложе его не стояло неподвижно на мозаичном полу: оно покачивалось на пружинах. Но тщетно пытался Анит усыпить себя качанием. Сократ стоял перед его глазами. Анит повернулся на правый бок, ложе закачалось сильнее, но Сократ не исчез; повернулся на левый бок – и снова перед ним Сократ, с тем самым ироническим выражением лица, с каким он говорил на агоре: богач хочет стать еще богаче, демагог желает быть сверхдемагогом, Анит – Архианитом… Что за наказание, все время вижу его! Эдак и с ума сойдешь!
До зари было еще далеко, когда Анит поднялся: вот уже и с постели сгоняет его этот…
Анит почувствовал неприязнь, даже отвращение к сегодняшнему судебному разбирательству. Нельзя ли отменить суд? Притвориться больным? Выдумать срочный отъезд? Неблагоприятное предсказание? Нет, нет. Я не должен отступать.
Взор его упал на статую Афины. Он и тебя оскорблял, когда – как мне сказал сын – перечислял в гимнасии, сколько есть Афин! Благослови же меня и укрепи! Сегодня вечером я принесу тебе за это жертву…
Чего я, собственно, боюсь? Когда осудим его – все от него отвернутся, начнут валить на него самое худшее, правду и клевету – и конец любви афинян к их любимцу! Или любовь их потеряю я? Да пользуюсь ли я ею?
– Махин! – позвал он раба. – Анисовки! И – в большой чаше!
Аполлодор сидел за столом над кружкой молока; мать стояла рядом. Озабоченно наблюдала за лицом сына – по щекам его текли слезы. Мать погладила его по голове.
– Не плачь и ешь, – сказала. – Увидишь, все кончится хорошо.
Аполлодор разрыдался, как дитя.
– Не была ты на агоре! Не читала объявление архонта басилевса! Ничего ты не знаешь, мамочка!
– Не плачь, сынок. Он наверняка докажет свою невиновность. Гелиэя, несомненно, оправдает его…
А юноша кричал:
– Страшно, что такого человека вообще можно предавать суду! Такого праведника!
– Ну не плачь, мальчик мой. Если он праведный человек – ничего дурного с ним не может случиться.
Но Аполлодор не успокаивался. Вскипел:
– А откуда мне знать, праведны ли те, кто будет его судить? Кто его обвиняет? Приживальщик Мелет, хамелеон Ликон и мстительный Анит!
– Заклинаю тебя Герой, молчи! Знаешь ведь, сколько в Афинах сикофантов… Услышат, донесут, и на суд потащат тебя…
Аполлодор немного притих.
– Но, мама, я не один так думаю. Эти мысли так и носятся вокруг – как же мне избавиться от них? Вчера, впервые за все время, что я знаю Сократа, я увидел у него печальные глаза…
Сократ со своими поднялся на холм ареопага, к самому входу для судей. По дороге женщины говорили мало, народ, окружавший их, тоже. Сократ начал было рассказывать веселые истории из своей молодости, но никто не засмеялся, и он умолк и шел молча, лузгая семечки.
На вершине ареопага его ждали Лампрокл с дедом и группа друзей. Все они были тут, близкие ему и дорогие. Он весело поздоровался с ними:
– Будьте счастливы, милые! Как славно, что вы пришли разделить со мной эти часы…
– Часы незаслуженного унижения! – взорвался Антисфен.
– Нет, нет, дорогой. – Сократ сжал ему плечо. – Чтить закон – долг каждого гражданина. – Он обернулся к женщинам. – Вверяю вас обеих и Лампрокла моим друзьям. Они отведут вас вон на тот выступ холма, оттуда вы хорошо все увидите и услышите. То место отведено для родственников.
– Нет! – крикнула Ксантиппа. – Жена имеет право сопровождать мужа и на суде! Разве ты умеешь защищать себя? Других – да, а себя – нет! Кто будет просить за тебя, если не я… если тебя осудят?..
– Но, Ксантиппа, разве могут осудить Сократа? – вмешался Федон.
Плач. Причитания. Жалобы. Просьбы. Все напрасно – Сократ не уступил.
– Со мной пойдут только Критон и Платон… – Тут он заметил умоляющий взгляд Аполлодора, взял его за руку и добавил: – И ты, мой маленький.
Ксантиппа кричала:
– Я хочу с тобой! Я имею право! Я должна просить за тебя!..
Друзья окружили ее, Мирто и Лампрокла, приготовившись отвести их на выступ под названием «Стол Солона».
– Неужели ты даже не попрощаешься со мной? – всхлипнула Ксантиппа.
Сократ поцеловал обеих женщин, сына и улыбнулся:
– Да ведь мы еще увидимся.
Они ушли. Ксантиппа причитала. Глаза Мирто были полны слез. Сократ остался с тремя друзьями.
Один из скифов почтительно указал ему камень, предлагая сесть в ожидании вызова.
– Садись, братец, сам, – ответил Сократ. – Я люблю стоять.
Толпы народа растекались по возвышенности, опоясывающей природный амфитеатр ареопага, на котором были отведены места для дикастерия– одной десятой части пятитысячного собрания верховного народного суда, гелиэи. У входов к этим огороженным местам была самая сильная толчея. Присяжные, выбранные по жребию на сегодня, толкались и теснились совершенно напрасно: входы были еще закрыты, перед ними стояла стража.
– О Геракл! Я потерял свой пинакий… Отодвиньтесь! Помогите же искать! Ведь это целых три обола!
Наконец! Стража открыла входы и, проверяя пинакии, стала пропускать присяжных по одному. Последними выходили из носилок аристократы и богачи, вытянувшие жребий; всем своим видом они показывали, что богатый человек никогда не спешит.
Напротив самого нижнего ряда амфитеатра было возвышение для судей с особым входом. Посередине возвышения стоял большой стол для судьи, писца и глашатая, справа было место для обвинителей, слева – для обвиняемого.
Вскоре на возвышение поднялись писец, глашатай, секретарь, судебный служитель и два скифа. Затем в торжественном одеянии появился председатель суда, архонт басилевс, то есть архонт-царь. Он уселся за стол в самом центре, лицом к рядам присяжных, продиктовал писцу введение к записи сегодняшнего разбирательства, приготовил молоточек, ударами которого по столу водворялась тишина, и приказал ввести обвинителей.
Мелет, как главный обвинитель, должен был войти первым, но он уступил место главе государства Аниту и старшему по годам Ликону. Анит был в синем гиматии, Ликон – в сером. Но наибольшее внимание привлек к себе Мелет своей травянисто-зеленой хламидой, застегнутой на плече золотой пряжкой и затканной золотым узором. В рядах присяжных раздался изумленный возглас:
– Это кто?!
Архонт представил Мелета: поэт и главный обвинитель.
– Введите обвиняемого! – приказал он затем.
На весь дикастерий, на толпу зрителей, усеявших близлежащие выступы, пала вдруг тишина. Тысячи глаз обратились ко входу, который открыли два скифа.
В проеме появилась фигура – большая, крепкая, величественная: Сократ. Как всегда босой, он вошел неторопливой, раскачивающейся походкой; его лысина, опаленная солнцем, была словно из меди. Одет он был тоже как всегда – поверх белого хитона старенький гиматий.
И тут произошло небывалое: большинство присяжных встали и приветствовали Сократа громовыми овациями.
Он смутился. Не хотел верить своим глазам и ушам. Робко обернулся к Критону, который вместе с Платоном и Аполлодором шел за ним.
– Видишь, как встречают тебя твои Афины! – сказал Платон.
Сократ улыбнулся ему:
– Погоди, мой милый, как-то будут они меня провожать!
Рукоплескания стихли, присяжные уселись, и сам архонт пододвинул Сократу сиденье.
Потом он постучал молоточком по мраморному столу и объявил:
– Начинается судебное разбирательство по делу афинского гражданина Сократа, сына Софрониска, из дема Алопека. В обвинении, поданном на него, говорится: Сократ провинился перед законом тем, что он не признает богов, признанных государством, вводит другие, новые божества, далее тем, что он развращает молодежь. Главный обвинитель – Мелет.
2
Мелет обеими руками откинул назад свои длинные рыжие волосы и воздел руки к небу:
– Зевс всемогущий! Зевс Громовержец! Взывая к тебе от имени всех собравшихся здесь мужей афинских, молю: обрати свой взор на наши действия, цель которых – вернуть тебе и всем богам Олимпа почет, величие и любовь – все, чего хотел лишить вас этот человек – Сократ! Он насмехался не только над тобой, о Дий, но и над Афиной, Афродитой, Эротом и другими бессмертными… – Мелет повернулся лицом к Акрополю. – Вы все, олимпийские боги, боги земли, вод и подземного царства, будьте свидетелями суда над этим обвиняемым. Молю вас всех, хранителей наших, благодетелей, дарителей жизни – всех вас, чьим сердцам дороги наше благоденствие и процветание, – не мстите нам! Не отказывайте нам в благосклонности, хоть и тяжка наша вина, ибо мы долго молча терпели распространение подобного зла. Сократ, как подтверждают свидетели, желал низвергнуть вас и возвести на ваше место новые божества!
Подобно недоброму ветру, что пролетает над лугами перед грозой, ужас прошел по всему ареопагу, по возвышению, где теснились толпы зрителей. Ксантиппа, рыдая, прижала к себе сына, словно могла занять у него силы снести этот ужас.
Заключительные слова Мелета еще подлили масла в огонь. Повысив голос, он повторил формулу обвинения:
– Сократ виновен в том, что не признает богов, признанных нашим государством, и вводит другие, новые божества. Виновен он и в том, что портит молодое поколение.
Толпа замерла; толпа объята ужасом и так тиха, что слышно, как опадают иголки с пиний у городской стены. У кого-то из присяжных вырвалось сдавленное:
– Он пропал…
Сократ смотрит на солнце. Рассказывают – он родился точно в полдень, когда солнце жарче всего. Он любил солнце, как брата. Что-то будет сегодня, когда оно встанет в зените и тени исчезнут? Сократу кажется – сегодня с самого раннего утра солнце палит сильнее обычного. Хочет прибавить мне сил, старый приятель, согревает мои старые кости… Как я рад, что ты сегодня здесь со мной, золотая моя голова!
Ксантиппа, опершись на плечо Мирто, рыдает:
– Не могу я этого видеть, не в силах слышать – он ведь такой добрый… Прямо дитя малое…
– Большое, бесхитростное дитя… – шепчет Мирто.
Мелет вволю упился ужасом, объявшим публику. Не нравились ему только глаза его кормильца Анита. Вместо ожидаемого удовлетворения Мелет прочел в них испуг и злобу. Поэт растерянно поморгал, но он знал, что не имеет права переговариваться здесь с Анитом. На последнем совете с Анитом и Ликоном ему было сказано: обвини его в том-то и том-то. Что ж, он это и делает. И, судя по реакции зрителей на его обвинительную речь, делает это успешно. Так что беспокоиться не о чем – надо продолжать. Мелет обладал прекрасной памятью, он помнил, что ему говорить дальше. Поднял руку. Золотой браслет ярко сверкнул на солнце – словно блеснула молния Зевса.
С этого взблеска началась игра, ставкой в которой была жизнь человека.
– Одно за другим я приведу вам доказательства вины Сократа. Он потом, в своей защитительной речи, постарается опровергнуть их, и я заранее вас предупреждаю, что его защита сведется главным образом к утверждению, будто я обвиняю его в отместку за то, что он часто публично называл меня плохим поэтом.
Один из присяжных во втором ряду прикрыл рот уголком своего шелкового гиматия.
– Почему ты смеешься? – тихо спросил его сосед.
– Потому что я тоже знаю стихи Мелета…
– Но это не помешает мне, – Мелет заговорил громче, не считаясь с тем, что на такой высокой ноте голос его неприятно заскрипел, – не помешает мне защищать наших великих богов от его злоязычия!
До сих пор Сократ стоял, обратившись лицом к солнцу. Теперь он повернулся к Мелету. Вынул из кармана горсть семечек и начал грызть их, выплевывая шелуху на землю. Никто ему ничего на это не сказал, но он сам вдруг испугался – в каком месте он это делает! – и виновато оглянулся на архонта. Тот, хорошо зная привычку Сократа, с улыбкой кивнул ему – мол, ничего, можно. Сократ благодарно посмотрел на него и снова перевел взгляд на Мелета. Вспомнив одно из его высокопарных, но бедных мыслью стихов, улыбнулся. Сколько лет может быть этому молодчику? Лет тридцать… Н-да, к тридцати годам пора бы уже владеть своим ремеслом…
Мелет продолжал:
– Еще юношей Сократ каждое утро прогуливался по берегам Илисса со своим учителем, усваивая его взгляды. Но кто же, о мужи афинские, был этим учителем? Философ Анаксагор, приговоренный афинским судом к смерти за безбожие. Лишь благодаря Периклу удалось Анаксагору бежать от казни в Лампсак. Его книга «О богах» была публично сожжена на агоре, но кощунственные мысли его остались в Афинах!
Он бросил на Сократа вызывающий взгляд. Старец выплюнул шелуху и сказал:
– Стану ли я отрицать то, что делает мне честь?
– Слышите?! – вскричал Мелет. – Он признается! Где бы ни был Сократ – он всюду распространял взгляды Анаксагора…
– Нет. Я распространяю свои взгляды.
Мелет был поражен – Сократ сам помогает обвинению!
– Тем хуже для тебя, ибо взгляды, которые ты распространяешь против наших богов, достойны осуждения… Подобно тому как любимый тобою безбожник Демокрит насмехался в Абдере над священными лягушками богини Лето, ты насмехаешься над нашими богами! Сколько лет излюбленной шуткой твоей служит перечисление Зевсовых шашней, как ты их называешь, с богинями и смертными женщинами – все равно, в своем ли обличье или в облике лебедя, быка, Амфитриона, золотого дождя и так далее!
– А разве неправда? – Голос из рядов присяжных.
– Это оскорбление! – Другой голос.
– Нет!
– Да!
Встал человек почтенного вида:
– О архонт басилевс, уполномоченный народом решать все вопросы веры – скажи нам, оскорбление ли это?
Архонт растерялся до того, что даже уши у него покраснели; он боялся взглянуть на Сократа, предполагая, что тот ехидно ухмыляется; он вертел в руках молоточек, словно видел его впервые в жизни… Но тут в рядах присяжных поднялся еще один человек:
– Позволишь ли мне, архонт, ответить на заданный вопрос?
Архонт, хотя и не знал, выручит его этот человек или поставит в еще более затруднительное положение, кивком выразил согласие; но рука его, державшая молоток, так дрожала, что рукоятка постукивала по столу.
Человек заговорил назидательным тоном:
– Говорить о том, в какие отношения когда-либо вступал Зевс со смертными женщинами или с богинями, не оскорбление. Он ведь бог, и делить с ним ложе – честь, особенно для земнородных.
– А что, Зевс все еще… того… занимается этим или больше нет? – спросил пекарь Мерин.
– Кто знает! Боги, слыхать, не стареют, – ответил кто-то из присяжных.
– Примите в соображение еще вот что, – продолжал тот, кто вызвался ответить на вопрос. – Такое общение, как правило, приводило к рождению полубога, а нередко и бога. Не сидят ли на Олимпе, в числе высших богов, дети, рожденные Зевсом от Лето, близнецы Артемида и Аполлон?
Оратора наградили рукоплесканиями. Архонт кивнул – оратор сказал именно то, что думал и сам председатель суда.
Мелет, делая вид, будто выиграл этот пункт обвинения, перешел к дальнейшим доказательствам:
– Как говорит Сократ – а тому есть много свидетелей, ожидающих допроса, – как он говорит, как насмехается над нашей блистательной богиней Афродитой! Одной нам мало, говорит он, нам нужны две! Одна – Небесная, другая – Земная, или Общедоступная. Последняя покровительствует проституткам Пирея, Небесная – элевсинским девственницам и благородным гетерам благородных афинян, причем сама она наставляет рога супругу своему Гефесту с богом войны Аресом…
Хихиканье в рядах.
– Да это всем известно! Отчего бы не говорить об этом и старику? – крикнул Люстрат.
Мелет покраснел; теребя подол хламиды, запинаясь, ответил:
– Ты прав, гражданин… Но важно – каким тоном говорил об этом Сократ!
– А можешь ты нам доказать, что тон этот был враждебным? Можешь привести нам этот тон? Не можешь!
– Свидетели… – забормотал было Мелет, но архонт, не желая долее скользить на столь тонком льду, счел за благо отойти от щекотливой темы.
– Довольно, – сказал он Мелету. – Следующее доказательство! – И в толпу, по которой перекатывался смешок, строго бросил: – Прекратите шум!
Глаза Анита налились кровью. Выбрал же я болвана! Да поразит его Зевс своей молнией!
– На пиру у богатого землевладельца Каллия Сократ заявил, что наш могущественный бог Эрот вовсе не бог, а всего лишь демон…
– Подумаешь! А хотя бы и демон… Мне без разницы, а ты ступай в болото!
– Дальше, дальше, – подгонял обвинителя архонт, видя, как ослабевает интерес присяжных, как люди ерзают, словно укушенные оводом, как вспухают их щеки от кусков, потихоньку засунутых в рот, и как они, прячась за спинами сидящих впереди, потягивают вино из бурдюков.
Для друзей Сократа вспыхнула надежда. «Ступай в болото!» – хлестнул Мелета чей-то резкий возглас. Да только ли один? Так же наверняка думают и прочие, хотя и не осмеливаются выкрикнуть столь резкие слова. Ксантиппа старается поймать взгляд Сократа, блуждающий по скалистым склонам холмов. Мирто – в таком напряжении, что не замечает, как крепко впилась она ногтями в свой праздничный пеплос – едва не порвала ткань…
Мелет опустился на одно колено и, протянув руки к гигантской статуе на Акрополе, воскликнул:
– О Афина, любовь наша, как позорили тебя и оскорбляли! Сердце мое сжимается, стоит мне вспомнить, как этот безбожник, со своей обычной насмешкой, перечислял все твои божественные имена: Парфенона, Полиада, Ника, Промахида… Ах, у нас двенадцать Афин? – говорил он. – Почему же не двадцать? Еще одну – для метельщиков, другую для погонщиков мулов…
– Лжешь!
– Этого Сократ не говорил!
– Когда? Кому? Где?!
Мелет почувствовал: вот момент, когда можно нанести Сократу смертельный удар; теперь надо особо подчеркнуть значение богини для города, ее значение для всех этих всегда и во всем торгашей – ведь тут сидят многие, у кого над дверью дома начертан девиз всей их жизни: «Почет и привет тебе, прибыль!»
– Кто насадил и дал афинянам оливовые рощи? Кто охраняет город от беснования стихий и врагов? Кто печется о выгоде всех афинян? Где были бы вы, безземельные, чьи поля и дома спалил неприятель, чьи стада он угнал, если б Афина не открыла вам свои объятия и не приняла вас в город, где она властвует и царит? Где было бы ваше имущество, мужи афинские, если б сама богиня не помогла освободить город от спартанских захватчиков?
Присяжные и зрители насторожились: такие речи всегда сильно действуют на любого эллина. Анит приятно улыбнулся Мелету. Сократ, следивший за маленькой зеленой ящерицей, перебегавшей в эту минуту по его ступне, встрепенулся и поднял голову.
Сократ знал вес слов. Хоть не был он ни грамматиком, ни ритором – силой слова владел в совершенстве. Хорошо знал он и своих афинян. Всех этих лавочников, жуликоватых и жадных, которые превыше всего чтут деньги. Клянусь псом, ведь именно этот инстинкт стяжания я почти полсотни лет подряд пытаюсь заменить в их душах сокровищами духа и мысли!
Собственность, нажива… Вот слова, на которые он наталкивался всю жизнь, о которые разбивал себе лоб, желая сделать людей лучше. Загадочные, таинственные слова, похожие на непонятные заклинания восточных магов, тающие в густом дыму жертвенных костров. Но множество людей в Афинах внимает им…
Сократ посмотрел на присяжных: некоторые лица, только что насмешливые, на которых явно читалось пренебрежение к поэту с его обвинениями, разом изменились. Они словно утратили индивидуальные черты и стали все на одно лицо: неподвижно-голодные глаза, приоткрытый рот, готовый глотать… Что, ко всем псам? Что глотать? Все что угодно! Лишь бы у меня стало больше, чем было, чем есть у соседа! Еду, питье, оболы, гроздья винограда, куски мяса, а может, даже кости…
Сократ пристально стал следить за Мелетом, когда тот заговорил о том, как обвиняемый недавно оскорбил покровительницу города издевательской пляской; он ставил ему в вину, что, в то время как величайшие ваятели Эллады – Фидий, Мирон, Поликлет – с любовью и благоговением создавали изображения богов, Сократ отбросил молоток и резец, не желая воплощать богов в камне!
– Все мы в обычном разговоре употребляем имена богов, чаще всего Зевса, которому поклоняемся с особым благоговением. А что же Сократ? Он знает одно словечко: пес! Не явствует ли из этого, что Зевс для него – не прогневайтесь на меня, боги, за правду! – все равно что собака! Уже одно это не есть ли проявление оскорбительного безбожия? Далее: каждое утро Сократ встречает восход солнца, поклоняется и молится ему. Однако не подумайте, что он чтит таким образом бога Гелиоса, который на золотой колеснице выезжает в свой каждодневный путь! Как и учитель его, безбожник Анаксагор, Сократ считает солнце всего лишь раскаленной массой, чем-то вроде горящего полена или пылающей печи! До чего же это смешно и глупо – и безбожно! И к богам Сократ относится не так, как должно, не так, как это установлено государственной властью: он осмеливается даже беседовать с ними, словно они не более чем люди, на которых он упражняет свое повивальное искусство!
Слыша, как Мелет нагромождает столь тяжкие обвинения, ловко связывая их в единый узел, и узлом этим душит Сократа, Критон, Платон и Аполлодоρ обступили своего учителя в невольном стремлении защитить его.
– Что вы, дорогие? – сказал им Сократ. – Зачем закрываете меня от этого человека? Или не слышите, как он меня превозносит? Я даже краснею…
Мелет торжествующе усмехнулся:
– Что ответила пифия Херефону на вопрос – кто самый мудрый из эллинов? Она изрекла: мудр Софокл, мудрее его Эврипид, но мудрее всех – Сократ. И чем же отблагодарил Сократ Аполлоново прорицание за высочайшую честь, оказанную ему? Целым толпам народа на агоре внушал он, будто только дураки испрашивают предсказания в вопросах, которые люди сами могут разрешить путем познания! Так умаляет он славу прорицателей, зажимает им рот и превозносит над ними себя – подумайте только, о мужи афинские, он ставит себя выше прорицалищ, ставит смертного выше богов, а человеческий разум – выше оракулов! И при всем том он дерзает изменять человека – прекраснейшее творение богов!
Движение среди присяжных и зрителей. Возникает неприязнь к Сократу: стало быть, он и впрямь собирался заводить новшества, за что его высмеивал в своих комедиях Аристофан?
Аполлодор шепчет Критону:
– Боюсь я за Сократа!
Сократ наблюдает, как Мелет освежает горло водой из чаши. Над ареопагом висит запах человеческого пота и вонь вяленой рыбы. Слетается мошкара, жалит, сосет кровь…
Мелет разражается новым потоком слов:
– Этот безбожник восхваляет богов не за то, что они покровительствуют нам и пекутся о нас, но за то, что они так хорошо создали человека. Человек, по его мнению, создан так замечательно, что являет собою великое творение некоего мудрого и доброго мастера! Стало быть, не Зевса, о мужи афинские, не Афину, Аполлона или других богов, перед которыми почтительно преклоняется Гомер, следует нам почитать – но человека! И создатель его, этот таинственный мастер, удостоился признания Сократа только потому, что хорошо сотворил человека… Не есть ли это то самое новое божество, известное одному Сократу? Он, правда, лицемерно утверждает о себе, будто «знает, что ничего не знает», а вот о новом божестве не знаем ничего мы, зато он – все! Уж не то ли это загадочное божество, с которым Сократ находится в столь тесном общении, что даже беседует с ним, как равный…
– Демоний! Сократов демоний! – со всех сторон раздались выкрики.
– … Но это божество – сила, чуждая нашим богам. Это новое божество, этот Сократов демоний – черный демон, враждебный богам, от века почитаемым в нашем государстве…
Гнетущую паузу, наступившую после этого, разорвали взволнованные возгласы со скамей присяжных:
– Стойте! Кому причинил вред Сократов демоний? Пускай скажет! Видите? Никому!..
– Никому! Никому! – эхом прокатилось по склонам.
Архонт бешено застучал молоточком. Какая дерзость! Слыханное ли дело – так орать во время судебного разбирательства?..
– Тише! Не шумите! Не мешайте! – кричал он, но шум не утихал.
Порядок нарушен – ширится непослушание. Архонт, сам обуреваемый любопытством – чем-то присяжные еще прервут ход разбирательства, – недостаточно строг.
Встает старый, бедно одетый человек:
– Я требую справедливости для Сократа! Потому я здесь!
– Ты ее дождешься, – отвечает архонт.
– Я тоже требую справедливости – для Афин и их божественных покровителей! – вскакивает один из эвпатридов. – Граждане, избавьте Афины от крота, который врылся под почву и перекусывает все корни, ими же Афины всасывают жизненные соки древних традиций, унаследованных от предков!
Мелет с подчеркнутой настойчивостью обратился к присяжным:
– Мужи афинские, прежде чем вы бросите в урну ваш боб, призываю вас: вглядитесь хорошенько в Сократа – вы увидите странное. Думаете, это один человек? Как бы не так: в Сократе – два человека!
Волнение в толпе.
– Который из двух настоящий? Тот ли, который верит в наших богов? Но тогда он не стал бы насмехаться над ними и отрицать их существование. Или – другой, не верящий в них? Но тогда он не должен бы публично приносить им жертвы! Правда, жертвоприношения его убоги: положит на алтарь пучок целебных трав из своего садика, отольет несколько капель вина из кожаного меха… – Тут он страстно повысил голос: – Полсотни лет самому себе строит обвинение безбожник Сократ, враг Афин и всех нас! Предупрежденный приговорами Анаксагору и Протагору, прячется Сократ, опасный распространитель новшеств, от такого же приговора – прячется за Дельфийским оракулом, за своими жалкими жертвоприношениями, которые он принародно возлагает на алтари… Судьи афинские, хорошенько взвесьте эту двойственность Сократа и вынесите справедливое суждение о том, что – правда, а что – нет!
Раздробленные рукоплескания зазвучали: дружные там, где сидели богачи, жидкие в других местах, и были целые ряды скамей, где никто не поднял рук для аплодисментов. Архонт взглянул на солнце, прикинул, что надо выслушать еще двух обвинителей, и решил продолжить разбирательство без перерыва.
3
По знаку архонта к краю возвышения подошел высокий, костлявый Ликон. Закрыв узкое свое лицо полой гиматия, он зарыдал. Голос у него был хорошо поставлен – Ликон умел повышать его, понижать, шептать, греметь, даже заставлять его трогательно дрожать от избытка чувств; последний прием и решил он применить сейчас.
– Мужи афинские! Я начинаю в слезах – простите мне эту слабость. Я плачу, ибо долг обязывает меня обвинить перед вами этого старца… Начать дурно, но кончить хорошо – таким должен быть ход жизни. Но начать столь многообещающе, а кончить перед судом, предстать перед пятьюстами присяжными, перед друзьями – обнаженным, опозоренным… О горе! Оймэ! Сколь глубоко мое сострадание к человеку, который уже не может исправить зло, творимое им в течение всей жизни…
Ликон открыл свое длинное лицо и бледные глаза.
– Повторяю: ему уже не исправить того, что он сотворил, ибо семя его пагубных идей уже принялось в юных душах, проросло и само уже плодит и сеет новые семена плевелов. Этот старец заразил все Афины. Он развратил души многих наших юношей, оставив нам трудную работу – искоренить все вредное, дурное и злое, посеянное им. Видите, мужи афинские, я рыдаю над Сократом вместе с его друзьями, с его женой Ксантиппой и сыном Лампроклом! Почему же сжимается горло мое от горя и сожаления, хотя я обвиняю этого человека? Потому, о афинские граждане, что этот заблудший человек по природе своей – хороший. Потому что он действительно хочет счастья для всех вас и ваших сыновей. Потому что он верит, будто отдает вам свою мудрость и делает человека лучше. Я уверен, Сократ воображает, будто своими неутомимыми собеседованиями с гражданами он достигнет своей цели – превратит Афины, прекраснейший в мире город, еще и в город высочайшей мудрости.
Ликон сделал риторическую паузу и освежил губы водой.
Молодой присяжный – соседу:
– Слыхал? Прославленный оратор, а распустил нюни…
Пожилой присяжный:
– А ты не видишь, что многие из нас тоже чуть не ревут над Сократом?
Молодой:
– Уместно ли это, если он совершил преступления, за которые полагается смерть? Чего этот Ликон не возьмется за него как следует? А то все жалеет, все хвалит – того и гляди, лавровый венок нахлобучит на его лысину и кончится тем, что Сократ отделается каким-нибудь паршивым штрафом!
Пожилой:
– Да так бы и следовало. Штраф – и того довольно с бедняка.
Молодой:
– Ну нет. Я поспорил на десять драхм, что он получит смерть, у меня уже слюнки текут, как я на эту десятку попирую, да с бабой и детишками!
Пожилой:
– Что ж, приятного аппетита. Стало быть, на ужин будешь жрать мясо Сократа. Ладно еще, есть в Афинах и умные люди. Так что, пожалуй, не отведаешь ты Сократова мясца, людоед!
Тут внимание обоих привлек возглас оратора:
– Несчастный Сократ! Такие у тебя большие глаза, и все же ты слеп! Как, чем хочешь ты совершенствовать афинских граждан, чьи образованность, искусство и добродетели прославлены во всем мире? Ты избрал наихудший путь: воспользовавшись своей популярностью у молодежи, которой нравится, что ты сторонник новшеств, воспользовавшись чем, что, говоря языком восточных народов, ты кумир молодых людей, ты воздействовал на них всеми способами, быть может даже колдовством, чтоб оторвать от нас наших сыновей, накапать в их души яд твоих пагубных новых идей об улучшении человека – и сбить их с толку!
Мужи афинские, поверьте мне, молю вас именем всемогущего Зевса, поверьте – я сам долго сомневался в том, что сказал сейчас! Но за моим утверждением стоят неопровержимые доказательства: Алкивиад, Критий, Хармид – сыновья наших древних родов. Отцы их знали Сократа, человека, презирающего корысть и собственность, человека, который превыше всего ставит добродетель и провозглашает, что ей можно научиться. Добродетель многогранную, включающую понятия мужества, справедливости, преданности правде и родине, умеренности, которая ведет человека к тому, что он еще при жизни на земле может достигнуть высочайшего блага и привести к нему своих ближних и даже все государство…
Кто же не захотел бы доверить сына такому учителю, такому мудрецу? Кто не мечтает, чтобы сын был обучен искусству править государством?
Но увы! В этом старце скромность сочетается с манией величия, умеренность с необузданностью, смирение с гордыней и доброта со злобой. Мелет благодаря интуиции поэта увидел верно: в Сократе – два человека! С большим нежеланием беру я в руки нож, чтоб отделить Сократа добродетельного от Сократа – растлителя молодежи.
Отцы посылали к нему невинных юношей, чистых душой, мечтающих послужить родине. Какими же возвращал их Сократ? Надменными, заносчивыми, тщеславными и непорядочными. Как же он, скромный, не научил их скромности? Он, умеренный, – умеренности? Не странно ли это?
В рядах присяжных поднялось жужжание, словно в улье. Ликон выпил воды. Ученики Сократа, окружавшие Ксантиппу и Мирто, страстно заспорили. Платон напряженно смотрел на Сократа, со вкусом лузгавшего свои семечки. Платон хмурился. Он сердился на учителя, зачем тот столь безучастен, когда на его голову валят циклопические глыбы обвинений.
– Ответ на мой вопрос вам, несомненно, ясен, – продолжал Ликон. – Скромность Сократа лишь внешняя, а внутри сидит гордыня. И этой гордыней он развращал молодежь, он заразил ее своей насмешливостью, своим непочтением к богам, он довел молодежь до того, что она стала презирать отцов. Все это Сократ делал не с умеренностью, которую сам же возвысил как одну из главных добродетелей, а, напротив, с неутомимой энергией и страстностью – делал это до сего дня. Какое самоотвержение! Он предпочитал не спать и не есть, лишь бы неустанно удовлетворять извращенную жажду сеять зло с помощью своих «бесед». И так случилось, что самые одаренные его ученики, имевшие все предпосылки стать гордостью Афин, становились их позором…
Друзья Сократа возмутились. Критон спокойно, но твердо выговорил:
– Передергиваешь, Ликон!
Федон вскричал:
– Гнусная софистика! Лживая клевета!..
Но Ликон, не обращая на них внимания, продолжал наступать:
– Только искусству убеждения Сократа обязаны мы тем, что Алкивиад, великая надежда Афин, превратился в наглого осквернителя священных герм, в пропойцу в алом плаще и в конце концов изменил родине… А до чего довело Сократово воспитание Крития? Он стал выродком и извергом, которому нет равных, которого стыдится весь мир…
Антисфен взобрался на самое высокое место «Стола Солона», впереди Ксантиппы, и закричал поверх всего амфитеатра:
– Лжешь, софист! Критий ушел от Сократа и стал учеником твоего учителя, Горгия!
Ликон не удостоил внимания этот выкрик.
– Что представляется нашему взору? Босые ноги, потрепанная одежда, бедный, обветшалый домишко, голодные рты всей семьи? И – его уста, разглагольствующие о добрых намерениях, о справедливости, о совершенствовании человека? Афины ждут от нас справедливого суждения – полезен им Сократ или вреден. Афинам нужны молодые люди, которые могли бы вернуть им былую славу, богатство и могущество. Но таковые не выходили из «мыслильни» Сократа! Он не дал таких мужей своему городу!
Возмущение Сократовых друзей и учеников нарастает. Но Ликон заговорил быстрее, силой голоса перекрывая ропот и выкрики.
– Он учит их своему повивальному искусству, но он его позорит, а не возвышает. И при этом еще обвиняет нас, софистов, – Ликон прижал к груди обе ладони, – нас, которые стремятся возвысить молодежь, выделить ее над толпой, научить ее вести эту толпу, блистать во главе ее! – В этом месте Ликон раскинул руки в обе стороны, как бы отрывая что-то от груди.
Сократ все время стоял на самом солнцепеке, смотрел на Ликона и думал. Славно же они сговорились. Хорошо показали мне, как софистика все передергивает, выворачивает, как она все употребляет во зло. В каком свете сумели они показать то, что я когда-либо делал или утверждал! Вижу, присяжные – воск в их руках. Поэт – и опытный ритор! А я не умею жонглировать словами, как фокусник шариками… Что могу я против них, с моей правдой, голенький, как младенец без рубашонки? Как могу я в столь краткое время, отмеренное мне, опровергнуть всю эту клевету? А ведь еще не выступал худший из них, Анит, который ненавидит меня пуще всех…
Неужели придется мне покинуть Афины? Клянусь псом, не могу я этого! Без Афин не могу я жить – и как же Афины без меня?.. Моя семья?.. Друзья?..
Нить его мыслей прервал громкий возглас Ликона:
– Не я! Все Афины обвиняют Сократа в том, что он отнимает у отцов самое дорогое – надежду родины. Ты, Сократ, украл наших сыновей! Кто вернет их нам?
Сознавая, сколь эффектно удалось ему закончить обвинительную речь, Ликон возвратился на свое место, благосклонно кивая тем, кто демонстративно ему рукоплескал. Он притворялся, будто не слышит, как другая часть присяжных выкрикивает:
– Позор Ликону! Позор!..
Архонт в это время тихо разговаривал с Анитом, следующим обвинителем. Сократ тщетно пытался утихомирить негодующего Платона. Юноша против обыкновения резко возражал ему:
– Да, это твое дело, мой дорогой, но и мое тоже! Ликон оскорбляет и меня вместе с тобой!
И загремел над присяжными и зрителями звучный голос Платона:
– Зачем бы мне идти учиться у тебя, Сократ, если б было правдой, что ты сбил с пути моих близких родственников – Алкивиада, Хармида и Крития? Какой же был бы я слепой глупец! Да только и я, и все, в том числе сам Ликон, отлично знают, что конец их был так жалок именно потому, что они ушли от тебя, Сократ!
На скамьях присяжных, хорошо расслышавших Платона, зашумело:
– Здорово живешь! Ну и галиматья! Этот длинный долдонит, будто Сократ портит молодежь, а молодой-то, Платон, у которого достаточно толстая мошна, чтоб заплатить куче других учителей, добровольно идет к этому старому бородачу… Да еще он в родстве с теми тремя негодяями, так что разбирается в деле… А нам-то теперь что думать?..
– Вот именно! Что?
А в рядах, шуршащих дорогими одеждами:
– И не стыдно Платону! Публично признавать свою близость к такому оборванцу!
– Да, да… Юноша столь знатного рода – и скатился в такую грязь…
– Вот и видно, какую власть имеет этот старик…
Сократ с легкой улыбкой сказал Платону:
– Спасибо, милый, что, защищая себя, ты защищаешь и меня.
– Да! – Платон еще весь дрожал от возбуждения. – Я думаю не только о себе, но и о тебе, мой дорогой учитель! У меня такое впечатление, что именно сегодня ты забываешь о себе…
– О нет, – возразил Сократ. – Я очень много думаю о том, какой я есть – и каким, по всей вероятности, останусь.
4
Поступью человека, привыкшего ходить впереди прочих, вышел Анит. Смрад дубильных веществ не оставил его даже здесь, перед судом: то ли он его уже не чувствовал, то ли гордился им…
– О, политэ! Граждане! – резко воскликнул он, небрежно приподняв руку в знак приветствия. – Вы часто приходите ко мне со своими просьбами. Сегодня я пришел с просьбой к вам: будьте особенно вдумчивы и справедливы в сегодняшнем деле! Вам – решать спор немалого значения. То, в чем обвиняют Сократа, в чем обвиняю его я, – слова тяжелые, но я обязан их выговорить, чтобы вы могли тщательно все взвесить. Мое обвинение гласит: Сократ виновен в величайшем преступлении. Сократ подрывает мощь государства!
Испуганные возгласы. Кое-кто из присяжных в передних рядах даже вскочил, в ужасе подняв руки, чтоб Анит заметил и запомнил. Ведь его благосклонность так важна…
Сократ наблюдал за присяжными: только что аплодировали Платону, а теперь круто повернули в противоположную сторону и разыгрывают перед могущественным демагогом подобострастную преданность…
Жгучая жажда и чувство голода охватили Сократа. Слизнул с губ соленый пот. Солнце жгло его лицо и лысину, ослепляя до того, что лица присяжных сливались перед ним в единую розовую массу. Сократ был удивлен. Таким он себя не знал; таких ощущений у него до сих пор не бывало. Неужели именно сегодня перешагнул он предел физической выносливости? Но нельзя поддаваться слабости. Он обязан защищать не только себя, но, главное, свои идеи, своих учеников и последователей. Попросил глоток воды. На Анита не смотрел, боялся собственного гнева, который всегда рождался в его душе при взгляде на этого человека.
Анит же с удовлетворением отметил, что его резкий выпад против Сократа разом сломил в присяжных склонность к снисходительности и мирному решению. Первым же ударом он лишил Сократа сочувствия многих присяжных. Этим он, однако, не удовольствовался. Знал – у Сократа много врагов, особенно среди тех людей, с которых тот сорвал маску, прикрывавшую зияющее невежество, но и множество друзей, которым он был добрым советчиком. Необходимо было подорвать и их чувство благодарности к Сократу. Анит уже владел приемами софистики. Тем более что наблюдал их и сегодня, в выступлении Ликона. Но Анит был осмотрителен. За его спиной было достаточно судебных дел, чтобы знать, сколь изменчиво отношение толпы. Какой-нибудь пустяк – и в последнюю минуту настроение присяжных повернется в другую сторону…
За себя Анит не опасался. Главный обвинитель – Мелет, и в случае провала он понесет моральную и материальную ответственность (в последнем, впрочем, ему нетрудно помочь). Но тогда Анит не избавится от самого страшного противника! Сократ по-прежнему будет восстанавливать против него человека за человеком, лишит покоя, лишит сна… Раз за разом будет раздевать Анита перед глазами избирателей… И Анит заговорил мягко, чуть ли не ласково:
– Друзья мои! Вы все знаете, что Сократ злоупотребил своим влиянием, воспитывая и моего собственного сына…
– Он еще и об этом! Вот здорово! – раздался голос из первых рядов.
– Таким образом я сам пострадал от Сократовой «заботы» о молодежи. Скольких трудов стоит мне теперь выправить эту испорченную юную душу! Несмотря на это, я клянусь вам здесь, призывая в свидетели всех двенадцать главных богов, что нет никакой связи между моим обвинением Сократу и его дурным влиянием на моего сына!.. – Смущенные хлопки. – Мой сын уже давно стал учеником настоящих учителей мудрости, софистов. – Анит встал в позу главного актера, декламирующего монолог. – Но что мне сын в сравнении с благом нашего города, служению которому я отдал себя целиком?!
Шумные рукоплескания. Но и разрозненные выкрики неудовольствия.
– Вы видите, стало быть, – гладко продолжал Анит, – что я не предубежден против Сократа лично, и в доказательство хочу теперь упомянуть о лучших его делах, о его заслугах перед родиной. Он обнаружил примерное мужество в битвах при Потидее, Амфиполисе и Делии. Я не хочу отнять у него ни малейшей заслуги и потому упомяну о том, как он противился приказам Тридцати тиранов, не считаясь с тем, что рискует жизнью при бесчеловечном убийце Критии.
Присяжные, настроенные дружески к Сократу, оживились; враждебные ему мысленно преклонились перед величием духа Анита, который так справедливо выделяет заслуги противника, притупляя тем самым острие обвинений предыдущих ораторов и даже своего собственного; вопреки своему утверждению, что Сократ подрывает мощь государства, Анит перечисляет лучшие деяния Сократа на благо государства…
Одни друзья Сократа радуются; другие же, особенно Платон, нахмурились. Поняли: в тот момент, когда величайшие заслуги Сократа попали на язык Анита, они были вырваны из уст Сократа. Чем ему теперь защищаться?
Платон посмотрел на учителя. Увидел: на лбу – морщинки озабоченности. Увидел: изменяется лицо Сократа, улыбка, навечно вписанная в него, приобретает черточки боли. Глаза Платона встретились со взглядом Сократа. Это был погасший взгляд, но, коснувшись Платоновых глаз, он мгновенно заискрился обычным своим светом. Платон превозмог страх за учителя, задушил в себе наплыв малодушия. Ободряюще улыбнулся старику.
Меж тем Анит бросал в толпу:
– Если б демократия не одержала вовремя верх над тиранией, Сократ, несомненно, был бы в числе полутора тысяч казненных афинян!
Он приостановился, видя, что писец не поспевает за ним; сделав небольшую паузу, тихонько повторил для писца свои последние фразы. Затем, снова повернувшись к присяжным, отрывисто крикнул:
– Если б наша демократия не победила вовремя, не мог бы Сократ каждое утро по своему обычаю поклоняться солнцу! Но именно к этой, спасшей ему жизнь, демократии он неблагодарен!
Предшествовавшее этому восхваление Сократа удвоило силу удара. Воцарилась мертвая тишина – лишь жужжание насекомых трепетало над испуганным собранием.
Анит продолжал уже с возмущением:
– Он неблагодарен к той самой демократии, которая дает народу такую полноту свободы, как ни одно правительство ни одного государства! – Голос Анита зазвучал слащаво – он решил польстить присяжным: – К той самой демократии, которая щедро раздает деньги из казны всем вам, неимущим и нуждающимся!
Присяжные, сидящие на солнцепеке, потихоньку освежаются глоточками вина. Это коварное винцо в одном вызывает необузданное веселье, в другом строптивость, а кто-то беспокойно ерзает и вдруг, распалясь, выкрикивает:
– Эту мелочь-то? Медяки?!
Возглас этот прорвал и без того уже истончившуюся плотину уважения к суду.
– Требуем работы!
– Отдайте нам наши поля!
Архонту стоит многих трудов восстановить относительный порядок.
– Да пускай даст им выкричаться, – шепчет один богач на ухо другому.
– Ну, не знаю…
– Коли они могут делать что хотят, то и мы можем делать что хотим. Ничего, пускай их!
Но Анит взгремел так, что напугал присяжных:
– И все же! Нашелся среди нас человек, который день за днем обходит город и, где он ни остановится, тут же собирает толпу вокруг себя, чтоб держать речи против нас, демагогов! Слушайте, мужи афинские! И эти речи его, эти разрушительные идеи, находят почву и ширятся!
Анит задел совесть присяжных, и те быстро умолкают: кому это надо – из присяжного вдруг стать обвиняемым?
– Даже со сцены Дионисова театра обращался он к тысячам! – гремит Анит. – Дивитесь – как это так? Я вам скажу. Другу своему, поэту Эврипиду, он вбил в голову, чтобы он защищал в стихах рабов и боролся за равные права женщин с мужчинами!
Не дожидаясь, чтоб из рядов, где снова заваривалось беспокойство, поднялись новые выкрики, он быстро закончил:
– Славно бы выглядели Афины, если бы мы поставили во главе государства женщину, а сами, свободные граждане, принялись бы мыть ноги рабам!
Представление, что на месте Анита могла бы стоять какая-нибудь красавица, а сам он мыл бы ноги рабам, вызвало у неимущих взрыв веселого хохота. Разошедшись, орали:
– Слава Сократу!
Рабовладельцы – а их тут было немало – по настоянию Ликона взялись перекрикивать их:
– Позор ему! Позор!
Анит, ободренный успехом у богачей, которые наконец-то тоже раскачались, живо продолжал:
– Сократ видит зло в том, что люди, стоящие ныне во главе общины, имеют собственный дом и приличную одежду. Он, видимо, хочет, чтобы они жили как рабы! Ходили босиком и питались семечками, как он сам!
Язвительность, которой он рассчитывал рассмешить присяжных, сыграла лишь частично. Многие вдруг вспомнили, в каком притворстве живет Анит, как меняет он и одежду свою, и обращение, как он всякий раз принимает другое обличье в зависимости от того, идет ли раздавать нищенскую похлебку, или в совет, или принимает друзей в своем доме…
Анит моментально почувствовал это и отреагировал мгновенно:
– Сократ лицемерно заявляет: «Знаю, что ничего не знаю». Это разошлось по всем Афинам, но он знает, он один знает, каким должен быть справедливый человек и справедливый правитель! Ему одному ведомо, каким должно быть совершенное государство, и это он внушает своим ученикам. Сократ требует, чтоб во главе государства стоял любитель размышлять! Так, может, философ? Может, он сам?! – В тишину, наступившую после этих слов, Анит кинул вопрос:
– Что же предлагает он вам взамен нашего величайшего достижения, нашей неограниченной свободы? – Он повысил голос. – Ложную свободу, стесненную тем, что Сократ называет добровольной дисциплиной, которая якобы избавляет от духовного рабства!
Сократ повернулся к нему. Посмотрел прямо в его глаза – глаза ящерицы. Анит занервничал. Отвел взгляд. Перенес его с Сократа на присяжных – и вдруг его охватило отвратительное ощущение, будто в рядах перед ним сидят Сократы, Сократы, сотни Сократов…
Его прошиб пот. Он хотел еще многое сказать, но решил поскорее закончить.
– Мужи афинские! Вы слышали обвинение Мелета, Ликона и мое, и каждое из них в отдельности изобличает Сократа. Но перед нами три обвинения, и в совокупности они доказывают, насколько больше вреда принесли Афинам собеседования Сократа, чем пользы. Вы сами решите, умышленно или неумышленно вырывал он Афины из-под нашего влияния, чтобы подчинить их влиянию своему. Вам предстоит решить дело, важнейшее для нашего государства, – великое дело.
Один из захмелевших смельчаков встрепенулся.
– О славный Анит! Великий демагог! – Но тут же пафос его сменился доверительным тоном. – Слышь, братец, коли это такое уж трудное дельце, как ты говоришь, не кажется ли тебе, что три обола за него мало? Может, дашь по пяти?
Со всех сторон подхватили:
– Да и пяти-то мало за такую работенку! Прибавь! Прибавь!
– Молчи, ребята! Прикуси язык! – уговаривал крикунов один из таких же голодных. – Не то в жизни вас не пустят к кормушке!
По знаку архонта судебные служители закричали:
– Тихо там! Тихо!
И стали пробираться к беспокойным.
Однако захмелевший присяжный – хотя видел он двух Анитов сразу, причем куда явственнее, чем обвинители – двух Сократов, тем не менее устремил взор куда надо и, приложив ладони рупором ко рту, гаркнул:
– Ну как, Анитик, прибавишь? Или казна-то уже совсем пуста?!
Голос смельчака потонул в буре криков, смеха, брани, которую архонт утихомирил только угрозой очистить скамьи, откуда неслись дерзкие выкрики.
Эпизод этот был крайне неприятен Аниту. В словах наглецов ему слышался голос Сократа. И слови эти показывали, до чего дошло разложение всякого порядка в Афинах, и еще они убедили его в том, что он правильно решился на такой суд. Скорее кончать!
Он поднял руки:
– Именем олимпийских богов и установлений предков я тоже обвиняю Сократа! Он виновен в том, что не признает богов, чтимых в Афинах, вводит новые божества, совращает молодежь и подрывает могущество государства!
5
Обвинители отговорили свое и отошли на задний план.
Архонт басилевс поправил на голове миртовый венок, символ неприкосновенности, встал и, обратившись к обвиняемому, произнес торжественно, как и подобает говорить в гелиэе:
– Настало время твоей защиты, Сократ. Говори!
Клепсидра начала отмерять капли времени.
Сократ молчал. Голову склонил несколько набок, как бы прислушиваясь к чему-то. Стояла глубокая тишина. Казалось, молчит не один Сократ – молчит весь холм Ареса, все Афины, все небо, вся земля. А Сократ все стоит, слушает, словно хочет слухом уловить что-то в этой тишине. Тишина длилась, капала вода в клепсидре, но никто не осмеливался вступить в Сократово время хоть словечком, чтобы поторопить его.
Пока говорили обвинители, присяжные смотрели на них, на архонта, на членов суда, глашатая, притана – Сократа же задевали лишь беглым взглядом. Но теперь перед ними был один только Сократ. Взгляды пятисот пар глаз облепили его, его босые ноги, сильные руки, пятнали его белый полотняный хитон, сходились на его лице, больше всего – на его сомкнутых губах. Когда же они наконец раскроются! Бежит ведь драгоценное время!
Только теперь присяжные – особенно из новых переселенцев – как следует рассмотрели Сократа. Коренные же афиняне мысленно сопоставляют то, в чем его обвинили, с тем, каким они его знали с давних пор.
Внешний облик Сократа ни в ком не возбуждал жалости. Перед ними не жалкий бедняк, не хилый запуганный старичишка, один вид которого остановил бы руку присяжного, готовую кинуть черный боб в урну. Сократ и в семьдесят своих лет статный, крепкий, выглядит куда моложе. Тело его, чаще открытое солнцу, чем прячущееся в тени, приобрело цвет почвы гудийских виноградников и по контрасту с белым хитоном кажется еще смуглее. Это тоже молодит Сократа. Но резче всего противоречит возрасту лицо, округлое лицо, не исчерченное старческими морщинами, лицо, несущее густую, мягковолнистую, окладистую бороду. Нельзя сказать об этом сильном лице, что оно улыбается; но и отрицать этого нельзя. Лицо Сократа излучает силу воли, радостное веселие и свет.
Бродячий философ, чудак… Как с ним поступить?
Рука Сократа, покоящаяся на согнутом локте другой руки, неподвижна. Рука архонта, лежащая на столе, дрожит. Когда же наконец?!. Рука архонта уже потянулась к молоточку, но тут Сократ широко улыбнулся и спокойным голосом проговорил:
– Мужи афинские! В эти минуты тишины я понял: заговорив здесь, я не подвергнусь никакой опасности и зла мне это не принесет. Довольно долго прислушивался я, не подаст ли голос мой демоний, не предостережет ли меня от этого выступления…
Среди присяжных раздались возмущенные возгласы:
– Слышите? Да он признается с первых же слов!..
– Безумие!..
– Позор!
Сократ поднял руку, прося тишины.
– Я доволен тем, что вы перестали есть и пить и внимательно следите за моей речью. Но мне бы хотелось, чтоб вы умерили поспешность в суждениях, друзья. Вам ведь это легче, чем мне. Это мне тут наступают на горло, не вам; а я не кричу. Начнете кричать вы – заставите кричать и меня, а мне это, согласитесь, вовсе не подобает.
Хуже другое: я не знаю, что сказать в свою защиту. Ибо обвинители мои, как говорится, выбили у меня из рук всякое оружие. Огромный труд проделали Мелет, Ликон и Анит! Да разве сам я вспомнил бы все те подробности, с какими они описали мою жизнь! Однако они не только обвиняли, но и защищали меня. Выглядело это весьма благородно, в высшей степени справедливо по отношению ко мне – и вам, судьи мои, внушило, несомненно, хорошее мнение о моих обвинителях. Но рассудите: стою-то я здесь, притянутый к суду именно этими благородными и справедливыми людьми! И когда слушаю обвинения, мне кажется неправдоподобным, чтоб, к примеру, главный обвинитель, обесславленный мною поэт Мелет, поставил меня перед вами из одного только желания похвалить за заботу об афинянах и увенчать славой, какой недостает ему самому. Не верится также, что два других обвинителя расхваливали меня за мои заслуги перед Афинами только ради того, чтобы распространить мою славу, или что они так хвалят и славят меня в конце моей жизни из любви и уважения ко мне. Эти трое включили в свое обвинение и защиту мою, присвоили то, что полагалось сказать мне, оправдываясь перед вами. Таким образом они сделали меня на это время безоружным.
Сократ плавно опустил руки.
– Этот коварный прием, эта ораторская ловкость, достойная софистов наших дней, застала меня врасплох. Мой язык, всегда с трудом пробивающийся к правде, не так гибок и, право же, не сходен с угрем или со змеей.
Если теперь, после моих обвинителей, я стану повторять, что доброго я сделал за свою жизнь для родины, то уже только потому, что они завладели этим до меня, вам будет казаться, будто я сам продолжаю их обвинения против себя. Ведь всякую мою заслугу они тотчас затоптали в прах – и боюсь я поднять ее из праха, ибо теперь она будет уже нечистой.
Но о главной моей заслуге перед родиной, далеко превосходящей мои воинские дела и мое сопротивление произволу Тридцати тиранов, – о моих идеях, которые я сею среди людей, об этом-то самом важном они вообще не упомянули. Поэтому я обращаюсь теперь к вам, афиняне.
Не говорят ли: Сократа можно всегда найти там, где собирается много народа? Там-то он и применяет свое повивальное искусство, помогая рождаться пониманию: что такое добро и зло, красота и уродство, что добродетель, а что порок, что справедливость и что – несправедливость? О Сократе говорят – он просто одержим этой деятельностью. Как же не поспешить Сократу сюда, когда он знает, что здесь его будет слушать пять сотен человек? Может ли он упустить столь редкостную возможность, когда ему уже стукнуло семьдесят, когда он накопил огромный опыт и когда самая страстная его мечта – потолковать об этом с добрыми людьми?
Видите – вполне естественно, что я не мешкая поспешил на столь заманчивое приглашение и не стал искать никаких предлогов уклониться от приятной встречи с вами. Я благодарен Аниту и его друзьям Ликону и Мелету за такое приглашение. Всем известно – я не пессимист и вижу мир отнюдь не в черных красках. Поэтому я говорю: кто знает, что доброго принесет этот день и кому? Мне, обвиняемому, обвинителям моим или вам, присяжным?
Рассмотрим же вместе несколько крошек, по нечаянности просыпанных моими обвинителями и потому оставшихся для меня. Рассмотрим и то – да простят они мне слово правды, – где они напутали.
Сократ шагнул ближе к краю возвышения и раскинул руки:
– Ведь я – и в этом никто мне не откажет, – я простой человек, ничем не выдающийся, и неуместно Мелету сравнивать такого, как я, со столь славным мужем, как Гомер. В богах, изображенных Гомером, куда больше кипучей жизни, чем во многих земнородных. Эти боги полны человеческих чувств и страстей. Поэтому Мелет ошибается: не я сочинил все эти давние предания о богах, признанных нашим государством. Не я изобретатель сочных любовных историй о них. Я только любознателен, любопытен, я только рассуждаю и беседую обо всем этом с людьми. Разве не интересный предмет для разговора? Разве не видел я, как вы все оживились, едва я упомянул об этом единым словечком? Да, я подсчитывал, скольких смертных женщин осчастливил Зевс своей благосклонностью. Считал, сколько есть Афродит и Афин. Уже в этом подсчете кроется некая божественная сласть, которую, к сожалению, не испытывает Мелет. Вы все умеете считать, многие – лучше меня. И эти многие знают, что я так и не досчитался до окончательного числа в этом Эротовом круге богов. За что же осуждать счетчика? Он ведь только считает. Однако я с изумлением вижу, что Мелет осуждает не только Гомера, но и самого Зевса Громовержца – за то, что он недостаточно целомудрен и сдержан…
Пригоршни смешков со всех сторон. Но Сократ, ни на что не обращая внимания, невозмутимо говорит дальше:
– И через меня, сухого счетчика, Мелет укоряет богиню Афину – зачем она является в стольких обличьях, в стольких уделах…
Смех усилился. Мелет побагровел от злости. Крикнул:
– Как можешь ты шутить?!
– Клянусь псом, я не шучу! – возразил Сократ. – Я только наслаждаюсь богатством нашего богословия. Мои обвинители сказали, что я люблю Демокрита, самого веселого из философов. Люблю. Его труд «О добром расположении духа» – мое любимое чтение. Когда на пиру человек потягивает с друзьями вино и развлекается, глядя на фокусника, ему не нужно напрягать волю, чтоб сохранить доброе расположение духа – оно держится само. Демокрит же советует – и я с ним согласен – сохранять доброе расположение духа даже в самые тяжкие часы жизни. Никто из вас, конечно, не собирается убеждать меня, будто я тут пью хиосское вино и радую свой взор ловкостью фокусников. Вы все, несомненно, согласны в том, что клепсидра отсчитывает довольно горькие капли моей жизни, и если есть здесь среди нас фокусники, то им, по всей вероятности, и в голову не приходит меня увеселять. Посему простите мне, что я не призываю на помощь богов, как то делал Мелет, не роняю крокодиловы слезы, как Ликон, и не прибегаю к начальственным окрикам, как Анит… В шум, поднявшийся после этих слов, он бросил:
– Однако не отклонились ли мы малость?..
Ощущение внутреннего жара у Сократа усиливалось; усиливалось и ощущение внешнего жара. Зной становился тяжким ему. Он глянул на солнце, поднимавшееся к зениту. Что это? Неужели и ты, милый брат, сегодня недобр ко мне? Сократ стер пот со лба. Мелочь. Простое движение руки. Но близких его, никогда не видевших у него такого жеста, он напугал.
– Знаю, я больше понравился бы обвинителям – и, быть может, тем из присяжных, которые, сидя здесь, вспоминают, как я когда-то наступил им на любимую мозоль, превратившуюся ныне, спустя годы, когда они увидели меня здесь в роли слабейшего, в болячку, сочащуюся сукровицей, – я больше понравился бы им, если б попричитал над собой. Если б привел жену, чтобы она плачем и мольбами смягчила вас, если б я тут, при стольких свидетелях, поклялся – хотя бы этим своим псом, – что не буду больше шататься по агоре, по гимнасиям, рынкам, не буду ни с кем больше беседовать. Милый мой Мелет и вы, Ликон и Анит, – этого от меня уже до вас требовали другие. Не сердитесь на меня за правду, но этими другими были Критий и Хармид – они даже, когда я не подчинился им, издали закон, запрещающий мне разговаривать с молодыми людьми и обучать их искусству риторики.
Сильное движение в рядах.
А Сократ неудержимо продолжает:
– Случайно ли такое совпадение между проклинаемыми убийцами афинян и вами тремя, или оно отражает некую более глубокую связь?..
– Протестую! – вскочил Анит, побагровев до синевы. – Такие нападки недопустимы! Требую, чтоб архонт…
– Требую, чтобы архонт не позволял Аниту говорить во время, отведенное для меня, – громко и твердо перебил его Сократ, затем повернулся к Аниту. – В чем же тут нападки? В том ли, что я вспоминаю недавние события и по старой привычке рассуждаю вслух? Кого это задевает? И почему?
– Требую, чтоб архонт… – снова начал было Анит.
– Поздно спохватился, Анит, теперь пять сотен афинян слышат и еще услышат то, что тебе хотелось бы скрыть от них. Спроси самого себя, и Мелета, и Ликона – зачем были вы столь неосмотрительны и заставили меня говорить публично?
Анит бросился к столу судей, но архонт остановил его движением руки:
– Прости, Анит. Но по закону право говорить имеет теперь только обвиняемый.
Анит в ярости закусил губу. Он прав, этот демонический старик! Я сам вытащил его сюда! Я дурак! Но погоди – последнее слово за мной…
– Я должен вернуться к Мелету, – продолжал Сократ. – Он сказал, что видит меня как бы двухголовым и что одними устами я говорю – верю в богов, другими – не верю.
Пойдем по порядку. Да, я оставил резец скульптора, но я-то все-таки, пожалуй, лучше знаю, по какой причине. Еще молодым человеком был я одержим мыслью – формовать и лепить вместо недвижных тел души живых людей. Мне так хотелось, чтобы среди мраморной красоты Афин жили люди, такие же прекрасные, благородные и высокие духом. Как видно, опасная одержимость, правда? Какая ребячливость! Ведь если бы я столько же трудился над изваяниями, сколько давал себе труда с людьми, я мог бы стать преуспевающим скульптором, мог бы жить в покое, пользуясь уважением и авторитетом, и не мучил бы ни Ксантиппу мою, ни себя, ни вас, афиняне. Но жило во мне неотвязное чувство, жалило меня подобно скорпиону – чувство, что греки, у которых есть свои Фидий и Мирон, нуждаются и в своем Сократе…
– Отлично, Сократ! – взорвалось в публике.
– Видишь, Мелет, ты не понял, кто такой Сократ и почему сами Афины назначили ему иное поприще, чем поприще ваятеля. Мелки твои придирки, Мелет. Обвиняешь меня в том, что я возлагал на городские жертвенники только связки целебных трав из моего садика да отливал богам капли красного гудийского вина.
Сомневаюсь, позорно ли для меня то, что я ни на ком не наживаюсь, что я беден. Но именно моя бедность больше всего побуждает Анита и Ликона заниматься моей особой. Ибо они понимают: моя бедность, пускай безмолвная, говорит афинянам кое-что о Сократе – но еще и о тех, других; и пускай нет у моей бедности глаз – все же смотрит она на них отнюдь не сквозь пальцы.
Волнение пробежало по рядам присяжных. Одни ворчат, недовольные, другие выражают одобрение Сократу.
– Ты же, Мелет, видишь только то, что можно увидеть глазами. Связку растений видишь, но не замечаешь, что я возложил на общественный алтарь самое ценное, что у меня есть, – свою жизнь. И если я не ошибаюсь, то эти мои слова – не просто поэтическая метафора. – Он раскинул руки. – Быть может, они окажутся правдой в буквальном смысле!
Сократ немного повысил голос – ему казалось, что когда он говорит тише, то начинает дрожать. Помолчал.
Молчали теперь и присяжные, словно задумались – над Сократом и над тем, зачем они здесь. В мертвой знойной тишине издали доносились лишь глухие рыдания. Если б голосование состоялось сейчас – в урнах насчиталось бы куда больше белых бобов, чем черных. Но сейчас еще не голосовали.
Медленно, с неумолимой размеренностью, капала вода в клепсидре; и Сократ заговорил опять:
– Ты, Мелет, не зная, с какой стороны подступиться ко мне, служителю своего любимого города, прицепился к моему демонию. Назвал его черным демоном, чтоб повредить мне. Я же – и я никогда этого не скрывал – называю его божественным голосом. Божественным потому, что голос этот всегда был добр, рассудителен и пекся о моем благе. Он предостерегал меня перед всякой опасностью, в какую я бросался без оглядки. Сократ – и бросался?! А как же его знаменитая умеренность, его софросине? – скажете вы. Не заблуждайтесь, мужи афинские! Кровь во мне – не холодная. Я не тепел всего лишь, сердце мое вспыхивает, как клок соломы, когда речь идет о чем-либо прекрасном и добром. Понятия красоты и добра я соединил в одном слове: калокагафия.
Милый мой демоний! Он оберегал меня от самого себя. Вы, мои обвинители, даже и сейчас можете убедиться, что никто не приносит человеку столько вреда, как он сам. Подумали ли вы, какой вред нанесли вы сегодня себе, вы трое, лишенные доброго демония?
Ты, Мелет, считаешь моего демония черным демоном. Но зачем же я так часто беседовал о нем со всеми этими торговцами, башмачниками, с жителями Афин, с поденщиками, с моими учениками? Поверьте – вовсе не затем, чтобы дать повод обвинить меня. Но затем, чтобы каждый, кто в согласии с добром, кто умеет слышать, – чтоб каждый научился слышать этот голос, который тихонько звучит в его душе. Однако для этого нужно большое терпение, а его нет у людей, да, кроме того, этот предостерегающий голос нередко отговаривает человека от поступка, который тот во что бы то ни стало желает совершить, от которого не хочет отказаться. Как знать, быть может, многие заглушают в себе этот голос, не подозревая, что он оберегает их благо?
Может, и ты сам, Мелет, слышишь такой предостерегающий голос. Может, ты слышал его и сегодня, когда он убеждал тебя не давать против Сократа ложных и искаженных показаний – но ты его не послушал!
Эти слова усилили волнение среди присяжных.
– Куда это ты уставился? – спросил Мерин Люстрата.
– Никуда. Слушаю – нет ли и у меня голосов…
– Умник! Они ведь вроде только перед важным решением бывают…
– А это что – не важное? Судить, виноват человек или нет?
– В общем-то да, – вздохнул Мерин.
Сократ все еще обращался к Мелету:
– По твоим словам, у меня – две головы… – Он шагнул к Мелету, тот отскочил в испуге. – Не бойся, – рассмеялся Сократ, и видно было, как искренне он смеется, быть может забыв о том, где находится и с кем говорит. – Ни одна из двух моих голов тебя не съест! Нет, ты взгляни вблизи – видишь, голова у меня одна, правда довольно большая, и многим ужасно досадно, что в ней столько всего варится… Но я-то в своей голове поддерживаю кое-какой порядок, ибо забочусь о ней каждодневно, выметаю мусор, причем есть у меня обыкновение отметать его подальше. Это хорошее обыкновение, Мелет, только порой неприятное для соседа, тебе не кажется?
Он подошел еще ближе к поэту. Тот поднял руки, как бы обороняясь. Сократ, усмехнувшись, остановился.
– Все еще боишься меня, словно я собираюсь бросить тебя львам, но я всего лишь хочу показать тебе, по каким кривым дорожкам ковыляют твои мысли. Слушай же! – Голос Сократа стал громче, окрасился страстностью. – Какое же оно, это божественное, о котором я говорю? Мерзостное оно, отвратительное? Или, напротив, справедливое и мудрое? Или ты полагаешь, что божественное несовместимо с понятием справедливости и мудрости? Стало быть, по-твоему, боги не справедливы и не мудры? Просто – люди? Вот, значит, какой ты безбожник?!
Жестокая ирония, раздавившая Мелета, развеселила присяжных, но привела в ужас друзей и учеников Сократа. Им знаком был этот жар, эта страстность, когда Сократ подходил к заключительным выводам в своих беседах или бывал очарован чем-либо великим и прекрасным. Но здесь, на этом месте, страстность его пугала их.
– Ничего такого я не говорил… – пробормотал Мелет, но Сократ не отступал:
– Моя цель, Мелет, найти божественное совершенство, хотя я и знаю, что полного совершенства не может быть ни в чем…
– Опять кощунствуешь! – взвился Мелет. – Сам напрашиваешься на наказание!
Сократ – с наигранным удивлением:
– Как? Разве я не в Афинах, о которых вы твердите, будто здесь господствует абсолютная свобода? – Он усмехнулся. – Я забыл: эта ваша абсолютная свобода заходит так далеко, что допускает любое злоупотребление… – заметив, что слова эти возмутили его обвинителей, он спросил:
– Да разве стоял бы я теперь перед пятью сотнями граждан, вынужденный выслушивать ваши ядовитые доносы, если б в Афинах была подлинная свобода? Ни в коем случае! Впрочем, этой вашей безбрежной свободы я не желаю ни себе, ни тем более Афинам. За нее приходится расплачиваться каждому, кто честнее своего противника!
Возбужденные возгласы со скамей присяжных слились в сплошной гул, в котором потонул стук архонтова молотка.
Сократ снова повернулся к Мелету:
– Видишь ли, Мелет, не только у Гомеровых богов и героев беру я совершенное ими добро – я собираю его, переходя от человека к человеку; все хочу доискаться, из чего же состоит доброта, человечность и справедливость. Так мыслит любитель философии – так же работает ваятель.
Ты утверждаешь, Мелет, что, собирая таким образом крохи добра, я ввожу новые божества; должен тебя поправить: я хотел бы дать нашему государству новых граждан, более совершенных, лучших, чем нынешние, но это я уже, собственно, перешел к беседе с Ликоном, который плачет надо мной оттого, что мне это не удается. Но, клянусь псом! Хотел бы я видеть человека, которого бы мой неуспех терзал больше, чем меня самого! Я порчу молодежь, сетует Ликон. Ну, тут он приписывает мне сверхъестественное могущество и силу. Допускаю, не вся нынешняя афинская молодежь такова, какой мы хотели бы ее видеть. Она оживляется там, где угадывает повод попроказничать, но засыпает там, где перед нею серьезное дело или труд. Однако таких – меньшинство, да и взрослые не всегда подают им добрый пример. Я даже должен признать, что немалая часть молодежи испорченнее, чем была прежде.
Ах, если б мог я восполнить пробел в моих знаниях и понять, почему так случилось, что так искривило души афинян! С той самой минуты, как Ликон обрушил на мою голову обвинение в такой нравственной катастрофе, я все ломаю эту свою голову, пытаясь понять, какая часть вины лежит на обстоятельствах, какая на прочих людях и какая на мне!
Боюсь, Ликон, если б и ты начал ломать над этим голову, то плачу твоему – но тогда уже искреннему – не было бы конца, тем более что среди множества людей, повинных в этом, ты нашел бы изрядное количество граждан, стоящих к тебе ближе, чем я!
Знакомый голос несется к Ксантиппе, ни словечка не теряется даже на таком расстоянии, но каждое ужасает ее:
– Боги, смилуйтесь! Он не защищается, он говорит против себя!
Мирто, поддерживавшая Ксантиппу, почувствовала, как та все тяжелее и тяжелее налегает на нее.
– Если отцы жалуются, что сыновья у них неудачные, – продолжал Сократ, – то странно с их стороны винить в этом одного-единственного человека, да еще именно того, кто часами рассуждает с этими юношами о добродетели, да и сам, в жизни своей, не в разладе с нею, и хвалить тех, кто, разглагольствуя о добродетелях, ведет порочный образ жизни…
Те из присяжных, кто с начала разбирательства открыто роптали, вздохами или смехом поддерживая Анита, считая его по праву вдохновителем обвинения, теперь, будто обвиненные сами, съежились, примолкли. Другие же, для которых речи Сократа были как бы их собственные, смелевшие все больше от вина, зашумели:
– Имена! Назови имена!
Анита трясло от бешенства.
– Вы хотите знать имена, добрые люди? – живо откликнулся Сократ. – Но этого вы не должны спрашивать! Так нельзя! Будьте благоразумны! Впрочем, имена-то известны каждому афинянину, так зачем же мне носить сов в Афины.
Снова смех. Платон озабоченно переглянулся с Критоном: что делать? Тот кивнул, что понял. Но они не могут остановить Сократа, хотя в глазах присяжных защита его все меньше и меньше походит на защиту.
Критон коснулся руки Сократа – тот отошел от него, не прерывая речи:
– Величайшие мудрецы Эллады и других стран веками занимались вселенной, они чаще глядели на небо, чем на землю, и сами люди, за малым исключением, избегали исследовать дела человеческие. Исследовать человека.
И вот! Я, целиком посвятивший себя этим исследованиям, воображая, что буду больше любим, чем ненавидим, – я вижу теперь, что если я хотел жить спокойно, то должен был избегать дел человеческих. Ибо тот, кто проникает в сущность звезд, атомов, вселенского коловращения, числа стихий и тому подобное, никогда не призовет на свою голову таких невзгод, как тот, кто затронет сущность человека.
Гром одобрительных возгласов покрыл его слова. Здоровое ядро афинских присяжных все еще было с ним.
– Анит хорошенько наточил кинжал, чтоб вонзить его мне в сердце. Удар, нанесенный им, конечно, кажется вам самым тяжелым.
Я же поражен лишь неожиданностью этого удара, но отнюдь не его справедливостью, ибо справедливости в нем нет, и потому сердце мое не испытывает боли. Понимаете вы? Я ведь предстал перед судом за любовь к Афинам – а меня обвиняют в том, что я нанес им вред! Вы, несомненно, уже сами обнаружили противоречие в обвинительной речи Анита: всю жизнь любит родину – и будто бы стремится погубить то, что любит!
Тысячи мелких проявлений приязни и сочувствия так и сыплются на Сократа: тут блеснет прояснившийся взгляд, там дружеский кивок, ободряющая улыбка…
Второй раз наступает момент, когда руки очень многих присяжных готовят белый боб.
Те же, кто хотел угодить Аниту или свести собственные счеты с этим слишком откровенным Сократом, беспокойно ерзают, взглядом ища у Анита поддержки для черного своего решения.
Анит внимательно следит за ходом дела. Ход этот ему не нравится. Анит тяжело дышит. Защитительная речь Сократа опровергает большую часть наших обвинений, меньшую часть их он признает. Все может свестись к третьей ступени наказания – к штрафу, а при таком настроении присяжных – чуть ли не к оправданию. Мелет чересчур круто повернул к высшей ступени – к смертному приговору. На это, пожалуй, рассчитывать нечего – Сократа слишком любят. Нужно не то и не другое: я хочу среднего, что устраивает меня больше всего, – изгнания.
Едва подумав об этом, Анит ухмыльнулся. Там где-нибудь, в македонской Пелле или в Сардах, – там и рассуждай с каким-нибудь монархом о том, каким, по-твоему, должен быть монарх!
Анит одернул сам себя: но как же добиться этого среднего?
Голос Сократа вырвал его из задумчивости:
– В пример моих злодеяний Анит привел собственного сына. Ладно. Возьму и я тот же пример. Это было ведь очень важно для меня, и я много труда положил, чтоб воспитать сына афинского демагога. Но какое воспитание получил этот юноша до того, как отец привел его ко мне? Многие из вас могли бы ответить на этот вопрос вместо меня. Благосостояние, неограниченная свобода, распущенность. Он рос среди всего того, чего я советую молодым людям избегать. Я переоценил себя, надеясь – хоть и недолго – исправить такого юношу. Тот, кто привык к пороку, желает продолжать жить в нем и начинает ненавидеть того, кто пытается отвести его от порока; тот бежит от такого человека, а никоим образом к нему не привязывается, и уж тем более не желает следовать ему в скромности.
Не один молодой Анит – и другие юноши, избалованные благосостоянием, приходили ко мне вовсе не для того, чтобы я научил их презирать порок. Они приходили ко мне, чтобы, считаясь моими учениками, добиться высоких должностей и званий. У Афин хорошее зрение и слух, Афины давно знают, что беседы свои с молодежью я направляю к тому, чтобы она сделалась лучше, узнала бы, что такое добро и справедливость, и руководилась бы этим – не на словах, а в делах, – чтоб с течением времени, возможно, повести за собой все государство. Ведь целью моего учения было, чтоб каждый прожил жизнь в счастье и благе – своем и всей страны! Допускаю, друзья, прошло слишком мало времени, чтобы Афины могли зажить в состоянии блага. Но времени прошло достаточно, чтобы афинский Тартар превратился если еще не в Элисий – мои требования не так чрезмерны, – то хотя бы в такое место, где бы люди жили не хуже зверей…
Анит по-прежнему напряженно следит за развитием действия: все удается этому старому чародею! Нас топит – а его дела все лучше и лучше… Как умеет он обводить людей вокруг пальца! Как они притихли! С каким благоговением слушают его!
А Сократ продолжает пылко:
– Помните: афинские граждане – избиратели, и они, конечно, предпочли бы видеть во главе государства человека скромного, как я, а не жаждущего славы спесивца и стяжателя. Теперь, афиняне, вы могли бы сказать обо мне – вот второй Сизиф. Учу, учу, а как доучу – ученик стал не лучше, а хуже, и я сызнова принимаюсь за каторжный труд с новым учеником. О нет, не всякий раз выпадает мне столь хлопотный и бесцельный Сизифов труд! Знаете ли вы, со сколькими людьми беседовал я за эти полсотни лет? Я и сам этого не знаю, дорогие мои друзья. Как же вы полагаете – разве все они стали Критиями? Но это значило бы, что вы дурно судите о себе и о своих сыновьях. Не надо видеть мир в черных красках!
Ропот тех, кого задели эти слова, заглушают близкие и далекие выкрики согласия.
– Слышите? Они и здесь! Со мной!
Морозец ужаса пробежал по спине Анита. Сто Сократов! Вот он уже и слышит их!
– Они не покинули меня, старика, в день суда, когда на меня сыплются тягчайшие обвинения, и этим они подают убедительное доказательство своей нравственной высоты!
И среди вас, присяжные, многие знают меня давно, и не с дурной стороны. Вы – лучшие очевидцы всего того, что совершил я за свою жизнь. Я ведь и с вами делился всеми моими знаниями, как голодные делятся куском хлеба. Кто же лучше вас знает, каков я? Стало быть, вы-то лучше всего и рассудите, действовал ли я во вред Афинам или хоть крохами, да способствовал укреплению их духовной силы. Поэтому вы – не только судьи, но и свидетели мои.
Люди вставали, вскидывали руки:
– Правильно говоришь! Мы – твои свидетели!
Но тут из кучки Анитовых приверженцев выбрался один присяжный, протолкался к возвышению:
– Я тоже твой свидетель, Сократ! Я своими глазами видел, как ты бесстыдной пляской на агоре насмехался над Афиной, оскорблял ее! И чтобы мы после этого оказали тебе милость, призвав на свою голову месть богини? Мужи…
– Остановись! – вскричал архонт. – Ты не имеешь права вмешиваться в ход судебного разбирательства!
Но Сократ попросил:
– Время – мое, но дай ему слово, архонт. Будь так добр! Пускай скажет, чем он может доказать, что мой танец был оскорблением богини.
– И докажу! – крикнул присяжный. – Пускай Сократ здесь, на месте, пропляшет так, как плясал он на агоре перед изваянием богини!
Дикая мысль! Буря протеста…
– Плясать перед судом? Оказывать суду такое неуважение?! – резко возражает архонт.
– Пускай пляшет! – требует Мелет.
Сократ не в состоянии пальцем пошевелить. Его большая лысина, все его лицо блестят от пота.
Воздух содрогнулся от криков:
– Да! Пляши! Танцуй!
Сократ не двигается.
Присяжный кричит так, что едва не рвутся голосовые связки:
– Видите! Не желает! Боится!
Стоит над Сократом полуденное солнце, поднявшееся в зенит небесного своего пути. То же солнце, под которым родился он семь десятков лет назад.
Какой дивный момент – полдень! Вершина дня, когда ничто не отбрасывает тени…
– Танец! Танец!
Архонт застучал было молоточком по мрамору стола, да заметил жест Анита, повелевающий не вмешиваться. На лице архонта – удивление, недоумение, однако молоточек он откладывает.
Сократ послушно выходит вперед, готовясь к танцу.
Платон тихо просит:
– Умоляю, дорогой, не делай этого…
Сократ оглядывается на него непонимающе.
Ксантиппа видит, как под ударами криков, под ударами солнечных лучей поджаривается Сократ. И как упорно противоборствует он и тому, и другому. Закричала в отчаянии:
– Ради сверкающего Гелиоса, смилуйтесь! Не терзайте его! Сократ, несчастный мой, не слушай ты их! Пойдем домой! Пойдем!
Но Сократ уже тяжело поднял онемевшую ногу для первого шага в танце.
– Не надо, Сократ! – просит и Критон.
А он уже и рукою повел, и другой, щепотью подобрал подол старого гиматия и начал подпрыгивать в медленном ритме.
Голые волосатые ноги поднимаются выше и выше, трясутся складки белого хитона вокруг мясистого тела, подрагивает круглый живот.
Враги Сократа так и пожирают его глазами. То тут, то там, а потом уже со всех сторон поднимается злой смех. Злой смех опасно усиливается, заражает и других, тех, кто смеется от души, без злого умысла, не подозревая, как они вредят Сократу.
А тот грузно подскакивает, шатается, разомлев от зноя, машет руками, словно пьяный…
Да ведь это знакомая фигура! Это толстопузый, плешивый мудрец, спутник Диониса… Кто-то из присяжных не выдержал, вскочил, крикнул пронзительно:
– Да это подвыпивший Силен, наш батюшка Силен! Валяй, папа Силен!
– Славно же ты почтил Афину!
– Скачи, скачи, гоп, гоп!..
Все собрание бурно хохочет. Очень мало тех, кто не забыл, что суд-то продолжается, кто понимает, какой танец танцует Сократ.
Анит даже ноги расставил, чтоб легче было снести то, что он видит. Силен! Что такое его, Анита, хитроумно составленная обвинительная речь в сравнении с этой пляской, которой Сократ сам себя обвиняет.
Сквозь хохот прорезается плач Ксантиппы. Сократ шатается все сильнее. Дышит тяжело, со свистом. Приподнимая развевающийся гиматий, кружится, уже обессиленный, неуклюже подскакивает под жгучим солнцем, которое медленно спускается с точки зенита.
Буря смеха слабеет. Один за другим афиняне вдруг вспоминают – Мелет обвинил Сократа в безбожии…
И вот уже многие стоят молча, не отрывая взгляда от страшной комедии; многие сели на место, прикрыли глаза плащом.
Смех редеет, тает, затихает, только в правой части ареопага судорожно давится хохотом кучка продажных тварей, глядя больше на Анита, чем на Сократа.
Критон и Платон угрюмо молчат. Аполлодор пал наземь ничком, тихонько прошептав:
– Сократ, дорогой мой, зачем ты допустил такое?..
Тут встал архонт, взял со стола водяные часы, поднял высоко:
– В клепсидре иссякла последняя капля. Твоя защита, Сократ, закончена.
Сократ сделал неверный шаг к столу, оперся на него, громко дыша. Посмотрел на архонта и тихо сказал:
– Но я… я еще не закончил свою защиту…
6
Архонт басилевс колотил молоточком с такой силой, что отколол кусочек мрамора; когда наконец улеглись расходившиеся страсти, он призвал присяжных приготовиться к голосованию. Убеждал их – вынося суждение о Сократе, действовать с величайшей справедливостью и по чистейшей совести. Они должны теперь решить – виновен или невиновен Сократ в том, в чем его обвинили.
И снова зашумели присяжные. Они долго сидели, обливаемые жаром солнца и земли – раскаленный солнцем холм отдавал людям принятое тепло. Присяжные утоляли жажду смешанным вином. Не удивительно, что и головы у них раскалились.
Они не могли разобраться в этом процессе. Разбились на несколько групп. Одни готовились оправдать Сократа, как человека, полезнейшего для Афин, другие – наказать его, как самого вредоносного, третьи растерянно колебались между тем и другим решением, четвертым вообще ничего не хотелось решать…
Над взбурлившим ареопагом, где один старался убедить другого в своей правоте, мелькали жестикулирующие руки и длинные посохи – знаки судебной власти присяжных.
Очевидец Сократовой пляски перед Афиной пробирался через толпу, распаленную страстями; стараясь побольше насолить Сократу, похвалялся:
– Это я его изобличил! Я показал вам, как он плясал перед богиней… – И – понизив голос: – А перед нею этот бесстыдник делал еще хуже…
Надушенный присяжный схватил его за руку:
– Как же он делал, друг?
Очевидец поднял подол своего хитона и показал любопытному то, что есть под хитоном у каждого мужчины.
Рев хохота смешался с ревом возмущения, а очевидец скользнул дальше, показывая свой фаллос другим, третьим… Присяжные нерешительно перебирали бобы в потных ладонях.
Кто-то крикнул знакомому через два ряда:
– Клади ему белый, Ларидон!
– И не подумаю! – отозвался тот. – Старикашка однажды и надо мной насмехался, перед моей лавчонкой на рынке…
– Не будь мелочным! Клади белый, говорю тебе! Хотя б за то, что плясал… Клянусь Зевсом, дело идет о его жизни, а он, старый брюхан, и знать не хочет, что сам себе вредит… Скажи-ка, будь он такой негодяй, как говорили, – поступил бы так?
Сидит беловолосый старик, каменотес Пантей, товарищ Сократова отца; сидит он в последнем, верхнем, ряду судилища и смотрит на кипение страстей перед собой. Мальчик перелез через ограду, подсел к нему:
– Думаешь, дедушка, Сократ сделал что-то плохое?
– Не думаю, сынок.
– Значит, его оправдают! – обрадовался мальчик.
– И этого не думаю, – ответил старик.
Мальчик вытаращил глаза:
– Как же так? Не понимаю…
– И я не понимаю, сынок. Быть может, когда ты будешь таким старым, как я… А может, когда твой сын будет таким старым, – может, он поймет…
Среди бедняков присяжных были и расчетливые. Анит даст мне похлебку, оболы, да мало ли что еще. А чего ждать от бедного, болтливого старика?
– Поддержу-ка я Анита…
– Я тоже. И черный боб брошу так, чтоб он заметил.
– Да есть ли у вас сердце? Решается ведь судьба человека!
– Когда, милок, твоей судьбой станет голод – не то еще запоешь!
Присяжные из зажиточных думают так: от Анита можно получить почести, должность, да мало ли что еще… А чего ждать от бедного, болтливого старика? Холеная рука готовит черный боб.
Кто-то предсказывает:
– Зря все это. Мелету не придется платить штраф за ложное обвинение. За суд заплатит Сократ.
– Чем? Он ведь чуть не нищий!
– И у такого найдется, что терять.
Загудела труба, глашатай пригласил присяжных, не мешкая, отправиться к урнам для голосования.
Падают в урны бобы – белые, черные…
Когда все присяжные отдали свой голос, судебные счетчики под присмотром притана начали считать бобы с надлежащей обрядностью. Сначала – соответствует ли число бобов числу присяжных. Сегодня члены дикастерия явились в полном составе: пятьсот один человек. Счетчики установили: бобов точно столько же, нет ни лишнего, ни недостающего. Тогда стали отделять белые от черных.
Сократ ждал результата, окруженный друзьями. Отдыхал, сидя на каменной скамье. Аполлодор, прикорнув у его ног, гладил его жилистую лодыжку. Критон и Платон спрашивали, не утомился ли учитель; предложили подкрепиться жареной рыбой, Платон встал так, чтоб заслонить Сократа от солнца.
От мясного Сократ отказался:
– Спасибо. В жару я никогда не ем сытного. А нынче здесь изрядно припекает. – Он развязал свой узелок. – Мне достаточно лепешки. На вид она не очень аппетитна, но, если долго жевать, появляется сладость. Сегодня же лепешка особенно удалась. Постарались Ксантиппа с Мирто! Но что это с вами сегодня? Хлопочете вокруг меня, кормить собрались, а ни слова дельного от вас не слышу! Я в чем-то обманул ваши ожидания?
– Нет, дорогой, – ответил Критон.
Сократ вдруг рассмеялся:
– Тут моя – и твоя вина, Критон! Помнишь, как ты тайком водил меня в библиотеку твоего отца? Сколько же нам было? Пятнадцать, шестнадцать, а? И потом – все эти годы, как ты обо мне заботился, помогал… Не будь тебя – не мог бы я целиком отдаваться размышлениям о том, как улучшить, как изменить человека, и не очутился бы здесь теперь. А ты в такой счастливый для нас обоих день – ты хмуришься и смотришь на меня букой! И нечего махать руками. Тебе тоже, Платон. Не понравился я вам.
Критон оглянулся на стол, где подсчитывали черные бобы. Ветром порой доносило голос счетчика:
– …двести один, двести два…
Критон и Платон замерли в ужасе.
Сократ провел ладонью по влажному лбу и принялся подсмеиваться над ними:
– Считать учитесь? Прекрасно. Надо и это уметь. Что – счет кверху ползет? Возьму вот вас, как мама брала новорожденных, да начну утешать… Удивляетесь, отчего я весел? А как же мне не веселиться, когда мои слишком уж хитроумные обвинители дали мне возможность назвать своими именами столько вещей, которые, словно козы, бодают всякого порядочного человека, но о которых все боятся говорить! Ешьте со мною, друзья…
Он вынул из узелка еще лепешку, разломил и оделил их.
– Что смотришь, Платон, – рука у меня дрожит? Старею я, милый.
– Они не посмеют осудить тебя, – сказал Платон.
– Посмеют, милый. Меня осудят. Но вы думайте не обо мне. Дело-то куда важнее. Ведь сейчас афиняне самим себе подставили зеркало – и вскоре я узнаю, каков результат.
– Не смеют они тебя осудить! – со слезами в голосе повторил за Платоном Аполлодор.
Сократ улыбнулся.
– Можете думать, что я впал в детство – это вполне возможно, годы мои уже такие, – но я, дорогие мои, признаюсь вам: все, что они тут надо мной делают, показалось бы мне слаще меда, если б только знать, что и здесь я, подобно доброму рыболову, уловил несколько душ. Леска моя порой натягивалась, и я чувствовал – рыбка клюнула… Думаю – вы останетесь не одиноки. После этого суда вас станет больше.
Платон спросил удивленно:
– Ты, учитель, и здесь улавливал души?!
Сократ засмеялся:
– Да разве я умею не делать этого в любых обстоятельствах?
– Но, дорогой. – Платон решил высказать хоть немногое из того, что его пугало. – Ты боролся с обвинителями, как борец в палестре! Ломал им хребет, наносил удары, да с какой страстностью… Мы просто поражались…
– А они что – миловались со мной, как со своими любимчиками? – возразил Сократ.
Критон, старейший друг Сократа, мог себе позволить больше других:
– И все же ты слишком строптив. Присяжные привыкли, чтоб обвиняемые были смиренны, от осанки до речей, чтоб они молили о сострадании, мягкости, снисхождении, просили подумать об их семье…
– И этого вы ждали от меня? – удивился Сократ.
– Нет, конечно, – ответил Платон. – Но ведь ты всегда стоял за умеренность. Куда же она подевалась сегодня?
– …двести сорок четыре, двести сорок пять… – донеслось со стороны счетчиков. Счет приближался к роковой цифре.
– Умеренность в наслаждениях, в еде, питье, ласках – да, это я всегда советую людям и сам стараюсь соблюдать. Но когда речь идет об истине, Платон, когда речь об истине – гоните от себя умеренность, как волка от стада!
Сократ стал задыхаться. На виске его выступила извилистая жила, темная от крови. Он глубоко перевел дух и продолжал с еще большим жаром:
– Истину не защитишь мягкими словами! Даже самой страстной горячности нелегко отстоять истину, когда против нее – власть. А о чем шла речь здесь? О Сократе или об истине? Вот видите!
– Но они не простят твоей страстности, дорогой, – сказал Платон. – Ты бы должен постараться – если уж не оправдания добиться, так хоть наименьшего из наказаний…
– А ты знаешь, которое из них для меня – меньшее? – усмехнулся Сократ. – Предоставь это мне, мальчик…
Подсчет голосов закончился. Притан подал архонту табличку с цифрами. Архонт басилевс встал. Поднялись и Сократ с друзьями.
Аполлодор в смятении и страхе обнял Сократа, приник лицом к его плечу.
Архонт провозгласил:
– Сократ виновен.
Аполлодор ощутил трепет, пробежавший по телу Сократа, заплакал, закричал:
– Нет! Нет! Нет!
Сократ ласково успокоил его:
– Но, мальчик! Что же ты так переживаешь? Ты ведь должен был ждать этого, как ждал этого я!
Когда архонт объявил, что виновным признал Сократа двести восемьдесят один голос, а двести двадцать – невиновным, лицо Сократа просияло:
– А вот этого я не ожидал! Слыхали? Двести двадцать честных людей! Почти половина! Достаточно было привлечь на свою сторону еще тридцать одного – и я был бы оправдан!
– Да, – печально сказал Платон. – Не хватает совсем малого. Вижу, ты утешен – радуешься, что отныне у тебя больше друзей, чем ты ожидал…
– Но еще больше должно это утешить вас, друзья мои!
С того момента как число черных бобов превысило число белых, то есть когда Мелет понял, что теперь именно ему предстоит предложить вид наказания Сократу, он утратил всю свою воинственность. Ему, поэту, карать старца, к которому стремится столько сердец, чья доброта ясна как день? Отчего же именно сейчас покидают его силы, если их хватило, чтобы нагромоздить на эту старую голову все, что только можно было?
Мелет обвел взглядом ряды присяжных, надеясь найти поддержку у них, но только полнее ощутил, что он – узник в этих живых стенах. И стены эти словно сдвигаются теснее… В мертвой тишине отовсюду улавливал он слухом тяжелое дыхание. Хочет ли эта большая часть присяжных того же, чего вчера, во время встречи с ним, хотел Анит? Устранить Сократа? Или они боятся поднять на него руку?
Поздно испугались! Еще сегодня по Афинам, завтра по всей Элладе, а там и по островам, и дальше, за море, разлетится весть: Мелет обвинил Сократа и требовал для него кары… Мелет задрожал: да кто он такой, этот Мелет? Юношей я мечтал войти в историю совсем иным образом – как Алкей или Анакреонт… Возникло вдруг ощущение, будто кто-то надавил ему на спину. Резко обернулся. Анит с угрозой вперяет в него взгляд. Я понял. Анит говорит мне: не смей отступать! Не отступлю.
Архонт басилевс выпрямился. Из-под миртового венка по лбу его на щеки сползали капли пота. Но сейчас, когда все взоры обращены к нему, неуместно заниматься подобной мелочью. Он не стал вытирать пот и призвал Мелета, как главного обвинителя, назначить для Сократа кару.
Мелет еще расслышал приглушенный окрик Анита: «Мелет!» – но не оглянулся.
Он вышел вперед, раскинул руки:
– Мужи афинские, присяжные гелиэи! Ни единым словом Сократ не выразил раскаяния в своих преступлениях, напротив, он был сама строптивость и неуступчивость. Вы дали восторжествовать справедливости. Большинством голосов показали, что защита Сократа не убедила вас в его невиновности. Этому большинству, полностью сознавая и собственную ответственность, я и подчиняюсь.
Сократ виновен в том, что не признает богов, признаваемых всеми нами, вводит новые, иные божества; он виновен и в том, что портит нашу молодежь. Совокупность же этих злодеяний означает подрыв мощи нашего государства.
Поэтому я требую для Сократа смертной казни через отравление.
Ропот холодного ужаса пронесся по собранию. Многие присяжные закрыли лицо.
Сократ задумчиво смотрел вверх, к Акрополю, залитому солнцем. Родной мой город! Опять синева над твоею главой, золото солнца на лике твоем, что белее мелосского мрамора. Величественный, благородный, прекрасный. Там и сям высятся над тобой кипарисы. Любящий тебя Сократ – тоже как твой кипарис, он – метла, ею можно наносить удары, но сломить ее нельзя. Попробуй сломить мысль, которую старец передает другим…
Он повернул голову к архонту. Тот сказал:
– По закону, Сократ, ты имеешь право теперь, после главного обвинителя, сам предложить меру наказания себе, какую считаешь справедливой.
Анит согнал морщинки с лица: быть может, Сократ исправит то, что напортил Мелет… Сократ, несомненно, будет говорить в свою – а тем самым и в мою пользу. Он любит жизнь. Он растрогает присяжных, и они проголосуют не за Мелетово предложение, а за Сократово, которое, конечно, будет самым мягким. И тогда, пожалуй, назначат среднее: изгнание, как уже для многих его предшественников. Изгнание – это так человеколюбиво, никому не надрывает сердце, и все же Афины избавятся от Сократа…
Сократ неторопливо прошлепал босыми ногами к краю возвышения, поближе к присяжным:
– Закон гласит: обвиняемый, назови наказание, которое, по твоему мнению, справедливо для тебя. До чего трудная задача! Как же мне, о мужи афинские, наказывать самого себя, если я ничего дурного не сделал? Ведь я достаточно пространно объяснил вам, что не виновен ни в чем, что могло бы нанести урон государству, что я всегда стремился быть полезным Афинам и каждому жителю их. Поэтому, если я не хочу отречься от всего, что я вам говорил, от того, как я жил, – я должен бы сказать вам, что не заслуживаю никакого наказания, ни большого, ни малого.
Но я-то знаю, чего вы от меня требуете. Вы исходите из предположения, что мне известны различные наказания, полагающиеся кощунствующему безбожнику, который всеми своими действиями ослабляет могущество государства.
Не в состоянии рассуждать о себе самом, буду рассуждать о некоем воображаемом преступнике, словно перед нами математическая задача. Возьмем, к примеру, такого воображаемого преступника, который действительно вредит государству и для какового – не названного – преступника Мелет потребовал смертной казни.
Рассуждайте вместе со мной: какой кары заслуживают люди, чей долг – печься о благе сограждан, но которые этого не делают? Которые боятся света, как величайшего зла, и сами бегут во тьму, где не отличишь лица от лица?..
Присяжные, чьи взоры при этих словах обратились на Анита, разражаются криками. Кричат прихлебатели Анита – но и противники его.
Архонт в ужасе – к чему же скатывается все дело!
– Я распускаю суд! – кричит он, но никто его не слушает.
Люди заключают пари: пять драхм за Мелета, десять – за Сократа…
Анит попытался что-то сказать в этом шуме:
– Прошу архонта басилевса…
– Милый Анит! – перекрыл весь гвалт ясный, сильный голос Сократа. – Успокойся, не обращай внимания на крикунов. Я ведь сказал, что говорю о воображаемом преступнике, которого здесь изобличали Мелет с Ликоном, да и ты сам. Именно ты обвинил его в подрыве государственной мощи. Я, естественно, должен определить общественное положение такого воображаемого человека, – положение, которое давало бы ему возможность вредить государству. Ибо – взгляни хотя бы на меня: как может босой старик, живущий в бедности и не занимающий никакой должности, выполнить столь нелегкую задачу, как нанесение урона всему государству? Или вы думаете, афиняне, он может добиться этого, переходя от человека к человеку и уговаривая их стать лучше?
Так что останемся при нашем примере – при тех людях, которые вместо самоотверженных трудов на пользу обществу карабкаются все выше и выше, набивая мошну, а вокруг них ширится беспорядок, произвол, упадок и всеобщее разложение…
Возможно, вы сумеете представить себе это, и тогда вы неминуемо признаете правоту моих слов: такое государство, ослабленное всесторонне, сильнее всего привлекает врагов и легко может стать их добычей. Подумали ли вы о таком страшном деле, о мужи афинские?
Афины – добыча?.. Афиняне испугались.
– Но вернемся к нашему делу, – говорил тем временем Сократ. – Я сожалею, что не могу ответить на вопрос архонта, какое наказание отмерил бы я такому преступнику, которого мы тут с вами вообразили; ибо кажется мне, что тут уж ничему не помогла бы даже смертная казнь.
Шум поднялся такой, что Сократ не мог продолжать. Он умолк в ожидании тишины.
Анит выпятил грудь, поднял голову, показывая такой горделивой позой, что слова Сократа его не касаются.
Когда волнение несколько улеглось, Сократ заговорил снова, так же просто, как он разговаривал с людьми на рынке:
– Это правильно, афиняне, что вы возмущаетесь, когда мы с вами беседуем о таких правителях, хотя бы и не существующих…
Однако присяжные отлично поняли, к кому относятся слова Сократа, и утихомирить их стало невозможно. Поднялась новая буря криков. Угрозы. Брань. О боги, да этот человек говорит, что думает!
Перед Сократом вскидываются над толпой руки – одни грозят, другие одобрительно машут… Взревела труба, требуя тишины.
Сократ смог говорить дальше.
– Теперь пора вернуться ко мне, которого приплели к этому делу одни боги ведают как. Но поскольку я тут, то должны вы уж как-то решить мою судьбу. Я немножко подскажу вам, ладно? Взгляните, мужи афинские, случилось нечто странное. Анит – как он всегда утверждал и как сказал здесь – заботится и печется о том, чтобы государство наше процветало все больше и больше. Я тоже забочусь о нашем городе, о вас, хочу, чтоб вы жили счастливо. Следовательно, и Анит, и я – мы оба желаем одного и того же; следовательно, мы с ним друзья. Ну, не знаю. Положение наше никак не назовешь равным. В руки ему вы отдали власть, чтите его, кланяетесь ему. Пускай – я не завидую. Но имею же и я право пожелать для себя хоть малости. Кое-что ведь и я сделал для Афин! Бился против врагов – и бился против незнания человека о человеке. Послушайте, я не так уж требователен. Я бы хотел, чтобы моей Ксантиппе не надо было на старости лет заботиться обо мне. И предлагаю я вам следующее: проголосуйте за то, чтоб меня, как и прочих заслуженных людей, до конца моей жизни кормило на свой счет государство в пританее.
Секунду ошеломленная толпа хранила глубокое молчание. Потом взорвался рев, в котором преобладал гомерический хохот. Оглушительный гвалт, топот, крики, свист…
– Какая дерзость!
– Слава тебе, Сократ!
– Боги, какая наглость!
– Позор Сократу!
Присяжные схватились друг с другом, в пылу азарта забывая о вежливости, о приличии, ядреные словечки так и скакали над головами толпы.
– Ишь как рассчитал старикан!
– Нашелся умник – губа не дура!
– Анит, выдавай ему каждый день похлебку, как нам!
– Эти помои-то? Неплохое наказание!
– Заткни пасть, Анит услышит!
– А старик-то не трусливого десятка! Решается вопрос о его жизни, а он еще вас дразнит… Воздайте ему этот почет – кормление в пританее!
– Старик прав! Давно заслужил!
– У него на это больше права, чем у тех, кого там кормят за счет города…
– Не цикуту – паштеты да вино!
Постепенно смех утихает. Многие присяжные растерянны – у них такое ощущение, что произошло нечто крайне непристойное. Каменотес Пантей прижал к себе внука, слезы текут у него по белой бороде.
– Почему ты плачешь, дедушка?
– Потому что вижу – Сократ хочет умереть…
– Как может он хотеть этого? Умирать никто не хочет, – удивился мальчик.
– А он хочет. Он знает, что правда может убить его, – и все же высказывает эту правду.
Нет, такого судебного заседания архонт еще не видывал. Его трясло от волнения. Он и сам был полон сомнений – где правда? Но он обязан был чтить закон. Встал:
– Судьи афинские! Мелет потребовал для Сократа смертной казни. Сократ – пожизненного кормления в пританее. Приготовьтесь голосовать. Закон повелевает первым голосовать предложение обвинителя – Мелета.
Второе голосование было куда более трудным для присяжных, чем первое. Необходимость решить – жить или умереть Сократу – навалилась на них тяжким бременем. Придавила к земле.
– Как теперь быть?
– За что же смерть? Убил он кого? Родине изменил? За что же его убивать?
– А пританей за что? Своими глазами видели, как он своей пляской издевался над нашей великой богиней. И так же он издевается над нами, присяжными. За это, что ли, кормить его пожизненно?
Подходили к урнам, неохотно выпускали из ладоней бобы: белый, черный, белый, белый, черный, черный…
Счетчики склонились над урнами. В них так и чернело. Сосчитали – оказалось: черных теперь на двадцать больше, чем при первом голосовании.
Архонт объявил присяжным:
– Сократ приговорен к смертной казни. Еще сегодня, после заката солнца, Сократу подадут чашу с цикутой.
Присяжные поднялись с мест и замерли недвижимо, сами ошеломленные услышанным. Ветер шевелил кусты за стеной. Казалось – вздыхает сам холм Ареса.
Нет. То были вздохи людей, приглушенные всхлипывания.
Аполлодор пал на колени, в отчаянии крикнул:
– Нет! Нет! Этого нельзя! Не убивайте Сократа! Возьмите меня вместо него! Убейте меня!
Крик юноши рассек шепоток присяжных, заставив его умолкнуть, – и осиротел: крик раненой птицы… Высокий, безумный вопль…
Сократ, стоя, спокойно выслушал приговор. Сказал, обращаясь к Критону и Платону:
– Посмотрите на этого мальчика. Как он меня любит!
Оба – Критон и Платон – предложили архонту внести еще сегодня по тридцати мин каждый, чтоб заменить смертный приговор штрафом.
Большая часть собравшихся бурно зааплодировала, закричала:
– Прими! Прими это, архонт!
– Спаси честь Афин! – крикнул старый каменотес.
Обвинители стояли бледные.
Архонт растерянно развел руками:
– Не могу! Закон!
Сократ оттаскивал друзей от архонта, ворча:
– Да что это вам взбрело? Или я – бочка с сельдями, чтоб меня покупать?
Архонт приблизился к Сократу и обрядно спросил: принимает ли тот приговор.
– Конечно, – ответил Сократ.
Тогда архонт осведомился, желает ли он, согласно с законом, взять последнее слово.
– Конечно, – тем же тоном произнес Сократ.
Обычно до «последнего слова» не доходило, ибо тотчас по произнесении приговора толпа присяжных бросалась к казначею за своими оболами, и все разбегались.
Сегодня, на удивление, все остались на местах – кроме считанных одиночек.
Сократ повернулся к солнцу. Золотые лучи озарили его лицо. Исчезли черты Силена, и вернулась на это лицо веселая полуулыбка. Будто разом помолодело оно под солнцем, прояснив другие, основные свои черты: доброту и ясную мысль.
– Приветствую тех из вас, мужи афинские, кто пожелал мне почета от города – хотя сам-то я не думаю, что заслужил его; ведь я хотел сделать для Афин гораздо больше, а удалось мне куда меньше. Предложил же я кормление себе для того лишь, чтоб позабавить вас, а еще, чтобы дать понять: смертная казнь для меня не годится. Но честь, оказанная мне вами, радует меня больше, чем мучит то, что нашлись рядом с вами другие, не понявшие, что избавляются от старика, который всегда стремился помочь им советом и делом. Многих из вас наблюдал я с утра, в том числе тех, кто меня осудил, а распознать таких нетрудно. Только что они распаляли в себе жажду убийства – и вот я вижу их теперь: бледные, испуганные. Чувствую – нелегко вам. А ведь это вы еще тут, среди своих. Что же будет, когда вернетесь вы домой и вас спросят: почему вы не предотвратили убийство? Кто из вас признается, что пришел на суд честным человеком, а вернулся убийцей? В тайном голосовании чрезвычайно приятная выгода: я могу убить, но никто не назовет меня убийцей…
Глухой ропот прокатился по рядам.
Анит не в силах был долее сохранять горделивую позу.
– Позднее еще будет разговор убийцы с самим собою – когда спустится ночь; тайный такой разговор, тем более мучительный, что – тайный. Но я облегчу ваше бремя, порадую вас всех. Мужи афинские! Сегодня мы видимся с вами в последний раз. Но знайте – тяжба моя нынче окончена, но сегодня же она начинается сызнова. В природе все – в движении. Нет ничего неподвижного, ни нового, ни старого. Так и этот суд по прошествии времени подлежит новому суду…
Волна беспокойства всколыхнула ряды присяжных. Сократ не обращал на это внимания. Он стоял под опускающимся солнцем, слегка расставив ноги, и приятным своим, мелодичным голосом говорил так же спокойно, как и начал:
– Мужи афинские! Вы, мои дорогие, и вы, не дорогие, помните: когда в грядущие времена подвергнут суду этот суд, очень мало значения будут иметь наши нынешние словесные схватки. Мне вынесут новый, другой приговор, но вынесут приговор и вам. Лично для себя, о мужи афинские, я этого нового приговора не боюсь. Я даже счастлив при мысли, что – пускай сам я буду уже в царстве теней беседовать с друзьями – я все еще буду тревожить совесть мира, за что меня вновь и вновь будут привлекать к суду…
Какое значение будет иметь тогда ваш приговор?
Для меня – никакого, ибо даже здесь, на этом месте, я избежал худшего, что может постичь человека, – позора.
Посему, афиняне, идите отсюда с веселою мыслью. И как стемнеет сегодня – вспомните обо мне. Ибо в тот миг я вкушу свою последнюю вечерю и совершу возлияние не только богам, но и всем вам, почтившим меня чашей цикуты…
Сократ еще говорил, когда вбежал гонец и, задыхаясь, прокричал архонту новую весть:
– Появились знамения, и предсказание благоприятно для плавания государственного корабля, готового отчалить с торжественным посольством на остров Делос, к празднику Аполлона! Жрец Аполлона увенчал цветами корму, и триера отплыла…
Ряды присяжных пришли в движение.
– Что это? Что это значит?
Архонт встал, воздел руки:
– Закон гласит: пока корабль не вернется в Афины с Делоса, город должен быть чист, и никого нельзя лишать жизни по воле общины. Итак, приговор Сократу будет исполнен после заката солнца в тот день, когда триера вернется.
Ошеломление. Словно молния с чистого неба.
Единственный, кто нашел в себе силы промолвить, был беловолосый каменотес Пантей. Он вскричал:
– Сам даритель жизни Аполлон вмешался и взял Сократа под защиту!
Шум волнами раскатился во все стороны, он все нарастал, и вот уже загремел многоголосый хор.
Чудо! Свершилось чудесное! Феб Аполлон, сияющий солнечный бог, кому ежедневно поклоняется Сократ, – сам вмешался! Вот почему Сократ все смотрел на солнце! Вот почему не предостерегал его демоний! Вот почему он так смело говорил тут! Целый месяц отсрочки! Чего только не случится за это время!Мелет, охваченный внезапной слабостью, опустился на ступени. Еще целый месяц будет жить Сократ! Сколько же всего может произойти за такой срок?
Анита била дрожь. Он ведь не хотел этого! Он ведь подозревал… ах, негодяй Мелет!
Архонт в тревоге видел, какой ужас вызвала эта весть у одних, какое ликование – у других. Эти другие, вскочив, кричали:
– Феб Аполлон требует нового суда! Хотим новый суд!
Совсем растерявшись, архонт пробормотал:
– Суд закончен. Идите!
Его не слышат, не слушают… впрочем, нет! Те, кто бросил черный боб, поднимаются с мест, прокрадываются к воротам и гурьбою спешат, бегут, мчатся к городу, забыв даже про оболы. Бегут, и слышат над головой свист стрел божественного Лучника, и вопят от ужаса…
Под их вопли выскользнул из судилища и Мелет, бросился в другую сторону, в горле – удары грома. Бледный, он падает, встает, бежит без оглядки… А впереди, кровавое, закатывается Сократово солнце. Небо над землей – прозрачная чаша красного вина, и в ней растворяется зловещая жемчужина…
То же солнце видит Сократ. Но для него оно – золотой обруч, не отпускающий приговоренного в кровавые дали.
Ксантиппа, сын, Мирто, плача от радости, обнимают его, целуют; друзья, счастливые, готовы раздавить его в объятиях. Сократ поднял руку к солнцу:
– За каждый день жизни – благодарю! Мое солнце! Я снова увижу тебя!
Весь холм Ареса содрогается от криков:
– Почести Аполлону!
– Позор Мелету!
– Слава Сократу!
– Позор Аниту!
– Слава Сократу!
Мирто улыбается сквозь слезы и хочет увенчать Сократа венком из роз. Он принимает венок из ее рук, целует ее.
По знаку архонта два скифа стали по бокам Сократа.
Он засмеялся:
– Почетный караул! Что ж, сопровождайте меня, коли нельзя без этого. Да вы не бойтесь, ребята, я от вас не убегу.
Пошел своей раскачивающейся походкой, босой, увенчанный алыми розами, окруженный сотнями друзей, приветствуемый как победитель, – к тюрьме.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
Много веков назад из скалы у подножия холма Пникс вырвана была, словно циклопической рукой, огромная глыба; в образовавшейся пещере устроили темницу для приговоренных к смерти. Обычно недолгим было их пребывание здесь: у смертников едва хватало времени освоиться с обстановкой, поглядеть на отверстие, пробитое высоко в скале, как уже укладывались они на ложе, на котором упокоит их навечно чаша цикуты.
Сократ вошел сюда, не восприняв слухом скрип замка за спиной, и огляделся. После зноя на ареопаге его охватил приятный холодок. Закатное солнце отражалось в коричнево-черной ойнохое с водой. Ойнохоя была прекрасной, благородной формы, похожая на стрекозу, у которой отрезали крылья, и на выпуклой части своей несла изображение трех танцующих Харит.
Сократ внимательно рассмотрел рисунок, рассмеялся. Клянусь псом! Я сказал бы, мои Хариты лучше. Во всех трех – моя Коринна, радость юношеского моего сердца… Этому художнику больше удалась Аглая.
– А ты и вправду светишься, – сказал ей Сократ. – Позволь, я тебя поцелую…
Затем он налил воды в кружку, напился и улегся на ложе боком, любуясь ойнохоей с танцующими Харитами, которым боги назначили в удел украшать жизнь людей и увеселять их сердца.
Когда за Сократом захлопнулась железная дверь, друзья его окружили теряющую сознание Ксантиппу и Мирто, вывели обеих из толпы и проводили до дому. По дороге им встречались частые надписи, белой краской на стенах: «Да сдохнет Мелет, коварный убийца! Слава Сократу!»
Подобные надписи уже покрыли все Афины, и те же слова выкрикивали люди перед тюрьмой. С прибывающей темнотой прибывало и народу, и факелов…
С угла Анитова сада видно было половодье мерцающих огней; грозный гул долетал сюда. Люди желали видеть Сократа. Яростные крики сотрясали циклопические стены темницы.
Тюремщики заглянули в камеру смертников. Сократ спал.
В темной синеве ночи – светлое пятно во дворике Сократа: Мирто. Девушка не может уснуть. Бродит по дворику, от глыбы к глыбе, трогает мрамор, еще теплый от солнца, будто ищет у камня хоть немного человечности для Сократа, каплю справедливости, кроху милосердия…
Шумят вдали Афины – словно бурливое море яростно бьется о скалы. Имя Сократа долетает сюда с того места, где толпы осадили тюрьму, и с тех мест, по каким валят другие толпы к вилле Анита и к дому архонта.
– Отдайте нашего Сократа!
Их Сократ, улыбнулась Мирто. Сократ – мой! Тоскуя, простерла во тьму белые руки.
– Сократ – мой! – твердо сказала Ксантиппа, выйдя на порог.
– Еще есть время. Еще есть надежда, – утешая Ксантиппу и самое себя, проговорила Мирто.
С великою страстью, словно бросая слова в разверстый зев матери Земли, Ксантиппа воззвала к богиням мести:
– О Эриннии! Непримиримые дочери владыки подземного царства Аида и Коры, к вам я взываю – покарайте злодеяние, совершенное над Сократом!
Мирто прижалась к стволу платана, с ужасом слушала призыв Ксантиппы.
– Поднимитесь из подземного царства! Расправьте крыла, летите к Афинам! Растерзайте когтями Мелета, Ликона, Анита! – Дико звучит голос Ксантиппы. – Аллекто, Тисифона, Мегера!.. – Вдруг она вскрикнула. – Видишь, там, три клубка тумана? Это они! Видишь? Уже летят по пятам убийц!
Мирто, вся дрожа, не отвечала.
– Смотри же! – приказала ей Ксантиппа. – Редеет туман, и уже видны их черные одежды, их волосы – клубок змей, и очи, налитые кровью! – Как безумная закричала Ксантиппа: – Привет вам, Эриннии, карайте за нарушенное право!
И кажется Мирто – видит она: три ужасных призрака, колеблемые ветром, летят к Афинам…
2
Туман распался на бледные полосы, они повисли, колыхаясь, между небом и землей и пали на улицы. Когда солнце поднялось над Гиметтом, Мирто сказала:
– Пойду туда.
– Тебя к нему не пустят.
– Пускай. А я пойду.
– Иди, Мирто.
Усиленная охрана стеной стоит перед тюрьмой. Уже с самого утра здесь снова собралась толпа.
– Я хочу…
– Мне надо…
– Прошу вас…
Стена стражей – глуха, неподвижна. Пришел начальник. Он-то слышит, но ни просьбы, ни плач Мирто его не тронули.
– Хоть передай ему…
А хорошенькая бабенка, подумал начальник стражи, улыбнулся.
– Передать, что милая пришла к нему, старику? – сказал насмешливо. – И хочет поцеловать его с утра?
Гневная морщина врезалась во лбу Мирто.
– Да. Передай, что его милая пришла поцеловать его.
Начальник перестал улыбаться, сухо отрезал:
– Видеть узника запрещено.
Мирто отошла в сторонку, прислонилась к скале. Здесь она к нему ближе. Здесь ей лучше, чем дома.
На другой день все повторилось. Мирто часами простаивала около тюрьмы, бродила вокруг нее, просила. Тщетно. К Сократу ее не пустили.
Ни вчера, ни сегодня Анит не ходил ни в свою дубильню, ни в эргастерий – приглядеть за рабами. У него сегодня другие дела.
Он бродит в том конце сада, что обращен к городу: смотрит, прислушивается. Время от времени являются сикофанты с докладом – все одно и то же: недовольство приговором Сократу нарастает. Тюрьму осаждают толпы, люди желают видеть Сократа.
Видеть? – задумался Анит. Что ж, это, пожалуй, можно. Это разрядит обстановку.
Доложили о приходе Мелета. Явился требовать награду за роль главного обвинителя. Ждал улыбки – нашел тучи.
– Ничего не дам! – напустился на него Анит. – За что? Выиграл-то Сократ, не я! Сам видишь и слышишь… Ты возмутил Афины против меня!
Мелет был под хмельком и неуступчиво требовал обещанного.
– Вы с Ликоном велели мне устранить Сократа! И я это сделал!
– Идиот! Болван! Устранить – да, но не убивать! Хватило бы и изгнания!
– Вы сказали – устранить, – стоял на своем Мелет. – Я повиновался. Теперь плати.
Потеряв самообладание, взбешенный Анит позвал рабов и приказал вышвырнуть пьяного.
До возвращения триеры с Делоса время есть, сказал себе Анит. Есть еще время. И отправился к архонту басилевсу.
– Ведомо ли тебе, дорогой, что творится?
– Да, Анит, я все знаю.
– Я не желал его смерти – только остракизма.
– Но тогда обвинение должно было звучать иначе.
– Это все Мелет…
– И ты тоже, Анит.
– Как теперь поправить дело, как успокоить народ?
Архонт вздохнул:
– Злое ты совершил, Анит, и я теперь расплачиваюсь вместе с тобой. Успокоить народ… Это трудно. Постой! Разве если Сократ бежит из заключения…
Анит обрадовался:
– Да, тогда уж ни нас, обвинителей, ни присяжных, ни тебя, дорогой архонт басилевс, никто не сможет назвать его убийцами! Спасибо!
– Не спеши благодарить, Анит, – сухо возразил архонт.
Но Анита уже невозможно было остановить.
– Для начала разрешим свидания… Это оценит и он сам, и весь город, в том числе его друзья – а они уж сами постараются…
Архонт задумчиво смотрел на тирский занавес, колыхавшийся после ухода Анита. Подлец! Сначала втянул меня в эту грязь…
Архонт вызвал раба-писца и продиктовал письмо начальнику стражи, повелевая допускать посетителей к Сократу.
Едва рассвет посеребрил небо над горизонтом, Мирто уже опять стояла перед начальником. Закутавшись в плащ с головы до ног, повторила вчерашнюю просьбу. Сильно забилось ее сердце, когда вместо прежнего жесткого «нельзя» она услышала:
– Посещение узника разрешено.
Благодарно склонив голову, пошла Мирто за тюремщиком.
Несмотря на ранний час, Сократ уже сидел на ложе. Теперь он встал. Мирто бросилась ему на грудь.
– Мирто! Мирто! – твердил он, прижимая ее к себе. – Да что же это? Я так рад, а ты вся дрожишь, словно от страха?
– Не от страха, мой дорогой: от радости, что вижу тебя.
– Мирто, Мирто, ты пришла ко мне в эту холодную камеру?
– Я приходила все эти дни, меня не пускали – вот только сегодня…
– А мне и не сказали, что ты была тут! Обездолили на целых два дня радости! Знал бы я, что ты так близко…
– Быть может, ты это чувствовал.
– Что ты хочешь сказать, Мирто?
– Вчера, вскоре после восхода солнца, я стояла перед тюрьмой совсем одна. И услышала – ты поешь.
– Да, верно, я пел. Думал о тебе, милая. – Он сел на ложе, усадил рядом Мирто. – Есть у меня некий дар, за который люди с детства завидуют мне.
– Что же это?
– Не магия и не мистика, – засмеялся он. – Просто могучая фантазия. Например: темно. Закрываю глаза. Думаю о ком-нибудь, о далеком – и вот он передо мной как наяву, со свойственными ему движениями, голосом…
– Верю, что тебе завидуют. Я тоже завидую! А скажи, за то время, что ты здесь, думал ты так о ком-нибудь?
Он промолчал, нежно ей улыбаясь. Она прижалась щекой к его ладони.
– Знаю. Существуют тысячи наслаждений. Одно из них сейчас испытываю я…
– Радость моя, – мягко отозвался Сократ, погладил по желтым волосам. – А ведь можно увидеть и целые сцены! – Рука его легла ей на плечо. – Видишь – дорога перед нами? Ты сидишь на осле, я веду его под уздцы, мы медленно-медленно поднимаемся в гору, мое солнце обливает нас своими лучами, от них дрожит в воздухе марево – чувствуешь, как нам тепло?
– Чувствую, – тихо сказала она, стараясь ни малейшим движением не прогнать возникший образ. – Мы едем в Гуди, твой виноградник такой зеленый, кудрявый, под листьями – гроздья темно-багряных ягод… Самую крупную гроздь ты сорвал для меня. Как сладок сок ее, еще сейчас, да, именно сейчас ощущаю его…
Так сплетали они мечты, припоминая каждую подробность былого. «Помнишь? – А ты вспоминаешь?» Кто выразит, какое счастье дарит прекрасное воспоминание?.. И долго шли они вместе через сны наяву – пока тюремщик не объявил: время свидания истекло.
– Что принести тебе?
– Нож.
– Что?! Нож? Зачем?!
Сократ лукаво улыбнулся:
– Ты подумала – вскрою себе вены? О нет. Не хочу отправляться к Аиду, пока ты будешь приходить ко мне. Нож для резьбы, и несколько чурочек липового дерева – я недавно наколол из поленницы Симона. И прочий инструмент.
– Будешь резать по дереву?!
– Триера еще не достигла Делоса. Времени-то сколько! И скажи Критону– пускай принесет басни Эзопа. – Засмеялся. – Попробую переложить их в стихах. На старости лет превращусь в стихотворца… Как по-твоему, сумею я лучше Мелета?
– Скажу Критону. Сегодня же.
Они обнялись, и Мирто быстро вышла, чтоб он не увидел ее глаз.
3
Ввалились к Сократу в камеру, разом наполнив ее. Критон протянул Сократу свиток – басни Эзопа.
– Удивило меня твое желание. Вот они.
– Хочу попробовать стихами… Что скажешь?
– Отличная мысль. – Критон счастлив тем, что Сократ даже тут держится за жизнь. – Займись этим!
Когда покончили с приветствиями и объятиями, оказалось – все сидят вокруг Сократа, а он один на ногах.
– Хороши же мы! – заметил Федон. – Сами уселись, а главное лицо стоит!
– Это лицо привыкло стоять, – возразил Сократ. – И потом, милые вы мои, поймите: теперь главные лица – вы.
Гости засыпали его новостями:
– Афины переполняет гнев на твоих обвинителей. Требуют свержения Анита. Долой Анита! – кричат по улицам и на агоре…
– Меняла Мамаон хвастался на людях, что положил тебе черный боб, так его до того избили, что пришлось нести домой…
– Мой дорогой Сократ! Тебя выпустят на свободу! – восторженно вскричал Аполлодор.
Сократ слушал, слушал, усмехался.
– Ах вы, милые дети, да что же вы так себя терзаете? Произошло то, что должно было произойти.
– Не должно! – вырвалось у Платона. – Ты сам настроил присяжных против себя!
– Милый Платон, на суде было ведь пятьсот присяжных, и я действительно хотел не столько понравиться им, сколько разбудить их совесть. Разбудить в них ту же тревогу, какая снедает мне душу. От суда я получил больше, чем дал ему взамен…
– Ты так мало ценишь жизнь, дорогой учитель? – спросил Платон.
Сократ ответил:
– Ты, Платон, ты и Аполлодор – вы оба еще очень молоды, и потому вам кажется, будто самое ужасное – смерть. Но для меня было бы горше смерти – говорить на суде иначе, чем я говорил всю жизнь.
Вошел почитатель Сократа, престарелый Архедем, служивший в доме Критона ночным сторожем. Принес в корзине еду и вино.
Сократ обнялся с ним:
– Как я рад, мой старичок, увидеть тебя! – Он засмеялся. – Тем более есть тут теперь человек, которого и я, старик, могу называть стариком! Девяносто, а?
– Еще нет, дорогой Сократ, но скоро будет.
Аполлодор поровну разделил еду: жареную рыбу, сельди, жаркое из барашка, медовые пироги, ячменный хлеб, оливки, фиги…
За едой завязалась беседа.
Сократ сказал:
– Платон прав. Если б я лгал на суде, выкручивался – ходил бы ныне по Афинам свободным, но уже не тем Сократом, какого вы знаете. То был бы другой, жалкий Сократ. Понравился бы вам такой учитель? Вы сказали бы: если он отрекся от себя – не имеем ли на то право и мы, чтобы уберечься от всяких Мелетов, Анитов и им подобных, какие могут явиться после них?
– Прости меня, – попросил Платон.
Критон наполнил чашу вином и подал Сократу. Остальным налил в кружку, которую пустили по кругу.
Сократ отпил глоток и сказал:
– Сократа ли судили? Судили вообще человека? О нет! К смерти приговорили правду – вот почему так возмущены Афины. Честным людям нельзя жить без правды, и афиняне доказали, что еще не утратили понятие чести. – Отхлебнув вина, он продолжал: – Подать чашу с ядом мне – это исполнимо, но умертвить правду? Кто в силах это сделать?
– Теперь у тебя есть надежда, – сказал Критон. – Но ты должен защищаться, а не подставлять себя под удар!
Сократ отмахнулся:
– Вы все твердите о надежде для меня и устремляете ко мне испуганные взоры. Я же толкую вам о надежде для нашего общества. Вот о чем надо беспокоиться, как бы общество не постигло худшее из всех несчастий: порабощение на долгие века!
Закричали наперебой:
– Опять ты говоришь такие ужасные слова! Порабощение Афин?!
– А разве так уже не бывало? – возразил Сократ. – Порабощение – это Тридцать тиранов, конфискация имущества, казни, истребление целых родов… Но они еще были греки, все эти Лисандры и Критии, а могли быть чужестранцы, и надолго! Тогда, вы сами знаете, тиранию навлекли на наши головы олигархи, а думаете, сейчас не сходятся олигархи в своих гетериях, не устраивают заговоров, не клянутся уничтожить афинскую демократию? И кого они ныне зовут на помощь? Только ли Спарту? Не раздаются ли снова разные голоса? Голоса чуждые, из чуждых пределов… Они поднимаются и смолкают вдали, но оставляют после себя смятение в душах и хаос…
Отзвук Сократовых слов бился о стены, как крылья птицы, ищущей выхода к свету.
Антисфен угрюмо произнес:
– Подорвана экономика, но подорвана и нравственность. Что хуже? Не знаю. Одно обусловлено другим. Ты, Сократ, укоряешь меня в пессимизме, но я не могу умолчать о том, чего опасаюсь. Боюсь, раны, нанесенные Афинам за последнее время, неисцелимы.
Ученики вопросительно уставились на Сократа. Они тоже полны опасений. Сократ медленно повернул ладони кверху и подержал их так, словно нес в них что-то:
– Насколько я помню – и помнят некоторые из вас, – олигархам дважды удавалось дорваться до власти. Думаете – потому, что они были сильны? Нет, дорогие мои! Потому что ослаблена бывала афинская демократия. А что сегодня? Когда перестают чтить законы, когда во имя безбрежной свободы сильный угнетает слабого, не встречая ни в чем препон, – тогда, мои дорогие, нет у меня веры, будто в этом, как утверждают некоторые, и заключается сила нашего времени. По-моему, в этом – опасная слабость. – Он протянул руки к друзьям. – Почему мы с вами так враждебно относимся к софистике, почему нападаем на нее, кто бы ни был ее носителем – простой человек или могущественнейший? Из одного ли упоения риторским искусством? Чтобы поупражняться в споре? Нет, друзья: потому что софистика – оружие олигархов! И с этим оружием мы обязаны скрестить свое!
– По-моему, – заговорил Платон, – величайшее зло софистики состоит в том, что она не признает ничего святого и душит всякий духовный взлет человека. Разрушает хорошее и превозносит дурное.
Сократ взвесил слова Антисфена и то, что сказал Платон.
– Мальчики мои, вы хорошо видите то, что я и хотел бы, чтобы вы видели, – опасность! Бороться же с этой опасностью могут лишь те, кто знает ее и хочет с ней бороться. Демокрит говорит: человек – это маленький мир. Великое откровение! И великий труд – управлять этим маленьким миром, ибо он пусть малый, но – мир. Антисфен сказал – раны Афин неисцелимы. Я не разделяю этого мнения. А на что же тогда вы, и ваши будущие ученики, и ученики тех учеников? Ходите, учите людей: познайте самих себя, metanoeite, измените себя, станьте лучше. Вообще, – голос Сократа повеселел, посветлел, – по моему мнению, человек сам творец своей судьбы. Поэтому я верю, что человек может стать творцом и судьбы своего народа.
4
Сократ лежал с закрытыми глазами; из уголка глаза на щеку его сползла слеза.
Вошла Мирто. Спит, подумала. Сбросила сандалии, босиком приблизилась к ложу. Положила в ногах кифару; узелок с принадлежностями для резьбы и кусочками дерева опустила на пол.
Легонько, едва прикасаясь, погладила его обнаженную руку. Сократ слышал – пришла Мирто, но хотел продлить сладостное мгновение и притворился спящим.
Она тихонько прошептала:
– Нет у меня никого на свете, кто так любил бы меня, как ты, дорогой. Сколько счастья дал ты мне! – Заметила слезу, высыхавшую у него на щеке, испугалась, громче спросила: – Ты плачешь?
Он открыл глаза, вобрал ими всю красоту, что отдавала Мирто ему одному, и улыбнулся:
– Но именно сейчас я очень счастлив.
– А эта слеза? – Она сняла ее губами.
– Слеза? Я ее и не заметил. Жаль, нет их побольше – чтобы ты стерла их поцелуями.
– Значит, тебе все же больно от чего-то?
Больно. Сократ вспоминал о Ксенофонте. Он был очень дорог Сократу. Тщетно Сократ уговаривал его не уезжать к Киру в Персию. Не послушал его Ксенофонт. Послушался Дельфийского оракула. Где он теперь?.. Не увидятся больше… Но Сократ улыбнулся Мирто и сказал:
– Видишь ли, девочка, этот каменный дворец – не виноградник в Гуди, не наш дворик, не агора… Солнца мне тут не хватает.
– Вот отчего слезинка…
– О! Моя кифара! Ты, как всегда, угадала мое желание, хоть и невысказанное… – Он провел пальцами по струнам.
Мирто подала ему узелок.
– А, нож? – Он посмотрел на нее. – Не боишься больше за меня?
– Нет. Я прихожу каждый день – ты не доставишь мне такого горя: не дождаться меня.
– Ты права. Мне снилось сейчас, будто Ксенофонт вернулся в Афины, и вдруг я почувствовал, что уже не сплю и со мной – ты.
– Так ты знал, что я тут? И слышал, что я шептала?
– Слышал.
Мирто прикрыла глаза руками.
– Не сердись; то, что ты прошептала, сделало меня счастливым. – Он отвел ее руки и прижался к ним лицом. – С тобой ко мне входит все самое прекрасное и чистое, что есть в Афинах. – Мирто погладила его. – Я в выгодном положении, – усмехнулся Сократ. – Тот, с кем обошлись несправедливо, внушает к себе больше участия, чем тот, кто живет спокойно.
Мирто сказала с волнением:
– Афиняне раскаиваются в том, что сделали. Но ведь этого мало – раскаиваться! Они не должны были позволить отнять тебя у них…
– Ах, Мирто, – весело возразил он, – мы с Афинами уж навсегда останемся связанными воедино, что бы ни сталось с ними или со мной. Я отдал себя им без остатка и в последние дни моей жизни получаю от афинян больше любви, чем мог бы я, один, отдать им. Пожелай мне легкого сердца, Мирто.
Но она оставалась серьезной.
– Ты все так разговариваешь со мной, чтобы твоя смерть не казалась мне ужасной. Но я хочу, чтоб она казалась ужасной тебе и твоим друзьям! Я хочу, чтоб ты защищался от нее и чтоб тебя от нее защищали они!
– Не беспокойся, девочка. Они уже делают это. Антисфен подал в суд на Мелета, Ликона и Анита. Их будут судить.
Мирто вспомнила, как взывала Ксантиппа к Эринниям.
– Будем ли мы снова счастливы?
– Почему же не надеяться? – улыбнулся Сократ. – Человеку скорее надлежит надеяться, чем отчаиваться.
Снаружи послышались гулкие шаги. Мирто вздрогнула, засобиралась уходить.
– Хайре, мой дорогой!
И до самой тяжелой, железом окованной двери она пятилась – чтоб до последней секунды улыбаться Сократу.
5
Священная триера, просмоленная дочерна, раскрашенная красным суриком, приближалась к Делосу. Подгонял ее попутный ветер, надувая паруса, и гребцы – размеренными взмахами длинных весел в три ряда с каждого борта.
Установился быт Сократа. Его знаменитая «мыслильня» перекочевала в тюремную камеру, где стало так же оживленно, как некогда во дворике между мраморных глыб. Друзья и ученики приносили ему все лучшее, что могли, и он, как прежде, беседовал с ними. Каждый день приходила Мирто. Афиняне, являвшиеся хотя бы постоять у темницы Сократа, слышали мягкие аккорды кифары, доносившиеся через высоко прорубленное отверстие в скале. Некоторые при этом плакали.
Однажды тюремщик ввел к нему молодую женщину, чье лицо было закрыто лазурным шелком. Женщина сняла покрывало, опустилась на колени и хотела поцеловать руку Сократу. Он поднял ее:
– Тимандра!
– Ты меня помнишь, Сократ?
– Прекрасна была ты в ту ночь на террасе материнского дома, когда влюбился в тебя Алкивиад, – и так же прекрасна ты теперь. Как славно, что ты пришла. Но почему не пришла с тобой твоя мать? Ну, ну, что ты, дорогая?
– Тебе – всегда правду, я знаю. – Тимандра опустила глаза. – Моя мать уже не прекрасна. Не хочет, чтобы ты ее видел.
– До чего неразумны вы, женщины, воображая, будто мужчинам нравится в вас только наружность. Феодата обладала и той красотой, которую годы не портят, но делают еще совершеннее.
– Благодарю тебя за мать. Она по-прежнему любит тебя и почитает.
Сократ смешал с водой вино, дар Критона, налил Тимандре и себе.
Она заговорила о суде.
– Будто ты развращал молодежь! И первым из якобы развращенных тобой обвинители называли Алкивиада, что особой тяжестью легло на чашу весов. – Тимандра вспыхнула негодованием, крепко сжала руку Сократа своей изящной рукой. – А знаешь ли ты, что было там, у Геллеспонта?!
Аромат ее благовоний заполнил камеру. Сократ растроганно смотрел в прекрасное, измученное лицо. Бледность его подчеркивала чернота волос, стянутых серебряной диадемой.
Тимандра поведала Сократу, как мчался Алкивиад на коне, ночью, в бурю, к флотоводцам Афин, столь неудачно выбравшим якорную стоянку.
– Он звал, заклинал, молил… А они даже на борт его не пустили, отогнали как собаку! Он хотел спасти флот родных Афин – и он бы сделал это! – Рыдание вырвалось у нее. – Если б его послушали, не было бы ни Эгос-Потамов, ни тех ужасов, что последовали за ним!
– Я рад услышать это – и верю тебе.
Тимандра подняла к нему умоляющий взор.
– Прости мертвому… Он был несчастный человек, гонимый страстями и врагами, но благородный! Он так часто говорил мне: только благодаря тебе в нем в конце концов всегда одерживала верх любовь к родине…
– Я давно простил его, Тимандра.
Она встала, обняла Сократа.
– Твоих обвинителей предали суду. Я отправлюсь к архонту басилевсу и под великой клятвой выскажу все, что рассказала тебе об Алкивиаде. Нельзя, чтобы ты был казнен несправедливо.
– Сделай так, Тимандра. Будет очень хорошо – сохранить в памяти людей и самые светлые стороны Алкивиада.
Тимандра изумленно воззрилась на него:
– Сократ! Ты больше думаешь о мертвом Алкивиаде, чем о себе?!
Афинская триера бросила якорь в Делосском порту, на рейде которого стояло уже множество кораблей со всей Эллады. Сошли на берег храмовые жрецы, самые красивые девушки и юноши и старцы, избранные участвовать в торжествах. Собрались здесь музыканты – они будут состязаться в искусстве игры на кифарах, лирах и авлосах, певцы и поэты. Последние явились отдать на суд публики свои оды и пэаны. И – целые толпы флейтистов, танцоров, чья искусность придаст особую праздничность Аполлоновым торжествам.
Перед Судом Пятисот, выбранных по жребию присяжных предстали поэт Мелет и оратор Ликон. Недавние обвинители теперь сами выступили в роли обвиняемых.
Анит на суд не явился. Бежал за море. Его судили заочно.
Главный обвинитель – высокий, стройный мужчина с лицом аскета, в глазах – лед непримиримости: Антисфен.
Делосские торжества начались с процессии к священной роще Аполлона. По древнему обычаю, богу принесли кровавую жертву. Голову жреца, совершающего обряд, одетого во все белое, увенчивал венок с пестрыми лентами. Подвели к алтарю жертвенную телку с позолоченными рогами, тоже украшенную лентами. Жрецы осыпали ей голову и шею молотым ячменем, состригли с головы клочок шерсти и бросили в огонь.
Смолк хор, славивший Аполлона и взывавший к нему. Толпа, храня молчание, смотрела, как жрец вонзил в горло телки длинный нож, как, пенясь, потекла кровь по плитам алтаря, как собирали ее в священные сосуды.
Антисфен стоял на краю возвышения и говорил со страстью и гневом:
– Кто же он, этот Анит, которого вы судите, мужи афинские? Вы не забыли, конечно, что его уже привлекали к суду за то, что по его вине, когда он был стратегом, афиняне проиграли битву под Пилосом? Он был судим – ему грозила смертная казнь, – но не осужден! Анит избежал правосудия, подкупил присяжных! Не подкупил ли он некоторых из них и в деле Сократа – однако не для того, чтобы спасти его от неправого суда, но, напротив, чтобы неправый суд свершился! Разве не слышали многие из вас, как Мелет, напившись пьян, кричал по городу, что Анит не заплатил ему обещанного за обвинение Сократа? Сократ на суде не защищался: он не нуждался в защите. Он обвинял – и знал почему! Ибо Анит устроил суд над Сократом не в интересах Афин, не в интересах всего народа и неимущих – но исключительно в своих собственных интересах. Скажите сами – мог ли он спать спокойно, имея два лица? Ибо не у Сократа два лица – у Анита! Одно, сладкое, обращенное к народу, и другое, которое тоже сладко улыбалось софистам, врагам народа! Вспомните, кого он выбрал на роль обвинителей Сократа! Софиста Ликона! Или, быть может, призывы софистов к хаосу, к произволу, даже к анархии – в интересах Афин?
Антисфен стоял у края возвышения и говорил со страстью и гневом…
На алтаре Аполлона сжигали окорока, обложенные салом и окропленные вином, разбавленным водой. Желтый дым, едкий смрад горелого мяса смешивались с ароматами аравийских благовоний в курильницах, и ветерок относил их к толпе, к лазурно сверкающему небосводу, чистому, как детское око.
Повернувшись лицом к востоку, люди воздевали руки к небу, моля Аполлона Провидца, хранителя жизни и порядка, да бдит он всегда над Элладой!
Зазвучали песнопения, танцоры начали свои танцы, и звуки флейт сопровождали их.
6
Друзья Сократа с большим трудом пробились через толпу, окружившую тюрьму. Камера была завалена дарами афинян: зелеными ветвями, цветами, вином, сладостями…
Критон, самый старый из друзей, разрешил Аполлодору – самому младшему – поведать Сократу о том, чем кончился суд.
Аполлодор опустился на колени и, обняв ноги учителя, возвестил:
– Мелет приговорен к смерти, Ликон и Анит – к изгнанию. Но Анит, в страхе перед судом, бежал из Афин. Ты получил отличное удовлетворение, мой дорогой! Когда корабль вернется с Делоса, умрешь не ты, а Мелет.
Сократ остался серьезным. Удовлетворение, данное ему этим решением суда, радовало, но он размышлял над тем, какая связь между трагедией Афин, в которую они были ввергнуты после Эгос-Потамов, и обоими трагическими приговорами – ему и Мелету.
– Сижу здесь посреди роз, словно невеста. Только жениха-то нету… Ну, свадебные гости, принимайтесь за дело. Отведайте, какое из вин, что подарили мне люди, лучшее, – и выпьем вместе.
Они ждали, что Сократ обсудит с ними возможность своего освобождения, но он сказал:
– Вы часто слышите – я всем советую удовлетворения ради соблюдать мою излюбленную софросине. Но теперь я хочу завещать вам свою страстность. Не пугайтесь – я знаю, что говорю. Не смотрите на то, что Платон хмурится. Я завещаю вам свою страстность: будьте страстны, вскрывая причины несчастий людей, будьте страстны, стремясь совершенствовать человека. Будьте такими – учите людей не хитрости, но мудрости, ибо она родная сестра добродетели.
– Я уже не хмурюсь, дорогой, – вставил Платон.
– У тебя мягкий нрав, – усмехнулся Сократ. – Ты благородный юноша, Платон. Но хоть и прояснил ты свое лицо, чтоб не огорчать меня, все равно я кажусь тебе слишком ершистым. Меня не проведешь.
Платон хотел было возразить, но Сократ опередил его:
– Сейчас я докажу тебе, до чего я ершист. Антисфен подвигнул суд покарать людей, унизивших меня, а поблагодарю я его довольно странным образом. Вижу, дыры в его плаще сегодня заметнее прежнего, – наверное, он хочет всем показать, что следует мне в презрении к роскоши. Антисфен, Антисфен, прости моим глазам, но они видят: из дыр твоего плаща выглядывает тщеславие!
Платон покраснел. Такой благодарности Антисфену он не ожидал. Но сам Антисфен засмеялся:
– Твоя язвительность, Сократ, не оскорбляет – она поднимает дух!
– Спасибо, Антисфен, – сказал Сократ. – Но смотрите, как меня задаривают! – продолжал он, показывая на подношения афинян. – Чем я приобрел стольких друзей, угадайте! Не думаете же вы, что скромностью моих потребностей! Напротив: неистовством и упорством, с какими я ежедневно добиваюсь своего. Ну, которое вино вы выбрали? Это? – Он пригубил. – Хороший выбор. Ароматное, сладковатое, оно дарит блаженство, как поцелуй любимой.
Стали пить вино, передавая друг другу кружку и глиняные чарки.
Сократ еще отхлебнул, причмокнул, улыбнулся:
– Нет, нет – смело берите мое неистовство, исследуя внутренний мир человека, разоблачая его заблуждения, отыскивая средства исправить его. Не проглупите! Воспитывайте каждого, кто попадет к вам в руки, – пускай умеет жить…
Он протянул ладони к сидящим вокруг него.
– Уметь жить – великое искусство, друзья: первым долгом разобраться в самом себе, затем в тех, кто тебя окружает, а там уж и схлестнуться с противниками – и при этом никогда не утрачивать доброго настроения. Демокритова эвфимия, дорогие мои, – одна из основ искусства жить.
– Но это и самое трудное, – заметил Платон.
– Да, это самое трудное. Софисты ныне обучают различным знаниям, но превыше всего у них поставлено обучение хитрости. Они имеют временный успех – вы же, друзья мои, должны стать учителями жизни, и ваш успех станет ценностью непреходящей.
– Я – каменотес, каким был и ты, Сократ, – взволнованно заговорил Аполлодор. – Должен ли я бросить ремесло? А я как раз начал ваять тебя, Сократ, и работа меня радует…
– На этот вопрос, мой милый, никто не сможет ответить, кроме тебя самого, а уж твой учитель – тем менее. Познай сам себя, гласит изречение Дельфийского оракула; вглядись, для какого из этих двух трудов горит в тебе пламя выше. Случается, оно горит одинаково высоко и для того, и для другого. Но редко рождается настолько одаренный человек, чтобы не обделить одно ради другого.
Платон медленно произнес:
– Что касается меня – я решил. Оставлю стихосложение, отдамся философии. А не найду достаточно покоя и безопасности в Афинах – обоснуюсь где-нибудь в другом месте; но эту свою любовь никогда не покину.
Сократ взял веточку лавра, растер в пальцах листок, вдохнул горьковатый запах.
Недолго помолчав, заговорил снова – скорее как бы шутя, чем прощаясь всерьез:
– Завещаю вам, друзья, и мое повивальное искусство. Вы хорошо знаете, в чем оно состоит. И тут уж лучше перестараться, чем остановиться на полпути!
– Это я тебе обещаю, – с жаром отозвался Антисфен. – Если уж я перестарался, подражая твоей скромности, так что обо мне говорят, будто я отличаюсь от нищего только тем, что не прошу подаяния, то, верно, буду преувеличивать и во всем остальном, следуя тебе, Сократ.
– Преувеличивай, Антисфен. В обучении тому, как надо красиво жить, никогда не перестараешься.
Аполлодор жадно смотрел на лавровую ветку, которой играл Сократ.
Тот протянул ветку юноше, озорно подмигнул друзьям и весело продолжал:
– Завещаю вам еще мой лукавый демоний, который стоил мне доброй трети цикуты. Если его слышу я, человек, в котором нет ничего необыкновенного, невероятно, чтоб его не слышали и другие. Прислушивайтесь к нему и прежде всего советуйтесь с этим внутренним голосом. – Построжев взглядом, спросил Платона: – Ты хорошо следишь за моей мыслью, Платон?
– Да, – ответил тот. – Но почему, дорогой, ты и после сегодняшнего разговариваешь с нами так, словно прощаешься?
Сократ широко улыбнулся, широко раскинул руки:
– Ах вы, мои любимые! Да разве было когда у нас столько времени потолковать без помех, как здесь? Это надо использовать – вы же меня знаете, какой я в этом смысле ненасытный!
Глубокие продольные морщины прорезались на лбу Платона. Как ни старался Сократ замаскировать смысл своих речей, Платон понял, что это – прощальные речи; понял – учитель охвачен тягостным опасением, как бы ученики его не отошли от всего того, о чем он с ними беседовал…
Платон понимал это опасение. Метод бесед Сократа был сама непредвиденность. Он не вел их мысль по заранее составленному плану. Хотел, чтобы каждый сам дошел до того или иного вывода, и, если ученик не находил дороги, Сократ подталкивал его наводящими вопросами.
Уже более десяти лет наблюдал Платон, как Сократ заставляет каждого самостоятельно пробиваться сквозь наслоения неясностей, закостенелых представлений, суеверий и прочего балласта, – пробиваться к новым взглядам и на себя самого, и на все общество. Такой метод пленял Платона. Он собирался перенять его для своих работ, которые уже готовил. Вместе с тем он ставил своей задачей привести в стройный порядок все, что когда-либо слышал от Сократа, и таким образом слить его понимание мира со своим собственным.
С наслаждением наблюдал Платон этот сократовский метод философствования. Мысли, которые нес Сократ эллинскому миру и миру за пределами Эллады, он частенько сопровождал иронией, шуткой, а то и изрядной долей язвительности, и случалось, что он, рыбак, оставлял пойманную добычу биться, как рыбу, вытащенную на берег.
Общение с Сократом всегда сильно возбуждало Платона. Этот старый чародей вносил беспокойство в его душу, и беспокойство это Платон уносил домой. И до поздней ночи не мог успокоиться, мысленно продолжая беседу, записывал, исправлял диалоги с Сократом.
Поэтическим жаром своим, самостоятельным ходом размышлений Платон день за днем овладевал Сократом. Не себя подавлял учителем – начал уже учителя подавлять собой.
Сократ, потягивая с друзьями дареное вино, не обращался к Платону прямо, даже не смотрел на него – и все же неотступно думал сегодня прежде всего о нем. Он высоко ценил Платона, радовался этому молодому ученику, который являл собой прямую противоположность неукротимому Алкивиаду, поражавшему и дразнившему Афины безрассудными выходками. Платон с юных лет был уравновешен, много размышлял, и – мало этого – все, что он делал, говорил или писал, имело свое особое обаяние, свою стройность.
Афины получат в его лице великого поэта и мыслителя, говорил себе Сократ.
В камере смеркалось. Цветы и ветви увядали без воды, выдыхая сладковатый аромат.
Сократ говорил о блаженстве.
– Блаженство от мысли, что ты становишься лучше и приобретаешь лучших друзей, – тут взгляд его встретился со взглядом Платона, – есть одно из высочайших блаженств…
Он ценил дар Платона. Тот умеет в размеренной речи и в прозе одеть мысль столь прекрасной одеждой, что ее принимают с восторгом.
А я? – спрашивал себя Сократ. Я все только ходил по городу и расточительно разбрасывал свои мысли… Тому немножко, этому кое-что, в зависимости от того, куда сворачивал разговор; но сам я не записал ничего из моих размышлений о людях…
Седьмой десяток лет и угроза смерти застигли меня с пустыми руками. Я роздал себя – и нет никакой уверенности, останется ли для будущего хоть что-нибудь из всего того, что я познал. Я раздробил себя на сотни и сотни людей, но кто из них будет знать, какой я – нераздробленный? Всем отдавал я по кусочку себя. Но никому – себя целиком. Станет ли им Платон? Тот, который сейчас заявил, что покинет мои Афины, если не найдет в них для себя достаточно покоя и безопасности? Не покинет ли он и меня?
Сократ давно чувствовал, как Платон прямо-таки заглатывает его. Почти с болью ощутил он это и сегодня. И, глядя теперь на него своими выпуклыми глазами, Сократ задумался о себе самом.
На суде это было впервые, теперь появилось во второй раз: чувствую себя слабым и старым. И вот передо мной Платон. Молодой, жадный к познанию, готовящийся сдвинуть мир с мертвой точки. Сократ вспомнил неприязнь, а может быть, и пренебрежение Платона к Ксенофонту, Антисфену и Симону. Сократ задавал себе беспощадные вопросы.
Право, Платон ни в чем не уступает этим моим ученикам, и нет у него оснований для ревности. Но нет у него с ними и общего языка, и он дает им это почувствовать. Но если нет у него с ними взаимопонимания – хорошо ли он понимает меня?
Внезапно в глазах у него стало темно – темнее, чем в камере. Он перестал задавать себе вопросы. Знал: за то время, что ему осталось жить, ответа он уже не найдет.
Платон, заметив, что глаза Сократа слегка потускнели, сказал с одушевлением:
– Как я благодарен тебе, мой Сократ, что ты научил меня заниматься человеком! Так пристально, чуть ли не навязчиво, – до тебя никто этого не делал. – Плавным движением руки он повел в сторону Акрополя. – Ты, дорогой, высек некогда в камне богинь очарования, а потом уже долгие годы ваял не прелестных богинь, но людей душевного обаяния…
– Хорошо сказано, – похвалил его Критон.
– Только сказано, – заметил Сократ.
– Нет! Не только! – вспыхнул Аполлодор.
Но Платон еще не закончил похвалу Сократу.
– Ты отыскал душу человека, задвинутую глубоко, придавленную древними обычаями, жившую в небрежении и недооценке. Ты открыл красоту души – открыл ее и для моих папирусов…
Вошел тюремщик, внес светильник.
– Пора.
Критон поднялся первым:
– Да. Уходим.
Сократ – его лицо было теперь освещено – положил руку на плечо Платона:
– Велика красота души, если душа красива; но куда больше безобразие уродливой души. Есть люди, утверждающие: здесь ничему не поможешь, это рок, воля богов; вы же, мои милые, говорите всегда: помочь можно и тут – добродетели можно научиться!
7
За годы, прожитые с Сократом, Ксантиппа изучила каждый его шаг, когда он выходил по утрам во дворик. И со дня его заточения стала ходить тропками мужа.
Освежившись студеной водой, Ксантиппа встречала просыпающееся солнце, затем подходила к Артемиде. Бывало, ее сердило, что муж целует колено богини, – особенно после того, как он сказал, что целует его не потому, что Артемида богиня, а потому, что она прекрасна. Сократ говаривал – с каждым новым днем надо приветствовать не только солнце, но и красоту.
Здоровье Ксантиппы не восстанавливалось. Неверными шагами ходила она среди мраморных глыб, придерживаясь за них руками, и, как, бывало, муж, разговаривала сама с собой.
Ветшает тут все без него. Камни утрачивают гладкость. Ограда обваливается, надо бы починить. Вот бы Лампрокл… Ах, этот бродяга убегает от деда, от ученья, все норовит в палестру с такими же, как он, сорванцами. Хочет, видишь ли, состязаться в беге… В безделье бы ему состязаться! Да, мало нам от него радости – быть может, возьмется за ум, когда отбудет военную службу… Что там за шум? Не несут ли вести от Сократа? Нет. Это к соседям…
Ксантиппе плохо дышалось. Но она не легла в постель, приготовленную для нее Мирто, села на пороге дома. На постели лежал белый праздничный пеплос. Ксантиппа взяла его в руки – к нему была приколота красивая янтарная пряжка.
Пеплос-то свой Мирто мне показала, а пряжку – нет. Кто мог подарить ей? Жизнь с Сократом была нелегкой, но все же куда прекраснее, чем теперь, когда его тут нет. Когда мне было столько лет, сколько теперь Мирто, я выходила замуж. Мирто молода. Красива. Скрывает от меня, что любит Сократа. Она внесла радость в наши будни, она работяща, помогает мне жить – но раздражает меня… Неужели не чувствовала она, как мне бывало больно, когда она за ужином гладила его руку? И он был так нежен с нею. Ко мне он не бывал так нежен. Или я уже забыла? Каждый день она ходит к нему в тюрьму и возвращается молчаливая, словно не хочет после того, как слышала его, слушать, что говорю ей я…
В калитку громко застучали. Какой грохот! Ксантиппа побрела к воротам, выглянула в маленькое окошко и, отодвигая засов, сердито проворчала:
– Вот стук подняла! Прямо будто мне по голове…
– Прости, Ксантиппа! Из Фив приехали Симмий с Кебетом… – радостно сообщила Мирто.
– Ну и что, сумасшедшая?
Мирто отвела Ксантиппу к постели, заставила лечь.
– Положить тебе мокрую тряпку на сердце? Дать отвару из кореньев, которые прислал тебе лекарь Эриксимах?
– Ничего я не хочу, – отрезала Ксантиппа. – Все равно мне ничто не поможет, и вы это отлично знаете. Вчера Эриксимах смотрел на меня с таким состраданием…
– Люди вылечиваются и от более тяжких болезней. Поправишься и ты, Ксантиппа, увидишь!
– Ладно, брось свои утешения, лучше подои козу.
Напившись парного молока, Ксантиппа спросила:
– Что это ты сказала про Симмия и Кебета? Бывало, приезжали они к нам, привозили мне славные вещицы – то гребень, то сандалии, то зеркальце полированного серебра… – Ксантиппа улыбнулась воспоминанию. – И жареных барашков привозили, паштеты, сыр, белый хлеб… Сократ всякий раз занимал их своими разглагольствованиями о неумеренности и чревоугодии, однако сам ел за двоих, только причмокивал… Всегда был себе на уме! Да, так что же Симмий и Кебет?
Мирто, волнуясь, передала, что сказал ей старый Архедем:
– Прискакали они не на ослах – на лошадях, подумай! И сразу к Критону. Теперь обсуждают с ним, что делать. Афиняне знают – высшая мера наказания Сократу присуждена несправедливо! И вот Симмий с Кебетом хотят добиться низшей меры! Они предложат за него крупный штраф! – Мирто прямо ликовала. – Они его выкупят! Он вернется к нам!
– Если так, – сказала Ксантиппа, – загляни-ка в его комнату. Там, поди, паутины полно…
– Нет. Я убирала каждый день…
– А, так ты каждый день туда лазишь! – взъелась было Ксантиппа, да вдруг ласково закончила: – Мирто, милая, согрей воды, вымой мне голову… Будь добра!
Мирто вымыла ей голову, высушила на солнце, стала расчесывать.
– Какие у тебя чудесные волосы!
– По-твоему, Мирто, они и сейчас еще хороши? – И мечтательно добавила: – Сократ говаривал – у меня самые роскошные волосы во всех Афинах…
Напрасно скакали в Афины Симмий и Кебет. Никакая гора мин не могла изменить приговор гелиэи. А тем паче снизить столь резко – от высшей меры к низшей, то есть к денежному штрафу.
Симмий и Кебет не нашли в себе мужества явиться к учителю со злой вестью. Вместо тюрьмы отправились снова к Критону.
– Ужасно думать, как мы бессильны! – воскликнул Кебет.
– Я трепещу за Сократа, – выговорил Симмий.
– Я тоже, – подхватил Кебет.
Критон же произнес:
– Мой страх, друзья, уже так велик, что я перестал бояться.
– Что же ты хочешь сделать? – спросил Кебет.
– Для его спасения остается уже только одно средство – побег.
8
Отзвучали на Делосе музыка и пение. Кончилось празднество в честь Аполлона. Священная триера с паломниками возвращалась в Афины.
В помещении под палубой лежал на циновке танцор Тиндарей среди других танцоров, певцов, декламаторов и музыкантов. Он совершенно обессилел после стольких дней плясок, пиров, ночных похождений. Все тело его, смазанное жиром, чесалось от пота и пыли.
Он лежал, раскинув руки и ноги. На ладони его правой руки покоилась растрепанная голова юной флейтистки Анаксибии. На Делос они приплыли чужими. Возвращаются любовниками.
С неизменной регулярностью день сменялся ночью, но бодрствование не столь регулярно сменялось сном. Так было и в эту ночь. Не спало море, не спало звездное небо, не спали гребцы, бодрствовали и паломники.
Волны качали триеру. Играли ею пальцы моря.
Теплая кудрявая голова Анаксибии легонько покачивалась в колыбели Тиндареевой ладони.
Он повернулся к возлюбленной, пальцами другой руки осторожно пощупал – закрыты ли ее глаза. Веки были опущены, но губы трепетно прошептали:
– Тиндарей…
– Не спишь?
– Как великолепно ты танцевал! Я представляю, будто сейчас танцую с тобой, и это так чудесно, что не могу ни спать, ни бодрствовать…
Кто-то из лежавших тихо спросил:
– А думает ли кто из вас о том, что наш корабль везет в Афины смерть?
Тиндарей по голосу узнал певца Диомеда. Ответил:
– Знаю – мы плывем на корабле смерти.
– А что мы – его убийцы, это ты тоже знаешь?
– Знаю: он умрет и за нас, молодых, которых он якобы развращал. Но не надо преувеличивать, Диомед. Если мы – его убийцы, то лишь по той причине, что молоды…
Анаксибия приподняла голову, но Тиндарей нажатием руки снова уложил ее к себе на ладонь. Диомед это видел; подумал о благоуханной сандаловой коже флейтистки.
– Ты прав: молодость не вина, молодость – красота.
Бессонная ночь словно искала собеседников, не давала и людям уснуть.
Тиндарей сел скрестив ноги, совершенные по форме и от природы, и от упражнений.
– Он говорит: мало полагаться на богов, ведь мы даже не знаем, существуют ли они вообще. Он говорит: познай самого себя. Это он правильно говорит. Сами себя толком не знаем – и, не знающие себя, должны повиноваться неведомым, невидимым? Или хотят, чтобы мы носились в пространстве, подобно призракам, не имея под ногами твердой почвы?
– Придержи язык, дорогой, – оборвал его кифаред, сопровождавший Тиндарея в танцах. – Это похоже на кощунство!
Анаксибия предостерегающе приложила маленькую ладонь к губам возлюбленного. Тиндарей поцеловал эту ладонь и строго спросил:
– Кто сказал, что я кощунствую? Я просто спрашиваю. Говорят, Аполлон покровительствует молодым, но я спрашиваю: кому из вас он когда-либо дал совет? Кому помог?
Из кучки дремлющих танцовщиц поднялась Нефеле:
– И так говоришь ты, у кого еще и сейчас, поди, ноги болят после танцев, которыми ты чествовал Аполлона?
Тиндарей же возразил:
– Да, мы взывали к Аполлону, хранителю жизни, порядка, справедливости, творцу гармонии, и красоты, а сами теперь везем в Афины несправедливую смерть! Это ли гармония? Красота?
Нефеле, в душе которой еще не улеглось возбуждение, вызванное праздниками, отвечала:
– Но он еще не умер! Я танцем молила Аполлона, призывала его – пусть стрелами своими разобьет чашу с цикутой, когда ее поднесут Сократу! – И здесь, на борту смертоносной триеры, она вскричала в экстазе: – О Аполлон, бог света и радости, услышь меня!
– Услышь нас! – подхватили голоса.
И стихли. Словно ждали – отзовется Аполлон, пошлет какое-то знамение… Но только триера все покачивалась на волнах, да стекали с весел тяжелые, соленые слезы.
– О Аполлон, Лучник, бьющий без промаха, пошли же свою стрелу в его темницу! – опять, но еще более страстно вскричала Нефеле. – Разбей чашу с ядом!
Тиндарей сказал трезвым тоном:
– Это было бы его божественным долгом. – Затем спросил: – Аполлон любит солнце, а в темнице – темно; скажи, Нефеле, не минуют ли эту темницу взгляд его и стрела?
Сраженная этими словами в разгаре своего экстаза, Нефеле прошептала:
– Насмехайся! Но гляди – больно уж расплясался твой язык! Как бы и тебе не пришлось отведать яду!
– Что ты, милая Нефеле! Я недостоин равной с ним чести и славы. Единственное, что есть у меня общего с Сократом, – это молодость.
Тиндарей обвил свою талию рукой Анаксибии и сам ее обнял.
– Он учит людей, как надо жить. Добродетели можно научиться, говорит он. Не глядит он на звезды, не заглядывает в загробный мир. Живи, человек, здесь, на земле, и старайся достичь блага. Но ведь этого же хотим и мы, молодые!
Диомед дружески улыбнулся Тиндарею:
– Ты – его человек, как и я.
– Став опасным для Анита и ему подобных, перевернувших демократию вверх ногами, он, сам молодой, стал защитником нашей молодости. Стало быть, за нас он и умирает.
Теперь, когда до смерти Сократа было ровно столько, сколько их кораблю до берегов Аттики, они думали о приговоренном с возрастающим стеснением в груди.
Ветер вздувал брюха парусов, гребцы размеренно погружали в волны длинные весла, резким движением вырывая их обратно.
Триера полетела, перестала качаться. Словно ножом рассекала море. Корпус ее чуть заметно вибрировал.
Лежавшие под палубой почувствовали эту перемену. Анаксибия тихонько заплакала.
– Что с тобой, мышка моя?
– Очень быстро плывем…
9
Беседовали, попивая вино, что принес раб Платона. Сократ уже знал, что Кебет и Симмий ничего не добились у архонта. Он потягивал вино, давая время языку просмаковать каждый глоточек.
– Я не все еще вам завещал, – медленно заговорил он; поколебался, но все же продолжал: – Осталась еще моя боль, дорогие.
Друзья молчали.
Он улыбнулся:
– Не угадаете ли – какая?
В их представлении возникла смертоносная триера – черная птица с могучими крылами, окрашенная в цвет крови, летит к материнской гавани…
– Так вы не знаете, что это за боль, – не знаете вы, самые близкие мне?
Они и теперь не отвечали, не осмеливаясь открыть, о чем они думают. Тогда он сказал:
– Одна лишь боль достойна человека – боль от сознания, что он не достиг того, чего хотел достичь.
– И это говоришь ты, Сократ? – удивился Критон. – Самой малой из твоих заслуг достаточно, чтобы испытывать удовлетворение и гордость.
– Молодежь называет тебя отцом мышления, – поспешил вставить Аполлодор.
Сократ раскинул руки:
– Ах вы мои неразумные, добрые мои, не утешайте меня, не уклоняйтесь. Отчего же мне больно? Коснитесь этого!
– Нет ничего, что могло бы причинить тебе боль! – вскричал Аполлодор.
– Я тоже был молод, как ты, – возразил Сократ. – Долго, долго – почти до сего дня. Смотрел только вперед. Но – сами знаете – пора мне теперь оглянуться, взвесить труд, исполненный за полвека. Чем оценить его? Тем ли, что обо мне говорят? Или тем, что я сам когда говорил? Я беспощаден к другим – так мне ли щадить себя самого, словно какого-нибудь недоросля? Клянусь псом – не хотел бы я так уйти!
Критон обнял старого друга:
– Чем ты терзаешь себя, брат? Чем терзаешь нас?
– Правдой, – ответил Сократ. – И если правду о себе не выскажу я – ее выскажут другие. И кто знает, как они ее исказят!
– С этим нельзя не согласиться. – Критон крепче прижал к себе Сократа. – Но не спеши завещать. Подожди – сначала дай нам поговорить о другом, более неотложном.
Сократ пропустил это мимо ушей. Не в силах он был откладывать долее то, что лежало у него на душе.
– Взгляните, мои дорогие, – вы ведь кровь от крови моей, – какова же моя жатва? Я всегда считал, что добродетели можно научиться. Так ли это? Вы отвечаете – так. На что я столь часто напирал? На то, что знание делает человека справедливым. Так ли это? Вы отвечаете – так. Еще со времен Перикла я вместе с первыми софистами способствовал тому, что в Афинах пустило корни более глубокое просвещение. Многие из вас, моих учеников, сами стали учителями. В том, что Афины слывут матерью искусств и наук, есть и ваша, и моя, пускай скромная, заслуга. Но – так ли это?
– Безусловно, – ответил теперь Платон. – И мне кажется, именно это обстоятельство и говорит против твоей боли.
– Это видимость, милый Платон. Пятьдесят лет! Нередко доставались мне на рынке и пинки, и затрещины в отплату за советы, которые я давал для пользы того же, кто меня ударил. И что теперь? Теперь, в конце моей жизни? С чем я встретился?
Все молчали. Антисфен долил вина в его чашу. Когда Сократ поднес ее к губам, рука его задрожала, капли вина окропили белоснежный хитон. Он не обратил на это внимания, но друзей ужаснул вид алых пятен.
Сократ задал вопрос:
– Действительно ли и теперь все то, что я утверждал долгие годы, к чему вел и вас?
Кивнули – хотя и с некоторым смущением.
– Вы отвечаете утвердительно. – Сократ все ближе подбирался к своей боли. – С любым утверждением можно по желанию соглашаться или не соглашаться, но верность его следует испытывать фактами. Каковы же факты? Что я улучшил? Кого? Не говорили ли мы несколько дней тому назад об упадке Афин?
Аполлодор смотрел на стену камеры, закрывавшую от взоров мраморное великолепие Афин, и видел ужасный Тартар.
Рука Критона сама собой, словно омертвев, соскользнула с плеча Сократа. Тот повернул к себе лицо Аполлодора:
– Вот ты, мой маленький, – ты, несомненно, честно скажешь мне, чего я достиг.
– Нет, не скажу! – в ужасе отозвался юноша. – Ничего не скажу!
– Но ты понял мой вопрос? – настаивал Сократ.
– Ничего я не скажу! Не могу!
– Значит, даже от тебя я этого не услышу?
Аполлодор, закрыв ладонями лицо, взмолился:
– Прости меня, дорогой, за то, что я думаю, но ведь это, конечно, неправда!
– Не мучь мальчика, – укорил Сократа Критон. – Почему ты насел именно на него?
– Потому что все вы упрямо молчите! – вспыхнул Сократ. – А он – скажет!
Аполлодор весь дрожал при мысли, что вот Сократ трудился всю жизнь, стараясь сделать людей лучше, а углубляющийся упадок Афин сводит на нет весь его труд. Так, может, он напрасен, этот Сократов труд, не нужен? Имею ли я право высказать это, когда он ничего уже не может сделать, смею ли так огорчить его?
– Я буду любить тебя всю жизнь! – вырвалось у него.
Сократ мягко улыбнулся ему:
– В таком случае ты, конечно, докажешь свою любовь и теперь и ответишь: достаточно ли одного знания, чтобы люди сделались справедливыми и добродетельными, – достаточно ли для того, чтоб им было хорошо, а с ними и всему обществу?
– Недостаточно… – одним дыханием вымолвил Аполлодор.
– Будь благословен, мой маленький, – облегченно вздохнул Сократ. – Ты первый взял от меня мою боль, а уж если ты сумел это сделать… – Он обвел глазами остальных.
– Но боль твоя слишком велика, – сказал Критон. – Велика для тебя и для всех нас, вот почему мы ее испугались…
– Нет, добрый мой друг, – возразил Сократ. – От боли мы не должны убегать – мы обязаны познать и ее целиком. Все то, над чем я бился всю свою жизнь, не привело к тому, на что я надеялся, на что надеялись и вы. Для блага отдельного человека и для блага всего общества требуется еще нечто совсем иное.
– И ты, дорогой учитель, не знаешь – что? – спросил Платон.
Сократ взволновался, кровь бросилась ему в лицо:
– Не знаю! Обо что я споткнулся? В чем кроется мой неуспех? Прежнее мое утверждение – «знаю, что ничего не знаю», когда-то имевшее целью подтолкнуть людей, чтоб они стремились узнать как можно больше, – сегодня, милые, получает иной смысл; сегодня это мое «не знаю» меня… удручает.
Они придвинулись ближе к Сократу, но не могли найти, чем его утешить. Он заговорил сам:
– Равновесие мира нарушено. Давно уж. Это противоречие, сначала просто трещина, постепенно превращается в бездну, которая разрывает надвое государства и людей. – Возбуждение Сократа нарастало, все более пугая друзей. – Тартар, о котором рассказывают, что он – в недрах подземного царства и назначен в вечное наказание страшнейшим преступникам, – Тартар оказался здесь, в Афинах, и страдают в нем живые люди, взрослые и дети, существа совершенно невинные. Должно ли так быть? Устранил ли я своими беседами этот нарыв на теле нашего великолепного города? Могут ли обитатели этого Тартара жить красиво, как представляю себе я и как представляете вы со мной? Можем ли мы словом изменить то, что свободные граждане из нужды нанимаются на работы тяжелее тех, на какие отправляют рабов? Должно ли быть так, чтобы раб считался не человеком, а просто одушевленным орудием? Вещью? Но если мы признаем в нем человека, ибо он ничем от нас не отличается, кроме бедности, должно ли быть так, чтобы он был лишен прав человека? Чтоб не мог он носить имя своего рода, а только прозвище? Чтоб ему не принадлежали даже его дети, рожденные от рабынь, чтоб дети эти были всего лишь приростом имущества рабовладельца, словно они – домашние животные? Это – одни. А что же другие, по ту сторону бездны? Те, кто живет по правилу «имущество рождает имущество, деньги делают деньги»? Должно ли быть так, чтобы кто-то владел тысячами рабов, продавал и покупал их и жил в царской роскоши на прибыль, высосанную из их труда? Должно ли быть так, чтоб людей одного общества разделяла стена собственности, из-за которой человек человека не видит, а скорее ненавидит? – Сократ бурно дышал. – Зло нужды так же портит человека, как и зло золота. Как же быть мне с таким неравенством? Тут кончается моя мудрость, тут начинается моя боль, мое страдание.
Все ощутили боль Сократа как свою. Примолкли, как умолкают перед ликом несчастья.
Один Антисфен собрался с духом:
– Ты, Сократ, всегда беседуешь с нами только о том, что полезно и необходимо. Зачем же нам мучиться из-за того, чего нельзя изменить? Нужно ли нам так страдать, если все равно этому суждено оставаться вечно?
Сократ встал, порывисто схватил Антисфена за плечи, тряхнул его:
– Что ты говоришь?! Все останется вечно таким, как есть? И ничего нельзя изменить? Да неужели же я заговорил бы с вами об этом, если б не верил в изменение? Если я верю в возможность изменить человека, как же мне не верить в возможность изменить и все общество? Я не знаю, с какого конца браться за дело, но знаю: такая перемена произойдет опять-таки только через человека! Вот почему моя забота о человеке не была напрасной, не будет напрасной и ваша забота о нем. Поэтому, любимые мои, мучайтесь болью, которую я вам передаю, и не покидайте человека! Верьте в него, как верю в него я!
Пальцы Сократа отпустили плечи Антисфена; старец посмотрел на Платона:
– Не печальтесь и не пугайтесь того, что я сказал. Долгое время боролся я один с гидрой зла, но вас, сократиков, ныне уже много. Примите же то, что я узнал в конце своей жизни, вы, молодые. И от моего последнего познания идите к познаниям новым. Ломайте себе над этим голову, привлекайте к своему делу кого только сможете. Как менялся мир до нас, так будет он меняться и после нас. Но одних рук, одного мозга для этого мало. И вы, кровь от крови моей, будьте среди тех, кто станет пробивать миру дорогу, стремясь изменить его к лучшему.
Сократ обвел взглядом печальных друзей. Коснулся рукой лба.
– Что это со мной? Со всеми нами? Клянусь псом! Мы забыли пить… Аполлодор, наливай!
Выпили все, кроме Платона. Сократ заметил это.
– Что с тобой, мальчик? Ты так бледен! Болит у тебя что-нибудь?
Платон, прислонившись к стене, ответил:
– Болит. Боль твоя болит во мне.
10
Платон занемог.
– Я хочу тишины. Уйдите все, – приказал он озабоченным домашним. – Ты, Дидона, останься.
Дидона села на шкуру леопарда, ожидая дальнейших приказаний. Платон лежал в постели, тяжко дышал. Боль Сократа сделалась его болью, но он не был таким сильным, как учитель. Не было у него сократовского здоровья и выносливости. Его сводила с ума та бездна противостояний в Афинах, какую открыл ему Сократ. Страшный завет оставляет он нам!
Платона била лихорадочная дрожь. Ноги заледенели. Зябли ступни и икры. Молодая рабыня Дидона расставила вокруг его постели жаровни с раскаленными древесными углями.
Жар, пышущий от них, не согрел ему ноги; душил дым. Платон раскашлялся. Приказал убрать жаровни.
Дидона ходила босиком, розовыми ступнями как бы лаская черно-белый мозаичный пол, выложенный меандровым узором. Тихие шаги не раздражали Платона, но она уронила жаровню, та задребезжала об пол.
– Что ты наделала, несчастная?! – гневно вскричал Платон.
– Прости, господин… Когда ты болеешь, я и сама больна, вся дрожу…
Она улыбнулась Платону – он не видел; подошла к нему – он не заметил. Только когда она коснулась губами его ступни, он дернулся словно в нечаянном испуге и прошептал:
– Ты хорошая, милая, но сейчас я хочу покоя.
Она покорно отошла, села опять на леопардовую шкуру, чтоб охранять больного.
Платон трудно дышал. Что-то сжимало ему голову. Хотел сбросить – пальцы нащупали только слипшиеся от пота волосы. Что-то давило грудь. Провел рукой – на груди ничего нет, кроме легкой ткани хитона.
Дидона видела – он все сопротивляется чему-то, что причиняет ему невыносимые страдания. Веки у него покраснели, покраснели белки глаз. И сами глаза сегодня – больны. Как он чувствителен! Даже свет его ранит. Дидона встала. Осторожно, чтоб не звякнуть колечками, задвинула занавес. Опрыскала покой освежающими благовониями. Ему будет легче дышать.
Платон был далек мыслями отсюда. Из своей изысканной роскоши он перенесся в темницу. Там он сказал Сократу: если не найду в Афинах покоя и безопасности – уеду.
Наморщил лоб. Архонты отвергли деньги, предложенные Кебетом и Симмием, не заменили казнь штрафом. Несомненно, я тоже не буду здесь в безопасности. Надо готовиться к отъезду. Не один Анит – противник Сократа. От Сократа хотят избавиться и другие влиятельные люди – так же, как того хотел Анит.
И когда это случится, мертвый Сократ потянет за собой следующие жертвы… Я уже тесно связан с ним… Ведь скорее я, живой, должен тащить Сократа к живым, я не должен допустить, чтобы он, мертвый, тащил и меня к мертвецам. А дело похоже на то… Платон пошевелился, охваченный страхом. Острые когти боли глубоко вонзились ему в мозг. Вскрикнул.
– Желаешь чего-нибудь? – отозвалась Дидона.
– Да, – сказал он. – Целуй мне лицо, виски, лоб, волосы – да не так, легонько, только чтоб я знал, что это твои губы…
Дидона, счастливая его просьбой, выполнила ее.
А мысли Платона уже снова унеслись далеко от Дидоны. Сицилия? Он хорошо знаком с сиракузским тираном Дионисием. Укрыться у него со своей работой? Или в другое место?..
Дидона целовала Платону лоб, ее шелковистая кожа стирала капельки пота.
– Да, – вслух произнес он.
Дидона, думая, что этим словом он выразил удовлетворение ее лаской, вспыхнула от радости, присосалась губами к его ладони, словно хищная ласочка.
– Да, Сицилия, – с облегчением промолвил Платон. – Ты что, перепутала? Не знаешь, где у меня губы?
Она поцеловала его в губы:
– Я тебя не мучаю?
Теперь, через ткань своего хитона и ее тоненького пеплоса, он ощутил сосцы ее твердых грудей на своей груди.
– Нет. От тебя мне ничего не больно.
– Я тебя исцеляю?
– Моя болезнь – это болезнь души, и преодолеть ее я должен сам. Но ты смягчаешь ее неистовство.
– Моя душа тоже больна, – сказала Дидона. – Не наказывай меня за то, что я скажу…
– Ты отлично знаешь – я обращаюсь с тобой не как с рабыней. Ты моя приятельница. Сладкая моя подружка.
– Но ты, дорогой, не смягчаешь моих страданий – ты углубляешь их. Показал мне, что такое счастье. А ведь для меня-то это только призрак счастья…
Дидона встала. Пеплос ее был красно-коричневого цвета, как ствол пинии. В волосы вплетена зеленая лента. В уши вколоты золотые подвески, и в этих подвесках было то же беспокойство, что и в самой Дидоне. Красивая она и, кажется, уже знает о своей красоте, подумал Платон и сказал:
– Призрак, вздыхаешь ты? Но и призраки – неотъемлемая часть жизни. Порой они даже прекраснее действительности.
Глаза Дидоны вспыхнули затаенным гневом.
– Чем прекраснее призрак, тем горше жить после того, как он исчезнет…
Платон нахмурился:
– Ты жалеешь, что я взял тебя к себе?
– И да, и нет. – Дидона не совладала с собой. – Ты, счастливый, сыплешь мне крохи своего счастья, словно зерна твоим горлицам. Долго приходится мне ворковать, пока дождусь…
И здесь Сократ, подумал Платон. Как точно видит старик этих людей! Голос Платона оставался спокойным, ласковым:
– По-твоему, я дурной человек, моя Дидона?
– Нет, клянусь Афродитой!
– Значит – хороший?
– Да.
– Но ведь и хороший человек не может сделать все, что кажется хорошим другим. Есть вещи, красавица моя, которые можно изменить, и такие, которые должны оставаться как есть.
Дидона поняла. Раб останется рабом. Господин – господином. И он меня понял: я позволила себе слишком много. Он подарил мне прекраснейший призрак, а я недовольна. Но что ждет меня завтра? Как не думать об этом? Как не страшиться?..
– Темнеет, – сказала она. – Желаешь, чтобы я зажгла свет?
– Зажги.
Дидона послушно вышла. Вернулась с горящей лучиной, зажгла от нее все масляные светильники в канделябрах. Взглянула на Платона. Хитон был лишь немногим белее его лица. Боль возвращалась. Он водил рукой по лицу, словно воскрешая ее поцелуи. Они ведь – последние… Бедная моя Дидона!
11
День в постели, ночь в постели, в сладостном покое, нежные заботы Дидоны – и Платону полегчало. Ванна, легкий массаж всего тела, вкусный завтрак – и он больше не ложился.
Вышел в перистиль, где привык отдыхать. Сел в кресло под сенью колоннады. Это было его любимое место в доме. Сюда приказывал он принести столик и принадлежности для письма, здесь, вдыхая аромат роз, он записывал свои размышления, здесь овладевал мыслями Сократа, придавая им свою форму и выстраивая их в цельные литературные произведения.
Так и сегодня. Он искал свое отношение к тому, что говорил Сократ о своей боли, к тому тяжкому долгу, какой Платон видел для себя в этом завете. Анализировал – без успеха. Из какой дали видит Сократ необходимые изменения в устройстве государства! Похоже, он хочет представить себе государство без рабов. Но разве это возможно? Кто же тогда будет работать? Из какого отдаления смотрит этот старик… Платон повертел в руках тростниковое перо: или он прозревает далеко? Платон усмехнулся, ответил себе: в детство впадает старый…
Холодно. Почему опять стало холодно? Неужели я снова в его каменной темнице? Да что же это – я все время возвращаюсь к нему?..
На короткий дорийский хитон набросил длинную хламиду, пестро расшитую птицами. Не думать! Не думать! Думать – больно. Мучительно.
Уставился на плещущий фонтан. С детства любил его. Называл «чудесным братцем». Фонтан тихонько шелестел, поворачивая по ветру свой переливчатый султан, орошал цветы. В дымке брызг, окутавшей его, играла радуга.
Платон рос среди красоты. Все вещи в доме, декоративные и полезные, были произведениями искусства. Они освобождали его от страха перед пустым пространством. Их форма, цвет, изображения фигур и целых сцен из древних преданий будили в нем воображение, дарили богатство мысли.
Юношей он любил эти предания. Искал в них глубокий смысл. Они воплощали для него тайны возникновения и существования земли и жизни на ней. Воплощали тайны в судьбах богов и титанов, сходных с человеческими судьбами благодаря смешению нереального с реальным.
Куда ни падал взор – на занавес, мозаику, живопись; чего ни касалась рука – чаши, светильника, ларца для хранения драгоценностей, – всюду встречались крылатый Гермес, Пегас, Эрот, герои в схватке с чудовищами и друг с другом. Что ни бог, ни божок – лесной ли, водяной или горные демоны, сатиры и нимфы, – то частица человеческой жизни, драма или трагедия, переживаемые смертными…
Сократ отрицает существование олимпийских и всех прочих официальных богов; в противоположность этим слишком плотским, нередко дикарским богам он выдвигает представление о высшем, более совершенном божестве, и с этим божеством у него соединяются понятия добра, красоты, добродетели.
Платон, еще юношей узнавший эти взгляды Сократа, пошел – для себя – еще дальше, переместив это безбожное божество за пределы человеческого мира, определяя, как самого бога, идею добра. Поэтому вопреки властвующим законам Платон видел в Сократе, человеке добром и справедливом, еще и человека в высшей степени набожного.
Платон вздохнул. Как прекрасен мог быть мир! Но для этого все, что составляет жизнь, должно быть пронизано гармонией. Платону страстно хотелось утишить все бурное, необузданное, неупорядоченное. В противоположность Сократу он лучше чувствовал себя в тиши уединения или в обществе избранных, чем на рынке, среди людской суеты. Он представлял себе, что государство должно создавать атмосферу добра и порядка, и считал, что управление таким идеальным государством следовало бы вверить человеку мудрому – философу. Однако, мечтая о мудром философе-правителе, Платон не спрашивал себя – а чьи же интересы должен защищать этот правитель? Не обладал Платон сократовской широтой взгляда, чтоб охватить всех людей, окружавших его. Он делил население по сословиям, учитывал интересы многих – но рабов как людей он в этот круг не включал, хотя в Афинах было почти столько же рабов, сколько свободных граждан. И знал ведь при этом, что есть рабы, куда образованнее и благороднее своих владельцев! Сам встречался с такими и от Сократа слышал – и все же порога его мечты рабы не переступили.
И вот теперь Сократ снова навязывает ему эту проблему. Платон отложил перо. Сегодня он не мог сосредоточиться для работы. Быть может, когда завершится эта история с Сократом… и когда он, Платон, будет где-нибудь далеко от Афин…
– Дидона! – крикнул он. – Я тебя вижу! Ты прячешься за кустом лавра и потихоньку следишь за мной. Зачем? Выходи, станцуй для меня!
Дидона выбралась из кустов, с первых же шагов начав танец. Она скользила среди скульптур и цветов, извиваясь гибкой веткой, ее несшитый пеплос до самой талии обнажал стройные бедра. Груди ее, просвечивающие сквозь прозрачную ткань, вздрагивали.
Платон смаковал эти минуты – минуты грустного прощания с родным домом, прощания с живой и неживой красотой.
Он подозвал Дидону. Она испугалась, увидев в руке его кинжал, но покорно приблизилась, танцуя; запрокинув голову, подставила обнаженное горло. Платон поцеловал его. Потом нарезал кинжалом маленьких желтых роз, украсил ими ей волосы.
– Твой танец – сама поэзия движения. Венчаю тебя за это цветами.
Она просияла. Догадывается ли, что это – дни прощания? Нет. Улыбается. Это хорошо. Не хочу видеть ее слез.
Услышал: стук дверного молотка. Потом знакомый голос. Удивился – что заставило престарелого Критона явиться к нему лично? Затрепетал в смутной тревоге…
Критон, закутанный в гиматий из тонкой ткани, спадающей пышными складками, торопливо шел к Платону под мраморными колоннами, и, несмотря на старость его, походка была твердой и упругой.
– Хайре, дорогой.
Платон двинулся ему навстречу, раскрыв объятия.
– Хайре, дорогой гость!
– Ты нужен мне, мальчик.
Волнение Платона возросло.
– Я?
– Именно ты. И я рад, что ты уже выздоровел.
Критон – совсем не как гость, скорее как хозяин – увел Платона в тень колонн. Сели на мраморную скамью. Напротив них Эрот с лукавым детским личиком натягивал лук, целясь прямо в них своей ранящей сердце стрелой.
– Любовь, – улыбнулся Критон. – Да, любви по силам очень многое… Я принес тебе тайную весть.
– Добрую? – Платон старался угадать это по тону гостя.
– Пока есть только надежда, что она будет доброй, – вздохнул Критон и рассказал: он с друзьями подготовил все для бегства Сократа. Бежать надо нынче же ночью – священную триеру уже видели на горизонте у Эгины. Завтра тюрьму Сократа осадят толпы людей, стражники, и побег станет невозможным.
– А сегодня ночью – удастся? – жадно спросил Платон.
– Наверное. Будем надеяться. Тюремщикам и сторожам я дал достаточно денег за их случайную небрежность… Впрочем, Сократа и так сторожат очень небрежно – видимо, не случайно.
– Другими словами, в твоем предприятии нет ничего опасного? Не поставишь под угрозу себя и других?
– Поставлю, – ответил Критон. – И тебя намерен поставить.
– Ты поступишь так из любви.
– Сократ ее заслужил.
– Я имел в виду себя, дорогой друг. Желая, чтобы я совершил что-нибудь для спасения Сократа, ты проявляешь любовь ко мне, – молвил Платон.
Эти слова порадовали Критона. Так говорят настоящие друзья. И он попросил Платона помочь уговорить Сократа бежать. Платон удивился – о какой малости, совершенно излишней, просит он!
– Да в этом и нужды не будет! Сократ встретит это с радостью!
– Ты уверен?
– Перед ним выбор. С какой стати изберет он худшее? Он так любит жизнь!
– Но разве еще на суде не показал он, что есть вещи, которые ему дороже жизни!
Платон возразил с такой убеждающей настойчивостью, словно перед ним был сам Сократ:
– Одно из главных его требований к человеку и к обществу – справедливость. Ты же своим предложением восстанавливаешь справедливость; отказавшись, Сократ добровольно подчинится бесправию и несправедливости.
– Я знаю это, мой юный друг, – сказал Критон, – потому и стараюсь это предотвратить. Из любви к нему, но еще и из любви к Афинам: да не запятнают они себя этим судебным убийством.
Платон вдруг почувствовал сухость в горле. Это напомнило ему о долге гостеприимства, который он выполняет довольно плохо. Хлопнул в ладоши; прибежал раб, поклонился обоим деспотам; Платон спросил:
– Какого желаешь вина, дорогой гость?
– Белого.
Через минуту принесли кратер для смешивания вина с водой и золотые чаши с танцующими вакханками.
Критон повертел чашу в руках, разглядывая буйных дев.
– Как думаешь, Платон, отчего я пришел за этим именно к тебе? Ты, мой милый, готов в любое время покинуть Афины. Ты сам сказал. Если тебе это кажется таким безболезненным, то именно ты лучше всего убедишь в этом и его. У тебя много друзей во всей Элладе, у меня тоже. Сократу есть у кого укрыться. Если он будет знать, что встретится с тобой где бы то ни было за пределами родины, – в тебе он и там найдет кусочек Афин. Возможно, это поможет ему решиться.
Платон вспыхнул:
– Покинуть Афины и для меня не будет безболезненным, дорогой Критон! Но если я хочу исполнить предназначение философа, предназначение Сократова сына – уеду, хотя уеду с болью. – Он показал на мраморный перистиль, уставленный статуями, на «чудесного братца», милый свой фонтанчик. – Взгляни на этот приветливый дом – это моя кожа, без нее я истеку кровью, но я уеду, не могу иначе – это мой долг!
Критон стиснул ему руку:
– Вижу, мой выбор был верным. Поспешим же к Сократу.
12
Думает о смерти, готовится к ней – завтра ему уже уходить… а эти двое хотят повернуть его, послать обратно, на дорогу к жизни!
Слишком внезапно. Сократ ухватился за ложе, чтоб не упасть. Сердце загорелось. Не мог вздохнуть. Не мог слова выговорить.
А те, что пришли с сияющими глазами, предлагая свободу, теперь испуганно смотрят на него, ошеломленного такой вестью. Снесет ли он ее тяжесть?
Аполлодор подсел к нему, обнял за плечи, поддерживая. Сократ не противился. Вот – вернулось дыхание. Загоревшееся сердце постепенно остужалось.
Критон решил, что при этом разговоре могут присутствовать только те из друзей и учеников Сократа, кто посвящен в подготовку побега и согласился помогать.
Эти несколько человек сидели теперь прямо на полу, подложив под себя свернутые гиматии, или стояли, замерев в напряжении, пепельно-бледные, но казавшиеся еще бледнее в полумраке камеры.
Сократ заметил, что напугал их. Взял руку Аполлодора, поддерживавшего его за спину, положил ее себе на колено, прижал своею рукой и заговорил:
– Друзья! Неужели вас поразило, что ваша весть едва не сбила меня с ног? Старику, для которого уже отмеряют на завтра цикуту, вы несете новое рождение – и хотите, чтобы он и глазом не моргнул? И ты, ты, мой Критон, воображаешь, что я так уж силен? А ты, милый Платон, склонный лишать меня всего человеческого, – ты удивляешься, что это так меня ошеломило? – Он погрозил им пальцем. – Молчите, молчите! Вам хотелось бы рассказывать обо мне титанические легенды. Много вы уже наболтали молодым, я-то слыхал. И теперь вам, для ваших школ, для ваших папирусов отлично сгодилась бы еще одна невероятность: Сократ со спокойным достоинством истого философа принимает как самую страшную, так и самую радостную весть… Глупенькие! – Он рассмеялся. – Да разве вы не знаете, как я люблю жизнь? Каждый кусок хлеба разжевываю благоговейно, пока он не покажется сладким, каждый глоток вина смакую прежде, чем спустить его в горло… Увидеть солнце! – Он поднял глаза к маленькому отверстию высоко в стене. – Опять каждое утро приветствовать его. Хайре, мое золотое! Утреннее солнышко совсем не жжет, знаете? Оно позволяет мне смотреть ему прямо в глаза…
– Мы ждали, что ты обрадуешься, – сказал Критон растроганно.
Сократ, громко рассмеявшись, подавил возбуждение.
– От радости, что он может отсюда выйти, дед Сократ чуть ума не лишился. Все тут уже прямо-таки жжет его. Опять захотелось ему пошататься по улицам, поболтать со встречными… Нет второго такого говоруна в Афинах… – Он осекся, споткнувшись об имя своих Афин, но быстро овладел собой. – Заводит тары-бары с торговцами, ремесленниками, приезжими, школярами и с теми, кто упражняется в палестрах, да еще и во сне что-то бормочет, как свидетельствует его Ксантиппа…
Странно как-то принимает он возвращение к жизни, подумал Платон.
Сократ постепенно успокаивался, однако не оставлял веселого тона – именно он-то и позволял ему успокоиться.
– Полагается, мои дорогие, поблагодарить вас. – Не вставая, он поклонился Критону и прочим. – Но вы тем самым навлекаете на себя всяческие беды – и только ради того, чтоб я мог лакомиться изысканными блюдами у Критонова друга в Фессалии. Стало быть, опять тот же пританей, хоть и несколько иного рода. Что ж, жить так было бы вовсе неплохо – даже и до глубокой старости…
– Но именно ты и заслужил этого в полной мере – особенно после неблагодарности афинян, – подхватил Платон.
Сократ улыбнулся.
– Да, это уж совсем не то, что там где-нибудь, на лужайке, усеянной бескровными асфоделиями, препираться с Радамантом: набожный я человек или безбожник. Воображаю – совсем они там растеряются, как быть со мной: ввергнуть в Тартар нельзя, я ведь набожный, а в Элисий меня не пустят за безбожие…
Он умолк. Подумал: сбеги я из тюрьмы, ждало бы меня то же самое. Не буду я уже ни гражданином Афин, ни гражданином того полиса, куда меня отправит Критон. Отогнав эту мысль, договорил:
– Чудесно продолжать беседы с Платоном, который обещает навещать меня в Фессалии. Несомненно, будут приезжать ко мне – на ослах или на лошадях – и многие из вас… так что «мыслильня» моя, временно перенесенная сюда, в темницу, переедет еще дальше. Так ты это себе представляешь, дорогой Критон, и вы все, милые?
Перебивая друг друга, подтвердили, обещали не покидать его, где бы он ни очутился. Один лишь Критон ответил иначе:
– Очень легко ты на это смотришь, брат. Смеешься. Вижу, вспомнил ты своего весельчака Демокрита… Возвращается к тебе хорошее настроение.
– Я сказал бы, – возразил Сократ, – что старый ваш учитель не изведывал еще такого блага, как теперь, ибо до сей поры никакое благо не являлось еще сменить ту чашу… ну, вы знаете какую.
Он видел, как радуются они его радости, и с тихой мечтательной улыбкой слушал Критона, который торопливо рассказывал, как тщательно он все продумал и устроил. Тюремщик и его помощники уже подкуплены. Также и служитель архонта. Никто из них ничего не увидит и не услышит. Тот же человек, который ночью откроет темницу и на которого свалится вся вина за бегство Сократа, сам бежит в ту же ночь. То, чего не взял от Симмия и Кебета архонт басилевс для государственной казны, охотно загребут эти мелкие людишки, убежденные вдобавок, что выпустить Сократа на свободу – справедливо.
– Выглядит это осуществимо и соблазнительно, – похвалил Сократ. – Не удивлен, что таким кажется дело всем вам, даже тебе, Критон, человеку с большим жизненным опытом. Но не будем спешить, – попросил он старого единомышленника. – Не знаю, многим ли людям… вернее, есть ли на свете такие люди, которые оказались бы в том же положении, что и я. Поговорим об этом подробнее. У нас для этого целый день.
– Охотно, милый друг, – согласился Критон. – Мы не сумели бы говорить сегодня о чем-либо ином.
– Допустим, – начал рассуждение Сократ, – все произойдет так, как сказал Критон, и я благополучно выберусь из заточения. Теперь закройте глаза и представьте сегодняшнюю ночь и меня. Я, который всю жизнь был подобен спруту, присосавшемуся к Афинам, теперь, на склоне лет, выкрадываюсь из городских ворот, словно вор. Слышу шаги за спиной, прячусь за колонны… Да, а какой наряд вы мне приготовили для бегства? Вашего учителя сравнивают с пастухом – не думаете ли вы напялить на меня длинный пастушеский плащ? Нахлобучите на голову широкополую шляпу; завяжете шнурки ее у меня под бородой, обуете в высокие, на шнурках, сапоги, в руки вложите длинный посох – что же останется от меня? Разве моя борода – а бороды носят многие… Да уж, воображаю, как вы меня обрядите! Совсем исчезну со света…
– Ничего подобного, – возразил Критон. – Мы наняли людей, они понесут тебя в носилках, будто врача к больному…
– Врач действительно нужен, немедленно, и притом для вас, друзья, – с укором перебил его Сократ. – Из страха за меня вы совсем потеряли голову. Однако шутки в сторону – обсудим доводы в пользу бегства и против него.
– Хорошо. Это твой обычный метод, – кивнул Критон, прибавив с нажимом. – Только думай о том, что ты обязан спасти свою жизнь для семьи, для друзей и для Афин.
Жена, сын, Мирто, друзья, Афины… Обморочное состояние, подобное тому, какое охватило его на суде, ослепило его и сейчас, остановив движение мыслей. Жена, сын, Мирто… Сократ обеими руками закрыл лицо и склонил голову к коленям.
– Выпей. – Он узнал голос Платона. – Это тебе поможет…
Он выпрямился. Темнота перед глазами рассеялась.
– Спасибо, Платон, не откажусь. – Он принял кружку. – Давайте вместе пить и есть. Тяжелые мысли забирают больше сил, чем работа в каменоломнях.
Последовали его желанию. Сам Сократ ел мало. Удовлетворился сыром и солеными оливками.
Чувствуя, что друзей одолевает нетерпение, он, еще не проглотив куска, заговорил:
– То, что вы мне предлагаете, милые, вещь и хорошая – и дурная, чудесная – и некрасивая. Критон, в своем перечислении ты забыл назвать главное лицо, то есть меня, и еще – моих врагов.
– Включи же их в этот перечень, – ответил Критон. – Это только облегчит тебе решение оказаться как можно дальше отсюда, и как можно скорее.
Теперь Сократ уже сам обнял Аполлодора.
– Вы предлагаете мне жизнь вместо смерти, то есть самое прекрасное, самое лучшее – с вашей точки зрения, с точки зрения верных друзей. – Он глянул на Критона и Платона, которые стояли рядом, прислонившись к каменной стене. – У меня есть семья. Ксантиппа, Лампрокл, Мирто будут счастливы, зная, что я живу где-то в достатке и безопасности. Но имею ли я право доставить им такое счастье? Ведь в таком случае они будут семьей беглеца, нарушившего закон. Люди будут избегать их. И не почувствуют к ним ни капли жалости. Если же меня несправедливо лишат жизни, люди осыплют их всем, чем смогут. Тогда уж моя семья будет жить в достатке и безопасности. Не вытекает ли из сказанного, что – пользоваться достатком и безопасностью может только кто-то один: моя семья – или я.
Критон строптиво молчал.
– Трудно возражать тебе, но я все же возражу, – нарушил тишину Антисфен. – Жизни своей ты противопоставляешь достаток и безопасность семьи. Жизнь – больше.
– Боюсь, Антисфен, в данном случае моя смерть нужнее моей жизни.
Аполлодор, вывернувшись из-под руки Сократа, пылко воскликнул:
– В этом ты никого из нас не убедишь!
Но Сократ твердо сказал:
– А я попробую. Смерть не всегда враждебна жизни. Разве не помогает нередко смерть большему совершенствованию жизни? Не бывает ли так, что смерть становится родительницей высочайших духовных ценностей? Ну, любители философии? Или я ошибаюсь?
Они не могли не признать этой истины, проверенной историей и вновь и вновь подтверждаемой современностью. Но они решили бороться за жизнь Сократа до последнего. Зашумели.
Критон, раздраженный сопротивлением Сократа, закричал на него:
– Какая в том логика, Сократ, что ты добровольно покоряешься неправому суду?!
Остальные шумно его поддержали. А Критон торопился высказать свое возмущение:
– Теперь один ты можешь исправить несправедливость, совершенную над тобой, – кто другой в состоянии это сделать?
– Продолжай, Критон, – попросил Сократ. – По-моему, твоя речь не окончена.
Критон, нервничавший больше самого Сократа, словно это ему грозила гибель, не сразу сообразил, что сказать еще.
– Да помогите же мне кто-нибудь уломать этого упрямца! – взорвался он наконец, кинув взгляд на Платона.
Тот побледнел.
– Афинские законы священны для каждого гражданина, – медленно выговорил он. – Каждый обязан чтить их и подчиняться им. Но ведь тут были не законы – тут были люди, стремившиеся уничтожить Сократа! И теперь не нам – ему самому решать эту дилемму.
Критон расслышал какой-то шорох за дверью, выглянул – кто там? Это был тюремщик, который должен был облегчить побег.
– Он что, не соглашается? – шепотом спросил тюремщик Критона.
– Согласится – он только исследует дело…
– То-то же… такой мудрый человек…
– А ты что здесь делаешь?
– Сторожу. Очень уж вы шумите. Коли что – я вас сразу предупрежу.
А в камере звучал мелодичный голос Сократа, страстный, покоряющий:
– Ага, законами вооружились… Вы, живые, вы, которые хотите жить, – он повернулся к Платону, – вы не должны восставать против законов. Не буду восставать против них и я. Но если сегодня мы придем к выводу, что лучше мне подчиниться законам, то именно моя смерть заставит, во-первых, изменить их, а во-вторых, создать такие условия, когда невозможно будет ими злоупотреблять. Меня судила гелиэя, которая вместе с тем – высший суд, и мне уже не к кому обращаться: так вот, если приговор мне будет приведен в исполнение, судьи и знатоки права под давлением общественного мнения пересмотрят законы и, найдя в них изъяны или недостатки, предложат народному собранию новые, более совершенные законопроекты. Так?
Никто не возразил. Сократу стало жалко Платона.
– Видишь, видишь, мой мальчик, ты сам, да еще с каким рвением, придвинул ближе ко мне чашу с цикутой…
Платон покраснел; но он еще не сдавался.
– Ради усовершенствования законов пускай другие, не ты, играют роль жертвенного барана!
Остальные накинулись на Сократа:
– Ты не должен жертвовать собой, дорогой, милый!
– Просим тебя! Думай больше о себе и о нас!
– Не огорчай нас – у тебя осталась только одна ночь!
– Клянусь псом, это вы меня огорчаете! – вскипел Сократ. – Сикофанты расползлись по всему городу, я просто чую, как они обнюхивают даже стены моей тюрьмы, словно собаки! Моя судьба уже решена, но не ваша! Вся моя жизнь определяет и ее завершение. Хорошо ли будет, если вы, самые близкие мне, безрассудством своим собьете меня с пути перед самой целью? Значит, я должен принять от вас сомнительное благодеяние и допустить, чтоб вас из-за меня притянули к суду? Часть за частью отдавал я себя вам, чтобы вы в свою очередь часть за частью передали меня другим… Будьте же мудры! Не нам же вредить друг другу! Ведь мы любим друг друга, и должны больше всего любить именно в эти тяжкие для меня и для вас часы…
К тюремщику, стоявшему у самой двери в камеру, подошла Мирто. Он сказал ей:
– Сейчас я тебя к нему не пущу.
– Но у него кто-то есть, я слышу голоса… Или он сам не хочет видеть меня сегодня?
– Такой у меня приказ. Больше тебе нечего знать.
– А попозже – можно будет? – Мирто протянула ему на ладони свою пряжку, чтобы он рассмотрел, как она красива.
Тюремщик крепко сжал ее ладонь, чтобы не видеть драгоценной вещицы.
– Не возьму. От тебя – не возьму!
– Скажи по крайней мере, добрый человек, когда мне можно будет войти?
– Сначала там должны кончить.
– О чем там говорят?
– Не знаю, – уперся тюремщик.
– Но ведь ты слушаешь у двери.
– А я не разберу, о чем там толкуют. – Он хотел и не хотел выкрутиться.
– Позволь и мне послушать! Я всех их знаю лучше тебя. – И Мирто сделала шаг, чтобы встать рядом с ним. – По их речам я скорей пойму…
– Прочь! Отойди, говорю, от двери! – прикрикнул на нее тюремщик. – Вон лавочка. Садись и сиди. А будешь приставать – посыплешь восвояси!
Мирто села. Тюремщик приложил ухо к двери.
13
Рядом с Сократом в развязанном узелке лежало несколько оливок. Он задумчиво перекатывал их пальцем. Соленые оливки были почти черного цвета. «Черные бобы», нахмурился Критон.
– Ты играешь со смертью, – сказал он, – и при этом улыбаешься. Что ты решил? Послушаешь все-таки нас и уйдешь? Не играешь ли ты и с нами?
– Немножко. Как и вы со мной – немножко, Критон. – Сократ перевернул еще одну оливку.
Время, до той поры влекущееся медленно, после полудня полетело как на крыльях. Антисфен, сидевший на полу около Сократа, подложив под себя свернутый гиматий, не в силах был долее выносить все возраставшее напряжение. Он нетерпеливо коснулся руки Сократа, игравшей оливками:
– Я что-то непонятлив сегодня… Помоги мне, объясни – какое завершение предопределила вся твоя жизнь?
– Если ты полагаешь, что жил я хорошо, то и завершение моей жизни не должно быть дурным. Если уж должно оно чем-то отличаться от всей моей жизни, то разве тем, чтобы стать лучше ее, – ответил Сократ.
– Еще помоги мне, – попросил Антисфен. – Я все еще не понимаю.
В камере, насыщенной запахом увядающих лавровых листьев, наступило молчание – никто не шевелился. Только слышалось сиплое дыхание Платона.
– Спрашиваешь-то ты, Антисфен, но отповедь мою или, скажем прямо, исповедь хотите услышать вы все. Хорошо, узнайте. – Сократ оставил в покое оливки и наклонился к своим верным. – Дело мое началось здесь, в Афинах, и надо, чтобы оно здесь и окончилось…
– Нет! – испуганно вырвалось у Аполлодора.
– Не перебивай! – прикрикнул на него Платон.
Сократ тоже повысил голос.
– Тяжба моя продолжается, и я не могу бежать отсюда в разгар процесса. Это было бы равносильно тому, как если б я по слабости усилил позиции моих врагов.
– Ты будешь жить у Критонова друга, – возразил Антисфен.
Сократ с горечью усмехнулся:
– Друг Критона не избавит меня от моих недругов. С ними я должен свести счеты сам. Взгляните: Мелет должен умереть завтра, как и я. Но будет ли это справедливо, если я тем временем окажусь на свободе? Мелет будет казнен за нарушение афинских законов, но я, совершив побег, тоже стану нарушителем их, и тогда Мелет уже не будет моим убийцей и, следовательно, его наказание не будет соответствовать его преступлению, как ныне мое наказание не соответствует моим делам. Справедливые сердца афинян опечалятся над его трупом. И произойдет то, что этот злодей привлечет к себе участие людей, которое ныне принадлежит мне. Этого вы хотите?
– Конечно, нет, если ты так ставишь вопрос, – с досадой отозвался Антисфен.
– Не я ставлю так вопрос. Он так уже стоит. Возьмем теперь Анита и рассмотрим, как обстоит дело с ним. Богатый кожевенник Анит, лицемерный стяжатель, бежал от наказания, как мы слышали, куда-то за море. Если и я сбегу от наказания, он уже не будет моим убийцей. Но если это убийство совершится – на любом берегу, на котором высадится мой убийца, он будет встречен градом камней. Софист Ликон, гнусный прихлебатель Анита… Что с тобой, Антисфен?
Антисфен, дрожа, зажал уши, крикнул:
– Я не хочу тебя слушать!
– Теперь уж вы должны выдержать, милые мои.
Платон сказал:
– Говори, Сократ. Мы хотим слышать все. Хотим понять тебя.
Сократ не стал возвращаться к Ликону – с ним ведь дело обстояло так же, как с двумя предыдущими.
– Афины! – вздохнул он. – Я должен подумать о них, как любезно напомнил мне Критон. Все мы должны думать о них. А вот ты, Критон, о них-то и не думаешь. Ты посылаешь меня к своему другу в Фессалию. Отлично. Но весь тот полис враждебен Афинам и их устройству. Не приходило ли тебе в голову, что там будут смеяться над глупостью афинян: они-де хотели отравить самого мудрого своего гражданина, который советовал им, как достичь блага, а вот мы почтили его царской роскошью… Не приходило тебе в голову, как эти зломыслящие станут похваляться, что они лучше афинян, а их государственное устройство выше нашего? И чтобы я стал поводом для этого?! Чтоб я на старости лет сделался огнем, который обожжет мою родину?!
Сократ не мог продолжать. Оперся рукой на ложе. Под ладонью скользнули оливки, влажные, холодные.
Критон устало проговорил:
– Как видно, я напрасно пытался спасти тебя, дорогой…
Мирто поднялась со скамьи. Подбежала к тюремщику:
– Пусти меня туда! Заклинаю Зевсом… Пусти!
– Ты что, рехнулась?
– Я должна там быть! Я люблю его!
Тюремщик загадочно усмехнулся:
– Я тоже его люблю.
– А стоишь столбом… Там происходит что-то страшное, я узнала его голос…
– И поняла?
– Поняла – тяжко ему… Я должна быть с ним! Я люблю его…
– Погоди-ка! – Он отстранил Мирто, прислушался.
Сократ вытер руку о платок, в котором ему принесли оливки, и не ответил Критону.
Глаза Аполлодора наполнились слезами, он запрокинул голову, чтоб они не пролились:
– Месяц тому назад я так радовался, что ты придешь ко мне взглянуть на свой мраморный бюст… Мне так хотелось узнать, что ты скажешь… А теперь ты, ты сам…
Сократ смягчился:
– Не терзай себя этим, милый. Не так уж важно, чтоб я увидел себя; пускай другие увидят, каким смешным выглядел человек, занимавшийся столь серьезным делом, как человеческая душа. – Погрузив пальцы в кудри Аполлодора, он легонько подергал их. – Но, надеюсь, твой резец не солгал. Не переделал ли ты мой приплюснутый нос и выпученные глаза в согласии с Поликлетовыми наставлениями о пропорциях идеального человека?
Аполлодор недовольно бросил:
– Что мне до Поликлетовых образцов, до его прилизанного Дорифора! Ты мне нравишься такой, как есть. И такого я тебя изваял.
– Такого урода?! – захохотал Сократ.
Никто не засмеялся его шутке.
– Слышишь? – сказал тюремщик Мирто. – Сократ шутит. Он весел, а ты что тут вытворяешь? Увидишь – все кончится хорошо.
– Он будет жить? – вырвалось у Мирто.
– Умолкни, сумасшедшая! Не знаешь, что ли, где ты?! – взъярился тюремщик, но шепотом добавил: – Будет жить.
Критон и остальные пали духом. Сократ опроверг все их доводы в пользу бегства. Оставалась одна надежда: на Платона. Он обещал помочь Критону. Что же он медлит? Видно, нарочно оставляет свое слово под конец, как опытные ораторы, подумал Критон. И обратился к нему прямо:
– Наш лучший оратор почти ничего еще не сказал.
– Да, да, Платон! – подхватили друзья.
Платон действительно оставил свое слово напоследок.
– Вы, друзья, похвалою своей свалили на меня тяжесть словесного поединка с Сократом, сами же перевели дух. Его доводы серьезны, достойны мудрейшего. Они затворили вам уста. Затворяют они уста и мне, а вы заставляете меня говорить…
Он вперил взгляд в Сократа.
– Приняв чашу смерти, ты потрясешь Афины и всю Элладу. Твоя смерть, Сократ, будет деянием. Она будет венцом твоей жизни. Тобой будут восхищаться простые люди и цари, а на твоих неправедных обвинителей, живых и мертвых, воздвигнутся многие и многие, простые и образованные. Они сочтут для себя честью защищать тебя – буду защищать тебя и я.
У Сократа побежали по спине мурашки. Заглатывает меня – и, может, совсем заглотает, а я уже буду безгласен против этой его апологии…
Платон продолжал:
– По-моему, есть только одна причина, Сократ, ради которой ты должен постараться уйти от такого венца: твоя миссия – миссия учителя жизни. Все твои доводы заслуживают нашего уважения, но ничто из них не сравнится с возвышенностью этой твоей миссии, перед нею все должно отступить. Спрашиваю тебя, дорогой, разве не будет прекрасным и добрым пожертвовать ради этой миссии всем остальным?
Сократ слушал его внимательно. Отодвинулся от Аполлодора, который все время льнул к нему, – отодвинулся, чтоб юноша не мог заметить, как он начинает дрожать, и поставил между ним и собою кружку с вином.
– Взываю к твоей любви к человеку, – слышал Сократ голос Платона; повернулся к нему лицом. – Взываю к твоей неистребимой жажде делать человека лучшим, более добродетельным, более счастливым. Где б ни поселился ты, голос твой долетит до Афин, ибо дело не в силе твоего голоса, а в силе твоих идей.
Аполлодор отодвинул кружку и, склонив голову на плечо Сократа, прошептал ему:
– Спаси себя!
– Ты будешь не первым, кто покинул наш город, – продолжал Платон. – Вспомни! Не ты ли помогал бежать Анаксагору? Отвергая теперь нашу помощь, не вступаешь ли ты в противоречие с этим?
– Спаси себя! – молил Аполлодор.
А Платон говорил:
– Правда, недолго прожил после этого Анаксагор, но он успел принести еще много пользы философии. Почему же ты не хочешь больше быть ей полезным? Ты, который сам говоришь, что мы лишь в самом начале исследования человека… – Натиск Платона усиливался. – Большая часть того, что нам надо познать, еще впереди, она так далека, что почти еще неразличима, – а ты, наш учитель, хочешь покинуть нас, вместо того чтобы нас вести? Учитель – я не уверен, что без тебя мы будем так же сплочены, как при тебе!
Взгляд больших глаз Сократа, прикованный до этого момента к губам ученика, поднялся теперь к его глазам. На мгновение стихла словесная схватка, перенеслась в поединок взоров.
Платон выдержал этот взгляд. Положил руку на грудь:
– Перед тобой твой ученик. Ты увлек меня в философию, показал ее нужность и красоту, ради нее я отказался от политического поприща и от поэзии, из-за нее покидаю теперь даже свой дом, свою раковину, кожу свою, без которой буду истекать кровью…
Критон одобрительно кивал головой. Сократ отхлебнул вина и медленно поднялся на ноги. Платон смолк в ожидании. Сократ оправил свой хитон.
– Душно здесь как-то, – проговорил он. – Ветки лавра там, в углу, поглощают весь воздух… – Потом он ласково, приветливо обратился к Платону: – Спасибо, милый, за то, что ты говорил не против моих доводов, а за них…
Платон был ошеломлен. Друзья смотрели на него с выражением отчаяния на лицах, взглядами просили его говорить еще, еще попытаться что-нибудь сделать, не сдаваться… Но Платон исчерпал уже все, чем мог убедить Сократа.
А тот все тем же ласковым тоном продолжал:
– Дорогой, ты признаешь себя моим учеником. Для тебя, как и для меня, философия – выше всего. Философия, воплощенная в жизнь. Но тот, кто любит философию, обязан согласовывать свои поступки с этой любовью. Моя миссия – быть учителем, да, согласен. Моя смерть и будет последним поучением для всех вас.
– Нет! – вырвалось у Аполлодора. – Не говори так!
– Ты сказал, Платон, дом – это твоя раковина, твоя кожа. Моя раковина – все Афины, без них я был бы не только как без кожи, но и без глаз, без ушей и языка. Я стал бы обрубком человека. Ты сказал, что отказался ради философии от поэзии, от политического поприща. И то, и другое – неправда. Ты только присоединил к поэту философа и политика, но поэтом ты остался. В этом твое преимущество. Ты сказал, что из-за любви к философии собираешься покинуть Афины: верно – нынешние Афины не создают атмосферы, необходимой для твоей работы. Уезжай, если чувствуешь, что это необходимо. Это не будет незаконным бегством, каким был бы мой побег. С течением времени ты сам решишь – быть может, и вернешься. А я уже не смог бы вернуться. Однако не нужно тебе так уж бояться Афин. Они будут грозить тебе, но вреда не причинят. Тебе – нет.
Платон понял – Сократ не совсем доволен им. Я хотел бы видеть его другим, и он тоже хотел бы меня – другого. Наверное – чтоб я тоже ходил босиком и шатался по Афинам…
Сократ обвел взглядом камеру.
– Смеркается, мальчики.
Все посмотрели на окошко, за которым начало темнеть. Тоска охватила их. Скоро им уходить…
Сократ сказал:
– Платон, милый, ты не принял от меня один из моих заветов: мое неистовство. Философии иной раз подобает – не мудрствовать…
Критон ожидал, что Платон возразит, пустится в объяснения, но Платон молчал.
– Значит, решено? – с несчастным видом прошептал Критон. – Ты остаешься?
Сократ поднял руки, растопырив пальцы:
– Я спрут, который обхватывает, присасывается всеми щупальцами, всеми присосками. Можно ли оторвать их? Ах, можно, можно – но сначала надо разбить ему голову…
Аполлодор схватил с ложа гиматий Сократа, уткнулся лицом в него и зарыдал.
Сократ опустил руки.
– Ах, дорогие мои, да разве не знали вы наперед, каким будет мое решение? Ну что ж – темнеет… – Он улыбнулся. – Вот и еще один приятный день провели мы с вами… – Поднял кружку с вином. – Благодарение Дионису!
Тюремщик попросил друзей Сократа закончить свидание.
Платон лишь огромным усилием воли преодолевал головокружение. В дверях оглянулся на Сократа. А вышел из темницы – и сердце его пронзила острая боль. Прислонился к стене. Критон уступил ему свои носилки. Последним от Сократа вышел Аполлодор.
В камеру вошли двое из одиннадцати служителей архонта, на обязанности которых лежало наблюдение за исполнением приговора, и официально сообщили Сократу то, что он уже знал: завтра.
А Мирто все ждала. Закатное солнце подернуло белизну мрамора оранжево-розовым отсветом. Зарозовели высокие стены, скалистые склоны Акрополя, засиял в этом зареве Парфенон.
Уже почти стемнело, когда Мирто снова подошла к двери, забарабанила в нее кулаками. Тюремщик приотворил узкую щель:
– Чего тебе еще?
– Пусти к нему!
– Поздно.
– Что они сказали? Его освободят?
– С чего бы?
– Но ты говорил…
– А ты меня не слушай! Здесь, девонька, бредят, рассуждают, да без ума… Приходи завтра – проститься…
14
Темнело небо над склонами Пникса, прогретыми солнцем, над мохнатыми зарослями шалфея, над кустами, похожими на овечьи спины. К разгоравшимся звездам поднимался серебряный треск цикад и рокот соловья в ветвях платана. Пала вечерняя роса, сильней запахли лавры и олеандры.
Ночь в черном покрывале, ночь, наполненная успокоительными звуками и дурманными ароматами, протиснулась сквозь узенькое отверстие в темницу Сократа.
Приговоренный лежал, с наслаждением вдыхая запахи, и улыбался, постепенно погружаясь в сон. Сладостное чувство владело им: все остались верны мне, сегодня они – куда больше мои, чем прежде. Прощание наше, растянувшееся на целый месяц благодаря делосским торжествам, стало месяцем признания в любви – моей к ним, а их ко мне. Вот что было мне нужно для полного блага!
Тюремщик приложил ухо к двери. Тишина. Мелет, помещенный в камере с другой стороны, плачет, кричит, барабанит ногами в дверь, а тут такая тишина. Тюремщик осторожно отпер дверь, посветил: Сократ спал спокойно, крепко.
О Зевс! – подумал тюремщик. Знает, что завтра умрет, а спит как дитя! Он заслонил свет и вышел на цыпочках.
Сократ проснулся, как всегда, рано.
Окошко затянуло дымкой рассветного тумана, холод проникает в камеру. Где-то поблизости заухала сова.
Сократ поднялся. Завернувшись в гиматий, стал следить, как светлеет в окошке.
Скоро встанет день.
Последний.
Что это обманно сулит мне, будто там где-то жизнь моя продлится? Эта ложь притворяется утешением – но она, напротив, усиливает мой страх перед смертью… До сих пор я шел навстречу ей со спокойной мыслью, а теперь, в последний день, меня ужасает неизбежность – умолкнуть, стать недвижным…
Вырез в темной камере бледнел.
Сократ постучал в дверь; тюремщик мгновенно появился на пороге, осведомился о его желании.
Сократ попросил разрешения приветствовать солнце, когда оно встанет над горизонтом.
Тюремщик даже задохнулся: значит, все же!..
– Конечно, Сократ, – поспешно ответил он. – Пойдем, я покажу тебе путь. Пройдем через двор, я открою заднюю калитку, что ведет на склон холма, а там ты уже сам…
Вышли из калитки. Нигде ни души.
Тюремщик вдруг обнял, поцеловал Сократа:
– Ну вот… Теперь беги, и да будут с тобой боги!
И скрылся в калитке. Скрипнул засов.
Сократ стоял, глубоко изумленный. Почему он обнял меня уже сейчас? Зачем запер калитку? Придется мне теперь обходить кругом, к главным воротам… Сократ медленно поднялся на вершину холма, откуда открывался прекрасный вид на Гиметт. И вдруг расхохотался. Ах ты, мой милый благодетель! Теперь я понял… Как опечалится твой взор, когда я вернусь… Клянусь псом – сколько же добрых людей ходит по этому сумасшедшему миру, а мы о них и не подозреваем!
На востоке, за Гиметтом, уже ширилась, пламенела полоса зари, из которой вынырнет даритель света. Ага, вот оно! У Сократа перехватило дыхание. Он словно онемел. Поклонился низко, воздел руки и тихо, с трудом выговорил, лицом к этому ликующему сиянию:
– Ну, ты ведь все знаешь…
Поспешно отвернулся, чтоб солнце не увидело его глаз; и предстала ему туманная картина: беломраморный город под голубым куполом неба, овеянный запахом кипарисов…
Сократ спустился с Пникса, вошел через главные ворота тюрьмы, улыбкой обласкал потрясенного тюремщика и ступил в свою темницу.
На рассвете Мирто остригла свои желтые волосы. Ксантиппа, сидя на постели, следила за ее действиями. Подумала: это она в знак траура. Всю ночь я слышала ее тихий плач.
Мирто накрыла голову и плечи тонким полотняным покрывалом. Срезанные волосы перевязала лентой, завернула в узелок. Как пойду прощаться – отдам ему. Будет знать, что я всегда с ним. Вместе с ним лягу на смертное ложе, вместе уйду…
Бледные, молчаливые явились к Сократу друзья – словно их самих ожидало то, что было уготовано сегодня учителю.
Сократ встретил их оживленно, радостно:
– Идите, идите, дорогие! Жду вас с нетерпением!
– Есть что-нибудь новое? – спросил Критон.
– Время в движении своем неизменно приносит новое…
– Как ты провел ночь? – спросил Антисфен. – Мне кажется…
– …что у меня настроение лучше, чем у вас, – улыбаясь, договорил за него Сократ. – Но истина превыше всего: была и у меня тяжелая минутка, словно кошмар давил, но недолго. Вышло солнце, и все стало хорошо. Размышлял я тут, ближайшие мои, все ли свое передал я вам. Выворачивал наизнанку карманы гиматия – ни в одном ни крошки не осталось. И все-таки нашел я нечто; оно показалось мне не менее важным, чем все, что я уже завещал вам. Не хотелось бы мне уносить это с собой…
– Что же это такое? – не выдержал Аполлодор.
– Светлый взгляд в будущее – и смех, друзья.
В день казни? Мороз пробежал у них по спине. Никто не в силах был вымолвить слово.
– Платон сегодня не придет? – спросил вдруг Сократ.
– Он болен, – ответил Критон.
– Хотел бы я видеть болезнь, которая помешала бы мне прийти сюда! – вспыхнул негодованием Аполлодор. – Да я бы на четвереньках приполз!
– Не суди так строго, мой маленький. Ему еще вчера было нехорошо, его шатало, когда вы уходили. Он слишком чувствителен. – И, обращаясь к остальным, Сократ добавил: – Когда-нибудь вы поймете, дорогие мои, что сегодня – мой славный день, а не злой. Поверьте мне, это так, и полными горстями берите у меня мою веселость.
– Можем ли мы веселиться, когда ты несколько дней назад передал нам свою боль? – возразил Антисфен.
– Ну вот! Я так и знал, что главное-то и забыл: боль и веселье не исключают друг друга! Серьезная забота и веселость – это две половины сердца. Без серьезности человек становится капризным, легкомысленным, поверхностным. А без веселости – ожесточенным, сухим, непредприимчивым, не верящим в жизнь. Нести вечный огонь из святилища Зевса в Додоне на игры в Олимпии не так трудно, хоть расстояние велико: бегуны с факелом сменяют друг друга. Но пронести вечный огонь сквозь века может лишь тот, у кого в сердце – равновесие. Так что, мальчики мои, цените смех. Сколько бы ни было смеха на свете, его никогда не будет слишком много. А пословица говорит: следуя за каркающим вороном, подойдешь к падали.
Он взял яблоко, принесенное Аполлодором, откусил с аппетитом.
– Большой я грешник, любимые мои. Не делайте из меня праведника. Сколько я натворил ошибок! Зато я никогда ни перед чем не обращался в бегство и потому не виновен в самом тяжком грехе – в равнодушии к человеку и к жизни. И это теперь меня радует. Что вы так удивленно смотрите? Видно, думаете: ах, как спокоен Сократ, шутит за несколько часов до смерти… Спокоен? Да разве может быть спокоен тот, кто знает, что ждет его вскоре? А впрочем, с одним вы должны согласиться: до чего милосердна наша Эллада к приговоренным! Вспомните, как казнят в варварских странах! Топором отрубают голову; разрывают на части четырьмя быками; побивают камнями; а то еще сажают на кол, бросают на съедение львам и даже заживо распинают на кресте – и все это на глазах у тысячных толп. Наша прекрасная добрая Эллада избавляет смертника от всего этого – лишь в присутствии близких подносит она ему чашу красивой чеканки… Согласитесь – высоко эллинское чувство деликатности и вкуса!
Сократ смеялся, и не было в его смехе оттенка страха, который угнетал его друзей.
– Но пока не будем думать об этом. Вернемся ко мне самому. Вы, поди, думаете: и хитер же этот Сократ! Рассчитал, что, пройдя через смертоносный миг, он совершит единственно правильное деяние в интересах Афин, и друзей, и последователей, и семьи – и даже в интересах памяти о себе…
Никто не ответил; снаружи, перед тюрьмой, поднялся шум.
– Слышите? – сказал Сократ. – Люди роятся вокруг меня, как пчелы вокруг своей матки. Я останусь в чести у афинян. И тогда проникну не только в тот фессалийский город, который выбрал для меня ты, мой любезный Критон, но и во многие иные города, о которых я даже не знаю, где они или где они когда-нибудь возникнут. А это разве малая радость для меня?
Он замолчал. Шум снаружи усиливался, близился. Тюремщик отпер дверь – вошли Ксантиппа с Лампроклом.
Мужчины встали. Сократ двинулся навстречу жене и подвел ее к самому ложу. Ксантиппа села. Она сидела, прямая, с исхудавшим лицом, с покрасневшими веками, ее блестящие черные волосы были свернуты в тяжелый узел. Даже в скорби она хранила достоинство. Что-то возвышенное было во всем ее облике.
Критон от имени всех спросил – не выйти ли им.
– Нет, нет, останьтесь с нами! – Прядка волос выбилась у Ксантиппы из прически, Сократ бережно засунул ее на место. – Правда же, лошадка моя, пускай остаются?
Ксантиппа затрепетала, ощутив прикосновение его руки, уловив нежность в его голосе, но сердито начала:
– Нужно тебе было все это! Ни у кого в голове не укладывается… – Ей удалось остановить поток горьких слов. Приказала Лампроклу проститься с отцом и возвращаться домой.
Сократ усадил сына рядом с собой и просил его заботиться о матери.
– И будь ласков с мамой. Ты ведь помнишь еще, что я тебе говорил недавно, как должен хороший сын относиться к матери!
В мыслях Лампрокла тотчас возникло возражение – мол, ни одна мать так не строга к сыну, как его, – но он не решился высказать это здесь. Просто молча кивнул.
Сократ расцеловал сына.
– Ну вот, а теперь беги, мальчик, и постарайся жить хорошо!
Горе Лампрокла прорвалось.
– Отец! – в отчаянии вскричал он.
– Ну что ты, что ты. – Отец погладил его по голове. – Ничего дурного со мной не случится, не бойся. Я останусь с вами, а больше всего – с тобой. Чем старше будешь становиться, тем лучше расслышишь, о чем я тебе когда толковал.
Уткнув лицо в сгиб локтя, юноша выбежал вон. Когда дверь за ним закрылась, Ксантиппа заплакала.
– Не плачь! Не плачь, лошадка моя… Так лучше для меня. И для тебя так будет лучше, да, да, вот увидишь – ты сама скоро поймешь, и все те, у кого сейчас это не укладывается в голове. Давай-ка… – Он помог ей встать. – Дай обниму тебя напоследок. Мы ведь любим друг друга. Я знаю, – он мягко улыбнулся, – тебе приносило облегчение, когда ты ворчала на меня. И знаешь, я ведь с удовольствием слушал твою воркотню…
Он прижал к себе жену, поцеловал.
– Ты не должен был допускать этого! Все – только не это! – Ксантиппу душили рыдания. Она спрятала лицо на груди Сократа.
А он все гладил ее по голове, шутил:
– Вот подожди – встретимся в Элисии, там я тебя за все вознагражу…
– Недолго ты будешь там без меня – я очень больна…
– Когда кончится этот день, ты успокоишься. Выздоровеешь. И не забывайте с Лампроклом ухаживать за моим виноградником в Гуди. Дорогая, сейчас ты тоже иди домой…
Она вздрогнула:
– Нет! Я останусь с тобой!
– Нет, нет. Иди домой. И не плачь. Обо мне уже хорошо позаботились. И о тебе тоже – верно, Критон? Так что иди – нам обоим будет легче. Аполлодор проводит тебя.
Аполлодор взял ее за руку; она не противилась, сраженная скорбью и плачем. Сократ довел ее до двери.
– Благодарю тебя, за все тебя благодарю, моя лошадка…
Ксантиппа круто обернулась к нему, вынула из узелка чистый хитон, подала:
– Вот…
Мирто пошла нарвать цветов – весь садик зарос ими. Какой же цветок больше всего порадует Сократа? В углу, между мраморных глыб, нашла большой желтый златоцвет. Золотое сияющее око, золотое солнышко…
Нагнулась было сорвать, да выпрямилась. Нет. Еще не сейчас. А то увянет. Пойду туда перед самым закатом.
Милый мой, дорогой, хочу проститься с тобою последней…
Солнце спустилось ниже. Два служителя архонта пришли, сказали – пора приготовиться. Увели Сократа в соседнее помещение – омыться.
Ужас объял друзей. Плач Аполлодора проникал через стену.
Сократ сбросил хитон, умылся. Почему, почему не пришла Мирто? Внезапный холод охватил его, он задрожал. Вытерся, надел чистый хитон, вернулся в камеру, к своим.
– Смотрите, какой я нарядный, – указал он на свою белоснежную одежду.
Друзья стояли, прижавшись к стене.
И тут вошла Мирто.
– Как хорошо, что ты пришла! Я ждал тебя целый день.
– В мыслях своих я все время была с тобой.
– Зачем это покрывало у тебя на голове? Даже погладить тебя не могу…
Мирто протянула ему узелок.
– Что это?
– Сейчас не смотри. Когда уйду.
Она вынула спрятанный на груди златоцвет. Сократ принял его, смотрел, растроганный:
– Как ты угадала, что именно этот цветок я люблю больше всего?
– Я ведь знаю, как ты любишь солнце…
Тюремщик подошел к Мирто:
– Простись с ним. Пора.
Сократ положил цветок и обнял Мирто. Я не должна плакать, внушала она себе. Ни слезинки не должен он увидеть у меня… Поцеловала долгим поцелуем.
– Будь счастлива, моя милая.
Мирто не разомкнула губ. Пятясь, отодвигалась она к двери и все улыбалась, улыбалась Сократу…
А друзья стояли в ряд у стены, недвижные, словно изваяния, пока за Мирто не захлопнулась дверь. Тогда приблизились к Сократу. Но он уже ничего не стал говорить. Развернул узелок Мирто. Засветились желтые волосы. Он отнес их на ложе – руки его дрожали – и бережно, словно что-то живое, уложил их на подушку. Потом поставил золотой цветок в стройную ойнохою с водой.
Солнце зашло, и в камере смерклось.
Сократ подступил к двери и сказал с внезапной решимостью:
– Давайте яд!
Друзья затрепетали. Казалось, в камере отдался высокий звук, тонкий, как паутина, что облепляет пойманную добычу.
Вошел отравитель, поставил на стол светильник и сказал:
– Когда выпьешь напиток, начни прохаживаться, как советуют знатоки ядов. Почувствуешь тяжесть в ногах – тогда ложись. Я буду следить за действием яда, за тем, как цепенеют твои конечности…
– И когда дойдет до сердца?.. – вопросительно взглянул на него Сократ.
Отравитель кивнул.
– Да. Тогда.
Он подал чашу.
Сократ принял ее, рассмотрел чеканный узор, улыбнулся – он ведь предсказал, что яд ему поднесут в красивом сосуде. Бросил взгляд на солнечный цветок, намеком совершил ему возлияние – и залпом выпил. И стал ходить вдоль шеренги окаменевших друзей.
Но вот он медленно, с трудом приблизился к ложу, лег, прижал к груди прядь желтых волос. Отравитель пощупал – до каких пределов потеряло его тело чувствительность.
Друзья тихо приблизились. Сократ не отрываясь смотрел на цветок Мирто. Его коронка, повернутая к Сократу, сияла золотом в отблеске светильника. Явственно проносился по камере тот высокий, паутинный звук.
Аполлодор рыдал, уткнувшись в ладони. Мужчины, скрывая слезы, закрыли лица плащами. Критон стоял в изголовье. Отравитель показал ему – тело Сократа окоченело уже почти по пояс. Критон был бледен и чувствовал, что теряет сознание, – но тут он заметил: Сократ улыбнулся!
– Хочешь еще что-то сказать нам, мой дорогой? – тихонько спросил старый друг.
Сократ не отрывал взгляда от златоцвета.
– В каждом человеке солнце – только дайте ему светить…
СЛОВАРЬ АНТИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
Авлос – флейта (точнее, дудка, иногда двойная – с двумя створами при одном мундштуке); считалась инструментом, недостойным свободного человека, потому что надутые щеки уродовали лицо.
Агамемнон (миф.) – царь Микен, главный вождь греческих войск в войне под Троей.
Агафарх (серед. V в. до н. э.) – художник, мастер декоративной настенной живописи с острова Самос.
Агафон – афинский поэт-драматург (V в. до н. э.); первый из греческих авторов использовал не традиционные мифологические сюжеты, а брал их из реальной жизни.
Агора – городская площадь, центр торговой и общественной жизни; в Афинах находилась невдалеке от Акрополя, была окружена лавками, портиками и общественными зданиями (совета, суда).
Агра – деревня близ Афин, в верхнем течении реки Илисс.
Аид (миф.) – бог подземного мира, царства мертвых.
Акрагант – город в Южной Сицилии, второй по значению после Сиракуз.
Акрополь – городская крепость на холме, самом высоком месте Афин; здесь находился Парфенон и другие главные святилища города, сюда вела священная дорога через Пропилеи. Разоренный во время греко-персидских войн (500–449 гг. до н. э.), Акрополь был вновь отстроен при Перикле (см. прим.) в 443–429 гг. до н. э.
Алкей (нач. VI в. до н. э.) – лирический поэт с острова Лесбос.
Алкивиад (ок. 451–404 гг. до н. э.) – афинский государственный деятель и полководец, известный своим политическим авантюризмом.
Алкмеониды – афинский аристократический род, к которому принадлежали Клисфен, Перикл, Алкивиад. Считался «проклятым» за осквернение убийством священного места.
Амфиполис – портовый город на берегу реки Стримон во Фракии.
Амфитрион (миф.) – муж Алкмены, матери Геракла. Зевс, являясь к Алкмене, принимал облик Амфитриона.
Амфора – большой глиняный сосуд для хранения и перевозки вина и масла.
Анакреонт (VI в. до н. э.) – лирический поэт, автор застольных и хвалебных песен. По его имени поэзия, воспевающая чувственные наслаждения, названа анакреонтической.
Анаксагор (ок. 500–428 гг. до н. э.) из малоазиатских Клазомен – философ, друг Перикла, учивший о вечности материи, движимой мировым Разумом и не нуждающейся в богах традиционной религии.
Анаксимандр (VI в. до н. э.) – один из первых греческих натурфилософов, учивших, что мир состоит из единого материального начала, выступающего в различных проявлениях. Считается, что Анаксимандр изобрел солнечные часы.
Анаксимен (ок. 585 – ок. 525 гг. до н. э.) – философ, ученик Анаксимандра. Первоначалом всего считал воздух, из сгущения и разрежения которого возникают вещи.
Ананка (правильнее Ананке) – неизбежность, рок.
Андромаха (миф.) – жена Гектора, классический образ любящей и верной супруги; после падения Трои пленница греков.
Анит – афинский богатый ремесленник, политический деятель, принадлежавший к умеренным демократам (группа Ферамена), участник борьбы против власти Тридцати тиранов и за восстановление демократии в Афинах.
Анофелес (букв. «бесполезный») – в современной зоологии название малярийного комара.
Антифонт (ок. 480–411 гг. до н. э.) – оратор и учитель красноречия, близкий к софистам; участник попытки олигархического переворота, был казнен после его неудачи.
Аполлон (Феб) (миф.) – сын Зевса, бог света, предводитель Муз, отвратитель болезней, податель предсказаний (Дельфийский оракул).
Апология – защитительная речь на суде. Подлинная речь Сократа в свою защиту не сохранилась; ученики Сократа сочинили потом несколько вариантов этой защитительной речи, из них сохранились «Апологии Сократа» Платона и Ксенофонта.
Аргос – город в Арголиде на северо-востоке Пелопоннеса. Во время греко-персидских войн (первая пол. V в. до н. э.) сохранял нейтралитет, позднее примкнул к Афинам. Как их союзник принял участие в сицилийской экспедиции (415–413 гг. до н. э.).
Ареопаг – холм Ареса, на котором заседал афинский суд по делам о кровопролитии, состоял из бывших архонтов.
Арес (миф.) – бог войны, сын Зевса; почетом в Греции не пользовался.
Арете – основное понятие древнегреческои этики: совокупность достоинств человека, его «доблесть» (в древнейшем значении слова), «добродетель» (в позднейшем, более философском).
Аретуса (миф.) – нимфа, убежавшая от преследований бога реки Алфея и обратившаяся в родник по другую сторону моря.
Аристид Справедливый (ок. 540–467 гг. до н. э.) – афинский политический деятель времен греко-персидских войн, основатель Афинского морского союза, славился бескорыстием и умер в бедности.
Аристипп Киренский (ок. 435–355 гг. до н. э.) – ученик Сократа, впоследствии основатель школы «киренаиков», или «гедоников», считавших, что высшее благо – наслаждение, когда им владеет человек, а не оно владеет человеком.
Аристофан (ок. 445–385 гг. до н. э.) – афинский драматург-комедиограф; его комедия «Облака», осмеивавшая Сократа, была поставлена в 423 г. до н. э. Насмешки в адрес Сократа имеются в комедиях «Птицы» (414 г. до н. э.) и «Лягушки» (405 г. до н. э.). Но, по свидетельству Платона, Сократ и Аристофан продолжали оставаться друзьями. Цитируются его комедии «Всадники» и «Лягушки».
Аркадия – дикая гористая область в Южной Греции; впоследствии считалась сказочно-благодатным пастушьим краем.
Артаксеркс II – персидский царь в 404–358 гг. до н. э.
Артемида (миф.) – дочь Зевса и сестра Аполлона, богиня охоты, луны и девственности, покровительница рожениц.
Архидам (ок. 476–427 гг. до н. э.) – спартанский царь и полководец.
Архилох (VII в. до н. э.) – один из древнейших греческих поэтов, автор раздумий-элегий и язвительных «ямбов».
Архонты («правители») – девять высших должностных лиц в Афинах, избираемых на год: «эпоним» (собственно «правитель», именем которого обозначался год), жрец, военачальник и шестеро судей.
Аспасия – вторая жена Перикла, не считавшаяся законной, так как была не афинянкой, а родом из Милета; враги называли ее гетерой.
Астином – надзиратель за имущественным состоянием.
Аттика – область в Греции, центром которой были Афины.
Афина, она же Паллада (миф.) – богиня – покровительница Афин, дочь Зевса, рожденная из его головы, воительница, наставница в ремеслах и искусствах, для философов – воплощение мудрости; ей был посвящен Парфенон на Акрополе. Ее священное растение – олива, птица – сова; отсюда поговорка «носить сов в Афины» – делать лишнее дело.
Афинский морской союз – союз городов на островах и по берегам Эгейского моря, организованный в 478 г. до н. э. для борьбы против Персии; во главе союза были Афины, крупнейшие города помогали им флотом, второстепенные – деньгами. Был распущен в 404 г. после поражения в войне со Спартой.
Афродита (миф.) – богиня любви и красоты, дочь Зевса и неверная жена Гефеста.
Ахейцы – древнее (гомеровское) название греков.
Ахерон (миф.) – река вздохов.
Ахилл (миф.) – герой «Илиады» Гомера, самый доблестный из греческих витязей в войне под Троей.
Баал (миф.) – древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны. Культ его проникал и в другие страны.
Беотия – соседняя с Аттикой равнинная область, занятая владениями Фив, Платей и других городов.
Брасид – спартанский полководец, в 424–422 гг. до н. э. отбивший у Афин их союзные города на северном берегу Эгейского моря.
Браурон – городок невдалеке от восточного берега Аттики.
Бромий (миф.) – одно из имен Вакха, что означает «буйный».
Буле («совет») – Совет Пятисот, верховный орган власти в Афинах в промежутках между сходками народного собрания; делился на 10 Пританий. Здание, в котором он собирался, называлось «булевтерий».
Вакханка – участница экстатических празднеств в честь бога вина Диониса (Вакха).
Варвары (букв. «балаболки», т. е. непонятно говорящие) – так греки называли всех негреков.
Виссон – дорогая белая или пурпурная материя из тонкого льна.
Вифиния – область персидской Малой Азии, прилегавшая к Босфору и Мраморному морю.
Воловьи глаза (г. е. большие) – считались в Греции признаком красоты; «волоокой» называли богиню Геру.
Галикарнасс – греческий город на юге эгейского берега Малой Азии.
Ганимед (миф.) – виночерпий Зевса на пирах богов.
Гарпия (миф.) – фантастическая крылатая хищная птица.
Геба (миф.) – богиня вечной юности, супруга Геракла, ставшего богом; прислуживала на пирах олимпийцев.
Гедоне – «наслаждение», центральное понятие философии Аристиппа.
Гекатомба – букв. «сто быков», самая большая из жертв, приносимая лишь в исключительных случаях.
Гекуба (миф.) – жена троянского царя Приама, старая мать многих детей.
Гелиос (миф.) – бог солнца.
Гелиэя – народный суд в Афинах, общим числом в 6000 заседателей, заседавших отдельными коллегиями; был одним из оплотов демократической власти.
Геллеспонт («море Геллы») – пролив Дарданеллы.
Гемма (лат.) – резной камень с различными изображениями.
Гера (миф.) – сестра и жена Зевса, покровительница брака и семьи.
Геракл (миф.) – сын Зевса, герой-освободитель земли от чудовищ и злодеев, классический образ силача, атлета и труженика; почитался как бог, особенно в простом народе.
Гераклит Эфесский (конец VI – нач. V в. до н. э.) по прозвищу «Темный» – крупнейший из философов-досократиков, учивший о вечном изменении и противоборстве всего сущего («все течет»), первооснова которого огонь, он есть также его Душа и Разум. («Логос»).
Герма – каменный столб с головой и фаллосом, символ бога Гермеса; гермы стояли на перекрестках и у дорог, пользовались религиозным почитанием.
Гермес (миф.) – вестник богов, сын Зевса, бог торговли, красноречия и обмана.
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) – эпический поэт, считавшийся соперником Гомера, автор дидактической поэмы-наставления «Труды и дни».
Геспериды (миф.) – нимфы, охранявшие на краю земли сад богов с волшебными золотыми яблоками.
Гестия (миф.) – богиня домашнего очага.
Гетера («подруга») – незамужняя женщина, ведущая свободный образ жизни, так в Греции назывались и проститутки.
Гетерия («дружеский кружок») – товарищеские общества, объединенные общим культом, взаимопомощью и совместными трапезами; во время Пелопоннесской войны были центрами антидемократических заговоров.
Гефест (миф.) – бог огня и кузнечного дела, покровитель ремесленников.
Гея (миф.) – богиня земли и плодородия.
Гильгамеш (миф.) – герой древневавилонского эпоса. На самом деле в классической Греции этот эпос известен не был.
Гиматий – мужской (иногда и женский) длинный плащ, надевавшийся поверх хитона.
Гиметт – нагорье к юго-востоку от Афин.
Гимнасий – общественное строение для занятий спортом: двор, окруженный колоннадой и открытыми комнатами. Гимнасий были местом сбора свободной молодежи, и туда приходили для бесед философы. Гимнасий Академа назван так в честь аттического героя.
Гиперборейцы – мифический народ блаженных праведников на северном краю земли, где зимою гостит Аполлон.
Гипнос (миф.) – бог сновидений.
Гиппий Элидский (вторая половина V в. до н. э.) – видный софист, известный как знаток всех наук и даже ремесел; его споры с Сократом (в которых он оставался посрамлен) описаны в двух диалогах Платона.
Гомер – легендарный эпический поэт, автор поэм «Илиада» и «Одиссея».
Гоплит – воин в тяжелом вооружении (большой щит, панцирь, шлем, поножи, копье и меч), сражавшийся в пешем строю.
Горгий Леонтинский (ок. 485–380 гг. до н. э.) – один из виднейших софистов, талантливый оратор и философ, утверждавший ненадежность и непередаваемость всякого знания.
Греко-персидские войны (500–449 гг. до н. э. с перерывами) – эпоха военных столкновений между греческими городами и Персией.
Дарик – персидская монета с изображением стрелка – единственная золотая монета, имевшая хождение в Греции.
Дафнис (миф.) – бог или герой, чтившийся сицилийскими греками; поэму под таким названием (несохранившуюся) написал поэт VI в. до н. э. Стесихор.
Даскилея на Пропонтиде – город на Мраморном море, резиденция персидского сатрапа.
Декелея – селение на возвышенности к северо-восток) от Афин.
Делий – городок в Беотии.
Дельфийский оракул – главное прорицалище в Греции при храме Аполлона в Дельфах; предсказания давала пророчица «пифия», одурманенная выходящими из земли парами, а толковали их храмовые жрецы.
Дем – административная единица: село в Аттике или квартал в городе Афины, место приписки афинского гражданина («такой-то, сын такого-то, из дема такого-то»).
Демагог (букв. «народный вождь») – чаще так называли своекорыстных и тщеславных политиков, заигрывавших с народом.
Деметра (миф.) – богиня земледелия и плодородия, мать Коры, чтившаяся вместе с нею в Элевсинских мистериях.
Демокрит Абдерский (ок. 460–370 гг. до н. э.) – философ, представлявший мир бесконечным множеством движущихся в пустоте материальных атомов; считается предшественником материализма нового времени. Запомнился потомкам как «смеющийся философ».
Демоний («божество») – так Сократ называл свой внутренний голос, предостерегавший его от тех или иных поступков.
Демос – народ (как носитель власти).
Деспот – повелитель, господин.
Дикастерий – суд.
Дионис (миф.) – бог стихийных производительных сил, покровитель виноградарства и виноделия; спутниками его считались козлоногие сатиры и силены.
Дионисии – большой весенний праздник в честь бога Диониса.
Дискобол – «метатель диска», знаменитая статуя скульптора Мирона.
Дифирамб – хоровая песня в честь бога Диониса.
Длинные стены – укрепления, защищавшие дорогу из Афин в порт Пирей и обеспечивавшие выход Афин к морю. Были построены после побед над персами и разрушены по условиям мира после Пелопоннесской войны.
Додона – древнее святилище Зевса в горном Эпире.
Дракон – древнейший афинский законодатель (VII в. до н. э.), его законы славились чрезвычайной жестокостью.
Драхма – основная денежная единица, тетрадрахма (4 драхмы) – основная монетная единица в Греции. При Сократе за 50 драхм можно было купить быка. 100 драхм составляли мину, 60 мин – талант.
Елена (миф.) – дочь Зевса, прекраснейшая из женщин, из-за которой велась война под Троей.
Зевс (Дий) (миф.) – царь богов, Громовержец.
Иберия – так древние греки называли Испанию.
Иакх (миф.) – культовое имя бога Диониса.
Ивик (VI в. до н. э.) – лирический поэт, автор хвалебных песен.
Илифия (миф.) – богиня, помогающая роженицам; иногда отождествлялась с Артемидой или считалась ее спутницей.
Илоты – угнетенное население в Спарте, жившее на положении государственных крепостных.
Иония – центральная часть малоазиатского побережья Эгейского моря, родина первых греческих философов; богатые ионийские города были важнейшими членами Афинского морского союза.
Ипполит – герой одноименной трагедии Эврипида, чистый юноша, погибший от происков влюбленной в него мачехи Федры.
Ирида (миф.) – богиня радуги.
Калаф – большой глиняный сосуд цилиндрической формы, разновидность кратера.
Калликл – софист, современник Сократа, теоретик «права сильного».
Каллироя (миф.) – водяная нимфа.
Калокагафия – аристократический идеал человеческого достоинства: быть «прекрасным» (внешне) и «хорошим» (внутренне).
Карфаген – торговый город близ совр. Туниса, центр военной державы, боровшейся с греками за власть над Сицилией.
Кассандра (миф.) – троянская царевна-пророчица, после взятия Трои – пленница Агамемнона, погибшая вместе с ним.
Кебет – фиванец, ученик Сократа.
Кербер (миф.) – трехголовый чудовищный пес, сторож царства мертвых, одолеть которого удалось лишь Гераклу.
Кибела (миф.) – «матерь богов», малоазиатская богиня, экстатический культ которой был распространен и в Греции.
Кимон (ок. 504–449 гг. до н. э.) – афинский политик и полководец, сторонник союза со Спартой и войны с Персией; с ним враждовал Перикл.
Киприда – одно из имен богини Афродиты, данное ей по острову Кипр, который считался ее родиной.
Кирка (миф.) – персонаж «Одиссеи» Гомера: волшебница, обращавшая людей в зверей.
Кифара – семиструнная лира, на которой играли костяным бряцалом; кифаред – певец, аккомпанирующий себе на лире.
Клеонт (правильнее – Клеон) – афинский политик-демагог из простонародья, поборник войны со Спартой до победного конца.
Клепсидра – водяные часы, которыми отмерялось время речей ораторов в суде.
Клисфен – организатор политической реформы 509 г. до н. э., положившей начало развитию демократии в Афинах.
Кокит (миф.) – река плача.
Коринф – крупнейший торговый город Греции, соперничавший с Афинами, союзник Спарты.
Котила («кружка») – мера жидкости; 12 котил составляли хус (ок. 3,3 л.).
Краснофигурный (более поздний) и чернофигурный (более архаический) стиль – два способа росписи глиняных сосудов: в первом случае черным лаком покрывался фон, и на нем выступали фигуры цвета обожженной глины, во втором случае – наоборот.
Кратер – большая чаша с широким устьем (отсюда «кратер» – жерло вулкана), служившая на пирах, чтобы разбавлять вино водой.
Кратин – комедиограф, старший современник Аристофана; в состязании 423 г. награда была присуждена его комедии. «Бутылка» (в которой он оправдывался от попреков в пьянстве), а не «Облакам» Аристофана.
Крон (миф.) – титан, сын бога неба Урана и богини земли Геи; оскопив отца, стал верховным богом. Низвергнут сыном Зевсом в Тартар (см. прим.).
Кротон – греческий город в Южной Италии, где Пифагор основал свою религиозно-философскую школу.
Ксантиппа – имя жены Сократа, буквально означало «рыжая лошадь»; лошадь считалась животным аристократическим, и имена такого рода – тоже.
Ксеркс I (V в. до н. э.) – персидский царь. В 480–479 гг. возглавлял поход персов против греков.
Ксенофонт (ок. 430–354 гг. до н. э.) – ученик Сократа, историк, впоследствии написавший дошедшие до нас «Воспоминания» с записями разговоров Сократа.
Лакедемон – другое название города Спарты.
Ламах – афинский военачальник в войне со Спартой, знаменитый храбростью и бедностью.
Лампсак – город при проливе Геллеспонт (Дарданеллы).
Лаокоон (миф.) – троянский жрец, пытавшийся спасти Трою от сужденной ей погибели и за это задушенный змеями.
Ларисса – город в Фессалии.
Лебедь Леды (миф.) – Чтобы добиться любви прекрасной женщины Леды, Зевс принял облик лебедя.
Лекиф – флакон, небольшой глиняный сосуд для благовоний.
Лесбос – самый крупный из греческих островов у азиатского побережья Эгейского моря.
Лета (миф.) – река забвения в загробном мире.
Лето (миф.) – богиня, мать Аполлона и Артемиды.
Ликон – оратор, один из обвинителей Сократа; в Афинах его мало уважали, и комедийные авторы его высмеивали.
Лисандр – спартанский полководец, с персидской помощью разгромивший Афины в конце Пелопоннесской войны.
Лисий (ок. 445–380 гг. до н. э.) – виднейший афинский судебный оратор; речи его сохранились.
Логограф – судебный оратор, сочиняющий речи от лица своих подзащитных (в афинском суде обвиняемые должны были сами себя защищать).
Мантинея – город в восточной части Аркадии.
Марафон – место победы афинян над персами в 490 г. до н. э.; это сражение было изображено художником Полигнотом (ок. 465 г. до н. э.) на фреске в портике на афинской агоре.
Меандров узор – орнамент в виде прямоугольных завитков.
Мегара – важный торговый и культурный центр на перешейке между Центральной Грецией и Пелопоннесом. Член Пелопоннесского союза.
Медея (миф.) – жена Ясона, брошенная им и жестоко отомстившая ему, героиня трагедии Эврипида «Медея».
Мелет – афинский стихотворец, осмеянный в комедиях Аристофана, один из обвинителей Сократа.
Мелическая – древнегреческая поэзия с музыкальным сопровождением. Возникла в VII–VI вв. до н. э.
Менада – вакханка.
Менелай (миф.) – спартанский царь, муж Елены, герой войны под Троей.
Метек (поселенец) – гражданин одного города, живущий в другом и потому неполноправный; метеки часто были ремесленниками и торговцами.
Микены – древняя столица царя Агамемнона, в историческое время – небольшой поселок близ Аргоса.
Милет – крупнейший город Ионии.
Мина – денежная единица (см. драхма).
Мирон – великий древнегреческий скульптор (V в. до н. э.).
Митилены – главный город на Лесбосе.
Мойры (миф.) – три богини судьбы, прявшие, отмерявшие и обрезавшие нити человеческих жизней.
Мом (миф.) – младший бог греческого пантеона, олицетворение смеха и насмешки.
Мунихий – крепость близ афинского порта Пирей.
Наварх – командир корабля.
Никий – самый богатый из афинян, осторожный политик и полководец, сторонник мира со Спартой; противник Алкивиада. Погиб после поражения афинской экспедиции в Сицилию.
Обол – мелкая монета (меньше грамма серебра), шестая часть драхмы.
Одеон – округлое здание для музыкальных представлений и состязаний.
Одиссей (миф.) – герой Троянской войны, знаменитый своей хитростью; странствия его в пути на родину описывались в поэме Гомера «Одиссея».
Оймэ! – О горе!
Ойнохоя – кувшин для вина или воды, обычно глиняный.
Олигархия («власть немногих») – крайняя форма аристократического правления; слово это употреблялось с осуждением.
Олимп – гора в Северной Греции, считавшаяся в древнейшее время жилищем богов.
Олимпиады – четырехлетний период между двумя празднествами Олимпийских игр. Историки потом по Олимпиадам вели исчисление времени. Годом Первой Олимпиады считается 776 г. до н. э.
Олимпиец (миф.) – греческий бог, обитающий на Олимпе.
Омикрон и омега – буквы греческого алфавита, обозначавшие краткое «о» и долгое «о».
Орфей (миф.) – певец-чародей, сын одной из Муз и питомец Аполлона; родиной его считалась Фракия. Чаще рассказывали, что погиб он не от молнии, а от рук обезумевших вакханок.
Остракизм («суд черепков») – афинское установление: большинством голосов (подаваемых на глиняных черепках) отправлять во временное изгнание лиц, по закону невиновных, но опасных чрезмерным влиянием.
Павсаний – спартанский царь в 409–375 гг. до н. э.
Палестра – открытая площадка для упражнений в борьбе; часто соединялась с гимнасием.
Палладий – святыня Афины Паллады.
Пан (миф.) – лесной козлоногий бог диких сил природы, покровитель стад и пастухов.
Панафинеи – один из главных афинских праздников, отмечавшихся в июле; включал шествие девушек к Парфенону, подносящих Афине новое тканое одеяние, и спортивные состязания мужчин.
Парис (миф.) – троянский царевич, знаменитый своей красотой; похищение им прекрасной Елены, жены спартанского царя Менелая, стало причиной Троянской войны.
Парменид (ок. 540–480 гг. до н. э.) – философ из италийской Греции, считавшийся учителем Горгия.
Парнас – гора над Дельфами. Согласно греческой мифологии, место обитания Аполлона и Муз.
Паросский мрамор – мрамор высокого качества, добываемый на острове Парос в Эгейском море.
Парфенон («храм Девы») – храм Афины на Акрополе, построенный при Перикле, главное святилище Афин.
Пасаргады – один из важных городов Персидского царства.
Патрокл (миф.) – герой Троянской войны, друг Ахилла, вышедший вместо него на бой, павший и отмщенный Ахиллом.
Пейто (миф.) – богиня убеждения и обольщения.
Пелла – столица Македонского царства.
Пелопоннес – южный полуостров Греции с городами Спартой, Аргосом, Коринфом и др., почти целиком объединенный зависимостью от Спарты в «Пелопоннесский союз», враждовавший с Афинами.
Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.) – крупнейшая в истории Древней Греции война между союзами полисов: Афинским и Пелопоннесским во главе со Спартой.
Пентеликон – нагорье на северо-востоке от Афин. Добываемый здесь мрамор использовался при строительстве Афин.
Пеплос – женская рубаха, подобная мужскому хитону, но открытая сбоку.
Перикл (ок. 490–429 гг. до н. э.) – выдающийся афинский государственный деятель, полководец, оратор, глава демократического правительства. Способствовал военному и культурному возвышению Афин.
Перистиль – внутренний двор дома, окруженный колоннадой.
Пилос – город на Пелопоннесе, место битв в Пелопоннесскую войну.
Пинакий («дощечка») – здесь: жребий, дающий право на платную должность присяжного в суде.
Пиндар (ок. 518–438 гг. до н. э.) – величайший лирический поэт, автор хоровых гимнов.
Пифагор (VI в. до н. э.), родом с Самоса, жил в италийских колониях Греции, – математик и философ, герой многих легенд, основатель религиозно-философского учения, исходящего из представления о числе как основе всего существующего. Пифагорейцы верили в переселение душ и держали свое учение в глубокой тайне.
Платеи – беотийский город близ границы Аттики, место победоносной битвы греков над персами в 479 г. до н. э.
Платон (427–347 гг. до н. э.) – ученик Сократа, потом самостоятельный философ, создатель самой влиятельной идеалистической школы в античности, автор философских диалогов, главный собеседник в которых Сократ.
Плутарх(ок. 45 – ок. 127 гг. н. э.) – писатель и историк. Основное его сочинение «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян (в том числе Алкивиада и Перикла).
Плутос (миф.) – бог богатства.
Полиада (Полиас) – одно из имен Афины, означает «городская».
Полигнот – известный живописец и скульптор второй четв. V в. до н. э. с острова Фасос. Работал в Афинах.
Полигнот (серед. V в. до н. э.) – художник, крупнейший мастер краснофигурной живописи.
Поликлет из Аргоса – великий скульптор V в. до н. э. Воспел образ мужественного атлета («Дорифор», «Диадумен», «Раненая Амазонка»).
Поликрат – тиран острова Самос (538–522 гг. до н. э.), сильнейший правитель Ионии до ее завоевания персами.
Полис – «город-государство», укрепленный город с окружающей сельской местностью; из таких независимых друг от друга полисов, союзничавших и враждовавших, состояла вся Греция.
«Политэ!» – обращение «граждане!»
Понт Эвксинский («гостеприимное море») – Черное море.
Портик – стена с навесом и колоннадой для укрытия от солнца, излюбленное место делового и досужего провождения времени у греков.
Посейдон (миф.) – бог моря, брат Зевса.
Потидея – город на северном берегу Эгейского моря, колония коринфян, был после долгой осады взят афинянами в Пелопоннесскую войну.
Приам (миф.) – царь Трои во время Троянской войны.
Пританы – афинский Совет Пятисот (буле) делился на 10 «Пританий» по 50 человек, каждая из которых по очереди была «дежурной по государству» 36 дней, десятую часть года; эти «пританы» кормились за счет государства в здании «пританея» близ Акрополя, туда же приглашались другие должностные лица и почетные граждане.
Промахида (правильнее Промахос) – имя Афины, означает «борющаяся впереди».
Прометей (миф.) – один из титанов, считавшийся создателем (или благодетелем) рода человеческого, герой знаменитой трагедии Эсхила.
Пропилеи – подъем и вход на афинский Акрополь, обстроенный при Перикле колоннадами и священными зданиями.
Пропонтида («предморье») – Мраморное море.
Протагор (ок. 480—ок. 410 гг. до н. э.) – один из виднейших софистов, знаменитый своим утверждением «Человек есть мера всем вещам: существованию существующих и несуществованию несуществующих».
Психея («душа») (миф) – царевна, возлюбленная бога любви Эрота, согласно позднему аллегорическому сказанию.
Пэан – гимн в честь какого-нибудь бога.
Радамант (миф.) – сын Зевса, праведный судья в царстве мертвых.
Родос – остров на юго-востоке Эгейского моря, торговый центр, союзник Афин.
Саламин – остров у берегов Аттики, место решающей победы греческого флота над персидским в 480 г. до н. э.
Саламин – город на Кипре, где в 449 г. до н. э. произошло завершающее сражение между греками и персами, положившее конец греко-персидским войнам.
Самос – остров у эгейского берега Малой Азии, одно из сильнейших союзных с Афинами государств. В 440 г. до н. э. попытался отложиться от Афин. Попытка была сурово подавлена Периклом.
Самофракийское море (от названия острова Самофракия, «фракийского Самоса») – северная часть Эгейского моря.
Сапфо (нач. VI в. до н. э.) – лирическая поэтесса с острова Лесбос.
Сарданапал – ассирийский царь Ашшурбанипал (669 – ок. 633 гг. до н. э.), известный своей воинственностью, тягой к просвещению и расточительностью.
Сарды – древний город в Западной Малой Азии, резиденция персидского наместника.
Сатиры (миф.) – демоны производительных сил природы, козлоногие, веселые и сладострастные; изображались спутниками Диониса, возглавляемыми старшим среди них – Силеном.
Сегеста и Селинунт – греческие города в западной части Сицилии, постоянно враждовавшие друг с другом.
Селена (миф.) – богиня луны, иногда отождествляемая с Артемидой; был миф о ее любви к красавцу пастуху Эндимиону, по ее просьбе погруженному в вечный сон.
Семирамида – ассирийская царица Шаммурамат (IX в. до н. э.). Согласно греческому мифу, воздвигла в Вавилоне прекрасные висячие сады – одно из семи чудес света.
Сест – город на европейском берегу Геллеспонта (Дарданелл).
Сикофант – профессиональный доносчик-шантажист в Афинах.
Сизиф (миф.) – царь Коринфа, дважды перехитривший смерть и приговоренный богами к вечному тяжелому и бесполезному труду в подземном царстве.
Силен (миф.) – см. Сатиры.
Симмий – фиванец, ученик Сократа; его записи Сократовых диалогов не сохранились.
Симпосий («выпивка») – заключительная часть греческого застолья.
Сиракузы – крупнейший из греческих городов Сицилии, снабжавший сицилийским хлебом Коринф и других спартанских союзников.
Солон (VI в. до н. э.) – афинский законодатель и поэт, один из семи знаменитейших мудрецов древности.
Софисты – «учителя мудрости», странствующие философы и ораторы, учившие об относительности всякого теоретического и нравственного знания.
Софокл (496–406 гг. до н. э.) – афинский поэт, автор «Царя Эдипа» и других трагедий. Цитируется его трагедия «Антигона».
Софросине – «здравомыслие», «чувство меры», одна из главных добродетелей традиционной (еще досократовской) греческой этики.
Стадий – основная древнегреческая мера длины, ок. 178 м (600 футов).
Стикс (миф.) – река ужасов.
Стратег – член ежегодно избиравшейся коллегии из 10 человек, начальствовавший в Афинах над войском и флотом; это были наиболее влиятельные должностные лица в государстве.
Сунион – мыс на крайнем юге Аттики. Эгилея, Анафлист – города по дороге к Суниону из Афин.
Схолии – объяснения, толкования (позднее слово; здесь – иронически).
Талант – мера веса (ок. 26 кг) и денежная единица (см. драхма).
Танатос (миф.) – бог смерти.
Тартар (миф) – глубочайшая часть царства мертвых, где терпят наказания грешники.
Терсит (миф.) – участник Троянской войны, безобразный и злоязычный воин.
Тетрадрахма – см. Драхма.
Тиран – единовластный правитель, пришедший к власти насильственным путем.
Телестерий – место посвящения в Элевсинские мистерии.
Терпсихора (миф.) – одна из девяти Муз, покровительница танца.
Тиссаферн – персидский наместник в Сардах в 413–395 гг. до н. э., поддерживавший Алкивиада и спартанцев в их борьбе с Афинами – главным противником персидской власти.
Титаны (миф.) – старшие боги, воплощение буйных стихийных сил, побежденные и усмиренные Зевсом и другими младшими богами.
Тиха (миф.) – богиня случая и удачи (римская Фортуна).
Трапезит – меняла. Ими обычно бывали метеки и вольноотпущенники.
Триера – боевой корабль, длинный и узкий, с тремя рядами весел, ок. 170 гребцов.
Тридцать тиранов – олигархическая группа во главе с Критием, вставшая во главе Афин после поражения в войне со Спартой и удерживавшая власть в 404–403 гг. до н. э.
Троя (миф.) – древний город в Малой Азии близ Дарданелл, с которым греки вели десятилетнюю войну, воспетую в «Илиаде» Гомера; в историческое время уже не существовал.
Троянский конь (миф.) – огромный деревянный конь, в который спрятались греческие воины, обманом проникшие в осажденную Трою.
Тэхнэ маевтике – повивальное искусство.
Уран (миф.) – бог неба и владыка мира (см. прим. к Крону).
Фаланга – плотный боевой строй.
Фаргелион – месяц афинского календаря, соответствовавший нашему маю—июню.
Фарнабаз – персидский наместник в северо-западной части Малой Азии, поддерживавший спартанцев в их войне против Афин.
Фасос – остров на севере Эгейского моря, союзник Афин, отложившийся от них в 465–463 гг. до н. э.
Фемистокл (ок. 525–460 гг. до н. э.) – афинский полководец и политический деятель, организатор победы над персами при Саламине, содействовал успехам афинской демократии; умер в изгнании в Персии.
Ферамен по прозванию «котурн» («башмак на обе ноги») – афинский политик, вождь умеренных аристократов, видный деятель олигархических переворотов 411 и 404 гг. до н. э.
Фессалия – область в Северной Греции.
Фивы – крупнейший город Беотии, равнинной области к западу от Аттики, центр Беотийского союза городов, враждовавшего с Афинами.
Фидий (нач. V в. до н. э. – ок. 432–431 гг. до н. э.) – знаменитый скульптор периода высокой классики. Главный помощник Перикла при реконструкции афинского Акрополя. Придавал своим скульптурам богов черты живых людей, что послужило поводом для обвинения Фидия в безбожии.
Фила – аттический дем на границе с Беотией.
Филострат – греческий писатель-ритор III в. н. э., автор «Любовных писем».
Фракия – страна на северном берегу Эгейского моря, считавшаяся дикой и варварской.
Фрасибул – вождь демократической оппозиции олигархическим переворотам 411 и 404 гг. до н. э., был (вместе с Анитом) одним из организаторов демократической реставрации после падения Тридцати.
Фукидид, сын Мелесия (V в. до н. э.) – афинский политик, вождь аристократов, враг Перикла; не путать с другим, более известным Фукидидом, историком Пелопоннесской войны.
Фурии – греческий город в Южной Италии, основанный при Перикле.
«Хайре», «хайрете» – «радуйся», «радуйтесь»: греческое приветствие.
Халкидика – полуостров на северо-западном берегу Эгейского моря, между Фракией и Македонией.
Хариты (миф.) – спутницы Афродиты, три богини радости и прелести.
Хармид – дядя философа Платона, был должностным лицом при правительстве Тридцати тиранов.
Харон (миф.) – старый лодочник, перевозящий души умерших в загробный мир.
Херефон (правильнее Херефонт) – ученик Сократа, приверженец демократии.
Херсонес Фракийский – полуостров Галлиполи у входа в Геллеспонт (Дарданеллы).
Хитон – длинная подпоясанная рубаха без рукавов; поверх хитона надевался плащ-гиматий.
Хламида – короткий плащ для верховой езды.
Хрисоэлефантина – «золото и слоновая кость», техника изготовления самых больших статуй: корпус их делался из дерева, обнаженные части тела облицовывались слоновой костью, а одетые – золотом.
Хус – см. Котила.
Эвбея – остров, примыкающий к берегам Средней Греции.
Эвклид – ученик Сократа, впоследствии основатель философской школы в Мегаре (ок. 450–380 гг. до н. э.).
Эвое! – экстатический возглас при обрядах в честь Диониса.
Эвпатриды – родовая земледельческая знать в Афинах.
Эврика – «нашел!»
Эвримедонт – река на южном берегу Малой Азии, где Кимон (ок. 469 г. до н. э.) одержал большую победу над персами в области Памфилия.
Эврипид (480–406 гг. до н. э.) – младший (после Эсхила и Софокла) из трех великих афинских трагиков, внесший в свои драмы идеи и приемы современной ему философии и риторики.
Эврот – река, на которой стоял город Спарта.
Эвфимия – «доброе состояние души», благорасположенность и мягкость, центральное понятие этики Демокрита.
Эгина – остров против берегов Аттики, торговый соперник Афин.
Эгос-Потамы (Козьи реки) – речка на европейском берегу Геллеспонта (Дарданелл), место решающего поражения афинян в битве со спартанцами в 405 г. до н. э.
Эдип (миф.) – царь-страдалец, совершитель невольных преступлений, сужденных роком, добровольно принимающий ответственность за них, – герой трагедии Софокла «Царь Эдип».
Эзоп – легендарный баснописец (VI в. до н. э.) из Фригии.
Экклесия – народное собрание, верховный орган власти в Афинах.
Элевсинские мистерии – богослужения в честь Деметры и Коры, совершавшиеся в аттическом городе Элевсине; обряды запрещено было разглашать, хотя допускались к посвящению в мистерии практически все. Считалось, что это посвящение облегчает участь человеческой души после смерти.
Элида – область и город на северо-западе Пелопоннеса.
Элисий (миф.) – «поля блаженных» в загробном мире, место пребывания праведных душ (Елисейские поля).
Эллада – общее название Древней Греции.
Эол (миф.) – бог ветров.
Эос (миф.) – богиня зари (римская Аврора).
Эргастерий – мастерская, где работали рабы.
Эриннии – богини возмездия, преследующие преступников.
Эристика – искусство спора.
Эрот (миф.) – бог любви.
Эсхил (ок. 525–456 гг. до н. э.) – великий поэт-драматург, «отец трагедии». Цитируется его драма «Прикованный Прометей».
Эфебы – юноши в возрасте 18–20 лет, несшие пограничную военную службу, дававшие присягу и затем становившиеся полноправными гражданами.
Эфес – один из крупнейших городов Ионии.
Эфоры – коллегия пяти правителей, ежегодно избиравшаяся в Спарте; им принадлежала политическая власть, а царям лишь религиозная и военная. Эхо (миф.) – нимфа, потерявшая способность говорить за свою болтливость; иссохла от несчастной любви к прекрасному юноше Нарциссу.
Ясон (миф.) – предводитель аргонавтов, отправившихся в Колхиду за золотым руном.
М. Гаспаров
Примечания
1
Йозеф Томан. Дорогие мои советские читатели! – в кн.: И. Томан. Дон Жуан. М., 1973, с. 5.
(обратно)2
В 1956 году он был переработан автором и вышел под новым названием – «Карточный домик».
(обратно)3
М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 331.
(обратно)4
V. Nezval. О Vancurovi. – «Literarni noviny», 1930–1931, ¹ 4, s. 2.
(обратно)5
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 199 и 135.
(обратно)6
Vladislav Vancura. Rad nove tvorby. Praha, 1972, s. 143.
(обратно)7
Josef Toman. Sokrates. Praha, 1975, s. 456–457.
(обратно)8
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5, т. 29, с. 249.
(обратно)9
Josef Toman. Metaforite! Zmente se! «Literarni mesicnik», 1974, c. 3, s. 26.
(обратно)10
См.: А. Ф. Лосев. Предисловие. – В кн.: Платон. Соч. в 3-х томах, т. I. М., 1968, с. 15–23.
(обратно)11
См. «Словарь античных имен и названий» в конце книги.
(обратно)12
Перевод В. В. Вересаева. Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. М., 1963, с. 321.
(обратно)13
Чешская дидактическая поэма XIV века.
(обратно)14
Разновидность гороха.
(обратно)15
Здесь использовано одно из «Любовных писем» Филострата. – Прим. автора.
(обратно)16
Перевод Е. Л. Оверецкой под редакцией С. Я. Лурье. Плутарх. Избранные биографии. М.—Л., 1941, с. 144.
(обратно)17
Сократ (греч.).
(обратно)
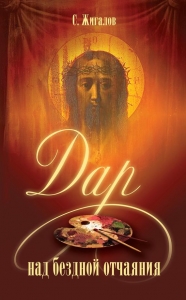

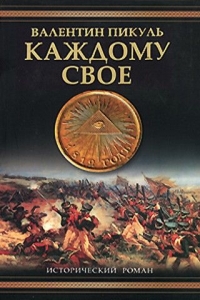
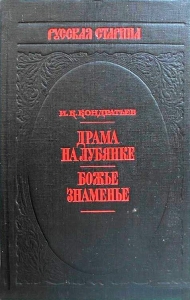
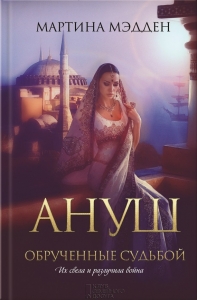
Комментарии к книге «Сократ», Аросева
Всего 0 комментариев