Борис Акунин Доброключения и рассуждения Луция Катина
Серия «История Российского государства» издается с 2013 года
© B. Akunin, автор, 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2019
КНИГА, КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНАЯ.
Внутри нее спрятана еще одна книжка, дополнительная. Называется она «аристобук», то есть «улучшенная книга» (от греческого слова «аристос» – «лучшее»).
В конце каждой главы стоит вот такой знак:
Он не декоративный – он рассказывает и показывает о том, что не попало в роман, а находится вокруг него.
Чтобы знак ожил, нужно сделать следующее:
Установите на ваш смартфон или планшет специальное приложение AristoBook.
Ссылку на приложение Вы можете найти на сайте .
• Если у вас iOS устройство, скачайте приложение «AristoBook» в Apple App Store.
• Если у вас Android устройство, скачайте приложение «AristoBook» в Google Play Store.
Если у вас нет смартфона или планшета, не расстраивайтесь. Весь «аристобучный» контент романа постепенно будет появляться на сайте .
Теперь, когда вы установили приложение, наведите видоискатель вашего мобильного устройства на текст рядом со знаком, прямо на этой самой странице.
И удачных вам доброключений!
Борис Акунин и eBook Applications LLCЧасть первая Под знаком Венеры и Марса
Глава I
Герой начинает свое жизнеописание, блистательно участвует в застольной беседе, небезвинно подвергается гонению и возвращается в естественное человеческое состояние
«Я появился на свет в июне, отчего ученый родитель думал наречь меня Юнием в воспоминание высоко естимованного им первого республиканца Луция Юния Брута, однако же приходской священник не сыскал в святцах такого мужеского прозвания и отказался крестить под ним младенца, вследствие чего отец удовлетворился менее звучным Луцием, и меня ввели в христианский мир под вовсе немудрящим именем Луки.
Рождение мое было омрачено прискорбным событием, смертью матушки, которая успела еще увидеть свое чадо и даже, говорят, поцеловать меня, а после сразу же испустила дух, измученная, но довольная.
Смерть ее не была обычною, какая часто постигает несчастливых рожениц, но следствием обдуманного решения. Моя родительница, о которой я слышал от отца много удивительного, по своему телосложению не питала надежд на материнство, имея чрезвычайно узкие, мальчишеские бедра. Все лекари предупреждали, что она навряд ли сможет разрешиться от бремени. Посему – как со своим всегдашним почтением к физиологии еще в детстве рассказывал мне отец – они с супругой, пылкие и молодые, позволяли себе тешиться страстью лишь в те дни месяца, когда жены не могут понести. Однако на тридцать пятом году жизни матушка заболела чахоткою и, зная, что скорая смерть все равно неминуема, запутала доверчивого мужа в женском календаре и обеременилась. В последнюю пору своей жизни она говаривала, что чем долго и бесплодно умирать от кровохаркания, лучше уж смерть быстрая и к тому ж не напрасная, а производящая на свет новое существо. Подозреваю, впрочем, что занимало ее не столько новое существо, которого она знать не знала, сиречь моя скромная особа, а вдовство ее дорогого супруга. Должно быть, мать ласкалась надеждой, что, имея малютку сына, вдовец не позволит себе зачахнуть от горя. Это несомненно и случилось бы, так как сии супруги любили друг друга любовию, которой в мире почти что и не бывает.
Матушка была женщина умная, обстоятельная. Когда пришло время, в доме уже жил врач, умевший извлекать непроходного младенца через утробу посредством хирургической операции, которая спасает дитя, но обрекает роженицу на гибель вследствие истечения кровью.
Так и случилось, что я вышел на белый свет под ножом, из разверстого чрева, сопровождаемый стонами матери и рыданьями отца. Произошло сие важное для нашей семьи, но нисколько не значительное для гистории событие 18 июня 1733 года, в правление царицы Анны.
По двадцати лет службы переводчиком в Иностранной коллегии отец достиг обер-секретарского чина, то есть сделался особой восьмого класса и потомственным дворянином. Когда нашу фамилию, причисленную в ряд благородных, записывали в родовую книгу, он, по чудаческим своим убеждениям никогда не бравший и не дававший взяток, отступил от сего неукоснительного правила и дал протоколисту Герольдмейстерской конторы некую мзду, дабы сделаться из просто «Иноземцева» – «Иноземцевым-Катиным», в память о незабываемой супруге Кате, и в дальнейшем, знакомясь с новыми лицами, представлялся им лишь второю частью фамилии, к чему с детства приучил и меня. Так вышло, что, явившись в мир Лукой Иноземцевым, ныне я зовусь Луцием Катиным, каковое имя, по видимости, и будет высечено на моей гробнице в предназначенное Судьбою время.
В день пятнадцатого моего рождения отец обратился ко мне с речью, которую я не позабуду до окончания своих дней.
«Сын мой, я ведаю, что много виноват пред тобою. Хоть я и заботился о твоем воспитании столь усердно, сколь мог, никогда я не мог любить тебя всем сердцем, ибо оно разбилось, когда ты стал безвинным поводом кончины твоей матери. Все последующие годы я не жил, но лишь исполнял обещание, данное на смертном ее одре, – не покидать тебя до зрелого твоего возраста. Ныне ты перешел из отроческого состояния в юношеское, и обет мой исполнен. Знай, что я не оставляю тебе никакого земного состояния. Я продал наш дом и все скромное наше имущество, дабы внести плату за твое обучение в гимназическом пансионе Академии-де-сиянс, где в течение трех лет ты будешь получать кров, стол и самое главное – знания. Это лучшее из всего, что я могу тебе предоставить для жизненного похождения. Будь храбр с людьми, а более всего с самим собою; не гнись перед сильными и не сгибай слабых; обзаведись убеждениями и не предавай их; когда же вблизи засияет счастье, а это непременно случится, умей его распознать и держись за него крепко. Меня же прости. Ныне отпущенный, желаю воссоединиться в космическом эфире с тою, которая давно меня ждет».
Выслушав сие напутствие, более уместное не для нашего практического столетия, а для древних стоических времен, я испугался. Разговоры о «космическом эфире», куда попадают души умерших, случалось мне слышивать и раньше. Знал я и что мой любомудрый pater слов на ветер не бросает. Всю ночь я провел под дверью его спальни, подглядывая через щелку, не намерен ли он испить яду по примеру любимого им Луция Сенеки, второго моего тезоименитца. Ничего подобного не воспоследовало. Легши и загасив свечу, отец крепко заснул и более ни разу не пошевелился. Но когда на рассвете, наконец обеспокоенный этой недвижностью, я осторожно приблизился к постели, то нашел его бездыханным, с застывшею полуулыбкой на холодных устах. Яков Иноземцев-Катин переместился в иное, непостижимое земному разуму пространство, которое для смертных суть лавиринф и загадка. Тленная, малозначительная часть счастливого покойника нашла мир в могиле, где обретались останки той, по ком он столь неутешаемо тосковал. Вот каков был мой производитель на свет, нимало не схожий с другими отцами.
Ныне оба мои родителя парят в космическом эфире, я же пока обитаю на низменной земле, где меня манят, всяк в свою сторону, два здешние эфира, противоборствующие и несовместные. Один – Флогистон, жаркая и летучая субстанция сердечной чувствительности; другой – Рационий, холодный и беспощадный флюид умопоклонства. Чей зов окажется сильнее, ведает один Зиждитель, то есть никто не ведает, ибо современною наукой установлено, что никакого Бога нет, а есть лишь Природа и слепой Фатум».
Дописав эту фразу, чрезвычайно ему понравившуюся умудренностью, Луций перечел зачин своего жизнеописания, присыпал страницу сеяным песком и сдул. Идея регистрировать события, впечатления и размышления пришла ему в голову не далее как нынче утром, и молодой человек, в котором склонность к неспешному умствованию соседствовала с быстротой поступков, сразу же взялся за дело. Пока писал, успел и поднять глаза в потолок, и повздыхать, и даже смахнуть не единственную слезу, но закончил с улыбкой. Он еще присовокупил на титульной странице превосходное название: «Приключения и рассуждения Луция Катина под знаком Венеры и иных божеств в различных землях, водах и эфирах», хоть пока никуда еще не странствовал и никаких вод, кроме невских, не видывал.
Размяв затекшие от сидения члены сладостным потягиванием, молодой человек подошел к окну и распахнул раму, впуская холодный воздух. Куцый ноябрьский день уже клонился к исходу.
Подошло время предвечернего туалета, который у Луция был по-спартански прост. Снаружи на подоконнике ждал кувшин с водой, подернувшейся тонкой ледяной коркой и поблескивавшей снежинками – в городе уже установилась зима. Нисколько тем не смутившись, юноша скинул жилет и рубаху, разбил лед и, окуная мочалку, стал с наслаждением обтираться, еще и покрякивал. Сызмальства приученный к телесной стойкости, он никогда не мерз, даже в мороз ходил без шубы и в самой легкой шапке.
Предаваясь гигиенической процедуре, Луций смотрел не вниз, во двор, представлявший собой зрелище прозаическое (конюшня, хлев, запятнанный навозом снег), а вверх, в петербургское небо прекрасного серого оттенка. Жительство в чердаке, определенное скромной позицией домашнего учителя, нашего героя не печалило, а радовало: выше были только светила да надкрышные трубы.
Одна из сих труб, возвышавшаяся на кровлей противоположного флигеля, вдруг привлекла внимание Луция неким шевелением. Удивленный, он опустил взор от облаков чуть ниже и увидел, что из-за кирпичной грани высовывается краешек белого кружевного чепца. Такой носила только одна из обитавших в усадьбе особ, а именно Луциева ученица Ульрика Карловна, по-домашнему Ульхен.
Катин и раньше, случалось, ловил на себе ее особенный, украдочный взгляд, но чтобы вылезти на крышу и подглядывать за умыванием учителя – такого еще не бывало. Иль, может быть, он просто не замечал?
Луций поскорее прикрыл окно, задвинул занавеску, вздохнул. Девица трудного пятнадцатилетнего возраста, отец ее груб и бесчувствителен, у мачехи ветер в голове. Полусирота заслуживает компассии, однако ж вояжам на крыше следует положить предел. Не дай бог поскользнется на обледеневшей жести…
Педагогическая наука не давала инструкций, как вести себя в подобной оказии. Надо будет найти у Руссо то место про одоление низменных инстинктов и прочесть Ульрике Карловне на уроке французского, но с самым невинным видом, поделикатнее, дабы не ранить юную душу. Удовлетворенный этим решением, Луций оделся и вышел на узкую лестницу. Было время ужина, о чем требовательно напоминал здоровый молодой стомах.
В доме Буркхардтов с учителем не церемонились, обычно он столовался на кухне, со старшею прислугой, чем нимало не печалился, ибо общество хозяина не доставляло юноше никакого удовольствия, а близость хозяйки порождала неловкость. С дворецким Францем Гиацинтовичем и старшей горничной Федотьей Ивановной кушалось проще и спокойней, пища была здоровей, да и беседа оживленней, но сегодня учитель не обрел этих простых радостей. На ступеньках его остановил комнатный лакей и передал распоряжение господина полковника: одеться в праздничное, зайти за барышней и вместе с нею тотчас же быть к ужину.
Луций догадался, в чем причина. Давеча во двор въехала нарядная карета четверкой. Стало быть, пожаловал какой-то важный гость и полковник желает распустить перед ним хвост: показать, что держит в услужении человека, знающего языки и науки. Учителя звали к господскому столу только в таких случаях.
Делать нечего. Луций вернулся в комнату, надел свой голубой, совсем немного истрепавшийся на обшлагах камзол, повязал галстух, переобулся в башмаки с посеребренными пряжками, расчесал волосы и перевязал их сзади лентой. Парика он не носил, однако длинные, самою природой завитые золотистые локоны, слегка подкрученные на висках, отлично сходили за букли. Глаза у молодого человека были синие и ясные, только очень уж большие и далековато расставленные, а из-за широких скул вовсе казавшиеся в пол-лица. Это, пожалуй, придавало Луцию некоторое сходство с котом.
Юноша провел перед зеркалом изрядное количество времени, так как считал уход за внешностью долгом всякого цивилизованного человека, и когда наконец спустился в бельэтаж за ученицей, та уже ждала его в дверях светлицы с нахмуренными бровями. Выходить к гостям без сопровождения юной барышне было бы неприлично, и Луций подумал, что Ульхен сердита от нетерпения, но ошибся.
– Я знаю! – воскликнула медхен, блестя глазами. Она быстро обучилась чисто говорить по-русски, не то что ее солдафон родитель. – Вы сейчас будете стыдить меня! Вы видели меня на крыше!
Смущенной она не выглядела. Смутился Луций.
– За что же вас стыдить? – пролепетал он. – Вы, верно, желали полюбоваться небом…
Но девица была с характером. Предложенной уловкой она не воспользовалась.
– Ничего подобного! Я даже рада, что всё раскрылось!
– Что «всё»? – удивился Катин.
– Что я подглядываю за вами! Каждый день! И утром, когда вы делаете гимнастические экзерциции в одних подштанниках! Желаете знать почему?
– Нет! – малодушно воскликнул он, но решительную барышню это не остановило.
– Потому что я безумно обожаю вас! Меня кидает в дрожь, едва я вас увижу! Вы – единственный резон моей злосчастной жизни! – На глазах у Ульрики Карловны выступили прекрупные слезы. – А ежели я для вас только девчонка, то так и знайте – я жить не стану! Пусть лучше Всевышний призовет меня в свои недра! Я не нахожу более ничего, что меня прельщало бы на сем свете!
– Погодите, – попробовал остановить ее излияния Луций. – Это же строки из «Клариссы», которую мы с вами давеча читали в российском переводе. Право, я более не стану знакомить вас с современными романами. Под их воздействием вы выдумываете себе чувства, каковых по вашему детскому возрасту испытывать еще не можете. Точно так же я в четырнадцать лет вообразил, что влюблен в соседскую булочницу-чухонку.
Но барышню было не сбить.
– Да! Я говорю словами из романа! – в запальчивости вскричала она, блестя мокрыми глазами. – Однако если я не могу сыскать подлинных слов, это не означает, что у меня нет подлинных чувств!
Невзирая на щекотливость ситуации, педагог в Катине не мог не отметить, что это недурно сказано, и мысленно поставил ученице «весьма похвально».
– …Вы молчите… – всхлипнула Ульрика Карловна. – Ах, я знаю, в чем дело! Во всем виновны эти проклятые прыщи! – Она раз и другой сильно шлепнула себя по щекам, в самом деле украшенным обычной подростковой сыпью. – Я погибла, коль вы не ответите мне взаимностью…
И тут же, безо всякого перехода, обратилась от девичьей меланхолии к холерическому припадку:
– Нет, я догадалась! Причина вашей холодности – моя мачеха! Эта мерзкая сарделька завладела вашим сердцем! Я убью ее и себя!
Здесь Луций пришел в еще большее смятение, ибо догадка буйного ребенка была не столь далека от истины. Госпожа Буркхардт, немного напоминавшая упомянутое колбасное изделие розовостью пухлого лица и приятной округлостью форм, действительно имела некоторую власть – пускай не над сердцем, но над физической оболочкой нашего героя.
Потому, не желая оборота жаркой беседы в опасном направлении, он поспешно сказал:
– Помилуйте, Ульхен, я сердечно вас люблю…
Девица вновь обнаружила способность к радикальной смене эмоций. Просияв, она схватила учителя за руки и возопила:
– Коли так, обними же меня, сердешный друг! Знай, я уж всё продумала. Ночью мы бежим в Гатчину, а домашним оставим записку, что утопились в Неве от невозможности сочетаться узами. Сами же снимем хижину и будем жить в лесу, как Дафнис и Хлоя! Я натаскала у папеньки денег, целых тридцать рублей!
Бедный Луций не знал, как на это отвечать, и лишь тщетно пытался высвободить стиснутые пальцы. Спас его все тот же лакей, присланный хозяином поторопить дочь.
– Сударь, стол уж накрыт. Барин гневается.
И Ульрика Карловна сразу обратилась в благовоспитанную немецкую барышню. Пошла вперед чинными шажками, потупив взор и сложив руки поверх батистового передничка, обязательного для добропорядочных девушек. Однако губки Ульхен были плотно стиснуты, а щечки ярко-розовы, и Катин знал, что опасный разговор будет иметь продолжение. В Гатчину, положим, с этой взбалмошной фрейляйн он не побежит, но как прикажете после случившегося учить ее латинской грамматике, русскому письму и французскому разговору?
* * *
Важным гостем оказался бывший сослуживец хозяина по прусской армии, адъютант короля Фридриха господин фон Кауниц. Он прибыл в российскую столицу с миролюбивым письмом от своего монарха. Два месяца назад Россия объявила войну Пруссии, которая напала на союзную нашей державе Австрию, но пока что сражались между собой только немцы, а государыня собираться с походом не торопилась, и у короля оставалась надежда на примирение.
Именно это объяснял хозяину герр фон Кауниц, когда Луций и его воспитанница вошли в столовую. Остановившись на пороге, они стали ждать, чтобы полковник удостоил их внимания. Порядки в семье Буркхардтов были военные.
Еще двое присутствующих, супруга полковника и его ординарец поручик Бозе, участия в беседе не принимали: Анна Леокадьевна по плохому знанию немецкого, а поручик по неразвитости ума. С этим клевретом полковник почти никогда не расставался: на службе – потому что за три года Буркхардт не выучил и двадцати русских слов и Бозе, родом лифляндец, состоял при нем переводчиком; дома же сии неразлучные аяксы вместе пили пиво, курили длинные трубки и азартно играли на биллиарде. За выигрыш поручик получал полтину, за проигрыш – пинок под зад, после чего оба заливисто хохотали. Такое времяпрепровождение бравым кавалеристам никогда не надоедало.
Наконец Буркхардт молвил:
– А вот и моя Ульхен со своим персональным ментором, герром Катин. Он академический профессор и дворянин.
Ульрика, настоящая паинька, сделала церемонный книксен. Произведенный в профессоры «герр Катин» (в обычное время хозяин дома именовал его попросту «hey, Sie!» – «эй, вы!») почтительно поклонился, вслед за чем на него перестали расходовать внимание. Теперь следовало дождаться момента, когда полковник обратится к «ментору» по-французски (всегда с одной и той же фразой) и ответить что-нибудь, непременно на латыни. Потом можно рассеяться и остаток трапезы думать о своем – более никто не обеспокоит.
Миссия поручика Бозе состояла в том, чтобы энергично кивать на всё сказанное начальством да тихо приговаривать: «O ja, ja!» С более трудной задачей ординарец, пожалуй, и не справился бы. От русской супруги ожидалось лишь руководство подачей блюд. Дочке надлежало смотреть в скатерть и не стучать ложкой. Таким образом в беседе участвовали только хозяин и гость.
Тема, впрочем, была любопытной – о привычках и причудах прославленного прусского государя, и Луций слушал с интересом.
Его величество, говорил фон Кауниц, всегда поднимается затемно, в четыре часа утра, и начинает день с игры на флейте, дабы настроить ум и чувства на гениальный лад. В это время, под звуки Гайдна иль Баха, он вырабатывает свои великие, парадоксальные планы, заставляющие восхититься одну половину Европы и ужаснуться другую. С восьми до десяти король пишет. Затем лично руководит разводом и маршировкой гвардии, а после простого, солдатского обеда – стрельбами и штыковым обучением. Одет титан в потертый, заплатанный мундир, сапоги его стоптаны, треуголка выцвела. Вся Пруссия чтит Фридриха за бережливость, и никто не ропщет на подати, зная, что монарх во всем себе отказывает. Недавно, с умилением рассказывал гость, произошла история, заставившая многих прослезиться. Вдова некоего офицера подала королю в руки прошение о пенсии, которую покойный не успел себе выслужить и потому оставил семью без средств к существованию. «Я не могу удовлетворить вашего ходатайства за казенный счет, ибо закон есть закон, – ответствовал Фридрих, – отказать же вам не дозволяет милосердие. Мы сделаем вот как. Я откажусь от послеобеденного шоколада, который обходится в один талер, и велю, чтобы сэкономленные деньги выплачивались вам в виде пенсии».
– Изрядно, – сказал на это полковник Буркхардт. – И умно, раз все услышали и разнесли.
– О ja, – поддакнул поручик Бозе, после чего рассказ о великом Фридрихе полился дальше.
Внимательно слушая, Луций не забывал лакомиться блюдами, которых в кухне для слуг не подавали: трюфельным супом, паштетом, французскими сырами. Стол был обильный, в расчете на высокого гостя, и свечей горело не шесть, как в обычные времена, а двадцать четыре. Хозяин и королевский адъютант сидели на почетных торцевых местах, супруга и поручик – по одну широкую сторону стола, учитель с ученицей по другую, причем Луций оказался прямо напротив Анны Леокадьевны, которая, томясь скукой, то и дело бросала на молодого человека быстрый взгляд из-под ресниц.
Он же нимало не скучал. Разговор повернул на большую политику и был, пожалуй, поразителен по своей откровенности.
Формально собеседники состояли на службе в двух враждующих армиях, но герр фон Кауниц обращался к герру Буркхардту, словно к доверенному другу.
– Глядите, как поворачивается война, – говорил он. – Наши союзники британцы бьют французов в американских колониях и на море. Тем временем мы разгромили саксонцев и управимся с австрийцами, прежде чем Россия подготовится к дальнему походу. Поскольку делить с вашей государыней нам нечего, мы благополучно замиримся, после чего спокойно займемся Францией.
Полковник супил бычий лоб, он так быстро соображать не умел.
– К чему вы ведете, дружище?
– К тому, чтобы вам взять у русских отставку и вернуться к нам. Хорошие полковые командиры нынче в цене. Жалованье у нас выше, а шансы на выслугу из-за потерь превосходные. Не успеете оглянуться – вы уже генерал. Право, обидно в такое золотое время прозябать в русском болоте.
Не обидевшись на эти слова, пожалуй, зазорные для его мундира, Буркхардт раздумчиво молвил:
– Жалованье у русских, конечно, всего 600 рублей в год, но на него никто из командиров и не живет. Зато я распоряжаюсь всей полковой кассой, всеми закупками и подрядами, так что имею больше, чем ваш командир дивизии. Глупо от такого отказываться.
Тогда гость поменял тактику:
– Разве в одних деньгах дело? А удовольствие состоять в первой армии мира, где всё работает как часы? Какие у нас офицеры, какие унтер-офицеры! Какая честь повиноваться величайшему полководцу! Ей-богу, подавайте абшид начальству и едемте со мной! Я уже уговорил здесь нескольких природных немцев. Не позвольте им получить перед вами первенство.
Нет ли тут побуждения к измене долгу и присяге, подумалось Луцию, но более в отвлеченном смысле. Как человек просвещенный и вольномыслящий, он, конечно, не придавал важности подобным замшелостям.
Полковник посмотрел на учителя и произнес ту самую единственную фразу, которую знал из французского:
– Qu’en pensez vous, monsieur professor?[1]
Наступила минута секундировать хозяину.
– Le roi de Prussie s’engage dans une voie dangereuse[2], – ответствовал Луций на том же языке, а затем, как требовалось, вставил латинское: – Bellum contra omnes?[3] – Пожал плечами, перешел на немецкий. – Вам ли с вашим умом, достопочтенный господин полковник, не понимать, чем оканчиваются подобные затеи?
Буркхардт ничего не понял, но глубокомысленно кивнул. На сем миссию можно было считать исполненной, но когда гость спросил «герра профессора», чем же так опасен избранный королем путь, Луций не удержался от искушения блеснуть.
– Сколько жителей в Прусском королевстве?
– Около шести миллионов человек, я полагаю.
– А в землях противников вашего отечества, Франции, Австрии и России, проживает не менее пятидесяти миллионов. К тому ж воевать вам придется на трех фронтах – южном, восточном и западном. Пруссия будет подобна жонглеру, который подбрасывает слишком много яблок. Которое-нибудь обязательно упадет.
Совсем немного рисуясь, Луций взял из вазы три румяных яблока и ловко стал их подкидывать – искусство, которым он в свое время стяжал себе славу средь академических пансионеров.
– У вас однако ж ни одно яблоко не падает, – остроумно возразил гость. – А мой король ловчей всякого циркача.
– Пока на него не напал чих иль не зачесалось ухо, сиречь не приключилось некое затруднительное и непредвиденное обстоятельство.
Луций почесал себе ухо, и яблоки одно за другим покатились на пол.
Карой за импровизированное представление был грозный взгляд хозяина, недовольного тем, что ничтожный учитель так надолго завладел всеобщим вниманием; наградою – признательная улыбка хозяйки, которая не поняла ни слова, но обрадовалась развлечению. С восхищением глядела на жонглера и юная Ульрика Карловна.
Но последствия маленького триумфа были таковы, что Луций скоро потерял нить политического разговора. Он подвергся двойному нападению.
Сначала Ульхен тайком, под скатертью, взяла его за руку и стала нежно гладить пальчиком ладонь. Вызволить плененную часть тела было невозможно. Еще хуже повела себя Анна Леокадьевна. Немного приспустившись на стуле, она достала разутой ножкой до колена молодого человека, да в такой позиции и осталась, при этом обратив невинный взор на своего супруга.
Надо приискать другую службу, предавался унылым мыслям плененный с двух сторон герой. Этот дом чересчур наполнен чувственным эфиром Флогистоном.
Природная справедливость требовала признать, что отчасти он сам в том виноват. Неразумно и безнравственно было уступать домогательствам госпожи полковницы. Обвинение в безнравственности Луций, впрочем, сразу же отвел как неискреннее. Угрызений совести он не испытывал. Во-первых, хозяйка сама однажды ночью явилась к нему на чердак и глупо было изображать Иосифа Прекрасного. А во-вторых, её Потифар, дубина и грубиян, вполне заслужил головной убор рогоносца. Но флюиды страстолюбия, которыми наполнился дом, неким мистическом манером затронули незрелую душу Ульрики Карловны, и положение, в котором теперь оказывался Луций, становилось несносным.
Девичий пальчик щекотал ему запястье, а нога мачехи, продвинувшись еще дальше, начала вытворять штуки вовсе скандальные, и Катин торжественно дал себе зарок отныне и всегда относиться к женскому полу как к сестрам и не иначе. Новую службу он найдет в доме, где ученик будет отроком, а хозяйка – пожилой добродетельной дамой, привлекательной исключительно душевными свойствами.
– Вы устали сидеть за столом? – галантно обратился гость к госпоже Буркхардт, совсем утонувшей на своем стуле. – Не перейти ли нам в курительную комнату после столь превосходной трапезы?
Поручик перевел сказанное, и Анна Леокадьевна, шаркнув под столом туфелькой, распрямилась.
– Ступайте, господа. Я принесу вам своей особенной настойки.
Все поднялись, а полковница, кинув на учителя косой, многозначительный взгляд, сказала:
– Луций Яковлевич, вы ведь табаку не курите? Помогите мне, сделайте милость. Я возьму графин, а вы рюмки.
Отлично зная, что последует дальше, Луций все же смирно поплелся за Цирцеей, ибо растревоженный ножкой Флогистон совершенно изгнал из его головы благоразумный Рационий.
За первым же поворотом коридора Анна Леокадьевна втолкнула молодого человека в кладовку, прикрыла дверь и, тяжко дыша, принялась срывать с него одежду. «Быстрее, быстрее, – шептала она. И еще почему-то: – Несносный, несносный…»
Ее руки крутили его, как куклу, и через несколько мгновений обезволивший Луций остался в одних чулках до колен.
– Сейчас умру, – предупредила Анна Леокадьевна, привалилась спиною к полкам, на которых тесно стояли бутылки с наливками и банки варенья, рывком подняла юбку и притянула к себе Луция, который, окончательно покинутый Рационием, уже ни о чем больше не думал.
Вдруг нагую спину обдало сквозняком. Обернувшись, Катин увидел в дверях Ульрику Карловну. Ее прыщавое личико по-волчьи щерилось.
– Я знала, – прошипела девица. – Знала…
И во всю глотку завопила:
– Vati! Vati! Herbei!!![4]
Крик был столь отчаянным, что уже через мгновение в коридоре грохотали сапоги. Луций обернулся на окоченевшую соучастницу, наклонился к разбросанной одежде, понял, что надо либо одеваться, либо бежать как есть, но промешкал, не сделав ни того, ни другого. Время было упущено. На пороге возникли полковник с ординарцем. Первый вылупил глаза, второй разинул рот. Сзади появился еще и пруссак, сразу уяснивший значение сей живой картины и заухмылявшийся.
Пойманные любовники повели себя разно. Верней сказать, Луций вовсе никак себя не повел, а лишь смежил веки, понадеявшись, что всё это дурной сон и сейчас наступит облегчительное пробуждение. Хозяйка же проявила отменную находчивость. Она окарябала острыми ногтями Луциеву щеку и присоединила к воплям падчерицы истошный визг.
– Спасите меня! Этот зверь затащил меня сюда, оскорбил мое целомудрие видом своей наготы и попытался овладеть мною!
– Она врет! Она сама! – заверещала Ульхен.
Гибну, понял наш герой. И поступил единственно возможным образом.
– Госпожа полковница говорит правду. Я накинулся на нее в помрачении рассудка. Позвольте мне покинуть сей дом.
– Ну и профессора у вас в России, – успел заметить герр фон Кауниц, прежде чем началось землетрясение.
Предложение учителя осталось неуслышанным. Полковник обозвал оскорбителя срамным словом Dreckskerl, пообещал умертвить собственными руками, после чего немедленно приступил к исполнению кровожадного намерения.
Однако умертвить Луция было не так просто. Покойный родитель еще в мальчишестве обучил его искусству азиятского рукопашного и ногопашного боя, называя эту суровую науку прискорбной, но необходимой спутницей всякого самоуважительного мужа. В свое время это знание очень пригодилось сироте в пансионе для защиты своего достоинства от старших воспитанников. Не раз надобилось оно и в дальнейшем, ибо жизнь груба, а многие люди невнятны к разумному слову.
Кулаки Буркхардта попусту рассекали воздух, не могучи поразить ловко уклоняющегося противника. Не поспособствовал делу и поручик Бозе, растопыривший свои ручищи. Нырнув под локоть полковника и сшибив пинком на пол ординарца, Луций прорвался из кладовки на относительный простор коридора, где улыбающийся фон Кауниц посторонился, не желая препятствовать ретираде «герра профессора».
Но полковник заорал на весь дом, созывая прислугу:
– Эй! Сюда! Держи его! Шпагу мне! Я убью эту свинью!
Легкий, почти невесомый в своем первозданном наряде, Луций кинулся было вверх по лестнице, чтобы достичь своего обиталища и чем-нибудь прикрыть наготу, но весь дом наполнился криком и топотом. Чердак обратился бы ловушкой.
Молодой человек опять бросился вниз – и наткнулся на своих гонителей, только теперь у полковника и поручика в руках блистала сталь, а сзади размахивал саблей еще и хозяйский денщик. На стене обширной комнаты, где Луций столкнулся с враждебной ратью, было развешано много всякого оружия – помещение именовалось Рыцарской Залой. Но Катин-старший был противником душегубства, свято чтил право всяческого существа на неприкосновенность жизни и привил эту веру своему сыну. Фехтовать и рубить Луций не умел, да и не стал бы, даже ради спасения жизни.
Путь был только один – бегство.
Преследуемый звериным рыком и булатным лязгом, молодой человек вихрем пронесся через анфиладу комнат в заднюю часть дома, вылетел в белый, заснеженный сад и, хоть был в одних чулках, не ощутил холода. Сзади нагоняла смерть.
– Хватай его! Бей! – кричала она.
А Луций в сей момент страшился не смерти, но постыдности. Позорно и нелепо сгинуть голозадым Петрушкой в сем низменном балаганном действе. Как мог он, почитатель философии, угодить в столь дурновкусное злоключение!
Натура нашего героя была такова, что и в самом отчаянном положении он не утрачивал способности к рассуждению, иной раз сам на себя удивляясь.
Вот и сейчас, проворно несясь через темный сад, он вспомнил поучения отца. Тот говорил, что злоключения бывают только с людьми злыми, а всякому доброму человеку любое приключение, пусть даже жестокое, должно представать доброключением, ибо оно чему-то поучает и укрепляет душу. Ежели когда-нибудь доведется продолжить свое жизнеописание, надо будет переменить заголовок, подумал Луций.
А еще ему пришло в голову: вот он бежит среди ветвистых дерев, гол и бесприютен, но не в том ли заключается естественное человеческое состояние, вернуться к которому призывает великий Жан-Жак?
Впереди показался забор, огораживавший усадьбу. Луций с разлету вскарабкался на это препятствие, спрыгнул вниз и в растерянности огляделся. В саду еще можно было воображать себя средь природы, но здесь, на улице, меж каменных домов и тротуарных тумб, нагой беглец понял, что пропал. За изгородью, совсем близко, уже шумели преследователи. Куда денешься от них в городе? Что тебя спасет?
Разве чудо…
Глава II
Герой встречается с феей, подвергается соблазнам и побуждается к выбору меж двумя эфирами
Стоило Луцию помыслить о чуде, и оно немедля явилось в самом наглядном образе.
Из-за поворота улицы выкатилась волшебная карета. Она вся была словно озарена сияющим нимбом: покачивающиеся фонари рассыпа́ли блики по золоченым стенкам и широким сверкающим стеклам; шестерка превосходных белых лошадей ладно и звонко цокала копытами по прихваченной ледком мостовой, сбруя и плюмажи переливались разноцветными искрами.
Адепт материалистических учений не усмотрел в появлении великолепной колесницы ничего чудесного, но лишь кстати явившуюся возможность спасения. Поражаться времени и не было – над забором уже возникла свирепая физиономия поручика Бозе.
Луций побежал, готовясь запрыгнуть на запятки, и, когда карета поравнялась с ним, ловко осуществил этот непростой маневр – подскочил, ухватился за поручень и оказался на задней скамеечке, где в теплое время года, верно, восседали запятные лакеи.
Лифляндец с денщиком спустились с забора и потрясали орудиями убийства, но за двадцатью четырьмя лошадиными копытами сим двуногим было не угнаться. Катин расхохотался и показал своим незадачливым гонителям нос: нате, выкусите.
Что будет дальше, молодой человек пока не задумывался. Черной неблагодарностью было бы вопрошать об этом Фортуну, которая только что спасла тебя от гибели.
Разгоряченный бегом Луций еще не чувствовал холодного ветра, а задняя стенка экипажа, к которой он прижимался грудью, оказалась теплой – внутри, должно быть, горела печка.
Задаться вопросом о дальнейших своих акциях Катин так и не успел. События неслись сами собой и престремительно, даже опережая быстрый ход его летучего ума.
Створки на заднем окне раздвинулись, меж ними явилось дамское лицо – немолодое и нестарое, а того интересного возраста, когда по женщине еще можно увидеть, какою она была девочкой, и уже можно угадать грядущую старушку. Незнакомка испуганно воззрилась на атланта, вцепившегося руками в края кареты, и произнесла некое беззвучное слово. Луций растерянно поклонился, причем стукнулся лбом о стекло.
Тогда дама перестала его бояться, подняла раму и высунулась высокой напудренной прической вперед.
– Да он совсем голый, – молвила она. – Ах, сущий Антиной!
Прикрывшись рукой, Луций присел, вконец сконфуженный.
Пассажирка сказала:
– Ты этак всё себе отстудишь, дурашка. Вот ведь комиссия!
Потом чем-то стукнула в потолок и прокричала:
– Эй, Семен, стой! Стой!
Карета замедлила ход.
Луций был ни жив, ни мертв, не зная, оставаться ему или бежать. Дама угадала его сомнение.
– Не бойся, садись в карету.
Он спрыгнул с запяток и поскорее прошмыгнул внутрь. Там в самом деле потрескивала чугунная печка, наверху светилась стеклянная лампа.
– Сядь напротив. Да не сжимайся, я уж всё видела, – засмеялась хозяйка экипажа. – Не думаю, чтоб ты всегда был столь застенчив. На-ко вот.
Она перекинула ему легкую соболью шубку, и Луций наконец вышел из естественного руссоистского состояния, отчасти вернувшись в лоно цивилизации, где, по правде сказать, почувствовал себя много лучше.
Дама с любопытством его рассматривала.
– Кто таков? Не обижайся, сударь, что я адресуюсь на «ты». Странно было бы «выкать» голому, хоть сразу видно человека из общества: золотистый парик по парижской моде, мушка на лбу.
У Луция посередине чела от рождения было маленькое коричневое пятнышко. Такое же, говорил отец, имелось у покойной матушки. Многие принимали родинку за наклеенную мушку, Катин к этому привык.
– Что за авантюра с тобой приключилась? Или ты всегда разгуливаешь по ночному Петербургу в одних чулках?
Луций открыл рот, но тут же закрыл обратно, не зная, что отвечать. Снова раздался смех.
– Незадачно окончившееся амурное происшествие, – безошибочно определила веселая дама. – Кровоточащие раны на ланите… – Надушенным платочком она осторожно провела по расцарапанной щеке Катина. – …Нанесены женскими ногтями. Неужто какая-то дура противилась апрошам такого красавчика? Рассказывай скорей, с кем амурничал и что стряслось, не то высажу на мороз! Я сгораю от любопытства!
Менее всего Луцию хотелось рассердить свою спасительницу и вновь вернуться в природное положение, в холодную тьму, но против чести поступить он не мог.
– Прошу извинить мою неучтивость, вдвойне непростительную после услуги, которую вы мне оказали, и не стану оспаривать вашей проницательности – ваша догадка верна. Но я предпочту замерзнуть под забором, нежели предать оглашению имя той, кто счел меня достойным своей благосклонности.
– Обрел глас. И сколь складно излагает! – Дама глядела на молодого человека с живейшей симпатией. – Не хочешь говорить про свою метрессу – не надо. Ты сам-то кто? Из каких?
– Академический лиценциат Луций Катин.
Эта презентация повергла допросительницу в неудержимый хохот.
– Лиценциат… академический! – насилу выговорила она. – Ах, будет что матушке рассказать!
Эти слова Луция удивили. В почтенном возрасте, к какому принадлежала незнакомка, мало кто сохраняет доверенные отношения с матерью. Сколь похвально дочернее постоянство в немолодые годы!
– А, приехали, – сказала примерная дочь, глянув в окно.
Карета въезжала в ограду некоего дворца, наполовину покрытого строительными лесами. Подступы к стенам были освещены огнями, пылавшими в смоляных бочках. Это же новый палац государыни императрицы, называемый «зимним», понял Катин, вглядевшись.
– Чья карета? – крикнул зычный голос.
– Ослеп? – ответил с облучка кучер.
Скрипнул шлагбаум. Карета покатилась дальше.
– Куда вы меня привезли? – в беспокойстве вскричал молодой человек. – Ведь это резиденция ее величества!
– Я и говорю: будет чем повеселить матушку-государыню. Ты, дружок, покамест тут посиди. За тобою пришлют, коли Лизавета Петровна захочет на тебя полюбоваться.
– Как можно! Я не одет!
Смешливая дама снова фыркнула.
– Одетых кавалеров она во дворце видит много…
Распахнули дверь, спустили лесенку.
Перед тем как выйти, коварная спасительница приказала кому-то:
– Этого запереть. Глядите, чтоб не сбежал.
Через открытую дверь послышалась разухабистая музыка. Во дворце заливались гудошники, стучали ложечники, звенели бубны.
Охваченный паникой лиценциат попытался придать себе сколь можно пристойный вид, но не слишком в том преуспел. Из невеликой шубы соорудил подобие юбки, связав рукава на чреслах. На плечи накинул поднятый с пола коврик. Я похож на лапландского самоеда, уныло сказал себе Луций. И поделом мне. Предстать пред очами всероссийской самодержицы в сем шутовском наряде – справедливая кара за флогистонову распущенность. И вновь, теперь уже твердо, с призванием в свидетели Фатума, дал зарок никогда более не смотреть на женский пол иначе как глазами брата.
Еще некоторое время Катин терзался предстоящим срамом, но никто из дворца за ним не приходил, в печке уютно потрескивал уголь, за окошками густо синела ночь, и на смену тревоге явилось философическое спокойствие. Что будет, то и будет, а трепетать по поводу неотвратимого – глупость, сказал себе наш герой. Потом устроился на сиденье с ногами, немного поворочался и скоро уснул.
* * *
Пробудило его щекотание на кончике носа. Открыв глаза, Луций увидел сначала край страусового веера, затем полную руку, державшую веер, а еще выше белело улыбающееся лицо хозяйки экипажа.
– Ныне матушке недомогается, не до тебя ей. Но много смеялась моему приключению, отчего отошли вапёры и поднялся гумор. Полегчало сердешной. Велела завтра тебя беспременно доставить, но перед тем испытать, какой ты лиценциат.
Луций почувствовал несказанное облегчение. Завтра он явится во дворец не самоедом, а в приличном виде. А что до испытаний, то их академический выпускник не страшился.
– В каких науках вам будет угодно меня экзаменовать – античных иль современных, земных иль небесных?
Для своих лет дама была все же чересчур легкомысленной – на простой и естественный вопрос опять сложилась пополам, замахала на Катина рукой и ничего не ответила. А что, спрашивается, смешного?
Поехали от Зимнего прочь – по набережной, вдоль черной Невы, не сказать чтоб далеко, до Партикулярной верфи. Там тоже была ограда из копий, ажурные врата, а за ними дворец – поменьше царского, но тоже изрядный.
Внутри чертог был еще нарядней, чем снаружи. Во всю свою двадцатитрехлетнюю жизнь Луций не видывал обиталищ роскошнее. Пол здесь был мрамор, стены обиты разноцветными бархатами, повсюду превеликие зеркала в золотых завитушках, да бронзы, да хрустали, да переливчатые порфиры.
А хозяйка волшебного замка являла гостю всё новые чудеса. Провела его галереей, с пола до потолка увешанной живописными полотнами, каждое из которых Луций желал бы рассмотреть; затем мавританской залой, где журчал алебастровый фонтан; далее – пышноцветной оранжереей.
– Пока тебе приготовят покой, отогрейся в ванной, – сказала добрая фея.
С этими словами она ввела его в обширную комнату, украшенную на манер турецкого сераля, и наш герой собственными глазами увидел инженерное чудо, о котором прежде только читал в книгах: механизм изливал из одного медного рога горячую воду, а из другого холодную. Смешиваясь, они быстро заполняли фарфоровый резервуар в виде огромной кувшинки.
– Как устроен сей канализатор? – спросил Катин, трогая витые краны. – В подвале, верно, расположен нагреватель? И конечно же, насос?
– Понятия о том не имею, – ответствовала владелица чуда, бросая в ванну какие-то зерна, моментально превращавшиеся в мыльную пену. – Залезай скорее. Жаль, если такой марципан заболеет простудной лихорадкой.
Едва она вышла, Луций с наслаждением опустился в теплую, ароматную купель. Средь мыльных кружев он чувствовал себя парящим на высоконебесных облаках. Сколь неравномерна и причудлива экзистенция, думал лиценциат, блаженно смежив веки. Она то выкидывает человека нагого в хладную пустыню, то, сменив гнев на милость, нежит ласканиями, однако истинный философ не устрашится аскез и не прельстится сибаритствами.
– Согрелся? – услышал он знакомый голос.
Сверху с улыбкой на него взирала та, которой он был обязан своим блаженством. Дама успела переоблачиться в златоалый китайский халат и снять накладную куафюру. Ее собственные русые волосы были покрыты шелковой сеткой.
– Позвольте, сударыня, узнать имя той, кто заботится обо мне приязненней родной матери? – спросил Катин.
Лицо дамы впервые омрачилось сердитой гримасой.
– Да ты дерзец! Какой еще матери? Ну-ка, сдвинься!
Халат с шелестом соскользнул на пол, и хозяйка предстала перед обомлевшим молодым человеком в совершенной натуральности. Перенеся полную, румяную ногу через край ванны, фея с плеском погрузилась в воду.
– Зови меня пока Маврой Егоровной, а я тебя нареку Королевичем. Вот и корона.
С этими словами она водрузила ему на макушку большой ком пены, потом притянула к себе Луция и стала целовать.
– Можешь называть меня Маврушей, – позволила она много позже, уже в опочивальне, средь растерзанных перин. – Испытание ты выдержал славно. Не лиценциат ты, а действительный академик. Будет о чем поведать матушке. Она до таких рассказов охоча.
Опершись на локоть, фея с умилением погладила сонного Луция по голове.
– Истинно говорят: наилучшие из красавцев те, кто не ведает о своей красе иль не удостаивает ее внимания. – Вздохнула. – Ладно, ступай, тебя проводят. На нынче с меня хватит. Я уж не такая сластена, как прежде. А спать я люблю одна.
Будучи ведом молчаливым, важным лакеем по коридорному лабиринту, Луций укорялся тем, что так быстро нарушил обет относиться к женщинам только как к сестрам. С другой стороны, для сестры Мавра Егоровна («Маврушей» он не посмел назвать ее даже мысленно) старовата. А и какой был выбор? Еще древний мудрец сказал: «Нет хуже греха, чем оскорбить того, кто сделал тебе благо». Льзя ль было обидеть добросердечную хозяйку отвержением ее перезрелых ласк? Он заслужил бы тем имя чернейшего из неблагодарных.
Мысль была утешительная, усталое тело требовало отдыха. Наш герой рухнул на подушки, рассудив, что додумает обо всем этом завтра. Утро вечера мудренее.
* * *
И утро настало прямо в следующее мгновение. Только что он задул свечу, лег, сомкнул ресницы, как тут же раскрыл их – а уже светло и даже не рано. Каминные часы показывали ровно десять. Должно быть, их тренькание и пробудило Луция.
Он сел на мягкой постели, осмотрел хорошенькую, как шкатулку, комнату и увидел, что на кресле разложена будто сама собой явившаяся одежда – что-то персиковое с позолотой.
Потом молодой человек умывался в примыкающем туалетном кабинете, где кроме самольющейся воды обнаружился еще и настоящий вассерклозет. Луций исследовал его устройство с великим интересом, восхищаясь хитроумной инженерией.
Вышел – на столике чашка с дымящимся шоколадом. Выпил, оделся, погляделся в зеркало – и остался собою недоволен. Из веницейской рамы на него пялился расфуфыренный хлыщ в золотистой жилеточке и кокетливом камзоле с перламутровыми пуговками.
Как низко я пал, горестно сказал себе Луций. Ряженая кукла в кукольном домике! Куртизан! Игрушка для разврата!
Самоугрызение – горькая услада всякого взыскательного ума, но Катин не успел как следует ею напитаться. В дверь сунулась напудренная голова лакея, и молодому человеку было объявлено, что ее сиятельство велит пожаловать.
Стало быть, Мавра Егоровна – сиятельство, думал Луций, следуя за провожатым. Что ж, неудивительно, если бы и светлость.
Хозяйку он нашел в будуаре, своею обширностью подобном танцевальной зале. Мавра Егоровна сидела за столом, с пером в руке и почему-то в бархатном домино на лице.
– Прости, милаша, за сие, – молвила она, коснувшись маски. Тон ее был деловит. – Утренняя Аврора в мои годы нельстива. Покажусь тебе после, когда со мною управится мой француз. Пока ж хочу устроить твою судьбу. Не лиценциатом же тебе оставаться. Думаю вот, какому полковнику отписать. Ты в котором регименте желаешь состоять – кавалерийском иль пехотном? Не хочешь – ступай во флот, как мой младшенький. Ему семнадцать, а уже лейтенант. Что мундир-то у них хорош, прелесть!
– Я не расположен к войне и военным занятиям, – ответствовал Луций.
– На войну тебя никто и не пустит. Пускай дураки и некрасивые воюют. Но у нас в России без службы нельзя, иначе кто ты такой? Определить, что ли, тебя в конногвардейцы?
– Я на коне неважно езжу.
В дверь деликатно постучали.
– К вашему сиятельству Степан Федорович Фермор.
Добрая фея воздела перст.
– О! Судьба сама дает подсказку. Се командир Семеновского полка. Мундир у семеновцев тоже недурен, в самый раз к твоим лазоревым глазкам. – И велела слуге: – Веди генерала в малую гостиную. Скажи, скоро буду. А ты, Королевич, подожди здесь.
Взволнованный, Катин принялся расхаживать по комнате, ругая себя за малохарактерность. Надобно было решительно объявить, что военного мундира он никогда и ни за что не наденет! Ведь взявший в руки оружие отвергает самое принцип человеколюбивости!
Догадываясь, что Мавра Егоровна подобных сентенций выслушивать не станет, он решил изложить их в записке, ибо написанное слово весомее изреченного. Оставить декларацию на столе – и удалиться. Это будет поступок не куклы, не игрушки, но достойного мужа с твердыми убежденьями.
На столе рядом с чернильницей лежало письмо, адресованное «Ее светлости графине Мавре Егоровне Хавронской».
Ах, вот это кто!
Луцию стало понятно, почему хозяйка дворца запросто ездит к государыне и может распоряжаться гвардейскими полковниками. Всему Санкт-Петербургу известно, что российской державой управляют женщины, входящие в ближний круг ее величества. Наисильнейшая из них, наиближайшая к державной особе – царская кузина Хавронская. Ни одно значительное назначение, ни одна перестановка в верхах не свершается без ее участия. То-то к ней сам начальник лейб-гвардии Семеновского полка генерал-аншеф Фермор с утра ездит и дожидается, пока примут.
Может, так тому и следует быть – чтобы миром правили женщины, а мужчины послушно исполняли их волю? Известно, что материнское сердце великодушнее и себяотверженнее отцовского и что женщине естественнее являть на свет человеков, нежели отправлять их в тьму. Взять хоть правление кроткой государыни Елисаветы и ее пусть легкомысленных, но не злотворных подруг. Россия – единственная страна мира, где не существует освященного законом смертоубийства, называемого смертной казнью. И еще: сколько лет русские уже ни с кем не воюют, когда европейцы беспрестанно бьются между собою. Ведь и нынешняя война, в которую Россия вступила единственно из союзнической верности, то есть по призыву чести, является войной разве что по названию. Дерутся пруссаки, австрийцы, британцы, французы, саксонцы, а мы лишь шлём королю Фридриху укоризненные манифесты и даже вон ведем миролюбивые беседы с его адъютантом.
Да хоть бы вспомнить и гисторию человеческого рода! Ученые авторы пишут, что матриархальная эпоха длилась много протяженнее патриархальной, а если о том не сохранилось упоминаний в анналах, то лишь потому, что в те времена ничего не происходило, сиречь никто никого не завоевывал, не строил пышных градов, не плавал за моря, не делал новоизобретений. И кому от того было хуже? Не являлся ли матриархат тем самым мирным, златым веком, о котором ныне вздыхают философы и мечтатели? И нужен ли людскому роду так называемый прогресс, если платить за него надобно кровью, муками и горем?
Эта идея, противоречившая всем привычным убеждениям адепта Просвещения, настолько потрясла Луция, что он позабыл о Мавре Егоровне и ее чиновном госте, ныне обсуждавших будущность лиценциата. Споря сам с собою – что лучше: прогресс или гармония – он перемещался мыслями то в дальнее прошлое, то в дальнее будущее и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда большие напольные часы вдруг начали бить полдень.
Почти в ту самую секунду, словно по сговору с хронометром, в кабинет вошла Хавронская. Она была без маски, сильно посвежевшая и помолодевшая.
– Все устроено, – объявила графиня. – Степан Федорович нынче же запишет тебя гвардии прапорщиком. Пока шьется мундир и собирается прочая экипировка, станешь подпоручиком, к рождеству получишь поручика, а дальше уж как себя покажешь на службе.
– Как я могу себя показать на службе, ежели не имею понятия о фрунте и воинских упражнениях? – пробормотал Луций, сообразив, что за гисторическими рассуждениями так и не написал своей декларации.
– Не на той службе, дурачок. На настоящей. – Мавра Егоровна поманила его пальцем. – Я вот красу восстановила, кофею попила и снова жива. Пойдем-ка в опочивальню. Порадуешь рабу божью.
Так вот в чем суть матриархата, открылось Катину. Когда не мы их, а они нас. Однако недостойной цивилизованного человека мысли наш герой устыдился и пошел на зов благодетельницы. Как было не пойти?
– Ну вот что, – объявила графиня, вволю нарадовавшись. – Передумала я. Не повезу тебя к матушке. Грех мне, скареднице, но не отдам тебя ей. Себе оставлю. Сейчас мне ехать во дворец, так я скажу, что лиценциат оказался пригож, да не гож. Авось позабудет про тебя, память у нее недлинная. А еще я подумала – прав ты. Незачем тебе вступать в гвардию. Будешь во дворце караул нести – обязательно попадешься ей на глаза. Она таких статных, сладких всегда отмечает… Ты говорил, что не расположен к военным занятиям?
– Совсем не расположен! – воскликнул Луций, потирая распухшие от поцелуев губы.
– И славно. Определю тебя по статской линии. В ту же Иностранную коллегию, где служил твой отец, да не толмачом, а на хорошую должность.
В первый миг Катин поразился, откуда она знает про отца, но сообразил: это же графиня Хавронская – приказала, и всё ей вызнали. Поди, и про учительство у Буркхардтов знает. Возможно, и про вчерашнюю битву – шуму ведь было на весь квартал.
Мавра Егоровна глядела на юного аманта с нежностью.
– Никому тебя не отдам. Растревожил ты во мне что-то. Не только плоть, но и душу. Полюбила я тебя, Королевич. Уж и не думала, что смогу, а надо же. На немолодости лет сделал ты меня счастливою. Хочу отплатить тебе тем же. Скажи только, о чем мечтаешь. Я мало чего не сумею. Да не сразу отвечай, подумай. Вернусь из Зимнего – скажешь.
Истинно: волшебная фея, исполняющая любое желание, подумал Луций.
Оставшись один, он стал размышлять, чего же ему пожелать?
Быть фаворитом у фаворитки? Завидная доля. Еще лучшая, чем быть любовником самой императрицы. Тот на виду у всех, окруженный завистью и тайной враждой, вечно устрашаемый иными соискателями, которые могут и подсыпать отравы. Миньону графини Хавронской куда покойнее. Мало кто про тебя знает, а выгоды, считай, те же.
Чего ж захотеть?
Карьеры и чинов не надобно. Несметных богатств тоже. Утопать в роскошах? К чему? Зачем это умному человеку? Денег нужно столько, чтобы обрести от них свободу, не более.
Иметь небольшой, но славно устроенный дом – средь сада, с хорошей библиотекой. Читать мудрое, привольно размышлять об интересном, а после написать книгу, которой еще не бывало. Это ль не счастье? И нет ничего зазорного в том, что оно оплачивается некоей благотворительницей. Разве не так же проживает великий Жан-Жак, иждивенствуя за счет мадам Д’Эпинэ? Правда, эта просвещенная дама чтит философа не за постельные таланты, а за мудрость. Что ж, Мавра Егоровна уже полюбила душу своего протеже. Дайте срок – полюбит и его ум. Она будет первой читательницей грядущих небывалых книг!
Но безжалостный Рационий охолодил прельстительные мечты. «Не рано ль на двадцать четвертом году, еще толком не повидавши жизни и мира, обращаться в отшельные философы? – строго вопросил сей трезвый собеседник. – Какие такие книги собираешься ты писать? О чем? О том, что вычитаешь в других книгах? Что ж тогда в твоих писаниях будет небывалого?».
И вечером, когда графиня вернулась из дворца, Луций заявил ей:
– Вы желали знать, какова моя мечта. Извольте. Отвечаю прямодушно, ибо не желаю оскорблять вас притворством. Хоть меня и влекут чары Флогистона, аромат коего вы столь приятно источаете, я желаю посвятить себя иному эфиру, Рационию.
– Говори яснее, – нахмурила лоб Мавра Егоровна. – Без аллегорий.
– Есть мечта, осуществления которой я и не чаял по скудости средств. Я почитал бы высшим счастьем изучать механику небесных сфер в прославленном Тюбингене, где обретаются лучшие на свете астрономы. Я выискивал бы новые звезды через могучий телескоп и составлял из них таблицы! Я высчитывал бы траекторию и ход светил! Я парил бы мыслями в бескрайнем космосе, пытаясь разгадать его тайну и смысл! О, я был бы счастливейшим из людей…
Он вдруг осекся, увидев, что глаза его слушательницы наполняются слезами. Лицо Мавры Егоровны, обычно веселое и уверенное, сейчас выглядело потерянным, несчастным.
– Я расстроил вас? – пролепетал Катин. – Поверьте, я не желал этого, я всего лишь…
Она ладонью прикрыла ему рот, горько повздыхала и молвила:
– …Что ж, пусть лучше завершится так, чем иначе. Я ведь не дура, я знаю, чем оно закончится. Однажды я застигла бы тебя в объятьях какой-нибудь юной сильфиды, потому что природа есть природа. Я озлилась бы, сотворила тебе лихо, а после убивалась бы… Нет, королевич. Лиха тебе я не желаю…
И заплакала так горько, не по-взрослому, а по-девичьи, что у Луция разорвалось сердце.
– Нет, нет! Это всего лишь мечта! Я останусь с вами! – воскликнул он и тоже заплакал.
Так вместе лили они слезы, и Мавра Егоровна вытирала их платком поочередно то себе, то своему возлюбленному.
Наплакавшись же, она погладила его по щеке. Грустно прошептала:
– Отпускаю тебя. Лети к своим звездам. Будь счастлив, королевич.
Глава III
Плавание героя по морским водам, сопровождаемое мирными беседами и глубокими размышлениями, оканчивается нежданным образом
В Кронштадте будущий звездочет сел на нейтральный шведский корабль, который должен был доставить его до вольного города Гамбурга, не заходя во враждебные прусские порты. Оттуда Катин намеревался сушей добраться до Тюбингенского университета, прославленного именем великого Кеплера, автора «Космографической мистерии».
На прощанье путешественник был благословлен, усыпан поцелуями и облит слезами, а также экипирован всем необходимым и даже излишним. Кроме сундуков, баулов и восьми коробок с шляпами на все оказии, ему был вручен сафьяновый ларец, доверху наполненный золотыми червонцами.
Корабль «Сундсвалль», будучи судном торговым, не имел пассажирских помещений, но капитан согласился разделить со знатным вояжиром собственную каюту.
Сначала херр Лунд немного дичился русского богача, ожидая от него варварских непотребств, однако учтивые манеры нашего героя скоро одолели это предубеждение. Когда же шкипер узнал, что молодой человек говорит по-шведски, да еще и наполовину швед, у сожителей установились самые приязненные отношения.
Днем Луций разгуливал по палубе, с наслаждением вдыхая холодный морской ветер. Корабль он скоро изучил от трюма до верхушек мачт, по очереди вскарабкавшись на все три, и с позволения капитана даже выпалил из кормовой пушки.
Оказалось, что морем можно любоваться бесконечно. Вид безустанно вздымающихся волн был полон неизъяснимой приятности, а от качки Луций совершенно не страдал – наоборот, с наслаждением вздымался и опускался, будто в детстве на качелях. Капитан сказал, что у херра Катина моряцкая природа.
Луцию самому было жаль, что он не родился в семье моряка или хоть скромного рыбака, сызмальства приученного к текучей стихии. Суша тверда, недвижна, несвободна, разделена границами и шлагбаумами. Море безгранично и привольно. Отделившийся от берега челн способен уплыть куда угодно. Парус повлечет его вперед, не требуя овса иль сена. Питаться в море можно рыбой, а пить дождевую воду (балтийское небо изливало ее на треуголку и плащ Луция в изобилии). Он предавался мечтам о плавании по всему свету, с добрыми спутниками, а хоть бы и в одиночестве, наедине с величавой стихией.
По вечерам, сидя у заваленного лоциями и уставленного простой, но обильной снедью стола, под низким потолком, где раскачивался медный фонарь, кормщик «Сундсвалля» и его русский спутник вели неспешные беседы о всякой всячине: о европейской политике, о морской торговле, о Швеции, о России.
Мудрый капитан говорил, что его стране очень повезло, когда она проиграла войну царю Петру и перестала быть великой державой. Великие державы тратят все силы и деньги не на то, что внутри страны, а на то, что снаружи: желают подобрать под себя окрестные земли. Швеции, слава Господу, это больше не нужно. Пускай победители-русские теперь надсаживаются, содержа огромную армию и флот. Конечно, и среди шведов дураков еще хватает. Многие скучают по былому величию – это как зуд в отсеченной руке. Она хотела бы схватиться за саблю, да нечем.
…Плыли мирно, без опаски. До Гамбурга бояться некого, говорил шкипер. Но груженная сапожной кожей шхуна плыла дальше, до французского Гавра, а за датскими проливами шныряли английские корабли. Британцы не посмотрят на нейтральный флаг. Коли заподозрят, что товар предназначен для французов, – всё конфискуют, а шхуну заберут. Луций сочувствовал, но его эта напасть не касалась. Он ведь сходил раньше.
Ветер все время был норд-ост, попутный, и с четвертого дня пути берег, от которого корабль никогда не отдалялся более полутора миль, стал чужестранным – сначала курляндским, потом прусским. Катин с интересом разглядывал заграницу, но на таком расстоянии она ничем не отличалась от отечества – блеклая линия песков с зелеными полосами леса и серыми пятнами селений.
Однажды, когда молодой человек стоял на шканцах, счастливый позволением держать штурвал, капитан показал:
– Видите разрыв в песчаной косе? Это проход в залив, где расположен Кенигсберг. Если б не война, можно было бы сделать остановку. Однако прусские таможенники узнают, что мы заходили в русский порт, и начнется канитель.
Тут из пролива, на который он только что показал, выплыл юркий двухмачтовый корабль и косо пошел под бейдевиндом.
– Капитан, он срезает нам нос, – сказал вахтенный начальник.
– Пускай его, – беспечно молвил херр Лунд. – Пруссаки хорошие солдаты, но паршивые моряки. Шведа им не переманеврировать.
И попросил Луция:
– Пустите-ка вахтенного к рулю, друг мой. Поворот через фордевинд!
Корабль заскрипел, накренился.
Изменил курс и чужой корабль. Он быстро приближался.
– Черт, для немца больно ловок, – пробормотал капитан теперь уже озабоченно, не отрываясь от трубы… – Ничего, это всего только бригантина о восьми пушек. У меня тринадцать. Сунется – отгоним. Досмотра я не допущу. Они заберут не только товар, но и вас, мой друг, как подданного враждебной державы.
Луций, до сего момента наблюдавший за происходящим с живым, но праздным любопытством, взволновался. Оказаться вместо университетской обсерватории в прусском плену ему вовсе не хотелось.
Получасом позднее преследователь почти сравнялся со шхуной, идя параллельно в трех или четырех кабельтовых.
На «Сундсвалле» открыли порты, предостерегающе высунули стволы пушек. При всей нелюбви к Марсовым воинственностям и оружию Луций отнесся к этой демонстрации, означавшей «Не суйтесь к нам!», с полным одобрением.
Капитан нервно двигал желваками.
– Пруссаки никогда не трогают шведов! Их король боится, что мы вступим в войну на стороне Франции. Какого черта бригантине от нас надо?
Ответ последовал в следующий же миг.
Борт чужого корабля окутался дымом, донесся гул выстрела, и прямо под бушпритом шведа высоко всплеснулась вода. Одновременно на корме бригантины развернулся флаг: белый с красным крестом и с темным квадратом в верхнем углу.
– Английский приватир! – ахнул капитан. – Что он делает в восточной Балтике?
Вахтенный спросил:
– Открываем ответный огонь?
– С ума ты сошел! Это же англичанин! Он продырявит нас, как утку! Видал, как точно они положили первое же ядро! Спускать паруса!
Отдав это немужественное приказание, шкипер ринулся с мостика прочь.
– Куда вы? – крикнул Луций.
– Порву и выброшу накладные ассигнации для французского товара. Англичане наверняка устроят обыск… Ничего, бог милостив. По крайней мере вам, мой друг, опасаться нечего. Англия с Россией не воюет.
Шхуна сбавила ход, встала. Английский приватир, сиречь судно, снаряженное частными лицами по королевскому патенту для морской войны, покачивалось напротив, угрожающе наставив на купца четыре пушечных дула. С удивительной быстротой и слаженностью на воду опустилась шлюпка, в нее слетели по канатам вооруженные люди.
Настоящие англичане, думал Катин, уже не боясь, что его ссадят на берег. Молодой человек был даже рад возможности посмотреть вблизи на соотечественников великого Гоббса и премудрого Локка, сынов Вольной Хартии, граждан страны, где простолюдины пред законом равны вельможам и могут избирать своих представителей в парламент. Блаженно общество свободных людей! Они служат собственной державе не из страха и не из-под палки. Взять хоть этих моряков. Люди невоенные, приватные, они добровольно отправились защищать свое островное отечество в грозную годину. Не похвально ли?
Свободных граждан в шлюпке было десятка полтора. Впереди стоял, подымливал трубкой некто массивный, багроволицый – очевидно, предводитель. Гребцы, дружно вздымавшие весла, были обвешаны самым разнообразным оружием.
– Лучше б это был военный корабль, – мрачно сказал вернувшийся капитан. Он опоясался белым шарфом, нацепил шляпу с позументом.
– Почему? Разве мирные обыватели, каковыми являются эти люди, не мягкосердечнее военных?
Лунд вздохнул.
– Нет хуже хищника, чем обыватель, почуявший безнаказанную поживу. Эй, спустите им трап!
Скоро на палубу один за другим полезли англичане. Луций глядел на них с жадным любопытством, пытаясь угадать, кто эти люди в обычной жизни. Торговые моряки? Рыбаки? По тому, как неловко висели на них абордажные сабли, мушкетоны и пистолеты, было видно, что они не слишком привычны к оружию.
Мордатый начальник крикнул что-то зычное на своем неблагозвучном наречии.
– Велит всем быть около своих вещей и ждать, – перевел капитан, учтиво приподнял шляпу и тоже заговорил на английском. Луций пожалел, что не удосужился выучить этот малоупотребительный и, говорят, несложный язык.
Не ответив на поклон, британский капитан вертел короткой шеей и раздувал ноздри, будто принюхивался. Что-то буркнул. Херр Лунд повел его в свою каюту. Следом направился и Луций – велено же было находиться подле своих вещей.
Но в каюту молодого человека не допустили. Часовой грубо остановил его, наставив дуло. Луций попытался объясниться по-немецки, но англичанин не понял. Тогда наш герой сказал по-французски, что квартирует в этом помещении.
Тут дозорный оживился. Сначала спросил непонятное:
– Ар ю а френчи?
Потом прибавил:
– Франсе?
– Нет, я русский. Санкт-Петербург.
Англичанин отвернулся, махнул рукой: стой.
Из-за двери неслись голоса: один требовательный, второй жалобный.
Потом оба капитана вышли.
– Требует отвести в трюм, – кисло шепнул херр Лунд. – Я должен доказать, что груз не для французов. Иначе конфискуют.
Луций был неприятно удивлен.
А как же право? Разве не гласит великий принцип британского правосудия, что доказательство виновности – забота обвинителя? Надо будет напомнить об этом английскому начальнику, когда он вернется.
В каюту вместе с ним вошли трое приватиров – тот, что давеча наставлял ружье, и с ним еще двое. Готовый к досмотру Катин держал в руке российский пашпорт с сургучной печатью, но вошедшие на документ не взглянули, а сразу начали рыться в сундуках. Откинув кожаную крышку ларца с червонцами, один радостно улюлюкнул. Остальные кинулись к нему. Зазвенело золото.
– Это мои деньги, – сказал Луций по-немецки. – Попробуйте только запустить в них лапы – пожалуюсь вашему капитану.
Для понятности он погрозил гражданам свободного общества пальцем.
Те о чем-то заспорили меж собой, но быстро пришли к соглашению. Двое вдруг подхватили пассажира под мышки, приподняли и куда-то понесли спиною вперед. Третий шел сзади, наставив на Луция мушкетон.
Хоть наш герой протестовал на всех известных ему языках, включая античные, его семенящим шагом проволокли по пустой палубе, приподняли – и прямо в лоб молодому человеку ударил окованный железом приклад.
Свет померк в глазах Катина. Он не почувствовал, как его переваливают через борт и скидывают в море.
Текучая, привольная стихия, слиться с коей недавно мечтал Луций, восприяла его в свои хладные объятья и повлекла вниз, в пучину.
Глава IV
Герой любуется Европой, пьет пиво за чужой счет, после чего сей счет оплачивает
Обжигающий холод Катина и спас. Сознание, сокрывшееся было от недружественной действительности, встрепенулось и пробудилось. Прежде всего раскрылись глаза. В первый миг тонущий не понял, почему всё вокруг мутно-зеленое, разинул рот крикнуть – и глотнул соленой горечи. Лишь тогда Луций сообразил, что находится под водой, задвигал конечностями и успел достичь поверхности раньше, чем задохнулся.
Верхний мир не обрадовался возвращению утопленника. Вынырнув, Катин увидел над собою борт шхуны, а над бортом сосредоточенные физиономии своих погубителей. Один из них немедленно приложился к мушкетону, готовый довершить злодейство, и Луций, судорожно глотнув воздуха, поскорее погрузился в менее опасные пределы Нептунова царства. Под водой он перевернулся и постарался отплыть как можно дальше от гибельного корабля.
Случившееся злосчастье, по-видимому, имело самое простое объяснение. Увидев золото, которое нельзя было конфисковать у подданного нейтральной державы, послушные международным законам британцы поступили просто: решили сократить земное бытие владельца сих богатств и сделаться его наследниками, а от своего капитана добычу утаить. Прав херр Лунд: привычки цивилизованности очень непрочны, и самые добропорядочные члены общества легко превращаются в негодяев, если их алчность получает лицензию на грабеж от предержащей власти. Сентенция была такая длинная, что, мысленно проговаривая ее, Луций едва не задохнулся.
А положение, в котором оказался наш герой, не располагало к философствованию. Холодной воды он не боялся. Батюшка с детства закалял его купанием в проруби. Не страшился Катин и потопнуть – в виду берега тонут разве что со страху. Однако чтобы не закоченели и не свелись судорогой члены, надлежало полностью сосредоточиться на движении. Это пловец и сделал, начав считать гребки.
До суши было не столь уж далеко – пожалуй, с три Невы. На двухсотом взмахе руки Луций перестал чувствовать холод, после тысячного позволил себе немного отдохнуть, перевернувшись на спину, а перед двухтысячным уже нащупал под ногами твердь.
Он больше замерз, пока брел нескончаемым балтийским мелководьем до песчаного берега, где колыхали своими зелеными шапками сосны и горели в ряд костры – непонятно для какой надобы. Людей в окрестной видимости не было.
Ступив наконец на сушу, Катин увидел, что на каждом костре установлен большой котел, и по клубящемуся пару догадался: это солеварня. Судьба, едва не погубившая путешественника в холодном море, сжалилась над ним. Потому, не обижаясь на первое, Луций поблагодарил Фатум за второе и скоро уже грелся подле благословенного жара. Его одежда и башмаки сушились близ огня.
Видно, мне не написано на роду владеть златом, беспечально думал молодой человек. Пожалуй, это и к лучшему, ибо богатство досталось не вполне непостыдным образом. Червонцы пропали, однако на камзоле златые пуговицы, а в жилетном кармане часы, пускай испорченные водой, но тоже золотые. Главное – цела голова, хоть и украшена шишкой. Руки-ноги никуда не делись. Европа – вот она. Как-нибудь всё устроится.
Ободренный этой максимой, которая при кажущейся своей неумности является одной из мудрейших на свете, Луций оделся и обулся, не дожидаясь, чтобы платье и башмаки высохли до конца. Ему не терпелось скорее увидеть Европу.
Волосы он расчесал пальцами, перевязал сзади цепочкой от часов и обратился вполне приличным господином, каковой не должен был ни у кого вызывать подозрений. В своем немецком языке Катин был уверен. Конечно, туземцы услышат, что он говорит не чисто, но русского в нем не заподозрят. Откуда тут, в Пруссии, взяться российскому обитателю? Опять же немцы разделены на полсотни стран, и всякая изъясняется на свой манер. Можно назваться швабом иль, еще лучше, швейцаром.
Без колебаний он направился к видневшемуся вдали соляному амбару и нашел там солеваров, которые хоть и удивились невесть откуда взявшемуся кавалеру, но показали, в какой стороне расположен Кенигсберг. До города было двадцать миль. За одну пуговицу с камзола Луция согласились нынче же туда доставить, невзирая на близящиеся сумерки.
В повозке с сеном, под овечьей шкурой, путешественник отлично выспался, и утром был у ворот родовой вотчины прусских королей. Грядущие приключения его нисколько не страшили, а лишь пробуждали радостное волнение. Если б не война, Катин охотно задержался бы в этом прославленном городе, наполненном учеными людьми и книжными лавками, а также содержащем знаменитую Публичную библиотеку, в которой – о благая Европа! – всякий волен бесплатно сидеть хоть целый день, читая любую книгу.
Полюбовавшись видом реки Прегель, где у пристаней в ряд стояли купеческие парусники, молодой человек вышел на пышную Кнейпхофскую улицу, по-петербургски прямую и обстроенную добротными домами – те, уже совсем не по-петербургски, прижимались друг к дружке своими каменными этажами. Диковинными показались Луцию и темные, щелеобразные переулки, где вряд ли разошлись бы, встретившись, две полнотелые русские дамы – скажем, Анна Леокадьевна с Маврой Егоровной. Воспоминание о первой вызвало у нашего героя кислую гримасу, о второй – растроганную улыбку, но оба эти мимических движения были кратки, и мысль устремилась дальше.
Луция занимало всё. Присев на корточки, он щупал мостовую и тротуары, дивясь аккуратности масонской работы. В истинный восторг привели его общественные колодези. Они были почти на каждом перекрестке, построенные в виде башенок и снабженные насосами, так что качать воду легко могла даже ослабленная летами старушка.
У нас в Петербурге всё делается напоказ, чтобы поражать приезжего, а изнутри, куда не достигает чужой глаз, неустройство и грязь, думал Катин. Здесь же люди существуют для себя, помышляя о собственном удобстве. Вот чем русская жизнь разнится от европейской. Эта рефлексия пришла ему в голову, когда, заглянув в глухой дворик, он увидел там не помойку, а прелестный крошечный садик, созерцать который могли только тамошние немногочисленные обитатели. Цивилизация должна двигаться не так, как задумал Петр Великий – сверху вниз, от государства к народу, а противоположным образом – снизу вверх. От опрятности тела и духа каждого гражданина к опрятности и пристойности его жилища, двора, улицы, города, страны. Сия теория показалась Луцию такой глубокой, что он сам себе восхитился.
Прогулка по Кенигсбергу продолжалась до тех пор, пока требовательный зов желудка не побудил Луция прервать просветительную экскурсию.
На оживленной Альштатской площади, наполненной самыми разнообразными лавками, Катин продал свои часы, обменял нарядный, но не практичный камзол на удобный в дороге шерстяной плащ, шелковую рубаху – на две простые полотняные, серебряные пряжки с башмаков – на смену белья и кожаную треугольную шляпу, да еще остался с 35 талерами прибытка. Этих денег должно было хватить на то, чтобы пешком наискось пересечь Германию и добраться до заветного Тюбингена. К бережливости нашему герою было не привыкать.
Ночевать на сеновале, питаться хлебом и полезным для здоровья луком, пить воду из ручьев, согреваться у костра средь лесных кущ. Когда выпадет снег – проситься на ночлег к добрым поселянам, а буде они окажутся не очень добрыми, можно заплатить несколько грошей за кров и скромное пропитание.
Он решил не тратить более времени на исследование Кенигсберга. Впереди было много других европейских городов, не менее прославленных. Нетерпение подгоняло быстрее отправляться в путь.
Но перед дальней дорогой Луций решил напоследок побаловать себя трапезой в каком-нибудь трактире. Заведение он выбрал скромное, а пищу потребовал самую простую: яичницу с колбасой да кувшин воды – и оказался единственным, кто употреблял здесь сию смесь водорода с кислородом. Все прочие пили более крепкие напитки.
Слева потягивал пиво румяный господин с глиняной трубочкой в улыбчивых устах, при виде нового соседа приветливо коснувшийся края треугольной шляпы. Справа сутулился над графином шнапса некто мрачный, небритый, в зеленом засаленном кафтане. Этот обшарил Катина волчьим взглядом, на учтивый поклон не ответил. Что ж, стало быть, и меж немцев встречаются невежи, подумал молодой человек. Мысль была патриотическая и потому приятная, а то после прогулки по чудесному городу путешественник, сравнивая Европу с отчизной, совсем было опечалился за сию последнюю.
Напротив локоть к локтю сидели четверо солдат в синих мундирах. У каждого в руке кружка пива, которое они отпивали бережливо, маленькими глотками. Лица тощие, хмурые. Луцию припомнились слова господина фон Кауница о лучшей во всем свете прусской армии, служить в которой великое счастье. По этим воякам, однако ж, было непохоже, что они счастливы.
От открытого очага, где на вертелах жарились сосиски и каплуны, в помещении было дымно и тепло. Катин снял свой шерстяной плащ, остался в жилете.
– Что же вы, такой статный молодец, а пьете воду? – спросил улыбчивый сосед, являя охоту к разговору.
– Из экономии, – ответил Луций, тоже улыбнувшись. Он был не против приятной застольной беседы.
– Похвальная умеренность в вашем возрасте. По речи в вас слышен чужестранец. Из каких вы мест?
– Я швед, – отвечал Катин, солгав только наполовину. Он уже решил, что во время путешествия через Пруссию будет аттестоваться этой безобидной нацией.
– Неужто в Кенигсберге нет никого, кто угостил бы вас пивом?
– Я ни с кем здесь не знаком.
Господин приподнялся.
– Не позволите ли к вам подсесть? Не люблю пить в одиночестве.
Переместившись, он представился Михаэлем Райзнером, зубным лекарем.
– А я Луциус Катинсен.
– Улыбнитесь пошире, – весело попросил приветливый немец. – Я всю жизнь гляжу людям в рот и научился читать характеры по зубам.
Луций засмеялся, сочтя эти слова за шутку.
– Превосходные зубы! – восхитился господин Райзнер. – Вы совершенно здоровы, бодры и проживете долгую жизнь. По какому делу вы в Кенигсберге?
– Проездом. Я следую в герцогство Вюртембергское, в тамошний Тюбингенский университет.
– И путешествуете в одиночестве? Как это, должно быть, грустно! – огорчился за молодого человека сердобольный лекарь. – Мне желалось бы оставить у вас добрую память о кенигсбергском гостеприимстве. Эй, трактирщик, пива моему шведскому другу!
Хоть Катин и отказывался, но щедрый кенигсбержец настоял на своем.
Перед Луцием поставили увенчанную пеной кружку.
Смущенный и тронутый, он поглядел вокруг и вдруг заметил, что неприятный сосед слева, тот, что в зеленом кафтане, чуть покачивает головой – черт знает в каком значении. Должно быть, в ответ каким-то собственным мыслям, таким же кислым, как он сам.
– Выпьете за здоровье нашего короля Фридриха? – предложил Райзнер.
Отказываться было бы неразумно. Катин кивнул.
– Все вниманье! – провозгласил лекарь, вставая и воздевая свою кружку. – Сей славный юноша пьет за здоровье его величества – и за мой, Михаэля Райзнера, счет!
Верно, у них тут такой обычай, подумалось Луцию. Он тоже поднялся, поклонился глазеющим на него людям, причем мрачный опять мотнул головой и сделал еще некий знак бровями. Надо будет после подойти и спросить, чего он хочет, сказал себе наш герой.
Он пригубил пиво, которое оказалось горьким и жидким.
– Еще, еще! – подбодрил угощающий.
Но стоило Катину как следует приложиться, как он был остановлен – прегрубо ухвачен за локоть.
– Довольно, – сказал Райзнер.
Он больше не улыбался, лицо его утратило всякое добродушие.
– Вы все свидетели, что этот человек пил пиво за короля, оплаченное мною, Михаэлем Райзнером, патентованным вербовщиком армии его величества! – громко объявил никакой оказывается не лекарь залу, а Луцию молвил: – Всё, парень. Ты зачислен на службу в великую прусскую армию. Следующие двадцать лет будешь покупать себе пиво из солдатского жалованья – 3 талера 15 грошей в месяц.
Что это не шутка, Катин понял, оглядев трактир. На него глядели с жалостью, а левый сосед, недавно подававший невразумительные знаки, ныне произвел другой, совершенно ясный: постучал себя костяшками пальцев по лбу.
– Подите вы к черту с вашим пивом! – рассердился тогда Луций. – Сколько оно стоит? Я заплачу сам.
Вдруг четверо синемундирных солдат разом вскочили и приблизились к столу. Сделалось ясно, что они тут не сами по себе, а при вербовщике. От пятерых не отобьешься, а коли на их стороне еще какой-то местный неправедный закон про дармовое пиво – совсем беда.
В трудных жизненных позициях следует не паниковать, а призывать на помощь Рационий. Так наш герой и поступил.
– Сколько ты получаешь за рекрута? – спросил он коварного человека.
– Если такого роста, как ты, и со всеми зубами – десять талеров.
– Я тебе дам вдвое.
– Не могу, – с сожалением ответил вербовщик, покосившись на солдат. – За такое у меня отберут патент и посадят в тюрьму.
– Втрое, – предложил тогда Луций, не давая воли отчаянью. – Дам тридцать талеров! Даже тридцать пять. Это всё, что у меня есть.
Михаэль Райзнер посмотрел на служивых.
– Ребята, если каждому дам по талеру, не выдадите?
– По два, – сразу сказал один. Остальные кивнули.
У Катина отлегло от сердца. Пускай он будет без гроша, зато свободен!
Повернувшись к стулу, на котором висел плащ, он сунул руку в карман, но кошелька там не обнаружил. То же и во втором. Что за наважденье?
Хотел поискать на полу и тут заметил, что соседний стул пуст, а в дверях мелькнула зеленая спина.
– Стой! – крикнул Луций, враз догадавшись, что это уходит вор.
Он кинулся вдогонку и, будучи скор на ногу, догнал негодяя на улице. Тот, впрочем, не слишком поспешал.
– Верни деньги! – потребовал обкраденный. – Без них мне неволя!
С ухмылкой, вполголоса, похититель проговорил:
– Тебя предупреждали, но ты дурак. Дураку ни денег, ни воли не надобно.
– Ах ты так?!
Катин занес кулак, но сзади на его плечах повисли солдаты.
– Куда?! Бежать?!
– Это вор! – объяснил Катин. – Он украл мой кошель!
– Врет! Я его знать не знаю! – преспокойно заявил преступник. – Да, у меня есть кошель, но он мой.
Вербовщик покачал головой.
– Ворами занимается полиция, мое дело – ловить дезертиров. Ты выпил королевское пиво, а после хотел сбежать со службы. В оковы его, ребята!
И со всей силы стукнул Луция короткой тяжелой дубинкой по голове.
Второй за короткий срок ушиб мыслительного органа вкупе с потрясением от людского коварства оглушил и ослепил Катина.
Очнулся он в повозке, прикованный цепью к грубой скамье. Рядом, в таком же собачьем положении, находились еще двое пленников.
– Кто вы? – едва ворочая языком, спросил Луций товарищей по несчастью.
Один, саженного роста детина, пробормотал что-то непонятное, кажется, по-польски. Второй всхлипнул и разрыдался.
А я плакать не стану, сказал себе наш герой, потирая свежую шишку. Служить чертову королю Фридриху – тем более. Еще не хватало! Не вечно же меня будут держать в оковах. Как только отцепят – сбегу. Вольного сокола в клетке не удержишь.
* * *
Повозка ехала не в дальние края, а за реку, в рекрутское депо. То была настоящая крепость иль скорее тюрьма: прямоугольник из высоких земляных валов с глубоким рвом вокруг, с часовыми у ворот.
В дороге спутники рассказали, как попали в лапы охотников за молодыми мужчинами.
Повесть верзилы-поляка была такая. Его, повара из Торуни, наняли на службу в Кенигсберг, а когда он добрался до места, обнаружилось, что это заманивал пройдоха Райзнер – за рослых парней, годных для королевской гвардии, давали тройную цену. (Понимать польскую речь оказалось нетрудно. Довольно вообразить, что говорящий картавит на буквах «рцы», «слово», «земля» и твердом «люди», а еще ударяет всякое слово на предпоследнем слоге.)
У плачущего, курляндского крестьянина, вышло проще. Он привез продавать в город овечьи шкуры. Отторговавшись, на радостях напился и утром, на хмельную голову, угостился бесплатным пивом за счет его прусского величества. «Дурень я дурень, попил пивка, деревенщина», – горько сокрушался бедолага, а Луций подумал, что некий ученый лиценциат и выпускник академического пансиона ничуть не умней.
Духом он, впрочем, отнюдь не падал, ибо совсем не имел сего обыкновения. Когда повозка въехала в полосатые ворота, за шлагбаум, Катин приподнялся на скамейке и принялся озираться, чтоб оценить прочность клетки, в которую судьба заперла вольного сокола.
Клетка была обширна.
Два десятка длинных палаток ровными рядами, над каждой вился дымок. Откуда-то с дальнего конца доносились крики команд и барабанный бой. Должно быть, там плац. К валу примыкало приземистое каменное здание навроде конюшни, но оттуда слышалось не ржание, а вой и лай множества собак.
Внутренность лагеря Катина, впрочем, занимала мало. Обживаться тут он не собирался. Гораздо внимательнее наш герой оглядел валы и составил о них самое отрадное впечатление. В нескольких местах они осыпались, так что можно вскарабкаться. Караулы стояли лишь по углам и взад-вперед не расхаживали. Днем часовые, конечно, увидят беглеца, а в темноте – вряд ли.
– Вылезай! – приказал узникам вербовщик Райзнер. – Не сутулься, Pole, покажи свой рост. И ты, Schwede, расправь плечи! Kurlander, не хнычь! Покажите товар лицом! Мы идем к казначею за платой. Шагай веселее, мясо!
«Мясом» плененного философа в последующие часы обозвали еще не раз.
Старший писарь объяснил едва освобожденным от цепей новичкам, что это раньше они были сами по себе люди, а теперь они мясо, принадлежащее Мяснику Фрицу (Луций не вдруг догадался, что это про короля Фридриха), и тот может сделать с ними что захочет – сварить, зажарить иль прокрутить в фарш. Каждую фразу писарь подкреплял взмахом палки.
Фельдшер, тоже грозя палкой, велел «мясу» раздеться догола, пока из него не сделали отбивную, и определил поляка в гвардейские гренадеры, Луция – в обыкновенные, а невысокого курляндца в фузилеры. Их разлучили, и больше Катин своих незадачливых товарищей не видел. Его отвели в гренадерскую палатку и передали ротному фельдфебелю, потом взводному сержанту, потом капралу со словами: «Вот тебе нового мясца на отбивку».
Все перемещения осуществлялись почти без слов. Рекрута перегоняли от места к месту взмахом палки. Скоро Катин уразумел, что обитатели депо делятся на две породы: те, кто с палкой, и те, кто без оной. Первые – разного чина начальники. Вторые – то самое мясо.
Ну моим-то мясом вы подавитесь, мысленно приговаривал Луций, пока что всему безропотно подчиняясь и зорко глядя вокруг.
К исходу дня он знал уже многое.
В кенигсбергском депо содержалось несколько сотен новобранцев из пленных и насильно завербованных. Своей волей в королевское войско никто не шел. Рекрутов здесь учили служить и воевать по-прусски. Методика обучения была простая и действенная. Не понял приказа – получаешь удар палкой по спине или по ребрам. И так до тех пор, пока не сделаешь, что требуется. Иного языка большинство и не уразумели бы, поскольку немцы здесь составляли меньшинство, а природных пруссаков почти не было вовсе – король предпочитал не пускать собственных подданных, плательщиков налогов, на «мясо». В капралии из десяти человек, куда определили Катина, немцев имелось только трое – все саксонцы, двое были курляндские латышцы, двое поляки, один украденный с корабля французский матрос, один швед (в отличие от Луция настоящий) и теперь вот еще один русский. Наш герой открылся в своем подлинном отечестве еще писарю, рассудив, что лучше угодить в пленные, нежели в солдаты, но пруссакам было все равно, кто ты. Хоть черт с рогами.
Командовал капралией богемец Франта, по виду и повадкам истинный зверь: с торчащими в стороны преогромными усами, с багровой шишкой на месте носа. Говорить по-человечески он, кажется, не умел – только орать. Чуть что – дрался. Занятие, на которое сходу угодил Луций, заключалось в том, чтоб правую ногу отличить от левой, и эта наука не всем будущим гренадерам давалась легко. Понимали, чего добивается капрал, только саксонцы и, с грехом пополам, курляндцы. Остальные по-немецки не знали, сбивались с ноги и получали удары палкой. Но когда Катин объяснил французу по-французски, шведу по-шведски, а полякам по-русски, но с пришепетом, чего добивается мучитель («хо́дзичь права но́га, по́том лева»), дело пошло на лад. Капрал велел добровольному толмачу стать рядом и переводить команды. На месте, в неподвижности, Катин получил возможность изучить расположение лагеря лучше.
Половину территории занимали палатки для рекрутов, по одной на взвод. Хорошо, что не казармы, отметил Луций, ночью будет нетрудно выбраться наружу. Другая половина была отведена под плац. Там муштровали рекрутов, поделенных на две части: еще не обмундированные новички и уже экипированные солдаты. Сбоку – на виду у всех, для острастки – располагалась площадка для экзекуций, где все время лупили фухтелями провинившихся. Оттуда беспрестанно неслись истошные вопли. С другой стороны слышался не менее громкий вой, но собачий – там находилась каменная псарня. Зачем здесь столько собак и почему они так жалобно воют, осталось для Луция загадкой.
Тут, впрочем, многое было непонятно. Например, почему экипированные солдаты, имея ружья со штыками, не перебьют своих немногочисленных истязателей. Или отчего солдат учат вышагивать столь странно: по-журавлиному, очень медленно. Однако ломать голову над сими загадками Катин не собирался. Он уже решил, что нынче же ночью сбежит. И знал, как.
Пользуясь милосердным покровом ночи проползти под краем палатки. Забраться на вал. Оттуда по крутому спуску скатиться в сухой ров. Вскарабкаться на другую сторону. Может быть, раз-другой сорвешься, но земляная стена – не каменная, как-нибудь сладится. И всё. Чистое поле. Свобода!
…Вечером после на удивление сытного ужина, где дали вволю хлеба и солонины, рекрутов повели на молитву: католиков к патеру, лютеран – к пастору, а православного попа в депо не было, так что Катин остался в палатке один.
Времени терять он не стал. Шмыгнул в темень, прокрался к валу и с первой же попытки – благодарение природной ловкости – одолел эту невеликую высоту. Наверху распластался, чтоб не заметили часовые, подполз к краю, заглянул вниз, в ров, – и ошеломился.
Там, во мраке, носились какие-то быстрые, приземистые тени. Что за наважденье? Лишь когда одна из теней издала злобное рычанье, Луций понял: это собаки. Так вот зачем они в депо! Днем их держат взаперти, морят голодом, а на ночь выпускают в ров. Попробуй сунься – накинутся и сожрут. Да, с такими стражами можно не опасаться, что рекруты разбегутся.
Впервые за всё время испытаний, а может быть, даже впервые со дня, когда заснул и не проснулся его отец, наш герой испытал то душераздирательное, черное чувство, которое, верно, и называют «отчаянием».
Клетка слишком крепка. Соколу не улететь!
Унылый, согбенный, слез он по валу вниз – и угодил прямо на капрала Франту. Ждал крика, удара палкой, а затем, вероятно, и более жестокой кары, но богемец лишь покачал головой и тихо молвил – оказалось, что он умеет не только орать:
– Ты умный парень, Москва. Я сразу это понял. Запомни: убежать отсюда нельзя. В армии у тебя только два пути: или ты останешься мясом для палки, или станешь исправным солдатом. Тогда жить можно. Выбьешься, как я, в капралы. Сам получишь палку. Лучше быть овчаркой, чем овцой. Марш в палатку! Я тебя не видел.
Повернулся и пошел. Не такой уж он оказался зверь.
Над явленной дилеммой – быть овцой или овчаркой – Луций размышлял полночи и пришел к конклюзии, что выбор этот ложен. Человек не должен с ним смиряться, ибо доля гонителя и доля гонимого равно несовместны с достоинством, притом первая еще менее, чем вторая.
Но в целом совет капрала был хорош. Истинный философ сознает границы возможного. И коли не может поменять обстоятельства, начинает считать их нормою, к которой должно приноровиться.
В конце концов, сколь тяжкой может показаться армейская учеба тому, кто постиг физику с метафизикой, астрономию с астрологией и прочие мудрейшие науки? Раз из депо сбежать нельзя, надо становиться образцовым прусским солдатом, чтобы скорее попасть из западни рекрутского депо в полк. Уж там-то рва с голодными псами вокруг лагеря не будет.
Отчаяние мгновенно оставило душу, столь мало к нему расположенную, и вытеснилось обычной бодростью. Луций поудобнее устроился на соломенном матраце, закрылся с головой плащом и немедленно уснул всегдашним крепким сном.
Глава V
Философ на солдатской службе. Лучшая в свете армия. Поход по-прусски
Человеческий разум, вынутый из ножен рассеянности и заостренный на оселке необходимости, способен рассекать любые препоны. Наш герой знал эту истину с детства и ныне вновь удостоверился в ее истинности.
Первым из отделения, уже на третий день, он был определен из зеленых рекрутов в солдатские ученики и переместился на другую половину плаца, не забыв поблагодарить за наставление капрала Франту.
В новом состоянии, обмундированный и напудренный, Марсов школяр вгрызся в нехитрую армейскую науку с тем же азартом, с каким некогда штудировал учебник латинской грамматики или «Гисторию» Пуфендорфия.
Учебный курс сего пансиона, который надлежало окончить как можно скорее, дабы выйти из его тесных стен в большой мир, по счету Луция, состоял из четырех дисциплин.
Первую можно было наименовать «Монтур», сиречь «Мундир». Она давалась новичкам труднее всего. Кроме собственно мундира, который следовало содержать в идеальной опрятности, в экипировку гренадера входили: высокая шапка с медным щитком, где высечены королевский вензель FR и прусский орел; поясной ремень с медною же прягой; башмаки с черными гетрами; патронная сумка; походный ранец лосиной кожи; тесак и штык – оба в ножнах. Все металлическое должно было надраиваться мелом до ослепительного блеска. Больше всего солдаты ненавидели парик с буклями и длинной косой на железном стержне. Парик укрепляли салом, обсыпали пудрой. В сей сложной конструкции непременно заводились щекотливые блохи.
Луций поступил с «Монтуром», как в свое время с нелюбимым, но обязательным для экзамена учебником по теологии: зубрил абзац за абзацем, не вникая в смысл. Мел так мел, пудра так пудра, вакса так вакса (последнею он не только начищивал башмаки, но и рисовал под носом закрученные усы, обязательные для бравого гренадера).
Вторая дисциплина называлась «Марширунг». Солдат учили особому прусскому шагу: живот втянуть, грудь выпятить, колени елико возможно содвинуть, наклониться всей телесной сущностью вперед и айн-цвай-драй, айн-цвай-драй, единой сороконожкой, высоко задирая ноги, чеканить ровно 75 шагов в минуту. Когда пообвыклись ножные мускулы, такое хождение оказалось делом несложным. Поворачивать на каблуке всем строем было, пожалуй, даже небесприятно.
Марширунг длился часами. Под мерный стук барабана, под прозрачное пение флейты отлично размышлялось на разные возвышенные темы.
Третья дисциплина, боевая подготовка, у Катина сначала шла неважно. Он с отвращением касался длинного трехгранного багинета, воображая, как это омерзительное устройство разрывает нежные внутренности. Не приязненней философу был и кремневый мушкет, заряжаемый тяжелой, в унцию, пулей. Вытолкнутая взрывом пороха, она могла покалечить иль убить человека, каждый из которых есть неповторимая вселенная. Но скоро Луций уговорил себя, что экзерциции с ружьем – это всего лишь гимнастика. Он никогда никого не ударит железным штырем в живот и не пошлет в мыслящее существо раскаленную свинцовую черешину. А быстро производить заряжание, палить в деревянную мишень и колоть соломенное чучело – отчего же нет?
Скоро он сделался отличник и в сем дурацком предмете.
Четвертая дисциплина, самая мудреная, преподавалась рекрутам в самом конце, когда все предыдущие уже освоены. Имя ей было «ротный маневр», которым более всего и славилась лучшая в свете армия.
В обороне рота, поделенная на шесть плутонгов, училась стрелять шеренгами. Первая лежала и била с локтя, вторая – с колена, третья – из полного роста. Остальные три принимали пустые ружья, заряжали их и снова передавали вперед. Таким манером ротная машина могла плеваться огненной смертью без перерыва, истребляя всё, находящееся перед ее фронтом. Обучение заключалось в том, чтобы каждый солдат действовал ритмично и механически, повинуясь свисткам начальников.
В атаке рота ощетинивалась аршинными штыками, строилась уступом и сначала била одним лишь левым флангом, постепенно увеличивая ширину удара и разваливая вражеский строй. Потом наваливалась вторая рота, третья, а там подоспевал следующий батальон. Никто не мог устоять перед сей знаменитой «косой атакой».
Вот и весь курс армейских наук, вдобавок к которым было довольно усвоить нехитрую трехчленную формулу: твердо знай предписания устава; ни в чем их не нарушай; не раздумывая исполняй, что прикажут начальники, – и будешь образцовый прусский солдат.
Так Луций и поступал, благодаря чему ни разу не отведал палки, а весною, перед самой отправкой в полк, получил начальство над капралией и – в знак перемещения из овец в овчарки – первую начальническую палку, так называемую «сапожную», ибо она засовывалась сбоку в сапог. Отказаться было нельзя, к тому же капральский чин давал больше свободы в передвижениях, а значит больше шансов сбежать при первой же оказии, но Луций поклялся себе, что никогда не ударит безответное существо. Он много размахивал своей палкой и громко бранился на своих солдат, так что со стороны выглядел настоящим прусским капралом, но удары наносил только по воздуху, а ругательства избирал не оскорбительные для человеческого достоинства, то есть обращенные не против личности, а к вымышленным и потому не обидчивым существам – богу и дьяволу. «Черт рогатый вас всех забери в преисподню!» – вопил капрал Катин, вызывая грозностью голоса одобрение взводного сержанта, но никогда не именовал своих солдат скотами, остолопами, дубинами или какими-нибудь шайскерлями. Конечно, личности, находившиеся у Луция в подчинении, не оскорбились бы и будучи обзываемы, да и неболезненный удар перенесли бы без уязвления, но наш герой твердо помнил максиму: унижающий кого-то прежде всего унижает самое себя, и от этого бесспорного принципа не отступался.
Что до прославленной непобедимости прусского оружия, секрет тут оказывался прост. Король Фридрих довел логику войны до полной чистоты. Коль убивать себе подобных – занятие бесчеловечное, так следует солдат расчеловечить, превратить в ходячие автоматусы, привычные повиноваться не чувствам и думам, а движению шестеренок. В бесполезной на внешний взгляд муштровке, во всем этом чеканном ноготопании и механических упражнениях имелся глубокий резон. Средь кровавой битвы, когда от страха застывает разум, у солдата остаются лишь твердо усвоенные приемы и внедренная палками привычка слушаться простых, ясных команд. «Заряжай!» «Пали!» «Примкнуть штык!» «Вперед бегом!» – и побегут, и будут колоть, и убьют, и умрут. Зачем машине разум и чувства? От них один вред.
В прусской армии ничто не существовало без причины. Неудобная, трудно содержимая экипировка приучала солдата к порядку и лишениям, занимала всё его время – чтоб, Gott bewahre,[5] – не начал думать. Нелепый журавлиный шаг придавал строю быстроту, точность и слаженность. Даже длинная коса была не просто так. Насаженная на железный прут, она прикрывала затылок и шею от сабельного удара, ежели вражеская конница прорвется внутрь пехотного каре.
И чем больше Луций открывал логики в устройстве королевской армии, тем она ему делалась омерзительней, потому что вся сия изобретательность мысли была направлена только на одно: на идеальное человекоубийство.
Отправки в полк он ждал, как избавленья. Пусть только выведут за ворота, подальше от сторожевых собак. На первом же ночлеге капралия лишится своего начальника.
Как бы не так. Собак при маршевой роте не было, но по обочинам ехали конные конвоиры, словно по дороге, под барабанный бой, вышагивали не гордые королевские гренадеры, а каторжники. На привалах повсюду дежурили караулы.
Ладно, сказал себе Катин. Прибудем в полк – там будет легче.
И опять ошибся.
Пополнение предназначалось регименту Бранденбург-Байрейт, названному в честь сестры его величества маркграфини Бранденбург-Байрейтской. Полк понес потери в прошлой кампании и ныне был расквартирован близ Бреслау.
Но и здесь, на регулярной дислокации, в казармах, солдаты никогда не оставались без присмотра. Ночью по всему периметру выставлялись посты. Прусская армия умела предохранять себя от дезертирства.
Луций не упал духом и теперь. Ничего, говорил он себе, покручивая отросшие за полгода светлые усы, скоро будет поход. Все толковали, что едва подсохнут дороги, армия двинется на юг. Всеевропейская война приготовлялась ко второй кампании.
Из подслушанного разговора между офицерами Катин узнал, что русские всё никак не вылезут из своей медвежьей берлоги и нападения с востока можно не бояться. Пользуясь этим, король намерен окончательно добить Австрию. Передовые части уже подходят к Праге, вот-вот ее возьмут, а затем поворотят на Вену. Войско поведет сам король, а значит, победа несомненна.
* * *
И вот солнечным майским утром поход, которого наш герой дожидался с таким нетерпением, наконец начался. Гренадерам выдали трехдневный рацион колбасы и сыра, хлебный запас везли в ротных повозках, там же для легкости хода пока были сложены ружья.
Марш осуществлялся в полном соответствии с системой великого Фридриха. Никто в мире не передвигался быстрее пруссаков.
Каждый день, еще до рассвета, вперед отправлялись квартирьеры и батальонные кухни – готовить лагерь для постоя. Затем выступала пехота. Она шла легко и быстро, под музыку, с одними ранцами: два часа ходу – час отдыха. За день полк одолевал по пятьдесят верст и нисколько не выбивался из сил. Притом офицеры вышагивали вместе с солдатами, а не красовались в седлах, как во всех прочих армиях. Верхом разрешалось быть только полковнику.
Всё это с военной точки зрения, наверное, было прекрасно, но Катину прусские походные обыкновения ужасно не понравились. Не представилось ни единой возможности сбежать. Отдаляться от строя на марше строго-настрого запрещалось. Нужно до ветру – жди привала. Привал же никогда не устраивали в лесу – только на открытом месте, в виду конных разъездов. Начальство отлично понимало, что перед грядущей бойней многие солдаты, вояки поневоле, мечтают удрать, и принимало должные меры предосторожности.
За две ночевки до осажденной Праги полк перешел в военный регистр. Солдатам раздали ружья – на случай, если налетит вражеская конница.
В первый эшелон блокады байрейтцы однако не попали, их всё гоняли с одного места на другое. Почему и зачем – бог весть. Капралу этого знать не полагалось.
Тем временем робкая майская листва сменилась уверенной июньской, а поблизости не раздалось еще ни одного выстрела. Это, конечно, было благом.
Много слышав о том, как обыкновенно ведут себя на войне солдаты, и памятуя об английских приватирах, Луций готовился увидеть ужасные сцены грабежей и насилия над мирными обывателями, но ничего такого не происходило. Мародерствовать и обижать местное население запрещалось под страхом жестокого наказания, за фураж и продовольствие непременно вносилась плата – и селения, через которые следовал полк, встречали пруссаков без боязни. Это было еще одно новшество, обеспечивавшее войскам короля Фридриха мирный тыл и хорошее снабжение. Катин горячо одобрил бы подобную политику, кабы она не дополнялась одним пренеприятным пунктом: за каждого отбившегося от части солдата поселяне получали денежную награду, и это предохраняло армию от дезертирства лучше любого конвоя. Пойманных беглецов не вешали (зачем зря губить пушечное мясо?), а нещадно пороли, затем подлечивали и возвращали в строй.
У Луция оставалась лишь одна надежда: сбежать в хаосе какого-нибудь сражения, когда вокруг дым и грохот.
И вот однажды на рассвете загудели горны, забили барабаны, ругаясь и размахивая палками, побежали сержанты. Полк спешно выстроился в длинную колонну. Объяснений опять никаких не было, но Катин подслушал разговор батальонного командира с ротным и узнал, что регимент перебрасывают к какому-то Колину, где король завтра даст генеральное сражение австрийскому фельдмаршалу Дауну.
Что ни будь, а ночью сбегу, с замиранием сердца решил Луций. В маневренной неразберихе, чай, будет не до пропавшего капрала. Попадусь так попадусь, но в человекоистреблении участвовать не стану.
Глава VI
Кровавые безумства войны, судьбоносная встреча и отрадный разговор
Нет. Наш герой не сбежал и в последнюю ночь перед сражением. Это оказалось вовсе невозможно.
Вечером, едва Бранденбург-Байрейтский регимент прибыл к месту, определенному диспозицией, ротный командир призвал к себе всех начальников – субалтернов, унтер-офицеров и капралов – чтобы объявить приказ на завтра.
Полк поставлен на самое острие атаки против укрепившегося неприятеля, и гренадерские роты, как предписывается боевым уставом, пойдут самыми первыми. «Едва поднимется солнце, мы врежемся нашим прославленным косым ударом в правый фланг австрияков, потом присоединится следующий полк, следующий, следующий – и мы пропилим их, как острая пила трухлявое дерево, – говорил капитан, имевший склонность к велеречивости. – Байрейтцам выпадет главная честь и слава. Враг засел на лесистых холмах, его почти не видно, но флигель-роты зададут точное направление атаки, так что задача наша проста. Капралам держать строй. Сержантам следить за капралами. Господам субалтернам за сержантами. Я, как положено, буду рядом с ротным значком и горнистом. Сигналы вам известны: два коротких – полубег, три коротких – в штыки. Один длинный – восстановить шеренгу. Два длинных – отступать. Но такого сигнала не будет».
Что такое «флигель-роты», Катин не знал, но капралу задавать вопросы не полагалось по чину, да и какая разница? Когда поднимется солнце, меня здесь уже не будет, думал он.
Как бы не так!
Скоро он узнал, что такое флигель-роты. Перед закатом слева, справа и сзади бивака появились какие-то солдаты в круглых кожаных касках. Они держались сплошной цепью. «Кто это?» – спросил Луций у другого капрала, служившего не первый год. «Флигельманы, – ответил тот, пожав плечами. – Глядят, чтоб мы не разбежались. В бою всегда так. Кто отстанет от строя – лупят прикладами, гонят обратно».
На ночь кожаные каски развели костры, вся окрестность ярко осветилась. Темным оставалось только поле, за которым располагались неприятели, но бежать в ту сторону было бы верной гибелью. Человек в прусском мундире, наткнувшись на австрийский дозор, скорее всего, получит пулю.
Значит, уйду завтра, в суматохе боя, рассудил Катин и воспретил себе тревожиться – это было бы недостойно философа. Волнение полезно в момент испытаний, ибо ускоряет мысль и напрягает мышцы, но тратить сей чрезвычайный резерв организма на пустое дрожание нерачительно. Наш герой положил голову на ранец и уснул, доверившись старинной мудрости, что утро вечера светлее.
* * *
Волнение пробудилось со звуком горна, сердце заколотилось в такт барабанной дроби. Долгожданный день настал! Избавление близко: если повезет – от армейской неволи; если не повезет – от несовершенств земной жизни. Так или иначе до захода солнца он будет свободен – не бренным телом, так вечной душой.
Под крики офицеров и сержантов рота разобралась на взводные шеренги, по четыре капралии в каждой. Расстояние между взводами – пять шагов. По интервалу расхаживал сержант Карповиц, истовый служака, родом силезец. Подойдя к Катину, он погрозил эспонтоном: «Гляди мне! Я не за солдатами, за тобой буду следить».
Откуда он догадался?! – переполошился было Луций, однако увидел, что сержант то же говорит и остальным капралам.
Как же сбежать? Строй со́мкнут, сержант не спускает глаз, по краям караулят флигельманы. Неужто придется участвовать в атаке? Во время залпа можно пустить пулю в воздух, но как вести себя в рукопашной свалке? Что делать, если австриец замахнется саблей или штыком?
Вопрос был моральный, из числа трудноразрешимых. Допустимо ли человеческому существу лишать жизни другое человеческое существо, ежели оное пытается тебя умертвить?
Недопустимо, сказал себе Луций. Лучше погибнуть. Но мучило сомнение: достанет ли воли пожертвовать собой во имя великого принципа? Не возобладает ли над волей самосохранительная потреба, именуемая инстинктусом?
Пока молодой человек терзался внутренней дискуссией, полк выдвинулся на передовую позицию. Впереди простирался широкий луг, за ним – пологий холм, поросший березовым лесом. Там, верно, ожидали приготовившиеся к обороне австрийцы, но за листвой их было не видно, и Катину вообразилась аллегория: вот неразумное человечество собирается атаковать самое Природу, свою зеленую матерь.
Взвод стоял во второй шеренге, смотреть приходилось через плечи впереди стоящих.
– Заряжай! – прокричали сержанты. Катин повторил команду для своей капралии. Заскрежетали шомпола. Пулю Луций не положил, лишь насыпал пороху и забил пыж.
Барабаны забили чаще.
Марш-марш! Вперед!
– Раз, два, три! Раз, два, три! – орал Карповиц.
Рота катилась по полю суетливой синей многоножкой.
– Первый плутонг, к залпу готовьсь!
Передняя шеренга, не замедляя хода, выставила ружья дулами вперед. Катин приготовился оглохнуть, но гром ударил не рядом, а поодаль.
Березняк вдруг изрыгнул языки пламени и дымные струи. Это разом выпалили австрийские пушки. Прицел был взят низко – земля взлетела комьями и травяными пуками в полусотне шагов перед строем.
– Первый, пли!
Гренадеры передней шеренги произвели залп и слаженно повалились наземь. Всё окуталось дымом.
– Второй, пли!
Разрядив свое никому не опасное ружье, Луций поскорей упал ничком, чтоб не угодить под залп третьей шеренги.
– Третий, пли! Четвертый, пли! Пятый, пли! Шестой, пли!
Мимо, невидимый в пороховом тумане, пробежал Карповиц, вопя:
– Капралы, подымай сукиных детей! Лупи их! Примкнуть штыки!
– Ребята, вставай! – крикнул и Луций.
Отовсюду слышался лязг вставляемых багинетов. Дунул ветерок, отогнал дымную тучу. Рота выравнивала шеренги.
Дважды коротко рыкнул горн.
– Полубегом вперед!
Когда до зарослей оставалось не больше ста шагов, Катин увидел, что лес вовсе не березовый. То, что он издали принял за пятнистые стволы, было белыми австрийскими мундирами с черной амуницией. Солдаты стояли за деревьями тесно, плечо к плечу.
– Сейчас снова жахнут! Не робей! – орал Карповиц. – Живей, живей!
Лес опять озарился пламенем, словно высунул множество мелких, острых огненных зубов. Теперь залп дали не только орудия, но и стрелки.
Воздух заколыхался, наполнился злым визгом, и Луций обнаружил, что спин впереди больше нет. Вся передняя шеренга полегла, второй плутонг теперь оказался первым.
Катин чуть не споткнулся об упавшего человека. Человек громко выл и хватался за голову. Меж пальцев толчками выбрызгивалась черная кровь.
Луций в ужасе отвел глаза, но увидел картину еще худшую. Солдат его капралии, рыжий Лейбле, мазурский коновал, пытался подобрать с земли свою оторванную руку. Подобрал – и тут же вместе с нею повалился.
– Катин, что застрял! – крикнул Карповиц. – Гони сволочь в штыковую!
Подскочил, треснул Луция эспонтоном по плечу.
Сержант вдруг показался Катину главным виновником происходящего кошмара.
– Гадина! – прохрипел молодой человек, ухватился за сержантову алебарду, а другой рукой влепил негодяю оплеуху.
– Руку на командира?! – ахнул Карповиц. – За это на виселицу!
Они вцепились друг другу в горло. В слепой ярости Луций позабыл всю науку умной драки, ему хотелось вытрясти из сержанта душу. О великих принципах в эту минуту наш герой, увы, тоже забыл.
Сызнова грянул гром, в воздухе полетели злые осы, отовсюду раздались крики боли. С головы Луция слетела шапка, словно сбитая ударом палки, а Карповиц (он был повернут спиной к австрийцам) перестал душить своего противника и сполз вниз.
Поглядев на себя, Катин увидел, что перед мундира у него мокр и красен. Убитый наповал сержант обмочил его своей кровью.
Горн звал уцелевших в штыки, барабаны колотили лихорадочную дробь, а у Луция в голове словно луна выглянула из-за туч и озарила тьму. Он понял, что́ нужно делать.
С громким стоном молодой человек повалился навзничь. Коли все вокруг убиты, так и он тоже.
Мимо замелькали белые штаны, черные гетры, синие фалды – через лежащего одна за другой перескакивали шеренги. Несколько раз по боку, по руке задевали жесткие каблуки, но боли Катин не чувствовал. Он желал лишь одного: чтобы всё это скорее миновало.
Наконец вверху осталось только небо – безмятежное, равнодушное к жизни и смерти земных букашек.
Подниматься на ноги рано, подумал Луций. Надо чтобы еще прошли флигельманы. Сих он не увидел, потому что на всякий случай зажмурил глаза, но услышал торопливый топот.
Ныне пора!
Он сел, обозрел окрестности. Впереди – цепочка флигельманов и спины атакующих байрейтцев. Сзади сплошной синей массой надвигался полк второго эшелона.
Катин вскочил. Пригнувшись, побежал вбок, чтобы следующая волна не увлекла его за собой.
На поле многие упавшие шевелились, некоторые пытались подняться. Раненых здесь было больше, чем убитых. Некоторые просили помощи, но Луций ни к кому сейчас не испытывал сочувствия. Постыдный инстинктус гнал его прочь – куда угодно, только бы подальше от этого проклятого места!
Вот наконец беглец оказался вне фронта второго полка, но дальше, третьим уступом, надвигался еще один. Фридрихова «косая атака» разворачивалась во всей своей монументальной сокрушительности. Дезертиру, не успевшему перевести дух, пришлось мчаться дальше – туда, где шагах в трехстах, посреди ничейной зоны темнел кустарник.
Катин бежал через поле, где уже полегли многие. Земля была не зеленой, а синей от прусского сукна, а во многих местах красной. Но приближавшийся с барабанным боем полк почему-то был в желтых мундирах, и флаг над строем тоже был незнакомый: сиреневый лев в пятизубчатой короне.
Не успеваю, понял Луций, видя, что передней шеренге до спасительного кустарника ближе, чем ему. Неужто остановят, схватят? Для острастки остальным могут и заколоть на месте…
Он остановился, беспомощно оглядываясь.
Бежать было некуда. С одной стороны пруссаки, с другой – австрийцы. Упасть и снова притвориться мертвым? Но кто-нибудь из желтых уже наверняка приметил одинокую фигуру.
И тут произошло непонятное. Марширующий полк внезапно остановился. Дьявол знает, по какой причине, но шанса Катин упускать не стал. Он ринулся дальше и через полминуты, задыхаясь, рухнул меж замечательно густого терновника, причем нисколько не посетовал на острые колючки.
Наш герой был если не спасен, то по меньшей мере убережен от неотвратимой опасности.
Малость придя в себя, Луций раздвинул ветви, чтобы посмотреть на шеренги, чудодейственно остановившиеся в тридцати или сорока саженях от его укрытия.
Солдаты по-прежнему не двигались. Перед строем, взмахивая рукой в белой перчатке, высился верховой. Под ним пританцовывал чудесный в серых яблоках конь, на шляпе развевался сиреневый плюмаж. Наверное, то был командир желтых мундиров. Он что-то кричал им тонким сорванным голосом, однако с расстояния было не разобрать.
Застучали копыта. Вдоль фронта галопом летел синий всадник.
– Господин полковник! – издали завопил он. – Король желает знать, отчего вы остановились!
Тот, к кому он обращался, повернулся в профиль и тоже крикнул. Теперь Луцию было слышно каждое слово.
– Я своих ангальтцев на бойню не поведу! Так ему и передайте!
Королевский ординарец был уже рядом и заговорил тише, но желтый полковник отвечал ему тем же высоким фальцетом:
– Невозможно? Невозможно то, что здесь творится! Вы все сумасшедшие!
И махнул рукой на окровавленное поле.
Истинно так, подумал Катин, лучше не скажешь. Будто десятки тысяч людей разом свихнулись и, охваченные припадком бешенства, кинулись творить друг над другом всяческое зверство.
Чем закончится спор между удивительным полковником и королевским посланцем, он досматривать не стал. Нужно было уносить ноги подальше от баталии, пока она не дотянулась до беглеца и не обожгла его своим драконьим пламенем.
От кустов Луций перебежал еще один луг, за которым уже начинался лес – в этой стороне пустой и безлюдный.
Сзади загудела, затряслась земля. Дезертир обернулся.
С соседнего холма, растекаясь полумесяцем, катилась голубая австрийская конница – прямо во фланг наступающим пруссакам.
Катин содрогнулся, поспешил вон от ужасных звуков: храпа, брани, стонов, хруста, металлического лязга.
Все эти люди когда-то были младенцами, малышами, мальчиками, юношами, сокрушался он на бегу. У каждого была мать, которая надеялась, что он будет пестовать ее старость. Каждый из них о чем-то мечтает, на что-то надеется, кого-то, быть может, любит. О человечество! Безумная, дикая, преступная свора – вот что ты такое!
С горестными вздохами Луций преодолел версты три иль четыре, пока не увидел пред собой лесное озеро. Сие зеркало, созданное Природой для отражения небес, лежало в своей зеленой древесной раме, подернутое золотистыми солнечными веснушками и белым крапом кувшинок. Молодой человек всхлипнул при виде столь мирной красоты. Ах, зачем надо было человекам отдаляться от милой простоты Натуры? Как здесь тихо! А вдали всё палят, палят пушки и трещат ружья…
Ему захотелось смыть с себя кровь, грязь и пороховой дым – всю мерзость убийства. Раздевшись, он кинулся в воду и долго плавал в ней, а потом кое-как замыл красные пятна на мундире. Парик с косой, блошиное вместилище, Катин отшвырнул ногой. Не стал и опоясываться портупеей с тесаком. Отправился дальше налегке.
Путь его лежал по склону невысокого холма, под которым проходила дорога. Через некое время на ней появились синие мундиры: сначала разрозненные, потом группами, наконец целой толпой. Все эти люди не шли, а бежали. Было ясно, что непобедимая армия побеждена. Двухглавый австрийский орел заклевал одноглавого прусского. Катину не было дела до драки пернатых хищников, но поражению короля Фридриха следовало радоваться. Теперь пруссакам будет не до ловли дезертиров – у них наверняка разбежится всё войско.
Фигурки на дороге вдруг заметались, кинулись врассыпную. Их догоняли голубые всадники – рубили, сгоняли в кучки. На земле там и сям оставались неподвижные тела. Известно, что во всяком разгроме главная бойня происходит не на поле брани, а позднее, во время преследования.
Катин поднялся выше, чтобы отдалиться от опасного места, но продолжал держаться дороги. Углубившись в лес, можно было заблудиться.
Бегущие пруссаки скоро повернут на север, в сторону Дрездена. Преследователи устремятся за ними. Луций же двинется на запад – туда, где на другом конце Германии, позади пожаров и пепелищ, сияет Тюбинген, остров разума и света.
Путь предстоял долгий, нелегкий и опасный, но вырвавшийся на волю философ трудностей не страшился.
Он пожевал ранних сыроежек, полакомился земляникой, попил вкусной воды из родника. Вот оно, руссоистское счастье! Великий Жан-Жак, вероятно, прав, думал Катин, лежа на земле и жуя сочную травинку. Где Природа – там рай, где общество – там ад. Но, с другой стороны, общество уже создано, обратно по лесам и полям его не разгонишь. Можно ль не стараться поправить условия человеческого существования? Не жалко ль невинных младенцев, рождаемых на унижения и муки?
* * *
Подобным рассуждениям Луций предавался долго, не замечая течения времени, ибо мыслителю бывает скучно только с людьми, наедине же с собою никогда. Наконец, спохватившись, что дело уже к закату, он вскочил и пошел далее, чтобы за остаток дня пройти как можно больше.
В лесу сгустились тени, стало сумеречно. Путник спустился к самой дороге, чтобы не потерять ее из виду, но из осторожности двигался по кювету, сокрытый от тракта бурьянами.
Погоня за разбитыми пруссаками, кажется, окончилась. На дороге было тихо. Но через некоторое время Катину послышались некие звуки, понудившие его остановиться.
Кто-то там наверху всхлипывал и бормотал жалостное, а временами шумно фыркал и всхрапывал.
Припав к земле, Луций раздвинул густую траву.
Фыркала и всхрапывала лежащая лошадь, серая в яблоках. Склонившись над нею, заламывал руки юный офицер. По желтому мундиру, по приметному сиреневому плюмажу, да и по масти коня Катин узнал командира, что давеча воспротивился королевскому приказу, отказался вести свой регимент на бойню. Вот отчего полковник кричал тонким фальцетом – оказывается, он совсем юн, почти мальчик. Как такое возможно?
По тянущемуся через пыль кровавому следу нетрудно было догадаться, что раненая лошадь несла на себе всадника, сколько могла, а затем, обессилев, рухнула.
– Путци, бедняжка Путци! – восклицал юноша. – Молю, не умирай!
Экий чудак, подивился наш герой из своего укрытия. Нынче погибли тысячи людей, а он убивается из-за лошади. Однако всякое горе достойно уважения, поэтому, не желая мешать скорбящему предаваться сему благородному чувству, Луций попятился и хотел уже идти своим путем дальше, как вдруг из-за поворота вынеслись два всадника в голубых доломанах. Они закричали, пришпорили коней, выхватили сабли.
Увидев австрийцев, желтый офицер повел себя странно. Из седельной кобуры торчала рукоять пистолета, но за оружие юноша не взялся. Он мог бы броситься к лесу – не стал. Лишь поднялся, сложил руки на груди и застыл. Оцепенел от ужаса?
– Беги, несчастный! – крикнул Катин, но полковник не шелохнулся.
Хоть он не выказывал намерения сопротивляться, гусары брать его в плен, кажется, не думали. Передний свесился с седла, готовясь рубануть наискось.
И тут, безо всякого решения иль побуждения воли, а единственно по зову порывистого Флогистона, Луций выскочил из своего безопасного укрытия. Он сшиб безрассудного непротивленца из-под самых копыт и вместе с ним опрокинулся в канаву по ту сторону дороги. Австриец с разлету промчался дальше.
Прямо перед собой Катин увидел юное, некрасивое, к тому же еще изрытое оспинами лицо, с удивительно спокойными карими глазами. Спокоен был и голос, вопросивший:
– Зачем вы это сделали? Я уже изготовился к Большому Путешествию.
Отвечать было некогда.
Подлетал второй гусар, целясь саблей, а первый, вздыбив коня, поворачивал обратно. Ныне жестокая смерть грозила и Катину.
Оружия у него не было, но у рябого офицера на поясе висела шпага. Поскольку он не изъявлял желания себя оборонять, Луций сам выхватил из ножен ненавистное орудие убийства – и едва успел парировать обрушенный сверху звонкий удар. Тут подскакал второй противник, намереваясь зарубить юношу, – пришлось оборонять и его.
Некоторое время Луций исполнял род странного балета. Отбивал одну саблю, потом поворачивался и отбивал другую, защищая и себя, и своего товарища, по-прежнему ко всему безучастного.
Биться на двух флангах удавалось лишь потому, что оба гусара никак не могли справиться с разгоряченными конями и налетали не враз, однако Катин понимал, что продлится это недолго. При первой же слаженной, одновременной атаке он не сумеет спасти офицера, а затем сгинет под клинками и сам.
Посему Луций поступил иначе. Отшвырнул шпагу, схватил ближнего всадника за пояс и вырвал из седла. Гусар кувырнулся через голову и шмякнулся оземь. Хрустнули переломанные кости. Австриец заорал и больше не поднялся.
Второй конник оборотился на Катина, угадав в нем единственную для себя угрозу. От косого удара сабли наш герой увернулся, под горизонтальный присел, от вертикального отскочил, а потом, изловчившись, подпрыгнул сам, повис у гусара на локте, да и сволок его наземь. Они покатились в пыли, молотя друг друга кулаками. Неприятель оказался здоровяк, и неизвестно, чем окончилось бы дело, если б Луций не вспомнил батюшкину науку. «Если твой недоброжелатель злобен и силен, можно умирить его, не причиняя телесного вреда, для чего сожми ему шею слева, вот здесь, двумя вершками ниже бороды», – учил покойный родитель. Отсчитывать вершки в нынешней позиции было затруднительно, поэтому Луций на всякий случай сжал гусару шею обеими руками сразу в двух местах, повыше и пониже, да надавил большими пальцами. И наука не подвела! Через несколько мгновений противник обмяк.
Дрожа коленями, победитель поднялся. На всякий случай подобрал саблю, чтоб австрияк, очнувшись, до нее не дотянулся.
– Надеюсь, вы не замышляете умертвить этих людей? – спросил желтый офицер. – Хоть они сами напали на нас, но убийство – всегда злодейство.
Один противник лежал без чувств, другой тихо подвывал, держась за ключицу. Умерщвлять их Луций, конечно, не собирался.
– Не всегда, – сказал он, вынимая из седельной кобуры пистолет. – Иногда убийство бывает благодеянием.
Сунул дуло в ухо издыхающей лошади. Выстрелил. Юноша крикнул «Нет!», но тут же виновато молвил:
– Прошу простить. Вы поступили правильно. Должен сказать, что я совершенно вами восхищен. Вы спасли мне жизнь, хоть я и невысоко ее ценю, ибо она лишь искра пред вечностью; вы поразили двух вооруженных противников, не лишив их жизни; наконец, вы прекратили страдания бедного Путци, на что у меня самого недоставало мужества. Скажите, благородный незнакомец, кто вы?
– Луций Катин.
– Луциус Катилина? – с удивлением переспросил юный полковник, не вполне расслышав. – Какое возвышенное имя!
– Я не поклонник римского Катилины. Фамилия моя – Катин. По племени я русский, по нынешнему своему состоянию дезертир.
Отрекомендовавшись подобным манером, наш герой учтиво поклонился.
– Русский? Как интересно! Одна из моих кузин, Фике, уехала в Санкт-Петербург и тоже стала русской, но сам я ваших соплеменников никогда прежде не видал. Если они похожи на вас, это должна быть превосходная нация! Однако извините мою невежливость. Мне следовало представиться самому, прежде чем просить о том вас. Карл-Йоганн, принц-князь Ангальтский.
Юноша тоже поклонился.
Загадка разрешилась. Удивительная молодость полкового командира объяснялась тем, что он – владетельная особа.
Луций склонился сызнова, ниже и даже приложил ладонь к груди, испросив прощения, если приветствует потентата неправильно, ведь он никогда прежде не разговаривал с принцами.
– Пустяки, – ответил его высочество. – Мы оба лишь путники на дороге. Поскольку нынче я отказался вести на убой моих ангальтцев, я тоже дезертир, притом наихудший. Вы еще, возможно, уйдете от кары, затерявшись среди беглецов. Я же от гнева моего двоюродного дяди Фридриха никуда не спасусь. Но это полбеды. Хуже, что я оставил своих людей, их потоптала австрийская кавалерия… – Принц пригорюнился. – Я сам во всем виноват. Мне желалось увидеть, что такое война, а за мое любопытство расплатились мои несчастные подданные…
В карих глазах блеснули слезы, и Катин утешил скорбящего чем мог:
– Зато теперь вы знаете, что война – безумье, и впредь, полагаю, ни с кем воевать не захотите.
– Никогда! – пылко вскричал Карл-Йоганн. – Вернусь домой и объявлю, что мой Ангальт в душегубстве не участник. Объявлю нейтралитет! А куда, мой друг, устремляетесь вы?
– Пока что как можно дальше от войны.
– Так идемте вместе. Я буду счастлив иметь в дороге такого товарища!
Они пожали друг другу руки.
– Однако позвольте спросить вас про важное. – Широкий лоб его высочества нахмурился. – Каких воззрений на общественное благо вы придерживаетесь? Вы сторонник Вольтера или Руссо?
– Скорее Локка, – отвечал Катин.
– Как я счастлив! – воскликнул принц. – Придите же в мои объятья, брат по убежденьям!
Рукопожатие перешло в объятья и завершилось лобызаньем.
Луций был растроган такой горячностью касательно взглядов на общество.
– Идемте, не будем терять времени. Уже спустилась ночь, но скоро выглянут звезды, – сказал Карл-Йоганн. – Вы избавили меня от ранней гибели, и теперь я должен…
Он прервался – должно быть, из-за попавшей в нос пылинки – и звонко чихнул.
Сейчас посулит награду за спасение, подумал наш герой и приготовился с достоинством отказаться, ибо помощь ближнему – естественный порыв, не нуждающийся в вознаграждении.
Принц, однако, сказал иное:
– …И теперь я должен посвятить свою чудом спасенную жизнь исправлению несовершенств сего мира. Да будет вам известно, дорогой брат, что через два дня мне сравняется осьмнадцать лет.
– Поздравляю ваше высочество с днем рожденья.
– Не с днем рожденья, а с совершеннолетьем. Отныне я буду сам управлять своим Ангальтом и, клянусь Истиной, превращу мою маленькую страну в земной парадиз – либо же умру, не совладав с сей задачей. Ах, милый Луциус! Меня переполняют идеи и замыслы! Желаете ли вы узнать какие?
– О да! Непременно! – воскликнул Катин, заражаясь восторженной манерой разговора.
– Позвольте же мне опереться на вашу руку, я немного охромел после падения с лошади. В путь!
И они пошли по темной дороге, оживленно беседуя, но не забывая поглядывать на небеса, чтобы сверять направление по ночным светилам.
Часть вторая Под знаком Януса и Минервы
Глава VII
Герой знакомится с маленькой страной, у которой большие проблемы, и помогает миру стать на толику лучше
Страна принца Карла-Йоганна, который велел товарищу звать его просто Ганселем, располагалась в самой середине германских земель. Полностью она именовалась Имперское Княжество Обер-Ангальт, то есть Верхний Ангальт, ибо по соседству находились два других Ангальта – Средний и Нижний, считая их расположение по реке Эльбе. Некогда всё это было одно «великое княжество», однако еще в прошлом столетии страна поделилась на три части. Считаясь независимым, Обер-Ангальт всегда находился под покровительством какой-нибудь соседней державы: то Саксонии, то Австрии, а в последние десятилетия – нового королевства Пруссии.
Родители принца Ганселя умерли от оспы, едва не сгубившей и его самого, когда мальчику шел третий год. Он их совсем не помнил. Маленькой страной пятнадцать лет управлял регент – герцог Ульрих-Леопольд.
«Мы с дядей видимся только на больших церемониях и воскресных богослужениях, – рассказывал Гансель. – Он человек холодный и, кажется, никого не любит. Во всяком случае, ни жены, ни любовницы, ни даже друзей у дяди никогда не было. Мы отлично уживаемся друг с другом. По-моему, ему нравится, что я все время провожу за книгами и ни во что не вмешиваюсь. Но теперь всё переменится. Я благодарен дяде и его прусскому советнику герру фон Шееру, что они отправили меня воевать. Война открыла мне глаза. Она показала, что прятаться от мира в библиотеке, средь отрадных книг, постыдно! Я рожден принцем, и в моих силах многое совершить! Это моя миссия на сем свете, мой непременный долг: сделать мир, хоть малую его часть, на толику лучше! Хороший государь должен быть для своей страны лекарем, а все рецепты потребных лекарств уже составлены. Они содержатся в тех самых книгах, которые я знаю наизусть!»
Размахивая руками, а иногда и останавливаясь, принц часами описывал планы переустройств, которые намеревался осуществить в своей отчизне. Юный мыслитель с жаром говорил, Луций столь же взволнованно внимал. Время летело незаметно.
За время пути отношение Катина к принцу поменялось. Поначалу молодой человек отнесся к этому почти подростку покровительственно и слушал его со снисхождением, но постепенно приходил во всё большее восхищение.
Это был гений, юный мудрец! Если он исполнит хоть десятую часть задуманного, даже просто попытается – в помощь такому государю не жалко и жизнь положить.
Я буду оберегать сего благородного принца днем и ночью, ведь он так беззащитен, поклялся себе Луций. Он отобрал у Ганселя шпагу, перепоясался ею сам и все время держал руку на эфесе, зорко глядя по сторонам. «Кто нападет – нет, убить не убью, но кровь пролью», – думал защитник, тем самым несколько отступаясь от своего кредо.
По счастью, с отдалением от военных мест дорога сделалась спокойной, и никто на путников не нападал. Через три дня они достигли мирных, неразоренных краев. Здесь наняли карету и теперь увлеченно беседовали, покачиваясь на кожаных подушках и едва замечая, как за окнами сменяются пейзажи.
На седьмой день пути, рассеянно оглянувшись на довольно широкую реку, Гансель прервал пространный дискурс о справедливом взимании налогов и воскликнул:
– Эльба! Мы дома!
Из очей у него хлынули слезы. У принца они всегда были близки и проливались по десять раз на дню – из-за какой-нибудь прекрасной идеи, сильного чувства иль полета мечты. Луций отчасти заразился этой трепетностью. Плакать не плакал, но глазами приятно увлажнялся и подшмыгивал носом.
Теперь Катин смотрел в окно безотрывно – не то что на другие земли.
На вид Ангальт был самой обычной Германией: ухоженные поля и пастбища с тучными коровами, аккуратные селеньица, ветряные мельницы. Столица именовалась Гартенбург, Город-Сад – вероятно, из-за обилия растительности, но ее не меньше было и на окраинах Петербурга с его одноэтажными усадебками. Улицы мощеные, каменные дома увенчаны черепичными крышами веселого красного цвета. Мило глазу, но обыкновенно. Таких городов, а то и краше, Луций за последние полгода повидал немало.
– Это наша главная площадь, называемая Ратушной, – показывал возбужденный Гансель. – Правда нарядная? Вон с того балкона народу зачитывают важные указы. Свой манифест о реформе я тоже объявлю оттуда!
Он высунулся из кареты чуть не до половины, показывая рукой на старинное здание с башней и с террасой на столбах.
На площади кто-то крикнул:
– Принц!
Множество голосов подхватили:
– Принц! Принц вернулся! Он жив! Жив!
Сдернув шляпу, Гансель закланялся направо и налево, а кучеру вполголоса велел:
– Ради бога, быстрее, иначе соберется толпа, и я должен буду ее приветствовать!
Экипаж ускорил ход. Показались чугунные ворота с ангальтским львом, за ними зеленел парк.
Начальник караула – он был в таком же желтом камзоле, как у принца, – отсалютовал и радостно воскликнул:
– Ваше высочество! Слава богу! Мы все так волновались. Эй, отворяйте!
Прямая длинная аллея красного песка привела к фонтану, откуда звездой расходились несколько дорожек.
– Вон там живет дядя, – показал принц на видневшийся поодаль небольшой дворец. – А я обитаю в Эрмитаже, где будете жить и вы. Вам у меня понравится!
Повернули вбок и скоро остановились перед славным двухэтажным особняком в итальянском стиле. Слуги бросились встречать вернувшегося с войны господина. Некоторые припадали к его руке, другие обнимали, а некоторых Гансель облобызал – и все без исключения заливались слезами. Умилился видом такой семейственной приязни и Луций. Ему было радостно, что Карла-Йоганна все здесь любят. А и как такого не любить?
Дом был чудо. Самое большое помещение в нем занимала библиотека, заставленная книгами от пола до потолка. Сзади примыкала стеклянная теплица, в которой произрастали экзотические цветы и экзотические плоды. В дороге Луций узнал, что принц увлекается ботаникой и ухаживает за своей оранжереей сам – это одна из радостей его жизни.
В передней зале принца встретил важный кот именем Цицерон, дал себя погладить, укоризненно качнул круглой башкой, ударил хозяина лапой и лишь потом мурлыкнул.
– Обиделся, что меня долго не было, – объяснил Гансель. – Он очень старый. Мы с ним ровесники – его еще котенком положили мне в колыбель. Наверное, он помнит моих родителей лучше, чем я. Ведь когда они умерли, Цицерон был уже взрослым. Ах, как я по нему скучал! Он любит лежать на столе, когда я читаю.
На кота принц тоже прослезился, но тут же смахнул с ресниц влагу и деловито молвил:
– Устраивайтесь. Вас отведут в покои для дорогих гостей. Мне же предстоит важный разговор. Дяде, конечно, доложили, что я вернулся, но он не догадывается, что я намерен взять надлежащее мне по праву. Ему это вряд ли понравится. Он, верно, думает, что я буду вечно лишь читать книги и выращивать ананасы с орхидеями. Беседа предстоит бурная. Пожелайте мне твердости и спокойствия.
Катин смотрел из окна, как Гансель размашисто шагает по аллее, а сзади еле поспевают два немолодых лакея. Поймал себя на том, что хочет перекрестить юношу вслед – и устыдился этого порыва, недостойного просвещенного человека.
Было тревожно. В Луциевом отечестве власть никто никогда просто так не отдавал, мало считаясь с тем, что кому надлежит по праву. Екатерина Первая отобрала корону у царевича Петра, фельдмаршал Миних согнал законного регента Бирона, нынешняя государыня Елизавета Первая выдернула трон из-под царя Ивана, а помрет она – опять неизвестно, что будет. Конечно, здесь не Россия, а Германия, страна законов и приличий, но все-таки страшно. Кто отнимает власть у действующего правителя не на гвардейских штыках, а с двумя подагрическими лакеями?
Но затем наш герой вспомнил, как обрадовались принцу люди на площади, как просиял караульный начальник, – и немного успокоился. Народ Ганселя любит. Хотя с другой стороны, кого когда занимало, что любит и чего не любит народ?
* * *
Луций готовился к долгому ожиданию, но Карл-Йоганн вернулся довольно скоро. Еще издали, завидев в окне друга, он махнул шляпой, просиял широкой улыбкой – и отлегло от сердца. Кажется, всё хорошо!
– Дядя, как всегда, был с прусским майором Шеером, своим советником, о котором я вам говорил, – гордо рассказал его высочество. – Тот сразу накинулся на меня с упреками: как-де я мог ослушаться короля, Ангальтский полк покрыл себя позором, не произвел ни единого выстрела, а просто разбежался, едва показалась вражеская конница. И прочее подобное. А дядя молчит, кивает головой. Я сначала обратился к Шееру: «Сударь, выйдите вон и ожидайте, когда вас вызовут». Он разинул рот – его никто еще так не осаживал. – Гансель хихикнул. – Дядя переполошился. «Как смеете вы так разговаривать с нашим драгоценным другом, доверенным лицом кузена Фридриха?». А я ему: «Нет, ваша светлость, как это вы смеете так разговаривать с вашим государем? Иль вы забыли, что я достиг совершеннолетия? Так знайте же, что отныне правлю я. Сегодня вечером в аудиенц-зале состоится заседание Гофрата, которому я объявлю свою волю». Видели бы вы дядину физиономию! Она и так белая, тощая, ледяная, а тут вовсе вытянулась в сосульку! Я думал, его хватит удар! А напоследок я снова повернулся к Шееру, который глядел на меня так, будто на его глазах котик обратился в тигра… – С этими словами Гансель погладил запрыгнувшего к нему на колени Цицерона. – И спрашиваю, холодно: «Вы еще здесь, сударь?» Вылетел пулей!
– Я вами восхищаюсь, – воскликнул Луций со всей искренностью. Честно сказать, он не ожидал от нежносердечного юноши такой твердости.
– К членам Гофрата – это наш придворный совет – отправлены посыльные. В восемь часов все соберутся, и мы произведем революцию, о которой говорили в дороге!
Его высочество вскочил, ссадив Цицерона, подошел к столу и покрутил рычажок музыкальной шкатулки. Та заиграла гавот. Реформаторы пустились в пляс, приседая, подпрыгивая и церемонно раскланиваясь друг перед другом.
А полчаса спустя принц горько рыдал. Прибежали из дворца, сказали, что герцога-регента хватил удар – его светлость упал и лишился чувств, но перед тем успел прошептать: «Передайте Ганселю, что я его прощаю».
– Ах! – пролепетал Карл-Йоганн, смертельно побледнев. – Что я наделал! Я убил его!
И закрыл лицо руками.
– Погодите убиваться. Может быть, это только обморок, – сказал ему Катин. – Спешите к нему.
Гансель пробормотал: «Да-да, вы правы». И побежал к двери.
Теперь он воротился из дворца нескоро, далеко за полдень, удрученный.
– Очнулся, но очень плох. Доктор Бауэр, это лейб-медик, присланный королем Фридрихом, очень опытный лекарь, опасается за жизнь больного. Оказывается, у дяди больное сердце. Я этого не знал. Он никогда не жаловался на здоровье, он такой скрытный! Боже, как я мог столь грубо с ним говорить? – Принц схватился за виски. – Ведь это человек, который, как умел, сберегал для меня страну все эти годы! И какое благородство! Он сказал мне, что просит не отменять сегодняшнего заседания. У него одна-единственная просьба: провести совет не в аудиенц-зале, а близ его ложа. Дядя пообещал, что во всем меня поддержит, ибо перед Гофратом княжеская семья должна держаться вместе… Я не знал благородной души этого человека. Как же мне стыдно!
– Сейчас не время плакать, – сказал на это Катин, поражаясь неиссякаемости слезных желез его высочества. – Родственное сочувствие – похвальная эмоция, но у государя она не должна ослаблять решительности. Не отступайтесь от своих великих намерений!
Мокрые глаза принца воззрились на Луция с изумлением.
– Друг мой, с чего вы взяли, что я могу от них отступиться? Сейчас еще немного поплачу и сяду писать тезисы своего выступления.
* * *
На заседание Гофрата они отправились вместе. Катин нарядился в темно-голубой бархатный камзол и лиловые кюлоты из личного гардероба его высочества. Одежда была маловата, поэтому пуговицы пришлось отчасти расстегнуть, в том числе и на штанах, но персиковый жилет прикрывал сверху сие неприличное великому дню обстоятельство. Подкачали только башмаки. В красивые Ганселевы российская нога не поместилась, и Луций одолжился у камердинера. Ничего, под столом расстегнутые пуговицы и скромная обувь будут незаметны.
В дворцовой приемной дожидался некий плотный господин с мясистым, сердитым лицом, который сразу кинулся навстречу принцу. По синему мундиру, по парику «roi de Prusse» с буклями вразлет Катин сразу догадался, что это и есть прусский агент.
Поклонившись, майор фон Шеер запальчиво молвил:
– На каком основании меня не пускают на совет? Я всегда в нем присутствую!
– Вы иностранный подданный, а беседа будет конфиденциальной. Я после непременно извещу вас о ее результатах для передачи вашему государю, – кротко, но твердо отвечал принц.
Агента это не удовлетворило. Его голос стал угрожающим.
– Ваше высочество не должно забывать о принятых вашей страной обязательствах. Как равно и о том, что будет довольно одного прусского полка, чтобы из союзника Пруссии ваше княжество превратилось в ее провинцию, как это произошло с вашим северным соседом!
– А вам не должно забывать, что Обер-Ангальт может взять и перейти под покровительство австрийской короны, – все так же мягко сказал Карл-Йоганн. – И когда ваш король узнает, что причиной этой перемены была ваша дерзость, вы окончите свои дни в темнице.
Шеер открыл рот, закрыл и более ничего не произнес.
– Каков я был? – шепотом спросил принц у Луция, когда они отошли.
– Вы были величественны! – тихо ответил тот. – Не сердитесь, но я больше никогда не посмею называть ваше высочество Ганселем.
Принц остановился, с укором обернулся. Его широко расставленные глаза моментально увлажнились.
– Прошу вас! Хотя бы когда мы наедине!
Катин поспешно согласился. Не хватало, чтоб государь явился перед придворным советом с глазами на мокром месте.
* * *
В историческом заседании ангальтского Гофрата кроме принца и его русского приятеля участвовали еще четыре человека. Про каждого Луций уже кое-что знал, поэтому без труда догадался кто здесь кто.
В углу просторной спальни, перед занавешенным альковом сидел в кресле, средь подушек, герцог Ульрих-Леопольд. Катин воображал регента старцем, а тот оказался мужчиной лет сорока пяти. Был он худ, мелово бледен, с резкими морщинами на впалых щеках, с крючковатым носом. В платье его светлости не было ни единого цветного пятна: черный парик, черный камзол, белая сорочка с кружевами и белым же галстухом. Похож на сороку, подумал Луций.
Первого (и, собственно, единственного) министра графа фон Тиссена принц аттестовал как очень знающего, но робкого господина, беспрекословно исполняющего волю регента и его прусского советника. «Этот не раскроет рта, пока не поймет, куда дует ветер», сказал Карл-Йоганн. Таким граф и выглядел: тихий старичок с застывшей почтительной улыбкой, на камзоле – прусская звезда «Черного орла».
Вдвое толще него был глава ангальтской церкви протопресвитер доктор Эбнер – тоже весьма пожилой, пухлый, словно поднявшееся тесто, и, кажется, совсем не тихий. Вид сердитый, настороженный, жует губами, держит подле уха трубку с раструбом. «Отменно честный, всеми чтимый, но умом недальний», – была характеристика принца.
Наконец главный казначей Драйханд, несколько напоминающий сухую и подвижную ящерицу. Про него было сказано: «Умный и хитрый еврей, превосходный образец своего умного и хитрого племени. Если увидит, что я силен, будет очень полезен. Если решит, что слаб, – будет очень вреден». Луций возлагал на казначеев ум большие надежды и расстроился, увидев, что человек этот возрастом не моложе министра и протопресвитера. Катин не очень-то верил в годность старинных людей к реформам.
Все трое придворных советников расположились за столом близко к хворому регенту, и принцу со спутником пришлось сесть напротив. Будто два враждебных войска перед баталией, с тревогой подумал наш герой. И как мы несхожи! Они стары, мы молоды. Они в черном, мы в цветном. Они в париках, мы без.
И еще мелькнула мысль: не странно ль, что судьбу целой страны, пускай маленькой, решают инвалид, три старика и два молокососа?
* * *
Поприветствовав собравшихся и осведомившись о дядином самочувствии (тот лишь вяло махнул костлявой рукой), Карл-Йоганн представил совету Луция в новоучрежденной должности гофсекретаря. Все уставились на Катина с сомнением и подозрением.
– Русский? – слабым голосом переспросил герцог. – Я не ослышался? Боже… Король Фридрих и так на нас гневен, майор фон Шеер смертельно оскорблен, а вы еще вводите в Гофрат подданного враждебной державы… Впрочем, вы теперь становитесь правителем, вашему высочеству виднее… Позвольте мне, слагая с себя регентские полномочия, коротко обрисовать состояние дел нашего Ангальта…
Говорил он медленно, задыхаясь, с долгими остановками, от которых всем становилось мучительно. Речь, несмотря на обещание краткости, получилась длинной. Луций выслушал ее очень внимательно.
Герцог повествовал, в сколь плачевном состоянии принял он княжество после своего безвременно почившего брата и как потом пятнадцать лет, не жалея сил, трудился на благо Ангальта. Ему – конечно, с помощью почтенного графа Тиссена и герра Драйханда, а также с благословения высокопреподобного доктора Эбнера – удалось возвысить доходы страны и умерить ее расходы, благодаря чему княжество достигло скромного процветания, однако с прошлого года, когда грянула эта ужасная война, дела пришли в расстройство. Ангальт оказался в положении маленькой овечки, угодившей в свару огромных свирепых хищников. Торговля остановилась, ремесла угнетены, производимые товары не находят сбыта, на всех рубежах сгущаются тучи. Снаряжение полка из двух тысяч солдат, во исполнение союзнических обязательств перед Берлином, совершенно опустошило казну, но эта жертва оказалась напрасна. (В этом месте Ульрих-Леопольд скорбно покачал головой). Берлин разгневан тем, как ангальтцы вели себя на поле битвы, и теперь не станет оборонять такого ненадежного союзника от Вены. Княжество может подвергнуться либо австрийскому вторжению, либо прусской оккупации. Но если даже гигантам будет не до карлика, все равно положение отчаянное: государству грозит разорение от истощения доходов.
– Впрочем, теперь всё это забота моего дорогого племянника, который, по счастью, освободил меня от груза государственной ответственности… – еле слышно закончил регент, истратив на элоквенцию все свои слабые силы.
Воцарилось унылое молчание. Члены Гофрата выжидательно смотрели на принца. Тот медлил, его пальцы подрагивали.
Луций под столом ободряюще дернул его высочество за рукав: приступайте!
– Я желал бы знать мнение каждого: что, по-вашему, является самой главной задачей правительства? – спросил Карл-Йоганн тихим голосом. Он сейчас напоминал школяра, оказавшегося на профессорском совете.
– Улучшение нравственности народа, – уверенно заявил протопресвитер. – Он распущен, лукав и тунеяден.
– Господин первый министр?
Граф фон Тиссен почтительно молвил:
– Дипломатия. Надобно уладить отношения с Берлином и попытаться не раздражать Вену.
– Господин Драйханд?
Казначей был лаконичнее всех. Он сказал:
– Деньги.
И сощурил голые веки, быстро переводя взгляд с племянника на дядю и обратно.
Герцог ограничился мановением пальцев. Сей жест означал: что́ меня спрашивать, мое время на земле заканчивается.
Выдержав паузу, принц объявил:
– Я должен согласиться с доктором Эбнером.
Для Катина эти слова были неожиданностью. А, он хочет заполучить пресвитера в союзники, сказал себе Луций. Коли так, это очень неглупо. Вон как старик замаслился.
– Главное достояние всякой страны, как большой, так и маленькой, – обитающие в ней люди. Их улучшением я и намерен с вашей помощью заняться, почитая это главной нашей задачей, – продолжил Карл-Йоганн.
Он уже не робел, голос окреп, глаза засверкали.
– За тысячи лет это пока никому не удалось, – проскрипел господин Драйханд, кажется, окончательно решив смотреть только на дядю.
– Может быть, все неправильно пытались? – спросил принц – и этим вопросом лишил себя единственного симпатизанта средь членов совета.
Эбнер сдвинул густые седые брови.
– Иисус тоже пытался неправильно?!
– Иисус не пытался, пытались церковники – и да, они это делали неправильно, – тихо, но твердо молвил юноша, который, как теперь стало ясно Луцию, вовсе не тщился расположить к себе главу ангальтской церкви.
Казначей иронически переглянулся с министром.
– А как правильно, ваше высочество?
Карл-Йоганн порывисто вскочил – Катин едва успел подхватить стул, чтобы тот не перевернулся.
– Большинство людей не полны доброты, но и не гноятся злобой; не кристально чисты, но и не безнадежно вороваты; не святы, но и не преступны. В них – в нас – намешано плохого и хорошего. Тем человек и интересен, что у него есть выбор, какой стороне своей души давать ход – белой или черной. У человека есть воля. Коль я верно понимаю смысл религии, Бог и есть выбор в пользу белого, а Дьявол – выбор в пользу черного!
Здесь оратору понадобилось сделать паузу, у него кончился воздух. Герцог пожал плечами, изрек:
– Философия.
– Да, дядя, философия! Потому она и есть главнейшая из наук, что позволяет человеку иметь принципы и во всякой ситуации сделать правильный выбор! Должна быть философия и у государства! Смысл ее в том, чтобы правильный выбор делала целая страна. Еще в античности считалось, что лучший государь – это философ на троне. Таковым я и желаю быть!
Регент красноречиво закатил глаза к потолку, казначей усмехнулся, а Луций подумал, что мальчик сейчас исполнен настоящего величия. Наш герой был взволнован не меньше принца.
– А в чем, по мысли вашего высочества, должна состоять философия нашего Ангальта? – учтиво осведомился первый министр.
– Мы создадим такие законы и правила, при которых подданным выгоднее быть честными, работящими, законопослушными и добрыми, нежели вороватыми, ленивыми, обманывающими закон и злыми. Вот и вся формула! – обернулся Карл-Йоганн к графу, который, по крайней мере, взирал на него без насмешки или негодования. – Какие это должны быть законы, я пока в точности не знаю и надеюсь на вашу, господа, помощь. Но перед тем, как мы займемся строительством, позвольте описать строительную площадку – как я ее вижу и расцениваю.
Он поворотился к герцогу.
– Вы, дядя, говорили, сколь тягостно положение нашей страны. Мне же, напротив, представляется, что оно весьма благополучно. Из-за того что мы малы, нам не нужно ни с кем воевать и содержать армию, отрывая молодых мужчин от работы и обучая их отвратительной науке убийства. Это первое. Второе: малую территорию легко держать под наблюдением. Я могу проехать Ангальт на коне с запада на восток за один день, а с севера на юг даже и пройти пешком. Население наше тоже невелико, всего шестьдесят пять тысяч душ, а это значит, что можно уделить внимание каждому. Если же говорить о качестве сей человеческой материи, то она, доктор Эбнер, из лучших в Европе. У наших ангальтцев в крови добропорядочность, почтение к закону, аккуратность и трудолюбие. Мы с вами живем в просвещенном восемнадцатом столетии, в эпоху великих и смелых общественных идей, но применить их на практике в большой стране очень трудно. А у нас – легко! Мы, верно, самая лучшая и самая удобная лаборатория для сего исторического опыта! Мы можем превратить Ангальт в цветущий сад! Ибо добронамеренная власть должна почитать себя садовником: сажать полезные растения и выпалывать сорняки, удобрять почву, защищать ее от засухи и излишних ливней, от грозы и заморозков. Прочее же растения исполнят сами – потянутся к солнцу, дадут цветы и плоды! И тогда мы изменим скучное название нашего края! Он станет называться княжество Гартенлянд, Страна-сад! Это будет истинный земной Элизий, где не останется места злу!
– Но злодеи-то никуда не денутся, ибо грех заложен в человеческую природу, – прервал вдохновенного оратора священник, прижимавший к тугому уху свой раструб. – Мне по сердцу высокий порыв вашего высочества, однако нельзя слишком отрываться от земли. Сад садом, но долг государства – карать и казнить преступников.
Карл-Йоганн заморгал, сбитый с мысли. Луций знал, что это было лишь начало приготовленного дискурса.
– Казней у нас не будет, как и унизительных для человеческого достоинства телесных наказаний. Не будет и тюрем.
– Как так? – поразился граф Тиссен. – Бывают же непоправимые злодеи.
– Бывают.
– Бывает и так, что ужасное преступление под воздействием злых чувств совершает обыкновенный человек!
– Бывает.
– Что ж их, не карать?
– Зло, конечно, не должно оставаться безнаказанным, это противоречит справедливости. Но в Гартенлянде наказания будут не такими, как в других странах. Наказаний будет два: за менее тяжкие проступки – понижение в ранге…
Они считают его пустомелей и фантазером, подумал Катин. Погодите, сейчас вы зашевелитесь.
Принц сделал паузу намеренно, дожидаясь вопроса, который незамедлительно и последовал.
– В каком еще ранге? – спросил дядя.
Начинается! Луций уселся поудобнее.
– Видите ли, я намерен переменить форму государственного устройства с абсолютно-монархической на монархо-аристократическую. Аристократия будет соучаствовать в управлении.
– Как в Польше?
– Нет. Там аристократия – это власть знатных, а у нас это будет власть лучших. Голубизна крови и родословная не будут иметь никакого значения.
Все ошеломленно переглянулись. Катин внутренне улыбнулся.
– Сейчас в Ангальте 120 дворянских фамилий, то есть шесть или семь сотен людей, имеющих благородное звание. Но чем, кроме случайности рождения, заслужили они свой статус? И много ль от них проку? Я заведу новое дворянство.
Его слушали в гробовом молчании.
– Первым моим законом будет манифест об аттестации достойнейших ангальтцев. Они будут возводиться в три ранга: юнкера, рыцаря и барона. Первый ранг получит всякий, кто, во-первых, [здесь Карл-Йоганн заглянул в листок] довольно образован, чтобы читать, писать, знать арифметику и географию с историей. Мы учредим экзаменационную комиссию, которая будет выдавать соответствующее свидетельство. Полагаю, это средство побудит многих к учению. Но одной образованности для получения низшей степени дворянства не довольно. Понадобятся некие доказательства общественной полезности. Юнкером станет образованный человек, который платит подати выше минимальных, или небогат, но известен добрыми делами, или имеет много детей и хорошо их содержит, или славен своим ремесленным искусством, или хороший врач. Ну и, конечно, все учителя и священники, достойные своего высокого призвания…
Члены Гофрата в ошеломлении не шевелились.
– Звания рыцаря будут удостаиваться выпускники университетов, а также юнкера, заслужившие отличие своими достохвальными деяниями. Наконец высшая аристократия, баронство, образуется из лучших и ценнейших мужей нашей страны, для которых служение Гартенлянду составляет смысл жизни. Все вы, члены Совета, конечно, станете баронами.
– Я и так граф! – воскликнул тишайший фон Тиссен. – Зачем мне превращаться в барона?!
– Нынешний титул останется частью вашего имени, – успокоил его принц. – Но, уверяю вас, звание гартенляндского барона будет почетнее и значительнее. Со временем, когда новая иерархия сформируется и утвердится, мы создадим Ассамблею и учредим выборы, участвовать в которых смогут новые аристократы. При этом у юнкера будет один голос, у рыцаря два, а у барона три. И не думаю, что народ возмутится подобному неравенству. Никому ведь не заказан путь в дворянство, и по наследству никто его не получит. Учись, будь достоин – и станешь аристократом.
– Народ-то не возмутится, но взбунтуются все нынешние дворяне! – задыхаясь, проговорил герцог. – Опомнитесь! Вы погубите наш дом! Вас попросту свергнут!
– Нет. Потому что от старых дворян меня защитят новые. К тому же многие из прежних, кто достоин, сохранят иль даже повысят свое положение, – спокойно ответил Карл-Йоганн. – А теперь, после сего отступления, я вернусь к вопросу о гартенляндских уголовных наказаниях. Как я уже сказал, кары будут двух степеней. За умеренную провинность дворянин будет на некий срок лишаться благородного звания, а простолюдин – возможности его обретения. За преступления ужасные, не допускающие снисхождения, виновный будет приговариваться к изгнанию из Страны-Сада. В самых тяжких случаях – навсегда, пожизненно.
– Да что это за кара! – возмутился доктор Эбнер. – Вокруг вся Германия! Пускай убийца иль насильник отправляется хоть в Саксонию, хоть в Баварию, сохранив голову на плечах?
– Разве Всевышний наказал Адама и Еву отсечением головы? – кротко возразил Карл-Йоганн. – Нет, он лишь изгнал их из Эдема, сказав: живите где хотите и как хотите, но не здесь. Нам надобно создать такую страну, чтобы жители страшились разлуки с ней больше всего на свете. А ни палачей, ни тюремщиков среди моих служителей не будет. Это ремесла, человека недостойные.
Он ждал еще вопросов, но другая сторона стола молчала. Луций зорко следил за каждым. Священник уже не гневался, а призадумался. Министр растерянно помаргивал. Казначей перестал смотреть на дядю и теперь внимательно, словно прицениваясь, изучал племянника.
Кажется, поняли, что перед ними может, и фантазер, но не пустомеля.
Тишину нарушил регент.
– Я скажу, чем закончится ваш общественный эксперимент, – грустно сказал он. – Вы очень молоды и чересчур умозрительны в своих суждениях о людях. Народ – как собака. Пока держишь ее в строгости и на поводке, она послушна, виляет хвостом и лижет руку. Но коли разбалуешь, начнет огрызаться, гадить где ни попадя и в конце концов покусает хозяина. Когда ты предлагаешь черни палец, она отхватывает руку. Многие прекраснодушные государи в истории узнали сию горькую истину, когда было слишком поздно.
Принц ответил так:
– Отличие народа от собаки состоит в том, что собака, о которой вы говорите, взрослая и более уже не вырастет, а народ подобен ребенку. Он растет и обучается. И чем он делается старше, тем больше следует давать ему свободы. В том и состоит миссия монарха, чтобы отпускать эти помочи не слишком быстро, но и не слишком медленно. Вот зачем мне нужна новая аристократия. В нее будут включаться граждане, которые перестают быть детьми и становятся взрослыми.
Эти простые слова будто переменили некий невидимый баланс. Доктор Эбнер задумчиво покивал. Граф Тиссен со вздохом возвел очи горе, словно смиряясь с неизбежным и отдаваясь на волю Провидения.
А казначей перестал щуриться и деловито заметил:
– Я, ваше высочество, человек практический, и меня занимает вот что. Любые преобразования, в особенности столь размашистые, производят хаос в умах, и тут единственное средство избежать смуты – занять народ делом и обеспечить заработком. Ваше высочество учитывало сие обстоятельство при замышлении реформ?
– Конечно, дорогой герр Драйханд. Мы займем людей работой по ремонту дорог и строительству общественных зданий, полезность которых очевидна для всех.
– Да на какие деньги?! А бесплатно работать никто не станет.
Принц с улыбкой глянул на Луция. В дороге они подробно обо всем этом говорили.
– Деньги возьмутся от тех, кто пожелает стать дворянином. Добровольные взносы на благие дела облегчат получение благородного звания. У кого нет денег, смогут поднять свой общественный капитал бесплатным трудом. Уверяю вас, и первых, и вторых найдется предостаточно.
– Это пожалуй, – не стал спорить Драйханд. – Люди честолюбивы и любят друг перед дружкой покрасоваться. Странно, что никому прежде не пришло в голову обратить эту человеческую слабость в общественное благо. Однако деньги понадобятся и княжеской казне. Она совершенно пуста и до окончания войны ниоткуда не пополнится.
– Пополнится. И именно благодаря войне. Всякий кризис есть нераспознанный шанс, открывающийся предприимчивому уму.
Казначей воскликнул:
– Ежели бы я не знал генеалогии вашего высочества, я бы вообразил, что вы еврей! Именно так мы всегда и рассуждаем!
– Что вы себе позволяете, господин Драйханд?! Называть христианского государя евреем?! – заколыхался пресвитер.
Но принц казначею польщенно улыбнулся и продолжил:
– Мы с господином Катиным обсудили некий план действий, касающийся вашего ведомства. Из-за войны в саксонском Лейпциге перестала собираться тамошняя знаменитая ярмарка. Мы разошлем приглашение всем негоциантам и оптовым торговцам, пообещав наилучшие условия и невысокую плату. На Овечьем луге близ Гартенбурга можно поставить балаганы и склады, а горожане охотно разместят у себя постояльцев. Если же война не окончится и в следующем году, что весьма вероятно, мы построим постоялые дворы и гостиницы. Нейтралитет имеет большие выгоды. Мы будем поставлять муку, овес, сукно и прочие товары обеим сторонам.
– Я бы еще учредил банк, – сказал Драйханд. – В эти опасные времена состоятельным людям необходимо где-то хранить деньги. Капиталы потекут к нам рекой.
Регент просипел из своего кресла:
– Что за чушь вы несете! Как только в вашем банке наберется много золота и серебра, король Фридрих введет войска и всё конфискует! А то вы его не знаете!
Казначей и Карл-Йоганн обменялись взглядами, в которых читалась снисходительность к невежеству его светлости.
– Видите ли, дядя, – деликатно объяснил юноша, – современный банк это не совсем то, что вы себе представляете. Деньги в нем не хранятся, они размещены там, где могут приносить прибыль.
– На Амстердамской бирже, я полагаю, – сказал Драйханд. – А для дополнительной гарантии безопасности наш банк предложит и Берлину, и Вене разместить у нас средства под очень высокий процент. Тогда ни Пруссия, ни Австрия не захотят резать курицу, которая несет золотые яйца.
Герцог уронил голову, пробормотал:
– Я гляжу, вы отлично спелись… Бог с вами, мне уже все равно…
Теперь, увидев, что старая власть окончательно сдала свои позиции, к обсуждению присоединился и министр.
– Однако для учреждения банка нужен стартовый капитал, и немалый. Где мы его возьмем?
– Если княжество пообещает евреям все права равенства, с этим сложностей не возникнет. – Казначей выжидательно смотрел на принца.
Тот заявил:
– Это будет сделано вне зависимости от того, дадут евреи денег или нет. Гартенлянд провозгласит полную свободу совести.
Луциус отметил, что сказано это было негромко – вероятно, чтобы не разбудить высокопреподобного Эбнера, который задремал под скучную экономическую беседу. Мальчик-то, выходит, не только стратег, но и тактик!
– Тогда гарантирую: деньги будут, – уверенно изрек казначей. – А с деньгами можно своротить горы.
И дальше разговор повернул на детали и подробности, касающиеся редактуры и обнародования великого манифеста.
Я свидетель настоящего чуда, восторженно думал Катин, по своей секретарской должности записывая все принятые решения. На моих глазах мир вознамерился стать чуть-чуть лучше. А некая малая его часть может улучшиться даже изрядно. Рай не рай, но нечто еще не бывалое в этой крошечной стране возникнет. Какой великий, какой счастливый день!
Громкий стук прервал сладостные мысли. Несчастный больной повалился на пол и остался неподвижен. Оборвав себя на полуслове, принц кинулся к дядиному креслу.
Члены Гофрата вскочили, а из-за альковного полога выскользнул желтолицый господин в черном камзоле и синих очках.
– Не трогайте герцога! – крикнул он с деревянным берлинским выговором. – Отойдите!
Карл-Йоганн оглянулся.
– Доктор Бауэр, как хорошо, что вы здесь! Помогите дяде! Что с ним?
Лейб-медик присел на колени, потрогал пульс, приложил ухо к груди, приподнял пальцем дряблое веко.
– Это удар. Лопнула жила в мозгу. Ах, я заклинал его отложить заседание! Теперь, увы, он обречен… Сердце бьется ровно, но его светлость уже не очнется.
– Что же будет? – пролепетал принц.
– Медицина в таких случаях, увы, бессильна. – Доктор со вздохом поднялся. – Больной проживет неделю, много две, и умрет от истощения либо от воспаления легких.
Карл-Йоганн закрыл руками лицо, разрыдался.
– Это я, я погубил его! Как же мне теперь жить? Луциус, друг мой, уведите меня отсюда, мне дурно…
* * *
Исторический день закончился печально. Великие решения остались недоработаны, манифест не окончен, а принц, едва вернувшись к себе, слег с жесточайшей лихорадкой.
* * *
Несколько дней казалось, что Ангальт потеряет обоих своих правителей – старого и нового. Лейб-медик разрывался меж дворцом и Эрмитажем.
Герцог Ульрих-Леопольд не приходил в себя и делался все слабее. Принц Карл-Йоганн то стучал зубами в ознобе, то обливался потом. Луций не отходил от него ни на минуту, вспомнив медицинский курс, который прошел при Санкт-Петербургской академии из любопытства к человеческой анатомии.
Доктор Бауэр был врачом старой школы и свято верил в полезность кровопускания. Из-за этого меж ним и Катиным произошел спор.
Луций доказывал, что новейшая наука отвергает сию процедуру, поскольку она ослабляет силы организма, тем самым мешая ему окрепнуть и выздороветь. Его высочество и так худосочен, кровопотеря для него опасна. Надо позволить природе исполнить ее естественную работу.
Пруссак горячился, обзывал оппонента мальчишкой и невеждой, а в конце концов воззвал к больному, чтобы тот сам избрал способ лечения.
– Я выбираю дружбу… – прошелестел его высочество. – …Даже если она ошибается…
Бауэр топнул ногой.
– Ego manibus lavabit![6] Более вы меня здесь не увидите! Коли умрете – вините русского профана! Заклинаю об одном: хотя бы принимайте декокт, который я вам оставляю!
С этими словами он удалился и действительно в Эрмитаже больше не показывался.
Словно назло ему со следующего дня больной пошел на поправку, хотя прописанного декокта так и не пил, – Луций объяснил, что, согласно новейшим медицинским воззрениям, которых придерживается сам великий Руссо, химия тоже насильствует над естеством и поощряться не должна.
– Знаю я эту теорию, – сказал принц пусть слабо, но уже улыбаясь. – Вы излагаете ее не до конца. Она еще гласит, что организм, не способный сам себя вылечить, должен умереть, так как смерть тоже вполне естественна.
Карл-Йоганн уже начал вставать, но новый удар опять свалил его в постель. Сдох кот Цицерон. Принц нашел своего любимца в спальне, на прикроватном столике, бездыханного. Рядом валялся перевернутый пузырек с декоктом, его содержимое разлилось, и резко пахло валерианой. Привлеченный сим соблазнительным для кошек запахом, Цицерон нализался – и не выдержало старое сердце.
Принц был безутешен. Он орошал слезами мохнатого покойника, предавался трогательным воспоминаниям об их совместном детстве и каялся, что сразу не выкинул проклятую химию.
Утешили скорбящего доводы разума – они всегда действовали на Ганселя безотказно. «Это хорошая смерть, – сказал ему Луций. – Бедняга был уже совсем дряхл. Как знать – может быть, он ушел из жизни добровольно, как Сенека, испивший цикуту». И принц плакать перестал.
Наутро кота похоронили в парке с тем, чтобы впоследствии возвести над могилой памятную стелу, и Карл-Йоганн уже мог присутствовать на печальной церемонии. А еще днем позже принц был почти совершенно здоров и даже весел.
– Жизнь хоронит своих мертвых и продолжается, – бодро сказал он другу за завтраком. – Пока мы дожидаемся следующих похорон, ничего предпринять все равно нельзя. Если я обнародую манифест и тут же умрет герцог, мои суеверные подданные сочтут это дурным предзнаменованием. Оплачем дорогого дядю, выдержим две недели траура, и тогда уже произведем нашу реформацию. Лишнее время для подготовки будет кстати. И, если уж общественные заботы дают нам передышку, не грех заняться делами приватными. Мы едем в Средний Ангальт.
– Зачем?
Принц застенчиво потупился.
– К моей Ангелике. Я все время говорил с вами о побуждениях разума, но есть еще побуждения сердца.
Он пояснил с нежною улыбкой:
– Принцесса Ангелика Миттель-Ангальтская – моя невеста. Я расскажу вам о ней в дороге.
Глава VIII
О преимуществах возвышенной любви и пользе физиогномистики. Проигранный спор. Мост над бурными водами
Но рассказ начался не сразу. Пока открытая коляска ехала через Гартенбург, принц должен был сидеть с приличествующей государю степенностью, к тому же все время кивал встречным мужчинам, а перед женщинами приподнимал шляпу. В конце концов сие однообразное движение Ганселю надоело. Он снял головной убор и позволил ветру сдуть русые пряди со лба.
Когда городские постройки остались позади, Гансель с облегчением откинулся на сиденье.
– Слава богу! А то я будто китайский болванчик. Надо было ехать в закрытой карете, но погода так прелестна! – Он поднял взор к синему небу, белым облакам. – Слушайте же мою повесть и скоро поймете, почему я попросил вас сопровождать меня. Ангелика мне родственница, что само по себе немного значит, ибо у меня одних двоюродных семнадцать, а число троюродных я в точности назвать не берусь. Мы, немецкие князья, будто кролики в одной вольере, все по многу раз между собой скрестились и продолжаем запутывать наше родство. Мы с моей Гели появились на свет почти в один день и сразу же были помолвлены во имя укрепления уз меж двумя соседствующими Ангальтами и, может быть, их будущего соединения. Такова была воля родителей, священная для нас обоих. Возможно [он лукаво улыбнулся], я не считал бы ее столь уж священной, если бы с ней не совместилось влечение сердца. Верней, обоих сердец.
– Так вы любите и любимы? – обрадовался Катин. – Голос чувства соединяется с доводами политической целесообразности? Ангальт может стать вдвое больше?
– Политической целесообразности никакой не осталось, поскольку наш сосед утратил независимость. Покойный князь, отец Ангелики, неосторожно взял у короля Фридриха ссуду, которую не смог вернуть в срок, и управление страной перешло к кредитору. Теперь в Миттель-Ангальте правит прусский администратор и размещен прусский гарнизон. У Ангелики остались лишь титул да загородное поместье. Она очень бедная невеста, почти бесприданница, так что любовь моя нематериальная.
– Надеюсь, по крайней мере, не платоническая? – шутливо спросил Луций.
Гансель посмотрел на него с восхищением.
– Меня не устает поражать ваша проницательность! Ангелика любит меня всею душой, но… – Он запнулся.
– Какое может быть «но», если любит?
– Только душой. – Рябое чело Ганселя наморщилось, углы широкого рта опустились. – Ее любовь именно что платоническая…
Луций ужасно обиделся за друга. Он некрасив лицом и неуклюж в движеньях, однако надо быть дурой, чтобы не разглядеть за неказистой оболочкой драгоценнейшую из красот! Среднеангальтская принцесса Катину сразу разонравилась.
– Простите, но в таком случае эта девица вас недостойна! – сердито вскричал он.
– Не спешите с заключениями. Вы ее не знаете. Причина не в физическом отвращении к моей персоне. Пусть я не Адонис, но Ангелике я мил такой, какой я есть. Это мне хорошо известно. Но она – существо возвышенное. Всякая грубость и вульгарность ей несносны. Она считает физиологическую сторону любви постыдной и оскорбительной. Истинная привязанность не нуждается в подобном скотстве, говорит она. Это грязь, это срам, не будем же мы с вами уподобляться животным. И прочее, и прочее. Гели, конечно, права. – Гансель покраснел. – Я читал про то, как происходит соитие мужчины с женщиной, это отвратительно! Не могу себе даже вообразить, как я стал бы вытворять нечто подобное с моей хрупкой Ангеликой…
Он зажмурился. Должно быть, все-таки представил – и побагровел еще пуще.
– Скажите, Луций, проделывали вы с женщинами нечто подобное?
– Множество раз. И уверяю вас, тут нет ничего унизительного ни для одной из участвующих сторон!
– Может быть – если речь идет об обычных земных женщинах. Но вы не видели мою Гели. – Принц вздохнул. – Буду откровенен с вами. Должен со стыдом признаться, что, когда я целую ее в щеку либо даже просто касаюсь руки, животное начало пробуждается во мне, и я начинаю желать, чтобы… Нет-нет, я не должен, не должен! – Он затряс головой. – Меня огорчает лишь одно. Ежели б я был уверен, что Ангелика следует собственным убеждениям, я бы не роптал и смирился. Но у меня есть надежда… то есть подозрение, что всё дело в госпоже фон Вайлер…
И стал рассказывать про компаньонку и ближайшую подругу невесты Беттину фон Вайлер. Она очень немолода, лет двадцати пяти, необычайно умна, резка в суждениях. Ангелика всецело находится под влиянием сей старой девы.
– И ваше высочество взяли меня с собой, надеясь, что я помогу переубедить принцессу касательно низменности плотской любви?
– Не ее. Беттину. Вы красноречивы и прекрасно владеете логикой, а это единственный язык, которым можно разговаривать с фрейляйн фон Вайлер. Я перед ней цепенею и всякий раз оказываюсь разбит. Она переспорит кого угодно!
– Положитесь на меня, – пообещал Луций, усмехнувшись. – Немолодые женщины – моя специальность.
Старая дева и, разумеется, уродина порицает чувственную любовь как Лафонтенова лисица, отвергающая недоступный виноград, рассудил наш герой. Вести с нею дискуссии незачем. Надобно сунуть ей виноградную гроздь прямо в рот, чтобы вкусила сладость сочных ягод. Тому, кто жертвовал философией ради невеликих чар госпожи Буркхардт иль Мавры Хавронской, будет нетрудно пойти на ту же жертву во имя счастья друга. Имея много случаев убедиться в своем воздействии на противный пол, Луций не сомневался, что девица фон Вайлер окажется легкоприступной крепостью.
* * *
Через два часа приятной езды коляска достигла границы между двумя Ангальтами, где по одну сторону шлагбаума зевал желтый солдат, а по другую синий. С прусской, правда, был еще и офицер, почтительно отсалютовавший экипажу с княжеским гербом на лаковой дверце.
Если б не это, уловить разницу меж двумя княжествами было бы невозможно. Такие же деревеньки, такие же луга и мельницы.
Скоро уже знакомый прусский офицер промчался мимо галопом – верно, поскакал докладывать начальству о приезде высокого гостя.
Катин с беспокойством проводил глазами облако пыли.
– Мы на территории, где властвуют пруссаки, а их король на вас гневен. Не опасно ли вашему высочеству здесь находиться?
– Бросьте. Не арестуют же они меня. – Принц засмеялся. – Это вооружило бы против Фридриха владетелей всех немецких стран и стало бы превосходным подарком для австрийцев. Мой двоюродный дядя кто угодно, но не глупец.
Некоторое время спустя он велел кучеру остановиться.
– До поместья еще пара миль, но давайте прогуляемся. Погода превосходная, и мне хочется посмотреть на жизнь обыкновенных людей вблизи. Вы знаете, что дома у меня нет такой возможности. Возвращайся в Гартенбург, приятель, – велел принц кучеру. – Нам дадут лошадей для обратной дороги.
Посмотреть на жизнь обыкновенных людей у Ганселя, впрочем, не получилось, потому что друзья завели разговор на интересную тему, заспорили и так увлеклись, что не глядели по сторонам.
Беседа была о том, как быть со свободой печати. Без нее в цивилизованном обществе невозможно, однако же это очень опасная игрушка, особенно в непривычных к ней руках. Журналисты получают право ругать правительство, сами ничего не делая и ни за что не отвечая. Читатели подхватывают это раздражение и перестают уважать государство, отчего в стране начинаются разброд и смута. Как разрешить это противоречие?
Постепенностью, доказывал Луций. Право на критику надобно предоставлять не всем подряд, а лишь тем, кто заслужил его своими деяниями. Бранить уважаемых персон могут люди, сами достойные уважения. Тогда, глядишь, дискуссия тоже получится уважительной, а не склочной. Сначала нужно открыть одну газету – «Баронскую», печататься в которой смогут только бароны. Их суждения будут так же взвешены и почтительны, как возражения членов Гофрата. Затем придет время открыть «Рыцарскую газету», более отдаленную от власти, а впоследствии и «Юнкерскую». Но никто рангом ниже юнкера к публичности допускаться не должен. Желаешь взывать к народу – сначала яви ему свою ценность.
Принц слушал, возражал, уточнял. Время летело незаметно.
– Глядите, мы в селении! – сказал вдруг Гансель, с удивлением оглядываясь. Спорщики и не заметили, как сюда дошли. – Это постоялый двор, а в нем должна быть харчевня. Давайте пообедаем. От прогулки я ужасно проголодался, а у Ангелики нам подадут какие-нибудь пустяки. Да и постесняюсь я в ее присутствии насыщаться материальною пищей. А еще давайте прекратим нашу полемику и просто посмотрим на посетителей. Знаете, я иногда гляжу из кареты на прохожих и пытаюсь угадать: что это за человек, чем занимается, о чем думает?
Они сели за стол, Гансель заказал всю еду, записанную мелом на доске, – чтобы отведать по чуть-чуть от каждого блюда, каких не готовят дворцовые повара. Дожидаясь кушаний, юноша шепотом расспрашивал приятеля о прочих обедающих.
Это мельник, говорил Катин, видите, у него рукава присыпаны мукой. Это, верно, часовщик – вон из кармана торчит край лупы. Это ветеринар, это кожевенник, это кузнец иль подмастерье кузнеца. Ничего трудного, лишь наблюдательность и знание физиогномистики, скромно отвечал он в ответ на восторги.
– Какая полезная наука! – восхитился принц. – Желал бы я ею овладеть. Когда вы объясняете, всё кажется простым, однако вот вам задачка посложнее. Кто тот почтенный старец, внушающий толикое уважение окружающим, что никто больше не сел к нему за стол? Должно быть, профессор или пастор? А какая похвальная опрятность! Он пришел с собственной кружкой, миской и ложкой!
В углу один-одинешенек сидел пожилой господин в черном, сосредоточенно ел, ни на кого не смотрел, а между тем остальные на него тайком поглядывали и перешептывались. Луций приметил, что трактирный слуга наливает черному человеку пиво очень странно – встав подальше от стола и весь изогнувшись.
– Думаю, это городской палач. У нас в полку так же держался профос. Всюду носил собственную ложку и миску, и никто никогда к нему не подсаживался.
– Как интересно! А что делают те юноши? Почему они все бьют вон того рыжего картами по носу и хохочут, а он не защищается и не протестует?
– Это ученики пекаря играют в карты.
– Почему не на деньги?
– Потому что денег у них нет, они играют на «носы». Вот вам подтверждение тезиса о том, что государству можно обходиться и без золота с серебром – вспомните наш давнишний спор. Правительство учреждает какие-нибудь «носы» – допустим знаки, отпечатанные на бумаге, – и объявляет, что отныне…
Но принц сейчас был не расположен говорить о серьезном.
– Ах, сколь колоритная пара! Скорее объясните мне, кто они! – схватил он Луция за руку.
В харчевню вошли двое: огромный суетливый толстяк и с ним медлительный, будто сонный человечек, собою худенький, низкорослый.
– Эй, вина, да поживее, а не то как дам по шее! – заорал первый и расхохотался. – Каков из меня поэт, а, дружище Вольфи? Топай, Вольфи, поживей, брюхо требует харчей!
Дружище Вольфи безучастно поглядел на шумного спутника снизу вверх, но живее не пошел, а лишь зевнул.
– Чем они заинтересовали ваше высочество?
– Зовите меня Ганселем, не то я обижусь. Ну как же! Они будто поменялись шкурами. Толстяку полагается быть флегматичным, а тощему – юрким, у этих же всё наоборот!
Луций посмотрел на пару внимательней, и что-то она ему не понравилась. У жовиального колосса был поразительно острый взор, кажется, совершенно не разделяющий веселости с круглыми щеками и улыбчивыми губами.
Точно такой же взгляд был у убитого в баталии сержанта Карповица и еще у нескольких старых служак, привычных к жестокости и убийству. У коротышки глаз было не видно – этот как уселся, сразу опустил голову и задремал.
– Детина – или наемник, или, что скорее, грабитель с большой дороги. Не желал бы я с ним повстречаться ночью в пустынном месте. Второй – его помощник или, может, скупщик краденого.
Принц весь задрожал от любопытства:
– Как вы думаете, а если с ними поговорить?
– Не стоит. Они могут заподозрить какую-нибудь каверзу, а при малейшей опасности подобные люди выпускают когти.
Так, в занятиях физиогномистикой, и прошел весь обед. Его высочество съел половинку фрикадельки с чесноком, ложку тушеной капусты, по крошечному кусочку кровяной колбасы и луковой сосиски, корочку грубого хлеба, чуть-чуть каши со свиными потрохами, от всего пришел в восторг и совершенно насытился.
– Ах, сколько новых впечатлений! – радовался он. – И давненько я не ел с таким аппетитом. Теперь я готов к возвышенным беседам с дамами! Идемте!
* * *
Лишенная наследства принцесса Миттель-Ангальтская обитала в славной старинной усадьбе, окруженной привольным английским парком. Жан-Жаку здесь бы несомненно понравилось: ни подстриженных кустов, ни цветников, ни прямых аллей – никакого насилия над природой.
– Гансель, милый Гансель! Это вы! Какая радость! – раздался тонкий девичий голос, когда молодые люди поравнялись с увитой плющом беседкой.
Оттуда с книгою в руках выбежала очаровательная барышня, каких прежде Луций видал только на картинках – настоящая принцесса из сказки. Она схватила Карла-Йоганна за руки, и оба замерли в сей романтической, но малоудобной позе, причем приподнялись на цыпочки, будто сейчас вспорхнут и закружатся в воздушном танце.
– Дорогая кузина. Могу ли я…?
– Конечно!
Всё не безнадежно, отметил Катин, увидев, что от очень скромного, целомудреннейшего поцелуя в щеку лицо девушки порозовело. Пожалуй, ее высочество не оскорбилась бы, ежели поцелуй получился бы менее братским. Итак, задача не слишком сложна. Довольно будет приручить дракона, стерегущего сей клад, и он сам раскроется перед искателем.
Будучи представлен самым лестным и пылким образом, наш герой осторожно пожал хрупкие пальчики (он был предупрежден, что рук в этом доме не лобызают).
– Это прекрасно, что у тебя появился друг! – молвила Ангелика. – Дружба – великое счастье, я знаю это по моей Беттине.
– Госпожа фон Вайлер куда-нибудь уехала? – с надеждой спросил Гансель.
– Нет, она только что закончила первый том Линнеевых «Species plantarum»[7] и пошла за вторым. Вы же знаете, с какой скоростью она читает. Вот и она! Беттина, Беттина, смотрите, кто пришел!
Внутренне подобравшись, Луций повернулся лицом к дракону. Ну-ка, поглядим, сколь ты зверообразен.
Уверенной, скорее мужской, чем женской, поступью по тропинке приближалась высокая особа в мещанском, без фижм, платье, с черными волосами, попросту стянутыми лентой и, разумеется, в очках. В руке она несла увесистую книгу. Когда фрейляйн приблизилась, Катин увидел, что насчет некрасивости отчасти угадал. Уродиной Беттина, пожалуй, не была, но и отнюдь не Афродита: лицо скорее квадратное, нежели округлое, тонкогубый рот поджат, взгляд из-за стекол неприятно суров.
Ужасными оказались и манеры. Когда Катина представили новой знакомой, он, приятнейше улыбнувшись, сказал, что наслышан об уме и учености компаньонки ее высочества и желал бы побеседовать с нею о книге, которую она читает, равно как и о многих других материях. Нужно было, во-первых, оставить Ганселя наедине с его суженой, а во-вторых, увести дракона в сторонку и там без помех проткнуть копьем.
Что же госпожа фон Вайлер? Смерила кавалера презрительным взором и отрезала:
– О чем можно говорить с мужчиной, который озабочен только своей смазливой внешностью? Бархатный камзол, золотистый парик, да еще, прости господи, мушка на лбу! – Да отвернулась.
Луций ощутил недостойное философа искушение выхватить том Линнея и треснуть им грубиянку по голове, но, конечно, этого не сделал, а поступил кротко, как и следует с подобными мегерами.
– Камзол принцев, у меня своего платья нет. Волосы – мои природные. А пятнышко на лбу – родинка. Извольте убедиться сами.
Деликатно взял барышню за крепкую руку и приложил палец к своему лбу.
– Ну извините, – буркнула та. – Ладно. Мы с вами поговорим.
Он внутренне улыбнулся. В чешуе, кажется, пробита первая дыра.
– Нет, мы будем говорить все вместе, вчетвером! – сказал принц. – Сударыни, у меня – у нас великие новости. Садитесь на скамейку и слушайте!
Под пение птичек, под мирное жужжание пчел Гансель стал рассказывать принцессе и ее товарке о подготовке исторического манифеста, о грядущих реформах, о строительстве Страны-сада.
Мнение Луция о девице фон Вайлер понемногу менялось. Принцесса только ахала и восторгалась, но ее компаньонка задавала дельные вопросы и вставляла исключительно уместные ремарки. Она действительно была весьма умна. И, пожалуй, по-своему привлекательна. Не слишком красивые черты, озарившись движением мысли, уже не казались заурядными – нет, они были интересны. Кажется, жертва во имя дружбы будет не такой уж тяжкой.
Тут беседа повернула в неожиданную сторону, и Катин на время позабыл о внешности фрейляйн, увлеченный темой.
Принц рассказывал о том, что в грядущем Гартенлянде благородное звание будет выдаваться вместе с дипломом об окончании школы, ибо всех мальчиков страны с детства станут готовить в юнкеры. Конечно, дело это нескорое. Сначала придется основать учительский институт и воспитать там достаточное количество педагогов, способных обучить детей благородству. Уже подсчитано, что для пяти тысяч ангальтских школьников понадобится не меньше двухсот преподавателей. Казначей Драйханд говорит, что расход на образование станет главной статьей бюджета и, помимо трат на строительство и оборудование школ, составит около ста тысяч талеров в год.
– Двухсот тысяч, – поправила Беттина. – Учителей и школ потребуется вдвое больше, так как будет вдвое больше учащихся. Если вы намерены давать образование только мальчикам, грош цена всей вашей реформе. И, конечно же, вы должны будете дать женщинам, которые этого достойны, дворянское звание. Введите те же три ранга. Скажем, благородная госпожа, дама и баронесса. Человечество, облагороженное лишь наполовину, это полчеловечества.
Карл-Йоганн разинул рот, пораженный смелостью идеи, а Луций воскликнул:
– Это правда! Тем более, что женщины по своей природе благороднее, милосерднее и самоотверженнее мужчин! Как мы могли об этом не подумать!
Дальше они горячо заговорили все трое, перебивая друг друга. Принцесса участвовала в обсуждении более флогистонно, нежели рационно.
Катин сам на себя поражался. Как он, слепец, мог счесть Беттину некрасивой? Должно быть, из-за того, что ее краса непохожа на кукольные штандарты глупого света. Какие глаза! Какие движенья! А голос, голос!
– Все это так, и женщин уравнивать с мужчинами нужно, – говорил принц, – но эта реформа произведет бурю посильнее упразднения старого дворянства. Вы представляете, Луциус, какими громами и молниями разразится наш протопресвитер?
В этот миг беседка вздрогнула от оглушительного треска, а эфир озарился судорожным светом.
Участники просвещенной дискуссии оглянулись вокруг и увидели, что в пылу разговора пропустили изменение в погоде. Солнце сокрылось, надвинулись тучи, день померк. Могучая летняя гроза ринулась на землю стремительным, неостановимым натиском, вроде «косой атаки» короля Фридриха. Вода полилась с неба потоками, заслонила беседку со всех сторон стеклянною ширмой. В несколько минут повсюду образовались лужи, на них вздувались и лопались пузыри.
– Мы пленники потопа! – растерянно произнесла принцесса. – Слуги не знают, что мы в беседке! Нас никто отсюда не выручит, а такой дождь может длиться часами! Что делать?
– Пойду скажу, чтобы шли сюда с зонтами, – успокоила ее Беттина. – Я не боюсь размокнуть. А ты жди здесь, ты легко простужаешься.
И прежде чем мужчины успели возразить, вышла под ливень. Катин кинулся за нею.
– Вернитесь! Пусть лучше промокну я!
– Чепуха. Тем более, что я уже вся мокрая.
Волосы у нее прилипли к щекам, по лицу стекали струйки, а очки поразительная девица сняла и стала без них еще краше.
– Зачем вы за мною потащились? – недовольно произнесла она. – Вы думаете, что я не сумею без вас объясниться со слугами? Что за глупый поступок! Я-то переоденусь в сухое, а вам не во что.
И фигура очень недурна, думал Луций, косясь на вымокшее платье, плотно приникшее к груди Беттины.
А фрейляйн фон Вайлер очень кстати поскользнулась, и он подхватил ее за талию. Бок был упругий, отпускать его ужасно не хотелось.
– Лучше давайте держаться за руки, – сказала Беттина. – Удобнее идти.
Ладонь у нее узкая, а пальцы сильные и, несмотря на дождь, горячие, подумал Луций – если подобные мысли можно отнести к категории дум.
Они шли сквозь звенящие струи, закрывшие весь окружающий мир, насквозь вымокшие, словно нагие, и удержаться было совершенно невозможно. Рационий не выдержал схватки с Флогистоном. Луций порывисто притянул к себе спутницу, обнял, прижал, потянулся губами к ее губам, но те не раскрылись навстречу, а, наоборот, сжались. Он ударился о них, как о камень. Широко раскрытые глаза смотрели на Катина в упор, с бескрайним изумлением. Он весь затрепетал, отдернул руки, попятился.
– Я было приняла вас за человека, а вы всего лишь мужчина, – разочарованно молвила Беттина. – Как это досадно. Мне помни́лось, что я могу обрести в вас друга, а вы видите во мне всего лишь женское тело, в которое вам не терпится вонзить ваш детородный орган. – И заключила с презрением: – Найдите для него какое-нибудь иное вместилище, а меня увольте.
– Я человек, но я и мужчина! – крикнул наш герой, уязвленный этими словами.
– Так не бывает. Либо одно, либо другое. Надобно раз и навсегда решить для себя, кто вы: человек, чьи помыслы высоки, а чувства благородны, либо самец, следующий низменным инстинктусам.
– Но великий Руссо учит нас не стыдиться природности, не препятствовать ее зову!
– Руссо пошлый дурак. Весь смысл цивилизации в отдалении от природы, в движении от примитивного к сложному, от наготы и простоты к одежде и надежде – надежде на то, что на земле однажды воцарится Разум. Впрочем, кому я это говорю? – Беттина смотрела на него с отвращением. – По ловкости, с которой вы обхватили меня руками, видно, что у вас богатый опыт. В вас больше животного, чем человека.
Катин обиженно пробормотал:
– Неправда! Никакое я не животное! Закончим этот разговор. Виноват, ежели оскорбил вас.
Но фрейляйн так просто его не отпустила.
– Разве не ощущали вы себя животным всякий раз, когда хватали женщину за молочные железы или видели пред собой ее детопроизводительный тракт?
– Ощущал… – промямлил он, потрясенный формулировкой вопроса.
– Много ль разумного и возвышенного оставалось в вас в такие минуты?
– Совсем нисколько…
– Вот видите! Вы никогда не очистите свой разум, если будете уподобляться хрюкающему борову. А жаль, ибо я вижу в вас задатки большой личности. – Беттина покачала головой. – И мне грустно думать, что мы с вами не станем друзьями.
Молодой человек был потрясен. Чередой пронеслись постыдные воспоминания о купленной через постель поездке в Европу, о шаловливой ножке госпожи Буркхардт и о других подобных происшествиях из прошлого.
Беттина тысячу раз права! Довольно скотства! Да и не пора ли в зрелом возрасте двадцати четырех лет распрощаться с необузданной чувственностью, извинительной разве что в юные лета? Не довольно ль льститься мо́роками Венеры и позывами Флогистона?
Но тут он вспомнил про обещание, данное Ганселю.
– Касательно меня, человека обычного и производить потомство не обязанного, ваше суждение справедливо. Но принц Карл-Йоганн в ином положении. Он монарх, а монархии нужна преемственность. Вы же настроили ее высочество таким образом, что наследнику взяться будет неоткуда. От высоких чувств и благородных помыслов дети на свет не родятся.
– Разве конечная цель принца не превращение Гартенлянда через конституционную монархию в республику? – сказала на это фрейляйн фон Вайлер. – Карлу-Йоганну восемнадцать лет. Пока он состарится, всё население его страны постепенно достигнет дворянства. В конце концов принц передаст бразды не сыну, чьи способности непредсказуемы, а права на правление случайны, но ассамблее лучших граждан.
Возразить на это было нечего, да Луцию и не хотелось спорить с лучшей на свете женщиной – нет, с лучшим на свете человеком!
– Вы правы, во всем правы, – прошептал он, смахивая с лица капли, образовавшиеся и от дождя, и от слез. – Не лишайте меня счастия быть вашим другом!
– Это будет и мое счастье, – сказала Беттина. – Мы станем дружить вчетвером, мы вместе совершим великие дела, и наш союз войдет в историю! Поклянитесь мне, что никогда больше не будете глядеть с животным вожделением ни на меня, ни на других женщин!
– Клянусь! – Он сжал ей руку. – Это и прежде меня мучило, но теперь я свободен!
Луцию казалось, что яростный ливень смывает с него всё недостойное, грязное, постыдное. Хотелось вновь обнять и облобызать драгоценную подругу – уже по-братски. Но он не решился.
– Запомните этот миг. – Беттина потянула его за собой. – Идемте! У меня есть в ознаменование подходящий подарок для вас. Надеюсь, вы не из числа дикарей, кто считает, что только мужчины могут делать подарки?
– О нет!
У себя в комнате, сплошь уставленной книгами, превосходная фрейляйн подарила Катину трость железного дерева с набалдашником из слоновой кости в виде головы Минервы, богини разума.
– Смысл сей аллегории таков: всегда опирайтесь на разум, эта опора крепче железа, – напутствовала Луция подруга.
* * *
Ливень шел до позднего вечера с ровной, неостановимой напористостью. Через хляби небесные на Средний Ангальт излился целый океан воды. Луга обратились болотами, ручьи растеклись в реки, а дорога превратилась в жидкое месиво.
Карета, одолженная принцу Карлу-Йоганну, разбрызгивала во все стороны грязные фонтаны, конские копыта чмокали, будто по тесту. К ночи дождь ослаб, по крыше теперь стучали усталые капли. Друзья молчали, думая каждый о своем.
Его высочество уныло вздыхал. Луций то расцветал в улыбке, то гас и поникал головой.
Сразу после отъезда у них произошел чувствительный разговор. Катин корил принца за низменность его вожделений по Ангелике, повторяя доводы, приведенные Беттиной. Гансель оправдывался, потом винился и в конце концов пообещал никогда больше не помышлять о плотском.
– Я вижу, вам понравилась госпожа фон Вайлер, – сказал он. – Удивительная особа, не правда ль?
– Я и не знал, что такие бывают!
– Так женитесь на ней! – воодушевился принц. – У вас тоже будет чистый, белый брак, и мы заживем вчетвером, под одним кровом!
Луций в ответ привел соображение, мешавшее ему все время цвести улыбкой:
– Беттина не из тех женщин, кому делают предложение. Только если решит сама, а этого, наверное, никогда не случится…
И оба надолго утихли.
Но печальные мысли удерживались в голове Катина недолго. Всякий раз, когда он ощущал давящую сырость непросохшего платья и башмаков, сердце наполнялось радостью. Эту влагу одежда и обувь впитали в счастливые минуты, когда рядом была Беттина!
А еще платонический влюбленный беспрестанно поглаживал на трости костяной шлем античной богини. Ее лик так напоминал Беттину!
Карета замедлила ход и остановилась. В дверцу постучал кучер.
– Ваше высочество, вода сшибла мост через Эльбу. Прикажете поворачивать обратно?
Друзья вышли из экипажа.
Река вырвалась из берегов и неслась, вспениваясь под луной водоворотами. На том берегу отчаянно скрипела и вертелась водяная мельня, словно в ее колесе поселилась огромная взбесившаяся белка. Немного поодаль посреди широкого потока темнел полузатопленный островок, перед которым вскидывались буруны.
Мост не рухнул, но в одном месте сильно покосился – кажется, вода подломила одну из опор.
– Повернем назад или отпустим карету и пойдем пешком? – спросил принц. – Через мост мы как-нибудь переберемся, а на той стороне в нескольких милях, кажется, есть гостиница. Наймем там лошадей иль переночуем.
– Лучше вернемся, – быстро ответил Луций. При мысли о том, что он снова увидит Беттину, сердце у него так и запрыгало. – Несколько миль вязнуть в грязи – малое удовольствие.
– И то, – согласился Гансель и крикнул: – Эй, разворачивай!
Никто не откликнулся.
– Эй, кучер, куда ты провалился?
Зашлепали шаги. Но шел не один человек – двое.
Прикрывшись ладонью от яркой луны, светившей прямо в глаза, Луций увидел приближающиеся тени: огромную и маленькую.
– А вот и мы, – произнес веселый жирный голос, показавшийся Катину смутно знакомым.
Глава IX
Герой страшится не того, кого нужно; уподобляется Пятнице; далеко перемещается, никуда не переместившись; сводит знакомство с богом Янусом и наконец перестает тратить время на глупости
Мгновение спустя наш герой узнал обоих. То были подозрительные субъекты из давешней харчевни: болтливый человек-гора и его молчаливый подручник. Первый легко помахивал увесистой дубинкой. Второй зябко сутулился, пряча руки в широкие рукава.
Увидел Катин и кучера. Тот не откликнулся на зов, потому что никак не мог этого сделать – бедняга лежал близ кареты навзничь, раскинув руки, безжизненно разинув рот.
Грабитель с большой дороги, я верно угадал, мелькнуло в голове у Луция, и он горько пожалел, что не носит шпаги.
– Кто вы, господа? – спросил за спиной принц. – Должно быть, вы тоже не можете переправиться через сломанный мост? В этом случае…
Он осекся, заметив убитого возницу.
– Я вас сегодня уже видел! Вы разбойники! Зачем вы умертвили этого несчастного? Что он вам сделал? Довольно было бы задать обычный в вашем ремесле вопрос: кошелек или жизнь? И вы получили бы, что желаете, ибо человеческая жизнь дороже денег!
Великан рассмеялся.
– Будь по-вашему. Кошелек или жизнь?
– Без сомнений кошелек. Вот, держите.
– Ответ неправильный. Жизнь!
Луций был настороже, угадывая в повадке пузатого злодея смертельную угрозу, которая не удовлетворится одной лишь поживой. Но он страшился не того, кого следовало.
Толстый остался на месте. Вперед с неожиданной, кошачьей проворностью скакнул тонкий, в прыжке выпростал из рукава руку, в руке блеснула цепочка, на ней – железный шар. Необычное оружие рассекло воздух и, верно, размозжило бы Катину череп, если б он не отшатнулся – тело произвело этот спасительный маневр само, безо всякого участия рассудка.
Сразу последовал второй удар, не менее сокрушительный, чем первый, но теперь Луций не отступил, а защитился дареной тростью. Цепочка обмоталась вкруг нее, Катин резко потянул – и вырвал орудие убийства из руки нападающего. Отец учил, что в бою всякое движение должно стремиться к идеальному кругу, посему, когда десница Луция оттянулась назад, сжатая в кулак шуйца продлила естественную траекторию разворота и обрушилась на подбородок коротышки, однако тот тоже оказался не промах: пушинкой отлетел в сторону, но не упал.
Катин развил наступление далее. Ринувшись на здоровяка, которого по-прежнему считал главным противником, стукнул его со всей силы по лбу своим жезлом. Удар был звонок и хорош, он сшиб неприятеля с ног. Однако, шлепнувшись на зад, гигант не лишился чувств, а только схватился за ушибленное место и крикнул непонятное:
– Не стрелять! Оглушить!
Оглянувшись, Луций увидел, что второй наводит на принца пистолет. Но окрик сообщника заставил малютку убрать огненное оружие в карман. Вместо этого молчаливый нагнулся и подобрал с земли цепочку с шаром.
– Бегите по мосту! – воскликнул Катин, заслоняя собою принца. – Я задержу их!
Сразу же пришлось пятиться под быстрыми, коварными наскоками убийцы. Теперь разбойник был осторожнее, бил коротко и хлестко: то слева, то справа, то сверху. А сзади, подняв дубину, уже надвигался толстяк.
– Что же вы? – обернулся Луций, чувствуя что принц по-прежнему здесь. – Бегите!
– Я вас не брошу! – отвечал Карл-Йоганн, что было преглупо, ибо намерения участвовать в схватке он все равно не являл.
Рассеянье внимания, пусть мгновенное, дорого обошлось нашему герою.
Шар чувствительно задел его по правому плечу, рука сразу онемела, трость выпала, а следующий удар пришелся уже по голове. Хоть Луций отклонился, но не довольно. Перед глазами рассыпался фейерверк, земля и небо переменились местами. Оглушенный Катин ощутил затылком мокрую траву, желтая луна закрутилась где-то внизу.
Полуобморок длился две или три секунды. Потом небо с луной вернулись наверх, кружение прекратилось. Наш герой приподнялся с травы.
Принц бежал прочь по скосившемуся мосту, за ним гнались лиходеи. Здоровенный громыхал позади, но маленький, юркий уже настигал жертву. Вот он споро, небрежно махнул рукой, будто в пляске, и с головы Карла-Фридриха полетела шляпа. Ноги принца подломились, он упал ничком. Луций подавился всхлипом.
Убит?! Но нет, удар был несильным. Толстяк давеча крикнул: «Оглушить!» Может быть, злодеи желают захватить Ганселя живьем? Тогда еще не всё потеряно.
Что они делают? Зачем они подняли его за руки, за ноги и раскачивают?
– Остановитесь!!! – завопил Катин, поднимаясь. – Это принц! За него дадут выкуп!
Легкое тело взлетело кверху, перекувырнулось, с плеском шлепнулось в реку.
Луций с разбегу перемахнул через перила и рыбкой вонзился в темные воды. Отчаянно заработал всеми конечностями, чтобы скорее попасть к месту падения его высочества, там нырнул глубже, зашарил под собою руками.
Никого!
Перевернувшись, Луций оттолкнулся ногами, устремился вниз, ко дну. Его открытые глаза ничего не видели, воздух уже заканчивался. Не найду – незачем и всплывать, пронеслось в голове.
И в самый последний миг, когда уже разрывались легкие, пальцы зацепили что-то мягкое. То была лодыжка или щиколотка. Надежда прибавила сил, грудь согласилась потерпеть еще чуть-чуть, не лопнуть. Молодой человек пошел вверх, таща за собой бесчувственное тело и скоро вырвался из черного мира в желтый, где царствовала луна и гулял свободный ветер. Хватая ртом эфир, он держал над водой голову принца.
– Ты их видишь? – спросил громкий голос. – Кто вынырнет – пали. Тут уже не до приличий. Только не промажь!
Другой, жидкий, ответил:
– Когда я мазал?
Поблизости темнела переломанная опора моста. Луций прижался к ней, придерживая Ганселя.
– Гляди, шляпа плывет, – сказал толстый. – Всё, готово. Столько под водой никому не продержаться.
– Подождем еще немного. Русский больно ловок, – ответил худой.
Откуда бандиты знают, что я русский, поразился Катин. И вдруг заметил, что столб, к которому он жался, не сломан, а подрублен – на разломе видны следы топора.
Мост не обрушен потопом! И это не грабители с большой дороги! Они ждали в засаде и ведали, кого ждут!
– Ладно, хватит, – сказал жидкий голос. – Теперь отправим по обоим берегам людей, а по реке лодки – шарить баграми по дну. Нужно найти труп. Я бил несильно, череп должен быть цел. Кучера никто разглядывать не станет, на русского тоже всем наплевать. Ехала карета по мосту, мост накренился, принц вывалился, ударился башкой, утоп. Чистая работа.
Это пруссаки! Кто еще может здесь так по-хозяйски распоряжаться?
– А, а, а! – судорожно потянул воздух зашевелившийся Гансель.
– Тссс! – Луций зажал ему рот. – Дышите носом, ваше высочество!
Принц недоуменно хлопал глазами. Над головой скрипели доски, всхрапывали лошади – убийцы заводили на кривой мост экипаж.
– Отойди-ка, я сам, – крикнул великан. – Ээх!
Грохот, звон стекла, испуганное ржание.
Опрокинули карету на бок, догадался Луций. По настилу стучали копыта, через щели сыпался песок. Лошади порвали упряжь, высвободились, с топотом умчались прочь. Ушли и преступники. Стало тихо.
Теперь Катин убрал ладонь со рта принца. Карл-Йоганн долго кашлял, выплевывал воду – не мог произнести ни слова.
Наконец выдавил:
– Что… это… было?
– После объясню. Нужно уносить ноги, побыстрее. Скоро здесь будет много людей, и они нам не друзья.
Луций призвал все резервы рассудка, который откликнулся на мобилизацию не слишком охотно. От соприкосновения с железным шаром голова тоже несколько ожелезнела и погудывала металлом.
На берег нельзя – ни на тот, ни на этот. Под мостом тоже не отсидишься.
Островок посередине реки! А на нем, кажется, деревья и кусты!
– Умеете ли вы плавать, ваше высочество?
– Откуда? Я же принц.
– Тогда перевернитесь на спину и не мешайте мне лишними движениями.
Обхватив друга ниже подбородка, Катин поплыл в сторону темнеющего поодаль пятна. Даже одной рукой грести было нетрудно, помогало течение. Побороться с ним пришлось только близ самого островка, где, сталкиваясь с препятствием, бурлила вода.
Но вот ноги нащупали дно. Тяжело дыша, Луций ухватился за свисающие ветви ивы, помог подняться принцу.
Скоро они были уже в зарослях, отжимая мокрую одежду. Оба тряслись от холода.
– Как хорошо быть ж-живым, – приговаривал Карл-Йоганн. – Никогда не думал, что м-мерзнуть так п-приятно! Однако вы обещали объяснить, почему эти грабители так странно себя вели.
– Потому что это не грабители. Помните, как после границы нас обогнал прусский офицер, а потом в харчевне появились эти двое? Они тайные агенты короля Фридриха. Ему не хочется, чтобы Верхний Ангальт стал нейтральным. И тем более чтобы осуществились ваши реформы.
– Откуда король может о них знать?
– Помните, во время заседания из алькова, как чертик из табакерки, выскочил доктор Бауэр? Он всё слышал. Вспомните также его попытки пустить вам кровь – при вашем-то малокровии. А декокт, которым отравился бедный Цицерон?
– Не может быть! – воскликнул пораженный принц. – Но это… это ужасное вероломство!
– Всего лишь политическая целесообразность. Прежний правитель княжества при смерти, новый погибает волей несчастного случая. Трон пуст. Пруссия сможет прибрать к рукам Верхний Ангальт, вслед за Средним.
– По германскому закону в случае пресечения династии владение отходит не прусскому королю, а императору, – возразил Карл-Йоганн. – Что-то здесь не так. Может быть, вы слишком скверно думаете о дяде Фридрихе. Впрочем, время покажет, кто из нас прав.
* * *
И время показало, притом скоро.
На рассвете вокруг стало шумно. От моста вниз по течению по обеим сторонам двинулись люди, шаря в тростниках и раздвигая затопленные кустарники. По реке, от берега до берега, цепью плыли лодки. На каждой стояли люди, тыкали вниз предлинными баграми.
– Что я вам говорил? – шепнул Катин. – Видите: распоряжаются синие мундиры.
– Ваша правда, – вздохнул принц. – Мой двоюродный дядя в обычной жизни порядочнейший человек – честный, заботливый, сочувственный чужому горю. Но когда требуют патриотические интересы, он превращается в чудовище. Прав Вольтер, сказавший, что истинный патриот становится врагом всему остальному человечеству…
– Порассуждаем о патриотизме после, – шепнул Катин. – А сейчас спрячемся.
Они забрались в самую середину островка, куда никак не могло вынести утопленников, и затаились.
Люди с лодок удовлетворились тем, что осмотрели края безобидного клочка суши, и проследовали дальше. Опустели и берега.
– Будем сидеть здесь дотемна. Средь бела дня расхаживать опасно. Вас увидят, узнают и довершат задуманное, – сказал Луций. – Когда же наступит вечер, я пересеку границу и вернусь с подмогой.
– Что ж, – беспечно потянулся Гансель, – я с детства мечтал пожить на необитаемом острове подобно Робинсону Крусоэ.
– А я счастлив быть при вас Пятницей.
Оба островитянина были молоды, рады своему чудесному спасению, день выдался погожий, а тем для оживленной беседы у них было столько, что не исчерпаешь до старости, потому время летело быстро. Правда, ужасно хотелось есть, но собеседники решили относиться к голоду философски.
В сумерках Луций связал платье в узел и, благословленный товарищем, доплыл до берега. Дорогой он решил не идти, там могли встретиться прусские разъезды. Добрался рекой до первой же деревни и похитил там лодку, оставив в возмещение принцев кошелек, – этих денег достало бы на десять подобных челнов.
Плыть на веслах против течения было трудно, но руки у молодого человека были крепкие, а охоты к движению за целый день безделья накопилось много. Несколько часов, делая короткие передышки, Катин поднимался вверх по Эльбе. Берегов он во мраке почти не видел (ночь выдалась облачная), а с первыми проблесками дня обнаружил, что находится уже в Обер-Ангальте. На пристани городка, близ которого оказалась лодка, виднелся знакомый сиреневый флаг со львом.
Луций пришвартовался, поднялся на помост и увидел, что к знамени прицеплен черный креп. Значит, герцог Ульрих-Леопольд скончался… Принцу нужно как можно скорее возвращаться в свою столицу!
Наш герой ускорил шаг, высматривая, где здесь ратуша. Городок этот они давеча проезжали, он назывался Шварцхайм и находился в пяти милях от Гартенбурга.
Траурные флаги висели и на маленькой центральной площади. В церкви шла служба. Перед входом толпились люди.
– Горе какое, – сказал Луцию пожилой горожанин, утирая слезу. – В такие годы! Мог бы жить и жить… Как люди убиваются, внутри всем даже места не хватило. Желаете – могу передать от вас грошик на поминальную свечку.
Катин и не знал, что регента в Ангальте так любили.
– Он был не так уж молод, – сказал Луций, – хотя, конечно, и не стар.
Человек воззрился на него в изумлении.
– Не так уж молод? В восемнадцать лет?
Женщина в накрахмаленном чепце всхлипнула:
– Бедненький Карл-Йоганн, такое несчастье!
Должно быть у Луция сделалось странное лицо, потому что горожанка прибавила:
– Вы, верно, еще не слыхали? Молодой принц упал с каретой в Эльбу. Потонул, сердечный…
– Разве нашли тело? – осторожно спросил Катин.
– Нет. Но принц приказал поминать покойника во всех церквах и объявил траур. Значит, дело ясное…
– Какой принц?!
– Новый. То есть старый. Который раньше был герцог. Ульрих-Леопольд. Он нынче вечером будет говорить перед народом в Гартенбурге. Многие наши пойдут, послушают.
– А… разве герцог не при смерти? Он ведь тяжело хворал!
– Здоровехонек. Вчера объезжал города и селения верхом, со свитой. Я сама его видела.
У Луция помрачилось в глазах. Только теперь он всё понял. Вот на что рассчитывали пруссаки!.. Но каков у принца дядя! О двуликий Янус!
* * *
На исходе того же длинного дня, перед закатом, наш герой стоял на площади перед гартенбургским ратгаузом и смотрел вверх, на балкон, с которого народу зачитывают важные указы. Там висели траурные знамена, стояли плечом к плечу скорбные члены Гофрата. Внизу толпились ангальтцы, все в черном. Их было несколько тысяч. Все ждали, когда выйдет новый государь.
Наконец появился Ульрих-Леопольд. Он был в трауре, с прусской орденской лентой через плечо. Строг, бледен, но бодр. За его плечом синел мундир майора фон Шеера, а в углу балкона – Катин покачнулся – возникли еще два прусских офицера: один высоченный и толстый, другой низенький, тощий.
– Славные ангальтцы! – крикнул герцог звучным, ничуть не болезненным голосом. – Я думал, что мое служение закончилось, но рок распорядился иначе! Злое ненастье прервало юную жизнь моего дорогого племянника Карла-Йоганна! Я плачу о нем вместе с вами, но не могу забывать о долге! Корабль не может оставаться без кормчего, страна не может быть без государя! Отныне я ваш князь-принц! Будем жить, как жили доселе, деля радость и горе! Всё останется по-прежнему! Ни о чем не тревожьтесь! А теперь давайте вместе поплачем о бедном утопленнике!
– Не пора ли? – шепнули сзади в ухо Луцию.
– Пожалуй. Дайте я сам сниму вам капюшон, а то вы растреплете волосы.
Катин аккуратно спустил с головы Ганселя грубый куколь плаща, одолженного у лодочника.
– Дядя, а я жив! – закричал принц, задрав голову. – Можете не плакать! Упасть с моста упал, да не потонул!
Что тут началось!
Площадь сначала загудела, ибо стоящие вдали не расслышали сказанного. Потом все заахали, завопили, в небо полетели чепцы и шляпы.
– Жив! Принц жив! Он спасся! Вон он, вон он, я его вижу! – неслось со всех сторон.
– Дорогу его высочеству, дорогу! – кричал Катин, расталкивая людей. – Скорее, ваше высочество! Нельзя терять ни секунды.
В дверях ратуши Карл-Йоганн придержал его за локоть.
– Первым поднимусь я. Не бойтесь, они не осмелятся меня тронуть.
Катин остановился и последовал за принцем на почтительном расстоянии. Гансель прав. Ему следует выйти на балкон одному.
Должно быть, уже вышел – площадь огласилась ликующим ревом, который долго не утихал. Теперь все увидели, что государь действительно жив.
Луций выглянул из-за спин свиты. Толстого и тонкого след простыл. Дядя стоял сбоку, глядел на племянника с застывшей улыбкой. Не догадывается, двоедушный негодяй, что его заговор разоблачен. Зато все трое членов Гофрата, кажется, были искренне рады. Протопресвитер держал Ганселя за руку и плакал, тряся пухлыми щеками.
– Идите по домам, добрые люди! – закричал принц, приложив ладони ко рту. – Скоро я объявлю вам с этого балкона хорошие новости!
Ему пришлось повторить это раз десять, прежде чем люди внизу услышали.
– Негодяи, пытавшиеся убить вас, сбежали, – шепнул Луций, приблизившись. – Нужно снарядить погоню.
– Сбежали – и прекрасно. Что бы я стал с ними делать? – ответил Гансель, повернулся к дяде и поманил пальцем фон Шеера. – Мне надобно побеседовать с вами и с майором. Господин гофсекретарь, будьте добры составить нам компанию. А вы, господа члены Совета, стойте здесь и машите народу, пока он не начнет расходиться.
* * *
Разговор с герцогом получился коротким. Карл-Йоганн не предъявлял обвинений, а просто сказал:
– Дядя, я не желаю вас больше видеть. Никогда. Завтра же покиньте пределы Обер-Ангальта и более сюда не возвращайтесь. Прихватите с собой вашего ушлого лейб-медика. Нуждаться на чужбине вы не будете, доходы от ваших имений останутся за вами.
И отвернулся. Герцог открыл рот, собираясь запротестовать или потребовать объяснений, но Катин показал ему кулак. Его светлость, должно быть, во всю свою жизнь не видывал подобного жеста. Рот остался разинут, но беззвучен.
– Вы ведь сторонник абсолютной монархии? – осведомился Луций грозным шепотом, с яростью глядя в белесые глаза Януса. – Так исполняйте волю государя. Ежели до завтрашнего полудня вы не уберетесь, будете арестованы за участие в покушении на жизнь его высочества. А лично от себя скажу: вы негодяй, и при аресте я поступлю с вами, как поступают с негодяями.
Герцог заморгал, попятился и спешно ретировался.
Беседа принца с господином фон Шеером была длиннее.
– У меня нет к вам претензий, сударь, – вежливо сказал майору Карл-Йоганн. – Вы мне не подданный, вы служите своему монарху и стараетесь блюсти его интересы.
Пруссак настороженно поклонился. В отличие от принца, он расслышал, что гофсекретарь пообещал бывшему регенту, и ожидал для себя чего-нибудь похуже.
– Блюдите их и дальше. Отправляйтесь в Потсдам и объясните моему двоюродному дяде следующее. Ему выгоднее иметь Ангальт не союзником, от которого все равно никакого проку, а нейтральной страной. Я знаю, королю очень нужны солдаты, но каково воюет ангальтский полк, его величество уже видел. Предлагаю помощь получше. Наше княжество будет полностью содержать полк, который соберут и обучат опытные прусские инструкторы – только рекруты должны быть не ангальтцами. Преимущества для Пруссии очевидны. Во-первых, регимент будет воевать по всей вашей науке. Во-вторых, если он понесет потери или даже вовсе пропадет в сражении, Пруссия наберет новых солдат, а мы оплатим расходы. От нашего нейтралитета королю будут и другие прибытки, денежные. О них вам подробно расскажет главный казначей Драйханд. Скачите к вашему государю, майор. Передайте мои предложения и присовокупите, что в случае согласия на них мои неудачные приключения на мосту через Эльбу будут преданы забвению.
– Вы полагаете, король знает, как именно его люди намеревались вас убить? – спросил Катин, когда майор, отсалютовав, без единого слова вышел.
– Конечно нет. Дядя Фридрих любит повторять: «Секрет хорошего правления прост: окружаешь себя толковыми людьми, говоришь им, что надобно исполнить, и никогда не спрашиваешь, как они этого добьются». Король наверняка приказал лишь согнать с ангальтского престола несносного мальчишку и посадить Ульриха-Леопольда. Прочее – инженерия Шеера. И теперь, не желая, чтобы всплыли подробности провала, майор очень постарается убедить короля принять наши инициативы.
– Это очень умно́, – признал Луций.
– Нет, друг мой, это всего лишь хитро́. Умно будет, когда мы наконец перестанем тратить время на все эти никчемные глупости и займемся делом. Дядя не умер, значит, траура не будет, а стало быть тянуть с манифестом незачем. Завтра же на Совете утвердим его, а сразу после этого, как я обещал, объявим народу хорошие новости. Сядем в сияющую колесницу Разума и без отлагательств помчим в направлении земного парадиза!
Глава X
Колесница медленно запрягается и небыстро едет. Герой обретает новую должность, а главный его принцип подвергается тяжкому экзамену
Но отлагательства все-таки возникли – увы, неизбежные.
Сначала опытные члены Гофрата посоветовали принцу дождаться ответа из Потсдама: что, если Пруссия не согласится на ангальтский нейтралитет?
Ответ пришел быстрее, чем ждали. Практичный Фридрих поздравлял Карла-Йоганна с восшествием на родительский престол и сообщал, что ежегодный взнос в двести тысяч талеров на содержание пехотного полка обеспечит княжеству полное дружелюбие со стороны Пруссии.
Но это было лишь полдела. Точно такое же предложение, в абсолютной секретности, было отправлено противоположному лагерю – чтобы не подвергнуться нападению со стороны австрийцев. Принц предложил императрице Марии-Терезии не только оплачивать полк, но и высокий интерес за размещенные в ангальтском банке деньги.
В Вене несколько удивились нежданным дарам, но приняли их с благодарностью. К концу лета дипломатическую безопасность княжества можно было считать более или менее гарантированной. «Более или менее» – ибо на твердость слова прусского короля слишком полагаться не следовало. Фридрих приютил изгнанного Ульриха-Леопольда у себя в Потсдаме, а это означало, что король держит под рукой запасного государя для Ангальта. Например, на случай, если тамошнее дворянство взбунтуется и скинет чересчур смелого реформатора.
Это обстоятельство – боязнь дворянского мятежа – было второй причиной задержки. Когда Катин заговаривал о сем с принцем, тот беспечно отмахивался. «Вы не знаете немцев, – говорил он. – Они ворчат, но не бунтуют. Конечно, старая знать взбеленится, но не посмеет идти против всеобщего ликования». «Ликования не будет, будет оторопь, – доказывал Луций, – а при таком состоянии умов чаще всего и случаются заговоры». Тщетно.
Принц, конечно, поступил бы по-своему, если б Катину не пришла в голову счастливая мысль обзавестись союзником, а вернее, союзницей. Нужно привлечь к подготовке реформы Беттину фон Вайлер! Во-первых, она сама изъявляла подобное желание, а во-вторых… Быть рядом с нею, слышать ее голос, видеть ее ясный, трезвый взгляд!
Молодой человек, даже не спросясь друга, отправил в соседнюю страну письмо, в котором поделился с фрейляйн своими опасениями и попросил рассказать о них ее высочеству. На следующий же день обе девицы прибыли в Гартенбург словно бы отдать визит – и обратно уже не вернулись. Это вышло как-то само собой.
Четверка была неразлучна с утра до вечера, горячо обсуждая насущные дела и предаваясь изящным досугам. «Я страшусь дня, когда Ангелика уедет», – однажды признался другу принц. «А зачем ей уезжать?» – пожал плечами Катин.
Гостий разместили в Эрмитаже, поскольку Карл-Йоганн и его главный помощник переселились во дворец. По утрам туда являлись барышни, на столе раскладывались бумаги, и начиналось обсуждение. Тон задавала Беттина. Так получилось из-за того, что Луций во всем с ней пылко соглашался, принцесса Ангелика не столько рождала идеи, сколько сияла своей нежной красотой, а Гансель, любуясь невестой, часто путался и терял нить рассуждений.
Но хватало и математического ума одной госпожи фон Вайлер.
– Дорогой Гансель, – сказала она принцу в первый же день, – мы все знаем, что к числу ваших достоинств не относится осторожность, а сейчас более всего потребна она. Вы собираетесь произвести над страной хирургическую операцию и, чтобы оперируемый не вскочил со стола и не зарезал хирурга его же скальпелем, требуется принять меры по обезболиванию.
Предложенный ею план был таков.
Пусть в народе распространятся слухи о реформе. Это уже и так начало происходить, так как члены Гофрата рассказали о невероятных намерениях принца домашним, те передали знакомым, да подслушали слуги, а страна маленькая.
Дворяне сначала переполошатся, потом немного успокоятся, говорила Беттина, поскольку никакой манифест пока что не появится. Тем не менее у людей будет время поразмыслить над поразительной идеей «аристократии за заслуги» – и пожалеть, что это всего лишь слухи.
На втором этапе, продолжала премудрая фрейляйн, мы применим безотказный древний принцип divide et impera[8]. Согласно нашей реформе, благородное звание получат люди образованные, полезные для страны и пользующиеся общественным уважением, не правда ль? Наверняка многие, притом лучшие из «старого дворянства», отвечают подобным условиям. У этих людей не будет причин возмущаться – скорее гордиться. Привлечем же их на нашу сторону.
Принц истребовал списки всех дворянских родов, и оказалось, что больше половины ангальтских дворян, за вычетом бездельников, пьяниц, мотов и неучей, годны в новую аристократию. Каждому из них принц заготовил собственноручное, крайне лестное письмо.
– А остальных бояться нечего, это всё люди никчемные, ни на что, кроме брюзжания, не способные, – резюмировала Беттина, и все с ней согласились. – Теперь перейдем к третьему этапу, более приятному, но и более трудоемкому. Посмотрим, сколько у нас наберется новых дворян.
Эта кропотливая работа растянулась еще на несколько недель. В каждом из десяти округов-крайсов (трех городских и семи сельских) сразу определились люди, очевидно достойные благородного звания, но их набиралось мало. Прочих предстояло выявить.
По предложению Беттины принц устроил череду празднеств во всех местностях, якобы для того, чтобы подданные смогли ближе узнать нового правителя, на самом же деле это он сам к ним приглядывался, знакомился, расспрашивал жителей, кто пользуется уважением и за что. Потом с кандидатами разговаривали Катин или фрейляйн фон Вайлер, делая себе заметки. Ангелику от экзаменаторских обязанностей пришлось освободить – она была слишком добра, ей все без исключения казались достойными.
К началу осени список нового сословия, названного «гартен-адель» («садовое дворянство»), полностью сформировался. В него вошло без малого полторы тысячи особ обоего пола – лучшие люди страны.
Манифест о реформе общественного устройства был обнародован в день осеннего равноденствия. В том же указе провозглашались равенство всех граждан перед законом и уважение прав личности, которую отныне запрещалось унижать телесным наказанием и выставлением к позорному столбу. Упразднялись тюрьмы и смертная казнь.
В течение следующих нескольких дней принц и гофсекретарь провели встречи с новыми дворянами всех крайсов, разъясняя смысл преобразований и отвечая на тысячу вопросов. Чаще всего звучали два, непредвиденные: будет ли каждому «садовому дворянину» выдана грамота с печатями и можно ли ему присоединять к имени благородную частицу «фон»? Принца такое суемыслие расстраивало, но он терпеливо всем отвечал, что грамота обязательно будет, а кому угодно зваться «фоном» – пожалуйста. Страна сразу наполнилась «фон Мельниками», «фон Портными» и «фон Аптекарями», а двое ценных евреев, приглашенные Драйхандом учредить Ангальтский банк, стали «бароном фон Рабиновицем» и «рыцарем фон Шапиро».
Но умные вопросы на этих встречах тоже задавались.
Как часто его высочество будет выслушивать «садовых дворян»? Что делать, если он не внемлет их петициям? Кто будет ведать тратами на местные нужды – столичный Гофрат, собрание одних лишь баронов, или рыцарей, или еще и юнкеров? Наконец, как успокоить обиженных и завистливых, кто рассчитывал получить благородное звание, да не получил?
В каждом месте Катин ходил по трактирам и церквям, слушал разговоры и видел, что обижены очень многие. В особенности мужья, чьи жены получили дворянство, а сами они остались простолюдинами. Из-за этого разразилось множество скандалов, а в суды начали поступать иски о разводах.
И все же в маленькой стране преобладало радостное возбуждение, какое наступает всегда, когда в воздухе вдруг задуют свежие, вольные ветры. Особенно оживилась молодежь. Все мечтали выучиться и отличиться, чтобы тоже получить дворянство. Где бы Карл-Йоганн ни появлялся – а он запросто ходил повсюду пешком и охотно со всеми разговаривал, – его встречали овациями и приветственными криками.
Луций очень волновался, когда принца обступала толпа, не отставал от друга ни на шаг и все время держался за эфес шпаги, с которой теперь не расставался. Но он опасался зря. Народная ажитация была того рода, когда всех охватывает аппетит к жизни, а в таком настроении настоящей злобы не зарождается.
Сейчас дворян полторы тысячи, через год станет вдвое больше, а еще через десять лет мы все будем юнкерами, рыцарями и баронами – вот о чем говорили на улицах и в пивных. Обер-Ангальт уже начал превращаться в Гартенлянд!
Принцесса Ангелика, увлекавшаяся акварелями, нарисовала аллегорическую карту «Дорога в земной Элизий», где изобразила все пункты великого плана в виде почтовых станций. Всего их насчитывалось тридцать восемь. Первую, нареченную «Манифестом», сияющая колесница благополучно миновала. Следующая называлась «Палата баронов», малый росток будущей ассамблеи представителей.
С этой новацией тоже трудностей не возникло. К Гофрату, сиречь правительству, присоединился совет самых почтенных и полезных граждан страны. Это были всё люди ответственные, солидные, невеликого числа, к тому же и члены Гофрата все тоже стали баронами, так что обсуждения происходили мирно, почти по-семейному.
– Пока всё гладко, но путь к третьей станции будет ухабист, – предупреждала Беттина. – Люди радуются, когда им что-то дают. Ныне же придется отдавать, а это совсем другая история.
Третья станция, «Налогообложение», касалась выплаты податей. По мысли принца, каждый крайс должен был сам определить свои нужды и в соответствии с ними назначить необходимые сборы. Ведь быть гражданином означает не только иметь права, но и нести на своих плечах общественный груз.
Центральный налог, утвержденный Гофратом и Палатой баронов, в округах не обсуждался и никакого ропота не вызвал – раньше люди платили в княжескую казну много больше. Экономия возникла из-за того, что принц взял содержание своего двора на себя, покрывая издержки доходом от собственных имений. Но повсюду нужно было прокладывать дороги и чинить мосты, строить школы и больницы, рыть колодцы, ремонтировать общественные постройки, мостить улицы – и на это без принуждения, из собственного кармана, никто тратиться не захотел. Принц ездил из одного дворянского собрания в другое, увещевал, иногда даже не мог сдержать слез. Его почтительно выслушивали, поддакивали – но в итоге всякий раз оказывалось, что никому ничего не нужно. Со школой можно повременить, за фонарями пускай ухаживают жильцы ближних домов, а старая ратуша еще хоть куда, и даже крышу на ней ремонтировать необязательно.
Первую победу, совсем маленькую, гражданская ответственность одержала на самом исходе осени, в городке Кляйнштадт, рыцари которого убедили юнкеров собрать деньги на торговую пристань, чтобы впредь переправлять местные товары по Эльбе дешевым речным путем. И то кляйнштадтцы согласились раскошелиться, лишь когда Карл-Йоганн посулил покрыть половину расходов из собственного кошелька.
И тем не менее это был триумф, который реформаторы отметили вчетвером с речами, пирожными, слезами и музицированием. Гофсекретарь Катин произнес весьма ученую речь, уподобляя принца идеальному государю из Платоновой «Политейи»; пирожные собственными ручками испекла Ангелика; слезы пролил Гансель, умиленный и речью, и пирожными; музицировала на клавикордах девица фон Вайлер.
Вечер начинался чудесно, а закончился ужасом.
Прискакали из Грюнфельда, скотоводческого крайса к востоку от столицы. Там свершилось неслыханное злодейство. На одной из тамошних мыз убили семь человек: хозяина с хозяйкой, трех детей и двух работников. «Всем отрубили головы», – дрожащим голосом сообщил гонец.
Назавтра об этом говорило всё княжество. Мнение было единым: подобное могли содеять только чужаки, изверги невиданной в здешних мирных краях породы. В церквях служили молебны, поминая убиенных и моля Господа, чтоб Он не попускал Злу вторгаться в тихий Ангальт, а меж принцем и его секретарем состоялась беседа, имевшая важные последствия.
Оба провели бессонную ночь, но Катин, в отличие от его высочества, не просто горевал по невинным жертвам, а сосредоточенно размышлял.
– У нас нет армии, и правильно – она нам не нужна, – сказал Луций, додумав мысль до конца. – От внешних недоброжелателей мы будем оберегаться дипломатией и гибкостью ума. Но есть враг иной, внутренний. Имя ему – преступление. Государство должно защищать от него своих граждан. Гансель, нам необходима полиция.
При регенте в стране были стражники, хватавшие тех, кто нарушал закон. Они же охраняли тюрьму и приводили в исполнение приговоры. Принц Карл-Йоганн эту нелюбимую народом службу сразу же упразднил, сказав, что слуги государства должны вызывать доверие и уважение, а не страх и презрение.
– Именно такою должна быть гартенляндская полиция, – говорил теперь Катин. – Чтоб, завидя полицейского, люди не пугались, а радовались: вот идет защитник и помощник всех честных людей.
– Где ж нам таких взять? – кисло спросил Гансель. От грюнфельдских убийств он совсем пал духом.
– Очень просто, – ответил Луций. – Объявить, что полицейские получат дворянство, и устроить конкурс. Нынче же разошлем по округам указ, и завтра выстроится очередь из желающих.
Принц немного просветлел.
– Отличная идея! Вы этим и займетесь, дружище. С сей минуты вы – суперинтендант гартенляндской полиции.
Немного опешив от столь неожиданного оборота событий, наш герой вздохнул, но спорить не стал. Назвался милхлингом – полезай в корб, сказал себе Луций, в голове которого русские слова от долгого неупотребления начинали вытесняться немецкими.
* * *
За неимением подчиненных новоиспеченный суперинтендант взялся за дело в одиночку. Сел на коня и поскакал в Грюнфельд, осматривать место преступления – не осталось ли каких-нибудь улик? От гонца было известно, что с того момента, как сосед обнаружил кошмарную картину, к мызе никто не приближался – все боялись. Ждали, чтобы прибыл протопресвитер и провел очищающий молебен. Посему Катин увидел побоище в нетронутом виде. Это зрелище потом не раз омрачало его ночной сон.
Все семеро, взрослые и дети, сидели на кухне в ряд, привязанные к стульям. На полу растеклось и застыло огромное багровое пятно. Стены и даже потолок тоже были сплошь в потеках. Отсеченные головы лежали почти ровно, словно во исполнение некоего страшного ритуала – каждая справа от тела, с которым разлучилась.
Начальнику еще не созданной полиции стало мутно, он зажмурился и поскорее вышел.
Убийца был один – вот единственное заключение, которое Луций вывел из увиденного. В доме осталось много кровавых следов, и все они были одинаковыми – судя по размеру, принадлежавшими мужчине высокого роста.
Ангальтцы правы, говорил себе бледный расследователь на обратном пути. Это сделал пришелец. Никто из местных такое устроить не мог, иначе чудовище уже давно как-нибудь проявило свои сатанинские наклонности.
Два последующих дня Катин посвятил набору. Как и предполагалось, перед гартенбургской ратушей собралось множество мужчин и парней. Луций проверял каждого на грамотность, здравость суждений и телесную ловкость, отдавая из сих предпочтение рослым и приятноликим. У него было рассуждение, что полицейские должны зримо являть красивость законопорядка и непременно нравиться женскому полу, от которого более всего зависит общественная симпатия.
Навербовал сорок юнкеров, по четверо для каждого крайса, и отобрал двух помощников-интендантов рыцарского звания. Молодой адвокат Шолль приглянулся ему остротой ума, а бывший вахмистр саксонской службы Вагнер опытностью.
Портные сшили красивые желтые мундиры с серебряным позументом, кузнецы выковали сабли с гартенляндским гербом, а сам Луций составил «Устав полицейской службы», начинавшийся словами: «Всякий служитель порядка обязан ежечасно помнить, что первый долг полицейского – защищать обиженных, утолять страждущих и вселять спокойствие в устрашенных».
Все это было прекрасно, но через неделю после приведения полицейских к торжественной присяге – служить стране, ее гражданам и справедливости – случилось новое злодейство, в точности подобное грюнфельдскому, только теперь на мельнице. Оттуда тоже пропали ценные вещи и деньги, а мельнику, его жене, подручному и двум детям-подросткам срубили головы.
Выходит, молебны были тщетны. Зло не покинуло Гартенлянд, оно решило здесь прижиться.
В стране воцарилось смятение. Все стали запираться на ночь, чего в этих безмятежных краях никогда не бывало. Родители не выпускали на улицу детей.
Состоялось чрезвычайное заседание Гофрата, где принц воззвал к Катину: вся надежда на вас, дорогой друг.
Но безжалостная девица фон Вайлер потом сказала ему другое: «Не слишком на себя полагайтесь, Луциус. Вам будет трудно найти злодея, поскольку в вас нет ни крупицы зла и вы не в состоянии понять, как оно устроено. Доверьтесь вашим помощникам. Интендант Шолль производит впечатление человека проницательного, а интендант Вагнер наверняка повидал на своем веку немало злодеев».
Суждение было хоть и досадное для Луциева самолюбия, но справедливое. Катин так и поступил.
К месту нового преступления они отправились втроем. Начальник велел себе не командовать, а положиться на ассистентов.
На первый взгляд, картина преступления была в точности та же. Жертвы сидели в ряд, привязанные к стульям. Головы валялись справа, повсюду кровь, и отпечатки ног такие же, Катин сразу их опознал.
Но расследование пошло иначе.
Вагнер сразу сказал:
– Рубил слева направо – левша. Очень острой саблей. Удары отменной точности. Вне сомнения, это бывалый кавалерист.
А Шолль осмотрел трупы, прошелся по комнатам и уверенно заявил:
– Преступник не устраивал обыск, а прямиком отправился в хозяйскую спальню, поднял доску в полу и взял из тайника то, что там лежало. Должно быть, ларец или сундучок с деньгами. Еще пропало столовое серебро из шкафа, а более ничто не тронуто. Мерзавец пытал хозяйку, у нее ожоги на руках. Потому он и знал, где искать. Скажите, господин барон, у хозяев той мызы тоже были следы истязаний?
Катин развел руками.
– Кроме того, у каждого мертвеца срезана прядка волос, – продолжил Шолль, не дождавшись ответа. – Там было то же самое?
Начальник опять лишь вздохнул. Ему было стыдно за свою ненаблюдательность, но зато появилась надежда, что с такими толковыми помощниками дело не останется на мертвой точке.
Было и еще одно важное отличие: выживший свидетель. Младший сын мельника, семилетний мальчик, во время ограбления сполз в щель между кроватью и стеной, затаился, и головорез его не заметил.
Однако проку от этого очевидца почти не вышло. Бедняжка пролепетал лишь, что пробудился от шума и сначала вообразил, будто видит дурной сон, а когда понял, что это явь, – крепко зажмурился, желая лучше опять уснуть. Эти скудные сведения мальчик повторял снова и снова, ничего другого от него добиться было нельзя. Ночью он ничего не видел, а глаз не раскрыл и поныне. Веки намертво свело судорогой.
Интендант Шолль сел рядом с мальчуганом, обнял его за плечо. Посидел рядом, повздыхал. Мягко спросил:
– Ты ничего не видел, но, может быть, ты слышал голоса?
– Папа ругался, мама кричала, Труди и Йоссель плакали…
– А чужой голос был?
Ребенок затрясся.
– Был… Все время повторял: «Где деньги? Где деньги?»
Бывший адвокат встрепенулся.
– Именно так он и выговаривал: «Во ишьт дас гельд?» Или: «Во ист дас гельд»? Припомни!
– «Во ишьт», – пролепетал мальчик.
Шолль погладил его по голове и поднялся, очень довольный.
– Больше не будем мучить ребенка. Надо отвезти его к доктору, чтобы дал усыпляющие капли. Проснется – глаза откроются сами. А с убийцей кое-что прояснилось.
– И даже многое, – согласился Вагнер.
Глядя на них обоих, Катин подумал, что начальнику досадно быть глупее собственных подчиненных. С другой стороны, может быть, только таких помощников и следует подбирать?
– Я не понимаю…
– Это потому что господин барон не ангальтец, – вежливо объяснил Шолль. – У нас шепелявят уроженцы крайса Фуксвальд, их за это даже дразнят. Фуксвальд к востоку отсюда, в десяти милях.
– Я знаю, – кивнул Луций. – И что же? Там проживает пять с лишним тысяч человек. Ищи иголку в стоге сена.
Обиднее всего было, что дальнейший разговор ассистенты вели между собой, перестав обращать внимание на шефа.
– Опытный рубака, запросто убивающий взрослых и детей? – сказал Вагнер. – Значит, кто-то там недавно вернулся с войны. Высокого роста, левша. Сообщить тамошним ребятам – найдут в два счета.
Шолль прибавил:
– Но не брать, пока нет улик. Иначе отопрется.
И уже назавтра фуксвальдская полиция сообщила, что в прошлом месяце в село Тишдорф вернулся некий Йенс Кушке, пропадавший десять лет. Хвастает, что был драгуном французской службы в Америке. Сорит деньгами, пьянствует по кабакам. Не расстается с саблей. Левша. Несколько дней назад на спор отрубил свинье голову одним ударом.
– Это он, голубчик, – потер руки Вагнер. – Какие будут приказания?
Катин неуверенно посмотрел на Шолля.
– Попробуем добыть неопровержимые улики, да?
Молодой интендант деликатно ответил:
– Мудрое решение, господин барон.
* * *
Дом драгуна стоял на отшибе, отделенный от остальной деревни пустырем. Местный полицейский сказал, что хозяин в кабаке, поэтому ничто не мешало обыску.
Сначала ничего подозрительного не нашли, но когда помощники простучали пол, под ним обнаружился тайник. В нем серебряная посуда, деньги.
– Смотрите, что здесь. – Шолль развернул лист бумаги. – Приговор военного суда крепости Форт-Ришелье. Капрал Овернского драгунского полка Жан Кушке осужден на смертную казнь через повешение за мародерство и убийство четырех поселенцев, в том числе женщины и ребенка… Должно быть, сбежал из тюрьмы.
– Зачем он это хранит? – удивился Катин.
– А он вообще коллекционер. – Шолль поднял какую-то матерчатую ленту, отороченную странноватым мехом. – Здесь пришиты человеческие волосы, несколько десятков локонов. Вот вам и разгадка, почему у убитых были срезаны прядки. Наверное, Кушке обзавелся этой милой привычкой у дикарей. Я читал, что американские индейцы в качестве трофея отрезают волосы у тех, кого собственноручно убили.
Вахмистр, дежуривший у окна, воскликнул:
– Идет! Быстро кладите всё на место! Уходим!
– Зачем? – удивился Луций. – Доказательства налицо. Прямо сейчас его и арестуем.
Вагнер покачал головой.
– Поглядите на его походку. На эту раскачку, на то, как небрежно лежит рука на эфесе. Это повадка опытного фехтовальщика. Он нарубит нас, как колбасу. Приведем побольше людей и вернемся.
– Полиции перед преступниками робеть нельзя, – отрезал Катин. – К тому же он один, а нас трое.
– Тогда разрешите я пристрелю его через окно. Такой гадине на свете жить всё одно незачем.
– Не разрешаю. Встаньте справа от двери, Шолль – слева. Как ступит через порог, хватайте его за руки с двух сторон.
Скрипнул ключ. Створка распахнулась стремительно, от удара ногой. В проеме застыла долговязая, длиннорукая фигура, сзади подсвеченная солнцем, так что лица было толком не видно – только блестели маленькие, узко посаженные глаза.
Катин ждал, что, увидев перед собой незнакомца в желтом мундире, Кушке кинется наутек, но преступник зарычал и ринулся вперед, с невероятной скоростью вытянув из ножен саблю.
– Держи его! – крикнул Луций.
На злодея слева и справа кинулись помощники – и сшиблись друг с другом, ибо Кушке проворно скакнул в сторону, развернулся на каблуке, почти без замаха, самым кончиком сабли, чиркнул по горлу Шолля, ударом рукояти сбил на пол Вагнера и тут же, по-акробатски крутанувшись, сделал выпад, целя в живот Катину. Тот увернулся и обнажил шпагу. Вагнер, не поднимаясь, выдернул из-за пояса пистолет.
Оказавшись между клинком и дулом, Кушке длить схватку не стал. Он пнул ногой Вагнера и нырнул обратно в дверь.
– Вы ранены? – бросился Луций к Шоллю.
Помощник хрипел и свистел, зажимал себе шею пальцами, оттуда толчками била кровь.
– Не видите, он убит! Рассечена жила! – рявкнул Вагнер безо всякой почтительности к начальнику. – Скорее! Уйдет!
Вылетели во двор и увидели, что Кушке бежит не назад в деревню, а куда-то вбок.
– Увидел наших лошадей! – кричал сзади Вагнер. – Вы заслоняете его! В сторону, черт бы вас побрал!
Луций взял левее. Грянул выстрел, близ уха прогудела пуля, но в беглеца не попала.
Душегуб рубанул поводья, которыми был привязан к изгороди конь суперинтенданта, запрыгнул в седло, плашмя хлестнул по крупу – и с места взял в галоп.
– Что вы остановились? – повернулся Катин к Вагнеру. – В седло и в погоню!
– Бесполезно, – ответил тот, швырнул о землю пустой пистолет. Выругался. – Не догоним. Он взял лучшего коня. Кавалерист. А догоним – прикончит нас, как бедного Шолля. Он побежал, потому что подумал – нас много…
Луций скрипел зубами от бессилия.
– Что же делать?
– Ждать. – Вагнер проводил взглядом всадника, повернул к дому. Бросил через плечо: – Он вернется. Нынче же ночью.
– С чего вы взяли?!
– Ему нужно забрать деньги и серебро. Что мы нашли тайник, он не знает. И вообще считает нас олухами… Мы, конечно, и есть олухи. Но когда Кушке ночью вернется, олухов здесь будет очень много.
Потом они вдвоем, сняв шляпы, стояли над мертвым Шоллем. Луций вытирал слезы.
– Всему виной моя самонадеянность… Никогда себя не прощу…
– Бросьте, господин суперинтендант, – сказал вахмистр. – Не казнитесь. Шолля насильно в полицию никто не гнал. И это хорошая смерть. Я бы тоже желал умереть вот так, а не в постели от болезни. Ночью мы устроим засаду и возьмем этого мерзавца. Позвольте только, людей расставлю я. И командовать тоже буду я. Он не уйдет. Даю вам слово.
* * *
Всё вышло, как обещал интендант Вагнер.
Убийца вернулся за своим кладом в полночь. Раздался свисток. Дюжина полицейских налетела из темноты, сшибла преступника наземь и, пожалуй, забила бы ногами до смерти, если бы не вмешался начальник.
Окровавленный, с распухшей физиономией, с перебитой в локте рукой, зверь лежал на полу, яростно вращал глазами, скалил недовыбитые зубы.
– Что мы будем с ним делать? – спросил Вагнер.
– Довезем до границы и выгоним из Гартенлянда. Таков приказ его высочества, – нехотя ответил Катин. Высокогуманные принципы хорошо выглядят на бумаге и чудесно звучат в нарядном зале, но здесь, в комнате, где истек кровью интендант Шолль, верность идеалам давалась трудно.
Полицейские недовольно зашептались. Не столько для них, сколько для самого себя Луций воскликнул:
– Чего стоят убеждения, если отказываться от них, когда захочется? И что еще прикажете делать с этим выродком, если в Гартенлянде нет тюрьмы и отменены казни? Кладите его в повозку. Едем к границе. Пускай зализывает свои раны и уползает прочь.
Люди молчали, переминались с ноги на ногу.
– Ребята устали, зачем их гонять? – тихо произнес Вагнер. – И господину барону утруждаться незачем, больно много чести. Я сам его отвезу. Куда он, покалеченный, денется?
– Хорошо, – пробормотал Катин, отвернувшись. – Полагаюсь на вас. К тому же принц просил меня безотлагательно доложить об исходе дела.
Чувствовал он себя прескверно.
Карл-Йоганн не спал. С ним были Ангелика и ее компаньонка. Все трое вскочили навстречу Катину.
– Ну что?
– Схвачен, – коротко ответил Луций. – Новых потерь нет. Только интендант Шолль…
– Надеюсь, гартенляндская полиция не замарала себя убийством? – нахмурился принц.
– Нет. Согласно приказу вашего высочества, злодей отправлен к границе под конвоем.
Гансель просиял.
– Значит, зло устранено, а добро не опорочено! Браво, друг мой! Какой прекрасный сегодня день! – Он обнял приятеля и ликующе объявил: – У нас есть и более важная причина для радости. Вечером еще из трех крайсов сообщили, что они вводят местные налоги! В Шварцхайме решили отремонтировать обветшавший мост, в Зауэре построят школу, а в Лигнице проложат гать через болото! Мы счастливо достигли третьей почтовой станции! Давайте устроим маленькое торжество, прямо сейчас!
Они праздновали великое свершение до самого рассвета, пока принцесса Ангелика не задремала в кресле под Гайднову клавесинную песнь «Послушай, любимая дева». Будить спящую не стали. Луций провожал до Эрмитажа одну Беттину.
– Отчего вы выглядите таким несчастным? – тихо спросила фрейляйн. – Вы улыбались и шутили, но я хорошо вас изучила. Вы можете обмануть Ганселя, но не меня.
– Да, я его обманул… – Катин шел, низко опустив голову. – Ведь я отлично знаю, что Вагнер не довезет убийцу до границы. Я умыл руки и позволил свершиться тому, против чего зарекался. Я слабый, бесчестный человек…
– Глупости! – Беттина топнула ногой. – Вы поступили правильно. Гонять зло с места на место безответственно. Вы ведь знаете закон сохранения энергии? Сколько в одном месте убавится, столько прибудет в другом. Хороший подарок сделали бы вы соседям! Нет, милый друг, зло подлежит не изгнанию, но уничтожению.
– Вы оправдываете убийство?! – поразился Катин.
– Заповедь «не убий» придумана ханжами, – отрезала решительная девица. – Почитайте Библию, она полна восхвалений убийцам. Сам Бог – убийца. То утопит всё человечество, то испепелит Содом и Гоморру. Нравственный закон должен звучать иначе: «Не убивай тех, кто не убивает сам».
– Я с вами никогда не соглашусь!
– Желаете оспорить мою позицию?
Она остановилась, уперев руки в бока. Катин тоже. Теоретические диспуты с госпожой фон Вайлер составляли одну из главных радостей его жизни.
– Подождите меня! Подождите!
По лунной аллее, под голыми деревьями, к ним бежал Гансель.
– Ангелика спит ангельским сном, а я чувствую, что сегодня не сомкну глаз! Вы только подумайте! Мы в пути всего три месяца, а уже достигли третьей станции! Пройдет еще каких-нибудь три года, и мы будем обитать в раю!
Глава XI
Тучи над раем. Непозволительная роскошь дружбы. Преимущества Рациония над Флогистоном
В последний день уходящего 1760 года к первому министру княжества Гартенлянд барону Катину явился суперинтендант полиции барон Вагнер.
Новости были тревожные. В приграничном округе Штайнфельд опять произошли беспорядки, на сей раз очень серьезные.
– Крестьяне, собравшись толпой в сто или более человек, напали на временный лагерь саксонцев и разгромили его. Два десятка покалечены, один при смерти. Хуже всего, что избиты полицейские, пытавшиеся остановить драку. Я вам и прежде докладывал, что авторитет власти каждодневно падает, но такого еще не бывало. Если проблема чужаков не разрешится в самом скором времени…
– Не смейте их так называть! – сердито перебил Катин. – Не уподобляйтесь «Юнкерской газете»! Этих людей мы называем «гостями».
– Прошу прощения… Но в данном случае гости сами виноваты. Вчера они обокрали дом тамошнего священника, вот люди и возмутились.
– А откуда известно, что кражу совершили гости?
– Кто ж еще? – Суперинтендант пожал плечами. – Пока за околицей не возник лагерь саксонцев, в деревне краж не случалось.
Министр вздохнул.
– Я вижу, это еще не всё?
– Так точно. Вчера принца вновь освистали на улице. А стены Гартенбурга с утра обклеены вот этим…
Вагнер протянул листок с неряшливой гравюрой. На ней трое оборванцев в тюрингских шапках насилуют белокурую женщину в гартенляндском кружевном чепце. Рядом принц Карл-Йоганн, похожий на хорька, говорит: «Потерпи, милая!» А медведь с точкой на лбу, первый министр, воздымает лапу к надписи: «Это естественные права личности!»
– Вот вам последствия давешнего инцидента с женой пекаря.
– Но мы же выдворили виновных обратно в Тюрингию!
– Этого недостаточно. Подле каждой такой афишки собираются люди. Лица у них такие, что, боюсь, не закидают ли принца камнями. Попросите его прекратить поездки верхом. Только в карете. А вам, господин барон, я настоятельно советую вовсе не выходить из дворца… Листовки печатают в типографии господина Зальца. Запретить ему делать это мы не можем, но попробуйте с ним поговорить.
– О чем? – хмуро спросил Катин.
– Он все-таки солидный человек, рыцарь, отец семейства. Объясните, что на такую картинку глазеют мальчишки. Им нет дела до политики, их привлекает непристойность. Поглядите, как смачно у бабы нарисованы стати.
– Хорошо. Попросите господина Зальца сделать мне визит.
Попрощавшись с суперинтендантом, Луций вернулся к чтению годового доклада, приготовленного вторым министром бароном Драйхандом для отчета перед ассамблеей.
Согласно пространному документу, дела в экономике шли превосходно. За истекший период государственные доходы выросли на два с половиной миллиона, таможенные сборы – на тридцать пять процентов, осенняя ярмарка собрала вдвое больше купцов, чем весенняя, «Гартенбанк» увеличил активы на семьдесят процентов и готов выплатить вкладчикам пятнадцатипроцентные дивиденды. Строительство университета обходится дешевле, чем предполагалось, ибо из-за войны очень упали в цене строительные материалы. Нынче строят в одном Гартенлянде, в прочих землях лишь разрушают.
Войне, длящейся вот уже пятый год, в докладе посвящалась отдельная статья. Хоть это нигде прямо не говорилось, но между строк читалось, что барон Драйханд очень ею доволен. Деньги, товары, хорошие мастера со всех сторон стекаются в гартенляндский оазис, зеленеющий средь пепелищ, а спрос на зерно, мясо, сукно и фураж все время возрастает. Конечно, нейтралитет обходится недешево, писал Драйханд, ибо теперь приходится оплачивать два прусских полка и два австрийских, но издержки от войны в несколько раз перекрываются прибылью. Есть все основания рассчитывать, бодро докладывал министр, что новый 1761 год окажется еще более доходным.
И ни слова о проблеме «гостей». Ведь это не забота второго министра.
Да, в результате реформ и нейтралитета бывшее Обер-Ангальтское княжество достигло процветания, особенно заметного на фоне всеевропейского разорения, но возникли последствия, которых совершенно не предвидели благомысленные преобразователи.
Земной рай отличается от небесного тем, что расположен на земле и небо ему не принадлежит. Когда оно затягивается черными тучами, на чудесный сад обрушивается ураган.
Первое время в Европе потешались над ангальтскими чудачествами – всеми этими юнкерами-башмачниками, рыцарями-шляпниками и баронами-купцами. Но довольно скоро соседи и проезжающие увидели, как разительно жизнь Гартенлянда отличается от других земель. Там спокойно, зажиточно, чисто, привольно, невероятно низкие подати, прекрасные дороги, повсюду строительство и благоустройство – тем, кто попадал в этот край, не хотелось оттуда уезжать.
И некоторые предпочитали остаться. Потом стали прибывать новые, с семьями и скарбом, – чтобы пересидеть в мирном месте до окончания военных невзгод. Пока это были люди обеспеченные и способные сами за себя платить, гартенляндцы только радовались. Но война всё не кончалась, ее пожар разгорался пуще, опустошая новые территории, и в Гартенлянд потянулись беженцы из сопредельных государств, иногда целыми деревнями. Повсюду разнесся слух, что добрый принц Карл-Йоганн никому не позволяет умереть с голоду, дает несчастным пищу и кров. Возник один лагерь из наскоро сколоченных балаганов, потом второй, третий, десятый.
Наплыву голодранцев в княжестве никто не обрадовался. Кому понравится, что рядом селятся нищеброды, которые тебе завидуют, свинячат, воруют, да просто сбивают цену на труд!
Весь последний год в Гартенлянде полыхали ожесточенные споры – что делать с так называемыми гостями.
Принц и первый министр ратовали за гуманность и милосердие, ассамблея заявляла протесты, и общество было на ее стороне.
Радикальная «Юнкерская газета», а в последнее время и умеренная «Рыцарская» каждый день печатали новости о безобразиях, чинимых пришельцами. Уличные листовки и лубки призывали людей не надеяться на правительство – брать дело в свои руки. Была, правда, и третья газета, «Баронская», поддерживавшая официальную позицию, но это скучное издание мало кто читал.
Оптимистичный доклад не исправил Луцию испорченного настроения. Нужно было что-то решать, и быстро, иначе обитатели земного рая разнесут его к черту. Пронеслась и тут же была с негодованием изгнана крамольная мысль: рай возможен только под самодержавным управлением всемогущего Бога, а ежели там станет распоряжаться ассамблея райских представителей, получится чепуха.
Но часы прозвонили одиннадцать раз, и министр немного повеселел. Это было время, когда к нему приходила пить кофе Беттина после того, как позавтракает с августейшей четой.
Появилась она и сегодня, сразу после одиннадцатого удара, неизменно пунктуальная.
– Что их высочества? – рассеянно спросил Луций, когда кофешенк удалился и они остались наедине.
– Как всегда. Воркуют. Свежие, нежные, сладкие, как две вазочки воздушного крема, – сказала несентиментальная фрейляйн. – Одно из преимуществ «белого брака» состоит в том, что супруги никогда не видят друг друга неубранными, не слышат, как обожаемое существо храпит иль пускает ветры. Утром выходят из своих спален к завтраку разряженные и благоуханные, да восхищаются, какие они прекрасные.
И мы могли бы каждое утро вместе завтракать да восхищаться, подумал Катин, но вслух ничего подобного произнести, конечно, не осмелился. Два с половиной года назад, набравшись смелости, он все же сделал высокочтимой подруге предложение. Лучше было не вспоминать, как она ему ответила…
– Что, плохо? – спросила Беттина, взяв со стола скверную афишку. – В стране уже восемнадцать лагерей. Это больше десяти тысяч человек. Дело закончится большим кровопролитием. Сколько раз повторять: оттягивать решение нельзя.
– Знаю…
– Отчего же вы не поговорите с Ганселем?
– Не могу. Это будет ударом в спину, предательством. Завтра, в первый день нового года, он собирается выступать перед ассамблеей. Вся речь – о великих принципах человечности, ради которых должно нести жертвы. Боюсь, его ошикают – те самые люди, которые ему всем обязаны… Если еще и я его покину… Я единственная его опора. Я его друг.
– Вы первый министр, – строго молвила фрейляйн. – Кому вы служите – государю или государству?
– Обоим!
– Но если государю потребно одно, а государству – противоположное? Каков будет ваш выбор? Помните наш разговор о том, что плох правитель, который любит своих друзей больше, чем свою страну? То же можно сказать и о министре. Если вы любите Ганселя больше, чем страну, поступите честно: останьтесь верным другом, но тогда покиньте правительство. Иначе вы все равно получаетесь предателем – тех самых граждан, которым присягнули служить…
– Тсс! – поднял руку Луций, услышав за дверью хорошо знакомые шаги, быстрые и легкие. – Это он!
Беттина поднялась.
– Я ухожу. Иначе наговорю ему резкостей. За завтраком еле удержалась.
Она вышла в левую дверь, а в правую уже стучался принц.
– Прочитали доклад Драйханда? – весело спросил он, поздоровавшись. – Отчет укрепляет наши позиции перед ассамблеей. Профицит бюджета в миллион двести семьдесят тысяч талеров позволит нам решить проблему с содержанием гостей без ущерба для Гартенлянда. Мы можем выплачивать небольшое, но достаточное пособие каждой семье!
– Чтобы, узнав об этом, в страну хлынули новые толпы беженцев? Через месяц их будет двадцать тысяч, через три месяца – пятьдесят. Эта орда пожрет все плоды нашего Эдема, а затем его вытопчет…
Принц посерьезнел.
– Не спорю. Возможно, так и произойдет. Но разве не клялись мы друг другу пожертвовать всем ради наших прекрасных принципов, если воспонадобится?
– Прекрасные принципы существуют ради создания прекрасной жизни. Если же она не создается, значит, с принципами что-то не так. Их должно ревизовать и пересмотреть…
Катин сбился, не в силах видеть, как тускнеет лицо друга.
– Что же вы предлагаете? – тихо спросил принц.
– Беженцев, которые уже здесь, расселить из лагерей по всей стране – не лагерями, а семьями. Пособия выдавать только вдовам и сиротам, остальные пусть работают и кормят себя сами. Впредь пускать в страну только тех, кто имеет средства для самостоятельного проживания. Для этого придется учредить пограничную стражу. Думаю, больших дополнительных расходов не понадобится – прирубежные жители станут исполнять эту службу добровольно. Вот вкратце то, что я намерен завтра говорить на ассамблее в моей министерской речи.
– Вы отступаетесь от меня? – Глаза Ганселя наполнились слезами. – Вы, мой дорогой, единственный друг?
Защипало в носу и у Катина. Но уступить было нельзя.
– Что вы такое, ваше высочество?
– То есть?
– Вы – это человек по имени Карл-Йоганн или вы – государь, на плечах которого лежит бремя ответственности за страну? Я люблю обоих, но сейчас могу быть верен лишь одному из вас, ибо человек и государь находятся в разладе между собой. Если вы предпочитаете видеть меня своим другом, я немедля подам в отставку и всегда буду на стороне моего любимого Ганселя, даже если он совершает ошибки. Позвольте мне сделать сей выбор! Клянусь, это мое самое горячее желание!
– Я – это я, – ответил Гансель. – Что я буду за принц-князь Страны-Сада, если я предам человечность и человечество?
– Но вы не принц-князь человечества, вы принц-князь Гартенлянда и должны прежде всего заботиться о своих подданных. Если же идеалы вам дороже заботы о подданных, давайте предоставим гартенляндцам самим решать свои проблемы, а мы с вами уедем отсюда и где-нибудь на приволье напишем книгу о прекрасных принципах.
Принц надолго задумался. Глаза его высохли, но сделались еще печальней. Наконец Гансель заговорил необычными отрывистыми фразами:
– От проблем бегут трусы… Отставки вам я не дам. Говорите на ассамблее то, что считаете правильным… И знайте: вы всегда останетесь мне дорогим другом. А над вашими словами я буду размышлять.
Он понуро вышел. Луций заплакал, взявшись одной рукой за чело, а другую прижав к груди. У него разламывалась голова и болело сердце.
Из-за душевных терзаний он не услышал шагов и вздрогнул, когда кто-то сзади взял его за плечи.
Фрейляйн фон Вайлер мягко, но сильно развернула плачущего Катина к себе.
– Я не думала, что вы способны на такую твердость. Это меняет мое представление о вас…
– Вы подслушивали?
– Конечно. И вот что, герр Катин… – Девица платком вытерла ему глаза. – Я делаю вам предложение.
– Какое? – тупо спросил Луций.
– Не руки и сердца, ибо сердце не вместилище души, а всего лишь насос. Я предлагаю вам мою руку и мой разум. Согласны ли вы стать моим супругом до самого гроба – либо же до тех пор, пока мы друг другу интересны (в зависимости от того, что произойдет раньше)? – уточнила педантичная Беттина.
– А… а почему… почему вы отказали мне раньше и сами захотели этого сейчас? – спросил глупец Луций, вместо того чтоб сразу воскликнуть: да, да, тысячу раз да!
– Вы продемонстрировали, что можете меняться, – отвечала она не вполне понятно, но Катин уже опомнился и не стал искушать судьбу дальнейшими вопросами. Луций, неистово кивнул, три раза подряд, а затем, внезапно осмелев, выпалил:
– А может у нас с вами быть одна спальня? – Испугался, поспешно прибавил: – Нет-нет, ничего такого! Две отдельные кровати и, если хотите, даже два алькова. Но мы могли бы разговаривать перед сном, в темноте…
– Я подумаю о вашей просьбе, – великодушно молвила его избранница, а вернее сказать избирательница. – Скрепим же нас союз рукопожатием.
* * *
Брачную ночь молодые провели, читая друг другу отрывки из своих любимых книг. Это была настоящая оргия чистого наслаждения.
В свадебное путешествие они отправились в Афины, к первоисточнику мировой философии, где осмысляли бытие Платон, Аристотель, Сократ и мудрецы Стои. Через разоренную Европу супруги доехали до Триеста, оттуда на венецианском корабле отбыли во владения султана Мустафы III.
Стоя у руин Парфенона, долго молчали, глядя вниз, на грязный восточный город, два тысячелетия назад бывший средоточием высоких идей.
– На какие мысли наводит вас это печальное зрелище? – спросила госпожа Катин.
– Что всё когда-нибудь заканчивается смертью и распадом.
– Это-то не новость. – Она присела на обломок капители. – Я думаю про другое. Одни прекрасные принципы мало стоят, если не способны оборонить себя от варваров. Вероятно, самая трудная философская задача на свете – как защититься от Зла, не опускаясь до Зла самому. Христианская религия предлагает решение, но сама ему не следует. А я полагаю, что пока на сей вопрос не сыщется ответа, никакой рай на Земле не построится. Мы с вами будем об этом разговаривать и, может быть, найдем какой-нибудь способ. Хорошо?
– Хорошо, – молвил Луций, любуясь женой.
Он думал: это ведь храм мудрой Афины Паллады, по-римски Минервы. Беттина и есть Минерва. Я же – смертный, которому в супруги досталась богиня, и тут сетовать не на что. Богинь высекают из мрамора, а мрамор не тает в объятьях. На то он и мрамор. На то она и богиня.
Домой новобрачные вернулись в первый день весны. Луций стягивал запылившиеся ботфорты, когда в гардеробную ворвался принц, подхватил друга, обнял, замочил радостными слезами.
– Я так вам благодарен! Так благодарен!
– За что? – удивился Катин. – Я еще ничего не успел сделать.
– За то, что вы увезли Беттину! Вдали от нее моя Ангелика волшебно переменилась! Сначала позволила целовать ее в щеку, потом в губы, а потом… Наш брак более не белый! Он разноцветный! Как радуга! О, это такое счастье!
Луций смотрел на ликующего принца со снисходительной улыбкой.
Нет, ваше высочество. Вы заблуждаетесь. Подлинное, прочное счастье зиждется не на суетечном Флогистоне, а единственно на чистом Рационии. Это высшее счастье доступно очень, очень немногим, зато оно не подвержено старости и нетленно.
Глава XII
Герой отмечает печальную дату, получает предложение стать акушером и узнает, что на востоке загорается заря
Горестную годовщину, проклятое 11 ноября, Луций встретил у гробницы, украшенной бюстом Минервы. Скульптор придал лицу богини черты усопшей. Тусклое солнце слегка шевелило тени в мраморных глазницах, и вдовцу казалось, что Беттина на него смотрит, продолжает оборвавшийся разговор.
Год назад, на смертном одре, перед тем как лишиться сознания, она лепетала:
– Как глупо, как глупо… Теперь никто не последует моему примеру, всё окажется напрасно. Хуже, чем напрасно! И как жаль, что я не увижу, как вы достраиваете наш Сад… Перестаньте плакать, Луций. Стыдно! Вы же философ. Пообещайте мне, что не будете плакать. Тогда я скажу вам нечто важное.
Скованный ужасом Катин немедленно вытер мокрое лицо и поклялся, что в жизни больше не проронит ни слезинки.
Беттина слабо улыбнулась.
– Так-то лучше. Вы ведь сильный. Очень мягкий, но очень сильный. За это я вас и полюбила. И хочу сказать вам то, чего никогда раньше не говорила…
Он наклонился к самым ее устам, потому что голос звучал всё слабее. Но звук совсем стих. Губы еще мгновение-другое шевелились, потом перестали.
Баронесса Катин умерла после того, как привила себе оспу. Идея показать народу, что вариоляция не опасна и что явить пример должны первые лица Гартенлянда, принадлежала Карлу-Йоганну, в свое время лишившемуся обоих родителей от ужасного поветрия и на всю жизнь сохранившему на лице отметины. Сам принц как уже переболевший заразой привиться не мог; принцесса была в очередной раз беременна. Поэтому рискованную операцию произвели над собой первый министр и его жена, первая статс-дама.
Луцию от инжекции оспенного гноя никакого вреда не последовало, но Беттина вся покрылась язвами и сгорела в три дня. В гробу ее обезображенное лицо было покрыто толстым слоем белил, к каковым при жизни она относилась с презрением.
До самого последнего ее вздоха и еще долго после остолбеневший супруг всё не мог поверить в истинность произошедшего. Разве бывает, чтобы гибель постигла богиню, а не вступившего с нею в брак смертного? Судьба что-то перепутала! Или же бессмертная богиня заразилась от человека жизнью, а жизнь, увы, непрочна? Тогда вина на нем, на Луции! От отца ему передалось семейное проклятье – терять того, кого любишь всей душой. Но отцу от любимой хотя бы осталось дитя. Ах, чего бы только безутешный вдовец не отдал за подобное утешение! Но откуда взяться ребенку в белом браке?
Последнее обещание, данное умирающей, наш герой сдержал. Он не плакал ни в момент ее кончины, ни на похоронах, ни в протяжении всего этого безжизненного года. Беттина была бы им довольна. Слезы иссохли – видно, навсегда. Ледяной ком, смерзшийся в груди, не имел возможности истаять каплями. Он тоже, кажется, угнездился навечно.
И вот 11 ноября 1766 года, поздним ноябрьским рассветом, для осенней поры удивительно ясным, Катин стоял перед каменной Минервой и надеялся услышать голос из потустороннего космического эфира.
Всё это, конечно, было бесплодной химерой. Мраморные губы не шепчут, а встретиться с умершими можно только одним манером – если сам переместишься в космос.
Но голос на утреннем кладбище все-таки раздался, хоть и не тот, который чаял услышать Катин.
– Я так и знал, что сегодня найду вас здесь…
Сзади приблизился Гансель, встал за спиной, повсхлипывал. Луций не обернулся, чтоб не завидовать. Утраченного слезного дара вдовцу очень не хватало.
– Сядемте, поговорим.
Принц взял его за руку, чуть не силой усадил на скамью.
– Я не могу видеть, как вы увядаете. Вам только тридцать три года, а вы выглядите на пятьдесят. Вы когда-нибудь смотритесь в зеркало? Я так и думал. У вас на лбу глубокие морщины, в волосах белые нити. И вы опять пропустили заседание Гофрата, а ведь мы обсуждали великий проект всеобщего образования.
– От меня не было бы никакого проку. Какой из меня теперь министр? Я много раз просил дать мне отставку, – равнодушно молвил Катин.
– И вы знаете, что я готов ее принять, если вы согласитесь возглавить наш университет.
– Какой из меня нынешнего ученый? – тем же тоном произнес Луций. – Ученому всё интересно, а мне ни до чего нет дела.
Карл-Йоганн тяжело вздохнул, но в покое друга не оставил.
– Я знаю, почему в вас уснул разум и замерли чувства. Я давно это понял. Ваш ум и ваше сердце парализованы воспоминаниями. Всё вокруг напоминает вам о ней. Вы приезжаете на Гофрат и думаете не о государственных делах, а о том, что ваша супруга всегда сидела вон на том месте близ окна. Едете или идете по городской улице и повсюду видите ее призрак: здесь Беттина открывала приют, здесь вы с ней любили пить шоколад, здесь она заказывала книги. В конце концов магнит невозвратного утянет вас за собою в могилу.
Тут Луций улыбнулся – мысль ему понравилась. Отвыкшие от этого движения губы были словно деревянные.
– Знаете, что в Беттине было поразительней всего? – мечтательно сказал он. – Мы всегда были вместе, и она видела меня насквозь, а вот я никогда не мог угадать, о чем она задумалась. Однажды… – Катину было приятно о ней говорить. Только в эти минуты жизнь делалась хоть сколько-то сносной. – Однажды мы сидели в парке, на холме и любовались особенно красивым закатом. Ну, то есть это я думал, что мы оба любуемся. А Беттина вдруг говорит: «Нам очень хорошо вдвоем, но, скорее всего, кто-то умрет раньше, а второй останется. Так почти всегда бывает». Я вздрогнул, даже воскликнул что-то возмущенное – зачем-де о таком заговаривать? «Затем, что каждый день, каждый миг жизни вдвоем следует воспринимать как праздник. Ведь не бывает, что праздник длится вечно. Однажды он закончится, и оставшийся вернется в обыденную жизнь. Это не трагедия. Это возвращение в будни, когда человек живет воспоминанием о празднике и надеется, что когда-нибудь придет новый…» – Улыбка на лице нашего героя померкла. – Но я на новый праздник не надеюсь. И не верю, что он возможен. Моя мудрая жена не учла одного. Человеку, привыкшему к долгому празднику (мой ведь длился целых шесть лет), будни покажутся адом… А вы говорите «заседания Гофрата». Какие могут быть заседания в аду?
Принцу эта речь очень не понравилась. Он встревоженно нахмурил свое рябое чело.
– Меня не заботит ваше отсутствие на Гофрате. Помните, как в начале пути мы уподобляли правительство садовнику, а страну – саду, который надо высадить и потом за ним ухаживать? Теперь мы с вами люди опытные и знаем, что для государства, в котором все разумно устроено, более уместна другая метафора. В такой стране правительство – как доктор при здоровом пациенте. Дело лекаря – быть начеку и вовремя прописывать лекарство, если появляются первые признаки недуга. Но наш Гартенлянд, благодарение Разуму, находится в отменном состоянии. Здоровый организм отлично справляется со своими нуждами сам. За год, в течение которого мне приходится исполнять ваши обязанности, не произошло ничего такого, где неотложно потребовались бы ваш практический ум и твердая воля.
– Ни первого, ни второго во мне нисколько не осталось, – сказал Катин. – Право, отпустите меня. Если бы я мог, я уехал бы сам. Но куда я от нее уеду?
Он отвернулся от Ганселя и снова стал смотреть на Минерву. Теперь половина каменного лика стала розовой, будто зарумянилась.
Принц чем-то зашелестел, но Луций на него не глядел.
– Друг мой, это разрывает мне сердце, но иного средства спасти вас, по-видимому, нет. Я, собственно, давно уже это понял и предпринял кое-какие шаги. Сегодня пришел ответ…
Его высочество сделал паузу, ожидая расспросов, но не дождался. Катину было все равно. Ему хотелось только одного: чтобы Гансель ушел и оставил его наедине с Минервой.
– Помните ли вы, как несколько месяцев назад я читал вам письмо от кузины Фике, ныне российской царицы? О ее планах по переустройству империи? Я еще дал вам брошюру, присланную из Петербурга.
Луций, не оборачиваясь, кивнул. Кажется, что-то такое было.
– Я нашел брошюру на вашем письменном столе. Вот она. Вы ее, кажется, даже не раскрыли?
Нехотя покосившись на книжицу в руках принца, Катин снова отвернулся.
– Нет.
– И напрасно. Это удивительное сочинение. Оно называется «Instruction pour la commission chargée de dresser le projet de nouveau Code des Loix»[9].
– Я не стал читать сей трактат, ибо не верю, что Россию можно исправить новыми законами. Это вам не Обер-Ангальт.
– И напрасно не стали! Фике – великая женщина, теперь я это вижу. И у нее великие планы. Я по сравнению с нею карлик! Послушайте, с чего начинается «Наказ»! – Гансель раскрыл страницу, с чувством зачитал: – «Закон Христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно. Полагая сие законом веры предписанное правило за вкоренившееся или за долженствующее вкорениться в сердцах целого народа, не можем иного, кроме сего, сделать положения, что всякого честного человека в обществе желание есть или будет видеть все отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства и спокойствия». Таким языком говорят истинное человеколюбие и величие!
– Легко быть человеколюбивым и великим на бумаге, – не впечатлился Катин. – Вы вот красивых деклараций не издавали, а засучили рукава и сразу взялись за дело.
– Мне – нам с вами – было легко в нашем маленьком, дисциплинированном Ангальте. Так ведь и сад, который мы высадили, крохотный. А вообразите себе, что такое преобразование огромной империи! Здесь надобно семь или семижды семь раз отмерить, а потом уже резать! И вы напрасно думаете, что Фике – нет, буду называть ее царицей Екатериной – лишь прекраснодушествует. Известно ли вам, что она приготовила манифест, созывающий комиссию депутатов, которых изберут по всей стране, дабы принять новые праведные законы и установить в России просвещенные порядки?
– В России? Изберут депутатов? – Луций недоверчиво рассмеялся. – Что за фантазии! Вы в это верите, потому что никогда там не были.
– Да вот же, послушайте! – Принц спрятал книжицу, достал какое-то письмо. – Треть представителей будет от помещиков, треть от горожан, а остальные от крестьян и малых народов.
– Кто это вам сообщает? – все не мог поверить Катин. – Какой-нибудь немец, ничего не смыслящий в русских делах?
– Это мне пишет сама императрица. Вообразите! Столь невероятный прожект осуществится не во Франции, на родине философов, а в вашем отечестве, которое многие считают диким азиатским царством! Вот где размах, вот где кузница истории!
– Да, это дело такой пропорции, что захватывает дух, – признал Луций. – Однако сомнительно, чтобы немка, занявшая российский престол при скандальных обстоятельствах, сумела сдвинуть с места этакую махину.
– Одна, конечно, не сдвинет. Но с толковыми, опытными помощниками – очень возможно.
– Откуда они в России возьмутся – опытные? Там никогда ничего похожего не затевалось.
Карл-Йоганн улыбнулся, видя, что наконец сумел отвлечь друга от скорбных мыслей.
– Екатерина отлично это понимает. Потому она и разослала письма к самым просвещенным государям Европы. Очевидно, к их числу она причисляет и меня, – скромно присовокупил принц.
– И по справедливости. О гартенляндском чуде судачит вся Европа. С тех пор как закончилась война, отовсюду приезжают паломники, будто магометане в Мекку – поглядеть на нашу жизнь.
Принц загадочно помахал листком.
– В прошлом письме, из которого я вам зачел кусок, Екатерина спрашивала моего совета и просила полезных людей. Вы знаете, что я ей ответил?
Катин подумал-подумал и догадался:
– Неужто вы предложили ей меня?
– Да. Я ведь говорю: я понял, что единственное средство спасти вас от медленного увядания – покинуть место, которое вечно будет для вас пепелищем любви. С болью в сердце, со слезами я написал кузине, что готов пожертвовать ради нее своим первым министром, моим драгоценным соратником и наставником – ежели только он согласится. Сегодня пришел ответ из Петербурга. Екатерина горячо благодарит меня и с признательностью принимает предложение. Она просит отправить вас в Россию как можно скорей, ибо манифест будет распубликован до конца года и сразу после того начнутся выборы депутатов.
Луций поймал себя на том, что рот у него раскрыт, а глаза часто хлопают.
– Лучший способ изжить большое горе – взяться за большое дело, – горячо говорил Гансель. – Работа – вот что вас спасет! России нужен не садовник, ей нужен акушер, способный принять роды дитяти, которое или умрет в младенчестве или вырастет в богатыря!
Здесь принц схватился за голову, воздел очи горе и простонал:
– Небо! Что я делаю? Сам устраиваю разлуку, которая разобьет мне сердце! Но лучше разбить свое сердце, чем бессильно наблюдать медленное умирание вашего…
Когда же Катин ничего не ответил, охваченный колебаниями, Гансель перешел от восклицаний к проникновенности.
– Знаете, что бы сейчас сказала вам она?
– Знаю. Что слабость и уныние недостойны мыслящего существа.
– Нет. Беттина не стала бы вас корить, ибо упреки ослабляют, а Беттина умела делать человека сильным. Она сказала бы: «Если ты не можешь быть счастлив сам, попытайся сделать счастливыми других».
Пораженный этой простой мыслью, Луций вздрогнул. Да, именно так Беттина и сказала бы!
Он оглянулся на памятник, на который в этот миг надвинулась тень от облака, и померещилось, что богиня кивнула.
– На востоке разгорается заря во всё небо, – сказал принц, прикрывая ладонью глаза от косых лучей. – Поезжайте туда! Не дайте тучам сокрыть светило! Я уже распорядился приготовить вам всё необходимое для дороги. Можете отправляться без замедлений. До русской границы вы доедете на почтовых, а там вас будет ждать царская эстафета. Вы согласны?
Катин кивнул. Тогда Гансель обнял его и оросил ему щеку слезами.
* * *
Ранним утром следующего дня, опять благословенного лучезарной зарей, у Катина были мокры уже обе щеки, ибо с одной стороны его оплакивал принц, с другой – принцесса.
– Я завидую величию и трудности задач, которые вас ожидают, – бормотал в левое ухо его высочество.
В правое ухо ее высочество нашептывала:
– Если вам там будет плохо, возвращайтесь.
А у Луция глаза были сухи, слезный дар к нему так и не вернулся.
Оглядываясь в заднее окошко кареты, он мысленно говорил: «Прощай, земной рай. Все равно ты утрачен».
Часть третья Под знаком Юстиции и Ювенты
Глава XIII
Герой возвращается в отечество, беседует с очень умной женщиной и еще более умным мужчиной
Живя в Европе, Катин часто сравнивал ее с Россией, обыкновенно не в пользу последней, и одною из разительнейших дифференций, чуть ли виновницею всех русских злосчастий, почитал расхлябанную медлительность былых соотечественников. Всё-то у них (он уже не думал «у нас») кое-как, на авось, начерно, без спеха. Торопятся куда-нибудь только для лихой иль дурацкой надобы, а как дело делать – их с места не сдвинешь.
Однако путешествие из маленькой столицы Гартенбурга в большую столицу Петербург понудило нашего героя усомниться в справедливости сего россофобского предрассудка. Это по германским землям отставной министр ехал медленно, подолгу дожидаясь лошадей на почтовых станциях, но стоило ему пересечь русскую границу, и движение времени многократно ускорилось.
На порубежной заставе путешественник предъявил царское письмо, и все вокруг забегали. Словно по волшебству явились обитые войлоком крытые сани, и мохнатая тройка раскидывала снег нетерпеливыми копытами, и крутились в седле двое драгунов. Едва Луций погрузился со своими чемоданами и книжными коробками – возница свистнул, кони запустили по накатанной дороге, зазвенели бубенцы. Их переливчатый голос, раз пробудившись, более не смолкал, потому что мчали без ночевок, только меняя лошадей, а спал царский гость на ходу, под скрип полозьев, под перезвон колокольцев, под хриплое пение ямщиков с солдатами – те орали песни, чтоб не заскучать, не заклевать носом и не свалиться. Каждые сто верст конвой сменялся, а песни были все те же – про мороз, про дальнюю дорогу, про красу-девицу, которая где-то ждала поющих.
Скорость увеличивалась еще и потому, что в Германии и Литве земля была голой и карета сотрясалась на колесном ходу, а в России уже всюду лежал снег, по которому скользилось легко, споро.
Шестьсот с лишним верст Катин промчал с невиданной для Европы прытью, за двое суток. Коли здесь теперь так ездят, думал он, может, в России и вправду всё переменилось.
Надо сказать, что наш герой почти не знал родной страны, ибо вырос в нерусском Санкт-Петербурге и отроду никуда из него не езживал. Не то чтоб Луций хорошо рассмотрел Россию и теперь. В окошке саней чередовались белые поля и черные леса, мелькали серые, убогие деревеньки. Избы в них походили на снежные сугробы, из которых поднимались струйки дыма. Изредка встречался какой-нибудь мужичонка, непременно драный, лядащий. Лица не разглядеть, потому что сразу сдернет шапку да поклонится казенному возку. Из мало-мальски красивых строений виднелись только церкви с колокольнями.
От такого кислого ландшафта мысли вояжира приняли иное, скептическое направление. Ничего тут не переменилось и не переменится. Ни мудрая Минерва, ни оборотистый Меркурий здесь не приживутся, померзнут к чертовой матери в своих туниках и сандалиях. Где им против брадатого Николы-Угодника с Ильей-пророком, а и те еще до конца не одолели зверострашного Перуна со скотьим богом Велесом.
* * *
Вид Петербурга укрепил Катина в сих сомнениях. Десять лет не был он в российской столице, а та осталась в точности прежней.
Скованная льдом река слишком широка для города – будто не она в нем, а он при ней. Окраины темны, освещены лишь парадные улицы, но и там по обочинам обмоченные сугробы, на мостовой неубранный навоз. И ни души, только на перекрестках топчутся укутанные будочники подле своих полосатых ящиков. Правда, время было позднее, почти ночное.
На городской заставе офицер, прочтя бумагу, привычно засуетился, сел к ямщику на облучок и велел гнать прямо во дворец. Не попустил Катину ни умыться с дороги, ни переодеться. «Писано немедля к государыне – стало быть, немедля». Это в полночный-то час? Луций поневоле вспомнил, как его, нашкодившего паскудника, уже возили ночью к царскому дворцу, да недоверчиво усмехнулся. Будто и не с ним было.
Что изменилось, так это Зимний дворец – не узнать. Десять лет назад он был еще недостроен, наполовину в лесах, сейчас их разобрали, но разница состояла не в том.
При веселой матушке Елизавете он весь сиял огнями, оглашал двор разудалой музыкой, ныне же светились лишь два окна бельэтажа. И было тихо.
– Куда мне в такое время? – попробовал Луций урезонить офицера. – Не видите, сударь, все спят?
– Ее царское величество работает, – кивнул служивый на освещенные окна.
Сочетание слов «царское величество» и «работает» показалось Катину невообразимым парадоксом. Недавнего гартенляндца охватило великое любопытство. Он перестал сопротивляться течению событий и пошел, куда вели.
Армейский офицер передал ночного визитера гвардейскому сержанту со словами «по высочайшему вызову». Сержант повел Катина куда-то коридорами, потом полутемной лесенкой и на верхней площадке с теми же волшебными словами препоручил гвардейскому капитану. Из рук в руки передавалось и царское письмо.
Капитан сопроводил Луция в небольшую залу, а там тихонько постучал в некую дверь. Войти не пригласили, но скоро створка приоткрылась, высунулась круглая физиономия с сонно прищуренными глазами. Капитан пошептал, вручил письмо. Веки круглолицего господина разомкнулись, на Катина устремился неожиданно острый, нисколько не сонный взгляд, после чего дверь закрылась.
– Ждать здесь. Не входить, – отрывисто шепнул капитан и удалился.
Не прошло и минуты – Луций даже не успел толком рассмотреть помещение, как дверь снова отворилась, теперь уже широко. Давешний человек (он оказался в скромном коричневом сюртуке и мягких бархатных сапожках непридворного вида) сначала поманил Катина пальцем, потом приложил тот же перст к губам.
– Шшшш, – прошелестел он. – Ее величество пишет.
И вошел первым, на цыпочках. Так же сделал и наш герой, но обувь на нем была дорожная, скрипучая, и бесшумно войти не получилось.
* * *
Кабинет российской самодержицы был погружен в полумрак, разглядеть детали не представлялось возможным. Кажется, по углам белели какие-то бюсты, а на стенах мерцали бронзовые рамы, но, впрочем, Луций в стороны не смотрел – его взор был прикован к освещенному шандельерами столу и сидевшей там даме.
Она была в домашнем чепце, в накинутой на плечи простой шали, из-под которой виднелась пухлая, по локоть обнаженная рука. Рука быстро вела пером по бумаге. Склоненного лица сначала было не видно, но через несколько мгновений оно приподнялось, озаренное дрожащим светом, и предстало во всей величественной красе. Государыня задумчиво глядела вверх, словно над нею был не лепной потолок, а высокое небо.
Строго говоря, ничего особенно красивого в этих чертах не было: мясистые щеки, небольшие глазки, крошечный рот, а все ж Катин задохнулся, ослепленный. Может ли не быть величественной голова, решающая судьбу двадцати мильонов подданных?
Не замечая вошедших, царица сама себе кивнула, должно быть, придя к некоему государственному решению. Перо вновь принялось выводить строки, двигаясь с впечатляющей быстротой – будто не поспевало за мыслями.
Пауза затягивалась. Зачем было меня впускать, когда не закончено важное дело, недоумевал Луций. Не проще ль было подержать за дверью? Он покосился на царского секретаря, а тот вдруг взял и подмигнул, после чего опять сонно прикрыл глаза.
Не может быть! Показалось.
Но вот Екатерина присыпала документ песком, сдула, и оказалось, что она превосходно видит позднего посетителя.
– Прошу извинения, барон, но мне нужно было доформулировать мысль, – сказала императрица по-немецки с самой обворожительной улыбкой.
Катин лишь почтительно поклонился.
Царица просит извинения? Она формулирует мысль? Воистину Россия не та, что прежде!
– Я составляю проект о том, как взрастить новый род русских людей. Без этого страну не переделаешь, – самым простым, приязненным тоном продолжила царица. – Ключ в образовании и воспитании. Да вы садитесь – куда пожелаете. Хоть сюда. – И показала на кресло перед столом.
Секретарь все так же на цыпочках отошел в угол, к конторке, и Луций сразу о нем позабыл.
– Мы с принцем пришли к тому же заключению! – воскликнул он. – Что надобны повсеместные школы нового, еще не бывалого устройства, где детей будут учить самому главному – как стать правильными людьми! И всего через поколение народ преобразится!
– Россия не Гартенлянд, – вздохнула Екатерина. – У нас так не получится. Где возьмешь столько хороших учителей? Я не фантазерка. Моя идея проще. Я не чаю переменить народ за одно поколение, сразу. Дорога будет длинной, но надобно же с чего-то начинать. Кто является для всякого ребенка естественным учителем?
– Родитель.
– Нет, сударь мой. Отцы служат либо с утра до вечера добывают хлеб, да и вообще мужчина, если он чего-то стоит, скорее принадлежит миру, нежели семье. Иное дело – женщина. Она всегда рядом, все ее заботы – о потомстве. Дитя учится жить чрез свою матерь. Вот кого надобно готовить в учителя – будущих родительниц. Я надумала учредить институт, куда наберу девочек, полностью отделив их от косного влияния семей. Самые искусные педагоги научат институток благородным мыслям, разумному домоводству, приобщат к лучшим плодам культуры. Я стану сим барышням попечительницей, буду выдавать их замуж, и взращенные ими дети образуют первое истинно европейское поколение русского дворянства! Капля в море, скажете вы? Да, но это будет капля благородного пигмента! И за нею каждый год, со всяким новым выпуском института, последуют другие капли! А затем такие же заведения откроются в губернских столицах! Через двадцать иль тридцать, много сорок лет преобразится всё благородное сословие! Оно приучится к изящным манерам, к чтению, к человечности! И вся вода постепенно окрасится, ибо нравы всегда распространяются сверху вниз.
– Это… это прекрасная идея! – взволнованно произнес Катин. – Признаться, я ждал какого-нибудь несбыточного прожектерства, но вижу в вашем величестве основательную мудрость и здравомыслие, которые в самом деле способны изменить Россию! Отраднее всего, что вы строите планы на дальние времена, намерены высадить дерево, плоды которого смогут вкушать разве что ваши внуки! Это знак истинно государственного величия!
Царица слушала его благосклонно, а рассматривала с удовольствием.
– Так и вы совсем не таков, каким я представляла знаменитого барона Катина. Мне сообщали, что гартенляндский министр – сухарь и педант, а вы вон какой: горячий и собою красавец, хоть в гвардию.
– Моя внешность обманчива, – ответил Луций, смущенный. – Вашему величеству сообщили правду. Я сухарь и педант.
– Вы говорите по-немецки как настоящий ангальтец, – переменила она тему. – Разве вы не русский родом?
Последняя фраза была произнесена по-русски, с мягким акцентом.
– До двадцати трех лет я был российским подданным и, вероятно, остаюсь им, – подтвердил на том же языке Катин. – Мой родной город Санкт-Петербург.
Екатерина вновь кивнула сама себе (такова, кажется, была ее привычка) и опять перешла на немецкий. Должно быть, говорить на нем ей было легче или приятнее.
– Это прекрасно! Немцы среди помощников мне не нужны, только природные русаки. Довольно того, что русская царица – иностранка.
И сызнова повернула ход беседы – оставалось только дивиться быстрым оборотам этого живого ума.
– Ах, как бы я желала посмотреть, во что вы с кузеном Ганселем превратили Гартенбург! В детстве я часто там бывала, мы ведь соседи. Правда ли, что у вас совсем перевелись попрошайки и что в городской парк пускают простолюдинов?
– Истинная правда. Парк очень красив, и он открыт для всех.
– И у вас в самом деле в ассамблее заседают женщины? Как это необычно и как прекрасно! Не странно ль, что женщина может быть монархиней – как я или тетушка Мария-Терезия, но не министром и не государственным советником?
– Странно и нелепо. В Гартенлянде за минувшие годы испробовано много новшеств. Иные оказались негодны, другие прижились. Далеко не все они будут уместны для российских условий, но ежели вашему величеству будет угодно доверить мне подготовку портфеля реформ, я взвешу pro и contra по каждому вопросу и представлю обоснованное заключение.
Внезапно за спиной у императрицы возникла напудренная голова секретаря, который непонятно когда и каким образом переместился из своего угла. Донесся шепот. Екатерина со вздохом кивнула.
– Нет-нет, милый барон. Вы мне понадобитесь не в правительстве, а с той, другой стороны. Я имею в виду создаваемую комиссию выборных представителей. От них жду я главной помощи моим начинаниям. Чиновники всегда останутся чиновниками, к тому же они сведущи лишь в столичной действительности, а России толком не знают. Новые люди и новые идеи – вот что мне надобно.
– Про ту сторону я мало что знаю, – признался Катин. – Я всегда был с этой стороны, со стороны правительства. Я не депутат, я администратор.
– С этой стороны слишком… тесно, – не вполне ясно ответила Екатерина, переглянувшись с секретарем. – Поверьте, в депутатской комиссии вам будет привольнее.
– Но я знаю, что города и уезды избирают депутатов по сословиям. Я же никуда не приписан.
Секретарь опять что-то пошептал. Императрица ласково потрепала его по щеке.
– Не беспокойтесь, – молвила она Луцию. – Это предусмотрено. Вам будет пожаловано поместье, чтобы вы могли избраться от дворянства какой-нибудь провинции. Мой секретарь и незаменимый помощник господин Козлицкий [круглолицый слегка поклонился] сыщет для вас подходящее имение из выморочных. А то граф Никита Иванович бранится, что я чересчур щедро раздаю приватным лицам казенных крестьян.
Луций догадался, что это она о своем советнике графе Никите Панине, втором по важности вельможе империи. Первым все называли царского аманта графа Григория Орлова.
– Дружок, непременно устрой так, чтобы мы с бароном имели возможность побеседовать, когда его уже изберут, но еще до открытия Комиссии, – велела секретарю царица, а Катину пояснила по-русски: – Jegoruschka у меня золёто.
Золото-Егорушка опять поклонился, теперь низко.
– А вдруг меня не выберут? – усомнился Луций. – Ведь дворяне провинции, куда я отправлюсь, меня совсем не знают!
Наступило молчание. Государыня и ее помощник глядели на нашего героя с удивлением.
– Бог милостив, – улыбнулась Екатерина. – Avos выберут.
Аргумент не показался Луцию убедительным, но препираться с императрицей он не осмелился, а секретарь, плавно обогнувший стол, уже тянул его за рукав к дверям.
– Отправляйтесь в дорогу, отнюдь не мешкая, – сказала на прощанье царица Катину. А помощнику приказала странное: – Проведи-ка его от греха черным выходом.
От какого еще греха?
* * *
Следуя за своим чичероном, Луций попал сначала в какой-то чулан, потом в галерею с книжными шкафами, спустился по одним ступенькам, поднялся по другим – и очутился в небольшой комнате, тесно уставленной картотеками.
– Се мое логово. Отсюда, яко паук, плету свои паутины, – весело молвил императрицын помощник. – Сбросьте вон с того стула папки и садитесь.
Он больше не шептал, а говорил громко и преуверенно, да еще распрямился и сразу стал выше ростом.
Заговорил обычным голосом и Катин. После высочайшей аудиенции его переполняли чувства.
– Сколь умна, быстра, образованна государыня! Сколь искренне желает блага своим подданным! Провидение сжалилось над Россией, дав ей такую правительницу!
– Понравилась? Это она умеет, – равнодушно обронил секретарь. Выговор у него был мягкий, малоросский. – Любит произвести впечатление на всякого нового человека. Даже на лакея иль истопника. Желает, чтоб все ею восхищались. Давеча перед тем, как вы вошли в кабинет, сплетничала о пустяках, раскладывала пасьянс. Но ради вас изобразила государственный труд.
Сообщение о пасьянсе, а еще более невероятная дерзость суждений о ее величестве поразили Луция.
– Желание и умение всем нравиться – это, наверное, для царицы неплохо? – в растерянности пробормотал он.
Секретарь хмыкнул.
У Катина имелся вопрос и понасущней.
– Зачем было уводить меня через черный выход? От какого такого греха?
– От Гри́ха, – хохотнул дерзец. – От Григория Григорьевича графа Орлова. Его сиятельство опаслив к ночным аудиенциям государыни. Донесет кто-нибудь из слуг – и поедете вы, Луций Яковлевич, обратно в Германию с превеликой скоростью и безо всякого депутатства.
– Да о чем тут доносить? В чем моя провинность?
– Во внешности. Матушка имеет предиспозицию к высоким, миловзорным мужчинам навроде вас. И граф таковых к ней не подпускает, а ежели пролезли сами – сожрет да кости выплюнет. Вот почему место вам назначено не в правительстве, а по ту сторону. Кабы ведать заране, что гартенляндский министр этакий раскрасавец, не стоило с вами и затеваться. Эх!
Ответ, данный секретарем, поразил Катина еще больше и породил новые вопросы.
– Скажите, Егор… не имею чести знать ваше полное прозвание… вы со всеми столь откровенно судите о своей государыне?
– Именем-отчеством я Егор Васильевич, а фамилия моя, как вы слышали, Козлицкий. – Секретарь сделался серьезен. – Откровенен я бываю с очень немногими. Лишь с теми, кто заслуживает доверия.
– Но меня вы видите впервые. Вон и моя внешность вам разочаровательна.
– Во-первых, по роду своих занятий я умею читать людей, а вас, по правде сказать, прочесть нетрудно. Ни на какое коварство и двоедушие вы неспособны. А кроме того, я не имею привычки допускать до государыни лиц, про которых заранее всё в доскональности не выяснил. Помимо превосходной репутации, которую вы стяжали близ князь-принца Гартенляндского, я также справлялся о вас в Академии у профессора Клодта.
– Это мой учитель!
– И мой прежний сослуживец. Я, видите ли, обучался духовным наукам в Киевской академии, потом естественным дисциплинам в Гейдельберге, а после преподавал в той самой академической гимназии, где состояли вы и оставили по себе прекрасную память. Это я присоветовал ее величеству попросить вас у принца Карла-Йоганна. И, получается, ошибся. – Козлицкий сокрушенно покачал головой. – Не мог вообразить, что столь ученый и серьезный муж окажется чересчур пригож.
– Сочувствую, – сказал Катин со всей возможной язвительностью. Претензии к внешности показались ему несправедливыми. Слыхано ли, чтобы пригожесть мешала карьере?
– Так я ваш протеже? – столь же иронически продолжил он. – Вы ведь сообщили мне о вашей протекции, чтобы я чувствовал себя признательным?
Козлицкий поморщился, что означало: мы взрослые люди, оставимте этот тон и поговорим о деле.
– Я рассудил, что человек вашего пошиба может быть очень полезен – своею чужестью нашим партионцам. У нас ведь при дворе две партии: орловская и панинская, а вы не из тех и не из этих.
– Вы подумали, что я буду полезен для блага России? – спросил Луций, сразу позабыв о своей обиде.
Егор Васильевич приподнял брови.
– Нет, полезен для меня. И пожалуй, в Комиссии вы мне пригодитесь еще лучше. Туда наберется всякого сброду, с бора по сосенке, и черт знает, чего от них всех ждать. Свой человек будет там кстати.
Ужасно расстроенный подобным интриганством, Катин сник.
Секретарь смотрел на него с любопытством.
– Вы что, про благо России сказали со всей серьезностью, не для красивости? Помилуйте, сударь, нет никакого блага России. И России-то нет, одно пышное название.
– А что есть? – поразился Луций.
– Люди. Двадцать миллионов человек. И что является благом для одних, будет злом для других. Всегда. – Козлицкий всё разглядывал собеседника. – Нет, вы правда помышляете облагодетельствовать Россию?
– По мере сил.
– Самоослепление, – отрезал секретарь. – Вы желаете изменить Россию, чтобы в ней себя лучше чувствовали люди вроде вас самого. По вашим гартенляндским опытам я хорошо понимаю, в какую сторону вы потянете: к уравнению сословных прав да к выгоде более способных и работящих. Лично мне от подобных перемен тоже будет лучше, ибо я способен и работящ, но неродовит, крапивного поповского семени, и ныне пути на самый верх мне нету, разве что с черного хода. Ежели из затеи с Комиссией что-нибудь получится, мы с вами оба окажемся в выигрыше. Однако многим русским, которым сейчас преотлично живется, от наших с вами просвещенных экспериментаций сделается хуже. И они будут нам мешать.
Наш герой смутился. Он никогда не смотрел на свои действия с этакой стороны. Неужто в самом деле им двигает собственная выгода?
– Не тушуйтесь. – Егор Васильевич усмехнулся. – Это совершенно в порядке вещей, так и должно быть. Просто не обманывайтесь на счет собственных мотиваций. Умному человеку это не к лицу. Скажите себе честно: мне будет лучше жить в просвещенной, вольной России, и то, что я делаю, я делаю не ради какого-то там народа, а ради самого себя. Именно так мыслят граф Орлов и прочие вельможи. И сила их в ясности намерений.
– Я не такой, как они! – возмутился Катин. – Они желают сделать лучше только для себя, а я для большинства! Оно нуждается в свободах, учении, уважении, но ничего этого не имеет в нынешней России!
– Если бы у вас появилась возможность спросить у большинства, нужно ему всё это иль нет, вы, возможно, неприятно удивились бы…
Тон был скептический, но смотрел Егор Васильевич на раскрасневшегося Луция с приязнью.
– Мне, право, жаль, что вам нельзя остаться. Учась в Гейдельберге я приобрел вкус к свободной беседе со свободно думающими людьми. При дворе этой роскоши я лишен… Однако приказ есть приказ. Сейчас соображу, куда вас определить…
И прищурился на свечу, бормоча невнятное:
– Она сказала: после выборов, но до открытия… Плавание по Волге… Это у нас Тверская, Нижегородская, Казанская… Там всё уж решено… Тогда Синбирск?
Козлицкий подошел к одной из картотек, выдвинул ящик, стал перебирать бумаги.
– …Так точно. Далековато, но делать нечего… Теперь поглядим, что в Синбирском уезде с имениями…
Переместился к другому шкафу, на ящиках которого виднелись какие-то мудреные обозначения.
– …Пожалуй, вот это подойдет. – Достал папочку, пошевелил губами. – Сельцо Карогда, во временном управлении за отсутствием наследников… Двести душ – немного, но для ценза довольно, а лишних толков и зависти не вызовет. – Обернулся к Луцию. – Решено. Вы станете синбирский помещик и изберетесь по месту своей новой вотчины. Жалованная грамота будет отправлена вдогон, а вы поезжайте.
К этому времени Катин удивляться скорости событий уже устал и спросил лишь, где он может переночевать перед дорогой.
– Как это переночевать? – развел руками Егор Васильевич. – Слышали же: отправляться, отнюдь не мешкая.
* * *
Получасом позже, так толком и не повидав родного города, наш герой уже выезжал из дворцовых ворот в санной карете, а впереди следовал не драгунский конвой, как ранее, а целый фельдъегерский возок с царским гербом на дверце и трубачом на облучке.
– Ту-ту-ру-ту-ту! Эй-с-дороги-прочь! – дудел медный крендель, хотя на пустых ночных улицах расступаться перед маленьким кортежем было некому.
Глава XIV
Синбирцы и синбирские впечатления. Встреча с избирателями и ее исход. Человек из прошлого, глядящий в будущее
В зимнюю дорогу протяженностью почти полторы тысячи верст Катин отправился так же легко, как в Германии он поехал бы из Верхнего Ангальта в Средний. Россия!
Опять потянулись бело-черно-серые просторы, только с фельдъегерем мчалось еще быстрей, чем с драгунами. Перед каждой ямской станцией передний возок прибавлял скорости и отрывался вперед, чтобы карету уже встречали конюхи: отпрягали уставших лошадей, запрягали свежих. Из смотрительской избы тащили пыхтящий самовар, а чай приходилось пить уже тронувшись. Невообразимая для Европы быстрота! Вот бы и Россия рванула с места, из невежества, грязи и несчастья, с такою же неудержимой резвостью, мечтал Луций, развалясь на меховом ложе. Ничем другим, кроме мечтаний и размышлений, коротать время он не мог.
Поселения вокруг были столь же жалки, редко попадавшиеся крестьяне оборваны и унижены, но путешественник смотрел на отечественную убогость с совсем другим чувством. Какой простор для деятельности! Какие диштанции и першпективы! Во второй раз менее чем за век провидение посылает России великого монарха: после первого Петра – вторую Екатерину. Но до чего огромна разница меж ними! Петр строил державу, превращая в бревна и сваи живых людей. Заколачивал их в ингерманландские болота, возводил в кровавых сражениях стены из трупов, прорывал братские могилы судоходных каналов. Екатерина же замышляет возвеличить не фасады, но души. Ибо сила свободной человеческой души много крепче камня и железа!
Новый 1767 год станет для России началом новой эры, думал Луций, и от волнения не мог спать, хоть дорога укачивала его, а свист метели убаюкивал.
Он очень хотел посмотреть на Москву, природную русскую столицу, но через нее промчали ночью, и ничего, кроме смутных силуэтов, разглядеть было нельзя. Фонари здесь не горели даже в центральной части.
Ничего, сказал себе Катин, насмотрюсь на Древнепрестольную, когда в Кремле соберется Уложенная Комиссия. Если, конечно, меня в нее выберут.
И решил, что нечего попусту терять время. Надобно готовиться.
На одной из кратких остановок подозвал к себе фельдъегеря и не попросил, а приказал (раз уж такая важная персона) в следующем же большом городе разыскать книжную лавку, да объяснил, что надобно. Поручик записал, перед Рязанью умчал вперед и на тамошней станции вручил Луцию «Описание городов и местностей Российской империи».
Скоро путешественник научился читать враскачку и принялся наполнять память сведениями о своем, выражаясь по-гартенляндски, Wahlkreis[10]. В русском языке такого слова пока не существовало.
Полезная книга сообщала, что город Синбирск является центром Синбирской провинции, каковая относится к Казанской губернии; расположен на правом берегу Волги и с окрестными городками, селами, деревнями, образует Синбирский уезд; сей последний имеет население в сто тридцать тысяч жителей (вдвое больше Гартенлянда!) и территорию в 3500 квадратных верст (вчетверо!). В самом городе обывателей до десяти тысяч (а вот это меньше Гартенбурга), в том числе полторы сотни дворян и полторы тысячи дворовых слуг, прочие – ремесленники и всякого рода мещане. По казенному штату городу полагается управитель-воевода «в чине от подполковничьего до бригадирского».
Показалось удивительно, что, хоть «Описание» гордо именовало Синбирск «средоточием мануфактур и торговель», проводящим даже собственную ежегодную ярмарку, городское купечество аттестовалось как «числом незначительное». И почему в разделе «Примечательнейшие постройки» стоит прочерк? Не может же в изрядном по российской мерке городе не быть совсем никаких архитектурных красот?
Разберусь по прибытии, сказал себе Луций, и принялся заучивать перечисленные в книге географические названия волжской провинции, чтобы не ударить лицом в грязь перед будущими избирателями: Алексеевск, Аргаш, Белый Яр, Карсун, Погорелово, Самара, Сызрань, Сурский Остров – всего до пятидесяти селений, многие с нерусскими названиями. Еще два века назад там повсюду была дикая татарская степь.
* * *
Морозным декабрьским утром, всего на седьмые сутки странствия (это еще потеряли день из-за бурана), наш герой увидел пункт своего назначения.
Велев кучеру остановиться, Катин вышел из кареты, готовясь ощутить себя Александром, собравшимся пересечь Геллеспонт во имя завоевания великой Персидской державы.
Одна из загадок разъяснилась сразу: архитектуры в Синбирске не наличествовало вовсе. На невысоком холме торчала бревенчатая, полуразвалившаяся крепость, а под нею темнели обыкновенные избы. Деревня деревней, только очень большая. Каменных сооружений усматривалось два – маловзрачный собор недавнего строительства и двухэтажный палац, должно быть, вместилище местной власти. Этот можно было бы и зачислить в примечательности, но, судя по ярко-зеленому цвету крыши, здание только что построилось и в «Описание» попасть не успело.
Вот они какие – российские провинциальные города, разочаровался бывший столичный и европейский житель, но укорил себя за малодушие.
– Едем! – махнул он фельдъегерю с суровой решительностью. – К воеводе, представляться!
Насчет вместилища Катин ошибся. Современный палац остался в стороне. Возок и карета въехали в деревянный кремль. Некогда поставленный для защиты от воинственных приволжских племен, теперь он совсем прогнил и обветшал. Снести бы его к черту, а на освободившемся месте понастроить полезных общественных строений, по-хозяйски приглядывался Луций. По-хорошему весь Синбирск надо было снести, а взамен учредить новый город, с прямыми улицами, хорошими домами и отрадными взору аллеями.
Ничего, дайте срок.
Будущий депутат запретил себе унывать, его переполняла бодрая сила. Луций вдруг осознал, что в дороге совсем не тосковал по усопшей супруге. Горько устыдился – и тут же отвлекся от угрызений, потому что от ворот, перед которыми остановилась карета, семенил тучный господин, одной рукой поправляя треуголку, а другой одергивая шпагу. Рядом топал ботфортами фельдъегерь.
Это, верно, и есть здешний воевода, предположил Катин – и не ошибся.
– Должностию государево око над Синбирской провинцией, чином бригадир, именем Афанасий Петрович Корзинин, а более всего вашей милости радетельный слуга, – отрекомендовался местный начальник и пригласил гостя пожаловать в свое «скромнейшее жилище».
Был Корзинин в немолодых летах, речью мягок, манерой не определен: кажется, никак не мог вычислить, в каком иерархическом положении находится перед столичным человеком – высшем или низшем – и на всякий случай предпочитал перекланяться.
«Скромнейшее жилище», с европейской точки зрения, было чудно́е. Та же изба, но растянувшаяся в стороны пристройками и флигельками, с нахлобучкой в виде мезонина, с нескладно прилепленными колоннами. Штукатурен и окрашен был только фасад, а по бокам простодушно выглядывали старые бревна. Не такова ль и вся Россия, рефлешировал гартенляндец. Чуть подмалеванная и припудренная сверху, деревянная да рогожно-дерюжная понизу.
Важный гость был торжественно препровожден в комнату, которую хозяин назвал кабинетом, хотя ни письменного стола, ни книг там не было, а на стенах висели охотничьи ружья и головы лесных зверей.
От фельдъегеря воевода несомненно получил должные разъяснения, а может быть, и письменную инструкцию, потому что о цели приезда господина барона вопросов не последовало. Бригадир Корзинин заговорил о грядущих выборах.
Манифест об учреждении Уложенной комиссии прибыл в Синбирск две недели назад, размножен писцами и разослан кому положено. С избранием уездного депутата проволочки не будет, так как окрестное дворянство на зиму почти всё переселилось в город.
– Прикажете – созову всех хоть завтра, – закончил Афанасий Петрович свою реляцию.
– Выборы по приказу не свершаются. Пусть господа выборщики решают сами, когда им угодно собраться для ознакомления с моею программой, – объяснил Луций.
Корзинин моргнул.
– С чем?
– С программой, сиречь наказом о местном общественном запросе, который я представлю государыне, если буду избран.
– Запрос? Государыне? – Афанасий Петрович почесал мясистый подбородок, задумчиво сощурился на свечу. – Вон как нынче в Петербурге заговорили… Охо-хо.
Но больше ни о чем не расспрашивал, а вместо этого предложил дорогому гостю временный кров, «покамест ваша милость не обзавелись собственным домоустройством», тем более что гостиниц, «достойных такого человека», в Синбирске не имеется.
– Живу я не по-столичному, беднехонько, но не обидьте отказом. Осчастливьте. Семейство у меня малое, супруга и единственная дочь-девица, так что детским шумом не обременим.
Луций, конечно, с благодарностью согласился. Обзаводиться в Синбирске домоустройством ни сейчас, ни позже он не думал.
Временного постояльца повели во внутренние покои. «Беднехонькими» они не выглядели. Шелковые обои, краснодеревная мебель, хрустальные подвески на канделябрах и многие приметы свидетельствовали о хорошей достаточности. Катин слышал, что начальники на Руси бедными не бывают, ибо живут мздами и корыстями – чем далее от столичного пригляда, тем бесстыднее – и пожелал сразу внести ясность в свои отношения с синбирским крайсляйтером.
– Нам с вами, возможно, трудиться рука об руку, так позвольте спросить по откровенности, чтобы меж нами не существовало гехаймнисов, – твердо сказал Луций, остановившись посреди зеркальной залы.
– Не существовало чего?
– Утаек, – не сразу вспомнил русское слово обнемечившийся Катин. – Я, в свою очередь, тоже обещаюсь всегда быть с вами открытым.
Корзинин осторожно кивнул.
– Гехальт провинциального воеводы, сколь я справлялся, составляет 750 рублей в год, однако же у вас тут обстановка, на какую требуется впятеро, если не вдесятеро больше средств. Скажите без обиняков: откуда все эти бронзы и хрустали? Честный ли вы человек? Не алчествуете ли от своей должности беззаконными гешефтами? Вы можете мне солгать, но после я все равно узнаю правду, и эта ложь породит меж нами недоверие.
Опешивший бригадир ответил помедлив, после некоторого колебания.
– Что ж, по откровенности так по откровенности. Все равно недоброжелатели наболтают. Потому – как на духу. – Афанасий Петрович вытер со лба испарину. – По вашему разговору видно, что человек вы к русской жизни сторонний, вон и говорите наполовину немецкими словами. Знайте же: я человек честный.
– Я очень рад! – вскричал Луций с удивлением, ибо по зачину ожидал другого окончания.
– Погодите, дайте договорить. Знаете, в чем у нас на Руси различье между ворами и честными чиновниками?
– Конечно! Первые берут мзду, а вторые нет. Оно так не только на Руси.
– Ошибаетесь. Вор-чиновник вымогает дачу, а чиновник честный принимает то, что ему дают из благодарности. Ведь на жалованье не проживешь. Так вот я, сударь мой, в Синбирске почитаюсь честным. Никто вам не скажет, что я требую взятку за то, что обязан делать по должности. Конечно, меня благодарят – всякому хочется видеть от воеводы расположение. Но принуждать я никого не принуждаю. Поэтому у меня на Синбирщине всё тихо, по совести, по-домашнему. Людям со мной необидно, и я не в накладе. А иначе, без людской благодарности, на что мне эта собачья служба? Погоняйте-ка на сотни верст туда-сюда хоть в мороз, хоть в распутицу. Нет уж, слуга покорный, за семьсот за пятьдесят рублей! Лучше дома на своих хлебах жить. Ныне дворянам вольность – не хочешь, не служи.
– А коли вам станут платить довольное жалованье – не 750 рублей, а вдвое, – откажетесь от «благодарности»? – поразмыслив, спросил Луций.
– Если таково станет общее заведение, если все воеводы и городничие перестанут брать, так и я не хуже других. – Корзинин с сомнением покривился. – Но только они не перестанут, какое жалованье ни плати. За прибавку поклонятся, а брать всё одно будут.
Если в каждой губернии заведется какая-нибудь русская «Юнкерская газета», да начнет резать правду-матку, не больно поворуешь, подумал Катин. Живо ославят. Ничего, дайте срок, повторил он уже привычную свою присказку.
Одним словом, разговор получился хоть и не очень приятный, но взаимного доверия после него прибавилось.
Афанасий Петрович перестал осторожничать. За кофеем стал делиться опасениями.
– Оно, конечно, матушке государыне сверху видней, и просвещенные идеи – штука славная, однако потише надо бы с волей, помедленней. Воля как огонь – не уследишь, пожар будет.
– Куда уж медленней? Треть комиссии составят дворяне, хотя их в России едва сотая часть населенья. Прочие – солидные мужи городских сословий да свободные поселяне. Основной народ, крепостных крестьян, никто слушать не собирается.
– Еще не хватало! – перекрестился воевода. – Им только дай разогнуться – всю державу с плеч скинут! А с дворянами, ваша правда, докуки не выйдет. Пожалуй, прямо завтра и соберемся. Сразу вас и выберем.
– Как это возможно?! – подскочил на стуле Катин. – Они же меня знать не знают! И потом, разве уже объявились другие кандидаты?
– Другие? Зачем?
Оба в недоумении глядели друг на друга.
Луций терпеливо объяснил:
– Выборы потому и выборы, что выбирают из нескольких человек.
– Это, может, в Германии так. А у нас выборы такие: есть человек, и его либо выберут, либо нет.
– И ежели меня не выберут, той же процедуре будет подвергнут следующий кандидат? – спросил Катин, пытаясь вникнуть в своеобразие российской элекции.
– Не волнуйтесь, – успокоил его хозяин. – Выберут. Нельзя такого хорошего человека не выбрать.
* * *
Разместили гостя в одном из флигелей, очень опрятно и уютно. За ужином он познакомился с семьей. То есть как – «познакомился»? С супругой Леонтией Ивановной говорить было решительно не о чем. Обличием она походила на кус запеченной свинины, завернутый в шелк с рюшами. Из членораздельной речи, кажется, владела только двумя фразами. Первая была: «Кушай, батюшка»; вторая: «А это вы у Афанасий Петровича спросите». Одним словом, госпожа Корзинина принадлежала к старому поколению русских женщин, на каковое императрица Екатерина справедливо не возлагала никаких надежд.
Однако не лучше было и юное поколение. Дочка воеводы Полина, худосочная девица лет семнадцати или осьмнадцати, показала себя совершенной дикаркой. На говорливого столичного человека она таращилась с ужасом.
– Каковы ваши мечты о будущности? – поинтересовался Катин (ведь должны же в юном возрасте быть мечты, пускай впоследствии уносимые скучным течением жизни).
Полина Афанасьевна залилась краской до самых корней своих туго стянутых белесых волос, затрепетала светлыми ресницами и не промолвила ни слова, лишь судорожно помотала головой. Думать о будущем и вообще думать ей, кажется, было не в обычай.
– А чем вы увлекаетесь? – еще ласковей спросил Луций, не теряя надежды лучше узнать думы младых россиянок.
Теперь дурочка побледнела, на глазах выступили слезы. На помощь ей пришла матушка, обнаружившая знание еще одной фразы. Фраза была следующая: «Поленька увлекается малиновым взваром и вареньем из райских яблок, батюшка».
И Катин оставил юную игнорантку в покое, а про себя решил: надо будет написать государыне касательно прожекта об институте для благородных девиц, что забирать из семей их надобно не пятнадцати лет, а много раньше. Иначе новой людской породы из этакой капусты не взрастишь.
После этого он утратил интерес к прекрасной половине стола и беседовал уже только с хозяином: расспрашивал про местное общество, на суд которого должен был предстать.
* * *
Назавтра, впрочем, собрания избирателей не случилось. Рассыльные из воеводской канцелярии не успели обежать все полторы сотни дворянских домов, а послезавтра пришлось на скверный день пятницу, когда – о постыдное суеверие! – синбирцы ничего не предпринимали. Электоральный синклит наконец собрался лишь на третий день.
За неимением общественного здания благородное сословие (конечно, одни мужчины – чай, не Гартенлянд) по благословению архиерея разместилось в главном городском храме, где ради такого случая поставили скамьи и зажгли все наличествующие светильники.
С великим волнением стоял Катин перед своими избирателями. Столь же неспокойно, как показалось кандидату, взирали на него напряженные лица лучших синбирцев. Даже те дворяне, с кем Луция за минувшие два дня успел познакомить Афанасий Петрович, ныне будто одеревенели. Возможно, причина была в аттестации, которую дал приезжему воевода. Про академическое образование и гартенляндский опыт бригадир помянул вскользь как о чем-то малосущественном, но долго говорил о личной аудиенции у ее величества и о том, что «сиятельный господин барон» прибыл в сопровождении фельдъегеря. «Лейб-гвардии поручика!» – со значением поднял палец Корзинин. Все поглядели на воздетый перст, потом на Луция. В этот-то миг лица и задеревенели, а потом уже сего выражения не меняли, как ни пытался выступающий зажечь аудиторию красноречием.
Несмотря на краткость своего пребывания в Синбирске, Катин успел составить представление о насущнейших нуждах уезда. Их и касались пункты наскоро составленной программы.
Узнав, что многие помещики обременены долгами и не имеют средств на развитие хозяйства, Луций предложил ходатайствовать перед государыней об учреждении дворянского банка взаимного кредита. На всякий случай, смущенный отсутствием одобрительных откликов на сие предложение, объяснил всю его выгодность.
Никто не кивнул, не пошевелился.
Тогда Луций заговорил о необходимости построить хорошую пристань в помощь Синбирской ярмарке, ибо ныне суда разгружаются посредством лодок, что медленно и неудобно. Ссуду на строительство можно испросить у казны. Привел пример Гартенбурга, где расходы на речной порт в первый же год окупились полуторным ростом товарного оборота.
Выслушали опять молча.
То же произошло (а верней, ничего не произошло), когда оратор заговорил об учреждении городского училища и уездной больницы.
Здесь Катин понял, что взывать следует не к разуму публики, а к ее чувствам – как возвышенным, так и практическим. И самый заветный пункт своей программы изложил с привлекательнейшей заманчивостью. Начал с проникновенного вступления: что благородство определяется не происхождением, а поступками и что дворянство обязано подавать низшим сословиям пример великодушием, нравственностью деяний, отеческой заботой о страждущих. Вот если б устроить в Синбирске человеколюбивое общество ради призрения сирот, вдов и прочих несчастных! Этим актом здешнее дворянство прославилось бы на всю Россию и подало бы отрадный пример другим провинциям, а также (многозначительная пауза), несомненно, снискало бы отличие в глазах государыни. Луций был очень доволен сим византийским маневром, который не мог не распалить в слушателях честолюбия.
Ответом, увы, было лишь покашливанье да шарканье.
Удрученный, поникший, уверенный, что всё провалил, кандидат кое-как завершил элоквенцию и удалился, чтобы не видеть своего позора, а по рядам понесли ящик, куда избиратели должны были класть свой буллетин.
Но час спустя, по завершении подсчета, к томившемуся в церковной ограде Катину с улыбкой вышел воевода.
– Дело сделано! Ни одного листка с крестом, все чистейшие! Поздравляю избранием!
От радости, а еще больше от устыжения у Луция стиснулось горло. Как высокомерен, как несправедлив он был к синбирцам! Они не глупы и не равнодушны, просто скованны и, в отличие от европейцев, не привычны к открытому выражению чувств.
– Теперь я стану объезжать все селения уезда, а также наведаюсь в сопредельные местности, чтобы знать положение дел во всей провинции, – сказал Катин, когда справился с волнением. – Со всеми поговорю, соберу наказы и буду во всеготовности представительствовать за Синбирск перед съездом и императрицей!
– Полагаю, матушка будет довольна выбором нашего дворянства. И мысль про человеколюбивое общество мы тоже возьмем на ум, не сомневайтесь. Будет что показать государыне, а вы, батюшка Луций Яковлевич, преподнесете ее величеству в нужном свете. Вам и карты в руки.
– Где преподнесу, в Москве?
– Нет, здесь у нас.
Воевода оглянулся и с таинственным видом произнес:
– Теперь, когда вы стали наш депутат, могу посвятить вас в секрет, поделиться которым ранее не имел полномочий.
– Что такое?
– Сопровождавший вас фельдъегерь передал мне запечатанный пакет, а в нем письмо от его милости господина Козлицкого, царского секретаря. Меня как провинциального начальника извещают, что на исходе весны матушка государыня совершит путешествие вниз по Волге, от Твери до нашего Синбирска, по дороге забирая в свиту новоизбранных депутатов. Мы должны подготовиться к сему великому происшествию. Надежда моя только на вас. Вы человек бывалый, вращались при дворах, приняты у императрицы. Не ударить бы нам лицом в грязь! Вразумите, научите!
Луций вспомнил, как Екатерина велела устроить еще одну их встречу перед Комиссией, как Егор Васильевич бормотал, перечисляя волжские губернии. Так вот почему местом избрания был определен Синбирск!
– Оттого я и спешил с выборами, – продолжал меж тем воевода. – Поскорее провернем – останется больше времени для подготовки.
Слово «провернем» Катину не понравилось.
– Позвольте, а честны ль такие выборы, когда главный начальник аттракцирует избирателей близостию кандидата к верховной власти? – забеспокоился Луций.
– Но ведь это правда, – удивился Корзинин. – Оно и в письме господина Козлицкого так прописано. Чем наш представитель любезнее наверху, тем для нас полезней. Да хватит нам про пустое, едемте-ка лучше к Ивану Спиридоновичу. Он предварен и ждет.
– Кто это Иван Спиридонович?
– Телятников. Главный человек на Синбирщине.
Луций удивился:
– Я думал, главный человек здесь вы. А кто Телятников? Вельможа?
– Нет, он самого простого рождения, но богат несметно. Промышленник. Неужто не слыхали? Во всей России с ним сравнятся разве что Демидовы. Восемьдесят тысяч душ, пятнадцать заводов на Урале, десять суконных фабрик по западную сторону Волги, а Синбирск аккурат посередине. Вот Иван Спиридонович здесь и обосновался, чтоб не так далеко ездить и туда, и сюда.
– Но зачем нам к нему?
– Из нас троих составится комитет по приготовлениям к высочайшему визиту: я как воевода, вы как депутат и он как кошелек. Казенных средств ведь на это не выделено, с дворян много не соберешь, а у Телятникова деньжищ без счета, и дом единственный, куда не зазорно поместить такую гостью.
Бригадир показал на соседствовавший с церковью каменный дворец, тот самый, что при первом взгляде на Синбирск привлек внимание Луция своею ярко-зеленой крышей. Идти туда было не далее ста шагов.
Так вот что такое являл собою сей палац – не начальственную резиденцию, не присутствие, а жительство местного Креза!
Что ж, строение было превосходным, не хуже столичных. Но если дом Афанасия Петровича изнутри гляделся авантажнее, чем снаружи, то тут оказалось наоборот.
Широкая мраморная лестница была бесприютно пуста, обнаженные античные статуи стыдливо прикрыты армяками или юбками, у богинь и нимф головы повязаны платками. «Иван Спиридонович старовер, у них простоволоситься – срам», – тихо пояснил воевода.
Покои были обставлены по-старорусски. Всюду резные сундуки, расписные коробы, скамьи с подушками, темные иконы дониконианского письма. От печей пыхало жаром, и бригадир в своем парике сразу вспотел.
– Старинный человек, из прошлого времени, – всё готовил депутата Корзинин. – Вы с ним держитесь чинно, без новомодных обычаев.
Видно было, что Афанасий Петрович тревожится.
Вышел хозяин странного дворца – крепкий старик в немецком кафтане, в панталонах, но в войлочных сапогах, стриженный кружком, с полуседой бородой.
Воевода представил ему уездного избранника, из чего следовало, что главная персона здесь не депутат.
Телятников на бригадира не смотрел вовсе, только на Катина. Заговорил бойко, свободно и сразу о деле, безо всяких здоровствований и церемоний. Должно быть, не имел привычки терять время попусту.
– Вы, сударь, человек петербургский, приняты у царицы. Научите, как ее принимать. Чем потчевать, как обустроить спаленку и прочие покои. Нельзя мне осрамиться.
– И Синбирску нельзя, – поддакнул Корзинин.
Пришлось Луцию обоих разочаровать.
– Вкусы императрицы мне неведомы, я видел ее только единожды, и говорили мы не о том, что вы желали бы знать. Однако могу отрекомендовать вам особу, которая с легкостью вас удовлетворит – Егора Васильевича Козлицкого. Я с ним в добрых отношениях, к тому ж он и сам захочет, чтобы ее величеству в Синбирске жилось приятно. Напишите Козлицкому, а я сделаю от себя приписку.
– Он так близок к государыне? – подумав, спросил промышленник.
– День и ночь при ней. Ближе, я полагаю, только граф Орлов, и то более в телесном смысле.
Это замечание хозяин, должно быть, счел скоромным. Двоеперстно перекрестился, трижды плюнул через плечо. Однако лицом повеселел.
– Что ж, премного вам признателен за протекцию. А и ближнего царского человека найду чем отблагодарить. За Телятниковым не задержится.
Пригласил закусить, чем Христос послал.
Из-за рождественского поста стол был по преимуществу растительный, но невиданного роскошества: с виноградами, ананасами, персиками и даже земляникой, вырастить которую в оранжерее великое искусство.
Хороша вышла и беседа.
Ко всему любознательный Катин спросил про то, что его больше всего занимало: как удалось человеку, живущему по старине, развернуть столь широкое дело?
– А по старине здоровее, – охотно отвечал Телятников. – Вина я сам не пью и приказчикам не позволяю. Тож со всяким баловством. За честную работу честно плачу, за лентяйство и озорство строго наказываю. Обчество оно ведь навроде псарни, а люди навроде псов. Голодом их не мори, но и не перекармливай. Приучай к порядку. Без дела не бей, но ослушничать не давай. И станут псы шелковые, поджарые. Добудут тебе хоть лису, хоть волка, хоть медведя. Вот и весь закон.
Еще одна теория общественного устройства, подумал Луций. По ней правитель не садовник, не врач, а псарь. Не в том ли вся мудрость российского государства?
– А еще у нас на Руси тем хорошо, что всё откупить можно, – продолжил философию хозяин. – Власть далеко, в Питере, близко лишь ее слуги, и с ними всегда договоришься. – (Тут воевода кивнул, но спохватился депутата и превратил кивок в неопределенное мановение головой.) – Коли есть деньги, ты как за каменной стеной. Не высовывайся из-за нее и живи как нравится. Вот, к примеру, был указ сорок шестого года – что купцам крепостными владеть нельзя, только дворянам. А у меня по заводам и мануфактурам 80 тыщ работников. Как быть? Сыскал кого надо, тряхнул мошной – и сделался потомственный дворянин. А поглядеть на меня – какой я дворянин? Бабьих пудреных волос с чулками этими погаными не ношу. Борода при мне. Иль хоть веру мою взять. Но я послал архиерею тысячонку – и вон они, заступники, на своих местах.
Телятников перекрестился на старообрядческие иконы и заключил:
– Так-то, сударь. Вы меня старинным человеком назвали, а я гляжу в будущее. Ибо как было на Руси испокон веку, так и останется. Иначе то уже не Русь станет, а сего Господь не попустит.
Воевода терпеливо дождался, когда закончится теоретический разговор, и перешел к практике:
– Услуга за услугу. Я вас свел с господином бароном, он отрекомендует вас нужной персоне, а вы уж подумайте не только о своем перед государыней гостеприимстве, но и о городе. Сами знаете мои обстоятельства. Денег нет, одни недоимки.
– Десять тыщ дам, а боле не просите. Синбирск – не моя забота.
Корзинин заспорил:
– Побойтесь бога, мало! Одна пристань, куда ее величество прибудут, тысяч в пять встанет! А оштукатурить, покрасить дома на Смоленском спуске и Московской улице! А ковры постелить, а гирлянды с фестонами! Не погубите!
– Десять тысяч, – отрезал Телятников. – И то лишь из благодарности к господину депутату.
– Не нужно тратиться на ковры и гирлянды, этим царицу не удивишь, – медленно сказал Катин, забарабанив по столу пальцами. У него заработала мысль. – Господа члены комитета, хочу предложить вам прожект, который понравится ее величеству больше всяких пышностей. И расходов самые пустяки.
Глава XV
Счастливейший миг в истории Синбирска. Благонамеренный заговор. Происшествие в храме Юстиции
Полугодом спустя, 5 июня 1767 года, весь цвет Синбирского края – знатнейшие дворяне, именитое купечество, духовенство с иконами и несколько нарядных поселян почтенной наружности – выстроился чинной шеренгой на Смоленском спуске перед новенькой пристанью, которая еще пахла смолой и стружкой. Глядели все в левую сторону, ожидая, когда из-за мыса покажется высочайшая флотилия. Верховые чуть не поминутно докладывали о ее следовании, и предвкушать оставалось недолго.
На саму пристань взошли только воевода и депутат.
Афанасий Петрович, багровый от волнения, не мог стоять на месте, всё оборачивался назад.
– Да где же граф Семен Васильевич? Ведь я просил его привезти из дому золотое блюдо для ключей от города! У Семен Васильича французский кафтан хорош, и туфли с алмазными пряжками!
Сам воевода был в потертом мундире и начищенных до зеркального блеска, но старых сапогах. Хорошо изучивший местного начальника Катин понимал смысл этой странности. Провинция считалась бедной, задолжала в казну подати, и воеводе выглядеть богато не следовало. За пышность отвечал Семен Васильевич Шереметев-шестой, крупнейший помещик провинции, но его сиятельство где-то задерживался.
– Верно, мост через Свиягу еще не починен. Я вам говорил, – спокойно молвил Катин, мало заботясь о золотом блюде.
Все минувшие месяцы он неустанно разъезжал, знакомясь с нуждами Синбирщины и собирая наказы от дворянства. Ни в одном месте не провел больше двух дней подряд, а все же теперь знал положение дел много лучше воеводы.
– Ох, беда! На что ж ключи положить?
Бригадир побежал на берег рысцой, хотя солнце палило нещадно. Лето с самого начала выказывало намерение быть беспримерно жарким.
Так и получилось, что при появлении эскадры Катин стоял на причале в монументальном одиночестве. С первого корабля, царственно выплывшего на самый стрежень, не могли не увидеть статную фигуру в приметном бирюзовом камзоле, посему наш герой, чувствуя себя представительствующим за весь Синбирск, расправил плечи и приподнял над головой шляпу, по торжественному случаю украшенную плюмажем.
Весь состав флота был в доскональности известен.
Впереди следовала двухмачтовая галера «Тверь», везущая императрицу. За нею галера «Севостьяновка», личное судно фаворита, нареченное в честь его поместья, и еще «Казань», отведенная для остальных братьев Орловых. Далее корабли иностранных послов и свиты, целых четыре кухонных судна, плавучий госпиталь, барки для охраны, слуг, припасов, лошадей, карет – одним словом, целая армада.
– Пали, пали! Погубить захотел, ирод?! – отчаянно заорал Корзинин артиллерийскому начальнику, со всех ног несясь обратно на пристань.
Но раньше зазвонили церковные колокола. Гарнизонные пушки ударили с опозданием, нестройно – давненько не доводилось стрелять. Окутались дымом и борта галер – государыня отвечала Синбирску на приветствие.
– Что это они? Почему встали? – задыхаясь, спросил у Катина воевода.
Главная галера бросила якорь, за нею и остальные.
– Сначала прибудут лейб-конвой, лакеи и господин Козлицкий для проверки приготовлений, – объяснил Луций, которого попечитель известил подробным письмом о порядке высадки. – Терпение, Афанасий Петрович. Ждать еще долго.
К пристани поплыли лодки, в них сверкали золотом ливреи и мундиры.
Первым по спущенному трапу поднялся царский секретарь.
– Эк вы загорели, чисто мавр, – сказал он, глядя на Катина с приязненной улыбкой.
– С тех пор как подсохли дороги, не вылезал из седла, а солнце здесь степное, лютое.
– Да, жары очень утомили государыню. Что это у вас ни на пристани, ни на берегу тени нет? Думать надо! – обратился Козлицкий к воеводе. Тот помертвел, зашлепал губами, да ничего не изрек.
– Можно поставить шесты и натянуть полотнища, одолжить в купеческих лавках, – предложил Луций.
Егор Васильевич махнул рукой:
– Не трудитесь. У меня на любое местное болванство предусмотрено решение. Есть переносной балдахин. – Он оглядел строй встречающих. – Скажите лучше, где тут мой корреспондент Телятников?
– Иван Спиридонович ожидает ее величество у себя дома. Сказал, всё приготовлено по вашему слову.
– Что ж, проверим…
Козлицкий велел начальнику почетного караула заняться расстановкой солдат, обер-лакею выгружать скарб, каретмейстеру указал, где выгружать экипаж и высаживать лошадей, а потом по-приятельски взял Катина под руку и повел мимо кланяющихся синбирцев, не обращая на них никакого внимания.
– Это еще часа на три, – сказал секретарь. – Государыня покамест завтракает с графом, потом собирается слушать капеллу. Ведите меня к Телятникову, тут ведь, чай, недалеко? По дороге потолкуем.
Они пошли вверх по почетной дорожке алого сукна, на которую истратилась значительная часть телятниковского взноса. Афанасий Петрович сей декорацией особенно гордился.
Сзади важно шествовала вереница лакеев. Каждый что-то нес: сундук, коробку, шкатулку, любимое туалетное зеркало ее величества, скамеечку для ног, письменный прибор, и так далее, и так далее, вплоть до царской левретки Жаннетты, которая лаяла и извивалась, желая идти собственными ногами.
– Что наш план? – спросил Егор Васильевич. – С нами двадцать шесть депутатов из поволжских провинций. Все ль у вас готово?
– Готово, не сомневайтесь.
– Отлично. При высадке я улучу момент, когда рядом не будет графа, и подведу вас к царице. Вы начинайте, а я подхвачу.
– Вам виднее, как лучше, – поклонился Луций. – Вон уже Троицкая площадь, на которой дом господина Телятникова.
Если при самом первом визите к промышленнику, декабрьском, Катину пришлось ожидать хозяина в комнатах, то ныне Иван Спиридонович встречал гостей у входа, с хлебом-солью на серебряном блюде.
– Егору Васильичу, благодетелю, мое почтение!
– И вам здравствовать, – не церемонничая буркнул Козлицкий. – Вы что, и государыню намерены булкой чествовать? Она это не любит. Ну-ка, проведите по дому.
Дворец сильно преобразился, убранный и обставленный по-европейски. Статуи стояли в подобающей наготе, Телятников от них отворачивался.
Но строгий инспектор хмурился, велел убрать и то, и это, а следовавшему за ним обер-лакею приказывал: здесь поставить цветы, тут заменить картину на что-нибудь пасторальное с мебельной галеры, и прочее. Пощупал перины в спальне – оказались слишком мягки, ее величество любит пожестче. Подушки у государыни были свои, особенные, на сонных травах.
– Графу Григорию Григорьевичу опочивальню приготовили?
– Точно так, – ответил блюститель старинной нравственности, не моргнув глазом. – Дверь в дверь. С собольей шкурой на постели и зеркалом на потолке, как велено.
– Ладно, – смилостивился секретарь. – В целости недурно, а мелочи поправят лакеи. Хуже с вами, Иван Спиридонович.
Телятников заполошился:
– Что такое?
– Государыня желает видеть свою державу Европой, а вы поглядите на себя: как есть азият. Борода, мужицкая куафюра. Фу! Еще ее величество повсюду беседует с женским полом. Где ваша супруга?
– Вдовею, Божьим промыслом.
– Дочери незамужние есть?
– Трое.
– Отлично. Юные девицы – еще того лучше. Зовите, показывайте.
Пока промышленник бегал за дочками, Козлицкий озабоченно рассказывал Луцию про депутатов, что приплыли с царицей.
– Нехороши. Не знаю, что с ними и делать. Дворяне, а не имеют никакого достоинства. Совсем потерялись при больших вельможах, держат себя, будто прислуга. Сразу сбились в две кучки – одна за Григория Орлова, другая, поменьше, за графа Панина. Купчишки, их четверо, вовсе пришибленные. Матушка смотрит на таковых депутатов и сомневается: будет ли от Комиссии толк? Расшевелить их надобно, насмелить. Моя надежда на вас.
– Осмелеют, – пообещал Катин. – Тут только во вкус войти.
Из-за двери донесся шелест юбок, сопровождаемый понуканием:
– Живей, дуры, живей!
Гусём, одна за другой, вкатились три девы в сдвинутых на лбы платках, в атласных сарафанах, у каждой длинная коса через плечо. Встали рядком перед государевым человеком, поясно поклонились, выпрямились, потупив взоры.
– Ох, дикие совсем, – шепнул Луцию секретарь. – А что страховидны-то… Нельзя таких матушке показывать.
– Однако ж почитаются завиднейшими невестами во всей России, – тихо, с усмешкой, сказал Катин. – За каждой в приданое Телятников дает по три завода, мильон рублей и 20 тысяч душ.
– Сколько?! – ахнул Егор Васильевич.
К барышням после этого сообщения он подлетел галантно, заговорил ласково.
– Государыня желает знать, каковы российские юницы. Всех трех для беседы с царицей не надобно, довольно одной. Кто умней, да бойчей, ту и выберу. Есть средь вас кто книги читает?
Девушки глядели на чужого человека с ужасом, хлопали глазами, трепетали и не говорили ни слова. Катин сардонически улыбался: ему это местное обыкновение было слишком знакомо по дворянкам. Чего же ожидать от старообрядческого семейства?
– Все чтицы, – ответил Телятников. – Псалтырь хорошо ведают, жития.
Секретарь тяжело вздохнул.
– Языки кто-нибудь знает?
– Старинный знают, каким духовные книги писаны.
Пройдясь перед троицей застывших «юниц», Егор Васильевич с тоскою спросил:
– А ну, скажите, какова наиславнейшая держава мира? А вы, Иван Спиридонович, молчите, не подсказывайте.
Две девы сразу крепко зажмурились. Одна, сильно конопатая, сдавленно пролепетала:
– Знамо, Россия.
Козлицкий остановился перед ней.
– Пока что славнейшая – это Франция. А каков в ней стольный город?
Конопатая прошептала:
– Царьград?
Прочие на сей счет предположений не имели, поэтому секретарь окончательно сосредоточился на той, что хотя бы говорила.
– Париж, мадемуазель. Запомните. А сколь будет трижды три?
С полминуты пошевелив губами, дева робко молвила:
– Девять.
Тут секретарь торжествующе оглянулся на Катина, будто одержал некую великую победу, и объявил:
– Эта! Вас как по имени, милая?
– Иринея…
– Назоветесь Ириной. Эй, мсье Антуан!
Из рядов прислуги с поклоном вышел благоухающий кавалер в сложно взбитом парике.
Козлицкий велел ему по-французски:
– Вот этому чучелу сделать прическу, какую успеете. Ну и, конечно, переодеть.
Отцу приказал:
– Двух остальных спрячьте куда-нибудь подальше, а вам и Ирине Ивановне, пока ее убирают, я желал бы дать некоторые наставления.
– Сделай милость, благодетель! – склонился Телятников. – Каждое слово исполним!
Отведя в сторону Катина, секретарь сказал ему:
– Вам тут боле делать нечего. Высадится государыня – будьте неподалеку, но вперед не суйтесь. Следите за моей рукой. Сделаю вот так – сразу подходите.
* * *
Вперед Луций не совался, терпеливо ожидал.
Торжественная высадка началась нескоро и разворачивалась неспешно.
Сначала по широкой реке раскатился гуд литавр, вслед за которым вновь грянул пушечный салют: на сей раз первыми начали корабельные орудия, им вторили береговые. От царской галеры двинулась раззолоченная ладья под пурпурным балдахином, резво шевеля веслами, будто деловитая сороконожка. За ней, почтительно приотстав, плыли шлюпки поменьше.
Над Волгой понеслось многократное «ура!». Затрезвонили все городские колокола. Шеренга лучших синбирцев подтянулась и замерла. Сгустившаяся позади толпа простого люда, наоборот, заколыхалась, вверх полетели шапки.
Торчавший в одиночестве на пристани воевода заозирался – не мог понять, куда в сию роковую минуту пропал депутат, но Катин, памятуя о секретарском наставлении, не высунулся из-за спин.
Делать нечего – Афанасий Петрович, отчаянно перекрестившись, кинулся к трапу, встречать.
Вот камер-лакеи под руки приняли царицу, наряженную в нечто широкое, воздушно-голубое. От солнца августейшую путешественницу прикрывал огромный кружевной зонт. Вторым поднялся высокий, плечистый красавец с недовольным, слегка обрюзгшим лицом – не иначе его сиятельство фаворит. Позевывая, посмотрел, как воевода сует императрице поднос с ключами, отвернулся к реке, сызнова зевнул.
Но Катин глядел не на графа Орлова, а на Егора Васильевича. Тот, завершив инспекцию на берегу, вернулся обратно на корабль и теперь скромно держался за плечом ее величества. Условленный знак (воздетая десница с двумя сомкнутыми пальцами) Козлицкий подал, когда государыня, одарив встречающих лучезарною улыбкой, направилась к карете.
Луций протиснулся сквозь плотную свиту к слегка поотставшему секретарю.
– Не сейчас, – шепнул тот. – Ступайте в собор, на богослужение. Оттуда она пойдет пеша к Телятникову. Тогда и попробую улучить.
– Так я уж лучше сразу ко дворцу. А пока посижу где-нибудь в тени, на прохладе. В соборе, чай, душно.
– Счастливец! А мне деваться некуда, – вздохнул Козлицкий. – Пойду вперед, скажу преосвященному, чтоб служил побыстрее. Займите хорошую позицию и ждите.
* * *
С час или более Катин просидел на поленнице, под милосердно густой липой, обмахиваясь шляпой. Мысли его были о развратительности единоличной власти, которая обращает одного человека в исполина, не возвышая его природных качеств, но всех прочих жителей страны принижает. Чтоб властитель казался высоким, подданные должны встать на колени, а то и простереться на брюхе. Сколь губительно сие для достоинства, сколь унизительно для личности! Главное назначение созываемой Комиссии состоит даже не в принятии справедливых и разумных законов, а в том, чтобы явить пример почтительного, но в то же время неколенопреклоненного разговора граждан с верховной властью. Ежели такое произойдет, всё прочее свершится само собой!
Будто подслушав его думы, вся толпа, не попавшая в собор и ожидавшая на площади, разом повалилась на колени. По этому волнообразному движению Луций понял, что Екатерина выходит, и поднялся. Увидел множество согбенных спин и внутренне простонал. Господи, ведь их никто не заставляет! Сами! Сколь много трудов предстоит положить российским просветителям, прежде чем сии спины разогнутся, а колени распрямятся!
Однако нужно было пробиваться к крыльцу, как обещано Егору Васильевичу.
Пространство перед дворцом охранялось гвардейцами, но Катин предъявил золотую депутатскую медаль и был пропущен. Встал подле колонны, высматривая близ колыхающегося царского зонта скромную треуголку Козлицкого.
Но еще раньше Луцию на глаза попались отец и дочь Телятниковы, вышедшие на ступени встречать государыню. И глазам этим наш герой в первый миг не поверил.
В толстощеком, пухлогубом господине, у которого букли по последней моде опускались почти до самого ворота, едва можно было узнать блюстителя старины. Он стоял в деревянной позе, растопырив пальцы под кружевными манжетами и присогнув кривоватые ноги в белейших чулках. Рядом, неуверенно приседала в книксене совершенно парижская дева в высоченной пудреной куафюре, с открытыми плечами. Только по конопушкам угадывалось, что это Иринея Ивановна.
Вот тебе и древняя, несокрушимая Русь, поразился Катин.
Подле него откуда ни возьмись появился Козлицкий.
– Каков из меня укротитель диких зверей? – весело спросил. – С нашим делом всё устроено. В полночь будьте у заднего выхода, со стороны каретного двора. Скажете караулу пароль «Семирамида», вас пропустят.
* * *
Что за оказия затевать реформы в России, устало думал Луций, томясь в темноте перед задней дверью телятниковского особняка. Всё-то здесь тайно, через черный ход, будто замышляется нечто постыдное.
Время было далеко после назначенного часа, уж и вторые петухи отодрали глотки, а секретарь всё не показывался. Катин решил было, что аудиенция не состоится, но створка наконец приоткрылась, и мясистая рука царского секретаря поманила нашего героя внутрь.
– Граф только ушел, – тихо сообщил Егор Васильевич. – Что-то долго они нынче. Зато матушка мягка и благостна. Самое лучшее ее настроение. Вы только не оплошайте.
Мимо охраны, мимо дремлющей на стуле служанки с ночным сосудом они проследовали прямо в будуар.
Там ярко горели свечи, августейшая постоялица сидела перед туалетным столиком и что-то мурлыкала, с удовольствием разглядывая себя в зеркале. Из-под чепца на плечи спускались русые волосы.
– А, сводник, устроитель тайного свиданья, – весело обратилась она к Козлицкому. – Обожаю заговоры! Эй, где вы, барон?
Луций шагнул из тени на свет. Припухший рот ее величества и сытый блеск в глазах пробуждали нескромные мысли, но Катин их прогнал как несущественные. Он почтительнейше поклонился, наткнулся взглядом на голую лодыжку в разрезе пеньюара, моргнул.
Екатерина рассмеялась.
– Скромник какой! И собою хорош лучше прежнего! Волжский климат вам на пользу. Ты его, Егорушка, ни в коем случае графу Григорию не показывай.
Но, пошутив, сделалась серьезной.
– О чем вы желаете со мною говорить, господин синбирский депутат?
Козлицкий толкнул Луция в бок: не робейте!
А тот и не думал робеть.
– Ваше императорское величество, я имею опасение, что при открытии уложенной Комиссии может возникнуть конфузия, поскольку русские люди не имеют совсем никакой привычки к публичному изъявлению своих суждений в присутствии вышестоящих особ, – произнес он заранее приготовленную фразу. – Говорить будут лишь те, кто и так гласен по своему положению, прочие же стушуются.
– Того же опасаюсь и я, – живо отвечала Екатерина. – Я в дороге пробовала беседовать с господами депутатами, но они лишь повторяют то же, что я каждый день слышу либо от графа Григория Григорьича, либо от графа Никиты Ивановича. Зачем тогда и Комиссия? Что с этим поделать – не знаю.
– А вот что: дать им возможность высказаться между собою свободно, без высоких персон. Затеять род репетиционного заседания, чтобы избранники научились убедительно говорить и учтиво спорить. Мы с воеводой Корзининым поставили шатер, где можно устроить как бы малую Комиссию, да поглядеть, что из сего выйдет.
– Идея превосходная, но как быть со мной? Я желала бы всё видеть собственными глазами, однако ж моя личность подействует на депутатов, как голова Медузы Горгоны – они оцепенеют!
– Сие предусмотрено, – пришел на поддержку, как было условлено, Козлицкий. – В шатре повешен кисейный занавес, за которым расположится ваше величество, о чем собравшиеся не будут иметь никакого понятия.
– Ах, как славно! – воскликнула государыня и захлопала в ладоши. – Что за чудесное изобретение! Ты, Егорушка, сядешь перед занавесом и будешь шептать, кто есть кто. Мы назовем эту экзерцицию «Подготовительным совещанием». Когда у меня есть на то время?
Секретарь раскрыл книжечку.
– Завтра ваше величество принимает здешних дворян, потом дворянских жен, потом делегацию купечества и мещанства, потом татар с чувашами… Едва дня хватит. Послезавтра смотр гарнизона, далее награждение отличившихся, молебен, одарение нищих – без этого невозможно. Вечер обещан графу Орлову, который подготовил некий сюрприз… Опять не выйдет. Разве что послезавтра с утра? Соколиную охоту можно перенести, тем более на таком солнцепеке она вряд ли доставит вам удовольствие.
– Я вообстче до охот не охотница, – с удовольствием скаламбурила по-русски государыня. – Обестчала толко, штоп потрафить графу Григорию. Но шара – отличный претекст от сей непотешной потехи уклониться.
На том и постановила.
Катин ушел, донельзя счастливый. Всё задуманное устроилось!
Теперь надобно, чтоб депутаты, не зная о потаенной зрительнице, высказали перед нею все свои заветные чаяния, а она пускай послушает голос своих извечно безгласных подданных! Оно выйдет полезней парадных речей на открытии Комиссии в московском Кремле.
Более всего Луций опасался, что царица назначит заседание прямо на завтра, но ловкостью Егора Васильевича всё отлично устроилось. За два дня депутатов можно как следует подготовить. Сам Луций намеревался произнести речь о наиважнейшем – о губительности крепостного права. Да прямо в императрицыны уши!
Диво, а не план!
* * *
Однако Катин понимал, что мало будет обличить рабство в едином лишь выступлении, сколь бы красноречивым оно ни получилось. Нужно, чтобы другие депутаты поддержали речь горячим одобрением, иначе она прозвучит гласом вопиющего в пустыне.
Наутро он отправился искать единомысленников.
Для проживания депутатов был отведен постоялый двор за городской чертой, на берегу Свияги. Так нарочно устроил главный распорядитель Козлицкий – чтобы избранники не терлись близ больших вельмож. Депутаты считались гостями ее величества, потому жили на казенном довольствии и трижды в день исправно собирались на трапезу – кто ж откажется от дармового корма, хоть бы и сам по себе богат? Последнее предположение уверенно высказал Егор Васильевич, и, явившись к завтраку, Катин лишний раз убедился, что секретарь знает человеческую натуру в доскональности. Все двадцать шесть волжских депутатов – двадцать два помещика и четыре горожанина – были в наличии. Их легко было опознать по золотой медали, на коей изображена пирамида законности и высечена надпись «Блаженство каждого и всех».
Некоторое время Луций стоял в дверях, приглядываясь к будущим соратникам. Они сидели тремя столами, которые были заполнены неодинаково, и держались разно.
За первым собралась самая многочисленная компания, пятнадцать особ, почти половина в военных мундирах. Эти вели себя развязно, говорили громко, хохотали, уже с утра пили вино. Второй стол, с семью седоками, был чинный, с тихими разговорами. Там потчевались кофеем. У третьего, вокруг самовара, перешептывалась четверка людей, одетых по-русски, бородатых, беспудренных. С этими, последними, у наблюдателя затруднений не возникло: депутаты неблагородного сословия. Сторонятся дворян, знают свое место. С двумя другими столами Луций тоже скоро разобрался. Шумные, верно, партионцы графа Орлова, тихие – сторонники графа Панина.
На «орловских» терять времени смысла не было. Катин сразу направился к «панинским».
Выпростал из-под жилета собственную медаль, подошел, учтиво представился. Его столь же церемонно пригласили сесть. Двое соседей по столу оказались тверскими дворянами, трое нижегородскими, двое казанскими. Все статские либо вольножительствующие.
В первые минуты Луций помалкивал, прислушивался к разговору. Он был серьезный, осмысленный – об акцизе на соль. Скоро стало ясно, что наибольшим уважением здесь пользуется тверской помещик Гаврила Самсонович Скарятин. Сей немолодой, приятноулыбчивый господин рот раскрывал нечасто, но каждое его слово улавливалось с почтением. Деликатно выждав, когда новый человек немного освоится и нальет себе кофею, Скарятин обратился к нему с приличным вопросом: истинный ли тот синбирский обитатель либо же проживает в столицах, а здесь лишь владеет имением? Должно быть, наружность Катина выдавала в нем непровинциала.
Услышав, что перед ними синбирец недавний, по высочайшему пожалованию, все воззрились на Луция с особенным вниманием. Раз отмечен государыней, да еще, не взирая на чужесть, определен в депутаты – значит, персона непростая.
– Добро пожаловать за наш либеральный стол, – пуще прежнего заулыбался Скарятин. – Правильно сделали, что не сели к меднолобым обскурантам. Вы, верно, служите или служили? Позвольте узнать, по какой части?
– Я прежде проживал в Германии, в княжестве Гартенляндском, – пояснил Катин, рассчитывая вызвать этим сообщением еще большее любопытство и уже зная, как повернет разговор на реформы.
Гаврила Самсонович прищурился, пощелкал пальцами, вспомнил:
– Это сумасбродное владение, где лавочников с сапожниками возвысили в дворяне?
– Что ж здесь сумасбродного, коли лавочник или сапожник достойный человек?
– А то, что сие нарушение порядка, установленного Господом и предками, – изрек вождь либерального стола и важно посмотрел на остальных. – Это ежели как зайца за достойность произвести в медведи.
Все одобрительно рассмеялись, а Скарятин наставительно заключил:
– Общество, сударь мой, являет собою пирамиду с пропорциями, установленными вековым опытом и сообразностью. Недаром сия аллегория изображена и на знаке депутата. – Он постучал себя по медали. – Не дай бог вносить в общество сумятицу – всё рассыплется.
– Какова ж русская пирамида?
– Наипрочнейшая. Внизу помещичье крестьянство. Оно, как земля-матушка, которая всё сущее кормит, а сама безмолвствует. Потом следует казенное крестьянство. Ему почету больше, ибо оно кормит государей. Ныне почтеннейшие из сих вольнопашцев даже призваны в депутаты. Еще выше менее многочисленные горожане. Над ними – шлем государства, дворяне и чиновники. Навершие сего шлема – родовитая знать, лучшие фамилии. На самой высоте монарх. А духовенство пронизывает пирамиду скрепою сверху донизу. Поди-ка развали столь стройную фигуру! Случись какая всемирная катастрофа, европейские державы развалятся, а наша российская устоит!
– Славно сказано, Гаврила Самсонович! Истинно так! – поддержал оратора стол.
Хоть и расстроенный таковым либерализмом, Катин попробовал зайти с другой стороны.
– А если сама государыня в монаршей милости своей пожелает дать голос «земле-матушке», сиречь помещичьим крестьянам, каковые составляют большинство российского населения? Чтоб не только топтать ее, кормилицу, но и оказать ей уважение? Что если ее величество пожелает даровать крепостным волю?
– В ножки повалимся, – твердо молвил Скарятин. – Возопим: «Не погуби себя и нас, матушка! Холопов перебаламутишь. Нас, свою опору, разоришь, а вместе с нами и сама сгинешь!»
На сей раз шум одобрения был так громок, что даже заглушил гуляк с «орловского» стола.
Э, да с вами либералами каши не сваришь, сказал себе Катин и больше не спорил.
* * *
За обедом он переместился к недворянам, рассудив, что даже самая просвещенная часть аристократии, будучи кровно заинтересована в рабовладении, нипочем не поднимется выше собственного корыстного интереса и что в любом случае будущее за «третьим сословием», движителем и благополучателем свобод.
Приближение господина в барском наряде привело четверых простолюдинов в замешательство. Они вскочили, низко поклонились. Попросив позволения подсесть и не получив на то иного ответа, кроме новых, еще более приниженных поклонов, Катин придвинул стул. Остальные подождали, когда он предложит сесть и им, а потом вкушали обед в замороженном молчании.
Луций назвался, поочередно познакомился с каждым. Здесь были тверской купец Ладыжников, двое нижегородских, Петров да Лисёнков, и казанский прасол Суров. Кажется, все неглупые, себе на уме. Моложе других (пожалуй, одних с Катиным годов), был зерноторговец Епифан Лисёнков.
Никаких серьезных разговоров наш герой пока не заводил, понимая, что проку от них не выйдет. Русские бюргеры, недоверчивые к господам, должны были привыкнуть к бритому соседу. В ужин беседа текла немного вольнее, но по-прежнему трудных тем не касалась.
Однако на следующее утро, удостоверившись, что нового знакомца опасаться незачем, коммерсанты держали себя уже вполне свободно, и Луций приступил к делу.
Начал он с того, что Комиссия созывается ради воцарения справедливости и искоренения кривд, причем о последних государыня желает узнать от представителей народа. Потом спросил, каковая, по мнению господ депутатов, главная российская кривда. Ответа, конечно, не получил, но слушали его очень внимательно, хотя оратор говорил тихо – незачем дворянским столам было знать, что тут обсуждается и затевается.
На собственный вопрос пришлось отвечать самому.
Главное зло и худшая беда России состоит в том, что одни русские люди, дворяне, могут торговать другими русскими людьми, будто скотиною, убедительно толковал Катин. Сие противно справедливости божеской и человеческой. Отчего дворянам, ничем того не заслужившим, дана такая власть над крестьянством? Чем дворяне лучше?
Эти слова нашли у слушателей горячий отклик.
– Истинно! Истинно! – кивали купцы, а молодой нижегородец шепотом произнес такое, что у Луция потеплело на сердце:
– Всю волю себе забрали, другим ничего не оставили!
Этого Катину было довольно. Он убедился, что поддержка на завтрашней экзерциции будет, а что окажет ее одно лишь «третье сословие» даже еще лучше – пусть царица увидит, в какой среде ее просвещенные устремления найдут самых заинтересованных сторонников.
Луций поднялся и громко, на всю залу объявил:
– Господа депутаты, я имею для вас извещение!
С других столов оборотились, глядя на стоящего безо всякой приязни. «Орловские» с самого начала, когда новичок не подошел к ним знакомиться, его невзлюбили. Похолодели к синбирцу и «панинские», видя, что он пренебрег их компанией ради купечества.
Самый шумный из «меднолобых», полковник в гусарском мундире, презрительно крикнул:
– Что нам за дело до ваших извещений? Сядьте и не мешайте нашей беседе!
Катин вышел на середину, внимательно смотря на грубияна.
– Извещение не от меня, а от ее императорского величества. Потому прошу всех выслушать стоя.
Эти слова, нарочно сказанные негромко, тем не менее произвели впечатление пушечного залпа. Загрохотали стулья. Первым вскочил и вытянулся побледневший полковник, напугавшись, что надерзил тому, кому не следует.
Установилась похоронная тишина, а Луций еще и подержал паузу.
– …Завтра в десять часов утра всем депутатам надлежит явиться на зады известного вам Троицкого собора, где возведен белый шатер, украшенный царским вензелем. Там по воле государыни поволжские представители проведут заседание о нуждах, наказах и запросах своих местностей. Не должны себя сдерживать и те, кому есть что изъяснить о материях, касающихся всего государства. «Подготовительное совещание» – названье определено лично императрицей – будет происходить в присутствии секретаря ее величества господина Козлицкого, который запишет и передаст государыне всё насущное. Приготовьтесь, господа. Завтра ваши чаяния будут услышаны! – торжественно закончил Катин свою орацию, но потом вспомнил, что упустил важное.
– Нам надобен председатель, который поведет совещание. Кого угодно избрать на сию почетную должность господам депутатам?
Он ждал, что «орловские» как крупнейшая фракция выдвинут кого-нибудь своего, хоть того же шумливого гусара, но вышло иначе.
Полковник, только что не желавший и выслушать Катина, поспешно крикнул:
– Вы и будьте председателем, коли вам доверено нас созвать! Кто ж еще?
И все три стола согласно загудели. Голосовать было бессмысленно – Луций понял, что результат выйдет тем же.
Такой оборот застал его врасплох. Ведь председатели лишь следят за порядком, исторических речей они не произносят. А кто станет обличать крепостничество?
Но, посмотрев на раскрасневшееся лицо Лисёнкова, наш герой озарился идеей много лучше прежней. Главное скажет не бывший гартенляндский министр, воззрения которого для государыни не новость, а человек из самой толщи народа! Оно выйдет неожиданней, сильнее и нагляднее! Пусть Екатерина увидит, каковы в России простолюдины!
Наш герой смиренно поблагодарил за честь, объяснил, как будет устроено завтрашнее действо, а потом отвел молодого нижегородца в сторону и сказал, что говорить о дворянском рабовладельчестве выпадает ему.
– Не оробеете?
– Ради обчества – сдюжу, – ответил Лисёнков, пылая взором.
Вот оно, наше русское третье сословие, подумал Луций, чувствуя пощипывание в носу. В прежние времена, верно, и прослезился бы. Скоро, скоро уйдут в прошлое посадские, мещане, торговцы, а вместо них подымет гордую голову новая русская буржуази, надежда просвещения и прогрессии!
* * *
Убранством шатра, в котором суждено было зародиться российскому парламентаризму, Катин занимался сам, с любовью и тщанием.
Сей полотняный чертог представлял собой правильный круг, справедливейшую из геометрических фигур, все оконечности которой равны в своем расстоянии от центра. Главнонесущий шест имел вид коринфской колонны, под ним белела статуя богини Юстиции, выписанная из Москвы на телятниковские деньги. Скамьи располагались полукругом, уподобляясь античному Сенату; пред ними высилась увенчанная лаврами трибуна для ораторов и помещалось скромное сиденье председателя – в знак того, что его оккупант для высокого собрания не начальник, но слуга. Втайне Луций мечтал, что эта символичная диспозиция понравится августейшей зрительнице и затем будет воспроизведена для заседаний большой Комиссии. Позади председательского места была устроена кисейная портьера – как бы для декорации, на самом же деле позади пряталось удобное кресло. Воздушная ткань позволяла сидящему прозирать происходящее в шатре. Тайную зрительницу должен был заслонять собой Егор Васильевич Козлицкий, для которого перед занавесом поставили стул и малый столик.
Депутаты, не сговариваясь, разместились на скамьях так же, как привыкли сидеть в столовой, тремя неравными группами: всю правую половину заняли «орловские», в середине устроились «панинские», слева, у стеночки, примостилась кучка горожан. Катин тому порадовался: столь же зримо отделяют себя друг от дружки партии британского парламента! Вот они, три грядущие фракции парламента российского – справа консерваторы, в центре либералы, слева радикалы, представители демоса!
Председательствующий произнес прочувствованную, но осторожную речь. Ни разу не употребил слово «парламент» и сильно напирал на милосердное великодушие ея императорского величества, пожелавшей облагодетельствовать своих подданных, однако же выразил надежду, что от сего дня в России безгласные станут гласными, прислужники – помощниками, а рабы – гражданами. После сей преамбулы, адресованной не залу, но кулисе, Луций предложил депутатам высказывать свои суждения о том, что, по их мнению, является главной потребой России.
Честно сказать, было опасение, что не привычные к публичным рассуждениям россияне стушуются ораторствовать, но Катин тревожился зря.
Сразу же вышел гусарский полковник (его фамилия была Крыжов, он представлял Тверь) и безо всяких предварений объявил:
– Потреба у России ясно какая: Польшу забрать.
В сильных, энергических выражениях, рубя воздух кулаком, бравый кавалерист говорил о том, что польские и литовские земли богаты, а взять их легко, потому что соседнее королевство вконец ослабло, само упадет в руки. Шляхта, конечно, запротивится, но это и хорошо, ибо побить ее нашему оружию плевое дело, а у супротивников можно конфисковать имения и после раздать их в награду, вместе с крестьянами, отличившимся россиянам.
Как и следовало ожидать, воинственная речь сопровождалась горячей поддержкой справа.
Затем вышел Скарятин. Длинно, умно́ и красно́ он заговорил о том, что в Польшу нам лезть незачем, ибо сей плод хоть легко упадет в руки, но впоследствии вызовет сильный понос, ибо раздражит и напугает соседнюю Порту, а война с турками выйдет разорительной, долгой, да еще неизвестно чем закончится. Как только армия из Польши повернет к Черному морю биться с туркой, поляки все сызнова поднимутся, осмелеют Австрия с Пруссией, и не вышло бы для России худа. Нечего нам соваться на запад, там и без нас склочно, увещевал собрание Скарятин. И на что нам Запад, когда свободен весь Восток. Надобно двигаться в сторону Китая, да через проливы в Америку. Вот где торговля, вот где выгоды, вот где настоящее богатство! И никаких военных трат.
Теперь поддакивала середина шатра, справа же недовольно крякали и даже шикали, так что председателю пришлось взывать к порядку.
Все эти суждения были не новы. О том же, известно, спорили меж собой граф Орлов с графом Паниным. Луций слышал из-за портьеры шорохи – это ворочалась в своем кресле царица.
Погодите, ваше величество, сейчас вы скучать перестанете.
– Не угодно ль выступить какому-либо представителю городских сословий? – спросил Катин, со значением поглядев на Лисёнкова. Тот сидел бледный, кусал губы. Но не подвел, поднялся, вышел к трибуне.
– А по-нашему, по-купеческому, чужеземная торговля, конечно, дело хорошее, но не с того починать надоть! Первая надоба и кривда Руси – крепостное душевладение!
Он задохнулся от собственной смелости. В шатре сделалось очень тихо. Дворяне обмерли, перестало шелестеть платье за портьерой. Луций с восторгом смотрел на своего питомца, будто ставшего выше ростом и озарившегося внутренним сиянием. Вот он, глас и лик народа! Внимайте, ваше величество! Трепещите, рабовладельцы!
– Вот где грех, вот где несправедливость! – с еще большим напором продолжил нижегородец, совладав с волнением. – Вся трудовая сила досталась во владение вам, дворянам, а как вы ею распоряжаетесь? Мужики у вас на барщине работают спустя рукава, потому что не на себя! Но и на себя хорошо работать они тоже ленятся – на кой им, коли всё одно земля барская? Вы мужиком и распоряжаться-то не умеете! Так и знайте: мы, российское купечество, в Москве все как один всеподданнейше попросим у матушки-государыни правды и заступы!
Сзади доносился шепот Козлицкого, который, должно быть, объяснял царице, кто этот запальчивый оратор, а Катин что-то перестал понимать, к чему ведет купец. Оно, впрочем, тут же разъяснилось.
– Нет, судари мои! Справедливость так справедливость! Что же это одним только дворянам крепостными владеть? А нам, купцам, по-вашему, дармовые работники не нужны? Шалишь! Жалаем, чтоб нашему брату, честно́му хозяину, вернули право владеть душами, как было раньше, в старину! Без того правде на Руси не бывать!
– А харя у вас, купчишек, поперек себя не треснет?! Души им подавай! Ты не крепостных, ты у меня вот что получишь! – вскочил на ноги, потрясая тростью, некий дородный господин на «орловской» половине. – Господа, вы послушайте, как быдло заговорило! Неужто стерпим?
– Не-ет!!! – дружно подхватили правые скамьи, да и с центральных неслись возмущенные крики.
– Господа депутаты, уважайте друг друга! Прошу всех сесть! – запротестовал Луций, но вяло. Речь представителя «третьего сословия» повергла его в оцепенение.
Председателя не послушали. Несколько дворян ринулись к трибуне, и Лисёнков получил сначала удар палкой, потом, уже повернувшись бежать, пинок под зад. Отпрыгнув, бедолага налетел на коринфскую колонну, от той полетели куски гипса. Богиня Юстиция качнулась, рухнула, рассыпалась на части: весы в одну сторону, меч в другую, покрытая повязкой глава покатилась в третью.
Борец за права купечества полз к выходу на четвереньках, осыпаемый ударами. Доставалось и другим городским депутатам, уж непонятно за что, а на скамьях сцепились «панинские» с «орловскими» – накопилось.
Оглянувшись назад, Катин не увидел секретаря. За приоткрывшимся занавесом тоже было пусто.
Ушла…
Но это Луцию было уже все равно. Оглушенный, потерянный, еле переставляя ноги, он побрел вон. Когда удалился от шатра саженей на двадцать, полотняный чертог, несостоявшаяся колыбель российского парламентаризма, дрогнул и бессильно опустился. Должно-быть, колонну сшибли окончательно.
Глава XVI
Умные люди ведут себя по-умному, а герою открывается, для чего Бог промыслил Россию, вслед за чем является богиня Ювента
Луций не помнил, где бродил после краха всех своих замыслов. Улицы, дома, заборы, прохожие – он не замечал ничего. Раз увидал вывеску трактира «Забудь Печали», вошел, попросил водки, которую отродясь не пробовал. Выпил пахучей гадости, обжегшей горло, но ни опьянения, ни облегчения не ощутил. Тогда потребовал бумаги, чернил и с ожесточением написал несколько размашистых строк.
Вот так. Кончено!
Потом, уже с целью, скорым шагом направился к телятниковскому дворцу и прошел в крыло, где квартировал Козлицкий.
Секретаря Луций нашел в обществе хозяина, перед обильным угощеньем. Егор Васильевич был улыбчив и трезв, но Иван Спиридонович с трудом удерживал подбородок на опертой об стол руке.
– Выпил вина, впервые в жизни, – сообщил он Катину заплетающимся языком.
– Вы тоже? – поморщился Луций, недовольный присутствием постороннего лица. Говорить с Козлицким он хотел наедине.
– Хоррошая штука!
Телятников полез с полным кубком – потчевать.
– Нельзя не выпить, батюшка. Такие дни – всему поворот! Сначала я мочалку свою сбрил, и ничего, свет не перевернулся, а государыня дала ручку облобызать да пожаловала привилею на поиск медных руд. Великое дело! А ныне дочку выдаю, Иринеюшку, за друга и благодетеля Егор Васильича…
Полез целовать Козлицкого, тот подмигнул Катину.
– Вот как на Руси нынче жить-то надо! Дурак я был со своей бородой! – всё не мог нарадоваться хозяин. – Бороде цена – тьфу, а медные рудники – это огого! Неее, на Руси от власти отгораживаться нельзя, себе убыток! Надо при ней близехонько быть, коли умный человек. Вот в чем истинная сила, вот в чем русское счастье! Дай, Егорушка, я тебя ишшо поцалую…
Но второго лобызания секретарю стерпеть не пришлось, потому что Иван Спиридонович икнул, ослабел и поник мутным ликом прямо в блюдо с белужьей икрой.
– Сейчас спокойно поговорим, – молвил Козлицкий, поворачивая будущему тестю голову, чтоб не задохнулся. – Эй, кто там, сюда!
Вошли двое бородатых слуг в шелковых поддевках.
– Что уставились? Барин у вас теперь часто такой будет. Привыкайте. Забирайте, несите в спальню. Да приготовьте огуречного рассолу. Проснется – дайте.
Остались вдвоем.
– Поздравляю. Как же вы ее полюбили? – сказал Луций, глядя на жениха с удивлением. Девица Иринея казалась нашему герою неумна и нехороша. О чем с такою говорить? А о спальном деле даже и помыслить неприятно – чай брак-то будет не белым.
Удивился и Козлицкий.
– Разве можно такую не полюбить? Мне за нею двадцать тысяч душ дают, один железный завод, один медный, две суконные мануфактуры, да деньгами миллион двести пятьдесят тысяч! И царица еще пожалует что-нибудь. Она любит свадьбы устраивать.
– Теперь вы станете большим вельможей? – понимающе кивнул Катин. – «Близехонько от власти»?
– Ошибаетесь, – покачал пальцем Егор Васильевич. – Это моему тестюшке нужно, не мне. Я не сильным, я счастливым быть хочу, а сила и счастье у нас в России ходят поврозь. Какое может быть наверху счастье, если со всех сторон хищные звери, загребущие, завидущие? Рано иль поздно сыщется некто позубастей иль повывертливей и сожрет. Нет, умно́ жить – это набрать наверху столько добычи, сколько сможешь, да вовремя отдалиться, притом с властью не рассорившись. Так я и сделаю. Через некое время скажусь хвор – у меня и вправду от придворной жизни нервические трясения с мигренями. Съеду из Питера подальше. С таким-то богатством! А с супругой мы заживем душа в душу. Я в подмосковной вотчине, она в волжской, и оба счастливы.
Посмеявшись своей шутке, Козлицкий посмотрел на собеседника в упор, и стало видно, что глаза у секретаря нисколько не веселы.
– Вы вот после нынешнего фиаско, я видел, побрели посыпать голову пеплом да отчаиваться. А я, сопроводив государыню, сразу предпринял матримониальный апрош. Потому что благодаря вашей экзерциции с предварительным совещанием понял как дважды два: просвещенные комиссии в России затевать рано. Свободы и достоинства тут пока никому не нужно. Государыня знаете что после сказала? «Глупо предлагать пирожные тем, кто не наелся черным хлебом». И еще прибавила, велев записать сию мысль для письма Вольтеру: «Умный правитель не стремится насыпать горы там, где природою замыслена равнина, а приспосабливает свои мечты к природному рельефу местности». Вот что у нас будет с реформами, дорогой Луций Яковлевич. Я лучше сам по себе поживу, а Россия пускай сама по себе.
Слова эти повергли Катина в еще горшую печаль. Выходит, он собственными стараниями убедил монархиню в тщетности перемен! Думал достичь одного, а добился противуположного…
Наш герой повесил голову, его грудь исторгла тяжкий вздох, и дальнейшую речь премудрого секретаря он слышал как в тумане.
– …Однако ж не думайте, что я брошу вас без помощи и совета, – рек Егор Васильевич. – Совет мой вот каков. В Москве, когда откроется комиссия, вам нужно будет себя как следует показать. Почин уж есть, царица вас взяла на примету. Будьте ловчее и сумеете многого добиться. Однако мечтания о парламентах оставьте. В России возможно сделать дело, только если опираешься на монарха. Иных рычагов в сей государственной конструкции не бывает. Я научу вас, как вести себя с императрицей. Когда следует помолчать, а когда можно говорить и какие слова выбирать. Гор вы не своротите, но кое-чего добьетесь.
Встрепенувшись, Катин протянул доброжелателю бумагу, писанную в трактире.
– Не трудитесь. Я слагаю с себя депутатство. Примите и медаль. Совет ваш несомненно хорош. Вы самый умный человек в России и понимаете ее много лучше меня. Но я вашей наукой жить не смогу и не захочу. Хитрить, втираться в расположение к высшим, повседневно подличать, пускай и ради общественного блага? Моя нравственная конституция того не попустит, а что я без нее?
Взгляд Егора Васильевича сделался тяжелым.
– Стало быть, спокойствие совести для вас важнее отечественного блага? Я, признаться, смотрел на вас и думал: вот человек, лучший, чем я. А вы не лучший. Просто вас манят иные удобства. Не матерьяльные, а самоласкательные. Тогда уезжайте отсюда. В России одно из двух: или совесть свою лелеять, или большие дела делать, а промежду не удержишься. Впрочем, оно, вероятно, везде так – хоть во Франции, на родине философов, хоть в Британии, на родине народного представительства. Разве что в вашем Гартенлянде можно иначе, но какие там великие дела, в том малом прудочке?
– Лучше в чистом прудочке, чем в грязном океяне, – хмуро молвил Луций. – Прощайте, сударь. Дай вам бог в этом безумии не лишиться вашего острого ума.
* * *
Новый совет, данный проницательным Егором Васильевичем, опять был хорош. Именно: уехать отсель, вернуться в милый Гартенлянд, думал Катин. Должно быть, я родился не в том месте. Иль раньше срока, потому исторгнут российской материнской утробой как недоношенный плод.
Убогим выкидышем спустился он с дворцового крыльца на сумеречную площадь. Задерживаться в Синбирске бывшему депутату теперь было незачем. Оставалось только забрать с воеводского подворья скромные пожитки, каковые поместятся в один сундук, и попросту, без фельдъегеря, на медленных почтовых пересечь постылую, жестокую матерь-Россию из восточного ее края до западного.
Сбоку, от тумбы с каменным львом, обозначилось некое движение. Посмотрев, Луций увидел попа, вовсе ему незнакомого. Духовная особа была в заплатанной рясе и лаптях, а лица не разглядеть – видно только склоненную в поясном поклоне голову с шишковатой плешью. Скуфейку попик сжимал в руке.
– Что вам угодно, отче? – с недоумением вопросил Катин.
Человек разогнулся. Лицо длинное, круглоносое, в морщинах, бороденка клоками.
– Вижу ли я пред собой его высокое благородие господина Катина? – робко, с дрожанием осведомился священник.
– Его самого. А вы кто?
– Слава Господу! – Попик перекрестился и снова качнулся туловищем к земле. – Якож есмь смиренный Пигасий…
В самом деле, чем-то похож на лошадь, верней на старую, заморенную клячу, подумал Луций.
– …Приходской поп вашей якож вотчины села Карогда, – закончил клирик, распрямился и замолчал, испуганно моргая – будто ждал кары за свою дерзость.
– В каком смысле «якож»? – растерянно спросил Катин. За полгода синбирской жизни он так и не удосужился побывать в пожалованном имении и даже совсем о нем забыл.
Попик сконфузился.
– Это я вставляю словеса от косности языка, за что еще в семинарии от отцов учителей бывал многажды ругаем и якож даже бит… Карогда – вашей милости собственная вотчина, безо всякого «якож»…
– Да, не добрался я до вас. И теперь уж, видно, не доберусь, – сказал Луций вслух, а сам подумал, что от имения, подобно депутатству, надо будет как-нибудь отказаться. – Уезжаю я, отче. Навсегда.
Произнесено было спокойно, даже ласково. Казалось бы, ничего обидного или грозного. Но слова Луция произвели сокрушительное действие. Священник охнул, закрыл руками лицо и горько, безутешно разрыдался.
– Пропали… Теперь якож совсем пропали, Господи… – бормотал он.
– Да что такое? – Катин взял старика за локоть. – Чем вызваны ваши слезы? Уж не я ли тому причина?
Очень нескоро, терпеливыми увещеваниями и ласковыми уговорами побудил он карогдинского пастыря объяснить, что за беда.
Рассказ этот, если исключить из него всхлипы, призывы к Господу и многократно употребленное «якож», в сокращенном виде выглядел так.
– У барина, которому раньше принадлежала деревня и кто помер бездетным, был дворовый человек Агапка по прозвищу Колченог, бывый солдат. Ногу ему оторвало на прусской войне, но он и на деревяхе управлялся ловко, погонится – не уйдешь. А гонялся Агапка за многими. Барин, спаси Господи его душу, был срамник и охальник, а Колченог еще того пуще. Все его боялись, и управы было не сыскать. Потом барин от многопития преставился, Карогда отошла в казенное ведение, и приехал немец-управляющий. Под ним Агапка притих. Но когда село пожаловали вашей милости (здесь поп опять Луцию низко поклонился), немец уехал, остались мы сами по себе, и на безначалии Колченог пустился во все тяжкие. Он и сам-то силен, по-звериному ловок, страшен, а у него еще два меньших брата, Еремка с Елизаркой, оба сущие медведи. Втроем они всю Карогду под себя подмяли, никто не пикни. Сначала некоторые пробовали. Но кузнеца Филимона, крепкого мужика, Агапка на кулаки одолел и у всех на глазах затоптал до смерти. А прежнего старосту, Ефрем Лукича, выгнал зимою на мороз, со всей семьей, и никому не велел в избу пускать. Меня на ту пору не было, я на богомолье ходил, а прочие забоялись… Померли все Ефремовы и долго потом заиндевевшие лежали, целую неделю. Не давал Колченог ни отпеть их, ни похоронить…
– Да как такое возможно? – не выдержал жуткой повести Катин. – А пожаловаться властям?
– Ходил я к воеводе, жалобу подавал. В канцелярии ответили: у вас ныне помещик, якож сначала ему жальтесь, а он пускай пишет к нам. Такой-де порядок…
Луций удивился, что Афанасий Петрович ничего своему постояльцу про карогдские происшествия не сказывал, но тут же догадался о причине. Должно быть, воевода не желал, чтоб депутат отвлекался от приготовлений к высочайшему приезду.
– Совсем они осатанели от безначалия, братья-то, – ныл попик. – Говорят, мы сами теперь баре. И оброк с людей берут, и работать на себя гонют. А еще портят девок и замужних женок кого похотят. Вот и пошел я в город искать ваше высокое благородие. Якож одна только надежда на вас и есть. Попросили бы у воеводы солдат, да приехали бы, да избавили нас от злого лиха…
Луций поморщился. Только этого недоставало! Скорее прочь из сих диких мест и как можно далее. Целое село, двести душ, не могут справиться с тремя негодяями! Так поделом вам. Терпите и блейте, овцы.
– Я вам помещиком не буду. Сказал же: уезжаю из сих мест, навсегда. И от имения отказываюсь. Оно вернется в казну. Пришлют нового управляющего, он на вашего Агапку найдет управу. А я никогда не желал владеть чужими душами… Со своею бы совладать…
Тут голос нашего героя дрогнул, а слезы не хлынули лишь по иссушенности, но стон вырвался, и заколыхалось лицо. Нравственные силы Луция, подорванные тягостным днем, были на исходе.
Поп Пигасий перестал канючить про Карогду, сострадательно покачал лысой башкой.
– Вижу я в вас, сударь, великое смятение и терзание, а то и горькое горе. Простите меня, грешного, что я на вас со своей бедой, когда вы и без того в духовной тяготе. Вам бы Богу хорошенько помолиться, да в церкву к исповеди сходить. Оно всегда, всегда способствует! – сказал он с глубоким убеждением.
Луций скривил рот.
– Мне не поспособствует.
– Не пойдете… – Священник совсем загорюнился. – Так давайте я схожу, за вас помолюсь. Вы только скажите, что у вас за лихо. Умом я, может, не обойму, его у меня немного, однако якож передам Господу. Я помазан, духовного звания, меня Ему лучше слышно.
– В чем мое лихо? – Слова давались Катину с трудом, вместо них из груди рвалось сухое, мучительное рыдание. – …В том, что не могу я здесь, в России! Я человек доброго разума, а тут добрым разумом никаких дел не сделаешь!
– Господь не для того Русь промыслил, чтоб в ней дела делать, – увещевательно, будто больному, сказал Пигасий. – Их тут почти что и не бывает, дел-то, а те, что бывают, плохи.
– Для чего же Он ее промыслил?
– Как для чего? – Поп изумился. – Для любви. Это немцы сначала что-нибудь придумают, а после полюбят. У нас же сначала надо полюбить, а потом с Божьей помощью что-нибудь якож придумается. Вот я, перед тем как в город идти, неизвестно где вашу милость искать как самую последнюю нашу надежду, помолился с любовию, и вы нашлись, и оказались добрый человек. Я вам якож вот что скажу: нет хуже греха, если кто мог своего ближнего спасти, а не спас. Вам и самому потом это в муку будет. – Пигасий замахал руками: – Не подумайте, я вас боле не умоляю! Се забота вашей души. Побеседуйте с нею, а я не стану больше вам докучать.
– Я подумаю о ваших словах, – тускло ответил Катин.
– Вы не думайте, не то откажетесь! Вы сердца, вы ангела своего слушайте.
Луций кисло улыбнулся.
– Не умею. Я из приверженцев Рациония.
– Сего ангела по своей малоучености я не знаю, якож послушайте хоть его. – Поп низко поклонился. – Побреду назад. Как бы меня мучители не хватились. Я же тайно… А вы, право, попросили бы у воеводы солдат да пожаловали. Один денек всего и займет…
– Ну уж солдат-то я просить не стану. Если приеду, то один.
Священник испугался.
– Тогда не надо! Такого греха на душу не возьму! Агапка грозился, что буде новый барин явится, проломлю-де ему голову, а вас всех заставлю под присягой показать, что с коня упал. И покажут наши, от страха, а Колченог после того еще Бог весть сколько будет над нами свирепствовать. Нет уж, лучше езжайте куда ехали. Такова, видно, Господня воля…
Перекрестил Луция, побрел прочь, но через несколько шагов обернулся.
– Если все же нашепчет вам ангел, а солдат с собою взять не похотите, об одном молю: явно, среди бела дня, не являйтесь. Ко мне приходите, ночью. Я при церкви живу. Призову Конона-лодочника. Он у нас самый умный.
И теперь уже ушел окончательно, оставив Катина в еще худшем шатании чувств.
Уехать, бросив поселян, будет скверно, но и тащиться в Карогду с донкишотовой оказией тоже дурость. Ну, одолеешь ты карогдского сиволапого дракона, но ведь это русский Змей Горыныч. Заместо отрубленных голов тотчас произрастут новые. Уедешь – объявится какой-нибудь новый Колченог, и опять сильный станет топтать слабых, а те склонятся. Ибо таков закон общества, составленного из рабов.
Так ничего и не решив, наш герой дошел до корзининского двора. Как бы то ни было, а съезжать все равно надо. На что воеводе гостеприимствовать отставной козы депутату? Единственное, что остается, – поблагодарить за кров и удалиться самому, пока не попросили.
* * *
Очно поблагодарить хозяина не получилось. Слуга сказал, что барин провожает матушку-государыню.
Что ж, Луций написал учтивую записку, в которой коротко, без философий, объяснил про отставку и выразил должную признательность.
Хотел передать бумагу через кого-нибудь из прислуги, но на лестнице увидал хозяйскую дочку – как ее, Полину? Да, Полина Афанасьевна. После того первого ужина Катин ни разу с дурочкой не разговаривал и даже почти ее не видал. Кажется, она пряталась от постояльца, да он за разъездами нечасто здесь и бывал. Если же по случайности они где-то сталкивались, мадемуазель ойкала, шарахалась. И слава богу. О чем с такою говорить?
Но теперь встреча была кстати.
– Погодите! – крикнул Луций в спину дикарке, которая, конечно, опять попробовала скрыться. – Я имею до вас дело!
Замерла, но повернулась не сразу. Широко раскрытые глаза смотрели со страхом.
Подавляя раздражение, елико возможно ласковей, он известил малахольную деву, что покидает корзининский дом, не имея возможности лично засвидетельствовать ее родителю свое почтение, а потому просит передать ему эпистолу.
Полина Афанасьевна сунула конверт в карман фартука. Выражение ее лица не переменилось, уста не разомкнулись.
– Передайте Афанасию Петровичу мою благодарность еще и на словах, – сказал Катин, не слишком надеясь на исполнение сей просьбы. – Сердечно благодарю также и вас за терпение к доставленным неудобствам.
Косноумная девица смотрела всё с тем же испугом. Поняла ли сказанное – неясно.
Он раздельно, отчетливо повторил:
– Съезжаю я отсюда. Уезжаю. Навсегда. И засим желаю вам…
Вдруг круглые голубые глаза устремились кверху, а потом вовсе закатились, щеки сделались бледными, и барышня осела на пол, да повалилась, стукнувшись головой. Так и осталась лежать. Обморок!
Вот дура припадочная, разозлился Катин. Опустился на колени, припоминая из медицины, что делают при обмороках. Перво-наперво должно облегчить приток воздуха, расстегнув ворот. Потом обтереть лицо холодной водой, после чего похлопать по щекам. Лучше бы всего сунуть под нос нашатырю, но где его взять?
Лекарь поневоле, он расстегнул верхние пуговицы на платье, обнажив молочно-белую шею. Пристроил голову на полу удобнее. Длинные светлые ресницы были скорбно сомкнуты, в приоткрытом рту поблескивали ровные зубки. Катин вспомнил, что при остановке дыхания можно восстановить оное, дуя хворому человеку прямо в уста. Благодарение Разуму, делать этого не понадобилось. Приложил ухо к острому носику – слава богу, дышит.
Теперь оставалось только сходить за водой, а еще лучше – найти слуг. Пускай сами возятся с инвалидкой. А благодарственное письмо умнее будет передать кому-то понадежнее.
Он вынул из фартука конверт, пошел по комнатам, громко зовя: «Эй, люди! Есть кто?»
Вдруг Луций увидел, что конверт, которым он рассеянно помахивал, как-то странно несвеж, будто его долго держали в кармане, не вынимая. Удивленный, Катин поднес бумажный прямоугольник к глазам. Надпись «Его высокородию А. П. Корзинину» куда-то исчезла, вместо того было написано «Луцию Яковлевичу Катину».
Ничего не понимая, наш герой раскрыл адресованный ему конверт, развернул листок, стал читать.
«Сударь Луций Яковлевич, – говорилось в послании, – я знаю, вы почитаете меня дурою и даже хуже того – я для вас ничто. Я и становлюсь дура, едва только вас увижу. Мысль моя вянет, слух глохнет от стука крови, и я превращаюсь в остолбенелого истукана. Так было с самого первого мига, когда вы только вошли в столовую, и я посмотрела на ваше лицо, и оно показалось мне осиянным, словно вы архангел, спустившийся на землю с небес. У нас в Синбирске во всю свою жизнь подобных лиц я не видывала. И после воздействие ваше на меня всегда было тем же.
А еще во мне поселился великий страх. Прежде я мало чего боялась, но теперь все время трепещу. Что во время поездки на вас в степи нападут волки или в лесу разбойники. Что на льду поскользнется конь, и вы расшибетесь, и будете лежать на снегу, и никто не поможет. А больше всего я страшусь, что вы однажды уедете, и я никогда вас больше не увижу.
Ничто мне теперь не в радость, кроме мыслей о вас. Я больше не могу читать книг, не могу писать моих акварелей, не хочу, как раньше, скакать верхом вдоль высокого берега. Я пропала. Вы изъяли мою душу, осталась только плотская оболочка, не нужная ни вам, ни мне самой.
Я написала это письмо, которое никогда вам не отдам, потому что, ежели не выплесну из себя сих чувств, они разорвут меня изнутри. Когда будет становиться невмоготу, перечту, и, глядишь, станет легче.
Любящая вас больше жизни, но ни на что не надеющаяся Полина».
Какая выразительность, какая сила чувств, в потрясении подумал Катин. А каков слепец я!
Позабыв о воде и о слугах, он повернул назад.
Девушка лежала там же, но теперь он видел ее совсем иначе. Как можно было не разглядеть в этом тонком, трепетном лице нежную, страстную душу и высокий полет побуждений? Она читает книги, она пишет акварели, а он того и знать не знал! Лишь мучил страдалицу своим небрежением! Не видел близ себя такое сокровище и даже презирал его!
Богиня юности Ювента, вот кто это. Явившаяся во всей своей беззащитной и сияющей прелести. Как жестока судьба, побудившая небожительницу рассыпать свои алмазы перед незрячим и услаждать своею цитрой глухого!
Ресницы слегка дрогнули, меж ними в самом деле словно блеснули алмазы – и тут же исчезли. Очнувшаяся увидела, что на нее смотрят, и зажмурилась.
Опустившись на колени, Луций склонился над ней.
– Я по ошибке прочитал письмо, лежавшее в вашем кармане…
Глаза распахнулись, в них пламенел ужас – но не хладный, как прежде, а обжигающий.
– О боже! – пролепетала Полина Афанасьевна и села.
– Зачем же вы никогда не поговорили со мной? – чувствительно спросил Катин. – Я ведь полагал, что неприятен и досаден вам…
Она не слышала, бормоча:
– Господи, стыд какой… Я на себя руки наложу! Всё одно жить больше незачем… Вы уезжаете… Навсегда!
Закрыла лицо ладонями.
– Как же я теперь уеду, если вы… такая? – вскричал Луций в чрезвычайном волнении. – Никуда я не поеду, прежде чем мы… Нам надобно поговорить, хорошо поговорить, обо всем! У меня сейчас голова кругом, я что-то вовсе запутался… Но, кажется, я знаю, чем остановить сие кружение, – вдруг закончил он, так же быстро успокоившись.
Нужна Архимедова точка, на которую можно опереться. Твердая почва под ногами. Нечто простое и ясное. Тогда всё в мире встанет на свое место и можно будет снова делать простые и ясные вещи. Например, как следует познакомиться с этой удивительной, ни на кого не похожей девушкой.
– Передайте батюшке, что я на несколькое время отлучусь. – Катин поднялся на ноги и протянул руку Полине. – Мне нужно наведаться в свою деревню. Потом я вернусь, мы с вами сядем рядом, и будем долго-долго беседовать.
– Вы вернетесь… Вы вернетесь! – Это, кажется, единственное, что она расслышала и поняла. Лицо Полины Афанасьевны, только что совсем бледное, прямо на глазах закраснелось.
– Даю вам в том честное слово, – пообещал Луций, помогая ей встать. Задержал узкую руку в своей, почтительно поцеловал пальцы. Они задрожали, дрожь эта передалась Катину, и он долго потом не мог ее унять. Уже скакал прочь по вечерней улице, а всё ежился.
Глава XVII
Приволжский Родос и приволжский же Гофрат. Чудо о Змии и спасенный спасатель. Отвержение скотской чувственности
Через три часа рысистого бега по отлогим холмам и речным плесам Катин приблизился к круглой возвышенности, на которой белел под луною безжизненный барский дом. По описанию это и была жалованная усадьба, а село лежало чуть далее, в низине.
Господский парк Луций объехал стороной, там ему делать было нечего, а вот на высоте, откуда открывался вид на Карогду, остановился.
Поселение растянулось вдоль Волги одной длинной улицей. Посередине торчала деревянная церковка – бедная, даже без колокольни.
Се малый мир, спасти который тебе, может быть, по силам, молвил всадник. Ты похвалялся своими германскими свершениями, а на родине выказал себя пустомелей. Яви же, чего ты стоишь. Судьба говорит тебе, как тому Эзопову атлету, хваставшему своими великими прыжками на далеком Родосе: «Здесь Родос. Здесь и прыгай».
И может, дело это не такое уж малое. Ежли каждый добросклонный муж спасет от злодейства одну деревню, то когда-нибудь сии крохотные подвиги сложатся вместе, и преобразится целая страна. Да хоть бы ты и оказался в своем рвении один. Пусть поправится не целая страна, а только эта скромная Карогда. Всё ж двести живых человеческих душ, а с женским полом, считай, четыреста. Пекись о них, не бросай на поживу Злу, и будет тебе точка опоры, с коей ты, может быть, мир и не перевернешь, но уж точно не перевернешься вверх тормашками сам. На что тебе возвращаться в Гартенлянд? Там и без тебя всё складно. Жить в пустом доме, сохнуть до старости, тоскуя уже не только о премудрой Беттине, но еще и о прекрасной деве, которую ты сначала проглядел, а потом упустил?
С такими наставлениями самому себе наш герой шел вниз, к деревне, навстречу собачьему лаю. Коня приобнимал за морду, чтоб не заржал.
Дома он обошел задами, пробрался прямо к хижине, что вплотную примыкала к церкви. Приходской священник мог обитать только там.
Отец Пигасий несказанно обрадовался ночному гостю, долго не мог ничего говорить, а только крестился и всхлипывал. Обретя же дар речи, возблагодарил сначала Господа, потом ангела Рациония и лишь затем самого Луция.
Ужасно суетясь, поп не знал, куда усадить барина, всё извинялся, что нечем его попотчевать, ибо матушка давно померла и он, Пигасий, вдовствует один, в нарушение уставов, ибо священнику без супруги нельзя, но никто ехать на сей незавидный приход не желает, а и отец благочинный просил потерпеть.
– Якож тринадцатый год тако терплю, – жаловался Пигасий, – а уж как хочется в монастырь, на покой.
В конце концов Луций попросил его более не тараторить, а лучше сходить за умным лодочником Кононом. Было ясно, что от бестолкового попа проку не дождешься.
Пока священник отсутствовал, Катин стоял перед киотом со многими иконами, силясь понять, как эти тусклые, закопченные картинки могут вселять в глупого и слабого старика столько бесстрашия и силы? Одно дело читать в историческом трактате, как лукавый иерарх Филарет, оказавшись в польском плену, вдруг исполнился достоинства и крепости, и совсем другое – видеть собственными глазами обтерханного плешивца, который в одиночку ратоборствует со Злом.
Пигасий вернулся с немолодым сивобородым мужиком невеликого роста, но с длинными и, видно, цепкими руками. В отличие от попа, лодочник был немногословен. Поздоровавшись, сказал:
– Поворотись-ка к лампаде, твоя милость. Погляжу, что ты за человек. Совладаешь с Агапкой иль нет. Мне попусту лезть на рожон, себя губить жалко. Я не Пигасий, не ради Бога живу, а ради семьи.
Требование было резонное, обоснование понятное. Катин подчинился.
Довольно долго Конон сверлил его взглядом из-под сдвинутых бровей. Наконец вздохнул:
– Ладно, спытаю судьбу, помогай мне Господь.
– Поможет-поможет, – ободрил мужичину священник.
А выдержавший осмотр Луций теперь спросил сам:
– Что ж ты раньше «судьбу не спытал»?
– Один не сдюжил бы. А мужики, с кем толковал, все робели.
– Почему они робели, а ты нет? – не отставал Катин.
– Я лодочник, косарей на ту сторону вожу, а обратно – сено, – ответил Конон не сразу. – Река вольная, я один, гребешь – думаешь. А деревенские всегда кучей, да под приглядом. Наверно поэтому.
Очень оживленный ночным приключением, Луций азартно потер руки.
– Что ж, коли у нас военный совет, давайте составлять диспозицию.
Увидел по лицам, что сказал непонятно. Выразился проще:
– Надо прикинуть, как нам сих трех лиходеев одолеть. Однако предупреждаю, что оружия у меня нет, и я всяко не стал бы багрить руки кровью.
– Я обагрю, – спокойно сказал на это Конон. – Мне и оружия не надоть. Братья, трое, с вечера сильно гуляли. Ныне дрыхнут пьяные в избе. Войдем, я Агапке топором башку расшибу, а Еремку с Елизаркой повяжем. Они без Колченога враз квелые станут. Одному бы мне не справиться, а вдвоем запросто. Вот и вся спозиция.
– Нет, – строго молвил Луций. – Башку расшибать мы никому не будем. И ночью, как тати, нападать не станем. Закон и справедливость не побеждают через коварство. – Он повернулся к попу. – Есть ли у вас, отче, колокол? Как вы созываете прихожан на службу?
– Якож билом. И на пожар тож, только звоню не благостно, а истово.
– Вот и ладно. Ночи теперь коротки. Как только рассветет, бейте истово. Чтоб вся деревня, не продравши глаз, прибежала. Тут я, новый барин, им и явлюсь.
– Давайте я в Агапкиной избе дверь снаружи поленом подопру, – предложил лодочник. – А полезут через окно – сшибу одного за одним.
– Насилия не будет! – отрезал Луций. И священник его в сем некровопролитном намерении поддержал – выразил уверенность, что Бог поможет.
– Если братья на сход придут, сгинем ни за что! Никто не заступится! – попробовал спорить Конон, но остался в одиночестве.
– Вы как хотите, – буркнул он, сдаваясь, – а я за топором схожу. Он у меня ухватистый.
Остаток куцей июньской ночи провели так: Пигасий на коленях молился перед образами, вернувшийся с топором Конон мрачно точил лезвие, Катин предавался размышленьям.
Вот ныне каков мой Гофрат – пресвитер с первым министром, с улыбкой думал он. Может, собою неказисты, но, ей-ей, батюшка не хуже доктора Эбнера, а лодочник, несомненно, достойней графа Тиссена. Сии мужи ныне помогут мне восстановить законность, а после – преобразить Карогду в новый Гартенлянд.
Как раз и Волга замалиновела от зари, явив такую красу, какая не снилась никакому Ангальту с его худосочной Эльбой.
– Пора, – сказал Луций священнику. А лодочнику велел: – Наточил топор – и оставь. Он не понадобится.
* * *
Заполошный гул распугал с крыш воронье, и оно с криком заметалось по небу. В селе там и сям захлопали двери, зашумели тревожные голоса.
Наш герой стоял перед церковью, на маленькой площади, близ колодезя с журавлем, в величавой позе: руки скрещены на груди, одна нога выставлена вперед, чело насуплено содвинутыми бровями.
Люди бежали с обеих сторон – мужики в исподнем, бабы в одних рубахах, многие простоволосы. Под ногами у взрослых метались перепуганные детишки.
Вспотевший Пигасий всё лупил бруском по железной простыне, ни на чьи вопросы не отвечал, а лишь указывал на недвижного Луция. Крестьяне застывали, видя незнакомого строгого человека в господском платье. Те, кто прибежал в шапках, – сдергивали. Пространство перед церковью быстро заполнялось.
– Половина есть, даже боле, – шепнул за спиной Конон. – Давай, барин, зачинать, пока Колченог с братьями не притащились! Поздно будет!
– Хорошо, – слегка кивнул Луций. – Ну, как условились…
Лодочник вышел вперед и во всю глотку проорал:
– Не видите кто приехал? Кланяйтесь новому барину! Хватит, наозорничались! Теперя порядок будет! В землю, в землю кланяйтесь!
По толпе прокатилось колыхание – крестьяне один за другим падали на колени и склоняли головы.
– Мне этого не надо! – сердито прошипел Катин.
– С ими по-инакому нельзя, – так же тихо ответил Конон и снова закричал в полный голос: – Никшни! Барин говорить будет!
Деревенские с колен не встали, но разогнулись. На Луция смотрело множество испуганных лиц. Это было неприятно.
– Встаньте, добрые поселяне! – приветственно простер он руки. – Поднимитесь! Я не икона, я всего лишь ваш помещик. И чаю сожительствовать с вами в добром согласии. Подымайтесь, подымайтесь!
Не сразу, не быстро, но поднялись. Сзади подходили новые, уже не бегом, а шагом, потому что набат прекратился. Людское скопище уплотнилось, задних было не разглядеть.
– Взирайте на меня не как на своего угнетателя, но как на учителя, который желает своим ученикам добра и процветания, – продолжил Катин с чувством. – Это селение – наша школа! Мы будем учиться в ней разумному хозяйствованию, совместному житию на благо друг другу, взаимственной поддержке и уважению!
По глазам близкостоящих он видел, что благая речь крестьянам то ли невнятна, то ли не вызывает веры, и решил, что пора перейти от идейной части к практической – уж тут-то слушатели возрадуются.
И Луций заговорил о том, что барщины, принудительного и бесплатного труда на помещичьих полях, отныне не будет – лишь для тех, кто пожелает улучшить свой достаток, получив за работу часть урожая. Казалось бы, как тут не поразиться и не возликовать? Но карогдинцы внимали безучастно. Задние зашевелились, задвигались, передние заоборачивались. Что я говорю не так? – пришел в недоумение Катин.
А мельник сзади шепнул:
– Ну, держись, барин. Явились.
И Луций увидел, что толпа не просто шевелится, а расступается, открывая проход. В образовавшейся пустоте возник кривовато, но шустро шагающий человек. Одна нога у него была в алом сапоге, другая оканчивалась деревяшкой. Алый же, сильно мятый кафтан распахнут на груди, по поясу затянут шелковым кушаком, из-за которого торчит топор.
– Схожу-ка за топором и я, – шепнул лодочник.
– Не нужно, – остановил его Катин, приглядываясь к карогдинскому угнетателю. С каждым шагом того было всё виднее. Сзади топали еще два рослых парня, но на них Луций пока смотреть не стал – только на главаря.
Лицо, опухшее от вина, глаза налиты кровью, дикая борода торчит, будто щетина у африканского поркупина. Этакого чудища, пожалуй, всякий напугается.
Но не Луций Катин.
Он сам пошел навстречу троице, еще издали крикнул:
– Эй, ты и есть Агап? А это твои братья, Еремей с Елизаром? Я помещик сего поселения Луций Яковлевич Катин и наслышан, что вы много тут набесчинствовали. А ну-ка, подите сюда.
Площадь замерла. Не было слышно даже дыхания. Одноногий и его спутники остановились, воззрившись на барина.
Подле Луция встали с одной стороны лодочник, с другой священник.
Попик дрожаще крикнул:
– Не строптивствуй, Агап! Не супротивься! Якож только хуже сделаешь перед Богом и законом!
Колченог перевел взгляд с одного на другого, потом повел головой, будто что-то искал. Вдруг оскалил желтые, крепкие зубы.
– Ба-арин? – протянул он густым, хриплым басом. – А что ж ты, барин, без солдат, без слуг? Баре разве в одиночку ездеют? С тобой вон только Якож-дурак да Конон-иуда. Может, ты и не барин вовсе? Говоришь, к тебе пойти? Что ж, мы пойдем.
И двинулся вперед, неторопливый, уверенный. Толпа раздалась шире.
Видно, без насилия все-таки не обойдется, вздохнул Катин, но без особенного сокрушения, ибо вина будет не его, а противной стороны. Может, так оно даже и лучше: победа Добра над Злодейством выйдет быстрой, для всех наглядной.
Он тоже пошел навстречу братьям. Снял камзол, положил на край колодезного сруба, сверху аккуратно примостил шляпу, засучил рукава рубашки.
– Я вижу, к разумному слову ты глух, а понимаешь едино лишь язык силы, – говорил он, производя все эти приготовления. – Что ж, потолкуем на сем наречии. Давай сразимся один на один, и ты увидишь, что солдаты мне не надобны. Доставай свой топор. Я его и с голыми руками не устрашусь.
Наш герой подвигал плечами, покачался на носках, разминая члены. Ох, давненько не применял он отцовскую науку, но забыть не забыл. Драчливое дело нехитрое.
Рыцарскому вызову на поединок Агап не внял. Прорычал:
– Еремка, ты с энтой стороны. Елизарка, ты оттудова!
Братья стали заходить один справа, другой слева. Сам Колченог легко вытянул из-за пояса свое оружие.
Численное преимущество противника Луция не обеспокоило. Змею Горынычу и положено трехглавие. Кроме того, медвежья неповоротливость, которую он наблюдал в неприятелях, малополезна в прыгучей ученой драке.
– Не суйся, – сказал Катин мельнику, не оборачиваясь, потому что услышал за спиной частое дыхание. – Я сам.
Он уже прикинул, что левого, Еремку, который на вид побойчее, подсечет ударом ноги под колено. Можно даже и кость переломить, чтобы больше не поднялся, – всё ж не убийство. Правого, Елизарку, совсем увальня, довольно ошеломить кулаком в переносицу. Ну, а после можно спокойно заняться инвалидом.
Колченог, однако, нападать не торопился. Сузив похмельные глаза, он оглядел подобравшегося Катина, жестом остановил братьев. Повернулся к толпе.
– Эй, мужики! А ну вяжи его!
Когда никто не шелохнулся, замахнулся на ближних топором.
– Филька! Проха! Кривой! Тошка! Ну! Живо! Не то зарублю!
Толпа вдруг двинулась на Луция – вся разом. От неожиданности он попятился, уперся в колодец.
– Вы что? Я же за вас!
– Хватай его, не то убью! – орал невидимый за сомкнутыми плечами Агап. – Навались, собаки! И тех двоих тож! А вы чего сзади жметеся? На-ко вот, на!
Донеслись звуки ударов. Людская масса заколыхалась, убыстрилась. К Луцию со всех сторон потянулись руки – непонятно, от каких отбиваться. Негрубо, даже бережно, но неостановимо они взяли Катина за плечи, за локти, за бока, приподняли, понесли куда-то. Он и не сопротивлялся – что проку?
– Бо… Бога вы не боитесь! – тоненько вскрикивал где-то поблизости Пигасий.
– Вяжи их, у кого есть пояс! Пошевеливайся, мать вашу! – приказывал голос Колченога.
Скоро все три пленника, стянутые узами, лежали на земле. Над ними, посмеиваясь, стоял Агап.
– Я сам на Карогде барин, другого не надобно, – обратился он к поверженному Луцию. – Ты до нас и не доехал. Тебя, болезного, по дороге разбойники убили. Топором посекли.
Он примерился рубануть лежащего по голове. Катин закрыл глаза, чтобы не видеть в последний миг своей странной жизни сию мерзкую харю.
Раздался голос Конона:
– Опомнитесь, люди! Нету в округе никаких разбойников! Воевода не поверит! Пришлет команду – запорют всё село, без разбора!
– И то правда, – сказал на это Колченог. – Мы по-другому учиним.
Поскольку последний миг отсрочивался, Луций разомкнул веки.
Агап, оказывается, сунул топор обратно за кушак. Чесал затылок, зачем-то глядел на колодезь.
– Барина не разбойники порешили, – объявил злодей. – С ним вон чего вышло. Эй, все слушайте! Приехал он и пожелал заречные луга поглядеть. Сел в лодку к Конону, и поп с ними. Поплыли, да перевернулись на стремнине. И потопли все. Мы их после уже мертвяками вынули. Пущай воеводские проверяют: все трое как есть утопленники. А мы, вся деревня, будем заодно твердить: так точно, потонули. Покажете под присягой, все заодно? Не слышу! – прикрикнул он.
Толпа отозвалась:
– Как скажешь, Агап Ильич… Покажем…
– То-то. Ефремка, отвязывай ведро от журавля! Веревку оставь, она нам спонадобится. Макать их будем!
– И перед Богом не устрашитесь лжесвидетельствовать, на Священном Писании? Души свои погубите! – воззвал к пастве отец Пигасий.
Колченог подошел, пнул священника ногой.
– Сейчас поглядим, как Бог твою-то душу спасет. Приступайте с этого. Ванька, Минька, Косой и ты, Панкратка! Цепляй за ноги!
Старика привязали к журавельной веревке, подняли кверху ногами, потом начали спускать головой в яму. Ряса задралась, неподобно открылись тощие ноги в драных портках.
– Ай, ай! – вскрикивал несчастный. – Миня, я деток твоих крестил! Панкратушка! Господи, спаси-помилуй!
Потом, уже из колодца, гулко и глухо, донеслись слова отходной молитвы. Заплескалась, забулькала вода. Веревка бешено качалась, журавель скрипел. Но вот колыхания утихли, прекратился и скрип.
Колченог похаживал взад-вперед, посмеивался. Выкрикнул по имени еще четверых.
– Вынайте утопленника! На траву ложьте! Отвязывайте! – распоряжался он. – Теперь вы тож помазаны. Ступайте! А ну-ка, Лукомка, Пров-Большой, Гранька, Селифанка! Бери Конона!
Хочет замарать в убийстве как можно больше односельчан, понял Катин, готовясь к смерти. К водной стихии он всегда испытывал приязнь, а погибнуть в сражении со Злом – это неплохой конец, сказал себе наш герой, вспомнив, какими словами Вагнер когда-то сопроводил в последнюю дорогу интенданта Шолля. Жаль лишь, не доведется ближе познакомиться с Ювентой, но это, может быть, и к лучшему. На что омрачать юный век прекрасной Полины Афанасьевны своею бессчастною планидой?
– Теперь Конона-иуду! – кричал распорядитель казни. Барина, видно, он решил оставить на сладкое.
Когда лодочника подняли с земли, он попробовал лягнуть Агапа ногой в пах, но калека с неожиданным проворством отскочил, да только рассмеялся.
– Сейчас в колодце ногами подрыгаешь!
Конон, будучи поднят наверх, не молился и деревенских не увещевал, а до последнего мига обращался к Колченогу:
– На что надеешься, Агап? Деревню другому помещику отдадут! Всех-то бар не перетопишь!
– Ништо, – отвечал тот беспечно. – Пока новый приедет, еще годик-другой погуляю, а после уйду.
Уже из глубины колодца донеслось:
– Он погуляет да сбежит, а вы останетесь, ответ держать!
Никто не пошевелился. Так далеко вперед крестьяне, кажется, не засматривались.
Теперь мой черед, молвил себе Луций. С какими словами обратиться к человечеству напоследок?
И вот ведь странно. Всю жизнь любил он красные речи и гордился, что изрядно владеет риторическим искусством, а сейчас, пред самым занавесом бытия, говорить ничего не захотелось.
Нашего героя тащили по траве, цепляли за ноги, тянули кверху, а он снисходительно терпел все мучительства грубого мира, зная, что скоро они закончатся. Уже вися головою вниз и видя земную юдоль перевернутою кверху тормашками, наш герой не зароптал и не ужаснулся, а, наоборот, восхитился несказанному чуду: розовое рассветное небо с нежными облаками было у него под ногами, а над головою покачивалась зыбкая земля, давая возможность с собою попрощаться. Вспомнилось, как когда-то, у ночной Эльбы, он точно так же наблюдал переворот земли и неба, тоже готовясь к смерти. Днем-то умирать красивей.
– Выше тяните барина, выше! Чтоб всем было видно! – кричал кто-то, неважно кто.
Луций смотрел не на вцепившихся в веревку мужиков и не на темное жерло колодца, обозначавшее ход в иной, незнаемый мир. Сейчас, чрез минуту или даже раньше, незнаемое откроется и прояснится великая тайна – есть что-то за сей дверью либо нет. Пока же гибнущий Катин напоследок озирал вышние дали: широкую небесную Волгу, молодые поля, зеленую выпуклость недальнего холма.
На холме происходило некое движение, остановившее летучий взгляд созерцателя. Перебирая повернутыми вверх копытами, на возвышенности показался белый конь, а на нем всадник – нет, судя по развевающимся длинным золотым волосам, всадница. Следом вынеслись еще конные, зеленого цвета, с десяток.
Внизу, то есть с Луциевой позиции, наверху сразу несколько голосов завопили:
– Солдаты! Солдаты!
Веревку, на которой висел наш герой, никто больше не держал, и Луций ухнул с высоты вниз, в черноту и холод. Удар о воду милосердно оглушил его, и расставание с белым светом произошло безо всяких мучений.
* * *
Мучительней было возвращение. Кто-то пронзительно выл над самым ухом бедного утопленника, кто-то тряс его за плечи, не давал сползти обратно, в утешительный мрак.
– Не умирай! Не умирай! – требовал от Луция тонкий, надрывный голос, и ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
Катин закашлялся, заплевался водой, открыл глаза – и увидел прямо над собой искаженное лицо Полины Афанасьевны, с разинутым ртом и безумным взглядом.
– Он дышит! Он живой! – закричала дева, которую сейчас никто не счел бы прекрасной, пала еще не вполне очнувшемуся Луцию на грудь, прижалась к ней и заплакала.
– Кто меня вытащил? – спросил он, с трудом ворочая языком. – Когда?
– Мы и вытащили, барин, – сказал кто-то. – Ты уж не серчай, не наша была воля…
Переведя взгляд, Катин увидел рядом мужиков – тех самых, кто давеча подтягивал его кверху.
– А где Агап?
Ему показали вбок. Там на траве, привалившись спинами друг к дружке, сидели Агап, Ерема и Елизар, скрученные веревками. Младшие братья озирались по сторонам, старший поник головой. Тут же с обнаженной саблей караулил драгун.
– Пустите, расступитесь, холопы!
Мужиков растолкал воевода Корзинин. Опустился на корточки рядом с дочерью, перекрестился.
– Слава те, Господи, сударь, вы живы! Не хватало мне еще, чтоб депутата собственные крестьяне уходили! И так еле на воеводстве усидел, государыня Синбирском была недовольна…
Сообразив, что записка так и не дошла до бригадира, Катин сказал:
– Я уж не д-депутат…
Он никак не мог согреться, стучали зубы.
– Как не депутат? А кто?
Полина – она уже не плакала – толкнула отца в плечо.
– Уйдите, батюшка! После поговорите. Дайте я его укрою.
На плечи Луцию легла конская попона, и сразу стало теплее. Он поднялся на ноги.
Поодаль в луже воды лежали два мертвых тела, священник и лодочник. Народ на площади весь стоял на коленях – ожидал своей участи. На ногах были только солдаты, да те четверо, что вынули барина из колодца.
– Откуда вы взялись? – спросил Катин девицу. – Я видел, вы скакали первая.
Она смотрела на него все еще с тревогой, будто не могла поверить, что он спасен.
– Батюшка проводил государыню, вернулся домой заполночь. Я ему говорю: «Луций Яковлевич в свою деревню уехал». Батюшка за сердце схватился: «Один?! У него же там разбойники!» Я, себя не помня, на конюшню и в седло…
Да замолчала, вспомнив пережитое. Продолжил уже Корзинин:
– Что гнала-то! Мы с командой галопом мчали, а догнали Полиньку уже близ самой Карогды. Так отчего вы не депутат? Государыню прогневали? Выгнала?
– Нет. Я сам ушел. Потому что…
– Ах, что вы всё про пустяки! – оборвала мужчин Полина. Прежнюю тихоню было не узнать. – Оставьте его, батюшка. И подите, подите!
Замахала руками – воевода попятился.
– Я скакала, думала, если опоздала, то и мне не жить… С обрыва да в реку, – пожаловалась девица Катину. – А вы лежите, весь мокрый, не шевелитесь… Что же вы со мною делаете?
– Одно только скажите, – подал голос Корзинин, не осмеливаясь приблизиться. – Которые из крестьян умертвили этих двоих? И кто посмел поднять руку на барина? Я, конечно, для примера и острастки перепорю всю деревню, но самых виновных потребно определить в каторгу.
– Подождите, сударыня. – Луций мягко снял с себя девичью руку, но не удержался – поцеловал тонкий сгиб кисти. – Виновны только сии трое братьев. Прочих крестьян пороть не за что.
– Да как же не выпороть? – изумился Афанасий Петрович. – Оно всегда полезно. Особенно после такого соблазна и неподобия: барина, да у всех на виду, вверх ногами! Обязательно надо этакое воспоминание из мужицких голов розгой выскоблить.
– Я здешний помещик, мне и решать! – начал сердиться Катин. – Забирайте вон этих мерзавцев, а своих людей я на расправу не дам!
На помощь ему пришла Полина Афанасьевна. Упершись руками в бока, она закричала:
– Батюшка, уйдете вы иль нет?! Оставьте нас вдвоем!
Но воевода ушел еще не сразу. Сначала осторожно спросил:
– Из депутатов вы, стало быть, отставились, но государыню не прогневали?
– Нет, напротив.
– И с ее секретарем господином Козлицким дружества не порушили?
– Да нет же. А почему вы спрашиваете?
Бригадир лукаво улыбнулся.
– Нипочему. Вы беседуйте, беседуйте. Не стану мешать.
И теперь наконец действительно отошел.
– Нам надобно узнать друг друга лучше, – обратился тогда Луций к своей спасительнице.
– Вам, – коротко ответила она.
– Что?
– Вам надобно. Мне не надобно. Я вас, какой вы есть, и так люблю. Всего. Даже такого, какого еще не знаю, – строго сказала Полина Афанасьевна. – Вы только, пожалуйста, не уезжайте.
– Я не уеду. Я теперь и не могу уехать. Как я брошу этих людей? – кивнул Катин на площадь. – Мне нужно очень многое сделать, чтобы устроить их жизнь. Это долгая, трудная работа.
– Я буду вам помогать.
– Но вы не знаете, сколь это тяжкий и малоблагодарный труд!
Дева дернула плечиком:
– Мне все равно. Только будьте, пожалуйста, все время со мною. Вы можете на мне жениться?
Выпалила и испугалась. Быстро прибавила:
– Коли не можете – это ничего, я вам буду так принадлежать. Я молодая, я не уродина. Мужчины ведь от такого никогда не отказываются? Конечно, без свадьбы будет труднее, и батюшка опечалится, но это неважно…
Что я за мужчина такой, которому девицы должны сами делать брачное предложение? – мимолетом подивился Луций, но на сей мысли долго не задержался.
– Я почту за счастие иметь вас законной супругой! Но как честный человек должен предупредить, что намерен всего себя без остатка посвятить этому бедному селению, которое по воле судьбы доверено моей ответственности…
– Я тоже себя этому посвящу, – без колебаний молвила Полина.
– Вы меня не дослушали. Я намерен ни много ни мало превратить Карогду в земной рай…
– И правильно, – снова перебила она. – Мы ведь с вами будем жить в раю. Как же можно допустить, чтобы и вокруг нас не было рая?
Она, она, та самая! – подумалось Луцию. Что это мокрое и горячее стекает по лицу? Слезы! Они вернулись!
Он обхватил возлюбленную за плечи и заговорил жарко:
– Мы будем с вами жить единою душой! Мы будем вставать с рассветом, составлять перечень дел и после все их исполнять! Наградой нам будет не людская благодарность, а сознание, что день потрачен не зря! А вечером перед сном мы будем обсуждать содеянное и, пожелав друг другу спокойной ночи, расходиться по спальням! Ибо – клянусь вам! – я никогда, никогда не оскверню нашей высокой любви скотскою чувственностью!
На все его обещания Полина согласно кивала, лишь на последнее молвила: «Как захочешь, милый».
Часть четвертая Под знаком Весты и Фурины
Глава XVIII
Герой пишет письмо другу, отрадно проводит время с подругой, одолевает недруга и любуется синим куполом
Вечером, покончив с делами, Луций сел за письмо, которое неспешно и обстоятельно писал уже третий день. Занятие было приятное, свечи мирно покачивали огоньками на легком сквозняке, из окон тянуло ароматами зрелого лета, на полках в полумраке посверкивали золотом корешки любимых книг.
«…Дорогой друг, вы просите подробного рассказа о том, с чего я начал семь лет назад преобразование моей Лилипутии, по сравнению с которой Гартенлянд представляется преогромной державой вроде Китая, а Ваше Высочество – великим богдыханом.
Как предписывает Рационий, начал я, конечно же, с теории. Есть задача, которую надобно исполнить, сказал я себе. Условия ее следующие.
Мы имеем четыреста человек, не знающих иной жизни, кроме рабской, задавленных вечною нуждой, презрением, беззащитностью перед произволом. На протяжении многих поколений всякая вольнолюбивая натура, не желавшая мириться с сим ужасным состоянием, безжалостно истреблялась, так что выживали и плодились только покорные.
Искомое: сделать это овечье стадо сообществом преуспевающих тружеников, обладающих достоинством, каковое приличествует людскому званию.
Я рассудил, что никакого достоинства в человеке зародиться не может, пока он α) голоден; β) живет в собачьей конуре; γ) каждодневно подвергается унижению. Три эти препятствия и надобно устранить в первую очередь.
Проще всего было с унижением. Крепостное рабство отвратительно, но имеет одну полезную для моих целей особенность: у крестьян существует только одна власть – их помещик. Государство в сии отношения совершенно не мешается. Ему нужно от крепостного лишь одно – чтобы тот платил подушевую подать, да и ту выколачивает барин. В письме Вы спрашиваете, отчего я до сих пор не отпустил своих крепостных на свободу? По этой самой причине. Избавив их от себя, я отдал бы их в безраздельную власть казенных чиновников, то есть селяне поменяли бы близкого и расположенного к ним господина на чуждых и скорее всего небескорыстных начальников. Крестьяне сами неоднократно молили меня этого не делать.
Мне, полному владыке над жизнью моих «подданных», легко было избавить их от кнутов, тычков, брани и прочих оскорблений. Пользуясь своей властью неограниченного, но просвещенного абсолюта, я также строго-настрого запретил родителям пороть и бить детей. Крестьяне сего странного, с их точки зрения, новшества не поняли и не одобрили, но, привычные к покорности, подчинились. Я рассчитываю, что первая же поросль карогдинцев, сызмальства не знающая розог и затрещин, войдя в зрелость, будет наделена природным самоуважением.
Я пробовал даже называть крестьян на «вы», но они такого обращения пугались. Посему у меня в Карогде, как в Древнем Риме, все друг с другом на «ты». На «вы» я только с приходским священником.
Нетрудно мне было и справиться с голодом, который в этих плодородных краях возникает лишь из-за непомерной алчности рабовладельцев да неумелого хозяйствования. Амбары мои полнились зерном, собранным с помещичьих полей прошлой осенью. Я роздал сие пропитание семьям, смотря по их многодетности, и село дожило до нового урожая без обычной весенней голодовки.
Тяжелей всего было обеспечить крестьянам обиталища, в которых удобно и отрадно жить: с прочною крышей, хорошей печью, а не так называемым черным дымом, со стеклянными окнами, с деревянными полами (здесь повсеместны земляные, с неизбежными насекомыми), да чтобы скотина зимою обитала не в одном помещении с людьми, а в теплом хлеву. Требовались крепкие домы, которые хозяйкам захочется содержать в опрятности и, может быть даже, – немыслимое для русской деревни намерение – украшать цветами.
Но в селении было за полсотни преубогих, полуразваленных хижин. На замену каждой надобилось в средней калькуляции по сто талеров, ежели считать на гартенляндские деньги. Где было взять столь огромную сумму? А между тем человек, живущий в грязи и безобразии, никогда не обретет достоинства – это мне было ясно.
Стало быть, постановил я, в моем «государстве» должна образоваться экономика, которая позволит провести подобную Wohnungsreform[11]. Ибо всякая реформа, как мы с Вами знаем, начинается с финансового плана.
Что же мы с моею дорогою соратницей (которая просила передать обоим Вашим Высочествам сердечный поклон и пожелания здравствовать) предприняли?
Не отменяя трудового налога, по-русски называемого Barstchina, мы решили считать все его доходы не нашим личным прибытком, а «государственным бюджетом». Памятуя о том, что у нас с Вами на содержание администрации княжества отводилось десять процентов всех поступлений, мы тоже постановили удерживать на свои нужды десятую часть, а прочее расходовать на общественную пользу.
В первый год мы не строили новых домов. Мы потратили средства от осеннего урожая на то, чтобы увеличить будущие доходы. На зимних работах наши крестьяне срубили хорошую мельницу, ибо продавать на рынок готовую муку вдвое прибыльнее, чем зерно. Помимо этого, мы поставили в лесу смолокурню – в здешних сосняках можно вытапливать превосходный деготь. А еще я распорядился построить лодки и сплести сети, ведь рядом щедрая Волга, полноводностью превосходящая Рейн, не говоря уж об Эльбе. В сей реке множество рыбы, которую можно вялить и продавать.
Следствием хозяйственных преобразований стало то, что на второй год «бюджет» наш троекратно увеличился, и поздней осенью, по окончании полевых работ, мы смогли затеять строительство половины домов, начав с самых многодетных семей. На третий год новые жилища получили и все остальные поселяне. Скажу не без хвастовства, что ныне вид нашей Карогды с ее белеными хижинами, ровными крышами и зелеными садами весьма отраден. Конечно, нам далеко до Гартенлянда, однако же в России наше селение кажется райскою кущей, так что иногда на этакое чудо приезжают посмотреть издалека.
Как Вам наверняка известно, в моем отечестве уже который месяц свирепствует плебейское восстание, начавшееся в дальних казацких степях, а ныне переместившееся в приуральские леса, по счастию отделенные от нас труднопересекаемой Волгой. Мятежные толпы бьются в тамошних лесах с правительственными солдатами, побуждая крестьян возмутиться против своих господ. Повсюду горят помещичьи усадьбы, свершаются ужаснейшие зверства над дворянскими семействами. Сострадая сим несчастным и их жестокой участи, я в то же время понимаю, что помещики – сами виновники своих бед. Даже собака, если держать ее впроголодь и все время лупить палкой, рано или поздно может взбеситься и покусать хозяина, а человеки – не собаки.
Я, кажется, не писал Вам о том, какую враждебность карогдинским реформам явили здешние дворяне, как они слали на меня кляузы во все начальственные инстанцы. Сии происки могли бы скверно для меня окончиться, если б не попечительство тестя-крайсляйтера в Синбирске да хорошего заступника в Петербурге.
Многажды пробовал я усовестить и вразумить соседей, доказывая, что в их же интересе милосердствовать и просвещать крестьян, ибо темнота порождает дикость, а унижение – жестокость. Грамотный, сытый, необиженный крестьянин не станет перепиливать управляющего пилою, его жене отрезать груди, а детей насаживать на вилы, как, по слухам, недавно случилось в заволжском имении графа Шереметева. Вообразить подобное зверство в нашей мирной Карогде невозможно!
Это потому что, изжив за первые два года нищету и грязь, мы с моей Полиной озаботились следующим ярусом эволюции: просвещением.
От прежнего владельца нам достался обширный господский дом, в котором мы заняли только флигель, совершенно достаточный для наших нужд. Главное же помещение мы отвели для общественных собраний и школы, где моя жена учит детей грамоте и рисованию, которое, по ее убеждению, необходимо для воспитания чувствительности к красоте. Я преподаю арифметику, исторические и географические сведения, начатки астрономии и анатомии – одним словом, всё потребное для того, чтобы человек понимал себя, устройство мира, а также свое место во времени и пространстве.
Помимо того, за неимением в округе лекарей мне пришлось обзавестись врачебным инструментарием и аптекою, припомнив свое невеликое медицинское образование. Так что я совмещаю в своей персоне эконома, агронома, педагога и эскулапа. Одним словом, скучать мне некогда, а это, как известно Вашему Высочеству, одно из непременных условий счастья.
Впрочем, Вам отлично ведомо и то, что другой, еще важнейшей кондицией счастья является любовь. Благосклонная судьба щедро одарила меня сей высшей милостью. В почтенном возрасте, на пятом десятилетии земного существования, я люблю мою Полину с неугасающей пылкостью и почитаю себя блаженнейшим из смертных. Добросердечная Веста, богиня семьи и домашнего очага – вот кумир, которому я ныне поклоняюсь превыше всех иных божеств. Вашему ли Высочеству, уже столько лет вкушающему дары Весты, не знать сладостей сего служения?
Я не устаю восхищаться своею Полиной, равно как и удивляться ей. Воистину женская душа полна загадок, непостижимых для нашего прямолинейного, примитивного пола! Расскажу Вам по нашей старинной доверительной дружбе об одном недавнем открытии, совершенно меня сразившем.
Могу теперь признаться, что я люто завидовал Вашему Высочеству в одном: что дорогая Ангелика подарила Вам толикое количество детей, а я бесплоден. Я уж и смирился, почитая сие карой за прежние преглупые верования в «белый» брак. Ах, говорил я себе, почему же судьба простила сей вздор ему (имея в виду Ваше Высочество) и не хочет простить меня? Но несколько недель назад Полина объявила мне, что готовится сделать меня отцом. Как легко догадаться, моему восторгу не было предела. Я даже принялся разглагольствовать о великом чуде. Но супруга снисходительно рассмеялась и открыла истину, повергшую меня в оторопение. Оказывается, все эти годы она избегала тягости всевозможными ухищрениями, о каких я не имел понятия! Это можно было бы счесть коварством, но мог ли я осердиться, когда узнал, что счастие материнства Полина откладывала ради моего же блага. Я был слишком увлечен строительством земного рая, и она не хотела отвлекать меня семейственными заботами. Теперь же, когда наша жизнь наладилась, порешила, что пора. Точно так же когда-то водила вокруг пальца моего отца матушка. Видно, такая уж у мужчин нашего рода судьба.
Но какова Полина? Этой великой женщине удается всё, что она замышляет!
Друг мой, потерпите еще немного восхвалений в адрес моей дорогой супруги, доставьте мне это удовольствие. Я извиняю себя лишь тем, что я беру здесь пример с Вашего Высочества.
Право, я не знаю дворянки, которая согласилась бы жить столь скромно, как моя Полина. Простота нашей жизни совершенно руссоистская. До недавней поры мы обихаживали себя сами, не имея постоянной прислуги. Лишь ныне, начав тяжелеть, Полина завела служанку, которая ведет наше невеликое хозяйство и, конечно, получает за свой труд жалованье.
А теперь, ответив на все вопросы вашего письма, я желал бы, по заведенному у нас обыкновению, перейти к философической части.
Меня в последнее время всё более и более занимает тайна нашего посмертного существования. Мы с Вами оба не верим в сказки, которые сочинены религией для невежественной толпы, нуждающейся в страхе Божьем. Однако ж мой разум протестует и против атеизма, почитающего концом всего смерть тела. Я угадываю, я чувствую, что есть нечто иное, высокое – где-то там, в глубинах космоса, недаром будоражащего наши души ночным мерцанием своих звезд. У меня нет рациональных аргументов, нет научных подтверждений, но есть гипотеза, над которой я часто размышляю в одиночестве, ибо моя супруга разговоров о конце земной жизни совершенно не выносит и сурово меня за них бранит (а она бывает грозной, когда прогневается)…».
Здесь пишущий был вынужден оторваться от своего приятного занятия, потому что в кабинет стремительно вошла лучшая половина Катинской семьи.
– Брось ты к лешему твои писания! – молвила Полина Афанасьевна хрипловатым голосом, который огрубел от трудов на ветрах и непогодах, навсегда утратив девичью мелодичность. Луцию, впрочем, это нравилось – как и все прочие перемены, произошедшие с женой. Молоденькая, чувствительная девушка, некогда сделавшая ему предложение, за минувшие годы сильно преобразилась. Она перестала быть хрупкой и тоненькой, таящей в себе робкую тайну, склонной к обморокам, и превратилась в сильную, красивую, уверенную женщину. Часто говорят, что человек, лицезрея всякий день одну и ту же красу, постепенно к ней привыкает, но с Луцием этого не произошло. Каждое утро в постели он смотрел на сонное лицо Полины и преисполнялся радостным трепетом.
Но сейчас жена не дала времени ею полюбоваться.
– Разве ты не слыхал конского топота? – сердито спросила она. – Сидишь тут, как глухарь!
В самом деле, увлеченный писанием, Катин ничего не слышал.
– Это драгун, из города! Мятежники переправились через Волгу, разорили Саратов и ныне идут на Синбирск! Батюшка пишет, что отправляется со всем гарнизоном против воров, а нас заклинает скорей ехать в город, потому что Пугачев разослал во все концы свой манифест. Повсюду, куда достигают его гонцы, начинается бунт. Крестьяне режут дворян, жгут усадьбы!
Луций нахмурился.
– Первое: не глупо ль нам ехать в Синбирск, если туда движется войско бунтовщиков? А в Карогду Пугачев не придет, на что она ему. Второе: пускай своих крестьян страшатся другие помещики, а нам чего бояться? Наконец третье: не опаснее ли ехать всего с одним солдатом через чужие деревни, в которых неизвестно что творится?
Жена выслушала его и заколебалась.
– Ах, не знаю, что лучше! Иль, верней, что хуже… И ехать страшно, и оставаться боязно. Опять же тряска мне ни к чему…
Она взялась руками за уже заметный живот.
А Катину кстати припомнилась древняя мудрость, которую он тут же и привел:
– Когда не знаешь, бежать иль нет, – не беги, ибо обидно сгинуть, самому впопыхах прибежав к роковому месту. Думаю, нам лучше остаться дома. А коли так, нечего зря изводить себя тревогами. Если в село явятся чужие – крестьяне предупредят, в обиду не дадут.
Рассудительный тон мужа всегда действовал на Полину Афанасьевну утешительно. Она успокоилась, драгуна отпустили обратно и потом, как обычно, вышли к обрыву прогуляться под луной.
Дом стоял красиво, на высоком берегу. Фасадом он выходил в парк, тылом – на лужайку, будто парившую над Волгой. По краям Полина высадила густой красноягодный шиповник, и першпектива получилась, будто в camera obscura: стоишь на траве и видишь перед собою прозрачное пространство, днем заключенное меж зелеными стенками, вечером – переливающееся серебром.
Завтрашний день приходился на воскресенье, когда супруги позволяли себе отдохновение и досуг. Луций по своему обыкновению заглянул в календарь и узнал, что в античные времена сей день принадлежал богине Фурине, покровительнице мстителей и разбойников. Ежели верить в дурные приметы и прочую чепуху, выходило, что завтра – плохая дата. Поэтому, чтоб без пользы не тревожить Полину Афанасьевну, сие сведение Катин от нее утаил.
Договорились провести день отдохновения в лесу, средь кущей и дубрав – оба супруга нежно любили скромную русскую природу.
* * *
Так и поступили – решили не тревожиться, а делать вид, будто это обыкновенное воскресенье. Ни о мятежниках, ни о сражении, которое, быть может, в это самое время давал воевода, не говорили. Полина Афанасьевна действительно преобразовалась из трепетной девицы в женщину исключительной выдержанности.
Воскресный день выдался погожим, сияющим, но не жарким. В свободной тунике и легких сапожках, с ружьецом на плече, Полина казалась Луцию похожей на богиню Диану. Впереди носилась веселая собака Церберка, гоняя зайцев. Их на опушке водилась прорва, но госпожа Катина удовольствовалась одним, которого свалила первым же выстрелом. С детства приученная к охоте, жена стреляла метче мужа, да тот и отказывался убивать живые существа. По сему поводу он часто бывал браним супругой за ханжество. Сапоги-де кожаные носишь, от мяса тоже не отказываешься, а откуда оно всё возьмется, коли заповедь «не убий» распространить и на животных?
За то же, хоть и беззлобно, Полина Афанасьевна распекала его и нынче. Атака была вызвана неосторожным замечанием Луция, заметившего, что стыдно прерывать жизнь пушистого, безобидного зверька единственно для разнообразия своего стола. В ответ защитник живности наслушался и про непониманье законов природы, и про вред от зайцев для огородной капусты, и про то, что ни в чем он, Луций, не ведает разумной меры, не знает, где остановиться.
Жена была, пожалуй, говорливей обычного. Только это и выдавало ее внутреннее состояние – конечно же, она беспокоилась об отце.
Пообедали на лужайке, там же, на траве, под ласковым солнцем, славно полюбились и потом купались в ручье нагие, будто фавн с немного беременной нимфой. Великий Жан-Жак был бы очарован сей буколической картиной.
Домой они вернулись на закате. Размягченный славно проведенным днем и прелестью вечерней зари Луций думал: повсюду хаос и ужасы, горят дома, льется кровь, а мы тут живем как на блаженном острове. Впереди было еще покойное чаепитие, и не дописана самая интересная часть письма, и ждет своего часа доставленный из столицы новиковский журнал.
Однако ни одной из сих отрад нашему герою вкусить было не суждено.
Откуда-то издали, кажется из парка, донеслись крики: «Барин! Барыня!»
Катин бросился к окну.
По аллее, задрав юбку, бежала служанка Груня, у которой нынче тоже был выходной. Увидев Катина, замахала рукой, но кричать уже не могла, задыхалась.
Он перемахнул через подоконник.
– Что такое? Что случилось?
Девочка (ей было четырнадцать лет) держалась за сердце, хватала ртом воздух. Должно быть, бежала от самой деревни.
– В чем дело? – высунулась из окна и хозяйка, уже в ночном чепце.
– Бе…да. Катастрофия, – наконец справилась с дыханием Груня. Она была умненькая, книгочея, обожательница всяких трудных слов. – В селе конные, трое. Мы-де государя Петра Федоровича люди. Один страшный – ужасть… Есаулом звать… Наших мужиков многих знает, по имени кличет…
– Что еще они говорят, эти люди? – спросил Катин. Сердце у него застучало, заторопилось.
– Что они утром побили синбирское войско. Солдаты не стали палить в законного государя, покололи своих офицеров, а воеводу связали, на осине повесили…
Сзади громко вскрикнула Полина.
– Бежать вам надо! – Девочка оглянулась назад, в темноту. – Есаул этот подбивает всех сюда. Суд чинить, добро делить. Я, как услыхала, сразу к вам. Уходите!
– Пускай подбивает. Наши не пойдут, – твердо сказал Луций. – А с тремя я как-нибудь управлюсь. Спасибо, что предупредила.
– Груня! – позвала от окна всхлипывающая Полина. – Давно они появились, эти трое?
– Скоро после обеда. Сначала по избам ходили, всех на площадь звали. Многие не хотели, так они за шиворот. Потом есаул этот у отца Викентия из погреба бочонок церковного вина выкатил, стал всех угощать…
– Что отец Викентий? Цел ли? – встревожился Катин.
– Не видала его…
– Ничего с ним не будет, спрятался где-нибудь. Он не дурак, – быстро сказала жена. Она больше не плакала. – Не о том ты заботишься! Злодеи деревню уже полдня мутят, а никто нас не предварил, только Груня. Уходить надо, и скорей!
От дороги, что вела из села к усадьбе, донесся неясный гул.
Уже идут, понял Луций. Флогистон обжег его изнутри своим судорожным пламенем, но верх, как всегда в опасную минуту, взял Рационий.
– Благодарю тебя, Груня. Ты сама уходи. Чтоб не увидели. Парком, – отрывисто сказал Катин девочке. А жене крикнул: – Одевайся. Я заседлаю Букефала и Цирцею. Коляску не успею.
И побежал к конюшне. Она встретила его теплом, конским запахом, фырканьем из темноты. Накинув седла – наскоро, без потников – и кое-как затянув подпруги, надев уздечки, Луций потянул лошадей к выходу. Они не упирались, но шли неохотно, всхрапнули на яркий свет луны.
Перед домом ждала Полина. В руке она держала какой-то узел.
В дальнем конце прямой аллеи зашумели голоса.
– К воротам уже нельзя… – Луций быстро соображал. – Возьмем влево, через парк, к боковой калитке! Садись в седло.
Она не послушалась.
– Поздно. Услышат, пустятся в погоню. Поле лунное, увидят. И боюсь я скачки. Не выкинуть бы…
– Ты права. Что же делать?
– Стегни лошадей, сильней! – сказала жена. – Пусть заржут и поскачут через заросли. Те подумают, это мы. Пустятся вслед. Выиграем время.
– А мы куда?
– Вниз, к реке. Уйдем на лодке.
С обрыва вниз, к причалу, вела лестница, а там, в самом деле, привязана лодочка для речных прогулок.
– Умница, – восхитился Катин. – Беги. Я за тобой. Только захвачу одеяло. На реке будет холодно. Тебе простудиться еще хуже, чем растрястись.
– Одеяло здесь. – Она показала узел. – Еще каравай хлеба и фляга рома, согреться. Лупи!
С размаху он хлестнул сначала Букефала, потом Цирцею. Оскорбленные такой несправедливостью, благородные животные громко выразили протест ржанием. Он стегнул сызнова – тогда вскинулись, рванулись в тьму.
– Уходим!
Они бросились на крыльцо в дом, чтобы пробежать его насквозь, к задней двери.
А на подъездной площадке уже стучали копыта.
– Леском скачут! – крикнул визгливый голос.
Другой, басистый, ответил:
– То пустые кони, дура! По стуку не слышишь? Здесь они. – И громче, во всю глотку. – Эй, Карогда, шевелись! Весело́ будет!
Уловка не сработала…
За домом Луций увидел, что до обрыва им не успеть. Широкая лужайка была вся залита луной. Увидят из окна, побегут следом. Или просто застрелят.
– Туда!
Он показал на поленницу дров.
Еле успели за нее спрятаться, как дом наполнился шумом. Там грохотали тяжелые шаги, что-то рушилось и трещало, за стеклами мелькали тени.
– Нету! И здесь нету! – орали голоса. – Убегли!
– А и бес с ними, – отозвался все тот же бас. – Волоки всё добро на лужайку, делить! Там, вишь, дрова. Запалим огонь, светло будет!
– В кусты! – шепнул Катин. – Быстрей! Держись тени!
Пригнувшись, они перебрались в шиповники. Луций придерживал ветки, чтобы жену не ободрали колючки, о себе не думал, и скоро всё лицо саднило от царапин. Пустяки!
– Сейчас они разожгут костер, и ничего вокруг не будут видеть, – тихо сказал он. – А мы еще дождемся тучи.
Хватило бы двух-трех минут темноты, чтобы вылезти из укрытия и потихоньку, краем лужайки, перебраться к лестнице. Бог даст, не заметят.
Дом и поляна озарились багровым, прыгающим светом. Дрова занялись быстро. Пламя побежало по сухому дереву, застреляло, взметнулось. Вокруг стало светло, как днем.
Луций нахмурился. Этак и без луны не уйдешь…
Теперь было хорошо видно людей, они суетились, размахивали руками, волокли из дома всё, что в нем было, без разбора: мебель, посуду, одежду, книги, даже клавикорды.
Но Катин смотрел не на скарб. Каждое лицо, которое он узнавал, было как удар кнутом.
– Леонтий Крюков! Я же ему зубы лечил! Марфа Кольшина! Ты ее грамоте научила… Ваня? Не может быть! Мой лучший ученик!
Скорбный список всё разрастался, и Полина в конце концов пихнула мужа локтем:
– Перестань! Семи лет мало, чтобы переделать людей.
Но верящий в человечество Луций и тут, повздыхав, нашел причину для бодрости.
– Пришло меньше ста человек, – сообщил он. – Большинство грабить не захотели!
– Чтоб нас прикончить, хватит и этих, – отвечала жена, не сводя взгляда с лужайки. – Выберемся живы – посмотрю потом в глаза каждому.
А Катин поразмыслил немного и тихо объявил:
– Я понял, в чем разгадка. Хоть мы с тобою живем скромно, а все же несравненно богаче крестьян. Корень всех зол – неравенство. Пока оно сохраняется, миром будет управлять зависть. Надо было нам построить себе обыкновенную избу.
– Ага, – зло прошептала Полина Афанасьевна. – А тем, кто умнее, надо вышибить мозги. Кто больше работает – переломать руки. Кто выше – укоротить. Кто красивее – изуродовать лицо. Вот тогда все будут равны…
Луций схватил ее за руку:
– Тише!
Кажется, грабеж закончился. Из дома больше ничего не выносили. В ярко освещенный круг, прихрамывая, вышел человек в казацком кафтане, с саблей на боку.
– А ну ша! – зыкнул он басом. – Шапки прочь! Буду указ государев честь!
Сам тоже сдернул папаху. Голова у есаула было странная и страшная, похожая на череп: поверху обритая на татарский манер, посередине лица черный треугольник. Луций не сразу догадался, что это матерчатый лоскут, привязанный на месте носа.
Не по лицу, а по торчащей снизу деревяшке, по движениям, да теперь еще и по хорошо слышному голосу Катин узнал, кто это.
– Агап Колченог! Откуда? Его ведь сослали в уральскую каторгу…
– И ноздри вырвали, – шепнула Полина. – Вишь, какой красавец.
За спиной у есаула встали двое казаков, тоже с обнаженными головами. Закричали:
– Слушай, слушай государево слово!
Стало тихо.
– Ты, Жоха, грамотей, ты чти, – велел Агап.
Бережно достав из-за пазухи свиток, один из его подручных развернул бумагу.
– «Сим объявляется во всенародное известие! Жалуем мы с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в подданстве у помещиков, быть верноподданными собственной нашей короне! И награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и вечным казачеством, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих податей! Владением землями, лесными и сенокосными угодьями! И рыбными ловлями! Освобождаем от всех чинимых злодеями-дворянами народом отягощениев! Повелеваем сим нашим именным указом: кои прежде были дворяне в своих поместьях, оных разорителей ловить, казнить и вешать, и поступать с ними так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян всякой сможет возчувствовать тишину и спокойную жизнь, которая до века продолжаться будет!» Подписано: «Петр Третий, император и самодержец всероссийский».
– Положим, ничего такого с крестьянами мы не чинили, но манифест составлен сильно, – поделился Катин с женой впечатлением от услышанного.
– Скоты, – кратко ответила Полина. – Ты гляди, что они делают!
Как только чтение бумаги закончилось, Агап махнул рукой, и крестьяне кинулись на добычу.
Началась свалка, почти сразу перешедшая в драку. Бабы не могли поделить, рвали на куски Полинины платья, мужики колошматили друг друга за охотничьи ружья, сапоги, стулья. Кто-то вопил, кто-то захлебывался руганью. Замахивались и опускались кулаки, на траве шевелилась и рычала куча-мала.
Агап покатывался от хохота, покрикивал:
– Круши, голытьба! Костей не жалей! А ну, кто ловчее!
Он был одет богато. На кафтане золотой позумент, сабля в серебряных ножнах, за шелковым кушаком два хороших пистолета.
Наконец от имущества остались только книги да древко гартенляндского флага, висевшего в кабинете хозяина. Полотнище содрали – видно, бабам на платки, девкам на ленты. Еще никому не воспонадобились глобус и портрет Дидерота, разодранный и без рамы. Но шуму меньше не стало. Крестьяне бились между собой, и пожива переходила из рук в руки.
Агапу потеха прискучила.
– А ну, хлопцы, шугай их, пока не переубивались!
Казаки с гиканьем, с бранью, с нагаечным свистом кинулись на крестьян. Те бросились врассыпную, уволакивая кому что досталось. Один – плотник Миха, которому Луций когда-то привез из города набор хороших инструментов, – остался с пустыми руками. Он подобрал земной шар, повертел в руках, плюнул, швырнул оземь, а после изрубил топором.
– Зачем?! – дернулся Катин.
Но Михе этого показалось мало. Он стал хватать книги и одну за одной, с ожесточением, кидать в огонь.
– Я совсем не понимаю людей… – убито пробормотал Луций.
– Чего тут понимать? – Жена скривила губы. – Когда человек решает быть скотиной, ему трудно остановиться. Бог с ними, с книгами. Скорей бы оно окончилось.
А дело шло к концу.
Колченог вытянул из пламени корягу.
– Я щас запалю костер побольше энтого!
Швырнул горящую деревяшку под стену дома. За нею вторую, третью.
– На кой дом-то жечь? – заволновались мужики.
– Чтоб духу дворянского не осталось!
Есаула стали уговаривать:
– Брось, Агап. Дом справный. Там школа, там обчество собирается.
– Обчество? Школа?
Колченог обернулся. Его рожа пошла судорогами.
– Ребята, гони отседова сиволапых! Чтоб до села с визгом бежали!
Казаки снова схватились за плетки, но теперь били не по воздуху, а по головам и спинам.
Толпа ринулась наутек. Преследователи не отставали – гнали ее, хлестали, пинали, улюлюкали.
Скоро перед домом остался только Агап. Он снял пояс с пистолетами, положил на землю. Скинул кафтан, засучил рукава, и один стал таскать под стену дома хворост.
Демон разрушения, вот это кто, подумалось Катину. А может, жрец злобной богини Фурины, устроивший в ее честь празднество-фуринайю.
– Сжечь наше жилище я ему не позволю!
Луций раздвинул ветки. Жена сзади схватила его за рукав, но удержать не смогла.
– Эй, любезный! – крикнул Катин. – В тот раз ты один на один сразиться не захотел, а ныне придется. Своих помощников не зови – не услышат.
С другой стороны дома несся такой ор и визг, что даже Агапу с его басом было не переорать.
Но злодей и не пытался. Увидев невесть откуда взявшегося барина, он засмеялся, оскалив наполовину беззубый рот, отчего стал еще больше похож на мертвую голову.
Не тратя слов, есаул вытянул из ножен саблю. Переваливаясь, быстро пошел на Луция. Тот подобрал древко от флага, выставил копейным наконечником вперед.
Легко увернулся от одного, другого, третьего удара.
– Видно, Агап, что ты служил не в кавалерии. Рубака из тебя неважный.
Присев, он ударил палкой по единственной ноге противника. Тот повалился на траву, а Луций припер упавшего острым концом к земле, придавил сапогом руку с саблей.
Колченог хрипел, пучил глаза – не ждал такого финала.
– Проткни эту гадину и идем, – потребовала за спиной Полина. – Скорее, пока те не вернулись!
Луций полуобернулся.
– Я на тебя удивляюсь. Неужто, проживя со мною столько лет, ты полагаешь, что я способен проткнуть живого человека?
– Ну так пристрели.
Она держала в руках подобранные с земли пистолеты, один совала ему.
– Кончай его. Быстрее, пока шумно. И догоняй.
Сунула второй пистолет за поясок, пошла к обрыву.
Катин отбросил древко, и есаул сел, уперся лбом в дуло.
– Стреляй, барин, твоя взяла. Не жалко. Я на свете знатно погулял.
Да что ж вы все, будто сговорившись, склоняете меня к невозможному, возмущенно помыслил Луций, отступая.
– Не управился еще? – обернулась Полина. – Стреляй же! Я на лестницу, боюсь быстро, не оступиться бы.
Катин колебался, не зная, что делать. И Рационий молчал, не помогал.
Убить человека, конечно, невозможно, но ведь и оставить Агапа тоже нельзя. Кликнет остальных, и расстреляют сверху, с обрыва.
– Э, да ты робкой… – улыбнулось безносое лицо. – Не стрелишь…
Агап поднялся на ноги, схватил пистолет за дуло, вырвал из вялой катинской руки, а сам отпрыгнул назад.
Лязгнул взведенный курок. Колченог презрительно рассмеялся, сплюнул.
– Тьфу! Я думал, ты лев зубастый, а ты кот. Царапаешь, да не грызешь! Сейчас тебя кончу. Потом твою кошку. Не уйдет.
Сзади раздался отчаянный крик:
– Луций!!!
Полина была еще здесь! Он хотел к ней обернуться, но в этот миг с неба, совершенно чистого, откуда ни возьмись низринулась молния. Она оглушила нашего героя громом, пронзила огнем, а после с силой швырнула о землю.
Прямо над собою умирающий – нет, уже умерший – узрел синий купол с яркими звездами. Они поманили, потянули Луция к себе. Мягкая, неостановимая сила подхватила его с травы, подбросила, перевернула, вознесла. Уже оттуда, из космического эфира, увидел он беззвучную, медлительную картину: как женщина выбрасывает из руки струю дыма, а потом, повернувшись, полубежит-полупарит к краю обрыва, под которым мерцает серебряная парча широкой реки.
Но эта притча не заинтересовала летящего, она уже не имела к нему отношения. Ему хотелось смотреть не вниз, в докучное прошлое, а вверх, в незнаемое грядущее.
Примечания
1
Что вы о сем думаете, г-н профессор? (фр.)
(обратно)2
Король прусский ступил на опасный путь (фр.).
(обратно)3
Война против всех? (лат.)
(обратно)4
Папенька, папенька, сюда! (нем.)
(обратно)5
Избави боже (нем.).
(обратно)6
Я умываю руки! (лат.)
(обратно)7
«Виды растений» (лат.).
(обратно)8
Разделяй и властвуй (лат.).
(обратно)9
«Наказ о сочинении проекта нового уложения законов».
(обратно)10
Избирательный округ (нем.).
(обратно)11
Жилищная реформа (нем.).
(обратно)


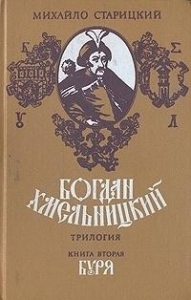
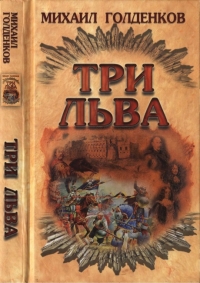
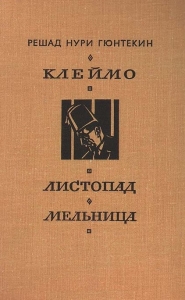


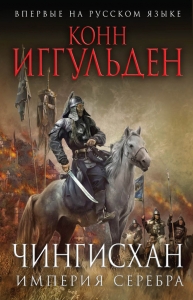

Комментарии к книге «Доброключения и рассуждения Луция Катина (без иллюстраций)», Борис Акунин
Всего 0 комментариев