Рыбас Святослав ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ
Глава первая
После праздничной службы гости и офицеры рассаживались перед белым полотном и оглядывались то на Самсонова, то на синематографический аппарат. Должны были показывать хронику недавней Балканской войны, где, как многим известно, на стороне Болгарии участвовали русские добровольцы. А мало кто помнил, что и Самсонов восемнадцатилетним корнетом воевал в Болгарии с турками вместе с таким богатырями, как Скобелев. И вот Самсонов, грозный могучий медведь, в белом летнем мундире, туркестанский генерал-губернатор глядит, как задергивают шторы и в солнечной комнате гаснут отблески на стеклах портретов. Он ощущает таинственную печаль. В гаснущем свете чудятся закрываемые от полдневной жары ставни, малороссийское лето, Родина.
Командующий Туркестанским округом, генерал-губернатор, не любит Азии. Он здесь чужой. Пора Туркестанских походов миновалась полвека назад, и сейчас надо мирно закреплять то, что было присоединено к империи.
Застрекотал аппарат. На простыне шли солдаты с простодушными солдатскими лицами, возле пушек размахивал шашкой офицер с решительным офицерским лицом, потом появился генерал Радко Дмитриев, недоступно-задумчивый, как и все генералы, которые тоже ведь жалеют солдат, хоть и не могут подать виду.
Лента закончилась, аппарат еще потрещал вхолостую и замолк.
Самсонов оглянулся, ища полковника Крымова. Но вспомнил: полковник откомандирован на границу. Взгляд скользнул по бородатым лицам старых маньчжурцев генерал — лейтенанта Леша и генерал — лейтенанта Флуга. Они не заменяли Крымова. Подумал, что у Леши сына в августе должны были выпустить из Павловского училища. А на Флуга возложена задача по устройству в округе потешных организаций…… Хотелось сказать, что навеялось в этот миг. Еще за год до начала нынешнего века в политической инструкции для начальника Керкинского гарнизона была выражена эта мысль: «не подвергать обаяния русского имени ненужному риску». Но ни Леша, ни Флуг по нравственному складу не были склонны к таким невоенным истинам, а может, и склонны — да не слишком близки душе Самсонова.
— Сейчас, сейчас, одну минутку, ваше Высокопревосходительство, произнес синематографист.
— Я там в турецкую кампанию, черт возьми, — сказал генерал губернатор, качнув рукой в сторону полотна. — Лихое было время! — Он хотел сказать об атаке гусар под Кадикиой, где под ним убили коня, но в ту минуту в зал вошла женщина в светло-розовом платье, Екатерина Александровна Самсонова, его жена.
Офицеры и гости встали. Сидевший рядом с генерал — губернатором адъютант Головко встал, уступая ей место.
Все со сдержанным обаянием смотрели на нее, а Головко — просто влюблено. Она была сухощавая, породистая — и не генеральша, а помещица из старопольского замка.
— Я немножко посмотрю, — призналась Екатерина Александровна с едва заметным южнорусским выговором. — Что у вас? — села, спина прямая, голова высоко поднята.
Самсонов наклонился к ней, коснувшись бородой ее щеки, и сказал:
— Про Балканскую войну…. Я по тем долинам скакал.
— Да, — кивнула она и посмотрела на Головко, отошедшего к окну.
Пустили новую фильму — о приезде начальника французского генерального штаба Жоффра в Петербург. Тучного француза принимал начальник Российского генштаба Жилинский, однокашник Самсонова по Николаевскому кавалерийскому училищу, высокий, каменно-подобный, никогда не улыбающийся.
Жоффр быстро шагал, чуть кривясь на левый бок и придерживая рукой генеральский галаш.
Фильма — старая, сейчас Жилинский уже не начальник Генштаба, а сидит в Варшаве командующим Варшавским военным округом. А туда должен был ехать Самсонов, но, как всегда, Жилинский оказался сильнее, оттеснил Самсонова.
— И тут этот «живой труп»! — вполголоса сказала Екатерина Александровна.
Такое прозвище у Жилинского, известное всей армии.
— Яков Григорьевич шел на год старше меня, — громко и добродушно вымолвил Самсонов. — Выдающийся был воспитанник. За успехи имя его занесено золотом на мраморные доски.
Он не мог позволить, чтобы сегодня, в храмовый праздник Николаевского кавалерийского училища, вспоминалось недоброе. Ибо здесь, на окраине империи, главная сила — это вера и долг.
— Живой труп, — тихо, только для мужа повторила Екатерина Александровна.
Тем временем Жилинский исчез с полотна, как будто его не было, будто приснился.
Где ты теперь, Яков Григорьевич? Что вспоминаешь нынче в светлый училищный праздник? Разве не вспомнишь, как шестнадцатилетние юнкера присягали Отечеству и многие из них нашли могилу на Кавказе, в Трансильвании, под Чок-Тепе, Плевной, Мукденом.
Фильмы закончились, и в зале снова стало светло. Адъютант Головко отворил жаркое окно, держась руками за обе створки наподобие креста, выглянул в окно и объявил:
— Песельники пришли. Велите показать, Александр Васильевич, «Бородино» воспитанника Николаевского училища поручика Лермонтова?
Самсонов кивнул, подошел к окну. Увидев его, песельники, казаки в форме Семиреченского казачьего войска, грянули «Бородино».
При первых словах «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана», каковые были пропеты с мужественной скорбной возвышенной интонацией, Самсонов вперился взглядом в казаков и отрешился от всего.
Он был военный человек, был обязан желать воевать и по опыту знал, что рядом с этим желанием — долгом всегда идет смерть, а значит, должен был желать себе смерти.
«Бородино» поручика Лермонтова было песней про Самсонова. Когда доходили до этого:
Полковник наш рожден был хватом, Слуга царю, отец солдатам, Да жаль его. Сражен булатом, Он спит в земле сырой, становилось горячо в груди. Но вот голоса дружно повели: И умереть мы обещали,и Самсонов почувствовал могучую силу, которая делала его выше смерти и приближала к Богу.
Командующий был растроган, и присутствующие отводили глаза, испытывая неловкость, словно считали, будто власть, которой обладал Самсонов, лишала его человеческих чувств.
Началось лето 1914 года. Мало кому могло придти в этот знойный мирный день, отмеченный праздником одного из самых почитаемых русских святых, что нужно вникать в содержание исполняемых песен. Разве что девяностолетнему отставному войсковому старшине Квитке, участнику туркестанских походов Скобелева, потерявшему в них левую руку.
Этот старик подошел к Самсонову, обнял единственной рукой широкую спину командующего и ткнулся лицом в его плечо, бормоча что-то благостно-патриотическое из времен покорения края.
Адъютант изготовился оттеснить скобелевского инвалида, но командующий показал: не надо, — и оставил старика рядом с собой слушать песени.
От Самсонова через этого Квитку потянулась вдаль, в глубину, к мертвым, какая-то нить, и все присутствующие, даже местные знатные мусульмане в шелковых халатах, выразили друг другу понимающими взглядами и улыбками уважение чувству командующего.
Александр же Васильевич Самсонов увидел, как чтут воинскую традицию, и, не замечая некоторой картинности момента, повернулся к Екатерине Александровне и будто вовлек ее в этот вечнозеленый сад русского воинства. Но взгляд ее в этот миг почему-то был направлен на адъютанта Головко, а потом жена сдержанно улыбнулась, показала, что будет рядом, но не хочет вмешиваться в офицерское действо. «Она моложе на целое царствование, подумал Самсонов. — Велинский уже был мертв, а ее на свете еще не было».
Его товарищ по Николаевскому кавалерийскому Велинский погиб в августе, в Болгарии, через полтора месяца после выпуска, был зарублен турками в ущелье между Новачином и караулкою Дербент возле орудий. С ним пали Данилевский и Назимов из выпуска Жилинского.
Вспоминая их, Самсонов после балканской военной хроники почувствовал какую-то сдавленность в груди. Отчего? Нет причин тревожиться Александру Васильевичу. Покой на южных границах державы, покой в доме, покой в душе. И даже если выйти из этих трех домов, что когда-то рано или поздно должно произойти, тогда что пред строгим Судьей скажет в оправдание своей жизни Самсонов?
Александр Васильевич глубоко вздохнул и несколько раз вздохнул мельче. У него начиналась астма. Но думать о ней не стоило, и вместе с мыслью о болезни отлетела и беспричинная тревога.
Под вечер в саду казаки показывали джигитовку. Особенно старался молодой урядник на чалой, без единого белого волоса, легкой кобылке. Он несколько раз с поразительной смелостью на скаку поднимал платок, метя черным чубом землю, играя, как должно, со зрителями. Он вдруг вывалился их седла и летел вниз головой раскинув руки, оскалив зубы, блестя выпученными глазами. Затем на скаку спрыгивал, отталкивался от земли и, перевернувшись в воздухе задом наперед, садился впереди седла на шею лошади.
После представления урядника подозвали к Самсонову. Он был невысок ростом, с влажным лбом, шумно дышал и поглаживал шею своей чудесной птички, нервно перебиравшей ногами. Дети Александра Васильевича, Володя и Вера, смотрели восхищенно. Екатерина Александровна — с любопытством. Самсоновская семья не раз видела таких сильных простых людей, на них держалась армия, они представляли лучшее, что есть в народе.
Александр Васильевич был близок к ним в главном для военного готовностью умирать за отечество. Жена и дети, наверное, не ощущали этой его связи, они были другие.
Урядник был разгорячен, пах потом, держался твердо, без робости. Он явно понимал, что, показав свое умение, он заслужил благодарность генерала, и был горд дерзкой молодой гордостью, и это возвышало урядника над пятидесятилетним генералом от кавалерии.
Самсонов поблагодарил урядника, подарил ему серебряный рубль.
— А ну, ротмистр, не пожелаете попробовать? — спросил Самсонов у адъютанта.
Не собирался спрашивать, вышло это само собой в ответ на задор урядника. И еще в ответ на то, что смотрел влюблено на Екатерину Александровну.
Адъютант Головко потянулся к чалой кобылке и перехватил у урядника чумбур.
— Дай-ка проедусь, — сказал он.
— Не надо, ваше благородие. Лошадь вам чужая. Зачем?
Головко потянул чумбур, урядник не давал.
— Боишься, что я хлеб отобью? — спросил Головко с упрямой усмешкой.
Урядник опустил руку. Кобыла откинулась в сторону. Головко крепко взял под трензельное кольцо, решительно огладил, потрепал ладонью и вспрыгнул в седло.
Он разобрал поводья, уперся коленями в крылья седла, чуть прогнулся в пояснице, откинул плечи назад и опустил в стременах пятки. Через несколько секунд уже казалось, что ротмистр давно присиделся в седле. Натянув левый повод, он прижал правый шенкель — кобыла послушно пошла шагом с левой ноги. Пройдя немного, она вдруг сделала две лансады, прыгнув вправо. Ротмистр хлестнул ее нагайкой, и она успокоилась. Он крепко держал шлюсс и баланс сидел как вбитый.
— Зря, — произнес урядник. — Баловство.
Головко вытащил платок, бросил на ископыченную землю, пошел еще быстрее, покачиваясь в седле с кавалерийской цепкостью.
Разогнавшись в галоп, он согнулся над платком, взмахнул рукой — и промах. Платок остался лежать, пальцы схватили воздух…
— Эх! — произнес урядник.
Головко проехал метров двадцать, дал вольт и поскакал, пружинисто упираясь ногами в стремена. Возле платка кобыла взяла чуть правее, он вытянулся влево что есть мочи, правая его нога выскользнула из стремени и закинулась над седло. И уже не вернуть назад опрометчивого вызова Самсонова адъютанту.
Головко ударился, головой и грудью о землю и лежал как убитый. Кобыла пролетела дальше.
Вот она, доля военного человека! Жалко ротмистра, но Самсонов не винил себя. Это судьба велела офицеру пройти испытание.
Головко подняли на попону, понесли. Глядя на его разбитое грязное лицо, набухший кровью рукав, Александр Васильевич снова ощутил жуткую прерывистость жизни, к которой не мог привыкнуть, несмотря на тридцать девять лет службы.
— Я пойду, прослежу, — сказала Екатерина Александровна и пошла за уносимым Головко, забрав детей.
Ее розовое платье, голубой сарафан Верочки и белая рубаху Володи, подобно цветам национального флага, заслонили раненого адъютанта и через минуту скрылись, заслоненные офицерами.
* * *
Из Туркестана Россия виделась Левиафаном, головой поднявшимся над Европой и всем телом погруженным в Азию.
Над головой нависали австро-венгерские и германские мечи, в тело упирались со стороны Персии, Афганистана и Тибета английские ружья, а позади сидел маленький зубастый хищник, отхвативший десять лет назад остров Сахалин. Отовсюду России угрожали и мешали торговать.
Если бы мог осуществиться намек императора Вильгельма II, который подарил русским картину, где Россия и Германия в виде двух воинов опираются друг на друга спинами и поднимают мечи — Германия на запад, Россия — на восток, тогда, наверное, хотя бы с одной стороны была бы обеспечена защита.
Но так только кажется. Уже мы видели эту германскую защиту в японскую кампанию и заплатили за нее унизительным торговым договором.
Правда, будем ли воевать с германцами в ближайшие годы — не известно. Это давно, когда Самсонов еще служил на Кавказе, все говорили, что вот-вот начнется война с Германией, что французам стало совсем невмоготу, до того задушили их германцы.
Сейчас из Ташкента генералу Самсонову Германия представлялась далекой соперницей. Во всяком случае была соперница у России гораздо опаснее. Это Англия, владычица морей. Она бдительно следит за русскими шагами на востоке, и от Константинополя до Тибета ее консулы и агенты принимают русских за первых недругов.
Когда корнет 12-го Ахтырского гусарского полка, восемнадцатилетний Саша Самсонов впервые участвовал в атаке у болгарской деревни Пизанцы и затем в десятках атак и набегов, тогда он вовсе не знал, что из этой войны выйдет впоследствии. А вышла борьба с Германией за то, кому построить на политой русской кровью земле железнодорожную сеть. И в той борьбе русский капитал уступил.
Когда Генерального штаба капитан Александр Самсонов через десять лет смотрел на Францию как на союзницу, тогда он думал, что французов толкает к русским их любовь к России. А толкала не любовь, а жажда вырваться из тупика, в который они попали, оставшись по милости Германии без прирейнской руды. И, возможно, никогда бы не узнал правды, если бы потом в Новочеркасске, будучи наказным атаманом войска Донского, не познакомился с инженерами-горняками из франко-русской металлургической компании. Они растолковали секрет, почему война все-таки не вспыхнула. «Секрет войны — в путях сообщений», — помнил Александр Васильевич со времен Академии наполеоновский афоризм. А ему объяснили: неверно это, господин генерал; это еще Толстой высмеял — первая колонна марширует, вторая марширует, третья марширует — а секрет в том, что французы имели руды с фосфором, брошенные немцами без внимания, но благодаря изобретению способа Томаса и Биль-Круста, смогли выбраться из сырьевого тупика без войны. А вслед за металлургией поднялась вся промышленность. Зачем же Франции было воевать, если можно было повести дело мирной, экономической борьбой? Из войны, господин генерал, в итоге вылупляется новая война, только один прогресс позволяет воевать бескровно.
Молодцы были те инженеры! Конечно, насквозь буржуазные, не любившие неограниченного самодержавия, но ведь они строили свои заводы, работали. А до того, как наблюдал Самсонов, работать мы не умели и поэтому смазывали свою дорогу обильной кровью, ее-то не было жалко во имя отечества. Вспоминал при этом Александр Васильевич и то, что сам видел, нашу геройскую Плевну, Ляоян и Мукден.
В одном молодцы ошибались: принижали роль армии. Прогресс дал ей скорострельные пушки, пулеметы, аэропланы, и, когда равновесие между державами поколеблется, все это должно будет быстро заработать.
Равновесие же колебалось — особенно на Балканах, где прогремели две короткие войны и едва не завязалась третья, но не завязалась — Россия смирилась с захватом Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Русских оттесняли от Средиземного моря все — Англия, Германия, австрийцы, итальянцы, даже французы. А когда в позапрошлом году из-за войны закрылись Босфор и Дарданеллы, Россия понесла миллионные убытки от блокады вывоза. Нужен был новый Петр, чтобы прорубиться и в Средиземноморье.
После перевода в Туркестанский округ Самсонов стал дальше от европейских дел и открыл для себя азиатскую невидимую схватку.
Вот кто заправлял всем миром — владычица морей. У нее было все: деньги, флот, умение править. Она никого не пускала в свои сады, но один сад был у нее самым дорогим — это Индия, и владычица сторожила подходы к нему.
Наверное, имена генералов Черняева и Скобелева английские агенты не могли слышать спокойно со времен покорения Кокандского ханства. Да, русские продавливались на восток. Они проникли в Персию, претендуют на афганский рынок, стремятся получить коммерческий выход к Персидскому заливу и хотят провести Трансперсидскую железную дорогу с русского Закавказья на юго-восток в Афганистан и Индию. Что должна испытывать всесильная Великобритания? Она отступала. И она будет отступать, считал туркестанский генерал-губернатор, ибо ей трудно воевать с Россией и в Персии, и в Афганистане.
К нынешней поре в штабе округа не только операторы из управления генерал-квартирмейстера, но даже интенданты смотрели на персидские равнины как на житницу для Туркестанского края, плодородные площади коего могли бы быть использованы еще в больших размерах под культуру хлопка. И владычица все это терпела!
И отвергала подсказку ныне пребывающего на небесах германского канцлера Бисмарка, который давно говорил, что Индию, мол, не обязательно англичанам сторожить на афганской границе, проще — на польской. Это предложение англичане никогда не принимали всерьез, они еще больше опасались Германии, ее гигантских пароходов новейшего типа, ее напора всюду, где у нее был хотя бы малый шанс потеснить британского купца.
Вблизи Туркестанских границ, в зоне внимания Самсонова, в Константинополе и Багдаде, сильнее кого бы то ни было действовали немцы. Дейче Банк строил Багдадскую железную дорогу, угрожая продвижением к Египту и Суэцкому каналу, наступал на пятки британцам.
У русских и немцев, выходило, на Востоке противник был общий, и владычица, предвидя их объединение, решила, что нынче Германия становится опаснее, а посему и заключила с русскими соглашение, уступив им влияние в Северной Персии. Еще раньше владычица ликвидировала все свои колониальные споры с Францией. Наступило сердечное согласие, Антанта.
Внешне этот союз позволял России закрепиться на Востоке, где она столетиями продвигалась вперед, в отличие от обороны на западных рубежах. Однако Самсонов знал, что за Тегеран придется платить где-нибудь на польских границах, в Восточной Пруссии, снова обильно окроплять землю.
А затем, ослабив Германию, владычица снова возобновит схватку с Россией на Востоке, это неизбежно.
Может быть, естественнее заключить союз с Германией? Но тогда как примириться с ней на Балканах и в районе Проливов? А плата за поддержку в 1904 году унизительным торговым договором, как это терпеть? Ответа Самсонов не имел.
27 февраля, три месяца назад, в «Биржевых ведомостях» появилась статья без подписи — «Россия хочет мира, но готова к войне».
Военный агент в Англии генерал-лейтенант Ермолов доносил в Генеральный штаб, что англичане сигнализируют ему о своей тревоге по поводу утверждения Германии на Босфоре.
Русский генеральный консул в Симле Набоков сообщал: «Нет для англичан большего пугала, чем указание на фактическую возможность для России в каждую минуту собственными силами, без посредства индийского секретаря по иностранным делам, заставить эмира афганского уважать наши права и интересы.»
Сербы запросили у России оружие, боеприпасы и обмундирование. Русское военное министерство затянуло ответ, не желая определяться ранее, чем определится Англия.
Русский Посол в Австро-Венгрии Шебеко доложил, что венский министр иностранных дел Берхтольд рассчитывает на дальнейшее развитие миролюбивых отношений. На этой телеграмме Николай II написал: «Да, но не доводить нас до крайности». Это казалось остроумным и говорило о русской силе.
Что означало все это? Приближение войны? Такие узлы завязывались часто. Вспомнить хотя бы полузадушенную Францию и изобретение способа очистки руды. Столько интересов, сил, напряжения протянулось над миром, но он стоял и не рушился.
В июле Александр Васильевич собирался с семейством на Кавказ, на воды, и не думал о том, что согласно военного расписания его ждет должность командующего войсками Второй армии с месторасположением штаба в Остроленке, на границе с Восточной Пруссией. Какая там Пруссия! Наоборот — отдохнуть, попить водички, полечиться, а то грузен стал Александр Васильевич, совсем как медведь.
* * *
О Головко из госпиталя сообщили, что его дела плохи, сломаны плечо и ребра, а особенно сильно ушиблена голова. И не известно, выживет ли.
Самсоновы сидели за вечерним чаем, только свои, без чужих.
Екатерина Александровна объясняла Володе, в чем неправ Головко, а он не соглашался и учтиво спорил, доказывая право офицера распоряжаться своей жизнью. Самсонов молчал.
— Помнишь, как в «Войне и мире» Петя Ростов? — улыбаясь полудетской улыбкой, сказал Володя. — Разве это можно осуждать? Я тоже думал, хорошо бы так джигитовать, как этот казак…
Екатерина Александровна обратилась к мужу: — Ну не подвел ли тебя адъютант? Кому польза от такого молодечества? Неужели ты доволен?
— Видишь ли, матушка, — произнес Самсонов. — Военным людям трудно без молодечества. И гимназистам тоже трудно. — Он кивнул Володе с понимающей усмешкой.
Интонацией, спокойствием и пониманием правоты как жены, так и сына, Александр Васильевич прекратил спор. Что загадывать наперед судьбу подростка? Что одерживать его порыв? Все равно не угадаешь, не сдержишь. Сколько юношей прекрасных видел Самсонов мертвыми! Сколько раз сам был близок смерти? Это судьба выбрала для Головко испытание.
— Володя, я старый гусар, — сказал Самсонов. — Жизнью рисковать штука нехитрая. Но надо и это уметь. — Он потрогал густую, с проседью бороду, подстриженную лопаткой, и рассказал о гусарском полковнике Клоте, о котором никогда не рассказывал семье, ибо во всей истории, как ее понимал Александр Васильевич, была его душевная тайна.
И вот он эту тайну решил приоткрыть. У полковника Клота не сложились отношения с офицерами в старом полку, поэтому его перевели в Лубенский гусарский, где лет пятьдесят спустя командовал пятым эскадроном сам Александр Васильевич. Клот был гусар! В красных чакчирах, в синем доломане с серебряными шнурами он был из тех красавцев-полковников, о которых писали Денис Давыдов и Толстой, — гроза квартальных (одного он раздел донага и заставил просидеть так всю ночь в офицерской пирушке с дамами), дуэлянт и сорви-голова. Как только его перевели к лубенцам, он пригласил офицеров и сказал: «Вы, должно быть, слыхали, что у меня прежде были неприятности. Может, кто-нибудь из вас недоволен, что я здесь?» Клот был чужим. Офицеры почувствовали вызов и стали ворчать. Тогда он сказал: «Господа, вот пистолеты. Буду стреляться сейчас в очередь с каждым, не выходя из комнаты. На вашей стороне все шансы. Кто первый?» Офицеры молчали, обескураженные. «Прошу всех покинуть комнату!» — приказал им Клот. Они ушли. Он остался командиром и командовал много лет, и его полюбили.
— Вот это да! — с восторгом воскликнул Володя.
— Вот это человек! — И повторил, откинувшись на спинку: — «Господа, вот пистолеты!»
Глядя на сына, Александр Васильев подумал: «Ребенок. И Клот был ребенок. Таких уже не осталось».
— Что же хорошего? — удивилась Екатерина Александровна. — Возле моей Акимовки была усадьба такого отставного гусара. Чего он не вытворял, пока не помер. А детям оставил долги, пистолеты да облезлый ментик.
Она не поняла Самсонова. Эти примеры не доходили до нее, как не доходит конная атака до укрепленной пулеметной позиции. А ведь любила в нем старомодное рыцарство! И стих его гусарский обожала!
— Мне отец тоже ничего не оставил, кроме имени, — ответил Самсонов. — И у меня были поединки…
— Поединки? — весело переспросила она, приподнимая черные брови.
— С Жилинским, в училище, — уточнил он.
Екатерина Александровна, услышав имя ненавистного Жилинского, с серьезным любопытством, почти упреком, посмотрела на него, будто он скрывал что-то важное.
— Я не знала, что у тебя о Жилинским еще с училища… Наверное, я много про тебя не знаю…
— Главное ты знаешь, матушка, — сказал Самсонов. — И ты знаешь, и я знаю, слава Богу! С прощающим выражением.
— Да, главное мы знаем.
Что было главным, они не обсуждали, в этом не было нужды. Когда-то в Елисаветграде они впервые встретились. Тридцатисемилетний полковник Самсонов прибыл туда, получив назначение начальником юнкерского кавалерийского училища; он был видным женихом во всей, наверное, Херсонской губернии. Екатерину Александровну он прежде видел только однажды, во времена большого Бендерского лагерного сбора, тогда пятый эскадрон лубенцев останавливался в Акимовке и там в доме молодых помещиков ему запомнилась дочка — девочка в голубой шляпке, она-то потом и оказалась Екатериной Александровной. Потом, через восемь лет.
Полковник читал Екатерине Александровне лубезского гусара корнета Демидова:
Вы замунштучили меня И полным вьюком оседлали И как ремонтного коня К себе на корду привязали. Повсюду слышу голос ваш, В сигналах вас припоминаю И часто вместо «Рысью марш!» Я ваше имя повторяю. Несу вам исповедь мою, Мой ангел, я вам рапортую, Что я вас более люблю, Чем пунш и лошадь верховую!А она это уже слыхала когда-то от офицеров, поразивших ее сердце свободой и красивыми мундирами.
— В Акимовке? — спросил он. — Неужели?
У него не было ни кола, ни двора, в послужном списке значилось: «Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женой, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. — Не имеет».
Акимовский одноэтажный просторный дом не стал ему родным, но погост Акимовской церкви с простыми дубовыми крестами и серыми известковыми плитами, заросший сиренью и терновником, почудился Самсонову тем местом, где суждено будет успокоиться, когда господь призовет его душу. Известно, кому принадлежит жизнь офицера и кто волен ею распоряжаться. Поэтому, уезжая летом 1905 года принимать Уссурийскую казачью бригаду, Самсонов попросил жену в случае гибели похоронить его в Акимовке. Катя обещала.
До сей поры судьба миловала его и в бою под Ляояном, и в зимнем набеге на Инкоу. Что впереди — неведомо, но главное они с женой постигли — в детях, Боге, долге перед Отечеством.
Однако, говоря Екатерине Александровне, что главное он знает, Александр Васильевич имел в виду и что-то другое, вызванное несчастьем с адъютантом. Да, дети, Бог, Отечество — это все верно, это как мраморные доски на стенах Храма Христа Спасителя, сохраняющие для потомства имена полков, как штандарты старого полка. А в глубине? Что в глубине? Когда посылаешь человека на смерть?
— Знаешь, скоро к нам приедет один мальчик, — сказал Самсонов, переведя разговор в иное русло. — Сын одного важного перса. Он быдет учиться в корпусе.
Володя немного задумчиво произнес, хмуря лоб:
— А я поеду в Персию?.. Что персу делать в нашем корпусе? Разве мало в Туркестане мусульман?
В его словах отражалась помимо его воли еще горячая история покорения этого края, на будущий год исполнится всего пятьдесят лет, как Черняев взял Ташкент штурмом по лестницам, — и Володя наверняка слышал отголоски прошлых событий.
— Мальчик хороший, — сказал Самсонов. — Англичане его зовут в Индию учиться, а он к нам хочет. Его отец — наш друг, помогает нам.
— Россия и так сильна, — ответил Володя. — Он ведь займет место русского, верно? Например, сына этого бедного Головко!
Он упрекал Самсонова в случившемся несчастье, видя его хладнокровие и непоколебимость. А персидский мальчик скорее всего был поводом.
— Зачем нам персидский мальчик? — спросила Вера. — Он по-русски понимает?
— Научим, Вера. Россия сильна, — сказал Александр Васильевич. — И штыком сильна, и душой. Скажи, Володя, почему сейчас большинство мусульман хотят жить с нами в мире? Потому что мы несем порядок и прогресс… Знаешь, почему его отец открыто принял нашу сторону? Потому что увидел, как наша противочумная охрана борется с чумой…
Володя смотрел на отца с упреком, как будто спрашивал: «О чем ты говоришь?»
— А строительство железных дорог? — продолжал Самсонов. — Это подвиг русских людей. И никого мы не притесняем, не тащим в нашу веру. Мы выполняем долг. Что же плохого в том, что мальчик близко узнает русских?.. Я понимаю, ты огорчен этой неприятностью, но надо быть мужественным. Среди военных людей и не такое бывает. Я тоже огорчен.
По привычке все доводить до конца Самсонов хотел убедиться в согласии Володи, но Володя опустил глаза, попробовал уклониться от дальнейшего разговора, и тогда Александр Васильевич еще прибавил с офицерской определенностью:
— Ты, братец, сегодня не в своей тарелке. Ступай к себе, поразмысли об Отечестве. Что бы ты делал, окажись на Куликовом поле или на Чудском озере? Выполнял бы приказания начальника?
Екатерина Александровна несогласно вскинула брови и поглядела на него изумленно. Но когда сын встал, она промолчала, показывая, что поддерживает мужа.
— Папа, — сказала Вера. — Мне тоже очень жалко Головко.
В лице мальчика промелькнуло беззащитное детское выражение обиды, он не понимал, за какую провинность родители удаляют его и почему идея отечества вдруг заслонила все, и родительскую любовь, и несчастье.
Александр Васильевич посмотрел, как за сыном закрылась дверь, подумал о полковнике Багратуни: тот хорошо знает язык и обычаи персов и выразил желание взять на себя общий надзор за школьной жизнью мальчика-перса.
— Он переживает, — сказала Екатерина Александровна. — Я пойду еще поработаю, — вымолвил Самсонов. — А много переживать мужчине — вредно. Он уже почти мужчина. Я в его годы в военной гимназии жил по сигналам военного трубача. — И, выговорив это, смягчился: — Ладно, матушка…
* * *
Генерал-губернатор нашел у себя в кабинете бумаги, подготовленные старшим адъютантом, исполнительным штабс-капитаном Бабушкиным, и взялся за донесения по четвертому, разведывательному, отделению отдела генерал-квартирмейстера. Пролистал. Настроения туземцев в Афганистане и в Бухаре. Обстановка на границе. На юге от Тенджена офицерская разведка выяснила, что большинство туркмен вооружено винтовками новейших систем с клеймами английских и германских заводов. Что же, это не ново. И все же большинство — за Россию. Вот какой-то резидент М. сообщает: мирзу Шамса, его секретаря и сына Наибуль Хукуме арестовали и послали в Кабул — за поборы и за то, что силой брали женщин и девушек. Разве русский позволит себе такое?
Самсонов вспомнил нападения неизвестных в октябре — ноябре прошлого года на посты пограничной стражи на персидской и афганской границе. Несколько постов вырублены из засад, причем без грабительских целей, для устрашения. Сейчас было спокойно. Только вот — он улыбнулся — в бухарском кишлаке Юрчи приставали к купцу Головащенко, грозили перебить все семейство, если не перейдет в мусульманство; но местные армяне сообщили бухарскому беку, и ретивым чалмам дали по двадцать пять палок, и нынче они ведут себя мирно. Это Азия, Александр Васильевич, коварный и простодушный край.
Когда Самсонов после академии служил на Кавказе, ему довелось слышать предания недавней старины о покорении немирных аулов. А Польша, куда он попал потом? Разве среди поляков мало встречалось враждебно настроенных? И все держится на армии, империя еще не перебродила, не присиделась как всадник в седле, еще десятки лет торговать храбрым Головащенкам, строить пути железнодорожникам, держать кордоны противочумной охране. Велика ты, матушка-Россия, и по-всякому понимаешь — на русском, польском, грузинском, персидском. Но привыкла с Батыевых времен, что человек — это песчинка, и несет твой ветер эти песчинки бессчетно. Ибо армия твой хребет. Мыслишь ты силой и чувствуешь силой. А другого пути нет. Если суждено тебе когда-нибудь измениться, если прогресс откроет способ обогащения твоей руды, тогда империя разлетится на части, и неведомо, что уцелеет.
Забравшись в этакую неизвестность, Самсонов очень удивился.
Надо же, как отразилась чувственность Володи на нем.
Он отложил папку четвертого отделения, взял письмо консула Михайлова из персидского города Турбети-Хейдери о четырнадцателетнем сыне правителя провинции Бехар Щуджа. Консул писал: «В Хоросане, как на арене борьбы русско-английского влияния, Шуджа всегда стоял на стороне, вызывал всякую поддержку нашим интересам». Самсонов поставил резолюцию: «Принять в кадетский корпус на казенный счет без предварительных испытаний». И судьба мальчика решилась. Привезут его в Ташкент, поселят на квартире, отдельно от русских кадетов, оденут в мундирчик, и будет он на чужбине постигать науки и военную дисциплину.
Самсонов вспомнил Киевскую военную гимназию, и стало грустно. Тогда кончилось детство, оторвали его от матери и отдали ей, матушке-России, навсегда.
«А тебя мы пожалели, — подумал он о Володе, учившемся в обычной гимназии. — Ты пока вольная птица».
Прочитав штабные бумаги, Александр Васильевич взялся за папку с документами о Туркестане. В июне исполнялось пятьдесят лет покорения края, из «Туркестанских ведомостей» просил что-нибудь написать. Но ему ли писать? Какие исполины предшествовали ему! Черняев, Скобелев, Кауфман… А скромные исполнители, такие как Генерального штаба Корнилов, исследовавший границу с Афганистаном и оставивший прекрасные карты? Таких было десятки.
В папке желтел костянной нож для бумаг, вложенный туда как закладка. Отведя в сторону кипу документов, исписанных черными чернилами каллиграфическим почерком старых писарей, Самсонов прочитал: «Когда горы достаточно были обстреляны горным орудием и стрелками с обеих сторон, полковник Яфимович приказал штабс-капитану Каневскому двинуться на штурм. Неприятель защищался с необыкновенным упорством, по всему гребню обеих вершин были устроены из камней траншеи, откуда штурмующие были встречены градом камней и пуль, и по мере того, как штурмующие занимали одну траншею, привычный к горам неприятель перебегал в другую, из которой опять можно было выбить его только штыками.
Громадные камни, несясь с неимоверною быстротою, уносили за собой все, что попадало на пути, так что раненые летели вниз и уже внизу поддерживались находящимися там стрелками, не допускающими их скатывания в Зеравшан, тогда как неприятельские трупы один за другим летели прямо в пропасть».
Этот рапорт начальника Зеравшанского отряда напомнил Самсонову Японскую кампанию, бой у деревни Бенсиху, где крутые сопки возле реки были покрыты траншеями японцев, а наши стрелки отчаянно лезли вверх.
Как всегда на бумаге, геройство впечатляло, тогда как на войне никогда не было никакого геройства, а что и было, так злоба или отчаяние или страх перед начальством. Вспомнилось полное голубоглазое лицо Ренненкампфа, с молодецки закрученными усами, дышавшее бесстрашием. Храбрый генерал ходил в цепь с маузером как корнет, но под Бэнхису не дал Самсонову батальона в поддержку — и тысячи солдат легли зря.
Александр Васильевич знал о военном положении России многое. Его жизнь давно принадлежала России-матушке и государю, — с августа 19 числа 1875 года, когда он принес присягу будучи шестнадцатилетним юнкером унтер-офицерского звания. Еще не было на свете Екатерины Александровны, а нелюбимый ею Яков Григорьевич Жилинский был удалым удальцом, лучшим в училище воспитанником.
Вспомнив Жилинского, который тогда был его другом и защитником и потом превратился в соперника, Самсонов ощутил горечь. Было жалко юности и стыдно за это невоенное, расслабляющее чувство.
Он закрыл глаза, поглядел туда, откуда веяло болью. Сегодня был праздник. На черных мраморных досках в церкви училища вырезаны золотыми буквами имена бывших юнкеров. Он будто увидел их снова:
Дубровский Петр. Подпоручик. Выпуск 1825 года.
Убит на штурме крепости Ахалупка 15 августа 1828 года…
Киреевский Петр. Корнет. Выпуск 1830 года.
На штурме Варшавских укреплений 26 августа 1831 года получил пятнадцать ран пиками и саблею в голову, от которых в тот же день умер.
…Вревский барон, Павел. Генерал-адъютант. Выпуск
1828 года. Убит ядром 4 августа 1855 года в сражении против турок, англичан и французов при реке Черной.
Разные годы, разные дела, родные имена. Ведь те золотые буквы издавна сулили и ему подобную судьбу и вечную жизнь в памяти армии.
— Откуда, зверь? — раздался громкий веселый голос молодого Жилинского.
Александр Васильевич не раскрыл глаз, зная, что давно нету того рослого сероглазого юноши с мужественным лицом. А юнкер Самсонов, большой, сильный, оставляющий впечатление увальня, вытягивается смирно перед строгим старшим вахмистром.
— С Киева, — быстро, на малороссийский манер отвечает Самсонов, и ответ звучит для петербургского слуха так: «З Кыева».
— Плох доклад, — говорит Жилинский. — Очень плох. Развернуться и отдать рапорт по форме.
Самсонов поворачивается, отходит на четыре шага, четко разворачивается и «дает ногу», пройдя печатно четыре шага.
— Самсонов Александр прибыл из Киевской военной гимназии для обучения наукам в Николаевском кавалерийском училищи.
— Из Кыевской? — Жилинский улыбается. — Тарас Бульба?
— Самсонов Александру, — повторяет Самсонов. У него есть только это имя, и он показывает — не принял шутки.
— Явиться на лишнее дневальство, — командует Жилинский. А потом этот властный старший вахмистр на занятиях по верховой езде и рубке щашками помогал Самсонову. Твердой железной рукой он сжал самсоновские пальцы, державшие ручку шашки, чуть повернул его кисть и, взяв свою шашку, попросил Самсонова рубить. Самсонов несильно ударил. Жилинский легко отбил и потребовал не манкировать, а рубить по-настоящему. Тогда Самсонов ударил вполсилы — Жилинский снова легко отбил и больно ударил клинком плашмя ему по плечу. Самсонов от неожиданности рыкнул и размахнулся, что было силы. А Жилинский, отступив на шаг, уклонился.
— Ну? — улыбнулся, обнажив длинные, чуть скошенные зубы, подзадорил он младшего юнкера. — Руби! — Поиграв, он показал Самсонову удары и защиту.
Спросил:
— Тяжело?
— Тяжело, — сознался Самсонов. — А главное — несправедливости много. Старшие придирками изводят.
— Терпи, — посоветовал Жилинский. — Через год сам станешь старшим, будешь повелевать. Офицеру надобно уметь две вещи: подчиняться и повеливать… Ну-ка, защищай правую щеку, налево коли, вниз направо руби!
Вскоре Жилинский, будучи дежурным по эскадрону, ночью разбудил Самсонова, приказал одеться и заставил поправить неровно повешенную на подставку каску, глядевшую орлом не на икону, а куда-то вбок.
Самсонов подчинился, но потом на занятиях фехтовал с такой яростью, что Жилинский попятился, прижатый к колонне, едва ускользнул от удара, а шашка, хлестнув по мрамору, сломалась.
Жилинский после этого не изменился, по-прежнему подсказывал Александру и по-прежнему строго взыскивал. Уже тогда в нем вызрела эта механическая холодность, с которой он бестрепетно во имя порядка разделял жизнь на сектора службы, как артиллеристы поле на сектора обстрела.
Уже весной, перед выводом в летний лагерь в Красное село на берег Дудергофского озера, видевшего юными всех нынешних генералов, Жилинский предложил Самсонову участвовать в карусели, как назывались конные состязания в манеже. Жилинский и там первенствовал, умело взяв на сером «гунтере» все барьеры, а Самсонов, хотя тоже не осрамился, скакал без блеска, тяжеловесно, но, впрочем, храбро.
Карусели, кони, парады, блиставший от гусарских шнуров строй развернутых эскадронов на Марсовом поле, красота музыки трубачей — Господи, все это было с Александром Васильевичем и отозвалось сегодня в его разбившемся адъютанте.
А Жилинский? Исчез Яков Григорьевич из мыслей Самсонова, оставив след невозвратной потери.
* * *
Летом прошлого года Жилинский, еще начальник Российского Генерального штаба, проводил в Петербурге очередную встречу с Жоффром. Яков Григорьевич уже был тем «живым трупом», накрахмаленный чопорным генералом, которого боялись, и казался столпом вечного армейского бюрократизма, свято верующим во врожденную непобедимость русского оружия. Он не желал отвечать на раздражающе точные вопросы бодрого толстяка-француза и вещал об известных вещах — бесконечных русских пространствах, иных, чем во Франции, условиях мобилизации, чуть ли не о гоголевской птице-тройке.
Жоффр хмурил брови и наседал, требуя точных данных о железных дорогах и сроках мобилизации. Ему не могло прийти в голову, что русский генерал рассуждает, как кавалергард времен наполеоновских войн и верит в лихой натиск. Он напомнил, что Франция заинтересована в развитии русских железных дорог, что нельзя уповать только на известную всем храбрость русского солдата, и привел в пример быстрое строительство (на французский заем) дороги Оренбург — Ташкент.
— Это когда Англия потеснила вас в Марокко? — невозмутимо осведомился Жилинский, намекая, что союзники никак не смогут обойтись без русского штыка.
Сопровождающий Жоффра военный атташе маркиз Лагиш вскинул седую маленькую голову и тонко улыбнулся. Напротив него сидел русский военный агент граф Игнатьев, молодой высокий полковник, ростом под стать Жилинскому, полная противоположность чопорному сухонькому маркизу. Игнатьев видел всю неделикатность вопроса своего начальника штаба, но не ответил на улыбку Лагиша.
Жоффр молча, с выдвинутой тяжелой челюстью, задумчиво поглядел на Жилинского, словно пытался разгадать его мысли и, не обращая внимания на едкую иронию, вернулся к теме мобилизации. Было заметно, неконкретность и туманность мышления его визави не удовлетворяют француза.
— Ну хорошо, — наконец сказал Жилинский и назвал сроки мобилизации.
— Это очень долго, — возразил Жоффр. — Так они разобьют нас по очереди. По плану Шлиффена ваша союзница должна быть разбита за сорок дней, после чего они перебрасывают всю свою мощь на восток.
Он не назвал ни Франции, ни Германии, и без того было ясно.
— Без обозов мы могли бы ускорить, — пояснил Жилинский, как будто можно было ограничиться кавалерийским набегом.
— Без обозов? — переспросил Жоффр, по-прежнему не понимая, какая сила движет русским генералом.
— Да, без обозов. Что же тут такого? — ответил Жилинский. — С обозами, ясно, помедленнее, без обозов — быстрее.
И никакой русской тайны за ним не скрывалось, потому что нельзя же считать тайной твердость закостенелого во всех суставах бюрократа, который верит в раз и навсегда усвоенные законы жизни, известные по шутке красносельских острословов; «Кавалерия скакала, пехота наступала, артиллерия стреляла». Столь же неизменны были его политические взгляды, в душе он был привержен русско-германскому союзу, считал, что если будет мир с Германией, то Россия никогда не окажется в проигрыше. И в реальную возможность войны с Германией он не верил, а буде таковая случиться, то тут уповал на суворовские традиции.
В отличие от Якова Григорьевича генерал Жоффр не желал уповать на нематериальные силы и строго следовал не вчерашней, а нынешней политике.
Генералы подошли к разложенной на столе крупномасштабной карте западной границы, желтоватый палец Жилинского очертил в воздухе овал над Восточной Пруссией, и Яков Григорьевич, уверенный в том, что наконец-то француз будет удовлетворен, сообщил о двух армиях, первой и второй, которые должны быть здесь выставлены.
Жоффр тоже стал водить пухлой широкой ладонью над Восточной Пруссией, с ее паутиной железных дорог, болотами и лесами, и при этом доказывал противоположное всем ожиданиям.
— Только не Восточная Пруссия! — заявил француз. — Это невыгодное направление! Это ловушка!
Жилинский бесстрастно посмотрел на него. Что хочет сказать этот толстяк? Во что он вмешивается?
— Это ловушка! — продолжал настаивать Жоффр. — Надо сосредоточиваться вот здесь. — Он ткнул в район Варшавы. — И наступать на Берлин!.. А Восточная Пруссия — тупик.
— Ничего, — сказал Жилинский. — Мы еще обдумаем все хорошенько. Восточная Пруссия — это одно, Берлин — это другое. И русские уже дважды были в Берлине. Не сомневаюсь, что, коль понадобится, наши казаки снова прогуляются по берлинским улицам.
Не сказав ничего существенного, он считал, что сказал все необходимое, и отступил от стола на шаг, выпрямился во весь свой кавалергардский рост и сверху вниз снисходительно поглядел на Жоффра.
— Восточная Пруссия — ловушка! — повторил Жоффр.
* * *
Российскому Генеральному штабу были известны результаты двух военных игр Большого германского генерального штаба, которыми руководил Шлиффен. Они проходили в Восточной Пруссии, самой удаленной немецкой земле, родине германских императоров, и оба раза закончились окружением русских армий. В 1903 году наступавшая к линии Немана русская армия, которой руководил командир 1-го корпуса генерал Франсуа, была окружена южнее Истербурга и «сдалась». Правда, горячий своенравный Франсуа, потомок французских гугенотов, возражал Шлиффену, доказывал, что армия никогда не может положить оружие, но Шлиффен, выслушав его, поступил, как учитель по отношению к строптивому ученику. Он раскрыл отчет о военной игре и прочел: «Командующий Неманской армией признал положение своей армии безнадежным. Он искал смерти в передовой линии фронта и нашел ее». Он убил Франсуа, вернее того еще неизвестного русского генерала, чью роль сыграл Франсуа.
Вторая игра прошла через два года, когда Россия была связана войной с Японией, когда Жилинский тихо существовал в должности начальника штаба у наместника Дальнего Востока Алексеева, а Самсонов приобретал с кавалерийской казачьей дивизией славу героя войны. Но запланированная Большим генеральным штабом игра должна была состояться, и она состоялась.
Обороноспособность Восточной Пруссии обеспечивала линия Мазурских озер. Глубокие, частые, с болотистыми лесистыми берегами, эти озера тянулись с севера на юг почти восемьдесят километров и отделялись друг от друга лишь узкими перешейками. Если бы наступавшие намеревались обойти озера с севера и юга, то они должны были бы неизбежно разорвать связь между наступавшими армиями. И при этом за природным щитом озер обороняющиеся могли бы успешно маневрировать по внутренним операционным линиям, по густой сети железных дорог, и атаковать наступающих по-одиночке, ранее, чем они успевали соединиться.
Но Шлиффен всегда ставил неприятеля в лучшие условия. Он допустил, что русские чудом обойдут Мазурские озера и соединятся на реке Алла в районе города Алленштейна. Он допустил это, хотя возможность такого маневра практически отсутствовала. Он уповал на скорость передвижения по железным дорогам своих корпусов и стянул все силы к югу, оставив на левом фланге крепость Кенигсберг со второочередными войсками. И собрав у себя на южном крыле в районе Дейч-Эйлау сильный кулак, он окружил и разбил русскую армию, наступающую со стороны Нарева.
Итоги игры через секретных агентов были известны русским генштабистами. О них знал и Самсонов, тем более что после японской войны он служил три года начальником штаба Варшавского военного округа.
* * *
В апреле 1914 года в Киеве четыре дня проходила первая в России военная игра.
Весенний Киев был еще свеж, еще цвели каштаны и сирень, но уже начинало веять жарким, небывало ранним летним зноем, и было видно, что скоро летняя лень охватит бульвары и дома и даже Святого Владимира, возвышавшегося со своим огромным крестом над Днепром.
И еще что-то, кроме налетающего лета, отвлекало генштабистов — они не верили в близкую войну, не хотели всерьез думать о ней. Это было видно и по решению не заниматься во время военной игры вопросом работы тыла, сразу дали вводную, что снабжение боеприпасами и продовольствием и работа всего тыла не берется во внимание, их надо считать идеальными.
Командующий Варшавским округом Яков Григорьевич Жилинский занимал здесь положение командующего Северо-Западным фронтом, как и полагалось ему по военному расписанию. Среди других командующих округов, вызванных на игру, Московского, Варшавского, Видленского, Киевского, Одесского и Казанского, он считал себя самым видным. Из здания штаба Киевского округа на Банковой улице Жилинский видел генеральским стратегическим зрением восточно прусские леса и болота, и королевскую крепость Кенигсберг, и десятки маленьких городов с железнодорожными станциями, связанными прогрессом в одну сеть.
Рядом с Жилинским стоял военный министр Сухомлинов с белым Георгиевским крестиком у ворота мундира под подбородком — получил еще корнетом в Болгарии в Турецкую кампанию.
Жаль, не было Михаила Ивановича Драгомирова, героя Зимницы и Шипки. Боевой старик, всю жизнь воевавший с «огнепоклонниками» и считавший, что пуля — дура, штык — молодец, уже почил вечным сном. Однако его дух, казалось, все же витал над головами генералов. Это был дух лихости и удальства, состарившийся и вечно живой российский идол порыва.
— Современная война, — важно начал Жилинский.
— Ради Бога, Яков Григорьевич, — перебил Сухомлинов. — Вы знаете, нет никакой «современной войны». Какой была война, такой и осталась. Все это вредные новшества нашей маньчжурской молодежи.
Жилинский кивнул и продолжал излагать свое решение — он переходил в решительное наступление всем фронтом одновременно, не ожидая окончательного развертывания войск на среднем Немане. На мгновение промелькнул перед ним образ толстяка Жоффра — ничего не смыслит этот француз!
— Ваше высокопревосходительство, — подсказал оператор — полковник из отдела генерал-квартирмейстера Генштаба. — По заданию, у германцев огромный перевес в силах.
— Мой фронт наступает, ведя главный удар на город Лык с охватом правого фланга немцев, — сказал Жилинский. — И на Гумбинен с охватом левого фланга.
— А вы успеете? — неучтиво спросил полковник. — Ведь ваша вторая армия опаздывает на два дня.
Жилинский даже не стал глядеть в его сторону. Откуда берутся такие птицы? Им бы сидеть да ждать, когда дойдет до них черед, так не ждут, лезут, мнят о себе…
Сухомлинов одобряюще кивнул, и генерал Жилинский, как великий полководец Ксеркс, двинул свои храбрые непобедимые войска громить паршивых пруссаков, которых, как известно, русские всегда били.
Итак, в особняке на Банковой стремительно развивался русский контрудар, перевозки и весь тыл фронтов и армий работали без задержек и перебоев, германские корпуса бежали.
Государю потом с удоволетворением доложили: «Игра дала весьма богатый материал по проверке правильности намеченного развертывания и плана ближайших наших действий в случае войны на западной границе».
Но на самом деле Российская империя уже свыше столетия держала оборону на западной границе, и, если и была готова к наступлению, то только на узком фронте против одряхлевшей Австро-Венгрии. А против Германии? Помышлять здесь об атаке, когда вся русская стратегия, дислокация, артиллерия, дороги — все строилось на идее обороны?! Помышлять об этом могли только дерзкие или легкомысленные военачальники. Но ни Сухомлинов, ни Жилинский и вообще никто из участников киевской игры не были такими. Они были готовы на самопожертвование, помня о союзной Франции, ибо Франция в случае оборонительной стратегии России оставалась перед германской армией в одиночку и сорокадневный, по плану Шлиффена, ее разгром был бы неотвратим. И потом Россия, оставшись без Франции, не могла бы устоять.
Что же оставалось? Из чего приходилось выбирать, планируя войну?
Выбирали самопожертвование, понятный, привычный русский путь борьбы человеческими телами, путь обреченного героизма.
И надвигающаяся, еще неосознанная трагедия, заслонялась слепым, тоже русским духом шапкозакидательства, духом-предвестником.
Тень Шлиффена реяла над Восточной Пруссией. И ничего уже нельзя было переделать, спасти тех, кто сегодня еще дышал, надеялся… Нет, нельзя!
* * *
Александр Васильевич закончил занятия, когда за окном стало темно. В открытое, затянутое сеткой окно доносились шорохи, выла собака. Он ощутил, как из тьмы, на стариков, помнивших покорение края на их внуков, на русский город из глубины глядит Господь.
Самсонов встал, перекрестился и прочитал молитву. «Прости меня, сказал он. — Это я погубил его. Прости меня, неразумного!»
После этих слов как будто что-то тугое развязалось в груди и отпустило.
Триста юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища смотрели на него. Он тогда прощался с ними, отбывая в апреле, десять лет назад, в Маньчжурию. Сейчас они штабс-капитаны и капитаны. Как бедный Головко. Триста спартанцев, готовых выполнить любое приказание во имя Отечества… Прости меня, Господи! Я этого не хотел.
Образ светлого Елисаветграда, где Александр Васильевич был в согласий с собой, со своим долгом и личным счастьем, навеялся вдруг. Вот зашелестели тополя и зацвели белые акации на городском бульваре, заиграла военная музыка в саду, зазвонили колокола всех десяти православных храмов, на Большой Перспективной улице — он с молодою женой… Но нет уже того временя!
Стерев светлый образ, донесся мотив кавалерийского сбора. Кто-то хрипловатым голосом напевал под окнами:
Всадники-други, в поход собирайтесь! Радостный звук вас ко славе зовет, С бодрым духом храбро сражаться, За родину сладкую смерть принять.Крымов?
Самсонов вызвал дежурного адъютанта — пусть позовет Крымова.
Полковник Крымов исполнял должность генерала для поручений при командующем, и Самсонов был привязан к нему. Да они и были похожи: Крымов, как и Александр Васильевич, широк в плечах, тучен, с бородатым, волевым офицерским лицом, какое обычно делается у военных людей после двадцатилетней службы.
— Спешил, ваше превосходительство, на наш праздник и опоздал, — сказал Крымов. — Устал.
— Я вас ждал утром, — упрекнул Самсонов. — Докладывайте.
— Завтра представлю отчет, — сказал Крымов. — При мне задержали непальца. — Английский шпион. Еще нападение на денежную почту у поста Нижне-Пенужский… В Бухаре столкновения суннитов и шиитов… — Крымов замолчал, потом спросил: — Правда, Головко разбился?
— Что делает эмир? — спросил Самсонов, хотя эмир его не интересовал.
— Эмир намерен отдыхать у нас в Крыму, — ответил полковник. — Будет хлопотать о бесплатном проезде.
— Да, да, — кивнул Самсонов. — Жаль, что вы не приехали утром… Присаживайтесь. Давайте поговорим как старые боевые товарищи. — Он сел на диван и указал на место рядом с собой.
Крымов сел, от него пахло далекой дорогой — кожей седла, лошадиным потом, табаком.
— Сознайтесь, — сказал Самсонов. — Вам никогда не приходило в голову сравнение с Римской империей?
— В том смысле, что Москва — третий Рим? В штабе второй армии, в Маньчжурии, что-то такое мелькало, но для юного генштабиста, каким я тогда был, вообще свойственна мировая стратегия.
Видя, что Крымов отшучивается и не будет опережать мысль командующего, Самсонов спросил о нападении на почту.
И полковник рассказал, как в десять часов вечера в тумане, в камышах поручик и два стражника подверглись нападению шайки разбойников, их было человек шесть — восемь; почту удалось спасти — поручик приказал одному стражнику утекать, а сам с другими стал отбиваться.
Это простое словцо «утекать» напомнило Александру Васильевичу, что Крымов командовал казачьим полком.
— Что поручик? Убит? — спросил он.
— Не зарубили, — сказал Крымов. — Живой.
— Надо наградить! — решил Самсонов. — Здесь не Россия… У нас невыполнимая задача — воевать и сохранять обаяние русского имени.
— Отчего же невыполнимая? — возразил Крымов. — Возмите Англию, вот у кого нам поучиться. Создала мировую империю и возвысила свое имя.
— Нет, им тоже не избежать участи римлян, — сказал Самсонов. Есть какой-то закон, который определяет судьбы империй. Сперва Александра Македонского, потом Римская, Византийская, Испанская… Оттоманская на ладан дышит.
— Я не понимаю, Александр Васильевич, — произнес Крымов. — Эта аналогия противоестественна духу службы на окраине. — Это вы правильно заметили. Нынче еще можно глаза закрыть. А что завтра, когда прогресс даст всем мусульманам такую же силу, как англичанам, русским?
— Этим халатам? — усмехнулся Крымов. — Вы думаете, нам придется когда-нибудь отступить?
— Боюсь, что придется, — подтвердил Самсонов. — Россия будет держаться в границах распространения православной религии, тогда она неуязвима. Я служил в царстве Польском, Маньчжурии, здесь, в Средней Азии — и вижу одно и то же. Мы можем победить чужую военную силу, а сильную религию не победишь. Вспомните татарское иго. Или в Болгарии — турецкое… Вам понятно? За сотни лет они не смогли победить.
— Значит, мы отсюда уйдем, — задумчиво сказал Крымов. — Но тогда повторится Батыево нашествие… Нет, нельзя военным так далеко заглядывать! Наше дело иное.
— Надо исполнять свой долг, — согласился Самсонов. — Это нас всегда оправдывает.
* * *
Это мы всегда умели — исполнять долг. Тридцатидвухлетний Скобелев на белом коне выехал перед дрогнувшим Эстлянским полком и под огнем турок стал командовать ружейные приемы. — На караул! На плечо! В штыки колоть!
Турки участили ружейную стрельбу. Скобелев спокойным шагом проезжал по фронту полка и подбадривал: — Ишь, кровельщики начали пугать!
Звук турецкой пальбы походил, как говорили солдаты, на удар деревянных молотков по железным листам.
— Ну с богом, ребята. Вперед! — позвал генерал.
И полк вступил в дело. Ура, пошли. Проснулся медведь, полез на скаты редута, страха нет, сердце как будто испарилось.
А Калужский полк вовсе лихо шел в батальонных колоннах с музыкой, с развернутыми знаменами — под огонь. И скосило полк. Но рядом Рыльский волк без блеска атаковал; подкрался без музыки, незаметно, поротно — потерял людей в четыре раза меньше лихих калужцев, да и наград получил меньше.
Слава Скобелеву, слава Калужцам! Вечная память павшим!
Призовет Господь убитого солдата и наградит его за исполненный долг. И будут равно отмечены калужские, рыльские, все, кто принес жертву для спасения православного болгарского народа. Подивится Господь смерти канонира Ивана Байдужего, спросит: откуда у тебя такое терпение, доходящее до геройства? У канонира оторвало гранатой левое плечо, обнажилось легкое, но ни застонал он, ни вскрикнул, только крестился правой рукой, а когда пришли санитары, сам поднялся и лег на носилки. Через два часа на перевязочном пункте среди воя раненых отлетела душа Ивана, Посмотрит она сверху на опутанные дымом Балканы, на черные трупы, плывущие по реке Осме, горящие дома, девочку со штыковой раной в груди, гору рук и ног возле лазарета, бьющихся на аванпостах с черкесами горстку ахтырских гусар во главе с корнетом Самсоновым, — посмотрит на все это и приникнет к твердым коленам Господа, ища утешения.
Есть ли утешение убитому? В чем оно для принявшего сладкую смерть? В чем оно?
«В исполнении долга,» — скажет Господь. «В исполнении долга», сказал бы корнет Самсонов. «В исполнении долга» — говорил генерал от кавалерии, командующий Туркестанским округом.
Нет ничего более дешевого, чем жизнь на войне. Но одна из самых дорогих ценностей — смерть. Лейтенант французской службы Бертен, прикомандированный к 2-ому Верхнеудискому казачьему полку, после стычки с хунхузами был счастлив, что наконец попал в дело. Самсонов не видел его живым, рассказывали, что после стычки Бертен достал коньяку и угощал офицеров своего эскадрона, — наверное, это был романтически настроенный юноша. Он погиб в кавалерийском набеге на Инкоу в деревне Сан-да-кан, что по-китайски означает «три фанзы». Бертен был ранен при конной атаке засевших в деревне японцев, нога застряла в стремени, и его дотянуло до самой глинобитной стены, окружавшей Сан-да-кан. Эти три фанзы можно было обойти ради скорости набега, чтобы не превратился, как потом оказалось, в наполз, но Самсонов приказал захватить деревню и найти тело Бертена. Провозились три часа. Стемнело, подошел взвод поршневой артиллерии, грохоча колесами по мерзлой земле. Спустился густой туман, укрыл фанзы и сады. Пушки выпустили пятнадцать снарядов, но не зажгли фанз. Было уже одинадцать часов ночи. Больше нельзя было медлить, и началась ночная атака. Спешенные стрелки конно-охотничьей команды и эскадрон Нежинских драгун скрытно двинулись по полю, то и дело натыкаясь на обрезки гаоляновых стеблей, торчавших как пни. Японцы дали залп в упор, русские бросились на штурм. «Сюда, ребята! Жги» крикнул урядник из охотников. Зажгли кучу сложенного гаоляна, запылал огромный костер. Все осветилось. Ожесточение охватило дерущихся, стоны раненых, крики атакующих, треск разрастающегося пожара и вопли мирных жителей разоряемой деревни — это смешалось в гул. Выбили японцев из первой фанзы, он перебежали во вторую. «Спасите, я горю!» — раздался отчаянный голос. Это был вольноопределяющийся Рудаков, раненный одновременно с Бертеном. Он пролежал целый день, ожидая смерти, и погиб, когда выручали покойника француза. Тело Бертена нашли, Рудакова — не смогли вынести из огня.
Цена дела была высокой — три офицера и девятнадцать казаков ранено, трое казаков убито, тридцать семь лошадей убито. Не считая Рудакова.
И никто не спросил Самсонова, во имя чего принесены жертвы.
Глава вторая
Семейство Самсонова проводило летний отпуск на Кавказе, на водах. Отсюда Екатерина Александровна собиралась потом недели на две заехать в Херсонскую губернию, в родной Елисаветградский уезд, в родовую Акимовку, где малороссийское лето готовило свои роскошные угощения. А из Акимовки — назад в Ташкент, первого августа Володе надо быть в гимназии.
Началось знойное щедрое лето. Никто не думал о войне, даже те, кому было положено знать о ее приближении заранее, спокойно готовились к летнему отдыху: генерал-квартирмейстер Генерального штаба Юрий Никифорович Данилов, в ведении которого была и разведка, отправлял свою семью в деревню на запад, на границу с Австро-Венгрией; оперативный отдел Генерального штаба готовил новую полевую поездку офицеров на Кавказ; генерал Брусилов выехал с женой в Германию в Бад-Кисинген.
Итак, военное министерство, Генеральный штаб, а затем государь разрешили отпуск и генералу Самсонову.
В Новочеркасске, где Александр Васильевич после японской служил наказным атаманом войска Донского, захотелось ему выйти из поезда, поглядеть на донскую столицу, на войсковой собор, третий в России после Исаакиевского и Христа Спасителя, на Ермака у атаманского дворца, вообще на бойкий красивый южнорусский народ.
В Новочеркасске на вокзале его встречал генерал Покотило с конвойной сотней и музыкантами. Большой, седоусый Покотило обнял Александра Васильевича, вспомнил набег на Инкоу, когда Самсонов командовал одной из колонн, и дождался, что тот в свою очередь вспомнит, как атаман ходил в цепи в атаку и был ранен.
Это была встреча старых маньчжурцев, героев японской войны, и народ таращился на генералов и любовался.
— Александр Васильевич! — окликнули Самсонова, он вгляделся и узнал горного инженера, старинного приятеля… как же его фамилия? Забыл!
Инженер был в белом чесучовом костюме, в белой фуражке с золотистыми молоточками, телом жилист, а лицо — беспородное, умное.
Самсонов вскинул голову и приподнял руки, как бы готовясь к объятиям. Инженер подошел и остановился рядом с Покотило.
— Что такое? — нахмурился в его сторону наказной атаман. — И сразу оба адъютанта, покотиловский и самсоновский, оттеснили инженера, чтобы тот обождал очереди и не лез.
Самсонов не вмешивался, но показал жестом: ждите, таков порядок.
— Эх, Александр Васильевич, — вполголоса пожаловался Покотило. — Вам хорошо среди азиатов, они уважают…… А тут кто мало-мальски завел предпринимательство, сразу волком на тебя глядит, как на персидского сатрапа. Устои, видите ли, его стесняют!
— А что если мы последние? — спросил Самсонов. — Ведь мы — дети поместий и дворянской вольности. Что нам нужно? Добрый конь, послушный эскадрон да хорошенькая хозяйка… — Он усмехнулся и показал на паровоз, возле которого стоял кто-то замасленный черномазый. — А сия огнедышащая машина? Ей нужны иные генералы. Тот инженер — новый помещик…
— Кто?! — воскликнул Покотило. — Он?! А вот! — И сжал могучий кулак рубаки. — Вот!
Но вот Новочеркасск позади. Не увидел он собора, ни Ермака, только повеяло в душу что-то горькое, прощальное. Не бывать тебе больше на Дону, Александр Васильевич! Не видать больше ни Ташкента, ни Киева, ни Петербурга, ни Елисаветрада, где тебе выпала судьба служить. И ждут тебе не минеральные источники, а восточно-прусские леса, пески и болота. Скоро, совсем скоро станешь ты командующим несчастливой второй армии.
А пока мчится поезд, плывут за окнами казачьи хутора, ползут арбы, запряженные волами, пылят по дорогам верховые, — и все это как будто пятьдесят и сто лет назад.
На столике стоит блюдо с вишнями. Красный сок течет у Верочки по подбородку. Ее пальцы перемазаны розовым. Она щурится, выбирает большую вишню и дает ее брату.
Самсонов глядит на детей, на жену — он на вершине жизни, он счастлив.
* * *
Сперва Россию как бы приглашали задуматься о том, что Англия готова поддержать ее интересы. Военный агент Ермолов сообщил 1 января 1914 года генерал-квартирмейстеру Данилову:
«Доношу, что на днях меня посетил военный корреспондент газеты „Таймс“ полковник Репингтон и сообщил следующее:
Английское общественное мнение до сих пор по непониманию относившееся довольно равнодушно к вопросу о германской военной миссии в Константинополе теперь начинает осознавать те многие невыгоды и опасности, кои связаны с этой миссией, не только для России, но и для Великобритании. Ближайшая опасность для Англии заключается в том, что так как Англия получает значительную часть своего ввоза продовольственного из южной России через проливы, то утверждение германского влияния на Босфоре приведет в конце концов как бы к тому, что, как выразился Репингтон, „германский генерал будет как бы держать в своих руках продовольствие Англии и в случаи войны Англии с Германией будет иметь возможность угрожать Англии остановкой ее продовольственного ввоза, то есть просто голодом“.
Помимо вышеизложенного, крайне для Англии серьезной опасности, отмечается еще и та, что германское влияние на Босфоре приведет к усилению Германии в Малой Азии и давлению Германии на английские сообщения в Индии…»
Это было прозрачный намек; и Российский Генеральный штаб, и Министерство иностранных дел признали сообщение Ермолова очень важным, тем более еще памятен был убыток, понесенный Россией в 1912 году во время Балканской войны, когда из-за закрытия Проливов потеряли сто миллионов рублей от прекращения экспорта.
Правда, визит полковника Репингтона был неофициальным прощупыванием. Правительство же короля не собиралось заключать союза с Россией, и английский министр иностранных дел Грей намекал русскому послу Бенкендорфу, что России следует вывести свои войска из Персии, ибо это произведет огромное впечатление на англичан……
Уже после саратовского выстрела русский посол в Берлине Свербеев встретился с английским послом и сообщил об этом в МИД.«…Я изложил моему английскому коллеге свою точку зрения и прибавил, что ввиду существующего в Германии убеждения в том, что в случае вооруженного столкновения между Германией и Австрией, с одной стороны, и Россией и Францией — с другой, Англия будет придерживаться строгого нейтралитета, тот или иной выход из настоящего положения всецело зависит от Англии. Если сэр Эдуард Грей ясно и категорически заявит в Берлине, что Великобритания твердо решила действовать совместно с Россией и Францией — мир обеспечен. Английский посол мне ответил, что ему неизвестны намерения его правительства и, несмотря на все приведенные мною в защиту моего мнения аргументы, я не получил от него никакого удовлетворительного ответа».
Казалось, англичане не понимают, куда поворачиваются события, и хотят выжидать до последней минуты, чтобы обеспечить наибольшую выгоду решения.
10 июля русские перехватили и расшифровали секретную телеграмму Берхтольда послу в Петербурге Сапари. «…Князь Лихновский телеграфирует о сделанном ему Греем заявлении, что он не верит в военные осложнения по сербскому вопросу; во всяком случае нужно безусловно избежать всеобщего пожара. Он заключает из этого, что Англия даже в крайнем случае постарается воздержаться от всякого военного вмешательства».
Телеграмму читал Николай II, никаких пометок не оставил. Как можно было отнестись к вольному или невольному поощрению Англией Австро-Венгрии к развязыванию войны против Сербии?
В тот же день русский посол в Сербии Штрандман сообщил Сазонову:
«Только-только, в 6 часов вечера, австрийский посланник вручил ультимативную ноту своего правительства, дающую 48-часовой срок для принятия заключающихся в ней требований. Тиэль добавил на словах, что в случае непринятия ее целиком в 48-часовой срок ему предписано выехать из Белграда с составом миссии».
Телеграмма поступила в Петербург утром, 11 июля. Сазонов прочитал ее и мрачно произнес: «Это европейская война».
Но почему война? Еще ни государь, ни Совет министров ничего не знали. Еще послы Германии, Франции, Англии — Пурталес, Палеолог, Бьюкенен спокойно занимались утренними делами. Еще Россия не готова ни к какой войне, ее Большая военная программа только-только принята…
Что двигало Сазоновым и в конечном счете Российской империей?
В австрийском ультиматуме не было ни одной строки, задевавшей русское достоинство, а самым тяжелым для Сербии было требование допустить для проверки расследование на сербской территории австрийскую полицию.
И не так давно, всего пять лет назад, Россия, понимая, что ее сил недостаточно, не противилась аннексии Боснии и Герцеговины, сохранила мир и жизни. Она могла уклониться от войны и сейчас.
Или ею двигало национальное рыцарство? Так же, как и под Плевной и на Шипке?
Оставим рыцарство для русофильной сказки. Проливы, вывоз товара — вот за что собиралась воевать империя и уповала на покорную русскую силу.
В три часа дня заседал совет министров и положил:
I… снестись с кабинетами великих держав в целях побуждения Австро-Венгерского правительства к предоставлению Сербии некоторой отсрочки в деле ответа на предъявленный ей австро-венгерским правительством ультимативного требования, дабы дать тем возможность правительствам великих держав изучить и исследовать документы по поводу совершившего в Сараеве злодеяния….
II…Посоветовать Сербскому правительству на случай, если положение Сербии таково, что она собственными силами не может защищаться против возможного наступления Австро-Венгрии, не противодействовать вооруженному вторжению на сербскую территорию, если таковое вторжение последует, и заявить, что Сербия уступает силе и вручает свою судьбу решению великих держав.
Первые два пункта были миролюбивы, зато следующими Совет министров делал шаг к войне.
III. Предоставить военному и морскому министрам испросить высочайшего Вашего императорского соизволения на объявление, в зависимости от хода дел, мобилизации четырех округов — Киевского, Одесского, Московского и Казанского, Балтийского и Черноморского флотов.
IV. Предоставить военному министру незамедлительно ускорить пополнение запасов материальной части армии.
V. Предоставить министру финансов принять меры к безотлагательному уменьшению принадлежавших финансовому ведомству сумм, находящихся в Австро-Венгрии…
Николай II согласился со всем этим, добавил только одно — готовить к мобилизации и Балтийский флот. В первоначальном документе о Балтике, поскольку она не граничит с двуединой империей, не упоминалось.
Зато Балтика граничит с Германией!
В 7 часов вечера в Министерство иностранных дел на Певческий мост прибыл германский посол Пурталес; он оправдывал Австро-Венгрию, доказывал необходимость защиты монархического принципа.
Сразу же за Пурталесом Сазонов принял Палеолога, француз без обиняков заявил: «Между нами полное согласие».
Итог этому дню подвела телеграмма из Белграда Николаю II: «……Австро-венгерская армия сосредоточилась около наших границ и может нас атаковать по истечении срока. Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать нам помощь возможно скорее. Ваше Величество дало нам столько доказательств своего драгоценного благоволения, и мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в его славянском и благородном сердце. Я являюсь выразителем чувств сербского народа, который в эти трудные времена молит Ваше величество принять участие в судьбе Сербии. — Александр».
Мольба сербов мало трогала работников на Певческом мосту, но для народа, для сострадающих братушками народа, она была как нельзя понятна. Ею не следовало пренебрегать.
Наступило 12 июля.
Сазонов в докладной записке Николаю II пишет: «…Персидские дела не внушают опасения, так как России и Англии, при взаимном желании придти к соглашению, нетрудно будет столковаться на этой почве…… В настающую минуту все касающееся Персии отступает на второй план перед осложнениями, вызванными обострением австро-сербских отношений.
…В случае дальнейшего упорства Австрии в таком направлении Россия не будет в состоянии остаться равнодушной. Нужно надеяться, что в таком случае Россия и Англия окажутся вместе на стороне права и справедливости и что бескорыстная политика России, единственная цель которой — помешать установлению гегемонии Австрии на Балканах, найдет энергичную поддержку со стороны Англии».
Сазонов до конца не уверен в сэре Грее. Наверное, поэтому в его словах больше предположений, чем доказательств.
В тот же день сообщение Бенкендорфа проливает свет на желания Лондона. «Германский посол спросил, согласится ли Англия действовать в Петербурге в примирительном смысле. Грей ответил, что это совершенно невозможно. Он при этом добавил, что английские интересы затронуты лишь косвенно, но что он должен предвидеть, что австрийская мобилизация вызовет мобилизацию России и что с этого момента возникнет положение, в коем заинтересованы будут державы… Антанты. Англия в этом случае сохранит за собой полную свободу действий».
Англия не собирается добиваться мира. Это становилось все яснее.
12 июля военный агент Ермолов сообщал в Генеральный штаб: «Английский генеральный штаб уверен, что Австрию толкает на войну Германия, так как Берлин полагает обстановку благоприятной».
Телеграмма из Белграда от Штрадмана: «Несмотря на крайнюю примирительность ответа на ультиматум, австрийский посланник только что, в половине шестого вечера, уведомил сербское правительство нотою, что он, не получив в установленный срок удовлетворительного ответа, со всем составом миссии покидает Белград…»
Начальник Генерального штаба Янушкевич сообщил членам комитета Генерального штаба, что государю-императору было благоугодно признать необходимость поддержать Сербию, хотя бы для этого пришлось объявить мобилизацию и начать военные действия, но не ранее перехода австрийскими войсками сербской границы.
При этом из отпусков отзывались все офицеры.
Бенкендорф сообщал 13 июля Сазонову более определенно: «…Англичан страшит не столько австрийская гегемония на Балканах, сколько мировая гегемония Германии».
Видимо, Лондон счел поставленную цель достигнутой, коль так прямо указал на своего главного неприятеля.
15 июля сербская миссия в Петербурге направила Российскому МИДу памятную записку: «Имеют честь довести до Вашего сведения, что я только что получил от г. Пашича, председателя совета, весьма срочную телеграмму, отправленную из Ниша сегодня в 2 ч. 10 мин. пополудни и составленную в таких выражениях:
„В полдень австро-венгерское правительство прямой телеграммой объявило войну сербскому правительству. — Пашич.“
Извещая Вас об этом прискорбном акте, который великая держава решилась совершить по отношению к малому славянскому государству, едва вышедшему из длинной серии боев, столь же героических, сколько изнурительных, я позволю себе в этот момент, столь тяжелый для страны, выразить надежду, что этот акт, нарушающий мир Европы и в равной степени смущающий ее сознание, будет осужден цивилизованным миром и сурово наказан Россией, покровительницей Сербии… — М. Спалайкович.»
Война началась в самом слабом месте Европы и ей вслед сразу выстраивались предыдущие войны со своим наследством: Крымская, Прусско-французская, русско-турецкая.
Сазонов передал поверенному в делах в Берлине Броневскому: «Сообщение в Вену, Париж, Лондон, Рим.
Вследствие объявленной Австрией войны Сербии нами завтра будет объявлена мобилизация в Одесском, Киевском, Московском и Казанском округах. Доводя об этом до сведения германского правительства, подтвертите отсутствие у России каких-либо наступательных намерений против Германии. Наш посол в Вене пока не отзывается со своего поста…»
Палеолог посетил Сазонова и по поручению своего правительства заявил о полной готовности Франции исполнить, если понадобится, свои союзнические обязательства.
Франция помнила Седан. Без русского «парового катка», тяжеловесной военной машины, она никогда бы не смогла вернуть долг 1870 года.
Осталось обеспечить себя перед лицом истории.
В тот же день 15 июля германский император Вильгельм II направил Николаю II телеграмму: «С глубоким сожалением я узнал о впечатлении, произведенном в твоей стране выступлением Австрии против Сербии. Недобросовестная агитация, которая велась в Сербии в протяжении многих лет, завершилась гнусным преступлением, жертвой которого пал Эрцгерцог Франц-Фердинанд. Состояние умов, приведшее сербов к убийству их короля и его жены, все еще господствует в стране. Без сомнения, ты согласишься со мной, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы всех монархов, требуют, чтобы все лица, нравственно ответственные за это подлое убийство, понесли заслуженное наказание. В данном случае политика не играет роли».
Если не политика, то что же играло здесь роль? Библейский принцип — око за око?
Но будь принято увещевание Вильгельма, и Россия не ввязалась бы в войну? Тогда наверняка Франции проявила бы миролюбие. А владычица морей, лишившись «континентальной пехоты», искала бы другие средства обеспечить свои восточные интересы.
Пусть даже ценой поражения Сербии мир был бы сохранен. А в конечном итоге Австро-Венгрия была бы вынуждена отступить.
Однако мало кто думал тогда о мирном пути. Европа еще мыслила феодальными представлениями и видела быстрые победы наполеоновскими стремительными ударами, — германцы за сорок дней собирались взять Париж, французы и русские — Берлин.
Никому не приходило в голову, что наступает время, когда войны не выигрываются.
15 июля русский посланник Демерик в Гамбурге доносил: «Наш офицер при верфи в Киле сообщает через миссию морскому агенту в Берлине, что часть действующего флота прошла ночью в Данциг в боевой готовности.»
15 июля начальник Генерального штаба Янушкевич направил телеграмму главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа великому князю Николаю Николаевичу, наместнику на Кавказе Воронцову-Дашкову, командующим войсками Московского, Варшавского, Казанского, Виленского, Киевского, Одесского и Иркутского округов — Плеве, Жилинскому, Зальцу, Ренненкампфу, Иванову, Никитину и Эверту и наказному атаману войска донского Покотило: «Сообщается для сведения: семнадцатого июля будет объявленно первым первым днем нашей общей мобилизации. Объявление последует установленною телеграммой».
Мобилизация еще только готовится, но главная пружина войны уже сорвала все стопорные устройства. Отныне начинает двигать страх оказаться менее готовым, чем противник. Страх подгоняет, ускоряя войну. Мира уже не спасти.
16 июля Сазонов телеграфирует в Париж послу Извольскому, тому самому Извольскому, который был его предшественником на посту министра иностранных дел и ушел с него пять лет назад после австрийского продвижения в Боснию и Герцеговину, когда военные решили, что Россия еще недостаточно сильна для войны.
«Срочно.
Сообщается в Лондон.
Германский посол заявил мне сегодня о решении своего правительства мобилизовать свои силы, если Россия не прекратит делаемых ею военных приготовлений. Между тем таковые стали приниматься нами только вследствие состоявшейся уже мобилизацией восьми корпусов в Австрии и очевидного нежелания последней согласиться на какой бы то ни было способ мирного улаживания своего спора с Сербией.
Так как мы не можем исполнить желания Германии, нам остается только ускорить наши вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны…»
Итак, война. Мир агонизирует, ничто не спасет его.
Но неожиданно утром, в девять часов тридцать минут, 16 июля в Министерство иностранных дел позвонил германский посол граф Пурталес и сказал начальнику канцелярии барону Шиллингу, что желает видеть господина Сазонова и передать ему приятное сообщение. Что за приятное сообщение, когда на Певческом мосту уже отвыкли от приятных сообщений из Берлина? «В 11 часов С. Д. Сазонов принял гр. Пурталеса, который сказал ему, что Германия согласна продолжить делаемые ею попытки, чтобы склонить венский кабинет к уступкам, но просил, чтобы это было сохранено в тайне, так как разглашение подобных намерений германского правительства могло бы создать впечатление, будто взгляды Австрии и Германии в настоящем случае не вполне согласны. Кроме того, посол настойчиво просил, чтобы преждевременной мобилизацией у нас не было бы создано препятствия к осуществлению Германией желательного воздействия на Вену.
По уходе после означенного заявления обсуждалось министром с А. А. Нератовым, бар. Шиллингом и кн. Трубецким. При этом ставился вопрос, действительно ли Германия намерена оказать в Вене серьезное воздействие, или порученное гр. Пурталесу сообщение рассчитано лишь на то, чтобы, усыпить наше внимание, по возможности отсрочить мобилизацию русской армии и выиграть время для соответствующих приготовлений. Общее впечатление было таково, что если даже допустить искренность в данном случае Германского правительства, то все же приходится усомниться в достижимости этим путем практических результатов, так как Австрия зашла уже столь далеко без содействия или, по крайней мере, потворства Германии, то следует предположить, что влияние последней в Вене сильно упало, а потому и в данную минуту германскому правительству едва ли удастся многого достигнуть.
В три часа германский посол вновь приехал к министру и прочел телеграмму императорского канцлера, в которой говорилось, что если Россия будет продолжать военные приготовления, хотя бы и не приступая к мобилизации, и в таком случае последует с ее стороны немедленное нападение. На это сообщение С. Д. Сазонов резко ответил: „Теперь у меня нет больше сомнений относительно истинных причин австрийской непримиримости“.
Гр. Пурталес вскочил со своего места и также резко воскликнул: „Я всеми силами протестую, господин министр, против этого оскорбительного утверждения“. Министр сухо возразил, что Германия имеет случай на деле доказать ошибочность высказанного им предположения. Собеседники расстались весьма холодно.
Вскоре по уходе германского посла в кабинет министра в присутствии А. А. Нератова и бар. Шиллинга позвонил телефон: государь император лично сообщал С. Д. Сазонову, что им только что получена от императора Вильгельма телеграмма с убедительной просьбой не допустить дело до войны. С. Д. Сазонов воспользовался случаем, чтобы доложить Его Величеству о сделанном ему несколько минут перед этим заявлением гр. Пурталеса и при этом указал на то, как мало согласуются слова германского императора с данным им своему послу поручением. Государь сказал, что он тотчас телеграфирует в Берлин, чтобы получить объяснение означенного противоречия.
Его величество разрешил С. Д. Сазонову безотлагательно переговорить с военным министром и начальником Генерального штаба по вопросу о нашей мобилизации.
К этому времени получено известие о начале бомбардировки Белграда австрийцами… (из поденной записи министерства иностранных дел 16 июля).»
Еще были колебания какую — мобилизацию назначить, общую или частичную. Еще велась переписка Николая с Вильгельмом. Еще Пурталес встречался глубокой ночью с Сазоновым и запрашивал его, не можем ли мы удовлетвориться обещанием Австрии не нарушать целостности Сербии.
Но все это уже не имело никакого значения! Известие о полной мобилизации вызвало у русских министров восторг.
17 июля Австрия мобилизировала свои войска на русской границе.
19 июля (1 августа по новому стилю) Германия объявила войну России.
20 июля Франция объявила мобилизацию.
21 июля Германия объявила войну Франции.
22 июля германские армии вошли в Люксембург и Бельгию, чей нейтралитет гарантировался Россией, Францией, Англией. Дорога на Париж была спрямлена.
* * *
И вот Александр Васильевич Самсонов получил предписание ехать принимать вторую армию, долженствующую наступать на Восточную Пруссию. Он принял предписание спокойно. Все же это была не первая, а уже третья его война, и волноваться было нечего. Генералов не убивают на поле брани, а если такое случается, то в общем крайне редко.
Екатерина Александровна, помня японскую войну и свои переживания, спешно заказала ювелиру медальон с короткой надписью: «А. В. Самсонову. Мы с тобой». Что она еще могла? Спрашивала совета, где жить, в Ташкенте? Или вернуться в Елисаветград? Обещала строго следить за Володей, беречь Верочку. И все смотрела, смотрела на Александра Васильевича своими яркими ясными глазами, как будто снова превратилась в гимназистку. Но с каждой минутой уходил Александр Васильевич все дальше к неведомой армии, погружаясь в волны «Бородина» и освобождался от бренного обывательского мира. Он с радостью выходил в суровый мир войны.
Вечером накануне отъезда Екатерина Александровна услыхала голоса мужа и сына, доносившиеся из детской комнаты. Они пели:
— Всадники-други, в поход собирайтесь! Радостный звук вас ко славе завет, С бодрым духом храбро сражаться, За родину сладкую смерть принять.
У нее сжалось сердце. Зачем он это делал? Какое напутствие давал сыну? Куда звал?
Она вошла к ним, и они умолкли. Александр Васильевич улыбнулся.
Таким Екатерина Александровна запомнила его: большой, стриженный под короткий ежик, с сильной сединой на висках, чуть курносый, с мохнатыми черными, тоже с проседью бровями, черной бородой, большими печальными глазами.
— Знаешь, что я подумала? — спросила она. — Там ведь Жилинский. Это плохо.
Самсонов нахмурился, как будто она допустила бестактность, и ответил, что Яков Григорьевич — его старый товарищ. Она почувствовала, что муж не намерен допускать ее в генеральский мир. Он был связан с этим «живым трупом» еще сильнее, чем прежде. Он хотел, даже жаждал убедить ее, что это единый, светлый, героический мир.
— Бог с тобой, — вздохнула Екатерина Александровна.
* * *
В Ростове на вторых железнодорожных путях казаки заводили по мосткам в вагоны лошадей. Рыжая кобыла дергала головой, норовилась вырваться, а казак бил ее ногайкой.
Самсонов с адъютантом вышли на перрон. Грузился какой-то второочередной полк, и на перроне негде было яблоку упасть; освещенные той внутренней свободой, которую всегда порождает военная община, лица казаков на все лады отражали одну и ту же вольную усмешку.
У Александра Васильевича мелькнула мысль о том, что станется с этими людьми, если вправду начнется война. Но он так же, как и они, ощущал себя частицей великой русской силы, поднимавшейся со всех сторон державы, поэтому не лежала душа печалиться, легко соединялась с народной душой.
На Александра Васильевича оглядывались, один маленький плечистый есаул вытаращился и рот раскрыл, словно собираясь что-то спросить, но тут кто — то крикнул:
— Генералу Скобелеву — ура!
Неужели Самсонова приняли за Дмитрия Михайловича? Или так был близок нынешний подъем тому, пятидесятилетней давности? Ведь и сейчас тоже шли на защиту славянства.
Самсонов вернулся в вагон и как будто был корнетом — снова молодая бескрайняя жизнь одарила его бесценной минутой.
— Ишь, разгулялись казачки! — кивая на окно, весело вымолвил адъютант. — Теперь им что Скобелев, что Стенька Разин.
— Стенька Разин? — спросил Самсонов.
Ему такое не приходило на ум. Но адъютант молод, для него важна не точность мысли, а эффект, и разбойник Стенька здесь ни при чем. Поезд подергался и поехал. Вокзал уплыл.
В купе заглянул знакомый инженер, попросил позволения войти. На сей раз его имя вспомнилось — Шиманский.
— А, господин Шиманский! — с облегчением произнес Самсонов, освобождаясь от груза забывчивости. — Значит, с нами едете?
Инженер сел на бархатный диван, закинул ногу на ногу, стал сердито говорить о мобилизации.
— Зачем нам воевать, Александр Васильевич? — спросил он.
Самсонова это задело. Во-первых, о мобилизации как о государственном деле не следовало говорить открыто, а инженер, которому даже не положено было о ней знать, не только говорил, но и осуждал; во-вторых, никакой войны еще не было.
— Мы не воюем, — сказал Самсонов. — С чего вы городите эту чепуху!
— Значит, если я с вами не согласен, то я горожу чепуху? — заметил Шиманский. — Вот так у нас всегда. Как только мы, промышленники, хотим что-то сделать на благо прогресса, вы все, у кого власть… неправильно это, Александр Васильевич! Неправильно и вредно для отечества. Какой интерес в том, чтобы промотать на войне народный труд?
— По-моему, вы не были социалистом. Я вас не понимаю, — возразил Самсонов. — Разве вы не заметили, какой подъем? Именно народная душа выплескивается в такие минуты… Мы заступимся за маленькую беззащитную Сербию, это наш долг!
— А проливы? — спросил Шиманский. — Никакой это не долг, а чистой воды помещичий феодализм толкает нас воевать ради хлебной торговли. И для отвода глаз — все эти общеславянские задачи, маленькая Сербия, историческое наследство на Востоке, какое, скажите на милость, у нас может быть наследство от Византии?
— А религия? — спросил Самсонов. — А сострадание славянам? Я знаю ваши штучки: промышленная выгода, прогресс! Какой был прогресс, когда ваш собрат из Владивостока Бринер и затем полковник Безобразов затеяли возню в Корее с лесными концессиями? Разве в России мало леса? Так нет же, полезли, столкнули нас с Японией. А что вышло? «Япошки-макаки, а мы — кое-каки». Вот ваш прогресс, Петр Иосифович! Россия жила сотни лет по-своему, ее вам не переделать.
— Напрасно вы не видите резона в моих словах, — сказал инженер. — Я тоже против войны. Нечего нам ни с кем связываться. Наша держава так велика, что ее рынок внутри огромен, продавай, что хочешь — все пойдет. А ради помещиков и хлебных спекулянтов начинать войну — зачем?
— Никто ради спекулянтов! — крикнул Самсонов.
— Да, разумеется, в газетах напишут что-нибудь патриотическое. А в основе — все в России до сих пор повернуто в прошлое. Будь у промышленников политическая сила, мы бы удержали страну от пагубного шага.
— Нет, — сказал Самсонов решительно. — Наибольшая для России опасность — растерять наши исторические идеалы, потерять живой религиозный дух. Без веры нет человека, без веры он — только умный зверь.
— И кончится страшным разгромом нашего хозяйства! — Тоже громко произнес Шиманский. — Мы надорвемся! Никакая религия не спасет. И что печально, пострадают самые активные, образованные силы. Народ-богоносец вспорет им животы. А после — наступит средневековье.
— Плохой из вас пророк, Петр Иосифович! — буркнул Самсонов. — Не хочу с вами ссориться, помню вас совсем другим человеком… Большая с вами произошла перемена.
— Никакой перемены. Мы накануне войны, а война… — Шиманский не договорил, встал и на прощанье сказал: — Храни вас Бог, Александр Васильевич. — За ним закрылись двери купе.
— Шпак! — презрительно вымолвил адъютант. — Вот такие шпаки все и портят.
На сей раз адъютант был полностью прав. Но эти слова — о хлебных спекулянтах! Они перекликались с самсоновскими мыслями о причинах японской кампании, — как это увязывалось?
* * *
На третий день мобилизации Самсонов прибыл в Варшаву. Яков Григорьевич принял его незамедлительно во дворце Бельведер в парке Лазенки на берегу озера. Высокий старик с землисто-желтым лицом не был похож на старшего вахмистра Жилинского, совсем состарился Яков Григорьевич.
Война уже была объявлена, Самсонов узнал о ней в дороге, пережив волнение и нетерпение. Теперь в кабинете командующего Варшавским округом, а вернее — главнокомандующего Северо-Западным фронтом, Александр Васильевич был собран и спокоен.
В кабинете был начальник штаба фронта Владимир Александрович Орановский, высокий голубоглазый блондин, знакомый Самсонову еще с Маньчжурии, где полковник Орановский служил в штабе Линевича, своего тестя.
— Вспоминаете? — добродушно спросил Орановский, кивая на окно, за которым зеленели липы королевского парка. Владимир Александрович выказывал уважение к герою прошлой войны, свидетельствовал, что в Варшаве не забыли, что Александр Васильевич здесь служил дважды, первый раз — еще при старом Гурко, а второй — после Маньчжурии. — Помню, как Гурко нас воспитывал, сказал Самсонов. — Он за Горный Дубняк чувствовал свою вину… — И, не вдаваясь в воспоминания, спросил о частях своей армии и ее штабе.
Орановский на это ответил вполне удовлетворительно, но говоря о штабе второй армии, который создавался, как и штаб фронта, на базе штаба округа, Владимир Александрович взял чуть извинительную интонацию.
Еще бы! Самсонов понял: Жилинский оставил себе весь лучший кадр.
— Я бы предпочел сам сформировать свой штаб, — заявил Самсонов. — Ни Постовского, ни Филимонова я не знаю.
— В данную минуту твое пожелание неисполнимо, — сказал Жилинский. — И нечего об этом говорить.
— Почему же нечего? — удивился Самсонов. — Ты, Яков Григорьевич, должен понимать, какое значение имеет согласованность командующего со своим штабом. Коль я командующий, то я имею право выбрать себе соратников.
— Ты командующий, Александр Васильевич, верно. Но есть и главнокомандующий и Верховный командующий, — скрипучим голосом высокомерно произнес Жилинский, осаживая Самсонова. — Я знаю Петра Ивановича Постовского. Владимир Александрович его знает. Отличный был генкварт. И Филимонов зарекомендовал себя в Новогеоргиевской крепости с лучшей стороны. Чем же ты недоволен?
Самсонов молчал.
— Владимир Александрович, к карте, пожалуйста, — посчитав обсуждение штаба армии завершенным, распорядился Жилинский. Он, очевидно, не сомневался в своем превосходстве над Александром Васильевичем.
Орановский подошел к столу с большой картой. Самсонов шагнул навстречу Жилинскому и негромко сказал: — Ты, Яков Григорьевич, старше меня годами, всегда был близок петербургскому свету, а я все по окраинам служу… И я не понимаю. Я подчиняюсь, но не понимаю.
— Не будем отвлекаться, Александр Васильевич, — ответил Жилинский. Понимаешь или не понимаешь — не все ли равно. Нечего после драки кулаками махать. Мы не кадеты. Да, помнится, будучи кадетом, не я ли тебя учил фехтованию и рубке?.. Похвально, что ты подчиняешься старому товарищу.
Жилинский улыбнулся своей неживой улыбкой, обнажив длинные скошенные зубы.
Орановский стал показывать над Восточной Пруссией штабное умение водить по карте войска.
Самсонов поглядел: леса, озера, паутина железных дорог; его корпуса должны наступать в расходящихся, как растопыренные пальцы, направлениях по лесным дорогам, а это что? — первая армия генерала Ренненкампфа, того самого, что ходил в Маньчжурии с маузером в стрелковой цепи и дважды не пришел на помощь Самсонову, наступает с Севера в обход Мазурских озер, а вторая армия с юга; — это значит, что чем дальше углубляется армия, тем в более опасное положение она попадает; несомненно с фронта Алленштейн Лаутенбург, к которому с запада тянется семь железных дорог, немцы нанесут фланговый удар…
— Что-то не пойму, — задумчиво произнес Самсонов. — Обстановка сложная, я должен поработать со своим начштаба, чтобы в ней разобраться. Пока корпуса моей армии подходят к районам сосредоточения, нам тоже надо подготовиться.
— Хорошо, готовьтесь, работайте со штабом, — сухо ответил Жилинский. Жаль, что тебя не было на Киевской игре… Вот здесь первая, вот отсюда вторая. Здесь соединяетесь. Немцы в клещах.
— Слишком быстро, — недоверчиво вымолвил Самсонов. — Так они и будут ждать при наличии стольких дорог. Здесь сколько верст? По воздуху я их преодолею? С обозами? Нет, это орешек непростой.
— Можно идти налегке, без обозов, — еще суше сказал Жилинский. — Ты в Туркестане оторвался от европейского театра, привык по-азиатски медленно…
— Медленно или как там еще, только мы неисправимы, методическая работа нам не по сердцу. Наш любимый герой — «навались, братцы!» — Самсонов явно возражал и дальше собирался возражать.
Он еще не понял, кто здесь главнокомандующий армиями фронта, и мыслил себя независимым туркестанским генерал-губернатором.
— Русские любят раздоры, — ледяным тоном сказал Жилинский. — Если вы, господин генерал, в прошлом достигали славы, не исполняя приказаний начальства, то нынче это следует отбросить. И только глубоко уважая и ценя вас, я допускаю между нами отношения старой дружбы. Но не надо ими злоупотреблять.
Он отчитывал Александра Васильевича, даже припомнил случай под Ляояном, когда Самсонов не отступил согласно приказу в августе девятьсот четвертого года, держался у станции Янтай-копи со своей дивизией целых два дня, благодаря чему три корпуса имели возможность отступить беспрепятственно по Мандаринской дороге. За тот бой Самсонов получил орден святого Георгия четвертой степени. Упрек в неисполнении приказаний был горек. Неожиданно помог Орановский, который тоже был под Ляояном:
— Яков Григорьевич! Александр Васильевич еще должен поработать в оперативном отделе, войти в обстановку.
— Ну, разумеется, — согласился Жилинский. — Чтобы потом нам не говорил — «Навались, братцы». Мы должны разбить Германию, спасти Францию, и мы выполним наш долг.
* * *
В тот же день Самсонов познакомился со своим начальником штаба Постовским и генерал-квартирмейстером Филимоновым.
От Постовского веяло нервной энергией, строптивостью и нестойкостью. В штабе Варшавского округа он имел прозвище «бешеный мулла», — не за облик, а за натуру.
Маленького роста, стриженный под бобрик, Филимонов помалкивал, крепко сжав узкогубый рот. А Постовский горячо разносил план Жилинского.
— Это просто фантастическое гуляние вокруг Мазурских озер, а не стратегическая операция! — заявил Петр Иванович и повторил самсоновскую догадку о возможном фланговом ударе немцев с фронта Алленштейн — Лаутенбург.
— Вы знаете, Александр Васильевич, — продолжал Постовский. — Еще в одиннадцатом году мы агентурным путем добыли сведения о военной игре германского генштаба. Они уже разыгрывали наше наступление в Восточную Пруссию. На наш удар в сторону Мазурских озер, они отвечают ударом в наш левый фланг и тыл из района Остероде, Дейч-Эйлау.
— Жилинский знает? — спросил Самсонов.
— Яков Григорьевич все знает, — ответил Постовский. — У него другая точка зрения.
— Черт побери! — рыкнул Самсонов. — К чему же это приведет? По директиве фронта мы должны окружать германские силы, как будто они останутся неподвижны в течение всей операции. Но так не получится.
Постовский наклонил набок голову и заметил:
— «Вейротер думал, что моя армия останется неподвижной, как верстовые столбы на дорогах». Это Наполеон после Аустерлица.
— А что вы думаете о директиве? — спросил Самсонов.
— Честно?
На это Самсонов не ответил. Ему не хватало воздуха, он шумно дышал.
— Нарушено основное требование стратегии: у нас мало сил в направлении главного удара, — неуверенно сказал Постовский. — Вы согласны?
Снова промолчал Самсонов.
— У нас открытый левый фланг, — продолжал Постовский. — Это крайне опасно. Мы должны соединиться с первой армией, но в директиве нет указаний на время и район установления связи армий. Это не может не вызывать тревоги…
— «Не может не вызывать»! — гневно воскликнул Самсонов. — Да, это почти исключает взаимодействие армий! Вы говорили об этом Орановскому?
Постовский вытянулся, напряженно глядел сквозь пенсне на Самсонова, как будто потеряв дар речи.
— Орановскому говорили? — повторил Александр Васильевич.
— Только в общем, — признался Постовский. — Директиву не принято обсуждать. Но, полагаю, нам надо довести наши соображения…
Стало видно, что начальник штаба армии в обстановке разбирается, но лишен начальственной воли, робок, несмотря на свою нервную энергию, и поэтому едва ли надежен. Что же делать?
— У вас есть дополнения? — обратился к Филимонову.
— Срок перехода в наступление выбран чрезмерно поспешный, — почти зло сказал генерал-квартирмейстер. — Придется войскам идти без обозов третьего разряда и тыловых учреждений.
Значит, наступать надо было налегке, впроголодь, с малым запасом снарядов. Снова заводилось вечное русское правило — не жалеть людей.
Что же это? Неужели не готовы к войне? Но не может этого быть!
И верил и не верил Самсонов, что не может этого быть, надеялся на то, что Жилинский, блестящий, первенствующий во всем с юных лет Яков Григорьевич сумеет поправить свою неловкую директиву.
— Подготовьте записку, вечером буду докладывать главнокомандующему, распорядился Самсонов.
— Но он знает… — заметил Постовский, явно считая замысел безнадежным.
— Выработайте наши предложения, — спокойно повторил Самсонов. Смотрите правде в глаза.
* * *
Слава богу, хоть прибыл полковник Крымов. Самсонов встретил его возле дворца и обнял на радостях. Единственный близкий!
Крымов с дороги выглядел усталым, под глазами — отеки. На нем был свежий форменный китель с залежалыми складками, сапоги не очень блестели. И было видно, несмотря на гордый значок Академии Генштаба, что полковник армейский служака по духу.
Самсонов велел своему адъютанту взять чемодан Крымова, а полковнику поручил идти к Постовскому и заняться подготовкой записки, вернее сказать подстегивать. Правда, о подстегивании Самсонов не говорил, Крымов и так поймет.
В автомобиле Александр Васильевич подумал, что Крымов, наверное, хотел бы сперва умыться в гостинице и пообедать, но не намеревался сочувствовать полковнику. Что ж, война, надо готовиться, работать, чтобы потом не наваливать телами братских могил. Автомобиль поехал, и Варшава с ее гонором, красотой и славянской безалаберностью напомнила Александру Васильевичу холостяцкую молодость. Он отвлекся, читая вывески на русском и польском.
Европой веяло на каждом шагу в бывшей столице царства Польского. Вместо нашей ломовой мостовой — асфальт. И всюду бритые гладкие физиономии, а не бороды, и кавярни-цукерни на каждом шагу. И даже огромный православный собор возле Саксонского дворца, сияющий золотыми куполами с византийским лукавством, не снижал, а лишь подчеркивал впечатление Европы. Беломраморный Ян Собесский на коне, попирающий турка, до сих пор звучал в душе Самсонова на пути от Лазенок до «Европейской».
Тридцатиоднолетним подполковником, штаб-офицером для особых поручений при командующем округом — вот кем был в эти минуты Александр Васильевич. Тогда Гурко любил проводить военные игры и учения, и один старик, не смогши ответить на его вопрос, просто сказал, что ляжет костьми на поле брани, но Гурко высмеял его, заметив, что России нужны не кости, а победы… А прекрасные полячки, Александр Васильевич? По одной ты сильно страдал, не любила она русских и не скрывала этого, и ее серо-голубые глаза… Ну чего вспоминать! Было и быльем поросло. И все-таки дальше вспоминалось серо-голубые глаза манили, говорили о кохании, да только не суждено было переступить ни разделов Польши, ни взятия Суворовым Варшавы, ни крови Костюшко. Александр Васильевич пытался поведать о другом — о Самозванце, Марине Мнишек, сожжении поляками Кремля — не верила прекрасная паненка. И Гоголю не поверила, единственно приняла Андрея, изменившего казацкому братству ради красавицы-полячки. «Мы никогда не покоримся, — говорила она. Это вам надо скорее избавляться от своего варварства».
Сладкую печаль оборвал Яков Григорьевич, сказал, что русские любят раздоры. Но почему раздоры, Яков Григорьевич? Не любят их русские. Они любят покой, молитвы, свою веру.
Но и Жилинского оборвал страшный железный визг и крик впереди автомобиля.
— Человека задавило, — сказал шофер.
На мостовую кинулись люди, пересекая путь автомобилю. Какой-то старик остановился прямо перед радиатором и, подняв палку, погрозил.
Автомобиль сбавил ход, затем остановился, и Самсонов послал адъютанта посмотреть. Тот вернулся бледный, с мученической гримасой: отрезало ногу рядовому лейб-гвардии Литовского полка, — по желтым погонам «варшавской гвардии» адъютант определил полк.
Сквозь шум толпы послышалось ржание лошади, к несчастному подгоняли коляску.
Александра Васильевича тянуло выйти, но он не вышел. Надо было заниматься своим делом, а там была полиция, она все устроит.
— Глупый народ, лезет под колеса, — заметил шофер. — А колеса-то железные!
Александр Васильевич вернулся в штаб фронта, потребовал с Постовского порученную записку. На удивление, она была составлена толково и смело. То ли Крымов надавил, то ли Петр Иванович перестал робеть.
Жилинскому готова была правда. Пусть прочтет, а там посмотрим.
Никакой спешки! Наши войска недостаточно сильны, чтобы занять весь фронт от Мазурских озер до Млавы. Надо оторваться от озерной полосы, вести наступление западнее, не строя иллюзий о связи с первой армией, и оперировать против района Дейч-Эйлау, Остероде, откуда мог ожидаться удар германцев. Самсонов пошел к Жилинскому один.
Яков Григорьевич выслушал его, казалось, сочувственно, не обнаруживая силы своей властности. И угрозу удара из района Дейч-Эйлау-Остероде оценивал серьезно, — и необходимость учесть невеликую скорость движения обозов по сыпучим пескам — тоже воспринял как надо.
Самсонов чувствовал — Жилинский неожиданно помягчел. Назавтра Александр Васильевич отбывал в Волковыск, где пока будет находиться его штаб-квартира и штаб армии. Последняя встреча была с Жилинским.
— Думаешь, я не знаю? — спросил Яков Григорьевич укоризненно. — Тобой движет узкое соображение только о твоей армии, хотя я тебя вполне понимаю, Александр Васильевич, но ничего нельзя поделать, завтра первая армия должна перейти границу. Посмотри сюда… — Он показал на карте короткий путь германским войскам через Бельгию на Францию. — Вспомни записку Данилова о вероятных планах наших противников. Вспомнил? То-то же. У нас не только обязательства перед союзниками. Если мы не поддержим их в минуту наибольшего для них напряжения, даже путем перенапряжения наших сил, мы упустим прекрасную возможность разгромить немцев в Восточной Пруссии и потом идти прямо на Берлин.
Нет, ничего Яков Григорьевич не пожелал принять из доводов Самсонова, лишь более дипломатично повторил свою директиву.
— Но нельзя наступать с завязанными глазами, — сказал Александр Васильевич. — Почему они будут сидеть неподвижно за озерами? У них дороги. Они перебросят части, а наш удар — по воздуху. А этот фланг? Отсюда (всей ладонью провел от Дейч-Эйлау на восток) ударят — и катастрофа, Яков Григорьевич?! Жилинский вздохнул, подошел к окну, повернувшись спиной. — Я хотел видеть тебя во главе второй армии, — с волнением произнес он. — Я знаю тебя, ты можешь… От твоей армии ждут подвига…
Искреннее сочувствие звучало в обычно бесстрастном голосе Якова Григорьевича, оно задело Самсонова, он молча ждал, что дальше скажет главнокомандующий фронта.
Жилинский повернулся, тоже молча поглядел на Александра Васильевича, как будто что-то искал в его глазах.
— Ты давно был в училище? — спросил он.
— Давно, — ответил Самсонов.
— А я был… Видел твой портрет среди георгиевских кавалеров… Музей Лермонтова, ты знаешь, замечательный музей, — бюст замечательной работы, картины, акварели… «И умереть мы обещали…» — Жилинский покачал головой. — Сколько наших — я, ты, Брусилов Борис, Мартос Николай, Торклус Федор, Мищенко… А были юнцы! Как вспомнишь разводы с церемонией в высочайшем присутствии, восторг и трепет…
— На Николу вешнего я вспоминал училище, — сказал Самсонов.
— И я вспоминал, — вымолвил Жилинский. Сейчас Якову Григорьевичу предстояло объяснить однокашнику смысл жертвы, он собрался с мыслями и решительно произнес: — Становитесь на точку зрения Франции и интересов союза, надо со всей определенностью…
— действовать против Германии по наружным операционным линиям, угрожать немецкой территории, приковать к себе значительные ее силы…
— обеспечить Франции при ее столкновении с главной массой врага наиболее выгодное для нее численное соотношение…
— но такой путь требует больших жертв и самоотвержения.
Голос Жилинского возвысился и задребезжал от напряжения.
— Прости, Александр Васильевич. Ищи себе опору в трудности подвига, недаром у тебя имя Суворова. Директива утверждена Верховным, ее одобрил государь.
Если бы Яков Григорьевич сказал только о подвиге и не упоминал высочайших начальников, то Самсонов прекратил бы свои попытки. Но Яков Григорьевич считал высочайших начальников мнение — самым крепким доводом.
— Суворов тщательно готовил все свои операции, — по-деловому заметил Самсонов. — А мы его именем чаще всего пользуемся, чтобы успокоить себя: мол, «пуля — дура, штык — молодец».
— Директива утверждена, — повторил Жилинский. — Я тебе напомню суворовское: «Кого из нас убьют — царство небесное, живым — слава, слава, слава».
— Значит, армии предлагается героическая гибель? — прямо спросил Самсонов. — Это не стратегия, а самоубийство. Я не могу согласиться с направлением Мышинец — Хоржеле. Готов сдать командование.
Он вытянулся, скрестил руки на золоченом эфесе шашки и сурово глядел на главнокомандующего, понимая, что рушит свою воинскую карьеру. Жилинский отрешит его от армии, потом его, как ненужного опозоренного генерала зачислят в распоряжение военного министра, и сгинет Самсонов. Но что ж, наши кости не нужны Отечеству, иного выхода нет.
— Стыдно, Александр Васильевич! — холодно произнес Жилинский.
— Такой робости не ждал… Не желаю слышать ни о какой сдаче командования.
Жилинский прошел мимо Самсонова и сел за стол. С минуту они ничего не говорили, потом Александр Васильевич сказал, что повернет фронт наступления в направлении Ортельсбург — Нейденбург.
Почему Ортельсбург — Нейденбург, а не Остероде — Дейч-Эйлау, как предлагал раньше?
Потому что понимал — Жилинский, если уступит, то немного, а новое направление все-таки опаснее для германцев и к тому же позволит хоть часть армии базировать на железную дорогу Новогеоргиевск — Млава.
Яков Григорьевич смотрел ясными льдистыми глазами, не говорил ни да, ни нет.
Только что оборвалась нить товарищества. Что тут скажешь? Но главнокомандующий армиями фронта на предложение командующего армией был обязан отвечать. Жилинский молчал.
Приказ
войскам 2-й армии Северо-Западного фронта
№ 1 гор. Варшава
23 сего июля я прибыл в распоряжение высочайше вверенной мне 2-й армии Северо-Западного фронта и вступил в командование ею.
Моя штаб-квартира и место нахождения штаба вверенной мне армии с 24 сего июля будет находиться в городе Волковыск.
Командующий 2-й армии генерал от кавалерии Самсонов.Глава третья
Войска шли к границе.
Шел на Млаву первый армейский корпус генерала от инфантерии Артамонова, старого маньчжурца, знатока религиозных книг. Шел на Нейденбург пятнадцатый корпус генерала от инфантерии Мартоса, тоже маньчжурца, однокашника Самсонова по гимназии и академии, когда-то занимал Мартос должность командующего войсками Приамурского округа, но что-то там у него не получилось, и все три года он был в Варшаве корпусным.
Шел на Виленберг тринадцатый корпус генерал-лейтенанта Клюева, тоже самсоновского однокашника по академии и тоже знавшего Восточную Пруссию, ибо до того служил в Варшавском округе начальником штаба.
Шел на Ортельсбург шестой корпус генерала от кавалерии Шейдемана.
Командиры корпусов, начальники дивизий и бригад — все это были члены одной военной семьи, давно знавшие друг друга по учению, по службе, а главное — чувству если не родства, то соседства, как будто соседи-помещики, которые связаны старинными знакомствами отцов и дедов.
Вот какой приказ по первому корпусу издал Артамонов: «Возгревайте в самих себе и в ваших подчиненных твердую веру в Бога, ибо современный бой ужасен: армия, лишенная религиозного настроения, такого боя не выдержит. Требую строгого и точного соблюдения при всех обстоятельствах вечерней и утренней молитвы и обязательно молитвы перед боем, как то исстари устанавливалось обычаем в нашей христолюбивой армии.
Станьте сердцем вплотную к солдату. Никакой начальник не должен сам отдыхать и принимать пищу, пока не убедился, как будут укрыты и как накормлены подчиненные ему люди и лошади…»
Отцы вели за собой чад своих, нижних чинов. С Богом, с упованием на бессмертие в небесах, на сознание неизменности жизни, на защиту командира в походе. И чада этой нижней семьи тоже представлялись тысячеголовым единым терпеливым великаном, способным вынести любую тяжесть.
* * *
Уже третий переход завершал лейб-гвардии Литовский полка. По узкой песчаной дороге шагали рота за ротой с белесыми от пыли лицами, конные упряжки везли кухни, ротные и батальонные хозяйства. Отдельно шла пулеметная команда под началом пожилого штабс-капитана тридцативосьмилетнего Ивана Шпигелева.
Трое нижних чинов, отставшие от сопровождаемых ими кухонь, равнодушно смотрели, стоя на обочине, на штабс-капитана. Тот их не заметил, и они сели в жидкой тени молодой сосны, развязали мешки и принялись закусывать мясными консервами и сухарями.
Двое из них были русскими — Мартын Кононов и Роман Задонов, третий поляк, Антон Рудик.
Разбитной Рудик уговорил съесть ранцевый запас, который они не имели права трогать.
— Ниц нэ бэньдже, — усмехаясь сказал он, — Юж можно.
В полку было много поляков, Кононов и Задонов понимали польский. Выйдя из казарм, из-под присмотра, солдаты вдохнули лесного воздуха и захмелели от близкой свободы.
Война была, но еще не наступила. «Юж можно» — уже можно было. А что можно? Бог ведает.
— Слыхали, Шпигелева судить хотели офицерским судом? — спросил лобастый Кононов, обводя круглыми глазами товарищей.
— То не Шпигелева, але подпоручика Шпигеля, — поправил Рудик.
— Велят не пить сырой воды, — осуждающе вымолвил Задонов, допив воду из баклажки. — Где ж брать перевареную?
— Пущай Шпигеля, — согласился Кононов. — Деньги стащил, а оно и обнаружилось.
— Ни, ниц не тащив Шпигель, так не было, — сказал Рудик. — То у офицеров — гонор. Я пытав нашего капеллана…
— Вот кабы винца, — возмечтал Задонов. — Винца и задрыхнуть. Придем к немцу, непременно винца найду.
С дороги послышался шум автомобиля, все трое насторожились.
— Тржеба сховатысь, — оказал Рудик и встал. — То пан командир.
— Не, командир вперед уехал, — уверенно вымолвил Задонов. — Садись!
Шум приближался. Идущие по дороге солдаты прижимались к обочинам и оглядывались.
Темно-синий, сияющий блестящими накладками автомобиль остановился напротив молодой сосны. Открылась дверца, выпрыгнул офицер, стукнув шашкой но ступеньке, и крикнул: — Эй, вы!
Кононов и Задонов втянули головы в плечи и стали прятать за спину жестянки.
— Эй, вы, под сосной! — офицер быстро подошел к ним. — Кто такие?
Нижние чины поняли, что попались, но браво вытянулись, показывая строевую выучку.
— Рядовые третьей роты, сопровождаем кухни, — отрапортовал Кононов.
— Это что? — спросил у него офицер.
— Это? — переспросил Кононов, глядя на жирную жестянку.
— Ранцевый запас сожрали? — сказал офицер. — Следуйте за мной, оглоеды несчастные.
Из автомобиля сквозь распахнутую дверцу лысый строгий барин с генеральской фуражкой на коленях, начальник дивизии Сирелиус, спокойно-казнящим голосом спросил у офицера, что за люди?
— Грустная картина, — выслушав ответ, сказал он. — Громадное количество отсталых. Полное безобразие… Людей этих строго наказать, не останавливаться перед крайними мерами.
Через минуту автомобиля уже не было, только белая пыль облаком ползла над дорогой.
— Попили винца, — буркнул Задонов. — Что ж ты, окаянный, нас на консерву подбивал?
— То генерал, — сказал Рудик. — То як ойчец.
Когда они дошли до ротного бивака, командир роты, штабс-капитан Бородаевский был сильно разгневан. Унтер-офицер Комаровский подвел к нему всех трех и встал у дверей.
— Почему отстали? Почему сожрали запас? — спросил Бородаевский, сидя на лавке у окна.
Под потолком хаты жужжали мухи. От глиняного пола веяло прохладой, пахло крестьянским жильем. Нижние чины молчали, покорно ожидая суда. — Два часа с полной выкладкой, — сказал Бородаевский. Это означало — в шинели, с винтовкой, с шанцевым инструментом, патронами и полным мешком стоять навытяжку, не шелохнувшись.
— Ваше благородие, а нельзя ли нас поучить? — жалобно попросил Задонов. — Так оно было бы доходчивей.
— По морде, что ли? — спросил Бородаевский. — Хочешь, чтобы я, твой командир, с которым ты через день-другой примешь бой, бил тебя?
— Поучил, ваше благородие, — повторил рядовой. — Полной выкладкой я за два часа силы потрачу. Не по-хозяйски будет. А поучить — и убытка нет, и доходчивей.
— Убирайтесь вон! — сказал Бородаевский. — Комаровский, исполняй.
Троица с унтер-офицером вышла во двор. Вечерело. Денщик штабс-капитана болтал с полькой-хозяйкой, она сидела на низенькой скамейке и ощипывала курицу, проворно работая пальцами с налипшим белым пухом. За загородкой хрюкали — рычали свиньи.
Возле колодца-журавля умывался голый по пояс, обмотанный по животу полотенцем подпоручик Муравьев. С соседнего двора несло дымом солдатской кухни, там стояло отделение и доносились вольные веселые голоса солдат.
— Не уважает нас командир, — с тоской произнес Задонов. — Что ему? Жалко съездить мне в ухо? Разве я рассыплюсь?
— А я не позволю себя бить, — вдруг сказал Рудник. Задонов остановился и сильно толкнул его в плечо.
— Ты, чума, подбивал нас и еще выкобениваешься! — возмутился он. — Али барин какой?
Наказание командира роты посчитал обидным и Кононов. А Рудник был доволен по причине своей католической отдаленности от понятных русским солдатам законов большой семьи.
* * *
Войска шли, останавливались, снова шли.
Утром горнисты протрубили зорю, и полк встрепенулся, из всех хат и стодол на белый свет высыпали мужики. Почесываясь, зевая, они быстро принимали солдатский облик, но под ним у многих, бывших еще недавно запасными, явно проглядывал мирный крестьянин.
Люди выстраивались у кухонь, получали в крышку котелка порцию гречневой размазни с салом и со здоровым, веселым аппетитом завтракали. Потом, расколов во дворе полено или оторвав слабо прибитую доску, разжигали костры и варили в котелках чай.
Они знали, куда идут: в полках взяли у них адреса для завещаний и полковые священники в серых рясах отслужили молебны. Но несмотря на безостановочное утомительное движение, приближающее людей к гибели, они были бодры и далеки от уныния. Наоборот, явно ощущалось что-то, огородившее их от мысли о смерти и дающее веру необходимость творящегося дела.
Германские аэропланы с черными крестами загнутых назад крыльях, облетавшие на рассвете места ночлегов и днем — походные колонны, никого особенно не настораживали. Завидев аэроплан, батальонная колонна останавливалась, и начиналась беспорядочная пальба, пока он не превращался в черную точку. После этого колонна выравнивалась, двигалась дальше.
Было приказано разъяснить нижним чинам различие между нашими и германскими аппаратами, чтобы не обстреляли своих же: на поверхности крыльев наших аэропланов помещались отличительные знаки — трехцветные круги национальных цветов.
Пятнадцатый армейский корпус шел походным маршем без дневок, спеша выйти к границе восьмого августа.
Германия была все ближе. Но не выдерживая походного движения, отстали обозы, куда-то запропастились хлебопекарни и фуражиры, и забеспокоились, затеребили вышестоящих начальников войсковые командиры. Что за безобразие? Чем кормить солдат?
Начальники дивизий Торклус и Фитингов доложили командиру корпуса генералу от инфантерии Мартосу, что обозы сильно отстали. Мартос рассвирепел, вызвал корпусного интенданта. Но судьба берегла интенданта, его не нашли, и весь норов Мартоса ударил в начальника штаба Мачуговского.
— Где продовольственные транспорты, черт вас подери! — закричал Мартос, выкатив бешеные глаза. — Вы не начальник штаба, вы бестолковая баба! Как воевать с голодными частями? Завтра они станут мародерами. Их надо будет расстреливать! А вы что, останетесь в стороне? Позор! Позор!
И напрасно начальник штаба, бедный Мачуговский, пытался объяснить, что транспорты отстают по причине…
Нет, никаких причин не желал знать Мартос. Он уничтожил Мачуговского, тот подавился своими объяснениями и умолк, позеленевший от унижения. Да что он мог сказать? Разве Мартосу не ведомо, что недостает более трети повозок, что вместо парных были получены одноконные?
— Еду к обозам, — решил Мартос, — Я там наведу порядок.
Выехал на автомобиле в сопровождении казаков, уверенный, что до начала боевых действий самое важное — сохранить в корпусе дисциплину и стройность.
Августовское солнце поднималось навстречу автомобилю, тени от деревьев быстро укорачивались, рессоры поскрипывали. Мартос торопил шофера, время от времени тыча жестким кулаком в шею. Проезжали придорожные кресты, украшенные расшитыми полотенцами и увядшими цветами.
Крестов было много — и каменные, и деревянные. Десятки полотенец, одни белые, новые, другие посеревшие, превратившиеся в тряпки, свисали с них, напоминая, должно быть, Господу о крестьянских молитвах.
За лесами открывались скошенные поля с мелкими копешками ржи; встречали крестьянские базы, полные таких копен, и в окна долетал сухой запах хлеба.
В одной деревне под колеса с лаем кинулась собачонка, но шофер объехал ее, втянув голову в плечи, боясь нового тычка. — Не бойся, сынок, — сказал генерал. — Незачем собаку давить.
И через минуту настиг его ушей жалкий визг — казаки затоптали дворняжку.
— Чужое не жалко, — объяснил адъютант. — Простота и варварство. Дети степей.
— Печенеги! — буркнул Мартос.
Проехали деревню. Везде моста автомобиль остановился, генерал вышел, закурил, прошел мост пешком, и адъютант шагал следом, рядом с поломанными перилами.
Вода журчала у свай, на берегу гагакали уцелевшие после прохождения войск гуси.
Мартос перешел мост, за ним переехал автомобиль и конвой. Шофер открыл дверцу, но генерал продолжал курить, строго глядя на казаков.
— Подъесаул, обывателей обижаете? — опросил он сердито. — Делаю вам замечание!
— Кто обижает, ваше высокоблагородие? — с лукавым простодушием ответил рыжеватый крепконогий подъесаул, поглаживая ладонью холку разгоряченной лошади. — Недосуг нам по сторонам глазеть, мы за вами летим…
— Печенеги и есть! — бросил Мартос. — Не сметь обижать.
Поехали дальше по нескончаемой песчаной дороге, тянущейся, как ей вздумается, — и наехали на новую деревню с такой же лающей собачонкой, с нижними хатами, крытыми серой соломой, выглядывающими из-за углов крестьянками.
Снова взвизгнула попавшая под копыта или под казачью плеть глупая собачонка. Но Мартос не шелохнулся: дважды повторять — только себя терять; переделать же казаков он не мог.
И вдруг наехали на зеленую армейскую повозку, стоявшую прямо на дороге. Обоз! Несколько нижних чинов стояли и глядели, как выпрягают лошадей.
Мартос выпрыгнул из автомобиля и, увязая в сыпучем песке, двинулся к повозке, обгоняемый слева и справа адъютантом и подполковником-интендантом. Однако раскормленному подполковнику нелегко состязаться с порывистым Мартосом, отстал подполковник, а генерал как коршун на цыплят налетел на ездовых. Зачем выпрягли? Там войска без хлеба! Где не проходят? Я вам покажу, как не проходят, сразу все пройдет!
Схватив кнут, Мартос огрел по руке подставившего руку ездового, который пытался что-то объяснять.
Ездовой почесал ушибленную руку и продолжал твердить свое. Выглядывая из-за морды лошади, второй солдат с любопытством, но без испуга разглядывал генерала. Двое других нижних чинов поворачивали головы и повернули их, задрав носы к небу.
Послышался какой-то треск, который мешал Мартосу слушать, и Мартос невольно посмотрел вверх. Там летел аэроплан, — непонятно чей. Здесь, на земле, застрял в песках обоз, а в небесах парила железная птица.
С аэроплана могли кинуть бомбу или обстрелять, но помочь обозу никак не могли.
В голове Мартоса промелькнуло воспоминание детских лет, времен Киевской военной гимназии, где он учился вместе с Самсоновым, — привиделись пещеры Печерского монастыря и калеки-солдаты с медалями за Крымскую войну, поющие возле пещер Бога ради.
Подскакали казаки, сорвали винтовки с плеч, чтобы палить по аэроплану.
— Не стрелять! — крикнул Мартос. — Только по моей команде.
Что на крыльях? Но не разобрать, что там на крыльях.
И еще мелькнуло у Мартоса, что вот сейчас он ударил ездового, а ведь ездовой догадлив: только двойной тягой идет повозка по этим пескам.
Теперь Мартос, выходит, виноват? Командир корпуса, у которого таких нижних чинов сорок тысяч, — перед одним рядовым?
— Вот, ребята, — сказал Мартос, нацелив на аэроплан кнутовище. — Там такие же, как мы, люди сидят. А вы — что? Завязли? Стыдно, ребята!
Трехцветные круги российского флага — красный, синий, белый — стали видны на крыльях.
Казаки замахали винтовками, закричали печенежскими голосами. Ездовой радостно улыбнулся и, скинув фуражку, тоже замахал. Без фуражки он сразу сделался похож на мужика, только стриженного.
— Ну, давайте, — поторопил подполковник. — Надо соответствовать, сами видите. Давайте-давайте!
И ездовые повели лошадей назад, оставив повозку, к другой ожидающей их за версту отсюда повозке, чтобы тащить ее вперед.
Войска шли, обязаны были идти, несмотря ни на что, ни на пески, ни на малые силы людей и животных.
* * *
К восьмому августа пятнадцатый корпус подошел к русско-германской границе, и именно в этот день, в два часа пополудни, должно было произойти солнечное затмение, о чем во всех полках было оповещено в соответствующих приказах для разъяснения нижним чинам.
Казачья разведка, урядник и два рядовых казака, скрытно вошла в приграничный лес и, ориентируясь по немецкой карте, двинулась опушкой.
Прусская сторона не отличалась от нашей, все такое же, как у нас, малиновый, сильно отцветший снизу кипрей и густой ольшанник. Однако казаки шли настороженно, опасаясь хитростей, на которые горазды колбасники. Прошли около версты, кони были спокойны, никакой злокозни не чувствовалось.
Открылась большая поляна с отросшей отавой. Урядник поднял руку, остановились, прислушались.
— Коль сено косят, жилье близко, — сказал Топилин, невысокой налитой страшной силой молодой казак. — Айда!
— Цыть! — поднял плеть урядник, сухощавый, широкий в кости, с щербатым ртом.
Третий казак, Алейников, сутуловатый белобрысый парень с вислыми плечами, молча потянул за повод, уводя лошадь в глубину кустов.
— Ихняя пограничная стража тут косила, — пояснил урядник.
Обошли поляну, вышли на заросшую, едва приметную дорожную колею, и снова остановились.
— Топилин, айда, скачи, — велел урядник. — Никуда не ввязывайся. Разведай вперед на две версты.
Топилин вскочил в седло, дал шенкеля своими чугунными ножищами, и конь, шелестя ветками, выпрыгнул из кустарника на дорогу.
Он прошел рысью около двух верст, наехал на небольшой хутор с красной черепичной крышей и стал наблюдать. Людей не было видно. Донеслось куриное квохтанье, потом из — за каменного сарая высунулся до половины большой теленок. Из ворот вышла с велосипедом какая-то баба, покатила в сторону от хутора.
Топилин обождал еще полчаса и убедился, что там еще есть люди. Он снял винтовку, перевел затвор, положил ее поперек седла и поехал, не боясь, к хутору.
Там была одна дряхлая старуха — полька. Расспросив ее, Топилин оглядел дом, на чердаке нашел висевший на распялке германский мундир, забрал его. Потом заглянул в резной дубовый буфет, взял бутыль самогонки. В кладовой снял с крюков два круга колбасы и окорок, увязал все в тюк. Старуха твердила одно и то же:
— То шахрайство! — И еще: — Пшекленты казак!
— Не журись, старая, я не все забрал, — успокоил ее Топилин и тут заметил на ее руке кольцо. — Давай сюда! — сказал он, схватив старуху за руку. — Не скупись.
Она вырывалась, дернулась раза два-три, но он держал ее, как курицу, и скручивал с пальца кольцо.
Старуха от боли закричала, стала валиться на пол. Топилин упал рядом с ней, ушибив колено о заплетшуюся между ног шашку, и в сей миг старуха укусила его. — То не злато! — крикнула старуха. — Злата нима!
Топилин встал, вынул шашку и опустился на колени, ловя левой рукой старухин палец.
Она взвизгнула, стала сама срывать, издавая горлом плачущие звуки. Топилин отвел шашку, ждал.
Ободрав с пальца кожу, старуха сорвала-таки кольцо и разрыдалась.
Топилин зажал его в кулак, сунул шашку в ножны и, надев кольцо на первую фалангу мизинца (дальше оно не налезло), вышел с тюком во двор.
Августовское солнце уже разогрело землю. Он с удовольствием вдохнул теплые запахи хлева, приторочил к седлу тюк. Можно было вертаться назад.
Топилин выехал на знакомую колею, хлестнул коня и полетел, веселый, к поляне.
Возле опушки, где он хоронился, разглядывая хутор, что-то громко хлопнуло, ударило его в плечо, и Тонилин куда-то провалился.
Из-за куста вышла рослая баба в платке с револьвером. Из-под длинной юбки выглядывали солдатские ботинки. Она подбежала к лежавшему казаку, перевернула его на спину, обшарила карманы, сняла винтовку.
Топилин застонал и открыл глаза.
— Rusisch Schwein, — мужским голосом произнесла баба и стала вытаскивать из ножен топилинскую шашку. Казак поднял здоровую левую руку, приподнялся и почти было схватил бабу за горло, но она ускользнула. Он успел схватить ее за кисть руки, вынимавшей шашку. И вдруг в его кулаке остался только обжигающий, режущий пальцы клинок. Он понял, что сейчас будет конец. Он вскочил на колени и поднимался на ноги, когда что-то острое вонзилось в горло, с хрустом сломав хрящи. Топилин схватился за горло, захрипел, и все кончилось, не стало молодого казака.
Убивший Топилина переодетый германский солдат несколько мгновений глядел на то, как, агонизируя, дергается тело и как, брызжа кровью, из рассеченного горла с сипением рвется воздух, потом бросил шашку, взял винтовку и пошел в лес. Там возле корней старой сосны он открыл спрятанный телефонный аппарат, позвонил и сказал, что русские переходят границу. После этого германец снял аппарат и уехал на велосипеде.
А урядник с Алейниковым дожидались Топилина, вполголоса беседовали о том, что на Дону уже пшеницу кончают убирать, и о том, что немецкие молотилки, которые делают в Ростове, хорошие штуки, да только можно и без них обойтись, все равно урожай весь не продашь. Они глядели на дорогу, урядник говорил, что после войны германцы будут наконец покупать у нас хлеб по настоящей цене и тогда надо будет заводить молотилки.
Урядник был семейный человек, понимал в жизни, а в молодости он любил погулять, с чего и лишился верхнего зуба.
— Надо было тебя послать, — сказал он, скучая. — Топилина за смертью посылать. Что там? Позырил и айда обратно! Чего расчухиваться?
Прождав часа два, казаки, догадываясь, что с Топилиным стряслось неладное, выехали вслед за ним.
Сперва они встретили его коня с притороченным у седла тиком, потом нашли и самого Топилина. На нем уже сидели мухи, и вокруг ран с почернелой кровью копошились муравьи.
— Эх, казуня, — горестно вымолвил урядник. — Зарезали тебя, как барана. Что ж неудалый такой?
Потом вдруг стало темнеть, потянуло ветром, зашумели деревья, затрещали ветками и затрепетали листья. Солнце закрывалось тенью и гасло.
Лошади сбились в кучу, прижимая уши и вскидывая головы.
— Вот оно! — оказал урядник и перекрестился. — Затмение, — о деланной бодростью ответил Алейников. — Зараз пройдет.
Тьма сгустилась до грозовой свинцовой синевы. Ветер стих, все замерло, как будто приготовилось к страшной буре.
— Крестись, казуня, — сказал урядник Алейникову. — Кажись, не к добру все это.
— Спаси, Господи, люди твоя… — нараспев произнес Алейников. — Спаси, господи!
Первобытный ужас перед грозным и неведомым рвался из его горла. Это было солнечное затмение. Знак дурной.
* * *
Кто вел войска? Войска вели начальники, и каждому начальнику, чем больше он был, казалось, что он видит глубже и вышестоящие должны глядеть на вещи его глазами. Но у вышестоящих было свое видение, и если командир роты видел и должен был думать о каждом нижнем чине, то начальник дивизии или командир корпуса не ведали забот об отдельных людях, но должны были взвешивать цены сотен и тысяч жизней на своих тяжеловесных весах. Однако задачи дивизий и корпусов, пускай достижение их и должно было оплачиваться кровью, были понятны всем офицерам, всем нижним чинам. Как ни страшна была жертва, она привычно принималась.
Над всеми начальниками было Отечество, был Бог. И пред ними все были равны.
Ранним утром пятого августа штаб второй армии перебазировался в Остроленку, ближе к войскам, средства связи, аппарат Юза и искровая станция были перевезены накануне, телефоны установлены.
И с первых минут после прибытия в Остроленку Самсонова настиг выговор Жилинского. Командующий фронтом сделал вид, что ничего не знает о перемене направления движения армии на более западное, и обвинял Александра Васильевича в таких выражениях: «Вы растянули ваш левый фланг до Жабоклик, благодаря чему фронт трех корпусов 2-й армии растянут при подходе к границе на 60 верст, что считаю чрезмерным».
В телеграмме еще напоминалось, что первый корпус является резервом Верховного главнокомандующего, и рекомендовалось выдвигать в первую линию не его, а вторую пехотную дивизию, ту самую дивизию, которая нынче, как знал Самсонов, влачилась по пескам без обоза, и снаряды везли на обывательских подводах, завернутыми в жгуты соломы.
Самсонов прочитал телеграмму и вопросительно поглядел на Постовского.
Начальник штаба мялся, покусывая губу. Самсонов посмотрел на Крымова. Полковник, не задумываясь, отрубил:
— Нам надо брать еще западнее!
Самсонов не знал, что случилось у Якова Григорьевича, и телеграмма не давала никаких косвенных объяснений, но он ясно видел, и видели Постовский с Крымовым, что произошли какие-то перемены. Какие же?
Однако власть Самсонова на штаб главнокомандующего фронта не распространялась, тут он был бессилен.
Военные действия еще не начинались, еще шло сосредоточение и развертывание войск, то есть шахматные фигуры предстоящей войны только расставлялись. И от того, как они станут, куда будут повернуты, зависела цена побед.
Александр Васильевич сказал, что пока не надо ничего изменять, и распорядился собрать оперативное совещание.
— Через час, — сказал Постовский. — А лучше через полтора. Людям надо устроиться.
Самсонов не согласился. Он не хотел отпускать ни на минуту управление армией, а тем более после загадки Якова Григорьевича.
— Хотя бы чаю выпейте, Александр Васильевич! — упрекнул Постовский с зажегшимися в глазах нервными бесенятами.
— Вы можете выпить чаю, Петр Иванович, — ответил Самсонов. — Если хотите чего-то поплотней, — на здоровье.
— Я о людях пекусь, — проинформировал Постовский. — Что за час может случиться? Ровным счетом ничего.
Самсонов тяжело посмотрел на него, испытывая неудовольствие от прозрачного намека на то, что он, командующий, понапрасну дергает подчиненных.
— Может, вправду позавтракать, Александр Васильевич? — предложил Крымов. — Естество требует… Я купил в Варшаве английского чая…
И, хотя Крымов предлагал то же, что и Постовский, в его словах Самсонов услышал не упрек, а ободрение. — Ну коль английский чай… — согласился командующий. — Что ж.
Он повернулся к окну, теперь можно было взглянуть на Остро — ленку, которую он помнил молодым.
Внизу по площади тянулась тень от костела, а за костелом в ясном утреннем небе поднималось утреннее солнце. Лучи вырывались из-за костела и доходили до окна, ложились на белый подоконник, на правую руку Александра Васильевича. Возле лавки с красно-белой вывеской женщина мыла щеткой и мылом тротуар, пенистая вода стекала на брусчатку. Тогда тоже мыли. И ничего как будто с той поры не изменилось: те же костел, каменные дома, деревья. Только Самсонов постарел, стал понимать о себе, что не он вечен, а вечна империя, вечна вера.
— Прекрасное утро, — сказал он. — Август… Почему-то мне везло в августе — и с турками, и с японцами.
— В августе — Куликовская битва и Бородино, — вспомнил Крымов.
— А Крымская кампания? — спросил Постовский. — Как она вписывается в вашу хронологию?
— Хм, — произнес Крымов. — Не люблю. У вас отрицательный склад мысли, Петр Иванович.
— Не привык обольщаться легендами, — ответил Постовский. — В наших легендах все чересчур возвышенно. А я должен помнить о дурных дорогах да отсталых обозах. В Крымскую-то кампанию материалисты англичане с французами поучили нас, идеалистов…
— Пойду Купчику скажу, чтоб самовар ставил, — объявил Крымов, больше не поддерживая разговора об августовских победах.
Вскоре пили чай в кабинете Постовского. Место выбрал вестовой Самсонова, донской казак Купчик — трубач 11-й конной артиллерийской батареи, решивший, наверное, сделать приятное Петру Ивановичу. Он расстарался, и на расшитой, как рушник, скатерти были свежие булочки, масло, сливки, ветчина.
— Та чего там, — ответил Купчик на расспросы Постовского. — Пошел та прикупил. Грошей они дали.
Постовский недоверчиво покачал головой, словно посчитал, будто ловкий казак не хочет говорить правду.
— Аль не верите? — изумился Купчик. — Може, думаете, на шармачка взял?
Постовский отвернулся, почувствовав несоответствие с ним, и сказал Самсонову:
— Мы вот роскошествуем… — Он недоговорил, но было понятно, что недосказанная часть фразы касалась полуголодных войск.
Смутный человек был Петр Иванович! Недаром прозвали его «бешеным муллой», что-то в нем было неверное.
— Наливай, — распорядился Самсонов. — Приятного аппетита, господа.
Он наблюдал за тем, кто как ест, и, доверяясь чутью, оценивал этих малознакомых людей, которые являлись его ближайшими помощниками и от которых он во многом зависел. Постовский ел о гримасой озабоченности. Филимонов решительно и с удовольствием. Начальник оперативного отделения, полковник Вялов — с мужественным достоинством. Начальник разведывательного полковник Лебедев — весело и легко. Его сотрудник, штабс-капитан Дюсиметьер — с грациозной небрежностью.
Самсонов вспомнил иную трапезу, гусарскую, в Болгарии, после жаркой стычки.
— Прямо в поле вырыли две канавы, одна от другой на расстоянии вытянутой руки, ноги свесили — и как за столом сидишь. Вино было и хлеб. Веселей того угощения не помню. А только что дрались, и потери были. Но ничего. Все знали, приносим жертву во имя славянства. И солдаты знали. Сильнее мысли, чем национальная, нету. Особенно на войне.
Александр Васильевич поведал о своих чувствах восемнадцатилетнего корнета и не стал проверять их современной политикой, хотя, конечно, сейчас знал, что, как и тогда, идея славянства опиралась на жажду отыграться за Крымскую войну, так и нынче державе нужно доделать начатое предками — выйти к Проливам, утвердиться в византийском наследстве. Правда, жертва легко совершалась только во имя единоверцев — болгар, но не во имя Проливов.
После завтрака началось оперативное совещание, а штабс-капитан Дюсиметьер отправился в авиаотряд тринадцатого корпуса, стоявшего в окрестностях Остроленки.
Уже было известно, что первая армия вчера перешла границу, с боями продвинулась до линии Вилупен, Дегезен, Бильдевейген, Мельмекен, Дубенинкен, Ковален (указка полковника Вялова скользит над подкрашенной картой за чуть синеющими Мазурскими озерами), захвачены у Бальдервейгена пленные, два пулемета, семь орудий, двенадцать зарядных ящиков (на лице Постовского кислое выражение); сегодня армия продолжает наступать.
— Наше развертывание, — продолжает Вялов.
Ясно, что вторая армия не успевает к назначенному сроку.
— Что в районе Млавы? — спросил Самсонов, и в этом простом вопросе всем открылась его тревога.
— По донесениям нашей конницы, до дивизии пехоты, — ответил Вялов. Вчера мы телеграфировали Артамонову, чтобы он двигался на Млаву и чтобы со второго перехода он шел на одной высоте с пятнадцатым.
Указка полковника прочертила от крепости Новогеоргиевск через Насельск, Цеханов до Млавы путь первого корпуса под командованием генерала от инфантерии Артамонова.
— Наши соображения основываются на особой важности для армии нашего левого фланга, — вымолвил Постовский.
Самсонов кивнул. Об этом он докладывал Жилинскому.
— В основе наших соображений — веские правильные доводы, — продолжал начальник штаба нервной скороговоркой. — Сейчас немцы отступают перед первой армией, мы можем перехватить пути их отхода только западнее… вот здесь Млава, Сольдау, Остероде… Иначе они успевают проскочить прежде нашего удара, и мы ударим по воздуху.
Об этом тоже было ведомо самсоновскому окружению, но все слушали Петра Ивановича с большим вниманием, ибо он повторным описанием стратегической обстановки как бы сплачивал всех перед опасностью, которая таилась в телеграмме Жилинского. Самсонов спросил:
— Насколько отдаляется срок нашего соединения с первой армией?
Постовский не смог ответить, повернулся к Филимонову. Генерал-квартирмейстер нахмурился, выпятил подбородок, тоже молчал.
— А надо ли соединяться? — спросил командующий. — Может быть, наступать прямо с юга. Перерезать коммуникации по кратчайшему пути. Что вы на это скажете?
Постовский и Филимонов не торопились отвечать. Было ясно видно, что предложение Самсонова на сей раз полностью противоречит директиве Жилинского, от которой и так отклонились.
— В таком случае нам нечего опасаться за свой левый фланг, — заметил Вялов. — Кроме того, в директиве фронта срок соединения армий не указан, думаю, потому, что назвать его затруднительно. Соединение вообще может ни к чему не привести. Как сказал Петр Иванович, можно ударить по воздуху.
— Значит? — спросил Самсонов, усмехнувшись. Он хотел, чтобы штаб до конца почувствовал освобождение.
— Александр Васильевич, уже поздно поворачивать фронт, — оборвал его мечтания Постовский. — Войска выходят к границе. Их не повернешь без потери времени, правофланговые корпуса неизбежно отстанут.
Он взял с края карты циркуль и промерил оба расстояния. Начальник штаба не мог освободиться от власти директивы вышестоящего начальника.
А кто мог? Александр Васильевич?
Самсонов не обольщался — невозможно было освободиться от высшей власти, от директивы Якова Григорьевича, несмотря на то, что был иной путь.
— Да и правый наш фланг в таком случае — открыт, — заметил Самсонов, окончательно отступая.
Что это в нем вырывалось? что за борьба с Жилинским? Солдат должен подчиняться и верить. Что будет, если каждый начнет сомневаться в приказах?
И Самсонов, дойдя до наилучшего стратегического решения, отступил.
Вялов продолжал доклад, поднимая указку все выше, куда в зелень лесов и синеву озер нацелились корпуса. Впрочем, у полковника не имелось полных данных.
Самсонов приблизился к окну и снова поглядел на костел и площадь. Краем площади ехала длинная польская телега, шел сутулый еврей в ермолке, стоял у витрины офицер, еврей обходил офицера, как стену.
«Якову Григорьевичу надо личное письмо послать», — подумал Самсонов, возвращаясь к прежним мыслям.
Через три с лишком часа вернулся штабс-капитан Дюсиметьер с отличной разведкой — немцы очистили Млаву, двумя длинными колоннами идут на север; в районе Нейденбурга и Сольдау — биваки дивизий.
Млаву следовало незамедлительно занять. Полковник Лебедев, гордый добытыми сведениями, улыбался, а Дюсиметьер разглядывал распоротый рукав кожаной шведской куртки, в которой он летал.
— А вы наши части — видели? — спросил Самсонов.
— Наши меня обстреляли, — усмехнулся Дюсиметьер с удовольствием от недавно пережитой опасности.
— Должно быть, первый корпус, — предположил Самсонов и решил занять этим корпусом Млаву.
А что штаб фронта? Верно, Жилинский не хочет выдвигать первый корпус, так как корпус является резервом верховного командования и придан армии только для поддержки. Вот пусть и поддерживает из Млавы! Снова вступал в спор Александр Васильевич. Но разве штаб фронта — это австрийский гофкригсрат, мешавший Суворову. Тайна войны — в сообщениях, а не в послушании.
Самсонов продиктовал телеграмму адъютанту Бабкову: «Гродно.
Главнокомандующему фронтом.
Вследствие очищения Млавы противником и выяснившегося сосредоточения его значительных сил районе Нейденбург, Сольдау задерживаю („вот и обеспечу фланг“, — мелькнуло у Александра Васильевича) первый корпус, чтобы он стал уступом по отношению других корпусов…»
— Надо сразу сказать и о второй дивизии, — подсказал Крымов, опережая Постовского и даже оттесняя его своей сильной фигурой. — Просите разрешить задержать корпуса для устройства тыла.
— С кем мы воюем? — опросил Постовский. — Со своим штабом или с германцем? Не надо раздражать Якова Григорьевича. Он не простит.
— Бог простит, — улыбнулся Самсонов. — Записывайте… «Вторую дивизию, подтягивающуюся артиллерию и обозы, выдвину в первую линию только при разрешении задержать на сутки перволинейные корпуса; между тем вами приказано перейти границу 6 августа. Самсонов».
Постовский снял очки, прищурившись, поглядел на Крымова, как будто был Жилинским, а Крымов — Самсоновым.
— Петр Иванович, — распорядился Самсонов. — Дайте Артамонову приказание.
— Да, Александр Васильевич, — нехотя ответил начальник штаба. — Но я вас предупреждал. Я с Яковом Григорьевичем служил, он не простит.
— Хорошо, хорошо, Петр Иванович, — вымолвил командующий. — Нам бы с германцем управиться. И, кстати, пора как-то остановить этот варварский обстрел нашими наших же авиаторов.
* * *
Вечером к Александру Васильевичу приехал командир тринадцатого корпуса, генерал-лейтенант Клюев, ровесник Самсонова и однокашник по Академии Генерального штаба. Клюев был умный, образованный генерал скорее европейского нежели российского толка, был достоин командовать армией, но ему мешала, пожалуй, его явная европейскость, там, где следовало слепо верить, он желал доказательств. Однако Николая Алексеевича уважали за знания и твердость, с какой он, не таясь, жил согласно своих взглядов. До войны он был начальником штаба Варшавского округа, сменив там Самсонова, когда тот стал наказным атаманом войска Донского; а Постовский был у Клюева тогда генерал-квартирмейстером.
Александр Васильевич принимал Клюева без подчиненных. Один только расторопный Купчик в начале беседы присутствовал, незамечаемый, впрочем, генералами, и готовил самовар.
— Что делать, Александр Васильевич? — сразу спросил Клюев, почти минуя старосветские речи о житье-бытье. — Покойник Шлиффен все предвидел. Мы безостановочно идем прямо к катастрофе.
— Почему к катастрофе? — Самсонов стал объяснять, что поворот фронта к более западному направлению, чем первоначально предлагалось, уже есть большое достижение.
Но Клюев не хотел внимать доводам командующего, он знал Восточно-Прусский театр и военную игру германского Большого штаба.
— На что мы надеемся? На великую русскую терпеливость? Что солдатик все вынесет?
— Николай Алексеевич! — произнес Самсонов, поглядев на вестового, чтобы Клюев сообразил.
— Ну да, — оказал Клюев. — Я тоже, как все: не замечаю. Я шел с корпусом. Войска своих обозов не видят, дневок не делают, невтянутые в поход запасные разбалтываются.
— Я попросил у Якова Григорьевича дневку.
— Это хорошо! Но даст ли? «Живой труп» не любит уступать. — Назвав так Жилинского, Клюев показал предельную степень противостояния командующему фронтом.
— Николай Алексеевич! — снова упрекнул Самсонов. — С таким отношением к начальству нам побед не видать.
Он сдерживал корпусного командира от того, что тот повторял его собственные опасения. И должен был сдерживать! Иначе сверху донизу утвердится в армии своемыслие и скептицизм.
— Скажите, Александр Васильевич, давно спросить хочу, была ли та пощечина Реннекампфу? — напомнил Клюев легенду маньчжурской поры. — Это правда или выдумка журналистов «Нового времени»?
— Выдумка, — ответил Самсонов. — Эти господа хотели представить нашу армию скопищем неврастеников. Вы сами знаете, что это выдумка… Давайте попьем чайку…
Они стали пить чай и недолго разговаривали об учебе в академии, о Драгомирове и Леере, начальников ее в ту пору. Недолго — потому что Клюев снова дал волю раздражению, начал предсказывать перемены в русском солдате, под влиянием европейского прогресса.
— Скорострельная винтовка превращает солдата в личность, — сказал Клюев. — А мы, как феодальные рыцари, верим в кроткого богобоязненного и всегда готового выполнить наш приказ нижнего чина.
Самсонову показались несвоевременными эти умозаключения, тем более они исходили от командира корпуса, в составе которого были славные полки Софийский, Невский, Каширский, — их помнил Александр Васильевич еще по войне с Турцией, где они показали себя беззаветно храбрыми.
— Я тоже в известном смысле феодальный рыцарь, — сказал Самсонов. — И вы, пожалуй. Внешне наш идеал — неподвижные под огнем и неостановимые под огнем колонны, а внутренне — это нарисованный вами тип солдата. Тоже в конце концов неподвижный… Нас уже не переделаешь.
— Значит, вы понимаете, что наши отставшие обозы, наша поспешность…
— Не продолжайте, Николай Алексеевич. Будем исполнять наш долг и сделаем все, что от нас зависит.
— Вы не хотите смотреть правде в глаза, Александр Васильевич. Мне остается изложить мои соображения в письменной форме.
Самсонов промолчал. Клюев собирался делать то же, что и он сам, обращаться к вышестоящему начальнику. Что на это ответишь? Пусть обращается, если от этого станет легче.
— Помните, Николай Алексеевич, академический пример? — спросил Самсонов. — Как на Бородине неподвижная колонна пехоты остановила драгун Мюрата. Они скачут, а наши стоят с ружьями у ноги и не шевелятся… Может, пример не из новейших, но мы пока мало изобрели нового.
— Понятно, — сказал Клюев. — Я могу привести иной пример. Как мы воевали с пруссаками. Под Цорндорфом, если угодно. Стоять под огнем артиллерии только потому, что генералы не учли возможность маневра Фридриха? И ценой крови безропотного и безгласного солдата сманеврировать под огнем и напугать Фридриха? Это просто какая-то Персия времен царя Дария! Единственного нашего полководца Суворова, который-то побеждал потому, что тщательнейшим образом готовился к сражениям, мы низвели до шута горохового. Прибаутки — вот что оставили.
— Наболело у вас, — сказал Самсонов. — Ваши опасения мне понятны… Левый фланг укрепляем, туда выдвигаем первый корпус…
И подумал о Суворове. Надо же, какое совпадение! Клюев говорит ему то же, что он сам высказал Якову Григорьевичу. А Яков Григорьевич, что же он? Тоже все понимает и мало что может изменить. Или окаменел в героической неподвижности? Нет у Самсонова ответа.
* * *
6 августа 1914 г. Остроленка. Генералу Самсонову.
6171. Задержка в наступлении 2-ой армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию, которая уже два дня ведет бой у Сталупенен. Поэтому ускорьте наступление 2-й армии и возможно энергично развейте ее операции, выдвинув, если для сего потребуется, и первый корпус. 1209. Жилинский.
6 августа 1914 г. Гродно. Главнокомандующему.
1209. Армия наступает со времени вашего приказания безостановочно, делая переходы свыше 20 верст по пескам, почему ускорить не могу. 7-го головы двух корпусов переходят границу. 6206. Самсонов.
* * *
Не давал Яков Григорьевич ни часа передышки. Надо было во что бы то ни стало наступать.
Вечное наше — «во что бы то ни стало» — толкало армию вперед.
Глава четвертая
Первая русская армия перешла границу раньше второй, как и следовало по директиве штаба фронта.
Восточная Пруссия, родина германских императоров, колыбель прусской монархии и символ несгибаемости Германии, оказалась под угрозой. Призрак русского «парового катка» навис над Кенигсбергом, маленькими уютными городами, поместьями и хуторами. Русские казаки уже пролетели по приграничным городам и разбросали «Объявление всем жителям Восточной Пруссии». В нем говорились ужасные вещи! «Всякое сопротивление, оказываемое императорским войскам Российской армии мирными жителями, — будет беспощадно караться, невзирая на пол и возраст населения.
Селения, где будет проявлено хоть малейшее нападение или оказано мирными жителями сопротивление войскам или их распоряжениям, немедленно сжигаются до основания…»
И ужас пронесся над Восточной Пруссией, достиг Берлина, встревожил ставку в Кобленце. Чувство патриотизма взывало к Большому генеральному штабу, противоречило его планам — великая нация не желала отдавать свою святыню, что бы там ни думали генералы.
По военным соображениям защита Восточной Пруссии была второстепенным делом и не могла идти ни в какое сравнение с западным театром, где развивалось молниеносное наступление на Париж. Вот кто должен был горевать французы! Они были в безнадежном положении, ни Англия, ни Россия не успевали им помочь, и в отведенные по плану сорок дней Франция должна быть разгромлена.
Так стоило ли ради этой грандиозной задачи перебрасывать войска с западного театра в Восточную Пруссию?
«Безусловно стоит» — требовали немецкие газеты, руководимые патриотическими чувствами. — «Не отдадим врагу наших земель!» — «Ни за что! — считали генштабисты. — Мы совершим роковую ошибку.»
Замечено, впрочем, что именно военные чаще всего драматизируют обстановку. На самом же деле, что следует даже из академических правил, действия каждого военачальника происходят в воображаемой им обстановке и в неведении относительно реальных сил противника.
Итак, первая русская армия под командованием Ренненкампфа наступала, а восьмая германская под командованием Притвица отступала.
После авангардных боев под Гумбиненом и Сталупененом, закончившихся победой русских, воодушевление охватило штаб Северо-Западного фронта. Разгром 17-го германского корпуса, попавшего под прямую наводку русской артиллерии, захваченные пленные, пушки, пулеметы, зарядные ящики — это затуманило головы. Восточная Пруссия уже виделась завоеванной.
Но при внимательном изучении обстановки Жилинский и Орановский забеспокоились: наш З-й корпус понес тяжелые потери, 28-я пехотная дивизия была выведена из строя на ближайшие дни, но это было бы еще терпимо, если бы не очевиднейший стратегический просчет — разновременное введение в дело первой и второй армий — давало Притвицу возможности разбить армии поодиночке. К тому же штабу стало известно, что возникает угроза Варшаве — у Петрокова обнаружена германская кавалерийская дивизия с пехотой, а со стороны Серадзя — пехотная дивизия. И все это — малочисленность первой армии, отставание второй, опасность на левом берегу Вислы — вынудило Жилинского изъять из армии Самсонова гвардейский корпус, поставив его перед Варшавой, и заставить вторую армию наступать, несмотря ни на что, а спустя двое суток передать первой армии еще один корпус из состава второй.
Перед Яковом Григорьевичем Жилинским, закаменевшим в исполнении приказов «Живым трупом», простиралась огромная часть Российской империи, по сравнению с которой Восточная Пруссия была как флигель в помещичьем доме. А над Жилинским, над его фронтом властвовал верховный командующий великий князь Николай Николаевич, и для верховного вторая армия не всегда была и видна.
Выше Ставки никого не было. Дальше — государь и Господь, но это уже иные величины.
Выше могли быть не интересы России и ее вожди, а интересы и требования войны. И значит — надо было думать о судьбе Франции. Уже 23 июля Палеолог воззвал к Николаю II: «Я умоляю, Ваше величество, приказать вашим войскам немедленное наступление. Иначе французская армия рискует быть раздавлена».
Пятого августа Бенкендорф сообщал Сазонову: общественное мнение Англии с нетерпением ожидает вступления русских войск в Германию; Китченер хотя и разделяет это мнение, но считает необходимым, чтобы русское наступление осуществлялось массами, подавляющими своей численностью, и поэтому предпочитает запоздание поспешности.
Седьмого августа Игнатьев телеграфировал из Парижа: «Французский военный министр совершенно серьезно полагает возможность для нас вторжения в Германию и движения на Берлин со стороны Варшавы».
И ни слова об отставших хлебопекарнях, артиллерийских парках, корпусных обозах, армейских транспортах. Этого из Парижа, Лондона, Петрограда невозможно увидеть. Этого как будто и нет. Есть только «массы, подавляющие своей численностью», есть невидимая жертва, есть кровавый опыт…
Итак, две русские армии вошли в Восточную Пруссию по лесным дорогам и шоссе, влача за собой обозы, как скифские повозки. Германцы в ночь с 7 по 8 августа вышли из боя и заспешили на запад, оторвавшись от осторожного, как бы на ощупь шарящего продвижения корпусов Ренненкампфа; Притвиц опасался еще одной русской армии, третьей по счету.
Ее не существовало. Не существовало и свежих резервов. Однако генералу в голову не приходило, что можно вести наступление в составе всего шести-семи пехотных дивизий при слабой артиллерии, чем в действительности располагал Ренненкампф. Притвиц верил в военную науку. Он разыгрывал за русских наступление и видел эту армию, эти резервы. Для подтверждения ему хватило данных воздушной разведки, сообщившей, что с юго-востока к Пилькалену тянется пехотная колонна русских. И воображаемая сила получила реальные очертания.
На самом деле немецкий летчик пролетел на «Таубе» над Малоярославским полком, догонявшим свою дивизию, был обстрелян и ничего, кроме этого полка, не встретил.
С этой минуты Притвиц ждал хитроумной комбинации русского командования. К тому же наступление второй армии воображалось им в направлении на Дейч-Эйлау, железнодорожные коммуникации перерезались, защита на рубеже рек Алле и Пассарги делалась невозможной, надо было оставлять Восточную Пруссию.
Пруссию, с ее ухоженными мелиорированными землями, образцовыми фольварками, прекрасными городами? Оставлять грубой силе безграмотных гуннов?
В Кобленце — тревога. Начальник Большого генерального штаба Мольтке, племянник великого фельдмаршала Мольтке, звонит Притвицу, звонит раз, другой, третий, уговаривает не спешить, напоминает военные игры, давшие такие блестящие результаты. И Вильгельм II, на которого в этот час глядит вся Германия, должен что-то ответить народу, ведь это катастрофа — отдать Восточную Пруссию.
Но что может Притвиц? Он военный, а не политик, и его задача — сберечь армию, не отдавать ее на бесцельный разгром во имя химер национальной гордыни.
Тем не менее с утра восьмого августа в печальной обстановке Притвицу сообщают: Наревская армия Самсонова наступает севернее Дейч-Эйлау в полосе Млава — Фридрихсгоф, и из этого следует, что если успеть сосредоточиться на левом фланге русских, то можно будет ударить им во фланг и тыл. Надо ждать. А вдруг вся русская армия действительно идет восточнее Млавы? Надо сосредоточиваться и ждать. Может быть, не все потеряно. Может быть, есть шанс. Неужели повторится разыгранная еще Шлиффеном ситуация?
У Притвица под рукой железные дороги и скорость. Неужели русские не идут на Дейч-Эйлау? Только Бог не дал Притвицу увидеть результата. Мольтке не простил ему нерешительности и сместил вместе с начальником штаба. И, чтобы надежно защитить восточно-прусскую землю, решил снять с западного фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию для усиления 8-й армии.
Никто еще не ведал, какая стратегическая ошибка совершена ради сокрушения самсоновской армии.
Катастрофа германского наступления во Франции и гибель второй русской армии уже были предопределены.
* * *
Пятнадцатый корпус генерала Мартоса беспрепятственно вошел в Янов. Пехота дивилась сгоревшим и еще дымившим домам. Витрины магазинов были разбиты, белые осколки рассыпаны и блестели на солнце. Золотой шпиль лютеранской кирхи, увенчанный золотым петушком, весело сиял.
Солдаты крутили головами во все стороны, словно приценились к пограничному прусскому городу. Он был чистенький, несмотря на погром отступающими немцами, и легко можно было догадаться, как он выглядел вчера. Из некоторых окон трехэтажных домов свешивались белые простыни и полотенца, но жителей не было ни души, только какой-то старик в безрукавке и шляпе стоял на площади у ратуши и отвечал офицерам?
— Вшистко спалили, пшекленты!
Рядовые Полтавского пехотного полка Токарев и Байков шагали рядом, и оба радовались, предвкушая близкий отдых. Токарев при этом бранил немцев за то, что не пожалели город, а Байков их одобрял, правда, одобрял из корыстных соображений, ибо так ему было легче урвать вскоре что-нибудь и для себя.
Токарев, носатый, большой, важный солдат, имел, несмотря на молодость, жену, двух детей, свое хозяйство. Его уважали взводный и ротный, знал даже батальонный.
Байкова никто не знал, он держался подальше от начальства, а приказания исполнял неохотно, притворяясь тупым.
Сейчас он нес в мешке ополовиненный свинной бок, напоминавший о себе жирными мухами, которые приманивались теплым сырым запахом.
— Не оставляют нас в городе! — сказал Байков, когда миновали городские дома и без привычных российских пустырей и свалок, потянулся вдоль шоссе луг и стали видны каменные крепкие, но все же сельские постройки. — Другим добро достанется!
— Да у тебя мешок занят, — ответил Токарев насмешливо, не давая ему даже в мыслях заниматься непотребным делом.
— Ладно, — оказал Байков. — Не последний город.
На ночевку остановились в польской деревне. Токареву и Байкову повезло, их определили на постой в хату, а многим выпало — просто под открытым небом, а ночи уже холодные.
В польской деревне еще было и поспокойнее. Про германские предупреждали, — там воду травят, стреляют в спину, поодиночке безоружными не ходить.
Разместились кое-как, и всюду заскрипели журавли, затрещали поленья, задымили кухни.
Токарев в ожидании еды раздобыл колоду, налил в нее воды, стал мыться. Войны он не чувствовал и поэтому чуть удивлялся, опрашивая себя с тревогой: какая же она? От мучений, смерти никто не мог избавить, и он думал не о них, а о том, как сохранить опору среди надвинувшейся вольной злой стихии. Опору для души могло дать умиротворение перед черной бедой. Вое в руках Господа, думал Токарев, от судьбы я не уйду, поэтому надо делать то, что хорошо для души, и мне будет опора.
И он выполнял свои обязанности — как перед командиром, так и перед собой: работал, молился, содержал себя в чистоте.
Вымывшись, Токарев стал стирать рубаху и портянки, стараясь подольше сберечь маленький кусочек серого мыла. Оно едко пахло, и этот запах напоминал Токереву, что он один среди тысяч совсем чужих ему людей, и перед ним вставали образы его жены и детей. Было жалко их, себя, несобранного урожая. Хотя он знал, что сельское общество поможет, хотелось убедиться, хорошо ли помогли.
Пока он стирал, у него перед глазами мелькал Байков, настраивавший посреди двора костерок. Потом потянуло дымом и мясным прижарком. Вокруг Байкова стали собираться солдаты, кто с пучком соломы в руках, кто со щепкой, кто так, без ничего.
Токарев закончил стирать, тоже подошел к костру. С мяса текло расплавленное сало, трещало на огне. Он, как и все, с утра ничего не ел, сгрыз на ходу только один сухарь, и сейчас глядел на поджаривающуюся свининку с большим желанием.
— Что, Федор? — спросил Бойков. — Хочется? А консерва у тебя есть?
— Есть, — сказал Токарев. — Да разрешения нету.
— Вот убьют тебя, а все разрешения не будет, — усмехнулся Байков; сам-то он давно слопал свой запас, как и многие солдаты.
— Смерть не угадаешь, — ответил Токарев. — Может, твоя смерть далеко, моя близко… Что ж теперь? Я должен потерять человеческий облик?
— Так мы серая скотинка, — подзадоривая, вымолвил Байков. — Идем за смертью. А нам грехи отпускают, поят и кормят. Да коль худо кормят, то я могу на ихнее разрешение накласть свой прибор. Могу аль не могу?
— Ну можешь, чего там, — сказал Токарев. — Только тогда ты вроде откалываешься от мира, я так понимаю. Выходит, ты говоришь миру: ты худой, я без тебя проживу…
Солдаты с уважением слушали его, ощущая в нем очень нужную им силу, которая одновременно и закрепощала, и укрепляла их.
— А ты, Байков, не дашь ему мясца, что он запоет? — спросил жилистый, со сломанным носом солдат Ужаков, такой же, как и Байков, бесхозяйственный в прошлом крестьянин, перед мобилизацией работавший на фабрике.
— Чего ж не давать? — возразил другой солдат. — Надо всем разделить.
— Всем, всем, — решили остальные.
— Всем, так всем, — легко согласился Байков. — я ведь тоже, когда новую свинку добуду, — со мной, выходит, германцы поделятся.
Солдат с кривым носом засмеялся. Остальные не поняли, чему тот смеется, поняли лишь одно, что Байков собирается тащить и дальше.
— Пойди, Федор, к хозяйке, попроси хлебца, — сказал кривоносый, — Ты ласковый, она тебе все даст, что ни попросишь.
Хозяйка, пожилая тетка, сидела на скамеечке у дверей хаты и строго глядела на солдат.
Токарев подошел к ней и увидел в ее глазах ожидание какой-то беды.
— Хозяйство, — сказал он, поводя рукой в сторону скотного сарая, — И у меня есть хозяйство.
— Ниц нима, — ответила она.
— Двое деток, — показал Токёрев. — Жена, мать, отец.
— Ниц нима, — сердито повторила хозяйка.
— Ты не бойся, — сказал Токарев, — Не бойся. Мы переночуем и дальше пойдем… Вот только хлеба у нас нет…
Из хаты вышел хозяин, крепкий мужик в белой рубахе, что-то неодобрительно оказал жене и пригласил Токарева;
— Пан жолнеж, проще.
Он дал ему каравай хлеба и бутылку водки.
— То бимбер, для жолнежей, — объяснил хозяин с наигранным добродушием.
Токарев вернулся к костру, понимая, что получил дары потому, что хозяева боялись. Наверное, на их месте он тоже боялся бы. Но он их не обижал.
— А ты не промах, — сказал Байков, как бы сравнивая его с собой. — Улестил бабенку с одного раза. Дай-ка бутылку.
Токарев отдал бутылку и хлеб и, довольный собой, присел на корточки.
— Тоже люди, — сказал он, — и ей про своих говорю, что-де семью имею, деток, отца о матерью… Вижу — боится меня. А чего бояться? Мы не звери, у нас закон есть.
— Ну попробовали бы не дать, — заметил кривоносый.
В эту минуту во дворе появился подпоручик Кошелев, огляделся и направился к солдатам.
— Все, погуляли, — буркнул Байков, отворачиваясь и ставя бутылку на землю.
Кошелев подошел, бодрым начальническим голосом пошутил!
— Варите суп из топора?.. Где хозяева, ребята? Кликните. — Один солдат побежал исполнять приказание, а подпоручик, вздохнув запаха, взял щепочкой огня и прикурил папироску. — Овес у них есть? — спросил он. — Надо лошадей кормить, а овса нету.
— В сарае надо поглядеть, — сказал кто-то. — Скотину держат. Должно быть.
— Это что? — спросил Кошелев. — Дай-ка… Самогонка?
— То растирка, ноги растирать, чтоб не пухли, — сказал Байков. — За день так намахаешься, пухнут и пухнуть.
Кошелев улыбнулся и стал выливать водку на землю.
— Нельзя, ребята, сами понимаете.
— Некому нас пожалеть, — буркнул Байков. — Серая скотинка.
Но Кошелев уже отошел, а если и слышал, то пропустил мимо ушей.
В том, что случилось потом, Токарев надеялся не участвовать, ибо подпоручик, осмотрев сараи, ушел, а затем позвали ужинать. Но после ужина во двор стали заезжать повозки, и Токареву велено было наравне с другими выносить мешки с овсом. От них пахло пыльным мучнистым запахом, навевавшим воспоминание о родине, от которого сдавливало в груди.
Хозяева молча сидели на скамеечке, скорбно глядели на жолнежей, управлявшихся с чужим добром. Хотя офицер и заплатил за овес рублями, это не было покупкой, а было насилием, принимавшим вид добровольной торговли. Это была война. Повозки уехали, и солдаты легли спать.
* * *
Полковник Крымов был послан Самсоновым в Млаву, в первый корпус генерала Артамонова. Артамонов был известен обоим еще по Маньчжурии, где он командовал дивизией и ничем себя не показал, разве что слишком боялся окружения. Еще он был известен, как знаток церковного богослужения и многих молитв.
Крымов на автомобиле в сопровождении вестового без приключенкий добрался до Млавы и подъехал к железнодорожной станции в то время, когда с западной стороны, освещенный закатом, плыл в небе германский цеппелин с отчетливо видными черными крестами. Увлеченный жутковатым зрелищем этой громадной рыбы, Крымов велел шоферу ехать за ним.
На станции затрещали ружейные залпы и зататакал пулемет. Цеппелин навис над железнодорожным вокзалом, сбросил несколько бомб, они гулко взорвались.
С земли были заметны неторопливые эволюции цеппелина, повернувшего в обратном направлении. Уходил. Он и должен был уйти, ибо с таким чудищами мы еще не умели бороться.
Крымов провожал его взглядом, и цеппелин плавно пошел вниз, словно устал летать. Подбили? Нет, не может быть? Но почему идет вниз?
По дороге мимо крымовского автомобиля поскакали два взвода казаков с пиками. Чубатые, азартно гикавшие всадники оставляли впечатление какой-то игры, будто хотели догнать и проткнуть пиками шарик.
— Веселая у казаков служба, — заметил вестовой с самостоятельным задумчивым выражением. — Вот вы, Алексей Михайлович, казачьим полком командовали, — разве плохо? А нынче трясемся на таратайке, волю командующего исполняем.
Крымов смотрел по сторонам, примечая разбитые в нескольких местах окна и витрины. Речь вестового позабавила его. Тот расценивал должность генерала для поручений примерно как адъютантскую, а полковник Крымов был на самом деле ближайшим командующему человеком.
Ну, слава Богу, наконец доехали до штаба корпуса. Артамонов принял посланца Самсонова незамедлительно и, пожав руку, стал расспрашивать о самочувствии, о трудностях дороги, угощать чаем. От Артамонова исходило радушие помещика-хлебосола, и весь он, с бородой, животом, лучащимися глазами, несмотря на мундир, казался отцом семейства, а не боевым генералом, И к тому же еще на лестнице полковнику почудился сладкий дух горячего теста.
Крымов вручил генералу директиву командующего, в ней приказывалось: наступать на линии Кослау — Сольдау; при слабости противника — немедленно энергично атаковать.
Артамонов и его начальник штаба, болезненного вида генерал Ловцов, принялись изучать карту, озабоченно переговариваясь.
На желтом паркетном полу ярко светились квадраты солнечного света, пахло старой мебелью, скипидаром, пирожный дух сюда не пробивался. Над столом висела большая картина, написанная тяжелыми крепкими красками, изображала охоту на кабана.
Крымов пил чай за маленьким столиком, вспомнил цеппелин и мысленно увидел фантастическую карту полета русских помещиков-генералов верхом на такой рыбе.
Артамонов, Клюев, Мартос, Кондратович — все они были ровесники Самсонова (только Мартос, правда, на год старше, 1658 года рождения, полтавский помещик), и во всех, даже в Александре Васильевиче, было что-то от старосветских помещиков.
— Капитан, — обратился Крымов к присутствовавшему капитану со значком Академии Генерального штаба. — Сейчас над станцией подбили, кажется, цеппелин. Прикажите узнать.
— Какой цеппелин? — ахнул Артамонов, — Почему я ничего не знаю? Капитан Шевченко, немедленно все узнайте, Немедленно!
Крымов допил, стал ждать ответ на директиву.
— Еще чайку, Алексей Михайлович? — любезно предложил Артамонов.
— Нет, спасибо.
— Вы знаете, Алексей Михайлович, корпус очень ослаблен, — сокрушенно вымолвил Ловцов. — Восемьдесят шестой Вильманстрандский полк и девяносто шестой Омский мы оставили дал прикрытая Варшавы. А казачий полк из Олиты до сих пор не прибыл… Тяжелое положение.
Крымову почудилось, что Ловцов не вполне понимает, что уже начались военные действия.
— Вы завтра должны взять Сольдау, — сказал Крымов.
— Мы постараемся, — совсем не по-военному ответил Ловцов.
— Да, да, нелегкое положение, — ласково произнес Артамонов. — Я готов лично возглавить атаку, даже лечь костьми, коль потребуется, но я должен сказать вам все правду, чтобы вы донесли ее до Александра Васильевича… Нельзя было ослаблять корпус. Два полка — это целая бригада! А случись, не приведи господь, неблагоприятный поворот, кто виноват? Артамонов?
— Ваше превосходительство, — сказал Крымов. — Из Августова прибывает третья гвардейская дивизия… Директива должна быть выполнена во что бы то ни стало. От вашего корпуса зависит успех всей армии.
— Два полка забрали, — пожаловался Ловцов. — А в Сольдау целая дивизия. Нужного перевеса у нас нет.
Хотят сидеть на месте, как Ильи Муромцы, подумал Крымов, начиная испытывать сомнения в том, что командование корпуса осознает важность задачи.
Артамонов поднял к груди руки, потер ладони и прищурился на Крымова с хитрецой:
— Может, Мартоса вперед продвинуть? У Николая Николаевича сил больше.
— Ваше превосходительство, скажите мне прямо: директиву исполнить не можете! — Крымов даже прикрикнул на генерала.
Артамонов покачал головой, словно удивлялся явной бестактности полковника, заметил:
— Суров, Алексей Михайлович? Молод.
Крымов увязал в артамоновской старосветской неподвижности и едва сдерживался. Но он сказал себе, что не для того приехал в Млаву, чтобы злиться на генералов; надо просто повиснуть на них, как бульдог, тогда они зашевелятся.
— Будете готовить приказ? — требовательно спросил Крымов.
Артамонов закряхтел, повернулся к Ловцову. Тот страдальчески посмотрел на Крымова, точно говоря ему: «За что ты нас мучаешь?»
— Приказ на Сольдау, — добавил полковник. — Я должен сегодня увидеть приказ — это пожелание командующего.
Помещики скисли, Артамонов засопел, подошел к карте, взял циркуль, потом бросил его обратно.
— Ангелы вопияша! — сказал он с горечью. — Хорошо, будет вам приказ.
— Благодарю, ваше превосходительство, — ответил Крымов. — Разрешите покинуть вас. На рассвете я должен выехать к генералу Мартосу.
— Прошу задержаться, Алексей Михайлович. Вы мой гость, мы вместе поужинаем. — Артамонов кивнул на картину, написанную тяжелыми красками, будто обещал угостить кабанами.
Вошел адъютант, доложил, что казаками захвачена команда подбитого цеппелина, — об этом минуту назад доложили по телефону.
— Не верю я этим телефонам? — воскликнул Артамонов. — Распорядитесь доставить сюда кого-то из команды.
Пленного привезли быстро, но, по-видимому, везли поперек седла, как мешок, и он выглядел изрядно помятым. Он был коренастый, темноволосый, смотрел угрюмо. Артамонов спросил его по-немецки, кто он такой.
— Капитан Эрнест Георг Гринер, — ответил пленный.
— Где ваши квартиры?
— В Генрихсдорфе, герр генерал.
— А в Сольдау были?
— Нет, в Сольдау не был.
— Какие части в районе Сольдау?
— Там части ландвера, около двух полков.
— Вы лжете, капитан. Это нехорошо. Нам известно, что в Сольдау дивизия.
— Не думаю, что дивизия, герр генерал. Два полка.
Артамонов махнул рукой, отвернулся от германца, показывая взглядом Ловцову и Крымову, что они могут допрашивать дальше.
— Зачем вы бомбардировали станцию? — тоже по-немецки спросил начальник штаба.
Это было равносильно тому, чтобы спросить «Почему вы призваны в армию», то есть вопрос в данных обстоятельствах бессмысленный. Пленный пожал плечами, потом сказала:
— Железнодорожная станция… Приказ…
— Понятно, — с многозначительным видом произнес Ловцов. — А как вооружен цеппелин?
— Два пулемета и бомбы… Нам просто не повезло, повредило руль, иначе мы бы от вас ушли.
— От нас вы не уйдете! — сказал Ловцов.
— По нашим сведениям, мы сильно бьем французов, — продолжал пленный. Не ожидали, что они так плохо дерутся. Но мы весьма воодушевлены и рады войне и деремся с удовольствием и за наше существование.
Ловцов ничего больше не говорил.
Крымов попросил дать чистую карту и велел германцу показать маршруты цеппелина и расположение полков у Сольдау.
— Мы не ожидали, что русские будут так энергично наступать и так устойчивы, — сказал Гринер, разглядывая карту. — Вот здесь и здесь, — потом показал расположения полков.
— Ценят нас немцы, — по-русски произнес Артамонов. — То ли еще будет?.. Пожалуй, я приглашу его на ужин, пусть почувствует нашу силу. Как вы думаете, Алексей Михайлович?
— Он уже почувствовал, — ответил Крымов, не поддерживая генеральской блажи.
Полковник помнил о Сольдау и предстоящей поездке в пятнадцатый корпус к Мартосу. Что ему застолье да еще с пленным?
* * *
На рассвете казачья разведка, высланная из-под Янова, прошла по шоссе до Нейденбурга и обнаружила по дороге полное безлюдье, хутора и дворы оставлены, скот, птица, домашнее добро брошено.
С холма открылся в легкой туманной дымке Нейденбург, небольшой, сразу охватываемый взглядом. Несколько высоких каменных построек в его середине делали его похожим на крепостной замок. Казаки вглядывались, потом спустились с холма и пошли рысью к городу. Есть там войска, нет ли — надо было убедиться, подставив себя под выстрелы.
Они подскакали на расстояние выстрела и остановились. Было видно, что улица перегорожена баррикадой, но из двух-трех окон свисали белые простыни с крестами. То ли защищаться хотели германцы, то ли сдавали город — не поймешь.
Урядник Пивнев, тот самый, который был в первой разведке, когда убили Топилина, скомандовал трем казакам пойти поглядеть на баррикаду сблизи. Эти казаки помялись и тут же, загораясь удальством, хлестнули коней.
Вот уже рядом баррикада. Прицелься — и нет пригнувшихся к холкам казаков. Но пока тихо. Вот совсем рядом баррикада. Один вдруг спешивается, подходит к ней, начинает что-то тащить. И другие двое тоже спешиваются, помогают.
Урядник, с облегчением крякнув, послал лошадей вперед, а за ним поюли остальные.
Раскидав шкафы, повозки, ящики, они двинулись по улице к центру. Нейденбург сдавался.
— Ой, богато живут, — сказал Алейников, глядя на витрину, в глубине которой царили облаченные в костюмы и шляпы манекены.
— Ой, дывысь, шо там? — обрадованно воскликнул казак Тараканов. Кажись, граблять!
Возле дома стояла подвода с узлами, а из дома двое мужчин выносили длинный узкий ящик. Увидев казаков, они сунулись обратно, один скрылся в дверях, а второй не успел. Тараканов, как коршун, вцепился в него, ящик со звоном и грохотом упал.
Задержанный был плотный, рыжеватый немец, от страха он начал икать.
Тут же вытащили и второго, молодого парня. Они были похожи, наверное, отец и сын.
Тараканов повернул ящик стеклом вверх, оказалось — часы. И жалко ему стало загубленного добра.
— Своих граблять! — зло вымолвил он и с размаху протянул плетью по спине икающего немца.
— Брось его! — сказал Пивнев. — На конь!
— У, курва, — снова замахнулся казак. — Мы воюем, а он — своих? Я б казнил таких.
Немец кинулся к уряднику, чуя от него защиту, но Пивнев усмехнулся и без замаха легонько тоже огрел его.
— Будешь знать? — крикнул Тараканов, садясь в седло. Алейников хлестнул немецких коней, они понеслись, а казаки порысили назад, к своим.
* * *
Крымов прибыл в Янов к семи часам утра, когда пятнадцатый корпус четырьмя колоннами, побригадно, в образцовом порядке начал движение на Нейденбург.
Измученный лесной дорогой полковник вышел из автомобиля и смотрел на проходившие войска. Он не знал, какое положение у Нейденбурга. Может быть, через три часа эти люди будут в бою, но они спокойны и уверены в себе. Тяжелее впечатление, оставленное Артамоновым, развеивалось. Перед ним была отлаженная крепкая бодрая человеческая масса, то, что и есть самая армия, сплоченные вооруженные люди.
Крымову попался на глаза большой носатый солдат с высоко поднятой головой, выделявшийся из общей массы. И Крымов подумал, что его мысль о сплоченных командирами людях слишком узка без национального и религиозного чувства.
«А какое у этого солдата дело в Восточной Пруссии, для которого требовалось национальное и религиозное чувство? — спросил себя Крымов. Ведь нет такого дела. А он идет как на крестном ходе».
Значит, было что-то другое. И он еще подумал почти с ужасом: «Это последний, он внук суворовских солдат. Артамонов — не просто старосветский генерал, а тоже внук Суворова и Кутузова… Все связано».
Крымов добрался до штаба корпуса в хорошем настроении после увиденных колонн. То смутное ощущение последнего окончательно развеялось при встрече с Мартосом: Николай Николаевич сообщил — Нейденбург свободен.
Мартос ни на кого из генералов не был похож — худощавый, быстро шагающий, странный. Рядом с ним начальник штаба Мачуговский выглядел подавленным.
— Нет, я недоволен! — ответил Крымову Мартос. — Они разболтались в походе. Вчера был просто дикий случай: канонир одной батареи стрелял в своего фельдфебеля. Если и дальше мы не додадим нормального снабжения, придется двинуть за войсками полевые суды.
— Почему стрелял? — спросил Крымов.
— Строгий фельдфебель и голодное брюхо, вот почему. Кстати, вы, должно быть, не завтракали? Потерпите, позавтракаем в Нейденбурге. Не будем терять времени.
— Может, угостим полковника хотя бы чаем? — предложил Мачуговский.
— И так тучный, — сказал Мартос. — Потерпит.
Крымов был несколько обескуражен тем, что его встретили так сухо, он почувствовал, что с Мартосом придется сложнее, чем с Артамоновым.
Мартос подошел к карте, помолчал над ней, созерцая расходящиеся веером направления корпусов.
— Ваше превосходительство, — сказал Крымов. — Генерал Артамонов сомневается в походе боя за Сольдау. Ваша задача — поддержать его, двинув колонну с востока, вот отсюда.
— В директиве об этом не упомянуто, — заметил Мартос. — Он, что, вкусно угощал вас и разжалобил?
— Если вы не поддержите Артамонова, — начал было Крымов.
— Вижу, полковника — перебил Мартос. — Тогда Сольдау повиснет у меня на фланге. Вы это хотели оказать? Не уговаривайте, все я вижу… Что вы предлагаете? — обратился он к Мачуговскому.
— Решайте сами, Николай Николаевич, — ответил начальник штаба без всякого выражения, как будто боялся выразить свое мнение.
— «Решайте?» — передразнил его Мартос, — Что за кисляйство? Надо помочь Артамонову, будь он неладен!.. Пошлите на разведку авиатора и казаков… Вы удовлетворены, полковник?
— Благодарю вас, — ответил Крымов.
Командир корпуса, конечно, не был старосветским помещиком, понял полковник, и в войне разумел толк, да вряд ли его кто-нибудь любил, хоть одна душа.
К полудню командир корпуса добрался до Нейденбурга, обогнав колонны. С холма был виден красивый город, многие здания, при рассмотрении в бинокль, оказались иллюминированы флагами Красного Креста.
— Уходят, — сказал Мартос. — Все бросают и уходят. Заманивают, что ли?.. — И улыбнулся Крымову. — Будем ждать ключей от города? Иди пошлем разведку?
Послали казаков и пеших разведчиков. Мартос ходил вдоль обочины, расспрашивал Крымова о жизни Самсонова в Туркестане, потом спросил, как Александр Васильевич ладит с Жилинским.
— Они однокашники, — ответил Крымов, не желая сплетничать.
— Все мы однокашники, — сказал Мартос. — Яков Григорьевич светский человек, а мы армейские служаки. Тут разница непреодолимая… Что говорит Александр Васильевич о наступлении? Вспоминает военную игру Шлиффена? Должен вспоминать! А Жилинский — вспоминает? Сильно сомневаюсь. Мы воюем полками и дивизиями, а Яков Григорьевич — соображениями.
Крымов со вчерашнего дня ничего не ел, и ему было скучно. Он думал о том, что из Нейденбурга надо возвращаться к Артамонову, подталкивать его вперед, — и еще думал о том, что должны испытывать голодные люди.
Потянуло дымом. Мартос и Крымов оглянулись — за крымовской машиной шофер с вестовым подвешивали на рогульке котелок, не дожидаясь нейденбургского обеда.
— Сейчас поедем, зря стараетесь, — сказал генерал.
— Не, ваше высокоблагородие, еще не скоро. Как раз успеем чаю напиться.
— Почему ты так считаешь?
— Потому, ваше высокоблагородие. Вы сперва казаков послали, после солдатиков пошлете, а вот тогда и сами пойдете. Без солдат вам не резон идти.
— Попью и я с вами, — сказал Крымов.
— Скифы! — насмешливо вымолвил Мартос. — Печенеги!
— Такая наша доля, ваше высокопревосходительство, — с виноватым видом, скрывающим лукавство, произнес вестовой. — У этого германца ничем не разживешься. Вот у нас на этом месте рос бы кипрей, а они все выкосили. Другой раз нечем будет и чаек закрасить.
Мартос нахмурился, недовольно сказал Крымову:
— Распущенный у вас вестовой?
— Пока не жалуюсь, — возразил полковник. — Он и кашу из топора сварит…
За спиной Мартоса Мачуговский укоризненно покачал головой, словно говорил: «Не спорьте вы с ним, ради Бога!»
И в один миг образцовые колонны солдат, этот забитый Мачуговский и грубость Мартоса, — все соединялось в одно целое.
— У вас будет возможность разочароваться в нем, господин полковник, резко сказал Мартос. — Я не одобряю вольностей для нижних чинов, от этого падает дисциплина.
Крымов промолчал. «Такой же барин, — подумал он с сожалением. — И тоже внук Суворова и Кутузова».
— Помните, господин полковник, картину Верещагина «Апофеоз войны»? спросил Мартос. — Половина жертв на войне — от нашего бескультурья. А неуважение солдата к порядку — это главный грех бескультурья. Вы согласны со мной?
Чего добивался командир корпуса? Чтобы Крымов покаялся и больше не перечил генералу?
— Согласен, Николай Николаевич, — коротко сказал Крымов.
— Вот и хорошо. Скоро будем в Нейденбурге.
Однако в Нейденбург они попали не скоро. Вернулись казаки, доложили, что их только что обстреляли из окон и трое ранено. Докладывавший казак с бастонами старшего урядника на погонах возмущенно рассказывал о коварстве жителей; от него горячо пахло лошадиным потом; перегнувшись набок, казак вынул из кармана шаровар несколько германских монет и показал на ладони Мартосу как доказательство, но доказательство чего — не понятно.
— Так! — воскликнул Мартос. — Вот вам и ключи? Ну я им покажу за Янов и Калиш. Попомнят, как жечь города? — И он распорядился живо послать за артиллерийским дивизионом, чтобы по одной батарее обстреляли Нейденбург с двух сторон.
— Николай Николаевич, остановитесь? — попытался помешать ему Мачуговский. — Зачем разрушать город?
— Вы тюхтой? — бросил Мартос. — Я не намерен понапрасну лить русскую кровь. И никому не позволю.
— Я не тюхтей, — обиженно сказал Мачуговский. — Я не позволю!
— Ладно, ладно, ничего, — произнес Мартос. — У них там баррикада, оборона — парочка хороших залпов не помешает.
Мачуговский подошел к Крымову, просительно на него смотрел. Полковник пожал плечами, окликнул вестового:
— Степан? Как чаек?
— Эх вы! — вздохнул Мачуговский.
Крымов подошел к костерку, велел Степану взять жестянку с английским чаем и окорок.
Степан расстелил на траве попонку, поверх же — полотенце и поставил медные кружки.
— Николай Николаевич! — пригласил Крымов.
Мартос отмахнулся пренебрежительно, Мачуговский отвернулся.
— Ну как хотите, — вымолвил Крымов и присел на попонку. — Садись, Степан, садись, Михаил.
Вестовой и шофер замялись, робея перед генералами.
— Мы — там, — Степан кивнул за автомобиль, явно желая укрыться.
Что оставалось Крымову? Он встал с попонки и с равнодушным видом показал Степану, что не будет закусывать, сейчас некогда.
* * *
Горе побежденным!
После обстрела мелинитовыми гранатами Нейденбург в нескольких местах задымил. Ответного артиллерийского огня не последовало. Город молча ждал. С железнодорожной станции отходил поезд. Немцы уезжали, поляки оставались. В городском госпитале оставалось четверо раненых германцев вместе с врачом и сестрой.
И русские вошли в город.
Как сказано в Писании: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!»
Жители стояли вдоль домов, смотрели равнодушно, а один старик поклонился Крымову.
Солнце горело в окнах, добавляя к запаху дыма, доносившегося с окраин, тревожное впечатление огромного пожара. Это был первый в крымовской жизни европейский город, в который он входил с наступающими войсками, и Крымов чувствовал величие вековых традиций. «Что ж, мы тоже весьма воодушевлены, подумал он, вспомнив слова капитана Гринера. — Поглядим, что будет завтра дальше».
Штаб корпуса занял дом ландрата, и конвойцы, осмотрев все помещения, вывели на площадь повара в белом колпаке и еще трех слуг.
— Где господин ландрат? — спросил адъютант Мартоса.
Не было никакого господина ландрата, исчез. Зато в подвале сидят человек тридцать добропорядочных немецких хуторян, — по секрету доложили слуги. Зачем сидят? Хотели ограбить дом господина ландрата.
— О? — воскликнул Мартос, — А свалили бы на нас! — Гнать взашей к чертовой матери… Назначить коменданта города, взять из городских запасов всю муку, напечь хлеба.
Он распоряжался, не думая ни с кем советоваться. После решительности, проявленной при входе в Нейденбург, Мартос так же твердо распорядился о хлебопечении.
— Возьмите этого колбасника, — показал он на повара. — Он должен знать все хлебопекарни.
Повар взволнованно стал говорить, что у него готов обед для господ офицеров, который предназначался господину ландрату, а теперь его надо рассматривать как трофей.
— Конечно, возьмем, — по-немецки сказал Мартос. — А ты не бойся, мы тебя не съедим.
— Да, да, — закивал головой немец, улыбаясь. — Меня есть не надо, я уже старый, у меня кислое мясо.
Мартос показал жестом адъютанту: вперед, некогда болтать. Адъютант с несколькими казаками бросился в дом, следом за ними пошел Мартос, Мачуговский, штабные.
Итак, Нейденбург согласно директиве Самсонова был занят. Все были довольны успехом, возможностью получить награду, ибо, что ни говорите, за взятый город всегда положены ордена. И Крымов тоже думал об ордене, а потом вспомнил: Сольдау! Однако искровая команда еще не подошла, послать искровую телеграмму по радиоволнам было нечем.
В представлении Крымова вчерашний день у Артамонова отдалился настолько, что нынче казалось, словно то происходило почти на японской войне.
Вокруг полковника царила суета, бегали вестовые, казаки, адъютанты, устраивали свои службы. Крымов вошел в зал, поглядел на картины, написанные крепкими красками, на охотников в шляпах с перьями, породистых собак, клыкастых кабанов и зубастых медведей. Двое немцев застлали стол скатертью и принялись выставлять из шкафа посуду. Все-таки обед должен состояться! Мартос был великолепен. Вот где апофеоз войны.
Крымов пошел на пункт связи, где телефонисты разворачивали полевую станцию. Там был Мачуговский. Полковник написал телеграмму, а штаб первого корпуса и попросил Мачуговского, как только придет искровая команда, сразу отправить ее.
— Шифровать надо? — спросил Мачуговский.
— Не надо. Неужели они способны узнать, что в эту минуту мы посылаем радио?
— Все-таки предосторожность… Я, честно говоря, не представляю, как это передается по воздуху? — Мачуговский взял полковника под руку. — Дайте выйдем, мне надо с вами поговорить.
Вышли в коридор.
— Умоляю вас! — шепотом воскликнул Мачуговский. — Нет больше сил! Так и скажите Александру Васильевичу. На любую должность согласен. Куда угодно, лишь бы не с этим!
— Я передам, — ответил Крымов.
— Боже мой, — подумал он, выходя из дома. — До чего довел человека…
На улице уже все было армейское. Не найдя ничего похожего на коновязь, казаки привязали лошадей прямо к липам, насорили сеном и овсом. Лошади поливали каменные плиты журчащими струями.
В автомобиле сидел один шофер, вестового не было. Крымов залез на сиденье, вытянул ноги и закрыл глаза.
— Что тут делается? — спросил он.
— Степан побежал хлебца добыть. Говорит, пока штабные расчухаются, можно пошарпать немца.
— А еще?
— Больше ничего. Ночуем здесь?
— Найдем, где ночевать, не переживай. Сейчас поедем город смотреть.
— Степан! — вдруг крикнул шофер и щелкнул дверцами. Крымов открыл глаза — к машине бежал вестовой с белым свертком, а за ним — казачий офицер, придерживая шашку. Полковник тоже отворил дверцы со своей стороны.
Вестовой подбежал, сунул сверток шоферу и повернулся к казаку. Тот поглядел на Крымова, нагло улыбнулся, пожав плечами: мол, не успел догнать, ваша взяла.
— Садись, — бросил вестовому Крымов. — Поехали.
Тронулись. Степан раскрыл дорожный погребец и, рассказывая, как раздобыл ковригу, через минуту дал Крымову ломоть свежего хлеба с куском окорока.
— Теперь пора и закусить, — заметил он, как будто знал, что полковник решил не обедать с генералом. — Им бы только командовать!
— Кому командовать? — строго спросил Крымов, готовый одернуть вестового.
— Да казакам, кому же еще! — слукавил Степан.
— Так я тебе и поверил, — сказал полковник. — Ах, как пахнет, черт возьми!.. Прощаются все твои грехи.
Наконец-то он мог поесть!
Шофер даже оглянулся, чтобы посмотреть, как полковник жует бутерброд.
— На дорогу гляди! — весело рыкнул Степан.
Автомобиль доехал до высокой стены замка, зеленевшей снизу пятном мха, повернул в узкую улицу. Мелькнула вывеска госпиталя, две простыни с красными крестами свисали из окон. Вскоре Крымов увидел впереди солдата, который стоял на плечах другого солдата и заносил ногу на подоконник.
— Тоже хлебца захотелось, — заметил шофер.
Автомобиль остановился прямо под окном. Но солдат уже соскочил с подоконника в глубь квартиры, а его товарищ, оставшийся внизу, встрепенулся и вытянулся, таращась на Крымова.
— Позови его, — велел полковник. — Живо!
Под ногами хрустнули стеклянные осколки.
— Эй! — пискнул солдат, потом громко заорал: — Эй, Байков! Вылазь!
— Чего? — отозвался голос. — Погоди.
— Вылазь, Байков! — заорал солдат. — Тут господин полковник!
— Пошел ты со своим полковником…
Солдат повернулся к Крымову и, продолжая таращить круглые дураковатые глаза Иванушки-дурачка, доложил:
— Не вылазить, ваше высокопревосходительство… Я пойду, мне пора.
— Стой, — Крымов велел Степану взять одну из прислоненных к оштукатуренной синеватой стене винтовок и выстрелить вверх.
Вестовой выстрелил, передернул затвор, и гильза запрыгала по брусчатке.
— Байков, они осерчали! — закричал солдат.
Наконец этот непокорный Байков высунулся по грудь и свесил наружу для обозрения толстую темно — красную колбасу, перевитую тонкими веревочками.
— Кидай сюда! — крикнул Степан и прислонил винтовку к стене.
Байков посмотрел на Крымова, чуть покачал головой, точно удивляясь, откуда здесь взялся автомобиль с полковником, и ни страха, ни уважения к офицеру не было на его курносом плутовском лице.
Крымов жестом приказал: немедленно слезай!
Байков улыбнулся и бросил вестовому колбасу. Она ударилась о вытянутые руки Степана, скользнула у него по груди и плюхнулась на камни.
— Не сметь! — сказал Крымов, глядя на вестового.
Степан замер.
— Немедленно слазь! — размеренно произнес полковник с холодным выражением командирского гнева.
Байков посмотрел на плиты, питом, оглянувшись вправо и влево, сел на подоконник, повернулся и стал сползать, елозя носками сапог по стене, повисел на руках и спрыгнул.
Перед Крымовым стоял маленький, плотный человек с тупым лицом, как бы говорившим, что я, мол, забитый нижний чин, виноват во всем и уповаю на милость господина полковника.
Но Крымов прекрасно понимал цену этому.
— Какого полка?
— Двадцать девятого пехотного Черниговского полка третьей роты рядовой Байков, ваше высокопревосходительство!
— Ты, Байков, знаешь, что тебе за грабеж положен полевой суд?
— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Я не грабил. Немец сам все бросает.
— Ступай в полк, доложи дежурному офицеру, что тебя задержал за грабеж полковник Крымов. Ясно?
— Ясно, ваше высокопревосходительство: доложить дежурному офицеру.
Крымов приказал сделать то же самое второму солдату и сел в автомобиль, борясь с глухим чувством бессилия.
— А колбаса? — тихо спросил вестовой.
— Ты меня хочешь кормить этой поганой колбасой? — рявкнул Крымов. Поехали!
— Хорошая колбаса, — проворчал Степан. — Мы с Михайлой…
Шофер не трогался, медлил, словно ждал чего-то. Крымов двинул его кулаком в плечо:
— Поехали! — Только после этого двинулись.
Можно было и позабыть про того Байкова, посчитать грабеж единичным случаем, и Крымов уже был склонен так думать, как вдруг на соседней улице они увидели трех солдат, выбивавших окно.
Остановились, повторилась та же процедура: какого полка, пойди в полк, доложи… Что еще мог полковник? Стрелять на месте?
Когда в третий раз Крымову на глаза попали промышляющие грабежом солдаты, он не стал останавливаться.
* * *
9 августа Жилинский телеграфировал Самсонову: «Верховный главнокомандующий требует, чтобы начавшееся наступление корпусов 2-й армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение. Данную на 9 августа диспозицию признаю крайне нерешительной и требую немедленных и решительных действий.»
Вечером 9 августа Самсонов телеграфировал Жилинскому: «Сольдау занято 9 августа 7 часов вечера. Противник ушел направлении на Остероде, жители бежали; Нейденбург горит. Ожидаю его занятия 15-м корпусом. Необходимо организовать тыл, который до настоящего времени организации не получил. Страна опустошена. Лошади давно без овса. Хлеба нет. Подвоз из Остроленка невозможен».
* * *
Возвращались уже в сумерках, и Крымов, вспомнив о госпитале, велел заехать туда. Это оказалось трудно — все подъ-езды забиты фурами дивизионного лазарета. Нейденбург полностью накрыло волной войск.
Крымов взял вестового и пошел пешком мимо лошадей, повозок и ездовых. Пахло конским потом, кавалерийской вольностью. И, как старый кавалерист, Крымов чуть-чуть отмяк душой. На ходу он перемолвился с ездовыми: раненых почти не было. Да и откуда им быть, если бои по-настоящему еще не начались.
В окнах госпиталя горело электричество, простыни исчезли: перед дверями стояла кучка то ли санитаров, то ли возчиков, слушали офицера в пенсне.
Подойдя ближе, Крымов различил подполковничьи погоны — значит, это был начальник лазарета.
Все происходило в привычном порядке: подполковник выпроваживал возчиков на ночевку за городскую черту, куда уже ушла часть повозок, а возчикам — не хотелось куда-то убираться.
Сейчас все части корпуса устраивались на новом месте, и вряд ли хоть в одной обходилось без неувязок.
— Извините, господин полковник, — сказал подполковник совсем невоенным тоном, каким только что с отеческим добродушием разговаривал и с нижними чинами.
Через минуты три Крымов увидел пустую палату, где было электричество, умывальник, четыре железные кровати.
— Хорошо, культурно, — отметил начальник лазарета с некоторой гордостью. — В следующей — казаки, а в конце — германцы.
— Германцы? — переспросил Крымов.
— Да, тяжелые. Я установил там контроль. Но там еще германский врач и сестра, люди, по-моему, приличные. — Подполковник был доволен и германцами.
Из комнаты справа в коридор открылась дверь, и в прямоугольник яркого света вышел человек в белом халате с русой бородкой.
— Это доктор Исаев, — представил подполковник. — Старший врач.
— Мы пьем чай, приглашаем, — сказал доктор. — Германские коллеги нас угощают.
— Я бы предпочел поговорить с германскими ранеными, — ответил Крымов. Есть офицеры среди них?
— Есть, но, наверное, он спит. — Доктор мягко улыбнулся, точно сожалел о том, что не может отвести Крымова к немцу.
— Ничего, разбудим, — сказал Крымов. — Какие-нибудь бумаги у него есть?
— Как разбудите? — снова улыбнулся доктор. — Подождите до утра, утром можно поговорить.
— Лучше сейчас. Бумаги у него есть?
— Какие бумаги? — воскликнул доктор Исаев, с упреком обращаясь к подполковнику. — Я не обыскивал его! Может, прикажете выбросить раненых на улицу?
Из-за дверей слева донеслось негромкое задумчивое пение. Пели знакомую Крымову казачью песню.
Ой да разродимая ты моя сторона, Ой да не увижу больше я тебя…— Я вас понимаю, доктор, — сказал Крымов. — Но война, ничего не могу поделать. Ведите меня к немцу.
Доктор развел руками и, что-то буркнув, пошел по коридору.
— Позвать германского доктора? — спросил начальник лазарета.
— Обойдемся сами, — сказал Крымов. — Идемте.
Раненый немец лежал один в темной палате, где пахло тем особым запахом медикаментов и крови, который всегда держится в палатах тяжелораненых. Доктор не включил света, слабая коридорная лампочка оставляла посреди палаты неяркую полосу, была видна голова на подушке и закрытое простыней тело. Раненый дышал хрипло, с трудом.
— Извините, камрад, — обратился по-немецки Крымов. — Нам надо поговорить.
— Спит, — сказал доктор.
— Включите свет, — велел Крымов.
При свете он увидел бледное, чуть влажное лицо с блестевшим желтым лбом, приоткрытый сухой рот, обметанный щетиной подбородок и выражение угасающей жизни.
«Прости меня, Господи, — подумал полковник. — Злая судьба — вот так умирать».
— Пошли, — вымолвил он. — Хотя постойте… — Открыл тумбочку, выгреб оттуда офицерскую сумку и вытащил из нее тонкую книжицу.
В документе указывалось, что капитан Франц Бреме служит в двадцатом германском корпусе.
Доктор осуждающе смотрел на Крымова, не мог понять, что перед ликом смерти может быть существенного в какой-то офицерской книжке.
* * *
Утром 10 августа по прекрасному шоссе Нейденбург — Сольдау Крымов домчался до Сольдау, стоявшего на берегу реки, тоже именуемой Сольдау. На реке лежала тень от моста, и тянулась по воде прядь исчезающего тумана. Освещенные солнцем с русской стороны краснели шпили католического костела, золотились окна — все как будто целые.
На сырых утренних улицах уже вовсю проявлялось присутствие действующей армии, но не было видно ни разрушений, ни пожарищ. Артамонов взял город чисто.
— В первом корпусе нас по-человечески принимали, — с удовольствием заметил вестовой, словно приветствуя генерала-хлебосола.
Ненадежен был командир первого, а ведь и Крымов сейчас испытывал что-то подобное Степанову настроению — с Артамоновым было легко, он осознавал, что задача Крымова — толкать, а его задача — выполнять указания представителя командующего; все было просто и понятно.
На площади перед ландратом, где стоял большой автомобиль и у временной коновязи — оседланные кони, Крымов вышел. Городок напоминал Нейденбург, только никаких госпиталей не было видно. Возле коновязи вертелся черно-белый котенок. Часовые-пехотинцы четко откозыряли полковнику, а казак-конвоец, случайно оказавшийся у дверей, — с лихой небрежностью.
В штабе Артамонова не было, да и штаб был не корпусной, а 22-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Душкевича. Пятидесятидевятилетний Душкевич принадлежал к разряду второстепенных генералов, не окончивших Академии Генерального штаба и поэтому обреченных на вечную провинциальность. Он принял Крымова сердечно и, без приукрашиваний, усмехаясь в рыжевато-седую бороду, поведал, что никакой заслуги в занятии Сольдау у него нет: германцы уступили город почти без боя. Его начальник штаба, однокашник Крымова по академии, полковник Пфингстен вообще раскрыл хитроумный прием Артамонова, приказавшего двигаться на город, но не атаковать, терпеливо ждать.
Конечно, корпусной командир своеобразно исполнил самсоновскую директиву атаковать без промедления, и стало ясно, что здешний успех нужно отнести за счет планомерного отступления германских войск.
— Сколько было у немцев? — спросил Крымов. — Дивизия была?
— Два ландверных полка, — ответил Пфингстен. — Впрочем, могли обороняться… А они оборонялись только для видимости, так — постреляли немножко… Но даже не взорвали мосты. Как будто знают, что мы с каждым днем истощаем последние запасы.
— Пленных взяли? — еще спросил Крымов.
— Не взяли, — сказал Пфингстен. — Была попытка порчи нашего телефонного кабеля. Казаки виновных повесили.
— Да, приходится, — повел бровью Душкевич. — Есть случаи — стреляют из-за угла…
В облике генерала тотчас проступила сквозь сердечность властная натура. Он показывал Крымову, что одобряет казаков, что только строгостью можно добиться порядка.
Крымов не возражал. Если обыватели начинают впутываться в военные действия, их надо карать.
— Какое у вас впечатление о противнике? — спросил он Душкевича.
— По-моему, они умышленно затягивают нас в глубину, — сказал генерал. Посудите сами, даже мосты не взорвали. О чем это говорит? А ведь мы не торопили. Тут одно из двух: либо они решили вовсе оставить Восточную Пруссию, либо затягивают вглубь…
— Поеду к Роопу, — сказал Крымов, имея в виду 6-ю кавалерийскую дивизию генерал-лейтенанта Роопа, обеспечивающую фланги. — У него должны быть пленные.
— Зачем вам пленные? — возразил Душкевич. — Лучше найдите рооповского подрядчика, потолкуйте с ним. Он где-то здесь. Это еврей. Я бы его назначил вместо главного начальника снабжения фронта, мы бы горя не знали.
— В турецкую войну тоже были евреи-маркитанты, — скептически заметил Крымов.
— Но этот молодец. Он уже наладил молотьбу и помол германского зерна. А наши интенданты только и знают, что стонать.
— Ладно, поеду, — Крымов встал с бархатного дивана, посмотрел на висевшую картину — портрет Фридриха Прусского в охотничьем костюме и загадал: если в следующем городе увидит изображение охоты, то война закончится для него хорошо.
С площади донесся звук подъехавшего автомобиля. Приехали Артамонов с Ловцовым.
Пфингсен пошел их встречать, а Крымов снова сел на диван. — Вот вы вспомнили турецкую кампанию, — сказал Душкевич. — А ведь я участвовал, да… Будто вчера было… Александр Васильевич, как, вспоминает турецкую?.. Большой был в народе подъем. Сейчас меньше.
— Меньше? — переспросил Крымов, вспомнив свои мысли о последнем солдате. — Кто же виноват?
— Нет, они будут умирать героями, — сказал Душкевич.
В зал вошел командир корпуса.
Душкевич не договорил, шагнул навстречу Артамонову, они обнялись и троекратно расцеловались.
Расцеловал Артамонов и Крымова, с удовольствием, произнеося: — С победой вас!
Он потребовал подробного рассказа, как Мартос взял Нейденбург, и, когда Крымов поведал, как стояли перед городом и выдвинули артиллерийский дивизион для устрашения, Артамонов засмеялся.
— Нейденбург пал, потому что первый корпус надавил на Сольдау!
— Вы уверены? — спросил Крымов. — Может быть, есть другие причины?
— Какие там причины! — отмахнулся Артамонов. — Мы готовы были лечь костьми, — эту нашу готовность нельзя сбрасывать. Непременно сообщить командующему о высоком духе войск. Я уже послал донесение, а вы подтвердите: нам противостояла целая дивизия…
— Прошу прощения, — заметил Душкевич. — По нашим сведениям, в Сольдау были два полка. Я об этом доложил Алексею Михайловичу.
— Что? Откуда два полка? — удивился Артамонов. — Помилуйте! Нет, я совершенно определенно знаю — дивизия! Разведка перехватила германский телефонный провод. Вот он подтвердит, — Артамонов поглядел на Ловцова.
— Да, дивизия.
Крымова покоробила покорность Ловцова, с которой тот врал.
— Ну так что? Дивизия или все же два полка, — спросил Крымов у Душкевича.
— По нашим сведениям, два полка, — повторил Душкевич.
— В данном случае это не очень важно, дивизия или два полка, примиряюще произнес Ловцов. — Еще будет возможность это выяснить.
— Надо выяснить! — сказал Крымов, одерживая себя. — Я еду к Роопу в Генрихсдорф… Кстати, там базировались цеппелины. Помните? Пленный капитан говорил, что в Сольдау два полка?
Он показывал, что не верит Артамонову, даже больше — что Артамонов врет. В этом не было сомнений — мелко, бесцельно врет, лишь бы преподнести движение корпуса почти как битву народов. Все поняли смысл и, главное, суть крымовских слов. Артамонов расставил руки, наклонил голову набок и с досадой улыбнулся, раскрыв рот, словно говорил: «Э-э!» Ловцов с безучастным видом отвернулся. Душкевич взял Крымова за руку, стал советовать не ехать автомобилем, а взять лошадей и в сопровождение двух — трех конвойцев.
— Я провожу господина полковника, — сказал Пфингстен. Крымов вышел из зала и вымолвил вполголоса:
— Ну каков Мальбрук! Ты, Пфинготен, где-нибудь еще видывал таких?
* * *
10 августа, когда все корпуса второй армии беспрепятственно продвигались в глубину Восточной Пруссии, начиная верить в повальное бегство германцев, у деревни Орлау передовой полк пятнадцатого корпуса, 29-й Черниговский, натолкнулся на сильное сопротивление.
После полудня полк стал занимать лежащую в лощине деревню и после небольшой перестрелки с германским арьергардом без труда занял ее.
Командир третьей роты штабс-капитан Соболевский с надеждой смотрел на остаток дня. Нужно было дать людям отдохнуть, напечь каких-нибудь лепешек, ибо в Нейденбурге полк не успел разжиться хлебом. И еще — раненых было мало, три человека с царапинами.
Соболевский вызвал артельщика и фельдфебеля отдать необходимые распоряжения.
Денщик во дворе разогревал самоварчик; в комнате было чисто и уютно. Солнце ярко освещало все углы, поблескивало на резных дверцах дубового буфета с толстощекими жизнерадостными фигурками купидонов. Артельщик вернул Соболевскому ротные суммы, которые тот давал на сохранение перед боем, командир вынул из бумажника две двадцатипятирублевые кредитки — на покупку муки.
— Не у кого, все поутекали, — сказал артельщик, беря деньги.
— Чтоб муку достал, — велел Соболевский. — Хватит нам ждать манны небесной. Не достанешь — пойдешь в строй.
— Достану, Николай Иванович, — уверил артельщик.
— Теперь ты, — продолжал Соболевский, обращаясь к фельдфебелю. — Брать из имущества жителей без разрешения офицеров безусловно воспрещаю. Солдат не разбойник. А мародеров — полевому суду. Все спиртные напитки немедленно выливать, посуду — разбивать.
— Так точно, ваше благородие! — ответил фельдфебель. — Не допустим.
Вошел денщик Соболевского, с усмешкой сообщил, что к ним приехал полковой священник.
— Чего смеешься? — спросил командир. — Пойди приведи отца Георгия… Нет, я сам встречу. А вы — ступайте.
Он вышел во двор без фуражки, с расстегнутым воротом, по-свойски.
Из самоварной трубы бойко валил уютный дым. Вдоль красной кирпичной стены скотного сарая порхала бабочка-траурница, то поднималась, то опускалась.
Он мимолетно вспомнил Полтавский кадетский корпус, тихую Ворсклу, окруженную длиннокосыми вербами, белые косынки хохлушек.
Из сарая доносилось мычание. Простая жизнь, похожая на российскую и все-таки совсем чужая, окружала Соболевского в этом чистом дворе с кирпичными постройками.
Отец Георгий благословил его крестным знамением, улыбался. Все любили полкового священника, уже старого и лысого, за добрую душу, звали Батей; был Батя азартным картежником, играл в гарнизонном клубе в штосс и еще сильнее увлекался садоводством в своем саду.
— Здравия желаю, батюшка, — сказал штабс-капитан. — Заходите, чаю попьем, сегодня же воскресение.
— У тебя сухари? — спросил Батя. — От сухарей у меня зубы болят.
— Бисквитами угощу, — пообещал Соболевский. — Что новенького, отец?
Он вдруг поморщился, а священник втянул голову в плечи — в воздухе засвистела граната и разорвалась где-то рядом.
— Что это такое? — спросил Батя. — Как с тобой чай пить, ежели у тебя война идет?
— Это случайный, — ответил Соболевский. — Или наши батарейцы прицел не тот поставили.
Священник посмотрел в небо. Вновь было тихо, бабочка-траурница все порхала во дворе.
И тут снова — свистит, еще свистит, загудело со всех сторон, задрожала земля. Черный фонтан вырос за спиной священника на улице, и комья земли застучали по двору, обдав Соболевского и отца Георгия гарью и пылью.
— Живы? Скорей в дом! — крикнул Соболевский.
Вестовой подхватил самовар, заслонив его спиной. Соболевский взял фуражку, бинокль, шашку и снова выскочил во двор. Гремели разрывы, стоял черный дым, и до неба поднималась серая пелена.
Обстреливали с высот, окружавших деревню. Соболевский понял, что надо спасать людей, и побежал по улице, придерживая одной рукой фуражку, другой шашку. В голове крутились разные мысли. То он думал о лепешках и артельщике, то о невыпитом чае. Он видел, что скорее всего его убьет, но благодаря воспитанной привычке быть готовым к смерти не позволил страху овладеть собой.
Кто-то толкнул Соболевского в спину, он упал, в ушах зазвенело, и грохот стал доходить будто сквозь вату. Потом его подбросило, ударило по руке. По лицу и шее потекло мокрое. Пощупал, посмотрел — кровь. Перед ним лежала сморщенная человеческая рука. Соболевский отвернулся, встал и побежал дальше. Рота потеряла четверть состава, а Черниговский полк остался без командира — погиб полковник Алексеев. Тем не менее на пять часов вечера была назначена атака на укрепленную позицию немцев. Задержка у Орлау не предусматривалась.
Соболевского назначили командовать в этой атаке своей и четвертой ротой, командир которой был тяжело ранен в голову. Одновременно по правую сторону шоссе должны были выступить первая и вторая роты, а дальше Полтавский полк.
Штабс-капитан смотрел на заходящее еще высокое солнце, на темные сосны, возле которых тянулись германские окопы, и снова думал о лепешках. Теперь было ясно, что лепешек испечь не удастся, что сейчас многие заплатят жизнями за то, чтобы оставшиеся в живых двинулись дальше.
Это была первая атака, и чем меньше оставалось времени, тем бодрее и тверже делался голос Соболевского, отдававшего последние приказания.
Вся местность впереди не имела укрытий, поэтому решили атаковать быстрым насколько возможно движением, дабы не дать противнику возможности пристреляться. Ну с богом! Пошли!
Соболевский бежал рядом с хорошим солдатом Токаревым и унтер-офицером Анисимовым. Звякал котелок у Токарева, топали сапоги. Сколько еще они пробегут, прежде чем немцы спохватятся?
Недолго спохватывались, едва подумал — засвистело. Перелет! Разорвалось за цепью.
Снова звякает котелок, топают сапоги. Жарко. Не хватает воздуха. Засвистело. Перелет!
Сколько еще будет перелетов? Один? Два? А до окопов — бежать и бежать. Господи, сейчас ты совсем рядом со мной, ты охраняешь меня и моих людей, спаси меня, если можешь, ты спасешь, я знаю!
Бело-розовые облачка шрапнели разрываются в небе, заслоняя бегущую цепь от глаз господа.
Перед цепью встает земляная стена от гранат. Недолет! Ну что же ты? Сейчас накроет! Не можешь? Не хочешь? И как будто крючья впились в левую ногу, рванули. И правую рванули. И левый локоть крючьями рвануло. Соболевский остановился. На бриджах, на рукаве среди расползающихся мокрых пятен — краснело. Но он не упал и спустя мгновение побежал дальше.
Черная стена выросла среди цепи. Упал унтер-офицер Анисимов, стал сворачиваться калачиком. А Токарев бежал и звякал котелком.
Вот уже шагов двести остается. Виден бруствер, бойницы, стволы винтовок. Артиллерия умолкла, чтобы не задеть своих. Сейчас — в штыки!
— Ура! — крикнул Соболевский.
Ударило в левое плечо, как будто проткнули железным пальцем. Он снова закричал, не остановился.
Вот уже бруствер. Крича, с раззявленным ртом задыхаясь от бега, Соболевский ступил на песчаную горку бруствера и от страшного удара, от которого раскололась голова, рухнул навзничь…
Атака сорвалась, но Соболевский уже не видел, как падают его солдаты, сраженные ружейным огнем, штыками и прикладами. Рукопашный бой длился около минуты. Штабс-капитан пришел в себя от озноба. Правая рука лежала в какой-то луже, он поднял руку — она вся в крови, а лужа, где она лежала, — была кровь. Изо рта текла кровь. Соболевский пошевелил языком, выплюнул обломки зубов, и ощутил, что у него раздроблена вся правая половина верхней челюсти и выбито три зуба в нижней. Пуля попала в рот и вышла в затылок.
Он лежал рядом с окопом, откуда доносились голоса. Рядом кто-то стонал. В окопе выругались, кто-то, кряхтя, полез на бруствер, раздались хрупающие удары приклада по костям. Стоны стихли.
«Сейчас и меня», — мелькнуло у Соболевского, и ужас от того, что он не погиб в бою, а будет забит как животное, охватил его. К нему кто-то приблизился и сказал:
— Здесь офицер.
— Подожди, я сейчас, — отозвался другой голос. Над Соболевским склонился германский офицер, смотрел с любопытством.
— Помогите мне, — попросил штабс-капитан. Германец промолчал, вынул какой-то кортик и присел. Соболевский напрягся, стараясь отползти.
— Стыдно, стыдно! — сказал офицер, покачав головой. Он срезал у штабс-капитана погон, положил его в карман и ушел. Твердый укоряющий звук немецкого слова «Schade!» звенел в ушах.
Потом снова появился этот офицер, а с ним был еще один, с повязкой Красного Креста, — наверное, врач. Врач поднял голову Соболевского, и кровь изо рта и затылка потекла сильнее.
— Он сейчас умрет, — громко произнес врач и опустил голову на песок.
Первый офицер взял Соболевского за правую руку и сказал, прощаясь по-французски:
— Adio, katmrad!
Рядом германские солдаты оттаскивали трупы русских подальше от окопа к лесу.
Соболевский закрыл глаза, сознание оставляло его. Он еще почувствовал, как его тянут за ноги, и потерял сознание. Должно быть, Соболевский попал в ад, ибо когда он открыл глаза, то увидел, что над ним в сумеречном свете копошатся три темные фигуры, тормошат его и толкают. Зачем чертям нужно было вынимать у него из кармана бумажник, срезать шашку, револьвер, бинокль, офицерскую сумку и часы, срывать шейную цепочку с образками Николая-угодника и Спасителя? Распоряжался немецкими чертями старший унтер или ефрейтор. Соболевского затошнило и стало рвать. Унтер срезал у него с пояса флягу.
— Оставьте флягу, я хочу пить, — простонал штабс-капитан.
— А ты хочешь пить, русская свинья! — воскликнул унтер и ударил его каблуком в нос. — Добей его!
Что-то ударило Соболевского по шее, снова все померкло. Очнулся он уже ночью. Шел дождь. Он промок насквозь, и мучительно хотелось пить. Над землей стояла темень, шуршали капли.
«Почему я не умираю? — подумал Соболевский. — Для чего же ты меня бережешь?»
Он попробовал ползти, скользя правой рукой и отталкиваясь коленями. Левая рука была совсем разбита, а плечо и локоть распухли.
Штабс-капитан прополз шагов семь и потерял сознание. Дождь равнодушно шелестел, было по-прежнему темно. Сколько времени Соболевский пролежал в беспамятстве? Он снова пополз.
— Господи, спаси люди твоя, — говорил раненый, едва шевеля распухшими губами и слыша вместо слов стон и мычание. Но все равно, Он должен был слышать.
Снова штабс-капитан забылся и потом снова очнулся. Так он прополз шагов триста, пока не наступило утро. Он лежал в канаве на краю картофельного поля. Наши были еще далеко, дальше германцев. Надо было ждать ночи. Если он доживет до ночи, то поползет… К нему подошел отец, наклонился и спросил:
— Ты готов?
— Готов, — ответил Соболевский.
— Еще рано. Смотри!
Тридцать шесть барабанщиков отбили первые такты марша «Охотник», и соединенный оркестр полков сильно и звучно подхватил, наполняя душу любовью и отвагой.
Пехота проходила побатальонно, глядя на государя. Шел тридцать третий пехотный Елецкий, за ним тридцать шестой Орловский и девятая артиллерийская бригада. В Елецком когда-то служил отец Соболевского, был в турецкую войну с полком на Балканах. Но ведь ко времени приезда государя в Полтаву, отца уже не было в живых…
— Смотришь? — спросил отец. — Видишь, вот и ты стоишь, сынок.
Кадеты стояли в оцеплении на три шага один от другого, а в самых людных местах стояли мальчики десяти лет.
Соболевский хотел разглядеть себя среди старших кадет, но тут началась ружейная трескотня и светлый майский день погас.
Штабс-капитан услыхал русскую брань, звяканье котелков, топот. Повторялась атака. Начинались боевые действия. Значит он остался жить.
Глава пятая
10 августа после полудня генерал Мартос из сообщений первой бригады восьмой дивизии и офицеров связи знал, что на линии деревень Орлау Франкенау неприятель значительными силами занимает укрепленную еще в мирное время позицию.
Части пятнадцатого корпуса двигались из Нейденбурга и должны были с ходу вступать в бой, чтобы очистить себе путь дальше в направлении Гогенштейна. Но как вступать без артиллерийской подготовки, без резервов, не зная глубины германской обороны?
Корпус накатился на преграду и отхлынул. Тридцатый пехотный Полтавский полк в беспорядке отступил, а говоря солдатским языком — бежал.
Услышав о позоре полка, носящего имя родного города, Мартос поехал на передовую. Он еще был во власти наступления и не мог терпеть, когда автомобиль задерживали заполняющие дорогу, прижимающиеся к обочинам колонны. Обгоняя, генерал раздраженно смотрел на бригадный обоз: патронные двуколки, санитарные линейки, походные кухни, провиантские повозки. Мелькнули серая ряса полкового священника рядом с белой косынкой сестры милосердия как неразличимые образы войны…
Провинившийся полк, потерявший к тому же своего командира, стоял, понурившись. Первые шеренги смотрели устало, тускло.
— Полтавцы! — крикнул Мартос громким фальцетом. — Позор! Черниговцы не дрогнули, а вы — позор вам!.. У xерниговцев тоже убит командир, полегло немало… Я вам верил! Держал ближе всех к моему сердцу. А вы первыми дрогнули! Можно ли отныне вам верить?
Мартос умолк и долго высматривал в лицах огонек раскаяния и воодушевления. Подполковник с перевязанной головой возле автомобиля рыкнул:
— Ну?!
— Верить! Верить! — раздалось два-три голоса.
— Боитесь? — спросил Мартос. — Смерти боитесь, полтавцы?.. Да! Многие из нас сложат свои кости, но без этого нельзя. А свое возьмем. Возьмем непременно… Разные пушки бросают шрапнели и бомбы, они убивают мало, а страху на малодушных наводят много. Пускай немец боится. А ты попривыкни и не бойся! Спроси у бывалого в боях. Что самое грозное? Пехотная пуля и штык! Штык в руках русского солдата — божья гроза. Все сметет, разнесет. Царь и Россия скажут спасибо… Не бойся, ежели много врага. Против вашего полка два полка, что за беда? Русский солдат, да еще умный, да ловкий, всегда справится с двумя немцами. Одного побьет, другой со страху сбежит. Главное, нагони страху, а сам не поддайся страху. Ты — русский солдат, великая сила Русской земли!.. Так верить ли вам, полтавцы? Мартос снова замолчал, ждал ответа.
— Ура! — крикнул подполковник.
— Ур-ра! — отозвались полтавцы.
Генерал увидел воодушевление, какое желал увидеть. Они верили, что они великая сила, и были готовы снова идти под ружейные и шрапнельные пули.
Командир корпуса вернулся обратно в Нейденбург к своему штабу в приподнятом настроении, довольный поездкой.
Когда стало темнеть, с корпусной искровой станции принесли радиограмму: сосед слева, вторая пехотная дивизия генерала Мингина подверглась панике и спешно отступает к русской границе.
Над пятнадцатым корпусом нависала угроза охвата с левого фланга, наперерез движению. Это означало только одно — переходить к обороне, а то даже и отступить. На всякий случай, руководимый больше инерцией наступления, чем сомнениями в правильности радиограммы, Мартос велел запросить штаб Мингина.
Ответ был такой — подобной депеши не передавали, в дивизии все благополучно, и она расположилась на ночлег в указанном ей приказом по армии пункте, деревне Кляйн Кослау.
Мартос с облегчением перекрестился. Теперь прояснилось: радиограмма была сфабрикована немцами. Они либо ждали прибытия подкреплений, либо хотели беспрепятственно отступить, для чего желали оттянуть атаку.
— Не выйдет, колбасники! — воскликнул Мартос в яростном воодушевлении. — Я не дам вам ни минуты. — И приказал атаковать на рассвете одиннадцатого августа, без подготовительной атаки артиллерии.
Напрасно Мачуговский вместе с инспектором артиллерии убеждали дождаться выхода на позицию мортирного дивизиона, Мартос настаивал на скорейшей атаке.
— Почему, Николай Николаевич, вы остановились перед Нейденбургом, а здесь не хотите подождать? — спросил Мачуговский с надрывом. — У нас и без того расстроены два полка. Зачем ненужные потери?
— Ненужных потерь нет! — отрезал Мартос. — В войсках порядок и готовность продолжать наступление.
— Но зачем в лоб?! — чуть не закричал Мачуговский. — Давайте дадим телеграмму Клюеву, пусть ударит на левый фланг немцев, не может ведь у них быть с тыла оборонительной линии!
— Чтобы потом все говорили, что мы не могли сами справиться? — спросил Мартос. — Карту!
Он сдвинул с зелено-голубого квадрата карты лежавший на озере Омулеф карандаш и прочертил пальцем линию от деревни Яблонкен до Орлау — вышло совсем близко. Потом проверил циркулем — дальше не стало.
— Видите? — спросил Мачуговский. — Если Клюев ударит…
— Дайте ему искровую телеграмму, — сказал Мартос. — С вами славы не добудешь.
Телеграмму послали.
Одиннадцатого августа в предрассветной темноте полки пятнадцатого корпуса подошли вплотную к германским окопам и с первыми лучами солнца бросились в атаку.
На протяжении двенадцати верст завязался упорный кровопролитный бой. Сходились на расстояние броска ручной гранаты, падали в волчьи ямы, повисали на колючей проволоке, — на порыв русских германцы ответили стойкостью.
Мартос выехал в линию атаки и, раздражая и дергая командира шестой дивизии генерал-лейтенанта Торклуса, доехал с ним в автомобиле чуть ли не до германских окопов, крича в упоении.
Только к десяти часам немцы стали отступать, Мартос мог торжествовать.
Он ехал по проселку вдоль развороченного картофельного поля и смотрел на следы сражения, смотрел с любопытством и горечью. Это был первый настоящий бой, и, несмотря на внешнюю победу, Мартос уже знал, что лично он никакой победы не одержал и что немцы отступили из-за клюевского маневра. (Клюев сообщал, что развернется против фланга и тыла немцев к девяти часам утра, то есть в разгар боя пятнадцатого корпуса.) На отсутствие победы указывали и незначительные трофеи, всего две пушки, захваченные Симбирским полком, и сто пленных. Немцы просто осадили назад.
Мартос смотрел на картину остывающего сражения, усеянную трупами и снаряжением землю. По полю шли санитары, то и дело наклонялись, как будто искали уцелевшую жизнь. — Вот, справа! — вдруг произнес адъютант.
Мартос повернул голову и увидел стоящий на четвереньках труп русского офицера с обугленной дырой вместо головы.
— И туда смотрите, Николай Николаевич. Правее.
Там брело стадо свиней, непонятно откуда взявшееся. Огромный боров быстро бежал вперевалку и, добежав до погибшего от гранаты офицера, вдруг кинулся на него, стал топтать, рвать зубами.
— Стой! — крикнул Мартос. — Стреляй! — И, вынув револьвер, не дожидаясь остановки, выстрелил.
Следовавшие за генералом казаки-конвойцы мгновенно повскидывали винтовки и уложили борова. Они громко смеялись, повернувшись к Мартосу, уверенные в безусловной победе.
* * *
Из Остроленки становилось все труднее управлять войсками, корпуса удалялись, сведения запаздывали. Надо было и армейский штаб подвигать на территорию Восточной Пруссии.
Командующий не мог помочь каждому полку, не мог протолкнуть обозы, но он мог другое.
Самсонов все сильнее стремился повернуть фронт западнее, чтобы глубже охватить неприятеля и лучше базироваться на железной дороге Млава — Сольдау. Германцы то ли бежали, то ли затягивали наши корпуса, старались уйти от соприкосновения с ними, раствориться среди лесов. Разведка доносила, что они оставляют подготовленную заранее шпионскую сеть со средствами связи, а наши войска не успевают осматривать занятое пространство. Повсюду перед армией, на всех шоссе и железных дорогах, которые были доступны воздушной разведке и деятельности немногочисленных резидентов, было заметно непрерывное передвижение колонн и эшелонов. Что — то непонятное творилось за зеленой завесой лесов, что-то настораживающее, грозное.
И Самсонов запросил у Жилинского разрешения переориентировать наступление на фронт Алленштейн — Остероде. Он как будто снова отказывался от принципиального изменения, а предлагал Якову Григорьевичу компромисс.
Это было около полудня десятого августа, когда в Остроленке еще не было известно об остановке пятнадцатого корпуса.
После полудня аппарат Юза отстукал страшную в своей противоречивости ленту: «Германские войска после тяжелых боев, окончившихся победой над ними армией генерала Ренненкампфа, поспешно отступают, взрывая за собой мосты.
Перед вами, по-видимому, противник оставил лишь незначительные силы. Поэтому, оставив 1-й корпус в Сольдау и обеспечив левый фланг надлежащим уступом, всеми остальными корпусами энергично наступайте на фронт Зенсбург, Алленштейн, который предписываю занять не позже вторника, 12 августа. Движение ваше имеет целью наступление навстречу противнику, отступающему перед армией ген. Ренненкампф, с целью пресечь немцам отход к Висле. 3004. Жилинский».
Телеграмма противоречила сведениям штаба армии о противнике. Осмотр убитых, допрос пленных и перехваченные кавалерией немецкие донесения указывали, что немцы стягивают силы к своему правому флангу. Что думал Жилинский?! Он тянул армию вправо, в тупик. Его слова «по-видимому, противник оставил лишь незначительные силы» дышали неуверенностью. И чуть ниже — самоуверенность римского патриция.
Самсонов пригласил Постовского, Филимонова, полковников Вялова, и Лебедева и подполковника Андогского. Высказывайтесь, господа! Очевидно, что приказание главнокомандующего расходится с подлинной обстановкой. Надо наступать западнее, а не севернее. Вот сюда. На Алленштейн — Остероде.
Первым высказался начальник разведывательного отделения полковник Лебедев.
— Почему на Алленштейн-Остероде, ваше превосходительство? — возразил он. — Почему не западнее? Прямо в западном направлении? Вот здесь, — он обвел район западнее Сольдау, против которого на карте значились флажки пятнадцатой и шестой кавалерийских дивизий. — Вот здесь, между Лаутенбургом и Гильгенбургом летчики обнаружили биваки двух германских дивизий. По меньшей мере два корпуса сосредоточиваются у нас на левом флаге, а мы делаем вид, что их нет? Не смеем верить собственным глазам!
Узкие голубые глаза Лебедева сузились в злые щелки, мелкие белые зубы ощерились в напряженной полуусмешке. Полковник явно превышал свои полномочия, показывая ошибочность предложения Самсонова.
— Благодарю вас, полковник, — сказал Александр Васильевич. — Какие соображения имеются у оперативного отделения?
Вялов с непроницаемым лицом молча провел линию от Дейч-Эйлау до Остероде, то есть показал тот участок фронта, который еще в самом начале войны хотел избрать для главного направления командующий армией. Он словно напоминал, как далеко в действительности отклонились войска и как заблуждается генерал Жилинский.
Всем это было непонятно: сосредоточение немцев нынче обнаружилось именно на дейч-эейлауском направлении, между Лаутенбергом и Гильгенбургом.
Жилинский вел армию окружать отступающих перед Ренненкампфом, а германцы сами готовились окружить окружавших.
— Считаю неудобным наше стратегическое положение, — сказал Вялов. Наступать на Алленштейн по меньшей мере безыдейно.
— А я так не считаю! — прервал его Постовский.
— Не горячитесь, Петр Иванович, — попросил Самсонов. — Зачем давить на подчиненных? Продолжайте, полковник. — Я думаю, малейший неуспех фланга — и мы на краю пропасти, — предупредил Вялов. — Надо решительно поворачивать корпуса на запад.
— Это немыслимо! — снова прервал Постовский. — Главнокомандующий неспроста приказывает занимать Алленштейн. Значит, у него есть на то основание. Или вы, полковник, лучше всех разбираетесь в стратегии?
— Петр Иванович! — сказал Самосонов.
— Да, Александр Васильевич! — ответил Постовский непримиримо.
— Этот максимализм — неуместен. Мы с вами прекрасно знаем, на что может согласиться Яков Григорьевич. Мы и так просили у него все, на что он мог согласиться.
— Стратегия выше нашего почтения к главнокомандующему, — невозмутимо произнес Вялов. — А там, как записано в Петровском военном артикуле, пусть меня судит великий государь и военная коллегия… Посмотрите, как идут корпуса? Вся линия фронта принимает форму выпуклой дуги, и нам предлагается наступать центральными корпусами еще дальше на север и северо-запад. А фланги? Первый корпус стоит на месте, нам не разрешено двигать его дальше Сольдау. Справа, шестой, отстает от тринадцатого, тринадцатый начинает висеть правым флангом в воздухе… Считаю, нельзя согласиться с телеграммой главнокомандующего. Надо доложить ему наши соображения.
Постовский отвернулся от Вялова, посмотрел на Самсонова, словно говоря: «Что он плетет? Разве мы не обращались?»
— Да, доложить наши соображения, — задумчиво вымолвил Александр Васильевич. Может быть, и вправду надо поехать в Белосток и объяснить Якову Григорьевичу? Не исключено, что он поймет.
— Ехать к Жилинскому оспаривать его директиву? — воскликнул Постовский. — Это безумие! Я знаю главнокомандующего, да и вы, Александр Васильевич, знаете… Что будут говорить о нашем штабе? Это позор! Лучше сразу в отставку…
— Да, полной ясности о силах немцев у нас нет, — сказал Самсонов. — Мы во многом вращаемся вокруг общих фраз и предчувствий. Придется принимать направление на Зенбург — Алленштейн…
— И послать в Белосток генерал-квартирмейстера! — подхватил Постовский с облегчением, так как спихивал всю ответственность на штаб фронта и отчасти на Филимонова.
— Согласен! — решительно произнес Самсонов и, обращаясь к Филимонову, который молча, с обычной злой напряженностью в лице слушал опоры. — Николай Григорьевич, потрудитесь сегодня же подготовить записку и выехать.
После этого всем стало ясно — командующий уступил начальнику штаба.
Лебедев и Вялов поглядели друг на друга, отвели взгляды, как будто сказали, что отныне иллюзий нет.
Александр Васильевич поблагодарил офицеров, чувствуя перед ними вину. Сейчас он подпишет ошибочную директиву, и тысячи солдат пойдут дальше, веря в отцов-командиров и твердя молитву об отечестве. А потом?
* * *
Генерал-квартирмейстер Филимонов прибыл в штаб фронта ранним утром. Его принял рослый дежурный офицер. Жилинский и Орановский еще спали.
Дежурный офицер был свеж, выбрит, пах цветочным одеколоном Брокара. Сорокавосьмилетнему Филимонову было неприятно с ним разговаривать, глядя снизу вверх. Он потребовал доложить о себе генерал-майору Леонтьеву, генерал-квартирмейстеру штаба фронта.
— Безотлагательно! — решительно произнес Филимонов.
Против опасений Жилинский принял его скоро. Может быть, и не спал старик, и дежурный просто врал.
Зато Орановский и Леонтьев, сцепив зубы, боролись с зевотой. Допоздна, что ли, сочиняли свои нелепые директивы?
Жилинский читал без очков, самсоновское письмо держал далеко от глаз. Его бледно-серое лицо было каменно-спокойно, нижняя губа чуть оттопырена, темнела темная бородавка на гладко выбритом сильном подбородке.
— Вы там забываетесь! — вдруг, не поднимая глаз, скрипучим голосом сказал главнокомандующий. — Вам же ясно говорится — перед вами совсем мало германских войск. Чего вы испугались? Откуда у генерала Самсонова такая осторожность?
Филимонов похолодел от злости, но молчал.
— Армия уже непростительно отстала! — продолжал Жилинский. — Генерал Ренненкампф гонит разбитых тевтонов прямо в клетку, вам остается только захлопнуть дверцы… Что вам поручено передать на словах? Главнокомандующий посмотрел на Филимонова. — Александр Васильевич что-нибудь говорил?
— Он обеспокоен, — ответил Филимонов. — На левом фланге скапливают значительные силы.
— Чепуха! — сказал Жилинский. — Передайте своему командующему: видеть противника там, где его нет — трусость. А трусить я не позволю генералу Самсонову и требую от него продолжить наступление. Немедленно возвращайтесь и передайте, что я сказал, слово в слово! Пусть о себе поменьше печется.
* * *
Когда возле деревень Орлау и Франкенау отгремел кровопролитный бой, возле деревни Линиау части второй пехотной дивизии двигались по узкому шоссе среди леса. Пехота шагала с обеих сторон, а посередине — восьмиорудийная конная батарея с зарядными ящиками. Пушки и повозки обгоняли роты, батарейцы глядели сверху вниз на пехотинцев, пехотинцы снизу вверх на батарейцев, и те, и другие искали что-то в незнакомых физиономиях, будто хотели узнать, как случайным соседям, легче или тяжелее?
К передку второго орудия был привязан большой гусь, который зло шипел и гагакал, а вся пехота махала на него, дразнила.
— Кавалерия! — крикнули впереди.
И как ветер по траве пронеслось по цепочкам, — головы вытянулись, рты приоткрылись, брови насупились.
— Кавалерия! Все замерли и тотчас кинулись бежать. Батарея бежать мешала.
— Давай! Рысью! — кричали сзади. — Рысью! Где кавалерия? Откуда? А если бы и была, то могла бы на узком шоссе двинуться не больше чем по два в ряд! Но кто об этом думал!
Батарея развернулась, пошла рысью, прислуга взлетела на передки, на зарядные ящики, а пехота мчалась по обеим сторонам. То один бросался с правой стороны на подручных лошадей, и ездовые нагайками безжалостно сбрасывали его, то другой кидался на лафет орудия и падал под колеса, переезжавшие его и отбрасывавшие под копыта следующего передка, то третий пытался залезть на зарядный ящик, где едва держались на багаже сами хозяева, и батарейцы сбрасывали пехотинца вниз.
Сзади выстрелили, снова выстрелили. Никто не понимал, откуда стреляют, где кавалерия. Отчаяние несло людей. Да это уже были и не люди — безумцы…
Полковник Крымов был с кавалерийской дивизией возле деревни Фалькгейм, когда прискакал запыленный казак и доложил, что пехота просит немедленной помощи.
Крымов пытался вытянуть из гонца какое-нибудь объяснение, но тот отвечал: — Там трошки, поперепуталось.
Крымов полным ходом бросился в Линау.
Паника уже выдохлась. Люди сидели и лежали на земле среди раненых и раздавленных. Разбитый зарядный ящик с вывороченными колесами соседствовал с лошадиным трупом. Улыбаясь застывшей улыбкой, глядел в небо молодой бородатый батареец.
Скорбь и отчаяние охватило Крымова при виде этой картины самоуничтожения. Неужели так сильно натянута жила?
К полковнику подошел подполковник, командир батареи, его глаза были как у рыбы, он хотел, чтобы Крымов объяснил какую-то внутреннюю причину паники.
Крымов ответил, что не знает, и проехал дальше. Прислонившись спиной к сосне, силился встать пехотинец с потным, искаженным страданием лицом. На нем не было заметно ни одной царапины.
Крымов послал к нему на помощь казака, тот вернулся и сказал, что у мужика ноги перееханы.
И Крымов больше не смотрел по сторонам, поехал в Скотау, к генералу Мингину, сообщить о несчастье.
— Но почему же так легко здесь лопнула жила? — недоумевал полковник. Почему катастрофа так близко от удачи?
Он вспомнил вчерашнюю неразбериху при переправе кавалерии у Грушки, брошенные жителями деревни, загадочную пустоту, куда входила армия, и тянувшиеся вдоль озер за Лаутенбургом германские колонны, — все это вызывало и в нем тревогу. Но Крымов заглушал ее, находил объяснения… Может быть, предчувствие последнего передавалось серым героям?
От Линау до Скотау — около пяти верст, а там дальше — Франкенау и полоса пятнадцатого корпуса, где утром был бой.
Крымов увидел малый результат этого боя на перевязочном пункте Нижегородского полка в Скотау. Ранеными был устлан весь двор, они шевелились, стонали, выли; из дома изредка выходил врач, и тогда санитары заносили кого-нибудь в дом.
А рядом под крышей тока, на виду у всех желтели кучи соломы, но никто эту солому не взял, и раненые оставались на голой земле.
Врачи, сестры, санитары, казалось, ничего не замечают и не слышат. Они действовали в каком-то замкнутом круге, не собираясь выйти за его пределы.
Крымов вызвал начальника пункта и указал ему на солому. Тот безразлично вымолвил:
— Это не нужно. Сейчас жарко. Не застудятся.
Крымов возмутился, прикрикнул на него, но из этого ничего не вышло.
— Не мешайте нам работать, господин полковник, — попросил начальник пункта. — Разрешите идти!
* * *
Как ни был тяжек общинный, ратный труд войны, но в сравнении с тем, что выпадало на долю раненых, он был светлым праздником. Как ни опаздывали хлебопекарни и обозы, как ни подводило живот, но солдат знал, — положенные ему месячные полтора рубля, хлебные рубль три копейки, положенные на ночлеге три с лишком фунта соломы на подстилку, щи, каша, забота ротного командира, молебен полкового батюшки, поддержка равных товарищей, — все это создает мир, пригодный для жизни. А раненому — горе горькое!
Крымов остановился возле голого человека. Человек смотрел словно из-под засохшей кровавой корки, голова была разрублена, и кусок кожи вместе с волосами свисал комком.
— Что с тобой? Кто тебя раздел? — спросил Крымов.
— Дай напиться, — без привычного титулования попросил раненый. Вестовой отстегнул флягу и нагнулся над ним. Вода забулькала; полилась по подбородку. Раненый давился ею.
— Оставь глоточек! — взмолились рядом. — Ну оставь, ради бога!
Крымов велел Степану и казакам принести ведра.
— Спаси Христос, ваше благородие, — произнес раненый. — Лежишь тут и жить неохота… Все терпишь, терпишь… Я был в головном дозоре с тремя товарищами. Они бросили меня. Начали мы подъезжать к опушке леса, а там скрывались «его» главные силы. Открыл «он» по нас огонь. Лошадь моя пала, я пустился бежать за товарищами, но куда за ними поспеть? Остался один на поляне… Налетает на меня эскадрон конницы и атакует меня. Тут я получил первую рану. Вот, в левое плечо… Связали мне руки назад, привязали к уздечке и потащили. Тащили, пока не оборвался. Начал я вставать, в это время шашкой замахивается и разбил мне голову. Я и повалился. Тогда меня еще ударили пикой в левый бок, около подмышки. В сердце метили, да не попали, я остался жив. Видят, что я жив, снова бьют пикой, в другое плечо. Я ткнулся носом в землю, лежу, не шевелюсь. Как вдруг два выстрела. В правую руку, вот — ниже локтя. Я сознания и лишился. Только к вечеру пришел в себя, не знаю, где нахожусь, чувствую себя слабым. В скором времени проходит одна наша пехотная рота, солдатик заметил меня, подбежал, раздел донага, хотел перевязать, как тут «он» открыл огонь, пехота побежала, я и остался голым… Все, терпение мое кончилось, Я решил скорее умереть и пошел по линии фронта. Но ни одна пуля не задела меня, хотя и осыпали, как градом. Видать, предел наступил. Так я брел, неведомо куда, а утром меня подобрали… Вот опять смерти жду.
Этот раненый кавалерист тоже был из последних. Чем мог ему помочь Крымов?
— Сейчас я скажу доктору, — пообещал Крымов, понимая, что этого мало.
— Эй, санитары! Сюда! Живо! — крикнул он.
— Жалеете вы нас, ваше благородие, — сказал раненый. — И других надо бы скорее. Прикажите им…
— Как тебя зовут? — спросил Крымов. — Тебя представят к кресту.
— Михалушкин Никита Бонифатьевич.
— Прощай, Никита Бонифатьевич. Даст бог поправишься, еще послужишь.
* * *
Филимонов вернулся в Остроленку, когда в штабе армии уже несколько часов было известно о трудном (неожиданно трудном!) бое у Мартоса и помощи со стороны Клюева. Поэтому вчерашний спор принимать или не принимать директиву Жилинского теперь утрачивал неопределенность. Отныне к угрозе слева, от Лаутенбурга-Гильгенбурга, прибавлялась угроза, и тоже слева, силою до полутора корпусов! Филимонов докладывал командующему с глазу на глаз, передал выражения Жилинского дословно, как и было велено.
Александр Васильевич покраснел, задышал часто и шумно. Дремлющая в нем астма стала приподнимать его широкую грудь, полезла наружу.
Филимонов уже знал об изменении обстановки, но молчал, не намеревался говорить никаких слов сочувствия.
— Он нас подстегивает, — сказал Самсонов. — Благодарю вас. Можете идти.
Филимонов не уходил.
— Что еще? — спросил командующий.
— Мне ведомо, что генерал Мартос самовольно приостановил движение своего корпуса.
— Да, бой был тяжелый.
— Я думаю, он хочет облегчить неизбежный поворот армии к западу, сказал Филимонов. — Но если Яков Григорьевич на такой поворот не согласится?
— Тогда все мы будем должны обратиться за ответом к своей чести! — резко произнес Самсонов.
* * *
Командующий армией ждал ответа из штаба фронта. Ни у кого, даже у Постовского, не было сомнений, что сейчас надо требовать и требовать. Однако в телеграмме Жилинскому решительных выражений не было, Самсонов не хотел обострять до крайности. Да и что в конце концов, неужели Яков Григорьевич не понимал угрозы, нависающей над армией?
Самсонов торопил: нет ли ответа, и один раз сам вышел в аппаратную. Ответа все не было.
В приемной Самсонов заметил на столе яркие плакаты, остановился, стал разглядывать. На одном плакате был изображен донской казак на коне — розовые щеки, черные усы, красные губы, смоляной чуб. На другом — кухонная полка, где были нарисованы в карикатурном виде все участники европейской войны, и сбоку напечатаны стихи, довольно забавные:
На полке буфетной Лишь вечер настал Сосискою венской Был поднят скандал. Прижал ее с кашей Наш РУССКИЙ горшок: «Подвинься, сестрица, Хотя б на вершок». Вскричала сосиска: «Обид не снесу!» На помощь позвала К себе колбасу. А та отвечала; «Помочь не легко, Сама я прижата Бутылкой с Клико». Тут дружно с сестрицей, Приняв грозный тон, На помощь позвали К себе макарон. Английский же ростбиф За всем наблюдал, Строптивым сестрицам Он грозно сказал: «Лишитеся, братцы, последня вершка, Коль РУССКАЯ каша пойдет из горшка».И нарисован большой горшок, из которого лезет каша, а отдельные ее кусочки — маленькие ладные человечки в пехотной форме.
Самсонов улыбнулся и сказал:
— А что? Забавно… Только почему он сестриц называет братцами?
— Да, — ответил есаул. — Завтра пребывает английский представитель…
— Не хватало нам англичан, — проворчал Самсонов. — Ничего хорошего от них не жди. Вот ему такая русская каша, конечно, придется по вкусу.
Еще минуту назад плакат нравился, но поглядев на него глазами англичанина, он увидел глупое бахвальство, шапкозакидательство, вечную готовность жертвовать людьми. Вспомнил, что из Ставки уже наезжали союзные представители, восторгались порядком у Мартоса и — торопили.
— Убрать? — спросил понятливый адъютант.
— Не надо. Англичане знают нас. Какие есть, такие и есть. Самсонов вернулся и себе, стал читать поступившие донесения и при этом не забывал об англичанине. Наверное, будет подгонять во имя союзнических интересов? Пусть теперь русские поработают и за союзников, не так ли?
Но полевая записка от Крымова, датированная вчерашним днем, отвлекла Александра Васильевича и вернула к делам собственным — Крымов сообщал как раз о бахвальстве Артамонова и вообще о ненадежности командира первого корпуса. А что касается грубости Мартоса и забитости Мачуговского, то Самсонов только усмехнулся, прочитав об этом. Мартос — один из лучших генералов, его Самсонов знает с детских лет, поэтому туда нечего вмешиваться, само как-нибудь утрясется.
Отдельно лежало письмо, подписанное острым твердым почерком Екатерины Александровны.
И от киевских юных лет, когда в Днепре водились русалки, перелетел Самсонов в жаркий мусульманский Ташкент, к семье. «Каждый день начинаю молитвою об Отечестве, — писала жена. — Да хранит тебя Господь! Тебя здесь часто вспоминают, а в связи с 50-летием покорения напечатали в „Турк. ведомостях“ много статей, в них есть и про тебя… Я вспоминаю японскую и не нахожу себе места. Неужели и эта будет такой долгой? Целый год дети не увидят отца!
Володя говорит, что война принесет тебе еще большую славу. Он поставил у себя на столе твою фотографическую карточку. Читает Историю Карамзина, выискивает связь с прошлым и заботится о моем душевном состоянии, читает мне о подвигах русских и поет „Вещего Олега“. Верочка еще ничего не понимает.
Я начинаю подумывать о возвращении в Елисаветград, где нам когда-то так счастливо жилось. После войны ты вернешься, мой любимый полковник, к своей пани-коханке, и мы снова будем вместе.»
Она как когда-то называла его любимым полковником. И вот он заглянул в ту невозвратимую пору — где там мы с тобой. Катя, пани-коханка?
Самсонов спрятал письмо в карман, подошел к окну. Близился вечер, в бледно-голубом небе летали стрижи. Он посмотрел на костел, к которому шли несколько женщин, и, обращаясь к жене, подумал: «Поддержи меня!» Потом он вызвал Бабкова и справился о телеграммах. Но Жилинский молчал.
Только поздно вечером, в десять часов, Самсонов приказал позвонить в Белосток. К аппарату подошел Орановский.
— Вы получили нашу телеграмму, Владимир Александрович? — спросил командующий.
— Получили, Александр Васильевич. Но обстановка усложняется…
— Повторяю нашу обстановку. Неприятель силою три дивизии после боя с пятнадцатым корпусом и обхода его тринадцатым отошел в направлении на Остероде. Для выполнения директивы можно, оставив заслон против него, двигаться в направлении Алленштейн и Зеебург, но тогда нельзя будет преследовать отступивший неприятельский корпус, почему прошу испросить указания главнокомандующего, могу ли отступить от директивы. К этому добавляю, что корпусные командиры указывают на большое утомление и недостаток в хлебе и соли.
— Александр Васильевич! Мы не возражаем, если вы отступите от директивы. Приказ получите позднее… Высылаем вам сводку. Первая армия потеряла соприкосновение с противником. Вы меня поняли?
— Понял, Владимир Александрович. Благодарю.
— До свидания.
Сообщенная Орановским новость была тревожной, а может, даже и катастрофической. Исчезнувшие германцы могли оказаться в любом месте Восточной Пруссии в течение нескольких часов; не исключено, что они уже перебазировались по своим железным дорогам. И что Самсонов в таком случае мог сделать?
Александр Васильевич снова собрал штаб и с горечью поведал новость. После этого дремлющая штабная машина ожила: решено было переезжать в Нейденбург ближе к войскам, немедленно направить стрелковую бригаду из Новогергиевской крепости на укрепление левого фланга, а также из Млавы третью гвардейскую дивизию и тяжелый дивизион.
Сделав все это, составив соответствующие приказы и телеграммы, штабные чины не испытывали удовлетворения. При помаргивающем электрическом свете лица у всех казались одинаково старыми. Постовский с брезгливой гримасой смотрел в окно, где на полоске света между неплотно задернутых штор сердито билась толстая ночная бабочка. Полковник Лебедев поправил штору, все стихло.
— Ваше превосходительство! — сказал полковник Вялов. — Разрешите быть до конца откровенным?
— Слушаю вас.
— Считаю своим долгом… У нас связаны руки: мы не можем распоряжаться своими фланговыми корпусами. Почему нам приказывают выделить шестой корпус к Пассенгейму? Нам говорят: для прикрытия правого фланга? Вот здесь?! — Вялов провел карандашом над линией озер. — Здесь достаточно и одной бригады — как реплики против конницы. А выдвигать целый корпус — стратегический нонсенс! Преступно расходовать наши ограниченные силы для второстепенной пассивной задачи!
Вялов был прав, но излишне горячий тон его и резкость формулировок вызывали чувство противодействия.
— Давайте сохранять корректность, — заметил Постовский.
Недопустимо в подобных выражениях отзываться о распоряжениях начальства.
— Извините, ваше превосходительство, мою несдержанность, — ответил Вялов. — Но нам платить за разбитые горшки. Я полагаю, надо просить штаб фронта распоряжение о шестом корпусе отменить.
И еще — разрешить нам первый корпус двинуть дальше Сольдау. Пока не поздно!
— Первый корпус можно стронуть только с разрешения Верховного, — сказал Самсонов — Но вы правы, полковник. Надо действовать, а потом… — Он улыбнулся. — А потом пусть судит великий государь и военная коллегия… Петр Иванович, — обратился он к Постовскому, — свяжитесь по прямому проводу с Белостоком. Доложите наши предложения.
И снова должен был решать Яков Григорьевич, на этот раз — судьбу Самсонова. Зачем он назвал Самсонова трусом? Среди старых товарищей это не принято. И не заслужил Самсонов такого обвинения. Но, может быть, Яковом Григорьевичем руководил злой случай или вышестоящие силы, и он вымолвил слово в запальчивости минуты? А с другой стороны, откуда у него запальчивость, когда он весь закостенел?..
Но если Самсонов связывал свою судьбу со старым товарищем, опираясь в мыслях на чувство братства, то молодые члены его штаба, Вялов, Лебедев, Андогский (наверное, и Крымов), — все они были подвержены сомнению относительно этого патриархального чувства, стремились противопоставить ему универсальный закон. Они были «младотурки» — как метко окрестили молодых выпускников Академии Генерального штаба, зараженных буржуазным свободомыслием. Понятнее было бы назвать — «декабристы», но это отдает бунтом, а значит, уводит в сторону от сути дела. Нет, они не бунтари, не революционеры, они — какие-то новые русские.
И тут Самсонов вспомнил ростовского инженера с польской фамилией (Ши?.. Шема?.. Шиманский!), который говорил, что России эта война не нужна, вернее, нужна только сельским хозяевам ради хлебного вывоза через Проливы. Так ли это? Неизвестно. Армия не рассуждает, армия воюет, и у нее есть идеал… Уже было за полночь, когда Постовский позвонил в Белосток и сообщил, что Самсонов считает необходимым переехать в Нейденбург, так как при дальнейшем наступлении связь с корпусом станет еще менее возможной, а связь автомобилем и летучей почтой — совсем недосупной.
Постовскому отвечал Леонтьев — возражал, ибо с Нейденбургом не было прямой связи.
— Мы можем установить промежуточную станцию, — сказал Постовский. Боюсь, мы совсем потеряем сообщение с армией во время боев!
— Здесь присутствует начальник штаба, — ответил Леонтьев. — Он говорит, что требование устройства прямого сообщения исходит от Верховного. Следовательно, мы не имеем права разрешить переезд до устройства прямого сообщения.
Самсонов встал, уперся кулаками в стол и приказал Постовскому: — Пусть зовет Орановского!
Постовский кивнул, сказал, что требовалось, но трубки не передал, дожидаясь чего-то, наверное, голоса Орановского, и Самсонов чуть ли не силой отобрал ее.
— Владимир Александрович! — сказал командующий. — Может, из Белостока начнете управлять моими корпусами?
— Это категорическое требование Верховного главнокомандующего, ответил Орановский и, помолчав, добавил: — Если вы желаете от него отступить в зависимости от обстоятельств, то это ваше дело.
— Прекрасно, — сказал Самсонов. — В конце концов мне платить за разбитые горшки.
Они умывают руки, подумал он. Черт с ними, лишь бы не мешали! Закончив разговор, Александр Васильевич сказал, что все могут идти спать, а сам вышел в приемную.
Здесь, сидя на полу на попонке, дремал Купчик, упираясь лбом в поднятые колени. Услышав тяжелые шаги, он вскинул голову с нависшим чубом и встал.
— Что снилось? — спросил Самсонов.
— Да разное, — ответил вестовой. — Все больше — девки. Лучше казачек нет девок.
— Идем погуляем, казак, — позвал командующий. Во дворе было тихо, лежали темные тени, а вверху густым рассыпанным светом сияли августовские звезды. Выглянул часовой и снова скрылся в тени. Невидимые, близко переступали ногами лошади. Пахло сеном, дегтем, бензином. Автомобиль поблескивал звездами, как пруд.
За спиной хлопнула дверь, голос Бабкова негромко окликнул: — Александр Васильевич, вы далеко?
И несколько казаков протопали по ступенькам охранять своего командующего.
* * *
Ночью двенадцатого числа поступила долгожданная новая директива. Надо было безостановочно наступать дальше, ни о какой передышке не могло быть и речи. Об усталости войск доносили командиры центральных корпусов, Мартос и Клюев.
II августа в 16 часов в штаб 2-й армии поступила следующая телеграмма: «11-й день непрерывных маршей, большое сражение вынуждают ходатайствовать дать дневку частям корпуса, иначе трудно поддерживать строгий порядок, который сохранялся до сего дня. Ожидаю следующем переходе снова боя. Все пункты района сильно укреплены. 55. Мартос.»
Утром 12-го августа — телеграмма от Клюева: «Благодаря ночлегу на прежних биваках, сегодня утром удалось подвезти часть хлеба и сухарей, полагаю, что дня на три теперь обеспечены, а потом настанет опять нужда. При быстром движении вперед транспорты по невозможно плохим дорогам нагнать не могут, район корпуса исключительно бедный, буквально нельзя найти ни куска хлеба, что испытываю на себе лично. Полков, богато обеспеченных хлебом и сухарями, в корпусе нет. 81. Клюев.»
Утром Постовский пытался добиться у Орановского разрешения на дневку, но начальник штаба фронта отказал и не советовал с этим обращаться к Жилинскому. Однако по настоянию Самсонова Постовский попросил, чтобы Жилинскому тем не менее было доложено. Ответ главнокомандующего был суров.
Двенадцатого же августа полковник Лебедев организовал воздушную разведку и получил новые сведения о скоплении противника в районе Гросс Гардинен-Страсбург против левого фланга армии. Докладывая об этом командующему, он смотрел на него с дерзостью и верой, будто был готов как гусар-корнет кинуться с саблей на янычар.
Двенадцатого августа генерал Клюев прислал в штаб армии офицера с личным письмом Самсонову. «Нельзя продвигаться с такой поспешностью, — писал командир тринадцатого корпуса. — Тылы не поспевают, снарядов хватит на один хороший бой, наладить связь и разведку — трудно. Зная хорошо Восточно-Прусский театр, военные игры старших начальников в немецком Большом генеральном штабе, я нахожу, что складывающееся положение опасно для нашего левого фланга, со стороны которого и надо ждать главного удара неприятеля, примерно в направлении на Нейденбург.»
Двенадцатого августа подполковник Андогский связался со штабом фронта и доложил, что против первого корпуса на левом фланге «обнаруживается безусловно около двух немецких корпусов, а может быть, немного более.» Подполковник передал просьбу генерала Самсонова: притянуть к Алленштейну шестой корпус. Спустя два часа, в восемь часов 15 минут, Орановский уступил: «Главнокомандующий разрешает распорядиться 6-м корпусом по усмотрению ген. Самсонова, в зависимости от обстановки. Вместе с тем главнокомандующий обращает внимание на то, что 1-й корпус вопреки категорическим приказаниям, выдвинут севернее Сольдау, и подтверждает, что севернее Сольдау он может быть выдвинут лишь с особого разрешения Верховного главнокомандующего, о чем испрашивается телеграммой. Орановский.»
Увидев сей ответ, Александр Васильевич засмеялся:
— Слава богу, хоть правую руку развязали. Теперь развяжем левую. — Как Илья Муромец, полежали-полежали да и пойдем!
Неожиданно при явном нарастании тревоги Самсонов ободрился, стал напевать хохлацкую песню и подзадоривать Постовского:
— Вот поедем с вами, Петр Иванович, верхами на передовую линию, как вы?
— Сперва испросите дозволения, — мрачно отговаривался Постовский.
— А мы возьмем да махнем! — продолжал командующий. — Пусть потом ловят! Купчик едет, я еду, а — вы?
Даже не подзадоривал, а подразнивал Александр Васильевич своего смирного начальника штаба.
— Бедному собраться — подпоясаться, — отвечал Постовский.
Штаб готовился к переезду в Нейденбург. Туда, куда должен быть направлен удар немцев. Впрочем, авось это предвидение Клюева было вилами по воде писано. Здесь, в Остроленке, тоже головы на плечах имелись! Постовский, например, верил в силу формируемой в Варшаве девятой армии, которая вот-вот двинется на Берлин. Верил и поэтому чуть заскакивал вперед, словно Восточная Пруссия была уже за русскими. Ждать оставалось недолго, скоро все должно было разрешиться.
И в этот час, накануне главных событий, почуяв их приближение, в штабе появился англичанин в сопровождении полковника Звягинцова. Майор Нокс хотел составить себе представление о действиях самсоновской армии, но на свой английский манер, а не так, как маркиз Лагиш, сунувшийся в обход армейского штаба прямо в пятнадцатый корпус, где Мартос поразил его порядком. Ну и что же? Француз был в восторге.
Нокс, конечно, желал другого, и порядок в войсках и вольтижировка казаков его мало интересовали, как и полагалось военному агенту, он знал, что русские любят парады.
Самсонов принял англичанина с любопытством и простотой, хорошо понимая, что этот моложавый британец с подстриженными по-солдатски усами представляет стародавнего российского противника, владычицу морей.
Постовский любезно рассказывал гостю об успешном наступлении, но о тягостях похода не говорил, разворачивая лишь армии во всем блеске.
Филимонов глядел на Нокса со своим обычным хищноватым выражением и явно думал, что читалось по его глазам: «Только тебя нам не хватает!»
Нокс слушал, смотрел в карту, поворачивался к Звягинцову, который дважды подводил начальника штаба к вопросу о скорости, потом сказал:
— Это хорошо. В Ставке я слышал, что вам нелегко. Но вы продемонстрировали понимание своего союзнического долга… Не надо подвергать ненужному риску обаяние русского имени. — Он чуть улыбнулся Самсонову. — Согласны?
Командующий вспомнил Туркестан. Это были слова из политической инструкции коменданту Керкинской крепости, и Нокс неспроста показал, что знает их. Он словно предлагал: «Не надо строить иллюзий. Коль взялись вместе воевать — воюйте».
— Вы давно в России? — спросил Самсонов.
— Давно. С марта.
— И уже постигли обаяние русского имени?
— Англичане всегда чувствуют русское обаяние, особенно в Персии и Афганистане. — ответил Нокс. — Пора и французам почувствовать. А то бедные наши французы отступают к Парижу и молятся только на вас.
Британский майор был уверен в себе, говорил прямо и, по-видимому, обладал веселым нравом.
— Приглашаю вместе пообедать, — предложил Самсонов. — А пока займемся делами… С вами будет мой адъютант, есаул Бабков.
Полковник Звягинцов чуть заметно расправил плечи и напомнил, английскому военному агенту хотелось бы познакомиться со стратегическими принципами командующего.
— Вот на обеде и познакомится, — сказал Самсонов. — Вы видели там плакатик? Русская каша, — видели?
— А! — понял Нокс. — Тогда я понимаю, почему на обеде.
— Но может, сейчас в двух словах? — предложил Звягинцов. — Для знакомства.
— Разрешите, Александр Васильевич? — хищно высунулся Филимонов. — Для знакомства надо бы вспомнить военные игры германского генштаба. И письмо Клюева!
— При чем тут письмо? — возразил Постовский, с быстрым блеском в пенсне повернувшись к Филимонову. — Это наши мелочи. Не обязательно о всех мелочах сообщать союзникам.
— Да пусть знают, Петр Иванович, — сказал Самсонов. — Что скрывать? От нас не убудет. Генерал Клюев, командир тринадцатого корпуса, сегодня прислал доклад… — И командующий объяснил, в чем дело.
— Наверное, генерал Клюев ошибается? — спросил Нокс.
— До войны генерал Клюев занимал должность начальника штаба Варшавского округа, — заметил Филимонов. — И ошибаться ему затруднительно. Он просто прав.
— Но вы не отступаете? — воскликнул Нокс. — Вы наступаете! Вы не принимаете доводов генерала Клюева!
— У нас приказ наступать, — сказал Самсонов. — Но доводы генерала Клюева — серьезные. Об остальном вам расскажут в оперативном отделении.
Командующий твердо посмотрел на англичанина, словно хотел внушить ему чувство драматизма. «Я знаю, вы были моим противником, — говорил взгляд Александра Васильевича. — Обаяние русского имени для вас пустой звук. Вам нужна русская каша. Но эта каша — кровавая.»
Взгляд Нокса ответил: «Иной она не бывает».
И они расстались.
Когда-то, то ли еще в Киевской военной гимназии, то ли в Николаевском училище, давным-давно, запомнилась Самсонову военная истина: по-настоящему храбр тот, кто знает, чего нужно бояться. Она была трудна для юного ума, зато теперь для немолодого генерала была ясной. Конечно, легко в бою кричать, размахивать шашкой, но это какая-то нерусская храбрость, о чем заметил еще поручик Лермонтов. «И умереть мы обещали…» Это ведь разница огромная: умереть мы обещали или умереть нам приказали.
Завтра штаб переезжал в Нейденбург, на территорию Германской империи, чтобы победить или погибнуть вместе с армией. Гибель не исключалась. Генерал Клюев был прав, предупреждая об опасности.
Но сегодня еще можно было в последний раз все обдумать. Велика опасность на левом фланге? Да, велика. Только уже поздно поворачивать армию и наносить удар на район Гильгенбурга — Лаутенбурга, поздно, ибо это потребовало бы отступления большинства корпусов. Это была бы уже другая операция, может быть, более удачная, даже стратегически более оправданная. А та операция, главной идеей которой являлось быстрое наступление, чтобы заставить германцев отвести часть корпусов из Франции, та операция осталась бы незаконченной.
Клюев вопиял об опасности, в штабе этот вопль нашел поддержку и отражался горестным эхом в душах штабных чинов, да впрочем, наперекор чувству самосохранения, как удар молнии свыше, с высоты, неподвластной разумению отдельного человека, было решено продолжать первоначальное движение, подчинив интерес отдельных людей, отдельных корпусов, отдельной армии интересу войны.
* * *
Тем временем, пока в кабинете Самсонова решался вопрос жизни и смерти, штабс-капитан Дюсиметьер развлекал Нокса захваченными бумагами, дневником и письмами командира батальона Бессера из германского первого резервного корпуса.
Ноксу хотелось расспросить о Самсонове, но Дюсиметьер твердо держал нить разговора, с галльской легкостью обходил возражения британца.
— Вот об отступлении, например, — сказал штабс-капитан и начал читать. — «Наше-отступление по направлению на Кенигсберг после больших успехов произвело на солдат, а еще больше на население неблагоприятное впечатление. Русские занялись по большей части сжиганием всех казенных имений. Все дороги были запружены бегущими жителями, что производило печальное впечатление…» А вот что о русских…
— Но это очень длинно, — сказал Нокс.
— Нет, я сокращаю. Это будет интересно… Вот. «В общем русские очень трусливы, однако они имеют лучшие карты и очень хорошее снаряжение… Русские казаки рыщут везде, но лихости у них нет никакой. Вообще русские могли бы уже наводнить Восточную Пруссию, если бы у них не было столько страху. Но зато они умеют отлично прятаться, их укрытия совсем нельзя заметить. Один батальон 33-го полка они подпустили к себе близко, вдруг открыли стрельбу пулеметами из домов и фабрики, так что мы понесли довольно большие потери. Во всяком случае война против Франции даст лучшие плоды…»
Нокс, услышав последнюю фразу, засмеялся:
— Русские трусы? А плоды — во Франции?
— Он просто юморист, этот немец, — согласился Дюсиметьер. — Когда пишет, каких уродов ему прислали из запаса — один смех. Хотите прочитаю?
— Нет, благодарю, — сказал Нокс. — Я бы желал узнать о скоплении германцев на левом фланге.
— Я об этом и рассказываю! — возразил штабс-капитан. — Первый резервный корпус сейчас именно там, у Лаутенбурга.
— Они могут в любой момент ударить вам во фланг? — спросил Нокс.
— Мы это учитываем и подкрепляем наши части, — ответил Дюсиметьер. Здесь любопытная психологическая деталь. Этот немец пишет…
— К черту вашего немца! — не выдержал Нокс. — Неужели у вас нет более содержательных вещей?
— Вам будет интересно, — улыбнулся Дюсиметьер. — Я не сомневаюсь… Вот. Это уже из писем к немцу. «Ты совершенно прав, что не допускаешь никакого снисхождения, к чему? Война это война, и какую громадную сумму денег требует содержание в плену способных к военной службе людей! И жрать ведь тоже захочет эта шайка!
Нет, это слишком великодушно. Если русские допускали такие ужасные гнусности, как ты видел, то нужно этих скотов делать безвредными! Внуши это также своим подчиненным! Очень жаль, что в твоем подчинении состоят люди, которых нужно револьвером выгонять из окопов!» — Штабс-капитан оторвался от бумаг, чуть прищурил ярко блестевшие нагловатые глаза и добавил: — И еще советуют нашему вояке: «Возьми же себе у русских пальто. Харди тоже не имел с собой пальто, а теперь взял у русских». Как вам это нравится, уважаемый сэр?
Нокс пренебрежительно махнул рукой и спросил:
— Зачем это мне? Я понимаю — война, аморальность, жестокость… Но я не журналист. Не надо угощать меня пряностями… Генерал Самсонов оставляет сильное впечатление, согласны?
— Это медведь, — ответил Дюсиметьер. — На нем висит свора собак.
— Его штаб?
— Нет, не штаб. Я не имею в виду людей, уважаемый сэр. Самсонов кавалерист. В любой стране кавалерия — наследница самых консервативных традиций. Она в своей сущности феодальна… Хотите прочитаю, как немцы описывают казаков?
— Капитан, вы неисправимый шутник. Но что-то в вас чертовски привлекательное. Может, вы сами сочиняете за немцев эти истории?
— Это мой секрет, майор… Я догадываюсь, — вам нужны стратегические откровения, но у меня такого нет. Вы разочарованы?
— Вы знакомы с генералом Клюевым, капитан? — спросил Нокс, сделав рукой поощряющий жест. — Он тоже феодальный медведь?
— Скорее, он европейский бульдог, — усмехнулся Дюсиметьер. — Если у вас на уме его письмо командующему, то поверьте, он писал его с холодной головой. Вы прибыли подталкивать нас? Вам письмо Клюева помешает. Знаете, он телеграфирует, что у него в войсках жрать нечего?
Нокс покачал головой и произнес фразу о героизме и самопожертвовании во имя общих целей, потом спросил, знает ли капитан о том, что немцы уже прорвали французский фронт и движутся на Париж?
* * *
Двенадцатого августа, накануне отъезда штаба второй армии в Нейденбург, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал Жилинский позвонил в Ставку и сказал начальнику штаба генералу Янушкевичу, что вторая армия обречена. Жилинский понимал, что, сообщая об этом, он уже мало что может изменить, но желал хотя бы на краткий миг сбросить давившую его глыбу. Отступающие французы, бедный толстяк Жоффр, необходимость гнать русские корпуса на бойню — все это куда-то провалилось перед воспоминанием о юношеской короткой дружбе с юнкером Самсоновым. Закостеневший, знающий все законы службы, самоуверенный генерал потерял уверенность и, как тогда, в Варшаве, во время первого разговора с Самсоновым, хотел найти опору в том, кого посылал на жертву. Но теперь, накануне решающих событий, было ясно, что в любом случае Самсонов останется героем, а обвинят Жилинского.
Яков Григорьевич, поняв, что его руками приносится в жертву старый товарищ, не выдержал и обратился прямо вверх. Он забыл, что обвинял Самсонова в трусости, чтобы посильнее подстегнуть. Впереди была пропасть, слова уже ничего не значили.
Двенадцатого августа Яков Григорьевич нарушил закон службы, которому следовал десятилетиями, и предложил сберечь вторую армию наперекор мнению Ставки о безостановочном наступлении. Его омертвевшая душа стала оживать, ему сделалось больно.
Он доложил Янушкевичу правду — в полках нет хлеба, мало снарядов, войска слишком разбросаны. И самое главное — нельзя смотреть на Восточно-Прусский театр как на второстепенный и уменьшать его силы, нельзя воевать со связанными руками!
Янушкевич ничего не оспорил, лишь попросил расшифровать «связанные руки».
— Первый корпус генерала Артамонова! — ответил Жилинский. — Самсонов только с особого разрешения Верховного может двинуть его… Почему? Потому что Ставка хочет перебросить корпус в Варшаву и открывать новое оперативное направление, на Берлин?
— Французы настаивают, — пояснил Янушкевич. — Наш посол в Париже сообщает — положение там тяжелое. У нас французские представители просто стонут, чтобы мы наступали быстрее.
— Я предоставляю генералу Самсонову право приостановить движение на Алленштейн до полного устранения опасности на левом фланге, — сказал Жилинский.
— Не думаю, что это понравится великому князю, — заметил Янушкевич. — Я доложу ему ваши соображения, Яков Григорьевич.
Разговор закончился, и что могло быть дальше, зависело уже от других, Жилинский свое дело сделал.
Яков Григорьевич хотел перекреститься, по привычке поднял глаза в правый угол, но в аппаратной никаких икон не было, и он не перекрестился, только произнес первые слова молитвы: — Спаси, Господи, люди твоя.
Он не знал, как распорядятся Янушкевич и Верховный в Барановичах, поймут ли его или прикажут продолжать начатое.
В это время в Барановичах Янушкевич поручил генерал-квартирмейстеру Данилову продумать возможность приостановки наступления, а Данилов стал возражать, ссылаясь на известные обстоятельства.
Они не пришли к согласию, ибо каждый считал свою линию спасительной для России. Янушкевич хотел укрепить самсоновскую армию в соответствии с переменившейся обстановкой, а Данилов — гнать армию вперед, удовлетворяя просьбы маркиза Лягиша.
— Спасая Францию, мы избавляем себя от нашествия миллиона германских штыков, которые сейчас во Франции, — сказал Данилов. — Что по сравнению с этим трудности одной армии?
— Я тоже за спасение Франции, — возразил Янушкевич своему генерал-квартирмейстеру. — Почему мы делаем вид, что с первого дня военных действий никаких перемен не произошло? Наши армии вошли в Восточную Пруссию и наверняка уже отвлекли на себя все, что немцы могут выделить.
Этот спор не разрешился двенадцатого августа в Барановичах, а через дипломатического директора при Ставке Кудашова был передан в Петроград министру иностранных дел Сазонову; О нем узнал и французский посол Палеолог, и государь. Судьба Самсонова была решена.
Глава шестая
Тринадцатого августа решение окончательно определилось. Данилов вызвал к аппарату начальника штаба фронта Орановского и продиктовал:
— Сообщаю, Верховный главнокомандующий ставит первостепенной задачей первой и второй армий покончить поскорее с Восточной Пруссией. С этой точки зрения считает крайне нежелательной приостановку движения на Алленштейн. Великий князь предоставляет в полное распоряжение генерала Жилинского собранные в районе Сольдау части первого корпуса, одобряет остальные соображения генерала Жилинского, но желает сильного и энергичного удара против немцев. Вместе с тем находит безусловно необходимым уже теперь найти возможность и способы скорейшей переброски хотя бы одного корпуса, безразлично какого, — в Варшаву.
Это был приказ, и Орановскому стало ясно, что время колебаний и обсуждений миновало. Генерал поднял голову, поглядел в правый верхний угол, потом потеребил русую бороду и направился к Жилинскому.
Впрочем, приказ Ставки, неважно, каким он был — верным или ошибочным, уже опоздал.
Немцы нанесли удар еще двенадцатого, после обеда, у города Лаутенбурга, на самом краю левого фланга второй армии, охраняемом пятнадцатой кавалерийской дивизией. Это был пробный, пристрелочный удар, чтобы только прикоснуться к воротам русской крепости. Если бы новый командующий восьмой немецкой армией генерал Гинденбург знал, что Жилинский не позволял Самсонову видеть здесь противника под страхом обвинения в трусости, то двенадцатого августа он бы улыбнулся. Немцы отбили Лаутенбург, ворота содрогнулись.
Жилинский и Орановский, будучи в неведении, обсуждали последствия приказа и расстановку сил в Ставке. Их совесть была чиста, и наступление продолжалось.
* * *
Взвод казаков был в охранении перед Лаутенбургом в маленькой польско-литовской деревне и, когда со стороны Страсбурга появились освещенные послеполуденным солнцем германские драгуны, казаки по своей тяге к засадам решили и на сей раз спрятаться за заборами и на крышах. Они уже устраивали такое в одном брошенном поместье, куда вошла на ночлег немецкая рота, и остались очень довольны, своим геройством.
Драгуны приближались, покачивались их пики, и блестели остро-конечные каски.
Казак станицы Луганской Платонов залез на дуб, угнездился там покрепче, положил винтовку на развилку. Он видел, как с опаской оглядываются немцы, и ждал, выбрав себе драгуна на муругой сильной лошади. Немцы доехали до околицы, остановились.
Выбранный Платоновым драгун посмотрел прямо на дуб, на казака, и Платонов не утерпел. Треснуло еще несколько выстрелов. Немцы повернули и ускакали. Остался только платоновский крестник возле убитой лошади, да и тот пустился бежать.
Не удалась засада. Казаки повылазили из укрытий, побежали до коней, а Платонову закортило отличиться. Он не думал, что за драгунами может идти большая часть. Он вылетел на дорогу, нахлестнул коня и, опустив пику, погнался за убегающим немцем.
Но сзади засвистели свои, а впереди выскочил из рощи эскадрон, а то и больше германцев.
Это двигалась бригада генерала Мюльмана стучаться в русские ворота. Германцы погнались за казаком, начали палить, но Платонов пригнулся к холке и уходил.
Уходил, да не ушел. Ранило коня, и пришел черед Платонову задуматься о смерти, ибо в плен немцы казаков не брали, сильную ненависть к ним питали.
Как только конь сбился с шага и потерял прыть, Платонов стал горячо соображать, куда бы укрыться. Казаки уже ускакали, он остался один, но не сомневался, что удастся спастись.
Платонов оглянулся — драгуны вошли в деревню. Он соскочил на землю и побежал во двор. И пропал казак. Он забежал в сарай, закрутился волчком, готовый хоть в землю врыться, потом влез в бричку и затаился. Нужно было дождаться ночи, а там пусть немцы лучше сторожат своих коней.
Но пропал Платонов, еще до ночи.
В сарай кто-то зашел и стал звать казака. Это был деревенский мужик, наверное, хозяин. Он залез в бричку, что-то говорил. Платонов понял — немцы ищут его.
Он скинул сапоги, шаровары, гимнастерку. Хозяин принес широкие штаны, белую рубаху без воротника, и Платонов переоделся, потом потрогал свой казацкий чуб и показал, что надо остричь.
«Иди за мной!» — показал мужик, и они побежали в хату. В сенях, как в казачьем курене, пахло крестьянским жильем. На лавке возле лестницы, ведущей на чердак, стояла цебарка с яблоками, Платонов схватил одно, потом другое, сунул в карман. Хозяин хлопнул его по спине, что-то сказал, мол, спеши. Хозяйка, синеглазая, невысокая, с мягкими руками взяла Платонова за чуб и большими ножницами стала кромсать эту кудрявую казачью красу, ворчливо приговаривая что-то про русских.
Со двора донесся скрип. Хозяин повернулся к окну, а Платонов как будто случайно прижался плечом к женской груди.
— Герман! — сказал хозяин и потащил казака в сени, к лестнице.
Платонов залез на чердак, сел за печной трубой, прислушиваясь. Голоса пошумели, потом притихли. Платонов съел яблоки, бросил огрызки на земляную засыпку и пожалел, что больше есть нечего. Потом снова послышались голоса, властный и веселый немецкий и писклявый хозяйский. Кто-то полез по лестнице. Что-то сказал по-немецки. Немцы!
Платонов спрятался за трубой и слышал, как они приблизились. Сбежать было некуда, он подумал, что сбежит позже, когда его выведут отсюда.
Стали спрашивать. Русский? Русский. Казак? Нет, не казак. Драгун.
Повели вместе с хозяевами куда-то в управу. Платонов почесывал голову, непривычно сократившуюся в размере без казацкого чуба.
Потом, в управе немцы стали кричать на хозяина, что-то требовать и грозить. Он застонал, заплакал. Его стали уводить. Но немец, который говорил по-польски, произнес что-то сочувственно-объясняющим тоном, и мужика пока оставили. Зато другой немец, улыбаясь, спросил о платоновском мундире, спросил по — русски, дружелюбно, как будто Платонов ради шутки спрятал форму, а теперь надо ее найти. — Я не знаю, — ответил казак.
Немцы больше не спрашивали, но взялись за хозяина, повели его во двор. Другие немцы, те, что остались, подошли к окну, и Платонов тоже подошел, увидел, что мужика поставили на огороде, а сами выстраиваются с карабинами напротив. Жалко, что хозяин пропадал. Видно было — сейчас расстреляют.
Рядом с Платоновым сердито закричала баба, которая до сей поры помалкивала, и кинулась в двери. Солдат у дверей растопырил руки. Она толкнула его и вырвалась.
Эта баба погубила Платонова, она принесла его синие шаровары с красными лампасами, гимнастерку. Теперь стало ясно, кто он такой.
— Казак! — сказал доброжелательный немец и сделал над головой жест, будто приминал чуб.
— Какой казак? — возразил Платонов. — Драгун я.
— Нет, ты казак. Волосы резал… Нехорошо. Нашим женщинам грудь резал, пальцы резал… Сейчас будешь наказан. — Немец провел себе по горлу и что-то скомандовал.
Платонова крепко схватили за руки, но он не вырывался, надеясь, что еще успеет обмануть немцев.
Его повели по улице, довели до того дуба и стали накидывать на сук тонкую лощеную веревку. Несколько желудей стукнулись на землю под ноги Платонова. Он поднял голову, посмотрел на солнце. Оно было еще высоко, не меньше, чем в три дуба над горизонтом. С востока доносилась горячая перестрелка, там шел бой.
Петлю спустили, подтолкнули казака в спину, он повернулся и вдруг заулыбался солдату. Ему почудилось, что это как кулачный бой в станице, когда молодые парни, и взрослые казаки уже намахались и с красными мордами сейчас начнут посмеиваться друг над другом. Но солдат снова толкнул его в грудь.
Через несколько минут Платонов был мертв, и только его красный мокрый прокушенный язык блестел живым страшным блеском.
* * *
Утром тринадцатого августа штаб второй армии должен был выехать в Нейденбург, чтобы начать новую волну наступления. О щипке в Лаутенбурге уже знали, ибо ночью из Сольдау от Артамонова прибыл с докладом Генерального штаба капитан Шевченко. Впрочем, Самсонов воспринимал положение на левом фланге как достаточно надежное, о чем свидетельствовала и последняя телеграмма, полученная в полночь, от командира первого корпуса: Артамонов решил при наступлении противника отвечать атакой. Поэтому до встречи с капитаном Самсонов жил еще вчерашним днем.
После встречи, выслушав доклад русоволосого, с малороссийским выговором капитана, Самсонов сказал Постовскому, что надо задержать наступление центральных корпусов.
— Давайте пригласим оперативное отделение, — посоветовал Постовский. Не надо спешить, Александр Васильевич.
Самсонов почувствовал, что начальник штаба думает по-другому и хочет переубедить его. Что ж, пусть пробует.
Пригласили Филимонова, Вялова и Андогского. Они вошли, как три богатыря — злой Филимонов, храбрый Вялов и быстроумный Андогский.
Постовский стал было объяснять положение первого корпуса, но командующий остановил его, взял управление в свои руки.
— Наступать в центре или повернуть все силы и ударить в немцу в тыл и фланг? — подвел итог Самсонов, возвращаясь к той мысли, которую все они еще в Варшаве считали главной стратагемой. Но нынче он остался один!
Первым начал говорить полковник Вялов, он был за продолжение наступления, только предлагал сделать первый корпус более устойчивым, придав ему в помощь все прибывающие в Млаву части — третью гвардейскую дивизию, первую стрелковую бригаду и тяжелый артдивизион.
Вялова поддержали Филимонов и Андогский, а затем Постовский сказал, что мы не позволим дать себя загипнотизировать и оторвать от главной задачи скорейшего наступления ради высших интересов державы.
Кому не позволим? Самсонову? Немцам? В словах Постовского прозвучало много задора. Александру Васильевичу не давал покоя упрек Жилинского в трусости. И он тоже стал думать не о положении своих корпусов, не об угрозе левому флангу, а о таких вещах, которые подчиняли его, командующего армией, абстрактным мыслям.
В самом деле, размышлял Самсонов, мы усиливаем Артамонова почти вдвое, подчиняем ему две кавалерийские дивизии, разве он не справится?
А трезвая мысль уступала абстрактным доводам. И еще не прибывшие войска, долженствующие входить в бой разновременно, пачками, и растянувшийся на двадцать верст фронт, который при движении центральных корпусов грозил растянуться еще на двадцать пять верст к северу вслед за уходящей вперед дивизией, — эти конкретные обстоятельства словно тушевались перед державным интересом.
«Артамонов должен справиться», — подумал Самсонов, вопреки всему, что знал об этом генерал раньше и вопреки мнению Крымова.
— Передайте генералу Артамонову, что ему на усиление поступают свежие части, — сказал Самсонов капитану Шевченко.
— Корпус должен удерживать Сольдау во что бы то ни стало! Верю, даже много превосходный противник не сможет сломить вашего упорства.
Пути назад не было.
Еще вчера опасность левому флангу была устранена сильнодействующим безотказным средством — отпиской в оперативном приказе, что ее вовсе нет, и сегодня ее тоже устранили.
Можно было выезжать в Нейденбург, взятый четыре дня назад генералом Мартосом.
Перед отъездом поступила телеграмма из Харбина, адресованная Самсонову. Она растрогала его, он покачал головой и показал ее Постовскому и Ноксу. «Ваше превосходительство настал великий момент когда на защиту родины поднялись все верные сыны России Мы корнеты окончившие в прошлом году Едисаветградское училище и служащие первом заамурском конном полку который имеет счастье числить вас в своих списках мы оторванные от родного отечества из далекой Маньчжурии шлем вам бывшему начальнику родного училища свою просьбу умоляем устроить нас в действующую конницу — корнет Пявко Доценко корнет Майгуренко».
* * *
В раннюю утреннюю пору, когда Генерального штаба капитан Шевченко подъезжал к Остроленке, на позициях первого корпуса уже гремел жестокий артиллерийский бой.
Полковник Крымов проснулся от звуков далекой канонады, долетающей до Сольдау со стороны Уздау, с запада. Еще не зная, что произошло, он подумал о немцах. В дверь негромко постучали. Крымов крикнул: — Это вы, подполковник? Я не сплю.
Вошел командир батареи Девяткин, уже одетый, затянутый портупеей, и, увидев сидящего на кровати в одном белье Крымова, извинился и сказал:
— Мне пора, Алексей Михайлович. Слышите? Это у нас. Это «чемоданы». Я еду. Спасибо за приют, не поминайте лихом.
При рассеянном свете была хорошо видна спокойная милая улыбка подполковника, с которой он извинялся, что разбудил Крымова — в неурочный час, и прощался, наверное, навсегда.
У русских не было тяжелой артиллерии, следовательно, «чемоданы» могли принадлежать только противнику, обрушившему их в эти минуты на позицию возле Уздау, куда и собрался в свою батарею подполковник Девяткин.
— Погодите! — сказал Крымов. — Сейчас оденусь.
Он познакомился с ним вчера в штабе корпуса, обратив внимание на мягкий и одновременно мужественный облик артиллериста, в котором как бы соединялись важнейшие национальные черты. Узнав, что подполковник приехал из-под Уздау в казначейство за деньгами для батареи и еще не знает, где переночевать, Крымов пригласил его к себе. Подполковник оказался из торгово-промышленной семьи, понимал о пружинах войны больше Крымова, во всяком случае говорил, что англичанка-союзница заманивает русских Проливами, но потом может обмануть и выпихнуть лопоухого мужика из Средиземноморья. И французам не доверял Девяткин, и германцам, с которыми мы дружили еще до учреждения Антанты. Ни от кого он не видел России снисхождения.
Крымов надел галифе и обулся, пошел провожать артиллериста. Девяткин спешил умирать, не подозревая, что наступление идет ради отвлечения от Франции немецких молодцов.
Крымов пожал ему руку и сказал, что сегодня будет в Уздау, может, там и встретимся. Девяткин посмотрел с простодушной искренностью и попросил:
— Вы передайте генералу Самсонову — русских всегда губит недоверие к своим силам.
Вчера он сердито говорил, что Россия единственная страна, которая ради других идет на жертвы, а сегодня — торопился под обстрел тяжелых орудий.
Девяткин залез в бричку, колеса скрипнули, лошадь цокнула подковами, и вот уже нет Девяткина, остался только грозный гул.
Вскоре Крымов был в штабе корпуса и забыл об артиллеристе. Пока немцы вели сильный артиллерийский огонь севернее Уздау, где стоял Выборгский полк с дивизионом легкой артиллерии и взводом гаубиц. Но что должно последовать дальше? Никто этого не ведал, все были спокойны, и даже болезненный Ловцов говорил, повторяя бодрую интонацию Артамонова, что корпус будет стоять, как скала.
Крымов зашел в аппаратную, где в эти минуты телеграфисты держали непрерывную связь со всеми дивизиями, и в галдеже нескольких голосов попытался уловить главный звук обстановки. Все было спокойно, лишь прервалась линия с Выборгским полком — наверное, перебило провод.
В аппаратную заглянул адъютант Артамонова и задорно объявил Крымову: Сейчас выезжаем! Командир корпуса собрался на автомобиле объехать войска, чтобы укрепить их дух.
Крымов пошел за возбужденным адъютантом, думающим, наверное, что Артамонов сейчас проведет Бородинское сражение.
— Ну где вы пропадаете? — добродушно воскликнул Артамонов. — Наконец-то они атакуют. Мы едем?
— Куда, ваше превосходительство? — спросил Крымов.
— В Уздау!
— А если он двинется со стороны Лаутенбурга? — возразил Крымов. — Лучше подождать.
Поручик вскинул голову как молодой петушок и осуждающе поглядел на него.
— Достаточно послать офицера связи, — сказал Крымов.
— Значит, вы не едете? — чуть обиженно удивился Артамонов.
— Я попозже, ваше превосходительство. Там ведь рвутся тяжелые снаряды и все живое зарывается в землю. Это не турецкая и даже не японская война, чтобы подобно Скобелеву или Куропаткину выезжать на белом коне…
— По-вашему, я должен бросить свои войска в решающий момент? — спросил, разводя руками, Артамонов.
— Ну благословите их по телефону, а штаб корпуса не покидайте, ответил Крымов. — А то поедете да будете только мешать командирам. Наше место здесь.
Артамонов повел седоватой, коротко стриженной головой в сторону, поглядел на петушка-адъютанта, который явно ждал, что генерал устроит Крымову жестокую распеканцию, и закряхтел, посмеиваясь:
— Вот они, младотурки! Все им подавай по науке, по логике. А души солдатской — не желают признавать.
На распеканцию самсоновского посланца у него не хватило воли, он предпочел стерпеть и закончить дело миром.
Крымов вытащил хронометр и сказал, что пойдет к себе на квартиру попить чаю, ведь все равно часов до восьми ничего не произойдет.
* * *
Командир батареи, подполковник Владимир Евграфович Девяткин под звуки продолжающегося обстрела доехал до фольварка, где располагался батарейный резерв.
— Слава богу! — сказал он, когда увидел знакомый домик и сохнущее на веревке офицерское белье.
Он почувствовал себя дома. Здесь, позади позиции, он располагался со всем батарейным хозяйством: здесь была даже маленькая банька. Справа на холме располагался наблюдательный пункт, внизу в лощине стояли орудия, а дальше, в окопах пехоты, тоже сидел наблюдатель из артиллеристов.
В небе зашелестело, загрохотало, как будто приближался нацеленный прямо на подполковника железнодорожный состав. Выло, сотрясало небесную твердь и стискивало сердце ужасом неотвратимой смерти. Это летел «чемодан».
Вестовой спрыгнул с брички и упал на землю, закрывшись руками. Лошадь присела на задние ноги, как испуганная собака. «Сейчас понесет», — подумал Девяткин и, не выпуская из рук портфеля с деньгами, тоже выпрыгнул и потянулся подхватить вожжи. Но земля качнулась под ногами, полковник застыл на месте с протянутой рукой и прижатым к боку портфелем, а лошадь с бричкой неслись в горы вниз, в лощину.
Девяткин опомнился при виде переворачивающейся брички и глядел на полускрытые зелеными кустами орудия, определяя, целы ли они. Ничего не разобрав, он пошел к домику.
Снова зашелестел по небу железный змей, снова замер подполковник, борясь с невыносимым ужасом. «Чемоданы» били впереди батареи, по окопам пехоты. Черные грибы дыма вздымались выше деревьев.
Навстречу подполковнику выбежали из домика старший офицер батареи штабс-капитан Рыксин и поручик Гулинокий. «Кто дежурный на батарее?» крикнул Девяткин.
— Я, господин полковник, — ответил Гулинский.
— Да как же так, Коля? — упрекнул его подполковник. — А ребята одни, без офицера?
— Так вышло, Владимир Евграфович, — виновато произнес поручик. — Утро тихое… думал чайку попить да побриться…
— Вам необходимо немедленно быть на батарее, — сказал Девяткин.
— Здесь от «чемодана» тоже не спасешься. Хоть и не можем достать их огнем, но оставлять своих орудий не будем.
— Но посмотрите, Владимир Евграфович, если надо — я мигом.
— А что думают там номера? Что, господа чаек распивают и никого на батарее нет? Идите, Коля… Погодите, я тоже с вами. — Девяткин сунул Рыксину портфель и пошел по протоптанной тропинке вдоль забора. Подполковник понимал, что сейчас никакие офицеры не могут спасти нижних чинов от обстрела, но знал, что в трудную минуту офицер должен быть со своими солдатами, и следовал этому правилу, а остальное — как господь решит.
Земля ходила ходуном, когда он спускался в лощину, и сапоги скользили по росе. Он добежал до артиллерийских окопов, спрыгнул вниз и был счастлив, увидев улыбку на лице лучшего наводчика батареи Протопопова, смуглого, как цыган, с серьгой в ухе.
— Как, Протопопов? — спросил подполковник. — Небось испугался?
— Кто испугался, ваше благородие? — крикнул наводчик. — Сидим и ждем, когда он по нам жахнет. А он все грозит да грозит. Аж заморились! Девяткин прошел дальше к ячейке телефониста, где маленький щуплый телефонист сидел, зажмурившись, возле желтой коробки аппарата. Он тронул его за плечо, и солдат уставился бессмысленным взором, словно не командир стоял перед ним, а черт хвостатый вознамерился утащить его в пекло.
— Звони к пехоте! — велел Девяткин. — Проверь линию. Телеграфист не пошевелился. Кругом звенело, бухало железной дубинкой в огромный барабан.
— Не бойся, — сказал Девяткин. — Это с непривычки. Солдат судорожно зевнул и механически перекрестил рот.
— Встать! — скомандовал Девяткин и встряхнул его. Тот опомнился и испугался подполковника больше «чемоданов», что и требовалось. — Лезь наверх! — велел подполковник. — Живо!
Телефонист встал на банкет, высунулся над окопом и жалко оглянулся на командира, словно спросил: куда ты гонишь меня?
Но Девяткин не дал себе увлечься жалостью, ибо должен был заботиться не о маленьком телефонисте, а о всей батарее, и здесь жалеть кого-то одного значило губить всех.
— Наверх! — повторил подполковник.
Телефонист подпрыгнул, заелозил сапогами по земляной стенке окопа и с трудом вылез.
— Постой-ка там, — сказал Девяткин и обратился к двум номерам, которые сидели, согнувшись, на банкете и тусклыми глазами наблюдали за ним, — Скучно без дела? Или смерти испугались, орлы? — Один из них что-то ответил — из-за грохота неслышное. — о себе не жалей! — крикнул Девяткин. — Так легче!
Поняли, закивали согласно. Девяткин велел телеграфисту спуститься, звонить к пехоте, где был оставлен в окопах офицер батареи. Телефонист сполз на животе вниз и с бодростью схватился за трубку. Потом поднял голову и, угасая, поглядел на командира. «Обрыв?» — подумал Девяткин. Ему не хотелось посылать этого щуплого человека на смерть, а если был обрыв провода, то посылать надо было.
— Молчит, — кисло сморщился телефонист. — Надо идти.
— Вызывай снова!
— Нет, ваше благородие, надо идти.
Снова загремело и засвистело в небе. Телефонист сжался.
— Ну иди, — сказал Девяткин. — С богом.
Телефонист с окаменевшим лицом поглядел на подполковника. Что-то с ним произошло, укрепило. А что именно, Девяткин не знал и не имел возможности узнавать: он не жалел телефониста, и тот теперь был согласен, что его не надо жалеть.
Прибежал поручик и, ничего не поняв, стал с воодушевлением подгонять телефониста.
— Не надо, — сказал Девяткин. — Он все сделает, как надо.
Вот здесь, на этом солдате кончалось право командира разделять с ними судьбу. Дальше — они со своими верой и страхом должны идти сами.
Обстрел тяжелыми снарядами продолжался, и можно было догадываться, какое пекло сейчас кипит впереди у Выборгского полка. Уцелеет ли там хоть кто-нибудь?
Прошло минут двадцать — солдатик не возвращался. И полчаса прошло, и час. Не вернулся телефонист. Послали другого.
В девять часов вдруг запищал вызов телефона — началась атака немцев.
Девяткин перекрестился и с легкостью выбрался из осточертевшего окопа. Наконец-то!
И пошли команды фейерверкерам, наводка по прицельному плану — на дорогу у двух сосен, кладбище, мельницу.
Вечная память тому солдатику, линия работала, передавала сообщения с пехотных позиций и наблюдательного пункта.
В пехотном окопе подпоручик Луков был придавлен обвалившейся землей, но пока держался и указывал цели.
На дубе, на оборудованной площадке находился поручик Русевич, передавал оттуда, что видит скопление неприятеля за кладбищенской оградой и в кустах слева от мельницы; а по дороге у двух сосен колонна разворачивалась в цепи.
Девяткин скомандовал произвести одиночные пробные выстрелы по всем указанным целям с последующим ускорением до беглого огня.
Рукояти казенников отвернулись, снаряды легли в казну, затворы вдвинулись и заперли казну.
Наводчик Протопопов глядел в прицел с неподвижной улыбкой, подкручивая маховик.
— Давайте, Коля, — сказал Девяткин Гулинскому.
— Первое орудие! — скомандовал поручик.
Протопопов дернул шнур, пушка бухнула, ствол отодвинулся назад, вытягивая из люльки маслянисто блестящую трубку накатника, потом вернулся обратно, а колеса подпрыгнули.
Вслед за первым открыли огонь остальные семь орудий, отбивая немецкое наступление.
Девяткин оставил Гулинского за старшего, вызвал лошадей и поехал на пригорок к дубу, на котором сидел Русевич. Ему не терпелось увидеть работу батареи. Весь мир соединился в небольшой участок позиции от двух сосен до кустов за мельницей, где серые фигурки с ранцами за плечами шли цепями в три линии. Их густота, твердость движения вызывала уважение и ярость. Белые облачка шрапнели разворачивались над ним одно за другим, и в бинокль было видно, как целыми десятками ложатся наступающие, но цепи не останавливались. Эта храбрость немцев не оставляла в душе Девяткина никакого снисхождения и порождала охотничий азарт.
Заметив, что на кладбище сосредотачивается около роты немцев, он скомандовал на батарею:
— Угломер ноль — ноль, соединить к правому два! — И огонь всех орудий соединился в одной точке, вымолачивая из-за надгробных памятников маленькие фигурки с ранцами, как недавно «чемоданы» долбили окопы выборжцев.
С дощатой площадки наблюдательного пункта в девятикратный бинокль было видно далеко в глубину, как из синеватой неразличимости от горизонта выплывают неприятельские колонны, ползут полевые кухни, скачут крохотные всадники. Вблизи серое и синеватое сменялось зеленым цветом, по которому темной полосой прочерчивались ломанные звенья окопов, разбитые там и сям инженерным гением немецкой тяжелой артиллерии.
На мгновение у Девяткина мелькнула мысль: «Кому только не платим мы кровавого налога, чтобы прилепиться к Европе!»
* * *
В тот же день чуть севернее, там, где располагалась вторая дивизия под командованием генерал-лейтенанта Мингина, в промежутке между первым и пятнадцатым корпусами, также гремел жестокий бой. Вторая дивизия обошла с запада и востока озеро Ковнаткен, выбили немцев из деревни Турау и двинулись на Зеевальде лавиной — кавалерия, пехота, орудия, лазаретные повозки. Разгоряченные боем, голодные солдаты свирепо перли на запад, надеясь, что после Зеевальде дадут передохнуть. Перед деревней Ревельский полк стал разворачиваться, и тут на него обрушились с фланга, со стороны фольварка сильный пулеметный огонь. Должно быть, место было заранее пристреляно, и только ждали подхода русских.
Но ревельцы не останавливались, полковник и офицеры чувствовали настроение полка — солдаты вошли в состояние самоотверженности и ничего не боялись. Полковник повернул против фланга роту штабс-капитана Амелунга, а три батальона двинул на Зеевальде.
Лихо выскочили перед цепями четыре орудия, развернулись на прямую наводку и засыпали германские окопы беглым огнем. Белые облачка поплыли над околицей.
Засвистели свистки в атаку, ревельцы кинулись в штыки и захватили первую линию окопов. И здесь остановились, уже не слыша призывов, срывали с убитых ранцы, искали консервы и сухари. Напрасно офицеры подгоняли солдат ворваться на плечах убегающего противника в деревню, — видно, не судьба была Ревельскому полку довести бой до победы.
Когда высунулись из окопов, захрюкали, зашелестели железные сверла «чемоданов» и разрывы стали вздымать на воздух и бесследно разметывать целые отделения. Огромные осколки с зазубренными краями перерубывали людей пополам. По воздуху носились целые деревья.
Ревельцы повернули, но слева, там, где охраняла рота штабс-капитана Амелунга, появились густые цепи немцев, шли уничтожать потрясенный полк.
Зато обстрел, слава Богу, прекратился! Можно было погибать по-божески, в бою. И горстки, оставшиеся от рот, в мрачном забвении, в тишине, подбадриваемые редкими возгласами офицеров, повернулись лицом к немцам и пошли им навстречу, опустив штыки. Из чьей-то измученной души, вздрогнувшей перед смертной минутой, вырвалось хриплое пение гимна:
— Спаси, Господи, люди твоя… — И соседняя душа отозвалась, повторив слова этой молитвы за Отечество:
— Спаси, господи, люди твоя…
И все живые души поднялись над потрясенным, погибающим седьмым пехотным Ревельским полком, сливаясь в пении. Полк перестал существовать.
* * *
Пока слева оборонялся Артамонов и безуспешно наступал Мингин, в центре корпус Мартоса продвигался вперед и к часу дня тринадцатого августа дошел до линии Шведрих, Надрау, Вамплиц. Вторая армия и побеждала, и погибала. Взятый без подтягивания тылов быстрым напором ход все еще продолжался.
Мартос послал на помощь Мингину в направлении на деревню Мюлен Нижегородский полк с артиллерийской батареей, и полк ударился об эту деревню, оказавшуюся сильно укрепленной, и под обстрелом с трех сторон, с фронта и флангов, ведущегося из дренажных канав, из-за заборов и фольварков, завяз в тяжелом бою.
С этого боя корпус неожиданно, что не соответствовало штабной директиве, но соответствовало расположению сил противника, стал поворачивать фронт на запад. Предчувствие победы витало над пятнадцатым корпусом. Германские войска наконец-то были настигнуты.
* * *
Первый корпус, от которого зависела судьба армии, сотрясался под ударами, но стоял прочно. Выборгский полк не отступил.
К полудню немцы обрушились на его соседа, Иркутский полк, повторив обстрел тяжелыми снарядами, вздымающими над окопами стены огня и дыма и доводящими человека до безумия. Иркутский полк дрогнул. Германская пехота пошла вперед. Это был один из ударов в лоб, сотрясающих русскую оборону мощным грубым натиском.
Иркутский! Куда же ты? Но молчит Иркутский полк, одуревший от грохота. Оглохли солдаты.
Тогда начальник 24-й дивизии Рещиков велит Красноярскому полку подниматься, и красноярцы поднимаются. Идут стенка на стенку. Под ногами трещат кусты, приминается земля, осыпаются кромки дренажной канавы.
Красноярский! Иркутский! Пошли, ребята.
Но по шоссе из-за немецких цепей выехал черно-синий блиндированный автомобиль и стал водить хоботами пулеметов, отражая штыковую атаку. Как неодолимое чудище ехал броневик все дальше, загоняя молодцев-красноярцев в бегство.
И словно не было порыва. Натолкнувшись на машину, они побежали назад. Разорвалась оборона между Выборгским и Иркутским. Пришлось закрывать дыру лейб-гвардейским Литовским полком.
В тот день первый корпус не только оборонялся, но и успешно наступал. Вторая бригада 22-й дивизии, Нейшлотский и Петровский полки, атаковали Генрихсдорф и заняли Гросс Ленск. На этом день тринадцатого августа закончился. Наступила ночь. Назавтра корпус должен был удержаться на своем правом фланге и нанести удар на левом. От Млавы прибывали свежие части, гремели цепями зарядные ящики, скрипели патронные двуколки, походным порядком шла пехота навстречу санитарным линейкам и бредущим в тыл раненым. Одна сила, избитая и изнуренная, уступала место новой. Что они могли поведать друг другу?
На рассвете, часа в три ночи, генерал Артамонов объезжал на автомобиле позиции правого фланга и доехав до фольварка, где разместился штаб первой бригады, вызвал генерала Сивицкого, ожидающего атаки, и по-отечески благословил его. Чем еще мог помочь командир корпуса? Сивицкий сказал, что ввиду необеспеченности правого фланга возле Фредау, откуда отвели в резерв Петровский полк, ему трудно будет удерживать позицию. Ему не было дела до того, что Петровцы пригодились у Гросс Ленска; он отвечал не за Гросс Ленск, а за эту вспаханную «чемоданами» долину, где нельзя было ни отступать, ни обороняться. Тогда Артамонов предложил Сивицкому отступить.
Да, отступить, не теряя времени, ибо уже нечем было закрывать разрыв.
— Нет, — возразил Сивицкий. — Лучше погодить до утра, а то будет похоже на бегство.
— В трех верстах есть прекрасная позиция, — сказал Артамонов — Высота и отрытые окопы. Полагаю, там можно задержаться. Впрочем, действуйте по обстоятельствам. Командир корпуса пошел к темнеющему у забора длинному поблескивающему автомобилю. Сивицкий провожал его, чувствуя недоумение. Артамонов перекрестил его и уехал.
Если бы Артамонов приказал лечь костьми на этом месте, Сивицкий со своими людьми стоял бы до последнего. А теперь?
В воздухе пахло бензиновой гарью. Небо уже светлело, тысячи звезд холодно искрились, навевая мысль о вечном покое. Над западной стороной всплыла зеленовато-белая ракета и покатилась, как падучая звезда. Сивицкий закурил, подумал о солдатах в окопах, поправляющих в эти минуты козырьки и ходы сообщения. «Хуже, чем было, не будет,» — подумал он, решив оставаться на месте.
В пять часов тридцать минут начался обстрел с фронта и с правого фланга. Это значило, что за ночь немцы уже заполнили разрыв и поставили там батареи. И эти батареи посылали снаряды вдоль окопов, выламывая целые звенья, разбрасывая куски тел. Полк, вжавшись в землю, не двигался.
Через полчаса Сивицкому доложили, что адъютант лейб-гвардии Литовского полка передал приказание об отступлении.
Сивицкий велел перепроверить в штабе корпуса: верно ли это? Но штаб молчал.
Сивицкий решил не отступать, ждать немцев. Вот пойдут, как вчера, — а там поглядим.
И вскоре артиллерийский огонь стал вестись по выборжцам и слева, оттуда, где стояли гвардейцы. Выходило, гвардейцы отошли. Полк доблестно погибал под огнем.
Сивицкий вспомнил о высоте в трех верстах с отрытыми окопами и решился на приказ отступать.
Только не было в трех верстах никакой высоты, лишь песчаный холм с тесным окопчиком на один взвод попался на глаза Сивицкому, и негде было занимать оборону. Однако в тот же час в другой стороне генерал Душкевич, неторопливый старый начальник 22-й дивизии наступал решительно. Он послал только что прибывшему стрелковому полку атаковать Генрихсдорф с фронта, а сам ударил со стороны Гросс Ленска.
И когда противник запаниковал и его батареи подхватились на передки и заметались, когда надо было еще чуть-чуть надавить, Душкевич получил приказ отступать. Генерал отказался его выполнять. Ведь победа уже обозначилась! Что это? Недомыслие? Оплошность? Путаница?
Командир саперной роты, тот, что поддерживал телефонную связь со штабом корпуса, доложил, что ошибки нет, он узнал голос передававшего телефонограмму, тоже саперного офицера.
И Душкевич отступил. Вместе с Пфингстеном он поехал в Сольдау объясняться с Артамоновым и по пути встретил своего посыльного, возвращающегося от штаба корпуса.
Что за насмешка судьбы! Офицер передал слова Артамонова, что на сей час все войска крепко держатся на своих местах. К чему же было отступать?
— Это я виноват! — воскликнул Душкевич и толкнул шофера в спину. Гони!
Пфингстен и офицер-сапер, принявший злополучную телефонограмму, дернулись от рывка мотора.
Но как бы они ни гнали, как бы ни искали, кто виноват, догнать победу было невозможно, а виноватых не обнаружилось.
Артамонов был в штабе вместе с начальником штаба Ловцовым и инспектором артиллерии Масальским. Душкевич, задыхаясь, стал докладывать:
— Ваше превосходительство! Ваше приказание об отступлении кем-то злонамеренно искажено. Не исключаю измену. Не снимаю с себя вины за срыв блестяще идущего наступления. Вот штабс-капитан, он подтвердит, что приказание было от вашего имени…
— Сейчас недосуг разбираться, — преспокойно возразил Артамонов, и штабс-капитан, набравший полную грудь воздуха, так и выпустил весь этот воздух, ничего не подтвердив. — Конечно, я никакого приказания вам не передавал, это у вас напутали. Да Бог с ним, поезжайте-ка вперед, задерживайте все части, что идут из-под Уздау.
— Что? Уздау оставлен? — спросил Душкевич.
— На то воля божья, — вздохнул Артамонов.
— А где Крымов? — снова спросил Душкевич, словно полковник мог вмешаться и еще что-то изменить. Крымов был там, впереди Сольдау…
* * *
По штабу армии молниеносно пролетело: первый корпус стоит как скала!
Только что Постовский разговаривал с Артамоновым, и еще Артамонов просил передать командующему, что Александр Васильевич может на него, генерала Артамонова, полностью положиться.
На этом телефон замолчал, искровой телеграф тоже не получил ответа. Впрочем, главное уже было донесено, свалилась гора с плеч!
Теперь положение определялось явно в пользу русских: на левом фланге немцы остановлены, в центре оба корпуса, пятнадцатый и тринадцатый, наступают, причем сегодня в полдень уже занят Алленштейн, а на правом фланге — все спокойно.
— А я-то, грешный, вчера приуныл! — говорил Постовский Самсонову. — Да и вы, Александр Васильевич, невеселы были.
Вчера, действительно, у командующего случился приступ грудной жабы, а причиной этому было бегство Эстландского полка. Эстлянцы из 2-й дивизии Мингина, бежали до самого Нейденбурга, и Самсонов случайно встретил эту тысячную толпу потрясенных солдат, клокотавших страхом и злобой. Он успокоил их, вспомнил, как доблестно сражались эстляндцы еще в турецкой кампании, когда он сам был иным корнетом, пристыдил упавших духом и затем велел выдать им хлеб из корпусного продовольственного транспорта и поставить в резерв для короткого отдыха.
Известие об успехе первого корпуса оживило Самсонова, а Постовский просто торжествовал, ибо это он в противоположность командующему стоял за продолжение наступления, несмотря ни на что.
— Поздравляю вас, Петр Иванович, — с чувством произнес Самсонов. Давайте оперативный приказ на завтра. Будем смотреть правде в глаза.
Постовский тоже хотел смотреть ей в глаза. Назавтра надо было повернуть налево почти на девяносто градусов оба центральных корпуса — во фланг и в тыл атакующим Артамонова германцам.
Петр Иванович легко соединил давнишний, еще варшавский замысел, с нынешней обстановкой, свел мечту о явью.
Для Самсонова, который уже давно разрывался между своим замыслом и требованием фронта и Ставки, это выглядело долгожданным решением. Командующий даже не поглядел на карту — все было ясно и так. Артамонов сдерживает натиск трех немецких корпусов, а Мартос с Клюевым молотят по этой наковальне.
Поэтому Самсонов не спросил, сколько верст надо пройти Мартосу и Клюеву и способны ли они на молниеносный бросок.
Над Александром Васильевичем нависал гнев Жилинского и великого князя Николая Николаевича — командующий и сам был между молотом и наковальней.
И он одобрил главную идею оперативного приказа. Однако если бы Самсонов взял циркуль и измерил расстояния? Если бы забыл о давлении начальства? Если бы избрал путь не жертвы, но здравого смысла?
Тогда бы он отступил, был бы за это отрешен от командования. Впрочем, стратегическая угроза Восточной Пруссии сохранилась бы и продолжала сковывать германское командование.
Только мог ли Самсонов пойти этим путем? Гусар, не отступавший даже после приказа об отступлении? Скорее мог пойти в сабельную атаку на пулеметы. С оружием дворянским против оружия новейшей поры. Но эта готовность вовсе не означала, что он победит.
За обедом командующий был весел, вспоминал, как в японскую кампанию, во время кавалерийского набега на Инкоу, в одной деревне японцы оставили приглашение русским кавалеристам встретить Новый год вместе и что из этого вышло.
Нокс тоже вспомнил случай из той поры, как русские пленные обманывали японцев и каждый день напивались пьяными и пели песни.
Британец с усмешкой перечислил все действия японцев, чтобы воспрепятствовать русским получать алкоголь, и, перечислив, обвел взглядом русских собеседников, спросил:
— Как вы думаете, господа? Где же ваши соотечественники брали водку?
— Покупали у охраны! — сказал Постовский.
— Нет, — ответил Нокс.
— Проносили в одежде? — предположил Вялов. — Например, в грелке?
— Нет, полковник. Они вообще не проносили у себе ни грамма.
— Гнали самогонку? — спросил Вялов. — А?
Нокс засмеялся, хлопая в ладоши:
— Гениально!
— Прохвосты, — улыбнулся Самсонов. — Мне Крымов рассказывал, как у него казаки опорожнили две бутылки вина, не откупоривая. Угадайте, майор! Нокс хмыкнул.
— Просверлили в донышке маленькие дырки и высосали! — сказал командующий.
— Россия-матушка! — с удовольствием произнес Нокс. — Вы уникальны, господа!
Всем было приятно слышать похвалу русским достоинствам, и даже командующий, знающий цену англичанке, тоже поддался славной минуте.
— Я знаю, в чем ваша тайна, — продолжал Нокс. — По крови вы не вполне русские. Вы татары, поляки, немцы, датчане. Вы всех переварили.
— Нет, дело в вере, — сказал Самсонов. — У нас никто не глядит, какой ты крови, в нашем паспорте записывается только вероисповедание. Тут никакой тайны.
— А если я мусульманин? — спросил Нокс, слегка выказывая восточные интересы. — Я знаю, в ваших войсках, кроме попов, есть и ксендзы, и пасторы, но нет мулл. Почему?
Над этим Самсонов никогда не задумывался и затруднился ответить. Ему помог Филимонов, рубанувший со своей обычной прямотой:
— Да у нас же христианская армия! А надо будет — заведем и мулл. И этих — кто там в Индии — будд!
Нокс понял, что лучше не развивать дальше восточную тему. Командующий простер над столом могучую руку и зычно, прерывая возможные голоса, заявил:
— В молодости я отбывал ценз в Лубенском гусарском полку, а там, господа, в золотую пору нашей славы служил небезызвестный герой Яков Петрович Кульнев. Так вот, знаю из полковой истории: Кульнев был наполовину турок и самолично гнал у себя на квартире водку. А посему вывод: будь кем мать тебя народила и служи России. Россия, майор, это не одни русские. Хотя и русские — тож.
Нокс невозмутимо улыбнулся. Впрочем, что Нокс? Обед закончился, надо было заниматься делами. Самсонов перешел в комнату оперативного отделения, словно нырнул с головой в пучину.
Постовский протянул для подписи свою полевую книжку с написанным приказом: «14 августа. В 3 ч. 30 мин. Из Нейденбурга. Ожидаю от 13 корпуса самой энергичной атаки совместно с 15 корпусом.»
Подпись Постовского была зачеркнута.
— Лучше вы, — сказал Петр Иванович.
Самсонов подписал синим карандашом. Снова мечта была приписана к действительной обстановке.
* * *
На закате дня в Нейденбург вошла 6-я конная бригада, два полка с артиллерийской батареей, под командованием генерал-майора Штемпеля.
Потрясенный Самсонов выслушал доклад Штемпеля о полном отступлении первого корпуса на Млаву, посмотрел на побелевшего Постовского и покачал головой. Не хотел верить этому запыленному коренастому кавалеристу. Постовский стал переспрашивать, уточнять. Самсонов отвернулся. Запах лошадиного пота породил какую-то странную мысль вернуться назад, в молодость. Резкий грубый голос Штемпеля, повторявший горестное известие, вызывал раздражение. Как же так? Артамонов четыре часа назад доносил, что корпус стоит как скала. Врал! Врал, зная, что платить за вранье будут кровью. Недаром Крымов предупреждал…
— Отрешаю Артамонова! — сказал Самсонов.
— Надо бы запросить Якова Григорьевича, — вымолвил Постовский. Командир корпуса, полный генерал. Имеем ли мы право?
— К черту! Где ваша книжка?
Постовский вытащил из кармана книжку в сером матерчатом переплете.
— Пишите, Петр Иванович! Генералу от инфантерии Артамонову. 14 августа, шесть часов тридцать минут. Из Нейденбурга. Удаляю вас от командования корпусом, предписываю вам сдать командование им генерал-лейтенанту Душкевичу. Командующий второй армией генерал от кавалерии Самсонов… Записали? Давайте подпишу!
Книжка легла перед Александром Васильевичем. И на сей раз подпись была в два раза длиннее чем прежняя, как будто рука размахнулась и не смогла удержаться в привычных рамках. Да и какие теперь рамки! Все переворачивалось, победы не было, была гибель.
— Идите, генерал, — сказал Самсонов Штемпелю. — Вам следует прибыть к генералу Мингину. И передайте ему на словах, что нам отныне не остается ничего другого, как ложиться костьми. Коль врем, — не умеем воевать, так покажем хоть умение лечь костьми!
Штемпель ушел, придерживая шашку и грузно ступая пыльными сапогами.
— Что, Петр Иванович? — спросил Самсонов. — От Уздау до Нейденбурга двадцать верст, дорога к нам в тыл, по сути, открыта.
— Успокойтесь, Александр Васильевич! Ради бога, успокойтесь! — попросил Постовский. — Еще не все потеряно. У нас там достаточно сил, чтобы организовать оборону, только успокойтесь.
— Да что вы заладили! — отмахнулся Самсонов. — Я спокоен. — Он посмотрел на раскрытую полевую книжку.
В книжке еще было записано: «На фронте первого корпуса бой шел весь день, много было дано категорических приказаний не уступать ни шагу, что пока и выполнено. Отражая атаки огнем, части корпуса на левом фланге переходили в наступление. Большую помощь оказал подошедший дивизион тяжелой артиллерии…» И запись обрывалась. Видно, события опередили начальника штаба, дальше писать не имело смысла.
— И замените в первом корпусе начальника штаба, — сказал Самсонов. Все, Петр Иванович! Я думаю завтра ехать к Мартосу. Я должен все видеть сам!
Постовский вздохнул, не отзываясь ни словом на небывалое заявление командующего. Бросать командный пункт, откуда руководил войсками, и мчаться очертя голову, на передовую? Это было необдуманно. Остынет — сам поймет, что он не эскадронный. Дверь отворилась, вошел Вялов.
— Ваше превосходительство! — решительно произнес он. — Сообщение из шестого корпуса. Корпус отошел.
— Бог с вами, полковник! — воскликнул Постовский. — Там у немцев и сил-то нет никаких.
— Слышите? — усмехнулся Самсонов. — Дайте-ка телеграмму! Прочитал: «После боя 13 августа у Гросс Бессау севернее ст. Ротфлис 6-й корпус отошел к утру сего дня в район Нейендорф — Пфафендорф — Менсгут. Потери в людях довольно значительны… Оставлено (еще не выяснено сколько) несколько орудий и пулеметов. Обозы во время боя были нагромождены у самой позиции… Войска перемешаны с обозами…» Постовский тоже прочитал и раздраженно спросил Вялова:
— Это что же? Они берут нас в клещи?
— Скоро выяснится, — ответил Вялов. — Во всяком случае Мартос и Клюев могут оказаться в сложном положении.
— Предлагаете отступать? — Еще более раздражаясь, спросил Постовский.
— Выбор у нас небольшой, Петр Иванович, — невозмутимо вымолвил Вялов. Возможно, придется. Но если б нам успеть повернуть центральные корпуса, мы бы тогда еще посмотрели, кому надо отступать.
Самсонов слушал и вспоминал, как на Янтайских позициях пехотная дивизия побежала было, но его кавалерийские офицеры остановили ее и повели вперед. Потом вспоминалась ночная атака на ханшинный завод ради спасения французского лейтенанта. Это было странное совпадение: тогда положили за тело Бюртена трех убитыми и два десятка ранеными, а сегодня тоже спасали, на сей раз всю Францию.
Командующий перешел к карте и переставил флажки, обозначающие дивизии шестого корпуса, между озерами в точку Пассенгейма. Здесь они должны встать и в узком озерном дефиле лечь костьми, но не пропустить врага.
Снова дверь отворилась, подполковник Андогский попросил разрешения войти. Вид у него был бодрый.
— Только что взяли Мюлен! — объявил он, улыбаясь.
Прорвали-таки! Вот Мартос, и тиран, и заездил свой штаб, а колотит германцев, спасает армию.
Постовский хлопнул в ладоши, шагнул навстречу Андогскому и забрал телеграмму.
— Кто подписал? Мартос? — спросил Самсонов.
— Полковник Панаш, — ответил Постовский. — Скромен наш Николай Николаевич! У него не «взят» Мюлен, а всего лишь «занят», точно без боя… Ну слава богу!
Блеснула надежда.
Как все сошлось! Позорный отход Артамонова, конфуз Благовещенского, порыв Мартоса.
— Завтра к Мартосу! — приказал командующий. — На месте разберемся, как быть дальше.
— Но, — возразил Постовский. — Как же поддерживать связь с корпусами?
— Никаких «но»! Едем в Надрау, — велел Александр Васильевич. Положение у нас пиковое. У немцев, я думаю, — тоже. Все решается завтра. Я должен быть в войсках!
Это было сказано угрожающим тоном, и Постовский замолчал и стал нервно сгибать бумажку телеграммы.
— Вы свободны, господа, — произнес командующий.
* * *
Что ж, наступала решающая минута, ради которой и живет офицер. Если суждено завтра Самсонову погибнуть на позиции, он погибнет, как погибли многие… а самым первым однокашник Данилевский, давным — давно, еще в Турецкую. Александру Васильевичу вспомнилось, как юный старший вахмистр Яков Жилинский испытывал на нем свою силу. Потом всплыл в памяти туркестанский штабс-капитан Головко, разбившийся на лошади в Николин день по вине самого Александра Васильевича… За Головко пришли на ум Екатерина Александровна, Володя и Вера на гремящем от оркестровых маршей вокзале в Минеральных Водах, и все глядели на него по-разному — со слезами, с гордостью, с благоговением.
Самсонов написал Екатерине Александровне краткое письмо: он здоров, дела идут хорошо, скучает…
После письма к нему напросился Нокс, и к той поре подоспела еще одна телеграмма от Артамонова, так что больше не было времени мечтать о прошедшем.
Артамонов лукавил и на сей раз. Текст был такой: «14 августа. 7 ч. 25 м. из Сольдау. После тяжкого боя корпус удержал Сольдау. Противник занимает охватывающее положение, но остановился. Переправы мои обеспечены. В этом районе опасно держать большие силы в виду артиллерии, особенно гаубиц. Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее. А войска послушны, проявили выдающуюся выносливость, оставаясь без горячей пищи и воды более двух дней. Держать у Сольдау большие силы затруднительно. Удерживаю город авангардом из остатков разных полков. Для перехода в наступление надо прилив новых сил. Все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок наутро и перейду в наступление. Генерал Артамонов.»
Замечательно сочинил депешу генерал Артамонов! Сам отступал, а твердил о наступлении. И притом в каждой строчке и бравость, и безнадежность, — на любой вкус. Кто захочет атаковать, найдет подтверждение для атаки: кто захочет обороняться, тоже найдет доводы в свою пользу, — вот до чего искусен в вождении войск командир первого корпуса.
Вошел Нокс, спросил, как понимать завтрашний отъезд штаба? Вопрос не имел военной опоры, — был чисто нравственный.
— Потому что верю в успех, — ответил Александр Васильевич. — Вам же ехать вовсе не обязательно.
Но британец хотел ехать. И дело не в служебном долге, нет, Самсонов почувствовал, что Нокс при внешнем хладнокровии не уклонится от боя, это был военный человек, пусть и англичанин, и как военный он был близок Александру Васильевичу.
— Ваша воля, — оказал командующий. — Но если возникнет опасность, я вас отошлю. Вы уже не обессудьте, майор. — Хорошо, — согласился Нокс и стал спрашивать о положении фланговых корпусов, о которых он уже знал от кого-то из штабных чинов.
Самсонов не хотел говорить дурное об Артамонове, ведь это все равно, что себя мазать грязью. Он припомнил давний случай из русской истории, как в осажденном поляками Смоленске долго и доблестно выдерживал осаду небольшой гарнизон под началом воеводы Шеина и как поляки, утомленные безрезультатным сидением, предложили пропустить изнуренных голодом защитников вместе со всем оружием и как защитники ушли, сохранив жизнь и оружие, но за допущенное бесчестие воеводе Шеину затем в Москве отрубили возле Кремля голову — не за военные ошибки, их-то не было, а за своеволие; воевода Шеин должен был лечь костьми в Смоленске, а рядиться с врагами и ронять честь русского царя ему не было дозволено.
— Поляки поступили по-рыцарски, — ответил Нокс. — Мне кажется, вы не знали рыцарства, его условностей. Еще Наполеон жаловался на вас за отсутствие рыцарства. А вот Лев Толстой в «Войне и мире», этом учебнике для нас, иностранцев по предмету русское офицерство, говорил примерно те же вещи.
— Может, и говорил, — сказал Самсонов. — Но со времен Наполеона много воды утекло. — Не сомневайтесь, мы не намерены останавливать наступление. Вы в этом убедитесь сами.
Нокс спросил о подкреплениях и помощи со стороны первой армии Ренненкампфа. Наверное, ему хотелось, чтобы командующий убеждал его более весомыми доводами, но Самсонов не мог ничего сказать ни о подкреплениях, ни об ускорении первой армии, потому что ничего этого не было. А было только то, что Александр Васильевич уже сказал — завтра наступление продолжится.
— Скажите, господин генерал, в Елисаветградском училище были строгие порядки? — спросил британец, видно, решив подъехать с другой стороны. — В прошлый раз вы показали телеграмму из Маньчжурии…
— Порядки были строгие. Каким им еще быть в военном училище?
— Но вы обрадовались телеграмме. Вы любили своих юнкеров?
— Я старался, чтобы они стали хорошими офицерами.
— Я знаю, что такое военное училище, — сказал Нокс чуть насмешливо, словно предлагал не удаляться в сентиментальные дали.
— В любом закрытом заведении заводится бессмысленная жестокость, старшие издеваются над младшими, а как только становятся старшими, отыгрываются на новичках. Это происходит везде. Я не спрашиваю, господин генерал, было ли это в Елисаветградском училище, когда вы им командовали. Мне надо узнать, почему они не забыли вас?
— А вы своего начальника училища не помните? — усмехнулся Самсонов.
— Это ужасные воспоминания, — ответил Нокс.
— У меня — тоже ужасные, — вздохнул командующий. — Ничего мне не удалось. Вы думаете, я был хороший начальник? Черта с два! Знаете, что такое цуканье?
— Что?
— Это юнкерское самоуправление, майор. В моем училище было четыре роты. Первую называли жеребцами, вторую — стервами, третью — шлюхами, четвертую гнидами. Всеми заправляли жеребцы. Они брали дань с младших деньгами, котлетами, работой. Сопротивляться жеребцам было бесполезно. Подробности расправ мне не известны, но одними избиениями не кончалось. — Самсонов замолчал, посмотрел на большую картину, изображавшую охоту на кабанов, и с горечью признался.
— Толстой сюда не заглядывал! А это — тоже наше российское явление. Храбро умирать и изводить ближнего.
— Ближнего всюду изводят, — заметил Нокс.
— У нас — по-особенному. Ночью в спальне тесно сдвигали кровати, оставляли один проход. В конце прохода — трон. Вокруг трона музыканты с трубами, барабанами, свистками. Бунтовщика вели к трону, заставляли кланяться и били ремнем… Это будущие офицеры! Дошли до того, что заставляли глотать живых лягушек. И думаете, я смог пресечь это глумление над идеей трона, эти издевательства? Нет. Кое-кого убрали, но цуканье осталось. Вот вам, майор, ответ, почему меня не забыли. Я пытался что-то изменить. Всего-навсего пытался.
Увлеченный расспросами британца Александр Васильевич отдалился от тревожной действительности и очутился в подполье русской души, о чем выпытывал Нокс, не ведая, что в жизни не только величие толстовских героев, но и елисаветградское цуканье составляет это явление. Да, в подполье, где рычат шутовские трубы, трещат барабаны и скачут лягушки. А там, над подпольем, возвышается вера, самопожертвование, любовь к отечеству. Господи, неужели это все неразрывно связано?
— Вы откровенный человек, господин генерал, — сказал Нокс. — Я ценю вашу откровенность. Вы объясняете мне то, что никакие книги не восполнят для меня в образе русской армии.
— Нет, майор! — возразил командующий. — Толстой в тысячу раз глубже. Если бы вы смогли перейти на русскую службу, вы увидели бы много грубого и безнравственного, но понадобится — она умрет за отечество.
И Александр Васильевич тоже привел этот довод — умение умирать, который терпеть не мог в других, в том же Артамонове, будь он неладен!
* * *
Во втором часу ночи от командира первого корпуса поступила новая телеграмма: «Прошу как милости о предании меня военно-полевому суду за мои действия. Корпус получил задачу, честно исполнил ее до конца, полег костьми, а потому если достигнутые результаты при создавшейся для меня обстановке неудовлетворительны для общего дела, виноват только я. Генерал от инфантерии Артамонов.»
Эту телеграмму, полную отчаяния, доложили Самсонову только утром перед отъездом, однако она не тронула его. Военно-полевой суд или суд Божий, сегодня это было все едино перед лицом решающих событий. Он увидел горе старого генерала, но разве с ним могло сравниться горе тех, кто должен был нынче погибнуть? Донесение Мартоса заставило командующего забыть об Артамонове. «15 августа. 4 ч. 30 м. Неверно было донесено, что деревня Мюлен очищена. Сегодня, 14-го, 6-я дивизия поведет снова на нее наступление… Потери, бои с непрерывными маршами до крайности истомили войска, а потери лучших доблестных офицеров и начальников и нескольких тысяч лучших бойцов значительно ослабили боевые способности корпуса…»
Самсонов перечитал текст, заметил, что Мартос ошибся, ведь сегодня уже не четырнадцатое число, а пятнадцатое, и понял, что время для Мартоса слилось в неразличимый поток. Неужели Мартос дрогнул?
Но Александр Васильевич не мог верить в неудачу пятнадцатого корпуса, наоборот, сейчас он выезжает туда, чтобы склонить удачу на свою сторону, и знает, что еще ничего не потеряно.
Еще Мартос доносил: «Положение на левом фланге корпуса, где находится совершенно расстроенная 2-я дивизия, лишает корпус правильных сообщений, установившихся через г. Нейденбург, а отсутствие надежной кавалерии заставляет действовать вслепую!» И Николай Николаевич просил дать передышку. Не будет передышки, генерал Мартос!
В семь часов пятнадцать минут из штаба армии была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта: «1-й корпус, сильно расстроенный, вчера вечером, по приказанию ген. Артамонова, отступил к Иллово, оставив рарьергард впереди Сольдау. Сейчас переезжаю в штаб 15-го корпуса в Надрау для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю. Временно буду без связи с вами. 6376. Самсонов».
Все. Теперь он сам увидит и решит.
В штабе царила суматоха переселения. Перед домом на площади уже стояли моторы, и чубатые конвойцы с пиками о чем-то гутарили с шоферами, будто сошлись два столетия — девятнадцатый век с двадцатым. В темно-синих полированных боках автомобилей отражались лошадиные хвосты и ноги.
Самсонов задержался у окна, глядя как вестовой Купчик укладывает вещи и за его спиной блестит сигнальная труба. Потом один конвоец протянул руку, а Купчик повернулся, снял через голову трубу и резко сыграл повестку к заре.
Что-то сдвинулось в душе Александра Васильевича от звуков привычной военной музыки, сопровождавшей его всю жизнь. Откуда-то из темных углов стали выходить гусары в синих доломанах, блестели серебряные шнуры офицеров, вахмистр читал приказ по полку, и потом над целым миром вслед за певучей кавалерийской зарей в наступившей тишине запели «Отче наш» и «Спаси, Господи».
Самсонов улыбнулся воспоминанию. «Что ж нам хитрить? Пожалуй, к бою…» Слова поручика Лермонтова отдались в его сердце горячей волной.
Выехали из Нейденберга по шоссе на запад, и меньше чем через час были возле Орлау, которую недавно взял корпус Мартоса. Солнце светило в затылок, золотились медные стволы сосен, впереди краснели сквозь зелень черепичные крыши. В поле еще плавали белесые клочья тумана.
Самсонов ехал вместе с Ноксом и рассказывал о туркестанских делах, о том, как незадолго до войны задержали английского резидента, а майор в ответ на это припомнил известную записку Скобелева о походе в Индию, и оба засмеялись, как будто признали, что туркестанские и индийские дела нынче отошли на задний план.
— По-моему, Скобелев ссылается на вашего полковника Кери, начальника штаба Мадрасской армии, — сказал Самсонов. — Это примечательное умозаключение. Если не ошибаюсь, оно звучит так: «Нет благоразумного человека, который бы сомневался, что русские дойдут до Индукуша. Неужели непонятно, что в Азии все держится скорее обаянием, чем силою, и что прикосновение к Индии будет равносильно гибели Англии».
— Это мы сами себя пугали, — отозвался Нокс. — Ведь ваш «белый генерал» потом сам заявил, что не верит в индийский поход в ближайшем будущем.
Самсонов знал, что высказывание Скобелева, сделанное им после штурма Геок-Тепе, как раз тогда, когда Александр Васильевич готовился поступать в Николаевскую академию Генерального штаба. Скобелев ссылался на трудности перевозок, но добавлял, что русские могут ударить «шаром в шар» и так, что англичане не устоят. Наверное, и Ноксу это было ведомо, ибо записка обнародована. Проехали Орлау. Вблизи были видны воронки, сломанные деревья, снесенные заборы, свежий холм братской могилы.
— Русские уже не впервые здесь? — сказал Нокс. — Это ваш регион. Мы вам всегда поможем…
— А мы вам поможем в Персии и Афганистане, — усмехнулся командующий. Согласны?
— Разве вам мало, что мы разделили с вами зоны влияния? — примирительно произнес Нокс. — Честно говоря, мне бы не хотелось после войны снова начинать с того места, где мы остановились.
— Мне тоже, — ответил Самсонов.
В эту минуту автомобиль затормозил, и вперед вырвался конвой, живо нахлестывавший лошадей.
Навстречу штабной колонне шла на рысях большая группа всадников.
— Что это? — хладнокровно спросил британец. — Новое донесение?
— Надеюсь, что не немцы, — сказал Александр Васильевич. Дурное предзнаменование почудилось в этой группе. Что-то случилось у Мартоса? Нет, не должно, ведь от него уже поступило донесение. Значит, от Благовещенского? Но вчера у шестого корпуса уже был тяжелый бой…
Это был взвод драгун Новотроицкого-Екатеринославского полка, из шестого корпуса. Коренастый смуглый штаб-ротмистр вперевалку подошел к автомобилю командующего и вручил пакет.
Александр Васильевич пробежал донесение и опросил штаб-ротмистра:
— Вы были очевидцем?
— Так точно, ваше высокопревосходительство.
— И что, сильно пострадала четвертая дивизия?
— Сильно пострадала, ваше высокопревосходительство. И физически, и морально. Корпус отступил в беспорядке за Ортельсбург.
— За Ортельсбург, — повторил Самсонов, вспоминая, что вчера распорядился занять корпусу озерное дефиле у Пассенгейма. Значит, не успели занять.
Штаб-ротмистр Дейнека, выехавший в два часа ночи из Фольварка Грамен, проделал шестьдесят верст в седле, был от усталости бледен, но глядел твердо. Есаул Бабков разворачивал на горячем капоте автомобиля карту. Все штабные чины потянулись туда, как будто забыли, где Пассентейм и Ортельсбург.
Самсонов тоже подошел к карте, ничего не сказал. Пахло машинным маслом.
Постовский переговаривался с Филимоновым и Вяловым о том, можно ли еще удерживать район Ортельсбурга.
Самсонов промолчал и продиктовал Бабкову приказание генералу Благовещенскому:
— Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов…
Он еще верил в наступление, хотя здравый смысл подсказывал ему, что при обоих сбитых флангах и неустойчивости в центре лучше не искушать судьбу. Но ничего, скоро он будет у Мартоса. Не надо спешить. Не было ль примеров, когда через терпение и жертву достигали победы?
Бабков подозвал усталого штаб-ротмистра и вручил ему пакет.
— Как можно быстрее! — сказал есаул. — Постарайтесь, ротмистр. Я вижу у вас значок Елисаветградского училища, так вы уж не подведите.
— Не подведем, — ответил штаб-ротмистр Дейнека. Самсонов повернулся к елисаветградцу, всмотрелся в серые смелые глаза и спросил:
— Какой выпуск?
— Девятьсот восьмого года, ваше высокопревосходительство.
— Ну с Богом, братец. Верю — не подведешь.
И драгуны ускакали. Самсонов отвел Нокса в сторону и сказал:
— Майор, считаю своим долгом осведомить вас, что положение моей армии стало критическое. Мое место — при войсках, но вам советую вернуться, пока это возможно. Сейчас все моторы вернутся назад. Вы — с ними. Мы поедем верхом.
Нокс возразил, что его долг быть с армией, но Самсонов не дослушал, перебил:
— Я не знаю, что принесут ближайшие часы. Нейденбург уже под угрозой. Жаль расставаться. Надеюсь, еще увидимся. — Он протянул Ноксу руку.
— Почему вы сами не возвращаетесь? — спросил британец. — Зачем вам так рисковать?
— Ничего, майор… Прощаете.
Александр Васильевич снова подал ему руку и пошел обратно к автомобилям, на ходу жестом подзывая Бабкова и Купчика.
— Эй, всадники-други, — услышал Нокс зычный командирский голос генерала, — в поход собирайтесь!
Нокс медленно пошел за Самсоновым, с грустью глядя на его могучую фигуру, прощаясь, может быть, навеки.
Глава седьмая
Ночью с четырнадцатого на пятнадцатое августа генерал Мартос не спал. Поступивший вечером приказ по армии заключал в себе явное недоразумение, ибо тринадцатый корпус никак не мог к утру подойти из Алленштейна, осилив тридцативерстный переход. В распоряжении Николая Николаевича была только бригада клюевского корпуса, подошедшая раньше. Но одной бригады для прорыва было мало. К тому же Мартоса беспокоили разъезды немецких драгун, появившихся в тылу, на дороге к Янову, там они перерубили телефонный кабель.
Ночь была холодная, в лощинах и над озером тянулся туман. Громко разносилось треск одиночных выстрелов. А над туманом, высоко в небе сияла луна и светили щедрые августовские звезды, напоминая Николаю Николаевичу летнюю роскошь полтавского лета и гоголевских русалок в пруду.
Мартос возвращался из расположения бригады тринадцатого корпуса, двух старославных полков, Нарвского и Копорского, и мысли его то взлетали в поисках опоры к воспоминаниям детских лет, то опускались к грозным приметам сегодня, и он начинал думать об отступлении.
То, что весь день штурмовали Мюлен, дошли до окраины, потеряли тысячи людей, а все-таки деревни не взяли, говорило Мартосу, что ударная сила корпуса иссякает.
Взлетела над озером белая светящаяся ракета и, вытягивая за собой яркую полосу, вспыхнула голубоватым огнем. Мартос посмотрел на нее, приостановил лошадь, и его спутники тоже посмотрели. Что-то печальное было в этом одиноком огне, плавно спускающемся на затянутое белесой полосой озеро.
С нашей стороны донеслось тарахтенье полевой кухни, напомнило о хлебе насущном.
Эта бессонная ночь тянулась долго. К полуночи всякая стрельба стихала, воцарялась глухая тишина, и каждый звук, звяканье уздечки или фырканье лошади, казался громким. Мартос проехал на правый фланг в Вальсдорфский лес, откуда вечером Алеексеевский и Кременчугский полки выбили немцев, пробыв там около часа, выпил чаю, покурил и вернулся обратно к лощине у Ваплица.
Туман совсем сгустился, и снова из глубины начался треск выстрелов, отдававшийся эхом в лесу. Стрельба усиливалась. Почему? Что за ней должно было последовать? Прорыв по лощине?
Мартос распорядился перетянуть к лощине бригаду полковника Новицкого и приказал инспектору артиллерии поставить здесь мортирный дивизион и ближайшие батареи. После этого Николай Николаевич уже никуда не отлучался, стал на холме вместе со штабом, ждал рассвета, нахохлившись, в накинутой шинели. Адъютант время от времени доставал из своей сумки коробку с папиросами «Пушка» и подавал ему. Неподалеку сидел начальник штаба Мачуговский. Дальше — офицеры, казаки, вестовые.
Мартос спрашивал мнение Мачуговского, чем усиливать оборону, если Новицкий не справится, а Мачуговский сонным хриплым голосом отвечал, что тогда надо снять справа, из Вальсдорфского леса вторую бригаду: конечно, это риск, но другого не видно. Вот если бы раньше повернули фронт наступления!
Вчера Мартос так разругался по телефону с Постовским, что в сердцах отказался от командования.
Да прошлого теперь не вернешь.
И Мачуговский задремал.
Вспыхивали голубоватыми светом ракеты, отбегали длинные тени, медленно приближалось утро.
На рассвете немцы все-таки прорвались в лощину и густыми цепями вышли из леса прямо перед холмом, где стоял Мартос.
Батареи открыли огонь, выпустив первые шрапнели. Германцы не останавливались. Между вспышками белорозовых разрывов было видно бегущую пехоту. За ней — несколько всадников с обнаженными шашками. Ползли, извиваясь, раненые, то выныривая из тумана, то погружаясь в него с головой. Огонь стал беглым, прешел в ураганный. По воздуху пролетела задняя часть лошади.
Мартос повернул бинокль — еще и с северной стороны шли стройные колонны. Сколь их? Сейчас прицелы на батареях уменьшаются, скоро перейдут на картечь, а там и вовсе прекратится огонь, чтобы не побить своих.
Но пока мясорубка мелет безостановочно.
Угадал Николай Николаевич, они здесь не пройдут!
Подскакал артиллерийский горнист с маленькой медной трубой за плечом, передал донесения полковника мортирного дивизиона — атака отбита!
Канонада стихает, два-три отдельных выстрела еще бухают порознь.
В бинокль было видно, как бегут навстречу друг другу немцы и русские. В штыки! Люди теснили друг друга. Стлался туман и желтый дым.
Мартос торжествовал, курил папиросу за папиросой, требовал от Мачуговского сведений с других участков. А здесь он разбил германцев.
К десяти часам вдоль холма стройной колонной в сопровождении казаков шли пленные, и Мартос смотрел на них, любуясь и считая идущих впереди офицеров. Восемнадцать офицеров! И тысяча солдат.
Они двигались маршем по шоссе на Нейденбург, заканчивать свою войну в лагерях военнопленных, неся в Россию весть о славном пятнадцатом корпусе.
Мгновения торжества окрасились для Мартоса еще и удовольствием от того, что к нему на командный пункт прибывал Самсонов.
Николай Николаевич потребовал лошадь и быстро спустился вниз, на восточную сторону. И действительно, мимо германцев, теснимых казаками к обочине, в сопровождении конвоя ехал могучий широкоплечий генерал с белыми георгиевским крестиком на груди.
Мартос сдавил бока лошади, послав ее рысью.
Их бородатого, немало поседевшего, тяжеловесного человека на Мартоса будто выглянул мальчик Саша Самсонов из киевской военной гимназии, добродушный силач.
Николай Николаевич, волнуясь, стал докладывать боевую обстановку, и радующую, и тревожащую, но Самсонов остановил его.
— Это что? — спросил он, показывая на пленных.
— Это ихняя атака, — ответил Мартос.
Самсонов качнулся в седле, подъехал вплотную к Николаю Николаевичу и обнял его.
— Только вы один нас спасаете, — вымолвил он, поразив Николая Николаевича возлагаемой на него надеждой.
— А новые резервы? — спросил Мартос, — неужели их нет?
— Резервов нет, — сказал Самсонов. — Только что я получил известие от Благовещенского. Он в беспорядке отступил за Ортельсбург. Я приказал ему удерживать район Ортельсбурга, но надежда маленькая. Про Артамонов нечего повторять. Я его отрешил. Судьба армии решится здесь, у тебя, Николай Николаевич.
— Эх, Александр Васильевич! — воскликнул Мартос. — Да что же вы мне говорите такое? У меня сердце кровью обливается от горя! Вам бы раньше повернуть меня и Клюева, мы бы не допустили беды у Леонида Константиновича.
Он назвал Артамонова по имени-отчеству, будто не захотел осуждать его, не захотел сводить лишь к одному виновнику, зная, что на деле так никогда не бывает, а только потом находятся сочинители истории и врут как удобно вышестоящему начальству.
— Да, — согласился командующий. — Рооп и Любомиров извещали нас о скоплении немцев против Артамонова, я докладывал Жилинскому. Мне платить за разбитые горшки!
Он опустил голову и отъехал от Николая Николаевича очень опечаленный.
Мартос сильно потянул повод, резко повернул лошадь и, обгоняя Самсонова, взъехал на вершину. Теперь ему было ясно: надо немедленно отходить. Он бил германцев у Орлау, Гогенштейна, Ваплица, не отдал одного боя — и должен отступить?
Да, надо было сохранить корпус, а потом, Бог даст, еще не один бой возьмет со своим славным пятнадцатым.
Когда поднялся командующий, Николай Николаевич без околичностей потребовал приказа на отступление.
Самсонов не ответил. Постовский стал горячиться, говорить о победе, которая еще может быть достигнута с походом тринадцатого корпуса.
— Отступать будет трудно, — вымолвил наконец Самсонов и в памяти всплыло узкое дефиле у Шведриха и проход не шире двух саженей по плотине на перешейке между озерами.
Мы израсходовали все резервы, — сказал Мартос. — Корпус ведет бои уже третий день. Не сомневаюсь, тринадцатый корпус после шестидесятиверстного перехода из Алленштейна будет крайне утомлен.
— Вы пессимистично настроены, — заметил Постовский.
— Я?! — воскликнул Мартос. — Вы упрекаете меня? Вы что, забыли, как вчера утром с вами разговаривал полковник Панаш и просил от моего имени ради успеха всего срочно повернуть Клюева вместо движения на Алленштейн на присоединение к моему корпусу? Вы забыли свой ответ? А сейчас пеняете мне? Не могу принять ваш упрек, Петр Иванович! Не могу! Как ни горько, а надо отступать. Иначе — катастрофа.
— А тринадцатый бросить на произвол судьбы, так по-вашему, Николай Николаевич? — язвительно спросил Постовский.
Самсонов молчал. Ему нечего было сказать, ибо он тоже вчера правда, еще не зная об отступлении Артамонова, приказывал Мартосу на сегодня двинуться к Алленштейну на соединение с тринадцатым корпусом, но Мартос уперся и, мотивируя, что неприятель непрерывно усиливается и что части корпуса ведут жаркий бой, отказался выполнять приказание, даже предложил сдать командование корпусом.
Но вчера — это вчера; вчера Александр Васильевич еще был во главе победоносной армии, а нынче она накануне краха.
— Вышлите навстречу Клюеву офицера связи, — произнес за спиной Самсонова сердитый голос Филимонова.
Услышав его, командующий вспомнил, как посылал Филимонова в Белосток и как тот привез обратно слова Жилинского, что никому не позволит трусить.
Несколько часов оба штаба, армейский и корпусной, бездействовали, и в это время качались незримые весы, решалась судьба всех этих людей, собравшихся на холме перед озерной лощиной, где вдали синел угол озера и чернел лес. Доносился треск ружейных выстрелов, стрекот пулеметов, молотьба пушек, сражение еще продолжалось; но здесь уже не царила жажда победы. Ждали и глядели на север и прислушивались, не идет ли тринадцатый корпус?
И тринадцатый корпус пошел, только это была насмешка судьбы, потому что это были те два полка, Нарвский и Копорский, приданные войскам Мартоса еще раньше, а не основные части. Эти два полка, начав наступать, были потрясены сильными артиллерийским огнем и побежали.
— Вот и Клюев! — решил Постовский, глядя на беспорядочное отступление пехоты.
Его самообман был очевиден. Все молчали, глядя в бинокли.
Какой-то всадник шел к холму размашистой рысью.
— Они драпают! — зло вымолвил Постовский и опустил «цейс».
Всадник был офицером корпусного штаба, капитаном Федорчуковым. Он ловко спрыгнул с лошади, блестевшей влажным боком, и вперевалку подбежал к Самсонову с рапортом.
— Остановить! — приказал командующий.
Ему надо было что-то предпринимать и как раз подвернулись эти два полка, заняв все его внимание простой задачей. Остановить, послать офицеров, водворить порядок.
И офицеры были посланы — полковник Вялов, полковник Лебедев, подполковник Андогский, есаул Бабков, штабс-капитан Дюсиметьер, поручик Кавернинский — все, кто был при нем, кроме двух генералов.
Гляда на грузного Андогского, Самсонов подумал, что подполковник автор многих статей в «Военной энциклопедии», а он его посылает как простого корнета.
Что-то не то делал Александр Васильевич!
Он по всем законам должен был оставить Мартоса и немедленно возвращаться к руководству армией. Только бросить Мартоса он уже не мог. Дойдя до переднего края, Александр Васильевич довел армию до предела и с ней должен был оставаться. Уже не военные соображения двигали им, а предчувствия и старые традиции — Цорндорф, Смоленск, необходимость лечь костьми.
Самсонов отошел с Мартосом в сторону, в мелкий березняк, откуда выскочил, застегивая штаны, чубатый конвойный.
— У, засранцы! — выругался Мартос. — Печенеги!
— Ты хорошо дрался, Николай Николаевич, — сказал Самсонов. — Почему я упорствовал, гнал тебя без тылов, без хлеба? Немцы возле Парижа. Мы должны отвлечь их. Все меня подталкивают. Яков Григорьевич подталкивает, Ставка подталкивает. Я доказываю, что нельзя так гнать войска, а меня слушать не хотят.
— Люди выдыхаются! — вымолвил Мартос. — А они думают, что все солдаты толстовские Платоны Каратаевы?.. Спасать Францию! — воскликнул он и, ударив рукой по ветке, сделал несколько быстрых шагов вперед и натолкнулся еще на одного нижнего чина, сидевшего за кустом в позе орла.
— Ой! — сказал нижний чин, выпучившись на генерала.
Мартос отвернулся, пошел обратно.
— Спасать Францию! — крикнул он Самсонову. — Надо было послать их к чертовой матери! А то ради нее Яков Григорьевич не жалеет тебя, ты — меня, и все мы — на убой! — Мартос снова ударил руками по воздуху. — На убой!
Командир корпуса выходил за рамки, и Александр Васильевич сказал:
— Мы выполняем долг.
— Пусть долг, — согласился Мартос. — Но почему еще вчера Постовский гнал меня на Алленштейн, хотя корпус уже повернул в противоположном направлении? Почему допустили сосредоточение германцев против Артамонова? Это ради Франции? Коль начал разговор, Александр Васильевич, то объясни!
— Хорошо, — ответил командующий.
Но что мог объяснить? То, что ему не хватило воли направить наступление в ином направлении? Что ему не дали повернуть фронт на Остероде Дейч-Эйлау?
Самсонов подумал, потом сказал:
— Ты прав, Николай Николаевич. Моя вина.
— Кто Богу не грешен, царю не винен? — смягчаясь, произнес Мартос. Только не верю я в твою вину, Александр Васильевич.
— За разбитые горшки платить мне! — возразил Самсонов.
— Не верю, — повторил Мартос.
— Другого ответа у меня не имеется, — поставил точку командующий.
Они вернулись к своим штабам, уже чем-то разделенные.
Вскоре прибыл артиллерийский полковник, командир дивизиона, приданного бригаде тринадцатого корпуса. Он потерял все орудия, ибо пехота бросила батареи. Его курносое загорелое лицо рассекал свежий, сочившийся шрам, то ли на сук напоролся, то ли достали в рукопашной. Вряд ли он был в чем-то виноват, но в его глазах, еще не остывших от смертельного боя, уже проступило цепенящее чувство вины. Он не должен был возвращаться без орудий, как некогда не вернулся корнет Велинский, зарубленный в ущелье между Новачином и караулкою Дербент. И полковник это знал, и все знали.
— Придите в себя, полковник, — сказал Самсонов. — Не сомневаюсь, вы еще послужите отечеству.
Полковник нужен был живым. Не хватало, чтобы он сейчас застрелился в кустах. И много ли у отечества образованных офицеров с серебряными значками Михайловской артиллерийской академии, как у этого полковника? Почему же мы так жестоки к ним?
Артиллерист горько усмехнулся.
— Вы были в рукопашной? — спросил Самсонов.
— Так точно, ваше превосходительство. Отбивались от ихней кавалерии, просто сказал полковник. — Нас осталось мало.
Александр Василевич ощутил, как надвигается страшная беда. Кто будет спасать? Не Францию, а вот этих людей?
Вопрос о спасении мучил его, пока не появились колонны Нарвского и Копорского полков вместе с армейскими штабными офицерами.
Он верхом спустился к построенным частям, объехал, замечая, что у некоторых солдат нет винтовок, а у других — фуражек, что от полков остались в лучшем случае батальоны.
Сразу после артиллериста — эти бежавшие с позиции люди. И главное, впервые Самсонову пришлось столкнуться с собственными разгромленными частями, до сих пор Бог миловал его части.
— Братцы, что же это?! — полным голосом спросил командующий. — Нарвский полк никогда еще не бегал! Вспомните, Нарвцы, какие сражения вы одолели! Вы вместе с Петром Великим одолели Нарву, сражались при Полтаве со шведами, сражались с немцами при Штеттине, Мекленбурне, Гросс-Егерсдорфе. Ваш полк уже брал Пруссию, бил турок у Очакова, бил Наполеона под Смоленском и на Бородинском поле. Вы входили в Париж, вы уже знаете дорогу на Царьград. Это все ваш Нарвский третий пехотный полк, это ваши знамена, ваши отцы и деды!
Остатки Нарвского полка молча, с загадочным солдатским терпением слушали командующего, который сердился на них. Нарвцы понимали, что совершили тяжкий грех, спасаясь от смерти, и что сейчас их снова отправят в бой, откуда им уже не вернуться. До них с трудом доходили слова генерала о славе предков. У них перед глазами еще вздымались черные взрывы и извивались разорванные тела.
Самсонов замолчал, глядя на изнуренное лицо командира полка.
— Знамена вперед! — скомандовал Александр Васильевич и отъехал от нарвцев к Копорскому полку.
Здесь повторилось: он вспомнил предания, Петра, Кутузова, Бородино, Дрезден и освобождение Болгарии, а они остались глухи. Тогда он сменил командира полка подполковником Жгиньцовым и тоже велел вынести знамена.
Знамена вынесли. Со стороны Гогенштейна доносились выстрелы.
— Клянитесь, что смоете темное пятно! — скомандовал Самсонов. — На колени!
Они повиновались и, очищаясь от страха, пали на колени перед шитым золотом полотнищами, увитыми георгиевской и александровской лентами. Они покорились долгу и снова приуготовились умирать.
Самсонов снял фуражку и перекрестился. Символы прежней жизни вызвали в нем горячее чувство утраты. Он распорядился поставить Нарвский и Копорский в резерв внизу у подножья холма, тронул повод и, опустив плечи, повернул лошадь.
Поднявшись на вершину, он грузно слез и, оглядевшись, заметил серую рясу военного священника и подозвал батюшку к себе.
— Здравствуй, святой отец, — сказал Александр Васильевич, — Я хочу спросить вас, почему русский человек чаще всего говорит Богу «Я есьмь» только в минуту смерти?
Священник задумался, несколько мгновений смотрел на него острым взглядом, нисколько не смущаясь, что перед ним командующий, потом сказал:
— Не всегда, ваше превосходительство. Я заметил, что во время богослужения в боевой обстановке людьми овладевает особое настроение. Истинно верующих молитва укрепляет, у них глаза светятся торжеством и радостью. Другие молятся, но, увы, не могут достичь успокоения, ибо боятся смерти и молятся лишь о сохранении жизни. Они забыли слова молитвы Господней: «Да будет воля твоя!» А большинство безучастно. Они верят в предопределение и переносят безропотно самые тяжелые испытания. Для них сложена поговорка: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Вы кого имеете в виду — первых, вторых или третьих? Должно быть, первых?
— Нет, святой отец, — возразил Самсонов. — Я имею в виду безропотных. Это они прозревают только в час смерти.
— Они найдут утешение в своей жертве, — ответил священник. — Вы правы. Но кроме этого, есть еще одно утешение всем воинам. Вы не бывали на Бородинском поле?
— Как не бывал! — ответил Самсонов. — все там бывали.
— Помните, кто основал Спасо-Бородинский монастырь? Вдова генерала Александра Алексеевича Тучкова. Он как раз командовал бригадой, сейчас это ваши полки — Ревельский и Муромский. Погиб, когда поднимал дрогнувший Ревельский полк. Взял знамя и пошел, а французы обрушили на него всю артиллерию. И тела его не могли найти. Вдова его, Маргарита Михайловна, вместе со стариком-монахом бродили среди тысяч трупов — искали и не нашли… Но она потом осталась навек на Бородинском поле, служить памяти павших воинов. Вот наше земное утешение.
— Вы были в Маньчжурии? — спросил Самсонов, кивнул на ордена Анны и Святого Станислава на груди батюшки.
— Довелось побывать, ваше превосходительство.
Священник отошел. Александр Васильевич снова вернулся к мысли о тринадцатом корпусе, стал спрашивать Мартоса, где же посланный офицер, не случилось ли с ним чего?
Мартос не мог ответить. После отхода нарвцев и копорцев немцы стали наступать и от Гогенштейна, окружая корпус справа, и Мартос направил туда свои последние резервы, батальон Алексеевского полка, Кременчугский полк с одной батареей и даже роту саперного батальона с казачьей полусотней, конвоем штаба шестой дивизии. Остался только конвой штаба корпуса.
— Александр Васильевич, надо немедленно отступать, — сказал Мартос. Еще немного — катастрофа.
— А как же тогда Клюев? — напомнил Самсонов.
Мартос не ответил.
— Как твоя семья, Николай Николаевич? — спросил командующий. — Я ничего о тебе не знаю. Последний раз мы виделись в Мукдене, а по-настоящему разговаривали в Елисаветграде, когда ты приезжал по мобилизационным делам. Тогда мы были холосты.
— Я женат. Три сына, — сказал Мартос. — Надо послать к Клюеву с указанием пути отступления.
— Я еще никогда не отступал. Теперь, видно, придется… Этот Нарвский полк! Тяжкий крест говорить речи перед бежавшими войсками. Только Скобелев мог воодушевить в таком положении. Под Плевной он заставил отступивший Эстляндский полк делать под турецкими пулями ружейные эволюции! Мы с тобой, Николай Николаевич, уже не пойдем с солдатами под пули. То время кончилось.
— Если надо — пойдем, — сказал Мартос. — Никто не запретит идти в передней цепи. Но это может помешать нижестоящему командиру.
Он, кажется, намекал Самсонову, что тот сковал его.
Александр Васильевич запомнил письмо Крымова о деспотизме командира пятнадцатого корпуса и подумал, что полковник прав. Николай Николаевич всегда был резок и не щадил никого. Может быть, поэтому, будучи помощником Приамурского генерал-губернатора, командующим войсками Приамурского военного округа и наказным атаманом Амурского и Уссурийского казачьего войска, он не усидел на этой должности?
— Все-таки надо дождаться Клюева, — повторил Самсонов.
Они дождались офицера связи, он прибыл один, без казаков, на немецкой рослой кавалерийской лошади, и сказал, что едва пробился сквозь неприятельские разъезды, рышущие между корпусами. Генерал Клюев доносил: корпус движется усиленным маршем на Гогенштейн, под Доротовом почти полностью погиб Дорогобужский полк, командир полка полковник Кабанов смертельно ранен.
Клюев подошел к Гогенштейну в ранних сумерках и открыл артиллерийский огонь. Город задымил, загорелся. Самсонов вглядывался в синеющую даль, смотрел на часы, шагал между деревьев, начиная задыхаться. Пожар разгорался. Артиллерийская канонада не стихала. Видно, корпус не смог с ходу занять Гогенштейна.
— Они не продвигаются, — заметил вполголоса генерал Филимонов, подрубая последнюю надежду.
— Ну теперь нужно ожидать беды! — громко произнес Мартос. — Александр Васильевич, надо решаться!
Напрасно командующий прождал целый день. Тринадцатый корпус не принес спасения армии.
— Петр Иванович, давайте приказ на отступление, — велел Самсонов.
— Надо отступать на Хоржеле, — предложил Мартос.
Хоржеле был городок восточнее Нейденбурга, через который начинал наступление Клюев.
Дали карту. Самсонов, Мартос, Постовский и другие чины обоих штабов изучали устаревшую на сейчас обстановку, гадая, взят ли немцами Нейденбург и свободен ли Хоржеле.
— Хоржеле занят немцами, — сказал Самсонов. — Должно быть, Преображенский отступил. Надо — на Нейденбург, там во всяком случае оборону держат бригада Штемпеля и Кексгольмский полк. Петр Иванович? — спросил он у Постовского.
Но начальник штаба не знал, что ответить. Видно, остановка Клюева и отверзшаяся вслед за этим пропасть потрясли Петра Ивановича.
— Значит, на Нейденбург? — снова спросил Самсонов.
Мартос чиркнул спичкой и закурил. Сквозь сизый табачный дым, царапающий горло, Александр Васильевич увидел мрачные глаза Николая Николаевича, как будто взывающие: «Решай!»
— На Нейденбург! — сказал Самсонов.
Стали писать приказ.
— Николай Николаевич, отойдемте-ка в сторонку, — предложил командующий и взял Мартоса под локоть.
Мартос отвел руку и затоптал папиросу. Они отошли на несколько шагов, и Самсонов сказал:
— Николай, на тебя последняя надежда. Прошу тебя поспешить в Нейденбург и принять все меры для обороны. Удержим Нейденбург — мы спасены.
— Ясно, Александр Васильевич, — ответил Мартос вполне официально. После отдачи необходимых распоряжений по корпусу я направляюсь в Нейденбург.
— Николай! — сказал Самсонов, волнуясь.
— Я сделаю все возможное, — пообещал Мартос.
Александр Васильевич хотел услышать от старого товарища слова сердечной поддержки, но не услышал. Мартос будто окаменел. Может быть, он не простил командующему задержки или же просто был озабочен предстоящим отступлением, это осталось неведомым.
Самсонов больше не пытался вызвать в нем сочувствия.
Приказ написали, отправили офицеров к Клюеву и Мингину. Сумерки сгущались, слышались крики самсоновского конвоя, готовившихся к отъезду. Мартос опять закурил. Александр Васильевич закашлял и кашлял, хватая воздух раскрытым ртом, несколько минут.
Над холмом, ввинчиваясь и скрежеща, пролетел тяжелый снаряд. Он разорвался в лесу за холмом, за ним зазвенел новый. Немцы били из Гогенштейна по тылу пятнадцатого корпуса и по холму.
Три или четыре шрапнели разорвались перед холмом. Шрапнельные пули, гудя, секли кусты. По шоссе кинулись толпой Нарвский и Копорский. Их никто не останавливал.
— Вам пора, Александр Васильевич, — поторопил Мартос командующего.
И Самсонов со штабом уехал, оставив пятнадцатый корпус, который до сего дня разбил три германских дивизии.
Обстрел продолжался. Пронзительно завизжала лошадь. Рядом с Мартосом упал толстый сук. Мачуговский нервно охнул, но не сдвинулся с места, подписывая распоряжения начальникам дивизий.
— Готовьтесь к отходу, — сказал Мартос. — Как получим подтверждения из дивизий — выступаем.
Он мог и сейчас покинуть холм, связные догнали бы штаб и на походе, но Николай-Николаевич точно так же, как и Самсонов, дожидавший Клюева, руководствовался своим пониманием. Он не замечал ни пуль, ни раненых. Когда-то по заледенелым скалам в декабре семьдесят седьмого года он прошел с Волынским полком в составе отряда старого Гурко через Балканы, замерзал, срывался и боялся, что кто-нибудь заметит, что ему страшно. В том переходе ему исполнилось девятнадцать лет. Теперь многое остыло и перестало обжигать. Тогда он с сочувствием воспринимал новость, что один юный подпоручик накануне штурма Плевны застрелился только из-за того, что товарищи могли заметить его волнение. А нынче все изменилось.
Даже то, что он почти дошел до Царьграда, стоял биваком на высотах у Константинополя, давно не волновало Николая Николаевича. Ему казалось, что сентиментальное время, когда Россия позволила себе роскошь воевать ради чувства сострадания, миновало.
Спустился Мартос с холма уже ночью. Было темно и душно. Обстрел утихал. Командир корпуса ехал спокойным шагом, опустив голову, и слегка подремывал. Судя по всему, ему предстояла еще одна бессонная ночь…
К Мартосу как будто подходил подполковник-артиллерист, говорил, что надо повернуть обратно и выручать орудия, потом башибузук в алой феске выглядывал из-за дерева, показывая на небо.
Николай Николаевич поднял голову, оглядел спутников. Штаб и конвой мерно двигались по шоссе.
Перед рассветом Мартос пересел в автомобиль и уснул. Спал он недолго, сперва до него донеслись голоса, о чем-то спорившие, затем фраза, что Нейденбург занят немцами. Он открыл глаза и увидел, что уже светло, а автомобиль стоит в какой-то большой деревне, возле дверей незнакомые люди в форме пограничной стражи.
Мартос надел фуражку и сердито крикнул:
— Кто такие?
Ему доложили, что еще вечером Нейденбург взят немцами, а бригада Штемпеля и Кексгольмский полк отошли.
— Вот как? — раздраженно произнес Николай Николаевич. — Что за глупость вы болтаете?
Он вылез из автомобиля, поправил шашку с позолоченным эфесом /«За храбрость»/ и стал выговаривать поручику пограничной стражи, что тот распускает панические слухи.
Мачуговский заметил, что это может быть и правдой, надо проверить.
— Вот поезжайте и проверьте? — обрезал его командир корпуса.
Мачуговский вздохнул, поджал губы.
— Немцы! — вдруг ахнул шофер, показывая на рысивших по улице всадников в серых зачехленных касках.
Мартос грозно-презрительным выражением посмотрел туда, готовый уничтожить шофера, но там действительно был германский разъезд. В трехстах саженях.
— Это немыслимо! — сказал он. — У меня световые галлюцинации.
— Это немцы, — вымолвил Мачуговский.
Адъютант Мартоса и десятка полтора казаков с лихостью, будто затевали игру, живо повернули лошадей и, нахлестывая, с гиканьем поднялись навстречу разъезду, на ходу вынимая пики.
Больше адъютанта никто не видел, и командир корпуса вспоминал его целый день, ибо тот увез с собой его сумку с папиросами и припасами.
Вот только что генерал от инфантерии Мартос командовал одним из лучших корпусов и готов был сражаться, а что-то вдруг повернулось, и он уже без войск, даже без конвоя, почти все казаки куда-то подевались, и кругом Николая Николаевича лес, и спереди, и сзади грохочут орудия.
Судьба Мартоса была горестная, хуже чем у Мачуговского. Мачуговский погиб от пулеметной очереди, выпущенной из засады, а Мартос, проблуждав целый день по лесу со своими немногочисленными спутниками, ночью попал в плен. Они вели обессиленных лошадей в поводу, держа направление по звездам на юг. Но звезды затянуло тучами. Одна лошадь пала. За деревьями послышался шум, словно шли войска. Лошади испугались, стали рваться в сторону, казаки их удерживали. Кто там шел? Наши, немцы? Послали казака на разведку, он не вернулся. И тут хлынул нестерпимый ослепляющий свет. Прямо на них был направлен полевой прожектор, и они остолбенели. Мартосу показалось, что он спит и все ему снится. Он еще успел залезть на лошадь и проскакать шагов сто. Почти в упор ударил залп, лошадь упала, и генерал очутился на земле, ударившись плечом. Грубые сильные руки придавили его.
* * *
Шестнадцатого августа вечером командующий со штабом и казаками под звуки недалеких шрапнельных и пулеметных очередей ехали по дороге на Мушакен, Янов, к русской границе. Все было кончено. Катастрофа, напророченная Мартосом, явилась как всадник на бледном коне, и Самсонов стал искать себе оправдание.
Сперва его мучило удивление. После Мартоса Александр Васильевич побывал во второй дивизии генерала Мингина, которая согласно приказу об отступлении должна была прикрывать пути отхода центральных корпусов. Он прибыл в деревню Волька в час ночи. Там стоял на отдыхе конный отряд Штемпеля вместе с одиннадцатой конной батареей. Сияла луна среди расползшихся облаков. Пахло свежим навозом, как всегда на постое большой кавалерийской части. Купчик радовался, встретив односумов-батарейцев. Что с него взять? Он не ведал, что Штемпель должен был защищать Нейденбург. В Вольке командующий узнал, что немцы уже продвинулись от Сольдау за Нейденбург. Оставаться в деревне не было смысла, надо было найти генерала Мингина.
Но и Мингин не помог. Он вчера удержал позицию к западу от Франкенау, даже контратаковал и захватил свыше тысячи пленных и несколько орудий, но самого главного — отстоять Нейденбург — он не выполнил.
Что теперь искать виноватых? Сонный Мингин доложил, что он действовал согласно приказа Постовского «во что бы то ли стало удерживать позицию к западу от Франкенау» и никак не мог действовать южнее. Постовский начал с ним спорить, выгораживать себя. Самсонов прервал Постовского. Мингин продолжил доклад, и командующий был поражен еще одной картиной краха.
Правда, от разговора с Мингиным доныне прошло больше полусуток, и он уже притерпелся к горю.
Еще утром Александр Васильевич распоряжался на позиции впереди Орлау и попал под обстрел тяжелых орудий. Тогда мерный звук гигантской пилы испугал его, но он подавил мимолетный страх, зная, что от судьбы не уйдешь. А сейчас Самсонов подумал, что лучше бы его убило утром, все равно отход Мингина для армии хуже смерти.
Он и захотел вернуться к пятнадцатому корпусу, перед которым был виноват за отход Мингина, чтобы лично вывести части или погибнуть с ними. Постовский, Вялов и Лебедев отговорили его. «Вы нужны армии!» — твердили они.
И вот Самсонов отступал. Вокруг был лес, трещали выстрелы, и чудом неведомым трещала сойка.
Мысли о спасении Франции, о давлении Жилинского и Ставки, о возражениях Мартоса и Клюева, — эти мысли не находили и не могли найти никакого решения, а только разжигали в душе Самсонова черный огонь.
— Эх! — сказал командующий с усмешкой, поворачиваясь к адъютанту. Знаете, как командир Лубенского полка Мельников отличился на Варшавском смотре в присутствии императора Николая Первого?
Бабков спросил:
— Что, Александр Васильевич?
Конечно, ничего такого он не знал.
— Ладно, — махнул рукой Самсонов.
Долго объяснять. А история была поучительная, неспроста вспомнилась: Мельникова задергал командир бригады Шильдер, мешал построить полк, и Мельников разъярился и прогнал бригадного, огрев его плашмя саблей по спине.
Что за время такое было? Ведь Самсонов тоже из той поры. Сейчас то время кончалось.
А если бы он… Впрочем, поздно, ничего не воротишь. Ему платить!
Совсем близко со стороны Мушакена тявкнуло два разрыва. Через несколько минут колонна остановилась, и командующему доложили, что на околице Мушакена казачий разъезд обстреляли немцы.
Полковник Вялов вытащил карту и быстро решил поворачивать на лесную дорогу на деревню Валлендорф, оттуда — на Ретковен и далее на Саддек, параллельно немецкому охвату, и по лесу вырваться к нашей границе.
— А как же выйдут они? — спросил Александр Васильевич.
Вялов отвел взгляд. Полковник Лебедев сузил узкие голубые глаза и сказал:
— Они прорвутся!
Свернули в лес, ехали часа два, никого не встречая, проезжая одну за другой освещенные вечерним солнцем просеки.
А все-таки в чем была его вина? Он следовал приказу, бросил армию в наступление, не дождавшись развертывания тыла. Он доносил Жилинскому об опасности на левом фланге… Но сейчас ему любой скажет: разве Жилинский вел армию?
Русская каша! То-то замечательный плакатик. Каша вылезла из горшка и назад не вернется.
Изредка к Самсонову обращался Постовский с поверхностными вопросами, на которые можно было не отвечать, и только один раз сказал, что еще в Варшаве они подавали Жилинскому записку о перемене фронта наступления западнее и что если бы Жилинский тогда с ними согласился… Вероятно, Постовский тоже искал виноватого.
— Мы с вами виноваты, Петр Иванович? — отвечал Самсонов. — И до конца дней своих нам теперь влачить «куропаткинское» существование. Алексей Николаевич Куропаткин вовсе не такой бездарный генерал, каким его выставили писаки из «Нового времени». И со Скобелевым был под Плевной, и погибал, и дельные работы написал. А вот поди — один виноват за японскую кампанию.
— Что же с нами будет, Александр Васильевич? — спросил Постовский.
— Где Филимонов? — осведомился командующий.
— С разъездом. Он и поручик Кавернинский… Вы думаете, все-таки отрешат?
Самсонов повернулся к Бабкову и спросил, что думает есаул о конвойцах, годятся ли они для прорыва.
В казачьей сотне были второочередные и третьеочередные казаки. Бабков не думал, что они сохранили лихость.
— Ну как Бог даст, — сказал Александр Васильевич. — Других все равно нет.
Впереди лес кончался. Там была деревня, и там дозор не обнаружил немцев. Колонна спешила. Что-то стародавнее, зовущее с открытого места спрятаться в лесу проснулось в людях. Казаки оглядывались на брошенные дома.
Уже показались верхушки сосен, когда Самсонов вдруг услышал пулемет. Засада! Прискакал урядник, доложил, что дальше хода нет. Полковник Вялов и штабс-капитан Дюсиметьер зарысили вперед, не дожидаясь указаний, своей волей решив, что им надлежит делать.
Самсонов дал лошади шенкеля и двинулся следом, словно отныне не он, а офицеры вели колонну. У него мелькнуло, что за несколько часов пути одни люди погасли, но другие, наоборот, воспряли духом, а Вялов — тот вообще становится атаманом.
На околице за кирпичным забором в кустах сгрудились казаки. Блестнул генеральский погон Филимонова. Вялов начал строить казаков для атаки, наклонился и ожег чью-то лошадь плеткой. Потом крутнулся на месте и выругался. Но казаки только переминались и старались в сторону полковника не глядеть.
— Казаки! — крикнул Самсонов. — Постыдитесь! Чем оправдаетесь на Тихом Дону? Какой позор ляжет на ваши станицы?
Дюсиметьер вынул шашку и на «ура» выскочил из-за стены вперед.
— Ура! — подхватил Вялов, бросившись за ним.
Поручик Кавернинский хлестнул лошадь и тоже кинулся на дорогу.
— А! Ар-ра! — закричали казаки и нестройной толпой, беспорядочно паля в воздух, понеслись на пулемет.
Известно, конная атака делает любого бойца бесстрашным, поэтому командующий не сомневался, что они собьют засаду.
Бил пулемет и, как всегда при кавалерийской атаке, — почему-то выше. Оставалось шагов сто.
Один казак упал. Потом еще двое. Казаки свернули влево и скрылись за подлеском.
— Орда! — сказал Самсонов.
— Бабы, а не казаки, — заметил вестовой Купчик. — Не постыдились. Сейчас их соберем, — твердо, с угрозой в голосе пообещал Филимонов. — Надо спешить цепь и атаковать с двух сторон?
Стали съезжаться казаки, появился Вялов и сразу принялся готовить вторую атаку, спешивая часть людей.
Но половина сотни не вернулась. Наверное, ушли.
Лошадь под полковником Лебедевым зашаталась, подогнула передние ноги и повалилась набок. Он едва успел высвободиться от стремян. Лошадь поднимала голову, тужилась встать. Грудь ее была залита кровью.
— Что ей мучиться, ваше благородие? — спросил бородатый казак, поднимая карабин. — Подыхаить!
Сухо стукнул выстрел. Лошадь дернулась, ткнулась головой в землю. Невидимая волна покачнула других лошадей.
Самсонов позвал Вялова и велел всем штабным офицерам оставаться при нем, пусть казаки готовят атаку сами.
Второй атаки все же не последовало. Самсонов скомандовал сворачивать на север, выходить на шоссе Канвизен — Вилленберг. И Вялов не смог убедить его атаковать.
Командующий надеялся найти в Вилленберге части шестого корпуса, а были ли они там — кто знает?
Канвизен была свободна, ее обошли с юга, и перед Вилленбергом остановились, выслав дозор. А в Вилленберге, выяснилось, — там уже немцы с артиллерией и пулеметами. Должно быть, теперь на всех дорогах стояли заслоны.
Александр Васильевич слез с лошади, стал ходить взад-вперед, разминаясь. Было уже близко к вечеру. Солнце скрылось за тучами. Туч было много, обещалась темная безлунная ночь.
— Ну что, идем в открытый прорыв? — спросил командующий у Вялова. — Все пути перекрыты. Либо пробиваемся, либо крадемся.
— Посмотрите на них, Александр Васильевич, — ответил Вялов. — Мы поляжем, а они нас бросят.
Командующий поглядел на оставшихся казаков. Как маньчжурский священник рассказывал, так и выглядело самсоновское воинство: они боялись смерти и молились о сохранении жизни, лишь один казак да еще один спокойно покуривали и видом своим выражали безропотное терпение.
— Орда, — горько вымолвил Александр Васильевич. — Вы правы. Они нас бросят.
Все сузилось до задачи спастись. Остального не существовало. Что делалось в мире в этот день? Отогнали немцев от Парижа или напрасно погублена вторая армия, — никто не мог сказать Самсонову. Оставалась непривычная малопочетная задача. Будто воевода Шеин под Смоленском? Да, она самая? Выйти и — на казнь к своим.
* * *
На лесной поляне сидели под старыми соснами десять человек. Конвоя с ними не было, казаки были отпущены и растворились в лесу.
Самсонов подремывал на попонке Купчика. Пробившийся сквозь сосны солнечный луч мелькнул на погонах командующего.
Постовский заметил сияющий золотым шитьем зигзаг и сказал, что ночью под луной будут отблескивать погоны, их лучше бы снять.
Ему никто не ответил. Купчик, сидевший за спиной Самсонова, словно почуяв опасность, взглянул на Постовского. Ждали темноты, надеялись, что в темноте проскользнут мимо всех заслонов по лесным просекам.
Хотя перед всеми стояла одна цель, но теперь даже для вестового было ясно, что по выходе из окружения горше других придется Александру Васильевичу и некому будет защитить его.
Молодые офицеры Дюсиметьер, Бабков и Кавернинский вовсе не унывали, они почистили револьверы и вполголоса разговаривали о воздухоплавании. Никакой вины за ними не было. Что им горевать? Выйдут из переделки, еще прославятся. Все у них впереди. На остальных лежала вина.
Самсонов открыл глаза, повел могучими плечами, оглядывая людей, и крепким голосом сказал:
— Ведет колонну полковник Вялов. Замыкает поручик Кавернинский. Луны бояться не будем! — Он усмехнулся, издав глуховатый грудной рык.
В сумерках, на исходе восьмого часа, группа снялась с места и, перейдя шоссе, пошла к югу. Полковник Вялов с компасом шагал впереди.
Быстро темнело. Небо едва светлело на фоне сосновых верхушек, часто сливающихся в бесформенное целое. Лесной холодный воздух пах оврагом, грибами. Луны не было. Звезды изредка протыкались сквозь тучи. Винтовочные и пулеметные выстрелы трещали справа и сзади, оттуда, где должны были проходить пятнадцатый и тринадцатый. Как они выходили? С обозами, лазаретами, артиллерийскими парками…
Самсонов шел третьим, за есаулом Бабковым, и идти ему было нелегко. Тяжелые ноги командующего болели в икрах, в груде было тесно. Он шумно дышал.
Идущий следом генерал Филимонов приблизился к Александру Васильевичу и тихо сказал:
— Можете на меня опираться.
Командующий сначала отказался, но тело его становилось все чугуннее, словно земля уже не могла дальше нести его, и он стал опираться на плечо генерал-квартирмейстера.
Вялов остановился, спросил, не надо ли отдохнуть. Самсонов промолчал. Постовский стал торопить.
Зеленовато фосфоресцировал компас в руках Вялова, качалась острая стрелочка.
— Идемте, — сказал командующий.
Лес вышел к железной дороге, к мокрому от росы березняку. Наклонясь и отводя ветки, Самсонов добрел до насыпи, Бабков и Купчик взяли его под руки и помогли перейти на ту сторону.
— Сапоги скользят, проклятущие! — с чрезмерной бодростью выругался вестовой. — Еще расходитесь, Александр Васильевич. Это с непривычки.
После насыпи снова был скользкий откос, мокрый березняк, — и выбрались наконец на просеку.
— С направления не сбились? — послышался голос Постовского. — Кажется, раньше стреляли западнее?
— Жилу тянет, — бесстрастно заметил Купчик.
— Не отходи далеко, — попросил Самсонов, тяжело дыша. — Я совсем отвык. Ноги не держат.
На просеке сделали перекличку. Он подозвал Постовского и сказал, что надо проследить, чтобы в этот ответственный момент никто не мешал Вялову вести людей, а то кое-кем может овладеть паника.
— Или вы сами поведете, Петр Иванович? — спросил Самсонов.
Постовский отказался.
Пошли дальше, вытягиваясь гуськом. По-прежнему трещали далекие выстрелы, приблизительно в версте отсюда.
С правой руки Самсонова поддерживал вестовой, а левой командующий опирался на плечо Бабкова. Самсонов спотыкался, и тогда его семипудовое тело давило на Купчика и Бабкова. Теперь они шли последними. Кавернинский изредка оборачивался, что-то спрашивал шепотом, но Александр Васильевич из-за своего шумного дыхания не разбирал его слов.
Сколько он мог продержаться?
Это было еще одно испытание, физическими страданием и новыми душевными муками.
К счастью, впереди остановились; там было шоссе, надо было переждать, пока не пройдет германский дозор.
Самсонов сел на попонку, и к нему кто-то подошел. По голосу — Вялов.
— Здесь нам нельзя долго находиться, — сказал полковник.
— Разумеется, — согласился Самсонов. — до рассвета надо успеть.
— Как вы себя чувствуете, Александр Васильевич?
— Вполне сносно. Как запасной на марше — постепенно втягиваюсь.
Командующий нашел силы пошутить, чтобы рассеять вяловскую тревогу. Пусть не снижают скорости, а он еще попытается продержаться.
Минуты через три быстро пересекли шоссе. Самсонов зацепился за ветку, зажмурился от боли в глазу, потом долго шел и моргал слезящимся глазом.
Навстречу все попадались кусты, больших деревьев становилось все меньше и меньше. Потом появился болотистый запах, ноги стали увязать в земле. Болото! Этого никто не ожидал. Остановились.
«Это уж чересчур, — подумал Самсонов, обращаясь неведомо к кому. Утонуть в болоте после всего пережитого?»
Снова подошел Вялов, спросил о самочувствии.
Командующий потребовал карту и при свете фонарика водил пальцем по немецкой карте, определяя местоположение. Нашел линию железной дороги, шоссе, деревню Гросс Пивниц, фольварк Каролиненхоф.
— Болота не видно, — сказал Вялов. — Должно быть, небольшое. Обходим.
— Обходим, — согласился командующий.
Вялов пошел, оставив Самсонова, и сказал полковнику Лебедеву и подполковнику Андогскому, что командующий очень утомлен, но еще будет идти самостоятельно. Они понимали, какую беду может принести всем слабость генерала, и мысль о возможности плена обдала каждого тоской.
Но до рассвета еще было часов пять.
Вялов шел с вытянутой рукой, отводил ветки, время от времени сворачивал влево, нащупывая твердую землю. Хотел он или не хотел, а приходилось задумываться о Киевской военной игре, в которой он участвовал как оператор оперативного отдела Генерального штаба. Не хотелось вспомнить, что в апреле думал о быстром наступлении в Восточную Пруссию совсем легко. А теперь? Что нам Париж? Они там никогда и не узнают… «И никто не узнает! — сказал он себе откровенно. — Это расклеившийся командующий, эти голодные солдаты, эти подстегивающие приказы — все это остается за пределами славной истории. В конце концов как и ты оказался ничтожной тварью в руках державы. И каково же быть такой тварью? — спросил он себя. — Не знаешь?.. Нет, знаю, — ответил себе Вялов. — Об этом нельзя думать. Надо идти вокруг болота. Надо исполнить долг».
Сказав себе об исполнении долга, Вялов ответил и на вопрос, что делать с Самсоновым, когда тот не сможет идти. Тогда они понесут его на руках.
Неожиданно Вялов нащупал чуть возвышающуюся твердость и посветил фонариком. Это была лесная дорога, по которой, видно, давно не ездили. Он погасил свет, прислушался. Вряд ли на такой дороге стоял заслон. «Проверь! мелькнуло в мозгу. — Они могли заметить твой фонарик».
— Передайте: всем ко мне. И тихо! — скомандовал он Лебедеву.
Лебедев послал на разведку штабс-капитана Дюсиметьера, и все застыли в ожидании, ничего не различая перед собой, только слыша клокочущие вздохи Самсонова.
Каждый думал о командующем, ощущая горе и опасность, от него исходившие. Но несмотря на вину Самсонова, заведшего армию в окружение, несмотря на то, что никакой армии уже и не было, эти люди знали, что они по-прежнему находятся во власти этого изнуренного несчастного человека и ничего сейчас не может освободить их от нее.
Они стояли и ждали: то ли пулеметной очереди, то ли спасения.
Послышались шаги Дюсиметьера. Дорога, по-видимому, была свободна от немцев.
— Это дамба, а за ней — лес, — объяснил штабс-капитан осевшим голосом.
Так оно, слава богу, и оказалось. Перешли дамбу, вошли в сухой старый лес. Шагов через двести на полянке возле кучи валежника остановились на привал, и Вялов разрешил час сна.
— Сюда, Александр Васильевич, туточки повыше, я попону постлал, — сказал Купчик Самсонову, беря его за руку.
Прикосновение твердой руки казака напомнило командующему отцовское.
Он лег и закрыл глаза. Своего родителя Александр Васильевич помнил смутно, но сейчас отец явственно предстал перед ним в николаевском офицерском мундире, тучный, бородатый, верхом на сильном белом коне. Отец походил на покойного государя императора, которого запомнил Самсонов ясным сентябрьским деньком на параде в Новой Праге во время Бендерского лагерного сбора.
— Чего ты ждешь? — спросил отец.
Самсонов открыл глаза. До него доносилось ровное дыхание спящих. Он пощупал рукой край ворсистой попоны, потянулся дальше, ведя по мшистой земле рукой, чтобы отодвинуть сучья. Сучьев не было. Тогда он встал на колени. Правое колено чуть хрустнуло, как это бывает, когда хрустят пальцами. Самсонов тихо набрал полную грудь воздуха, встал и пошел. Треснуло два выстрела, потом еще один за другим, почти сливаясь, два или три. «Чего ждать? — подумал он. — Они дойдут без тебя».
Самсонов поглядел на небо. Оно по-прежнему едва угадывалось над лесом, без луны и звезд. Никто не видел сейчас Самсонова.
Он прошел минут десять, пока ноги не заболели, поискал какой-нибудь куст, чтобы было прилечь, сел под кустом, вытащил револьвер и взвел курок. Барабан, щелкнув, повернулся.
— Господи, прости меня! — пробормотал Александр Васильевич, и выстрелил в сердце.
* * *
Еще оставалась армия, оставались корпуса, дивизии, полки, батальоны. Она погибала. Но ее части сражались, потому что в каждой еще действовал всеобщий воинский закон. По этому закону ради спасения больших сил отдавались меньшие, бросались под артиллерийский удар батальоны и полки.
Тринадцатый корпус отступал по единственной возможной дороге через узкое озерное дефиле у деревни Шлага и заслонился Каширским полком и мортирной батареей. Корпус медленно переползал через узкую двухсаженную плотину между повитыми туманом озерами, а заслон терпел, обливаясь кровью, зная, что вряд ли спасется. Когда сил терпеть не оставалось, полковник Каховский взял знамя полка и повел каширцев в последний бой.
Заплатив полком и мортирной батареей подполковника Заянчковского, корпус вырвался из дефиле.
Потом был бой у деревни Шведрих, и батарея капитана Брыдкина вместе с двумя батальонами Софийского полка и отдельными ротами можайцев, каширцев и звенигородцев стояли насмерть.
Ночью на лесной дороге колонну встретили из засады картечью и пулеметным огнем; блистал луч германского прожектора, вынюхивавшего цель, метались тени, все запутывалось и должно было погибнуть, без командования, без единой воли. Воинский закон кончался, начиналась агония. Но нашелся офицер и догадался без шума выкатить два орудия прямо перед засадой, а еще два — на соседнюю просеку и ударил с двух сторон, и сбил заслон.
Днем колонна снова натолкнулась на артиллерийскую позицию немцев, дожидавшуюся подхода погибающих. И снова под огнем подали вперед орудия, бросились в отчаянную штыковую атаку и прорвались.
Но сколько можно было прорываться сквозь пули и картечи? Из дивизий остались полки, из полков — батальон и роты. Второй армии не существовало. Пали на поле боя командир Дорогобужского полка полковник Кабанов, командир Каширского полка полковник Каховский; смертельно ранены генерал-майор Колюжный и генерал-майор Сайчук, умер от ран командир артиллерийской бригады полковник Христинич, ранены командиры полков — Невского полковник Первушин, Нарвского полковник Загнеев, Звенигородского полковник Венецкий. А сколько полегло нижних чинов и младших офицеров? Их никто не считал.
Ночью шестнадцатого августа при следовании Звенигородского 142-го пехотного полка к плотине между озерами Гросс Плауцигер и Ставск в темноте отстали две роты, 11-я и I6-я под командованием капитана Барскова и штабс-капитана Семечкина и команда разведчиков под командованием подпрапорщика Дремановича. Они не знали направления отхода, знали только то, что войска отступают, и, слыша отовсюду стрельбу, повернули навстречу наступающему противнику, чтобы уйти хотя бы от пуль своих.
Капитан Барсков, старый сорокалетний служака, и штабс-капитан Семечкин, получивший роту месяц назад, начали сой маневр. Патронов было по нескольку обойм, провианта почти не оставалось. У Штабиготтена в предрассветной лесной мути роты натолкнулись на походную колонну германцев.
Кавалерийский дозор первым заметил русских, и начался встречный бой, самый жестокий и кровопролитный. Пока колонна не развернулась, не выдвинула пулеметы, русские успели дать несколько залпов, но потом пулеметы прочертили границу, и четверо русских младших офицеров и восемьдесят шесть нижних чинов полегли на этой границе.
Роты скрылись в лесу, ушли от преследования и остановились на берегу безмолвного большого озера Ланскерзее. Вечером они двинулись на северо-запад, удаляясь еще больше от своих. Ни сухарей, ни консервов уже не было, патроны еще оставались. Но с заряженными винтовками надеялись дойти. Они дошли до маленького польского хутора, оставили там трех тяжелораненных и, не взяв почти ничего, чтобы не озлоблять хозяев, пошли дальше.
Шли шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого августа, и в ночь на двадцатое между деревнями Модткен и Винцковен разведчики Дремановича обнаружили немецкий заслон, силой около батальона. Барсков и Семечкин стали совещаться: может, ударить по германцам, ведь русская земля уже совсем рядом?
— Многие полягут, — сказал Барсков. — Патронов мало. Вот ежели подойти и в штыки…
— Пойдем в штыки! — согласился Семечкин.
Можно было в штыки, да только капитан Барсков был ранен в плечо и рука его висела на подвязке, даже идти было ему нелегко, а что говорить о штыковом бое?
Но решили-таки в штыки.
Дреманович послал Горелова, не ведавшего страха старшего унтер-офицера, снять часовых, и затем роты пошли.
В темноте оседали палатки, накрывали спящих как будто брезентовым саванами. Среди стонов и хрипов вскидывались отчаянные страшные крики. Потом треснул выстрел. И еще выстрел. Вспышки огня заблестели отовсюду. Все перепутывалось. Одни кололи, другие стреляли; на Семечкина налетела огромная тень, капитан отбил удар и сделал выпад, проткнув нападающего, но так и не понял, кто это был, — скорее всего, свой русский. Семечкин повернулся на близкую вспышку, какой-то ветер подул возле его щеки. Штабс-капитан ударил в мягкое, вырвал штык, отскочил и побежал дальше.
Днем двадцатое августа обе роты вышли к русской границе в полном порядке, поредевшие больше чем наполовину, в составе ста шестидесяти пяти нижних чинов и с одним оставшимся в живых офицером штабс-капитаном Семечкиным.
* * *
Уже после гибели Самсонова выходили из окружения отдельные части и группы, наступали и даже снова заняли Нейденбург полки первого корпуса, которым стали командовать Душкевич и Крымов, прорвалась и дошла до Алленштейна кавалерийская дивизия Гурко из первой армии.
Но все это после гибели Александра Васильевича.
Общие потери были следующие.
В тринадцатом корпусе — 656 офицеров и 37 744 нижних чина. Ни один из генералов и начальников отдельных частей в Россию не возвратился. Из числа штаб-офицеров вернулись из пределов Пруссии лишь начальник штаба 36-й пехотной дивизии полковник Вяхирев, полковник Дорогобужского полка Климов и бывшие при обозах два подполковника Софийского полка. Вся артиллерия и все обозы корпуса погибли. Из числа знамен налицо оказались: Невского полка, отдельное от древка, оно спасло подпоручиком Игнатьевым и подпрапорщиком Удалых; Копорского полка, отдельное от древка, оно спасено подпоручиком Копочинским и подпоручиком Войтовским; Можаевского полка, оно спасено подпоручиком Тарасевичем, Георгиевское копье знамени спасено подпрапорщиком Гилимом.
Из пятнадцатого корпуса удалось пробиться тоже немногим. Погибла и почти вся 2-я пехотная дивизия. Только конный отряд генерала Штемпеля, состоявший из шести эскадронов 6-го драгунского Глуховского полка, трех сотен 6-го Донского казачьего полка и 11-й конной батареи, пробился с боем к русской границе, сохранив все орудия и зарядные ящики. Глуховские драгуны и встретили у деревни Монтвиц выходивший из леса самсоновский штаб, потерявший своего командующего.
* * *
Двадцатого августа в Млаве писари штаба лейб-гвардии Литовского полка черной тушью в книгу приказов список нижним чинам, раненым и без вести пропавшим в бою с четырнадцатого по восемнадцатое августа: рядовой Стародомский Станислав /ранен 17 августа под Нейденбургом/ рядовые Кротла Павел, Комаровский Владислав, Шесяк Иван, Армаковский Иван, Суханов Петр, Рудик Антон, Малецкий Михаил, ротный горнист Маркелов Михаил, ротный горнист Эрдман Ян, ефрейторы Фещенко Петр, Тамусек Янис, Макаренко Сергей /ранены 15 августа под Сольдау/, рядовые Иванишин Алексей /ранен 17 августа под Нейденбургом/, Бабин Тимофей, Капканов Арсений, Михнер Дионисий, Рутковский Станислав, Дуб Ян, Кононов Мартын, Ковча Даниил, старший унтер-офицер Ольхович Казимир, рядовые Кукла Франц, Задонов Роман /пропали без вести 15 августа под Сольдау/…
Всего убито, ранено пропало без вести в Литовском полку девятьсот нижних чинов.
Ранены командир 3-й роты штабс-капитан Бородаевский /принял командование подпоручик Муравьев/, командир 7-й роты штабс-капитан Петропавловский /принял командование поручик Акимов/, командир 13-й роты капитан Полонский /принял командование поручик Римский-Корсаков/, командир 16-й роты штабс-капитан Хованский /принял командование подпоручик Квашин-Самарин/. Кроме того, ранены офицеры — Климович, Кононов, Красуский, Волков, Петровский, Меженинов, Абрамович I, фон Левиз оф Менар, Святополк-Мирский, фон Шмидт, Соболевский, Шпигель, Зарембо-Рацевич II, Лобасов, Соловьев.
Писари исключали одни имена, ставили на довольствие новобранцев.
Глава восьмая
Александр Васильевич Самсонов умер. А русское общество, те, кто толкует смерти и решает, кому быть жертвой, скорбно и гордо поклонились памяти погибшего командующего, возвысив его имя до имени Отечества, и сказали, что Россия должна была пойти на это ради спасения Франции. Но что на самом деле спасло Францию, русская кровь или борьба самих французов или ошибка Германского Большого Генерального штаба, никто никогда не ответит. И никто не потребовал ответов и доказательств. Орел жертвы сделал неуместными такие вопросы. Остались другие, частные — зачем Самсонов прервал связь со штабом фронта, почему генерал Артамонов не удержал левый фланг, почему генерал Ренненкампф не ускорил наступления своей армии, но эти вопросы не затрагивали главного.
В конце концов все свелось к Самсонову. И командование фронтом, и Верховное командование, и военный министр Сухомлинов, и министр иностранных дел Сазонов, и государь, и сотни других людей в Петрограде /уже переименованном/, Барановичах, Белостоке решили, что отвечать за катастрофу должен покойный командующий.
На Самсонов был героем и мучеником! Его невозможно было ни в чем обвинить, он и без того унес с собой все чужие грехи. Тогда разделили имя Александра Васильевича на две половины — Самсонова-рыцаря и Самсонова-генерала, и вознесли бесстрашие и мужество рыцаря и осудили безрассудство генерала. Таким он и должен был остаться в истории, милым, благородным, немного жалким героем, в котором что-то от Иванушки-дурачка, что-то от Добрыни, что-то от ушедшей поры.
Родное отечество воздвигло над безвестной могилой памятник виноватой жертве.
Тем временем с Юга-Западного фронта пришло известие о взятии Львова, а из Франции — об отступлении армий Клука и Бюлова после битвы на Марне.
Начальный период войны закончился.
Русские не овладели Берлином, немцы не заняли Парижа. О скором окончании войны быстрым наполеоновским ударом, на что надеялись в начале августа все ее участники, теперь нечего было думать. Новые имена страдальцев, убитых, раненых, пропавших без вести, ежедневно выбрасывались на страницы газет, и Александр Васильевич все больше отдалялся от живых.
История его жизни завершилась.
Но осталась одна человеческая душа, которая не могла считать Самсонова мертвым.
Она не знала, что делать, как искать следы мужа, верить или не верить соболезнованию государя. Она была еще очень привязана к живому Александру Васильевичу.
Екатерина Александровна переехала с детьми в Елисаветград, поступила сестрой милосердия в госпиталь Елисаветрадской общины Красного Креста и убрала волосы под белую косынку с красным крестом.
Ей полагалась пенсия, однако Екатерина Александровна не подавала прошения и никаких денег из казны не получала. Она еще уповала на чудо.
Державная сторона жизни, на которую она привыкла опираться при муже, теперь отходила от нее, заменялась новой силой сострадания и долга.
Особенное впечатление произвел на Екатерину Александровну поручик Тельнихин, раненый в кисть левой руки и перенесший три операции — сперва ему отрезали кисть, потом руку по локоть, потом плечо. И вот он смотрел на Екатерину Александровну с твердой улыбкой и спрашивал, не мерещится ли ему вновь гнилостный запах из-под повязки. Запах мог означать только распространение гангрены.
Тельнихин был первым, уходящим не ее глазах. Он еще надеялся, а она знала, что никаким его надеждам не сбыться.
Но она ведь тоже еще надеялась! И кто-то, наверное, тоже знал, жил ли ее муж или вправду его больше нет.
Кто это знал? Жилинский? Немцы? Или один Бог?
Гнилостный запах становился все сщутимее, и Тельнихин перестал спрашивать о нем. Однажды Екатерина Александровна промыла мокрую рану, наложила новую повязку и хотела уйти, он попросил, чтобы она посидела рядом с ним. Ей же было некогда, она стала шутливо отговариваться, невольно перенося на него свое ощущение здорового человека, у которого много времени для жизни. Круглое, гладкое, как у ребенка, лицо Тельнихина покрылось красными пятнами, гляза сузились, а рот раззявился и раздался крик. Поручик кричал, тряся единственной рукой, без слов, что-то звериное и вместе с тем понятное. Это кричала сама жизнь Тельнихина.
После этого случая он переступил черту и успокоился, сделался сосредоточенным. Екатерина Александра видела, что скоро к нему придет священик. Взгляд Тельнихина светлел, наполнялся слезами.
Где-то лежали погребенные бойцы, мучились в лагерях военнопленные, и страдание все больше заполняло отечество.
Екатерина Александровна подошла к поручику, когда он спал, остановилась и услышала какое-то бормотание, потом он вздрогнул и отчетливо произнес:
— Зорю, зорю играют!
Неужели военная музыка разливалась в эти минуты в угасающем сознании и он прощался с товарищами, вступая в вечность?
Екатерина Александровна тогда тоже жила словно на страшной черте и чувствовала гибельность этого огромного безжалостного священного начала, которое подавало ей знак «Кавалерийской зорей». Оно даже не требовало жертвы. Оно просто брало то, что ему принадлежало.
И Екатерина Александровна склоняла голову перед этим началом!
Медленная смерть Тельнихина обминала ее душу, вытаскивала из личного горя к милосердию.
Тельнихин умер, не разлучась со своими богами, и они остались с Екатериной Александровной.
Проходили дневные и ночные дежурства, звонили колокола десяти елисаветградских соборов, напоминая живым о вечности, привозили новые партии раненых. Осенние туманы клубились над темными водами Ингула.
После долгого молчания отозвался полковник Крымов, написал об Александре Васильевиче: «Он был благородный человек, каких мало. Чисто русский, отечестволюбивый офицер, о чем Вы должны сказать Вашему сыну Владимиру. Александр Васильевич роковым выстрелом взял на себя мужество отвечать за всех. Отечество и высшее руководство остались незапятнаны…»
Что она поняла из этого письма? Что с мужем поступили безжалостно? Она ощутила эту безжалостность, безысходность, кровь… Вспомнила, как он напевал старинный кавалерийский сбор, обратилась к сыну, чтобы он подсказал ускользающие слова, и Владимир прочитал без запинки:
Всадники-други, в поход собирайтесь! Радостный звук вас ко славе зовет, С бодрым духом храбро сражаться, За родину сладкую смерть принять. Да посрамлен будет тот малодушный, Кто без приказа отступит на шаг! Долгу, чести, клятве преступник На Руси будет принят как злейший враг…В серых глазах подростка Екатерина Александровна увидела вызывающее упорство. Он как будто говорил всем тем, кто бросил его отца, что Александр Васильевич истинный герой.
Перед ней стоял живой Самсонов. И ее объял ужас — Владимир принадлежит тому жестокому и священному началу.
Сердце сказало ей: «Все, у тебя больше нет мужа, не надейся».
Екатерина Александровна тянула до декабря, потом решилась — поехала в Петроград.
Об Александре Васильевиче там никто не мог сказать, жив ли он, ибо никто не видел его убитым.
Она побывала у военного министра Сухомлинова, помнившего ее мужа еще по Академии, побывала у Жилинского, отставленного от командования и подчеркивавшего свою непричастность к трагедии, и узнала, что правительственная комиссия называет действия Самсонова храбрыми, но не вполне соответственными. Они считают его погибшим, советовали обратиться к государю с просьбой о пенсии.
— Почему он погиб? — спросила Екатерина Александровна у Жилинского.
— Александр Васильевич спас Францию, — ответил Жилинский.
— Что Франция! — сказала она. — Вы забываете, Яков Григорьевич, что я не ищу цену за мужа. Хотя бы его тело верните, чтобы похоронить в родной земле. Или вам нужен даже прах?
Жилинский вздохнул, стал рассказывать о стратегии и воинском долге. Его хмурое непроницаемое лицо с твердым бритым подбородком, на котором почти посередине выступал бугорок бородавки, с вислыми, не очень густыми усами выражало терпение. С таким выражением врачи в госпитале смотрели на тяжелораненых.
— Я доложу государыне-императрице, — сказал он. — Может быть, через Красный Крест найдем…
— Умоляю вас, Яков Григорьевич! — воскликнула она.
Жилинский был близок ко двору матери-императрицы и, благодаря этому, когда-то оттеснил Самсонова от командования округа, но все генеральские должности не имели никакого значения.
— Да, да, я доложу! — с облегчением повторил Жилинский.
Что еще он мог?
— Господи! — сказал Жилинский. — Когда-то я был представителем на Гаагской конференции мира. Это был первый шаг молодого государя к жизни без войн. И сделала такой шаг Россия. Как мы надеялись и как были наивны! Нет, Екатерина Александровна, военные не имеют права быть наивными. Александр Васильевич был настоящим военным. Я всегда буду его помнить.
— Я должна найти его! — сказала она. — Кроме вас, некому помочь.
За Екатериной Александровной ничего не стояло, никакой силы, — только вдовья скорбь и вечная память, две жалкие сестры павших героев.
* * *
Склонив голову перед всесильной столицей, Екатерина Александровна писала:
«Ваше Величество Всемилостивейший Государь.
Мне невыразимо тяжело просить о пенсии, когда я ничего не знаю о судьбе моего несчастного мужа, но забота о двух несовершеннолетних детях, в трудном тяжелом материальном положении, заставляет меня беспокоить Вас, Государь, Всеподданнейшей просьбой обеспечить пенсией мое существование и детей моих, сына 15-летнего возраста, дочь до замужества.
Ваше Императорское Величества верноподданная Вдова генерала от кавалерии
Екатерина Самсонова. Петроград. 15-го декабря 1914 г.»Ее прошение недолго лежало на столах делопроизводителей и быстро прошло, подталкиваемое будто самим именем Александра Васильевича. Екатерина Александровна вернулась в Елисаветград, не дожидаясь ответа.
После всеподданнейшего доклада последовал доклад по Главному штабу, в котором жизнь Самсонова блеснула на прощание.
«Высочайшим приказом 23 августа 1914 года исключен из списков убитым в бою неприятелем, состоявший по Семиреченскому казачьему войску и числившийся в списках Генерального штаба, командовавший 2-ю армиею генерал от кавалерии Самсонов.
Вдова названного генерала обратилась с всеподданнейшим ходатайством о назначении ей с детьми пенсии.
Справка. Генерал от кавалерии Самсонов на действительной службе 39 лет.
В течение службы занимал, между прочим, должности: начальника Елисаветградского кавалерийского училища, начальника Уссурийской конной бригады, начальника Сибирской казачьей дивизии, начальника штаба Варшавского военного округа, войскового наказного атамана войска Донского и Туркестанского генерал-губернатора и командующего Туркестанского военного округа.
Участвовал в походах и делах против неприятеля в 1877-78 и 1904–1905 г.г.
За отличия в сражениях награжден орденами: Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4 степени, Святого Станислава I степени с мечами, Святой Анны I степени с мечами, золотым оружием с надписью „За храбрость“ и произведен в чин генерал-лейтенанта.
Производилось содержание по должности командующего Туркестанского военного округа: жалованья 2 940 рублей, столовых 3095 рублей и на прислугу 240 рублей и по должности Туркестанского генерал-губернатора жалованья 11982 рубля 50 копеек и столовых 11982 рубля 50 копеек, а всего 30 240 рублей в год.
Семья генерала от кавалерии Самсонова состоит из вдовы, сына 15 лет и дочери 12 лет.
Сын воспитывается в гимназии.
Выслугою установленных сроков от кавалерии Самсонов представил семье право на пенсию из эмеритальной кассы в размере 2 145 рублей в год; определение же размера пенсии из государственно казначейства, согласно ст. 41 военно-пенсионного устава 1912 г. Зависит от Высочайшего усмотрения.
При сем повергается сведение о пожалованных семействам генерал-губернаторов и командовавших войсками военных округов, пенсий из казны с 1882 по 1914 г.г. включительно.
Испрашивается Высочайшего вашего Императорского величества соизволения на определение размеров пенсии из государственного казначейства вдове с 2-мя детьми командовавшего 2-ю армиею генерала от кавалерии Самсонова.
Подлинный подписал Генерал-адъютант Сухомлинов Скрепил: генерал от инфатерии Михневич.»* * *
Особый Журнал Совета Министров
2 января 1915 года
Слушано:
2…Озабочиваясь пенсионным обеспечением семейства Генерала от кавалерии Самсонова, Военный Министр вошел в Совет Министров с представлением об испрошении Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества соизволения о назначении названному семейству пенсии из средств государственной казны.
Постановлено:
Обсудив настоящее дело и приняв во внимание боевые заслуги и выдающуюся административную и строевую служебную деятельность Генерала от кавалерии Самсонова, павшего ныне на поле брани, Совет Министров признал соответственным повергнуть на Высочайшее Ваше Императорского Величества благовоззрения о представлении его семейству пенсионного обеспечения в размере 10 645 рублей в год…
Государь Император в 17 день января 1915 года на сие всемилостивейше соизволил.
Исправляющий должность Управляющего делами Совета
И. Лодыженский
31 января 1915 г.
Елисаветградский уездный воинский начальник телеграфировал, что семья генерала от кавалерии Самсонова пенсию желает получать из Елисаветградского казначейства.
* * *
Цена за спасенную союзницу была уплачена.
Екатерина Александровна, признав гибель мужа, теперь была обыкновенной вдовой. Ореол мученичества, сопровождавший ее, исчез.
Усталость от затягивающей войны и разочарования поднимали в обществе странные настроения против героизма, против отечества, которое не щадила своих людей.
«Спаси, Господи, люди твоя!» — гремело над фронтами.
А там, где управляли войной, где взвешивались жизни, генерал-квартирмейстер ставки Данилов прогуливался по снегу вместе с директором дипломатической канцелярии Кудашевым и обсуждал, как покрепче воздействовать на Румынию и Италию.
— Я серьезно подумываю предпринять что-нибудь с Перемышлем, — сказал Данилов.
— Это было бы замечательно, — ответил Кудашев.
Данилов со вздохом продолжал:
— Для нас это совершенно не нужно. Но, пожалуй, придется принести в жертву людей, чтобы подбодрить остальных.
— Увы, другого пути я не вижу, — вымолвил Кудашев. — Нужен большой военный успех. Тогда мы окажем воздействие на колеблющихся.
Оба понимали, что речь идет о блефе, поэтому испытывали неловкость, похожую на угрызения христианской совести.
Над Барановичами, над поездом ставки в темном январском небе слабо мерцали звезды. Полная луна, окруженная белыми облаками, светила по мерцающему снегу, и ей вторили горящие окна вагонов.
Куда мчался этот поезд? Понимал ли кто-нибудь?
* * *
Шла первая военная зима, по России везли железные гробы, зарывали в мерзлый песок в подмосковном селе Всехсвятском на новом кладбище-памятнике солдатам и сестрам милосердия.
В елисаветградских соборах пели вечную память.
Сердце Екатерины Александровны отвердело, и она уже никого не винила в смерти Александра Васильевича.
Она много работала в госпитале, но еще — и в уездном земстве, собирала добровольные пожертвования с елисаветградских промышленников, помещиков, купцов, торговцев, типографов, православных священников, раввинов, мещан. Это были пожертвования, а порой отступное от чужого страдания, но как бы там ни было, мало кто был в силах отказать перед светлым холодного-лучистым взглядом вдовы генерала.
Она ожила в своем горе.
Ее дочь, маленькая гимназистка женской гимназии, в коричневом платье с белыми кружевным воротником, охватывающем тонкую шею, приходила в госпиталь, читала наизусть стихи о войне.
Возвышенно и даже празднично звучало:
Как собака на цепи тяжелой, Тявкает за лесом пулемет. И жужжат шрапнели, будто пчелы, Собирая ярко-красный мед…Раненые офицеры любовались Верой и особо не вникали в смысл стихов. Она была из светлого чистого мира, которого уже не оставалось вокруг них. Даже Царьград грезился в ее чтении:
Надежды не обманут нас, Не минет вещая награда, Когда в обетованный час Падут твердыни Цареграда.Разгорался другой свет — который стала различать Екатерина Александровна в людях, прибывающих с фронта. Особенно к лету, когда фронт начал отступать, теряя то, что было завоевано.
Еще не забылись мартовское торжество по поводу взятия Перемышля, а он уже оставлен. Оставлена Галиция, и Львов очищен русскими.
Что-то лопнуло.
Екатерина Александровна не знала, почему так получилось. Она надеялась, что это случайность. На самом деле никакой случайности не было, командованию было известно о подготовке австро-венгерами и германцами наступления, но Ставка и Юго-Западный фронт пренебрегали этими сведениями, стремясь скорее прорваться через Карпаты в венгерскую долину. Не прорвались, заплатили сотнями тысяч жизней.
Над Россией реяло уже много теней — тени героев самсоновцев армии, героев Перемышля, героев карпатской операции.
О наша тоска! О русское обреченные герои!
Перед Екатериной Александровной проходили эти богатыри. От некоторых остались какие-то записки и дневники, но большинство проходило молча.
В бумагах, оставшихся от умерших, она выделила записки гвардейского капитана, в которых рассказывалось только о стойкости, подвигах и геройстве. Капитан как будто смотрел на нее ясными прямыми братским взглядом.
А по соседству с капитаном лежал прапорщик ускоренного выпуска Кравченко, бывший учащийся Быховского городского четырехклассного училища. В его дневнике одни насмешки, то веселые, то горькие. Офицеры и солдаты у него похожи на уездных мещан. Одни пьянствуют, ходят в публичный дом, заболевают трипером, потом, после прижигания ляписом, бегают по саду и вопят от боли. Другие просто пьянствуют. Третьи дуются в карты. А солдаты, те не любят патриотических песен, только думают о своей порции, воруют.
И все это была война: и крестьянская, и дворянская, и мещанская. И все они умерли. Все уже были там, где и Александр Васильевич.
* * *
К августу пятнадцатого года, годовщине восточнопрусской трагедии, русская армия отступала. Немцы штурмовали крепости Новогеоргиевск и Осовец. На западном фронте наступило затишье. Англичане со страшными потерями высаживали десант на полуострове Галлиполи, на берегу Дарданелл говорили, что первоначально десант планировалось провести вместе с русским, но потом владычица морей решила вести дело сама, чтобы не упустить Проливов. Италия объявила войну Турции. В Турции шли гонения армян, младотурецкое правительство приговорило к смертной казни через повешение двадцать членов армянской социалистической партии, обвинив их в сборе средств для независимой Армении.
Газеты пестрели траурными известиями с фронта. «Русское слово» сообщало о размещении тысячи раненых в Зимнем дворце, в парадных залах, выходящих на Неву — Николаевском с Военной галереей, аванзале, Гербовом, Георгиевском. Вот куда подступала война.
Екатерина Александровна натолкнулась на два объявления о пленных. Надежд не было. И все же ее затрясло. «Капитан Хэтчисон, пропавший без вести в августе месяце при отступлении от Монса, по частным сведениям от 14 ноября 1914 г. находится в плену. Возвратившихся из плена, имеющих сведения о нем, покорнейше просим уведомить — Еджертон Губбарт и компания. Николаевская набережная, д. 37. Петроград».
Неведомый Хэтчисон был связан с Александром Васильевичем, сражаясь во Франции. Судьба спасла его! Судьба спасла и многих русских. Кто-нибудь из них мог же знать о Самсонове! «Нас просят сообщить, что находящиеся в плену в Германии нижние чины 3-й гвардейской артиллерийской бригады очень нуждаются в одежде, белье и табаке. Посылки можно адресовать: Дейчланд, Циккау, Гросс-Парич, 6, Гефандененлагер, на имя военнопленного И. Баклисского.»
Третья бригада, объяснили Екатерине Александровне, — это из самсоновской армии.
Она думала про обещание хлопотать перед императрицей. Да где теперь Яков Григорьевич? Он военный представитель во Франции, спасенной его войсками. Как его достать?
Екатерина Александровна была потрясена, когда в елисаветградскую общину пришла телеграмма с грифом «По обстоятельствам военного времени», которой предлагалось командировать в Петроград для осмотра лагерей военнопленных в Германии сестру милосердия Самсонову. Господи, среди великих страданий человеческих Провидение выбирало ее, чтобы она могла исполнить свой долг жены! Екатерина Александровна почему-то представила, что ей придется переходить через передовые позиции, где ради ее миссии временно прекратятся военные действия. Потом она выяснила, что ее путь должен лежать через Швецию и Данию, то есть все будет по-другому, и она не увидит окопов.
Она увидела иное, то, что не могло пригрезиться русским сестрам, попечительнице Житомирской общины сестер милосердия Орженевской, старшей сестре Петроградской общины сестер милосердия имени святого Георгия Казем-Бек и Самсоновой. В Копенгагене присоединились трое делегатов датского Красного Креста, все — командоры ордена Даннеберг: Хениус, фон Шлет и Твермос, пожилые господа. Датчане держались просто, как умудренные жизнью крестьяне.
Казалось, их ничто не может глубоко задеть, во всяком случае они не обнаружили большого сочувствия Екатерина Александровне, когда узнали, кто она. От их равнодушия ей стало досадно, будто ею пренебрегали.
Потом, после посещения первого солдатского лагеря, господин Эрик Хениус сказал ей, что передал германцам свою личную просьбу найти генерала Самсонова, и ему ответили, что такого генерала в числе военнопленных нет, есть другие — Клюев, Мартос, и что можно посетить их лагерь.
Екатерина Александровна видела, что датчане по-прежнему не выражает сочувствия и действует из долга. Но это было не то, что владело ею, не такое чувство долга, даже вовсе не чувство!
Она обследовала лагерь за лагерем, погружаясь в неведомую русскую жизнь.
Одна грань этой жизни прочно сияла над германскими черепичными крышами, поражая ужасом и силой страдания.
Екатерина Александровна искала реальные отпечатки этой грани, но солдаты не заявляли претензий на немецких комендантов, следов жестокости не было.
Но русским сестрам была известна страшная история, случившаяся в каком-то лагере. Ее рассказал датчанам некий поляк, плававший матросом на датском пароходе и интернированный в начале войны. То, что история случилась в прошлом году, может быть, объясняло ее ожесточение, во всяком случае в нынешних лагерях делегация не встретила ничего подобного.
По словам поляка, и в передаче датчан все выглядело так.
Однажды в лагерь были приведены четыре казака в шароварах с лампасами красного цвета. Их вывели во дворик, поставили шагах в двух от стены барака, и через щель в стене поляку все было видно. У первого казака положили правую руку на маленькую чурку и штыком-ножом отрубили по половине пальцев большого, среднего и мизинца, сделав из кисти какую-то рогульку. Обрубки отлетали и падали на землю, а немецкие солдаты их подбирали и складывали казаку в карман. Потом увели в барак. Второму казаку отрубили уши. Третьему ударом штыка сверху вниз отсекли кончик носа, который повис на кусочке кожи. Казак знаками попросил, чтобы отрезали повисший кусок, и тогда ему дали перочинный ножик, и несчастный горемыка сам отрезал собственный нос.
Про эти ужасы невозможно было слушать. Оржаневская закрыла уши. Но Хениус поднял кверху палец и сказал, что они обязаны знать, а там пусть судят, как хотят.
Привели четвертого казака, продолжал Хениус. Что хотели с ним сделать, неизвестно. Он выхватил штык и ударил одного германца и стал драться со всеми остальными пятнадцатью солдатами. И они его закололи штыками…
— Я думаю, это правда, — заключил Хениус. — Когда я был датским консулом в Одессе, я узнал русский характер. Вы очень своевольны.
— Он должен был терпеть? — спросила Казем-Бек с аристократической горделивой простотой.
— Но чего он добился? — тоже спросил ее Хениус. — Надо было подчиниться судьбе.
Впрочем, больше таких историй они не слышали, хотя читали в глазах военнопленных горький упрек. «Вы все равно уедете, а нам оставаться, — так понимала их Екатерина Александровна. — Мы не можем всего рассказать!»
Здесь были иные правила, иные законы управляли и спасали людей.
Лагерь Данциг-Тройль встретил краснокрестную делегацию духовым оркестром, исполнявшим «На сопках Маньчжурии». Сестры остановились как вкопанные. Они помнили эти слова: «Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена…» Хотя играли одну музыку, скорбная молитва песни звучала в сердце.
Серые бараки тянулись унылыми рядами, словно застывшая тоска. Над церковным бараком возвышался крест, и сестры перекрестились, утешаясь видом православного символа.
Тучный комендант с бисмарковскими усами показал лагерь — бараки, лазарет, отхожие места, читальню, переплетную, сапожную мастерскую — и, показывая, давал понять, что ставит немецкую культуру выше всех.
Впоследствии Екатерина Александровна повидала другие лагеря, и везде, на Лебе, в Бютове, Гаммерштейне, Черске, Тухале, Арисе, Гайльберте, Прейсиш-Голланде она сталкивалась с двумя культурами, комендантской и российской, которые существовали сами по себе. Она заходила в комнатки лагерных комитетов взаимопомощи, где кто-то, то ли солдат, то ли унтер-офицер, то ли вольноопределяющий, каждый раз обещали разыскать кого-нибудь из второй армии, и каждый раз Екатерина Александровна испытывала чувство горечи и вины за то, что пережили эти люди. Но постепенно вырисовывалась картина, отодвигавшая страдания отдельного человека на второй план. В том числе и ее страдания.
Екатерину Александровну просили прислать книги для читален, ноты для оркестров, пьесы для драматических кружков, учебники для школ /были в лагерях и подростки/, и хотя не везде были школы и оркестры, зато везде были комитеты взаимопомощи, и они отвергали важную жизненную опору, без которой Екатерина Александровна не мыслила человеческое существование. Им не нужно было геройство, они его презирали.
Еще в первом лагере комендант сказал, что главное уже сделано немецкими руками: немцы заставили пленных думать и заботиться о себе; это всегда было свойственно Германии по отношению к России.
Екатерина Александровна возразила, приведя для примера успехи в Средней Азии, где обаяние русского имени творило добро.
За комитетами взаимопомощи стояла традиция новгородского веча и крестьянской общины, не чуждая Екатерине Александровне, ибо она выросла в Акимовке, бок о бок с крестьянским миром, но все-таки неглавная, негосударственная. А сейчас взаимопомощь заменяла им родину! Они сами произвели свою простонародную государственность.
В солдатских лагерях Екатерина Александровна узнала, что случилось с армией мужа, узнала о маршах по песчаным дорогам, последних сухарях, «чемоданах», боях в окружении. Только об Александре Васильевиче — ничего не узнала.
Она хотела поехать в крепость Кенигштейн, где содержался генерал Клюев.
Хениус сказал ей, что найдена могила Самсонова, возле Вилленберга, близ какой-то фермы, и что лучше поехать туда. А Кенигштейн — не по пути, далеко.
Она видела будто наяву — ночной лес, перекопанные, заваленные деревьями дороги и лезущих, как муравьи, солдат, вытаскивающих на руках пушки; ночную тьму резали прожектора, били пулеметы, но муравьи лезли, лезли, в штыки, из последних сил, две ночи не спали, три ночи не ели…
Датчане сказали о Клюеве, что нельзя его осуждать за сдачу в плен, потому что даже рыцари в безнадежных случаях ломали шпаги и отдавали их неприятелю.
— А ее муж застрелился! — гневно возразила Казем-Бек.
— Разве он этим принес пользу своей стране? — спросил Хениус. — Вы, русские, порой бесчувственны к смерти.
— Вы плохо знаете русских! — сказала Казем-Бек.
— Я много лет жил у вас, — возразил Хениус. — Я уважаю Россию, но есть вещи непонятные…
— Тогда не судите о них! — заключила Казем-Бек. — Теперь Клюев с его рыцарством навеки опозорил себя, а генерал Самсонов умер героем.
За прахом Самсонова поехала одна Екатерина Александровна в сопровождении пожилого немецкого майора, сухого службиста с огромной старинной саблей. Оржеховская и Казем-Бек обследовали большой недавно выстроенный лагерь в Прейсиш-Голланде, и благословили ее.
Она проехала через Дейч-Эйлау, Монтово, Сольдау, Нейденбург, Мушакен, видела удлиненные, еще не разобранные платформы, предназначенные для выгрузки пехоты из вагонов, видела сломанные перила и стены вокзалов посеченные щербинами; разговаривала с лютеранским пастором, поведавшим ей, что он был в Нейденбурге в те страшные дни и знает, что один немец бросил камнем в казака и был застрелен, но это был единственные немец, который погиб при русских; майор спорил с пастором, говорил о жестокости русских, но священник отвечал, что берлинские газеты врали… Майор хотел втянуть Екатерину Александровну в спор о немцах и русских, но она не захотела и, сложив руки на коленях, опустила повязанную серой сестринской косынкой голову.
— Вы русская? — спросил с сочувствием пастор.
Она не ответила.
— Мы едем выкапывать тело ее мужа, — сказал майор. — Генерал Самсонов. Возможно, слышали?
— Нет, не слышал, — вздохнул пастор, выражая сочувствие вдове убитого. — Вы повезете его на родину, госпожа?
— Да, на родину, — вымолвила Екатерина Александровна. — У него есть родина, есть дети. Он вернется к себе.
— Это правильно, — согласился пастор.
Она подняла голову и вгляделась в неразличаемое прежде лицо, которое минуту назад как бы заслонялось черной сутаной. Это было обыкновенное скуластое простонародное лицо с курносым носом и карими круглыми глазами, оно не выражало ни глубокой мудрости, ни горячего сострадания, но в нем было понимание.
— Скорбные могилы воспитывают воинов, — буркнул майор. — Я считаю, что нельзя отдавать даже могилы… У меня три сына погибло, я даже не знаю, где они лежат.
— Вас объединяет скорбь, — сказал пастор. — То, что предстоит этой госпоже, заставляет сжаться любое ожесточенное сердце.
В Нейденбурге священник простился, а они поехали дальше, каждый со своим горем, как с тяжелой старинной саблей.
В Вилленберге, маленьком чистом городе с узкими домами, Екатерине Александровне вернули медальон мужа и сказали, что могила — в двух верстах от фольварка Каролиненхоф.
Она взяла потускневший медальон, прочитала выгравированную надпись «Помни о нас» и под взглядами майора и вилленбергского ландрата почувствовала упрек покойнику. Вот уж совсем рядом был Александр Васильевич, и ей полагалось скорбить, но скорби не было, Екатерина Александровна заканемела.
Ночью в холодной номере гостиницы, где еще не топили печь, она вспомнила свою жизнь с Самсоновым и удивилась тому, как мало времени он уделял ей и детям, и снова упрекала его. Вот она девочка из Акимовки, а он лубенский гусар в красных чакчирах и голубом доломане на могучем коне. А что дальше? «Вы замундштучили меня и полным вьюком оседлали…»
Ей привиделся яркий день на Николу Вешнего, казаки поют, джигитуют, и ротмистр Головко, поощряемый ее мужем, садится на разгоряченную лошадь… Все сгинуло. И тот день, и муж, и бедный Головко! Что за слепая сила, которая брала людей и бросала куда хотела?
Серым холодным утром Екатерина Александровна поехала на фольварк Каролиненхоф. Майор сидел рядом с ней в коляске и, поставив саблю между колен, сонно смотрелна темные сосны. Позади коляски ехала телега, в ней постукивали большой ящик.
— Я вчера думал о вас, фрау Самсонова, — сказал майор. — За что погибли мои сыновья? За что погиб ваш супруг? Они погибли за Отечество.
Больше он ничего не говорил.
Она глядела на лес, на облетевший березняк на опушке, чувствовала приближение тяжкой минуты, и ей казалось, что где-то неподалеку томится душа Александра Васильевича.
Ей было холодно. Уже стоял ноябрь, третье ноября. Больше двух месяцев длилась поездка Екатерины Александровны. Теперь уже близко. Третье ноября это, кажется, день преподобного Иллариона, схимика Печерского в Дальних пещерах. Александр Васильевич мальчиком бывал в Киевской Лавре, а в день киевского святого покинет чужую землю.
— Вы хотите наблюдать, как будут раскапывать? — спросил майор.
Она сразу ответила: да, — и ей сделалось страшно.
Майор вздохнул, вымолвил:
— Ну хорошо.
Она почувствовала, что этот мрачный немец как будто жалеет ее.
— Я должна увидеть его, — объяснила Екатерина Александровна.
— Хорошо, — повторил майор. — Я понимаю.
В Каролиненхофе он взял русских военнопленных с лопатами, одного большого носатого рыжебородого по фамилии Токарев, второго невысокого жилистого по фамилии Байков, — оба из самсоновской армии, в плену с августа прошлого года. Но генерал Самсонова они никогда не видели.
Поехали по лесной дороге, и ехали версты две, пока не остановились возле холмика, сильно засыпанного желто-коричневыми листьями.
Екатерина Александровна отгребала листья, посмотрела на солдат и велела копать.
Невысокий солдат легким подсекающим движением снял первую лопату песчаной земли, вдруг остановился и сказал Екатерине Александровне:
— Загнали нас сюда!.. Должно быть, он самый ретивый был. А что теперь?
— Бог всех рассудит, — спокойно произнес большой солдат. — Подвинься. Наше дело простое.
— О чем они говорят? — спросил майор. — У них претензии?
— Они говорят о бренности нашей жизни и Боге, — ответила Екатерина Александровна.
— О Боге я тоже думаю, — сказал он.
Солдаты быстро копали, яма углублялась, притягивала жутким ожиданием. Они опустились в нее сперва по колено, потом по пояс, и приблизилась минута, когда тело Самсонова должно выйти из покоя.
Лопата стукнулась о гроб.
Вид Александра Васильевича был страшен. Но это был он, а не кто-то другой. Екатерина Александровна нашла его.
Она закрыла глаза руками, отвернулась и заплакала, тихо причитая, выговаривая запавшие с детства слова прощания:
— Сашенька ты мой дорогой, что же ты с собой сделал, на кого ты нас оставил…
Вся ее окаменелость распалась, война остановилась, русские солдаты и немецкий майор глядели на женщину с одинаковой скорбью.
Потом тело положили в обитый железом ящик, и Екатерина Александровна повезла его домой.
В конце ноября Александра Васильевича похоронили в родной земле, на погосте Акимовской церкви, и родина приняла его, своего героя и свою жертву, как всегда принимала тьмы своих сыновей, которые ничего не ведали ни о геройстве, ни о жертве.
Об авторе:
Святослав Юрьевич Рыбас впервые в России создал ряд литературных биографий — Петра Столыпина, генералов Белого движения Александра Кутепова и Петра Врангеля, героя Первой Мировой войны генерала Александра Самсонова. Святослав Рыбас также известен как автор повести «Зеркало для героя», по которой был поставлен одноименный кинофильм. В сфере общественной жизни Святослав Рыбас был в числе немногих инициаторов восстановления Храма Христа Спасителя.



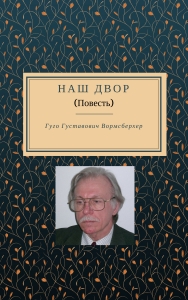




Комментарии к книге «Генерал Самсонов», Святослав Юрьевич Рыбас
Всего 0 комментариев