Э. Берте Потерянная долина
Глава I Беглец
Пушечная и ружейная пальба целый день раздавалась в горах, окружающих деревню Розенталь, близ Цюрихского озера, в Швейцарии. Был август 1799 года; французы вели тогда с австрийско-русскими войсками одну из тех войн, которые составляют славу той эпохи. Бой, поразивший ужасом мирное селение, происходил между отрядом армии Массены и небольшим корпусом австрийцев под начальством эрцгерцога Карла, старавшегося тогда овладеть Цюрихом. Судя по беспрестанным выстрелам, повторяемым горным эхом, сражение было упорное: облака беловатого дыма то там, то здесь поднимались из ущелий, как из вулканов во время извержения. Между тем часам к четырем вечера пальба мало-помалу затихла, и лишь изредка слышались выстрелы, подобные тем, которые производят, сидя в своих шалашах местные охотники.
Сражение кончилось, но кто вышел из него победителем? Вот чего не знали жители Розенталя, и при отсутствии известий предавались беспокойству. Большая часть их, с женами и детьми, скрывалась в убежище неподалеку от деревни. Голубоглазые прядильщицы и кружевницы в своих живописных костюмах не показывались на балконах домов, полуголые ребятишки не играли на деревенской улице. Разве где-нибудь боязливо откроется ставень, чтобы проводить испуганным взглядом редкого прохожего, спешащего к другому концу Розенталя.
День был очень жаркий. Старик почтенной наружности, в коротком черном плаще протестантского пастора, сидел на каменной скамье у дверей своего дома, находившегося в самом начале деревни, вдыхал свежий ветер с озера, несмотря на увещевания соседей спрятаться куда-нибудь подальше. Уже больше четверти часа его дерзость оставалась ненаказанною, как вдруг раздались испуганные голоса:
— Французы! Французы!
Старик проворно встал и положил руку на щеколду двери, но прежде чем войти в дом, полюбопытствовал взглянуть на дорогу, по которой следовало идти неприятелю.
Несколько минут он ждал, однако на дороге никого не было видно. Он было подумал уже, что это пустая тревога, каких немало в этот день наделали розентальские кумушки, как из-за поворота действительно показался человек во французском мундире.
Это был капитан гренадерского полка, молодой и хорошо сложенный, но в самом жалком виде. Его одежда была изодрана и вся в пыли, голова ничем не прикрыта, длинные волосы растрепал ветер. Одна рука, которую он держал у груди, была испачкана кровью, так же как и рукав его мундира, в другой руке была обнаженная сабля; ее серебристый клинок блестел на солнце. Эполет, оторванный, без сомнения, пулей, свалился с плеча и висел на пуговице. Офицер шел, с трудом передвигая ноги, и часто оборачивался, как будто боясь, что его преследуют.
Пастор ждал, когда следом за офицером появятся солдаты, но с удивлением скоро убедился, что завоеватель Розенталя был совершенно один.
Не находя никакого повода бояться этого человека, очевидно, изнуренного усталостью, и раненого, он не ушел в дом и остался на пороге посмотреть, что будет дальше.
При входе в деревню француз остановился, не зная, что делать: идти дальше или вернуться. Все эти дома, запертые и безмолвные, вовсе не казались гостеприимными. С другой стороны, капитан был решительно не в состоянии идти дальше.
Нерешительность офицера не осталась незамеченной пастором. Открытое и мужественное лицо молодого человека расположило к нему розентальского пастора. Он сделал движение, которое привлекло внимание незнакомца.
Увидев старика с добродушным лицом, офицер быстро подошел к нему, поднес руку ко лбу, словно отдавая по-военному честь, и спросил на довольно плохом немецком:
— Не позволите ли вы раненому солдату отдохнуть в вашем доме минут десять и дать ему стакан воды? Я не причиню вам никакого беспокойства и готов заплатить за хлопоты.
— С охотой, мсье, — отвечал пастор по-французски. — Но прежде я должен задать вам один вопрос.
— А! Вы говорите по-французски? — вскричал офицер на своем родном языке, и лицо его просветлело. — Я на все согласен! Только говорите поскорее, потому что эти проклятые австрийцы, пожалуй, вот-вот появятся здесь.
— Всего два слова: там, в Альбийском дефиле[1] французы остались победителями или были разбиты?
— Вы хотите сказать, что если счастье нам изменило, то вы запрете дверь? — спросил капитан с веселой улыбкой. — Мне известна предусмотрительность ваших соотечественников, они не любят попадать впросак.
— Быть может, вы судите о них так же ошибочно, как и обо мне.
— Ну так предположите, что мы в этих проклятых Альпах сделали фрикасе из кайзерликов, но подавленные многочисленностью…
— Отступили?
— Не отрицаю этого, и даже прибавлю, что дальше идти я решительно не могу.
— Но не знаете ли вы по крайней мере какого-нибудь корпуса вашей армии, к которому вы могли бы присоединиться.
— К несчастью, нет. Мои гренадеры и я были в арьергарде, а неприятель занял все дороги между этой деревней и дивизией генерала Лекурба, к которой я принадлежу.
— Ну так не можете ли вы взять несколько солдат, которыми вы командовали, и попробовать вместе с ними пробиться к вашей дивизии?
— Невозможно. Они все убиты.
— Что вы говорите? — вскричал пастор с ужасом.
— Увы… Мне было приказано удерживать неприятеля в ущельях Альби, и я в точности выполнил этот приказ. Целый день по нашему маленькому редуту стреляли и так удачно, что с час лишь назад я увидел, как у меня осталось только шесть человек… Мы были атакованы, нам кричали, чтобы мы сдались… Как бы не так! Мы принялись пробивать дорогу саблями… Мои гренадеры, бедняги, все остались там, только мне удалось уйти, но в этом опять не я виноват, потому что, клянусь честью, я покрошил-таки вдоволь этих любителей кислой капусты и… Однако довольно об этом! Расположены ли вы исполнить мою просьбу или мне идти дальше?
— Войдите, войдите, храбрый молодой человек, — с участием сказал пастор. — Если я боюсь, то вовсе не за себя.
Он ввел француза в нижнюю комнату и позвал дочь. Через минуту на столе уже красовалась бутылка доброго вина, между тем как старик разорвал полотняное полотенце, чтобы перевязать раненого.
— К несчастью, вы не можете остаться здесь, — сказал пастор, закончив перевязку. — Австрийцы, без сомнения, овладеют деревней, и я с минуту на минуту жду, не появятся ли их фурьеры[2].
— Это весьма вероятно, — хладнокровно отвечал француз. — Австрийцы гнались за мной, видели, как я направлялся в эту сторону, и знают, что далеко я уйти не могу. Удивляюсь, как это они до сих пор не пришли подцепить меня здесь.
— Как! И вы можете так спокойно говорить об этом? Вам надо сейчас же уходить.
Капитан продолжал небольшими глотками осушать стакан бордосского, приятный жар которого вызвал уже легкий румянец на его бледных щеках.
— Гм! — произнес он, разваливаясь в кресле. — Квартира не из самых дурных, вино имеет приятный вкус, и хозяйка, — продолжал он, устремив взгляд на высокую белокурую швейцарку, прислуживающую ему, — хозяйка так же свежа, как и мила. Право, мне хочется дождаться кайзерликов!
Эти слова заставили старого пастора нахмурить брови.
— Как, мсье, — спросил он, — вы так хладнокровно решаетесь стать военнопленным и отправиться в какой-нибудь жалкий городишко или в мрачные крепости на берега Дуная?
— Да, незавидная перспектива, мсье, а не можете ли вы спрятать меня здесь, в каком-нибудь шкафу, пока пройдут эти проклятые немцы?
— Мой дом мал, в нем невозможно спрятаться. Притом жители деревни наверное видели, как вы подошли ко мне, и они выдадут вас. Наконец, мсье, я живу здесь с моей старой и больной женой, которая лежит в верхней комнате, и с дочерью Клодиной, которую вы видите. Неужели вы захотели бы предать нас мщению солдат, если они найдут вас здесь?
— Вы правы, — француз с живостью поднялся. — Ваше доброе участие могло бы тогда иметь для вас и для вашего семейства плачевное последствие. Итак, я ухожу, и прошу вас принять мою благодарность за услугу, оказанную мне вами в моём неприятном положении.
Он раскланялся с отцом и дочерью и направился к двери, но пастор, растроганный этим благородным поступком, удержал его.
— Одну минуту! — сказал он. — Я не могу укрыть вас здесь, но тем не менее готов оказать вам все зависящие от меня услуги. Куда вы думаете идти?
— Право, я и сам не знаю, куда… Отойду, сколько могу, чтобы скрыться от австрийцев, если же они поймают меня, придется, конечно, примириться с дунайскими крепостями.
Пастор подумал с минуту.
— Если б только, — сказал он наконец, — у вас хватило сил преодолеть несколько десятков лье по горам, по трудным дорогам, в самое короткое время я отвел бы вас в Цюрих.
Офицер вздохнул.
— Присутствие вашей прелестной дочери и прекрасное бордосское меня немного оживили, но тридцать шесть часов ожесточенного сражения и рана, конечно, серьезная, это правда, однако я потерял много крови, — все это делает меня решительно неспособным совершить подобный подвиг. Надо поискать другое средство… Нет ли по соседству какой-нибудь уединенной лачужки, от которой на целое лье вокруг пахнет сыром и коровником, где бы мне можно было скрыться на день или на два? Мой приход не окажется в тягость честной швейцарке, которая согласилась бы приютить меня, потому что кошелек у меня довольно туго набит.
— Немецкие мародеры обыщут всю округу, и вы неизбежно будете обнаружены… Есть, однако, здесь некто, который, если бы только захотел, мог бы, возможно, дать вам убежище…
— Кто же это такой?
— Один скромный человек. Живет он всего в четверти лье от деревни, но в таком месте, которого никому не найти, кроме здешних жителей. Думают, что он француз, потому что очень хорошо говорит на вашем языке, и католического вероисповедания. Быть может, он и принял бы участие в соотечественнике. Но его странный характер не позволяет рассчитывать на это с уверенностью.
— Откуда же у него эти странности?
— Бог его знает, сударь. У этого человека таинственные привычки: часто пропадает из своего жилища на несколько дней, и никто не знает, куда он уходит. Несмотря на то, он так добр, обязателен, милостив…
— Отец! — испуганно прервала пастора девушка, запирая дверь. — Вот идут солдаты.
— Моя сабля!.. — вскричал офицер.
Пастор вырвал у него оружие.
— Что вы затеваете, мсье? Сопротивление в подобном случае было бы безумием… Ну, теперь медлить нечего, идите за мной.
— Куда же?
— В жилище господина Гильйома, того лица, о котором я вам только что говорил. Но погодите, надо предпринять некоторые предосторожности…
Он набросил на плечи капитана короткий, черный плащ, чтобы скрыть его мундир, а на голову надел шляпу с широкими полями, возвратил ему саблю, посоветовав не употреблять ее в дело ни в каком случае. Потом отворил заднюю дверь, ведшую в небольшой цветущий сад, и попросил гостя подождать тут, пока он проверит, нет ли кого-нибудь на дороге.
Капитан остался наедине с хорошенькой Клодиной.
— Мадемуазель, — сказал он с изысканной любезностью, — как выразить вам мою признательность за ваше участие в моей судьбе? Верьте, что и без этого воспоминание о такой прекрасной, такой грациозной особе осталось бы навсегда в моей памяти.
Он забыл, что прекрасная швейцарка почти ни слова не понимает по-французски. Она стояла неподвижно, с опущенными глазами. Поняв свою ошибку, капитан обхватил талию Клодины здоровой рукой и дважды поцеловал щечку.
Через минуту возвратился старик.
— Идем, идем, — сказал он, — пока не поздно…
— Я готов, — сказал капитан.
Он раскланялся с Клодиной, еще не успевшей опомниться от его последнего комплимента, и, закутавшись в плащ, отправился вслед за пастором.
Миновав сад, они вышли через решетчатую калитку на тропинку, которая, извиваясь между одиноких скал и кустарников, вела в горы.
Пастор вел за собой своего спутника, не говоря ни слова. Вскоре позади послышались крики австрийских солдат, беспорядочные выстрелы и неистовые удары в ворота домов.
— Ну, — произнес капитан с иронией, оглянувшись на деревню, — нельзя сказать, что ваши друзья немцы дают знать о себе с изысканной вежливостью. Я тем более ценю благородное чувство, побудившее вас оставить свой дом при таких обстоятельствах, чтобы послужить проводником для несчастного беглеца.
— О, нам недалеко идти, и если господин Гильйом будет мало-мальски сговорчив, я вовремя успею вернуться к моему семейству… Но вы пригнитесь, мсье, — прибавил пастор с беспокойством. — Эта часть дороги, к несчастью, открыта, и нас могут увидеть из деревни. Смотрите, вон на краю дороги стоит австрийский майор… Он заметил нас. Пригнитесь, я вам говорю! Дай Бог, нас примут за служителей церкви, испуганных той суматохой и оставивших свою паству в минуту опасности, потому что, увы! во многих христианских общинах довольно дурно расположены к духовенству… Да, да, я угадал, офицер удаляется со смехом. Да простит ему Бог недостаток христианской любви, если его ошибка спасает нас!
К счастью, в этом месте тропинка спускалась вниз, и деревня скрылась из вида. Земля здесь была покрыта грудами камней, среди которых тропинка образовывала тысячу извилин. Впереди возвышались отвесные скалы, громоздившиеся одна на другой, и горы, не слишком высокие, но недоступные. Никакой шум не проникал в это мирное убежище из равнины, уже заполненной солдатами. Только журчание потока, которого, однако, не видно было — так глубоко было его ложе, — и пение дроздов нарушали безмолвие.
— Честное слово, здесь преудобное место для засады, — сказал капитан с видом знатока, — но вам нет нужды идти далее, мой дорогой проводник. Здесь мне нечего бояться, укажите только дорожку, по которой мне идти, и вернитесь поскорее в Розенталь, потому что, я вижу, вы очень беспокоитесь о своем семействе.
— Я не думаю, что опасность для них была так велика, — ответил старик, — но, хотя дом господина Гильйома не очень далеко отсюда, одному вам будет трудно отыскать его.
— Значит, этот человек, к которому мы идем, имеет очень важные причины скрываться?
— Не знаю. Может быть, господин Гильйом — одна из тех растерзанных душ, которые после долгих страданий ищут уединения… Так как он не очень общителен, то и составляет предмет множества догадок. Говорят, он очень богат, раздает обильные милостыни… Во всяком случае, его не беспокоят и оставляют жить, как ему угодно.
— Он живет один?
— Насколько мне известно, у него нет ни родственников, ни слуг.
— Все это очень оригинально, и в какой-нибудь другой стране вывели бы на чистую воду аферы вашего Гильйома… А как давно живет он в этом кантоне?
— Около пятнадцати лет.
— Значит, это не может быть эмигрант, — задумчиво произнес капитан, — но кто бы он ни был, мне все равно, лишь бы оказал гостеприимство… Однако же, ради Бога! Куда вы привели меня, мсье? — прибавил он, остановившись.
— По-моему, мы заблудились, ни шага нельзя сделать далее в эту сторону.
Действительно, тропинка упиралась в огромный обломок скалы, упавший с вершины утеса, и здесь ясно были видны следы одного из ужасных обвалов, так частых в Альпах. Очевидно, некогда тропинка проходила здесь, но последний обвал перерезал ее неприступной стеной шестидесяти футов высоты.
Пастор не дал своему спутнику времени полюбоваться этими величественными развалинами. Он взял его за руку и указал на маленькую боковую тропинку, которую молодой человек не заметил среди зарослей остролистника.
— Сюда, — сказал он ему, улыбаясь. — Вот мы и пришли к Потерянной Долине. Отсюда недалеко и дом господина Гильйома.
— Потерянная Долина? — повторил капитан. — Место, где мы находимся, носит это название? Право, она заслуживает его как нельзя более.
— Потерянная Долина находится там, точнее, была там, за этими скалами… Это было прекраснейшее место во всей Швейцарии. Вообразите небольшую равнину, которая была доступна только с одной стороны, и где почти круглый год царствовала весна. Виноград там рос чудесно, и померанцы приносили превосходные плоды. Наши добрые розентальцы сравнили бы это место с земным раем. Некогда эта долина принадлежала господину Гильйому, который выстроил там прекрасный дом. Но лишь только работы были закончены, как в одну ненастную ночь услышали в Розентале страшный шум; земля тряслась, как будто наступило светопреставление. На другой день узнали, что огромные скалы, упав, загромоздили собой ущелье, которое вело в долину. К счастью, господина Гильйома тогда там не было, иначе он неизбежно погиб бы под развалинами. По возвращении сюда он обосновался в доме неподалеку от долины, в которой мы, вероятно, найдем его и теперь. С этого времени погребенную под скалами равнину называют Потерянной Долиной.
— Потерянный Рай был бы более в библейском духе ваших прихожан, мсье пастор, — заметил его спутник. — Но неужели никто не постарался после той катастрофы узнать, что сталось с этим прекрасным уголком?
— Вы видите, мсье, ущелье совершенно завалено, думают, что обвал не пощадил и долины. Поэтому не сочли нужным делать изыскания, когда тот, кого всего более они должны были бы интересовать, высказывает такое равнодушие в этом отношении. Между тем охотники, которые иногда бывают на вершине горы неподалеку от Потерянной Долины, рассказывают необычайные вещи…
— Что же они видели там, мсье? — заинтересовался француз.
— Разные чудеса, достойные тысячи и одной ночи — мужчин и женщин, превращенных в камни… Но оставим эти сказки, — прибавил пастор с достоинством. — Человеку моего звания неприлично повторять их, а вам не время слушать их. Вот мы и пришли к господину Гильйому.
Глава II Гильйом
Действительно, беглецы тем временем обогнули подошву утеса и достигли густой каштановой рощи, под которой приютился маленький домик. Никаких хозяйственных строений, никакого хлева не было при этом скромном жилище. Земля вокруг него была не обработана, за исключением одного уголка, где сквозь частый плетень виднелось что-то вроде небольшого садика. Разросшиеся деревья отбрасывали густую тень, сквозь которую не могли проникнуть солнечные лучи.
Когда пастор и его спутник подошли к дому, на них с лаем бросилась собака в ошейнике с железными шпильками. Но, узнав пастора, она перестала лаять и потерлась мордой о руку старика.
— Не бойтесь, это Медор, верный сторож господина Гильйома, — сказал пастор, погладив пса.
Внутренность дома нисколько не свидетельствовала о богатстве, про которое говорил пастор. Мебель была добротная, но простая, какая бывает у не очень зажиточных швейцарских фермеров. И в особе самого Гильйома не было ничего примечательного. Ему нельзя было дать более пятидесяти лет. Лицо свежее и спокойное; легкая дородность придавала его фигуре важность, не делая ее однако обрюзгшей. На Гильйоме были черный сюртук и суконные панталоны с серебряными пряжками, волосы тщательно запудрены. Внешний вид его был благороден, что трудно ожидать от человека, удаленного от света. В серебряных очках на носу он сидел за столом и просматривал толстую счетную книгу с медными застежками, и его можно было бы принять за управляющего, готовившегося дать отчет своему хозяину-аристократу.
Увидев вошедших, Гильйом закрыл книгу и бережно положил ее в открытый ящик стола. Потом встал, подошел к пастору и с улыбкой пожал ему руку.
Не теряя времени, старик объяснил ему, в чем дело. Гильйом пристально посмотрел на молодого человека и задумался.
— Любезный господин Пенофер, — сказал он наконец, — я с охотой принял бы участие в вашем добром деле, но в этом доме нет почти ничего, что необходимо для раненого, и притом он находится слишком близко от Розенталя, чтобы мог стать для него убежищем. Я могу приютить вашего протеже до завтрашнего утра и охотно предоставлю все, в чем он будет иметь нужду. Только, заметьте, до завтрашнего утра, потому что…
— Одной ночи передышки и сна для меня будет достаточно, — прервал его капитан. — Я не могу обременять вас, сударь, и пробуду здесь только крайне необходимое время. Завтра на рассвете я распрощаюсь с вами и принесу вам искреннюю благодарность за услугу, которую вы мне окажете.
Этот ответ, казалось, понравился Гильйому.
— Ну, так решено! — сказал священник. — Я был уверен, что мы не напрасно рассчитывали на преданность нашего соседа. Теперь, благодаря Богу, вы в безопасности капитан, по крайней мере, на несколько часов, и я могу вернуться в Розенталь.
— Да, мой достойный покровитель, — с чувством произнес француз. — Идите, и если увидеться снова нам не суждено, то будьте уверены, что воспоминание о вас никогда не изгладится из моей памяти.
— Я с моей стороны, мсье, — спросил пастор, сжимая его руку, — не могу ли знать имя того, кому имел счастье оказать услугу?
— Мое имя Арман Вернейль… Капитан Вернейль из шестьдесят второй полубригады.
Гильйом быстро подошел к нему.
— Вернейль? — повторил он. — Вы кавалер де Вернейль, сын адмирала де Вернейля, умершего на чужбине?
— Вы знали моего отца? — удивленно воскликнул молодой человек.
— Я? Нет, но я часто слышал, как говорили о нем во Франции, в Париже.
— Мой любезный мсье, — продолжал капитан тоном полувеселым, полусерьезным, — если я смею о чем-либо просить, так это о том, чтобы вы не щекотали мой слух этим «де» — титулом кавалера в короткие минуты, которые мы должны провести вместе. Хотя мы живем и не в те времена, когда резали головы за то, что эти слова ставили перед своим именем, но все-таки неблагоразумно было бы щеголять ими. Впрочем, еще задолго до революции, уничтожившей подобные различия, я считал неуместным упоминать это «де» и титул «кавалера», потому что мой бедный отец, сделав меня сиротой, не оставил мне средств прилично поддерживать ни того, ни другого… Но эти разбирательства бесполезны… Итак, прощайте, — обратился он к пастору, — почтенный друг мой, благородный или нет, капитан Вернейль никогда, однако, не был неблагодарен.
Пенофер хотел идти, как вдруг снаружи послышался шум шагов и в комнату вбежала, запыхавшись, дочь пастора, белокурая Клодина с разбросанными по плечам волосами и лицом, раскрасневшимся от быстрого бега.
— Отец! — воскликнула она. — Спрячьте скорее француза. Они идут!
— Кто идет, дитя мое?
— Австрийские солдаты! Не успеешь прочесть псалма, как они будут здесь.
— Кайзерлики? — воскликнул изумленный Арман де Вернейль. — Как они могли найти меня?
Молодая швейцарка, видимо, угадала смысл этих слов, произнесенных по-французски.
— Кажется, — ответила она, потупившись, — они очень раздражены тем, что у подошвы Альби их натиск сдерживался горсткой французов, и хотят поймать офицера, который командовал ими. Они следили за ним издали, когда он пробирался к Розенталю, и грозятся предать огню деревню, если им не выдадут беглеца. Соседи видели, как француз вошел в наш дом, и поспешили сказать об этом. Солдаты бросились к нам и подняли страшный гвалт, который ужасно перепугал мою бедную мать и меня. Я не знала, что отвечать на их вопросы, когда австрийский майор вспомнил, что при входе в Розенталь он видел двух человек в одежде протестантских пасторов, которые направлялись сюда. Он утверждал, что один из этих двоих должен быть француз…
— Будь прокляты эти горы, где нельзя сделать и шага без того, чтобы тебя не увидели на три лье в окружности! — проворчал капитан.
— Но как же они узнали, что мы направились к господину Гильйому? — спросил пастор свою дочь.
— Солдаты грозились разграбить деревню, и наши соседи, испугавшись, выразили готовность отвести их до места, где они могут поймать чужестранца. Узнав, что вы направились в эту сторону, крестьяне догадались, что вы у господина Гильйома, и многие вызвались быть проводниками. Майор принял их услуги, и они пустились в дорогу… Что до меня, то я воспользовалась минутой, когда за мной не наблюдали, прокралась через сад и поспешила, чтобы предупредить вас. Австрийцы теперь рубят по дороге кустарник и ставят везде часовых. Но я бежала по дороге, известной мне одной, через лес и, слава Богу, пришла сюда вовремя.
При этих словах Клодина поправила свою юбку и косынку, приведенные в некоторый беспорядок кустами ежевики и терновника.
— Вы ангел! Ангел, ангел, юная фрау! — с жаром воскликнул Арман Вернейль, призывая на помощь все свои познания немецкого и прижимая к губам руку девушки.
В следующий миг раздался свирепый лай.
— Они идут, — сказал Гильйом с беспокойством. — Надобно на что-нибудь решиться.
Капитан вздохнул.
— Право, эта травля начинает надоедать мне. Я не хочу более подвергать опасности честных людей, принимающих во мне участие… Не лучше ли отдаться этому неприятельскому офицеру, который преследует меня с таким ожесточением?
— У вас всегда будет время сделать это, — возразил пастор.
— Нет, нет! — прошептала Клодина со слезами на глазах.
— Уж не хотите ли вы, чтобы я играл в прятки с этими ищейками? — с иронией спросил Арман Вернейль. — Наступает вечер и благодаря темноте, мне, быть может, удастся скрыться от них… Хотя, говоря откровенно, я не нахожу в настоящую минуту большого удовольствия в этой игре…
— Не говоря уж о том, что вы можете попасть под пулю, — прибавил Гильйом, — что было бы жалко, потому что, несмотря на кажущуюся ветреность, вы добрый и храбрый молодой человек. У меня есть другое средство.
К удивлению пастора и его дочери, он отвел капитана Вернейля в угол комнаты и тихо сказал ему:
— Опасность, которой вы подвергаетесь, мсье, весьма велика. Я могу и хочу спасти вас, если вы согласитесь на мои условия.
— Какие это условия?
— В том месте, куда я вас отведу, вы должны обещать никогда не открывать рта для произнесения ругательств или насмешек, как бы странны ни показались вам вещи, которые вы увидите или услышите. И еще… Вы должны хранить тайну этого приключения, когда выйдете оттуда.
— Вот странное требование! Между тем, если моя совесть…
— От вас не требуют ничего, что было бы противно совести честного человека.
— Ну что ж! Начало довольно романтическое. Но так как мне не из чего выбирать средства к спасению, то я обещаю.
— Вы клянетесь словом христианина?
— Клянусь.
— Честью дворянина?
— Честью дворянина и офицера шестьдесят второй полубригады.
— Этого довольно… Будьте готовы идти за мной.
Гильйом подошел к пастору и его дочери, изумленным этим таинственным разговором.
— Мой добрый Пенофер, — сказал он, стараясь казаться спокойным, — я нашел средство спасти вашего протеже, но я открою вам его после — теперь минуты дороги… Клодине и вам нечего бояться австрийских солдат. Удержите их здесь минут на пять, как можете… Через пять минут наш друг будет в безопасности.
— Но, мсье, — начал было пастор, — я не могу понять…
Лай Медора стал еще свирепей и еще ближе; уже можно было различить человеческие голоса и звуки шагов.
— Пошли! — сказал Гильйом.
И он вывел Вернейля из дома.
Они углубились в рощу, почти непроходимую, и через несколько минут оказались у подножия огромных скал, которые образовывали естественную ограду Потерянной Долины. Гильйом остановился и положил руку на плющ, вьющийся по утесу, и капитану послышался отдаленный звук колокольчика.
Они ждали около минуты. Наконец вверху что-то начало двигаться. Капитан с беспокойством поднял голову. Примерно в тридцати футах от земли из скалы выдвинулась лестница. Она медленно опускалась, пока не достигла гранитной скалы.
— Пошли, — сказал Гильйом, прислушиваясь к крикам, доносившимся из дома. — Я предпочел бы лишиться жизни десять раз, чем позволить, чтобы эту тайну узнал еще кто-нибудь в мире.
Он начал взбираться по ступеням лестницы с быстротой, какой трудно было ожидать от человека его комплекции. Арман отправился вслед за ним, подстрекаемый любопытством и желанием скрыться от австрийцев. Вскоре они очутились на узкой платформе, на конце которой виден был темный грот.
Гильйом подошел к гроту и легонько свистнул. Тотчас лестница начала подниматься и исчезла в невидимом углублении, так что нельзя было заметить, какая сила приводила ее в движение.
Но Гильйом не дал Вернейлю времени для наблюдений, он взял его за руку и повел в грот. Через несколько шагов стало совершенно темно. Однако капитану почудилось, что за ним опустилась железная решетка и закрылась дверь. Он подумал, что грезит, голова у него кружилась. Густая темнота, среди которой шел Арман, казалось, имела сверхъестественную плотность. Рука, державшая его, представлялась молодому человеку рукой гиганта. Самые странные мысли бродили у него в голове, чудовищные образы рождало помутившееся сознание.
Но эти галлюцинации продолжались недолго. Вскоре впереди показался дневной свет, и приветливый голос Гильйома прошептал Арману на ухо:
— Благодарите Бога, вы спасены. Вы теперь в Потерянной Долине.
В следующую минуту они очутились на открытом воздухе, в прекрасной аллее. Немного оправившись от изумления, капитан оглянулся: чтобы посмотреть на дорогу, по которой они сюда пришли, но не заметил в скале никакого следа ни двери, ни подземного хода. Он хотел было попросить объяснений у своего проводника, как вдруг крик удивления и почти ужаса раздался в двух шагах от него.
Тот, кто испустил этот крик, имел такое поразительное сходство с обитателем домика в роще, что в нем без труда можно было узнать брата Гильйома. Он был одет в такой же костюм, имел те же приятные и благородные черты лица.
Только в то время как лицо Гильйома сохраняло спокойное выражение, на лице его брата было написано сильное волнение.
— Гильйом, — произнес таинственный привратник Потерянной Долины, — любезный Гильйом, что ты затеял? Я думал, что прежде эти горы разрушатся, чем мой брат приведет сюда незнакомца! Старик с ума сойдет от беспокойства.
Гильйом с улыбкой покачал головой.
— Разумеется, мой добрый Викториан, — сказал он, — я ему объясню свой побуждения, и он их одобрит. Я пользуюсь большей доверенностью с его стороны, чем ты, и отвечаю за все. Пойдем, отыщем его поскорее.
— С охотой, брат мой. Я никогда не осмелюсь причинить ему беспокойство.
Гильйом с той же улыбкой прибавил несколько слов тихим голосом и, взяв Викториана под руку, обратился к изумленному капитану:
— Мсье Вернейль! Обстоятельства, заставившие меня привести вас сюда, были очень важны, и я не имел времени получить на это приказания того, кто один имеет право распоряжаться в Потерянной Долине. Потерпите немного, пока мы с братом исполним свою обязанность, надеюсь, вы прождете недолго… Подите сюда, — продолжал он, указывая на зеленую тропинку, извивавшуюся близ подошвы утеса, — там, наверху, вы найдете скамейку и можете отдохнуть до нашего возвращения… До свиданья!
Он поклонился, не дожидаясь ответа, и братья удалились, что-то обсуждая вполголоса. Скоро шум их шагов затих в отдалении.
Молодой человек направился вверх по тропинке и достиг небольшого бельведера[3].
Здесь он сел на скамейку и начал рассматривать местность.
По мере того, как он предавался своим наблюдениям, его лицо попеременно выражало различные чувства: изумление, удивление, замешательство.
Глава III Аркадия
Взору капитана Вернейля представилась действительно волшебная и чудная картина.
Внизу расстилалась цветущая равнина, защищенная со всех сторон горами, не очень высокими, но неприступными. Эти горы были покрыты зеленью почти до самой вершины, холмы заросли цветущими кустарниками. Эта великолепная рама обрамляла долину, и она казалась то ли садом, то ли очаровательным виноградником. Рука человека, правда, постаралась кое-что прибавить здесь к прелестям природы и это придавало местности еще больше очарования.
Водопад, низвергавшийся с высот в снежных каскадах, образовал внизу быстрый ручей, катившийся по белым камешкам в прекрасное озеро с тихими водами и цветущими берегами. Его воды то журчали под сводами сребролистных ив, то тихо струились под незатейливыми мостиками, сделанными из древесных пней, покрытых мхом. По берегам ручья раскинулись плодоносные поля, а за ними — густые рощи. Там и здесь виднелись статуи богов и мраморные нимфы. Китайские беседки с колокольчиками, причудливые домики были расположены всюду, откуда только открывался восхитительный вид. В прогалинах видны были тисовые деревья, подстриженные в форме беседок, обелисков, древних ваз; в некоторых местах кристальные брызги водопадов с монотонным звуком падали на душистые каштаны, росшие вокруг бассейна с зеленой водой.
Жилище обитателей этого очаровательного места виднелось в центре долины с цветником перед его фасадом. Это был аккуратный домик под аспидно-черной кровлей с открытыми галереями, причудливыми балконами, с большими окнами, в которых было бесчисленное множество витражей. Виноградные лозы увивали стены дома и часть крыши. Вдали, на некотором расстоянии от главного здания виднелись скрытые за завесой густой листвы строения менее роскошные. Это были, без сомнения, скотные дворы для коров и баранов, которые мирно паслись на лугу у подошвы гор.
В этом маленьком Эдеме все дышало роскошью и негой. Солнце, скользившее по вершинам соседних утесов, золотило пейзаж, воздух был изумительно прозрачен. Легкий ветерок дул с озера, донося слабый запах померанца и жасмина, смешанный с благовониями нарда и альпийского шиповника. На деревьях щебетали птицы, шум водопада перекликался с журчанием ручья, и серебряный звук колокольчиков на коровах примешивался по временам к этим звукам.
Легко понять, что капитан Вернейль, еще не успевший позабыть все ужасы недавнего сражения, посчитал увиденное миражом. Блестящий, невозможный мир, в котором он очутился таким необычайным образом, не мог быть миром действительным, и он старался изо всех сил избавиться от их грез. Но напрасно капитан ждал, что этот мираж исчезнет, что фантастическая страна примет печальные очертания пустыни. Ослепительно-прекрасная картина была вся тут, неизменная, во всем своем блеске и поэзии.
Неожиданно вдалеке раздался протяжный и томный звук флажолета. Потом инструмент умолк, и мелодичный голос запел:
«Граждане этих вод! Оставьте вашу наяду в ее глубоком гроте, идите смотреть на предмет, который милее в тысячу раз; не бойтесь попасть в темницы прекрасной: она к вам не жестока. Вы будете приняты ласково, и пусть для некоторых приманка будет гибельна, умереть для моей Эстеллы — вот жребий, которому я завидую».
Вернейль поискал глазами неизвестного певца, переложившего на музыку слова басни Лафонтена. Он увидел его в лодке, на озере. Лодка, расписанная яркими красками, разукрашенная позолотой, имела форму древней галеры, и ее нос, похожий на шею лебедя, возвышаясь над водой, медленно рассекал их. Но сколь ни необычайно было появление этой лодки, костюм лодочника был еще необычайнее: шелковые чулки, панталоны, подвязанные лентами, легкий жилет и шляпа, украшенная цветами. Прибавьте к этому напудренные волосы, круглое и румяное лицо восемнадцатилетнего юноши, который, сидя в своей лодке, вытаскивал сети, полные форели, и повторял: «Умереть для моей Эстеллы — вот жребий, которому я завидую».
Лодка мало-помалу удалялась и наконец скрылась за деревьями, окаймлявшими берег озера.
Арман подумал, что все эти видения были плодом горячки, которая могла овладеть им после стольких страданий. Поэтому он решил, что прогулка будет ему на пользу.
Но не сделал капитан и пятидесяти шагов, как из-за кустов боярышника и шиповника, возвышавшихся перед ним, послышался женский голос.
«На зеленых кустах зяблик, — пела женщина, — на вязе этом горлица; жаворонок среди воздуха, а кузнечик под травой молодой, — все поют: страшитесь потерять и один день из прекрасного времени любви».
— Славно! Вот теперь из Флориана! — прошептал Вернейль. — Право, я попал в страну химер. Осталось только увидеть за этими кустами какую-нибудь хорошенькую пастушку, которая стережет своих маленьких белых барашков… Да, черт возьми, непременно пастушку, иначе волшебница, которая распоряжается здесь, — урод, ничего не смыслящий в своем ремесле!
Он встал на цыпочки и, раздвинув ветви кустарника, оглядел небольшую лесную прогалину, откуда слышался голос. Успех превзошел его ожидания, вместо одной пастушки он увидел двух.
Молодые девушки были одеты в коротенькие платья с шелковым корсетом, зашнурованным на груди, между тем как руки и плечи были обнажены; головной убор состоял из маленькой соломенной шляпы, одетой немножко набок, с гирляндой из натуральных цветов. Одна была стройная, задумчивая брюнетка, ее густые ресницы почти скрывали черные, томные глаза. Она стояла, прислонившись к дубу и держа в руках посошок с серебряным наконечником, увитый лентами и розами. У ее ног спала огромная белая собака с огненными отметинами. Другая девушка, блондинка, сидела на траве, подперев голову рукой, и с улыбкой глядела на свою подругу. Из плетеной корзинки около нее высыпались васильки и красные маки. Неподалеку от этих очаровательных созданий бродили по лугу барашки, щипавшие нежные верхушки молодой травы, — прекрасные барашки, снежной белизны, с серебряными погремушками на ошейниках.
Пастушки о чем-то тихо разговаривали. Капитан затаил дыхание и прислушался.
— Перестань, сестрица, — говорила брюнетка. — Напрасно ты, Эстелла, стараешься развеселить меня своими песнями. Ты счастлива, ты любишь Неморина, и любима им; ты станешь его супругой. Твои желания никогда не стремились дальше этой долины. Самые важные огорчения в твоей жизни были: смерть твоего любимого козленка и белой горлицы, унесенной горным орлом. Когда по утрам ты находишь у себя на окне прекрасный букет, собранный твоим пастушком, то потом целый день поешь и смеешься, бегая по тропинкам, по берегу ручья. Ты поешь и вечером, когда мы возвращаемся домой, и твоя ночь мирна, как наше озеро в безветренный день… Но не так бывает со мной!
Девушка вздохнула. Эстелла грациозно поднялась и, подбежав к сестре, обняла ее с нежностью.
— К чему эта грусть, Галатея? Отчего ты не так же счастлива, как все мы? Я хочу наконец это узнать! Чего недостает тебе? Разве ты не любишь Лизандра, которого Филемон назначил тебе в супруги? Скажи мне правду: не предпочитаешь ли ты, — голос молодой девушки изменился, — Неморина его брату, моего жениха, моего… Но все равно! Если так, Галатея, ты непременно должна сказать мне, и я откажусь от Неморина, и сама пойду просить Филемона…
Галатея покачала головой и улыбнулась. Сестра снова обняла ее еще с большей нежностью.
— Ты не любишь моего Неморина, моя добрая, моя милая, моя благородная Галатея? — спросила она. — Ах, тем лучше, потому что я умерла бы от этого… Но в самом деле, Неморин слишком легкомыслен, чтоб мог тебе понравиться. Лизандр, напротив, важен, рассудителен, любит уединение, как и ты, ему часто случается проводить целые дни в одиночестве… Однако Лизандр тебя любит, ты не должна сомневаться в этом… Вспомни тот вечер, когда над Потерянной Долиной разразилась страшная буря. Ручей, переполненный дождевой водой, выступил из берегов и унес наши мостики, между тем как ты убежала в беседку на другой стороне ручья; тогда Лизандр через свирепый поток прибежал на твой крик и избавил тебя от опасности провести ночь в этой беседке, открытой для всех ветров… А зимой, не он ли спас тебя от медведя, который спустился сюда с горных вершин и которого он убил своим охотничьим ножом? Каких еще ты хочешь доказательств любви?
— Ты ошибаешься, Эстелла, — печально ответила Галатея. — Лизандр действительно, не задумываясь, пожертвовал бы своей жизнью, чтобы оказать мне услугу, но он не любит меня так, как Неморин любит тебя, и я не так люблю его, как ты любишь Неморина. Мы испытываем друг к другу братскую привязанность, и ничего более; мы с ним откровенно объяснились об этом. Лизандр старше всех нас, и он подвержен тайным страданиям, которых никому не хочет открыть. Я тоже, милая Эстелла, часто испытываю странное беспокойство. Я вижу во сне тот неизвестный мир, который существует, говорят, за этими горами и о котором рассказывают прекрасные книги, которые нам часто по вечерам читает Филемон. Я мысленно представляю себе праздники, которые бывают в больших городах, сияющих огнями, я вижу себя, украшенную драгоценностями и цветами, среди бесчисленного множества женщин, прекрасных, остроумных и милых, среди мужчин, молодых, храбрых и любезных; я слушаю упоительную музыку, чувствую, как ношусь в вихре веселого танца, всюду вокруг меня смех, движение, шум… Когда эти картины встают передо мной, то однообразие нашей жизни, спокойствие нашего уединения — все это наводит на меня грусть и тоску. Я смотрю на белые облака, плывущие по лазури неба, и завидую им, потому что ветер уносит их далеко отсюда; я смотрю на птиц и завидую их крыльям, потому что они могут летать, где им вздумается.
Галатея склонила голову на плечо Эстеллы, стараясь скрыть смущение.
— Я не понимаю тебя, Галатея! Зачем желать того, чего ты не знаешь? Вспомни, как Филемон ненавидит и презирает мир, в котором он провел часть своей жизни, и в какой ужасной картине он представлял нам его тысячу раз? Ах, Галатея, ты не имела бы этого отвращения к нашей жизни, если бы твое сердце было наполнено любовью.
— Может быть! — со вздохом прошептала Галатея.
— В таком случае, — продолжала Эстелла, — почему бы тебе не любить Лизандра, который так мил, так добр, так кроток? Сестрица, неужели ты надеешься найти в том мире, о котором постоянно думаешь, супруга более достойного, чем Лизандр?
— Не знаю, Эстелла, но Лизандр, несмотря на его благородные качества, вовсе не похож на созданный моим воображением портрет того, кого я должна полюбить…
— Нарисуй мне этот портрет, моя милая Галатея, прошу тебя! Скажи мне, как ты воображаешь себе своего жениха?
Галатея, поколебавшись, ответила:
— Я представляю себе молодого и прекрасного воина, который бы шел на битву, как на праздник, и заставлял бы дрожать всех, а сам дрожал бы только передо мной. Этот человек, сделавшись моим супругом, был бы очень знаменит, он возвращался бы ко мне из боевых походов, всегда увенчанный лаврами и похвалами восторженной толпы!
— А я боялась бы такого мужа, — сказала Эстелла. — Для меня лучше мой бедный Неморин, который так прост, так робок, что один мой взгляд утешает или огорчает его.
Капитан Вернейль и дальше наслаждался бы беседой сестер, если бы его присутствие не было обнаружено собакой, лежавшей у ног Галатеи. Однако пес известил своих хозяек об этом не посредством грубого лая и неистовых прыжков, как, конечно, сделала бы простая дворняжка. Он удовольствовался тем, что поднял морду и глухо зарычал.
— Кто может прийти сюда? — с испугом спросила Галатея. — Кому это вздумалось подслушивать наши секреты?
— Я догадываюсь, — сказала Эстелла. — Это Неморин поспешил поскорее вытащить сети, чтобы устроить какую-нибудь шалость.
— Диана не подняла бы тревоги из-за Неморина.
— Ну, так это Филемон ищет нас, потому что солнце уже скрылось за горой и нам пора возвращаться.
— Нет, нет! Давай посмотрим, кто нас подслушивал… Я умру от стыда, если кто-нибудь другой, кроме тебя, мог меня слышать.
Она взяла сестру за руку и направилась к кустам. Арман понял, что его сейчас увидят. Он поспешно отступил на несколько шагов, привел в порядок свои волосы и поправил мундир, довольно-таки износившийся. В ту минуту, как он заканчивал эти приготовления, перед ним появились обе пастушки.
Увидев его, они испуганно замерли. Резвая Эстелла хотела было убежать, но Галатея удержала ее.
Капитан Вернейль, сняв шляпу, церемонно поклонился девушкам.
— Чужестранец, кто вы такой? — спросила Галатея. — Как вы попали сюда?
— Милостивые государыни, меня привел сюда господин Гильйом, которого вы, без сомнения, знаете… Я солдат, служу французской республике и прошу у моих соотечественников гостеприимства только на одну ночь.
— Солдат, воин, сын Марса! — прошептала Эстелла, совершенно успокоившись.
Галатея молча разглядывала капитана. Увидев на его рукаве пятна крови, она побледнела.
— Он ранен! — вскрикнула она. — Боже мой! Уж не война ли где-нибудь вблизи?
— Не война, — отвечал Вернейль, улыбаясь, — а самая обыкновенная резня, и я удивляюсь, как слух о ней не дошел сюда. Однако успокойтесь, моя рана неопасна, и с тех пор, как я увидел вас, я не чувствую боли.
— Какая миленькая ложь! Неморин никогда бы не придумал такой ответ! — сказала наивная Эстелла. — Ну, сестра, надо отвести этого молодого воина к нам. Филемон, конечно, вылечит его.
Галатея сняла с плеч голубой шелковый шарф с золотой бахромой и обвила им раненую руку капитана. Арман опустился на одно колено для принятия этой милой услуги и поцеловал в знак благодарности прекрасную ручку пастушки.
— На что бы только ни отважился я, — сказал он, — чтобы заслужить такое обхождение!
— Пойдемте, пойдемте, — заторопилась Эстелла. — Обопритесь на меня, чужестранец. Не бойтесь, я не устану, я сильная, а наш дом недалеко отсюда.
— Дайте мне свое оружие, — робко прибавила Галатея, взяв у капитана саблю, — оно мешает вам идти.
Арман охотно уступил желанию этих обворожительных созданий, и они повели его в сторону рощи. С одной стороны хорошенькая Эстелла старалась приноровить свой шаг к размашистой походке офицера, с другой — Галатея, оставившая барашков на попечение Дианы, шла, неся в руках смертоносное оружие, на котором она еще не заметила красноватых полос. Молодой человек смотрел поочередно на ту и другую с невыразимым восторгом.
— Чужестранец, — сказала Эстелла, — извините мое любопытство, но если вы солдат, воин, то как же у вас нет ни блестящего шлема, ни золотой кирасы, ни серебряного щита, ни длинного копья, украшенного цветом вашей невесты?
Этот наивный вопрос заставил капитана улыбнуться.
— Республиканские солдаты, прекрасное дитя, — ответил он, — одеваются вовсе не так, как древние рыцари. У нас нет ни кирас, ни щитов, наши одежды, как видите, не роскошны, и никогда до сих пор, — продолжал он, бросив выразительный взгляд на Галатею, — я не имел счастья носить цвет какой бы то ни было красавицы.
Галатея, более серьезная и более осторожная, поспешила сказать:
— Извините мою сестру, она в первый раз увидела чужестранца и не имеет никакого понятия о том мире, из которого вы пришли.
Тем временем из рощи, к которой они направлялись, вышли два человека. Один был Гильйом, проводник Армана, другой — старик высокого роста с длинной бородой. Голова его была не покрыта, и густые седые волосы рассыпались по плечам. Старик держал в руке посох, в котором он, однако, не нуждался, потому что шел твердо и уверенно.
— Филемон! — почти в один голос прошептали девушки со страхом.
От старика не укрылось их смущение. Подойдя к сестрам, он сказал:
— Успокойтесь, мои милые, я не буду бранить вас за то, что вы оказали гостеприимство раненому солдату. — И прибавил, обращаясь к Вернейлю:
— Будь благословен твой приход к нам, молодой человек! Ты найдешь здесь только друзей.
Он протянул капитану руку и обнял его.
Вернейль, уже ничему не удивляясь, поблагодарил старика.
Между тем приближалась ночь и на небе появились первые звезды. Филемон тихо что-то сказал Гильйому, который поклонился ему с покорностью и удалился. Потом старик обратился к девушкам:
— Идите к своему стаду, мои милые, и предоставьте мне отвести чужестранца в наш дом… Вечерняя роса вредна для овец…
Эстелла и Галатея подчинились и не без сожаления вернулись назад, а Филемон, держа в одной руке саблю Армана, а другой поддерживая раненого, направился к дому.
С минуту они шли молча.
— Молодой человек, — прервал наконец молчание Филемон, — ты теперь мой гость. Не скрою, что если бы можно было поступить иначе, то я никогда не отважился бы допустить сюда чужестранца… Но просьба моего верного служителя, обязанности человеколюбия и некоторые другие причины заставили меня сделать для тебя то, чего я не сделал бы ни для кого другого. Я тебе напомню, однако, на каких условиях оказано тебе это гостеприимство. Мое семейство, живущее в долине, ничего не знает о мире, из которого ты пришел. Благодаря моим усилиям его тлетворное дыхание никогда не проникало в этот счастливый уголок земли. Как Адам и Ева в земном раю, обитатели долины живут спокойно и счастливо, потому что они не вкушали плодов древа познания добра и зла. Не будь же змеем-искусителем, показавшим эти проклятые плоды и предлагавшим им вкусить их. Может быть, несмотря на мои распоряжения, они будут задавать тебе какие-нибудь вопросы… Уважай чистоту этих девственных душ, блаженное неведение этих добродетельных детей. Если же своими насмешками или неблагоразумными откровениями ты заставишь их стыдиться того состояния, в котором они находятся, возбудишь в них желания, породишь сомнения в этих чистых душах, то совершишь дурной поступок, за который я сумею наказать тебя.
Капитан поспешил повторить обещания, данные Гильйому, и стал уверять старика, что он ничем не посмеет оскорбить своих новых друзей.
— Называй меня просто Филемоном, — сказал старик. — Эти знаки пустой вежливости здесь не в ходу… Я тебе верю, Арман де Вернейль, — прибавил он почти дружеским тоном, — потому что знаю — ты происходишь из благородного и почтенного рода. Итак, будь одним из моих детей, пока не заживет твоя рана, принимай участие в наших мирных радостях. Может быть, когда ты должен будешь нас оставить, то сделаешь это не без сожаления.
В продолжение этого разговора они пришли к жилищу. Дом от сада отделял двор. Одна сторона двора была занята обширной оранжереей с благоухающими растениями и птичником, где чирикало множество лесных птиц. На другой стороне находилось небольшое здание с двумя окнами и стрельчатой дверью. По золотому кресту на крыше Вернейль догадался, что это часовня.
У дверей дома на каменной скамье сидели двое молодых людей, которые встали, приветствуя Филемона. В одном Арман узнал Неморина, того юношу в лодке, костюм которого так поразил его незадолго перед тем. Другой, более рослый и более сильный на вид, с красивым и умным лицом, был одет почти так же, как Неморин, но в его костюме отсутствовали цветы и ленты.
Оба они глядели на чужестранца с любопытством.
— Отец, — произнес Неморин, обращаясь к старику, — я ловил в заливе рыбу новыми сетями, связанными Эстеллой, и ловля была удачна.
— Это хорошо! — ответил Филемон.
И он протянул Неморину руку, которую тот поцеловал.
— Отец, — сказал другой молодой человек, подходя к нему, — я водил быков на пастьбу в Ио, и все стадо теперь находится на скотном дворе.
— Это хорошо, Лизандр, — повторил Филемон.
Потом протянул он руку Лизандру так же, как и Неморину.
— Теперь, — прибавил он, указывая на Вернейля, — обнимите гостя, друга, которого вал посылает Бог.
Оба молодых человека повиновались: Неморин — с неловкостью сельского юноши, Лизандр — с достоинством уверенного в себе человека.
— Довольно, — сказал Филемон, — можете идти встречать своих пастушек.
Братья, поклонившись, удалились, младший проворно и весело, а старший довольно меланхолично. Скоро они скрылись в липовой аллее.
Эти различия в характере молодых людей не скрылись от Вернейля. Он хотел было расспросить Филемона о его сыновьях, но не решился.
Через несколько минут капитан был помещен в небольшой и со вкусом обставленной комнате в верхнем этаже дома. Его накормили, заботливо перевязали рану, и вскоре, лежа на превосходной постели, Арман мог свободно предаться размышлениям.
— Ну, — говорил он сам себе, — я в настоящей Аркадии: прекрасная природа, разодетые пастушки, нежные пастушки — чем не идиллия? Было бы, черт возьми, жалко, если бы кто-нибудь из этих негодяев — австрийцев прострелил меня насквозь в сегодняшней драке! Эта малютка Эстелла очень мила, а Галатея… О! Есть ли на земле более грациозное, более обольстительное создание, чем Галатея? Галатея! Моя милая Галатея! Он заснул, повторяя это имя.
Глава IV Пастушки и пастушки
Арман де Вернейль, как мы уже сказали, был сыном адмирала де Вернейля, умершего во время кругосветного путешествия. Когда случилось это несчастье, у Армана уже не было матери, и шести лет он остался круглым сиротой и без состояния. У мадам де Вернейль, уроженки Английской Индии, в Европе не было родственников. Родня же Армана со стороны отца была многочисленна и богата, но несогласия во мнениях и интересах удалили адмирала от его могущественных родственников, и его сын был им неизвестен. Один только граф де Рансей, живший тогда в Париже, принимал в сироте некоторое участие. Он выхлопотал мальчику казенное содержание в одной военной школе, и время от времени справлялся о своем протеже. Но у самого графа Рансея были дети, к тому же, как говорили, он был человек угрюмый, капризный, со странностями. Через несколько лет вдруг прекратились всякие известия о нем. Как сказали мальчику, граф, обратив свое имение в деньги, отправился с семьей в чужие края, где след его потерялся. Между тем еще однажды Арман Вернейль испытал действие эксцентрической благотворительности графа де Рансея. В тот день, когда он получил чин подпоручика в полку, который позднее сформирован был в шестьдесят вторую полубригаду, ему доставили двести луидоров вместе с письмом, исполненным добрых советов относительно его поведения в будущем, без подписи.
Легко понять, что несчастья первых лет не дали укорениться в Армане предрассудкам касты, к которой он принадлежал. Лишенный выгод, которыми пользовалась большая часть его школьных товарищей, он рано понял ничтожность известных общественных преимуществ. И он старался трудом вознаградить то, чего не доставало ему, и достичь этого. Довольный собой, Арман никогда не испытывал ни ненависти, ни зависти к своим товарищам, более богатым и счастливым, чем он. Он отделывался веселыми шутками, и когда сам ел во время завтрака сухой хлеб, смеялся над их лакомствами, вовсе не желая их, подобно Диогену, который грыз корку хлеба на роскошных пирах афинян, но Диогену без злости и желчи, готовому смеяться над самим собой при виде дыр на своем плаще, так же как над богатым костюмом своих товарищей.
Когда началась революция, Арман Вернейль не примкнул к тем, кто разделял гнев аристократов на уничтожение привилегий. Конечно, он должен был отказаться от своего офицерского чина, но вместо того, чтобы сделаться эмигрантом, поступил простым солдатом в свой полк.
Такой поступок спас его от подозрений, которые навлекли на себя во времена терроризма аристократы — приверженцы монархии. К тому же Армана обожали солдаты за его храбрость, за преданность товарищам и за свою неизменную веселость. Поэтому строгие комиссары, отправляемые в республиканскую армию, легко забывали о его дворянском происхождении и вскоре Арман Вернейль дослужился до чина капитана.
У него было доброе сердце, и он охотно пожертвовал бы своей жизнью, которой, впрочем, дорожил очень мало, чтобы воспрепятствовать несправедливости. Он был щедр, как все, у кого ничего нет, и его кошелек всегда был к услугам его друзей. Его характер, по природе пылкий, умеряло только чувство уважения к самому себе, которым он обязан был, быть может, своему рождению.
…Было уже довольно поздно, когда Арман Вернейль проснулся, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим, плотная занавеска над его постелью пропускала лишь слабые лучи света.
«Где я, черт возьми? — подумал он. — Я не слыхал, как били зарю, и мой денщик не приходил будить меня».
В эту минуту дверь отворилась, и кто-то осторожно просунул голову в комнату.
— Кто там? — спросил капитан.
Вошел Филемон, и, раздвинув занавеску, начал расспрашивать, как Вернейль провел эту ночь. Молодой человек, ослепленный ярким светом, все еще не мог привести в порядок свои мысли. Между тем как он смущенно щурился, Филемон снял повязку с его раны и внимательно осмотрел ее.
— Все идет как нельзя лучше, — сказал он с довольным видом. — Через три дня будешь совершенно здоров… А теперь можешь встать и праздновать вместе с нами воскресный день.
Арман вздрогнул. Он вспомнил свое вчерашнее приключение, и его глаза заблестели.
— Как! — обрадовано воскликнул он. — Я снова увижу этих милых особ, образ которых преследовал меня даже во время сна? Я могу бродить по вашим очаровательным садам, с этими милыми пастушками, с этой восхитительной Галатеей?
— Сегодня воскресенье, — ответил Филемон. — Молодежь проведет этот день в танцах и играх, свойственных ее возрасту, и ты можешь присоединиться. Но прежде мы должны поблагодарить Бога за благодеяния, коими он осыпает нас. Тебе, Арман, также есть за что благодарить Бога, который вчера еще так очевидно покровительствовал тебе среди битвы.
— Действительно, мсье… я хотел сказать. Филемон, я охотно покоряюсь, хотя, сказать по правде, давно уже не имел случая быть в церкви.
— Знаю, знаю, — произнес старик глухим голосом. — Я знаю, к чему привели глубокомысленные писания ваших мудрецов: они покрыли мир развалинами и кровью, они ниспровергли алтарь и умертвили священников… Между тем Жан-Жак, великий Руссо, их наставник во всем, не отвергал бытия Божьего. Но эти вспышки угаснут, и то, что вечно, не замедлит расцвести снова… А я, я предчувствовал бурю и потому удалился в эту пристань. Видя это всеразрушающее ожесточение ложного знания, атеизма, гордости человеческой, я поспешил войти в мой маленький ковчег с остатками моей фамилии, прежде чем волны всемирного потопа сорвали вершины с самых высоких гор… Но оставим этот предмет, — вдруг сказал он. — Какое мне дело до этого мира, в котором все ложно, испорчено и совращено? Поговорим о тебе, Арман: я хочу передать тебе кое-какие известия, недавно полученные мною.
Он рассказал своему гостю о следствиях разысканий, которые накануне учинили австрийцы у Гильйома. Пастор Пенофер и его дочь могли спокойно возвратиться в деревню, где солдаты расположились на квартиры. Поэтому капитан не мог покинуть Потерянную Долину, по крайней мере, до тех пор, пока не освободится дорога в Цюрих.
— Ну что ж! Я не буду жаловаться на это обстоятельство, почтенный Филемон, — сказал Вернейль весело, — если только вы найдете столько же удовольствия принимать меня у себя, сколько я надеюсь иметь, оставшись у вас… Однако, — прибавил он неуверенно, — я попрошу вас об одной услуге.
— В чем дело?
— Если путешественник не может пройти сквозь неприятельские посты, то письмо, вероятно, может.
— К кому ты хочешь писать и о чем? — спросил патриарх Потерянной Долины, устремив на Вернейля пытливый взгляд. — Никто в мире не должен знать места твоего убежища.
— Дело идет о простом письме. Я хочу успокоить одного своего товарища, который, без сомнения, считает меня убитым… Тут нет никакой тайны, и я могу показать вам мое письмо. Это не займет много времени…
Он протянул руку и взял со стола исписанную бумагу, от которой оторвал клочок и написал на нем карандашом:
«Я жив, но легко ранен и окружен неприятелем. Я соединюсь с вами при первой возможности. Прощай.
Вернейль».Капитан подал письмо Филемону, который даже не улыбнулся, прочитав этот образец военного лаконизма.
— Напиши адрес, — сказал он. Арман проворно написал:
«Гражданину Раво, лейтенанту шестьдесят второй полубригады, находящейся теперь в Цюрихе».
— Хорошо, — кивнул Филемон, — сегодня же вечером твой друг получит письмо. Как ты уже, наверное, догадался, у меня есть тайные агенты, которые имеют сношения только с верным Гильйомом. Один из них и исполнит твое поручение… Это все, чего ты желаешь?
Вернейль искренне поблагодарил старика, и патриарх Потерянной Долины удалился, прося своего гостя поскорее присоединиться к его семейству.
Несколько минут спустя в комнату вошел слуга, чтобы помочь Арману одеться. К изумлению капитана, он оказался немым.
«Ну, — подумал Арман, — в этом странном доме все решительно навыворот… Этот слуга, по крайней мере, не изменит тайнам своего господина».
На стуле около постели висела белая сорочка из очень тонкого полотна. Мундир Вернейля оказался вычищенным, впрочем, как портупея и сапоги. Менее чем за четверть часа немой слуга побрил Армана, а потом обвязал его раненую руку голубым шарфом, подаренным Галатеей. Закончив туалет, Арман с пристрастием осмотрел себя в маленьком венецианском зеркале, висевшем на стене, и, оставшись довольным, несмотря на небольшую бледность, поспешно покинул комнату.
Все семейство находилось уже в нижней комнате, украшенной пихтовыми венками, гравюрами с изображением сюжетов из пастушеской жизни. Филемон, сидя в просторном кресле, перелистывал служебник. Его сыновья плели тростниковые корзинки, а сестры шептались в углу. На Лизандре и Неморине были красивые камзолы с серебряными пуговицами, шелковые яркие пояса, остроносые башмаки с золотыми пряжками. Девушки были одеты в изящные платья с множеством лент и кружев. Их соломенные шляпки украшали свежие цветы, шеи и запястья увивали нитки жемчуга и кораллов.
При виде Армана все поспешно встали. Молодые люди обняли его с радушием, Эстелла и Галатея тоже подошли к нему, робко подставив для поцелуя щеку.
— Благодарю, благодарю! — сказал в восторге капитан. — Право можно позволить убить себя, чтобы иметь в раю хоть половину того блаженства, которое я испытываю здесь!
— Молчи и не богохульствуй, — прервал его Филемон строгим тоном. — Теперь пойдем на молитву.
Они пересекли двор и вошли в маленькую часовню, напоминавшую обыкновенную сельскую церковь: на алтаре горело несколько свечей, по полу были рассыпаны цветы, несколько зерен ладана дымилось в серебряной курильнице. Филемон, молодые люди и Вернейль опустились на колени у ступеней алтаря, Гильйом и Викториан, немой слуга и хорошенькая девушка, которую Арман раньше не заметил и которая также была немой, остались позади них. Тут же были все жители Потерянной Долины.
Филемон начал молитву. Потом он прочитал дневную службу, и церемония кончилась краткой и назидательной беседой об обязанностях гостеприимства.
Присутствуя на этой церемонии, Арман Вернейль испытал до того неведомое ему чувство. Эта простая часовня, эти молодые люди в их живописных костюмах, этот седовласый патриарх, дающий своей пастве отеческое наставление, составляли дивную картину. Капитану казалось, что он присутствует при библейской сцене, и ему нужно было бросить взгляд на свой грубый мундир для того, чтобы убедиться, что сейчас 1799 год, а не библейские времена.
По окончании службы все возвратились в дом, где их уже ждал завтрак, состоявший из различных молочных блюд и плодов. За столом царило веселье. Разговор вертелся вокруг разных безделиц и смешных приключений и наконец речь зашла о том, каким удовольствиям посвятить этот день.
— Погода сегодня чудесная, — сказал Лизандр, — отчего бы нам не пойти на птичью охоту в тот лес, что на серой горе?
— А я, — возразила Эстелла, — предлагаю потанцевать в аллее. Арман скажет нам, так ли мы танцуем, как танцуют девушки в его стране.
— Я того же мнения, что и Эстелла, — сказал Неморин. — Кроме того, мы с Лизандром можем упражняться в беге и прыжках. Наградой победителя будет поцелуй его пастушки.
— Я думаю, — сказала Галатея, — что прогулка в лодке по озеру была бы очень приятна, когда немного спадет жара. Мы могли бы хором петь в маленьком заливе, где такое прекрасное эхо.
Филемон улыбнулся.
— Каждый из вас высказал свое желание. Ну что ж! Обратимся к нашему новому другу, пусть он выберет сам, чем заняться сегодня.
— Прекрасные пастушки, любезные пастушки, согласны ли вы принять меня в посредники? — спросил Арман.
— Да, да! — закричали все в один голос.
— Ну так и танцы, и концерт, и охоту на птиц, и прогулку по озеру — я все принимаю с восторгом и предлагаю сейчас же приступить к делу.
— Именно, именно так! Да здравствует наш молодой гость!
Этот день показался Арману Вернейлю упоительным. Когда он закончился вечерней прогулкой по озеру, при свете луны, и они, распевая песни, возвратились домой, капитан подумал, что у немногих был в жизни подобный день.
Нет нужды подробно рассказывать, как незаметно, час за часом, пролетела неделя. Чем дольше Арман жил среди молодых отшельников, тем больше привязывался к ним. Их простота и невинность, воспитанные уединением, умиляли его. Несмотря на внешнюю любезность и свободу в их отношениях, ничто не порождало нескромности молодых людей, не нарушало кроткой стыдливости девушек. Как ни странно, они не имели никакого понятия о географии, об истории, никто из них не умел читать, и Филемон, казалось, всеми силами старался скрыть от них возможность этому научиться. Правда, по вечерам старик читал им вслух избранные места из Гомера или Фонтенеля и других писателей, превозносивших приятности пастушеской жизни. Но капитан Вернейль, присутствовавший при этих чтениях, заметил, что мысли этих писателей Филемон искажал. Некоторые описания были сокращены, некоторые выражения он смягчал, чтобы не слишком возбуждать пылкое воображение. Филемон преимущественно останавливался на сценах сельской жизни, на тех местах, где описывались наслаждения чистой души в уединении; часто он вставлял в эти чтения правила, совершенно чуждые тем авторам, которым он их приписывал.
Капитан решил, что Филемон, очевидно, когда-то занимал в обществе значительное место. Ему принадлежала мысль создать Потерянную Долину. При помощи своих тайных агентов, о существовании которых он сказал Арману, он беспрестанно заботился о сохранении этой маленькой Аркадии. Архитектор, скульптор, садовник и земледелец в одном лице, Филемон без отдыха занимался украшением этой клетки, в которой он держал пленниками таких прекрасных птичек. С утра до вечера он трудился с топором или заступом в руке. И при этом ни на минуту не прерывал надзора за своими питомцами, особенно после появления чужестранца. Тогда как думали, что Филемон работал на другом конце Долины, вдруг встречали его на повороте аллеи, в уединенной роще, за скалой, и он всегда был важен, суров и, казалось, говорил своим видом: «Берегитесь, я здесь!»
Какие причины могли заставить человека с такой энергией и с таким умом удалиться от света? Этот вопрос легко было задать себе, но трудно на него ответить. В первые дни Арман, обманутый простодушным видом старика, считал возможным выпытать у него эту тайну, но скоро понял, что простодушие его было обманчивым. Филемон искусно уклонялся от вопросов или отвечал так туманно, что эти ответы были для молодого человека новой загадкой.
Между тем рана Армана почти совсем зажила, но, по донесению Гильйома, который исправно осведомлялся о новостях за пределами Потерянной Долины, австрийцы, квартировавшие в деревне, продолжали занимать дороги. Вернейль все еще даже радовался этому препятствию, мешавшему ему покинуть Долину. Каждый день приносил новый праздник. Между молодыми людьми и капитаном скоро установилась нежная дружба. Эстелла и Неморин считали его братом, Лизандр и Галатея старались сделать для него пребывание в Потерянной Долине как можно более приятным. С тех пор, как Арман появился здесь, в характере и привычках Лизандра произошли заметные перемены. Он не обнаруживал более унылой робости, склонности к уединению, наоборот, искал встреч с капитаном, становился при нем веселее и, казалось, с большим удовольствием слушал его. Лицо Галатеи также утратило свое прежнее грустное выражение. Она стала весела, жива, болтлива, как ее сестра, и Вернейль не мог узнать в ней той томной простушки, признание которой он подслушал в день своего появления в Потерянной Долине.
Эти перемены не скрылись от ревнивого глаза Филемона. Однажды утром, после завтрака, старик, казавшийся более угрюмым и задумчивым, чем обычно, сделал знак молодым людям остаться.
— Дети мои, — произнес он торжественно, — я имею сообщить вам нечто важное.
Арман хотел из скромности удалиться.
— Останься, — сказал Филемон с таинственным видом. — Ты наш друг, и у нас нет от тебя секретов.
Вернейль поклонился и снова сел.
— Дети мои, — продолжал Филемон, — настала пора, когда узы, нас соединяющие, должны еще более укрепиться. До сих пор — вы это знаете — я не делал никакого различия между собственными сыновьями и дочерьми почтенного друга, который, умирая, доверил мне попечение о них. Однако мне остается исполнить еще одну обязанность. Лизандр, я с детства обручил тебя с моей воспитанницей Галатеей, а ты, Эстелла, обручена с Неморином. Я не хочу более откладывать счастливой минуты, ожидаемой, быть может, вами с тайным нетерпением… Вы теперь в таком возрасте, когда можете быть супругами, вы и будете ими через восемь дней.
Никто из молодых людей не проронил ни слова.
— По случаю этого обстоятельства, — торжественно произнес Филемон, — необходимо будет нарушить правило, которое запрещает вход в нашу долину посторонним людям. Католический священник, скромность которого мне известна и которого приведет сюда Гильйом, благословит этот двойной брак. Приготовьтесь к этой священной церемонии.
Только один крик радости раздался после этих слов — крик Неморина, который в избытке чувств подбросил свою шляпу к потолку, но другие оставались безмолвны. Лизандр был бледен, Галатея, с опущенными глазами, казалась пораженной этим известием, Эстелла нахмурилась, и даже Вернейль, которого решение старика никак не касалось, выглядел смущенным.
— Что это, Филемон, — спросила Эстелла тоном капризного ребенка, — что ты так спешишь отдать мою руку своему ветренику Неморину? Он еще не заслужил ее, мне кажется, а между тем, судя по книгам, которые ты читаешь нам по вечерам, пастух должен долго вздыхать и страдать для обладания своей возлюбленной; надо, чтобы она его огорчала, чтобы подвергла самым тяжким испытаниям, а я так добра, что и не думала еще порядком помучить твоего сына.
— Ну что ж! — Филемон не мог удержаться от улыбки. — Время еще не потеряно, моя малютка.
— Ах, Эстелла, Эстелла! — воскликнул Неморин с притворной горечью. — Ты неблагодарна! Так-то ты вознаграждаешь меня за множество птичьих гнезд, собранных для тебя в терновнике, за цветы, сорванные по утренней росе, за столько вздохов и песен под твоим окном?
Девушка приняла вид оскорбленной королевы, но через минуту не выдержала и разразилась хохотом. Примирение было скреплено поцелуем.
Лизандр и Галатея молчали. Филемон пытливо посмотрел на них.
— Отец, — сказал наконец Лизандр, — позволь мне повторить признания, которые я уже осмеливался высказать тебе… Я боюсь, что не сумел завоевать сердце Галатеи. Эта моя вина, без сомнения, и я искренне сознаюсь в том… Прошу тебя подождать еще немного. Я чувствую глубокое уважение к твоим правам, но умоляю подумать…
— Ты чересчур скромен, Лизандр, — сухо прервал его Филемон. — Ты ошибаешься в чувствах моей воспитанницы. Она кроткая и покорная девушка, она не смеет, как ты, возражать мне.
Бедная Галатея, устрашенная его суровым взглядом, действительно была неспособна произнести ни одного слова.
— Ну, довольно, — старик встал из-за стола. — В этом деле есть нечто более сильное, чем моя воля, это — необходимость. Теперь каждый из вас волен предаться своим занятиям, и, если кто-нибудь из вас, дети мои, порицает в своем сердце мое решение, пусть вспомнит о том, что я всех вас старше, всех опытнее, что испытываю к вам отеческую нежность и что никто не может быть судьей своего счастья.
Он взял свой посох и вышел.
Эстелла и Неморин также не замедлили уйти. Галатея, откинувшись в кресле, казалось, никого не видела и не слышала. По щекам ее текли слезы. Арман подошел к ней и хотел взять за руку.
— Я умру, — прошептала она прерывающимся голосом, — я умру!
И она выбежала из комнаты.
Вернейль, взволнованный, хотел было последовать за ней, но голос Филемона, доносившийся со двора, напомнил ему о необходимости быть благоразумным. В ту же минуту Лизандр прошептал ему на ухо:
— Арман, мой друг, мой брат, я жду от тебя большой услуги… Приходи сегодня к белой скале, куда я поведу свое стадо: мне надо сказать тебе очень важную вещь… Но смотри, чтобы кто-нибудь не пошел за тобой и не увидел тебя вместе со мной!
Капитан обещал. Лизандр пожал ему руку и удалился.
Глава V Галатея и Лизандр
Несколько минут спустя после этой сцены капитан Вернейль вышел из дома со скучающим видом. Под мышкой у него была картонная папка с бумагой и всем необходимым для рисования, составляющего его обыкновенный отдых в это время дня. Он побродил с минуту по двору, посматривая по сторонам и делая вид, что выбирает наиболее подходящий пейзаж, но на самом деле пытался выяснить, где находится Филемон. Вскоре он увидел, что старик поднимает в оранжерее рамы. Решив, что Филемон, для которого оранжереи составляли главную заботу, надолго останется там, Арман, сделав вид, будто выбрал натуру, направился, посвистывая, к липовой алее. Отойдя от дома шагов на сто, он изменил направление и углубился в заросли кустарника.
Было около полудня. Лучи солнца на безоблачном небе пронизывали Потерянную Долину, сосредоточиваясь в ней, как в огромном вогнутом зеркале. Воздух казался воспламененным, лишь изредка повевал легкий, прохладный ветерок под тенистыми грабами. Арман шел с большими предосторожностями в густую рощу, опасаясь измять высокую траву и оставить свои следы. Проходя мимо маленького мраморного храма, фонтана наподобие грота, статуи Венеры или Зевса, то и дело останавливался и прислушивался, устремляя взгляд в глубину рощи. Потом переводил дух и снова, подобно безмолвной тени, исчезал в чаще.
Наконец Арман приблизился к озеру и увидел сквозь листву деревьев его прозрачные воды.
Между рощей, в которой он находился, и берегом озера тянулась равнина, расцвеченная белыми маргаритками, ярко-синими колокольчиками и тысячью других цветов. Ее называли лугом Анемонов. Здесь, на нежной зелени травы резвились барашки, матери которых дремали неподалеку. Здесь же под тенью ивы сидела Галатея. Только яркие цвета ее шелкового платья видневшегося сквозь развесистые ветви, обнаруживали ее присутствие. Девушка сидела неподвижно, положив руку на голову собаки.
Арман находился так близко от нее, что мог видеть слезы, катившиеся по щекам Галатеи. Но он не осмеливался выйти из своего укрытия из уважения к этой грусти, столь глубокой и столь спокойной.
Вдруг ему показалось, что с губ Галатеи сорвалось внятно произнесенное имя. Действительно ли? Или это ошибка воспламененного воображения? Арману показалось, что это было его имя. Сердце его сильно забилось. Выгнувшись вперед всем телом, он напряг свой слух.
— Арман! — повторила Галатея.
Так это правда! Так это он был предметом дум прекрасной Галатеи! Это его призывала она!
Одним прыжком капитан очутился рядом с девушкой и, упав на колени, воскликнул:
— Я здесь, Галатея, располагай мною! Моя душа, моя жизнь, все тебе принадлежит: я люблю тебя!
Девушка, испуганная его появлением, вскочила на ноги.
— Арман, ты был здесь? Ради Бога, удались, нас могут заметить!
— Я не боюсь ничего! Заклинаю тебя всем, что для тебя дорого, скажи мне, я не ослышался? Ты звала меня?
— Я никого не звала, — прошептала Галатея, уткнув лицо в ладони. — Я… я не понимаю тебя…
— Галатея, не прибегай ко лжи; твои уста и твое сердце не способны к ней… Я не смел даже подумать… Галатея, отвечай, ради Бога: возможно ли, чтобы ты меня любила?
Она помолчала с минуту.
— Ну что ж, Арман, — сказала она наконец, не открывая лица, — если ты, к несчастью, угадал истину, чего нам ожидать от этой роковой любви?
И между тонкими пальцами Галатеи снова заструились слезы.
— Чего нам ждать? — повторил капитан. — Счастья, Галатея, счастья чистого и беспредельного… Ах, Галатея, если бы ты любила меня, как я тебя люблю, ты не спрашивала бы, чего нам ждать от этой любви!
— Не говори так, Арман! Теперь слишком поздно скрывать от тебя истину. С первой минуты нашей встречи я поняла, что именно таким — благородным и храбрым — представляла себе человека, о котором шла речь в книгах, что читал нам Филемон, я почувствовала, что меня влечет к тебе какая-то сила… Я виновата, без сомнения, признаюсь в этом, но что ж делать, когда это правда?.. Между тем для обоих нас было бы лучше, если бы эти признания остались погребенными в глубине наших сердец, потому что скоро, может быть, завтра, мы должны будем расстаться, чтобы уже не увидеться никогда. Я никогда не смогу принадлежать тебе, я невеста другого!
— Что значат препятствия! — воскликнул молодой человек. — Люби меня, милая Галатея, и мы разрушим любые препятствия. Для тех, кто любит, нет ничего невозможного… Чтобы остаться с тобой, я готов отказаться от почестей, от славы, я поселился бы в этой долине, ты заменила бы для меня все… Если же вздумают разлучить нас, я вырву тебя отсюда хитростью или силой, я увезу тебя от тех, кто осмеливается присвоить себе права над твоей волей… О! Верь мне, Галатея! Истинная любовь торжествует над людьми и над судьбой!
Он усадил ее на траву и сам сел рядом.
Следующие минуты были полны нежных слов, сладких речей, бесконечных обетов, какими обыкновенно обмениваются влюбленные. Их шепот напоминал воркованье голубков, порхавших над соседним дубом.
И вдруг на озере послышался легкий шум. Прислушавшись, Арман понял, что кто-то приближается к ним на лодке.
— Арман, — прошептала Галатея, — это Филемон… Беги! Он мне запретил встречаться с тобой наедине.
— Что для нас значат запрещения этого старого ворчуна? Неужели мы не можем видеться, не возбуждая его тиранической недоверчивости?
— Филемон — мой второй отец, — кротко сказала Галатея. — Его неудовольствие меня огорчает.
— Ладно, я уйду, но обещай мне по крайней мере, что мы скоро увидимся… сегодня же вечером!
— Сегодня вечером?
— Почему бы и нет? Галатея, комната, которую вы занимаете с Эстеллой, сообщается с оранжереей, а дверь оранжереи всегда отперта. Тебе легко будет выйти, когда сестра уснет. А я влезу в окно — оно невысоко от земли, и буду ждать тебя под большим померанцевым деревом. Ты придешь, не правда ли? Обещай, что придешь.
— Арман, — в голосе девушки звучала нерешительность, — то, чего ты требуешь, дурно, очень дурно, я в этом уверена!
— Галатея, чего тебе бояться?
— Я не знаю… но… Я подумаю… А теперь уходи, Филемон уже близко.
— Ты придешь?
— Может быть.
— Прощай же, милая Галатея. Прощай! До вечера!
Он прильнул к губам девушки и исчез за деревьями.
В следующую минуту позолоченный нос лодки раздвинул кусты, и Филемон, опираясь на весла, подозрительно осматривал луг Анемонов.
Арман, взволнованный не менее Галатеи, бежал через кустарник не разбирая дороги, и вовсе не думал о том, к чему могла привести страсть, сопротивляться которой было столько причин. Он не рассуждал о препятствиях, отделявших его от Галатеи, и всем сердцем верил, что легко преодолеет их. Сейчас лишь одна мысль занимала его — мысль, что он любим. Арман то и дело останавливался, чтобы сказать самому себе: «Я любим Галатеей»; деревья казались ему зеленее, небо чище, воды прозрачнее, цветы душистее, чем прежде. Эта роскошная природа торжествовала вместе с ним, это про его любовь шептали ручьи, про нее пели птицы в рощах, шелестел теплый, полуденный ветерок в цветущих акациях.
Наконец Арман достиг конца долины. Здесь не было заботливо подстриженных кустов, тропинок, посыпанных песком. Огромные скалы, будто взгроможденные рукой гиганта, поднимались к небу. Солнечные лучи, преломляясь, образовывали радугу над водопадом, ниспадающим каскадами. Цветущие растения покрывали расселины скал, и их подножие терялось в высокой траве.
Вернейль остановился перед этим изумительным творением природы, все еще во власти своих мыслей о Галатее. Он даже не заметил, как к нему подошел Лизандр и дружески взял за руку.
— Я был уверен, что ты придешь, — сказал он с признательностью. — Благодарю тебя!
Капитан совершенно забыл о свидании с сыном Филемона и почувствовал некоторое замешательство при виде молодого человека, у которого он похищал любовь невесты. Он отнял руку и оглянулся.
Лизандр понял это по-своему.
— Друг, не бойся ничего, — сказал он, улыбаясь. — Филемон на озере вытаскивает сети и не скоро придет сюда. У нас будет достаточно времени поговорить. Иди за мной.
Лизандр привел Армана в грот, не очень глубокий, где царила прохлада, сел на каменную скамейку и пригласил капитана сесть рядом.
— Здесь я проводил в одиночестве слишком долгие и слишком печальные дни, — сказал Лизандр. — Здесь же я буду иметь утешение в первый раз за всю жизнь говорить о своих тайных мучениях.
Вернейль промолчал. Он все еще не мог оправиться от смущения перед этим молодым человеком, выказавшим ему свое доверие. Лизандр угадал причину холодности капитана.
— Прежде всего, Арман, — сказал он, — мы должны откровенно объясниться насчет одного очень щекотливого предмета… Ты любишь ту, которую отец мой избрал для меня в невесты… Ты любишь Галатею?
Капитан вздрогнул.
— Как, ты знаешь?.. Кто сказал тебе об этом?
— Я сам это вижу, мой дорогой Арман, и, дай Бог, чтобы я один заметил это, потому что Филемона обмануть трудно! Друг, это кажущееся соперничество не должно быть для нас причиной раздора. Заслужи любовь Галатеи, и я первый буду просить за вас отца. Не думай, я не принесу никакой жертвы, потому что не испытываю к Галатее ничего, кроме братской дружбы, а она, я это знаю, она с большим беспокойством и огорчением смотрит на намерения Филемона.
Арман был обезоружен.
— Ты — великодушный и благородный юноша, — сказал он, с чувством пожимая Лизандру руку, — и я признаюсь, без всяких уверток, что ты не ошибся: я люблю Галатею и надеюсь быть ею любимым. Твои слова сняли с моей души огромную тяжесть, и я желал бы доказать тебе свою признательность каким-нибудь поступком, столь же прямодушным и благородным, даже если бы это стоило мне жизни!
— Я не требую так много, — с улыбкой ответил Лизандр. — Я прошу тебя только выслушать меня терпеливо, а потом буду просить твоих советов и, может быть, твоей помощи…
— Моих советов? Неужели рассудительный Лизандр может иметь в них нужду? Я был бы слеп, если бы не заметил в тебе зрелости рассудка, что трудно предполагать в молодом человеке, воспитанном, как ты, в совершенном уединении.
Лицо Лизандра выражало неподдельное удовольствие.
— Так ты и правда так думаешь? Да, размышляя в уединении, я восполнил недостаток знаний. Я много размышлял о том, что знал, многое угадывал из того, чего не знал… Впрочем, — прибавил он, понижая голос, — я имел средство к образованию, средство, которого недоставало моему брату и этим молодым девушкам, удаленным от света, как и я. Арман, то, о чем никто здесь не подозревает, что привело бы в ужасный гнев и негодование моего отца, если бы он открыл мой секрет, это я скажу тебе: я умею читать!
Капитан Вернейль не мог удержаться от улыбки при виде одушевления, каким проникнут был Лизандр, открывая ему такую простую вещь.
— Ты смеешься? — воскликнул Лизандр. — Ты не знаешь, каких трудов, каких страданий, какого терпения стоило мне узнать эти буквы, знакомые малолетним детям по ту сторону этих гор! Когда отец мой решился оставить большой город и дом, в котором мы жили, и поселиться здесь, мне было около шести лет. В этом возрасте воспоминания быстро стираются. Поэтому я забыл решительно все: людей, нас окружавших, имена, которые мы тогда носили… Одно при мне осталось — и этим я обязан моей доброй старой гувернантке, которая воспитывала меня, потому что я едва помню мою мать, — это первоначальные уроки чтения.
Помолчав, молодой человек продолжал:
— Когда нас заперли в этой долине, отец постарался изгладить из моей памяти эти слабые семена образования. Мне не оставили ни одной книги; ни Викториан, ни Гильйом, ни служители и поверенные Филемона не хотели нарушать его распоряжений. Казалось, я был осужден на совершенное невежество. Но этот самый излишек строгости и спас меня. Прежде всего из чувства противоречия, а позднее вследствие неопределенной мысли о важности образования я старался припомнить уроки моей гувернантки: любой клочок бумаги, надпись на какой-нибудь гравюре служили предметом моих терпеливых изысканий. Через несколько лет бдительность моего отца ослабела. Совершенно уверенный в успехе предпринятых усилий, он перестал подсматривать за мной, и я свободно мог предаться своей жажде к учению. Отец, как ты уже мог заметить, обладает обширными познаниями; он приказал привезти сюда огромное количество книг… По этим-то книгам я и узнавал мир, которого был лишен. Скрываясь в глубине этого грота, я провел много дней, думая над непонятными фразами, непонятными, быть может, для меня одного. При всем том я приобрел довольно определенное понятие о человеческом обществе, о его стремлениях, о его нуждах, о его обязанностях. Без сомнения, общение с людьми из этого мира изменило бы многие мои убеждения, исправило бы много ложных понятий, но и таков, каков я теперь, я горжусь собой, когда думаю, чем бы мог быть!
— Ты прав, Лизандр! — сказал Арман. — И, должно быть, ты находил большое удовольствие для себя в этих уединенных занятиях?
— Удовольствие, ты говоришь? — повторил молодой человек. — Так действительно должно было быть, друг мой, но этого не было… Мне часто приходило на ум, что отец был прав, отказывая нам в этом роковом знании, которое пробуждает желания, но не дает счастья. Если бы я, как Неморин, жил в совершенном неведении о том, что существует за этими скалами, я не был бы жертвой этих жгучих желаний, которые не дают мне покоя ни днем, ни ночью. Довольствуясь тем, чтобы жить и умереть здесь, в мире и изобилии, я был бы покорен распоряжениям отца; моя жизнь протекала бы спокойно и светло, как ручей струится по песку. Но вместо того я постоянно говорил себе, что при некоторой доле разума, воли и мужества, коими наделило меня небо, я мог бы играть в обществе значительную роль, мог бы быть полезен мне подобным, заслужить их похвалы и признательность. Сколько раз, Арман, на этой самой скамье я перечитывал книги великих людей, мудрецов и мыслителей, публицистов и поэтов, которых чтит Европа, и завидовал их благородному назначению! Сколько раз я думал о том, что из глубины этой безвестной долины мог бы вырваться и совершить какое-нибудь великое дело! Сознание своей бесполезности, своей слабости не дает мне покоя. Когда я думаю о смешном костюме, в который одет, об этих унизительных занятиях, на которые осужден, то начинаю презирать себя. Все здесь мне не нравится, все тяготит, я страдаю, я сохну и говорю себе, что должен или бежать отсюда, или умереть!
Эти последние слова были произнесены с жаром, свидетельствующим о непоколебимой решимости. Вернейль слушал с глубоким вниманием.
— Это тяжелые и грустные мысли, мой дорогой Лизандр, — наконец сказал он, — и ты смотришь сквозь призму иллюзий на человечество, которое знаешь только по книгам. Оно не стоит, поверь мне, того, что ты утратил бы, удалившись отсюда… Что может быть приятнее жизни, чуждой всяких волнений, в этой прекрасной долине, перед лицом великолепной природы, среди семейных радостей?
Лизандр покачал головою.
— Скорее ты, Арман, предаешься иллюзиям, но для тебя еще не прошло очарование первого впечатления, а любовь к Галатее придает этим местам прелесть, которой они сами по себе не имеют… Годы, проведенные в темнице, такой веселой, какой она кажется с первого взгляда, длинны, очень длинны!
— Ты, возможно, прав, — произнес Вернейль, подумав с минуту, тем более что не одному тебе из живущих здесь это существование стало невыносимо… Ну что ж! Лизандр, скажи, ты ждешь от меня, чтобы я помог тебе бежать из Потерянной Долины, не правда ли?
— Ты не совсем угадал, — ответил Лизандр со слабой улыбкой. — Ты забываешь, Арман, что я привык рассчитывать только на себя… Я не все время, проведенное здесь, посвятил учению, — прибавил он таинственным тоном, — моя рука не более была в праздности, чем голова. Несмотря на усилия моего отца сделать эту долину недоступной, несмотря на непоколебимую верность его служителей я теперь пленник добровольный. Завтра, сегодня вечером, через час я могу, если захочу, быть на свободе, за оградой Потерянной Долины.
И так как Арман смотрел на него с изумлением, то он продолжал, указывая пальцем на соседние вершины:
— Видишь эти скалы? Казалось бы, только серна способна перебраться через них. Между тем я проложил тропинку через эти громады, нагроможденные друг на друга. Там, где спуск был слишком крут, я вытесал в граните ступени, выкопал подземные проходы. Эта работа стоила мне трех утомительных лет, она и теперь еще не закончена. С этого места не видно и следа этой тропы, ступени покрыты песком и дерном, а подземные проходы — пластами дерна. Я предпринял большие предосторожности, чтобы скрыть свою работу от проницательных глаз отца, но за несколько минут песок можно убрать, и я легко мог бы дойти до Розенталя, и даже быстрее, чем по дороге, которую неусыпно сторожит Гильйом.
Вернейль почти испугался такой энергии молодого человека, способного задумать и осуществить подобное.
— Но почему же ты остаешься здесь, когда с таким трудом приготовил все средства к бегству? — спросил он.
— Ты не догадываешься? — грустно усмехнулся Лизандр. — Я старший сын Филемона, краеугольный камень его намерений, мне он должен доверить управление этой маленькой колонией, когда старость сделает для него это занятие невозможным, и мое сердце замирает при мысли об огорчении, которое причинил бы ему мой побег. Отец нас любит, несмотря на странность его отношения к нам, он думает о нашем счастье, и если он обманулся в средствах достичь его, все-таки было бы неблагодарно с моей стороны предать его… Вот, Арман, что удерживает меня в Потерянной Долине, несмотря на невыносимую тоску, которая часто грызет меня. Не раз я хотел исполнить мое намерение, но мужество всегда оставляло меня, когда я представлял себе своего старого отца в отчаянии… Впрочем, я не старался скрыть от себя бесчисленных неудобств, ожидающих меня за этими скалами. Кто был бы моим наставником при моем вступлении в этот новый мир? Куда идти? Как жить? Я едва помню, что видел в самом раннем возрасте, эти металлические монеты, на которые все там покупают, даже жизнь и совесть людей. Я не мог бы ни на что решиться, не имея друга, который бы указал мне дорогу и стал бы моим защитником в минуты испытаний. Такого друга, Арман, я надеялся встретить в тебе, когда, — я не знаю, каким чудом, — ты вдруг появился в этой долине. Быть может, я не спешил бы сделать тебе это признание, если бы сегодня утром отец, повелительно требуя от меня осуществления своих намерений, не заставил меня решиться ускорить исполнение моего плана. Теперь, Арман, ты знаешь мою тайну, и от тебя будет зависеть — оказать мне услугу или нет. В случае, если сомнения не позволяют тебе это сделать, я не стану обижаться, и…
— Ни слова больше! — прервал Лизандра капитан. — Мои отношения с твоим отцом не позволяют мне поступить подло… К тому же в настоящий момент обстоятельства таковы, что у меня больше доброй воли, чем возможности быть полезным. Я солдат, и притом подверженный всем капризам войны, на земле неприятеля мне трудно было бы оказать тебе покровительство, но все равно… Да, ты можешь рассчитывать на меня.
— Мне было бы очень неприятно быть тебе в тягость, — сказал Лизандр, слегка покраснев. — Я вовсе не собираюсь требовать от тебя внимания и заботы, разве что только в первые дни… Я рассчитываю на свои силы и верю в успех. Клянусь, я воспользуюсь первым же случаем и сделаю что-нибудь доброе, чтобы заслужить уважение себе подобных и их сочувствие.
Арман пожал ему руку.
— Наивное дитя, ты надеешься на первых шагах в новой жизни найти случай совершить благородный поступок… Я думаю, Лизандр, что тебе не мешало бы обрести помощь более надежную, чем моя. Припомни хорошенько, нет ли какого-нибудь родственника, какого-нибудь прежнего друга твоего отца, у которого мог бы ты попросить убежища? Ты, без сомнения, принадлежишь к богатой фамилии и, может быть…
— Я уже рылся в этих смутных воспоминаниях, но напрасно… Я сказал тебе, Арман, что забыл даже имя, которое носил когда-то.
Арман подумал несколько минут.
— Ну, мы разрешим эти неудобства, — сказал он наконец со свойственной ему беспечностью. — У нас остается еще несколько дней, чтобы подумать об этом… Может быть, Лизандр, эта тропа, которую ты имел упорство проложить, окажется нам очень полезной, и другим тоже… Я посмотрю, попытаюсь, и если получу согласие…
Он вдруг замолчал. Лизандр терпеливо ждал, но Вернейль не счел нужным говорить о своих планах.
— Смелее, друг, — продолжал он, — и будем надеяться, что все устроится по нашему желанию… Но сейчас нам надо расстаться. Филемон упорно наблюдает за мной, и ему может показаться подозрительным мое отсутствие.
— В самом деле, — согласился Лизандр. — День уже клонится к вечеру. Это чудо, что отец до сих пор еще не хватился нас…
Молодые люди условились вскоре опять увидеться и расстались.
Не успел Арман сделать и пятидесяти шагов по роще, как столкнулся с Филемоном. Казалось, старик чем-то очень взволнован. Увидев Вернейля, он бросил на него проницательный взгляд, но тотчас же, придав лицу ласковое выражение, сказал:
— Я сегодня совсем забыл тебя, сын мой, извини, но теперь я надеюсь лучше исполнять обязанности гостеприимства.
Последние слова прозвучали как угроза, однако Арман сделал вид, что не заметил этого и заверил Филемона, что он с удовольствием наслаждался уединением.
— Это прекрасно, любезный гость, — кивнул старик. — Но где ты был? Я уже почти час ищу тебя.
— Я ходил к белой скале и делал там кое-какие рисунки.
— Чудесно… Ты неплохой художник, Арман, и мне особенно нравятся твои эскизы. Не можешь ли ты показать мне сделанных тобой сегодня?
Только тут капитан спохватился, что потерял папку, в которой были бумага и карандаши.
— Это странно, — сказал он в замешательстве, — я, наверное, выронил папку на тех скользких скалах…
— Я нашел ее около кустарников на лугу Анемонов, — сказал Филемон, подавая ему папку.
Затем он сухо поклонился и продолжал свой путь.
Вернейль с минуту оставался на месте, вертя в руках папку.
— Старая лисица что-то заподозрила, — прошептал он. — Надо быть осторожнее.
Глава VI Первые облака
Прошло еще два или три дня, в продолжение которых Филемон не спускал глаз со своего гостя. Как только Арман открывал глаза, старик был тут как тут. Забыв свои дела, он ни на минуту не оставлял его до самого вечера. Напрасно Вернейль старался обменяться с Лизандром и Галатеей каким-нибудь знаком — бдительный Филемон перехватывал все вздохи и взгляды.
Когда в часы завтрака или отдыха все собирались вместе, разговор принимал вид оживленной беседы. Филемон не противился этому, напротив, он, казалось, сам старался оживить эти собрания, может быть, для того, чтобы отвлечь своих сыновей и воспитанниц от тайных мыслей.
По мере того, как приближался срок, назначенный для бракосочетания, старик все чаще предлагал заняться охотой или рыбной ловлей, по вечерам устраивал танцы под звуки флажолета. Несмотря на вынужденность, Арман находил большую прелесть в таком времяпрепровождении и не мог без грусти думать о том, что такая жизнь скоро кончится.
Однажды вечером молодежь отправилась под предводительством Филемона в павильон Дианы, в дальнем конце Долины. Из павильона, сооруженного на вершине искусственной горы и увитого вьющимися растениями, открывался прекрасный вид на Потерянную Долину. К нему вела извилистая тропинка, обсаженная боярышником и жимолостью. В конце тропинки возвышалась статуя Дианы, работы не очень замечательной, но производившая живописный эффект. Молодые люди, отведав плодов и молока, принесенных немыми слугами, полюбовавшись на восход луны из-за огромных черных скал, ограничивавших горизонт, на светлые искрометные дорожки, которые бросало светило ночи, на огромный водопад, на мерцание звезд в слегка волновавшемся озере, не без сожаления услышали, как Филемон подал знак к возвращению, и все отправились вниз.
Это была одна из тех упоительных ночей, темных и благовонных, когда, при чудной прозрачности воздуха, можно сосчитать мириады блестящих звезд, рассыпанных по бархату неба. Горы, вершины деревьев сияли нежным перламутровым светом, а во впадинах долины, под ветвистыми кустами, уже царствовала темнота. Это последнее обстоятельство, может быть, и заставило благоразумного старика так рано вернуться домой. Он шагал впереди между Лизандром и Галатеей, которым излагал какую-то астрономическую теорию. Арман шел вместе с Эстеллой и Неморином. Жених с невестой, взявшись за руки, пели на два голоса романс Флориана, не обращая внимания на своего задумчивого и молчаливого спутника. Шествие замыкали слуги, несшие в огромных корзинах остатки ужина.
Углубились в лес, и Арман с трудом различал дорогу. Луна бросала серебряные стрелы сквозь густые ветви высоких деревьев, обливала светом белую статую, стоявшую неподвижно среди высокой травы. То там, то здесь мелькали зеленоватые искры — пламя любви, которое зажигает светлячок в прекрасные летние вечера. В воздухе, наполненном ароматом цветов, порхали ночные бабочки и мотыльки. В траве еще стрекотали кузнечики и умолкали при приближении путников, чтобы потом снова начать свою монотонную песню, между тем как вдали на озере лягушачий концерт славил прелести этой восхитительной ночи.
Эстелла, боявшаяся темноты, прижималась к Неморину, который на это вовсе не жаловался. Вернейль решил воспользоваться этой густой темнотой, чтобы приблизиться к Галатее. Между Лизандром и его отцом завязался оживленный разговор, благодаря чему капитан надеялся, что девушка сможет незаметно отстать от них на минуту. Его предположения оправдались. На дороге мелькнула тень. Арман протянул руку и коснулся обнаженного плеча, мягкого и нежного, как атлас.
— Галатея! — прошептал он.
— Арман! — едва слышно ответил ему знакомый голос. Их губы встретились. Они пошли рядом, прижимаясь друг к другу.
Наконец Галатея прервала это полное прелести молчание.
— Арман, — сказала она, — Лизандр откровенно говорит с отцом и без сомнения, хлопочет о нашем деле, как и о своем. Ах, если бы ему удалось уговорить Филемона! Милый Арман, разлука была бы подобна смерти для обоих нас, не так ли?
— Да, да, моя Галатея, действительно смерть… Между тем мы не слишком должны рассчитывать на Лизандра. Филемон никогда не согласится отказаться от своего замысла… Галатея, решилась ли ты доверить мне свою судьбу? Готова ли ты следовать за мной?
— Я последую за тобой, Арман. Разве теперь моя судьба не связана с твоей? Но скажи мне, уверен ли ты, что Лизандр согласится нам способствовать? Ты ему не сказал, ты не осмелился сказать ему…
— Он знает, что мы любим друг друга, и он благороден… Вчера мне удалось перекинуться с ним несколькими словами. Я ему намекнул, что одна особа, живущая в Потерянной Долине, захочет, возможно, воспользоваться тропой, которую он тайно проложил в горах, и убежит вместе с нами. Однако мне кажется, Лизандр не решится нанести смертельный удар Филемону, лишая его сына и одной из воспитанниц.
— Значит, надобно отказаться от побега?
— Нет, нет, Галатея! Хотя Лизандр, конечно, захочет заставить тебя остаться для утешения его отца, когда его самого не будет здесь.
— Что же нам тогда делать?
— Мы уговорим как-нибудь Лизандра в последнюю минуту. Он увидит, что наше решение твердо, мы его будем просить так, что он не сможет нам воспротивиться… Впрочем, при твоем согласии я уведу тебя отсюда, даже если бы весь свет был против этого.
— И я, Арман, предпочитаю тебя всему свету, хотя мое сердце разрывается при мысли о бегстве. Оставить этого бедного старика, добрую Эстеллу, эти места, где я проводила такие счастливые дни! Будем лучше надеяться, что Филемон согласится.
— Будем надеяться, Галатея… Пока ты рядом со мной, для меня ничего не значит все остальное!
В эту минуту послышался громкий и сердитый голос Филемона:
— Нет, никогда! Никогда! Никто не заменит мне старшего сына, моего наследника, будущего родоначальника этого маленького мира, который я создавал с таким трудом. Не говори мне об этом никогда, Лизандр, если не хочешь преждевременно свести в могилу своего несчастного отца… Впрочем, ты обманываешься: тот, который предлагает заменить тебя в моем семействе и в моем сердце, недолго был бы способен к этому — его ослепляет страсть. Он тебя обманывает, я тебе говорю, или обманывает себя самого!
Лизандр произнес несколько слов, которых нельзя было расслышать.
— Нет, нет, довольно, сын мой! — возразил старик. — Ты никогда не посмеешь меня оставить, между тем как другой… Молчи! И при всем том, я тебе благодарен. Я спал, не зная размеров грозящей опасности, — ты разбудил меня… Я буду действовать, и сейчас же…
Лизандр не осмелился спорить, и они продолжали свой путь в молчании.
— Ты слышала, Галатея? — прошептал Вернейль. — Он отвергает меня… Нам остается принять другие меры.
— Что же делать, мой милый Арман?
— Лизандр решился убежать этой ночью. Будет он согласен или нет, ты пойдешь с нами.
— Арман, ради Бога, не требуй…
— Как ни тяжела эта жертва, тебе надо на нее решиться, Галатея, или мы навсегда будем потеряны друг для друга… Ты видишь, Филемон хочет действовать немедленно; надо опередить его. Итак, приходи в полночь под большое померанцевое дерево, как обычно, и будь готова.
— Я буду там, — ответила девушка с рыданием в голосе.
Вернейль хотел что-то сказать ей, чтобы утешить, но в этот миг Лизандр и Филемон достигли поляны, освещенной луной. Старик обернулся, и Галатея устремилась вперед, сделав вид, будто только из скромности отстала, чтобы отец и сын могли поговорить наедине.
Вечер, начавшийся так весело, оканчивался весьма грустно. Филемон погрузился в мрачные думы; Галатея, Лизандр, и Арман хранили молчание. Однако оно не охладило веселья Эстеллы и Неморина. Они смотрели с изумлением на их озабоченные лица, не понимая причины такой неожиданной перемены.
В доме, проходя через темный коридор, Лизандр остановил Вернейля за руку.
— Ты знаешь о нашей неудаче? — спросил он шепотом.
— Знаю…
— Значит, сегодня ночью, как мы условились?.. В полночь ты найдешь меня при входе в липовую аллею.
— Я приду.
— Да, но один, — прибавил Лизандр с ударением.
Вернейль притворился, что не расслышал этих слов, и они вошли в зал. Филемон опустился в кресло. Он был очень бледен, глаза его были неподвижны.
Молодые люди подошли поочередно, чтобы обнять старика, следуя установленному обычаю. Филемон принимал их ласки со спокойствием и неподвижностью статуи.
Между тем в этот вечер поцелуи Лизандра и Галатеи были более нежны, чем обыкновенно. Молодой человек был сильно взволнован, когда шептал:
— Прощай, отец!
У Галатеи глаза были влажны, когда она говорила в свою очередь:
— Прощай, Филемон!
Потом каждый из них удалился с растерзанным сердцем, оставив патриарха Потерянной Долины в том же состоянии оцепенения.
Возвратившись в свою комнату, Арман почувствовал угрызения совести. Его появление в Потерянной Долине вызвало раздор в маленькой колонии. Он упрекал себя в нарушении клятвы, обвинял себя в неблагодарности при мысли о том, как заплатил за услугу, которую ему оказали здесь, спасая от плена и, возможно, от смерти. Но постепенно мысль о Галатее, которую он любил и которая через несколько часов будет всецело принадлежать ему, заглушила все другие. Эта любовь оправдывала все его ошибки. Чего не сделал бы он, чего не вынес бы, каких не принес бы жертв, чтоб заслужить любовь Галатеи! Мало-помалу Арман стал думать о Филемоне как о жестоком тиране, который причинил несчастье своему сыну и своей воспитаннице, и решил что было бы справедливо освободить того и другого из заключения.
Но как устроить побег Галатеи? Лизандр предупредил, чтобы Вернейль приходил один, а старший сын Филемона непреклонен в своих решениях. Накануне Арман, улучив минуту, сумел обговорить с Лизандром подробности побега. Правда, молодой человек наотрез отказался взять с собой Галатею, объяснив это тем, что хрупкая девушка не одолеет крутых скал в темноте. Действительно, а если тропинка в самом деле окажется непроходимой для Галатеи?
Эти и другие подобные размышления занимали капитана около часа. Наконец он решил быть готовым ко всему, чтобы ни случилось. Он связал в небольшой узел свои вещи, не забыв захватить с собой и голубой шарф — подарок Галатеи. Потом положил на стол золотую монету для немого слуги — щедрость, бесполезная в Потерянной Долине, задул свечу и сел у полуоткрытого окна, ожидая условленного часа.
Все вокруг было погружено в безмолвие и темноту. Только тонкий светлый луч, проникавший сквозь стекла в зале первого этажа, освещал кусты у окна.
Значит, Филемон еще не ложился. Чему приписать эту бессонницу, противоречившую его привычкам? Не подозревал ли он, что затевалось в эту ночь? Но Вернейль поспешил отогнать эту тревожную мысль. Без сомнения, Филемон, справившись наконец с волнением, вызванным просьбой Лизандра, скоро отправится в свою комнату, и можно будет осуществить задуманный план.
Между тем приближалась полночь, а свет в окне все горел. Арман начал уже всерьез беспокоиться, как вдруг услышал шаги на лестнице. Дверь открылась, и в комнату вошел Филемон в сопровождении Гильйома и Викториана.
Глава VII Конец прекрасной мечты
Когда Гильйом и Викториан поставили свечи на стол, Филемон сделал им знак удалиться к дверям и, обращаясь к Арману, который в смущении ждал объяснения этого странного визита, спросил:
— Еще не спишь, любезный гость? Сказать по правде, я не надеялся застать тебя на ногах в столь поздний час.
— Очень душно, — ответил капитан, — мне захотелось освежиться у окна. Позвольте, однако, заметить, любезный Филемон, — продолжал он, справившись со смущением, — что моя бессонница не так необычайна, как ваш визит.
— Это правда, Арман, — ответил старик с добродушным видом, — но ты легко извинишь меня, когда узнаешь некоторые новости.
— Неужели эти новости нельзя было отложить до утра?
Вместо ответа Филемон сел на стул, не забыв придвинуть другой.
— Посмотрим, что это за новости, которые падают, как будто с облаков в то время, когда следовало бы спать, — пробормотал капитан, барабаня пальцами по столу.
— Я не думал, что ты такой охотник спать, — саркастически заметил Филемон. — Но ты сейчас переменишь тон. Дело в том, что Гильйом нынешним вечером получил очень важное известие о военных действиях. Я захотел немедленно дать тебе знать об этом.
— Что же там такое происходит? — заинтересовался Арман.
— Во-первых, один известный тебе капитан гренадеров, принадлежащий шестьдесят второй полубригаде, за блистательную защиту дефиле в Альби пожалован в полковники главнокомандующим Массеной.
— Не обо мне ли вы говорите? — спросил Арман, и его глаза радостно заблестели. — Я не смею надеяться… Не могу поверить…
— Читай, — Филемон протянул ему печатный бюллетень. — Гильйом знал, что ты не поверишь на слово и принес доказательство.
Арман быстро пробежал глазами бумагу и возвратил ее старику, сказав с волнением:
— Вы правы, отец мой, это действительно хорошие и важные новости, и я очень благодарен вам за…
— Погоди, — прервал Филемон, — не слишком спеши радоваться: у медали есть и другая сторона, и то, что мне остается сказать тебе, наверное, вовсе не так тебе понравится… Короче, говоря, молодой человек, кажется, твое странное исчезновение после Альбийского сражения истолковано довольно дурно. Ходят самые постыдные слухи…
— Что это за слухи? — запальчиво спросил Арман.
— Сейчас узнаешь… Так вот, несколько дней назад австрийцы были изгнаны из Розенталя, и один отряд вашей полубригады расположился в деревне. Офицеры весьма настойчиво расспрашивали о тебе, а один из них даже ворвался в дом Гильйома, на который ему указали как на место твоего последнего убежища, и моего бедного управляющего засыпали вопросами…
— Это Шарль Раво, — прервал старика Вернейль. — Мой товарищ лейтенант Раво, которому я послал письмо в день прихода в Потерянную Долину.
Гильйом с другого конца комнаты сделал утвердительный жест.
— Ну, так этот лейтенант Раво, — продолжал Филемон, — не удовольствовался басней Гильйома, который сказал ему, что спрятал тебя в одном укромном месте, известном ему одному, на одну только ночь, и что утром ты должен был присоединиться к французским аванпостам. Он разразился страшными проклятиями и ругательствами, кричал, что это невозможно, что Гильйом имеет какие-то причины скрывать тебя, и кончил угрозой пристрелить его, если он не скажет, где ты находишься.
— Узнаю Раво, — улыбнулся Вернейль. — И что же, Гильйом уступил?
— Вся соединенная армия Массены не в состоянии была бы вырвать у Гильйома тайну его друга, — с гордостью произнес Филемон. — Вы, военные люди, думаете, что храбрость присуща только вам. Гильйом с пистолетом у виска повторил свои объяснения.
— Раво, несмотря на свою раздражительность, неспособен убить человека беззащитного… И что же, он поверил в искренность Гильйома?
— К несчастью, нет. Одну молодую девушку крайне занимает твое исчезновение. Она считает тебя жертвой какого-то злого умысла, и сообщила свои смешные опасения твоему другу… Ты, конечно, знаешь, о ком я говорю?
Арман вспомнил о Клодине, дочери розентальского пастора.
— Как бы то ни было, — продолжал старик, — лейтенант Раво, перейдя от угроз к просьбам, стал умолять моего Гильйома передать тебе письмо, утверждая, что дело идет о твоей чести, о твоем будущем. И Гильйом в конце концов сдался. Ничего не обещая, не давая никакого объяснения, он взял письмо, из которого ты обо всем узнаешь.
— Давайте его скорее, — сказал Арман с нетерпением.
Письмо было следующего содержания:
«Если капитан Вернейль читает эти строки, то я прошу его, во имя чести, невзирая ни на какие причины, заставляющие его скрываться, явиться немедленно в штаб. Он сделался предметом недостойных подозрений. Осмеливаются думать, что он, будучи захвачен отрядом армии Конде, участвовавшим в Альбийском сражении, соединился с французскими эмигрантами и решил изменить своему знамени. Его прежнее благородное звание, снисходительность в обращении с эмигрантами и, наконец, тщательно скрываемая тайна его теперешнего убежища, по-видимому, подтверждают это обвинение. Только личное присутствие капитана Вернейля может опровергнуть его, но не должно терять ни минуты, а до тех пор он может рассчитывать на неизменную преданность своего друга, который не позволит распространиться этой постыдной клевете.
Раво, лейтенант шестьдесят второй полубригады».— Это клевета! — воскликнул Арман, разорвав письмо. — Я был снисходителен к несчастным эмигрантам из-за их плачевного положения, но человеколюбие — не измена… Я не допущу, чтобы меня бесчестили в глазах моих товарищей, в глазах всей армии и заставлю замолчать своих врагов! Я сейчас же возвращаюсь, и несчастье тому, кто осмелится повторить эту клевету в моем присутствии!
— Хорошо, хорошо, — согласился Филемон с видимым удовольствием. — Я был уверен, что, прочитав письмо, ты не захочешь медлить и поторопишься смыть с себя эти вздорные обвинения. Я с Гильйомом и Викторианом провожу тебя, и уже сегодня ночью ты будешь в Розентале, среди своих товарищей.
Подобная торопливость насторожила Вернейля. Он посмотрел на обрывки письма, которые все еще были у него в руке.
«Это действительно почерк и подпись Раво, — подумал он. — Письмо не может быть подложным, тем более что зависть некоторых якобинцев шестьдесят второй полубригады легко объясняет эти слухи, распространившиеся на мой счет… Между тем Филемону, кажется, не терпится спровадить меня. Уж не подозревает ли он истину?»
И он сказал, обращаясь к старику:
— Я вам очень благодарен за участие, но мне было бы крайне неприятно огорчить ваше семейство, уехав так внезапно, среди ночи. Несколько часов ничего не изменят. Пожалуй, лучше отправиться завтра.
— Твое хладнокровие меня изумляет, — нахмурился Филемон. — Я считал тебя более щепетильным в вопросах чести. Значит, у тебя есть какая-то тайная причина оставаться здесь?
— Какая же причина, — Арман постарался придать своему лицу беспечное выражение, — кроме желания проститься с милым семейством?
— Ну, например, возобновить свои интриги, повторить еще раз этим молодым и неопытным людям ядовитые слова, которые сводят их с ума! Арман де Вернейль, вы меня недостойно обманули, вы нарушили обещание, пробудив в моем старшем сыне возмутительные мысли.
— Филемон, клянусь вам, что Лизандр не имел нужды…
— Не спешите оправдываться. Кто, если не вы, сказал моему сыну, что наша жизнь изнеженная, недостойная человека одухотворенного? Как узнал он, что достиг лет, когда можно восставать против родительской воли, толковать о своих химерических надеждах? Но это еще не все; вы гораздо более виноваты, Арман де Вернейль, в том, что по капризу или от безделья, внушили невинной девочке любовь, которой сами не разделяете.
— Кто это вам сказал? — закричал Арман. — Кто осмелился думать, что я не люблю Галатею?
Это пылкое признание произвело на Филемона некоторое впечатление.
— Если это так, — сказал он, — как же вы намеревались спешно оставить нас, чтобы идти защищать свою оскорбленную честь?
Вернейль опустил голову.
— Нет, — продолжал Филемон, — вы не любите Галатею, я сейчас докажу вам это. Предположим, что я не отвергаю предложения Лизандра, сделанного, без сомнения, от вашего имени; предположим, что я говорю вам: «Арман, я принимаю вас в свою семью. Откажитесь от света, пренебрегите его суждениями, предоставьте своим товарищам думать, что вы умерли или сделались изменником, поселитесь навсегда в этой мирной долине; смените этот воинский костюм на легкий камзол, эту огромную саблю — на пастуший посох; решитесь жить с нами без сожаления о прошлом, без страха за будущее, и рука моей воспитанницы будет вам за это наградой». Если бы я сказал вам это, молодой человек, что бы вы ответили? Не обманывайте меня, не прибегайте к уверткам и лжи; что ответили бы вы?
Еще вчера Арман, ослепленный любовью, с энтузиазмом принял бы подобное предложение. Но теперь воспоминания о славе, о друзьях вдруг ожили в нем. Не зная, что ответить, он молчал.
— Вот видите! — констатировал Филемон с горечью.
Он встал и медленно прошелся по комнате.
— Мсье, — сказал Арман после некоторого молчания. — Мне легко было бы объяснить свое поведение. Но для этого я должен бы был обвинить вас, показать вам зло и ложность того положения, в которое вы поставили своих сыновей и воспитанниц. Потому я считаю за лучшее удержаться от всякого разбирательства относительно этого щекотливого предмета. Время докажет вам, что моя вина, если она и была, не так велика, как вы думаете… Как бы то ни было, завтра вы освободитесь от моего присутствия.
— Почему не сейчас же? — спросил старик. — Почему вы так упорно хотите остаться здесь на эту ночь, когда долг призывает вас в Розенталь, когда хозяин этого дома обращается с вами грубо? Мне это кажется странным. Он бросил на молодого человека пытливый взгляд. — Вы не собирались ложиться спать в такой поздний час… Этот узел, эта золотая монета на столе… Тут затевалось что-то… Арман де Вернейль, так как ваши приготовления к дороге совершенно окончены, то мои служители и я к вашим услугам. Мы проводим вас.
Филемон, очевидно, хотел помешать замыслу, следы которого не укрылись от него. Арман чувствовал, какой смертельный удар причинило бы ему бегство Галатеи и Лизандра.
— Вот, — произнес он с видом оскорбленной гордости, — вот оригинальный способ исполнять правила гостеприимства… Я всегда думал, что господин Филемон, прежде чем поселиться в Потерянной Долине, был человеком светским, но я обманулся, или грубость его теперешних привычек слишком сроднилась с его характером… Ну что ж, должен ли я уступить вашему капризу? Не думаете ли вы, что офицер Французской республики позволит выбросить себя за дверь среди ночи, как какого-то бездельника лакея? Нет, я не сойду с этого места!
И он демонстративно сложил руки на груди.
— Хорошо, — сказал Филемон с насмешливой улыбкой.
Он сделал знак Гильйому и Викториану, и те бросились на Армана, прежде чем тот успел заметить их движение. В одну минуту молодой человек был связан.
— Негодные трусы! — закричал он, стараясь вырваться. — Я переломаю вам ребра! Я с вами разделаюсь!
Филемон, боясь, что его крики поднимут в доме тревогу, завязал ему рот платком и тихим голосом отдал двум братьям какой-то приказ.
Они подхватили Армана на руки, вынесли из дома, пересекли двор и направились к липовой аллее, которая вела к подземной дороге.
Вернейль, убедившись в бесполезности всякого сопротивления, смирился со своей участью. Когда его несли через двор, он поднял голову и увидел под померанцевым деревом освещенную светом луны Галатею. Она ждала его! Арман снова начал судорожно рваться, он хотел подбежать к Галатее, сказать ей слово прощания, но крепкие веревки не поддавались, платок душил его голос…
У входа в галерею Армана поставили на ноги, развязали веревки и заставили идти. Филемон открыл потайную дверь, и через несколько минут они очутились на платформе. Здесь Филемон приказал развязать Арману руки.
— Теперь, — произнес он с иронией, — наш любезный гость может свободно предаваться всем неистовствам, какие сочтет приличными… Только не мешает ему помнить, что у его ног пропасть глубиной в сорок футов, куда может низвергнуть его один неверный шаг.
Арман, совершенно усмиренный, бесстрастно наблюдал, как приводили в движение механизм, посредством которого лестница, служившая средством сообщения между долиной и домом Гильйома, выходила из своего вместилища.
Когда она застыла у скалы, Филемон обернулся к молодому человеку и сказал:
— Мы должны теперь расстаться, Арман де Вернейль. Мой верный Гильйом проводит вас к вашим друзьям… Не обвиняйте никого, кроме себя, в том насилии, к которому вы заставили меня прибегнуть. Может быть, в интересах маленькой колонии я слишком медлил и не прибегал к этой решительной мере. Прощайте! Вы, без сомнения, очень скоро забудете Потерянную Долину и ее жителей. Для спокойствия вашей совести пожелайте, чтобы и вас также забыли.
Не дожидаясь ответа, он в сопровождении Викториана направился к галерее, дверь за ними захлопнулась.
Гильйом, оставшись один с Арманом, пригласил его следовать за собой, но тот, казалось, не слышал его.
— Филемон прав, — прошептал он. — Он слишком поздно прибегнул к решительной мере… Я был виновен?.. Бедный Лизандр, милая Галатея, что будет с вами?
Наконец молодой человек уступил настойчивым просьбам Гильйома и спустился по лестнице, которая тотчас, как только они ступили на твердую землю, поднялась на платформу.
По дороге в Розенталь Вернейль подумал о том, что надо попытаться сделать Гильйома своим союзником. Кто знает, а вдруг он согласится ему помочь?
Но Гильйом не стал его даже слушать.
— Мсье де Вернейль, — сказал он твердо, — я получил приказание не отвечать ни на один из ваших вопросов и не исполнять ни одно из ваших поручений. На протяжении сорока лет хозяин Потерянной Долины является моим благодетелем, равно как и моей семьи, потому не пытайтесь поколебать мою верность ему, особенно в таком деле, которое касается самых дорогих для него существ. Я и так горько раскаиваюсь в том, что, поддавшись чувству сострадания, привел вас без его позволения в Потерянную Долину, эту ошибку я никогда не решусь усугубить. Итак, оставьте ваши бесполезные попытки.
Арман понял, что ни просьбами, ни угрозами он не склонит на свою сторону поверенного Филемона, и за всю дорогу не проронил больше ни слова.
Неподалеку от Розенталя Гильйом вежливо распрощался с Вернейлем, возвратил ему саблю и узелок с вещами, и быстрыми шагами отправился назад.
Глава VIII Аванпост
В эту предутреннюю пору жители Розенталя еще спали. Но сторожевая цепь, которая была видна издали, и часовой, который ходил взад и вперед перед выделявшимся на фоне светлеющего неба строением, говорили о том, что здесь находился главный пост французов.
Погруженный в мысли о Галатее, Арман равнодушно прошел мимо пасторского дома, где был принят с таким радушием. Он даже не вспомнил хорошенькой Клодины, которая после его исчезновения принимала, по-видимому, живое участие в его судьбе, и не ответил на окрик часового.
Старый солдат вгляделся в человека, который так неблагоразумно не счел нужным остановиться у поста, но огромная шляпа Армана и плащ делали его неузнаваемым. Часовой громче повторил:
— Стой! Кто идет?
Вернейль, казалось, ничего не слышал. Он спрашивал себя, неужели нет никакого средства проникнуть в Потерянную Долину, похитить Галатею и освободить ее от власти своенравного опекуна? Чем дольше он размышлял об этом, тем все больше склонялся к мысли, что такое намерение исполнимо. Арман предполагал найти тропу, проложенную Лизандром, — дело вовсе нетрудное, если принять в соображение те сведения о ней, которые он получил от самого сына Филемона, и тогда…
— Кто идет? — в третий раз повторил часовой.
Вслед за тем раздался ружейный выстрел, и пуля, просвистевшая у уха молодого человека, оторвала кусок от его большой шляпы.
Вернейль, словно очнувшись, с улыбкой подошел к часовому, который, сделав выстрел, начал громко звать солдат.
— Что это, мой старый Лафилок? — спросил Арман. — Почему ты стреляешь в своего капитана?
Солдат поглядел на него и от изумления выронил из рук ружье.
— Капитан Вернейль? Это вы? — пробормотал он. — Пусть радуга будет моим галстуком, если на меня не напала куриная слепота! Не может быть, чтоб это был капитан Вернейль! Почему же вы не отозвались на мой оклик?
— И тем не менее это я, — ответил Арман, немного сконфузившись. — Но кто командует здесь? Где лейтенант Раво?
Между тем в доме, занятом французами, все пришло в волнение. Солдаты хватали свои ружья и быстро становились в ряды перед дверью караульни. Такое же смятение царило и в деревне, где выстрел и крики часового произвели переполох. Слышно было, как открывались и снова закрывались окна, полуодетые мужчины, женщины и дети выбегали из домов и спрашивали друг друга о происшествии, нарушившем их сон.
Но как только солдаты узнали Армана и убедились, что тревога оказалась ложной, они окружили Вернейля, шумно выражая срою радость.
— Капитан Вернейль, — спросил один из солдат, — так это неправда, что вы попали к австрийцам? Я же говорил, что наш храбрый капитан, если только он жив, скоро присоединится к нам!
Смех, шутки, радость, с которой его встретили, немного развеяли грустное настроение Армана, который тоже был рад встрече со своими сослуживцами и дружески называл их по именам.
Среди этой суматохи, сильно изумившей жителей деревни, из дома послышался грубый голос, спрашивавший, кто и почему устроил этот адский шум.
— Капитан возвратился, а негодный Лафилок выстрелил в него, как будто в кролика, — отвечали ему.
— Какой капитан? — спрашивал тот же голос. — В кого же выстрелил Лафилок!
— Э, черт возьми! Да в капитана Вернейля!
Раздалось ужасное и такое громкое проклятие, что способно было, кажется, повалить дом, потом дверь открылась, и огромного роста человек, худощавый, длинноногий, с взъерошенными волосами, с огромными загнутыми вверх усами, в панталонах и с сапогом на одной ноге, бросился к Арману.
— Миллион тысяч громов! Капитан, шестьсот тысяч чертей! Командир! Ну подлец этот Лафилок! Ах! Вернейль, друг мой, дорогой мой друг!
Арман еле освободился из объятий своего друга лейтенанта Раво, командира отряда, занимавшего деревню.
— Откуда ты появился? Где провел эти пятнадцать дней? — спрашивал Раво. — Какая герцогиня-эмигрантка похитила тебя? Какой волшебник посадил тебя в клетку? Где ты был? Что делал? Где скрывался?
Арман дружески жал ему руку, вовсе не слушая этих вопросов, лившихся потоком.
— Болван! Как я глуп! Как будто ты можешь говорить перед этой толпой долговязых… Пойдем в мою комнату, мы поговорим там за сыром и ветчиной… А вы, горлопаны, кругом налево, по своим местам, марш! Но одну минуту, что это за глупая история с выстрелом, который сделал Лафилок? Где сержант Лабрюн, и почему он не доносит мне об этом?
Сержант Лабрюн в немногих словах рассказал об ошибке, вследствие которой произошла эта суматоха.
— Лафилоку быть восемь дней в карауле, — приказал лейтенант. — Его следовало бы предать военному суду. Как он смел стрелять в своего офицера?
— Но если этот офицер не отвечал на его оклики, — улыбнулся Арман, — то Лафилок не виноват… Лейтенант Раво, прошу вас, не наказывайте беднягу за мою вину.
И он объяснил, как его рассеянность ввела в заблуждение старого солдата. Но Раво все еще сомневался.
— Этого не может быть, — сказал он, покачав головой. — Вы, капитан, вы такой точный, как будто скованный на дисциплине, вы не отвечали на «кто идет?» Вздор! Вы отвечали.
— Но я тебя уверяю…
— Ты отвечал, я тебе говорю! — и он закричал громовым голосом: — Пятнадцать дней быть Лафилоку в карауле!
Раво потащил Армана к дому, между тем как Лафилок снова стал на караул под насмешки своих товарищей.
Вернейль и Раво прошли мимо сторожевых, где солдаты предавались игре в карты, и вошли в маленькую комнату. В углу стояла кровать, изуродованная, точно поле битвы. На маленьком хромом столе горела свеча. Сабля, кивер, тысяча мелких принадлежностей военного быта валялись на полу или висели на стульях. Лейтенант с трудом отыскал свободный стул для своего друга. Отдав солдату приказание принести провизии, он устроился на кровати.
— Ну что, ты получил мое письмо? — спросил он.
— Да, — лаконично ответил Вернейль.
— Так! Я очень сомневался, что этот толстый упрямец, закопавшийся в скалах, как сурок, знает больше, чем говорит, и поверил бы ему, если бы одна особа, которая очень интересуется тобой, не сказала бы мне… Ах, Вернейль, у вас здесь есть прекрасный друг!
И лейтенант испустил такой вздох, что даже задул свечу. Арман никак не отреагировал на эти слова.
— Так в армии, — спросил он рассеянно, — начали распространяться обидные слухи на мой счет?
— Да, Арман. Ты ведь знаешь, что у тебя нет недостатка в злопыхателях. Они завидуют твоей храбрости, повышению в чине. Конечно, это они прежде всего начали поговаривать, а потом и солдаты принялись судачить. Негодяи, хотя и добряки в душе, они не прочь воспользоваться случаем укусить одного из своих начальников, а это твое проклятое дворянское титло только подливает масла в огонь. Я не удивлюсь, если окажется, что этот старый якобинец Лафилок узнал тебя и выстрелил нарочно; вот почему я так строго и наказал его… Но слава Богу, вы наконец здесь, и все пойдет как по маслу. Тебе надо явиться как можно скорее в главный штаб и показаться там в своем новом чине, и при первом же деле, я отвечаю, твои враги получат по носу!
Арман рассеянно кивнул. Он снова погрузился в свои мысли, от которых события, ознаменовавшие его приход в Розенталь, могли отвлечь только на минуту. Лейтенант Раво смотрел на него с удивлением.
— Мне кажется, Вернейль, — сказал он, — что ты не доверяешь своему старому приятелю, как прежде. Ты мне не сказал еще, где скрывался все это время.
— Я был в одном безвестном уголке среди этих гор и лечил там раненую руку.
— Как бы не так! Между тем как злые языки потешались на твой счет, между тем как мы дрались в нескольких лье от тебя, ты сидел там, как мокрая курица? Нет, нет, я никогда не поверю этому! Я слишком хорошо знаю своего друга капитана Вернейля: запах пороха или малейшее слово, задевающее его честь, заставили бы его прибежать сюда. Тут что-то другое, клянусь старым париком дьявола! Тут что-то другое!
— Ну да, Раво, тут есть кое-что другое, — сказал Арман дружеским тоном, — и, может быть, я буду иметь нужду в твоей помощи в таком деле, которое касается моих самых сладостных чувств.
— Дело… любовное? — с гримасой спросил Раво.
— Любовное, да.
— Я не сомневался в этом… Эх, это будет не так-то легко!
Лейтенант испустил новый вздох и осушил стакан с вином.
— Но друзья всегда друзья, — грустно произнес он, — в кого вы влюблены, капитан? Я спрашиваю только так, для вида, потому что очень хорошо знаю… Так в кого же вы так сильно влюбились, капитан Вернейль?
— Я люблю самую прекрасную, самую грациозную, самую милую девушку этих гор…
— Так, так, — проворчал Раво. — И ты, Арман, ты также любим в свою очередь? Любим горячо?
— Страстно, хотел ты сказать? Да, друг мой.
— Ну кончено, — сказал лейтенант с трагическим видом, — надо покориться… Право, Вернейль, я не могу не признаться, что ты дьявольски счастлив. Я знаю твою принцессу, и признаюсь…
— Ты ее знаешь? — спросил Арман, вздрогнув.
— Ведь это дочь протестантского пастора, которая живет в этой деревне? Я с самого начала подумал, что это так, слыша, как ее хорошенькие губки произносили твое имя. Какой у вас хороший вкус, капитан! Вот это женщина, не то что эти французские или итальянские куклы, которые разбиваются, стоит только к ним прикоснуться! Какой славный кусочек эта девушка с ее пухлыми розовыми щеками и русыми косами, которые падают до земли! Да, пусть возьмет меня ад! Я стал бы оспаривать ее у кого бы то ни было, пусть меня изрубят на тридцать шесть тысяч кусков! Да, ради этого милого создания я согласился бы солить капусту и пить только молочко весь остаток своих дней. Ну и наделал бы я дел, стал бы рубиться с четырьмя десятками моих лучших друзей, исключая тебя… Но… куда ни шло! Тысяча громов!
— Что это, Раво, взбрело тебе на ум? — спросил Вернейль. — Я не говорил тебе о дочери пастора, и не помню, чтобы произносил имя Клодины.
— Как! Так это не та, которая… которая…
— Это не та, которую я люблю.
Раво опрокинул стол с бутылками и стаканами, которыми он был загроможден и, бросившись на шею Арману, принялся душить его в объятиях.
— Друг мой Вернейль, ты мой благодетель, мой спаситель, я соглашусь быть убитым за тебя. Но ты и правда отказываешься от маленькой швейцарки? Ты уступаешь ее мне без задней мысли? Потому что, если ты ее не любишь, а она любит тебя, да, я тебя знаю, ты не допустишь, чтобы человек умер от тоски!
— Раво, ты ошибаешься, эта молодая девушка видела меня всего одну минуту. Ты принял за любовь простое участие… Что до меня, я никогда не буду любить другой женщины, кроме моей Галатеи.
— Галатеи? — повторил лейтенант. — Это романическое имя напоминает мне сентиментальный роман. Но где скрывается эта удивительная особа, которая могла так изменить моего веселого друга Вернейля?
— Недалеко отсюда, в одном чудесном месте, где природа рассыпала все свои красоты и все свои сокровища, — ответил Арман, предаваясь очарованию своих воспоминаний. — Это одновременно восхитительная деревня и волшебный сад. Воды там чище, небо голубее, цветы душистее, там царит вечная весна. И там-то я и провел несколько упоительных дней. Это был постоянный праздник. Прекрасные молодые люди и очаровательные пастушки, долгие мечтания на зеленой траве, под шум водопадов, поцелуи украдкой под тенью деревьев, нежные разговоры при свете луны, под цветущим померанцевым деревом… Я мог бы остаться в этом земном раю, но, как некогда Адам, был выгнан оттуда, и менее счастливый, чем Адам, не мог увести с собой моей Евы!
Между тем как Арман предавался этим поэтическим жалобам, лейтенант Раво смотрел на него с изумлением.
— Арман Вернейль, — произнес он с опаской, — там, в Альбийском бою, вас случайно не ранили в голову?
— Кажется, нет, — ответил Арман рассеянно, не замечая насмешливых ноток в голосе лейтенанта.
— В самом деле? А я, право, думал… Черт!.. — Помолчав с минуту, Раво сказал: — Ты говорил об услуге, которую я мог бы тебе оказать…
— Да, да, — оживился Арман, — я и забыл… Ты командуешь здесь один, не так ли, Раво?
— Да, потому что капитан Дюран вытребован в главный штаб для секретного поручения. Но почему ты спрашиваешь?
— Вот что: собери всех солдат, свободных от караула, и расставь их на всех дорогах и тропинках близ места, которое называется Потерянной Долиной. Они будут наблюдать за дорогами, и если увидят особ, приметы которых я опишу, то пусть проводят их в один из лучших домов деревни и дождутся там нашего возвращения.
— Что это за люди?
— Девушка и молодой человек, может быть, вместе, а может быть, и порознь… У молодого человека одежда темного цвета, черные шелковые панталоны, шляпа с широкими полями и напудренные волосы, на девушке костюм пастушки, как их изображали во времена Людовика XV, корсаж и юбка атласные, маленькая соломенная шляпка, браслеты и серьги из жемчуга и кораллов… Но легче всего узнать ее по красоте, подобной которой нет в целой Европе.
Изумленный Раво в эту минуту представлял собой статую.
— Так! — сказал он наконец. — В то время как храбрецы шестьдесят второй полубригады будут исполнять это приказание, мы-то куда пойдем?
— Мы с тобой, Раво, будем искать тропинку, которая ведет в Потерянную Долину, и если нам посчастливится найти ее, проникнем в те очаровательные места, где живет Галатея. Может быть, этой ночью ей не удалось уйти вместе с Лизандром. Или она не решилась. Мы убедим ее следовать за собой. Днем Филемон и его слуги заняты полевой работой, Неморин не сможет оказать никакого сопротивления… Мой план должен удастся, он удастся.
Лейтенант хранил молчание.
«Филемон, Галатея, Неморин! — думал он с печалью. — Да, без сомнения, романы помрачили его рассудок. Бедный Вернейль»!
— Мой храбрый товарищ! — сказал он громко с выражением участия. — Я предан тебе всей душой, но подумай, ради Бога! Ты солдат, как и я, мы офицеры, и нам, как известно, запрещено использовать солдат ради частных интересов. Я получил известие, что главнокомандующий намерен предпринять атаку. Через несколько минут может возвратиться капитан Дюран с приказом выступить в поход… Посуди сам, могу ли я при таких обстоятельствах посылать солдат в горы, оставлять доверенный мне пост и отправляться на поиски какой-то тропинки… которую мы не найдем!
Арман встал.
— Это правда, лейтенант Раво, — сухо произнес он. — Оставайтесь на вашем посту. Но я еще не вступил в свою должность и могу действовать, как хочу, и буду действовать один, потому что не могу более рассчитывать на друга.
— Не говори так, Вернейль! — взволнованно воскликнул Раво. — Не говори так! Черт меня возьми, будь ты хоть десять раз помешанный, если я не сделаю всего, чего ты хочешь, хотя бы после этого меня расстреляли как труса за неисполнение долга! Я не забыл, как три месяца назад ты пришел выручать меня с дюжиной солдат против целого полка и как спас от удара сабли, который отправил бы меня в царство теней. Нет, Раво не такой неблагодарный негодяй, и он никогда ни в чем не отказывал товарищу. К черту все затруднения! Итак, мы отправимся, надеюсь не надолго…
— Двух часов будет достаточно, и мы не удалимся от деревни настолько, чтобы нельзя было услышать выстрела, — торопливо заверил Арман лейтенанта.
— Ну, так больше и толковать не о чем! — И Раво крикнул так громко, что его мог услышать соседний гвардейский корпус: — Сержант, вели бить тревогу, и пусть солдаты берутся за оружие. Живее!
Тотчас барабанщики начали бить тревогу, которая, кажется, могла бы разбудить всех мертвецов, спавших вечным сном на скромном розентальском кладбище.
Через пять минут Раво был одет и вооружен. Он засунул два пистолета за пояс, осушил еще один стакан и, обращаясь к своему другу, сказал:
— Ну, я готов!
Арман, весь погруженный в свои мечты, не подумал даже поблагодарить его. Он ограничился тем, что рассеянно пожал Раво руку и направился к двери.
Солдаты уже выстроились в боевом порядке перед домом, между тем как квартировавшие в деревне спешили на призыв барабана. Их было около двухсот человек; все они были храбры и успели понюхать пороха.
Вернейль не мог не обменяться несколькими словами со своими старыми сослуживцами. Раво в это время занят был с сержантом Ламбрюном, который должен был командовать отрядом в его отсутствие, и давал ему самые подробные инструкции. Указав ему рукой на вершины гор, где он хотел расставить часовых, и приказав им останавливать всех, мужчин и женщин, которые будут пробираться этими местами к Розенталю, лейтенант прибавил отрывисто:
— Вернейль и я пойдем к той груде утесов, где неприятель может сделать засаду. В случае чего на первые же ружейные выстрелы, которые вы сделаете, мы прибежим так быстро, как бегают гончие на охоте.
Ламбрюн заверил, что исполнит в точности приказание лейтенанта.
— Значит, — прибавил он тише, — капитан Вернейль принес вам какие-то известия о неприятеле?
— Да, есть кое-что, — ответил Раво с таинственным видом. И тут он увидел Лафилока, который, пригорюнившись, стоял неподалеку, опершись на свое ружье. — Кстати, Ламбрюн, не слишком спеши отправлять Лафилока в караул за его давешний проступок, потому что я еще не вполне уверен, что Вернейль… Очень может быть, что этот старый якобинец не так виноват, как кажется. Поэтому отложи наказание до нового распоряжения, слышишь?
— Слушаюсь, лейтенант.
Через минуту Раво и Вернейль уже спешили к горам. Когда они взбирались на утес, на крыльце своего дома показалась Клодина.
Увидев ее, лейтенант послал вздох к облакам.
— Ах, Вернейль, — сказал он, — как бы то ни было, я понимаю, что из-за женщины можно потерять голову. И пусть черт убьет меня из мушкетона, если ради этой хорошенькой девушки я не решился бы на глупости, какие делаю для тебя.
Глава IX На скале
Уже рассвело, когда двое офицеров шестьдесят второй полубригады оставили Розенталь. Небо было покрыто густыми облаками, и только на востоке, где всходило солнце, тянулась красноватая полоска.
Вернейль и Раво поднимались в горы по склону, противоположному жилищу Гильйома.
С этой стороны склон был крут и неровен. На отлогостях не видно было зеленых лужаек, кустов остролиста и орешника. Почва здесь была бесплодна и изрезана оврагами, кое-где только пучки папоротника оживляли эту унылую, безжизненную местность. Однако, когда спустя четверть часа офицеры остановились на минуту, чтобы перевести дух, их глазам представилась очаровательная перспектива. На горизонте, в синеющей дали, возвышались горы, внизу расстилалась Цюрихская долина, в центре которой, обрамленное зелеными деревьями, голубело озеро с разбросанными по берегам деревушками.
У их ног так близко, что казалось, стоит только протянуть руку, виднелся Розенталь со своими хорошенькими домиками и колокольней, почти скрытой за тополями. Можно было различить даже солдат, ходивших взад и вперед перед караульней, и жителей деревни, которых видимо, очень беспокоили их передвижения.
Эта часть картины главным образом привлекла к себе внимание лейтенанта.
— Мне кажется, — сказал он, улыбаясь, — что я запустил блоху в ухо сержанту Ламбрюну. Ружья в пирамидах, солдаты с ранцами за спиной — все готово, как будто вот-вот должен появиться неприятель… Бедняжки! Если бы они знали, что австрийцы находятся в нескольких лье от нас и что вся эта суматоха устроена только для того, чтобы отыскать пастушку неземной красоты! Гм!
Вернейль ничего не ответил, внимательно рассматривая возвышавшиеся перед ним голые утесы.
— Да, да, — шептал он, — это, должно быть, белая скала, я узнаю ее по неровной вершине. Здесь должна находиться тропинка, проложенная Лизандром… Но как отыскать ее?
По мере подъема проход между нагромождениями камней становился все уже и уже. Временами казалось почти невозможным идти дальше. Вернейль снова принялся осматривать скалы и испустил радостный крик. Его спутник поспешил к нему, и увидел, что Арман стоит на коленях перед такой крутизной, от которой у лейтенанта закружилась голова.
— Посмотри, — сказал Арман в восторге.
— Да на что смотреть-то?
— Как! Ты не видишь здесь ступеней, сделанных рукой человека?
— Да, вижу едва заметную черту, которая, как будто пробита носом крота, если бы только крот мог прогрызть эту сатанинскую скалу.
— Эта черта и есть наша дорога.
— Черт возьми! И далеко она поведет нас?
— До вершины вон тех остроконечных скал.
— Бог мой! Да тут успеешь тысячу раз сломать себе шею, прежде чем дойдешь до вершины этой адской пирамиды! Будь же благоразумным, Вернейль. За этими проклятыми скалами нет ни волшебных садов, ни цветущих померанцев, ни водопадов, ни пастушек с коралловыми браслетами, ни пастушков в шелковых панталонах. Есть только камни, которые, пожалуй, обрушатся на нас, и пропасти, готовые нас поглотить… Пойдем назад! Клянусь бородами всех саперов шестьдесят второй полубригады, накануне ночью тебе все это привиделось или у тебя была горячка. Берись за мою руку и спустимся в Розенталь, где у нас остался еще целый окорок и много бутылок с вином. Мы возвратим спокойствие солдатам, которые теперь с минуты на минуту ждут боя, и славно покутим. Ну как, согласен?
— Вы можете, милостивый государь, думать что угодно о моих рассказах, и ничто не обязывает вас идти дальше, если вы боитесь!
И Арман начал проворно взбираться в гору.
— Бояться, мне бояться? — обиделся Раво. — Черт возьми, это была бы новость!
Сделав несколько огромных шагов, он настиг Вернейля, который забыл об этой маленькой размолвке, и они продолжили восхождение. Между тем тропинка была не так непроходима, как это могло показаться с первого взгляда, надо было только остерегаться головокружения и не смотреть вниз. Правда, в некоторых местах приходилось пробираться ползком, протискиваясь через расщелины до того узкие, что преодолеть их с трудом мог и ребенок. Сколько утомительных трудов и времени должен был потратить на эту работу Лизандр, а потом еще на то, чтобы скрыть ее следы!
Проделав около двух третей пути, друзья остановились на карнизе, поросшем мхом и папоротником, чтобы отдохнуть с минуту. Раво дышал, как рыба, вытащенная из воды. Арман тоже задыхался, со лба у него струился пот. Ни тот, ни другой не мог выговорить ни слова.
Во время этой короткой передышки Арман увидел какую-то блестящую вещицу в двух шагах от себя. Он протянул руку и поднял серебряную пряжку от башмака.
— Лизандр уже прошел здесь! — закричал он в волнении, — я узнаю эту пряжку, она принадлежала ему! Посмотри, Раво, неужели ты все еще сомневаешься?
— Эта пряжка могла быть потеряна каким-нибудь охотником.
— В таком случае он потерял ее всего несколько часов назад, потому что серебро еще не успело потускнеть. Значит, Лизандр уже достиг деревни… Как же мы его не встретили?
— Уж я, право, не знаю, — ответил Раво, отворачиваясь, потому что один только взгляд на скалу вызывал у него головокружение. — Но если тот, кого мы ищем, ушел, то и нам ничего больше не остается, как вернуться.
— Лизандр действительно ушел из Потерянной Долины, я в этом не сомневаюсь, но Галатея… Вряд ли она могла пройти по этой опасной дороге. Значит, Галатея еще пленница Филемона.
— Что же делать? Не надеешься же ты провести ее по этим неприступным высотам?
— Увы, надо будет поискать другое средство освободить ее… Я думаю, что в эту минуту Галатея, должно быть, в отчаянии. Мое странное исчезновение, уход Лизандра нанесли ей, несомненно, страшный удар. Теперь она обвиняет меня в неблагодарности, проклинает меня… Если бы только я мог увидеть ее, сказать, что не оставил ее, что хочу ее освободить! Сейчас она выводит свое стадо на луг Анемонов. С этого места легко различить белую скалу, на которой мы находимся. Раво, давай дойдем до вершины, и я обещаю тебе отказаться от попыток проникнуть в Потерянную Долину, не поговорив с Лизандром, которого мы найдем, без сомнения, в Розентале.
Лейтенант Раво, в эту минуту внимательно наблюдавший за тем, что происходило в равнине, расстилавшейся внизу перед ними, с силой сжал руку Армана.
— Вернейль, — взволнованно произнес он, — не можешь ли ты объяснить мне, что происходит вон там, за деревьями, на берегу Цюрихского озера?
Арман повернул голову в указанном направлении. Он увидел двигавшуюся массу, которая тянулась, как пустынный караван, по узким дорогам.
— Без сомнения, — ответил он спокойно, — это идет корпус армии.
— И ты говоришь об этом так равнодушно? Мне кажется… Посмотрим однако же… Что это за корпус и какое, предположительно, его назначение?
— Тебе, как и мне, легко узнать белые мундиры австрийцев и зеленые — русских… Дивизия состоит из кавалерии и, может быть, артиллерии, судя по виду повозок. Что касается направления, то, очевидно, она двигается к Розенталю.
— Именно так! И эти предосторожности, которые я счел нужным принять, были вдохновением свыше… Ну, теперь не время заниматься вздором и любовными сумасбродствами. К черту пастухов и пастушек! Вернемся в Розенталь. Неприятель силен, но и шестьдесят вторая полубригада состоит не из новобранцев. Занимая позицию в домах, наши стрелки не одного австрийца уложат, прежде чем дойдет дело до штыка… Ну же, Арман, опомнись! Ты храбрый солдат, а не томный вздыхатель. На врага, черт возьми! Твое присутствие удвоит жар наших солдат, мы разобьем эту дивизию! Пусть изжарят меня, как рождественскую колбасу, если мы не разобьем ее!
— Всего лишь четверть часа, Раво, — с тоской в голосе откликнулся Вернейль. — Я прошу у тебя только четверть часа!
И, не дожидаясь ответа, он снова принялся ползти вверх.
— Вернейль, — закричал Раво, перемежая призывы с ругательствами. — Нет, клянусь небом, этот несчастный убьет себя! Не торопись, да не торопись же, если уж тебе непременно нужно добраться до этой ужасной вершины! Если я его оставлю в эту минуту, — прошептал он, — бедняга убьется. Опять же, раньше чем через час сражение не начнется, а сержант принял все меры, необходимые для защиты. Что делать, видно, придется следовать за этим безумцем, было бы бесчестным вернуться без него.
Он стал кричать Арману, чтобы тот подождал его, но Вернейль будто и не слышал, торопливо карабкаясь на скалу. Лейтенант, подвигавшийся вперед с большой осторожностью, был еще далеко позади, когда Арман достиг вершины скалы.
Впрочем, скоро Раво остановился, чтоб посмотреть на передвижение неприятеля. Корпус делился на две части. Одна, более значительная, состоявшая из кавалерии, продолжала идти по дороге к Розенталю, другая, состоявшая из пехоты, тянулась чуть в стороне, ближе к жилищу Гильйома, как будто намереваясь обойти Потерянную Долину.
«Да, да, — думал Раво, покачивая головой, — я вполне понимаю этот маневр: они хотят захватить нас с тыла, между тем как другая, большая часть атакует спереди. Таким образом они поставят нас между двух огней и отрежут дорогу в случае отступления… Недурно, любители кислой капусты! К несчастью для вас, вас увидели, плутишки, и хитрость вам не удастся… Я вижу в скалах пост, откуда с тремя десятками молодцов я за пять минут убрал бы ваш полубатальон… Дайте только время мало-мальски утешить беднягу Вернейля, и если он, даст Бог, примется за работу, мы вам зададим, черт меня возьми!.. Но что делает на вершине Вернейль, подняв руки и покачивая головой, точно кукла? Он кого-то зовет и что-то говорит, как будто есть кому отвечать на его разглагольствования! Ну, кончим это, потому что все эти безрассудства не доведут до добра».
В эту минуту Вернейль испытывал самые мучительные чувства, находясь на вершине белой скалы. Он увидел наконец Потерянную Долину, где недавно проводил такие счастливые дни. Он видел цветущие сады, увитые зеленью беседки, фонтаны, статуи, озеро. Но потому ли, что его сердце наполнено было мрачными предчувствиями, или потому, что из-за отсутствия солнца все виделось в ином виде, только эти места, некогда такие веселые, теперь казались Арману унылыми. Не было никакого движения ни вокруг дома, ни на лугах, белые барашки и пестрые коровы не щипали траву на пастбищах.
Ни один из обитателей долины не показывался: ни Галатея, ни Эстелла, резвившаяся, бывало, среди ив на берегу озера, ни Неморин, игравший прежде так часто на своем флажолете, прислонясь к дубу, ни Лизандр, задумчиво сидевший на мшистом камне, ни даже Филемон, переходивший медленными шагами какой-нибудь незатейливый мостик, переброшенный через ручей.
Все они исчезли, как сон. Колония, еще вчера полная жизни, казалось, в эту ночь была поражена смертью. Сама природа имела траурный вид: ни одно дуновение свежего ветерка не ласкало зелени и деревьев; в озере, неподвижно спавшем в своих берегах, покрытых тростником и камышом, отражались свинцовые облака, и в небе — мрачное предзнаменование — вились коршуны, испуская по временам зловещие крики.
Арман с замирающим сердцем смотрел на эту меланхолическую картину. Он подозревал, что какое-то несчастье стряслось с семейством Филемона, и, забыв обещание, данное Раво, начал отыскивать тропинку, по которой можно было спуститься в Потерянную Долину.
Но эта сторона склона была ровна и открыта, поэтому Лизандр, прокладывая тропу, должен был удвоить предосторожности, чтобы сделать ее невидимой. Вернейль не мог найти никакого ее следа среди кустарников, которые покрывали склон.
И тут он вдруг увидел, что кто-то стремительно вышел из дома Филемонова и побежал через поле. Можно было сказать, что это скользила тень в липовой аллее. Скоро она повернула налево, как будто для того, чтобы подойти к озеру, и вдруг появилась на открытом пространстве. Арман испустил крик. Он узнал Галатею.
На ней не было соломенной шляпки, всегда так кокетливо надетой набок, волосы, не напудренные, в беспорядке падали на плечи, длинный шелковый шарф развевался от быстрого бега. Ее походка выдавала отчаяние, и Галатея часто оборачивалась к дому, как будто боясь преследования.
Арман не мог удержаться и, взобравшись на самую высокую оконечность скалы, закричал:
— Галатея! Галатея!
Девушка продолжала бежать.
— Галатея! — снова крикнул он, напрягая голос. — Галатея, я здесь!
Девушка, казалось, не слышала его криков. Если они и доходили до нее, то были слишком слабы, слишком невнятны, чтобы привлечь ее внимание.
— Куда она бежит? Боже мой, куда она бежит? — шептал Арман.
И он опять принялся звать ее, но его голос тонул в пространстве, и если бы даже Галатея подняла голову, она все равно не могла бы его увидеть.
Только один раз она остановилась на лугу Анемонов, под одной из тех ив, где несколько дней назад Вернейль признался ей в любви. Может быть, в этот час безотрадной горести жестокие и вместе с тем сладостные воспоминания пришли ей на память; может быть, она спрашивала себя, как он мог оставить ее, еще недавно шептавший нежные слова… Галатея оглянулась на кусты, за которыми тогда скрывался Арман, подняла голову к дереву, под тенью которого сиживали они вдвоем… Неподвижная и задумчивая, она казалась погруженной в думы о счастье, которые пробуждал в ней вид этих мест.
Арман, забыв разделявшее их пространство, говорил с жаром:
— Я сдержу свои клятвы! Я люблю тебя, я буду любить тебя всегда!
Галатея тем временем направилась к камню, возвышавшемуся на берегу озера. Здесь она снова остановилась, сложила на груди руки и с минуту смотрела на небо, как бы обращаясь к Богу с молитвой.
Арман почти не дышал, повиснув над бездной.
Галатея перекрестилась, подобрала одежду и бросилась в озеро.
Шум ее падения не мог быть слышен Арману, но он видел, как сомкнулась вода над бедной девушкой. Он испустил вопль и, обезумев от отчаяния, забыв о том, что пропасть в пятьсот футов глубины была перед ним, хотел прыгнуть вниз и неизбежно разбился бы, если бы сильная рука не схватила его и не оттащила назад.
Это был Раво, которого встревожили крики друга, и он вовремя подбежал, чтобы удержать его. Лейтенант схватил в охапку и отнес Армана в одну из впадин скалы. Вернейль с яростью вырывался.
— Оставь меня, — кричал он, — ради Бога, оставь меня! Я должен бежать к ней на помощь! Она тонет, я тебе говорю, она тонет!
— Кто тонет?
— Она… Галатея, моя Галатея!
— Ах, вот как? — усмехнулся Раво.
Лейтенант не видел происходившей здесь сцены, и один беглый, брошенный им взгляд на Потерянную Долину не мог поколебать его убеждения, что Вернейль сошел с ума.
— Оставь же меня! — продолжал вырываться Арман. — Оставь меня, я хочу спасти ее или погибнуть вместе с ней.
— Ты погибнешь и не спасешь никого. Полно, Арман, опомнись! Кому мог бы помочь твой прыжок с вершины этой скалы?
— Увы, это правда, теперь уж поздно… Она умерла… умерла! Ну что ж! — продолжал Арман, не оставляя попыток вырваться. — Она умерла, и я хочу умереть тоже… Пусти меня!
Раво, несмотря на свою силу, с величайшим трудом удерживал Вернейля. Вдруг снизу, с равнины, донесся шум. Он был подобен грому. Офицеры тотчас поняли, что это ружейная пальба, к которой скоро присоединились пушечные выстрелы.
— Слышишь, Арман? — взволнованно закричал лейтенант. — Розенталь уже атакуют… Наша полубригада под огнем неприятеля, который может подавить ее своей многочисленностью. Если ты решился умереть, то найдешь славную смерть на поле боя.
Вернейль тяжело вздохнул.
— Ты прав. Да, да… это будет лучше. Пойдем!
Но встав на ноги, он опять хотел приблизиться к краю скалы.
— Куда ты? — спросил Раво, удерживая его за руку.
— Посмотреть еще раз… увериться…
— К чему, Арман? Нельзя терять ни минуты… Слышишь, стрельба усиливается? Смотри, смотри, деревня окутана дымом. Если ты не поспешишь, мы придем слишком поздно.
— Ну, пойдем! — решился Вернейль.
И Арман начал быстро спускаться, нисколько не думая о том, что один неверный шаг — и он мог сорваться в бездну. Раво следовал за ним с меньшей стремительностью, но и он беспокоился о собственной безопасности.
Однако лейтенант, едва переводивший дыхание, с окровавленными руками и коленями вынужден был остановиться еще раз, между тем как Вернейль неутомимо продолжал спуск.
Дым, окутавший деревню, скрывал позиции французов. Судя по ружейной пальбе, они засели в домах и оттуда стреляли по неприятелю, который занял высоты перед Розенталем. Два орудия батареи находились на холме, и ядра пробивали стены домов, словно холстины. Однако австрийцы атаковали вяло. Потому ли, что, надеясь на свою многочисленность, они не считали нужным употреблять большие усилия для истребления горстки французов, или (что было вероятнее) ждали результатов разведки, отправленной в тыл неприятеля.
Только изредка стрелки, укрывшиеся в ущельях и оврагах, отвечали на огонь французов. Большая же часть солдат наблюдала за пушечной пальбой. В четверти лье от деревни блестели сквозь деревья сабли кавалерии, ожидавшей благоприятной минуты, чтобы вступить в бой.
Раво с одного взгляда увидел все это.
— Как, должно быть, перепугана теперь маленькая швейцарка! — проговорил он. — Хоть бы она успела убежать или куда-нибудь спрятаться! Однако сержант Лабрюн держится хорошо, но скоро ему придется плохо. Неприятель пустил в ход только часть своих сил, намереваясь сделать маневр и обойти нас с тыла. Ну что же, работы хватит на всех. Итак, вперед! Ах, если бы Клодина могла меня видеть!
И Раво, обнажив саблю, поспешил вдогонку за Арманом, который был уже далеко впереди. По мере того, как он приближался к деревне, навстречу ему бежали женщины, дети, старики, спеша укрыться в горах.
Глава X Сражение
Когда Раво добрался до Розенталя, деревню, точно траурным покрывалом, окутывал густой черный дым. Впереди на некотором расстоянии лейтенант заметил Вернейля, уже отдававшего приказания солдатам. В руке у него была обнаженная сабля, голова не покрыта, потому что, спускаясь со скалы, он потерял свою большую шляпу, лицо бледно, но спокойно. Раво направился к нему, когда встретил по дороге четырех солдат, несших раненого, который, хотя нога у него была перебита, страшно ругался, принуждая своих носильщиков оставить его и вернуться. Лейтенант узнал сержанта Лабрюна.
— Как, старина, — сказал он, — ты ранен? Дьявол! Ты слишком поторопился бросить игру!
— А, это вы, лейтенант, — пробурчал Лабрюн.
— Да, нам тут пришлось жарковато. Вот, видите, — он показал на раненую ногу, — теперь всю жизнь придется прыгать на одной ноге… Да, вам утром пришла в голову хорошая мысль выставить посты, иначе нас бы захватили врасплох и перекрошили бы без милосердия… Но когда заставали врасплох капитана Вернейля и лейтенанта Раво?
— Ну, ты известный льстец, — ответил Раво, несколько сконфуженный. — Сержант, мне надо десятка три добрых ребят… Мы окружены.
— Слышите, вы? — с беспокойством обратился Лабрюн к солдатам, которые его несли. — Посадите меня у этой стены, оставьте мое ружье, и марш с лейтенантом!
— Но, сержант… — боязливо начал было один из солдат.
— Трусы! Вы ухаживаете за сержантом Лабрюном, чтобы не быть там, где пули и ядра падают как град. Посадите меня тут, говорю я вам!
Солдаты нехотя уступили его настояниям.
— Ну и дела, — ворчал сержант. — Вот я уселся на капустных кочерыжках… Честное слово, не достает только трубки!.. Будь у меня трубка, я не встал бы ни для кого, приди ко мне сам Суворов, я принял бы его сидя. Впрочем, не всякий день бываешь ранен, а раненому можно дать себе и маленькую поблажку.
Раво, поручив одному из солдат сообщить Вернейлю о своем намерении задержать пехоту противника, бегом пустился со взводом к краю деревни. Скоро в том направлении послышалась сильная перестрелка.
Тем временем у караульни Вернейль собирал стрелков. Выстроив их, он сказал глухим голосом:
— Солдаты шестьдесят второй полубригады, если мы останемся здесь, то меньше чем за час будем убиты или взяты в плен. Остается одно: решительно атаковать. Я хочу сбить неприятеля с его позиции и завладеть двумя батарейными орудиями, которые так вредят нам… Вы следуете за мной?
— Да, да, — раздались голоса. — Ведите нас!
— Очень хорошо, — продолжал Вернейль. — Но вспомните об Альбийском бое, когда из всего отряда вернулся я один. На этот раз я не рассчитываю на возвращение.
Эти слова немного охладили нескольких молодых солдат, но два или три старых усача отвечали не колеблясь:
— Мы следуем за вами!
— Тогда вперед, и да здравствует республика!
Барабаны забили, и отряд двинулся к холму, где расположилась батарея австрийцев. Вслед им раздался пронзительный крик из пасторского дома.
— Мой Бог! — закричала голубоглазая Клодина, выглядывая из отдушины погреба. — Капитан идет на явную смерть!
Но ее тотчас заставили спуститься вниз, и ее грациозная фигура исчезла.
— Арман, Арман! — закричал молодой человек из разбитого окна верхнего этажа. — Я здесь… подожди меня… Ради самого неба, вспомни, что ты — моя единственная опора!
Однако бой барабанов и гром выстрелов помешали Арману услышать этот двойной призыв. Он, не оборачиваясь, продолжал бежать.
Тогда звавший его молодой человек выскочил из окна, бросился на улицу и присоединился к французам, уже взбиравшимся на холм.
Между тем неприятель ожидал, когда пехота, посланная зайти в тыл французов, подаст знак своего приближения. Наконец выстрелы, раздавшиеся за деревней, возвестили об успехе маневра. Австрийцы были уверены, что победа близка. Каково же было их удивление, когда дым, покрывавший окрестности, рассеялся, и они увидели совсем близко французских солдат, шедших в боевом порядке.
Это было так неожиданно, что австрийский генерал растерялся. Он не понимал, как горстка французов осмеливается атаковать его, когда их поражение казалось неизбежным. Он осведомился у своих офицеров, не получил ли розентальский гарнизон подкрепления, сам навел подзорную трубу на окрестности, стараясь решить вопрос, что же могло оправдать это до глупости дерзкое предприятие, и наконец отдал приказ отразить атаку.
Но Вернейль сумел воспользоваться минутным замешательством противника. Когда пули засвистели над головами его солдат, они были уже у подошвы возвышенности, где каменные выступы защищали их от выстрелов. Густой дым не замедлил снова покрыть холм, обе стороны не видели друг друга и стреляли почти наугад. Вернейль приказал своим солдатам не тратить времени и быстро идти вперед. Сам он шел все время в голове отряда, не замечая, что какой-то человек, не носивший французского мундира, неотступно следовал за ним. Капитан не оглядывался назад; опьяненный атмосферой боя, он с неистовством размахивал саблей. В редкие затишья между выстрелами слышно было, как он кричал:
— Вперед! Вперед!
Огонь австрийцев наносил большие потери нападавшим. Земля была усеяна убитыми и ранеными. Когда отряд достиг вершины холма, он вынужден был остановиться, чтобы поправить расстроенные ряды.
Арман приказал солдатам растянуться в одну линию и пустил их на австрийцев. Не дойдя до них шагов десять, он скомандовал стрелять.
Этот залп произвел магическое действие. Большая часть выстрелов, сделанных почти в упор, положили много австрийцев. Вернейль, не давая времени неприятелю опомниться, приказал идти в штыки, сам устремился к пушкам и принялся рубить артиллеристов.
Каждому французу приходилось драться с несколькими противниками одновременно. Поэтому, несмотря на храбрость и ожесточение нападающих, никто не мог предвидеть, какая из сторон одержит победу.
В эту критическую минуту Арман действовал с такой отвагой, какая могла быть объяснена только его желанием умереть. С пылающим лицом, с горящими глазами, он поверг командира орудия, когда другой артиллерист зарядил свой мушкетон и прицелился. Капитан не видел этого движения.
— Берегись, Арман Вернейль! — раздался голос за его спиной.
В следующий миг чьи-то руки обвились вокруг его тела, и тут же раздался выстрел. Руки разжались, и человек упал, пораженный пулей.
Арман обернулся. Его спаситель лежал на земле весь в крови. Это был молодой человек, следовавший за Арманом из Розенталя и присутствия которого он не заметил во время боя. На этот раз, едва Вернейль бросил взгляд на лицо юноши, уже тронутое печатью смерти, он узнал его и испустил раздирающий крик.
— Лизандр! — воскликнул Арман, выронив саблю. — Ты ли это?
— Да, это я, — прошептал раненый с болезненной улыбкой. — Ты покинул меня, и я пришел тебя искать.
— Но как же это случилось? Боже мой! Рана, кажется, очень серьезна… Ты умираешь за меня, ты умираешь за меня… Это невозможно!
— Друг, — продолжал Лизандр с кротостью, — вот видишь, какое страшное пробуждение после стольких прекрасных грез! Но я не жалею ни о чем, судя по тому, что я увидел здесь, недолго бы продлилось желание мое жить среди этих людей… Притом смерть моя послужит тому, кого я люблю так сильно, она сгладит бесполезность моей жизни.
— Но я не хочу, чтоб ты умирал! — закричал Вернейль с отчаянием. — Я не хочу быть причиной гибели тех, которые были привязаны ко мне в счастливой Потерянной Долине… Тебя спасут! — Он взвалил Лизандра на плечи, спеша вынести его с поля боя.
— Арман, это бесполезно, — говорил молодой человек. — Подумай о своей собственной безопасности… Ах! Бедный отец мой прав, мир очень зол! Арман, не думай обо мне, побереги себя для Галатеи, которая любит тебя. Я должен был уйти, не предупредив ее, но что станется с ней, если ты погибнешь? Смерть моя, без сомнения, изменит многое… Ты явишься к моему отцу… печаль переломит его упрямую душу, он отдаст тебе руку Галатеи, и все вместе вы вспомните меня и пожалеете о бедном Лизандре.
— Галатея… — повторил Вернейль. — Так ты не знаешь… — И присовокупил тихо, как будто про себя: — Пусть и не знает, пусть не узнает никогда!
Направляясь к деревне, где рассчитывал найти помощь, Арман не ушел бы далеко, неся на себе Лизандра, если бы не счастливое совпадение.
Между тем как на батарее продолжалось сражение, со стороны Розенталя показался небольшой отряд французов. То был Раво, который, рассеяв неприятеля, намеревавшегося обойти Розенталь с тыла, спешил принять участие в схватке на холме. Панический страх овладел австрийцами; они подумали, что это авангард подкрепления, посланного французской армией, стоявшей в нескольких милях от деревни, и разбежались, побросав оружие.
Равнодушный к победе, Арман предоставил своим солдатам преследовать бежавших и продолжал спускаться к деревне. На полдороге он встретил Раво и его отряд.
— Ну что, Вернейль, — закричал лейтенант с торжеством. — Я же говорил, что мы их отчешем! Однако надо отдать тебе должное, ты лихо повел дело… Но кого это ты несешь? Это не наш солдат.
Арман не отвечая, прошел мимо, между тем как Раво поспешил принять участие в разгроме австрийцев. Он прибыл вовремя, и вскоре поле боя было очищено от неприятеля. Вернейль достиг пасторского дома, где однажды он уже нашел убежище. Дверь была выломана, стекла в окнах разбиты. В ту минуту, когда он вошел, Пенофер и его дочь, оставив погреб, печально разглядывали опустошения в своем жилище. Мебель была переломана, а в крыше пушечное ядро пробило огромную дыру.
Несмотря на это, они обрадовались, увидев Армана.
— Он жив! И не ранен! — воскликнула Клодина.
— Наконец-то вы вспомнили о своих друзьях, капитан Вернейль, — сказал пастор, подходя к нему и пожимая руку. — Ну, лучше поздно, чем никогда… Боже! — присовокупил он, видя, что Вернейль осторожно положил потерявшего сознание Лизандра на матрас, который солдаты использовали, затыкая им выбитые стекла. — Кого вы принесли?
— Бедное дитя, достойное вашего великодушного сожаления, господин Пенофер. Защищая меня, он получил ужасную рану и спас мне жизнь.
Клодина поспешила к Лизандру, чтобы оказать ему помощь, и, взглянув в лицо молодому человеку, удивленно вскрикнула.
— Отец, — сказала она. — Вы не узнаете его? Это… Это…
— Это тот молодой француз, такой скромный и робкий, который утром пришел в Розенталь, — кивнул пастор. — Мы не смогли допытаться, кто он и откуда. Он интересовался, пришли ли вы в деревню. Тогда прошел слух, что вы с лейтенантом Раво отправились осмотреть окрестности. Этот молодой человек попросил позволения подождать вас здесь. Казалось, он с большим нетерпением желал видеть вас и говорить с вами. Но скоро началась стрельба, и…
Говоря это, пастор осмотрел рану Лизандра и печально покачал головой.
— Пуля задела легкое, — проговорил он. — Он с трудом дышит, он задыхается… Надежды нет.
— Я отправлюсь за лекарем нашей полубригады, — сказал Арман. — Это сведущий человек, он успеет, может быть… Лошадь! Мне нужна лошадь!
Пенофер удержал его за руку.
— Это бесполезно. Не удаляйтесь, несчастный начинает, кажется, приходить в сознание…
Действительно, Лизандр сделал судорожное движение. Глаза его открылись и остановились на Армане, как бы призывая его подойти поближе. Арман склонился над ним.
— Галатея… — простонал молодой человек, ища его руку. — Не забывай Галатею… она тебя любит… Скажи моему отцу…
Он не договорил. Легкий вздох слетел с его губ, голова откинулась.
Вернейль зарыдал. Пастор и Клодина, преклонив колени подле трупа, молились со слезами на глазах.
На другой день в подкрепление розентальскому гарнизону подошла дивизия, и генерал публично поблагодарил Вернейля за храбрость под радостные восклицания солдат.
Глава XI Путешественники
В один весенний день 1805 года карета, запряженная четверкой лошадей, катилась от Цюрихского озера к деревне Розенталь. Двое слуг в ливреях, сидевшие на передке кареты, сопровождали путешественников. То были два француза, они ехали из Франции через Женеву, и всю дорогу беззаботно сорили золотом. Тот из них, который был помоложе, носил офицерскую ленточку Почетного легиона, а этот знак отличия говорил о многом. К тому же нескромность слуг, охотно оставлявших трактирщиков в уверенности, будто господин их — друг императора, послужила тому, что от Женевы до Цюриха все были убеждены, что путешественник, о котором идет речь, был действительно посланник или по крайней мере один из тех адъютантов, которые в те времена бороздили Европу с целью подготовить преобразование ее по капризной воле Наполеона.
По мере того, как карета подъезжала к Розенталю, путешественники, казалось, все больше волновались. Когда вдали показались красные кровли деревенских домов, военный с ленточкой Почетного легиона, не отрываясь от окна, с любопытством всматривался в пейзаж, который, судя по всему, внушал ему мысли грустные и тяжелые. Смуглое лицо его омрачилось, он хранил молчание, и два или три раза подносил руку ко лбу, будто прогоняя скорбные воспоминания.
Между тем ничто не напоминало здесь о былом сражении. Холм, с вершины которого австрийская артиллерия громила розентальские дома, был покрыт зеленью, на том месте, где стояла батарея, мальчик пас коров. Поля были тихи и пустынны. В садах под лучами теплого майского солнца распускались почки миндальных и персиковых деревьев, зеленели всходы на полях. Проломы в крышах и стенах были починены, разрушенные дома вновь отстроены.
На другого путешественника с огромными усами и жесткими вьющимися волосами перемены эти, казалось, производили совсем не то впечатление, как на его товарища: он рассматривал все с явным удовольствием. Усач был старше своего спутника лет на пять, но угреватая кожа и наметившееся брюшко отнюдь не молодили его, а лицо портил широкий шрам на лбу. Кавалерская ленточка тоже украшала петлицу мужчины.
Время от времени он издавал радостные восклицания, но друг его, казалось, не слышал их.
— Ах, полковник, — сказал он наконец, потирая руки, — что за чудесные воспоминания пробуждают эти места! Австрийцы получили здесь такую взбучку, от которой, думаю, долго чесалось у них… Сущее удовольствие вспомнить об этом: точно хорошая порция водки на голодный желудок во время быстрого марша!
Тот, к кому относились эти слова, откинулся на подушки и закрыл руками глаза, испустив глубокий вздох.
— Ты никогда не любил вспоминать об этом, — продолжал усач, — между тем, господин полковник, позвольте старому товарищу сказать вам, что тут не произошло ничего такого, чего вы могли стыдиться.
— Эти места, исполненные для тебя таких приятных воспоминаний, — ответил полковник изменившимся голосом, — напоминают мне о самых мучительных минутах в моей жизни.
— Вот чего я никак не могу понять, если только хандра твоя не связана со смертью того молодого человека, который…
Он не договорил, увидев, что лицо его приятеля исказила болезненная гримаса.
— Пожалуй, оставим этот предмет, — вздохнул он. — Хотя твое необъяснимое отвращение к этим местам огорчает меня тем более, что я сделаю тут, возможно, бессрочный привал…
— Что ты говоришь, Раво? — рассеянно спросил Арман Вернейль, которого читатель, без сомнения, узнал в полковнике. — Ты хочешь оставить службу?
— А почему бы и нет? Послушай, дорогой мой Вернейль, я вытесан совсем не из того дерева, из которого делают генералов и маршалов Франции. К тому же мне сорок лет, я капитан, имею орден, карьера моя сделана, и остается только одно: быть убитым или изувеченным в каком-нибудь сражении, а это ж ремесло мне наскучило. Вот я и решил, если дела пойдут на лад, снять мундир и поселиться в этом мирном уголке. Обзаведусь женой, ребятишками, кроликами, стану попивать пиво, продавать сыр и буду счастлив.
— Но зачем же, Раво, удаляться именно сюда, в Швейцарию, а не остаться во Франции?
— А ты разве забыл малютку Клодину, дочь протестантского пастора? — сказал Раво, бросив искоса взгляд на полковника. — Если так, то тем лучше, потому что, хотя и давно это было, а я помню, что девочка питала слабость к тебе. Знай, Вернейль, что в тот день, когда мы оставили деревню, я объяснился с прекрасной швейцаркой. Правда, мы насилу понимали друг друга, потому что она довольно дурно говорит по-французски, а я не более силен в немецком. Между тем я признался ей в своей страсти сколько мог красноречивее и назначил свадьбу после моего возвращения, которое, по тогдашним моим расчетам, должно было последовать по окончании военной кампании. Она обещала ждать. К несчастью, война затянулась, но наконец-то я здесь. В протестантских семьях обещание священно, потому я уверен в Клодине. Жениться на прелестной девушке, о которой я столько думал на биваках, в гарнизоне, в худые и хорошие дни! Посуди, Вернейль, имею ли я причину радоваться своему возвращению в эту благословенную деревню!
— Дай Бог, чтобы все исполнилось по твоему желанию, — произнес Арман.
Последовала минута молчания, в течение которой слышались только стук колес и хлопанье бича.
— И все-таки, Арман, — снова заговорил Раво, — я не могу объяснить себе, как это при крайнем отвращении к этим местам ты решился предпринять путешествие. Я не смел беспокоить тебя вопросами, но…
— Ничего нет проще, — не дослушал его Вернейль. — Я сделал это по приказу императора. Разве такой причины не достаточно для солдата?
— Без сомнения, без сомнения! Однако ты говорил, что не имеешь никакого дипломатического поручения к швейцарскому правительству.
— Ну, видно придется рассказать тебе обо всем и попросить совета насчет теперешнего моего положения. Если я не открылся тебе раньше, то вовсе не из недоверия, а потому что хотел предварительно сам хорошенько подумать и уяснить себе кое-что, и теперь еще представляющееся мне темным. Итак, слушай.
Дней восемь назад я отправился в Тюльери. Лишь только император заметил меня, он подошел ко мне и отвел к окну.
«Полковник Вернейль, — сказал он мне тем отрывистым тоном, который тебе известен, — на днях я кое-что узнал о вас. Повидайтесь с министром X. Он желает вам добра и расскажет вам о моих намерениях относительно вас».
Затем он ушел, оставив меня в изумлении и беспокойстве. Несмотря на видимую благосклонность императора, в тоне его чувствовалась ирония, не предвещавшая ничего доброго.
Я провел тревожную ночь и на другой день с утра поспешил к господину X, который, ты знаешь, один из самых влиятельных министров, и спросил у него, в чем дело.
Он принял меня дружески и сказал:
«Не тревожьтесь, полковник; император любит вмешиваться в дела своих офицеров, к которым питает особую привязанность. Вам известно, что в настоящее время он старается восстановить старое дворянство. Вы принадлежите к родовитой дворянской фамилии, а по личным заслугам достойны сделаться главой своего восстановленного рода. Чтобы дать вам средства достигнуть этой цели, император решил женить вас, и сам пожелал найти вам невесту».
Тут министр остановился и бросил на меня проницательный взгляд. Я был смущен, но все-таки почтительно ответил, что, несмотря на признательность за такую заботу, почитаю обязанности военной службы несовместимыми с супружеством.
— Как! — воскликнул Раво с ужасом. — Ты осмелился отвергнуть жену, которую сам император выбрал для тебя?
— Это не удивило бы тебя, мой старый друг, — задумчиво ответил Вернейль, — если бы ты не воспринимал как бред мои приключения в этих горах… Но дай мне закончить.
Министр хитро улыбнулся и сказал:
«Подождите, — вы не знаете еще, от чего отказываетесь».
И он принялся расписывать мне выгоды предполагаемого супружества. В жены для меня выбрали мадемуазель де Санси, дочь главнокомандующего артиллерией при Людовике XV. Рано оставшись сиротой, она воспитывалась другом ее отца, который взял девочку с собой в эмиграцию. После возвращения во Францию, они жила с воспитавшей ее семьей в отдаленной провинции. Говорят, красота мадемуазель де Санси превосходит всякое воображение. Сверх того, она имеет двести тысяч экю приданого, и император, благословляя наш союз, дает мне сто тысяч экю и титул барона.
Однако я повторил министру, что не хочу жениться, и привел все возможные доводы, но господин X остался непреклонен. Он дал мне понять, что если у меня в сердце и была какая-нибудь прежняя страсть, то это не может служить причиной отказа, что женятся чаще по расчету, чем по привязанности, что таким явным презрением к намерениям императора я навлекаю на себя неудовольствие его величества и что моя карьера может быть испорчена подобным промахом. Он столько наговорил мне, прибегая то к угрозам, то к рассуждениям, что я наконец уступил и обещал повиноваться.
И тут в серых глазах министра мелькнула та же ирония, которую я заметил во взгляде императора.
«Это не все, полковник Вернейль, — продолжал он. — В этих милостях, которыми вас осыпают, должна иметь свою часть и политика: император желает, чтобы по случаю вашего супружества с мадемуазель де Санси, вы представили ко двору тех из ваших родственников, которые больше не дуются на императорский двор…»
Я возразил, что никогда не имел сношений с родственниками, о которых он говорит. Ни один из них и не подумал протянуть мне руку помощи, когда я еще ребенком остался сиротой.
«Хорошо, — прервал меня министр, улыбаясь. — Тем скорее они признают вас, когда вы будете богаты и сильны… Вы только обратитесь к ним, и увидите, какое это произведет действие. Во всяком случае, невозможно, чтобы вы пошли к алтарю не в сопровождении старого друга моего, графа де Рансея, который, если не ошибаюсь, был вашим опекуном».
Я заметил, что очень давно не видел графа де Рансея, и вот уже больше пятнадцати лет, как его сношения со мной совершенно прерваны.
«Странно, — сказал министр. — Впрочем, Рансей большой оригинал. Одно время он был помешан на философии и нелепых утопиях и кончил тем, что в один прекрасный день исчез неизвестно куда… Но вы его родственник и должны знать место его убежища».
Я повторил, что ничего мне не известно о де Рансее. Министр, с сомнением покачав головой, продолжал:
«Благодаря предпринятой им предосторожности перевести свои поместья на чужие имена, де Рансей владеет большим капиталом. Мне нетрудно будет узнать имена его поверенных, которым он поручил собирать свои доходы. Я сейчас же напишу Фуше, министру полиции… Побывайте у меня через несколько дней и я сообщу вам адрес графа… Вы знаете, полковник, — доверчиво говорил он, провожая меня, — что его величество озабочен тем, чтобы при дворе видели графа де Рансея и некоторых других ваших знатных родственников. За границей утверждают, что мы окружены только плебеями и выскочками, уверяют, что знатные особы старой аристократии отказываются признать нас, и это весьма огорчает императора, который, как вы знаете, не любит плебеев. Эта слабость, может быть, но слабость великого человека, и мы должны уважать ее».
Аудиенция моя кончилась. Однако, спустя три дня я получил приглашение от министра и поспешил к нему.
«Добрые вести! — сказал он мне. — Фуше делает чудеса: дикарь наш найден, несмотря на тщательные предосторожности скрыться от любопытных глаз. Меня известили, что де Рансей живет в Швейцарии, в Цюрихском кантоне, в деревне Розенталь».
«Розенталь!» — невольно повторил я.
Министр пристально посмотрел на меня.
«Ах, да, я и забыл, — продолжал он, — в этом местечке вы совершили очередной свой подвиг… Так вот, вы должны немедленно отправиться туда».
«Немедленно, монсеньор? Но мне надо получить отпуск и соответствующие бумаги».
«Все предусмотрено, — ответил господин X, подавая мне бумагу, подписанную военным министром. — Вот необходимые документы.
Император поручил мне передать вам приказ ехать немедленно».
Я хотел было возражать, хотел просить объяснений, но не решился. Министр поспешил пожать мне руку, повторив, что всякое сопротивление с моей стороны может иметь весьма неприятные последствия, и тотчас оставил меня.
Тогда-то я и пригласил тебя, Раво, ехать со мной. Я чувствовал, что один не в состоянии буду предпринять путешествие, которое воскрешает в моей памяти мучительные переживания, и хотел иметь рядом испытанного друга…
Раво слушал эти объяснения с большим вниманием, поглаживая время от времени усы.
— Ей-Богу, полковник, — сказал он после некоторого размышления, — тут вовсе не о чем беспокоиться… Император хочет женить тебя на прекрасной девушке с большим приданым, и прекрасно! Еще он хочет, чтобы ты вернул ко двору своего родственника, этакого старого брюзгу в вышитых панталонах и с прической а-ля пижон, и тут я не вижу большого зла, если только тебе удастся поймать рыбку за хвост. Один я не принят в расчет в этом деле, и мне решительно ничего больше не остается, как окопаться здесь с женой, ребятишками и кроликами…
— К чему это, мой добрый Раво?
— К чему? — переспросил капитан изменившимся голосом, крепко сжав руку Вернейля. — К тому, что различие в чинах уже отдалило нас друг от друга. Арман, когда ты сделаешься мужем богатой девицы, когда ты будешь бароном, то, окруженный своими родственниками-аристократами, не сможешь признавать другом такого, как я, разночинца, который беспрестанно ругается и бранится, простака, которому суждено жить с подобными ему. Повторяю тебе, я сделаюсь крестьянином, беру отставку… Это всего лучше.
И крупная слеза блеснула на его щеке. Арман с жаром воскликнул:
— Неужели ты так дурно думаешь обо мне, Раво? Этот брак, которого я не желаю и который, быть может, умножит мои тайные горести, разве он заставит меня пожертвовать такой долгой и испытанной дружбой, как наша? Даже если бы я женился на герцогине, мой старый военный товарищ всегда будет иметь место у моего очага и в моем сердце.
— Вот это хорошо сказано! Благодарю тебя, Арман. Да, да, ты добрый малый, ты точно пятьсот фунтов снял у меня с плеч… Но как же ты собираешься отыскать этого графа Рансея?
— Меня уверяли, что в Розентале могут указать мне его жилище. Мы остановимся в трактире. Там, без сомнения, знают о нем.
В эту минуту они въехали в деревню, и жители, привлеченные хлопаньем бича, сбежались посмотреть на экипаж. Проезжая мимо прежнего жилища пастора, Раво заметил, что дом отстроен заново, и сердце капитана болезненно сжалось.
— Я не вижу Клодины, — произнес он, волнуемый мрачными предчувствиями.
В это время полковник рассматривал пышный мраморный монумент, возвышавшийся среди смиренных деревянных крестов на кладбище.
— Бедный Лизандр! — прошептал он, подняв глаза к небу.
Через несколько минут карета остановилась перед трактиром «Три аиста» в центре деревни. На шум тотчас прибежали трактирщик и его жена, маленькая толстая женщина с грудным ребенком на руках, между тем как трое других, постарше, теребили ее за передник. Кругом теснились праздные любопытные и множество ребятишек.
Трактирщик, краснощекий, курносый мужчина довольно плотного сложения, от которого исходил весьма сильный острый запах, потому что с должностью трактирщика он соединял еще должность сырного торговца, неловко снял шляпу, а его жена низко присела. Когда приезжие, торопясь избавиться от любопытных глаз, вошли в дом, Раво, взглянув в лицо трактирщицы, побледнел.
— Тысяча чертей! — пробормотал он. — Это… это верно или сестра или родственница моей милой Клодины Пенофер!
Глава XII Гостиница
Полковник Вернейль, не заметив волнения своего товарища, поспешил спросить себе комнату. Трактирщик проводил его в самый лучший номер, находившийся на втором этаже, между тем как Раво остался с хозяйкой внизу.
— Давно ты поселился в этой деревне, любезный друг? — спросил Арман, опускаясь в кресло.
— Лет около шести будет, — ответил хозяин, коверкая французские слова. — Да, я женился, не прошло и года после кровавого сражения, когда Розенталь был почти разорен французами.
— Немцы тоже участвовали в этом разрушении, — чуть заметно улыбнулся Вернейль. — Но если так, то ты должен знать многих здешних жителей?
— Всех, сударь! Всех, от мала до велика, на несколько миль кругом… Самые знатные путешественники останавливаются у меня, и зажиточные буржуа часто собираются здесь отведать моих французских вин. Кроме того, я торгую сыром и имею сношения со всеми владельцами, фермерами и со всеми соседними мызницами.
— В таком случае ты знаешь графа де Рансея, или, по крайней мере, слыхал о нем?
— Знаю ли я графа де Рансея? Конечно, сударь! Это старый и почтенный сеньор, живущий в четверти мили от Розенталя, и такой, говорят, богач, что может купить весь кантон… Да, я знаю его, и не только его, но и виконта де Рансея, его сына, и виконтессу, его невестку, а также маленького Шарля, самого милого мальчика на свете… Прекрасная семья, сударь, и делает много добра. Граф проезжал здесь дня два назад, на обратном пути из Франции, и еще привез с собой какую-то даму под покрывалом, что вызвало большое любопытство всех наших соседей.
— Он приехал из Франции, говоришь ты? — удивленно переспросил Вернейль, подумав о том, какого стоило труда узнать в Париже адрес графа. — Разве он не постоянно живет у вас?
— У него есть здесь дом, сударь, но он и его семейство довольно часто путешествуют… Говорят, что они эмигранты, так оно, известное дело, приятно иногда побывать на родной стороне.
— А как давно живут они близ Розенталя?
— Не могу ответить вам, сударь, с точностью. Они уже жили здесь, когда я сам начал хозяйствовать в этой деревне. Помню только, что рассказывали много глупых басен насчет того, как они поселились тут… Но наш народ везде видит чудеса.
Вернейль не счел нужным выслушивать трактирщика дальше.
— Спасибо, любезный, — сказал он. — А не можешь ли ты посоветовать кого-нибудь, кто бы проводил меня к дому графа?
— Ничего нет легче, сударь, я сейчас скажу Фрицу. Он только наденет свое праздничное платье и будет к вашим услугам.
— Хорошо, только поспеши.
Трактирщик направился было к двери, но Арман окликнул его.
— Постой, — сказал он. — Есть и другие лица в Розентале, судьба которых тоже интересует меня… Скажи, жив ли почтенный пастор Пенофер?
— Как! Вы знали господина Пенофера? — спросил трактирщик с удивлением. — Увы, сударь, бедный старик уже три года как умер.
— Это был достойный человек, — вздохнул Вернейль. — Я никогда не забуду услуг, которые он оказал мне… А его дочь, милая Клодина, с ней что сделалось?
— Вы знали также и Клодину? — вскричал трактирщик, отступая на шаг. — Это как? Я никогда не слыхал…
— Что же тут удивительного? — Арман не мог удержаться от улыбки при виде его испуганной физиономии.
— Так вы, сударь, не знаете, что Клодина, дочь пастора…
В эту минуту разговор был прерван шумом внизу. Это была нестройная смесь мужских и женских голосов, детских криков, стука кастрюль и котлов, катавшихся по полу. Трактирщик с беспокойством прислушался.
— Что это там такое внизу? Извините меня, сударь, надо пойти посмотреть, что случилось.
Но не успел он дойти до двери, как шум послышался уже на лестнице. Кто-то поднимался по ней, крича и ругаясь ужаснейшим образом. В комнату вбежал Раво, с горящими глазами, с пеной на губах.
— Ах, мой друг, какой стыд, какой позор! — закричал он, не замечая трактирщика, который жался в углу, ни жив ни мертв от страха. — То была не сестра ее, не родственница, а она сама, она, неблагодарная, глупая, вероломная! Я не хотел верить этому сначала, но она сама призналась! Зачем я не убил ее после подобного признания!
— В чем дело, Раво! — спросил Вернейль. — О чем ты говоришь?
— Позор! О Клодине я говорю, о Клодине Пенофер, о презренной Клодине!
— Что же сделала бедная девушка, чем она заслужила подобные оскорбления?
— Что она сделала? Она нарушила клятву, она не дождалась меня… Через несколько месяцев после моего отъезда она отдала свою руку другому! Сейчас она дерзнула утверждать, обманщица, что ничего мне не обещала, что мы не поняли друг друга в последнее наше объяснение, потому что я не знал по-немецки, а она очень дурно говорила по-французски, как будто я не употреблял доказательств, таких доказательств, что самый бестолковый дурак мог бы все понять! Арман, она вышла замуж за какого-то олуха, от которого уже имеет четырех детей, и пятого готова родить! Не стыд ли это? Да, мой друг, она осуществила мои самые счастливые планы, но с другим: ребятишки, кролики, сыр, все есть… Надобно удавить этого дуралея, который отбил у меня Клодину. Да, гром и молния, я уничтожу его, растопчу ногами!..
Бедный трактирщик слушал все это, не смея вздохнуть. Раво, шагая взад и вперед в крайнем раздражении, наконец увидел злополучного супруга Клодины и бросился к нему.
— Раво! — закричал Арман. — Достойно ли это честного человека, воина?
Раво немного остыл.
— И точно, полковник, — сказал он, — мы будем благоразумнее. Как тебя зовут? — спросил он у трактирщика.
— Сигизмунд Вольф, — ответил несчастный, весь дрожа.
— Ну, Сигизмунд Вольф, вы оскорбили меня и должны дать мне удовлетворение… завтра утром я буду ждать вас с моим другом за стеной кладбища. Выбор оружия предоставляю вам!
Эти слова были произнесены с большим великодушием. Трактирщик, ободренный этим, осмелился возразить:
— Боже мой! Да чем же я оскорбил вас, сударь? Неужели тем, что женился на Клодине и сделал ее матерью четверых детей?
— Молчи, не говори об этом, гром и дьяволы! — зарычал Раво. — Ты слышал? Завтра утром!
— Я не хочу драться. У меня большая семья.
— Тем лучше, ты должен подать пример храбрости своим детям.
— Я швейцарский гражданин и стану просить покровительства законов.
— А я буду иметь честь переломать ребра господину гражданину, выброшу за окно его мебель и подпалю дом.
— Это слишком! — вскричал Вольф, выведенный из себя. — Если так, я готов драться… я был маркитантом[4] в королевской армии. Я докажу храбрость!
В этот миг в комнату вошла Клодина, подслушивавшая на лестнице. Она тащила за собой вереницу ребятишек, которые плакали и пищали так, что хоть уши затыкай.
Клодина бросилась к ногам Вернейля и жалобно запричитала:
— Ах, герр Вернейль, сжальтесь над нами, спасите нас от этофо крофопийцы, который хошет стелать меня втовой, а тетей моих сиротами… Ей-Богу, я нишего ему не опещала… Я не знала тогта так по-француски, как теперь, я не мокла опещать ему, што пуду его тожидаться, потому что не любила его. Если пы то пыли фи, трухое дело, потому што фы пыли топры… Сащитите нас от этого слобного шеловека, который хошет упить моего муша!
Она попыталась даже поцеловать руку Армана, а дети продолжали вопить.
Арману, которому эта сцена была весьма неприятна, поднял Клодину и уверил ее, улыбаясь, что Раво не дойдет до такой крайности.
— Не обещай этого, Вернейль! — запротестовал тот. — Я им покажу, как насмехаться над солдатом республики! Я убью этого гнусного торговца сыром, или он убьет меня!
Клодина залилась слезами.
— Он хошет упить моего люпесного Сихизмунда! — повторяла она сквозь рыдания.
— Он хошет упить нашего баба, — вторили ей дети, удваивая свои крики.
И тут вдруг Раво разразился громким хохотом. Клодина с расплывшейся талией, плаксивым лицом и в заношенном платье совсем не походила на милую блондинку, когда-то столь свежую и проворную. А перемазанные дети и их трусливый отец с грубыми манерами скорее достойны были смеха, чем гнева.
— Позор! — воскликнул обманутый любовник. — Я был очень глуп, что так погорячился! Вот что сделалось бы со мной, если бы я обзавелся семейством!.. Прекрасную жизнь пришлось бы мне вести тут, мне, храбрецу и герою! Тьфу! — Обращаясь к Клодине, он продолжал с важностью: — Нет, моя милая, капитан Раво не намерен оставлять тебя вдовой, а детей сиротами. Живите и плодитесь. Даю вам на это свое позволение… К тому же упреки бесполезны. Сравнивая своего мужа со мной, ты должна быть довольно наказана за свою поспешность.
Капитан поглаживал свои усы, между тем как жена и дети осыпали ласками злополучного главу семейства, освободившегося от неминуемой опасности.
Наконец Клодина, спохватившись, боязливо подошла к Арману.
— Плаготарю, мой топрый герр. Фернейль, — сказала она голосом, в котором слышалась нежность. — Фы наш спаситель… пез вас, мошет бить, слушалось пы стесь польшие несчастия. Ах, я пошуствовала расположение к фам, как только фы в перфый рас пришли в Розенталь, и если пы фы пошел али…
— Извините меня, любезная госпожа Вольф, — прервал ее Арман, — как-нибудь на досуге мы предадимся воспоминаниям. Потолкуем о вашем достойном отце, и вы расскажете мне историю своего замужества. А теперь я попрошу вас, сударь, — обратился он к трактирщику, едва пришедшему в себя от передряги, — дать мне проводника в жилище графа де Рансея.
— Графа де Рансея! — повторила Клодина. — Што ше фы не скасали мне этофа, топрый мой герр Фернейль? Управитель графа фнизу, штет, кохта фы мошете принять ефо.
— Возможно ли это? Он спрашивал меня? Как де Рансей мог узнать о приезде моем в Розенталь? Но велите войти этому человеку, сударыня, велите войти сейчас же!
— Этот упрафитель, — сказала, улыбаясь, Клодина, — мошет пыть, не софсем не исфестен фам…
— Довольно, ради Бога, Клодина! — нетерпеливо оборвал ее Арман. — Велите немедленно войти управляющему графа!
Семейство Вольфов покорно удалилось. Раво тоже сделал несколько шагов к двери со смущенным видом, как будто боялся, что Арман станет упрекать его за вспыльчивость, но Вернейль и не думал об этом.
— Останься, — сказал он ему. — Зачем ты оставляешь меня? У меня нет от тебя секретов.
Раво не успел ответить, потому что в комнату вошел человек, в котором Арман с первого взгляда узнал Гильйома, друга и поверенного Филемона.
Он изумленно вскрикнул, между тем как Гильйом невозмутимо подошел к нему и поклонился с достоинством.
Вернейль наконец преодолел волнение.
— Вы… — сказал он хриплым голосом. — Это вы теперь управляющий графа де Рансея?
Гильйом утвердительно кивнул. Раво тоже узнал Гильйома.
— Да это мой старый знакомый! — воскликнул он. — Так, так! Мы с ним имели не одну беседу по случаю исчезновения одного капитана, которого он спровадил куда-то и не хотел говорить, куда именно.
— Надеюсь, — сказал Гильйом с почтительной улыбкой, — что Арман де Вернейль простит мне несколько грубое обхождение с ним в последнее наше свидание?
— Я заслужил это, — ответил Арман. — И ужасные несчастья, последовавшие за этим, доказали, как я был виноват. Но, пожалуйста, Гильйом, — продолжал он, подходя к нему и понизив голос, — скажите мне, что случилось с бедным стариком, которому я так дурно отплатил за гостеприимство? Жив ли он еще? С ним ли его любезные дети, Эстелла и Неморин?
— Все живы, сударь, но есть горести, которые неподвластны никаким утешениям.
— Знаю, Гильйом, слишком хорошо знаю. Впрочем, как бы ни были несчастны жертвы моих прежних безрассудств, все они страдают меньше меня. Они испытывают только сожаления, а я чувствую терзания, мучительные терзания, не дающие мне покоя ни днем, ни ночью… — Рыдания мешали ему говорить. — Гильйом, в другое время мы поговорим о чувствах, все еще живущих в моем сердце, а теперь я должен осведомиться о своем родственнике де Рансее: вы имеете ко мне какое-нибудь поручение?
— Действительно, сударь, эти воспоминания заставили меня позабыть, зачем я пришел… Граф и дети его, то есть виконт и виконтесса де Рансей, узнав из письма, пришедшего сегодня утром из Парижа, что их почтенный родственник, вероятно, будет нынче в Розентале, просят его располагать их домом как своим собственным на все время, которое он намерен пробыть здесь. Мне поручено немедленно проводить вас к графу.
Арман подумал несколько секунд, прежде чем ответить.
— Что ж, я иду с вами, Гильйом. Но я здесь не один, а приглашение графа относится, без сомнения, только ко мне одному…
— Это правда.
— Тогда я прикажу камердинеру доставить мои вещи… Извини меня, Раво, — обратился он к другу, — ты видишь, в каком я затруднении! Ты останешься здесь, но, само собой разумеется, ни в чем не будешь стеснен.
— Не беспокойся обо мне, Вернейль, — ответил капитан. — Сказать откровенно, я сделан не из того теста, чтобы тереться между графами и виконтами. Я очень теряюсь в подобном обществе. Уже через полчаса ругательства, которые вертятся у меня на языке и которые пришлось бы глотать, непременно задушили бы меня.
— В таком случае все устраивается как нельзя лучше. Только, пожалуйста, Раво, не заводи новой ссоры с хозяевами, ты понимаешь меня? Не делай нового скандала. Я прошу тебя об этом во имя нашей старой дружбы.
— Хорошо, хорошо, Вернейль, не беспокойся. Я обещаю тебе быть в самых лучших отношениях с семейством Вольфов, начиная от мужа и до последнего мальчишки… Так вот! — И он продолжал, понизив голос: — Для начала дело идет, кажется, совсем не дурно? Ваш старый родственник смиряется, значит, свадьба на мази… Что ж, в час добрый! Хотя сам я не женюсь, однако же других не стану отговаривать.
Он, вздохнув, пожал руку Вернейлю, и уже на лестнице Арман услышал, как капитан потребовал бутылку рейнского.
Глава XIII Открытия
Арман де Вернейль и его проводник двинулись по направлению к горам, где шесть лет назад шестьдесят вторая полубригада одержала победу. Когда они миновали последние дома деревни, Гильйом указал рукой на широкую дорогу среди скал. Вернейль посмотрел на нее почти с испугом. — Это ведь дорога в Потерянную Долину? — спросил он.
— Точно так, — невозмутимо ответил Гильйом.
И продолжал идти вперед. Судя по всему, по дороге часто ездили экипажи; терновник и камни, загромождавшие ее прежде, исчезли. Можно было сказать, что это аллея, ведшая в замок какого-нибудь вельможи или в город. Арман, не зная, что подумать, с беспокойством вертел головой.
— Куда вы ведете меня? — проговорил он наконец.
— Я думал, что мсье догадался. Мы идем в Потерянную Долину.
— К Филемону?
— К графу де Рансею.
— Как?! Граф Рансей?..
Гильйом таинственно улыбнулся.
— Теперь я могу сказать то, что мне запрещено было открывать вам при свидетелях… Тот, кого вы знаете под именем Филемона, ваш родственник граф де Рансей.
Арман побледнел.
— В самом деле? — произнес он с изумлением. — Зачем же от меня скрывали эту тайну? Для чего мой родственник хранил ее от меня, которого он в детстве осыпал своими благодеяниями?
— Вспомните, — сказал Гильйом. — При каких обстоятельствах вы попали в Потерянную Долину… Только когда вы произнесли свою фамилию, я решил спасти вас, приведя в убежище Филемона. Не скрою, я получил за это выговор. Ваш родственник любил вас, но он знал ваше легкомыслие и опасался, чтобы вы не внесли смуту в его семью. Так как он воспитывал своих детей в скромности, они были далеки от общества и не знали свет. Увы, его страхи оправдались. С вашим появлением в Потерянной Долине, явившимся сигналом ужасных бедствий, надежды графа были разрушены.
— Это правда, правда! Боже мой! Так несчастный Лизандр, у которого я принял последний вздох, был…
— Вашим двоюродным братом, мсье, и если бы вы подошли поближе к тону мраморному памятнику на розентальском кладбище, то могли бы прочитать эпитафию: «Здесь покоится Шарль-Антуан, виконт де Рансей».
— А… несчастная девушка, — пролепетал Арман с усилием, — прекрасная Галатея?
— Была воспитанницей графа, — ответил Гильйом.
Сделав несколько шагов, Вернейль остановился.
— Я не пойду дальше, — решительно заявил он. — У меня не хватит мужества выдержать упреки несчастного отца… Идите к нему, Гильйом, и скажите, что проникнутый сознанием своей вины, я понял, как тяжело было бы графу мое присутствие… Я вернусь в Розенталь и немедленно уеду во Францию.
— Что вы, сударь? А дело, для которого вы приехали по приказанию императора?
— Как? В Потерянной Долине знают и об этом обстоятельстве?
— У графа во Франции исправные агенты, — ответил Гильйом с некоторым смущением. — Кроме того, сам он недавно приехал из Парижа и мог слышать…
— И тем не менее никакая личная выгода, даже воля самого могущественного на свете государя не заставят меня решиться на поступок, который был бы почти оскорблением для моего родственника… Нет, — продолжал Арман, — я не пойду в Потерянную Долину, некогда столь мирную, куда я внес траур. Я боюсь, как бы утесы не обрушились на мою голову.
— Сударь, — сказал Гильйом, — вы преувеличиваете свои проступки или, по крайней мере, ошибаетесь насчет расположения к себе графа. Если бы господин мой действительно гневался на вас, как вы предполагаете, то неужели он предложил бы вам радушное гостеприимство в своем доме?
— Вы правы, Гильйом, однако в глубине сердца граф де Рансей наверное упрекает меня за смерть своего старшего сына.
— Он не может быть так несправедлив, потому что знает, что несчастный молодой человек сам шел навстречу своей судьбе. Не вы дали Лизандру эти роковые познания, воспламенившие его воображение, не вы прорубили в скалах тропинку, через которую он вышел… Граф много размышлял об этих печальных обстоятельствах и заключил, что и без вас его сын рано или поздно нашел бы свою погибель. Кроме того, известны подробности страшного сражения, происходившего здесь, известно, как вы вынесли с поля боя бедного Лизандра, смертельно раненного. Последняя рука, заботившаяся о нем, была ваша, последняя слеза, пролитая над ним, упала из ваших глаз.
Говоря это, Гильйом и сам казался очень сильно взволнованным.
— Я исполнил только свой долг, — мрачно ответил Вернейль. — Я отплатил Лизандру преданностью за преданность… Если бы я мог отдать свою жизнь в обмен на его, то освободился бы от тяжкого бремени. Но если графу известно, что не в моей воле было воспротивиться непокорности его сына, вина моя перед Галатеей должна казаться ему совершенно не извинительной.
— Действительно, ваше поведение было жестоко и гнусно. Обмануть невинное создание. Дурно, очень дурно! Между тем, если учесть, что вы покинули ее не по своей воле, что все ваши предложения были отвергнуты и что наконец излишняя строгость графа довела бедняжку до ужасных крайностей…
Вернейль взял управителя за обе руки и пожал их восторженно.
— Гильйом, — сказал он, — вы достойный человек и гораздо снисходительнее ко мне, чем моя собственная совесть… Если бы я мог думать, что Филемон, то есть я хочу сказать мой родственник граф де Рансей, судил меня так же!
— Как я уже имел честь уверять вас, чувства графа именно таковы. Несмотря на свой мрачный и часто капризный нрав, он полон доброты и, если сказать по правде, я подозреваю, что он сам себя считает причиной несчастий двух бедных детей, удалив их от света и лишив преимуществ, принадлежавших им по праву рождения.
— Если так, — произнес Арман после минутного молчания, — я не стану больше колебаться и принимаю приглашение графа. Возможно, мне удастся изгладить неблагоприятные впечатления, которые он сохранил обо мне… О проектах, приведших меня в Розенталь, не может быть уже речи, — добавил он как бы про себя. — Предложение, приемлемое для другого, было бы оскорбительно для Филемона, отца Лизандра и опекуна Галатеи… Но пойдем! Как бы ни терзалось мое сердце при виде тех мест, где ждет меня столько болезненных воспоминаний, я не могу отказаться посетить несчастного старика.
Они снова пустились в путь. Вернейль обернулся к своему провожатому и задумчиво сказал:
— Я далек от мысли, Гильйом, выведывать тайны графа, хотя мое любопытство вполне объяснимо. Итак, если верность своему господину не запрещает вам сообщить мне о его характере и перипетиях его жизни несколько коротких подробностей…
— Причин, заставлявших меня прежде молчать, уже не существует, — ответил Гильйом. — Граф больше не боится за свои планы, от которых он отказался как для своего семейства, так и для себя, поэтому я могу рассказать вам о Потерянной Долине и ее обитателях все, что вы пожелаете, исключая только… — Гильйом не договорил.
— Исключая что? — спросил Арман.
— Некоторые вещи, которые не могут представлять для вас никакого интереса, — и Гильйом продолжал: — Между небольшим числом лиц, близких к графу де Рансею, есть такие, кто, руководствуясь поверхностным суждением, дошли до того, что обвинили моего господина в глупости. На самом деле это человек гордый, отважный, с пылким воображением. Юность его прошла в Париже и пришлась на время, когда в обществе царил хаос философских идей и теорий. До страсти желая стряхнуть предрассудки и заблуждения старого общества, он изучал трактаты модных тогда мыслителей. Соглашаясь поочередно то с одними, то с другими, граф отвергал их идеи. Заинтересовавшись на минуту какой-нибудь блестящей теорией, автор которой обольщал его волшебством своего стиля или слова, он снова впадал в сомнения, открывая, как мало эти хитросплетения системы применимы к обществу.
В этот период своей жизни он сделался мрачным мизантропом; немало содействовали этому и личные обстоятельства. Жена графа, которую он любил до обожания, умерла во цвете лет, оставив ему двух детей. Ее родственники затеяли с ним тяжбу из-за каких-то пустых формальностей брачного контракта. Граф выиграл процесс, но сплетни и неприятности, причиненные ему этим делом, еще сильнее ожесточили его. Он замкнулся и покинул свет. Короче говоря, лет за десять или двенадцать до революции граф де Рансей был недалек от самоубийства.
И тут в душе его произошла счастливая перемена. Жан-Жак Руссо развил в своих творениях ту великую мысль, хотя и оспариваемую, что зло было произведением человека, а добро — делом Божьим, что человек страдает единственно от того, что совратился с пути, начертанного творцом; сблизившись с природой, он найдет свое спасение. Граф де Рансей пробудился от своего оцепенения, пристрастившись к этому натурализму, обещавшему человечеству новый золотой век. Он искренне разделял увлечение пастушеской поэзией, овладевшее тогда обществом, начиная от несчастной Марии-Антуанетты и кончая каким-нибудь бедным дворянином в провинции. Тогда только и грезили кроткими нравами и мирной уединенной жизнью в деревне, вдали от света. Грациозный Флориан дал замысловатую форму этим обольстительным химерам. Многие плакали над несчастьями его пастушек, удивляясь постоянству его пастушков, вздыхали по сельскому счастью, картины которого он так хорошо умел рисовать. Книги Жан-Жака Руссо и Флориана сделались любимым чтением графа.
Легкомысленная поэзия и смелый философизм сочетались в нем и дополняли друг друга. Но между тем как столько людей во Франции, восторгались пастушеской жизнью, не покидая своих салонов, и стерегли барашков только в мадригалах и идиллиях, граф, всегда впадавший в крайности, всерьез думал осуществить обольстительные утопии философа и поэта, мечтал создать маленькую Аркадию по образцу той, о которой книги рассказывали ему чудеса.
Вернейль не мог скрыть своего удивления, слушая Гильйома. Ему казалось странным, что этот человек, на которого он смотрел как на простого слугу, рассказывая о жизни графа де Рансея, так хорошо разбирался в философии, сумел дать точную характеристику среде, под влиянием которой оказался его родственник. Гильйом словно угадал его мысли.
— Не удивляйтесь, — продолжал он с улыбкой, — тому, что я уверенно рассуждаю о таких материях. Благодаря благодеяниям отца графа я получил хорошее воспитание и в молодости много трудился. Прежде чем я сделался управляющим графа, я был у него секретарем. Кроме того, он часто излагал мне свои идеи, потому мне нетрудно воспроизвести некоторые его слова достаточно точно. Итак, граф не замедлил осуществить свой план. Мы отправились в Швейцарию, и случай привел нас в Потерянную Долину, которая не была в то время так неприступна. Это очаровательное место показалось графу пригодным для выполнения задуманного. Он купил землю на мое имя и вернулся во Францию, чтобы привести в порядок свои дела, а меня оставил здесь с самыми подробными наставлениями для исполнения необходимых работ.
Так как в деньгах недостатка не было, в очень короткое время я создал Потерянную Долину такой, какой вы ее увидели. По приказанию графа я должен был принять самые тщательные предосторожности, чтобы не привлечь внимания окрестных жителей к нашему предприятию. Работники, которых я нанял далеко от этих мест, не должны были иметь никаких сношений с местными жителями. Я сам следил за этим; материалы, которых нельзя было достать здесь, привозили по ночам. Таким образом, все исполнилось быстро и без шума, как желал того граф де Рансей, и большая часть розентальских жителей вовсе не знала о том, что совершалось подле них.
Но этого было еще недостаточно. Ваш родственник хотел возвести между собой и остальным миром непреодолимую преграду. У входа в ущелье, составлявшее единственный доступ в Потерянную Долину, высились огромные скалы. По окончании внутренних работ скалы эти были подкопаны так, что неминуемо должны были упасть; притом там, где они примыкали к горе, вбили деревянные колья. При первой же грозе деревянные рычаги эти разбухли от дождя, и камни обрушились со страшным грохотом. Ущелье оказалось заваленным и в Потерянную Долину не осталось другого доступа, кроме известного вам тайного хода. В Розентале были убеждены, что долина погребена под обломками землетрясения, и как вы, разумеется, догадываетесь, я никогда не пытался разубедить жителей.
Приняв такие меры, я написал моему господину, что все было готово для его приезда. Граф, со своей стороны, не терял напрасно времени. Он превратил в деньги большую часть своего имущества, а вырученные суммы поместил на мое имя и на имя моего брата Викториана, Что касается тех владений, которые не были проданы, он уступил их нам, и фермеры каждый год должны были доставлять нам доходы с них как настоящим собственникам. Такие предосторожности оправдались впоследствии, когда произошла революция. Тогда как имущество эмигрантов перешло в руки нации, граф де Рансей потерял лишь незначительную сумму. Много лет я был хранителем его капиталов, да и теперь еще веду дела графа.
Гильйом взял из своей табакерки щепоть табаку и, бросив с улыбкой взгляд на Вернейля, продолжал:
— Однажды ночью граф де Рансей прибыл в дом, находящийся, как вам известно, неподалеку от потайного хода в Потерянную Долину. Кроме сыновей, из которых старшему едва исполнилось шесть лет, он привез с собой двух воспитанниц, бедных сироток, которых вы знаете под именем Эстеллы и Галатеи. Они приехали в карете, и мой брат Викториан сам правил лошадьми от Цюриха, боясь довериться какому-нибудь слуге. Мы перенесли спящих детей в Потерянную Долину и Викториан отвез карету в город, так что никто из окрестных жителей не заметил приезда своих таинственных соседей. Таким образом, тайна моего господина была сохранена, и нечего было бояться, что кто-нибудь нарушит покой его семьи.
Гильйом помолчал.
— Я не стану рассказывать о воспитании, которое граф дал своим детям, и об идеях, которые он постарался внушить им. Я преклоняюсь перед его умом и волей, однако вы видели последствия этой странной системы воспитания… Скажу только то, что вас касается. В качестве воспитанника графа сначала и вас тоже думали привезти в Потерянную Долину. Но вы были уже не таким маленьким, чтобы забыть свет. Кроме того, в военной школе вы слыли живым, решительным, иногда непослушным мальчиком. Это побудило моего господина оставить вас в отдалении, и время показало, что такое решение было правильным.
Глава XIV Граф де Рансей
Пока Гильйом говорил, они дошли до скал, окружавших Потерянную Долину. Но теперь на месте завала, загораживавшего некогда дорогу, была железная решетка с воротами, за которыми в конце длинной аллеи возвышался дом Филемона.
— Как видите, сударь, — продолжал Гильйом, — здесь все изменилось. Теперь деревенские дети приходят сюда играть. Но скоро вы найдете еще более удивительные перемены.
Они миновали ворота и вступили в аллею, когда Вернейль увидел на некотором удалении группу людей, направлявшихся в их сторону. Он разглядел старика величественной наружности в черном одеянии, который, опираясь на трость с золотым набалдашником, держал под руку смеющуюся даму, одетую по последней парижской моде. За ними следовал молодой человек в изящном костюме, ведя за руку ребенка лет пяти с длинными вьющимися волосами.
— Вот видите, все семейство встречает вас, — поспешно произнес Гильйом. — Вот что, сударь, позвольте мне дать вам совет: не удивляйтесь ничему, что бы с вами ни случилось, и оставайтесь верным своим воспоминаниям…
У Вернейля не было времени подумать о таком загадочном предупреждении. Узнав в молодом человеке Неморина, он бросился к нему и горячо обнял, между тем как малютка, приподнявшись на цыпочки, схватил руку Армана и сказал:
— Добро пожаловать, любезный полковник!
Затем Арман направился к графу де Рансею. Эстелла, которую читатель наверное угадал в спутнице графа, дружески улыбнулась ему.
Граф поклонился с печальным видом.
— Граф, — взволнованно сказал Вернейль, — с трепетом осмелился я опять прийти в дом, где пребывание мое некогда ознаменовалось такими ужасными несчастьями… Позволено ли мне надеяться, что мое участие в этих печальных происшествиях отныне не будет возбуждать против меня ни ненависти, ни гнева?
— Вам нечего беспокоиться об этом, полковник Вернейль, — ответил граф. — Причиной несчастий, о которых вы говорите, были ошибки неблагоразумного старика, его упрямство. Итак, оплачем наши проступки, прольем слезы о тех, кого уж нет, но не станем обвинять никого.
— Граф, смертельный враг не мог бы сделать мне таких горьких упреков, какие делает мне моя совесть при виде этой долины! — признался Арман, бросив вокруг себя горестный взгляд.
Эти слова окончательно растопили настороженность графа. Он протянул руку Вернейлю и произнес, устремив на него проницательный взгляд:
— Так вы еще думаете о той, которую погубили?
— Она всегда в моем сердце, — ответил Арман, опустив голову, чтобы скрыть непрошеные слезы.
Старик с минуту хранил молчание, как бы оставляя ему время прийти в себя, и продолжал учтиво:
— Ну, довольно предаваться этим грустным воспоминаниям, вы совершили длинное путешествие и нуждаетесь в отдыхе. Возможно, в моем скромном доме будет не так весело, как в то время, когда его украшали двое добрых и милых детей, но вы будете приняты все так же радушно и мною, и остальными моими детьми. Пойдемте!
Он взял Вернейля под руку, и все медленно направились к дому.
Казалось, присутствующие при встрече графа с Арманом страшились их первого свидания. Эстелла и Неморин — виконт и виконтесса де Рансей — обнаруживали некоторое беспокойство, как будто опасались какого-нибудь разногласия между собеседниками. Гильйом тоже с беспокойством прислушивался к их разговору. Но теперь все вздохнули облегченно. Молодые супруги подошли к графу, и разговор сделался общим.
Солнце село, местность погрузилась в сумерки. Между тем было еще достаточно светло, и Арман узнавал знакомые места. Он видел статуи, фонтаны, массивные деревья. Один раз, когда сквозь завесу ив мелькнул берег того прекрасного и рокового озера, в которое бросилась Галатея, сердце Армана сильно забилось, а голос вдруг дрогнул. Но семейство графа, заметив его волнение, постаралось отвлечь внимание Вернейля. Эстелла, сохранившая свой прежний пылкий своевольный нрав, засыпала его вопросами о Париже и дворе, а Неморин говорил о веселых рыбалках и охоте, которые он намеревался для него устроить. Один старик впал в мрачное молчание, бывшее, казалось, обыкновенным состоянием его духа.
Наконец дошли до дома, и Армана ввели в тот самый зал, где некогда собиралось семейство Филемона. Ужин, ничем не напоминавший умеренный патриархальный стол, уже ожидал их. Но несмотря на учтивые просьбы своих хозяев, Арман так и не притронулся к еде. Напротив него стоял свободный стул, и он представил на этом месте Галатею… Глаза Вернейля наполнились слезами, и он с трудом заставил себя отвечать на вопросы своих хозяев.
Виконт и виконтесса, видя тщетность своих усилий, скоро оставили попытки развлечь его. К тому же, несмотря на все старания, они, казалось, испытывали стеснение, вредившее откровенности беседы. Часто во время разговора они поглядывали на отца, чтобы увериться в его одобрении. Правда, Вернейль был слишком поглощен своими мыслями, чтоб заметить эти подробности. Но следствием этого была какая-то общая неловкость.
Вскоре Арман осведомился, прибыл ли из Розенталя камердинер с его вещами, и, получив утвердительный ответ, попросил позволения удалиться. Граф встал.
— Я велел приготовить вам ту комнату, которую вы занимали раньше, — сказал он с напускной веселостью, взяв свечу из руки слуги. — Но помня не совсем дружеское расставание наше, я сам провожу вас туда… Это будет, если хотите, вам вознаграждением…
Арман поклонился и, простившись с виконтом и виконтессою, молча последовал за стариком.
Комната была точь-в-точь такой же, какой он оставил ее: та же мебель, та же простота.
— Дорогой полковник, — сказал граф, садясь рядом с Арманом, который в изнеможении бросился в кресло, — я понимаю, что сейчас вы нуждаетесь в уединении… Однако прежде чем покинуть вас, должен сказать, что знаю цель вашего путешествия и согласен исполнить ваше желание.
Вернейль вздрогнул.
— Как! — воскликнул он. — Вы знаете? — И продолжал, заставив себя улыбнуться. — Я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что составляющее секрет в Париже известно в Потерянной Долине… Однако признаюсь, граф, что, зная вашу любовь к уединению и отвращение к свету, такая снисходительность с вашей стороны удивляет меня. Вы даже не подозреваете, какую жертву я имел намерение требовать от моего опекуна… Но теперь я не хочу больше и думать о личных интересах, приведших меня сюда.
— Так я подумаю о них за вас, и если в самом деле знаменитое имя, которое я ношу, может освятить ваш союз, я провожу вас в Париж, покажусь при дворе с сыном и невесткой. Наследница старинного рода де Санси — превосходная партия, я знал ее семейство и горжусь за вас подобным союзом. Притом девушка, говорят, очаровательна, может быть, вы уже и любите ее?
Арман потряс головой.
— Я никогда не видел ее, — произнес он.
— Но по крайней мере вы знаете, что она богата и что наградой за вашу покорность будет милость императора. Неблагоразумно сожалеть о юношеских привязанностях, и женщина, наделенная такими преимуществами, как мадемуазель де Санси, легко должна вознаградить…
— Ах, граф, — прервал старика Арман, — как вы можете говорить о моем союзе с другой женщиною, в доме, где все полно воспоминаниями о Галатее?
И он закрыл лицо руками.
— Вы правы, — вздохнул граф, вставая. — Итак, прощайте, полковник Вернейль. Завтра, когда вы успокоитесь, поговорим об этом.
Он обнял Армана и удалился.
Прошедший день был так насыщен впечатлениями, что Вернейль еще долго не мог привести свои мысли в порядок. Ему никак не верилось, что он снова вернулся в Потерянную Долину, что Филемон — его родственник и покровитель граф де Рансей, что виконт и его жена, беспрестанно говорящая о модах и удовольствиях, — те самые Неморин и Эстелла, пастушок и пастушка. Самый вид этой комнаты возвращал Армана к воспоминаниям о своей любви к очаровательной воспитаннице Филемона. По временам глаза его загорались, губы растягивались в улыбке, но потом лицо омрачалось и вздохи снова вырывались из груди.
Так провел Арман не один час, сидя у окна, обрамленного виноградом, где некогда дожидался часа, назначенного для свидания с Галатеей в саду. Он даже нашел шпалерник, служивший ему лестницей. Сад был все тот же: те же цветники, те же дерновые площадки, обсаженные померанцами и олеандрами в зеленых кадках. Луна, взошедшая в эту минуту, освещала бледным светом двор, погруженный в глубокую тишину.
Мало-помалу Арманом овладели воспоминания о тех сладостных ночах, когда, скрывшись за занавеской и задув свечу, он, дрожа от нетерпения, поджидал Галатею. То же безмолвие в природе, та же прозрачность в воздухе. Воображение перенесло его к событиям шестилетней давности. Арману казалось, что он не покидал Потерянной Долины, что Галатея жива. Уступив просьбам своего милого, трепещущая, она крадется, замирая при малейшем шорохе, к большому померанцевому дереву. Устремив на него глаза, Вернейль, весь во власти сладких грез, старался разглядеть легкий стан девушки, подстерегал движение ночного ветерка в густой листве.
Вдруг он побледнел и склонился над окном, рот его открылся в немом крике. Задыхаясь, Арман судорожно сжимал виноградную ветвь, увивавшую раму окна.
Нет, это было не видение. Легкая грациозная фигура действительно появилась под померанцевым деревом. Ветви тихо качались в такт ее движениям, лунные лучи играли в шелке платья.
Арман зажмурился и спустя минуту снова посмотрел в сторону дерева. Призрак не исчез.
Лоб Вернейля покрылся холодным потом, руки дрожали, однако он не утратил хладнокровия.
«Что удивительного в том, — подумал он, — если кто-то прогуливается в саду в такую великолепную ночь? Тут нет ничего сверхъестественного».
Тем временем призрак, как будто угадав его мысли, медленно вышел из густой тени, отбрасываемой деревом, и подошел к дому.
То была женщина, мало того, это была Галатея! Галатея в своей маленькой соломенной шляпке, с голубым шарфом, на плечах и с коралловыми браслетами на прекрасных обнаженных руках. Луна освещала ее лицо, и Арман узнал любимые черты. Она была бледнее и тоньше, но лицо казалось еще прекраснее, чем прежде.
Галатея с горестным видом в безмолвном призыве подняла руки. Арман испустил глухой крик и поставил ногу на подоконник, готовый выпрыгнуть, но что-то удержало его. Он бросился на кровать и, накрывшись одеялом, произнес прерывающимся голосом:
— Боже мой! Больше нет сомнений, я обезумел!
Однако через несколько минут, придя в себя от смущения и повторяя, что был обманут воображением, Вернейль заставил себя снова подойти к окну.
Призрак исчез. Больше часа Арман простоял у окна, но ничто не нарушало молчания и неподвижности ночи.
Глава XV Маленький Шарль
С первыми лучами солнца Арман поспешил выйти во двор, чтобы избавиться от ужасных видений, которые преследовали его всю ночь. В такой ранний час хозяева дома еще спали, и окна были затворены. Между тем в большой аллее конюх выгуливал двух великолепных лошадей, покрытых красными попонами, садовники принимались за работу; вдали слышалось мычание скота, гонимого на пастбище пастухами, очень отличными от Лизандра и Неморина. Прежняя Аркадия, сделавшись похожей на мызу, потеряла свою таинственность, но вовсе не прелесть и поэзию.
Вернейлю хотелось побродить по местам, где все дышало воспоминаниями, однако страшился любопытных взоров. Потому, убедившись, что никто не заметил, как он вышел из дома, Арман поспешил по липовой аллее в самую уединенную часть Потерянной Долины.
Солнце всходило, роса блестящими каплями висела на траве и на кустах. Яблони и персиковые деревья осыпали на землю нежные бело-розовые лепестки. Соловей выводил свои последние трели, между тем как иволги в золотых корсажах, дрозды в черных бархатных ливреях с хором коноплянок, зябликов и ольшанок приветствовали начинавшийся день.
Чем дальше от дома уходил Вернейль, тем сильнее сжималось его сердце, тем печальнее становились размышления. Множество подробностей, не замеченных накануне, теперь останавливали его внимание и наполняли душу грустью.
Природа в Потерянной Долине была такой же роскошной, но то, что было делом человека, носило следы заброшенности. Тропинки заросли крапивой и лебедой. Белые статуи, производившие такое чудное впечатление посреди темных рощ, были покрыты мхом, мостики и беседки разрушились. Очевидно, тот, кто когда-то заботился об украшении этих прелестных садов и рощ, предал их забвению.
Вернейль посетил прогалину, где он встретил двух пастушек и подслушал их нежные признания, беседку, служившую местом веселых ужинов, грот, где работал Лизандр. Эти места пробудили в нем много скорбных чувств, много горьких мыслей, но Арман не смел еще приблизиться к лугу Анемонов, где он объяснился Галатее и где позднее видел девушку в последний раз.
Неодолимая сила влекла его туда. Арману казалось, что священный долг обязывает его увидеть трагически памятный камень, откуда несчастная пастушка бросилась в озеро, хотя у него сердце разрывалось при одной мысли от этого.
Наконец, пересилив себя, Вернейль, покружив по роще, вышел на луг Анемонов и застыл у дерева, объятый необъяснимым ужасом. Только через несколько минут он заставил себя взять в руки и осмотреться.
Луг порос прекрасными цветами, давшими ему свое имя, синими колокольчиками и душистыми гиацинтами. Ива, у которой Вернейль признался Галатее в своей любви, лениво покачивала ветвями с бледными листьями, когда с озера долетал легкий ветерок.
Почтительно поцеловав суковатый ствол дерева, Арман направился на другой конец луга и скоро очутился на берегу, где у кромки воды возвышался тот проклятый камень. Здесь была выложена небольшая каменная пирамида с позолоченным крестом. Неподалеку стояла простая скамья.
— Она тут! — прошептал Арман. — Ее похоронили на том же месте, где она погибла… О моя Галатея! Значит, здесь твоя могила?
Он хотел было преклонить колено перед крестом, когда заметил неподалеку маленького Шарля, от которого накануне получил такой ласковый прием. Мальчик стоял на коленях и, сложив руки, произносил молитву, некоторые слова которой поразили Вернейля.
— Боже, — шептал Шарль, — смилуйся над бедной женщиной, которая на этом самом месте осмелилась покуситься на жизнь, тобою ей данную. Прости ей, как она сама простила всем, которые были невольной причиной ее порыва, даруй им и ей свою бесконечную милость. Молитва детей тебе приятна, потому что детство чисто и невинно. Услышь меня, пролей свое благословение на тех, кого я люблю, и даруй им земное счастье в ожидании благ небесных…
Вернейль стоял в оцепенении. Но не эта неожиданная встреча с мальчиком была причиной его волнения, а удивительное сходство маленького Шарля с Галатеей. Та же чистота линий, та же задумчивость во взгляде. Все, даже звук голоса, напоминал несчастную девушку.
Когда Шарль, перекрестившись, встал, чтобы удалиться, Арман бросился к нему. Мальчик поначалу испугался внезапного появления полковника и его бурных ласк, но скоро успокоился и улыбнулся ему.
— Как, полковник, — сказал он, — и вы пришли сюда помолиться вместе со мной? Это вы хорошо сделали, мне говорили, что это место такое же святое, как церковь, и что Бог услышит меня здесь лучше, нежели где-нибудь.
— Так и ты знаешь, милый, — спросил Вернейль изменившимся голосом, — какая несчастная женщина погребена в этой могиле?
— В могиле? — повторил Шарль с ужасом. — Это совсем не могила, полковник, это только маленький монумент, как называет его граф де Рансей, в воспоминание очень печального случая.
— И ты часто ходишь сюда?
— Каждое утро. Так хочет мама.
— Эта молитва, которую ты читал сейчас… Кто тебя научил ей?
— Мама. Она плакала, когда учила меня.
— Добрая и милая Эстелла! Она старалась увековечить свою привязанность к несчастной сестре, передавая ее своему сыну!
Шарль пристально посмотрел на Армана большими ясными глазками.
— Что вы говорите, полковник? Мою маму зовут не Эстеллой.
Арман, подумав, что догадался, откуда происходит заблуждение ребенка, ответил ему задумчивой улыбкой и, положив руку на русую головку, погрузился в размышления.
Прошло несколько минут, на протяжении которых Шарль не смел шелохнуться. Наконец он спросил боязливо:
— Если вы вернетесь домой, мсье де Вернейль, вы позволите мне проводить вас?
Не получив ответа, он поднял голову. На щеку ему упала слеза.
— Вы плачете, полковник? Я маленький мальчик, и я часто плачу, но вы, воин, какое должно быть у вас горе!.. Ах, не печальтесь, я вас прошу, лучше обнимите меня скорее и пойдем домой.
Сам чуть не плача, он смотрел на Армана с состраданием.
«Да, — подумал Вернейль, — это ангел, которого она послала мне, чтобы смягчить мое горе, и дала ему свой голос и черты своего лица».
И он прижал Шарля к своей груди и осыпал его поцелуями.
Слабый крик раздался на некотором расстоянии от них. Арман вздрогнул. Ему показалось, что он доносится с озера и узнал голос Галатеи.
Арман огляделся. Из зарослей кустов показалась девушка, которой поручено было смотреть за Шарлем. Он подбежал к ней и быстро спросил:
— Это ты сейчас…
Девушка приложила палец к губам, и Вернейль узнал немую служанку.
— Я сошел с ума, — произнес он уныло, — и принял странные крики этого бедного создания за… Ох!
Он ударил себя в лоб, вскочил и быстро удалился. Шарль побежал за ним.
Арман спешил к липовой аллее, стараясь не смотреть на своего маленького спутника, как будто боялся, снова увидеть поразительное сходство Шарля с той, которая занимала его мысли.
— Полковник, — боязливо обратился к нему мальчик, — вы недовольны мной? Очень жаль, если это так, потому что я люблю вас…
— А за что тебе любить меня? — спросил Арман с живостью. — Тебе, должно быть, говорили, что я груб, жесток и что несчастья, случившиеся в Потерянной Долине, произошли по моей вине?
— Мне никогда не говорили этого, — возразил Шарль. — Неужели вы могли кому-то причинить зло? Вы мне кажетесь таким добрым…
Вернейль не смог устоять против такой трогательной наивности. Он взглянул на ребенка и грустно улыбнулся ему.
Когда они дошли до дома, все семейство Рансеев уже собралось к завтраку. Появление Вернейля, ведшего за руку Шарля, вызвало как будто легкое замешательство. Однако виконт ласково осведомился, оправился ли он от дорожной усталости.
Виконтесса украдкой наблюдала за ним с видом сожаления, а когда стали садиться за стол, сказала тихо графу:
— Как он бледен и расстроен!
Старик повелительным жестом заставил ее молчать.
За завтраком разговор, как и накануне, вертелся вокруг Парижа, императорского двора, угрозы новой войны. На вопросы, с которыми обращались к нему, Арман отвечал односложно, совсем невпопад. Он не ел, не поднимал глаз. Иногда только пристальный взгляд его останавливался на Шарле, сидевшем напротив него, так что бедный мальчик смущался, и щеки его покрывались ярким румянцем.
Когда Арман выразил желание проехаться верхом, виконт поспешил отдать приказание на этот счет. Как только завтрак был закончен, слуга доложил, что лошадь готова. Арман, поспешно встав из-за стола, извинился, что так скоро оставляет общество.
Его проводили до дверей. Вернейль поклонился виконтессе, вскочил на седло, надвинул шляпу на глаза, и полетел как ветер. В одну минуту проскакал он аллею, ведущую к воротам, и исчез в облаке пыли.
— Как он гонит, — вздохнул виконт. — Несчастное животное падет прежде, чем Арман доедет до деревни!
— Отец, — обратилась его жена к старику, — неужели ты недоволен результатом этого горестного испытания? Умоляю, вспомни о том, что природе человеческой несвойственно выносить…
— Оставь, пожалуйста, — прервал граф с холодным и строгим видом. — Что я решил, то должно исполниться. Ты знаешь цену моего прощения… — Он посмотрел на маленького Шарля. — Полковник с мальчиком возвратился с луга Анемонов. Надобно узнать, что там было.
И граф поспешно вернулся в дом.
Между тем Арман продолжал скакать к деревне. Самые крутые спуски, самые опасные повороты не могли заставить его приостановить галоп лошади.
В Розентале, доехав до трактира «Три аиста», он соскочил на землю, отдал поводья выбежавшему слуге и, приказав позаботиться о животном, покрытом потом и пеной, спросил:
— Где капитан Раво?
Слуга не успел ответить, а Вернейль уже взбегал по лестнице.
Раво сидел за столом, уставленным вином и тарелками с сырами — от грюйерского до вонючего невшательского. Курносый трактирщик, муж Клодины, составлял ему компанию. В довершение картины смирившийся капитан держал на коленях одного из ребятишек Клодины, в то время как другой, поменьше, теребил его за полы.
Раво немного сконфузился, что его застали в таком смешном положении. Он поспешил освободиться от детей и, улыбаясь, подошел к Арману.
Вернейль опустился в кресло, а трактирщик, торопливо опорожнив свой стакан, схватил ребятишек за руки, поклонился и вышел.
— По твоему виду, Вернейль, — сказал Раво, — я догадываюсь, что дело принимает дурной оборот. Твой родственник, верно, один из старых дворянчиков, и ни во что не ставит приказаний императора?
Помолчав, Арман произнес:
— Ты мой давний друг, Раво, несмотря на несходство наших характеров, никому я не доверял больше, чем тебе… Прошу тебя, ответь откровенно на вопрос, который, может быть, покажется странным. Замечал ли ты когда-нибудь за мной признаки помешательства?
Капитан смотрел на него во все глаза.
— Какого черта ты спрашиваешь об этом у меня?
— Раво, во имя нашей дружбы, умоляю, скажи, замечал ли ты когда-нибудь за мной склонность к сумасшествию?
Капитан в нерешительности почесал у себя за ухом.
— Ей-Богу, Вернейль, — пробормотал он, — мне не хотелось бы оскорблять тебя, но несколько лет назад в этой самой деревне, в Розентале, я было подумал, что у тебя повредилось в голове. И то сказать, ты нес такую чепуху о пастухах и пастушках, о Филемоне, Неморине и других! Но я готов побожиться, что ты мог бы утереть нос лучшей башке во Франции, за исключением императора, потому что у того… но достаточно. Действительно, ты бываешь иногда мрачен и молчалив, но рассуждаешь здраво…
— В таком случае, Раво, видимо, эта местность действует на меня так пагубно, — с облегчением вздохнул Арман, — потому что едва я ступил на эту землю, как подумал, что схожу с ума.
И Вернейль пересказал ему в немногих словах о том, что случилось с ним в Потерянной Долине и о своем родстве с семьей де Рансей, рассказал, какую мучительную тоску причинило ему ночное видение, и о странном сходстве маленького Шарля с Галатеей.
Раво внимательно слушал, покусывая свои огромные усы.
— Ну, друг мой, — присовокупил Арман с почти детской наивностью, — что ты думаешь обо всем этом? Вразуми меня, я очень нуждаюсь в советах, я запутался в этих таинствах. Что, по-твоему, обманывает меня воображение? Или лихорадка так повлияла на мои чувства, что мне представляется то, что не существует? Может быть, какая-нибудь сверхъестественная сила…
— Нет, нет, — прервал его Раво, — я могу верить в Бога, но в черта никогда не поверю… Я умею действовать саблей, написать рапорт или сказать несколько энергичных слов своей роте перед сражением, но дальше таланты мои не простираются, и все же попробуем удивляться сходству мальчика со своей теткой. Что в этом неестественного? Твой ужас объясняется тем, что ты встретил мальчика в том месте, где погибла Галатея. Наверное, можно найти объяснение и другим происшествиям, оказавшим на тебя такое сильное впечатление. Хотя я не исключаю вероятность некоторого умысла или плутовства…
— Ты так думаешь, Раво? Что ж за выгода мучить меня таким образом?
— Не знаю, но твой родственник, столь обходительный, кажется мне подозрительным. Может быть, он не простил тебя, как уверяет? Может быть, в глубине сердца он вынашивает злобную мысль о мщении? Если верить некоторым слухам, не надо слишком полагаться на него.
— Что же говорят о нем, Раво? Пожалуйста, не скрывай от меня!
— Ничего особенно дурного, но ничего и хорошего. Он большой деспот и весьма скрытен, все семейство держит в кулаке. Для местных жителей он живая загадка. Вольф и его жена, с которыми я говорил о графе, особенно много толковали о какой-то даме, которую он два дня назад привез в карете из Франции.
— Дама! — повторил Вернейль в волнении. — Действительно, трактирщик вчера сказал мне об этом… Но в Потерянной Долине нет никакой другой дамы, кроме виконтессы де Рансей…
— Нет, полковник, мадам де Рансей месяцев шесть не покидала Потерянной Долины, и за два часа до приезда незнакомки ее видели прогуливающейся со своим мужем по аллее.
Арман с беспокойством встал.
— Раво, — сказал он, — позови Вольфа и жену его, я сам хочу расспросить их, я хочу знать…
— Они ничего больше не знают об этом, разве что упомянут о вуали, которая была на незнакомке… Послушай, Вернейль, а не имеет ли отношения эта дама под вуалью к твоему ночному видению? Очень бы мне хотелось побывать в Потерянной Долине. Клянусь своими усами, мы открыли бы какую-нибудь проделку.
— И я, Раво, чувствую, что твое присутствие помогло бы мне. Ты умен, храбр, предан, ты поддержал бы меня. С некоторого времени я слаб и малодушен, как женщина.
— Гром и молния! Можно ли выдумать сравнение нелепее этого? Я-то знаю, чего стоили тебе двойные эполеты. Лучше подумай, нет ли какого-нибудь средства ввести меня в дом графа?
— Хорошо, я попытаюсь, даю тебе слово.
— Попробуй замолвить словечко графу об одном из твоих друзей, которому очень хотелось бы с ним познакомиться.
Они поговорили еще несколько минут об этом. Арман немного стеснялся бесцеремонности своего товарища, однако ничего ему не сказал, а только взял с него обещание не являться в Потерянную Долину до тех пор, пока сам не узнает, согласны ли там его принять.
Разговор с Раво немного успокоил Вернейля. Прежде чем покинуть трактир, он перекинулся несколькими словами с Клодиной, которую увидел на крыльце, и похвалил ее детей. Супруга Вольфа, весьма довольная этим знаком внимания, покраснела, улыбнулась и произнесла с тяжелым вздохом:
— Ах, полковник Фернейль, если пы фы пошелали!
Возвращаясь в Потерянную Долину, Арман уже не гнал лошадь. Он ехал спокойно, и совсем иначе относился к происшествиям, которые чуть было не расстроили его рассудок. С помощью своего верного Раво Вернейль надеялся в другой раз уже не поддаться подобной слабости.
В таком расположении духа въехал он во двор дома и спросил у слуги, взявшего у него поводья лошади, где находится граф, и, узнав, что тот в оранжерее, тотчас отправился туда.
Оранжерея через внутреннюю дверь сообщалась с той частью дома, где прежде находилась комната Галатеи, и через эту дверь девушка выходила по ночам на тайные свидания с капитаном. Арман, направляясь к оранжерее, должен был пройти мимо большого померанцевого дерева, которое когда-то было свидетелем их нежных излияний и под которым накануне ночью он видел призрак Галатеи. С гулко забившимся сердцем Вернейль поспешил обойти его, даже не подняв глаз на затворенные окна комнаты Галатеи.
Оранжерея в это время года была почти пуста. В ней остались только некоторые тропические растения, стишком нежные для того, чтобы выносить свежесть весенних ночей в этой гористой местности. Обнаженные стеклянные стены придавали ей такую звучность, что шаги Вернейля по гранитному полу пробуждали тысячу маленьких отголосков.
Граф, вооруженный секатором, которым обрезал завядшие листья великолепного ананаса, обернулся. Увидев Армана, он удивленно приподнял брови, но тотчас овладел собой.
— Вот видите, дорогой Арман, — сказал он, идя ему навстречу, — граф де Рансей сохранил привычки садовника Филемона.
Взяв Вернейля за руку, он усадил его подле себя на скамью, над которой лианы из девственных лесов Америки образовывали нечто вроде свода. Это было любимое место графа, тут он читал свои старые философские книги и размышлял.
Никогда еще старик не выказывал своему родственнику столько радушия и благосклонности. Потому момент показался Арману благоприятным, чтобы поговорить о Раво. Он попросил позволения представить графу своего друга и не думал, чтобы такая простая вещь могла встретить какое-нибудь возражение. Каково же было его удивление, когда он увидел, что лицо графа омрачилось!
— Это невозможно, — сказал он сухо. — Что вы, полковник? Ввести чужого в наш дом, где столько воспоминаний трепещет, столько страстей кипит под наружным спокойствием! Притом я иногда бываю угрюм, молчалив и не желал бы подвергать гостя капризам своего мрачного нрава. Вы обяжете меня, если не станете настаивать на своей просьбе.
И видя, что Арман поражен этим неожиданным отказом, продолжал дружески:
— Так вам в самом деле скучно у нас и потому вы вне нашего семейства стараетесь найти развлечение?
— Нет, ничего похожего на скуку я не испытываю в Потерянной Долине, но меня мучают тяжкие воспоминания, горькие сожаления… Я упал духом и…
— Понимаю, — кивнул старик. — Но так и должно быть. Поэтому не жалуйтесь на свои страдания — они одни могут очистить вас в глазах того, кого вы оскорбили… Я хочу сказать — в глазах Божьих.
Граф произнес это с такой страстью, что подозрения Раво показались Вернейлю не такими уж беспочвенными.
— Однако, дорогой Арман, я постараюсь сократить ваше наказание в этом доме, некогда столь мирном и счастливом, — пообещал старик. — Скоро мы все оставим его, обещаю вам это.
— Как, граф, вы решились…
— Газеты, пришедшие сегодня из Франции, сообщают важные новости. С минуты на минуту может начаться война, и тогда ваш брак с мадемуазель де Санси будет отложен на неопределенное время. Мы должны поспешить воспользоваться добрым расположением вашего императора.
Арман собрался было возразить, но вовремя опомнился.
— Что ж, пусть совершится этот брак, если так нужно, — сказал он. — Это будет сделка честолюбия, потому что я никогда не полюблю этой горделивой наследницы. Да, я женюсь, и большей жертвы от меня нельзя требовать.
— Я знал, что вы согласитесь, — произнес, вставая со скамьи, граф с иронической усмешкой.
В ту минуту, когда они вышли из оранжереи, в дверях дома появились виконтесса и виконт. Арман с изумлением увидел, что их сопровождает Раво.
— Кто это там? — спросил граф раздраженным голосом, останавливаясь. — Мсье де Вернейль, ваш друг мог бы дождаться по крайней мере моего соизволения прийти сюда.
— Извините его, граф, — ответил Арман. — Если его присутствие вам так неприятно, я попрошу его уйти. Только, ради Бога, не забывайте, что это человек добрый, умный и заслуживает уважения.
Раво, приблизившись, почтительно поклонился графу, стараясь не замечать сердитых взглядов Вернейля.
— Прошу прощения за бесцеремонное вторжение, сударь, — сказал он довольно развязно. — Полковник, должно быть, уже говорил вам о Раво, о капитане Раво из шестьдесят второй полубригады… — он снова поклонился. — Это я, и смею надеяться, что граф де Рансей проявит ко мне расположение. Я уже говорил сейчас этому молодому господину и этой любезной даме, что нельзя насильно вытолкать Раво из дома, где дружески принят Арман де Вернейль.
Довольно оригинальные манеры Раво, как ни странно, несколько растопили холодность графа.
— Я вижу, сударь, — сказал он, — что мои дети постарались заменить меня. Мне остается только поблагодарить их за усердие.
Виконт смущенно отвел глаза, а своенравная Эстелла возразила с живостью:
— Отец, ты никогда не простил бы нам неуважение к заслуженному воину, объявившему себя другом нашего родственника.
Граф сердито посмотрел на нее, но промолчал.
— Капитан Раво, — сказал Арман, — я не надеялся увидеть вас так скоро. Возможно, ваше присутствие стеснит графа де Рансея…
— Помилуйте, какое стеснение? — Раво удивленно приподнял брови. — Я не такой уж важный гость. Мне достаточно простого солдатского пайка, а что касается до помещения, то я желал бы, чтобы вы взглянули, как мало места занимает в вашей комнате мой чемодан и жиденький матрас, который я оставил у вашей постели. Армейский капрал, и тот не мог бы довольствоваться меньшим. Для чести шестьдесят второй полубригады мне должно остаться при вас. Моя ли вина, что полковник мой, храбрый, как лев, перед неприятелем, подвержен худым видениям?
Этот намек на ночное происшествие, заставивший Вернейля покраснеть, конечно, понят был и другими присутствующими, потому что виконт покраснел, а его жена отвернулась, чтобы скрыть улыбку.
Раво с минуту наслаждался успехом своей выходки. Все молчали. Наконец граф с напускной веселостью сказал:
— Решительно, капитан Раво — смелый человек. Он узнал, что здесь обитают свирепые, негостеприимные дикари, в лапы которых попал его полковник Вернейль, и как истинный товарищ, отчасти силой, отчасти хитростью, вошел в логово людоедов, рискуя быть съеденным живым… Что ж, каннибалы примут одинаково радушно и того, и другого и не съедят их. Чувствуйте себя, как дома капитан Раво, — продолжал он. — Наш уединенный образ жизни не должен стеснять вас. Оставайтесь с полковником, который уже говорил мне о вас. Со своей стороны, мы постараемся сделать ваше пребывание здесь как можно более приятным. Надеюсь обеспечить вас пайком немного существеннее солдатского и предложить комнату поприличнее той, которую вы выбрали.
— Что касается пайка, граф, — ответил Раво, — то это ваша воля, но в остальном прошу вас не менять маленьких распоряжений, которые я уже сделал.
— Хорошо, хорошо, — согласился граф, с трудом сдерживая досаду, — делайте, как знаете. По крайней мере, вы не будете обижаться на меня, что не приняли моих предложений. — Он обернулся к сыну. — Завтра утром мы отправляемся во Францию.
— Завтра? — повторил виконт с удивлением.
— Как, отец, — воскликнула молодая женщина, — ты хочешь…
— Завтра, — повторил граф де Рансей решительным голосом, — все должны быть готовы! Надеюсь, гости извинят меня? Мне необходимо сделать кое-какие распоряжения по случаю отъезда.
Он поклонился и скрылся в доме с видом глубочайшего недовольства. Виконт что-то зашептал на ухо виконтессе, между тем как Раво говорил Арману:
— Ну, Вернейль, какому унижению подвергся я из-за тебя! Но я был уверен, что меня не примут здесь с распростертыми объятиями, и приготовился ко всякого рода оскорблениям. Однако я здесь, и бьюсь об заклад, что скоро найду средство отомстить за себя…
Глава XVI Привидение
Остальная часть дня прошла без приключений. За ужином было довольно весело благодаря Раво, который чувствовал себя совершенно непринужденно. Даже граф, казалось, примирился с самозваным гостем. Однако он не остался против обыкновения в зале, а сразу после ужина под предлогом приготовления к завтрашнему путешествию, отправился к себе.
Было уже поздно, и с наступлением ночи Вернейль опять погрузился в свои мрачные мысли. Раво, напротив, подогретый многочисленными возлияниями, был весел и разговорчив. Когда они в сопровождении слуги, несшего свечу, проходили коридором к лестнице, чтобы подняться в свою комнату, кто-то, стоявший в тени, пожелал тихим голосом доброй ночи Арману.
— Доброй ночи, Гильйом! — ответил Вернейль, узнав поверенного графа.
— Помните о моих советах, полковник, — прошептал управляющий.
— О каких советах вы говорите?
Но Гильйом приложил палец к губам и поспешно исчез в темноте, как будто боялся сказать лишнее.
Раво громко о чем-то говорил, идя по лестнице, и потому не заметил этого маленького приключения. Когда они дошли до двери комнаты, капитан взял свечу из рук слуги, отпустил его без дальнейших церемоний, и два друга остались наконец одни.
Арман сел и, подперев голову рукой, погрузился в размышления о загадочных словах Гильйома. В это время Раво, напевая, снял сапоги, переоделся, а потом вытащил из чемодана пару английских пистолетов. Положив их на столе, он сказал весело:
— Ну, теперь, если хочешь, мы можем начать охоту за призраками.
— Что? — спросил Вернейль, стряхнув задумчивость. — Что ты затеваешь, Раво? Уж не думаешь ли ты прибегнуть к оружию?
— Кто знает? Если мы действительно имеем дело с существами из другого мира, то это не причинит им вреда. А если же наши противники — живые люди, то не мешает доказать им, что такая игра опасна.
— Но подумай, что может выйти из этого? Нет, нет, спрячь пистолеты, прошу тебя.
— Как хочешь, — обиженно проворчал Раво. — А я-то думал, что ты не будешь так церемониться с теми, кто насмехается над тобой.
— Значит, ты все еще думаешь…
— Да, думаю, потому что, начиная с хорошенького мальчика, которого ты держал нынче вечером на коленях, до старого дедушки, все действуют с одной целью: заманить тебя в западню. Шепчутся, глядя на тебя, обмениваются таинственными знаками. Все, что происходит с тобой, все, что говорят тебе, наперед рассчитано… Ты не замечаешь этого, а у меня зоркие глаза, и если я не ошибаюсь, меня уже побаиваются. Ты не обратил внимания, как старик старался подпоить меня вечером, наливая мне стакан за стаканом, беспрестанно смешивая красное вино с белым? Два миллиона чертей, отчасти ему это удалось… Однако я вовремя заметил его намерение и заключил из этого, что задуман какой-то новый ночной маскарад и что граф хочет лишить меня возможности помочь тебе в решительную минуту.
— Как я ни стараюсь, Раво, никак не могу понять, что у них за цель мучить меня таким жестоким образом.
— И я не могу дать разумного объяснения происходящему здесь. Только мы имеем дело с хитрым стариком, упрямым, как мул, в голову которого могут прийти самые невероятные идеи… Но наши противники, без сомнения, уже принимаются за дело, пора и нам приготовиться.
— Так ты думаешь, Раво, что я опять должен ожидать какого-нибудь явления вроде вчерашнего?
— Смею сказать, что я даже уверен в этом.
Вернейль подошел к окну. Темное небо было затянуто тучами. Луна не показывалась, и окрестности были погружены во мрак. Вернейль заметил это вслух с задумчивым видом.
— Тем скорее начнут представление вчерашней комедии, — усмехнулся Раво. — В темноте ее легче будет сыграть.
— Но знаешь, Раво, вчера я ведь в самом деле видел Галатею. То была несомненно она, я узнал ее. Тот же тонкий стан, те же печальные и грациозные движения…
— Позволь мне сказать, Вернейль, что я тебе не верю. Ночью малейшее сходство в костюме может быть обманчиво. Наконец должен же ты разгадать все эти тайны, и мы преуспеем в этом, я тебе обещаю, если ты будешь следовать моим советам. Вот мой план: мы погасим свечу, потом я спущусь во двор по этому шпалернику и засяду в кустах жимолости, в нескольких шагах от большого померанцевого дерева. Ты останешься у окна, как вчера, и станешь дожидаться появления призрака. Если он явится, я поймаю его. При первом моем зове перелезай через окно и беги ко мне. Если после этого мы не будем иметь отгадки, я дам себя расстрелять.
Арман в сомнении покачал головой.
— Не знаю, Раво, хорош ли твой план…
— Давай попытаемся, а потом можешь думать, что тебе угодно… Ну, будь же мужчиной, черт побери!
— Ты прав, Раво, — кивнул Вернейль. — Моя честь зависит от разоблачения этого плутовства, делающего меня смешным. Ладно, я согласен, только обещай не устраивать пальбы.
— Само собой разумеется. Итак, за дело, не будем терять драгоценного времени.
Он задул свечу и бесшумно вылез во двор.
Арман де Вернейль облокотился на подоконник. Мало-помалу глаза его привыкли к темноте и он смог различать предметы. Большое померанцевое дерево казалось черной бесформенной массой, стекла оранжереи тускло блестели.
Раво не подавал никаких признаков своего присутствия. Притаившись где-то за кустом, он был готов броситься в схватку, когда наступит решительная минута. Вернейль, сам того не замечая, оказался во власти воспоминаний. Мысли о Галатее теснились в его голове. Он думал о том, сколько раз, в подобный час и на этом же самом месте он ожидал ее, и сердце его сжималось при мысли, что уже никогда больше не увидит ее.
Вдруг Арман услышал позади себя легкий шорох, как будто кто-то осторожно открыл дверь. Он обернулся, но в комнате царил мрак. Послушав с минуту, он вздохнул и занял прежнее место у окна.
Показалось ли ему, что его вздох был повторен на другом конце комнаты? Он снова оглянулся, но опять ничего не увидел.
Через мгновение тихий и печальный голос внятно произнес:
— Арман де Вернейль! Арман…
Вернейль узнал голос Галатеи, и волосы у него на голове зашевелились.
— Не подходи, — предупредил голос, — или я исчезну, и ты не узнаешь, что я хочу сказать тебе.
— Кто ты? — прошептал он с усилием. — Именем Божьим заклинаю тебя, скажи мне, кто ты?
— Я та, которую ты видел на берегу озера с белой скалы шесть лет назад.
Такой ответ должен бы был пробудить суеверные мысли, но, как ни странно, он испытал совершенно противоположное чувство.
— Подумали ли вы, — спросил он сердито, — об опасности, выбрав подобный предмет для шутки? Советую не доводить меня до крайности, иначе я буду вынужден прибегнуть к силе.
— Вы угрожаете, полковник Вернейль? А между тем вы узнали мой голос, не так ли?
Арман растерялся.
— Этот голос, — ответил он наконец, — то и дело слышится мне с тех пор, как я здесь. Я узнал его в голосе Шарля, потом в невнятных звуках немой служанки. Что удивительного, если я опять его слышу?
После паузы голос спросил с заметным волнением:
— Этот мальчик, о котором ты говоришь, не нашел ли он доступа к твоему сердцу, потому что похож на… на особу, которая некогда была дорога тебе?
— Кому какое дело до моих привязанностей? — отозвался Арман.
— Вы раздражены! Хотите, чтобы я удалилась?
— Нет, нет, останься. В тебе есть какое-то очарование… Я не могу ни видеть, ни осязать тебя, твои слова меня смущают и ужасают, и в то же время я испытываю неизъяснимое удовольствие, зная, что ты подле меня.
— Так ты еще любишь меня? — спросил голос с живостью.
— Мужчина ты или женщина, ангел или демон, с ума ты хочешь свести меня?
— Все так скоро забывается, — продолжал голос со вздохом. — Некогда вы клялись в вечной любви девушке, которая отдала вам свою душу, которая хотела умереть, когда сочла себя покинутой вами, а теперь вы хотите изгнать из своего сердца даже воспоминание об ней. Из честолюбивых и корыстных целей вы отдаете другой титул супруги, долженствующий принадлежать ей одной. Потом вы полюбите ее, как любили…
— Нет, это невозможно! Этого никогда не будет! — воскликнул Вернейль. — Никакая другая женщина не займет в моем сердце место милой моей Галатеи… Но по какому праву требуют у меня отчета в моих привязанностях?
Между тем ноги у него подгибались, зубы стучали.
— Ты не веришь мне, — сказал голос. — Хорошо, я рассею твои сомнения… Однажды ночью, в нескольких шагах отсюда, под большим померанцевым деревом, ты имел с Галатеей разговор, которого ни один человек не мог слышать. В эту ночь ты поклялся никогда не жениться на другой женщине, и Галатея в свою очередь поклялась никогда не принадлежать никому, кроме тебя. Ты предложил ей написать эту клятву и подписать ее своей кровью, но бедная девушка отказалась — она не умела писать. Ты помнишь это?
— Все это правда, правда! — ответил Арман, похолодев от ужаса.
— Тогда, — продолжал голос, — ты снял со своего пальца золотой перстень, подарок твоей умирающей матери, и надел его на палец Галатеи, сказал ей: «Вот твое обручальное кольцо. Мертвый или живой, я всегда буду принадлежать тебе». Арман де Вернейль, произносил ли ты эти слова?
Полковник не имел силы отвечать.
— Протяни руку, — попросил голос.
Вернейль машинально повиновался и почувствовал прикосновение мягкой и нежной руки.
— Галатея возвращает тебе твою клятву, — сказала незнакомка грустно. — Это кольцо ты можешь предложить той женщине, которую изберешь. Прощай!
Голос слабел, как будто бы говорившая постепенно удалялась. Арман бросился за ней, крича:
— Галатея! Моя милая Галатея! Так это ты?
— Прощай, — печально повторила незнакомка.
Когда Вернейль достиг того места, откуда слышался голос, он почувствовал, что ноги его наткнулись на невидимое препятствие, руки обняли пустоту и он упал без чувств, испустив душераздирающий крик.
Глава XVII Ссора
Арман пришел в себя в постели. В комнате горела свеча, и Раво хлопотал рядом.
— Ну что, тебе лучше, Арман? — спросил он, увидев, что Вернейль открыл глаза, — черт меня возьми, если я когда-нибудь видал такой глубокий обморок! Я уж думал, что ты умер… Выпей-ка вот это, все как рукой снимет.
Он почти силой разжал ему рот, и Вернейль с усилием проглотил несколько капель спиртного.
— Мы одни, капитан? — спросил он, обводя комнату мутным взглядом. — Ты уверен, что мы одни?
— А кой черт мог бы проникнуть сюда, разве через окно, как я? Дверь заперта, и никто не может войти.
— Однако же вошли. Но ты, Раво, где ты был в то время, когда я больше всего нуждался в твоем присутствии?
— Ей-Богу, Вернейль, я начинаю думать подобно тебе, что этот проклятый дом в самом деле заколдован, — смущенно признался Раво. — Оставив тебя, я спрятался за куст в нескольких шагах от померанцевого дерева. Но вот досада! В ту же минуту я почувствовал неодолимую сонливость. Без сомнения, в вино, которое я пил за ужином, подмешали снотворное. И я, как болван, растянулся на мокрой земле и уснул, пока твой крик не разбудил меня. И теперь еще в голове у меня шумит, как котел с водой на огне, и я еле держусь на ногах.
Он потянулся и зевнул так, что едва не вывихнул челюсти.
— А когда ты вошел сюда, Раво, — спросил Вернейль с волнением, — ты не видел никого?
— Эх! Да какого черта я мог видеть? В комнате было черно, как в потухшем очаге… Я окликнул тебя, но ты не отвечал. Я поспешил зажечь свечу и увидел, что ты, зацепившись ногами за мой матрас, лежишь на полу, бледный и недвижимый, как труп. Провалиться мне сквозь землю! Арман, я готов был сойти с ума, увидев тебя в таком состоянии. Но слава Богу, тебе лучше! Теперь объясни мне, что случилось, пока я храпел на траве. Опять какое-нибудь привидение, я готов побожиться!
Вернейль утвердительно кивнул.
— Подавиться бы аду этими проклятыми своими исчадиями! — воскликнул Раво, сжимая кулаки. — Шутки в сторону, Вернейль, если так будет продолжаться, ты отсюда не унесешь ног. Но расскажи мне, как было дело.
Арман рассказал ему о странных событиях и о разговоре с незнакомкой. Раво слушал, разинув рот.
— Не возьму в толк, хоть убей! — сказал он, когда Вернейль закончил свой рассказ. — Как в бутылке с чернилами: барахтаешься, барахтаешься, а никак не вылезешь. Может, это все тебе привиделось?
— Нет, нет, Раво, на этот раз я не сомневаюсь, — ответил Вернейль. — Когда этот голос говорил со мной, я помнил о твоих советах и вполне владел собой. — Он вынул руку из-под одеяла. — Кроме того, я могу представить тебе неопровержимое доказательство истинности моих слов. Смотри!
И он показал надетый на палец перстень. Доказательство было столь убедительным, что Раво принялся в задумчивости тереть себе лоб.
— Это безжалостное преследование, — сказал он наконец, — не может иметь другой причины, кроме злобы твоего родственника за твои старые прегрешения перед ним, и по всей вероятности, дама, привезенная им из Франции, есть орудие его мщения. Наверное, эта женщина находится в Потерянной Долине. Это, без сомнения, какая-нибудь авантюристка, в которой граф де Рансей нашел сходство с Галатеей и нанял ее для исполнения своих планов. К таким приемам часто прибегают интриганы. Ты, может быть, не слышал об ожерелье Марии-Антуанетты, когда одна актриса по имени Олива, похожая на королеву, в Трианонском саду надула кардинала Рогана…
Арман в ответ лишь пожал плечами.
— Ну, не находятся разумные объяснения, так надо искать романтических, — вздохнул Раво. — Впрочем, будь я на твоем месте, я употребил бы весьма эффективное средство, чтобы добраться до истины.
— Какое же это средство, Раво? Ради Бога, посоветуй мне, сам я не способен ни мыслить, ни действовать.
— Я взял бы один из этих пистолетов и отыскал бы графа. Приставил бы дуло к его лбу и учтиво доложил бы ему о своем намерении размозжить ему голову, если он не откроет причины своих недостойных маскарадов. Держу пари — сто против одного, что старик тут же все выложит.
— Угрожать старцу, моему родственнику, опекуну! — поморщился Арман. — Это низко… Если же, однако, — продолжал он, — мне действительно являлась сила таинственная, чтобы напомнить о моем долге… Кто знает? Когда рассудок побежден, позволительно думать…
— Ну, если мы опять заговорили о колдовстве, — прервал Раво, — тогда я ложусь спать.
Арман печально улыбнулся ему.
— Извини меня, старый товарищ, — сказал он. — Мне надо бы пожалеть тебя. Мы поговорим об этом завтра. Тебя клонит ко сну, да и я чувствую усталость.
Раво не стал возражать. Оставив зажженную свечу на случай, если бы призраку вздумалось появиться снова, он, не раздеваясь, бросился на свой матрас и тут же уснул.
Остаток ночи прошел спокойно. Однако Вернейль спал плохо, ворочался с боку на бок, что-то бессвязно бормотал во сне. Проснулся он совсем разбитым. Но все же поднялся с постели, позвал слугу, спавшего в соседней комнате, и послал его узнать, можно ли видеть графа де Рансея. Слуга скоро доложил, что граф уже встал и занимается приготовлениями к отъезду.
Раво наблюдал за Арманом, сидя на своем матрасе.
— Вернейль, — спросил он, когда тот собрался выйти из комнаты. — Что ты думаешь делать? Ты еле держишься на ногах.
— Скоро узнаешь, друг мой, лучше проводи меня.
Внизу, в зале, они нашли графа де Рансея, сына его и невестку, окруженных узлами, которые слуги выносили в карету, стоящую во дворе.
При виде Армана виконт и виконтесса не смогли сдержать возгласа ужаса.
— Сядьте, полковник, — виконт поспешил придвинуть ему кресло, — вы едва живы.
Арман сел.
— Действительно, полковник, — сказал, приблизившись к нему, граф. — Вы, кажется, дурно спали. Не больны ли вы? Вот неприятное обстоятельство, когда нам надо ехать!
— Граф, — ответил Вернейль, — о путешествии нечего и думать. Благодарю вас за добрые в отношении ко мне намерения, но я передумал.
— Как так, Арман? А ваш брак? А ожидающая вас невеста?
— Она будет напрасно меня дожидаться, потому что у меня есть невеста, права которой священнее.
Старик пристально посмотрел на него.
— Это что за глупость, сударь? Невеста, о которой вы говорите, может ли идти в сравнение с мадемуазель де Санси, одной из прекраснейших, богатейших, благороднейших наследниц Франции?
— С подобными преимуществами мадемуазель де Санси вправе требовать от своего будущего супруга действительной привязанности, которой я не могу обещать ей.
— Но хорошо ли вы обдумали последствия своего поступка? Ваша карьера может пострадать.
— Мне нет дела до славы и до богатства, — ответил Арман. — Если мне откажут в чести найти смерть во главе моего полка, никто, надеюсь, не может воспрепятствовать мне найти ее в рядах солдат.
— Слышите, сударь, слышите? — не выдержал Раво. — Вот до чего довели полковника ваши преследования и эти призраки!
— Надеюсь, капитан Раво позволит мне поговорить с моим родственником о наших семейных делах? — холодно произнес граф. — Арман де Вернейль, — добавил он, — надеюсь, вы не будете оспаривать у меня права спросить вас о причине такого решения? Кто та особа, ради которой вы отказываетесь от своей блестящей карьеры и от милостей императора?
— Женщина, один взгляд которой мог некогда вознаградить меня за эти жертвы и которая теперь царствует надо мной только воспоминанием, потому что она мертва.
— Хорошо ли я вас понял? Вы говорите о Галатее, о моей воспитаннице?
— Действительно, о ней, граф, я любил ее, я поклялся ей никогда не жениться на другой женщине и в залог верности надел ей на палец кольцо моей матери. Я не считал, что нарушаю свое обещание, соглашаясь дать свое имя девушке, с которой император хотел соединить меня, потому что Галатея умерла. Но мертвые вышли из гробов, чтобы упрекнуть меня в неверности. Я навсегда останусь женихом Галатеи.
Воцарилось молчание. Но Раво не мог долго сдерживать своего негодования.
— Ну что, сударь, — обратился он к графу, — довольны ли вы своими кознями? Но я больше не позволю вам заниматься мистификациями! Нет, миллион чертей! Теперь наша очередь, если вам угодно. Сударь, вы сейчас же скажете нам, какова цель этих глупых маскарадов, которые происходят здесь со дня приезда полковника Вернейля. Вы скажете это, или я сумею принудить вас, я подложу огонь под все четыре угла вашего домишки и перебью всех, кто осмелится защищать его!
— Ради Бога, успокойтесь, — тихо сказала виконтесса Раво. — Вы все погубите.
— Капитан, — с упреком произнес Вернейль, — так-то ты держишь свое слово? Но ты, я надеюсь, попросишь прощения у графа за эти угрозы.
— Очень сожалею, Арман, но я ни от чего не откажусь и не имею привычки просить прощения.
Граф де Рансей презрительно улыбнулся.
— Капитан Раво забывается, где он находится и с кем говорит, — сказал он.
— Я знаю, что делаю! — закричал Раво. — Возможно, я веду себя грубо, и готов отвечать за это, гром и молния! Но я скажу все, что у меня на душе… Можно ли поступать так с родственником, как поступали вы с полковником Вернейлем. Едва двое суток прошло, а он уже чуть жив, чуть не сумасшедший… Но я не допущу закончить то, что так хорошо начали. Граф де Рансей, вы сейчас же объяснитесь, сейчас же скажете, зачем разыграли здесь шутовскую комедию, которую некоторые имели несчастье принимать всерьез!
— А что будет, сударь, — надменно спросил старик, — если я не захочу выполнять такое дерзкое требование?
— Что будет? — повторил Раво. Глаза его горели, на губах выступила пена. — Я покажу тебе, злобный старик, как жертвовать жизнью и разумом одного из храбрейших солдат императора в угоду глупым химерам!
Он бросился к графу, намереваясь ударить его. Виконтесса пронзительно закричала. Виконт и Арман вряд ли бы справились с капитаном, сила которого удвоилась от бешенства, если бы на шум не прибежали Гильйом и несколько слуг. С их помощью Раво усадили в кресло и держали до тех пор, пока он не пообещал вести себя прилично.
Граф де Рансей бесстрастно наблюдал за этой сценой. Когда он увидел, что Раво совершенно успокоился, он сделал слугам знак удалиться и сказал:
— Капитан Раво, прежде чем оскорблять меня таким образом в моем собственном доме, в присутствии моего семейства, вам следовало бы подумать, извлечет ли друг ваш какую-нибудь выгоду из такого непристойного поведения. Не оправдывайтесь, полковник Вернейль, я не хочу думать, что вы были причастны к этому. Между тем, в дальнейшем не намерен подвергаться подобным оскорбительным выходкам.
Он поклонился и вышел из зала.
— Ах, мсье, что вы наделали? — прошептала виконтесса, заливаясь слезами. — Это испытание было последним, и вскоре… Отец раздражен, а если бы вы знали, как он упорен в своем гневе!
— Мадам, — вмешался виконт, — мы поговорим об этом после. А теперь надо постараться успокоить отца. Мы должны предупредить, если возможно, новые несчастья.
Он взял жену за руку и поспешно увел ее.
Оставшись одни, Арман и Раво молчали, не глядя друг на друга. Наконец Раво встал, и, подойдя к своему другу, смущенно произнес:
— Что, Вернейль, ты в самом деле недоволен мной… за…
— Оставь меня, — с раздражением ответил Арман. — Ты в несколько минут разбил пятнадцатилетнюю дружбу. Все кончено между нами. Оставь меня!
— Вот, что называется, от одного берега отстал, а к другому не пристал! — сказал Раво жалобным голосом. — Все нападают на меня, потому что я осмелился защитить жизнь и спокойствие товарища… В самом деле, можешь ли ты сердиться на меня за верность тебе?
— Твоя дружба подобна дружбе медведя из басни, который берет булыжник, чтобы отогнать муху… Но довольно! Капитан Раво должен понять, что, нанеся такое оскорбление хозяину дома, ему следует уйти отсюда, и немедленно.
— Хорошо, я ухожу, Арман. Я вошел почти силой в этот дом, надеясь быть вам полезным; теперь я покидаю его, потому что горячо вступился за ваши интересы. Когда-нибудь вы вспомните об этом, может быть… Прощайте.
Он протянул Вернейлю руку, но тот не пожал ее и отвернулся. На глазах Раво выступили слезы, но он молча поклонился и хотел удалиться, когда вошла виконтесса. По лицу Раво она тотчас угадала, что произошло.
— Не покидайте нас так поспешно, капитан, — сказала она, улыбаясь. — Вы, может быть, совершили совсем не такой большой проступок, как думают некоторые, и я надеюсь скоро помирить вас с графом, потому что он чувствует себя несколько виноватым по отношению к одному из ваших знакомых.
— Ах, мадам, — вздохнул Раво, — не граф здесь несправедливее и строже всех ко мне!
— Потерпите, — теперь друг ваш огорчен, но когда он будет счастлив, то думаю, простит всех, на кого он мог обижаться. А к концу дня он будет счастлив, я вам это обещаю.
— Счастлив? Я? — Удивленно спросил Вернейль.
— Да, дорогой кузен, сегодня кончатся ваши горести. Но не спрашивайте меня ни о чем, я обещала хранить тайну и ухожу из опасения не сдержать своего обещания. А вы удалитесь в свою комнату и будьте готовы идти на луг Анемонов, когда вам скажут.
— На луг Анемонов? — повторил Арман. — Какое отношение может иметь это грустное место к…
— Это приказание графа, и как бы ни были странны его фантазии, им привыкли здесь слепо подчиняться. Поступайте, как мы, и на этот раз вы не будете раскаиваться.
— Мадам, — сказал Раво, — полковник Вернейль очень слаб, а место, о котором вы говорите, далеко.
— На что же у полковника ваша крепкая и преданная рука? Он может опереться на нее. А уж оттуда, ручаюсь вам, он дойдет сам.
И она убежала.
Вернейль терялся в догадках и ничего не понимал. Наконец он встал и, положив руку на плечо своего друга, как будто между ними не было никакой ссоры, сказал:
— Раво, добрый мой Раво, неужели я опять брежу?
— Надеюсь, что нет. Я даже начинаю думать, что твои грезы были явью.
Арман вонзил в него огненный взгляд.
— Раво, — прошептал он, — ты тоже подозреваешь, что Галатея…
— Ну да. Возможно это или нет, а мне кажется, что Галатея жива.
— Жива, говоришь ты? — и Арман бросился в его объятия, обливаясь слезами. — Галатея жива? Неужели чудо свершится?
— Чудо или что другое, только это единственное объяснение всего происходящего здесь. Но нечего заранее радоваться. Поостережемся засады, Арман, может быть, нас опять хотят обмануть.
Глава XVIII Луг Анемонов
Два друга, забыв о ссоре, закрылись в своей комнате и с жаром спорили, когда в дверь постучались. Раво отворил, и в комнату, припрыгивая, вошел маленький Шарль. Подбежав к Арману, он поцеловал ему руку.
— Дорогой полковник, — сказал он, — вы позволите мне проводить вас на луг Анемонов? Пора уже.
— Что я слышу? — удивленно спросил Раво. — Ты у нас будешь флигельманом? Но ты еще слишком молод, чтобы идти впереди офицеров императора.
— Отчего же, капитан? — возразил мальчик. — Мне говорили, что в императорской армии барабанщики вовсе не старше меня.
— Браво! Славно сказано! — воскликнул Раво. — Ей-Богу, этот маленький проказник — просто чудо!
И взяв мальчика на руки, он поцеловал его, царапая щеки своими жесткими усами. Вернейль улыбнулся.
— Почему бы нам не последовать за ним, Раво? Подобный посланник может предвещать только радость и успех. Пойдем.
Они вышли во двор. Из семейства графа никого не было видно, в саду и в аллее тоже было пусто.
Погода стояла прекрасная, хотя солнце по временам пряталось за облака. Арман, пожираемый нетерпением, старался проникнуть взглядом через чащу деревьев, но эта часть Потерянной Долины казалась такой же уединенной и пустынной, как и сад.
Он обратился к Шарлю, который весело шагал впереди:
— Послушай, мой милый, не можешь ли ты сказать мне, что там будет, на лугу Анемонов?
— Как, вы не знаете, полковник? — удивился мальчик, подняв на него голубые, как небесная лазурь, глаза. — Там будет большой праздник…
— А кто будет на этом празднике, малыш? — спросил Раво, угадывая намерение Армана.
— Во-первых, там будет граф де Рансей, потом мой дядя виконт, потом тетенька виконтесса, потом мама…
— Тетенька виконтесса? — прервал Арман мальчика. — Что ты говоришь, Шарль? Разве Эстелла, то есть виконтесса де Рансей, тебе не мать?
Шарль улыбнулся с хитрым видом.
— Какой вы шутник, полковник, — ответил он. — Вы ведь знаете, что тетенька виконтесса мне тетенька.
— Но кто же твоя мать? Где она живет?
— Она жила во Франции, очень-очень далеко, но несколько дней назад вернулась. Она очень добра ко мне, всегда берет меня к себе на колени и обнимает, часто обнимает…
— Но как ее имя? Как ее зовут?
— Ее зовут мама.
Арман внимательно посмотрел на Шарля, заподозрив, что он твердит выученное наперед, но наивность, отражавшаяся на лице ребенка, не оставляла сомнений в его искренности. Вернейль обратился к Раво:
— Ты слышал? — спросил он. — Эстелла ему не мать…
— Берегись, полковник, довольно мы уже делали неверных предположений. Имей терпение, недолго осталось ждать.
И они продолжали молча идти по тропинке, ведущей на луг Анемонов. Вдруг Шарль посмотрел на руку Армана и остановился.
— Полковник, зачем вы взяли мамин перстень? — спросил он, надув губы.
Вернейль вздрогнул.
— Как? — он показал ему золотой перстень. — Это принадлежало твоей матери?
— Да. Когда мы были во Франции, мама часто смотрела на него, целовала и заставляла целовать меня, а потом плакала.
— Нет больше сомнений, Раво! — закричал Вернейль в крайнем волнении. — И этот милый малютка, черты которого напоминают мне лицо Галатеи и к которому я с первого раза почувствовал такую привязанность, может быть… Нет, нет, ты прав, — продолжал он, — надо гнать от себя подобные мысли, разочарование было бы слишком ужасно.
Раво покачал головой.
«Да, целый ад чертей, дело проясняется, — думал он. — Весь этот маскарад служил тому, чтобы пробудить в сердце полковника прежнюю страсть и заставить его отказаться от знатной и богатой невесты, избранной императором. Теперь, когда он по уши влюблен, ему хотят навязать бабу с ребенком. Он согласится на все, и его счастье, его карьера погибнут. Да, злую шутку сыграл с полковником этот старикашка! Но как помешать Арману совершить подобную глупость? Он любит и мать и ребенка, а мальчишка, действительно, просто амурчик!»
Оглянувшись и видя, что Шарль отстал от них, Раво взял мальчика на руки и понес со всеми предосторожностями, чтобы не поранить о терновник, в изобилии росший вдоль узкой тропинки.
Так достигли они луга Анемонов, и Арман, шедший впереди, вдруг остановился, издав изумленный возглас. Раво поспешил присоединиться к нему, перед его взглядом предстала неожиданная картина.
Гирлянды из зелени украшали деревья, стволы были украшены свежими цветами. На берегу озера, как раз над монументом, возвышался пурпуровый шелковый шатер. Роковой камень был покрыт блестящей тканью и походил на жертвенник, на котором в лучах солнца горел крест. Драгоценная чаша и другие священные сосуды украшали его, в великолепных серебряных канделябрах горели свечи.
У входа в шатер лежал ковер, а на нем две бархатные подушки с золотой бахромой. На одной из них на коленях стояла женщина, задрапированная в газовое покрывало. Рядом с ней стоял католический священник. Здесь же были граф де Рансей в кафтане, украшенном голубой лентой, которую он некогда получил из рук Людовика XV, виконт и виконтесса в модных туалетах, Гильйом с Викторианом и еще какой-то мужчина.
Богатые ткани и сочная зелень деревьев, дополненная украшениями из цветов, благовонные свечи и ослепительно голубое небо, пурпуровый шатер и золотые украшения, цветущий луг и спокойные воды озера на фоне живописных окрестностей — эта картина способна была поразить воображение, а торжественные позы лиц, окруживших шатер, еще более усиливали впечатление. Но взгляд Армана был прикован к женщине, коленопреклоненной у жертвенника.
— Это она! — закричал он. — Это она!
— Мама! — вскрикнул Шарль, вырываясь из рук Раво.
И малютка побежал к шатру. Вернейль хотел последовать за ним, но Раво удержал его.
— Черт побери, Арман, не слишком торопись!
К ним подошел граф. От него не укрылась подозрительность, с какой Раво оглядывал луг, и он, улыбаясь, сказал:
— Я вижу, капитан Раво не избавился от своей недоверчивости. Надеюсь, он не успел еще поселить ее в своем друге?
— Ради Бога, скажите, граф, что означают эти странные приготовления? — взмолился Арман. — Кто эта женщина у шатра?
— Арман, на том самом месте, где два лица совершили великий проступок, сейчас произойдет обряд очищения. Одна из виновных готова. Угодно ли будет присоединиться к ней вам?
— Граф, перестаньте говорить загадками! Эта женщина, кто она?
— Я и не думаю дальше скрывать от вас этой тайны. Это бедное создание, некогда невинное и чистое, которое вы совратили и опозорили. Доведенная до отчаяния, она дерзнула покуситься на свою жизнь, но была спасена моим сыном.
— Она была спасена! Так это правда? Ах, Раво, от скольких горестей ты избавил бы меня шесть лет назад, если бы не увел с белой скалы! Но Галатея жива! Все забыто, все прощено. Проводите меня к ней, граф. Зачем она скрывается под покрывалом?
— Она скрывает стыд своего падения, и до тех пор не покажет своего лица, пока у подножия алтаря не получит вознаграждения, на которое имеет право и которого ожидает.
— Пойдемте, сударь, я готов! — воскликнул Вернейль.
— Постой, полковник, не торопись, — вмешался Раво. — Одумайся… Император шутить не любит, и когда узнает, как глупо ты женился, будет очень раздражен.
— Арман де Вернейль, — возвысил голос граф, — вы должны стать супругом несчастной обольщенной девушки, вы должны стать отцом своему ребенку!
— Я не колеблюсь, граф. Галатея и сын заменят мне все.
Арман взял старика за руку и повел его к шатру. Раво последовал за ними, ворча:
— Усы бы дал себе вырвать, только бы не было этого! Вот как кончается комедия. Бедный Арман, жениться на… Какая подлая ловушка!
Между тем виконт уже пожимал Вернейлю руку, виконтесса улыбалась. Лишь женщина под покрывалом оставалась неподвижной. Когда Вернейль молча преклонил колена на подушке, рядом с ней, она, казалось, слегка вздрогнула и покачнулась, но, сделав усилие, тотчас выпрямилась.
— Галатея, моя милая Галатея! Ты, которую я столько оплакивал, ты возвращена мне, — прошептал ей на ухо Арман.
По знаку графа священник подошел к жертвеннику, и обряд начался.
Солнце, уже склонявшееся к западу, проникало под пурпуровый купол шатра сквозь длинные полуоткрытые занавески и сверкало на золотом кресте, на блестящих украшениях алтаря, на одеждах священника. К его торжественному звучному голосу примешивались отдаленное пение птиц, шелест ветерка в дрожащих ивах и легкий шорох волн на озере. Арман и его подруга, казалось, поглощены были величественностью этой сцены. Шарль, стоя за ними вместе с графом, виконтом и виконтессой на коленях и сложив свои маленькие ручки, шептал молитву. Другие присутствующие, в числе которых был и Раво, стояли в отдалении.
Ничто не нарушало торжественности церемонии до той минуты, когда Вернейль должен был надеть обручальное кольцо на палец своей будущей супруге. Она высвободила руку из-под покрывала, и Арман, не удержавшись, поднес ее к губам. Галатея поспешно отдернула руку, прошептав со смущением:
— Вы забываете, что мы перед алтарем!
Волнение Армана еще более усилилось при звуке ее голоса, столь хорошо ему знакомого. Оно не успело улечься, когда священник спросил по обычаю:
— Арман де Вернейль, согласен ли ты взять в жены Луизу де Санси?
Полковник, побледнев, вскочил.
— Луиза де Санси? — повторил он с негодованием. — Меня обманывают, играют мной… Никогда! Никогда!
Этот возглас, казалось, нисколько не смутил священника, который бесстрастно ждал, чтобы жених занял свое место. Граф де Рансей иронически улыбнулся, а виконтесса, стоявшая ближе всех к Арману, сказала ему вполголоса:
— Полковник, это клятвопреступление!
— Если я клятвопреступник, — шепотом ответил Вернейль, — то виноваты в этом те, кто злоупотребил моей доверчивостью. Прошу прощения у этой девушки, без сомнения, невольной участницы гнусного обмана, но наш брак невозможен.
Поднялся шум, но громче других звучал голос Раво:
— Луиза де Санси! Вот это другое дело. Не артачься, Вернейль, женись!
Однако Арман, оскорбленный подобным обманом, упорствовал, и скандал казался неминуемым, когда невеста сдернула покрывало. Результат этого был мгновенный: Арман, вскрикнув, упал на колени.
— Прости меня, Господи, — прошептал он. — На минуту я усомнился в своем счастье…
Едва церемония кончилась, к новобрачным подошел граф де Рансей.
— Арман де Вернейль, — сказал он торжественно, взяв за руки новобрачную, и маленького Шарля, — теперь вы можете обнять свою жену и сына.
Галатея мгновенно оказалась в объятиях Армана. Потом пришла очередь Шарля. Присутствующие с умилением смотрели на эту трогательную сцену.
— Милая моя Галатея, — восторженно говорил Вернейль, — так это ты? Ты жива, ты моя жена, мать моего ребенка! Но зачем ты так долго оставляла меня в ужасном заблуждении? Почему ты мучила меня, растравляла мои раны?
— Не обвиняй меня, Арман, я страдала не меньше. Но мы слишком жестоко оскорбили моего опекуна, чтобы не почтить его воли, как бы безжалостна она ни казалась…
— Мадам де Вернейль права, — сказал граф. — Один я виновен в крайних, но спасительных мерах, на которые вы жалуетесь, и мне нужна была большая твердость, чтобы обеспечить ваше счастье, как я его понимаю. Я должен был устоять против собственных горестей и против ваших, мне надлежало противиться непрестанным просьбам детей. К тому же сегодня я получил выговор, если не сказать больше, от капитана Раво. Но я все это вынес, и вот имею удовольствие видеть, что все исполнилось согласно моим желаниям.
— Но почему на протяжении этих шести лет вы не напомнили мне о моем долге дать имя моему сыну и вернуть Галатее уважение? К чему эта таинственность, эта фантасмагория?
— Подумайте сами, полковник, на другой же день после Розентальского сражения вы покинули деревню с французской армией. Кроме того, я долго не знал, что вы были убеждены в смерти Галатеи, и ваше молчание истолковывал по-своему. Ну, а когда я убедился, что вы действительно верите в ее трагическую гибель, то не стал вас разубеждать, не без причины думая, что воскрешение Галатеи произведет на вас сильное впечатление.
Вздохнув, граф продолжал:
— События, связанные с вашим присутствием, показали мне всю глупость заключения, на которое я обрек свою семью. После сладких пятнадцатилетних грез что я имел? Обесчещенную воспитанницу и окровавленный труп сына. Совесть терзала меня, я обвинял себя во всех этих несчастьях, в том, что не сумел их предвидеть. Я хотел создать общество идеальное, но неумолимая действительность грубо уничтожила его. Я отверг обольстительные мечты; преграды, которые я воздвиг между собой и светом, были разрушены. Сочетав браком сына с младшей из моих воспитанниц, я привез их во Францию вместе с Галатеей. Там они получили образование… Увы, если бы я не отвергал с упорством этого долга, Лизандр, может быть, был бы жив, и сделался бы моей гордостью и радостью.
Голос старика задрожал при этом воспоминании, и с минуту он хранил молчание.
— Но зачем возвращаться к этим печальным происшествиям? — наконец произнес он. — Полковник Вернейль, Галатея воспитана сообразно месту, которое она должна была занять в свете, сделавшись вашей женой. Скоро вы оцените многочисленные таланты некогда невежественной пастушки. Но если ее старались сделать достойной вас, то справедливость требовала узнать, достойны ли вы ее. Я считал вас непостоянным, ветреным, замечал в вас большое честолюбие и потому желал удостовериться, была ли ваша привязанность к Галатее сильной глубокой страстью или очередным мимолетным увлечением, которые военные забывают так скоро. Особенно желал я увериться, угасла ли в вас любовь к славе и бродячей жизни. Такова причина испытаний, из которых вы вышли победителем. Я нашел вас проникнутым сознанием своих проступков, верным воспоминаниям о женщине, отдавшейся вам с таким самоотречением. В сердце вашем проснулась отеческая нежность к бедному невинному малютке, о существовании которого совсем недавно вы еще не знали.
В одном только не признался граф де Рансей — в том, что несчастья, приключившиеся в Потерянной Долине, оставили в его сердце затаенную злобу. Это чувство с течением времени ослабело, но умерло лишь в ту минуту, когда старик обезоружен был искренним горем и покорностью своей жертвы.
Вернейль, может быть, угадал истину, но не показал этого.
— Забудем прошлое, — сказал он, — я теперь слишком счастлив, чтобы думать о том, какой ценой достиг исполнения своих желаний. Какими бы путями вы не вели нас, будьте благословенны за наше счастье.
Раво, воспользовавшись благоприятной минутой, отвел Армана в сторону и спросил с недоумением:
— Сделай милость, Вернейль, скажи, на ком ты женился? На прежней своей пастушке или на богатой Луизе де Санси?
Арман засмеялся.
— Ах, Раво, откровенно говоря, я и сам не знаю. Знаю только, что обожаю свою жену и буду обожать ее всю жизнь.
Раво вытаращил глаза.
— Как? Не знаешь? Вот новость! Это ни на что не похоже, миллион чертей!
Граф догадался, о чем шла речь, и с улыбкой подошел к друзьям.
— Я вижу, капитан Раво ждет новых объяснений, — сказал он. — А что он сделает, если уверится, что полковник женился на Луизе де Санси?
— Я от всего сердца благословлю супругов и пожалею только о том, что не дождались императора.
Всех присутствующих, казалось, забавляло удивление Раво.
— В самом деле, граф, — пробормотал Арман, — признаюсь, я тоже не могу понять…
— Вы не понимаете, что воспитанницы графа де Рансея, известные вам когда-то под именами Эстеллы и Галатеи, носят имена Луизы и Эрнестины де Санси? — усмехнулся старик. — Я знал ваше неведение на этот счет, Арман, и воспользовался им для достижения своих целей.
— Но император, — не унимался Раво, — как император оказался замешанным в это дело?
— Ничего нет проще. Я ездил недавно в Париж и разговаривал о своих планах со старым своим другом министром X, который обещал мне заинтересовать императора этим браком. Все, что сделано и сказано было для побуждения вас к отъезду, полковник, наперед было оговорено мною с X. Когда вы входили в его кабинет, я выходил из него в другую дверь. Лишь только отъезд ваш в Розенталь был решен, я сам отправился туда вместе с Луизой, чтобы опередить вас. Теперь, когда все благополучно закончилось, я могу довести до сведения полковника, а особенно друга его, интересующегося такими подробностями, содержание бумаги, которую господин Бальи, находящийся здесь, соблаговолит внести в брачный контракт.
Он достал из портфеля большого формата лист и прочитал вслух:
«Император соглашается, чтобы, по представленным ему причинам, брак полковника Армана де Вернейля с девицей Луизой де Санси был немедленно совершен в Швейцарии. Он жалует полковнику де Вернейлю в виде свадебного подарка сто тысяч франков, титул барона для него и его наследников.
Наполеон».Раво подбросил шляпу в воздух и закричал:
— Да здравствует император!
А потом, обернувшись к графу, смущенно произнес:
— Граф, я очень виноват перед вами…
— Довольно, довольно, капитан, — прервал старик, пожимая ему руку. — Вы действительно вели себя немного грубо, но такие друзья, как вы, редки, и я на вас не в обиде. Ну, а теперь послушаем свадебный контракт. Вы увидите, что полковник, женившись на Галатее, сделал не такую уж дурную партию, как вы думали.
Контракт был прочитан и тут же подписан. Луиза де Санси принесла своему мужу шестьсот тысяч ливров приданого.
В то время как семейство предавалось живейшей радости, к Арману приблизился Гильйом.
— Ну что, господин барон, — сказал он, — не предупреждал ли я вас, что не надо удивляться ничему?
Спустя три дня все семейство отправилось в Париж. Арман хотел представить жену императору и поблагодарить его за благодеяния. Газеты известили, что граф де Рансей получил торжественную аудиенцию в Тюльери.
…Арман дослужился до дивизионного генерала и должен был получить жезл маршала Франции, когда пал смертью героя в сражении при Ватерлоо.
Примечания
1
Узкий проход между горами, используемый для задержания противника
(обратно)2
Военнослужащий младшего командного состава, исполняющий роль ротного и снабжающий роту, эскадрон фуражом и продовольствием
(обратно)3
Здесь: беседка на возвышении, с которой открывается вид на окрестности
(обратно)4
Торговец, преимущественно съестными припасами и напитками, сопровождающий армию в походе
(обратно)


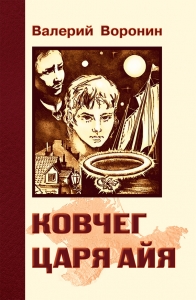

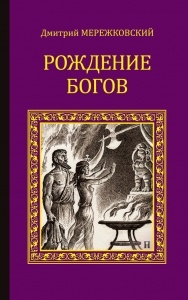



Комментарии к книге «Потерянная долина», Эли Берте
Всего 0 комментариев