Нюансеры
ПРОЛОГ
Вольная фантазія
Подробности – главное, подробности – Бог.
И. В. Гёте
Дьявол прячется в мелочах.
Поговорка
Всѣ персонажи являются вымышленными. Любое совпаденіе съ реально живущими или жившими людьми случайно. То же касается упомянутыхъ періодовъ времени, топонимовъ и предметовъ домашняго обихода. Книга напиcана на cобcтвенныя фантазiи автоpов. Hе cодеpжитъ богохyльcтвiй. Одобpена цензypой.
Действующие лица
(живые и усопшие)
Заикина Елизавета Петровна, гадалка, в прошлом актриса.
Лаврик Иосиф Кондратьевич, её правнук, служащий банка.
Лелюк Неонила Прокофьевна, вдова, приживалка.
Лелюк Анна Ивановна, её дочь.
Алексеев Константин Сергеевич, фабрикант, актёр-любитель.
Алексеев Георгий Сергеевич, его младший брат.
Суходольский Михаил Хрисанфович, он же Миша Клёст, грабитель и убийца.
Ваграмян Ашот Каренович, сапожник.
Кантор Лейба Берлович, без определенного рода занятий.
Радченко Любовь Павловна, костюмерша в театре.
Воры и бандиты: Костя Филин, Ёкарь, Гамаюн, Лютый.
Янсон Александр Рафаилович, нотариус.
Граф Капнист, предводитель губернского дворянства.
Никифоровна, старуха.
Никифор, могильщик.
Вознесенская Ольга, вдова.
Никита, её сын.
Черкасский Семён, извозчик.
Попутчики, городовые, мещане, водяные, карлы, носильщики, дворники, общительные мертвецы, ямщики, преступный элемент, портье, кассиры, фавны, официанты, пьяницы, феи, купеческие дочери, призраки, театральные деятели, фельдшеры, обитатели воспоминаний и др.
ПРОЛОГ
– Да ты что, матушка! Не умирай!
– Благодетельница!
– Живи сто лет!
– Цыц, кликуши! – рассердилась Заикина. – Не сегодня помру, небось. Чего раскудахтались? А как придёт срок, так кричи, не кричи, ничего не изменится. Живи сто ле-е-ет!
Она так ловко передразнила приживалок, что те рты пораскрывали. С недавних пор Заикина актёрствовала мало – и в театре, куда её, случалось, звали на роли комических старух, и дома, в охотку, под бодрое настроение, которое приходило к Елизавете Петровне всё реже и реже. Приживалки уже и не помнили, когда такое случалось в последний раз.
– И сколько мне по-вашему, куриному, до ста осталось? Три завтрака да пять обедов?!
– Матушка!
– Что ж ты себя заживо хоронишь?
– Хоронить не хороню, – рассудительно произнесла Заикина, беря третий кусочек колотого сахару и обмакивая его в крепчайший, кирпичного цвета чай. Родилась сладкоежкой, говаривала она любопытствующим, сладкоежкой и к богу на поклон отправлюсь. – А подготовиться к этому делу каждому на пользу. Одни деньги копят, чтобы родственников в расходы не вводить. Другие грехи замаливают, обеляют душу перед кончиной. Храмам жертвуют, нищих привечают. Вот и я готовлюсь, как умею. Оську только жалко, пропадёт без меня. Оську жалко, Осеньку...
Приживалки как по команде вытянули шеи. Заикина расположилась за столом вольготно, по-хозяйски, приживалки сели напротив, плечом к плечу, вжавшись друг в друга, на краешках стульев. Стол без труда принял бы еще человек десять, вздумай те почаёвничать на сон грядущий, но казалось, что приживалок из милосердия пустили в большую шумную компанию, выделив на двоих места с полмизинчика.
– Осеньку? – изумилась старшая.
Шмыгнула носом, выпучила глаза:
– Да чего же его жалеть, Иосифа Кондратьевича? Мужчина молодой, видный, в банке кассиром служит. Чай, ни в какой каше не пропадёт, ни в пшённой, ни в гречневой. Не с чего ему пропадать. Вот женится, возьмёт за себя девку красивую, с приданым. Детишек настрогает, пойдут у вас праправнуки...
– Не доживу, – отрезала Заикина.
Высокая, статная, сильно располневшая после шестидесяти, она носила свой вес, как и годы, легко, с горделивой осанкой царицы. После шестидесяти? Боже, как давно это было! Уже и не вспомнить...
– Матушка! Живи!
– Пей чай и помалкивай! – укоротила Заикина старшую приживалку. Младшая и без того молчала, прикусив нижнюю губу. – Не твоего ума дело! Если говорю, что Осеньку жалко, значит, цыц! Молчи и жалей, поняла?
Приживалки мелко закивали.
– Чай, – угодливо согласилась старшая. – Пьем и помалкиваем, матушка.
– Осеньку ей жалко! – Заикина всё не могла успокоиться. – Мне, что ли не, жалко?
Она уже и забыла, что жалко правнука было ей, а вовсе не приживалке. Приживалка, напротив, утверждала, что Иосифа Кондратьевича жалеть не с чего, но кого это сейчас интересовало?
– Осеньку жалко, себя жалко, а сервиза жальче всех. Чашки, блюдца, сахарница... Побьёте, небось, без меня! Вот говори: побьёте, а? Правду говори!
– Не побьём, матушка!
– Ан побьёте!
– Пуще глаза беречь станем!
– Пуще глаза, – прошептала младшая, бледная как мел. Шёпот был для неё, молчуньи, подвигом. – Христом-богом клянусь, пуще.
– Не клянись! – без злобы, для порядку велела Заикина. – Ибо сказал Господь: «Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий...»
Голос её окреп, утратил старческую хрипотцу:
– «...ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя...»
Приживалки захлопали в ладоши. Знали, мерзавки, что̀ хозяйке по душе.
– «...ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным!»
– Браво, матушка!
– Браво!
– Актёрка, как есть актёрка! Наипервейшая!
– Актриса, – поправила Заикина, отдуваясь. – А сервиз всё едино побьёте, заразы..
Чайный сервиз на девять персон был гордостью Заикиной. Приживалкам не возбранялось пить из тонких, воздушных, украшенных бледно-сиреневой росписью чашечек, им даже разрешалось брать колотый сахар из пузатой сахарницы, но делать это следовало без торопливости, с почтением, бросая восхищенные взгляды на благодетельницу. Сервиз Заикиной подарил никто иной, как заводчик Кузнецов. «Матвей Сидорович самолично!» – говаривала Заикина, когда была в духе, и картинно всплескивала руками. Тридцать лет назад Кузнецов арендовал фаянсовую фабрику купца Никитина в селе Байрак, арендовал да и плюнул всердцах: расходы на гужевой транспорт съедали доходы, что твой пёс – колбасные обрезки. Шло время, лихое убыточное время, и кто-то надоумил Кузнецова обратиться к Заикиной. Старуха раскинула карты – так, как умела во всей губернии только она – и велела заводчику перебираться с хозяйством и работниками в иное село. Какое, спросил Кузнецов. Бу̀ды, ответила Заикина. Буды, что на реке Мерефе. Видишь трефового короля? Ну вот, а рядом с ним семёрка бубён. Буды, и хватит об этом. Сказать по правде, Кузнецов нисколечко не понимал, зачем ему менять шило на мыло, но совета послушался. Выкупил Котляровскую винокурню, перенёс производство в Буды. А спустя два года через Буды легла железнодорожная ветка, и с того момента Кузнецов на Заикину мало что не молился. И заплатил с лихвой, и бесплатным фаянсом снабжал исправно. Когда в позапрошлом году фабрика освоила фарфор – прислал сервиз с поклоном.
– Значит, так, любезные мои...
Заикина любовалась чашечкой истово, не отводя взгляда. Словно знала, что больше не увидит ни чашечку, ни сервиз, ни света белого. Лицо гадалки сделалось серьёзным: дальше некуда. С таким лицом Клеопатру играть – вот корзинка, в корзинке аспид, и срок пришёл класть змею на молодую грудь.
– Слушайте мою последнюю волю. Слушайте, запоминайте, исполняйте. Не исполните – из могилы вернусь. Зубами загрызу, кровь выпью. Вы меня знаете...
Приживалки знали. Слушали, запоминали.
– Ой, матушка, – захлебнулась старшая. – А с нами-то что будет?
– Исполните – всё будет хорошо. Не обижу вас, пустомель.
– Ну да, ну да, – бормотала старшая. – Всё хорошо, лучше лучшего.
Было слышно: не верит. Боится. А больше того боится возразить, пойти поперек. С таких женщин художники пишут евреек накануне исхода из Египта. Оно, конечно, впереди земля обетованная, течёт молоком и мёдом. Да только сперва впереди Чермное[1] море, пустыня и сорок лет хождения от бархана к бархану. Мёд еще когда, молоко после дождичка в четверг, а ноги по песку бить прямо сейчас надо.
Дойдём ли до обетованной? Доживём?
__________________________________________
[1] Че́рмное море – церковно-славянское «Красное море». Воды Чермного моря расступились и пропустили Моисея с еврейским народом во время Исхода.
Глава первая. «КАК ПРЯМУ ЕХАТИ – ЖИВУ НЕ БЫВАТИ»[1]
1
«Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!»
Губернский город Х встретил Алексеева метелью.
Нет, так нельзя.
Начнем иначе, из затакта.
Занавес уже открылся, но сцена тонет в сумраке и тишине. Никто никуда не приехал, никто никого не встретил. Лишь громыхают колёса на стыках, потому что театральная тишина выражается не молчанием, а звуками. Если не наполнить тишину звуками, нельзя достичь иллюзии. Стучат колеса, белый луч шарит в пустоте, отыскивая жертву. Время топчется на месте, покашливая в кулак, а пространство наполняется не страхом, но тревогой и ожиданием.
Вот. Так правильно.
* * *
В попутчики Алексееву достался инженер-путеец: вот ведь каламбур! Был он человек пьющий и крайне словоохотливый, что сделало поездку нескучной, но чуточку обременительной. Для себя Алексеев назвал бесконечный монолог путейца на манер литератора Тургенева, подмешав толику баснописца Крылова: «Отцы и дети, или Овцы и щуки». Овцами, как теперь он знал доподлинно, хоть экзамен сдавай, в профессиональном кругу назывались паровозы серии «О». Щуки же, они же паровозы серии «Щ», ещё только разрабатывались учёными мужами, но имели богатейшую – «ей-ей, богатейшую! Ну, ваше здоровье!» – перспективу.
– А вы-то, – между делом вспомнил путеец о вежливости. – Вы-то сами, позвольте полюбопытствовать, кто будете?
– Канительщик, – улыбнулся Алексеев.
– Кто-кто?
– Канительщик. Золотое и серебряное шитьё.
– Хорошее дело. Прибыльное?
– Как когда.
– Хорошее дело, – повторил путеец, дыша коньячным перегаром. – Мундиры там, или ризы епископские... На чем государство держится? Армия и вера, точно вам говорю. Ну, ещё железные дороги.
И вернул разговор к возлюбленным паровозам.
За окном косым занавесом валил снег. Мелькали станции и полустанки, черные остовы деревьев, горбатые косогоры. На перронах бабы, замотанные платками поверх вытертых шубеек, торговали нехитрой снедью: пироги с картошкой и луком, жареные куры, соленые огурцы. Носили и самогон. День валился под гору, к вечеру. Белая поро̀ша превращала баб в снеговиков с красными огрызками морковок вместо носа. Смотреть на них было зябко: в поезде топили, но воображение доводило пассажиров, глядевших в окна, до натурального озноба. Алексеев поздравил себя с тем, что чудом или попущением Господним взял билет в «синяк» – вагон первого класса. Окрашенные в синий цвет согласно распоряжению министерства, эти вагоны несмотря на их дороговизну заполнялись первыми, билетов всем желающим не хватало. Случалось, графам и тайным советникам доводилось ездить во второклассных «желтках», а то и в «зеленцах» третьего класса – что было, как писал некий господин, пострадавший от билетной лихорадки, «неудобно, но душевно приятно и поучительно.»
Неудобно, подумал Алексеев. И душевно неприятно
Всё складывалось чёрт знает как с самого начала. Безумная новость, которая сорвала его с места, украла от дел и событий; вынужденная поездка, подарок, обернувшийся подвохом; март, до ужаса похожий на февраль. Лютый, говорят в здешних краях. Вот уж точно что лютый! Обстоятельства сложились в громоздкий кукиш с жёлтым обгрызенным ногтем, и кукиш этот мерещился Алексееву за каждым углом. Скверная пьеса, а ты, братец, – комический простак, волей драматурга затесавшийся в головоломную авантюру. Чужое, не свойственное тебе амплуа, но занавес открылся, дали свет, и хочешь, не хочешь, а играй до самого финала.
Последний раз такое же смущение он испытывал в юности, играя французский водевиль в трех актах. Актёр-любитель, Алексеев скрывал от семьи свой adultère [2] с театром и едва не упал в обморок при всей почтенной публике, когда завитой, расфранченный, он вылетел на сцену с огромным букетом наперевес – и увидел в центральной ложе отца, мать и старую гувернантку, нянчившую его с колыбели. После спектакля гувернантка рыдала на груди у матушки: «Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично... Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!» Отец же, сдержав гнев, огласил приговор: «Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар. Но только не играй всякую гадость бог знает с кем!»
– Простите, ради бога, – прервал его воспоминания путеец. – Понимаю, что чрезмерно любопытен, но всё-таки... Сколько вам лет, милостивый государь?
– Тридцать четыре. А что?
– Да ничего, просто спросил. Смотрю на вас всю дорогу и, представляете, не могу в толк взять: каких вы лет, а? Так гляну – вроде молодой человек. Эдак гляну: нет, старше. Улыбнетесь, так и вовсе юноша. Задумаетесь, и опять состарились. Освещение шалит, что ли?
– Я рано начал седеть, – объяснил Алексеев. – В сочетании с темными бровями и усами это даёт своеобразный эффект.
– Выпить не хотите?
– Нет, спасибо.
– Рюмашечку, а? Для здоровья?
– У меня слабое сердце.
– Врачи рекомендуют! Есть у меня знакомый хирург, так он без графинчика не оперирует...
– Мне не рекомендуют, спасибо. И потом, я не хирург.
– А кто же вы?
– Канительщик.
– Ну да, вы говорили. Запамятовал, извиняюсь.
Зря это я, подумал Алексеев. Надо было согласиться. Алкоголь успокаивает нервы.
– Я закурю, если вы не возражаете?
– Разумеется, голубчик! Курите, сколько душе угодно!
Распечатав пачку «Ферезли», Алексеев закурил и начал перекладывать тонкие и длинные папиросы из пачки в серебряный портсигар. Без этого можно было и обойтись, но вид человека, занятого делом, слегка угомонил общительного путейца. В пачке обнаружился листок с предсказанием – этим сейчас баловались многие производители табачных изделий. «Время – ваш союзник, – прочёл Алексеев, морщась от дыма. – Лучше отложить принятие важного решения хотя бы на день.»
Да, кисло усмехнулся Алексеев. В яблочко.
Он откладывал важное решение со дня на день. Если бы не поездка, свалившаяся как снег на голову, он бы уже принял это решение, похожее на выбор самоубийцы между пистолетом, ядом и веревкой. Последняя папироса смертника? Табачный дым, хоть всю пачку разом выкури, не успокаивал, а лишь добавлял горечи в сложившуюся ситуацию.
«Конь вздрогну̀л, и сильней витязь возмутился, – пелось в известном романсе. – В милый край, в страшный край как стрела пустился...»
С недавних пор Алексеев ощущал себя былинным витязем на распутье трёх дорог. Да-да, тем самым, знаменитым, кисти живописца Васнецова. Отдав финальный вариант картины в коллекцию Саввы Мамонтова, промышленника и мецената, близкого друга семьи Алексеевых, Васнецов отметил в письме к критику Стасову: «На камне написано: «Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Следуемые далее надписи: «направу ехати – женату быти; налеву ехати – богату быти» – на камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью.» Алексеев со всей искренностью завидовал простоте живописного подхода к главному вопросу своей жизни, можно сказать, вопросу жизни и смерти. Две надписи из трех стёр, и как не бывало! А тут вертись в седле, чеши затылок: «Направу ехати – женату быти. Налеву ехати – богату быти. Как пряму ехати – нет пути ни прохожему, ни проезжему...»
В случае с Алексеевым прямая дорожка, которая «убиту быти», означала издевательское «знамениту быти». Фабрики, семья и театр – три коня рвали его на части. Камень, лежащий на треклятом раздорожье, следовало украсить еще одной надписью: «На месте стояти – в дураках быти.» Остаться на месте для Алексеева значило продолжать тянуть три лямки сразу – мучаясь, срывая сроки, крутясь белкой в колесе, страдая бессонницей, доводя себя до сердечных приступов и в итоге оставаясь виноватым перед всеми сразу.
Савва Мамонтов говорил Алексееву, что в начальных эскизах картины витязь был повёрнут к зрителю лицом, а главное, перед ним лежали дороги. В последней версии живописец развернул витязя боком, чтобы не сказать, задом, а дороги вопреки всякой логике убрал к чёртовой матери – якобы для пущей эмоциональности, чтобы зритель видел: у витязя нет другого выхода, кроме указанного на камне: «Живу не бывати». Камень, глухая степь, череп человеческий и лошадиный, да ещё чёрный ворон в низком вечернем небе.
Как мизансцена – потрясающе.
Как жизненная перспектива – отвратительно.
2
«Вы только не стреляйте!»
Костя Филин в сотый раз глянул на ступеньки банка – так, искоса, краем глаза. Подступал вечер, в мутном, исхлёстанном метелью сумраке ничего не разглядел бы и настоящий, лесной филин. Боясь проморгать сигнал, Костя развернулся к банку лицом, и колючий снег мигом втиснулся за воротник кожуха, морозными иглами ожёг щёку, набился в ухо и начал, сволочь, подтаивать. В ухе заворочался липкий и холодный слизняк. Костю передёрнуло, он выругался сквозь зубы, выпростал наружу толстый вязаный шарф и упрятал в него всю нижнюю часть лица. Шарфа хватило и на многострадальное ухо. Ну вот, другое дело, жить можно.
Долго они там ещё?
Боко̀в[3] у Филина не было, но он поклялся бы, что торчит возле банка уже битый час – хотя на самом деле не прошло и тридцати минут. Зря стою, решил Костя. Уже давно бы управились и водкой грелись. Ветошником[4] больше, ветошником меньше – какая, к чёрту, разница?
Дверь распахнулась. На ступеньки упал жёлтый прямоугольник яркого электрического света, и в метель шагнул потешный фраерок в мохнатой лисьей шубе, круглых очочках и профессорской шапке «пирожком». Фраерок взмахнул рукой, подзывая извозчика, открыл было рот – и метель с изуверской радостью влепила туда добрую пригоршню снега. Костя сдавленно хмыкнул в кулак: а не разевай хлебало! Фраерок с возмущением отплевался, замахал обеими руками, что твой ветряк. Минута, другая, и рядом остановился извозчик.
На Николаевской площади их хватало.
Едва сани уехали, дверь банка приоткрылась снова. Наружу высунулся Ёкарь. Завертел кудлатой цыганской головой, призывно вскинул могучую ручищу, словно тоже жить не мог без извозчика. Костя отлепился от стены. Ну, сказал он себе, делу время, потехе час. Долго запрягали, быстро поедем.
Паберегис-с-сь!
* * *
С разных сторон к банку уже спешат остальные, ждавшие, как и Филин, отмашки Ёкаря. Один поскальзывается, падает, но тут же вскакивает, отряхивает снег с тулупа, ковыляет ко входу. Утка, чистая тебе утка на льду! Хихикая, Костя выцепляет взглядом Гастона, которого втайне зовёт Гастритом. Про такую болезнь Филин слыхал от студента-медика, лечившего сестру Дуняшу от маяты в желудке. На доктора с дипломом и в очочках, как давешний фраерок, у Кости не было гро̀шей, на Александровскую больницу, что на Тюремной площади (тьфу-тьфу-тьфу, не про нас будь сказано!) – тем более, даром что лазарет для малоимущих. А студент к Дуняше неровно дышал и душу бы сатане продал, лишь бы пощупать девку на законных основаниях. Ох, эти гро̀ши! Вечно их нет, когда надо. Родители Филина сгорели при пожаре, когда у Кости ещё усы не росли, а Дуняша и вовсе под стол пешком ходила. Бабка загоревала да и померла следом. С тех пор сестра оставалась на попечении брата, готового зарезать всякого, кто на Дуняшу косо глянет. Девка видная, добрая, хозяйственная, жаль, здоровьем удалась в дохлого воробья: что ни съест, рѐзями мается, а то и блюёт. Из-за неё Костя и в жиганы пошёл, чтобы червонцы рекой. Пойти пошёл, только на серьёзные дела его не брали, брезговали, дразнили маломерком и дурьей башкой. Один Гастон, добра ему полные руки, сжалился. Теперь заживём! И гро̀ши будут, и студент Дуняшу за себя возьмёт, в церкви повенчаются, хату на Москалёвке поставят, нарожают Филину племянников, старшего Гастоном назовём...
Есть в святцах такое имя – Гастон? Наверняка есть, как не быть...
В присутствии Гастона у Кости без видимой причины сводит живот: Гастрит, натуральный Гастрит! Есть в нём что-то, от чего мурашки по хребту. За версту видно, гастролёр. Так Гастрит и не скрывает: из серьёзных, не чухня, ясен пень. Дело сто̀ящее предложил, и ведёт себя путём, с уважением...
В овчинном кожухе, как и Филин, надвинув шапку-ушанку на брови, Гастон-Гастрит ждёт у дверей, пропускает всех внутрь. Нет, не всех: сам входит четвёртым. Филин вваливается следом, на ходу достаёт из кармана нагретый в ладони «Smith&Wesson». Револьвер взяли с убитого фараона – валил околоточного надзирателя не Костя, Костя только купил оружие с рук за тридцатку, и ещё патронов на шесть рублей сорок копеек. Револьвер тянет руку, в низу живота возникает предательское верчение – да что ж такое, в самом деле?!
Со злым щелчком Костя взводит курок, и живот отпускает.
– Работаем!
Сапоги гулко топают по ступеням, застеленным бордовой ковровой дорожкой. Оставляя за собой оплывающие кучки снега, налётчики взбегают на второй этаж. Навстречу суётся усатый хрен в заношенном, но ещё чистом мундире унтер-офицера. Его с ходу прикладывают рукояткой по кумполу, и сторож «уходит в тёмную», обмякнув в углу.
– Руки вверх! Это налёт!
Ёкарь не подвёл: в зале нет ветошников, только четверо банковских за стойкой. Подняли руки, шары вылупили – трясутся.
– Ты! – Гастон тычет стволом в ближнюю крысу. – Выгребай деньги.
Бросает на стойку мятый мешок:
– Всё выгребай, живо! Сюда кидай.
– Стоять-не-дёргаться! Кто пёрнет – завалю!
Это не Гастон. Это расхристанный чернявый шпендрик с мятым хайлом. Костя его не знает, и век бы не знал, ей-богу! Древний «Lefaucheux» с исцарапанным восьмигранным стволом ходит в руках шпендрика ходуном. Того и гляди, пальнёт почём зря. На кой чёрт Гастон взял на дело это ракло[5]?!
Гастон морщится. Но на словах встаёт за шпендрика горой:
– Все слышали? Делайте, что вам говорят, и все останутся живы.
Взгляд и ствол упираются в каждого банковского по очереди. Кажется, что Гастон пересчитывает кассиров, замерших в испуге. Ствол останавливается на старшем:
– Открывай сейф.
Грузному дядьке лет под пятьдесят. Он не двигается с места.
– Жить хочешь?! Греби деньги лопатой.
У дядьки судорожно дёргается кадык. Он силится что-то сказать, но не может. Речь возвращается лишь со второй попытки:
– ...ключи!
– Что – ключи?
– Они в кабинете управляющего.
– Ну так принеси. Он, – Гастрит кивает Косте, – тебя проводит.
Костя кивает в ответ. Держит кассира под прицелом, следует за ним в коридор, начинающийся сбоку от стойки.
– Ты – на шухере у окна. Гляди в оба! – слышит он за спиной распоряжения Гастона. – Ты подгребай сюда бабки. Ты стань у входа, вы двое держите их на мушке...
Грамотно, думает Костя, пока дядька отпирает дверь в кабинет управляющего. Щёлкает выключателем, над потолком вспыхивает люстра. В ярком свете, словно мальчишки на летнем берегу реки, нежатся обитые бархатом кресла-пузаны. Шкаф во всю стену, широченный стол с бумагами и банковскими книгами; с краю приткнулась чёрная штуковина, от неё в угол течёт аспидный хвост-провод. Небось, тоже что-то электрическое, лучше не трогать!
– Ключ где?
– Станислав Евграфович в столе держат-с.
– Бери и пошли!
Кассир бочком протискивается мимо стола, дёргает ящик.
– Заперто!
– А ну, отзынь.
Держа кассира на мушке, Костя обходит стол.
– Который ящик?
– Верхний.
И правда заперто, не соврал банковский. Куда ему баки вкручивать: вон, в угол забился, рожа белей извёстки. Того и гляди, в ящик с перепугу сыграет.
– Спокойно, дядя. Стой, не мельтеши. Дыши ровно, я разберусь.
Зря, что ли, Филин фомку в кармане носит? Пригодилась, родимая. Стол на вид солидный, а замо̀к на ящике хилый: крак! – и готово.
– Этот ключ?
– Он самый, не извольте сомне...
– Сейф где?
– Там.
– Где «там»?
– Вы только не стреляйте! В зале сейф.
– Зал где?!
– В кассовом зале! Там, где ваши. Сзади, за перегородкой.
– Веди.
Гро̀ши, думает Костя, топая обратно. Теперь заживём! Студент Дуняшу за себя возьмёт, хату на Москалёвке поставят... Он прямо видит её, Дуняшину хату. Белёные стены расписаны васильками, в красном углу – иконы и вышитые рушники. Да, и люстра. Электрическая! Люстра обязательно – в горнице, над столом.
3
«Присягу, должно быть, принимают.»
Губернский город Х встретил Алексеева метелью.
– Носильщик!
– Здесь, ваше благородие!
– Извольте взять мой саквояж.
– С нашим удовольствием!
Фуражка с кокардой. Смазные сапоги. Брезентовый фартук поверх тулупа. Гулкий нутряной бас. Ухмылка, блеск зубов. Борода раздвоена, как хвост ласточки. Машинально фиксируя в памяти детали колоритного облика, Алексеев глядел, как носильщик подхватывает саквояж – ничтожная ноша для такого медведя! – и вразвалочку топает по перрону, озираясь через плечо: следует ли за ним пассажир?
– Не отставайте, ваше благородие!
– Что это у вас? Никак, ремонт?
– Ага, строимся. Аккурат в прошлом годе начали-с. По проекту господина Загоскина, Илиодора Илиодоровича, дай ему бог всяческого здоровья...
– Так ты, я вижу, братец, человек образованный? В курсе событий?
– Шутите, ваше благородие? Наши науки – ноги да руки! А Илиодора Илиодоровича я знаю, не без того. У ихнего брата Сергея Илиодоровича особняк на Мироносицкой, моя благоверная там в прислуге. Когда к ней захаживаю, мне чарочку подносят. И калач дают на заедки. Было дело, летом трухлявый клён падать вздумал, так я держал, пока детей из сада не повыгоняли. Спину по сей день ломит, ну да ничего, оклемался. Сергей Илиодорович меня назвал Ерусланом Лазаревичем и велел заходить, не чинясь. Вы не знаете, ваше благородие, кто он таков, этот Еруслан?
– Богатырь он, братец. Славный и могучий.
– Богатырь? А я, дурак, боялся, что жид.
– Отчего жид, если Еруслан?
– Так ведь Лазаревич! К Сергею Илиодоровичу товарищ приходил, тоже из строителей – Мелетинский Моисей Лазаревич. Он жид, я точно знаю...
Витязь, подумал Алексеев. Ох, не везёт тебе, витязь. Как пряму ехати – обрезану быти.
В вокзале царила неразбериха. Сновали рабочие, таскали доски, носилки с кирпичом, ведра раствора, изразцы для облицовки стен. Пассажиры, прибывшие на поезде, и местные, кто явился встречать друзей и родственников, путались в лабиринте строительных лесов, уворачивались от мальчишек-посыльных, бранились, когда сверху на них сыпалось, шлёпалось, падало. Если дело и не заканчивалось смертоубийством, так только чудом. Где-то играл оркестр, но Алексеев не видел, где. Вальс «Le sang Viennois» кружился в метели роем июльских бабочек, вдохновенный Штраус вливал венскую кровь[6] в жилы провинциального вокзала, и контраст с грязью и суетой был таков, что хоть сейчас на сцену. Носильщики, скрипки, рабочие, виолончели, раствор, валторны, посыльные, альты; всклокоченный начальник станции размахивает руками, бежит вприпрыжку, на три четверти, и лицо его, как и вальс, задорное, сентиментальное, всё сразу...
– Берегись, ваше благородие!
– Что ещё?
– Тут ступеньки. Обледенели, мать их...
Спотыкаясь, оглохнув от шума, втянув головы в плечи, они выбрались на Архиерейскую леваду, так и не привыкшую к гордому имени Привокзальной площади. Отец Алексеева помнил леваду сущим болотом, через которое весной и осенью бросали дощатые мостки – иначе не переберёшься, завязнешь в трясине. Здесь пасли скот, а на огородах выращивали овощи для святых отцов, стоящих во главе местной епархии. Сам Алексеев левады не застал, город выкупил её у церкви, когда Алексееву исполнилось шесть лет, но позже отец привез пятнадцатилетнего гимназиста Костю в город Х – сперва не сюда, а в Григоровку, на вокзал уже потом – и площадь в том дождливом апреле вполне сгодилась бы и для выпаса овец, и для рядов бокастой капусты.
Оглянувшись, Алексеев едва не упал и помянул Господа всуе. Скромное двухэтажное здание, каким он помнил вокзал, из замухрышки превратилось в натурального Еруслана Лазаревича – раздалось вширь, выросло вверх, раскинуло ярко-желтые, как летний одуванчик, крылья. Центральную часть богатыря венчал красный шлем – купол, более уместный на церкви, нежели на вокзале. Ветер крепчал, снег буйным смерчем вился над куполом, и казалось, что вьюга-насмешница воздвигает над храмом прогресса сияющий крест.
– Куда багаж нести, ваше благородие? На конку?
– На биржу[7]. Где сейчас извозчики стоят?
– Ванькѝ[8]-то? А там же, где и прошлый год. Идёмте, тут рядышком.
Он оглянулся во второй раз. Конечно, не надо было этого делать. Во всякой порядочной сказке оглянулся – пропал. Что я вижу, подумал Алексеев. Что? Вечер. Вокзал. Желтые, местами недокрашеные стены. Купол цвета кирпича. Вьюжный крест. Суета на ступеньках у входа. Вызывающе пустая площадь. По краям, в кулисах, сгущается первая, ещё робкая тьма. На переднем плане, у рампы – носильщик с приезжим. Надсадно гудит паровоз, уходя в депо. Из левого крыла здания, ослабленный стенами, доносится шум строительства. Я знаю, как это выстроить понарошку – так, чтобы получилось взаправду; нет, лучше, чем взаправду. Я знаю, я этого не сделаю. Я больше никогда не стану этого делать.
Я что, всё-таки принял решение?
Похоже, что да.
Он смотрел на вокзал так, будто прощался с жизнью. Не с жизнью вообще, а с одной из дорог, открывшихся витязю. Может быть, это и значило для Алексеева: с жизнью вообще.
* * *
– Куда едем, барин?
– На Епархиальную.
Низкие сани. Гнедая кобыла. На спине – снег горой.
– Три гривенника.
– Шутишь? Я за двадцать копеек в Москве езжу.
– Далеко ездишь? Со двора, небось, на улицу?
– Из Денежного переулка в университет.
Извозчик добродушен, мягок, развалист. Рубаха-парень. В годах, но крепок. Хоть в сани запрягай, вместо кобылы. Борода лопатой. Упала на грудь, блестит серебром.
– Так то в Москве, барин, – хмыкает он с таким великолепным презрением, как если бы говорил не о Москве, а о замшелом Глухорыбинске в Серпуховском уезде. – У вас там переулки Денежные, улицы Рублёвые. А у нас жизнь простая, бедная: пуд овса – семьдесят копеек, кобылу подковать – десять копеек с ноги. Три гривенника, и поехали.
– Два.
– Хочешь дешевле, езжай на конке.
Синий армяк ношен и переношен. Свисают длинные полы. Тумба складок на заду. Из подбива наружу лезет вата. Треух свирепо лохмат. На плечах, на шапке – снег.
«Подробности – главное, – утверждал Гёте, знаток ангельских хоров и дьявольских ухваток. – Подробности – Бог.»
– Топай пешочком на Екатеринославскую, – извозчик машет рукой через всю площадь, в сторону моста. – Там у них стоянка. Пять копеек по прямой, семь с пересадкой. Тебе на Епархиальную?
Он переходит на «ты». Мол, чую, что клиент соскакивает. Чую и нимало тем не беспокоюсь.
– Да.
– До Ветеринарной довезёт. Дальше пешком. Ты, главное, не замёрзни, пока дождёшься. Редкие они ввечеру, эти конки. Нет, ты глянь, а! Метёт, аж страшно. Скажешь, весна? Зима, чтоб её черти взяли.
– Два гривенника с пятаком.
– Садись, барин, уговорил. Ножки укутай, там у меня овчинка лежит.
– Медвежьей полости не припас?
– Медвежья у нас только болезнь. Вижу, ты торговаться мастак, аж завидно. Купец, а? С виду и не скажешь, с виду прямо твое превосходительство...
– Канительщик.
– Ну, не хочешь говорить, и не надо. Эх, сани, едут сами!
Пошли, поехали, полетели. Кобылка тянула на славу. По Екатеринославской, мимо Дмитриевской церкви, пожарной каланчи, музыкального училища. Из окон училища, несмотря на позднее время, звучало фортепиано: ноктюрн Шопена. Вплотную к саням – еле увернулись! – прогрохотали железные колеса. Конка, запряженная парой храпящих коней, шла по маршруту. Опаздывала: кучер выжимал из упряжки последние соки. Зимний вагон с бортами и крышей был битком набит пассажирами, как бочка – селёдкой. Позади свисали мальчишки, брызгали заливистым хохотом. Алексеев втайне порадовался, что взял «ванька̀». Говорить об этом вслух не стал: извозчик и так всё понимал наилучшим образом.
Свернули у «Гранд-Отеля». Выбрались на Николаевскую площадь: биржа, полиция, Дворянское собрание. В окне Волжско-Камского банка, ярко освещённом электричеством, маячили служащие: три-четыре человека, отсюда не разглядеть. Воздев руки к потолку, они переглядывались со значением. Мизансцена была высокопарной и нарочитой – такими грешат провинциальные театры.
– Что это они?
Извозчик оглянулся через плечо:
– Не могу знать. Присягу, должно быть, принимают.
– Присягу? Какую?
– Не могу знать.
– Из солдат? – спросил извозчика Алексеев.
Банковские служащие уже перестали его интересовать. С площади сани бодро вылетели на Сумскую улицу, мощеную крупным булыжником, и Волжско-Камский банк скрылся из виду.
– Так точно, вашбродь! – отрапортовал извозчик, помолодев лет на двадцать. Речь его изменилась, из добродушной превратившись в казённую. – Фельдфебель Черкасский, Двенадцатый драгунский полк. Из кантонистов[9] мы...
– Так у тебя же, небось, пенсион?
– Есть пенсион, как не быть. Сорок рублей, грех жаловаться.
– Что же ты извозом промышляешь? Сидел бы дома, пил бы чай.
Сорок рублей, отметил Алексеев. Красильщик на шерстомойне получает тридцать. Бутафор в театре – пятьдесят. Учитель гимназии – восемьдесят пять. Действительно, можно пить чай.
– Скука дома, – честно ответил извозчик, перекрикивая стук копыт. – В могиле, и то краше. Дети выросли, разбежались. В хату носа не кажут. Старуха в голове дырку языком проела. От чая брюхо пучит. А так и с людьми поговоришь, и проветришься, и лишней копейкой разживешься. Паберегис-с-сь!
4
«Левольвертом грозился!»
Дело было на мази.
Со второй попытки – руки тряслись – дядя открыл сейф. Теперь он сидел в углу прямо на полу: хрипел, держался за сердце. Ничего, решил Костя. Удар не хватил, и ладно, оклемается. Кассиры помоложе выгребали из сейфа пачки ассигнаций и банкноты россыпью, сваливали на стойку. Костя покрикивал на них, чтобы торопились, ссыпа̀л гроши в мешок. Кое-что, ясное дело, прилипало к рукам. Гастрит заметил, но смолчал, даже усмехнулся в усы – как почудилось Косте, с одобрением.
Одобрение Филину не понравилось. В голове, как в кулаке, забилась, зажужжала назойливая муха тревоги. И тут же за окнами взорвались пронзительные свистки.
– Шухер! Фараоны!
Костя вздрогнул. Вот тебе и «на мази»!
Чернявый шпендрик, дежуривший у дверей, сорвался первым. Остальные – следом. Филин замешкался: сунул в карман пачку карасей[10]. Он уже собрался рвать когти, когда внизу тяжко грюкнуло: раз, другой.
– Гады! – взвизгнул шпендрик. – Законопатили!
Топот, крики, отчаянная ругань. На первом этаже зазвенело разбитое стекло: похоже, налётчики выбирались через окна. Свистки сделались громче, будто свистели уже в само̀м здании. В ответ захлопали выстрелы.
Кто-то ухватил Филина за рукав. Костя отшатнулся к стойке, вскинул револьвер.
– Сдурел, ё?!
– Тьфу на тебя! Чего надо?
– Ноги делать надо. – Ёкарь сгрёб со стойки банкноты, сколько сумел ухватить, и затолкал в карман. – Надо, ё!
– Так делаем!
Словно очнувшись от кошмара, Костя оторвал взгляд от россыпи купюр. Рванул к дверям, ведущим на лестницу, но Ёкарь поймал его за плечо:
– Не туда! За мной!
Он увлёк Филина в боковой коридор. Горячо шептал на бегу, плюясь Косте в ухо:
– Хай нам на пользу. Пока шухер, мы задами уйдём! Понял, ё?
– Второй этаж? – усомнился Костя.
– А фараонам в лапы лучше?
– Не лучше.
Со второго удара он вышиб ногой дверь случайного кабинета. Внутри было темно, но снаружи пробивался жёлтый свет фонаря. Его хватило, чтобы разглядеть высокое окно и стол, придвинутый к подоконнику. На стол Филин взлетел, оправдывая кличку. Дёрнул верхний шпингалет – раз, другой. Ёкарь возился с нижним. Захрустела бумага, которой на зиму заклеили раму, окно с треском распахнулось. Морозный воздух обдал разгорячённое лицо. Изо рта вырвался клуб пара.
Костя быстро оглядел двор. Вроде, никого.
– Шо под стеной, ё?
– Сугроб намело.
– Ну, с Богом!
Филин торопливо перекрестился и, зажмурившись, сиганул вниз. Падение вышибло из него дух, задница взвыла от боли, левую лодыжку как из нагана прострелили. Отплёвываясь, Филин выбрался из сугроба. На обжитое, можно сказать, нагретое место ухнул Ёкарь. Нога болела, но ничего, идти можно. Какой там идти – бежать! Костя ускорил шаг и споткнулся – в глубине двора, рванув натянутые нервы, приглушённо ахнул выстрел.
Не сговариваясь, оба припустили прочь. Двор, улица. Подошвы ботинок скользят по обледенелой брусчатке. Подворотня. Ещё двор, проходняк, переулок. Отчаянно кололо в боку. Костя остановился, согнулся пополам, храпя словно загнанная лошадь. Навострил уши: ни стрельбы, ни топота казённых сапог. Свистки, и те смолкли.
– Ушли, ё, – выдохнул Ёкарь.
Костя промолчал, чтобы не накликать.
– У тебя смолить есть? Подыхаю без курева!
– Ё, – подсказал Костя.
– Ё, – согласился Ёкарь.
* * *
Как вскоре установит следствие, пока налётчики держали на мушке кассиров и потрошили сейф, в банке прятались ещё трое: двое служащих и управляющий. На его счастье, управляющий перед налётом отлучился в клозет по большой нужде – и просидел там до конца налёта, а после ещё сорок минут, во избежание. Городовым пришлось сильно постараться, чтобы убедить Станислава Евграфовича: опасность миновала, можно выходить.
Служащие, напротив, повели себя достойно. Мошевский Андрей Спиридонович поднимался по чёрной лестнице, когда из кассового зала донеслось: «Руки вверх! Это налёт!» Мошевский бегом кинулся обратно, но спасаться не стал, а первым делом поднял тревогу и предупредил сторожей. Предупредив же, благоразумно покинул здание банка.
Не имея огнестрельного оружия, сторожа кликнули ближайших городовых, каких удалось сыскать, а также дворников, коим вменялось в обязанность оказывать помощь городовым в случае необходимости. Вместе они перекрыли парадный вход, наискось вставив дюймовую доску в наружные ручки дверей – дабы грабители не сбежали с похищенным. После чего городовые свистками принялись звать подмогу.
Второй служащий, Лаврик Иосиф Кондратьевич...
Нет, ещё не время. Обо всех в свой черёд.
* * *
Двоих повязали сразу. Едва из окна выскочили – сбили с ног, ткнули мордами в снег, заломили руки за спину. Васёк Тёсаный взялся палить в городовых. Ни в кого не попал, зато городовые попрятались, от греха подальше. Лишь свистели из укрытий так, что уши закладывало. Тёсаный с Хробаком кувыркнулись наружу, рванули в разные стороны. Бабахнул пугач Хробака – нормального ствола тому не досталось. Кто-то бросился Тёсаному наперерез, и Васёк, не целясь, выстрелил. Попал или нет, но человек шарахнулся прочь. Сломя голову Тёсаный ломанулся вниз, под уклон, быстро набирая скорость и молясь об одном: не дай бог поскользнуться! Отшатнулся в сторону прохожий, белый от испуга, зашлась визгом дура-баба. Вихрем промчавшись по краю Николаевской площади, Васёк нёсся куда глаза глядят, не чуя под собой ног. В мыслях он благодарил Гастона за подаренный револьвер – своего у Тёсаного не было. Без ствола уже как пить дать повязали бы, а так – поди-возьми!
На перекрёстке он чуть не попал под сани. Вывернулся чудом, провожаемый матерной руганью извозчика, нырнул в Плетнёвский переулок. Сердце заходилось в груди, кипело отчаянной радостью: ушёл!
Ушёл!
У Подольского моста Васёк с размаху налетел на какого-то мужика, здоровенного как ломовой битюг. Не долго думая, мужик съездил Васька кулаком по уху. Набатом грянул церковный благовест, голова пошла кру̀гом, из глаз брызнули искры. Тёсаный едва устоял на ногах. Остервенело ткнул в злодея стволом револьвера, нажал на спуск. В ответ раздался сухой щелчок.
– Ах ты, сука! Душегуб!
Мужик замахнулся вновь, но Васёк успел раньше: врезал гаду револьвером по роже. Брызнуло красным. Откуда-то сбоку Тёсаному по второму разу прилетело в многострадальное ухо, а с другого бока – в скулу. Мужик оказался не один, а с приятелями. Васёк не удержался на ногах, упал, и его стали пинать сапогами.
– Пр-р-р-рекратить!
Ну, прекратили. Не сразу.
– Кто такие?! Почему драка?!
– С завода мы...
– С Трепковского...
– Со смены домой идём...
Голоса бубнили, сливались в неясный хор.
– А этот налетел...
– Убить хотел!
– Левольвертом грозился!
– Мы ему и вломили...
– Шоб знал...
– Револьвером, говоришь? Где его револьвер?
– Да вот он!
Толкаясь, рабочие выудили из сугроба оброненный револьвер. Подали околоточному надзирателю, чьи сапоги со значением переминались перед Васько̀вым носом, не суля добра.
– Поднимите его!
Тёсаного подхватили под руки, вздёрнули, встряхнули. Помимо воли он взглянул на фараона. Архип Семичастный, старый знакомец, сопел, шмыгал носом-картошкой. Широкое лицо его расплылось в усмешке:
– Молодцы, парни! Я за ним и гнался.
– Так, может, добавить? На добрую память?
– В участке добавим.
– Кто же он таков?
– Василий Нежданов, жулик первостатейный. Теперь ещё и бандит, выходит. Ну, теперича остальных живо прищучим! Перво-наперво дружка евойного, Лёху Хробака – рупь за сто, вместе грабили. А этого давайте в участок, тут недалеко...
Лёху Хробака, по паспортной книжке Галкина Алексея Егоровича, мелкого базарного воришку, а также известного горлопана и паникёра, проживавшего по улице Кузнечной с матерью и отцом-инвалидом, горьким пьяницей, взяли прямо на дому̀. Удрав от погони, Лёха не нашёл ничего лучшего как спрятаться под кроватью.
Извлекали его втроем: упирался.
_________________________________________________
[1] Надпись на камне. Картина В. Васнецова «Витязь на распутье».
[2] Адюльтер (фр. Adultère) – супружеская измена, неверность.
[3] Бока̀ – часы на блатном жаргоне («фене») XIX – начала XX в.в.
[4] Ветошник – человек, не принадлежащий к преступному миру.
[5] Ракло – босяк.
[6]Le sang Viennois – «Венская кровь», вальс И. Штрауса.
[7] Место стоянки извозчиков называлось биржей.
[8] Ванька̀ми звали извозчиков. В городе Х это звучало не как «ва̀нька», а как «ванько̀».
[9]Кантони́сты – несовершеннолетние рекруты, обучавшиеся в военных кантонистских (гарнизонных) школах. Это же название относилось к финским, цыганским, еврейским или польским детям-рекрутам.
[10] Карась – десятирублёвая купюра, «красная».
Глава вторая. «МОЁ ИМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ В ИСТОРИИ»
1
«Бойтесь данайцев, дары приносящих!»
В подъезде пахло котами и картошкой, жареной на сале.
Квартира, ради которой Алексеев приехал в губернский город Х, располагалась на четвертом, последнем этаже доходного дома с мансардой, занимавшей половину чердака. Судя по свету керосиновой лампы, озарявшей крохотное, выходящее на улицу оконце, мансарду тоже сдавали внаём – студентам или художникам. Четвертый, думал Алексеев, поднимаясь по лестнице. Не самый престижный, как, скажем, третий, но из чистых, недешевых. Что я здесь делаю? Ещё неделю назад я и знать не знал ни о доме на Епархиальной, ни о квартире на четвёртом этаже, ни о новопреставленной рабе Божией Елизавете, упокой, Господи, душу её и прости согрешения вольныя и невольныя!
И картошкой пахнет, спасу нет.
Высокие филенчатые двери украшал дверной молоток: лев держит в зубах кольцо. Бронза давно поблекла, покрылась зеленью. Царила тишина, такая, что нарушить её казалось кощунством. Где-то заплакал ребёнок и сразу перестал. Алексеев постучал и ждал долго, невыносимо долго, прежде чем постучать во второй раз. Ему казалось, что там, за дверью, кто-то стоит, стоит с самого начала, беззвучно шевелит губами и не решается открыть.
– Кто там? – спросили наконец.
– Моя фамилия Алексеев. Мне писали, что вы знаете обо мне.
Надо было ехать в гостиницу. Снять номер в «Гранд-Отеле», переночевать по-человечески, отдохнуть, позавтракать в ресторане, выпить кофе, а уже потом, на свежую голову, отправляться на Епархиальную. В письме, полученном Алексеевым от нотариуса Янсона, в числе прочего стояло условие ехать на квартиру сразу же по прибытии в город – якобы такое странное требование диктовалось завещанием покойной хозяйки! – но Алексеев искренне полагал, что никакой нотариус в мире не станет проверять его маршруты на ночь глядя, а если и проверит, не будет корить за мелкое нарушение. Это чудо, что в квартире вообще есть живая душа. Ключей Алексееву не выслали: приехал бы, поцеловал закрытую дверь – и давай, милостивый государь, иди в метель, ищи извозчика по новой! Вечо̀р, ты помнишь, вьюга злилась? Алексеев выругал себя за излишнюю честность. Такие дела всё равно за один вечер не делаются, и за два тоже. С какой радости его понесло сюда прямо от вокзала? Должно быть, попутчик утомил, сбил с хода мыслей...
– Да-да, конечно!
Щёлкнул замок. Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой, в щели блеснул глаз – женский, недоверчивый. Судя по тому, что глаз смотрел Алексееву едва ли не в живот, женщина отличалась малым ростом. А может, присела от страха – об этом Алексеев подумал во вторую очередь и почему-то разозлился. Он поставил саквояж на пол – к счастью, не слишком замызганный – и отошел к лестнице. Оперся спиной о перила, давая себя рассмотреть. Подъезд освещался газовыми рожками, укрепленными на стенах в чугунных держаках. Свет рожки давали скудный, тусклый и угрюмый, но это было лучше, чем ничего.
Сердце подсказывало, что эта мизансцена выразительней. Зрительный зал – напротив, погружен во тьму, спрятан за дверями обстоятельств, у каждого зрителя – своих. Лиц не видно, очертаний не видно, только блестят глаза, сойдясь в один-единственный, готовый съесть тебя целиком глаз. Ты ещё не завоевал их, не подчинил, собрав внимание в фокус. Тебе это только предстоит – любой ценой, иначе беги прямо сейчас, беги и не оглядывайся. Бежать? Это лишнее. Шаг назад, нет, два шага – чтобы не давить, не возвышаться, увеличить расстояние, снять напряжение позы. Между вами – саквояж. Одинокий, кожаный, ясно утверждающий: дорога, хлопоты, усталость. Верхний свет: за спиной и чуть сбоку. Он сглаживает тени, смягчает черты.
Что в итоге? Доверие, расположение, сочувствие.
Это было так же точно, обоснованно и неотвратимо, как то, что французские алмазные фильеры[1], обкатывающие проволоку, по эксплуатационной стойкости в тысячи раз превосходят воло̀ки отечественные из стали и чугуна.
– Открываем, уже открываем!
И на два голоса, словно обитательница квартиры раздвоилась:
– Милости просим!
Дверь захлопнулась, брякнула цепочка. В следующий момент дверь распахнулась так резко и широко, что ударилась краем о стену, сшибив под ноги Алексееву кусок штукатурки. За порогом, перекрывая вид на сумрачный коридор, топтались две женщины: старшая и младшая. Приживалки, вспомнил Алексеев письмо Янсона. Компаньонки Заикиной, мать и дочь. Как их фамилия? Ну да, Лелюк.
– Добрый вечер, Неонила Прокофьевна, – память, выдрессированная с ходу запоминать не только роли, но и техническую документацию, редко подводила Алексеева. – Здравствуйте, Анна Ивановна. Вы позволите?
Запах жареной картошки – жирной, чуточку подгорелой, с репчатым луком – усилился, стал невыносим. От него к горлу подкатывала тошнота, и в тоже время дико хотелось есть – так, что в животе урчало, а во рту скапливалась слюна. Коты проигрывали в этой войне ароматов всухую. Алексеев даже услышал заполошное шкворчание сала на сковороде, но скорее всего, это была игра воображения.
– Ой, вы и скажете! – засуетилась мамаша, прижимая руки к монументальной груди. – Позволим? Мы?! Да что же вы спрашиваете, вы же здесь хозяин...
– Ну, это ещё вилами по воде писано!
– Ой, прямо-таки вилами! Вы проходите, не стесняйтесь...
С дороги они не убирались.
– Как вас величать-то?
– Константин Сергеевич.
– Ну да, ну да, Сергеевич... Очень душеприятно, очень!
– Так я могу войти?
– Ой, дуры мы, дуры набитые, – женщины сдали назад. Разошлись в стороны, прижались к стенам. Явственно чувствовалось, что они боятся до одури, несообразно моменту, что им страсть как хочется стоять плечом к плечу, жаться друг к дружке. – Заходите, раздевайтесь, мойте руки. Как раз к ужину поспели, у нас и водочка есть...
Перспектива водочки слегка скрасила Алексееву настроение. Он предпочел бы другое место и другую компанию, но винить приживалок было не за что, а срывать на них свою злость – недостойно порядочного человека.
Войдя в квартиру, Алексеев переменился. Если на лестничной клетке переминался с ноги на ногу актёр, обладатель редкого хара̀ктерного диапазона от купца Паратова, совратителя волжских бесприданниц, до ревнивого мавра Отелло, скорого на гнев и расправу, то в прихожей уже стоял родной сын коммерции советника, председатель правления Товарищества торговли и золотоканительного производства, фабрикант с личным капиталом в треть миллиона рублей. Взгляд его был цепок, подмечая и сортируя все интересующие Алексеева детали.
– Я смотрю, у вас не холодно?
– Вы раздевайтесь, у нас теплынь! Прямо май месяц...
С показной лихостью Алексеев бросил шляпу на плоский верх дубовой вешалки, поставленной вдоль стены. В дороге он не раз похвалил себя за то, что одолел пустое щегольство, отказавшись от котелка в пользу шляпы из чёрного каракуля.
Снял пальто, повесил на крючок. Примостил в углу саквояж.
– Чем топите, если не секрет?
– Па̀ром, батюшка, па̀ром. Весь дом на паровом отоплении...
– Вот тапочки, – еле слышно прошептала младшая. – Мяконькие.
Алексеев разулся. Тапочки оказались впору.
– Где я могу вымыть руки?
– А я и провожу, – засуетилась Неонила Прокофьевна. – Я и провожу, и полотенечко укажу. Чистое висит, нарочно для вас, батюшка мой...
Водопровод, оценил Алексеев, зайдя в ванную комнату. Небось, и ватер-клозет имеется. И электричество. Газовые рожки в подъезде смутили его, но теперь делалось ясно: дом подключён к электроснабжению. Дом каменный, район хороший, можно сказать, отличный. Считай, подарок судьбы.
Timeo Danaos et dona ferentes[2]?
– За стол, батюшка, за стол! – щебетала под дверью мамаша.
Стол накрыли не в столовой, как того ждал Алексеев, а в кухне. Впрочем, кухня была большая, три человека разместились без труда и даже с комфортом. Запах жареной картошки теперь манил, а не раздражал. Если бы Алексеев верил в мистику, решил бы, что его присутствие в кухне расположило к нему высшие силы – ну, или здешнего домовичка.
– Душевно извиняемся, – зарделась Неонила Прокофьевна. Алексеев был уверен, что его удивление ни единым лучиком не пробилось наружу, но мамаша, похоже, всё хватала на лету. – Матушка велела, покойница.
– Покойница? Велела?
– Елизавета Петровна. Строго-настрого приказала: ужинать в кухне.
– Всегда?!
Тиранша, охнул Алексеев. Салтычиха[3].
– Нет, что вы! Только нонеча, в день вашего драгоценного приезда. Так-то мы в столовой трапезничаем, как люди. Ну, ничего, скоро съедем, по миру пойдем. Будем есть где попало, что придётся...
В голосе мамаши звучали слезы.
Алексеев предпочел не заметить намёка. Присев к столу, он смотрел, как Неонила Прокофьевна, торопясь, чтобы не напустить в кухню холода, открывает окно – и достает с подоконника графинчик с притертой пробкой, охлаждавшийся на морозе. Во избежание катастрофы графин был привязан короткой бечёвкой к гвоздю, вбитому в раму. Окно захлопнулось, лязгнули шпингалеты. Пленника отвязали и со всеми наивозможными почестями водрузили на стол, в самый центр, между домашней колбасой, нарезанной толстыми кружка̀ми, блюдечком соленых груздей и тарелкой капусты, квашеной с клюквой.
– Я разолью?
– Не употребляю, – выдохнула дочь. – Я водички...
– Капельку, – отозвалась мамаша. – Спать лучше буду.
Стоя к Алексееву спиной, туго обтянутой вязаной кофтой, старшая приживалка перекладывала картошку из чугунной сковороды в объемистую фаянсовую супницу. Супница была расписана павлинами и цветущими ветвями яблони. Для Алексеева осталось загадкой, каким образом сочетаются картошка и супница. Похоже, местные правила поведения целиком и полностью определяла «матушка-покойница», исходя из очень сложных соображений.
Алексеев наполнил две рюмки. Дождался, когда приживалки займут места за столом, встал во весь свой немалый рост:
– Покой, Господи, душу усопшия рабы Твоея Елизаветы! И елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости ею и помилуй...
– ...вечныя муки избави и огня гееннскаго, – приживалки вскочили, кланяясь, – и даруй ею причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя...
– И душам нашим полезная сотвори, – решил не затягивать молитву Алексеев. – Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Выпили. Закусили.
Мамаша ела чинно, вздыхая над каждым кусочком. Кусочков было немало, вздохи множились без счёта. Дочь клевала как птичка. Выпили по второй, во здравие собравшихся. Молчание сделалось невыносимым. Выпили по третьей, за прекрасных дам. Хватит, подумал Алексеев. Такие паузы не для меня. Тост за дам предложил он, как единственный мужчина, и сейчас жалел об этом. Если во здравие ещё как-то провоцировало диалог, то прекрасные дамы захлопнули рты приживалок раз и навсегда.
О чём говорить, если не о чем говорить? Когда массовке ставят задачу создать невнятную многоголосицу, статисты начинают повторять эту белиберду – «о чём говорить, если не о чем...» – невпопад и на разные лады. В итоге получается вполне приличный народ, который нет, не безмолвствует.
– Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам нескромным, – салфеткой он вытер усы, жирные от сала. – Насколько я понимаю, дом, в котором мы сейчас имем удовольствие ужинать, доходный. Соседний дом, выше по улице – жилой, в приватной собственности квартировладельцев, а этот предназначен для аренды. Каким же, позвольте спросить, образом покойная Заикина ухитрилась завещать квартиру мне? И нотариус ничего не заподозрил, не заявил протест... Квартира что, выкупленная?
Он рассчитывал на хор протестов. И был немало обескуражен ответом.
– Выкупленная, батюшка, – закивала мамаша. Глаза Неонилы Прокофьевны замаслились, словно она ела картошку не так, как обычные люди, а взглядом. – В полной собственности Елизаветы Петровны. Теперь-то ваша, значит...
– Выкупленная, – чирикнула дочь. – Ваша.
Чудны дела Твои, Господи, подумал Алексеев.
* * *
Квартиры в доходных домах выкупались редко. Владельцы строили дома – серые, каменные, или из красного кирпича – для того, чтобы сдавать помещения внаём, желательно на долгий срок. Подвалы отдавались под склады, первые этажи занимали лавки, магазины, аптеки для казенных служб, на вторых работали швейные, портняжные, обувные мастерские. Третьи этажи, самые дорогие, снимались «чистой» публикой, чаще всего дворянского сословия. Дальше дело шло так: чем выше, тем дешевле. В мансардах, как в городе Х элегантно именовали чердаки, мало-мальски приведенные в божеский вид, селились студенты, художники и нижние военные чины в отставке.
Жильцы доходных домов, вне зависимости от сословий и званий, были едины в главном – они не хотели обременять себя обязанностями по обслуживанию собственной недвижимости, о чём заявляли вслух, не стесняясь в выражениях, при первой подвернувшейся возможности. Слушатели кивали и ухмылялись. Все знали то, о чём «доходяги» умалчивали – ещё больше, чем лень, съёмщиков томила жадность. Они категорически не желали платить государству налоги за свой дом, квартиру или участок земли. Восемь процентов от доходов, шутка ли? Нет уж, в родном кармане денежкам теплее. Сказать по чести, в большинстве случаев это лишало съёмщиков возможности голосовать на выборах в городскую думу, зато позволяло на практике выяснить значение таких сладких слов, как паровое отопление или ватерклозет. Ей-богу, в сравнении с ватерклозетом почетное право отдать свой голос за гласного депутата, наверняка вора и прощелыгу, стоило меньше, чем ничего.
Дома росли как грибы. Нищие с церковных папертей удрали к строительным лесам – там подавали чаще и щедрее. Чернила в городской управе лились рекой – только в прошлом году было выдано триста пятьдесят разрешений на постройки. Цены кусались, по дороговизне жилья губернский город Х занимал третье почётное место после двух столиц. Годовая аренда комнаты с удобствами обходилась в триста рублей – и выше, много выше, в зависимости от местоположения. Цена аренды четырехкомнатной квартиры (столовая, детская, спальня, кабинет главы семьи) в «верхнем» фешенебельном районе начиналась от полутора тысяч целковых – годовое жалование тенора средней руки, верой и правдой служившего музам в опере, или, если угодно, четверть оклада городского головы.
Подарок Заикиной был воистину царским.
– Я закурю? – спросил Алексеев.
Не верю, подумал он. Убей бог, по сей час не верю.
– А и курите, батюшка, – обрадовалась Неонила Прокофьевна. – Курите на доброе здоровье! Матушка-покойница, чай, себе тоже в папироске не отказывала. Так и померла, с папироской-то. Во сне померла, праведница.
2
«Да, грабят! Прямо сейчас!»
Когда в кассовый зал вломились грабители, и главарь скомандовал: «Руки вверх! Это налёт!» – Иосиф Кондратьевич Лаврик, служащий Волжско-Камского банка двадцати трёх лет от роду, как раз наклонился поднять упавший бланк. По этой случайной причине он и не был замечен налётчиками. Пригибаясь, словно под вражеским обстрелом, скрываясь от бандитов за стойкой, Лаврик выскользнул в боковой коридор и закрылся в чулане рядом с кабинетом управляющего.
В чулане было темно, хоть глаз выколи. Пахло то ли кошками, то ли мышами, а может, теми и другими сразу. В носу отчаянно свербело, и Лаврик прилагал богатырские усилия, чтобы не чихнуть и не выдать себя. Со стороны зала до него долетали приказы грабителей, топот и шарканье ног, случайные возгласы.
Слава Богу, не стреляли.
У Станислава Евграфовича телефон в кабинете! Вне сомнений, управляющий слышит, что творится в зале. Должен слышать! Сейчас он позвонит в полицейское управление, вызовет помощь. Управление напротив, через площадь, долго ждать не придётся... Лаврик прислушался. За стенкой царила тишина. Что же управляющий медлит?! Испугался, решил затаиться? А может, вышел куда? Придётся самому, с заходящимся сердцем подумал Лаврик. Он начал собираться с духом, но до конца собраться не успел: в коридоре громыхнули шаги. Скрипнула дверь в кабинет Станислава Евграфовича.
– ...ключ где?
– ...в столе держат-с.
– ...бери и пошли!..
Кабинет пуст, понял Лаврик. Звонить в полицию некому. Так что же? Пусть грабят, пусть забирают всё на здоровье? Уходят с добычей?!
– ...в зале сейф. В кассовом зале!..
– ...веди.
Хлопнула дверь. Шаги удалились в конец коридора. Вот он, шанс! Пока бандиты заняты сейфом, в коридор никто и не глянет. Всего-то и надо: одну дверь открыть, в другую юркнуть.
Лаврик выждал ещё немного, прислушиваясь к голосам из кассового зала. Когда замок сейфа приглушённо лязгнул, Лаврик осторожно выглянул из чулана. Вроде, никого. Три заполошных удара сердца – и он в кабинете управляющего. Замер, прислушался. Нет, не бегут, не грозятся. Не суют под нос револьвер, суля разнести голову...
Телефон!
Телефон в Волжско-Камском банке установили недавно, и шести месяцев не прошло. По всему городу таких аппаратов было раз-два – и обчёлся. В резиденции губернатора, ясное дело, в здании городской думы, у промышленника Трепке, в банках Волжско-Камском и Земельном – и в полицейском управлении. Может, ещё у кого из отцов города – этого Ося не знал. В Волжско-Камском всех служащих в обязательном порядке обучили правилам обращения с чудом прогресса, но до сих пор телефонным аппаратом пользовался один лишь управляющий, и то редко.
Пригодилась наука, подумал Лаврик
– Алло, дайте полицейское управление!..
Он то понижал голос, боясь, что его услышат грабители, то повышал, боясь, что не услышит телефонистка:
– Срочно! Из Волжско-Камского банка звонят. Нас грабят!..
– Вас грабят? Повторите.
– Да, грабят! Прямо сейчас!
– Соединяю...
Слава Богу, в полиции Лаврику поверили сразу. Не сочли за пьяницу или дурного шутника. Спросили, сколько налётчиков. Лаврик не знал. Больше трёх, а насколько больше...
– Выезжаем, – уведомили на том конце провода.
И дали отбой.
Оставалось ждать, пока прибудет полиция. Кабинет Станислава Евграфовича подходил для этого куда лучше вонючего чулана. Вряд ли сюда снова кто-нибудь сунется. Не успел Лаврик утереть взмокший лоб, как снаружи завизжали, заголосили свистки городовых. И следом – крики, топот ног. Неужто примчались?! Вот ведь молодцы! Ну, сейчас полиция задаст жару этим проходимцам!
Звон стекла.
Выстрелы со стороны парадного входа.
За стрельбой Лаврик не сразу расслышал шаги в коридоре. Кто-то уверенно, быстро, но не бегом прошёл к чёрной лестнице. Налётчик? Дождавшись, пока шаги стихнут, Лаврик выглянул в коридор, никого не увидел – и крадучись двинулся следом за неизвестным.
Чего хотел молодой кассир? Проследить за грабителем? Кликнуть городовых? Выбраться из здания, унести ноги от греха подальше?
Увы, этого мы так и не узнаем.
* * *
Мешок оказался вместительным.
Миша Клёст, гастролёр, назвавшийся подельникам французским именем Гастон, смотрел, как в мешок сыплются деньги. Пачки, перетянутые банковскими бандерольками, пригоршни разноцветных ассигнаций, золотые монеты. Мише было не впервой следить, что называется, в три глаза: за кассирами, за дураками-подельниками – ещё отчебучат чего невпопад! – за звуками, доносящимися с улицы. Внутренние Мишины часы, точные как швейцарский хронометр фирмы «Павел Буре», отсчитывали оставшееся время.
Позицию у края стойки он занял не зря. Отсюда просматривался коридор, уходивший к чёрному ходу. В итоге от Миши не укрылось, как некий молодой человек скользнул по коридору и нырнул в дверь кабинета управляющего. Клёст знал, что в кабинете имеется техническая новинка – телефон. Не просто знал – выяснил загодя. «Сейчас будет звонить в полицию,» – с удовлетворением отметил Клёст. Это его устраивало больше чем полностью. Уходить всё равно придётся раньше, ещё до явления полиции. Опасное шевеление вокруг банка Миша чуял нутром. В этом не крылось ни капли мистики – в такие моменты волчьи чувства Клёста обострялись до чрезвычайности, в отличие от слуха тупой бестолковой шантрапы, взятой им на дело.
Скрип снега под подошвами. Сколько людей?
Четверо, может, пятеро.
Голоса. Стук доски, вставляемой в ручки входной двери.
Когда раздались свистки, и рыжий увалень, поставленный на стрёме у окна, запоздало гаркнул: «Шухер! Фараоны!» – Клёст был готов к завершению дела. Дождавшись, пока бо̀льшая часть налётчиков бросится к парадному входу, он прихватил мешок с деньгами, сунул добычу под мышку и тихо скользнул в боковой коридор.
Уходить было рано. Как сказал бы военный, Миша нуждался в отвлекающем манёвре – и очень рассчитывал в этом на своих одноразовых подельников.
Шушера не подвела. Отыграла, как по нотам, отведенные им партии. Гулкие удары в барабан – нет, не открыть жиганам дверь, никак не открыть! Сольная ария и хор: «Гады! Законопатили!» Звон тарелок – разлетелось стекло. Контрапункт рожков и флейт – трели свистков. Крещендо револьверных выстрелов...
Внутренние часы сыграли марш. Вылезла кукушка, уведомила: ку-ку. Не торопясь, но и не мешкая, Миша Клёст прошёл пустым коридором к чёрной лестнице. Спустился на два пролёта, аккуратно приоткрыл дверь. Та скрипнула: петли смазывали, но без лишнего усердия. Миша оглядел двор из-под ладони, щурясь, чтобы не слепил свет одинокого фонаря.
Никого.
Он всё наметил заранее. Семь шагов до сарая-пристройки, где хранятся лопаты, мётлы и прочий дворницкий инвентарь. Встать за углом. Наскоро проверить карманы – не забыл ли чего. Достать из-за пазухи примятую фетровую шляпу-котелок. Расправить, разгладить. Порядок. Лохматый треух – долой. Тяжёлый кожух – долой. Под кожухом Миша был облачён в бежевое пальто-коверкот. Жарко, неудобно, двойная одежда сковывала движения, но игра стоила свеч. Пальто вкупе с котелком превращало усача-деревенщину в преуспевающего мещанина, торгового разъездного агента, как в случае нужды представлялся Миша.
Кстати, об усах.
Поморщившись, Клёст отодрал накладные усы – хороший клей, зар-раза! – и швырнул их в сугроб вслед за треухом и кожухом. Ногой нагрёб сверху рыхлого снега, чтобы в глаза не бросалось. Извлёк из-за пазухи очки-пенсне в проволочной оправе со шнурком, нацепил на нос, завершая перевоплощение.
И услышал за спиной скрип шагов.
Оборачиваясь, Миша сунул руку в карман, нащупал рукоятку нагана. Метель стихла, пуховые снежинки легко вальсировали в жёлтом свете фонаря. Молодой человек, секундой раньше выбравшийся из дверей, встретился с Мишей взглядом и словно на стену налетел: споткнулся, едва не упал, замер как вкопанный. Похоже, он сперва не заметил Мишиного присутствия и только сейчас понял, что во дворе не один. Канцелярский крючок, мамкин любимец: костюмчик в талию, рубашка накрахмалена, на шее – чёрный гробовщицкий «кис-кис». Волосы, блестящие от помады[4], расчесаны на прямой пробор и старательно зализаны в стороны. Ну здравствуй, шустрый телефонист – глаз у Миши был намётанный и память хорошая.
– Что ж вы, милостивый государь? – укорил его Миша. – Без верхней одежды, без шапки? В такую погоду, а?! Замёрзнете ведь.
– Я... я...
– С кем, кстати, имею честь?
– Лаврик, – телефонист стушевался. – Ося.
– А по батюшке?
– Кондратьевич. Иосиф Кондратьевич. А вы кто будете?
– Миша.
– Просто Миша?
– Ну почему же «просто»? Я Миша Клёст, бью до слёз!
Телефонист от изумления разинул рот. Быстрым движением, шагнув к дураку, Миша сунул ему в рот ствол нагана. От телефониста разило страхом и одеколоном «Лила Флёри». Сталь громко скрипнула о зубы. Молодой человек мотнул головой, словно пытаясь возразить такому беспардонному насилию, но Миша уже нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал глухо, как кашель. Затылок телефониста лопнул, брызнул мокротой. Ноги бедняги подломились в коленях; падая, телефонист сунулся головой вперед и боднул бы рослого Мишу в грудь, не отступи Миша в сторону. Револьвер изо рта покойника он с удивительной ловкостью вырвал в последнюю секунду.
«Оську только жалко, – вторя выстрелу, прозвучал старушечий голос. – Пропадёт без меня. Оську жалко, Осеньку...» Старуха говорила тихо, но внятно, как со сцены. Миша наскоро огляделся: нет, чепуха.
Почудилось.
Двор был пуст, не считая Миши и покойника.
«Ну зачем ты вышел, дурья твоя башка? – с запоздалым сожалением вздохнул Клёст, стоя над мертвецом. – Сидел бы мышкой в норке, не отсвечивал – был бы жив...»
Если Миша мог, он обходился без крови. Но телефонист видел Клёста, когда тот уже сменил внешность. Оглушить? Очнётся, выдаст полиции весь словесный портрет: рост, лицо, одежда, возраст... Выходит, судьба. Был сухой гранд – стал мокрый[5].
Фонарь мигнул, и во дворе остался только покойник.
* * *
Прячась в тенях, он пересёк Немецкую улицу и нырнул во дворы Мещанской. С уверенностью человека, идущего знакомой дорогой к себе домой, свернул в угловой закуток за фабричным зданием ниточной мануфактуры. Под досками, щедро припорошенными снегом, крылась ухоронка, которую Миша устроил здесь сразу же по приезде в город. Завёрнутый в дерюгу саквояж был на месте. Клёст выждал с минуту, чутко вслушиваясь. Стрельба и свистки на Николаевской площади стихли, вечер загустел, превращаясь в ночь. Небо над Успенским собором расчистилось, подмигивая редкими искорками звёзд. Тишь да гладь, да Божья благодать. Словно и не было ничего.
А ничего и не было. Не было!
Клёст пересыпал добычу из мешка в саквояж. Деньги, чтобы влезли, пришлось уминать коленом. Завернув в дерюгу наган, Миша положил его в ухоронку на место саквояжа; заново нагрёб снега, пряча следы. Нагана было жаль. Семизарядный «офицерский» самовзвод – машинка надёжная, точная. Шестизарядный француз «Lebel», дремавший про запас в кармане пальто, ему уступал по всем параметрам. Однако бережёного Бог бережёт, а наган – оружие приметное. Всего пару лет как выпускать начали, мало у кого есть, кроме военных. До Клёста долетали слухи о сыскарях-умельцах, что по пуле и царапинам на ней сразу говорят, из какого ствола пуля выпущена.
Ну что, всё?
«Вот и я готовлюсь, – сказали рядом. Голос был знакомый, старушечий. – Готовлюсь, как умею. Оську только жалко...»
Миша прижался спиной к щелястой стене сарая. Сунул руку в карман, нащупал «француза». Прикосновение к оружию не успокоило, напротив, заставило разнервничаться. «Лаврик, – вспомнил Клёст. – Ося. Иосиф Кондратьевич.» Ему показалось, что кто-то ходит рядом, поскрипывая снегом, будто стволом револьвера о чужие зубы. Ходит, дышит, выжидает удобный момент. Но время шло, скрип стих, если вообще был, а никто так и не объявился.
Больше не скрываясь, Клёст вышел на Немецкую под свет фонарей. Прилично одетый господин с мешком подмышкой может вызвать подозрения. Господин с саквояжем в руке – совсем другое дело. Щёлкнула крышка серебряного брегета: до отправления ночного поезда на Крым оставалось полтора часа. Миша успел бы на вокзал и пешком, но торговый разъездной агент, вне сомнений, поехал бы на извозчике.
– Эй, голубчик!
Он взмахнул рукой, подзывая сани.
3
«Брекекекс!»
Не спалось.
Алексеев ворочался с боку на бок, маялся. Зажег торшер, стоявший между кушеткой и гадательным столиком (вместо ножек – китайские драконы с усами). Нет, не полегчало. Лампу в торшер вкрутили тусклую, грошовую, ради экономии, что ли. Одуревшим мотыльком свет бился в мёртвой хватке абажура, путался в зелёных складках. Тени копились по углам, карабкались на верх мебели. Чёрные карлики, цирковые акробаты.
– Брекекекс! – вслух произнес Алексеев.
Он хотел, чтобы вышло как у Водяного из пьесы Гауптмана «Потонувший колокол»: плотски, вульгарно, похотливо. Хотел, да не смог. Вышло как у жабы из «Дюймовочки».
Под спальню Алексееву выделили кабинет хозяйки. Тишина, сказали, уют и кушетка в лучшем виде, уже застелена свежим бельём. Если по нужде, так water-closet в коридоре, напротив кабинета. Не стесняйтесь, будьте как дома. Хлебнув лишку, мамаша Лелюк забыла, что гость и так здесь как дома, согласно последней воле умершей. Алексеев не стал её поправлять. Ещё удивился втихомолку, почему кабинет, если в квартире с гарантией есть настоящая спальня, хозяйкина. Потом сообразил: представил, как ложится на кровать, где ещё недавно отдыхала покойная старуха, смотрит в потолок, куда смотрела Заикина перед тем, как упасть в объятия Морфея, а позже и Танатоса, закуривает («Так и померла, с папироской-то...»), задрёмывает («Во сне померла, праведница...»), весь в мыслях: проснусь или нет? Это хуже, чем чужую пижаму надеть, нестираную. Алексеев всегда возил в багаже пижаму, даже в короткие поездки, без ночёвки – на всякий случай. Был брезглив, знал за собой грешок. Нет уж, лучше кабинет. Хотя могли спальню хотя бы предложить, из вежливости. Или здесь картошка в супнице, а чужой мужчина – в кабинете?
Ещё бы на ключ заперли, чтобы на девичью честь не покусился. С них станется...
– Брекекекс!
Он встал, достал из саквояжа пьесу: тот самый «Потонувший колокол» в переводе молодого поэта Бальмо̀нта, тёзки Алексеева. Вернулся на кушетку, открыл машинописную распечатку, переплетенную в картон: треть сделана на «Ремингтоне», блеклая и не слишком-то разборчивая, две трети – на новомодном «Ундервуде». На полях темнели еле различимые птичьи следы – пометки, оставленные карандашом. Список действующих лиц, первая сцена. Фея Раутенделейн расчесывает золотые волосы, зовёт водяного ради потехи, развеять скуку. Пчела, отражение в колодце, прикосновения к волосам, к груди – камертон, исходное противоречие, всё невинность и эротичность.
Чтение не имело смысла: Алексеев знал пьесу наизусть. Но чтение успокаивало. Он протянул руку, взял со столика футляр с пенсне. Нацепил очки на нос, скорчил потешную гримасу:
– Брекекекс! Кворакс, квак, квак, квак!
Получилось лучше, выразительней. Играть Водяного-зануду Алексеев не собирался – если играть, то литейщика Гейнриха – но удачная реплика, как всегда, доставила удовольствие.
– Брошу, – сказал он, глядя в угол, на тихую бессловесную тень. – Ей-богу, брошу. Никакого театра, пропади он пропадом, только семья и производство. Семья на первом месте, клянусь. Маруся, ты мне веришь?
Тень качнула головой. Жена не верила, сомневалась. А если даже и верила... Признай Маруся, что театр понесёт от ухода Алексеева колоссальную утрату, скажи ему, что для искусства его решение – трагедия, сродни трагедиям Эсхила, уговаривай она мужа пожертвовать семьёй, детьми, ею самой, лишь бы сцена не лишилась такого исключительного дарования – и Алексеев оставил бы подмостки с радостью, с куда большим энтузиазмом, чем сейчас, когда для жены эта новость числилась по разряду желанных, долгожданных, утешительных, но не сказать чтобы из ряда вон выходящих. Алексеев даже пытался намекнуть жене, актрисе с тонким акварельным дарованием, на полезность такой реакции – будь это роль, он бы подсказал верный акцент, не стесняясь, но увы, это была не роль. Приходилось действовать обходными путями, в частности, слать письма необходимого содержания:
«Пустой дом — куда деваться? Думал, думал... поехал к Медведевой. Просидел с двух до восьми часов. Обедал, чай пил и все шесть часов проговорил, конечно, о театре. Медведева была необыкновенно в духе. Все выпытывала, почему ты больна, не потому ли, что ревнуешь меня к театру. Я удивился, откуда она знает! Оказывается, что у нее с мужем всю жизнь была та же история...»
Тень пожала плечами. Ксения, сказала тень. Наша дочь умерла в два месяца от пневмонии. Ты в этот день играл Паратова в «Бесприданнице». Кира родилась крепкой, но Игорёк – мальчик слабого здоровья, ему нужен уход. Я одна не справляюсь.
«...прости, может, я сделал глупость, но я признался, что часть твоей болезни происходит оттого, что ты меня не видишь. Вот Медведева понимает мое состояние артиста и мужа и сознает, насколько трудно совместить эти две должности; она понимает эту двойственность, живущую в артисте. Любовь к женщине — одно, а любовь к театру — другое. Совсем два разных чувства, одно не уничтожает другого...»
Тебе не интересны разговоры о хозяйстве, напомнила тень. Ты говоришь, что я становлюсь узкой и пустяковой. Я болею, но ты не веришь, думаешь, будто я притворяюсь. Не верю, только и слышу я от тебя, словно на репетиции. Я не упрекаю, нет. Я – тень, призрак, плод воображения. Будь я настоящей, живой, я вряд ли бы вообще затеяла этот разговор.
«Всё время Медведева почему-то говорила на тему, что я обязан сделать что-нибудь для театра, что мое имя должно быть в истории. Не знаю, для чего она это говорила...»
Медведева, кивнула тень. Ты хочешь, чтобы я ревновала тебя к ней? Обиделась, потому что ты обсуждаешь наши семейные проблемы с чужой женщиной? Твои желания – открытая книга для меня.
«...но мне показалось, что она как будто догадывается о моем намерении или охлаждении к театру...»
Я обессилена, сухо произнесла тень без малейших признаков аффектации. Не от ревности к театру, нет, а от переутомления. На фабрике и в конторе требуют твоей активности. А ты запутался, ты ужасно перегружаешься и устаёшь. Когда я уезжаю с детьми в Андреевку, к твоему брату, ты пишешь мне: «В разлуке не могу даже думать о театре!» Мчишься к нам, приезжаешь, пьёшь чай на веранде, и с этой минуты больше ни о чем не думаешь, кроме как о театре или производстве. Ты есть, но тебя нет. Наверное, мне легче, когда тебя нет. Тогда мне кажется, что ты все-таки есть. Я расчесываю волосы по утрам, выхожу на двор к колодцу, склоняюсь над бревенчатым срубом – «Эй, старый Никельман, взойди же кверху!» – и вижу, как ты поднимаешься на поверхность, брюзгливый и целиком поглощённый самим собой, будто Водяной у Гауптмана.
– Брекекекс! – вздохнул Алексеев. – Кворакс, квак, квак, квак!
Он не знал, что уже спит.
___________________________________________
[1] Фильеры (рус. воло̀ки) – инструмент волочильного стана, в котором осуществляется обжатие металла.
[2]Бойтесь данайцев, дары приносящих (лат).
[3] Салтычиха – Дарья Салтыкова по прозвищу «людоедка». Помещица-садистка, убила и замучила десятки крепостных крестьян. Умерла в монастырской тюрьме, куда была заключена пожизненно.
[4] Помадой называлось средство для волос. Бриолин появится через несколько лет.
[5] Сухой гранд – грабёж без убийства. Мокрый гранд – грабёж с убийством.
Глава третья. «ТОЛЬКО НА ВАС ВСЯ НАДЕЖДА!»
1
«Пр-р-рекр-р-ратить!..»
До поезда оставался ещё добрый час, когда Миша Клёст, деловито отблёскивая плоскими стёклышками пенсне, вошёл в здание вокзала. В губернский город Х Миша приехал неделю назад, и за это время на вокзале ничего не изменилось. Залу загромождали лабиринты строительных лесов, сплошь в извёстке и засохших потёках цементного раствора, похожих на окаменелые наросты лишайника. Огни свечных фонарей и керосиновых ламп, казалось, парили в воздухе под потолком. В глубине залы они сливались в сплошное мерцающее сияние, как поминальные свечи в церкви. С недобеленых небес по лесам спускались на грешную землю ангелы – усталые, измаранные, в облике рабочих, закончивших вечернюю смену. Пассажиры и провожающие всех сословий, носильщики с баулами и чемоданами, служащие в путейских мундирах – хаотические потоки двигались, текли, пенились. Гул голосов, шарканье ног, кашель, ругань. В отдалении пиликнула скрипка; сбилась, умолкла...
«Откуда столько народу? – подивился Миша. – Да ещё на ночь глядя?!»
За тридцать четыре года, прожитых милостью Божией, ему довелось немало поездить. Клёст выучил назубок, как «отченаш»: к ночи жизнь на вокзалах – кроме, быть может, пары столичных – замирает. Дежурный кассир, тройка пьяных сторожей, нищая побирушка спит, кулём тряпья приткнувшись у стены, и больше ни арапа не сыщешь. Ах да, крымский поезд. Видно, не один Клёст собрался на юга̀. В ночное время поезда ходили редко, буквально единицы, особенно зимой, в бураны, но тот, которым Миша намеревался покинуть город, числился в списке исключений. Такой уж маршрут: когда поезд ни пусти, всё одно ночь зацепит.
Потянуло сквозняком, от холода начало ломить затылок. Миша втянул голову в плечи, поёжился и стал решительно пробираться к кассам. Ничего, Оленька, ничего. Уже скоро. Всё закончится, сыграем свадьбу, в Европу съездим, как ты хотела. Италия? Пусть будет Италия. Вернёмся – заживём как люди. Ты, главное, дождись меня, Оленька...
Дородный господин в бобровой шубе отчалил от кассового окошка. Трубно сморкаясь в клетчатый платок, размером годный для церковной хоругви, он спрятал за пазуху картонный прямоугольник билета, и Миша занял место «бобра». Сунул нос в окошко:
– Добрый вечер, любезный. Мне первый класс на крымский.
– Брекекекс! – квакнул кассир по-жабьи.
И выкатил на Мишу белёсые студенистые буркала из-под козырька форменной фуражки.
– Что, простите?!
Блик света мазнул по пенсне. Почудилось: жаба-кассир – мёртвый телефонист из Волжско-Камского. Клёст попятился, знобко передёрнув плечами.
– На крымский билетов нет, извините.
Усталое лицо, оплывшее, как свечной огарок. Скорбные складки вокруг губ. Редкие бровки, водянистые глазки. Никакой не телефонист, даже не похож. И не жаба, разумеется. Примерещится же такое!
– Если первого класса нет, давайте второй.
– Никаких нет.
Для пущего понимания кассир развёл руками.
– Третий?
– Совсем никаких. Разобрали.
– А на когда есть?
Подступило раздражение. Учинить скандал? Привлечь к себе внимание? Нет, никак нельзя. Вокзалы патрулировались «бляхами» – нижними чинами железнодорожной жандармерии. Нарушитель «порядка и благочиния» имел все шансы загреметь до утра в кутузку, чего Миша допустить никак не мог. Объяснить стражам порядка, почему его саквояж доверху забит ассигнациями, не сумел бы и сам Иоанн Златоуст.
– Минуточку...
Кассир зашелестел бумагами. Клёст терпеливо ждал. За ним уже выстроилась очередь – человек шесть-семь. Люди перешёптывались, в их гомоне Клёст слышал осуждение. Для позднего времени очередь была явлением удивительным, чтобы не сказать, экстраординарным. Нервничаю, сказал себе Миша. Надо успокоиться.
– Вам на крымский?
– Желательно.
– Он через день ходит. Послезавтра следующий.
– Бог с ним, с крымским. Какие ближайшие есть?
По большому счёту, Мише было всё равно, куда ехать. Москва, Петербург, Киев... Да хоть в Тамбов или Ростов! Поскорее бы убраться отсюда, а там – лови ветра в поле! Нет, в Ростов, пожалуй, не сто̀ит. Там Клёста могли помнить и опознать.
– Значит, ближайшие. На какие направления?
– Любые! – рыкнул Миша.
И сразу об этом пожалел. Нельзя показывать, что тебе кровь из носу нужно покинуть город. Вряд ли сюда докатилась весть об ограблении, и тем не менее. Клёст приятно улыбнулся, желая сгладить впечатление, и собрался было уточнить, какие направления его интересуют, но не успел.
– Ах ты курва!
Смачный звук оплеухи.
– Я курва?! Ракло поганое!
Миша обернулся исключительно вовремя. Секундой раньше каменщик, могучий детина в свитке из домотканого валяного сукна, вдрызг изгвазданной раствором, от всей рабочей души заехал кулаком в рожу ледащенькому мужичку в драном тулупе. Мужичок, бухой в хлам, майской ласточкой улетел к кассам, и не посторонись Миша, пьяница сшиб бы его с ног. Каменщик и сам не устоял, врезался боком в опору ближайших лесов. Вавилонская башня опасно зашаталась, грозя миру новым смешением языков и рассеянием народов. Сверху посыпалось всякое: засохший цемент, рукавицы из брезента, малярная кисть, изразцы с отколотыми краями. Кувыркнулось вниз мятое ведро, расплёскивая грязную муть на почтенную публику. Отчаянно завизжала дама – отвратительный дождь испортил ей новенькую шубку из чернобурки – и с размаху стукнула каменщика по голове своим ридикюлем:
– Хам!
Каменщик обернулся, ещё не зная, кому обязан тумаком, занёс кулак, но пьяница к тому времени воспрял, восстал из мёртвых и вихрем налетел на обидчика. Матерясь басом и фальцетом, свитка с тулупом сцепились, рухнули под ноги даме, визжавшей как резаная, без пауз. Ридикюль на длинном ремешке превратился в заправский кистень, гуляя по спинам и плечам. Купец с сыном попытались урезонить даму, за неё вступился франтоватый кавалер: жгучий брюнет без шапки, в клетчатом дафлкоте[1]. Франт оказался малый не промах, его тяжелая трость быстро заставила урезонщиков отступить, держась за ушибленные места. Каменщика и пьяницу, катающихся по полу, тем временем разнимали все, кто только вертелся рядом, и разняли бы, да пьянице на подмогу, за версту разя перегаром, подоспели двое приятелей-собутыльников. Быть бы работяге биту нещадно, но братья-строители, проявив трудовую солидарность, бегом вернулись от центрального входа и вступились за своего.
– Ы!
– А-а!
– М-мать...
Драка стремительно разрасталась. В водоворот мордобоя, бессмысленного и беспощадного, вовлекались всё новые участники. Минута, другая, и никто уже толком не понимал, с кем дерётся и из-за чего. Вавилонская башня устояла, люди в свитках и шубах, пальто и тулупах, шинелях и армяках, позабыв о сословиях и условностях, вновь обретали единый для всех, понятный каждому язык: язык пинка и зуботычины, оплеухи и тумака.
Кассир в окошке весь извёлся: пытался извернуться, хоть краем глаза увидеть сей спектакль. Миша и очередь за билетами заслоняли ему обзор. Когда же наконец мечта кассира сбылась, он стал белей извёстки, захлопнул железную дверку на окошке кассы, выкрашенную унылой и серой, как кассирова жизнь, краской – и щёлкнул задвижкой, торопясь отгородиться от светопреставления.
– Пр-р-рекр-р-ратить!..
– ...безобр-р-разие!
– Р-р-разойдись!
И знакомым контрапунктом – пронзительные трели свистков.
Со стороны перрона через залу спешили железнодорожные жандармы – полудюжина усатых молодцев в шинелях поверх синих мундиров, при саблях и револьверах. Штафирка[2], не нюхавший пороху, легко мог спутать жандармов с уланами или драгунами – им полагалась форма со всеми атрибутами кавалерии, кроме разве что шпор. Нижним чинам не так давно вышло послабление: при обходе участка им разрешили шпор не носить. Одинаковые, как на подбор, словно витязи из сказки Пушкина, служители порядка выпячивали грудь, демонстрируя городу и миру бляхи с личными номерами и названием управления.
В железнодорожную жандармерию абы кого не брали. Помимо прямых обязанностей, куда включался обход участка пешком, в любое время года, такой добрый молодец должен был уметь развести пары в депо, проделать все маневры на паровозе, после чего взять состав и вести поезд, пассажирский или товарный.
Встреча с витязями в планы Миши не входила. Сейчас начнут вязать кого ни попадя, остальных потащат в свидетели – нет, на вокзале оставаться было нельзя. Скользнув по краю кипящего человеческого месива, Клёст оставил драку между собой и жандармами. Отвлекая внимание от Миши, драчуны азартно мутузили друг дружку; охали, крякали, вскрикивали, матерились, хватались за расквашенные носы, остервенело били в ответ. Пару раз Клёсту пришлось уворачиваться от случайных ударов, а один раз он даже пнул в колено излишне ретивого буяна, имевшего к Мише несомненные претензии. Захромав, буян отстал и вскоре сгинул в толпе себе подобных.
Всем телом толкнув тяжёлую дверь, Миша вывалился наружу – и земля ушла у него из-под ног. Не земля, конечно – обледенелые ступеньки. Звёзды над головой крутнулись залихватским калейдоскопом, и Клёст чувствительно приложился копчиком об лёд.
Саквояж, впрочем, не выпустил.
Поднялся Миша с некоторым усилием. Держась за пострадавшую часть тела и соблюдая превеликую осторожность, он двинулся прочь от вокзала. Миновав особо скользкий участок, остановился, достал из внутреннего кармана пальто серебряный портсигар, набитый папиросами «Дюшес». Чиркнул спичкой, прикурил и стоял с минуту, вдыхая табачный дым. Ничего ведь не случилось? Ничего. Не удалось уехать сегодня? Уедем завтра. Послезавтра, в конце концов. Всё в порядке. Он ничем себя не выдал. Если что – только с поезда, вот, едва из вокзала вышел.
Чин чинарём, и козырный туз сбоку.
Миша поднял было руку, желая подозвать извозчика, но раздумал. Гостиницы уже закрыты: постояльцев ночью не принимают. Где же встать на ночлег? Вернуться к старухе, у которой снимал угол, когда готовил ограбление? Нет, к старухе нельзя. Старая карга и не признает в элегантном господине своего занюханного постояльца. Удивится, начнет чесать языком, соседки подхватят...
Да-с, проблема.
2
«Вы же хорошо спали?»
Пропала зубная щетка.
Алексеев ясно помнил, как вчера перед сном достал из саквояжа бархатный мешочек, в котором обычно возил средства личной гигиены, и вынул оттуда брусочек миндального мыла фабрики Ладыгина, зубную щётку и круглую жестяную коробочку с «лучшім въ мирѣ зубным порошком Маевскаго, укрѣпляющім десны и придающім зубамъ снѣжную бѣлизну». Последним Алексеев извлёк стаканчик из тонкого мельхиора, отнёс туалетные принадлежности в ванную комнату и расставил на девственно пустой полочке, прибитой под стенным зеркалом. Почистив зубы, он отправился в кабинет и больше его не покидал, если не считать краткий выход по малой нужде.
Все эти подробности, излишние в каком-либо ином случае, вставали перед внутренним взором Алексеева, когда он, придя в ванную утром, смотрел на полку – и не видел ни стаканчика, ни щётки, ранее стоявшей в мельхиоровом гнёздышке.
– Что за чёрт? – вслух произнес Алексеев.
Допустить, что щётку украли приживалки, он не мог. В здравом уме – нет, не мог. Ради стаканчика? Мельхиор дёшев, стоит сущие копейки. Решили, что серебро? Бред, чушь, пустые домыслы! Стаканчика было не жалко, а вот щётки – напротив. Щётку Алексеев в прошлом году привёз из Парижа: костяную с барсучьей щетиной. Свиная щетина была для Алексеева слишком жёсткой и обдирала эмаль, конский волос – слишком мягким, из-за чего плохо чистил, а вот барсук – в самый раз.
Был в самый раз, пока не спёрли.
Хотелось кого-то обвинить. Так хотелось, что всё алиби приживалок, озвученное адвокатом-разумом, судья-злость выкидывал в мусорную корзину. На каторгу, на Сахалин! Хорошее настроение улетучилось, навалилось раздражение, легло на плечи тяжелой, дурно пахнущей тушей. Квартира показалась тюрьмой, обузой, пятым колесом у телеги. Жаль, подумал Алексеев. Спал как младенец, встал бодрым, в прекрасном расположении духа, и вот нате вам!
«Чищу зубы пальцем. Всё равно выбора мне не оставили. Чищу, одеваюсь, съезжаю с квартиры, перебираюсь в отель. По дороге куплю новую щётку...»
В дверь постучали.
Сперва Алексеев решил, что стучат в дверь ванной, намекая на длительность пребывания. Но когда стук раздался во второй раз, понял – кто-то стоит на лестничной площадке, по ту сторону входной двери. Приживалки откроют? Стук не прекращался: деликатный, но настойчивый. Мамаша Лелюк будто сгинула, дочь – тоже, хотя Алексеев, направляясь в ванную комнату, слышал, как они возятся у себя в каморке.
Открыть? Похоже, придётся.
Алексеев порадовался, что одет – боясь смутить женщин, он отправился умываться в брюках и рубашке. Тапки, правда, обуть забыл. Было бы неловко предстать перед нежданным визитёром в пижаме! Прошлёпав босиком через весь коридор, он сбросил цепочку, отпер замок и широко распахнул дверь, задним числом сообразив, что вполне мог бы врезать гостю дверной створкой в лоб.
К счастью, обошлось.
– Доброе утро! Вы позволите?
– Д-да, пожалуйста...
Алексеев посторонился, и гость вошёл в квартиру. Был он без верхней одежды, тоже в брюках и рубашке, хотя и обут, в отличие от Алексеева. Сосед, предположил Алексеев. Немного смущал длинный кожаный фартук с накладным карманом по центру. Для образа добродушного уживчивого соседа, какой сложился у Алексеева при взгляде на гостя, фартук был излишним.
– Как спали, Константин Сергеевич?
– Отлично.
– А я смотрю, вы не в духе.
– Так, пустяки. Зубная щётка пропала.
«Вы меня знаете? – хотел спросить Алексеев. – Откуда?» И не спросил, поддавшись обаянию гостя. Вместо этого зачем-то пожаловался на исчезновение злополучной щётки, хотя еще миг назад и предположить не мог, что станет делиться интимными подробностями с чужим человеком.
– Пропала? – заинтересовался гость. – А где стояла?
– В ванной, на полочке.
– Значит, на полочке... Извините, забыл представиться: Ваграмян. Сапожная мастерская Ваграмянов, второй этаж. Ашот Каренович, к вашим услугам. Если какая нужда в ремонте обуви, обращайтесь без стеснений. Сделаем в лучшем виде, как родному.
Ашот Каренович с улыбкой смотрел на босые ноги Алексеева. Алексеев почувствовал, как его собственный рот расплывается в ответной улыбке.
– Спасибо, учту. Вы, должно быть, к госпоже Лелюк?
– Нет, я к вам.
– Ко мне?
– Разумеется. А ну, покажите мне, откуда сбежала ваша шустрая щётка!
– Прошу за мной.
В ванной комнате, встав перед зеркалом, сапожник долго и придирчиво изучал предметы, расставленные на полке. Предметов было всего два, мыло да порошок, но Ашот Каренович переводил взгляд с одного на другое раз десять, не меньше. Затем он поскрёб зеркало жёлтым ногтем и указал себе за спину:
– Вон ваша щётка, не извольте беспокоиться.
Алексеев проследил за указующим перстом и обнаружил мельхиоровый стаканчик на краю чугунной ванной, прямо у стены. Рядом проходила вертикальная труба водопровода, выкрашенная белилами, и стаканчик терялся на её фоне, превращаясь в невидимку.
– Я его туда не ставил. С чего бы это я, а?
Я что, оправдываюсь, подумал Алексеев. Объясняюсь? С сапожником со второго этажа?! Какая разница, кто поставил стаканчик на край ванной?! Надо поблагодарить, всё-таки он нашёл мою щётку...
– Не стоит благодарности, – сапожник почесал верхнюю губу, украшенную полоской щегольских, аккуратно подстриженных усов. Движение было знакомым: точно так же ноготь скрёб зеркало, вернее, лицо Ваграмяна, отразившееся в зеркале. Складывалось впечатление, что сапожнику без разницы, что чесать – себя или отражение. – Пустяки, право слово.
Кажется, Ашот Каренович был чем-то недоволен. Жестом он указал на щётку, и Алексеев, даже не успев сообразить, что делает, взял стаканчик и вернул обратно на полку, на прежнее место. Затем наклонился, устремил взгляд в мойку, будто в колодец, и позвал высоким, похожим на женский голосом:
– Эй, старый Никельман, взойди же кверху!
После чего сменил голос на хриплый баритон:
– Брекекекекс! Мартышка ты, ну прямо обезьяна! Желток яичный, пигалица, славка! Птенец ты: квак!
– Браво! – Ашот Каренович зааплодировал. – Кто это?
– Фея Раутенделейн и водяной Никельман. Подозреваю, именно Никельман и прикарманил мою щётку. С него, знаете ли, станется.
– Водяной? А что, вполне может быть.
Сапожник просиял, с нескрываемым озорством подмигнул Алексееву – и они вышли в коридор, немного подзастряв в дверях: пропускали друг друга вперёд. Настроение стремительно улучшалось, Алексеев даже не раздражался тем, что беседует с сапожником, будучи неумытым, и изо рта, вероятно, пахнет. Хотелось вести себя по-свойски, без церемоний, хотя с людьми Алексеев обычно сходился не лучшим образом, выдерживая дистанцию.
– Вас устроили на ночь в кабинете?
Алексеев развёл руками: да, мол, есть такая буква.
– Это правильно.
– Почему?
– Вы же хорошо спали? Ну и чудесно. Позволите?
В кабинете Ашот Каренович пробыл недолго. Отодвинул к окну свободный стул, раздернул шторы и попросил Алексеева переставить саквояж с пола на стул. Алексеев спорить не захотел. Впрочем, на стуле саквояж и впрямь смотрелся гораздо лучше. Рыться в нём также стало не в пример удобнее. Алексеев ещё отметил, что играй он роль приезжего, он бы и сам сперва поставил саквояж на пол, затем передумал, воспользовался бы стулом – короче, занял бы себя мелкими действиями, которыми легче лёгкого подчеркнуть общий настрой сцены: утро, лень, мелкое раздражение, бытовые пустяки, возвращение спокойствия...
В квартире было очень тепло. Топили превосходно, на зависть.
– Вот теперь всё как надо, – сапожник сверкнул белыми зубами. Говорил он с гортанным акцентом уроженца Кавказа, но слабым, почти незаметным, если не вслушиваться. – Мой поклон Неониле Прокофьевне. Моё почтение Анне Ивановне. Разрешите откланяться?
– Д-да, конечно...
Закрыв двери за Ашотом Кареновичем, Алексеев долго стоял, не спеша продолжить утренний туалет. Он никак не мог взять в толк, зачем Ваграмяну передавать привет и почтение женщинам через него, Алексеева, человека в общем-то случайного, если мамаша с дочерью наверняка знакомы с обаятельным сапожником, и знакомы ближе всех Алексеевых в мире, какого ни возьми?
Он прислушался. Шорох в каморке стих, женщины сидели тише мыши. Боятся, предположил Алексеев. Кого? Чего? Неужели Ваграмяна?! Алексеев восстановил в памяти облик Ашота Кареновича и с опозданием сообразил, что сапожник похож на отца Алексеева. Если сбрить усики, а волосы полностью высветлить сединой... Да, ещё слегка увеличить нос. Тяжелые брови, строгий, но доброжелательный взгляд. Крупные черты лица, тень под нижней губой. Волевой подбородок, морщины намечены тончайшим резцом; под глазами – еле заметные мешки. И возраст, наверное, одинаковый; вернее был бы одинаковый, если сравнивать Ваграмяна-нынешнего и Алексеева-былого, потому что мертвые не стареют.
3
«Это беспочвенные мечты.»
В начале девяностых – отец Алексеева называл это время «лихими девяностыми» – доход товарищества начал резко падать. Оборудование фабрик безнадежно устарело, конкуренты – местные, а тем паче иностранцы – давили на всех фронтах, технологиями и дешевизной. Желая любой ценой отсрочить крах, а лучше – вернуть товариществу былую славу, Алексеев со всей бесшабашностью завзятого театрала примерил на себя необычную для него роль промышленного шпиона. Весной девяносто второго, когда дороги просохли, а поезда, выбравшись из снежных заносов, наконец-то стали соблюдать расписание, он отправился за границу – сперва в Мюльхаузен, на знаменитые фабрики Шварца и Венинга, затем в Лион, мировой центр золотоканительной промышленности. Предлогом такой поездки стало согласование совместной работы над крупным заказом, настоящей же целью было разведывание секретов лучших предприятий Европы.
В Лионе Алексееву пришлось туго: скрытность местных фабрикантов вошла в поговорку, получить официальное разрешение на осмотр не удалось. Осматривать машины он мог лишь потихоньку, во время дневного отдыха мастеров, ежеминутно рискуя разоблачением. Не брезговал и подкупом: лучшей отмычкой всех замко̀в. Из Парижа Алексеев написал старшему брату:
«Все, кажется, устроилось очень хорошо, и по приезде в Москву я буду знать все, и даже больше. Теперь меня уже не удивляют баснословно дешевые цены заграничных рынков. Папаня поймет, какого прогресса достигли здесь в золотоканительном деле: я купил машину, которая сразу тянет товар через четырнадцать алмазов. Другими словами: с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого -- выходит совершенно готовая. Мастер работает на четырех машинах сразу и производит в день сорок kilo -- т. е. два с половиной пуда, тогда как у нас он вырабатывает в день фунтов десять при самых благоприятных условиях. Узнал также, как можно золотить без золота -- и много, много других курьезов. Очень этим доволен и надеюсь, что по приезде мне удастся поставить золотоканительное дело так, как оно поставлено за границей. Надеюсь, что тогда это дело даст не одиннадцать-двенадцать процентов, а гораздо более.».
Рекордом прежней волочильной техники, принятой в Товариществе, была протянутая сквозь каленую стальную волоку красномедная нить «такой тонины, что на один пуд ее приходилось до семисот верст длины». Машина, приобретенная Алексеевым во Франции, била этот рекорд, как Джеймс Корбетт – Джона Салливана в поединке за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Джебб, свинг, хук с левой, нокаут – нить, выходящая из «француженки», получалась вдвое тоньше.
Спустя месяц удачливый шпион привёз в Москву план технической реорганизации производства, призванный вывести фирму на передовые позиции в мире – семнадцать страниц деловых предложений и расчётов. И что же? На вокзале Алексеева встретил его близкий друг Федотов, антрепренер Малого театра:
– Константин Сергеевич! Отец родной!
– В чем дело? – не скрывая раздражения, поинтересовался Алексеев.
Дорога утомила его. Домой, скорей домой, в Любимовку: горячий чай, укутать ноги пледом... С Федотовым они были на «ты», и внезапная церемонность не сулила добра.
– Все пропало! Только на вас вся надежда!
– Да что пропало?
– Южин слёг!
Как выяснилось из дальнейшей речи антрепренера, сбивчивой и перемежаемой рыданиями, Малый театр в эти дни гастролировал в Рязани. Давали «Счастливца», поставленного по пьесе модного драматурга Немировича-Данченко. Актёр Сумбатов, выступавший под сценическим псевдонимом Южин, играл художника Богучарова – и нате-здрасте, свалился с инфлуэнцей.
– Только вы! Никто иной, как вы!
– Да что я, в конце концов?
– Замена! Кто заменит, если не вы?
– Прямо с колес? Без репетиций?!
– Вот я и говорю: кто, если не вы?
– А как же ваша матушка? – с нескрываемым злорадством напомнил Алексеев, подчеркивая голосом чопорное слово «ваша». – Не она ли, драгоценная Гликерия Николаевна, мне говаривала: «Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, да! Нет тренировки, выдержки, дисциплины...»
Антрепренер пытался возразить, но Алексеев не позволил, наслаждаясь мелкой, но такой приятной местью:
– Я её науку на всю жизнь запомнил: «Нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно.»
– Так матушка и другое говорила, – не остался в долгу Федотов. – Помните? «Играйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем.» А?! Играйте с нами почаще...
Этим же вечером Рязань рукоплескала Алексееву, вышедшему на сцену в роли Богучарова. К счастью, Алексеев не слышал тех слов, которые произнес его отец в приватной беседе с ещё одним Алексеевым – Николаем Александровичем, московским градоначальником. Присутствуй он при этом разговоре, весьма горячем, надо сказать, и настроение его крепко подпортилось бы. Не слышал он и ответа Николая Александровича, своего двоюродного брата:
«У Кости в голове не то, что нужно.»
В Любимовке тайком плакала жена Маруся, баюкая годовалую дочь. Она ждала мужа не меньше, если не больше, чем свёкор ждал сына. Она так и заснула в слезах, прижимая к себе дочь, и во сне видела сцену – чёрный зев хищника, пожиравший семейное счастье.
Впрочем, аплодисменты публики стали Алексееву слабым утешением. В Рязань его, утомленного заграничным путешествием, повезли во втором классе. Пьесу дали, но роль не лезла в голову – отвлекали вагонный шум, болтовня, суета, бесконечная ходьба пассажиров. Ломило затылок, от волнения сжималось сердце. Уединиться в Рязани не получилось: играли в полковом клубе, на маленькой любительской сценке. Вместо мужских и дамских уборных – единственная комната, разгороженная ширмами, и актерское фойе, где был накрыт чай с самоваром. Здесь же, услаждая слух зрителей, занимающих места, бил в барабаны и трубил в трубы военный оркестр. Марши, марши, ничего кроме маршей. Голова разболелась окончательно, играть пришлось под суфлера, который, к счастью, оказался выше всяческих похвал. Выход к публике сопровождался свистом: ждали Южина, а дождались не пойми кого. Алексеев даже ушёл за кулисы, дал себе торжественную клятву без промедления вернуться в Москву, гори «Счастливец» синим пламенем, выругался злым шёпотом – и вышел на сцену опять.
Ничего, отыграл. Больше не свистели, напротив, хлопали.
После спектакля труппа уехала на станцию, но к поезду опоздала. Заночевали в Рязани, ужин экспромтом устроили поклонники. У Алексеева стучало в висках, ноги подкашивались, кровь отхлынула от лица. Со всей возможной искренностью он завидовал Федотовой – актриса годилась Алексееву в матери, но при этом была свежа, подтянута, разговорчива. Боже мой! Она даже кокетничала с офицерами, не разбирая чинов, и молоденькие поручики, а с ними и седые полковники распускали павлиньи хвосты от стены до стены. Каждый считал своим долгом поднести Гликерии Николаевне чаю с мёдом, и она к вящему изумлению собравшихся хлестала стакан за стаканом, лишь бы погорячее. От спиртного, впрочем, отказалась, приняв лишь рюмочку коньяка эриваньского завода Нерсеса Таирянца.
– Я из-за границы, – зачем-то объяснил Алексеев Федотову-младшему.
Оправдываться было нелепо, да и не за что. Напротив, вся труппа должна была благодарить его за подмену Южина. Следовало промолчать, жаль, не получилось.
– Я месяц в дороге. Я устал.
Федотов криво улыбнулся:
– Мама больна, – он пожал плечами: мол, всякое бывает. – У нее тридцать восемь градусов температуры. Инфлюэнца, третий день. Полагаю, от Южина заразилась.
Тренировка, подумал Алексеев. Краска стыда залила ему щёки, миг назад белые как мел. Выдержка. Дисциплина. Вдохновение от Аполлона? Напрасно, батюшка! У Аполлона своих дел достаточно.
Дома его ждали десять казней египетских. Отец бушевал, усадьба сотрясалась от его справедливого гнева. Любимовку впору было переименовывать в Головомоевку. Спасли актёрствующего шпиона пресловутые семнадцать страниц – план реорганизации производства.
– Слияние, – громко произнес Алексеев.
Вклиниться в отцовский монолог ему удалось с трудом.
– Что – слияние? Какое ещё слияние?!
– Слияние с нашими основными конкурентами. Я говорю о компании Вешнякова и Шамшина...
– Продолжай.
Отец внезапно успокоился.
– Оснащение фабрики современными машинами, – развивал успех Алексеев. – Освоение производства позолоченной нити. Она выглядит, как золотая, при этом стоит гораздо дешевле.
– Я тебя слушаю.
– Перестраиваем старые цеха...
– Для этого понадобится новое здание.
– Двухэтажный корпус. Котельную и кузнечную мастерские размещаем отдельно.
– Почему отдельно?
– Они шумят и загрязняют воздух. Далее мы радикальным образом меняем технологию волочения и покрытия изделий благородными металлами. Новые машины обеспечат нам снижение себестоимости продукции и увеличение производительности труда.
– В два раза? В три?
– В десять.
– Это беспочвенные мечты.
Взгляд отца противоречил сказанному. Глаза его уже горели огнём, хорошо знакомым сыну.
– Осваиваем новые рынки, – Алексеев сделал вид, что не расслышал. – Персия, Турция, Индия, Китай. Мода на золотое шитьё у них устойчивей пирамид.
– Рассмотрим на правлении, – буркнул отец. – Там и решим, сможешь ли ты, шалопай, впоследствии возглавить семейное дело.
Возглавить, подумал Алексеев. Когда ещё это будет?
– Вот увидишь, – он хлопнул отчётом по столу, – это непаханое поле...
Урожая, взращённого на этом поле, отец не увидел. Он застал самое начало пахоты: расчеты, сметы, закладка фундамента нового здания. Спустя полгода после рязанских гастролей, в январе девяносто третьего, Сергей Алексеев-старший – потомственный почетный гражданин, коммерции советник и директор правления промышленного торгового товарищества «Владимир Алексеев» – скончался в возрасте пятидесяти семи лет.
4
«Мартышка ты, ну прямо обезьяна!»
– Здесь останови.
– Та шо ж вы, пан ясный? Бачь, яка ожеледь, га?! Я, ить, вас до само̀го вокзалу вiдвезу!
– Сказал – здесь сойду.
Миша Клёст глянул по сторонам, заприметил на краю площади магазин готового платья и соизволил пояснить:
– В дорогу кое-что купить надо.
– О, тодi зовсiм iнша справа, – извозчик сдал назад в прямом и переносном смысле слова. С ловкостью, выдававшей большой опыт, он натянул вожжи, вынудив лошадь совершить воистину балетный пируэт, и в снежном вихре подогнал сани ко входу в магазин. – Тiлькы вы обережненько, га? Як потiм через леваду, тьху ты, через площу пiдете, стережыться! Бачылы, ить, як склызько?
Подтверждая сказанное, на площади случился казус: баба с двумя кошёлками грохнулась на лёд. Толстые ноги в валенках взлетели выше головы, закутанной в платок так, что она напоминала кочан капусты. Из кошёлок посыпалась купленная на рынке снедь.
У Миши заныл ушибленный вчера копчик.
– Благодарю за заботу, голубчик. Вот, держи.
– Ить, дякую, пане...
Щедро расплатившись с извозчиком, Клёст выбрался из саней и направился к магазину. Встал, делая вид, что изучает манекены в витрине. Ничего покупать он не собирался. После бессонной ночи в голове, как в мятом ведре, тяжко бултыхался раствор цемента. Колени подгибались, взгляд мутился, мир вокруг подёргивался туманом, уплывая вниз по течению, и вдруг прояснялся, делался неправдоподобно резким, звонким. Болели глаза, ломило в висках. Мишу бросало то в жар, то в холод. Заболеваю, с вялым беспокойством подумал Клёст. На здоровье он не жаловался, уже и забыл, когда болел в последний раз. И вот на̀ тебе! – одна ночь без сна, и раскис, как мартовский сугроб под солнцем.
Ночь он провёл в трактире. К гулянкам до утра здесь привыкли, никого не гнали – лишь бы клиент ел-пил да по счёту платил. Приличное заведение сыскалось в Гостином дворе, в получасе ходьбы от вокзала – Миша решил пройтись, а когда передумал, не нашёл извозчика. Народу в трактире оказалось немного: в центре гуляла компания бородатых купцов, каждую минуту требуя то водки, то холодца с хреном, то бараний бок; через два стола от них сосредоточенно напивался чиновник средней руки – дымил папиросой, уставясь в одну точку, потом наливал стопку из ополовиненного штофа, выцеживал мелкими глоточками, не меняясь в лице, и снова замирал аллегорией вселенской скорби. Из закуски у чиновника имелось блюдце солёных груздей, да и к тем он едва притронулся.
Клёст занял столик в дальнем углу, пристроил саквояж под ногами и спросил гусиный choucroute garnie, малый графин водки и холодных закусок на усмотрение. Принесли грузди, как чиновнику, селёдку с луком, запотевший графинчик. Первая рюмка пошла ласточкой. Закусив груздем, Миша закурил и откинулся на спинку полукресла. С утра на вокзал, взять билет куда угодно – и прощай, губернский город Х. Пересадка, другая – и здравствуй, Оленька, здравствуй, новая жизнь!
Потом был choucroute garnie – под звучным названием крылась миска квашеной капусты с кусочками тушёной гусятины, шпиком и сардельками; были вареники, которые Клёст заказывать не собирался, но почему-то заказал; был горячий чай – топили в ресторации хорошо, но Миша никак не мог согреться. Особенно зябли уши – хоть водкой их растирай, право слово! Был второй графинчик, затем ему предложили комнату с девочкой, но Миша отказался – знаем мы ваших девочек, проснёшься утром, а саквояж тю-тю! От комнаты без девочки он тоже отказался, а к утру решил, что зря.
Всё равно ведь заснул, прямо за столом.
Никто его не побеспокоил, и саквояж был на месте. Голова гудела – не столько от водки, сколько от дурного сна. Что ему снилось, Миша не помнил, но свято верил – дрянь. Его знобило, Клёст выпил горячего чаю, расплатился и выбрался на улицу. Пора было убираться из города к чёртовой матери.
Лихорадка лихорадкой, а суматоху у вокзала Миша углядел загодя, от магазина. Как и не было ночи, всё вчерашний вечер на веки веков, аминь. Кучками толпились зеваки: переминались с ноги на ногу, сплетничали, курили, мешая морозный пар изо ртов с табачным дымом. Сновали жандармы и полицейские чины: одни торопились в здание, другие выбегали навстречу, перебрасывались скупыми репликами и спешили дальше. Кого-то допрашивали прямо на улице, возле обледенелых ступенек. Трое городовых в шинелях солдатского образца и мерлушковых шапках, чёрных с красными кантами, прохаживались туда-сюда с показной ленцой, демонстрируя служебную бдительность. Из боковых дверей вышел какой-то совсем уж важный чин, оправил расстёгнутую, подбитую мехом генеральскую шинель, накинутую на плечи поверх мундира; жестом подозвал к себе жандарма...
Нельзя, понял Миша. Даже если эта свора и не по мою душу, на глаза им лучше не попадаться. Ну как остановят, начнут допытываться? Спросят документы? Предложат открыть саквояж? Бережёного Бог бережёт: если пошёл гнилой расклад, грех небо гневить, фарт силой ломать. Опыт подсказывал: в таких случаях куда верней затаиться, лечь на дно, переждать, пока всё уляжется. И тогда судьба оглянется, подмигнёт лукаво – лови момент, Клёст, лети вольной птицей, пока не передумала!
Брекекекс, решил Миша, закуривая.
– Брекекекекс! – согласилось отражение в витрине. – Мартышка ты, ну прямо обезьяна!
Свободной рукой Клёст потёр лоб. Брекекекс? Какой, к чертям собачьим, брекекекс?! Гостиница, конечно же, гостиница. Жар, понял он. У меня жар. Надо заехать в аптеку, купить ивовой коры. Выпью отвара, полегчает.
______________________________________________
[1] Однобортное шерстяное пальто с капюшоном.
[2] Штафирками военные презрительно называли штатских.
Глава четвертая. «ВАС ЧТО-ТО СМУЩАЕТ?»
1
«Но Заикина-то какова!»
Родись Лизонька Заикина на пять лет раньше, была бы ровесницей века.
От отца её, обывателя Петра Тимофеевича, умершего от чахотки, когда дочери не исполнилось и девяти, осталась характеристика, выданная околоточным надзирателем: «беспокойного характера, входил в неприличные звания суждения, имеет дух ябеды и расстраивает свое общество.» От матери, повивальной бабки, пережившей мужа всего на год, не осталось ничего, кроме принятых ею младенцев. Да, ещё хибара – от родителей малолетняя Заикина получила в наследство домишко в «мокром месте» у Горбатого моста – без фундамента, на две комнаты с кухней, с кудлатой сукой Трясцей в довесок.
Не на улице, под забором, и слава Богу.
Ну, раз такая комедия, значит, самое время для театра. Вернее, для глухого, заросшего бурьяном пустыря, пастбища лохматых коз, даже не подозревающего, что пришёл ему срок быть Театральной площадью. Ещё при жизни родителей Заикиной здесь заканчивался город. Дальше шёл провиантский магазин, за ним – ров, и наконец – вал. Где же ещё ставить театр, если не здесь?
Tak, сказал поляк Калиновский. Ja, согласился немец Штейн.
И скинулись на постройку.
Лучшего времени, чем декабрь, для открытия театра не нашли. Храм Мельпомены – деревянная мазанка в три яруса с галереей – печей не имел, так что зрители, включая первых лиц города, сидели в шубах, шапках и калошах. «Зябнешь, бывало, – отмечала почтенная публика, – угораешь, зал тёмный, скучный. Здесь дует, там каплет свечным салом. И камня на колонны пожалели. Поставили столбы, окрасили белой глиной!»
Но это почтенная, что с неё возьмешь? Надо быть ближе к народу. Вот, к примеру, вертлявой девчонке Заикиной, тайком пробиравшейся на представления мимо билетёров и капельдинеров, театр казался раем Господним. Она так и сказала великому Щепкину, когда Михаил Семёнович в антракте спектакля «Москаль-Чарiвнык» вышел на перекур. «Хочу, – говорит, – благодетель, в рай, актёркой. Дай дозволение!» Щепкин усмехнулся: «Рада душа в рай, да грехи не пускают! Малолетка ты, подрасти сперва!» Голенастая пигалица сморгнула, удрала бегом за кулисы и принялась там вольной волей шарудить, переставлять реквизит с места на место. Даже на сцену выскочила, дрянь этакая, сальные плошки в кучу сгребла. Её погнали взашей, она бегом к Щепкину, а тот возьми и передумай.
Замолвил словечко, взяли Заикину в труппу статисткой.
Через пять лет ей дали роль в щепкинском бенефисе «Наталка-Полтавка». Заикина к тому времени расцвела, налилась плотью, но, видно, недостаточно – просилась в «Дон Жуана», ей отказали. Порок, как известно, должен быть наказан: в финале трагедии с потолка на канатах спускалась адская фурия и увлекала соблазнителя в геенну огненную. Геенна, между нами, вряд ли находилась на небесах, но спуск фурии сочли куда более выразительным, чем явление снизу, из-под дощатого пола. Заикина спала и видела себя фурией. Узнав, что роль получила соперница, Лизка смолчала и даже не попыталась выдрать гадине все волосы. Такая покорность виделась подозрительной: ждали пакости. И пакость свершилась: на премьере канаты перепутались, фурия подбитой уткой кувыркалась в воздухе, тщетно пытаясь ухватить ошалелого Дон Жуана, и зал вторил этому цирку гомерическим хохотом.
В дальнейшем фурию играла Заикина, без происшествий.
Шли годы, ребром вставал вопрос нового театра. За дело рискнул взяться Людвиг Млотковский, актёр труппы Штейна. В распоряжении пана Млотковского было всё – энтузиазм, поддержка коллег, уважение горожан. Всё, кроме сущего пустяка – денег. И Млотковский обратился к Заикиной, на тот момент женщине зрелой, опытной, тридцати четырех лет от роду. Ясное дело, что деньгами Заикина его ссудить не могла, но про Елизавету Петровну в труппе болтали разное, и Людвиг, смурной от отчаяния, поверил. Заикина выслушала, поставила ряд условий, которые Млотковский принял, не чинясь, и кивнула: хорошо.
Неделю спустя купец Козьма Кузин, обуян демоном филантропии, выдал ссуду на строительство театра – сорок тысяч рубликов, во как, судари мои!
Млотковский на радостях напился, проспался, похмелился и явился к Заикиной во второй раз. Рассыпался в благодарностях, как положено, и пожаловался, что город отказывает ему в участке земли. Заикина погадала ему на кофейной гуще, поскольку карт ещё не приобрела, и сказала, что было, что будет, чем сердце успокоится.
Спустя шесть месяцев городская дума согласилась отвести Млотковскому участок земли для строительства театра. Земля, правда, осталась собственностью города, с ежегодной уплатой налога в двести рублей, но Млотковский от счастья прыгал до потолка. Прыгал, прыгал и напрыгал первый в городе каменный театр на тыщу зрителей. Три яруса, шестьдесят лож, сотня кресел в партере, печное отопление – столицы от зависти прикусили языки. Сцена освещалась не сальными плошками, а керосиновыми лампами – светочами прогресса – и на сцене этой блистала Елизавета Петровна Заикина, любимая дочь муз.
Впрочем, блистать она начала с некоторой досадной задержкой. Архиепископ Смарагд наотрез отказался освящать театр, полагая сие заведение греховным чуть больше, чем сверху донизу. Млотковский кинулся к Заикиной, прося совета, та в помощи отказала – как бы Елизавета Петровна ни кудесила, с архиереем связываться не хотела – но дала совет. «Ты же поляк,» – напомнила она Млотковскому. Поляк, согласился тот. «Значит, католик?» Католик, да. «Ну и обратись к ксёндзу! – гаркнула Заикина. – А Господь сам разберёт, где свои, где чужие!»
Ксёндз прибежал чуть ли не бегом. Он так всегда бегал, когда выпадал шанс сделать что-нибудь в пику суровому архиепископу.
Первый сезон открыли в августе – в декабре пусть дураки открывают! – спектаклем в память актёра Волкова, по пьесе князя Шаховского. Заикина сыграла ни мало, ни много Её Императорское Величество, самодержицу всероссийскую Екатерину II, к которой, как многим было известно, актёр Волков хаживал в кабинет без доклада.
На банкете, устроенном в честь открытия, выпив шампанского, Заикина предрекла, что театр простоит триста лет, если снаружи останется прежним. Ей вняли: знали за Елизаветой Петровной умение глянуть в самую мякотку вещей. Реконструкции театра с тех пор устраивались каждые десять лет – зрители жаловались на плохую акустику и отсутствие фойе, актеры сетовали на тесноту гримерных – но перемены затрагивали лишь внутренние части здания, фасад же оставался практически неизменным.
Когда в левом крыле театра решили обустроить кондитерский магазин Жоржа Бормана, дочь Млотковского – здание перешло к ней по дарственной записи – поступила с умом, первым делом обратившись к Заикиной. Борманы – это было серьёзно, их компания имела право наносить на этикетки государственный герб – двуглавого орла. Кроме престижа, это давало защиту от подделок – просто за подделку купец-мошенник отделывался штрафом, а за подделку герба шел на каторгу. По уму, следовало соглашаться, не раздумывая, но Заикина упёрлась – затребовала планировку магазина, с пристрастием допросила кондитеров, что где будет стоять. В итоге она всё-таки дала добро. В этот же год Заикина купила свою первую колоду карт – «малую девицу Ленорман» – а вскоре и вторую, «большую девицу», с «Наставлением для гадания складными картонками».
Играла она с этого времени всё реже, а гадала всё чаще. Роли сузились до амплуа комических старух, к засаленным «девицам» добавились «Испанец и амазонка», затем карты Таро, стремительно набиравшие популярность. Этой колодой Заикина гадала архитектору Михайловскому, который явился спросить: может ли он придать фасаду театра черты французского ренессанса? Заикина долго бродила по кабинету, перекладывая безделушки с места на место, потом раскинула карты и кивнула: можете, сударь мой!
Архитектор остался доволен, Заикина – тоже. Недовольной осталась только дочь Млотковского – сразу после ремонта фасада она овдовела, потом город потребовал возврата долгов, и Вера Людвиговна сдала театр внаём. Началась многолетняя тяжба по вопросу о возможности заложения и перезаложения здания театра в Городском банке для покрытия долга. Театр отошёл к внучке Млотковского, та затеяла очередную перестройку, уже не справляясь у Заикиной, можно это делать или нельзя, и результат не замедлил сказаться – финансовый крах встал на пороге незваным, дурно пахнущим гостем.
* * *
– Ну, театр, положим, не закроют, – вслух предположил Алексеев. – В крайнем случае отойдёт под городское управление. Но Заикина-то какова! Вас послушать, Неонила Прокофьевна, так театр всем обязан ей, и только ей!
– Святая, – мамаша перекрестилась. – Бог нашептывал.
– Святая, – поддакнула дочь.
Алексеев не ответил. Оладьи Неониле Прокофьевне удались исключительные, а если со сметаной, так и вовсе хоть рта не раскрывай! В смысле, не закрывай. Короче, жуй да помалкивай. Зато мамаша трещала без умолку. С её слов выходило, что на покойнице Заикиной мир стоял, как на черепахе. Сам Алексеев был лишен счастливой возможности видеть Заикину на сцене – когда он впервые посетил город Х, Елизавете Петровне было за семьдесят – но ясно помнил, что никто из здешних театральных деятелей не упоминал при нём актрису-гадалку: хоть в мистическом контексте, хоть в реалистическом.
Ишь ты, фасад нельзя перекраивать!
– Я сейчас уйду, – предупредил он мамашу. – Сразу после завтрака. Выдайте мне ключи, если куда-то собираетесь. Впрочем, выдайте в любом случае, пригодятся. Или у вас нет запасных? Я могу заказать в слесарной мастерской.
– Мы тоже, – откликнулась мамаша.
Реплика прозвучала с загадочным пафосом.
– Что – тоже? Тоже можете заказать ключи?
– Любезный... э-э...
Дочь вжала голову в плечи. Алексеев смотрел на мамашу, раздувшуюся от волнения, как лягушка перед лицом опасности, понимал, чего та ждёт, на какой ответ его вызывает, выталкивает, словно помощник режиссёра – начинающего актёра из-за кулис на сцену. Ладно, решил он. Пускай.
– Констатин Сергеевич. Я уже представлялся.
– Ну да, ну да. Любезный Константин Сергеевич, прошу вас!
Чувствуя, как душевное спокойствие, еще недавно парившее на высоте, стремглав летит под гору, будто мальчишка на салазках, Алексеев покорно тащился за мамашей. Широким жестом Неонила Прокофьевна распахнула дверь в комнату, где проживала вместе с дочерью:
– Вот!
В комнате царил погром. Тут и там валялась разбросанная одежда: платья, кофты, юбки, туфли, пара валенок, калоши, шляпки, давно вышедшие из моды. Бесстыдно открытые взгляду, красовались льняные сорочки, корсет, нижняя юбка с обручем из китового уса, лиф с обвисшими шнурками, панталоны – побольше на завязках, поменьше на пуговицах – чулки шерстяные, подвязки, короче, интимные предметы дамского туалета оптом и в розницу. Нарочно, понял Алексеев. Чтобы я увидел. Хорошо, я вижу. Я даже подчеркну, что вижу. Дамы старались, надо подыграть.
Он выпучил глаза и сипло задышал.
– Вот! – мамаша указала на баул, чьё чрево было до половины набито разномастным барахлом. Реплики Неонилы Прокофьевны не отличались разнообразием, как и жесты. – Не извольте беспокоиться!
Алексеев пожал плечами:
– Я, в общем-то, и не беспокоюсь.
– Вот! Сегодня же мы съедем, будьте уверены!
Щётка, подумал Алексеев. Неужели это она переставила мою зубную щётку? Чепуха, ей-то зачем?
– Куда вы съедете? Вам есть куда перебраться?
Он знал, что скажет мамаша. И не удивился, услышав:
– Это не должно вас беспокоить.
– И всё-таки?
– Моя двоюродная сестра живёт за кладбищем.
– Частный дом?
– Одно слово, что дом. Хата, мазанка, колодец на улице. Муж сестры был против: у них дети, трое, старший летом сыграл свадьбу. Жену привёл, живот огурцом, в апреле рожать! Ничего, разместимся. Родные люди, не кот начихал! Стану за младенцем ходить, отслужу...
– Родные люди, – эхом откликнулась дочь. – Тётя добрая.
Ненавижу, вздохнул Алексеев. Себя ненавижу, всю эту дрянную ситуацию. И ведь знаю, знаю доподлинно, по какому сценарию разыграна оперетка, каждую ноту могу назвать по имени, и тем не менее – ползу в колее, по обрыдшему рисунку роли. Милосердие? Ерунда, причём здесь милосердие! Она давит из меня сочувствие, как сок из яблока, а я просто не хочу выглядеть сатрапом, жестоким тираном, изгнавшим женщин на мороз. Когда родилась Кира, жена стала звать её Кирой Дарьевной, а меня Дарием Гистасповичем[1] – якобы из-за имени дочери, но я-то знаю, почему на самом деле! Качество остроты сомнительное, зато подтекст ясен, как божий день. Перетерпеть пять минут стыда? Потом – квартира пустая, одной заботой меньше? Нет, пятью минутами я не отделаюсь, я знаю себя, самоеда, я буду вспоминать, терзаться, хотеть всё переменить, переиграть... Позже, не сейчас, в другой раз. Я уеду, оставлю распоряжения, всё случится без меня.
– Ну что же вы, право? Куда вы торопитесь?
– Мы женщины честные, – с достоинством произнесла мамаша. Она расхаживала по комнате, лавируя между кроватью (одной на двоих, отметил Алексеев), столиком-хромоножкой и грудами жалкого имущества. Руки Неонилы Прокофьевны жили отдельной, особой жизнью: брали, роняли, перекладывали. Без цели, без смысла, а казалось, что с целью и смыслом. – Нас здесь держали из милости. Теперь другое дело, теперь Елизавета Петровна, светлый ангел, в раю, пряники кушает. А наша дороженька...
Она замолчала. Поднесла платок к сухим глазам. Слова «...в самое пекло» повисли в воздухе. Два воздушных шара, больших и чёрных, и один шарик поменьше. Узкий луч софита подбирался к ним, будто спица.
– Успеется, – отмахнулся Алексеев. – Положите вещи на место.
Больше всего на свете он желал прекратить скользкую сцену, задёрнуть занавес и убраться из квартиры прочь. Квартира Заикиной вдруг показалась ему западнёй, ловушкой, из которой следует бежать, от которой следует избавиться, и как можно быстрее. Написать дарственную? Оставить жильё двум несчастным женщинам? Репортёры растащат благодеяние по газетам, мир умилится, вытрет скупую слезу...
Сам не зная, зачем, он толкнул ногой баул, задвинув его под стол, и наваждение рассеялось. Я деловой человек, сказал себе Алексеев. Меня театром не напугаешь. Да ещё таким пошлым театром! Пусть живут, пока я вступлю в права. Захочу сдать или продать квартиру – велю съехать. И даже не я велю, а доверенное лицо. Поручу брату, Юра местный, ему и приехать не в труд, и связи опять же, знакомства...
– Благодетель! Отец родной!
Приживалки рассыпались в благодарностях, напрочь теряя лицо, столь неумело созданное предыдущей картиной отъезда. Не слушая восхвалений, Алексеев вышел в коридор. В гостиницу, думал он. В гостиницу, сейчас же.
2
«Не кот, тигра лютая!»
– Прощения просим, нет свободных нумеров.
– Как нет?
– Как есть, нет! То есть совсем.
– Ни одного?
– Ни единого!
«Большая Московская», расположенная на углу Клочковской и Купеческого спуска, была не первой гостиницей, в которую Миша пытался поселиться. Вот вам и большая, в сердцах плюнул Клёст, выходя из гостиницы вон. Большая, малая, а мест всё одно нет! Злым волчарой налетел ветер, взвыл, кусая за уши. Втянув голову в плечи, Миша в сотый раз пожалел, что сменил тёплую шапку-ушанку на щегольской котелок. Клёста знобило, трясло. В аптеках, куда он совался, ивовой коры не нашлось. Вместо неё предлагали какое-то патентованное немецкое снадобье по совершенно грабительской цене. При саквояже, полном денег, Миша отказывался: не хотел, чтобы его запомнили богатеньким дурачком. Стакан горячего вина с пряностями в трактире, случившемся на пути, помог, но не надолго. Клёст снова отчаянно зяб, глаза слезились от ветра; он ничего не видел сквозь мутные стёклышки пенсне.
– В гостиницу, господин хороший?
Рядом, лихо взвихрив снег из-под полозьев, остановились сани.
– Да.
Миша поперхнулся табачным дымом, закашлялся.
– Так давайте свезу! Недорого возьму.
Даже не спросив цены, Клёст молча полез в сани.
Ехали недолго. Извозчик, сволочь, заломил три гривенника, но Миша заплатил, не торгуясь. Его уже не интересовало, как он выглядит, кем его запомнят. Что за гостиница? «Астраханская»? Оглядевшись, Клёст с тревогой обнаружил: отель стоит на Николаевской площади, аккурат напротив ограбленного вчера Волжско-Камского банка. Уйти от греха подальше? С другой стороны, кто станет его здесь искать? Может, оно и к лучшему...
Он поднялся по ступенькам, решительно толкнул дверь. Звякнул колокольчик, на Мишу пахну̀ло блаженным теплом.
– Милости просим, проходите!
Запотевшие стёкла пенсне размазали лицо портье, издевательски окружили его радужным нимбом. Мише почудилось: перед ним – убитый кассир, за безвинную гибель возведённый в ангельский чин. Отправили назад, на грешную землю? Донимать своего убийцу?
Нет уж, донимать – это по части бесов.
– Нумер изволите-с?
Не спеша с ответом, Клёст снял пенсне. Протёр стёклышки носовым платком, закрыл глаза, помассировал веки, водрузил пенсне обратно на нос – и лишь теперь взглянул на портье. Кассир? Ничего общего. Ну, кроме волос, старательно напомаженных и зализанных на пробор. Чёрные брюки со стрелками, жилетка синего атласа; самоварное золото пуговиц надраено до ослепительного блеска. Портье – румяный парень с рожей прожжённого плута – изогнулся в угодливом полупоклоне.
– Изволю.
– Сей секунд! Как вас записать прикажете?
Портье исчез, возник за стойкой, раскрыл потрёпанную книгу учёта постояльцев. Обмакнул перо в чернильницу.
– Суходольский Михаил Хрисанфович.
– Чиновник? По купеческой линии-с?
– Разъездной торговый агент товарищества «Владимир Алексеев».
Фамилия, имя, отчество – всё было настоящим, как в паспортной книжке. Вдруг в связи с ограблением полиция учинит в окру̀ге проверку документов? Рисковать Клёст не желал.
– ...Алексеев, – повторил портье, заканчивая писать. – Ну вот, всё в ажуре. Отдельных нумеров, к сожалению, нет...
Убью, подумал Миша. Застрелю из «француза».
– ...но могу предложить вам разделить нумер с Грищенковым Тимофеем Ивановичем, купцом из Самары. Нумер хороший, тёплый, о двух комнатах. Недорогой...
Портье замялся.
– Договаривай, шельмец. Что не так? Грязь? Течёт?!
– Да что вы такое говорите? Нумера у нас отменные, не извольте сомневаться! Другое дело – сосед...
– Что – сосед?
Портье вздохнул:
– Пьющие они. Уж четвёртые сутки как. Гулянки до утра закатывают, прямо в апартаментах. Песни орут, девок требуют, а девки – шампанского. Двух постояльцев споил, которые подселялись. Но ежели вы не против весёлого времяпровождения...
Он заговорщицки подмигнул Мише.
– Против! Ночью я спать хочу.
– Понимаем. Чай, сами ночью спим.
– Других номеров нет? Без купеческих гулянок?
– Тут такое дело-с...
Портье снова замялся. Стало ясно: если другие номера и есть, с ними тоже не всё путём. Миша бросил взгляд в окно: у входа стояли сани со знакомым извозчиком. Похоже, Миша был не первым, кого тот привозил в «Астраханскую». Ждал, пройдоха, знал: надолго здесь постоялец не задержится. А тут и мы, значится: куда изволите? С вас три гривенника, господин хороший...
Звякнул колокольчик. Громко топая, отряхивая снег с ботинок, вошёл фраер одних с Мишей лет. Всё совпадало: рост, комплекция, пенсне, густые, рано начавшие седеть волосы...
«Брекекекс! – услышал Клёст. – Чего хочу? Тебя!»
Неприятный холодок вполз за воротник. Клёст ошалело помотал головой, с опозданием уверившись: губ новоприбывший не разжимал. Да что ж это такое?! То убитый кассир, то брекекекс с изюмом! Выспаться, срочно нужно выспаться: без соседей, без гулянок...
– Милости просим! – портье ковровой дорожкой расстелился перед новым гостем. – Нумер изволите-с?
Клёст шагнул к фраеру:
– Любите ночные гулянки? Водка, песни до утра?
От неожиданного вопроса у фраера встопорщились усы, а брови взлетели под самый обрез каракулевой шляпы. Мише такая шляпа совсем бы не помешала.
– Зависит от компании. А вы, никак, предлагаете?
Молодец, отметил Клёст. За словом в карман не лезет.
– Не я, он, – Миша кивнул на портье. – Я-то и сам не любитель.
В карих глазах фраера блеснуло понимание.
– Сосед-гуляка? Да, я бы тоже отказался.
Портье хотел вмешаться, оправдаться, но фраер остановил его жестом. Жест вышел на загляденье, портье аж язык прикусил.
– Вам сегодня тоже не везёт? Давно селитесь?
– Да уж третий час, – вздохнул Миша.
– Мы с вами коллеги, право слово. В «Асторию» не ходите: мест нет. Я только что оттуда. Съезд горнопромышленников, дерутся за кредиты.
– Благодарю за предупреждение. Увы, «Астория» мне в любом случае не по карману.
Сейчас Мише по карману была любая гостиница, но демонстрировать это он не желал. Откуда у скромного «бегунка» деньги на «Асторию» или «Гранд-Отель»? Туда Клёст даже не совался. «Астраханская» – предел того, что торговый агент мог себе позволить, не привлекая лишнего внимания.
– Ну, тогда тот факт, что в «Гранд-Отеле» прорвало водопровод, вас не слишком огорчит. Полдюжины номеров затопило, да. А я, признаться, огорчился изрядно: на «Гранд-Отель» я рассчитывал. Там и кухня замечательная, и апартаменты...
– «Большую Московскую» вычёркиваем, – не остался в долгу Миша. – Воздух спёртый, я едва не задохнулся. Одна дама так и вовсе в обморок упала.
– Не пойду, и не просите! – фраер замахал руками. – В «Националь» даже не заглядывайте: какие-то башибузуки – небось, конкуренты наняли! – побили едва ли не все стёкла. Представляете? Пока новые не вставят да не протопят как следует, делать там нечего.
– А в «Петербургской», представьте себе, самогонный аппарат стоит! Прямо в центральном холле! Амбре от него – на всю гостиницу. При мне постояльцы жалобой грозили: в полицию, а то и самому губернатору!
– К «Европе» не подойдёшь! Канавы завалены мусором, навозом, уличных фонарей нет...
– В «Санкт-Петербурге» на стенах плесень... И форточек нет!
– В «Вене» провизию хранят рядом с клозетом.
– Что вы говорите?
– Ей-богу! Вонища! И не поймёшь, что воняет больше.
Оба расхохотались. Ощутив внезапный прилив симпатии к товарищу по несчастью, Миша протянул руку:
– Разрешите представиться: Суходольский Михаил Хрисанфович. Торговый агент товарищества «Владимир Алексеев».
– Даже так? – брови фраера взлетели выше прежнего. Лицо его оказалось чрезмерно выразительным, как у актёра. – Алексеев Константин Сергеевич, к вашим услугам. Душевно рад знакомству!
Фраер крепко пожал руку Мише, ошалевшему от такого опасного курьёза, и поинтересовался:
– А вы, простите, по канители агентствуете? Или по шерсти?
– Шерсть, – ответил Миша.
Он чувствовал, что вступает на зыбкую почву. Но если о шерсти Клёст имел хоть какое-то отдалённое понятие, то в канители он разбирался, как свинья в апельсинах.
– У Юрия Сергеевича служите?
– Ну, я птица полёта низкого, на верхах не летаю, – ушёл Клёст от прямого ответа. – Наше дело малое: отправили – поехал, велели – договорился.
Проверяет, напрягся он. Мало ли, вдруг и нет никакого Юрия Сергеевича?
– Как вы полагаете, Михаил Хрисанфович...
Фраер придвинулся, взял Мишу за пуговицу:
– Есть ли смысл перенести мериносовое овцеводство из Донского края в Сибирь? Или лучше в Среднюю Азию?
– Несомненно в Азию, – с воодушевлением откликнулся Миша. – Это прекрасная идея.
– Вот и я так думаю. Спасибо, ваша поддержка для меня очень много значит. Я суеверен, – фраер улыбнулся. – Раз случайный знакомый говорит, что идея прекрасна, значит, так тому и быть. Однако, куда же податься? Ума не приложу!
– Туточки у нас, господа, отдельный нумер есть, – подал голос забытый обоими портье. – На две приятные друг другу персоны-с. Может, вы и заселитесь? Тишины желаете, покоя, уже и познакомиться успели...
Фраер погрозил пальцем:
– Ты договаривай, каналья! Какой у тебя подвох имеется?
– Ну вот, сразу подвох, – портье заюлил, отвёл взгляд. – Обижаете! Без вины виноватите-с! И вовсе не подвох, а кот.
– В смысле – кот?
– Ну, кот. Здоровый такой котяра, наглый. Забрался в апартаменты и уходить не хочет. Уж мы его и ловили, и гоняли – ни в какую. Дворника ободрал, страшно смотреть...
Фраер расхохотался, Миша тоже хмыкнул. Он-то думал, что за сегодня в гостиницах всего навидался.
– Невелика помеха! – заявил фраер, отсмеявшись. – Или выживем, или уживёмся. Верно, Михаил Хрисанфович?
Миша отмолчался. Алексеева-соседа он опасался: а ну как начнёт снова шерстяные беседы вести? Другой раз можно и не выкрутиться. Отказаться наотрез? Тоже подозрительно. Если что, решил Клёст, скажусь уставшим или больным. Чистая правда, между прочим! Скажусь и попрошу не беспокоить.
– Давай, показывай свои кошачьи апартаменты!
Номер оказался на первом этаже, вторым по коридору. Портье долго ковырялся ключом в скважине. В недрах двери щёлкало, лязгало, скрежетало, словно портье отпирал порядком заржавевший банковский сейф. В Волжско-Камском кассир и то быстрее управился, некстати вспомнилось Мише. Наконец в замке щёлкнуло по-особенному, и портье потянул створку на себя, укрывшись за ней и пропуская гостей вперёд.
Шельмец прятался не зря. Стоило кандидатам в постояльцы шагнуть за порог, как сбоку метнулся, яростно шипя, клубок чёрно-бело-рыжей шерсти. Кот от души деранул когтями одного, другого: Алексеева – за рукав пальто, Клёста – за левое запястье. Царапины набухли кровью, с опозданием пришла боль. Миша скрипнул зубами, едва не выронив саквояж, сунул здоровую руку в карман за «французом» – пристрелить чёртову тварь! – но вовремя опомнился. Кот словно почуял: отскочил, припал к полу. Жёлтые глазищи горят огнём, пасть оскалена, когти впились в измочаленный коврик:
«Не подходи, порву!»
– Да ну тебя, братец! – фраер замахал на кота руками. – Всё, всё, уходим!
Толкаясь, оба выскочили за дверь.
– Видали-с? – с мальчишеским восторгом осведомился портье. Дверь он поспешил захлопнуть и запереть на ключ. – Не кот, тигра лютая!
И тут фраер взорвался, да так, что искры полетели:
– Эта твоя тигра Михаила Хрисанфовича измордовала! Живо тащи бинты и йодную настойку!
* * *
– Думаю, вам стоит отправиться на Екатеринославскую, в гостиницу Монне, – участливым тоном предложил Алексеев, пока портье щедро поливал водкой (ни йодной настойки, ни спирта не нашлось) и бинтовал Мишины царапины. – У них места всегда есть.
– Монне?
– Бывший постоялый двор купца Буткова. Мебель подержанная, но завтраки отменные, от двадцати копеек. Балык, расстегайчики, даже икра...
– Поедемте вместе? – предложил Клёст
Втайне он надеялся, что фраер откажется.
– Благодарю за предложение, но я – пас. В принципе, крыша над головой у меня есть, можно не суетиться. А с Екатеринославской мне ездить не с руки, далековато-с.
Последнее слово фраер произнёс, точно копируя повадку портье.
Ну да, подумал Клёст. Ты, мил человек, богатенький, а Монне, небось, ещё та дыра. Брезгуешь? Бог в помощь. А нам бы лишь номерок свободный сыскался – отлежаться в берлоге, и чтобы про шерсть разговоров не вести.
На ступеньках гостиницы они распрощались, и Клёст кликнул извозчика:
– На Екатеринославскую, к Монне. Больше двух гривенников не дам!
– Дайте хоть с пятаком!
– Обойдёшься, хитрован.
– Воля ваша, господин хороший, – ничуть не смутился извозчик. – Садитесь, поехали.
И хлестнул лошадь:
– Брекекекс!
– Что? – взвился Миша.
Нет, ничего. Почудилось.
3
«Есть способ войти без очереди?»
– Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенная подпись под этим актом сделана собственноручно в присутствии моем, Александра Рафаиловича Янсона, нотариуса губернского города Х, в конторе моей, находящейся по Университетской улице, в доме № 16...
Нотариус был занят, пришлось ждать.
Расстояние от гостиницы до нотариальной конторы Янсона – мизер, пустяк, рукой подать. Этот путь Алексеев проделал пешком, с нескрываемым удовольствием от простого физического действия. Метель с ночи улеглась, снег весело скрипел под ногами, обманывал, делал вид, что скрипит вовсе не он, а неразношенные алексеевские ботинки. Это заставляло невольно ускорять шаг, добиваясь оркестровки скрипения в ритме марша, и в контору Алексеев прибыл раньше условленного срока. Повесив пальто на вешалку, а сверху приспособив шляпу, он сидел в кресле у окна приёмной, задумчиво пощипывал усы, улыбался, вспоминая забавный казус с котом, и вполуха слушал, как бубнят из кабинета:
– ...потомственным почетным гражданином Николаем Петровичем Вишневским, живущим по Конторской улице в доме Стыпина, лично мне известным...
Как он уже понял из невольно подслушанного, заключался – или заверялся, Бог его знает! –договор найма. Правление Товарищества Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий нанимало потомственного почетного гражданина Вишневского в качестве приказчика первого класса для продажи товаров – где укажут доверители, как за наличные деньги, так и в кредит. Продажу в кредит Вишневский обязывался производить «осторожно и осмотрительно». Жалованья новому приказчику положили три тысячи пятьсот рублей в год, деньги выдавались только за прослуженное время, без авансов. Алексеев вспомнил разъездного агента Суходольского, человека приятного во всех отношениях, с которым имел счастье знакомства в «Астраханской». Похоже, Суходольский был с претензией – такой же приказчик, как и Вишневский, он называл себя торговым агентом. Надо будет спросить у Юры насчёт этого агента. Или не надо, какая разница? Тоже, небось, три пятьсот в год, без авансов. Правильно Алексеев послал агента к Монне: на такое жалованье не разгуляешься...
– ...сбора в доход города взыскано двадцать рублей...
– Здравствуйте, Константин Сергеевич!
Женщина, минутой раньше вошедшая в приёмную, по мнению Алексеева вряд ли трудилась в конторе. На уборщицу она не походила ни одеждой, ни повадкой, на клиентку – тоже, а в заместители нотариусов женщин не брали, хотя «Положением о нотариальной части» это прямо не запрещалось, как, например, для евреев и иностранцев. Мать, предположил Алексеев, оценив возраст дамы, несомненно моложавой, но в годах. Мать или тётушка, или ещё какая родня Янсонов. Константин Сергеевич? Случайная посетительница вряд ли бы знала имя и отчество незнакомого ей господина в кресле.
Его размышления подтвердил Янсон – нотариус, долговязый мужчина с реденькими светлыми волосами, зачесанными поперек ранней лысины, выглянул из дверей кабинета, равнодушно кивнул женщине и скрылся без комментариев.
– Вы позволите?
– Да, конечно.
Скинув широкий салоп на меху, женщина осталась в костюме, характерном для преподавательниц курсов – юбке с жакетом из тёмной шерстяной ткани, надетом поверх белой блузки с кружевным воротником. Фетровые боты оставляли на паркете следы тающего снега, но женщину это, похоже, нисколько не волновало. Она достала из сумочки свежий выпуск «Южного края», взмахнула им в воздухе на манер веера и положила газету на подоконник. Почему на подоконник, если столик в углу был девственно пуст? Этого Алексеев не знал. «Городская дума, – прочёл он, щурясь. – Утверждён: отчет городского банка, смета на строительство сараев в скотобойне; заслушан доклад о строительстве дезинфекционной камеры...»
– Извините, я быстро...
Алексеев опоздал вскочить. Открыв рот от изумления, он смотрел, как женщина, тяжело дыша, перетаскивает упомянутый столик из одного угла в другой. Она и впрямь действовала быстро, несмотря на возраст – когда Алексеев опомнился, дело было сделано.
Второй экземпляр «Южного края» птицей спланировал на столешницу. Женщина подвинула газету ближе к центру и осталась довольна.
– Простите, ради Бога! Вы бы сказали, я помог бы...
– Не стоит извинений. Вы бы мне всё равно не помогли.
– Отчего же?
– Я должна была сделать это сама. Всего доброго, Константин Сергеевич.
– Всего... э-э...
Он увидел себя со стороны: точь-в-точь приживалка-мамаша, когда та клещами вытаскивала из него имя-отчество.
– Любовь Павловна.
– Моё почтение, Любовь Павловна.
Я её знаю, подумал Алексеев. Я её где-то видел, причём недавно. Доброжелательность, природное обаяние, свобода поведения. Манера себя вести, интонации, взгляд... Где мы виделись? Забыл, совсем из головы вылетело...
Из кабинета, галдя, выбралась компания деловых людей. Пока они одевались, усатый толстяк – должно быть, приказчик Вишневский – сунул один экземпляр «Южного края» (тот, что с подоконника) в карман своего сюртука. Ну да, оценил Алексеев. Три копейки, не кот начихал! В день по три копейки, в месяц, считай, рубль. В год – двенадцать рубликов. Экономный вы господин, Николай Петрович, уважаю. Берите уже и второй, продадите кому-нибудь за две копейки!
Словно подслушав его мысли, приказчик косо глянул на Алексеева и второй экземпляр брать не стал. Первый, впрочем, тоже не вернул.
– Прошу вас, Константин Сергеевич!
В кабинете Алексеев сел к столу, массивному как гиппопотам, и приготовился к серьёзному разговору. Нотариус оправдал его ожидания, без прелюдий взяв быка за рога:
– Не хочу отнимать ваше время, поэтому перейду к делу. Завещательный акт Заикиной составлен в письменной форме, что является «корпусом сделки», поскольку словесные завещания и так называемые изустные памяти никакой силы не имеют. Тут всё в полном порядке. Воля завещательницы выражена столь положительно, ясно и прочно, что не может быть никакого сомнения в её проявлении.
Алексеев кивнул. Я здесь надолго, понял он.
– Подлинность воли завещательницы удостоверена подписями трёх свидетелей. Вот, извольте ознакомиться.
Янсон протянул Алексееву три плотных листа бумаги, заполненных мелким убористым почерком. На третьем стояли подписи Заикиной, нотариуса и свидетелей. «Кантор Лейба Берлович, – прочёл Алексеев. – Радченко Любовь Павловна. Ваграмян Ашот Каренович.»
– Ваграмян?!
Он поднял взгляд на нотариуса.
– Вас что-то смущает?
Курчавые, тронутые сединой волосы. Крупный нос. Полоска усов. Кожаный фартук сапожника. «Вы же хорошо спали? Ну и чудесно.» Саквояж, переставленный с пола на стул. «Вот теперь всё как надо.» Теперь, мысленно повторил Алексеев, всё как надо.
– Нет, ничего. Просто совпадение.
– Поясните.
– Я сегодня познакомился с господином Ваграмяном, вот и всё. Он заходил ко мне в гости. В смысле, на квартиру Заикиной.
– На квартиру, завещанную Заикиной вам, – поправил нотариус. – Ну, это не вступает в конфликт с законом. Продолжим?
– Ещё один вопрос. Свидетель Кантор... Насколько мне известно, лица, не бывшие никогда у Святого причастия, не имеют права свидетельствовать. Каким образом вы завизировали подпись Лейбы Берловича?
– Он крещёный, – равнодушно ответил Янсон. – Наречён Львом, это сейчас он подписывается Лейбой. «Als Kind getauft[2]», забавная история, я когда-нибудь вам расскажу. Ещё вопросы?
– Нет, продолжайте.
– Малейшие сомнения относительно содержания действительной воли завещательницы исключены. Теперь я должен передать завещание в суд для утверждения к исполнению.
Янсон пожевал бледными губами и добавил:
– С соблюдением установленных сроков.
– Каковы сроки?
– В течение года.
– Представьте немедленно.
– В течение месяца.
– Почему так долго?
– Очередь. Месяц, возможно, полтора.
– Есть способ войти без очереди?
– Увы, нет.
– Месяц очереди. Полгода на утверждение, если не больше...
– Вы не волнуйтесь, Константин Сергеевич. Нотариальные завещания утверждаются судом без дальнейшего рассмотрения.
Бледные губы жуют воображаемый хлебный мякиш:
– Если, конечно, не был заявлен вопрос о подлоге.
Привычка, оценил Алексеев. Профессиональный строй речи. Уточняет, добавляет, вносит поправки. Ничего не говорит от начала до конца, так, чтобы добавить было нечего. Детали, мелочи, подробности. Законы, положения, подзаконные акты. В этом его жизнь. Не удивлюсь, если он засиживается на работе до глубокой ночи.
– С завещанием моего отца всё решалось много проще.
Янсон пожал узкими плечами:
– Вы не состоите с завещательницей в кровном родстве. Будь она, к примеру, вашей матерью...
– Моя мать жива, дай ей Бог долголетия. Что же до Заикиной, так по возрасту она годилась мне в бабки. Да что там! – в прабабки. О её существовании я впервые узнал от вас.
– Добрый вестник? – нотариус улыбнулся. – Люблю приносить хорошие новости.
Алексеев содрогнулся. Смерть – хорошая новость? А, он про квартиру... При его жалованье такое наследство – подарок судьбы.
– Я не имею возможности сидеть здесь месяц. Тем более полтора.
– Примите во внимание Пасху, – Янсон протянул руку, коснулся массивного пресс-папье. – Прибавьте праздничные дни.
Детали, мысленно повторил Алексеев. Мелочи, подробности. Законы, положения, подзаконные акты. «Подробности – главное, подробности – Бог.» Старый мудрый Гёте. Подробности – главное. С пронзительной ясностью он вдруг увидел декорации к постановке «Потонувшего колокола»: сцена-хаос, сцена-нагромождение. Бесконечное количество крохотных площадок, разбросанных рукой безумца на самых разных уровнях; множество люков. Скала с расщелиной. Мизерное плато, заваленное сошедшей с гор лавиной. Озерцо. Дерево, упавшее через ручей. Такой пол, чтобы ходить было невозможно. Актёры лазают, сидят на камнях, скачут по скалам, карабкаются по деревьям, прыгают в люк, поднимаются на поверхность. Они путаются в этой неразберихе, из последних сил вырываются наружу – вон из мелочей! к мечте! – чтобы вновь быть поглощёнными; чтобы не быть. И сюда с вершины моих надежд падаю я, мастер Гейнрих, чьё высокое творчество потерпело крах, рухнуло и утонуло в озере. Я лечу вниз головой по гладкой полированной доске, вместе со мной летит обвал: камни, ветки, щебень. Треск, шум, грохот. Чёрт возьми, меня придётся откапывать из-под завала!
Нет. Не придётся. С театром покончено.
«Маруся, я виноват. Я знаю, что от природы вынослив физически, в отличие от тебя, – прикрыв глаза, Алексеев увидел жену: так ясно, как если бы она стояла у окна. – Ты лечишься бромом, у тебя болит сердце и развивается малокровие. Переменчивость твоих состояний вызывает опасение. Доктор Фрейд сказал бы, что у тебя тревожный невроз. Я помню, ты жаловалась на ночные приливы пота, рассказывала о своём страхе, ощущении неминуемой кончины. Этого больше не будет, родная. Я виноват, я раскаиваюсь. Я упал с горы, самое время обживать равнину.»
– Я хочу завтра же уехать. В крайнем случае, послезавтра.
– Назначьте юриста, представляющего ваши интересы. У вас есть знакомые? Я могу подсказать.
– Спасибо, не надо. Меня будет представлять коллежский советник Давтянц.
– Григорий Гаврилович? Прекрасный выбор. Вам известно, что в ноябре прошлого года он стал судьей окружного суда?
– Поэтому я его и выбрал. Во-первых, мы хорошо знакомы, во-вторых, если кто-то и сумеет ускорить рассмотрение, так это Григорий Гаврилович.
«Я виноват, Маруся. У Игорька туберкулез, ты целиком занята его лечением, а меня вечно нету рядом. Я вернусь домой, вернусь навсегда. Ты только признай, что мое решение – трагедия для искусства, скажи об этом вслух, и я расцелую тебя за такой приговор. Федотова говорит, что я – второй Щепкин, что имя моё останется в истории театра. Скажи это ты, и я вычеркну своё имя из театральной истории с радостью, видя, что ты ценишь мою жертву, понимаешь, на что пошёл ради тебя...»
– Задержитесь на неделю.
– С какой целью?
– Могут возникнуть ситуации, требующие вашего личного присутствия. Потом уезжайте и ни о чем не беспокойтесь. У вас ещё есть вопросы ко мне?
– Да. Та женщина в приёмной...
– Какая женщина?
– Она принесла свежий «Южный край». Мне показалось, я её знаю. Она у вас работает?
Янсон встал:
– Я не знаю, о ком вы говорите. У меня не работают женщины.
И добавил, поджав губы:
– Я не выписываю «Южный край».
Не говоря ни слова, Алексеев прошёл в приёмную и вернулся с газетой:
– Там было два экземпляра. Один унёс Вишневский.
– Я не выписываю «Южный край», – повторил нотариус. На лице его читалось раздражение; впрочем, слабое. – Это какое-то нелепое совпадение. Должно быть, разносчица ошиблась дверью. Рядом размещается землеустроительная комиссия, они выписывают.
______________________________________________
[1] Дарий, сын Гистаспа – персидский царь из династии Ахеменидов, дальний родственник царя Кира. Жесточайшим образом подавлял восстания против царской власти.
[2] «Крещёный в детстве» (нем.).
Глава пятая. «ПОЕДЕМ, КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ!»
1
«Не отдаст – твой он, Лютый»
Костя Филин постучал в дверь условным стуком, как учили: три-раз-три. Рядом переминался с ноги на ногу Ёкарь, скрипел сапогами, а может, снегом.
В окошке колыхнулась занавеска.
– Шо надо?
– Мы к хозяину.
Филин придал голосу солидности, хотя под ложечкой ныло, тревожило. К весовому Гамаюну, человеку авторитетному, в городе известному, их с Ёкарем звали впервые. Костя и видел-то Гамаюна издали, по случаю.
– По каковой нужде?
– По нужде в нужник ходят! Хозяин звал.
– Хто такие?
Открывать не спешили, проверяли. Вдруг борзые[1] заявились?
– Филин с Ёкарем.
Глухо лязгнул засов. Дверь приоткрылась, на гостей с подозрением уставился ражий детина: брови в шрамах, нос свёрнут набок. Чувствовалось, что детина свою беспутную жизнь провёл на «кула̀чках» за Михайловской церковью, на собственной шкуре выяснив, что значит «дать бло̀ку», «пустить звонаря» или «положить гриба в живот».
– Стволы, перья?
Когда зовут на хазу к весовому, ствол лучше не брать. Костин «Smith&Wesson» остался дома. У Ёкаря с собой была финка. Детина финку забрал, сноровисто обхлопал обоих по одежде – не припрятали ли чего? – и крикнул в горницу:
– Они самые. Чистые.
– Впусти, – донеслось в ответ. – Дозволяю.
Горница Костю разочаровала. Он-то думал, весовой живёт – ого-го! У Гамаюна гро̀шей – хоть свиней корми! Хватит дворец отгрохать. Ну, с дворцом Филин загнул, но уж на хату не абы какую точно хватит. Десять комнат, одна другой просторней, потолки в две сажени с гаком, стены бѐлены-ско̀блены... И в каждой комнате – люстра электрическая!
А тут что?
Потолок башку трёт. Окошки мутные. Доски под ногами ходуном ходят. Скрипят хуже Ёкаревых говнодавов. Или это Ёкарь скрипит?
Он думал, что Гамаюн затеет разговор с глазу на глаз. Нет, за столом сидели трое. Холодный пот прошиб Костю: а ну как резать позвали? Он не знал, за что его нужно резать, но страх и не искал причины. Сунут перо под ребро: был славный парень Филин, да в лес улетел...
Ёкарь – ладно, подсказал страх. Ёкаря не жалко. Если что, спасай себя.
Гамаюн был нахохлившейся птицей. Нос-клюв, хищный взгляд. Губы сжаты в тонкую ниточку. Рядом на табурет взгромоздился натуральный медведь. Косая сажень в плечах, рубаха на груди трещит. Волосатые ручищи – каждая с Костину ляжку. На левой скуле – шрам. О зверствах Лютого с Залютино по городу ходили легенды. Третий – хорёк хорьком, мелкий, юркий. Глаза – крючки рыболовные: вцепятся – не отпустят.
– День добрый.
Костя поспешил стащить с головы шапку.
– Добрый, ё! – поддакнул Ёкарь.
– Звали?
– Пасть захлопни, – буркнул Лютый. – Спросят – ответишь.
После этого троица замолчала надолго. Курили, окурки гасили в мятой жестяной миске. Кроме этой миски, коробка̀ спичек и пачки «Гусарских», на столе ничего не было.
– Спрашивайте, – не выдержал Костя.
Понимал, что жизнью рискует. А смолчать не мог.
– Уж мы спросим, – заверил хорёк.
В горнице ощутимо похолодало.
– На гранд ходили? – разлепил губы Гамаюн. – В Волжско-Камском?
– Ходили.
– Четверо сгорели, а вы соскочили?
– Соскочили.
– Как такой расклад вышел?
– Они все на площадь ломанулись! – кинулся объяснять Ёкарь.
На лице его ясно читалось, что лучше бы Ёкарь кинулся головой в прорубь. От вора отчаянно несло едким потом. Ноги Ёкарь сжимал так, будто ему срочно требовалось по малой нужде, и он едва сдерживался, чтоб не напрудить в штаны.
– Там их фараоны с дубака̀ми[2] и повязали! А мы с Филином – на второй этаж, и в окно! Которое во двор. В сугроб сиганули, потом дворами, ё...
– За фарт спросу нет, – веско заявил Лютый.
У Кости отлегло от сердца. Ну, самую малость.
– Ещё кто сдёрнул? – поинтересовался хорёк.
Костя пожал плечами:
– Не знаю. Не видел.
– Не видели, ё! Как шухер, мы давай ноги рисовать!..
– Нишкни, – велел Гамаюн.
Ткнул пальцем в Костю:
– Ты говори. Что сказать хотел?
Костя с трудом проглотил ком в горле.
– Нас семеро было. Четверых повязали. Значит, ещё кто-то сдёрнул, окромя нас.
– Счетовод, – хмыкнул в усы Лютый.
И вытащил из пачки папиросу. Чиркнул спичкой, прикуривая. Филину дико захотелось курить, но спросить позволения он не решился.
– Кто же?
– Гастон, ё! – не вытерпел Ёкарь. – Кто ж ещё?!
– Гастролёр, – уточнил Филин. – Который нас на дело собирал.
– Верняк, гастролёр! Сто пудов!
– Гастон, – птица-Гамаюн щёлкнул клювом, раскусил имя как орех. – Кто таков? Из деловых, или так? Вас, балбесов, как нашёл?
Следующие четверть часа Филин с Ёкарем стирали языки до корней. Наперебой докладывали: срисовал, значит, их Гастон на базаре. Что они делали на базаре? Промышляли по мелочи. Сам подставился под покупку[3], потом возник в переулке, где жиганы делили бабки из его лопатника.[4] Что сделал? Наставил наган. Лопатник забирать не стал, подарил. Вперёд, мол, плачу̀! Предложил дело, объяснил, что к чему. Куда банковских карасей складывали? В его мешок деньги кидали, в Гастонский... Не на пол же, ё?!
Костя даже успокоился. Гастон нужен весовым, точно, Гастон.
– Сколько он взял?
– Не знаю, – растерялся Филин. – Я не считал.
– А ты прикинь, прикинь, – ласково посоветовал хорёк. – Без прикида гробы шьют.
От хорьковой ласки у Кости скрутило живот. Сам Филин успел прибрать к рукам полторы косых[5] без двух целковых – как дома посчитал, на радостях песню затянул! Теперь сеструхе на самолучших докторов хватит, и на свадьбу со студентом, и самому останется на разгуляево! Сколько ж тогда Гастону досталось?!
– Думаю, косых пятьдесят, – с осторожностью произнёс Костя. – Не меньше.
И сладко ужаснулся названной сумме. Это ж агромадная куча гро̀шей! На три жизни хватит!
– Уверен?
– Прикинул, как велели...
– Счетовод, – повторил Лютый.
И обернулся к Гамаюну:
– Гастролёр шпану под фараонов подставил, а сам сдёрнул. Это чухня, закос правильный. Дураков учить надо. Эти тоже сдёрнули – видать, фартовые. Ну, пусть ходят своими ногами. Не возражаю. А вот куш... Нехилый куш пёс унёс.
– Он кассира завалил, – рассудил Гамаюн. – Больше некому.
– Потому и шухер по городу. Мокрый гранд.
– Фараоны как с цепи сорвались.
– На бану[6] второй день работы нет! – взвизгнул хорёк. – Городовые всех трусят, борзые на каждом углу!
– По Москалёвке шмон... Моих замели.
– Всюду шмон! По хазам ховаемся, ветошью отсвечиваем.
– Боком гранд вышел!
– Меркую я, Гастона этого сыскать надо.
– Зачем?
– Пусть делится. За беспокойство платить надо.
– Верно говоришь. Сыскать, потом записать[7].
– За что? За подставу?
– Подстава – чухня. За гастролёром иной грешок: не зашёл на хазу, не уважил. Слова доброго не сказал. Подставу простить можно. А то, что весовыми пренебрёг... Не помилую, Гамаюн.
– Это уж какой расклад выйдет, Лютый.
– Да какой тут расклад?!
– Ты на меня глотку-то не дери. Ежели Гастон сам куш отдаст... Тогда Бог с ним, пусть ноги делает. Треть ему оставлю, на пропой. Не отдаст – твой он, Лютый.
О Филине с Ёкарем весовые забыли, словно тех и не было в горнице. Ох, накаркал! Вспомнили.
– Слыхали, шпана?
– Ничего не слышали, ничего не видели! – поспешил заверить Филин.
Он очень старался, чтобы голос не дрогнул.
– Глухие, ё!
Гамаюн усмехнулся – впервые за весь разговор.
– Видал, Лютый, какие ушлые хлопцы пошли? Шелупонь, а с понятием. Возьмёшь под крыло? Из твоих, вроде, кого-то замели?
Лютый поскрёб шрам на скуле:
– Видно будет. Первое дело – гастролёр.
– Дело говоришь. Вы двое, слушайте сюда. Пошустрите по городу, Гастона зорьте[8]. Найдёте – сами не лезьте, сорвётся. Срисовали, в берлогу проводили – и мухой сюда метнулись. Вкумекали?
– Ну, ё! Как бог свят!
– Тогда кыш отседа!
– Сыщете Гастона, – вслед пообещал Лютый, – к делу пристрою.
Отбежав подальше от хазы, Филин с Ёкарем, не сговариваясь, укрылись в подворотне. Без сил привалились спинами к грязным стенам, долго курили – не могли накуриться.
– Давай сами Гастона споймаем! – вдохновился Ёкарь. – И Гамаюну доставим, ё!
Герой, подумал Костя. Бова Королевич. Как и жив ещё?
– Споймал мужик медведя, а тот его не пускает. Смерти ищешь? Нам с тобой до Гастона – как до луны раком. Найдём – не отсвечиваем, делаем, что велено.
– Велено-мелено...
– Накосячим – каюк нам. Понял?
– Понял, ё, – Ёкарь угрюмо шмыгнул носом. – Чай, не дурак.
2
«Не извольте беспокоиться!»
Брекекекс. Брекекекс. Брекеке...
Полы скрипят, сказал себе Клёст. Скрип-скрип, скрип-скрип. Брекекекс, согласился рассохшийся паркет. Насчёт того, что у Монне всегда есть места, фраер не соврал. Насчёт подержанной мебели – тоже. Подержанная? Это ещё мягко сказано. Полы распевали псалмы, кресло трещало, как берёза на лютом морозе, грозясь развалиться под рисковым седоком. Дверца одёжного шкафа едва не выпала, когда Миша попытался её открыть, а потом с трудом встала на место. Кровать стонала блудницей от малейшего шевеления постояльца; случалось, что и от глубокого вздоха.
В гостинице суеверный Клёст сперва справился, есть ли свободные апартаменты. Да, отдельные. Да, без соседей. Без котов, битых окон, плесени, сырости, духоты, протекающего водопровода. И лишь когда служитель клятвенно заверил, что апартаменты есть, а всего названного в них, слава Богу, нет – лишь тогда Клёст соизволил (в сотый раз за день!) назваться для записи в книге:
– Суходольский Михаил Хрисанфович...
Пока служитель, высунув от усердия кончик языка, чиркал пером, Миша осматривался. Ковровая дорожка вытерта. Стойка обшарпанная. Обои выцвели. Штукатурка на потолке – в тонкой паутинке трещин. В углах пыль, паутина. Зато тепло и не дует, в кои-то веки. По холлу бродил мужчина армянской наружности, без шапки и в расстёгнутом кожухе. Горбоносое, чуть смуглое лицо, усы аккуратно подстрижены «в щёточку». Под кожухом – длинный кожаный фартук с большим карманом. Из кармана выглядывал сапожницкий молоток с узким бойком и сдвоенным зацепом-гвоздодёром.
Чем тут занят сапожник?
Армянин смахивал на путевого обходчика – он изучал холл с целенаправленной сосредоточенностью. Так же обходчик идёт вдоль состава, заглядывает под вагоны, простукивает каждую буксу. Вот сапожник цокнул языком, передвинул облезлый стул. Раздёрнул ветхие занавески на окне, выходящем на улицу. Колупнул ногтем стекло, кажется, остался недоволен. Повернул шпингалет, но открывать окно раздумал. Переместился дальше, снял со стены картину – мазня, речной пейзаж – перевесил на свободный гвоздь двумя аршинами левее. Отошёл, полюбовался. Вернулся, поправил. На взгляд Миши, теперь картина висела криво, но сапожника результат устроил.
На месте служителя Клёст давно выгнал бы бездельника на мороз. Но служитель если и поглядывал на сапожника, то с поощрительной улыбкой, как если бы армянин подрядился к Монне художником-оформителем.
– РТА, – ухмыльнулся служитель.
– Что?
– РТА. Разъездной торговый агент. Вы, значит.
Миша наклонился к дураку:
– У вас нездоровая тяга к сокращениям?
Бледный как мел, служитель рассыпался в извинениях. Шутка уже не казалась ему такой смешной, как вначале.
– Ваш номер одиннадцатый, налево по коридору. Вот, пожалуйста, ключ. Приятного вам отдыха.
Принимая ключ с деревянным номерком, на котором стояла цифра «11», Клёст оглушительно чихнул.
– Пошлите кого-нибудь в аптеку, пусть купит ивовой коры. Кипяток у вас найдётся? Мне нужен отвар от простуды.
Он положил на стойку серебряный полтинник:
– Сдачу оставьте себе за труды.
– Не извольте беспокоиться, – полтинник исчез в мгновение ока. – Всё сделаем в лучшем виде!
Войдя в номер, Миша понял, что счастлив.
* * *
Клёст был свято уверен: стоит ему добраться до кровати, и он мигом провалится в вожделенный сон. Что ему скрипы, стоны, шорохи, когда глаза слипаются, а тело молит об отдыхе? Но стоило Мише раздеться до кальсон и исподней рубахи, как откуда-то задул предательский сквозняк. Мишу сотряс такой озноб, что зубы буквально выбили мёрзлую барабанную дробь. Поджимая пальцы на зябнущих ступнях, он прошлёпал к окну, проверил: всё заперто и заклеено на зиму, ниоткуда не дует.
Из дверей? Вроде, тоже нет.
Хрипло бранясь, Клёст нырнул под одеяло, укутался как мог. Полегчало, но теперь чёртов сквозняк бу̀ром лез в выставленное кверху ухо. Миша укутался с головой – сделалось душно. Выпростал наружу голову, кое-как пристроил угол одеяла, чтоб прикрыл ухо. Всё это время кровать под ним стонала с отчаянием смертника, откликаясь на малейшее движение.
Когда же он начал задрёмывать, то сквозь полуприкрытые веки углядел в кресле человеческую фигуру. Мертвец! Кассир! Клёст подпрыгнул, кровать взвыла белугой, и стало ясно: нет, не кассир-телефонист – фраер из «Астраханской».
Как он пробрался в номер?!
– Что же это вы, Михаил Хрисанфович? – фраер с вальяжностью закурил, сощурился недобро. – Торговым агентом сказались, а? Да ещё нашего славного товарищества! Разве вы в шерсти разбираетесь? Не верю я вам, голубчик, нет, не верю, и не просите. Ну-ка, ответствуйте: сколько нынче стоит пуд шерсти мытой, но некрашеной, а сколько крашеной?
Миша хотел было увильнуть – мол, зависит от того, какого качества шерсть, и какой краской покрашена – но горло забил плотный ком: из шерсти мытой-крашеной, не иначе! Язык присох к нёбу, губы онемели.
– Вот и выходит, что обманщик вы, Михаил Хрисанфович, – фраер выпустил дым через ноздри и заколыхался в кресле в такт с клубящимся облаком. – Натуральный лжец! Мало того, вы грабитель и убийца с птичьей кличкой. Пора тебе в клетку, Клёст. Отлетался!
И завизжал пронзительно:
– Не верю! Полиция! Держи-и-и его! Вяжи-и-и его!
Уже понимая, что это дурной сон, Миша дёрнулся бежать – и проснулся. Ошалело заморгал, выпутываясь из липких объятий морока. Понятное дело, в кресле никого не обнаружилось, а за окном, на знакомой визгливой ноте, отчаянно скулила побитая собака.
Когда скулёж затих, Клёст попытался заснуть снова. Но едва мутная дрёма овладела им, как по рельсам оглушительно прогрохотала конка, и сон в испуге бежал прочь. Миша заворочался, ему сделалось жарко, он с трудом выпутался из одеяла, как из нового кошмара. Не прошло и минуты, как его накрыл озноб, пришлось опять лезть под одеяло...
Шёпот? Нет, показалось.
Мышь за плинтусом скребётся. Или не мышь?
Вот опять.
Точно, шёпот, только слов не разобрать. Из соседнего номера. Одно странно: если бы за стеной кричали и было бы слышно – это понятно. А тут не кричат – шепчут. До чего ж стены дрянные! Шёпот сделался громче, приблизился. Казалось, звук раздаётся в номере Клёста. Слуховой обман? Коридор, осознал Клёст. В коридоре шепчутся, под дверью.
«Эй, кто там? Чего надо?!»
Спросить он не успел. Дверь с грохотом распахнулась, в номер, гулко топоча сапогами, повалила тьма тьмущая фараонов: жандармы и полицейские через одного. Миша вскочил, но запутался в одеяле. Со всех сторон его окружили усатые ряхи. Они лоснились, будто маслом смазанные, пламенели морозным румянцем, таращили круглые рыбьи зенки. Под ряхами Клёст видел перетянутые портупеями суконные спины и всё силился уразуметь: как такое возможно? За фараонами приплясывал фраер в каракулевой шляпе, дымил папироской, кляузничал:
– Вяжите душегуба, вяжите!
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
– Да не верьте ему, когда врать станет!
– Никак нет, ваше высо̀ко...
– Вяжите, не верьте; не верьте, вяжите...
К Мише потянулись странно вывернутые, корявые лапы. Клёст закричал – и проснулся. Тьфу ты, про̀пасть! Он дрожал, понимая, что гулкие удары не прекратились: стучали в дверь. Не костяшками пальцев, а будто головой бились, судя по звуку.
«Зря револьвер в пальто оставил. Надо было под подушку сунуть.»
– Кто там? Что надо?
Голос вышел хриплым спросонья и от разыгравшейся простуды. Миша закашлялся и едва расслышал ответ:
– Вiдвар ваш принiс, пане!
Голос был детский. Миша выдохнул с облегчением. А кого ты ждал, спросил он себя. Фраера из «Астраханской»? Полицмейстера? Чёрта в ступе?
– Заходи.
– Не мо̀жу! – жалобно откликнулся посыльный. – За̀мкнено у вас, пане!
Пришлось тащиться открывать. За дверью стоял мальчишка лет десяти, похожий на встрёпанного воробья, с подносом в руках. На подносе курилась паром оловянная кружка: большая, «сиротская». Рядом лежал бумажный пакет. Миша перевёл взгляд на мальчика и обалдел: лоб стервеца украшало пунцовое пятно.
– Ты что, головой в дверь бился?
– Угу, – мальчишка обиженно шмыгнул носом. – Руки-то за̀йнятi!
Клёст взял пакет. На рукописной этикетке значилось: «Кора дуба».
– Я за ивовой посылал!
– Та не знаю я, пане! – воробей уже плакал. – Аркабiсыч менi ка̀же: пану дубова кора потрiбна, шлу̀нок в нього болыть! Бiжи, дурень, до аптэки...
– Кто каже?!
– Аркабiсыч... Ну, Аркадiй Борiсыч! Та вы його, мабуть, ба̀чылы, пане, вiн вас у номер поселя̀в...
– Жди тут, я оденусь.
Захлопнув дверь перед носом посыльного, Клёст направился к одёжному шкафу.
– Ой, лыхо, – ныли в коридоре. – Ой, лы̀шенько...
– Да, это я ему сказал. Ей-богу, вы дубовой спросили! – клялся вскоре злополучный Аркабiсыч, потея лысиной. – Я своими ушами слышал! Оговорились, да? Со всяким бывает...
Клёст и сам засомневался. Может, правда?
– Сей секунд Гришку за ивовой пошлю! – служитель бил себя кулаком в грудь. – Не извольте беспокоиться! Только одна беда...
Деньги Миша забыл в номере. Пришлось возвращаться.
* * *
Заснул он ближе к вечеру, когда начало смеркаться. Проваливаясь в долгожданное забытьё, успел подумать, что не удосужился сегодня ни пообедать, ни поужинать. В животе тоскливо бурчало. Под этот оркестр Клёст и забылся беспокойным сном.
3
«Саквояж с пола на стул!»
– Чего изволите-с? Есть отличные рублёвые[9] обеды!
Хитрый прищур:
– Для деловых людей! Подадим быстрей быстрого!
– Огласи состав, голубчик.
– Щи ленивые либо крем-суп d’asperge[10], на выбор. Из вторых блюд: филей дикой козы под соусом poivrade[11] и осетрина a la russe. Имеется также жаркое из телятины. К этому салат и яблочные тарталетки: объедение! Водочка отдельно, за особую плату-с.
– А если по главному меню?
– Осмелюсь порекомендовать суп-крем из рябчиков. Из мясных блюд хороши côte de boeuf[12] на вертеле, котлеты пожарские и поросёнок с кашей. Для любителей рыбки имеется прелестный судачок-с!
Доверительный шепот:
– Устрицы? Свежайшие остендские устрицы, сегодня из Одессы!
Фрак, белый жилет. Галстук-бабочка. Перчатки. Улыбка от уха до уха. Спина изогнута вопросительным знаком. В ресторане «Гранд-Отеля» посетителей обслуживали не какие-то там трактирные половые, стриженые «в скобку» и в рубахах навыпуск, а вышколенные официанты, одетые на европейский манер. «Губернские ведомости», предлагая работу в заведениях высшего класса, сразу предупреждали: «требуются молодые люди приятной наружности, владеющие языками. Рекомендательные письма обязательны».
– Значит, так, голубчик. Суп из рябчиков, к нему поросёнка. Далее...
– Кокося!
– Юра! Дорогой ты мой...
Вставая навстречу брату, Алексеев жестом показал официанту: жди, мол! А лучше неси водки, пригодится. Жест удался на славу, выразительности исключительной. Официант тоже не сплошал, угадал до тонкостей.
– Как я рад тебя видеть!
Обнялись. Расцеловались. Искренне, слегка театрально, но тут уж ничего не поделаешь. Юрий Сергеевич, младший брат Алексеева, даром что почтенный фабрикант, владелец Григоровской фабрики, страдал двумя семейными недугами – слабым сердцем и тягой к актёрствованию. Отец-основатель «Товарищества исполнителей драматических произведений», он не мыслил себя вне сцены, превращая в подмостки любое место, где только ни появлялся: ресторан, красильню, шерстомойню. Это свойственно любителям, подумал Алексеев-старший. Мы с ним оба любители, надо признать. Профессионалы же, напротив, где ни появятся, стараются не выходить на свет без особенной нужды.
О встрече братья условились заранее, телеграммой. Ресторан «Гранд-Отеля» был выбран не случайно, и не только из-за кухни – до того, как стать гостиницей, каменное здание на Павловской площади шестнадцать лет верой и правдой служило Малому театру. Эту великую эпоху Алексеев не застал, поскольку был слишком молод, но всякий раз, приезжая в губернский город Х, заходил сюда – поклониться теням прошлого. Свое регулярное присутствие в «Гранд-Отеле» он видел неким оберегом, талисманом на удачу – посмеивался над собой, язвил на тему актёрских суеверий и всё равно шёл сюда, словно его тянули на верёвке.
– Эй, человек!
Человек явился с водочкой. Принял у нового гостя пальто и шляпу. Доложил, что суп из рябчиков на подходе, а молочный поросёнок уже набит гречневой кашей, как кисет табаком. Юрий заказал борщ красный, со сметаной и пампушками, да так, чтобы подали вместе с рябчиками, а то слюна зря потечёт; после борща велел нести жаркое из утки. Взяли и десерт: яблочную шарлотку.
– Был у нотариуса? – без обиняков спросил Алексеев-младший.
Это было в его привычках: с ходу брать быка за рога.
Кивнув, Алексеев с улыбкой разглядывал брата. Юра был исключительно хорош собой: высокий, гибкий, грациозный в движениях. Братья являли миру пример семейного сходства; оба носили усы, одинаково стриглись, только черты младшего отличались большей тонкостью, а овал лица – мягкостью. Подбородок, брови, разрез глаз – всё, что в старшем выдавало характер сильный и противоречивый, в младшем говорило об изяществе и уступчивости. Разве что шляпу Юрий всегда сдвигал набекрень, что придавало ему некую ироничность водевильного комика. Крестили его Георгием, но в семье с рождения звали Юрием, в то время как за Алексеевым прочно закрепилось прозвище Кокося.
В детстве, когда богомольцы, летней ночью бредущие на Троицу в Любимовку, в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сломя голову бежали от привидений в белых простынях, с улюлюканьем выскочивших из придорожной канавы – забаву изобретал Кокося, а взбучку за неё получал Юра.
– Был.
– Что говорит Янсон?
– Просит не уезжать из города в течение недели. Потом дело завертится без меня. Если что, ты присмотришь? Я оставлю тебе доверенность.
– Присмотрю, не волнуйся.
– Как мама? Все ли в порядке?
– Маманя? Ну, ты её знаешь. Тише мыши, доброты неописуемой, хоть к ранам прикладывай. И вдруг как вспылит! Орёт на прислугу, словно они крепостные, тарелки бьёт, грозится. Через час остынет, бежит извиняться. Балует, подарки дарит...
Алексеев засмеялся. Он хорошо знал переменчивый норов матушки.
– Найдёт себе какую-нибудь нищенку, – Юрий заиграл бровями, глазами, всем лицом, усиливая трагикомический эффект, – и носится с ней, как с писаной торбой, дни и ночи напролёт. Последнюю рубашку отдаст. Потом нищенка рубашку сносит, украдёт у мамани брошку или колечко, сбежит, а маманя страдает, плачет, мучается мигренью. И опять: раскричится, тарелку об пол, прислуга давай поклоны бить...
После смерти мужа Елизавета Васильевна Алексеева перебралась к младшему сыну в Андреевку, усадьбу в шестидесяти двух верстах от города, где и проводила почти всё время. Свой же дом в Москве, по Садовой у Красных ворот, оставила Алексееву – в этом доме он и жил последние три года. Мать порой наезжала к нему, но долго не задерживалась, возвращалась к младшему.
– Так что, друг мой Кокося, не извольте волноваться...
Принесли борщ и суп. Юрий заложил салфетку за воротник, подвинул тарелку ближе. Алексеев проделал то же самое, вдыхая запах супа из рябчиков. Пахло крепким бульоном, птицей, обжаренной в масле, шампанским – обязательным компонентом, если верить французским поварам. В аромате чего-то явственно не хватало. Перца добавить, что ли? Или водки? Первая рюмка пошла хорошо, звонко, без обременительного тоста. Юрий поддержал, водка прервала его монолог, но лишь на краткий миг:
– Квартира понравилась? Заикинская?
– Квартира хорошая. Две приживалки, с ними я разберусь позже. Не гнать же на мороз...
– Это верно. Пусть живут, дело долгое, успеется. Тебя не стесняют? А то перебирайся в «Гранд-Отель»! Знаешь ведь, какие тут апартаменты! Сам бы жил, да не люблю городской суматохи.
Алексеев знал. Просторные комнаты, отделанные шёлком и бархатом. Изящная мебель. Полный набор услуг европейского класса. Вот-вот, полный набор.
– У них водопровод прорвало. Свободных номеров нет, затопило. Я справлялся: ещё не починили. Обещают завтра-послезавтра, тогда и подумаю. А пока поживу на квартире Заикиной.
– Переезжай ко мне! Или в Григоровку, она ближе...
– И трястись каждый день в санях? Версту за верстой, туда и обратно? Потеплеет – дороги размякнут, увязну в грязи. Буду ждать, куковать, кто вытащит... Нет, спасибо, я лучше на квартире. Хотя знаешь...
Выпив по второй, Алексеев внезапно разговорился. Перехватил у брата инициативу, взмахивая руками для пущей романтики, попытался объяснить своё двойственное отношение к наследству Заикиной. Как предприниматель, он видел в нём полезный, упавший с неба капитал. Как артист, удивлялся чисто театральному, авантюрному, ничем не объяснимому капризу, толкнувшему старуху завещать жильё постороннему человеку. Как постоялец, не мог понять, что с ним происходит.
– Видишь ли, Юра, мне там нравится. Тепло, уютно, покойно. Даже женщины эти не раздражают, хотя должны... И вдруг как вожжа под хвост – тянет сбежать. Ноги в руки, живите как хотите, главное, без меня! Век бы их не видел, и квартиру... Потом отпускает, и снова: уют, покой. Вот сейчас – сам не знаю, чего мне надо. То ли вернуться, да побыстрей, то ли не возвращаться никогда. Щётку мою переставили, зубную. Саквояж с пола на стул! Сапожник ещё, приятный человек...
– Сапожник? Чем тебе сапожник-то не понравился?
– То и странно, что понравился. Откуда это приятство взялось? Знаешь, как я с людьми схожусь? Нет, схожусь я легко, вернее, они думают, что легко. А на самом деле это всё игра, я новых людей не люблю, опасаюсь...
Юрий слушал брата, пряча улыбку. Он знал обстоятельства Алексеева, сочувствовал ему, но помочь ничем не мог. Три коня, рвавших старшего брата на части, были ласковы с младшим: жена, родив ему трех сыновей, не настаивала на болезненном выборе, Григоровская шерстомойня давала прибыль, не требуя от Юрия Сергеевича чрезмерных усилий, в театре же он довольствовался ролями, дающими успех яркий, но краткий – при минимальной подготовке, на голом обаянии.
– Нервы, – подытожил он, когда Алексеев взял паузу. – Ты совсем измотался, Кокося. Так нельзя, тебе надо себя поберечь. Поезжай домой, а лучше в Любимовку. Нет, лучше ко мне в Андреевку! А и правда, чего весны ждать? Вот она, весна, на дворе. Бери Марусю с детьми, мои обрадуются. Поживёшь до лета, нет, лучше до осени, приведёшь нервы в порядок. Маманю осчастливишь, она уже и забыла, как ты выглядишь...
Алексеев зажмурился. Предложение брата выглядело пропуском в рай.
– А может, ты ко мне? – рассмеялся он, пряча страх.
До дрожи, до смертной одури Алексеев боялся, что согласится прямо сейчас, без раздумий, бросится, как головой в омут, и принятое решение станет принятым на самом деле, сжигая мосты, отрезая пути к отступлению.
– В Любимовку? Нет, уволь.
– На квартиру!
И Алексеев затянул чувственным баритоном:
– Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал!
– Посмотришь новое имущество, оценишь. С приживалками тебя познакомлю. Погадаем тебе, там целый кабинет гадательный, от покойницы остался. Я в нём сплю, вещие сны смотрю...
– Хорошо, – кивнул Юрий.
Ответил тенором:
– Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю...
И на два голоса, в терцию:
– Ты помнишь, изменник коварный,
Как я доверялась тебе?
И это сказавши, вонзила
В грудь ножик булатный ему...
Посетители ресторана смотрели на братьев круглыми глазами. Кто-то тихонько подпевал. Официант стоял у входа навытяжку, и Юрий помахал ему рукой. Алексеев же официантом не заинтересовался. Краем глаза, делая вид, что целиком поглощён пением, он изучал мужчину, обедавшего за угловым столиком. Лапсердак с засаленными швами, картуз со сломанным козырьком. Клочковатая борода полна хлебных крошек; длинные пряди волос закрывают уши. Руки в постоянном движении: тарелка, ложка, вилка, нож, солонка, перечница – всё передвигалось, переставлялось, создавало новые комбинации, как если бы мужчина не ел, а играл в таинственную игру с соперником-невидимкой. Внешность выдавала в игроке еврейское происхождение, одежда говорила о бедности и неряшестве. Видеть такого человека в ресторане первого класса было удивительно: ортодоксальные иудеи посещали только кошерные заведения, которые содержали их соплеменники, а бедняки ели дома – или, если уж деньги завелись, в столовой на улице Московской, дом восемь, где «обед из двух блюд на масле» стоил тридцать копеек.
Минутой раньше еврей пялился на Алексеевых, подобно остальным, но в отличие от других посетителей лицо его выражало полное удовлетворение. Складывалось впечатление, что он – дирижёр, а братья – скрипка с альтом, вступившие исключительно вовремя.
«Дирижёр? – Алексеев отвернулся, почуяв, что его внимание было перехвачено. – Персонаж бытовой комедии о нравах простонародья. Ошибся спектаклем и выскочил на сцену в оперетте из парижской жизни...» Вспомнились сапожник Ашот и разносчица газет, встреченная у нотариуса. Еврей, сапожник, разносчица. Между ними не было ничего общего. Тем не менее Алексеев поклялся бы, что усматривает здесь тайное сходство, общее сквозное действие, только не в силах опознать, какое именно.
Нервы, подумал он. А я ещё на Марусю грешил. Начать пить бром, что ли?
– Дай парусу полную волю, – повторил Юрий, когда песня закончилась. – Уговорил, окаянный. После обеда и поедем. У меня сани под отелем стоят, на двоих. И ножик булатный имеется, за пазухой. Сперва в аптеку заглянем, купим экстракт наперстянки. Знаешь ведь, у меня сердце.
– У всех сердце, – вздохнул Алексеев.
Иногда ему казалось, что жить без сердца намного проще.
4
«Хлопцы, робы̀ грязь!»
– Брекекекс.
– Что?! – дёрнулся Клёст.
– Берите кекс, уважаемый. С пылу с жару, с изюмом, только что из печи. К чаю подойдёт замечательно!
– Ну, если с пылу с жару...
Ивовая кора не помогла, Мишу по-прежнему знобило. Зубы перестали стучать кастаньетами, и то ладно. В гостинице было натоплено от души, но пальцы на руках и ногах всё равно мёрзли. Да, ещё уши. Уши – особенно. С утра Миша чувствовал себя разбитым, постаревшим лет на десять. Вид завтрака, к счастью, немного его взбодрил: балык, румяные расстегаи, квашеная капуста с алыми каплями мочёной брусники, свежий хлеб с маслом. К чаю подали блюдечко малинового варенья. Живот после вчерашнего поста сводило от голода, но Мише кусок не лез в горло. Балык горчил, от капусты сводило скулы. Глотая, Клёст всякий раз вздрагивал: саднило горло. Сев поближе к самовару, он раз за разом подливал в стакан чаю. Горячий чай да малина – это было то, в чём Миша сейчас нуждался.
Он съел треть брекекекса, не почувствовав вкуса, допил чай и с усилием поднялся из-за стола. Пора в кровать. Пропотеть как следует, отоспаться до полудня – глядишь, попустит.
Заснуть не получилось. Клёст ложился, вставал, бродил по комнате, курил, кашлял. Пил отвар ивовой коры, дважды бегал в надворный деревянный клозет – чай с отваром давали себя знать. В итоге он собрался в город: купить немецкое патентованное средство «от простуды и лихорадки». Чёрт с ней, с ценой! Пусть его принимают за кого хотят! Человек заболел и готов платить несуразные деньги, лишь бы выздороветь.
Что в этом такого?
Перед выходом, проверив, заперта ли дверь, и задёрнув занавески на окне, Клёст пересчитал деньги в саквояже. Пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей. Это было больше, чем он рассчитывал. И с прошлых грандов семьдесят тысяч припрятано. Миша приободрился. Всё, можно завязывать. Пересидим шухер, и здравствуй, новая жизнь, здравствуй, Оленька!
* * *
Кроме Монне, Екатеринославская кишела отелями средней руки: «Бельвю», «Славянский базар», «Ялта»... Клёст подумал и решил, что от добра добра не ищут. Неизвестно, что ждёт его в других гостиницах. А вдруг стоны кровати да скрип полов раем покажутся? Отели отелями, но аптек поблизости не наблюдалось. Куда бегал воробей Гришка, осталось загадкой. Ничего, в центре аптеки, небось, на каждом углу. Пройдемся пешком, разомнём ноги...
Если б ещё уши так не мёрзли!
Рассыпчатый снег искрился на солнце. Скрипел под ногами: бре-ке-кекс, бре-ке-кекс! В голове было звонко, пусто. Подпрыгни – и улетишь в бирюзовую высь на манер воздушного шара-монгольфьера. Ну да, подумалось Мише. Монгольфьеры горячим воздухом надувают, а у меня внутри сейчас такой жар, что с лихвой хватит. А здо̀рово бы было – улететь отсюда, прихватив саквояж с деньгами. И поезда не нужно, и фараонам кукиш скрутим из поднебесья: выкусите!
Земля ушла из-под ног, чтобы вернуться ледяной скользанкой. Очень твёрдой.
– М-мать!
Домечтался, ротозей! Под ноги смотреть надо, а не в небесах витать. Многострадальному копчику снова не повезло. Больно-то как! Охая и оскальзываясь, Миша предпринял попытку встать. К нему, захлёбываясь лаем, из подворотни бросилась кудлатая дворняга, цапнула за левую ѝкру. Вложив в удар всю накопившуюся злость, Клёст врезал собаке с носка правой, в точности по выпирающим ребрам. Сучку аж подбросило. Отчаянный визг и скулёж доставили Мише мрачное удовлетворение.
Получила, тварь?
– Вот ведь ироды пошли! А с виду приличный, шляпу надел...
Поджав хвост, дворняга удрала в спасительную подворотню. Клёст проследил за ней: мало ли, вдруг снова кинется?
– И не жалко божью животину-то...
Миша оглянулся.
Дородная старуха в древнем салопе бордового сукна с меховым подбивом уставилась на него из-под кустистых бровей. На миг почудилось: за спиной старухи отирается мёртвый кассир, выглядывает из-за плеча. Миша отшатнулся, чуть снова не упал, взмахнул руками, ловя равновесие, а когда взглянул на старуху, кассира за её спиной уже не было. Да и сама карга претерпела разительные изменения. Сухонькая, сморщенная, закутанная в ветхий бурнус, старуха опиралась на узловатую клюку, зыркая на Клёста чёрным птичьим глазом. Яга, баба Яга, куда и осанистость делась, и салоп...
– Не гляди на меня, ирод! Ишь, уставился!
Старуха заковыляла на другую сторону улицы, бормоча себе под нос: «Душегубец! Как есть, душегубец...» Миша пожелал ей навернуться и сломать шею, но пожелание пропало втуне: на ногах старуха держалась крепко, чему немало способствовала её клюка.
Левую ѝкру холодил морозный воздух. Штанину порвала, чёртова сука! Хорошо, крови нет: брюки, кальсоны и своевременный пинок не дали собачьим зубам порезвиться вволю. Слава Богу! Вдруг бешеная?
Не желая ходить по городу в рванье, Миша спустя четверть часа отыскал портновскую мастерскую. Пришлось ждать: Яков Моисеевич Гузельман, как значилось на вывеске, был занят примеркой. В мастерской стояла африканская жара, но из дверей мерзко дуло, как ни закрывай. В ожидании своей очереди Миша ёжился на старом стуле, поворачивался к двери одним боком, другим, прятал многострадальные уши в воротник пальто. За окном, на другой стороне улицы, красовалась вывеска:
ЗДЕСЬ СТРИГУТЪ И БРЕЮТЪ
КОЗЛОВЪ
Клёст провёл ладонью по щеке. Побриться, что ли? Ладно, успеется. Если он не уедет из города за пару дней, тогда и сходит. Щетина невелика, в глаза бросаться не должна. Когда Яков Моисеевич, освободившись, принял срочный заказ, снова пришлось ждать – в одних кальсонах.
– Сердечное вам спасибо! Замечательная работа...
– Теперь вы таки знаете?
– Что?
– Ну, куда вам обратиться, если шо?
– Надеюсь, не понадобится. Но если что – только к вам!
Николаевскую площадь Миша обошёл стороной, хотя для этого пришлось дать крюк. Бережёного Бог бережёт – показываться возле Волжско-Камского банка Клёст не желал. Аптека на углу оказалась закрыта. Он покружил улицами, пошарил взглядом: ага, вот ещё одна.
Работает.
Его сильно толкнули в спину, Клёст едва удержался на ногах. Ступил в рыхлый снег у края тротуара, ища опору, обернулся.
– Шо вылупился?
В ноздри ворвалась могучая волна перегара. Перед ним бычился красномордый мужик в сбитом на затылок треухе. Долгополый армяк землистого цвета был подпоясан линялым кушаком.
– Это вы мне?
Клёст размял в кармане пальцы.
– Шо там, Мыкола? – спросили из-за мужицкой спины.
– Чёрт в шляпе! Вылупился!
– Шо?! Залупается?!
Армяк растроѝлся. Двое приятелей выступили у него по бокам: Тулуп и Кожух, как мысленно окрестил их Клёст. Оба ражие, всклокоченные, со злым хмельным куражом во взгляде. Во рту Тулупа блестела стальная фикса, у Кожуха под глазом наливался грозовой тучей свежий фингал. Три богатыря, понял Клёст. Миром не разойдёмся. Вот и славно, вот и фарт подвалил. Ему со вчера свербело выпустить пар, начистить рыло какой-нибудь сволочи.
«Без стрельбы,» – напомнил себе он. Убийство на улице средь бела дня было бы крахом всех его чаяний. Впрочем, драка была не меньшей дуростью, угрозой всему замыслу. Любой вор, у которого котелок варит, постарался бы её избежать. Но Клёст нуждался в драке, как в лекарстве. Откровенно говоря, он и сам не понимал, с чего это ему приспичило доводить конфликт до рукопашной. Любой резон виделся бессмыслицей, кроме главного: хочется, аж горит.
– Извинитесь, господа. И можете идти своей дорогой.
Разумного человека такая вежливость, а главное, холодная улыбка сподвигли бы последовать совету. На буйную троицу это подействовало, как красная тряпка на быка.
– Ни хрена се, борзо̀й!
– Хлопцы, робы̀ грязь!
Армяк прянул вперёд, махнул сплеча заскорузлым кулачищем. Клёст отшатнулся, кулак пронёсся в вершке от лица. Армяк утратил равновесие, коим и ранее не слишком-то обладал, и Клёст ему охотно помог: ухватил за ворот, дёрнул, направляя детину в фонарный столб.
Столб ощутимо содрогнулся.
– Гаплык тебе, фертик!
Закукарекали петухи, налетели. Сшибли котелок с головы. Мелькнуло вскользь, огнём обожгло ухо. Меньше всего собираясь махаться по-честному, как кулачные бойцы на Песках за Университетским садом, Клёст с опозданием понял, что выбрал неудачное место для выпуска пара. Одна досадная ошибка, и он сойдёт с рыхлого снега на укатанную дорожку, поскользнется, упадёт – и тогда его затопчут. Ограничен крохотным пятачком, он кружил, вскинув руки, прикрывая голову. Нет, не повезло – нога поехала на льду. Чудом извернувшись, Клёст завалился набок, смягчая падение. Даже не пытаясь встать, с силой пнул в колено набегающего Кожуха – тот с воплем грохнулся под фонарь – схватил горсть грязного снега, швырнул в лицо Тулупу. Рядом возился оглушённый Армяк, тыкал ручищами наугад – без шапки, весь в крови, с разбитой в хлам рожей. Сунул Мише в скулу: хрустнули зубы, рот наполнился солёным, горячим. Кажется, Клёст прокусил язык. Ослепший Тулуп упал на колени, шаря в поисках врага – циклоп, ловящий Одиссея – и Миша саданул его ребром ладони в кадык, снизу вверх, проклиная минуту, когда чёрт дернул его ввязаться в эту бессмысленную стычку, будь она проклята...
В уши ворвался пронзительный свист.
Фараоны?!
От дальней подворотни, надувая хомячьи щёки, зажав в зубах свисток, к ним спешил бородатый дворник. Сверкала начищенная бляха, в руках дворник сжимал лопату, и явление сие не сулило пьяным буянам ничего хорошего.
– Тика̀ем, Мыкола!
Шкандыбая, оскальзываясь, богатыри дунули вниз по улице. Клёст сплюнул кровью, утёр ладонью губы, подобрал котелок и начал отряхивать пальто свободной рукой. Свист прекратился, рядом, пыхтя и отдуваясь, стоял раскрасневшийся от бега дворник.
– У-у, раклы, пьянь голозадая! – он погрозил вслед убегающим лопатой. – Средь бела дня, шелупонь! Как вы, ваше благородие?
Мише сделалось тошно, а от участия в голосе дворника – вдвое. Он с усилием сглотнул, вдохнул-выдохнул: раз, другой. Слава Богу, не достал револьвер. Была бы сейчас маета...
– Вашими молитвами, голубчик. Вовремя подоспели.
– Кровь у вас на губе. И из носу тоже. Вам бы к дохтуру!
– Некогда, – отмахнулся Миша. – Тороплюсь.
– В аптеку, а? Вон она, рядышком.
– Благодарю за заботу. Я туда и собирался.
Сунув дворнику двугривенный, он двинулся к аптеке, тщательно выбирая наименее скользкие места. На ходу проверил карманы: всё ли на месте? Ничего не обронил? Револьвер, платок, бумажник... С бумажника мысль перескочила на саквояж с деньгами, оставленный в номере. В груди шевельнулась змея тревоги. При такой злой непрухе надо было саквояж с собой прихватить. Вдруг номер обнесут? По идее, вряд ли: не «Гранд-Отель», но и не притон-клоповник, честное место. Разъездной агент – птица слишком скромного полёта, чтоб рассчитывать на куш. С другой стороны, при его нынешнем везении...
А взял бы с собой – и что? Выронил бы в драке, а из саквояжа – ассигнации ворохом! Или раньше, когда на льду грохнулся. Нет, таскать этакие деньжищи – тоже не выход. Припрятать в ухоронке? До поры, до времени?
– Какими судьбами? Здравствуйте, Михаил...
– Хрисанфович.
В первый миг померещилось: фраер из «Астраханской» раздвоился. Нет, ерунда: второй заметно моложе. Но похож, чертовски похож! Брат? Оба вышли из аптеки, куда Миша только собрался зайти.
– С вами все в порядке? Выглядите вы скверно, если по правде.
– Здравствуйте, Константин Сергеевич, – память на имена у Миши была отличная. – Да вот, напало пьяное дурачьё. Посреди бела дня, представляете? Хорошо, дворник подоспел.
– Ах, незадача! Куда только полиция смотрит?!
– Знаем мы, куда она смотрит. В карман, где рубль.
– Позвольте представить: брат мой, Юрий Сергеевич. Юра, Михаил Хрисанфович агентом ездит, шерсть продаёт. От нашего товарищества. Небось, твоя шерсть, григоровская?
Клёст напрягся. Юрий Сергеевич? При первой встрече фраер его поминал. А ну как приступит с расспросами? «Сколько нынче стоит пуд шерсти мытой, но некрашеной, а сколько крашеной?»
– Моё почтение, Юрий Сергеевич.
Младший фраер протянул руку:
– Взаимно.
Он с отменным безразличием подарил Мише крепкое рукопожатие. Тему, к счастью, развивать не стал: молчал, улыбался. Клёст был ему совершенно неинтересен, и слава Богу! Старший фраер смотрел Мише за спину. По загривку побежали зябкие мурашки. Клёст не выдержал, обернулся. По улице гуляла знакомая старуха. Не карга с клюкой – другая: дородная, осанистая, в бордовом салопе и старомодном капоре – та, что привиделась на месте карги. За её спиной вприпрыжку семенил убитый кассир из Волжско-Камского.
Миша моргнул. Ничего не изменилось.
– Вы её знаете? Старуху в красном?
– Не имею чести, – в сомнении протянул фраер. – Но знаете, где-то я её видел. Вот только не припомню, где. А вы?
Видит! Он её видит! Значит, не призрак? Не морок?!
– Нет, я с ней не знаком, – Мишу трясло, и не только от лихорадки. – А что насчёт молодого человека?
– Молодого человека?
– Вон, за старухой.
– Извините, не вижу. Там точно есть молодой человек?
– Ох, простите! Он в подворотню нырнул, а я и прозевал.
Фраер пожал плечами: бывает.
«Что ж это получается? Старуху он видит, а мертвеца-кассира – нет? Выходит, старуха настоящая, а кассир мне чудится?»
– Нам пора. Всего вам доброго, Михаил Хрисанфович. Берегите себя.
– Постараюсь. И вам всех благ!
Забыв о братьях, Клёст глядел на старуху. Та всё шла и шла в его сторону, величественно шагая по самой середине улицы, но при этом оставалась на месте. Если и приближалась, то на вершок, не более. Что за чертовщина?! Из-за старухи выглядывал мертвец, шевелил пальцами, приглаживал волосы – и опять прятался.
Клёст встряхнулся и сбежал в аптеку.
Ожидая, пока козлобородый провизор (вспомнилась цирюльня Козлова!) напишет на бумажке, как принимать патентованное снадобье, Миша прижимал к скуле свинцовую примочку и глядел в окно. Старуха в бордовом салопе гвоздём, забитым в доску, торчала напротив аптеки, в стекле её было хорошо видно. И кассир, стервец, никуда не делся.
– Видите старуху? – спросил Миша у провизора.
– Старуху? – удивился козлобородый. – Какую?
________________________________________
[1] Борзой – агент сыскной полиции (жарг.).
[2] Дубак – дворник (жарг.).
[3] Покупка – карманная кража (жарг.).
[4] Лопатник – бумажник (жарг.).
[5] Косая (косуха) – тысяча (жарг.).
[6] Бан – вокзал (жарг.).
[7] Записать – убить ножом (жарг.).
[8] Зорить – смотреть, выглядывать (жарг.).
[9] Комплексный обед ценой в один рубль. Сейчас это называется бизнес-ланч.
[10]Суп-пюре из спаржи.
[11] Овощной соус к дичи, на оливковом масле и красном вине, со специями.
[12] Говядина на ребре.
Глава шестая. «ПОСЛЕ ЧЬЕЙ СМЕРТИ?»
1
«Вам не кажется, что это слишком?»
– Анна Ивановна, а вы гадать умеете?
– Немножко...
– Погадайте мне! Ну пожалуйста!
– Я даже не знаю...
– Я знаю! Погадайте, я заплачу̀! А хотите, поцелую?
– Ой, ну что вы такое говорите...
Юрий был в ударе. Пяти минут не прошло, как он обаял младшую приживалку: слова из неё по-прежнему приходилось тянуть клещами, но клещи кузнечные сменились маникюрными щипчиками.
– А кто вас учил гадать, Анна Ивановна?
– Елизавета Петровна...
– Заикина?
– Она самая.
– Заикина, говорят, отменно гадала?
– Елизавета Петровна всё насквозь видели...
– А вы, значит, её ученица?
– Мебель мы...
– В смысле?
– Маменька говорят, что мы были мебель. А там и выучились, только чуточку...
– Ну какая же вы мебель? О, я знаю! Это мы с братом – дубовые шифоньеры на гнутых ножках. А вы – ореховый трельяжик! Изящество и очарование!
– Ой, ну что вы такое говорите...
– Погадайте, умоляю! Хотите, на колени встану?
– Ой, зачем на колени? Я сама не гадаю, мы с маменькой, вместе...
Маменька пряталась. Едва Алексеевы вошли в прихожую (дверь им открыла дочь), как Неонила Прокофьевна нырнула в заветную каморку и носа оттуда не казала. Так ведут себя кошки, если в чём-то провинились. Впору было поверить, что возвращение Алексеева нарушило какие-то тайные планы старшей приживалки, а главное, грозило ей всеми карами небесными. Отдуваться за маменьку пришлось Анне Ивановне, и если поначалу девица чувствовала себя хуже, чем в зубоврачебном кресле, то стараниями Юрия порозовела и разговорилась.
– Вместе гадаете? Это как?
– Ну, я карты раскидываю, а маменька вокруг хлопочут...
– Хлопочет? Очень интересно.
– Да что тут интересного...
– Я сгораю от любопытства. Неонила Прокофьевна! – Юрий кинулся к двери, за которой подслушивали, сопели, вздыхали. – Голубушка! Похлопочите за меня! Пусть Анна Ивановна раскинет мне карты... Кокося, проси! Тебя они послушают.
– Нижайше прошу, – подыграл Алексеев. – Буду обязан.
Обязательство, озвученное вслух, подвигло мамашу выбраться в коридор. Бодро семеня, она сунулась было в кабинет Заикиной, но вдруг испугалась, аж присела:
– Дура я, дура! Вы же там спите!
– Это ничего, – успокоил её Алексеев. – Заходите, не стесняйтесь. Кушетка застелена, а бельём я не разбрасываюсь. Мой быт вполне приличен для посещения юными девушками, а их родительницами – тем более.
Младшую приживалку трудно было назвать юной девушкой – скорее уж старой девой! – но преувеличенная галантность брата оказалась заразительной. И всё-таки Алексеев не удержался:
– Разве что зубная щётка? Вот своевольница! Так и норовит сбежать...
Неонила Прокофьевна содрогнулась – и пулей влетела в кабинет. Братья последовали за ней, подталкивая в спину стесняющуюся Анну Ивановну. В кабинете мамаша забилась в угол, что при её комплекции было подвигом, и глазами указала дочери на кресло за гадательным столиком. Младшая подчинилась, хотя и с очевидной неохотой. Достав из ящика карточную колоду, она стала её тасовать.
– Я – бубновый король, – предупредил Юрий.
– Это неважно...
– Как неважно?
– Да так...
Мамаша тем временем выбралась из угла и принялась шнырять по кабинету. Действия приживалки ускорились, страх исчез, смущение – тоже. Она словно увидела некую заветную цель и сейчас стремилась к ней, отбросив сомнения. Сев на кушетку, Алексеев с удивлением следил, как Неонила Прокофьевна двигает торшер ближе к подоконнику, меняет местами фарфоровых слоников, пасшихся за стеклом миниатюрного буфета, снимает шаль и вешает её на край входной двери, предварительно распахнув дверь пошире. Мотивация, отметил Алексеев. Я не знаю мотивации, которая движет приживалкой, но ясно вижу, что она есть – и диктует все эти на вид бессмысленные перестановки. Если бы кабинет был декорациями, выстроенными на сцене, а все мы – актёрами, зритель следил бы за женщиной, как за главным персонажем, затаив дыхание, пытаясь понять, что ею движет. По-моему, мизансцена складывается так, что Юра не слишком в неё вписывается...
– Я душевно извиняюсь! Как вас звать-величать?
– Юрий Сергеевич.
– Юрий Сергеевич, батюшка мой, вас не затруднит сесть рядом с Константином Сергеевичем? Да, на кушетку. Вот-вот, а ручки сложите на коленках.
– Как примерный мальчик?
– Ой, вы такой забавник! Спасибо, вы нам очень помогли.
– Чем же я вам помог?
Мамаша не ответила. Спросила:
– На что гадать станем? О чём знать-ведать желаете, Юрий Сергеевич?
– Знать? Хочу знать, когда я умру.
Вопрос ударил Алексеева под дых. Закружилась голова, под ложечкой началось колотьё. Сердце, вспомнил он. «В аптеку заглянем, купим экстракт наперстянки. Знаешь ведь, у меня сердце...» После тридцати все нынешние Алексеевы волей-неволей начинали задумываться о смерти. Прадед Кокоси прожил семьдесят семь лет. Дед – шестьдесят семь, на десять лет меньше. Отец – пятьдесят семь, скинув с жизненного срока ещё десяток. Проклял кто, не иначе! Сам Алексеев уже лет пять как сомневался, что ему удастся перейти рубеж сорока семи. Это сколько осталось-то? Тринадцать годков? Похоже, Юрий, младший брат, себе намерил и вовсе чепуховые года̀. И тридцати не дождался, уже думает.
– А может, на деток погадаем? На успех дела?
– Когда я умру, Анна Павловна?
– Отвечай, Аннушка, не тяни...
Карты веером лежали на столе, но Анна Ивановна не смотрела на них. Одну из карт девушка смахнула на пол, но даже не потрудилась поднять. Упавшая карта идеально вписывалась в сложившееся положение вещей – так вазочка с единственной конфетой или звякнувший колокольчик превращают комедию в трагедию. Взгляд младшей приживалки перебегал с торшера на слоников, со слоников на шаль; скользнул по Алексееву, как по элементу декораций, бессловесному, но крайне важному для мизансцены. Лицо девушки сморщилось, будто от жалости или болезненного спазма:
– Двадцатый.
– Что, простите?
– Бог вас приберёт в двадцатом году.
– Надеюсь, в одна тысяча девятьсот? Мне трудно представить себя Мафусаилом.
– Да.
Пятьдесят один, быстро подсчитал Алексеев возраст брата на момент предсказанной смерти. Не сорок семь, но тоже радость из сомнительных. Не верю, хотел воскликнуть он, разрушив иллюзию пророчества, но язык заледенел. К глубочайшему его сожалению, он верил гадалке, верил всей душой, как зритель верит бесприданнице, умирающей на палубе парохода от меткой пули ревнивца-жениха, верит, несмотря на картон, мешковину и подсказки суфлера, плачет горькими слезами, хотя и знает, что после занавеса актриса встанет и выйдет на поклон. «Верую, ибо нелепо![1]» Такая же великая вера снизошла на Алексеева, окутала косматым облаком, и он не знал, что тому причиной: шаль, слоники, торшер – или квартира, где незримо царил дух покойницы Заикиной.
– Что же сведёт меня в могилу? Сердце?
– Пуля.
– Вы пугаете меня, Анна Ивановна. Я застрелюсь?
– Вас расстреляют.
Юрий нервно рассмеялся:
– Расстрел? Вам не кажется, что это слишком?
– Кажется, – прошептала Аннушка. – Это ужасно...
Она наклонила голову, пытаясь скрыть слёзы.
– Кто же меня расстреляет?
– Я не вижу. Наверное, солдаты.
– Значит, расстрел, – к Юрию вернулось самообладание, а с ним и весёлое расположение духа. – Расстреливают у нас военных, гражданских вешают. А, нет, вспомнил: расстреливают и гражданских, если они бомбисты. Полагаю, к двадцатому году я всей душой обращусь к идее террора. Меня выведут перед строем солдат, поручик скомандует «пли»... Я буду один или в хорошей компании?
– В компании.
– Имена? Фамилии? Род занятий?
– Я слышу только имена. Слышу плохо, неразборчиво. Лиц не вижу.
– Ну, хоть что-то! Как же зовут моих соратников по террору?
Анна Ивановна резко встала из-за стола, задёрнула шторы. В кабинете сделалось темно, несмотря на день снаружи, но девушка сразу же зажгла торшер. Тусклый электрический свет превратил кабинет в музей восковых фигур, где каждая тень обращает мертвое в мертвое, но подобное живому.
– Павел, – произнесла молодая гадалка, не глядя на карты. – Олег. Ростислав.
– Вы уверены?
– Теперь да.
Алексеев содрогнулся. При всей бредовости пророчества Анна Ивановна назвала по имени трех сыновей Юрия. Предположить, что Алексеев-младший в грядущем веке сколотит из себя и сыновей террористическую ячейку, чтобы заслужить преступлениями смертный приговор – нет, это было выше всякой фантазии. Но имена... Юрий продолжал шутить, совпадение имён не испугало его, напротив, успокоило, превратив ситуацию в откровенный балаган, и Алексеев уже не слушал брата. Чувствуя острую потребность встать, изменить сложившуюся мизансцену, он поднялся с кушетки – и шагнул к стене, на которой висел живописный портрет в золоченой раме. Ночью, да и утром тоже портрет прошел мимо внимания Алексеева, словно картины и не существовало, а сейчас, днём, в зашторенном кабинете при свете торшера, портрет, считай, прыгнул ему навстречу.
Женщина лет семидесяти пяти. Рослая, статная, с властным, отменно выразительным лицом. Морщины, складки, общая подвижность черт – всё выдавало артистическое прошлое. Одежды, какие носили четверть века тому. Алексеев мысленно переодел женщину в бордовый салоп, нацепил на голову капор. Если и были сомнения, сейчас они исчезли. На портрете изображалась старуха, которую Алексеев видел у аптеки.
«Вы её знаете? – спросил агент. – Старуху в красном?» И Алексеев ответил: «Не имею чести. Но знаете, где-то я её видел. Вот только не припомню, где...»
Здесь, сказал себе Алексеев. Я видел её на холсте, просто не зафиксировал. Отложилось в памяти, всплыло при нужде. Там, у аптеки, гуляла похожая старуха, вот и сошлось, сплелось так, что не распутать.
– Заикина? – спросил он у портрета.
– Она, матушка, – зашелестело позади, слилось в подобострастный дуэт. – Она, благодетельница!
Портрет был подписан. «И» с резким наклоном вправо. Флажок над первой чертой струился назад, усиливая динамичность почерка. Точка. «Р» с круглой шапкой, похожая на старомодный «ферт[2]». Каракули, в которых с трудом угадывались «ѣ» и «п». Репин? Илья Ефимович? Стоял и год: 1877.
– Когда я умру? – спросил Алексеев у портрета.
За спиной металась Неонила Прокофьевна: двигала, переставляла, меняла местами. В кабинет хлынул свет: Анна Ивановна отдёрнула шторы. Мизансцена менялась, наполнялась новыми смыслами, и Алексеев боялся отвернуться от портрета, нарушить сцепку предлагаемых обстоятельств, сломать великую гармонию мелочей.
«Мебель мы... – вспомнил он слова младшей приживалки, когда Юра спросил её об ученичестве у Заикиной. – Маменька говорят, что мы были мебель. А там и выучились, только чуточку...» Мебель, мысленно повторил он, стараясь сохранить манеру речи Анны Ивановны. Мы были мебель. Я что, тоже мебель? Я сейчас мебель?!
– Когда же я умру? Раньше брата? Позже?
– Позже.
– Если меня расстреляют, Кокося, то тебя повесят, – хохотнул Юрий. – Сам знаешь: кому суждено быть повешенным...
Шутка, в целом натужная, несмешная, странным образом вписалась в происходящее, сделалась естественной частью единого целого.
– Насколько позже?
– На восемь лет.
Двадцать восьмой, прикинул Алексеев год вероятной смерти. В возрасте шестидесяти пяти лет. Переживу отца на восьмерѝк, уже неплохо. До деда, впрочем, не дотяну. Что можно сказать про нас с братом? Вот и прожили мы больше половины...
– Повешение? Чума? Холера?
– Сердце.
– Приступ?
– Да. Вы предложите почтить память Саввы Морозова. Вы станете благодарить его за вклад в театральное искусство. Я вижу, как встают люди в правительственной ложе. Вижу, как белеют их лица. Вижу, как они переглядываются. Кажется, они встали раньше, чем вы помянули Морозова, и ждали чего-то другого. Их вы тоже благодарите...
– За что?
– За то, что они позволяют вам краснеть не сразу, немедленно, а постепенно. Так сказать, в процессе естественной эволюции.
– Краснеть? Я за что-то стыжусь?
– Вряд ли. Потом вам говорят, что вы сболтнули лишнего. Что у сказанного вами будут последствия. Вы садитесь в кресло, ваше лицо наливается кровью. Больше я не вижу ничего.
– Вам не кажется, что это какая-то фантасмагория? В духе господина Гоголя? «Петербургские повести, или страшная месть Алексеевых»? После смерти мы с братом не начнём красть шинели у генералов?
Нет, возразила Заикина с портрета. Шинели? Что за глупости!
– Как-то можно избежать этой судьбы? Расстрела, сердечного приступа?
– Я душевно извиняюсь, батюшка мой...
Неонила Прокофьевна не двинулась с места. Если раньше, перед каждым ответом дочери, она металась по квартире, что-то меняя в интерьере, то сейчас стояла, где и раньше. Да и ответила сама, не дожидаясь Анны Ивановны:
– Боженька на небесах всё видит, всё знает. Добрые дела любому зачтутся, тут спору нет! Вот если двух невинных женщин выгнать на мороз, тогда да – и «пли», и сердечко, и вилы дьявольские. А если милосердие оказать, как Христос заповедывал, тогда и ружьишко не выпалит, и сердчишко не подведёт. До ста лет, ей-богу! Подтверди, Аннушка: ты всё видишь, всё знаешь наперёд...
Алексееву стало противно. Морок развеялся, от пророчеств остался лишь дурной привкус во рту. Она врёт, подумал Алексеев. Она врёт, и знает, что врёт, что все видят, как она врёт, и знают; и мне неловко, противно, я хочу это прекратить, но не знаю, как, и сердце что-то побаливает, трепыхается...
В кабинете стало холодно, будто и не топили. Алексеев отвернулся от портрета, прошёл к саквояжу, стоявшему на полу, и переставил его на стул.
– Я душевно извиняюсь, матушка, – он с такой точностью скопировал интонацию старшей приживалки, что Неонила Прокофьевна ахнула, Анна Ивановна же затряслась, будто от лихорадки. – Только я вам не верю. Не верю, и всё тут.
Он достал бумажник:
– Вот вам пятнадцать рублей. За прокорм, раз уж я столу̀юсь у вас, на продукты. Ну и за гадание, разумеется. Скажу по чести, оно стоит этих денег. Юра, что скажешь?
Вместо ответа брат вынул два золотых империала[3].
– Расстрел, – пояснил Юрий Сергеевич. – Расстрел по любому прейскуранту стоит дороже сердечного приступа. Как думаешь, Кокося?
2
«Жить надоело?!»
Темнело с ужасающей быстротой.
Близкие сумерки были тут ни при чём. Косматая отара туч, словно выкупанные в грязи мериносы, брела с востока, на ходу подъедая сочную небесную лазурь. В прожорливости они не уступали библейской саранче. К тому моменту, как Миша выбрался из саней напротив почтово-телеграфной конторы, тучи съели небо всё без остатка. Порыв ветра швырнул в лицо колючую снежную крошку, сорвал с головы котелок. Клёст едва успел его поймать. Одноэтажное, выстроенное из красного кирпича в виде буквы «Г», здание конторы стояло на краю свалки, где стаи ворон и бродячих собак шумно соперничали за кости и требуху коров, быков, овец, лошадей – всё это добро свозилось сюда от ближайшей бойни.
В центре фасада, над входом красовалась вывеска. Черный фон, золото букв, хищный силуэт двуглавого орла: «Государственная почтово-телеграфная контора №...» Сам номер был отбит. Внутри импровизированного квартала, огороженного сторонами «Г» – почтой и конюшнями – располагался большой двор, мощёный булыжником: стоянка почтово-пассажирских дилижансов.
Этих зверей древности, вымиравших под напором бойкой «чугунки», Миша не любил, предпочитая поезда. Но коль скоро железнодорожный фарт отвернулся от вора, не лучше ли объехать его на кривой? Авось, вывезет! Всё приятней, чем куковать в скрипучем номере Монне.
Внутри контора была просторнее, чем казалась снаружи. Пять помещений занимал телеграф, оборудованный аппаратами конструкции Морзе. Миновав операционный зал с окном для приёма посылок, Миша вошёл в комнату, служившую одновременно местом продажи билетов и залом ожидания.
Здесь было тесно. На единственной лавке расположилась дама лет сорока, прямая и строгая, как флагшток. Она брезгливо поджимала губы, морщила нос, прикладывала к губам батистовый платок. В углу, на полу, подстелив под себя вонючую попону, похрапывал мужчина в шинели межевого инженера. Инженер привалился к стене плечом и затылком, время от времен схватываясь: «Что? Где?!» – и опять погружаясь в сон. С потолка свисала коптящая керосиновая лампа. Под ней на колченогом табурете сгорбился юноша в клетчатом пальто. Юноша, вне сомнений, был сильно близорук: потрёпанный томик стихов в дешёвой бумажной обложке он держал у самого лица, тыкаясь носом в «розы и грёзы».
На стене возле кассового окошка висело пожелтевшее расписание. Изучать его Миша не стал – сунулся прямиком в окно.
– Когда дилижанс на Москву?
Румяный кассир блеснул стеклышками очков:
– Через час с четвертью. Может, позже.
– Почему не с утра?
Румяный развёл руками:
– Поломка. Колесо меняли. Так что, билет брать будете?
– Буду.
– Один?
– Один. Первый класс есть?
– Нет. Второй брать будете? Последнее место осталось.
– Давайте второй.
– Багаж?
– Саквояж. В салон возьму.
– Дело, конечно, ваше. Но вам же было бы удобнее...
– Мне будет удобнее взять саквояж в салон.
– Как скажете. С вас семнадцать рублей двадцать пять копеек.
Почти столько же стоил билет первого класса на поезд. Ладно, отмахнулся Клёст. Грех Бога гневить. Уберусь отсюда – поставлю в церкви свечку.
– Ожидайте в зале. Кондуктор объявит посадку.
Сперва Миша хотел устроиться на лавке возле дамы-флагштока, но дама так на него вызверилась, что Клёст счёл за благо остаться на ногах. Насидимся в дилижансе, за пять-то дней до Москвы! Он бродил из угла в угол, дымил папиросой. Чуял: ждать – опасно. Город – западня, гостиница – западня. Нужно выбираться на волю, и чем скорее, тем лучше. Рассудок возражал чутью, бурчал, что нет никаких разумных причин менять планы. Надо отсидеться, подождать, пока кутерьма уляжется, спокойно уехать по железной дороге – всё равно куда.
Пересадка, другая...
Причин не было, а беспокойство было. Зудело под ложечкой, покусывало сердце, ныло сломанным зубом. Стылый сквозняк задувал из несуществующих щелей, заставлял вжимать голову в плечи, ёжиться, оглядываться с опаской. Трижды чутьё спасало Клёсту жизнь – как минимум, свободу. Сейчас оно криком кричало: беги, дуралей! Беги, пока не поздно! Всё неспроста: билеты, которых нет, вокзальные жандармы, которые есть, простуда, которая никак не проходит. Болезненные падения, кот расцарапал руку, троица буйных пьяниц, глупейшее желание ввязаться в драку; призрак убитого кассира, брекекекс, старуха в красном, фраер – в каждую бочку затычка, куда ни сунься, везде он, и в кошмарах, и наяву...
«Фраер-то тут при чём?!» – вопил рассудок.
Гнилой человек, отвечало чутьё. Не нравится.
«Гостиницу тебе присоветовал...»
С лихим умыслом, объясняло чутьё. Номер скрипучий и служитель растяпа. Сейчас вернёмся, а саквояжик – тю-тю!
«Ерунда, – хрипел рассудок. – Глупость...»
И сам себя перебивал:
«Погоди! Вернёмся? Куда? Зачем?»
Саквояж, взвыло чутьё. Саквояж с деньгами!
Проклятье! На стоянку дилижансов Миша отправился прямиком из трактира, куда зашёл отобедать после аптеки. Расписал как по нотам: выезд завтра утром, куплю билет заранее, чтобы не опростоволоситься, как с поездом, вернусь к Монне, высплюсь... Выспался, дурья башка?! До отправления час, а саквояж – в гостинице!
Он пулей вылетел наружу, забыв застегнуть пальто.
* * *
Метель ослепила, хлестнула по лицу россыпью жгучих игл, едва не вырвала из рук билет. Сквозь мглистую завирюху Клёст чудом разглядел сани – извозчик уже разворачивал лошадь, намереваясь уезжать. Миша бросился наперерез: «Стой! Стой!» Ветер рвал крик с губ, уносил прочь, набивал рот снегом вместо слов. Клёст закашлялся – и чуть не рухнул под полозья.
В последний миг он успел уцепиться за край саней.
– Жить надоело?!
– В гостиницу! К Монне!
– Не, не поеду...
– Плачу̀ вдвое! Туда и обратно!
– Так бы сразу и сказали! Домчу мигом!
Уже в санях, укутавшись в облезлую меховую полость, Клёст спрятал билет за пазуху, застегнулся. Лошадь упрямилась, не желая ускорять шаг, но извозчик взялся за кнут, и сани понеслись быстрее, лихо подлетая на ухабах – так, что желудок подступал к горлу, а сердце замирало в груди.
«Успею!»
Ага, успеешь, а саквояжик-то – тю-тю!
Тююу-у-у! Тююу-у-у! – издевательски выл ветер. Пока ехали, Миша весь извёлся, то и дело поглядывал на часы. Сумерки налились ваксой, часовые стрелки плясали, их удавалось рассмотреть, лишь когда сани проезжали мимо редких фонарей.
– Приехали, ваше благородие!
– Жди здесь, я быстро.
Он ввалился в гостиницу в облаке морозного пара, роняя с ботинок хлопья снега на вытертую дорожку.
– Ключ! И свечу.
Ключ служитель искал нестерпимо долго. С той же убийственной медлительностью он разжигал свечу. Миша нутром чувствовал, как секунда за секундой проваливаются в кишки, копошатся там кублом червей.
Замо̀к открылся со второй попытки.
Саквояж!
Саквояж был на месте – в дальнем углу за приземистым кривоногим комодом. Лучше в номере не спрятать. Серьёзный вор за минуту отыщет, но шелупонь вроде той, что Клёст на дело собрал, может и не заметить. На комоде лежала мятая подушка в линялой голубой наволочке – в точности так, как Миша оставлял. Похоже, никто в апартаментах не шарил. Хотя... Клёст раскрыл саквояж, едва не сломав защёлку. И тут всё в ажуре, купюры и пачки плотно уложены торцами кверху.
Ничего не пропало.
Миша утёр испарину со лба. Облегчения он не испытал. Ныла подбитая скула, мёрзли уши, всё тело ломило, словно Клёст полно̀чи таскал ящики с чугунными чушками – был в его биографии и такой эпизод. За ящиками скрывалась хлипкая задняя дверь в помещение заводской кассы. До кассы Миша в итоге добрался, но куш оказался невелик, после чего Клёст и решил вплотную заняться «банковскими делами».
До отправления дилижанса оставалось полчаса.
3
«К чему она готовилась?»
– Ваше гадание, Анна Ивановна, выше всяческих похвал. И все-таки отмечу, что кое-что на мой взгляд было лишним. Так, пустяк, но он выбивался из общего строя.
– Я душевно извиняюсь, – дочь молчала как рыба, зато мамаша, выпив рюмочку, сделалась чрезвычайно словоохотливой. – Что же именно?
– Карты.
– Карты? Я душевно...
– Извиняюсь, – подсказал Алексеев. – Вы извиняетесь так душевно, что я готов слушать ваши извинения часами, словно арию Аиды.
И напел с большим чувством:
– Вернись с победой к нам! В моих устах преступно это слово...
Иронии мамаша не уловила:
– Ой, благодарствую! Вот сразу видно: человек с образованием, тонкая натура! Знает, как угодить женщине... Вернись с победой к нам!
И Неонила Прокофьевна вернулась – если не с победой, то к теме разговора:
– Да что вы такое говорите? Как же карты могут быть лишними при гадании?
– Сам удивляюсь. Я бы даже сказал: душевно удивляюсь.
Ужинали в столовой. Это слегка удивило Алексеева, решившего было, что ужин в кухне – заикинская традиция, не имеющая разумного объяснения. Но по здравому размышлению он пришел к выводу, что деньги творят чудеса. Вероятно, если бы он сразу по приезду дал мамаше, к примеру, десять рублей – жареной картошкой его кормили бы в месте, отведенном для трапез, а не для готовки.
Анна Ивановна выглядела бледной тенью самой себя. Алексееву она напомнила его жену – не столько внешностью, лишенной обаяния, свойственного Марусе, сколько общей утомлённостью, упадком сил, читавшимся и в позе, и в восковой, застывшей неподвижности черт. В такие минуты человек отсутствует, даже если сидит за столом напротив тебя и вяло ковыряется в тарелке.
Впрочем, мамаша осталась глуха к состоянию дочери. Возбуждённая заработком, сразу после сеанса гадания она бодро выгнала родную кровиночку на мороз – за продуктами. Алексеев вышел следом – проводил брата, съездив с ним до пожарной каланчи на Екатеринославской, обратно приехал «верхом на ванькѐ», затем прогулялся до табачной лавки братьев Кальфа, купил папирос и долго курил, стоя на углу под фонарём, несмотря на скверную погоду. Смеркалось, ветер крепчал. Снежная каша заваривалась всё круче, превращаясь в натуральный буран. Когда стоять на ветру сделалось невыносимо, он вернулся на квартиру – и в прихожей, снимая ботинки, слушал, как дочь докладывает матери сдавленным шёпотом:
– Телятины два фунта – двадцать восемь копеек. Хлеба пшеничного на пять копеек, лука на копейку. Крупы гречневой фунт – десять копеек...
Алексееву сделалось неприятно. Стараясь не привлечь к себе внимания приживалок, он прошел в кабинет, служивший ему спальней, и час, а то и два читал «Потонувший колокол», после чего задремал. Разбудили его приглашением к ужину.
Гречневая каша удалась на славу – мягкая, рассыпчатая. Телячье жаркое таяло во рту. Мелко иссеченные солёные огурцы купались в густом подсолнечном масле. Графинчик тёк слезой: хочешь, не хочешь, а возьмёшь и нальёшь. Но временами Алексеев не чувствовал вкуса. Тайком, из-под опущенных ресниц он следил, как Неонила Прокофьевна орудует вилкой и ложкой – ножом она не пользовалась – как поднимает рюмку и ставит обратно на стол. Его не покидало ощущение, что гадание продолжается, что каждое мелкое действие приживалки обнажает что-то в его прошлом, настоящем и будущем, вскрывает нерв, готовый откликнуться острой болью.
– Это Заикина обучила вас такому способу гадать?
Алексеев шевельнул блюдце с огурцами, переставил свою рюмку ближе к краю стола, приподнял и опустил графин, после чего выразительно уставился на мамашу. Та скрытничать не стала, кивнула:
– Она, матушка. Она, благодетельница!
– Не сразу, – прошептала дочь. – Сначала...
– Вы были мебель, – доброжелательно подсказал Алексеев.
– Мебель...
Неонила Прокофьевна засмеялась густым басом:
– Стань сюда, Нила, сядь туда, Аннушка! Подойди к окну, отойди от окна...
– Как я сегодня? – давил Алексеев.
– Ой, глаз у вас! – мамаша шутливо погрозила ему пальцем. – Ох, и глаз! Всё насквозь видите...
– А когда вы мне гадали, мебелью был Юрий?
– Всё насквозь, – согласилась Неонила Прокофьевна. – В самую мякотку.
– Но главную работу делали вы, правда? Двигали, переставляли, меняли местами? Вы двигали вещи, чтобы Анне Ивановне открылось наше будущее? Как открывалось Заикиной?
– Заикина...
Мамаша пригорюнилась:
– Елизавета Петровна не только в будущее заглядывали. Они советы давали: чему быть, того не миновать, а что у Бога на коленках, то и подправить можно. Если, конечно, сподобит Господь, подморгнёт левым глазиком. За советы хорошо платили, щедро...
Сапожник, вспомнил Алексеев. Саквояж, переставленный с пола на стул. Еврей в ресторане «Гранд-Отеля». Руки вытворяют со столовым прибором то же самое, что опытный шулер творит с колодой карт. Нет, так и с ума спрыгнуть недолго. Нельзя же в каждом встречном-поперечном усматривать гадателя?!
– А вот если бы я спросил...
– Не надо, – выдохнула дочь.
– Спрашивайте, – великодушно разрешила мамаша.
– Вот, к примеру, есть такая пьеса: «Потонувший колокол».
– Я душевно извиняюсь... О чём пиеса-то? О любви?
– И о любви в том числе. Мастер-литейщик хочет отлить лучший колокол в мире. Дело не в колоколе, это скорее символ, мечта, страсть. Нечто новое, что мастер создаст даже ценой собственной жизни, даже если новому суждено утонуть в озере времени...
Анна Ивановна наклонилась вперёд:
– Как красиво вы говорите!
– Любовь, – напомнила мамаша. – Когда про любовь?
– Мастера любят двое, фея и его жена. Фея ради мастера готова спуститься с горних высот в плотский мир, пожертвовать своей свободой. Жена не понимает стремления мужа к вершинам, считает его неудовлетворённость блажью, убийственной прихотью помрачённого рассудка. В сущности, обе вяжут литейщика по рукам и ногам, обе хотят его спасти – каждая по-своему – и обе спасти его не могут.
– Умер, бедненький? – ахнула дочь.
– Увы. Но я хотел спросить о другом. Вот, допустим, я решился бы поставить эту пьесу на театре... У меня есть жена, актриса. Заметьте, хорошая актриса, с большим талантом. Какую роль я отдал бы ей – фею или жену мастера?
Он внимательно следил за мамашей. Разгорячённая водкой, расслабленная доверительным разговором, Неонила Прокофьевна сама не заметила, что уже приступила к знакомым пертурбациям: посуда менялась местами, горка каши сгладилась под ложкой, превратилась в плато, вилка раздвинула огурцы, создав в середине блюдца масляное озерцо...
Вместе с её действиями менялось выражение лица Анны Ивановны.
– Бу̀кке, – произнесла младшая. – Бо̀кке...
– Что вы сказали?
– Букке, бокке, хейса, хву!
– Повторите, пожалуйста!
– Букке, бокке, хейса, хву! Толстый бык храпит в хлеву, тёлка дурня горячит, шею вытянув, мычит...
– Хо̀лля! – подхватил Алексеев. Пьесу он знал наизусть. – Ху̀сса! Хейюххѐй!
– Всюду стало веселей...
– Всех один зажег порыв, все живут наперерыв! Вы полагаете, я отдам жене роль эльфа?
– Эльфа?
– «Букке, бокке, хейса, хву!» Так начинается монолог эльфа.
Анна Ивановна вздрогнула:
– Я не знаю. Я просто услышала. Услышала и повторила.
И попросила, зардевшись:
– Маменька, налейте мне водки. Сил нет...
Это не просто совпадение, размышлял Алексеев, пока Неонила Прокофьевна наливала дочери из графина. Я готов признать, что она произнесла текст, который ещё минуту назад был для неё тайной за семью печатями. Но эльф? В этом есть логика, железная логика. Фею я не могу отдать Марусе, у неё для феи нет данных. Фею я отдам Андреевой, она сыграет наилучшим образом... Маруся будет ревновать. Андреева тайком влюблена в меня. Конечно, Маруся будет ревновать, ревновать бешено, люто, и если я отдам ей роль жены литейщика – «не понимает стремления мужа к вершинам, считает его неудовлетворённость блажью...» – это выйдет оскорбление, пощёчина, плевок в лицо. Быт и будни, кандалы на ногах гения. Такой толстый намёк поймёт даже сосновый чурбан. Значит, не фея и не жена. Значит, эльф – роль яркая, выигрышная, хотя и копеечная. И объяснение есть: спектакль важнее личных отношений или пристрастий... Какой спектакль, безумец? Какое объяснение?! Нет, с театром покончено.
И все-таки: как приживалки это делают? Как это делала Заикина?!
– Браво! – он захлопал в ладоши. – Разрешите сказать тост? Я хотел бы выпить за вас, драгоценная Анна Ивановна. За ваш талант, за павшее знамя Заикиной, которое вы подняли и понесли дальше! Всего вам наилучшего!
Выпили. Закусили.
– Знамя, – тихо произнесла Анна Ивановна после минуты молчания, посвящённой жаркому с кашей. – У меня не знамя: так, флажок. Елизавета Петровна, вот кто чудеса творили. И при жизни могли, и после смерти не разучились.
– В каком смысле? – не понял Алексеев. – После чьей смерти? Своей, что ли?
– Правнука у ней убили, у матушки, – вмешалась Неонила Прокофьевна, ещё больше запутывая ситуацию. – Иосифа Кондратьевича, банковского служащего. При ограблении Волжско-Камского, на днях. Небось, слыхали?
– Н-нет...
– Из револьверта застрелили. Елизавета Петровна как в воду глядели. «Оську, – плакали, – жалко, Осеньку. Пропадёт без меня...» Вот и пропал, как обещалось. Святая были Елизавета Петровна, истинная прозрительница. Заранее подготовились, при жизни. Так и предупредили: готовлюсь, мол, как умею.
– К чему? К чему она готовилась?
Приживалки не ответили.
– К смерти правнука?!
Мать с дочерью переглянулись – и как воды в рот набрали.
4
«Тро-ога-а-ай!»
– Поторопитесь!
Сквозь злую кипень метели проступила туша многоглавого чудовища. Горели два жёлтых глаза. Монстр то и дело моргал: косо летящие хлопья снега перечёркивали то один, то другой глаз.
– Дилижанс отправляется!
Головы чудовища принадлежали тройке лошадей. Вьюга изо всех сил старалась превратить животных в белых медведей. Лошади прядали ушами, фыркали, извергали из ноздрей густые клубы пара. Два глаза – передние фонари дилижанса – надвинулись, высветили корпус, грубо выкрашенный тёмно-синей краской, полуторааршинные колёса, распахнутую дверцу, где исчезала филейная часть пассажира.
В пяти саженях сквозь пургу едва проступали тёмные силуэты верховых сопровождения – жандармов или казаков, не разберёшь.
– Посадка закончена! Дилижанс отправляется!
– Стойте!
Оскальзываясь, Миша подбежал к усатому кондуктору в синей, под цвет дилижанса, шинели и высокой форменной фуражке с красным околышем. Выхватил из-за пазухи билет, как выхватывают револьвер. Бумага едва не порвалась.
– Едва успели, милсдарь. Прошу внутрь, и поскорее.
Клёст не заставил просить дважды. Все места были заняты, ему досталось последнее, на откидном сиденье, крепившемся к дверце изнутри. Ну да, второй класс. Жёсткие скамейки первого мало чем превосходили второй в удобстве, зато были куда безопаснее: случалось, дверцы дилижансов распахивались на ходу, и незадачливые пассажиры второго класса вываливались на дорогу.
– Крюк видите?
– Вижу. Я не в первый раз езжу, знаю, что к чему.
– Моя первейшая обязанность, милсдарь, вас просветить.
– Проинструктировать.
Кондуктор с раздражением поджал губы:
– Как закрою дверь, крюк сразу вставьте в петлю. Дверь, значит, на запор. Отпирать только на остановках!
– Понял, так и сделаю.
Кондуктор захлопнул дверцу, и Клёст поспешил вставить в петлю фиксирующий крюк. Проверил, хорошо ли тот сидит. Снаружи дверь пару раз дёрнули: кондуктор желал удостовериться, что пассажир в должной мере «просветился». Миша нащупал гладкую, надраенную сотнями ладоней латунную ручку, откинул сиденье, уселся, пристроив на коленях саквояж.
Вроде, порядок.
Ответом ему снаружи донеслось протяжное:
– Тро-ога-а-ай!
Дилижанс дёрнулся, его качнуло баркасом на волне, Клёст ухватился за ручку, монстр тронулся с места и, набирая невеликую свою скорость, покатил в ночь.
_______________________________________
[1] «Credo quia absurdum (est)» – афоризм, приписываемый христианскому философу Тертуллиану.
[2] Буква «Ф». Кроме «ферта», существовала ещё и «фита» в ином написании.
[3] Десятирублёвая монета.
Глава седьмая. «КОГО ХОРОНИМ, КОМУ СЛАВУ ПОЁМ?!»
1
«Пойдём отсюда скорее!»
Фонари, подвешенные снаружи, раскачивались в такт валкому ходу дилижанса. Масляные блики кляксами размазывались по мутным стёклам дверных окошек. Во чреве фургона, как в ките, проглотившем пророка Иону, царила кромешная темень. Лишь изредка она озарялась случайными проблесками, подобными вспышкам далёких молний. Рассмотреть в этих жалких световых конвульсиях кого-либо из попутчиков не представлялось возможным.
Не очень-то и хотелось, подумал Миша.
Ехать ему до Москвы или сойти раньше, в любом городе с железнодорожной станцией – этого Клёст ещё не решил, положившись на случай. Где будет первая остановка? Выехали на ночь глядя, расписание псу под хвост, теперь и не угадаешь.
Качается дилижанс. Мерно топочут копыта. Скрипят рессоры. Что-то звякает в багажном отделении. Чей-то кашель. Ямщик на козлах кричит на лошадей. Под ямщиком и кондуктором, укрытые в ящике, окованном железными рейками, ворочаются пломбированные мешки с корреспонденцией. Трутся друг о друга кожаными боками, охают, вздыхают...
Тесно. Душно. Темно.
Миша сдвинул котелок на лоб, привалился к дверце. Он начал уже задрёмывать, когда хриплый вопрос выдернул его из подступающего забытья:
– Никто не против, если я закурю?
– Я против! – хлестнул ответ, резкий как щелчок кнута.
Клёст ни на миг не усомнился, что кнутом щёлкнула памятная ему флагшток-дама. Мише и самому нестерпимо захотелось курить, но он знал правила: курить в салоне дилижанса разрешалось, только если никто из пассажиров не возражает.
Повисла пауза. Когда она, казалось, высосала из салона весь воздух, свободное пространство заполнил вкрадчивый густой баритон:
– Ох, простите великодушно! Ваши духѝ...
– Что – мои духи?
В голосе дамы прорезалось беспокойство.
– Такой знойный аромат...
– И что?!
– Он просто-таки пьянит! Боюсь, сейчас мне станет дурно...
Миша принюхался – и ничего не уловил, кроме запахов кожи, конского пота и колёсного дёгтя.
– Ей-богу, сомлею, – жаловался меж тем баритон. – Если, конечно, не закурю. Единственное спасенье, поверьте! Уж я-то знаю!
– Вы не тревожьтесь, мадам! – пришёл на подмогу хрипатый. – Мы по очереди, чтоб не слишком дымить. Кстати, не желаете ли папироску?
Дама молчала, и молчала долго.
– А какие у вас, позвольте спросить? – осторожно поинтересовалась она наконец. – Это я так, гипотетически. Ехать долго, надо же о чём-то говорить?
– У меня «Астра».
– У меня «Дюшес», – Миша тоже решил поучаствовать в табачном соблазнении.
– У меня «Императорские» номер семьдесят. Изволите?
– Вы очень любезны, – голос флагшток-дамы потеплел, в нём прорезалось жеманство. – Перед «Императорскими» я не устою.
Губа не дура, отметил Клёст. Высший сорт с литерой «А», пятьдесят копеек за пачку. Не всякому по карману.
– Прошу вас. Изволите прикурить?
– Буду признательна.
Зашипев, вспыхнула шведская спичка. От яркого света Миша на пару секунд ослеп, а когда проморгался...
Голосом флагшток-дамы разговаривала знакомая старуха в бордовом салопе. Она прикуривала папироску, вставив её в трёхвершковый мундштук из тёмного янтаря, и с неодобрением косилась на Мишу из-под кустистых бровей. Лицо и пальцы старухи были словно из воска: бесцветные, полупрозрачные. Лицо – мёртвое. Пальцы – мёртвые.
От старухи тянуло могильным холодом.
Это морок, со спокойствием безумца отметил Клёст. Наваждение. Результат напряжения последних дней. Надо моргнуть, встряхнуться. Он встряхнулся и моргнул: раз, другой. Третий. Старуха пялилась на него пустыми бельмами глаз без зрачков, куталась в шаль табачного дыма. Кажется, Мишины действия её забавляли. Дрожащей рукой Миша перекрестился. Спичка всё ещё горела, хотя давно должна была погаснуть. От крестного знамения мертвя̀чка вздрогнула, дым заполнил всё пространство внутри дилижанса, подёрнулся рябью, как пруд под дождём, и из тьмы проступили лица остальных попутчиков.
Лица?! Дьявольские личины, бесовские хари!
Вот мёртвый кассир старательно зачёсывает волосы на пробор – и дальше, на затылок, силясь прикрыть рваную дыру, через которую пуля вынесла его мозги. На губах стынет кровавая пена.
Вот долговязый шпанюк из тех, кого Клёст брал на ограбление Волжско-Камского. Скалится двумя ртами: кривой частокол гнилых зубов, и под ним – широченная багровая ухмылка. Горло перерезано от уха до уха.
Вот...
И тут он разглядел отца. Спичка давно погасла, но Миша всё видел, различал в зыбком тумане, словно смотрел в речную воду, изучая суету мальков на дне. Отец сидел на дальнем конце скамейки, привалясь плечом к противоположной двери. Он зеркально копировал позу сына. Выходной сюртук из бежевого казинета[1], красный галстук в крупный белый горох, шляпа – как в тот прокля̀тый день, когда жизнь Миши разломило на две неравные половинки.
Вспоминать Клёст не хотел. Но трёхглазый взгляд отца поймал его и не отпустил. Два светло-голубых глаза блестели слюдой, третий же – аккуратное пулевое отверстия во лбу –распахнулся чёрной воронкой, и Миша рухнул в ледяную память, как в стылую ноябрьскую Неву.
* * *
«Динь-дилень, добрый день!» – звякнул колокольчик на двери.
– Здравствуйте, – отец первым вошёл в ювелирный магазин. – Мы бы хотели подобрать брошь: не слишком дорогую, но изящную.
Он сказал: «мы»! И украдкой подмигнул сыну. Ну да, Миша вчера сдал последний экзамен и перешёл в седьмой. Выпускной класс гимназии – считай, взрослый человек! Миша одёрнул серую шинель, поправил фуражку – так, что лакированный козырёк задрался к небесам, а серебряный значок с номером учебного заведения сверкнул лихой искрой – шагнул ближе, встал рядом с отцом.
– Вам для жены? Для дочери?
– Для жены. У неё на днях именины.
– Тогда позвольте вам порекомендовать...
Миша прикипел взглядом к серебряной розе с аметистом в центре. Тончайшее кружево лепестков – как живые! А камень в точности под цвет маминых глаз.
– Папа, смотри, – зашептал он, указывая на брошь. – Это чудесно, папа...
Отец колебался. Выбирал и никак не мог выбрать.
Это был первый случай, когда на Мишу накатило. Сделалось трудно дышать, сердце затрепыхалось птицей в кулаке, отчаянно пытаясь вырваться на волю. Подвело живот, и Миша схватил отца за руку:
– Пойдём! Пойдём отсюда скорее!
Отец с недоумением воззрился на него:
– Нам надо выбрать подарок...
И увидел, что творится с сыном.
– Тебе плохо? Нужно на воздух? Иди, я сейчас, быстро...
Пальцы отца дрогнули, он выронил брошь. Извинился, нагнулся поднять... Нет, Миша уже не мог находиться в магазине. Под растерянное бряканье колокольчика он вылетел наружу, на Малую Конюшенную, и сумел остановиться, лишь отбежав от магазина шагов на десять. Фуражка слетела с головы, откатилась к каменной ограде. Миша начал расстегивать шинель, не понимая, зачем он это делает...
Дррынь, вскрикнул колокольчик. Дрррынь!
Двое мужчин вошли в ювелирный. Отец выпрямился им навстречу. Правый, тот, что повыше, в клетчатом пиджаке, вскинул руку. Грохнуло. В первый миг Миша даже не понял, что это выстрел. Магазин заволокло дымом, но Миша всё равно видел, как отец валится на спину, словно деревянный манекен, даже не пытаясь смягчить падение.
Живые так не падают.
Оцепенение сковало юного Михаила Суходольского по рукам и ногам. Он стоял и смотрел, не в силах поверить, что всё это происходит наяву. Это дурной сон, кошмар, сейчас он проснётся, отец хлопнет его по плечу...
Лишь много позже Миша сумел восстановить в памяти, что же происходило в магазине. Дым от выстрела рассеялся, он всё видел через широкое окно-витрину. Под прицелом двух револьверов белый как мел продавец ссыпа̀л в саквояж и наплечную сумку цепочки и кольца, кулоны и браслеты, броши и серьги. Потом грохнуло ещё раз, и двое вышли. Клетчатый глянул на застывшего Мишу, похожего на гранитного сфинкса, начал было поднимать руку с револьвером, но тот, что пониже, дёрнул приятеля за рукав, и воры быстрым шагом – даже не бегом – удалились по Малой Конюшенной прочь от Невского.
Городовые прибежали минут через пять. Мишу допросили: как выглядели налётчики, кто стрелял, куда побежали... «Пошли,» – машинально поправил Миша. Он отвечал точно и сухо, словно внутри него сидел и говорил кто-то другой. Говоря, он видел опять и снова: вскидывает руку клетчатый, револьвер выплёвывает пламя, падает отец, двое выходят из магазина, удаляются прочь от Невского.
Шагом. Не бегом.
Отца похоронили на Богословском кладбище. Моросил мелкий дождь, капли мешались со слезами, что текли по щекам бледной до прозрачности мамы. Она выгорела изнутри, будто смерть отца погасила в ней лампадку, освещавшую маму чистым живым светом.
Глаза Миши оставались сухими. Он был благодарен небесам за этот дождь, притворившийся слезами. Как легко, оказывается, отнимать! Деньги, драгоценности, жизнь. Просто берёшь – и уходишь. Даже не бежишь. Наверняка воры нисколько не переживали после убийства. Нисколечко!
Миша их ненавидел. Клетчатого в особенности.
Миша ими восхищался. Особенно клетчатым.
Когда гроб отца опустили в могилу, мама потеряла сознание. Наверное, она уже тогда была больна, просто этого ещё никто не знал.
Два года мама медленно угасала. У неё открылась чахотка, доктора бессильно разводили руками, а переезжать в Крым, где климат способствовал бы вызоровлению, мама отказалась наотрез. Миша успел закончить гимназию и поступить на механическое отделение Санкт-Петербургского практического технологического института. В последний раз мамины губы тронула улыбка, когда сын заявился домой в студенческой форме: строгая тёмно-зелёная куртка с рядами медных пуговиц, фуражка того же цвета, брюки серого сукна.
Через неделю маму похоронили на Богословском кладбище, рядом с отцом.
На следующий день после похорон Миша купил свой первый револьвер – карманный семизарядный «Кольт Нью Лайн» 22-го калибра – и коробку патронов к нему. Перед этим Миша целый год исправно посещал бесплатный тир Общества любителей стрельбы. Он всё продумал заранее. Присмотрел ювелирный магазин в Инженерном переулке, прикинул, как лучше уходить. Ждать до темноты пришлось недолго: в ноябре, памятном месяце, темнело рано. Поверх студенческой формы Миша набросил бесформенную серую хламиду, нацепил ветхий картуз с треснувшим козырьком, а лицо измазал сажей, чтобы сойти за босяка из заводских районов.
Из магазина вышел припозднившийся покупатель. Миша подождал, пока стихнут его шаги. Ещё раз огляделся по сторонам: никого.
Пора.
Колокольчика не было: дверь лишь жалобно скрипнула, впуская Мишу внутрь.
– Жить хочешь?
Револьвер уставился на пухлого лысеющего болвана в лиловом жилете поверх крахмальной рубашки. Дождался, пока тот испуганно закивал, из просто болвана превратившись в китайского болванчика. Лишился дара речи? Это хорошо. Это револьверу нравилось.
Мише тоже.
– Золото. В сумку. Всё, сколько влезет.
Трясущимися руками болван выгребал из витрины кольца, подвески, колье. С приятным звоном добыча сыпалась в сумку.
– На пол!
Болван лёг на пол лицом вниз
Миша вышел вон. Хотелось бежать со всех ног, но он сдержался, даже шаг не ускорил. Свернул за угол, сквозанул дворами. Достал из-за пазухи студенческую фуражку, выбросил в подворотне хламиду и шапку. Умылся ледяной водой из загодя примеченной колонки. Сел на конку, без приключений доехал до дому.
У него получилось. Он взял, что хотел, и спокойно ушёл. Мог забрать и чужую жизнь. Почему не забрал? Струсил, размяк? Устрашился кары земной или небесной?! Нет, чепуха. Просто не было надобности. Будет – возьмёт. Пять минут глупый человечек полностью находился в его власти. Делал, что велят, беспрекословно подчинялся. Трясся от страха, живой студень.
Этого достаточно.
Оставалось сбыть с рук золотой куш. На этот счёт у Миши имелись кое-какие мысли. Но всему свой черёд, в том числе и мыслям. Сейчас, стоя над сумкой, полной украшений, Миша размышлял о другом. Чутьё, думал он. Мальчиком я почуял опасность и сбежал из ювелирки на проспект. Я сбежал, а отца застрелили. Я мог бы вцепиться в него, тянуть наружу, устроить истерику. Отец послушался бы. Стыдился бы такого отвратительного поведения сына, устроил бы мне нахлобучку, но остался бы жив. Я сбежал сам, а отец лег в могилу на Богословском. Наверное, Господь наградил меня особым чутьём – оно спасает только меня. Остальных оно губит.
А если не Господь, тоже ладно.
2
«Но кобыла тут при чём?»
– Почему бы не поставить звонок?
Алексеев задал этот вопрос Анне Ивановне сразу же после того, как стук дверного молотка сорвал Неонилу Прокофьевну с нагретого места и бросил в прихожую.
– В доме есть электричество. У вас нет денег на установку?
– Матушка не велели...
– Ваша мать? Отчего же?
– Нет, маменьке всё равно. Елизавета Петровна, матушка наша, строго-настрого запретили. И при жизни, мол, нельзя, и после тоже ни-ни. До конца года, а там, сказала, хоть в колокола обзвонитесь...
В прихожей топали, сбивая снег с обуви. Почему этого не сделали на лестничной клетке, Алексеев не знал. Он слышал, как поздний гость шушукается с мамашей, и пытался угадать: кто это? Должно быть, кто-то из знакомых или родственников приживалок.
– Добрый вечер! Рад вас видеть, Константин Сергеевич!
– Ашот Каренович?
На пороге столовой улыбался сапожник. Сегодня он был без фартука. Значит, не из мастерской поднялся, а пришёл с улицы. Прибежал, мысленно уточнил Алексеев, видя, что сапожник запыхался и раскраснелся. Что ему нужно? В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит...
– Садитесь, – предложил он. – Выпейте водки с мороза.
И потянулся к графину.
– У меня к вам просьба, Константин Сергеевич.
Сапожник шагнул за порог, но к столу садиться не стал. Улыбался, глядел на Алексеева, гладил чисто выбритый подбородок. Алексеев чувствовал, как попадает под обаяние сапожника, как оно мягкой волной накрывает его, топит, уволакивает на глубину – и тоже улыбался.
Люди такого обаяния встречались в жизни Алексеева часто. Сцена отбирала их, как опытный конезаводчик отбирает породистых жеребят. Алексеев и сам мог обаять кого угодно, от модистки до градоначальника. Вершиной своих подвигов на этом поприще он считал победу над Анной Достоевской – Алексеев просил у вдовы писателя, женщины исключительных деловых качеств, разрешения на переработку для сцены бессмертной повести её покойного супруга «Село Степанчиково и его обитатели». После личной беседы, длившейся полтора часа, разрешение было получено, но пьесу запретила цензура. Тогда Алексеев сменил название пьесы с «Села Степанчиково...» на малопонятный заголовок «Фома. Картины прошлого в 3-х действиях», изменил фамилии и имена действующих лиц – и подписался в качестве автора, убрав малейшие упоминания о литераторе Достоевском. И что же цензура? Полный успех и безусловное разрешение пьесы к представлению. Вторая беседа с вдовой писателя вышла потруднее первой, но Алексеев справился и здесь. Когда ребром встал вопрос авторства, точнее, поддельной подписи, Алексеев заверил Анну Григорьевну, что сделал это во благо дела, «с несвойственным ему нахальством», и заявил, что согласится на постановку только если его фамилия не будет фигурировать на афишах ни в каком виде. Соглашаться на постановку вообще-то должна была вдова, но потрясённая таким благородством Анна Григорьевна не заметила подвоха и дала разрешение.
Опасаясь, что вдова может передумать, Алексеев письма к ней подписывал следующим образом: «Не откажитесь принять от меня уверения в глубоком и истинном к Вам почтении Вашего покорнейшего слуги К. Алексеева.»
– Просьба?
Сапожник кивнул.
Представляя себя вдовой Достоевского, а сапожника – «вашим покорнейшим слугой К. Алексеевым», Алексеев встал из-за стола:
– К вашим услугам, Ашот Каренович. Что от меня требуется?
– Самая малость, Константин Сергеевич. Не соблаговолите ли перекурить?
– С удовольствием. Надеюсь, дамы не возражают?
– Не здесь, – сапожник жестом остановил приживалок, уже раскрывших рты, чтобы огласить свой положительный вердикт. – На балконе.
– В квартире есть балкон?
– В нашей комнате, – пискнула дочь. –
И зарделась майской розой, сообразив, как звучат при сложившихся обстоятельствах слова «наша комната».
– Удобно ли? – предположил Алексеев. – Не знаю, как вы, господин Ваграмян, а я не вхожу к дамам без приглашения.
С самого начала он решил подыграть сапожнику, какой бы водевиль тот не выплясывал. Роль простака? Комичные положения? Внезапные повороты действия? Отлично, будем подбрасывать реплики.
– Я душевно извиняюсь, – вмешалась мамаша. – Курите на здоровье, балкон в вашем полном распоряжении!
Сапожник сделал жест, как если бы поднимал воротник:
– Оденьтесь потеплей. На улице метель.
– Надеюсь, вы составите мне компанию?
– Компанию?
Ашот задумался. Казалось, он разыгрывает сложную шахматную партию, и ему только что предложили спорный ход.
– Спасибо, не откажусь. Это не повредит делу, уверяю вас.
* * *
Балкон выходил во двор.
Метель, разыгравшаяся не на шутку, сюда не заглядывала, брезговала. Опершись о перила, Алексеев слушал, как она завывает, стучит в окна домов, гонит прочь запоздалых прохожих. Было в этом что-то театральное, невзаправдашнее. Сцена на балконе, подумал он. Шекспир, «Ромео и Джульетта». Два Ромео: мы с Ашотом. Две Джульетты-приживалки. Выгнать бы их из дома, пусть стоят под балконом, для пущей мизансцены. Ах нет, у Шекспира под балконом стоял Ромео...
– Вас угостить?
Ашот спрятал нос в ворот тулупа. Партия в шахматы продолжалась, новый ход следовало обмозговать.
– Спасибо, не откажусь, – повторил он.
– Это не повредит делу?
– Ни в коей мере. Что вы курите?
– «Императорские», семидесятку. Сегодня купил у братьев Кальфа.
– Нет, «Императорских» не надо. Вы курѝте, я не буду.
– Есть «Ферезли», с собой привёз. Они легче.
– «Ферезли»? Вы и мёртвого уговорите.
«Императорские» не годятся, отметил Алексеев, поднося Ваграмяну спичку. Годятся «Ферезли». Курить надо на балконе, именно сейчас.
– На что гадаем? – спросил он, затянувшись. – На кого?
– Гадаем?
– Меня уже просветили. Детали, мелочи, нюансы. Сочетание пустяков. От перестановки слагаемых всё меняется. Раз, и будущее – открытая книга.
– О чём вы?
– Не надо, Ашот Каренович. Система Заикиной, я в курсе. Я одного не понимаю: вам-то зачем? Выгнали меня на мороз... Что хотите узнать? О ком? О себе, обо мне?
– Гадаем, значит.
Сапожник рассмеялся. Алексеева пронзило острое как нож подозрение: «Неужели я ошибся спектаклем? Подал не ту реплику, что прописана в тексте?» Смех Ваграмяна звучал грустно, но вовсе необидно.
– Ни о себе, Константин Сергеевич, ни о вас. О Волжско-Камском банке. Слыхали про ограбление?
– Да.
Он действительно слыхал – в табачной лавке приказчик делился новостью с пышногрудой купчихой, заглянувшей взять папиросных гильз. Купчиха ахала, охала, хлопала ресницами. Алексеев ещё отметил, что фанфарон-приказчик вываливает на прилавок такие зубодробительные подробности, какие могут родиться лишь в мозгу, воспалённом страстью.
– Я мимо ехал, когда их грабили. Извозчик решил, что они присягу принимают...
– Присягу? Вы не могли бы...
– Что именно вас интересует?
– Как звали извозчика? Извините, это я зря. Откуда вам знать?
– Действительно, откуда? Его фамилия – Черкасский. Имени не сказал. Фельдфебель в отставке, из кантонистов. Двенадцатый драгунский полк...
– Константин Сергеевич! Вы просто кладезь полезных сведений! Значит, Черкасский, из кантонистов. А почему вы решили, что в банке принимают присягу?
– Это не я, это извозчик так решил. Они руки подняли, в окне было видно. Вот ему и примерещилось...
– Мерин или кобыла?
– Что, простите? В смысле, кто?
– Кто сани тянул: мерин или кобыла?
– Кобыла.
– Масть?
– Гнедая.
– Сколько вы ему заплатили? Три гривенника?
– Два с пятаком.
– Во что был одет извозчик?
– Синий армяк. На заду – складки. Лохматый треух, весь в снегу.
– Полость в санях медвежья?
– Овчина.
– Когда вы ехали, мимо конка не проезжала?
– Проезжала. Возле музыкального училища. Еле разминулись...
– Большое вам спасибо! Вы даже не представляете, как вы нам помогли!
Нам, повторил Алексеев. Кому это – нам?
– Ну так что, Ашот Каренович? Кобыла, присяга, конка... Перекур на балконе. Ограбление банка. Карты сложились? Кого хороним, кому славу поём?!
– Уже похоронили, Константин Сергеевич.
– Кого?
– Лаврика Иосифа Кондратьевича, правнука Заикиной. При ограблении банка застрелили бедолагу. Совсем молодой был, ещё жить бы да жить...
«Оську жалко, – услышал Алексеев в вое метели, – Осеньку. Пропадёт без меня...»
– Царствие небесное безвинно убиенному, – он перекрестился. – Но кобыла тут при чём? Овчина? Они что, из гроба его поднимут?
Сапожник щелчком отправил окурок за перила, в ночь.
– Холодно, – Ваграмян передёрнул плечами. – Идите в дом, согрейтесь. Водки выпейте, дело хорошее.
– А вы?
– А я к себе пойду. На сегодня шабаш, отдыхаем.
3
«При чём здесь фонарь?»
– Знакома ли вам, милостивые государи, четвертая мужская гимназия?
– Это которая на Марьинской?
– Да.
– Бывший дом баронессы Унгерн-Штенберг?
– Да!
– Где инспектором статский советник Максимович?
– Да!
– Нет, не имеем удовольствия знать.
– А знакома ли вам греческая хлебная за два дома от гимназии?
– Хлебная?
– Да!
– Хлебная Багдасаряна?
– Да!!!
– Ну, кто же не знает хлебную Багдасаряна! М-м, какие там калачи...
Хлеб всегда выигрывает у наук, это подтвердит любой. Сталь же выигрывает у всех, включая золото. Семья Багдасарянов перебралась в губернский город Х из Западной Армении, стенавшей в те годы под железной пятой султана Абдул-Азиза – точнее, под пятами великих визирей Али-паши и Фуад-паши, ибочастые нервные расстройства мешали султану заниматься делами. В честь приезда беженцев переулок Короткий, как шутили бессердечные обыватели, назвали Армянским. От переименования он не стал длиннее – два жалких дома по нечётной стороне – но в «Памятной книжке губернии», в сведениях о численности населения, поминается один мужчина армяно-григорианского вероисповедания, проживавший в городе.
Один?
Канцеляристы ошиблись. Вы же понимаете, что если в городе есть хотя бы один Багдасарян, то он не один? Это могло бы послужить отличным названием для романа господина Жюля Верна: «Багдасарян не должен быть один»!
Шутки шутками, но многие любопытствовали: каким таким чудесным образом Багдасаряны сумели выбраться сперва из горящего Зейтуна, а затем из полыхающего Муша, сохранив имущество, деньги, а главное, величайшую драгоценность – жизнь? Какой добрый гений спас их от кровожадных османов, зверски подавлявших восстания армян? Какая удача привела несчастных в тихую гавань?
Наверное, Бог оглянулся.
Так или иначе, фортуна продолжала сопутствовать Багдасарянам. На новом месте они обустроились без лишних хлопот. Сняли жильё, открыли пекарню, а там, спустя несколько лет, и хлебную. Хлебная вызвала кривотолки: «Почему греческая? Откуда взялись греки?!» Брат присоветовал, отмахивался глава семейства. Велел: пусть будет греческая. Не спорить же с братом? Действительно, с Багдасаряном приехал его двоюродный брат Ашот Ваграмян – сирота, он еще ребёнком потерял родителей и пригрелся в гнезде старшего родственника.
– Чому? – спросил Багдасаряна сосед, цирюльник Сирко.
– Что – почему? – не понял Багдасарян.
– Ось ты кажеш: не сперечатыся[2] ж iз братом! Чому тобі не можна iз ним сперечатыся? Він же молодший за тебе! Та ще й чобота̀р[3]! Був бы прохвесор, а то чоботар!
Багдасарян пожал плечами:
– Ваня-джан, я с ним никогда не спорю. Может, потому и живой...
– Чому? – упорствовал Сирко.
– Если вода не течёт за тобой -- иди за ней.
Цирюльник плюнул и отстал.
Когда Ашот, с которым не спорят, овдовел и решил жениться во второй раз, он заговорил о собственной сапожной мастерской. Старший брат готов был выделить денег на обустройство, но для мастерской в доходном доме на Епархиальной улице – другой вариант Ашот категорически отверг – этого не хватало, даже если сложить вместе со сбережениями самого Ашота. Хорошо, кивнул сапожник. Тогда закрой хлебную на три дня. Убытки, напомнил Багдасарян. Испеки для меня корзинку арагаца[4], продолжал Ашот, будто не слышал про убытки. Я разнесу лепёшки по городу, куда надо.
– Да, – вздохнул Багдасарян. – Всё сделаю, душа моя.
Лепёшки Ашот разнёс в самые неожиданные места. Одну забросил в открытое окно второго этажа Дворянского собрания, две сунул мальчишкам на Цыганском мосту; самую пышную скормил извозчичьей лошади близ Конного рынка. Раз, два, корзинка и опустела.
Спустя месяц после разговора братьев в город приехал Нишан Тер-Нишанианц – священник, высланный из Нахичевани за какие-то провинности. С ним явились взрослый сын Трдат и внучка Мириам, девица на выданье. Священник приобрел дом по улице Франковской, где и поселился с семейством. Багдасарянов пригласили на новоселье, Ашота в том числе, и сапожник имел долгий разговор с Трдатом Нишановичем. В итоге Трдат с благословения отца ссудил Ашоту недостающую сумму, и вскоре в новенькой мастерской застучали молотки.
Стук разнёсся до небес, и Бог снова оглянулся – теперь уже на щедрого Трдата Нишановича. Ещё вчера безработный, не имея протекции и рекомендательных писем, Трдат устроился в центральную почтово-телеграфную контору – чиновником IV разряда. В самом скором времени он получил III разряд, и болтали, что повышение не за горами. Параллельно с карьерой рос и ранг Тер-Нишанианца: коллежский секретарь, коллежский асессор...
Начальство обещало надворного советника.
Когда армянская община решила обратиться в городскую думу с прошением об отводе участка под постройку церкви, Трдат Нишанович сказал, что сперва он обратится к Ашоту. Не сейчас, предупредил Ашот. Сейчас холодно, вам откажут. В смысле, не понял Тер-Нишанианц. Что значит холодно? Май на дворе!
– Холодно, и всё, – отмахнулся сапожник. – Даже я не согрею.
Трдат сдвинул брови:
– Извини, дорогой. Мне не поверят. Я тебе и сам не больно-то верю.
Прошение было отправлено. У думы просили «пустопорожнее городское место в шесть сотен саженей, находящееся на Сумской улице, возле Ветеринарного института, недалеко от конца рельсового пути конки.» И причины объяснили внятно, ибо с момента приезда в город семьи Багдасарянов многое изменилось: «...число прихожан постепенно прибавляется, поэтому в настоящее время считается армяно-григориан купеческого и ремесленного сословия около восьмисот душ обоего пола, учащейся молодежи сто пятьдесят и свыше трёх сотен солдат. Кроме этого по губернии в разбросанном виде и на придорожных станциях живут ещё около трехсот душ...»
Ду̀ши душами, а ходатайство отклонили. Городская дума не нашла возможности отвести для молитвенного дома просимый участок земли, ибо все окрестные участки были проданы местным жителям под застройку, а просимый предполагался под разбитие в нём сквера.
– Когда? – спросил Трдат сапожника. – Когда подавать новое прошение? Как скажешь, дорогой, так и сделаем. Твоё слово – золото.
Ашот улыбнулся:
– Когда потеплеет.
– Зимой, что ли?
– Не волнуйся, я предупрежу заранее.
– Где же нам проводить службы?
– Снимите дом в Инструментальном переулке.
– Дом?
– Третий номер. Тот, где фонарь не горит.
– При чём здесь фонарь?
– А при том, что как зажжётся, так и подавайте прошение.
* * *
– У вас, я гляжу, куда ни ткни, кругом пророки, – Алексеев налил себе водки. На сегодня хватит, решил он. И так голова кру̀гом. – А врут, что нет пророка в своём отечестве! Как же нет? Актриса, сапожник, вы, уважаемая Анна Ивановна...
– Пророк?
Глаза мамаши поползли на лоб:
– Это Ашотик-то пророк?
– А кто же он, по-вашему? Сами признались: идут к Ашоту, как ходили к Заикиной, спрашивают. Он пророчит: что, где, когда...
– Он не пророчит, – младшая приживалка нервно комкала в пальцах салфетку. На щеках Анны Ивановны вспыхнули чахоточные пятна румянца. – Это я, неумеха, что вижу, то и говорю. Ашот Каренович не пророчит, он для людей старается...
– Цыц!
Мамаша гаркнула на дочь с такой горячностью, таким напором, какие вовсе не предполагались в сдобной, услужливой Неониле Прокофьевне.
– Я душевно извиняюсь, – она встала, чопорно сложила руки на животе. – Время позднее, все устали. Вы, Константин Сергеевич, идите спать. А мы с Аннушкой со стола приберем.
Встал и Алексеев:
– Спокойной ночи.
Его слегка качнуло. Я трезв, подумал он. Это утомление, это всего лишь усталость. Вымотался я за эти дни, сил нет. За дни, месяцы, годы.
– Господин Ваграмян напомнил мне, что при ограблении банка был убит правнук Заикиной, молодой кассир. И знаете, любезная Неонила Прокофьевна, что я подумал? Вы тоже говорили мне об убитом. Вы сказали, что Елизавета Петровна была святая. Что она подготовилась заранее, при жизни. А вы, Анна Ивановна...
Он понимал, что надо остановиться, замолчать, уйти в кабинет. Понимал и не мог с собой совладать. Несло, как на сцене.
– Вы сказали, что Заикина творила чудеса. И при жизни могла, и после смерти не разучилась. Вы еще сказали, что она заранее подготовилась. К чему она подготовилась, Анна Ивановна? К уходу в мир иной?
Алексеев вцепился в край стола:
– Или к убийству правнука? Как она к нему готовилась, Анна Ивановна?!
– Пустое говорите, – вмешалась мамаша. Чувствовалось, что разговор ей неприятен. – Кто же сразу к двум смертям готовится: и к своей, и к чужой? Да и вам-то какая беда? Был правнук, стал покойник, земля ему пухом. Идите спать, вы на ногах еле держитесь...
4
«Я Миша Клёст, бью до слёз!»
«Чутьё моё. В рифму получилось. Господь наградил меня особым чутьём – оно спасает только меня. Остальных оно губит. А если не Господь, тоже ладно.»
– Дар это, дар!
– От Бога!
– Воистину Бог на вас оглянулся!
Катит дилижанс. Скрипят рессоры. Звякает что-то в багажном отделении – ни дать и ни взять, колокольчик в ювелирном магазине. Свистит-завывает ветер, силится пробраться в салон. Рдеют во тьме кровавые угольки глаз. Нет, это папиросы. Угли разгораются, багровые отсветы выхватывают из дымного мрака лица мертвецов.
Как они только могут?!
– А что вы думали, Михаил Хрисанфович? – смеётся убитый кассир. – Как мёртвый, так уже и Бога помянуть нельзя?
– Имя Господне вымолвить не моги, да?
– Ты сам-то в церковь ходишь? Редко, а ходишь ведь?
Голос долговязого шпанюка двоится, возвращается эхом. Кажется, что покойник говорит сразу двумя ртами: тем, что дан от рождения – и разрезом на горле, обретённым в смерти.
– Ходишь?
– Свечки ставишь...
– Это хорошо, Михаил Хрисанфович! Это правильно!
– По-христиански!..
Голоса наползают, опутывают. Кубло шевелящихся змей вкрадчиво шипит в самые уши:
– Вы в дом Божий – и мы с вами...
– Крѐстишься...
– Господа поминаешь...
– И мы с тобой...
– Мы теперь всё время с вами будем, Михаил Хрисанфович...
– Всюду...
«Морок! Нет вас, нет! Изыди!»
И вдогонку – запоздалая мысль, от которой холод пробирает до костей:
«Это что же? Теперь и взаправду так будет?! Всегда?!»
– Не бери в голову, Мишаня, – голос отца заглушает змеиные шепотки. – Будет, не будет... Что гадать попусту? Гадать надо умеючи, а ты на это дело не мастак. Ты, главное, помни: нет на тебе вины. Таков твой талант: себя спасать, беду чуять. Не меня, не брата-свата – себя. А от кого тот дар, лучше не думать. Ты не выбирал, не просил, само досталось...
– Не виним тебя!..
– Прощаем!
– По-христиански...
– Прости им, ибо не ведают, что творят...
– Само!
– Не виню...
– Не казнись, Мишенька...
Мама?!
– Не казнись! Казни!
Миша знает, кто встрял в беседу.
* * *
– Добрый вечер.
– Добрый, коль не шутишь.
Двое сидели за накрытым столом. Синяя обливная миска с горкой картошки «в мундирах»; миска поменьше с солёными огурцами; краюха хлеба; ливерная, самая дешевая колбаса, по десять копеек за фунт; четыре гранёных стакана. Рядом, на обрывке газеты – колотый сахар. Самовара не было, его заменял початый штоф водки.
Четыре стакана. Четыре стула. Значит, его ждали, и не только его. Не обманул Скорняк.
– Заходи, студент. Как звать-величать?
– Миша, – буркнул из угла осоловелый Скорняк.
Миша был «в деле» уже два года, завёл нужные знакомства. И всё равно устройство этой встречи стоило адских трудов.
– Просто Миша? В подполе мыша?
Крепыш в несвежей косоворотке прищурился, выгнул бровь. Мигающий свет керосиновой лампы падал на него сбоку, оставляя половину лица в тени, так что кроме прищура, брови и самокрутки, зажатой в углу рта, ничего толком было не рассмотреть.
Кличку Миша придумал себе загодя. Воры, грабители, убийцы. Тюрьма, решётка... Клетка! Таким был первоначальный ход его мысли. Лет восемь назад у них в клетке жил клёст: рыже-чёрный, своенравный, с клювом на манер загнутых щипцов. Как-то летом мама открыла окно, чтобы впустить в дом свежий воздух. Клетка стояла на подоконнике. Бойкий клёст справился с задвижкой на дверце клетки – и был таков.
Мама огорчилась, но не сильно. А отец сказал: «Молодец! Пусть живёт на воле.» Клёст? Побег? Свобода?!
Мише нравилось.
– Клёст.
Он едва удержался, чтобы не протянуть крепышу руку. Не надо. Не примет – попадём в дурное положение.
– Горелый, – буркнул крепыш. – Выпьешь, Клёст?
– Нальёшь – не откажусь.
Горелый кивнул с одобрением, набулькал всем по половине стакана. Водку Миша уже пробовал, но силы свои не переоценивал. Выпив, отставил стакан подальше и потянулся за закуской. Голову следовало держать трезвой.
– Значит, ты к Суровому в клиенты[5] собрался?
– Значит, собрался. Как мыслишь, возьмёт?
– Такого жигана отчего ж не взять? Люди пошуршали – говорят, молодой ты, да фартовый. Четыре гранда за тобой, все чистые...
– Пять.
– Возьмёт, ей-богу, возьмёт. Только гляди, Клёст: Сурового не зря так зовут...
За Суровым ходила лихая слава. Клиентов он менял, как франтиха – перчатки. В течение трёх лет сменил четырёх. Клиенты Сурового долго не жили: гранд – дело рисковое, случается всякое, но чтобы так... Похоже, Горелый проникся к Мише душевным расположением, иначе не намекал бы: с Суровым, парень, держи ухо востро.
В дверь постучали. Два-три-один – условный стук.
– Заходи!
Миша потянулся к лампе, передвинул на пару вершков. Когда новый гость вошёл, свет упал на его лицо. Едва заметно Миша кивнул сам себе.
– Талан на майдан, – буркнул гость.
– Шайтан на гайтан, – ответил на приветствие Горелый. – Заходи, Суровый.
Суровый зыркнул из-под бровей, не усмотрел ничего подозрительного, но расслабляться не спешил. Присел на краешек стула, обождал, пока Горелый разольёт водку по стаканам.
– Кто таков? – Суровый потянулся к Мише стаканом.
Вопрос нисколечко не был похож на заздравный тост.
– Миша Клёст. Бью до слёз.
Поговорку Миша придумал заранее. Думал, на раз, вышло на всю жизнь.
– Ты это...
Привстав, Миша сунул «дерринджер[6]» в открытый рот Сурового и нажал на спуск. От грохота заложило уши. Кровь и ошмётки мозгов облепили стену у двери; медленно сползали по ней, оставляя склизкие следы. Мертвец опрокинулся на спину вместе со стулом. Руки и ноги его конвульсивно подёргивались, но это уже не имело значения.
Скорняк громко икнул. Как завороженный, он не мог отвести взгляд от мертвеца. Горелый медленно, очень медленно убрал руку со стола.
Клёст покачал головой:
– Не надо.
В двуствольном «дерринджере» оставался один патрон. Но в левой руке Миша держал карманный «Кольт» со взведенным курком.
– Это между нами. К вам двоим я ничего не имею.
И вышел вон.
Клетчатого убийцу отца Миша узнал сразу, едва Суровый вошёл. Шагая через проходной двор-колодец, он прислушался к своим ощущениям. Мрачное удовлетворение от свершившейся мести, о котором пишут в книжках? Опустошение? Злая радость? Ужас от содеянного? Запоздалое раскаяние?
Нет, ничего.
Совсем ничего, как и не было.
«Я Миша Клёст, бью до слёз,» – это он с тех пор повторял всякий раз, когда убивал.
* * *
Револьверными выстрелами щёлкает кнут ямщика. Прыгает на ухабах дилижанс. Кровавым созвездием горят огоньки папирос. Качаются на дымных волнах буйки-поплавки – восковые личины мертвецов.
– Обиды на тебя не держу, – хрипит Суровый. – Обиженные под нарами спят. Поквитался за отца? Имел право.
– Фартовый ты, Клёст!
В голосе безымянного шпанюка, словно гадюка в постели, прячется зависть.
– Тебе-то что? – огрызается Миша. – Свой фарт, не ворованный...
Это он зря. Шпанюк хохочет:
– Ой, ворованный! Краденый фарт, куда ни кинь!
– Закрой рот!
– Какой мне рот закрыть, Клёст? У меня теперь два рта. Один закрою, второй тебе в рожу плюнет!
– Я тебя не резал!
– Нет, не ты. Другой резал. Да только и ты здесь важная карта, в масть...
Салон дилижанса превращается в тёмную, прокуренную горницу. Где пассажиры? Нет пассажиров. За столом – трое. Миша их не знает, зато знает шпанюк. Тычет корявым пальцем, называет по кличкам:
– Лютый...
Лютый страшен.
– Гамаюн...
Гамаюн опасен.
– Банщик...
Банщик хитёр.
– Ты послушай, Клёст. Послушай, о чём толковали. Нам с того света всё известно, каждое словечко. А ты здесь мог и проворонить. Слушай, там сперва о тебе. Я уже после, на остаточек...
* * *
– Гастролёр, мыслю, из города свинтил.
– Не знаю. Вдруг не поспел? На бану вон какой шухер! Если умный, не сунется. А он, чую, умный. Банщик, твои сейчас всё равно без дела?
– Да какое дело! От фараонов продыху нет!
– Вот пусть тоже побегают, пошука̀ют гастролёра.
– А твои?
– И своим скажу. Ты, Лютый...
– Ладно, я моих тоже подгоню. Только, сдаётся мне, свинтил он...
– Пусть молодые по городу пошустрят. Вреда от того не будет.
– А польза?
– Поглядим.
Лютый с Банщиком растворяются в дыму.
– Шнифт, – кличет Гамаюн, оставшись один.
В дверях воздвигается Шнифт – детина с перебитым носом. Молчит, ждёт, что скажет хозяин.
– Маляву на кичу[7] передать надо. На гастрольном гранде Стиру замели, а он знает лишнего. Не дай бог, колоться вздумает... В общем, передай: пусть молчит Стира, земля ему пухом.
– Под красный галстук взять[8]?
Шнифт любит точность. Шнифт любит однозначность.
– Это пусть на киче сами решают.
Шнифт вздыхает: нет чёткости, беда. Кивает:
– Сделаю.
Выходя из горницы, он крестится на образа в углу. Крестное знамение приводит в движение всю горницу. Клубится дым, встаёт пеленой сверху донизу. Слышен стук копыт, словно черти в аду пляшут на радостях.
* * *
Едет дилижанс, качается.
– Вовремя ты колёса обул...
– ...ноги из города нарисовал!
– Ох, вовремя!
– Второй раз кряду удача вам выпала, Михаил Хрисанфович...
– Полиция носом землю роет...
– Шестеро ни за чих сгорели!..
– Весовые, Клёст, тебя видеть хотят...
– Они ли одни?
– Ой, не одни...
– Знаешь, кто по твою душу явился?..
– Пострашнее прочих!
– А вы, Михаил Хрисанфович, их всех объегорили.
– Объехали на кривой...
– Они там, а вы тут, с нами...
– Летите прочь птицей вольной...
– В Москву!
– В Петербург!
– За границу!
– В солнечную Италию!
– Где рай на земле? Туда и летите...
– ...с ненаглядной вашей Оленькой...
«Не сметь про Оленьку, погань!»
Миша хочет прикрикнуть на обнаглевших доброжелателей-мертвецов. И не может, потому что видит: меж кассиром и старухой в красном на скамейке сидит Оленька. В лёгком муслиновом платье, как летом позапрошлого года, когда Миша впервые увидел её.
«Что ж ты в одном платьице-то, Оленька?! Простудишься! Я тебе сейчас своё пальто отдам...»
Произносит ли он это вслух? С опозданием до Миши доходит страшное: в дилижансе все мёртвые, и Оленька среди них! Живая? Нет?! Откуда она здесь?!
Кассир смеётся, обнимает Оленьку за хрупкие плечи: моя, моя, наша! «Чего ерепенишься, Клёст? – скалятся бесовские хари. – Ты ведь тоже наш – ныне, присно, во веки веков! Оленька здесь? Здесь. Ты её не бросишь? Ни за что. Не сбежишь! Едем вместе, до конца, до конца...»
Сердце холодеет, останавливается. Нет, не в Москву этот дилижанс едет. Не в Петербург. Не в солнечную Италию, не в рай земной. Рай? Совсем даже наоборот...
Белёсое, словно заплесневелое лицо кассира оплывает свечкой. Из-под одной личины проступает другая: Суровый умер так же, как и кассир, сглотнув пулю. А вот уже и отец, убитый Суровым, глядит на Мишу с укоризной, обнимает Оленьку, несостоявшуюся свою невестку. И снова кассир, и опять Суровый, и вновь отец... Кто есть кто? Нет разницы, стонут мертвецы, нет ни для нас, ни для тебя, Михаил Хрисанфович! Шепчут, бормочут, таращат лупатые жабьи глаза, разевают широкие безгубые рты. Бормотание сливается воедино, крепнет лягушачьим хором:
– Брекекекс!
– Брекекекс!
– Брекекекс!
Не дилижанс это – колодец! Затхлая вода, склизкие стены уходят ввысь – не достать до края, не выбраться! Объяли Мишу Суходольского чёрные воды до души его, льдом сковали члены. Насмешничают: вздохни! вскрикни! выгреби к свету! Да и где тот свет? Там же, где и всякий тот свет... Тянут во мрак, на дно, в погибель вечную. Торжествуют:
– Брекекекс!
– Брекекекс!
– Не дамся! Прочь! Сгиньте!
Отчаянным рывком Клёст выдирается из хватки настырных рук, из чёрного холода, затхлой воды. Нашаривает колодезную цепь, вцепляется в неё. Край сруба прыгает навстречу, Миша хватается за него. Пальцы скользят, ногти оставляют глубокие борозды в сыром крошащемся дереве. Дверца распахивается (дверь?!), Миша переваливается через порожек (край?!), без сил рушится в глубокий пушистый снег...
Вырвался!
* * *
Чёрная громада дилижанса замедлила ход. Остановилась. Подсвеченная моргающим фонарём, над ко̀злами вознеслась непомерно длинная, зловещая фигура. Обернулась, вглядываясь в метель.
«Не смотри! – твердил себе Миша, лёжа в снегу на обочине. – Отвернись! Увидит, возвратится, заберёт с собой...»
Твердить он мог, заставить себя отвернуться – нет.
Ямщик вглядывался в пургу из-под руки. Вертел башкой, ища строптивого беглеца. Охристыми бликами сверкнули глаза под козырьком ладони. Глаза? Стёкла пенсне. Усы, каракулевая шляпа, пальто... Фраер из «Астраханской»! Тот, что к Монне направил. Тот, что являлся в кошмарах.
Бес, как есть бес!
Миша сунул руку за пазуху, нашарил спасение, сжал в ладони нательный крестик. Фигура беса опала, съёжилась... Сгинула.
Ну же! Уезжай!
Топот, скрип. Сквозь метель проступили зыбкие силуэты трёх всадников сопровождения. Лошади переставляли ноги с костяным стуком. Не лошади – скелеты! И в упряжке дилижанса – такие же.
Три всадника. Четвёртый – на козлах.
Огромный чёрный катафалк тронулся с места. Приоткрылась боковая дверца – та, откуда, сорвав стопорный крюк, выпрыгнул Клёст. Выглянув наружу, мёртвый кассир ухмыльнулся Мише. Размахнулся, швырнул в ночь саквояж с деньгами, забытый в салоне. Саквояж упал в снег, едва не разбив Мише голову. Дверца захлопнулась, катафалк растаял в буране.
Со второй попытки Клёст поднялся на ноги.
Плечо, бок, бедро, колено – вся левая часть тела превратилась в сплошной ушиб. Миша сделал шаг и чуть не упал. Скрипнул зубами, поднял саквояж. Котелок и пенсне куда-то подевались. Чёрт с ним, с пенсне, пусть его бесы носят! Он выпростал из-под пальто шарф, обмотал голову на манер бабьего платка. Теперь, по крайней мере, снег не забивался в уши. Проверил карманы: револьвер был на месте.
Бесовщина, значит? Козни строим, да? Удачу отваживаем?
Морщась от боли, припадая на левую ногу, Михаил Суходольский заковылял вдоль обочины тракта в обратном направлении.
Он возвращался в губернский город Х.
Он знал, что делать.
________________________________________
[1] Казинет – хлопчатобумажная или шерстяная одноцветная ткань саржевого переплетения.
[2] Спорить (укр.).
[3] Сапожник (укр.).
[4] Круглые пшеничные лепешки на молоке.
[5] Подельники (жарг.)
[6] Пистолет простейшей конструкции, карманного размера.
[7] Послание в тюрьму (жарг).
[8] Взять под красный галстук – перерезать горло (жарг.).
Глава восьмая. «АРТИСТ ИЛИ МЕБЕЛЬ?!»
1
«Кто вас научил?»
– Я прошу прощения... Вы позволите?
– Да, входите. Вам что-то надо?
– Я подумала... Может, вам одиноко?
На Анне Ивановне был надет пеньюар. Анне Ивановне исполнилось лет тридцать, может, двадцать девять. Пеньюару – вдвое больше. Такие капоты из легкой ткани, украшенные розочками где можно и где нельзя, дарили своим жёнам бородатые купцы третьей гильдии, с капиталом от восьми тысяч рублей – и с ножом к горлу требовали, чтобы жёны выходили в обнове к утреннему чаю. Впрочем, судьба этого пеньюара сложилась куда скучнее. Его, похоже, и не носили-то вовсе – держали в сундуке, с иным бельишком, пересыпая имущество порошком из листьев багульника. Кружева, ленты, атлас и шелк – все, что когда-то подчеркивало женскую прелесть, утратило вид, шик, блеск, всякую привлекательность.
Подарок Заикиной, понял Алексеев. Из прошлой жизни.
– Зачем вы? – спросил он, когда Анна Ивановна вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. – Зачем вы это делаете? Я же вижу, что вам стыдно. Вы сейчас в обморок упадёте, честное слово.
– Маменька велели, – честно ответила Анна Ивановна.
Врать она не умела. Даже не пыталась.
– Извините за нескромный вопрос... Вы девица? Или вдовая?
– Девица.
– Тогда я тем более не понимаю. Маменька велели, и вы... Вы и водку для этого пили, да? Для смелости?
Анна Ивановна кивнула.
– Я только не могу много пить, – объяснила она. – Засыпаю сразу. А потом тошнит. Если немножко, тогда ладно. Слышите, как я с вами разговариваю? Трезвая я бы никогда...
– Садитесь, – Алексеев указал на кушетку, застеленную клетчатым покрывалом. – Вы на ногах еле держитесь. Не бойтесь, я в кресле устроюсь.
– А я и не боюсь. Я вас ни капельки не боюсь. Почему?
– Потому что я вас не обижу.
– А почему вы меня не обидите? – она села на кушетку. Плотно сдвинула колени, обхватила себя руками. – Мужчины любят, когда женщины к ним сами...
– Кто вам такое сказал?
– Маменька.
– Ну да, маменька. Большой эксперт ваша маменька...
Алексеев встал у закрытой двери, сложил ладони рупором:
– А вашей драгоценной маменьке я рекомендую пойти вон! Иначе я пну дверь ногой, дверь распахнется и набьёт экспертам здоровенную шишку!
В коридоре послышались торопливые шаги.
– Почему вы меня не обидите? – повторила Анна Ивановна.
Изгнание маменьки её не заинтересовало.
– По очень простой причине, – Алексеев сел в кресло, закинул ногу за ногу. – В отношении женщин я эгоист. Мыслю так: ещё увлечешься, бросишь жену, детей... Нет, это решительно против правил. А во-вторых, что же мы будем делать с ребёнком?
– С каким ребёнком?
– С нашим, – Алексеев принял самый серьезный вид, на какой только был способен. – Я никогда не соглашусь с тем, чтобы моё дитя росло вне моей юрисдикции. Вы согласны?
– Д-да... У вас есть дети?
– Дочь и сын. И ещё один сын, внебрачный.
– Незаконнорожденный? Вы же сами говорили...
– Я тогда ещё не был женат на Марусе. Я был молод, взбалмошен, влюбчив. Если верить льстецам, талантлив. Мне поручили организовать церемонию коронации Его Императорского Величества Александра III...
– Его Величества?! Вы шутите надо мной...
– Ничуть не шучу. Поручение исходило от моего двоюродного брата, московского градоначальника. Скажу без ложной скромности, я справился, и справился недурно. Был удостоен высочайшей чести: император помянул моё скромное имя на званом ужине, устроенном по случаю окончания торжеств. Там же, на ужине, я познакомился с балериной Иогансон...
Она предложила сесть рядом, вспомнил Алексеев. Кокетничала. Болтала без умолку. Вымазала мне лицо мороженым. Закапала своё платье. Я оттирал пятна хлебным мякишем, коснулся её коленей...
– Она вас отвергла? Балерина?
– Да. Повторяю, я был молод и глуп. Я нашёл утешение у Дунечки...
– Я понимаю...
– Она служила у нас в горничных. Мать моя знала и не противилась. Когда родился Володя, мой отец усыновил его. Дал своё отчество и фамилию...
– Ваш сын Алексеев?
– Нет, отец дал ему фамилию по своему имени – Сергеев. Мальчик вырос в нашей семье, вместе с моими детьми от Маруси. Маруся относится к нему, как к родному. Мы зовём его Дуняшиным Володей...
– А его мать? Дунечка?!
– Живёт с нами.
– Вы святые...
Алексеев покраснел от стыда. Он не знал, по какой причине затеял этот скользкий разговор вместо того, чтобы выставить Анну Ивановну прочь. Святой? Как мало надо для святости! Всего лишь не выгнать из дома незаконнорожденного сына и его мать, случайную утеху...
– Давайте о чём-нибудь другом, – попросил он. – Извините, я не должен был рассказывать вам о таких вещах.
– Давайте. У вас хорошо, не хочется уходить.
– Не хочется? Не уходите. Вам известно, что сейчас пеньюары вышли из моды?
– Н-нет, не известно... А что носят вместо них?
– Кимоно.
– Как японцы?
– Скорее как японки. Шелковые кимоно с вышивкой. Дамы по ним с ума сходят.
На стене висел веер – не японский, китайский. Алексеев снял его, с треском закрыл, снова раскрыл. Семеня, прошёлся по кабинету. Спину он держал неестественно прямо, взгляд потупил до̀лу. Веер в его руках трещал, фыркал, шелестел.
– Прелестно! – Анна Ивановна захлопала в ладоши. – Кто вас научил?
– Японская семья акробатов. Я ставил «Микадо», оперетту Сюлливана. Целую зиму японцы дневали и ночевали у нас в доме. Учили своим обычаям: манере ходить, держаться, кланяться, танцевать... Актрисы изучали приемы обольщения, свойственные гейшам. Чай, и тот мы пили в едином ритме, в такт.
– Но зачем?
– Вам кажется, это мелочи? Пустяковины? Нет, из них складывается здание будущего спектакля, как дом складывается из кирпичиков. Вот вы складываете пустяки, чтобы увидеть будущее. А я складываю их, чтобы в зрительном зале смеялись и плакали. Чтобы возникала правда жизни, нет, больше, чем правда жизни – высшая, художественная правда...
Он взмахнул веером:
– Два года назад я репетировал Отелло. В Париже мне встретился красавец-араб. Я повёл его в ресторан, накормил, напоил, и все для того, чтобы в отдельном кабинете портной снял выкройку с его бурнуса. Вернувшись к себе, я полночи простоял перед зеркалом. Надевал всевозможные простыни и полотенца, заимствовал позы, которые казались мне типичными. Копировал его движения. Лепил из себя стройного мавра с быстрыми поворотами головы, с плавной царственной поступью. Кисти рук он обращал ладонями в сторону собеседника, вот так...
– Так вы нюансер?
– Кто?!
– Нюансер. Я сразу поняла, как только увидела вас...
– Нюансер? Хорошее слово, изящное. Жаль, мне оно ничего не говорит. Что это значит: нюансер?
– Вы сами сказали: чтобы в зале смеялись и плакали...
– И всё же...
– Я пойду...
Она резко встала:
– Спокойной ночи. Извините, я больше не буду к вам приставать.
Это была самая краткая, самая странная, самая нелепая любовная сцена в практике Алексеева.
2
«Рассвета не будет»
– Потерял шо, милай? Аль сам потерялся?
Миша с подозрением зыркнул через плечо. На него глядела нестарая ещё тётка в траченой молью шубе из неведомого науке чёрно-белого зверя. Тётка куталась в такой же ветхий, как и шуба, пуховый платок. Наружу торчал любопытный нос да блестел агатовый глаз, тоже любопытный. Тётка косилась на Мишу по-птичьи, боком.
Сорока да Клёст. Это к удаче.
– Шапку потерял, ветром сдуло. А ищу, где бы на постой определиться.
– То-то, дывлюсь, ты на бусурманца схожий!
Шарф, который спасал от стужи голову – в особенности уши – Миша, входя в город, перемотал заново на манер азиатского тюрбана или чалмы. Пальто, изгвазданное в грязи, щёки, заросшие щетиной, болезненный румянец от ветра и холода, импровизированный тюрбан – воистину бусурманец! Скажѐный, как называли здесь психов, припадочных и сумасшедших. Клёст уже имел сомнительное удовольствие слышать это в свой адрес.
– Какой я тебе басурман? Я на поезде приехал.
– Шо ж в отѐлю не пошёл? Аль в халэ̀пу якусь встряв?
– Опоздал я. Да и не всякий отель мне по карману. Заплутал, лихие люди морду побили, шапку потерял... Мне б угол какой снять, а?
– Як бог свят, халэпа, – посочувствовала Сорока.
Повернулась вторым глазом, жалостливым:
– Угол снять? У нас на Москалёвке это раз плюнуть, в кожній хаті п’ятый кут[1]... Ивановна на Колодезной сдаёт, Егорыч на Степной. Никифоровна на Единоверческой – цельну комнату, за два дома от церквы ейная хата...
– Возле церкви?
– Тю! Кажу ж: за два дома от церквы!
– Церковь – это хорошо, – улыбнулся Миша. С некоторых пор он твердо уверился, что церковь – это очень хорошо. – Как пройти к твоей Никифоровне?
– Да тут блызэ̀нько! Шагай прямо, вон до того колодезя. За колодезем бери право̀руч, то и будет Единоверческа. У Никифоровны наличники резные, а на тыне макитра колотая – шоб сразу видать було̀. А церкву и отсюда видать, не заблукаешь.
Два купола церкви – один высокий и узкий, другой бокастый, солидный – выглядывали из-за россыпи хат, крытых серой соломой и увенчанных снежными шапками. Меж хатами затесались важные господа – каменные дома в два этажа. Бусурманцы, не иначе.
– Сердечно благодарю! Вот, не побрезгуй.
Из рукава чёрно-белой шубы вынырнула узкая ладонь. Цепкие пальцы ухватили предложенный Мишей серебряный гривенник, и ладонь проворно исчезла в рукаве.
– Доброго хлопца здаля̀ видать! – затрещала Сорока в пространство. – Бог помогай, матерь Божья храни, заступница...
Добрый хлопец не слушал. Клёст уже ковылял в указанном направлении. До города он добирался по обледенелому тракту. Явился под самое утро, тут и метель, зараза, стихла. Случалось, Миша падал, но с упрямством осла вставал и тащился дальше. Где он нашёл грязь, чтобы испачкать пальто, Миша не помнил. Вроде ж, снег кругом? Сызнова бесовские проделки?!
Хорошо хоть, саквояж не потерял.
Всю дорогу вьюга пела ему погребальные песни, лезла в уши мертвяцкими голосами, силилась отобрать шарф, унести прочь. Во мгле роились тени: следовали за путником, отставали, нагоняли. Ветер донёс тоскливый волчий вой, но стая так и не объявилась. На окраине Миша заблудился: долго кружил по тёмным пустым улицам, выбредал к тусклым фонарям – по одному на квартал; где-нигде теплились в заиндевевших окошках огоньки свеч. Чудилось: сатана определил его в заколдованный лабиринт, откуда нет выхода. Теперь нечистый будет водить жертву по кругу, пока та не упадёт от усталости, не замёрзнет насмерть.
Рассвет? Рассвета не будет.
Как ни странно, рассвет в конце концов наступил: мутный, серый, стылый, но это был он, родимый. На улицах объявились люди, заскрипел снег под ногами, серебряной россыпью взвился перезвон колокольчиков на санях. Миша хотел кликнуть извозчика, но вовремя спохватился. К Монне никак нельзя: туда его бес-фраер отправил. Нет, второй раз Клёст на эту удочку не попадётся! И вообще, извозчикам веры нет: такой прохвост его в «Астраханскую» свёз, прямиком бесу в лапы. А после сам бес ямщиком прикинулся, в ад доставить хотел, с ветерком – хорошо, Миша подлый обман вовремя раскусил. В геенну огненную всех извозчиков, топаем пешедралом, здоровее будем...
Спаси и сохрани Господь Москалёвку с её любопытными Сороками! Два дома от церкви – то, что нужно. Ближе к храму – дальше от беса, сюда рогатый не сунется. А после...
Миша в точности знал, что будет делать после.
Всё оказалось так, как обещала тётка, даже лучше. Колотый горшок на тыне, резные наличники. Старуха Никифоровна обрадовалась новому постояльцу, ничуть не смутившись его внешним видом. Чувствовалось, что тут ночевали всякие, и Миша – не самый подозрительный. С порога предложила горячего чаю, провела в комнату: крохотную, пустую, но чистую, с белеными стенами. Клёст вручил старухе задаток за три дня – и, сняв лишь пальто с ботинками, рухнул на топчан у стены.
Тот не скрипел, в отличие от пыточной кровати у Монне.
Миша был уверен, что сразу провалится в сон. Не тут-то было: вспомнилась Оленька, которую обнимал за плечи мертвец. Морок, наваждение! Оленька жива, с ней всё хорошо. Она далеко, и слава Богу, бесу до неё не добраться. Но подлый червь уже грыз, точил душу. А вдруг не морок? Он, Клёст, вырвался из вражьих лап, а Оленьку катафалк сейчас увозит туда, откуда нет возврата? Останься Миша – может, и спас бы невинную душу. А теперь некому на помощь прийти, встать у беса на пути...
Нет! Не всемогуще бесовское отродье. Иначе он, Михаил Суходольский, уже бы на сковороде жарился. И с Оленькой, чистым сердцем, Бог беды не допустит. Не дотянуться аду до Петербурга, не по зубам ему наше спасенье. Поглядим ещё, кто кого, поглядим...
Он спал и не знал, что спит.
* * *
...вяло жевал рябчика, не ощущая вкуса. Мелкие птичьи косточки хрустели на зубах. Красное «Château Le Cône» пилось как вода: ни удовольствия, ни хмеля. Миша спросил водки. Он надеялся хотя бы тупо опьянеть. В какой-то момент, после пятой или шестой стопки, это ему удалось. Но хмель мигом выветрился, оставив в голове вязкую тину. Раками на дне в ней ворочались неприятные мысли.
Это началось вскоре после убийства Сурового. Возвращаясь домой, Клёст отметил, что нисколько не переживает по этому поводу. Железные нервы, подумал он. При избранном роде занятий это дорогого стоит.
Он не знал, как дорого это ему обойдется.
Промышлять и дальше в Петербурге становилось опасно. После третьего курса Миша бросил институт, начав кочевую жизнь «гастролёра». В беспрестанных поездках он и заметил, что мир вокруг него выцветает, делаясь всё более пресным и блеклым. Миша ел острые блюда – иначе он не ощущал вкуса. Нос ловил бледные отголоски самых ярких запахов, будь то смрад отхожего места или аромата женских духов. Вкус любимых папирос «Дюшес» стёрся, дым не кружил голову, как бывало раньше, даже после десятка жадных затяжек натощак. Вино и водка не пьянили, зато наутро, если перебрал накануне, исправно болела голова. Жара, холод, боль, голод и сытость – всё это Клёст ещё ощущал, но опасался, что их черёд не за горами.
Вместе с ощущениями чисто физиологическими у него начали притупляться чувства. Когда все вокруг хохотали над анекдотом, Клёст вежливо улыбался или делал вид, что смеётся – в зависимости от компании. Раньше Миша любил симфонические поэмы Листа, был неравнодушен к Шопену и Чайковскому, но чем дальше, тем больше любая музыка, от возвышенной до кабацкой, представлялась ему бессмысленным набором звуков. Нет, не раздражала – оставляла равнодушным. Книги его тоже не увлекали. Он нисколько не сочувствовал чужому горю, а для собственного не находил причин.
Как, впрочем, и для радости.
Пропал кураж. С прежней тщательностью, но без былого увлечения он планировал очередной гранд. Шёл на дело без волнения и азарта. Возвращался, равнодушен к ужасу и покорности жертв, к деньгам, к успешному завершению опасного дела – ко всему. Он пытался вспомнить, что и как чувствовал, когда отец и мама были живы, а он ещё не купил свой первый револьвер. Воспоминания приходили безотказно – память изменения не затронули. Но они не насыщали, как воспоминания о хлебе или мясе.
Медленно, но верно Михаил Суходольский становился живым мертвецом. Тело без чувств и страстей, которое по странному попущению вышних сил ещё ходит, дышит, разговаривает, грабит кассы и притворяется живым. По идее, осознав это, Миша должен был испугаться, запаниковать, что-то предпринять. Увы, не было ни страха, ни сожаления. Собственные метаморфозы также оставляли его равнодушным.
– ...Суходольский? Какая встреча! Сколько лет, сколько зим!
Однокашник, отметил Миша. Сергей Одинцов. Не виделись лет десять. Одинцов был навеселе: шумен, громогласен, рад встрече. Стоило ему позавидовать, но зависть не шла на зов.
– Ты, никак, уже отобедал? Я тоже! Ты свободен?
Миша неопределённо покачал в воздухе ладонью. Одинцов воспринял его жест, как изъявление полной и окончательной свободы:
– Вот и чудненько! Айда на ипподром! И верно, какие дела в воскресенье? Через час вечерние заезды, как раз поспеем. Расскажешь заодно о себе. А я, брат, у Морозовых инспекционным инженером служу. По фабрикам-мануфактурам разъезжаю, рекомендации даю, что где обновить нужно: новые машины из Англии выписать или на месте старые наладить. Работа интересная, да и платят изрядно.
По румяной физиономии Одинцова, сильно раздавшегося вширь за прошедшие годы, было видно: не врёт человек. И платят изрядно, и доволен он всем.
– Едем!
Устоять перед напором Сергея было невозможно, и как-то нечувствительно оба оказались на ипподроме. Следуя примеру однокашника, Миша поставил пять рублей на орловского рысака по кличке Пилат, серого в яблоках. Рысак пришёл вторым, денег Клёст лишился, но приобрёл иное. На трибунах, в толпе возбуждённо орущих зрителей, к нему вернулся утраченный, казалось, навсегда азарт. Мир сделался цветным, звонким, какофония духового оркестра, долетавшая со стороны Витебского вокзала, чудесным образом превратилась в музыку. Воздух наполнился ароматами горячих пирожков, сигарного и папиросного табака, «тройного» одеколона.
У Миши загорелись глаза.
– Ставлю! На Бергамота!
– На Весталку!
– На Ахиллеса!..
К счастью, он позабыл о десятирублевой ассигнации, которую по случайности сунул в другой карман, отдельно от остальных. Все имевшиеся в наличии деньги Миша просадил, но десятки с лихвой хватило на ужин в трактире при ипподроме. Трактир не по чину именовался «рестораном», половые усердно коверкали речь, полагая, что говорят по-французски, но кормили здесь недурно. Ах, каким нежным было каре ягнёнка со спаржей и каперсами! Оно просто таяло во рту. А устрицы? Несите ещё дюжину с горчицей! Дюжину с лимоном! Вина! Мадеры! Плевать я хотел, что положено пить с устрицами, а что с ягнятиной...
Уф-ф-ф!
Миша был счастлив.
– Уж и не знаю, – с сомнением проговорил Сергей, прощаясь. – Не зря ли я тебя сюда привёл? Азартен ты, Суходольский. Все деньги спустил...
– Что деньги? – с удивившей его самого пылкостью возразил Миша. – Прах! А тут – жизнь! Понимаешь, Серёжа? Настоящая! Да я тебе по гроб жизни благодарен!
Как лекарство, ипподром вышел дорогим – Клёст проигрывал всегда и всё – и краткосрочным: день-полтора, и бесчувственность возвращалась. Но теперь Миша знал, что болезнь излечима. С подачи Одинцова он заполучил смысл жизни. Ему было ради чего идти на очередной гранд.
3
«Задумчив, над рекой сидит рыбак...»
Белый. Тёмный. Красный.
Золото крестов на пяти куполах.
Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Алексеев осенил себя крестным знамением. Вышел за ограду, сделал десять шагов назад, обернулся. Отсюда, вписан в хрупкую композицию голых по-зимнему деревьев, храм смотрелся иначе. Проще, что ли, искренней? Будь храм декорацией, Алексеев бы велел перекрасить его в бело-голубой цвет.
Он медленно двинулся по кладбищенской аллее между фамильными склепами местной знати – громадинами высотой с одноэтажный дом, новыми и обветшалыми со временем. Под ногами скрипел снег. В небе стоял вороний грай – густой, хоть ножом режь. Мимо, не оглянувшись на Алексеева, пробежала бродячая собака. Бок у собаки был изъеден коростой – лишай, а может, кипятком плеснули.
С утра кладбище пустовало. Алексеев пришёл сюда пешком, не утруждая себя поисками извозчика – ерунда, пять минут хода, ну, десять, если брести нога за ногу. Погода наладилась, бушевавшая ночью метель к рассвету стихла. По дороге Алексеев размышлял, по какой причине ему занадобилось посетить могилу Заикиной, да так ничего путного и не надумал. Будем считать, приспичило.
А это чья могила? Десять каменных столбиков по периметру. Каждый не выше колена. Столбики соединены цепью: темно-серой, мокрой. Скромный обелиск заострен кверху. «Памяти дѣйствительнаго статскаго совѣтника, – прочёл Алексеев на плите, – Петра Петровича Артемовскаго-Гулака.»
И ниже: «Преданная жена».
– Не ожидал, – вслух произнёс он. – Извините, Петр Петрович, если не вовремя...
И процитировал напамять:
– Вода шумыть!.. вода ґуля!..
На бѐрезі Рыбалка молодѐнький
На поплавець глядыть і прымовля:
"Ловіться, рыбочки, велыкі і маленькі!"
Що рыбка смык — то серце тьох!..
Сердѐнько щось Рыбалочці віщує...
– Извините, Петр Петрович, – повторил Алексеев.
Вне сомнений, он ошибался и в ударениях, и в произношении ряда звуков. Здешнего наречия Алексеев толком не знал – так, нахватался по верхам, когда жил у брата в Андреевке и Григоровке. «Кобзарь» Шевченко он прочитал с огромным удовольствием, полагал его сочинением изумительным по яркости и патетике, но читал Алексеев «Кобзарь» в переводе на русский язык. Горячо любил украинскую музыку, в частности, оперы Лысенко, пленившие Алексеева своей изысканной красотой. Кропивницкий, Заньковецкая, Саксаганский, Садовский –эта плеяда мастеров сцены ничем не уступала таким знаменитостям, как Щепкин, Мочалов или Соловцов, о чём Алексеев не раз заявлял публично и в переписке. С переводами покойного Гулака-Артемовского он также был знаком и высоко ценил их за мелодичность и мягкость звучания, даже не имея возможности уловить ряд тонкостей.
– Das Wasser rauscht, das Wasser fliesst
Ein Fischer sass daran,
Sah nach der Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan...
Оригинал Гёте звучал иначе: твёрже, жёстче.
– Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой
Сидит рыбак; душа полна
Прохладной тишиной.
Сидит он час, сидит другой;
Вдруг шум в волнах притих...
Перевод Жуковского он помнил с гимназии. Оригинал и два перевода – на первый взгляд между ними было мало общего. Разные нюансы, оттенки, акценты. Разный ритм. И всё-таки... «Подробности – главное, – говаривал старик Гёте, автор «Рыбака». – Подробности – Бог.»
– Ну что же ты, Никифор? Ты не спи, ты просыпайся...
Говорили в соседнем ряду. Алексеев сделал шаг в сторону и увидел знакомого еврея. Если в ресторане «Гранд-Отеля» еврей смотрелся чужеродно, то на христианском кладбище его картуз и длинный, наглухо закрытый капот со скруглёнными лацканами выглядели еще более неуместными.
– Жизнь проспишь, Никифор...
Под склепом, на вершине которого скорбел ангел-трубач, спал могильщик. Нет, уже не спал: мутный взор Никифора уперся в еврея, не суля тому добра. Ангел, казалось, тоже был недоволен.
– Ты вставай, Никифор. Дело есть...
– Какое, к бесу, дело, Лёвка?
– Ты уже похмелился, Никифор?
– Ну?
– Бери, пожалуйста, заступ. На карповской могилке оградка покосилась, надо выставить, как следует. Ровненько, по струночке...
– Шо, прям щас?
– Да, Никифор. Ты вставай...
– Карповская? Это Сергей Федотыча?
– Его самого.
– Купца второй гильдии?
– Никифор, не кушай мой характер, я тебя умоляю. Сделаешь?
С немалым изумлением Алексеев наблюдал, как могильщик встает, берёт заступ и без возражений, качаясь на ходу, уходит вглубь кладбища – должно быть, к указанной карповской могиле. Внезапная услужливость Никифора, чья внешность и состояние ничем такую услужливость не объясняли, была изумительна не меньше, чем внезапный интерес еврея к купеческому захоронению.
Обернувшись, Никифор поймал взгляд Алексеева.
– Та то ж Лёва! – развёл он руками, чуть не снеся заступом гипсовый венок с чьего-то барельефа. – Лёвка, понимать надо! Не боись, Лев Борисыч, сделаем в лучшем виде...
Заметил Алексеева и еврей:
– Guten Morgen, Константин Сергеевич! Wie geht es euch?
– Danke, alles ist gut. Und Sie?
– Danke, dass Sie sich nicht beschweren. Alles Gute für dich[2]!
– Извините, – не выдержал Алексеев. – А почему мы говорим по-немецки?
Еврей ухмыльнулся:
– Так ведь Гёте! «Das Wasser rauscht, das Wasser fliesst...» Извиняюсь, забыл представиться. Память совсем истрепалась! Были бы деньги, купил бы новую. Кантор, Лейба Берлович Кантор, разночинец[3].
– Алексеев Константин Сергеевич... Полно, да вы же меня знаете! Откуда, если не секрет?
– Какой там секрет! Можно ли вас не знать, вы человек известный... Что-то ищете? Если могилку, готов подсказать. Здесь мне любая могилка известна. Помните Крылова? «И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом...» А где дом, там и домовина.
– Заикину ищу.
Двусмысленное заявление насчёт дома-домовины Алексеев предпочёл не заметить.
– Елизавету Петровну? Будьте так благолюбезны, проследуйте сюда, – Кантор указал, куда. – По второму ряду до конца. Там она и отдыхает, новопреставленная. Оградка из копий с позлащёнными остриями. Ой, не могилка – праздник сердца! Сам бы лежал, да место занято.
– Большое вам спасибо!
– Toujours à votre service[4]!
По-немецки Кантор изъяснялся с мягким баварским произношением, заменяя звуками «а» и «о» все остальные гласные буквы. Французский язык выдавал в нём парижанина. По-русски же он говорил с Алексеевым чисто, внятно, с лёгкой иронией, убрав из речи визгливые местечковые нотки. Сам полиглот, в юности – гимназист при Лазаревском институте восточных языков, Алексеев подумал ещё, что заговори он с Лейбой Берловичем на латыни или, к примеру, древнегреческом – и еврею не составит труда поддержать беседу. Всё это слабо вязалось с обликом служки в синагоге на Мещанской и пассажами типа «Никифор, не кушай мой характер...»
– Au revoir, monsieur Cantor!
– Vous voir, monsieur Alekseev! À bientôt[5]!
В проходе между рядами Алексеев обернулся. Кантор стоял на месте и махал ему вслед картузом. Когда Алексеев, выбравшись во второй ряд, обернулся ещё раз, Кантор уже вприпрыжку уходил прочь.
* * *
Золочёные острия были видны издалека.
Алексеев замедлил шаг. У могилы Заикиной, взявшись за копья обеими руками, стояла какая-то женщина в широком салопе на меху. Она показалась Алексееву знакомой. Сперва он даже решил, что это младшая приживалка, но вскоре, нацепив пенсне, понял, что ошибся по причине слабого зрения. Женщина была вдвое старше Анны Ивановны – скорее уж ровесница Неонилы Прокофьевны, только стройная, моложавая, с осанкой классной дамы, в отличие от оплывшей мамаши.
Черт лица Алексеев не мог разобрать даже в пенсне. Подойти ближе? Неловко, да и грех мешать чужому горю. Дважды грех, учитывая, что сам Алексеев пришёл сюда из праздного любопытства. Сделав вид, что с большим интересом изучает чей-то склеп, он решил подождать, пока женщина уйдёт. Ждать пришлось недолго: искоса наблюдая за посетительницей, Алексеев увидел, как женщина что-то сказала, наклонилась вперёд, рискуя напороться на копья, плюнула на могилу Заикиной – и быстрым шагом покинула кладбище.
Нет, не покинула. Задержалась у соседней могилы, согнулась от внезапных рыданий, выхватила из кармана платок, как выхватывают револьвер; прижала ко рту, глуша звуки. Алексееву почудился слабый вой: так воют собаки над покойником. Рыдая в платок, женщина простояла у второй могилы одну, две, три минуты, затем к ней вернулось самообладание.
Вот, теперь ушла.
Когда её салоп скрылся за притвором храма, Алексеев пошёл – побежал! – вдоль ряда. Миновав место упокоения Заикиной (успеется!), он остановился у могилы, над которой плакала странная гостья. Памятником здесь стояла античная белая колонна, исписанная таким количеством разного рода эпитафий, что это граничило с безвкусицей. Когда-то золотые, а сейчас почерневшие от времени буквы гласили:
«Могила властительницы думъ и сердецъ артистки Е. Кадминой... слава оперной сцены Большого театра Кадмина Евлалiя Павловна...»
И панегирик композитора Чайковского:
«...Кадмина въ роляхъ произвела свою громадную талантливость, которая за ней единогласно была бы признана...»
«1853-1881, – прочёл Алексеев даты жизни и смерти. – Сейчас мне тридцать четыре, Кадминой же вечно двадцать восемь. Я видел её в роли Офелии, за год до трагической смерти. Кто та женщина, что рыдала над ней? И почему она плюнула на могилу Заикиной?»
Он перевёл взгляд на место захоронения гадалки, в прошлом – тоже актрисы, завещавшей свою квартиру бог знает кому из бог знает каких соображений. Заикина лежала в ногах у Кадминой, как если бы просила прощения. Глубокая старуха и оперная прима, ушедшая из жизни в расцвете сил и таланта – даты их смертей разделяло шестнадцать лет, и Алексеев не знал, отчего ему взбрела на ум такая сомнительная аллегория.
Просила прощения? Нет, глупости.
4
«Сумасшедшая Евлалия»
«Я хорошо знал эту странную, беспокойную, болезненно самолюбивую
натуру, и мне всегда казалось, что она добром не кончит.»
П. И. Чайковский
Сумасшедшая Евлалия.
Так она звала сама себя. Так, случалось, подписывала контракты.
Её жизнь напоминала поэму. Так и запишем.
Так-так-так. Всё не в такт.
Мать – цыганка. Отец – купец. Что тут скажешь? Любовь лишает рассудка. Мезальянс, скандал, попрёки родни. Венчание. Рождение трёх дочерей. Евлалия Кадмина – младшая.
Буйная. Гордая. Независимая.
Сумасшедшая.
Сестёр не любила. Никого не любила.
Елизаветинский институт благородных девиц. Первоначально – Московский Дом Трудолюбия. Закон Божий. Русский, французский, немецкий языки. Математика, история, география. Музыка, пение, танцы. В перспективе – должность гувернантки.
Утренник. Концерт для гостей. Евлалия поёт.
Ей повезло – в её жизни случился Николай Рубинштейн. А может, не повезло – гувернанткой жила бы дольше.
Директор Московской консерватории, волшебник Рубинштейн мановением дирижёрской палочки превращает Евлалию Кадмину в студентку по классу вокала. В числе учителей – Петр Чайковский. Специально для Кадминой он напишет отдельную партию в «Снегурочке». Снегурочка? Нет, Лель, Орфей берендеева царства. Мужская роль? Для юной певицы?!
Меццо-сопрано[6]. Не голос, бархат. Публика в восхищении.
Смерть отца. Нет средств.
Рубинштейн выбивает стипендию.
Мужские роли преследуют Кадмину. Дебютирует она очередным Орфеем – настоящим, древнегреческим, из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Ваня в опере Глинки «Жизнь за царя». Замены итальянских примадонн, изволивших заболеть невпопад. Случается, поёт не своим голосом, поднимаясь от меццо-сопрано к сопрано.
Большой театр.
Скандалы. Истерики. Болезненная реакция на критику. Кричит на статистов. Избила зонтиком репортёра. Прекрасна. Несносна. Вспыльчива.
Дирекция театра в бешенстве.
Контракт с Большим театром решено не продлевать. Кадмина переезжает в Санкт-Петербург, поёт в Мариинском театре. Снова мужской рок – партия Ратмира в «Руслане и Людмиле». Боярыня Морозова в «Опричнике».
Критики ворчат: голос-де слабоват.
Критикам возражает Чайковский: «Кадмина обладает редкою в современных певцах способностью модулировать голосом, придавать ему, смотря по внутреннему значению исполняемого, тот или другой тон, то или другое выражение. Этою способностью она пользуется с тем артистическим чутьем, которое составляет самый драгоценный атрибут её симпатичного таланта.»
Критики – ладно. Сумашедшая Евлалия не простит Чайковскому этой похвалы. «Симпатичный талант»?! Не восхитительный, ошеломляющий, потрясающий? Просто симпатичный?! Талант, не гений?!
Прочь из Мариинки!
Италия. Отъезд инкогнито.
Турин, Неаполь, Милан, Флоренция. Голос забирается всё выше и выше. Партии сопрано, одна за другой. Оглушительный успех. Поклонники. Любовники. Болезнь. Молодой врач Эрнесто Фальконе.
Свадьба.
Милан? Петербург? Москва?
Нет, Киев.
Пятнадцать выходов на аплодисменты в «Аиде». Триумф Маргариты в «Фаусте». Происки конкуренток. Подкуп прессы. Освистывание. Бешенство. Чёрная меланхолия. Припадки ярости. Ревность мужа. Скандал за скандалом. Рукоприкладство. Эрнесто Фальконе возвращается в Италию. Евлалия Кадмина тоже не останется в Киеве.
Москва? Флоренция? Петербург?!
Нет, губернский город Х.
Антрепренёр вспоминает:
«Пела Селику в «Африканке». Среди спектакля её чем-то рассердили. Зеркало в уборной – вдребезги. Один башмак в лицо горничной, другой – в меня. Шубу на плечи... Как была, босиком в трико, вон из театра! Я за нею в одном сюртуке: «Евлалия Павловна! Голубушка! Хоть оперу-то допойте, ангельчик...» Она через площадь бегом к себе в гостиницу. И я бегу: «Просту̀дитесь! Пожалейте не себя, так меня! Как я буду кончать сезон, если вы заболеете?» Не слушает. Только кричит: «Неуважение! Ко мне! К Кадминой! Черти! Дьяволы!» Вбежала в номер – прямо к камину, ноги чуть не в самый огонь сунула. Я бух на колени: «Вернитесь, допойте!» Вон, кричит. Грожусь: «Я оштрафую». Сделайте одолжение, кричит. «Я контракт разорву!» Контракт? Трах! – только клочья полетели...»
Один сезон, и Кадмина теряет голос. Увлечение несвойственным ей сопрано делает своё чёрное дело. Голосовые связки не выдерживают нагрузки. Сумасшедшая Евлалия переходит из оперного в драматический театр.
Дебютная Офелия в «Гамлете». Восторг критиков. Двадцать ролей за один год. Успех. Любовь публики. Студенты носят любимицу на руках: из театра в гостиницу. Офицеры дежурят у дверей, наперебой стремясь поцеловать ручку примадонне. Есть среди них некий поручик...
Страсть.
Роман, будто спичка на ветру, вспыхивает и гаснет. Удовлетворив тщеславие, поручик обменивается кольцами с другой женщиной. У соперницы нет артистического таланта, зато есть богатое приданое.
Ноябрь восемьдесят первого.
Холод, слякоть, свинцовые небеса.
«Южный край» за 2-е ноября: «Вскоре предположен бенефис г-жи Кадминой. Талантливая бенефициантка ставит пьесу Островского «Василиса Мелентьевна», которая в течение восьми лет не давалась на провинциальных сценах. Испросив разрешение на постановку этой драмы, г-жа Кадмина, как нам сообщают, озаботилась тщательной ея постановкой, потребовавшей значительных затрат...»
«Южный край» за 4-е ноября: «Бенефис Е. П. Кадминой привлёк многочисленную публику, которая сверху донизу наполнила театр; свободными оставалось несколько кресел. Бенефициантка, как и следовало ожидать, вызвала шумныя овации, выразившыяся в массе подношений, громе рукоплесканий и многочисленных вызовах...»
«Южный край» за 11-е ноября: «...понесла невознаградимую утрату: вчера, в 7 час. 15 м. вечера преждевременно скончалась в полном расцвете дарования артистка Императорских театров Евлалия Павловна Кадмина. Живейшими симпатиями публики артистка пользовалась при жизни, живейшая скорбь провожает её в преждевременную могилу...»
Изменщик-поручик явился на спектакль с невестой. В антракте после первого акта сумасшедшая Евлалия, доведённая до отчаяния знаками внимания, которые мерзавец оказывал сопернице, заперлась в уборной. Коробок фосфорных спичек. Отломанные головки в стакане воды. Выпить залпом.
Уйти играть второй акт.
В середине акта Кадмина потеряла сознание.
Шесть дней врачи боролись за жизнь актрисы. Шесть дней фосфор разъедал ей внутренности. На седьмой день Евлалия Кадмина скончалась.
Два месяца назад сумасшедшей Евлалии исполнилось двадцать восемь лет.
* * *
– Подать ещё чаю?
– Да, с фосфором.
– Что-с?
– Ничего, оговорился. Принесите чаю с сахаром.
– Сию минуту!
Алексеев смотрел в стену. Он нарочно выбрал такой столик в ресторане «Гранд-Отеля», где можно было уставиться в стену, притворившись букой, и думать о своём, не отвлекаясь на яркие типажи посетителей.
Евлалия Кадмина умерла в гостинице «Европейской». Через три года после смерти актрисы гостиницу приобрёл коммерции советник Матвей Кузнецов. Старое название не понравилось Кузнецову, и он назвал гостиницу иначе: «Гранд-Отель».
«Дьявол, – думал Алексеев. – Дьявол прячется в мелочах. Подробности – главное, подробности – Бог. Как узнать, кто скрывается в той или иной мелочи? Дьявол или Бог? Нимб или рога?! Вот, к примеру...»
На кладбище он упал. Уходя от могилы сумасшедшей Евлалии, поскользнулся, сделал неверный, слишком широкий шаг, чуть не порвав себе связки в паху, схватился за ограду могилы Заикиной, но рука, подражая ноге-предательнице, тоже соскользнула с золочёного острия. Алексеев рухнул на колени, плечом врезался в ряд чёрных копий, словно героический воин – в строй врагов. Акробатические кульбиты стоили ему резкой, оглушительной боли. Алексеев вскрикнул, дёрнулся, как в зубоврачебном кресле. Плечо свела судорога, заклинив руку между древками. Чтобы не пораниться об острия, пришлось опереться о надгробную плиту.
Ладонь легла на выбитую в камне фамилию Заикиной.
Когда, охая и кряхтя, Алексеев с трудом поднялся, перчатка была вся в грязи, как если бы он опёрся не о плиту, а прямо о могильный холм, насыпанный по весне после дождя. Чувствуя неясную брезгливость, он сдёрнул перчатку, чуть не вывихнув палец, скомкал, сунул в карман пальто. По счастью, пенсне уцелело – свалилось с носа, но повисло на шнурке. Вернув пенсне на законное место, Алексеев попятился назад, к могиле Кадминой. Поднялся ветер, с памятника актрисы сорвалась снежная пыль, ударила в лицо. Снег набился в рот, у него был странный привкус.
Фосфор, невпопад подумал Алексеев. Спичечные головки. Отплевываясь, он ускорил шаг, побежал, но на выходе с кладбища чудовищным усилием воли унял бег...
До «Гранд-Отеля» он шёл пешком – медленно, по-стариковски, стараясь угомонить разгулявшееся сердцебиение. При его наследственном нездоровье такие волнения – в особенности, пустые волнения! – грозили приступом. Дорога заняла около часа. За эти шестьдесят минут Алексеев шестьсот раз обвинил себя в мнительности, пошлых суевериях, природной глупости. Время от времени он сплёвывал, пытаясь избавиться от вкуса могильного снега.
В ресторане он заказывал уже пятый стакан чая – с той же целью.
– Извольте ваш чаёк-с!
– Благодарю, любезный.
Грязь. Снег. Гадалка в ногах актрисы. Женщина рыдает над одной и плюёт на другую. «На бѐрезі Рыбалка молодѐнький...» Никифор с заступом. Еврей-полиглот. «Das Wasser rauscht, das Wasser fliesst...» Снег. Грязь. Фосфор. Самоубийц не хоронят в освящённой земле. Кадмину удалось отстоять. Если бы умерла сразу – похоронили бы за оградой. Шесть дней адских мучений, и ты уже не самоубийца – «въ результатѣ тяжёлой болѣзни...» Грязь. Фосфор. Снег. «Vous voir, monsieur Alekseev! À bientôt!» Пенсне. Растянутые связки. Картуз. «Извиняюсь, забыл представиться. Лейба Берлович Кантор, разночинец...»
Кантор!
Контора нотариуса. Завещание Заикиной. Подписи свидетелей. Ваграмян Ашот Каренович. Радченко Любовь Павловна. Кантор Лейба Берлович.
«Ещё один вопрос. Свидетель Кантор... Насколько мне известно, лица, не бывшие никогда у Святого причастия, не имеют права свидетельствовать...»
«Он крещёный. Наречён Львом, это сейчас он подписывается Лейбой. Забавная история, я когда-нибудь вам расскажу...»
«Та то ж Лёва! Лёвка, понимать надо! Не боись, Лев Борисыч, сделаем в лучшем виде...»
Сапожник и еврей – свидетели завещания Заикиной. Теперь понятно, отметил Алексеев, откуда он меня знает. И имя, и отчество. Это понятно, другое непонятно. Я вижу, как складывается мизансцена. Вижу, из чего она складывается.
Но какова её задача?
Алексеев не раз выходил на сцену, плохо зная текст роли. В таких случаях он полагался на суфлера. Но ещё никогда он не выходил на сцену, даже не догадываясь, какой спектакль играет. Драма? Комедия? Трагедия? Фарс? Хоть название подскажите, а?! А главное, кто же ты, брат Алексеев – артист или мебель?!
«Маменька говорят, что мы были мебель. А там и выучились, только чуточку...»
Мебель, не мебель, но он боялся признаться себе в главном: пьеса начала его увлекать. Так течение на быстрине увлекает неосторожного пловца.
_______________________________________
[1] В каждой хате пятый угол (укр.).
[2] – Доброе утро! Как поживаете?
– Спасибо, все в порядке. А вы?
– Благодарю, не жалуюсь. Всего хорошего! (нем.)
[3] Юридически не вполне оформленная категория населения. Лицо, не принадлежащее ни к одному из установленных сословий.
[4] Всегда к вашим услугам! (франц.)
[5] – До свидания, месье Кантор!
– До встречи, месье Алексеев! До скорой встречи! (франц.)
[6] Женский голос, средний по высоте между сопрано и контральто. Характерный признак: насыщенность, полнота звучания в «середине» и мягкость, объёмность звучания низких (грудных) нот.
Глава девятая. «РЕЖЬ МЕНЯ, ЖГИ МЕНЯ!»
1
«Помоги беса одолеть...»
Бес! Его козни!
Мишу подбросила невидимая пружина. Он подскочил на топчане: сна – ни в одном глазу. В голове вертелся безумный калейдоскоп. Лопается затылок кассира, эхом отдаётся запоздалое сожаление. Вкус choucroute garnie. Призраки – испуг, растерянность. Сладость малинового варенья; терпкость крепко заваренного чая. Внезапная симпатия к фраеру – товарищу по несчастью, как был тогда уверен Клёст. Глухое раздражение: нет билетов на крымский! Вспышка ярости – в «Астраханской» он чуть не начал палить из «француза» в чёртова кота! Глупый кураж, драка с «тремя богатырями».
Ароматный дым «Дюшеса»...
Вкусы, запахи, переживания – они снова были с ним! Кажется, с того самого момента, как пуля из нагана вышибла мозги кассира Лаврика. Впору поверить, что последнее убийство вернуло Клёсту всё, что отняло первое. Шалишь, бес! Миша Клёст в твою ловушку не попадётся! Искушаешь? Подсовываешь самое желанное в тот момент, когда дар оборачивается проклятием? Кто, кроме нечистого, способен на такую пакость?! Останься Клёст бесчувственным, равнодушным истуканом – не испугался бы мертвяков, не сбился бы с пути. Не будь отравленного дара, троянского коня, он давно уже выбрался бы из города – и поминай как звали!
Может, это ему испытание свыше? Справится – станет таким, как прежде, живым. Не справится... Память вернула упряжку коней-скелетов, чёрный катафалк, уносящийся в стылую темень.
Миша знобко передёрнул плечами.
Тело ныло, как один огромный синяк, но он заставил себя встать. Кое-как отчистил пальто от грязи – по крайней мере, от самых заметных пятен. Обулся, намотал на голову шарф-тюрбан, решительно вышел на улицу. Нужно было купить шапку и найти место, куда спрятать саквояж с деньгами. Не таскать же его всё время с собой!
Шапка. Ухоронка.
Это так. Не главное.
Первым делом Михаил Суходольский отправился в церковь. Если бес крадёт удачу, кто её вернёт, если не Господь?
Под ногами хлюпало, чавкало. Весна опомнилась, в голос заявляя свои права. Звенела капель, ошалело каркали вороны. В их грае Мише слышалось иное, насмешливое, жабье: «Брекекекс! Брекекекс!» Клёст скривился, как от оскомины, замотал головой, пытаясь вытрясти из ушей гнилую чертячью вату. С трудом выдирая ботинки из болота, в которое превратилась улица, он вошёл в церковную ограду. Рванина облаков разошлась по шву, в прореху выглянуло солнце. Крест на колокольне вспыхнул ослепительным золотом.
Добрый знак, кивнул Клёст.
В храме его окутали запахи ладана и горячего свечного воска. Не поскупившись, Миша за полтинник купил толстую витую свечу, прошёл внутрь – и в изумлении замер перед великолепным иконостасом. Иисус и Богородица, одухотворённые лики святых, выписанные с таким мастерством, что даже в Петербурге не во всякой церкви увидишь. Блики десятков свечей, заздравных и поминальных, отражались в золоте и серебре окладов. В центре красовалась старинная икона, изображавшая святого Спиридона – в роскошной ризе, украшенной бриллиантами и крупным изумрудом.
Людей в церкви было мало: обедня закончилась, до вечерни было ещё далеко. Лишь перед святым Спиридоном истово била поклоны женщина во всём чёрном. Почудилось: огромная ворона, залетев в храм, клюёт что-то с пола. Но женщина выпрямилась, отошла от иконы, и наваждение сгинуло. Миша занял место вороны, зажёг свечу. Мёртвыми губами прошептал:
– Упокой, Господи, душу раба Твоего Иосифа, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное...
«Лаврик, – откликнулась память голосом покойного кассира. – Ося, Иосиф Кондратьевич. А вы кто будете?»
Кто я буду, спросил себя Клёст. Кто?! Он ещё немного постоял под тёмными и гулкими сводами, вглядываясь в лик святого: строгий, сострадательный. Нетерпение, с недавних пор поселившееся под сердцем, гнало Мишу прочь, но он унял торопливость, прочёл «Отче наш» – и, низко поклонившись иконе, произнёс:
– Не оставь милостью! Помоги беса одолеть...
Отвесил ещё один поклон, поднял взгляд на Христа с Богородицей, кивнул с удовлетворением чему-то своему и направился к выходу.
За оградой Миша дал выход снедавшей его лихорадке. Если бы не раскисшие вдрызг улицы Москалёвки, он бы, наверное, рванул к центру бегом. Вот она, шляпная лавка. Приказчик в испуге попятился, когда в лавку с решимостью убийцы ворвался небритый господин в азиатском тюрбане. Лицо клиента полыхало болезненным румянцем, в глазах блестел огонёк безумия. Оставляя на полу грязные следы, он быстро подошёл, нет, подбежал к прилавку, навис над приказчиком:
– Шапка нужна! Зимняя!
– Извольте выбрать, – дрожащей рукой приказчик указал на головные уборы, развешанные на крючках. – Есть каракулевые папахи отличной выделки...
– Каракуль? Нет!!!
У Миши задёргалась левая щека. Он сунул приказчику под нос указательный палец и поводил этим аргументом вправо-влево:
– Каракуль пусть бесы носят!
– Да-да, вы совершенно правы...
– Ягненок – тварь невинная, агнец божий! Родиться не успел, а ты его на каракуль свежуешь? Сам в этом чёрном озере[1] купайся, радуй сатану!
– Вот, прошу вас: шляпа-«пирожок». Тёплая, удобная, вам к лицу!
Миша глянул на «пирожок», затрясся:
– Ты что мне предлагаешь, шельмец? Опять каракуль?!
Сейчас в горло вцепится, понял приказчик. Зубами загрызёт, бусурманец скаженый!
– Есть из нерпы! – зачастил он, пытаясь исправить положение. – Одна-одинёшенька осталась, исключительно для вас! Желаете примерить?
Миша повертел в руках нерпу, огладил пальцами мех. У приказчика отлегло от сердца – так, самую малость. Смотав тюрбан, Клёст нахлобучил «пирожок», сунулся к зеркалу. Криво ухмыльнулся:
– Беру, мучитель. Сколько с меня?
Вспомнить цену приказчику удалось не сразу. С перепугу он назвал на рубль больше, и посетитель – вот те крест! – заплатил, не торгуясь. Когда за Мишей закрылась дверь, приказчик без сил рухнул на стул. Он обливался холодным потом, широко разевал рот, словно выброшенный на берег карп. «Чуть не убил! Право, зарезал бы и глазом не моргнул! Но ведь не зарезал? Ещё и целковый на ровном месте...»
Рубль грел душу. Но приказчик мог со всей уверенностью сказать, что второго такого заработка он не переживёт.
2
«Шестой стакан мне не повредит?»
– Что будем составлять?
– Договор доверенности.
– «Сим договором Алексеев Георгий Сергеевич обязывается к совершению юридических сделок от имени и в пользу Алексеева Константина Сергеевича...»
Нотариус Янсон сегодня встал с постели снулой рыбой. Хорошо, не встал – всплыл. Чувствовалось, что ночь Янсон провёл не лучшим образом. Бессонница, мигрень, а скорее всего, судя по тому, что писа̀л нотариус стоя, не стремясь опуститься в кресло, разыгрался геморрой. Иные варианты отпадали – заподозрить Янсона в тайных пороках или пристрастии к азартным играм мог лишь человек с гипертрофированным воображением.
«Я человек болезненный, слабый, – вспомнил Алексеев подходящую к случаю цитату. Рассказ «Оба лучше» был написан Чеховым, с кем Алексеев состоял в отношениях близких, почти приятельских. Превосходный литератор, врачом Чехов был не худшим. – Во мне скрытый геморрой ходит. Был я, знаешь, в четверг в бане, часа три парился. А от па̀ру геморрой еще пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо...»
– Доверенность общая или специальная?
– Специальная.
– Предмет доверения?
– Квартира Заикиной.
– Позвольте!
Рыба проснулась. Рыба всплеснула плавниками:
– Вы еще не вступили в права наследования!
– Составьте черновик доверенности. Пусть полежит у вас до окончательного завершения дела. Как только я вступлю в права, я подпишу его. Мне хлопотно будет заниматься квартирой. Брату проще, он здесь живёт. Да и с досугом у него дела обстоят лучше моего...
– Понимаю. Черновик – это допустимо. Итак, доверенность специальная, предметом которой является жилая площадь по улице Епархиальной...
– Адрес возьмите из завещания.
– Да, разумеется.
Янсон скрипел пером, часто макая его в бронзовую чернильницу. Задавал вопросы, Алексеев отвечал – кратко, не задумываясь. Мысли его целиком занимал удивительный спектакль, в который он угодил против собственной воли. Мало-помалу пустяки и случайности складывались в систему – ещё не чёткую, стройную, сцепленную всеми шестеренками в единый механизм, но контур очерчивался, закономерности прослеживались, а сквозное действие обещало вот-вот оформиться в острый кавказский шампур, на который, словно куски мяса, лук, помидоры и баклажаны, нанижутся все частные действия, поступки и предлагаемые обстоятельства.
Алексеев чувствовал, что оживает. Он испытывал немалый душевный подъём. Если с театром покончено, если он возвращается к семье и работе, отчего бы не разыграть напоследок представление, случайно выпавшее на его долю? Он знал за собой способности к систематизированию, увязыванию воедино ниточек, которые иному показались бы кучей обрывков, спутанным клубком, годным лишь для игры котенка. Этот природный талант играл на руку Алексееву не только в его артистической карьере – карьера деловая зависела от него в не меньшей степени. Не так давно он опять сменил на фабрике оборудование, что влетело товариществу в серьёзный капитал, и создал отдел по сверлению алмазов, куда поставил швейцарские станки. Партнёры называли это пустой тратой денег, но Алексеев стоял насмерть. В данный момент в его распоряжении имелось шестнадцать тысяч воло̀к собственного производства – алмазных и рубиновых, не считая двух сотен сапфировых.
«Куда ты ломишься?» – спрашивали братья.
«В Париж,» – отвечал Алексеев.
«Ну так съезди в Париж и угомонись!»
«Съезжу обязательно. На Всемирную промышленную выставку. Вот получу «Гран-при» и угомонюсь. Ладно, вам тоже прихвачу по медали...»
Он лукавил. Париж Парижем, а нити, производимые на новом оборудовании, годились не только для золотого шитья. Пару лет назад, взломав глухую оборону совета директоров, Алексеев открыл два завода – меднопрокатный и кабельный. Электрические провода и нити для ламп накаливания – производственная система Алексеева, нанизанная на шампур сквозного действия прогресса, ясно утверждала, что будущее за этим товаром, а не за блестящими мундирами и ризами.
По привычке Алексеев звал себя канительщиком. Это было лукавством. С бо̀льшим правом он мог бы зваться проводнико̀м или ламповых дел мастером.
«Или шкафом, – подумал Алексеев. – «Маменька говорят, что мы были мебель...» Я буду шкафом, многоуважаемым шкафом. Надо спросить разрешения у Антона Павловича: «многоуважаемый шкаф» – его выдумка. Чехов всё грозится вставить его в какую-нибудь пьесу...»
– У вас есть вопросы? – прервал его размышления Янсон. – Если нет, то черновик готов, извольте ознакомиться.
– Есть. Свидетели завещания Заикиной...
– У вас какие-то претензии? Хотите сделать заявление?
– Нет, претензий нет. На днях я имел удовольствие познакомиться с господином Ваграмяном. Превосходный человек, спокойный, вежливый. Нашёл мою зубную щётку. «Императорских» не курит, предпочитает «Ферезли»...
– Что?
Глаза Янсона поползли на лоб.
– Превосходный человек, говорю. Вероятно, госпожа Радченко ему под стать. Кто она?
– Костюмерша в театре. В прошлом – модистка. Трудилась в ателье mademoiselleRosalie – это слева от моста, где аптека Коха, угол с кондитерской. Бывает, и сейчас трудится, на заказах.
– MademoiselleRosalie? Парижанка?!
– Что вас смущает?
– Она же скончалась! И давно, насколько я знаю.
Алексееву представилась страшная картинка: стройный парижский скелет в чепце дает модистке указания – рюши, воланы, оборки...
– Это не та Розали, это её дочка. Матушка отошла в мир иной, дочь продолжила семейное дело. Там еще и внучка намечается... Госпожа Радченко временами у них подрабатывает. Больше, правда, в театре...
– Ну да, театр. Престарелая актриса, умирая, берёт в свидетели костюмершу. Вполне понятное решение. Сапожник? У него мастерская двумя этажами ниже квартиры покойной. Наверняка были знакомы, имели добрые отношения. Но этот Кантор...
– У вас есть предубеждения?
Нотариус не закончил фразы, но любому сделалось бы ясно, о каких предубеждениях говорит Янсон.
– Что вы, Александр Рафаилович! Тем более вы сказали, что он крещёный. Ещё хотели при случае рассказать мне историю этого Кантора. Говорили, будто она забавная...
– Вы хотите, чтобы я сделал это сейчас?
– Pourquoi pas[2]? Вы куда-то торопитесь? Я оплачу всё потраченное на меня сверхурочное время.
– Ну, если так... Хотите чаю?
– Как думаете, шестой стакан мне не повредит?
– Что?!
– Ничего, пустяки. Давайте пить чай. Присядете?
– Спасибо, я постою.
3
«Вы видели это наследство?»
Когда Лейбе Кантору было три года, его украли цыгане.
Случилось это в местечке Полангене, где у родителей Лейбы, семейства богатых купцов из Вильно, промышляющих лесоторговлей, была усадьба. Нянька зазевалась, любезничая с красавцем-сплавщиком, а когда опомнилась, ребенка уже и след простыл.
Горе длилось десять лет.
Утратив первенца, Канторы были безутешны. Пытаясь хоть как-то утолить печаль, Бася Кантор рожала чуть ли не каждый год. Печаль вопреки ожиданиям росла, как на дрожжах, не все дети выжили, но усилиями отца и матери неведомо где скитающийся Лейба обзавелся троицей сестёр и парой братьев. Любя всех своих детей, Шмуэль, муж Баси, по вечерам частенько горевал, рассуждая вслух о том, какую шикарную бар-мицву[3] он бы устроил потерянному сыну, и моля бога о милости.
Редкий случай! Шмуэля услышали.
За семь дней до того, как Лейба Кантор получил бы возможность быть вызванным к чтению Торы в синагоге, семь старых цыган явились в Вильно. Они пришли на двор семейства Канторов, упали на колени и отказались вставать, пока их не простят – или не сдадут полиции. С цыганами был мальчик – скромно одетый, спокойный, кудрявый и бледный, он являл собой молодую копию отца. Мальчика выставили вперед, прикрываясь им, как щитом.
Обошлись без полиции. Счастье семьи не омрачила месть цыганам. Канторы даже не стали спрашивать, по какой причине им вернули сына – боялись сглазить внезапную удачу. Праздник совершеннолетия прошёл наилучшим образом, так, что о нём, качая головами, долго говорили в Вильно – в частности, ещё и потому, что Лёва, явив кагалу[4] отличное знание Торы, через неделю уведомил родителей, что был у цыган крещён в православии и наречен Львом в честь святого Льва Катанского, он же Leone Taumaturgo[5].
Способ решения этой ужасной религиозной дилеммы покрыт мраком. Известно лишь, что в Вильно юный Лейба-Лев со свойственным ему душевным спокойствием – а также отменным чувством юмора – захаживал как в Старую синагогу, подолгу любуясь коринфским портиком, украшавшим галерею, так и в Никольскую церковь, которую остроумно называл «матушкой» – в год рождения молодого Кантора храм обзавелся собственным причтом. Из личных средств молодой человек с удовольствием жертвовал и на синагогальные нужды, и на восстановление Никольской церкви в её первоначальном виде.
Упомянутый сбор на восстановление совпал с окончанием Лейбой-Львом гимназии – с золотой медалью, за четыре с половиной года, прыгая через классы.
Кстати, о личных средствах. По возвращении блудного сына в лоно семьи неизвестными лицами на имя Льва Кантора был открыт счет в виленском отделении «Darmstadter Bank», куда регулярно поступали внушительные суммы. Отправитель неизменно сохранял анонимность, получатель же, узнавая об очередном перечислении, напевал вполголоса «Песнь Земфиры» за авторством поэта Пушкина и композитора Чайковского, более известную как «Цыганская песня»:
– Старый муж, грозный муж, режь меня,
Старый муж, грозный муж, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни огня, ни меча.
Режь меня, жги меня!
Окончив гимназию, Кантор переехал в Дерпт, где несколько лет изучал медицину в университете, а из Дерпта – поди пойми, с какой радости! – перебрался в губернский город Х, где и завершил образование. Специальностью он избрал офтальмологию; вероятно, ещё и потому что Бася, мать Лейбы, полностью ослепла во время учёбы молодого человека в Дерпте. Одновременно с тем, как Кантор обосновался в городе Х, в местном университете начал преподавать приват-доцент Леонард Гиршман – врач, как говорится, божьей милостью, звезда европейских клиник и лабораторий, член Гейдельбергского офтальмологического общества, с блеском защитивший диссертацию «Материалы для физиологии светоощущения». Лейба – вернее, Лев, как он представлялся на новом месте проживания – ходил за Гиршманом хвостом, ловил каждое слово. Когда Гиршман начал читать частный курс офтальмологии, Лев Кантор стал его первым слушателем, несмотря на то, что помещения для лекций Гиршману не выделили, и тот встречался со слушателями у себя на квартире.
Да, Кантору повезло с этим знакомством. Но Гиршману повезло втрое, и это не прошло мимо внимания любопытствующих. Не успел Кантор получить диплом, как земское собрание разрешило Гиршману соединить офтальмологическую клинику с земской глазной больницей – «въ видѣ опыта, на три года» – и положило на это дело три тысячи рублей ежегодно плюс снабжение инвентарем. Утверждение из министерства было получено без проволочек. На этом удача Гиршмана не прекратилась: экстраординарный профессор, ординарный профессор, заслуженный профессор. Выпал и чин: действительный статский советник. Впрочем, к чести Гиршмана, одной удачей врач не обходился: экстракцию катаракты он делал менее чем за две минуты, с одинаковой ловкостью владея как правой, так и левой рукой. При этом больные оперировались в сидячем положении, дабы укладывание на стол не травмировало их психику. Очередь в клинику стояла на дворе – в регистратуре страждущие не помещались – слепцы часто приходили с поводырями, пешком за сотни вёрст.
Когда под клинику выстроили новое двухэтажное здание, Лев Кантор любовался им, стоя на улице, и на глазах у Кантора блестели слёзы – к этому времени его уже уволили приказом министерства, что называется, «с волчьим билетом[6]». Коллеги, завидовавшие популярности «любимчика» у руководства, донесли куда следует о поведении, несовместимом с врачебной этикой. Якобы доктор Кантор мог принести в операционную фикус в кадке, не позволяя вышвырнуть чёртов фикус прочь, а перед осмотром больных он бегал по коридорам, как оглашенный, пугал медицинских сестёр требованиями встать лицом к стене и простоять так три минуты с четвертью. Случалось, Кантор без нужды передвигал мебель, выбрасывал из окна еду, принесенную родственниками, и срывал чепцы с санитарок, чтобы надеть их на гипсовый бюст профессора Гельмгольца, один поверх другого.
В докладных записках, отправленных на имя министра, обвинения в чёрной магии мешались с антисемитскими выпадами.
Гиршман дрался за ученика, как лев. Грустный каламбур – сам Лев и пальцем не пошевелил, чтобы остаться при должности. После увольнения он явился к Гиршману и попросил – нет, потребовал, чтобы учитель больше не предпринимал никаких действий в пользу уволенного. Кантору это не поможет, а Гиршману доставит проблемы. Ошарашенный внешним видом Кантора, Гиршман согласился, опасаясь, что спорами лишь повредит и без того повредившийся рассудок несчастного.
В те дни Лев Кантор, с виду – блестящий врач-европеец, исчез, как если бы его снова украли цыгане. Его место занял Лейба Кантор – неряшливый, заросший клочковатой бородой оборванец, похожий на сторожа с еврейского кладбища, в лапсердаке и картузе со сломанным козырьком. От прежнего Кантора осталось только чувство юмора, но оно стало злым, едким, исполненным сарказма. Говорил теперь Лейба с нарочитым местечковым акцентом, подмигивая собеседнику и корча обезьяньи гримасы.
В средствах он по-прежнему не нуждался: счет его был переведен из «Darmstadter Bank» в здешний филиал Земельного банка, и деньги поступали на счет с неизбежностью смены сезонов года. Отец Лейбы к этому времени скончался, и Лейба отказался от наследства в пользу братьев и сестёр.
– Азохен вей[7]! – отмахивался он, когда его спрашивали о причинах такого поступка. – Вы видели это наследство? Слёзы!
Сказать по правде, за эти «слёзы» многие приличные люди продали бы родную маму, а дочь отправили бы на панель.
Кое-кто из коллег по сей день тайно обращался к Лейбе, когда намечалась особо сложная операция. Сам Кантор инструмента в руки не брал, но приходил в больницу и начинал по-новой: фикус, мебель, чепцы. Операции, как правило, проходили успешно, а врачи и больные помалкивали о присутствии в клинике постороннего лица – во избежание неприятностей.
Тс-с-с!
Гиршману продолжало везти даже после увольнения Кантора: он возглавил кафедру глазных болезней. Министр относился к Гиршману с подозрением, взяв на заметку его неблагонадежное заступничество, но до поры до времени конфликта не обострял.
Фикусов не носит? Чепцов не срывает?
Ну и славно.
4
«Помнишь меня?»
Куда спрятать саквояж?
На перекрёстке, не имея возможности разминуться, отчаянно ругались двое извозчиков. Один на санях, другой на колёсной пролётке – в грязевой каше увязли оба. Ни колёса, ни полозья не могли справиться с весенней, даже можно сказать, внезапно весенней распутицей. Лошади выбивались из сил, но экипажи лишь сдвигались на вершок-другой, тем дело и кончалось. Что же оставалось извозчикам? Только отводить душу, матеря друг дружку от злой досады.
Нечего с бесами связываться, подумал Клёст с мрачным злорадством. Как ни хитри, всё одно боком выйдет! К извозчикам с недавних пор он испытывал неприязнь. Не завези его один такой в «Астраханскую», может, всё бы иначе обернулось...
Куда, однако, пристроить саквояж? Думай, голова, думай. Вон уже и шапку новую тебе купил... Выбрав место посуше, Миша остановился перевести дух. Напротив, приклеенный на стену дома, висел рекламный листок: «Волжско-Камский банк: вклады, ссуды, надёжное хранение ценностей.» Ниже красовалось изображение массивного сейфа – символа надёжности.
Клёст хмыкнул.
Нет, брат, тут же возразил он себе. Ты, брат, не хмыкай! Тебе с неба подсказывают, разуй уши!
Через полчаса Михаил Суходольский уже выходил из Земельного банка, размещенного на одной площади с памятным Волжско-Камским, пряча в карман хрустящую номерную квитанцию на предъявителя с подписью управляющего – и круглый латунный жетон с номером 17 и выбитой на обратной стороне надписью: «Земельный банкъ. Николаевская пл., № 28». Помимо этого, в кармане дремала пачка пятирублёвых ассигнаций, предусмотрительно извлечённая из саквояжа – на расходы.
Деньги, револьвер, жетон, квитанция. На поиски? Нетерпение, змеёй обвившись вокруг сердца, толкало к действиям. Мишины щёки пылали двумя кострами, а ноги готовы были выкидывать заковыристые коленца, если их хозяин немедля не сорвётся с места и не поспешит...
Куда? Где искать проклятого беса?!
Аптека? Фраер с братом – тоже бесом? – помнится, выходили из аптеки на Садово-Куликовской. Живут рядом? Заходят время от времени? Что, если козлобородый провизор знает фраера? Широкими шагами, расплёскивая из-под ботинок жидкую грязь и не замечая этого, Клёст решительно двинулся в нужном направлении. Добропорядочные горожане спешили убраться с его дороги: налетит, с ног сшибёт, скаженый! Глядели вслед...
Увы, направление оказалось не очень-то нужным. Миша вроде бы помнил и улицу, и аптеку – а вот поди ж ты! С полчаса кружил он по району, узнавая то дом, то перекрёсток – вот оно, точно, здесь! Спешил вперёд, на знакомый ориентир – и снова оказывался на другой улице, где отродясь не было никакой аптеки. Спрашивал встречных – те шарахались прочь, указывали бог знает куда, всякий раз в другую сторону. Да и встречные подворачивались такие, что веры у Миши не вызывали. Это про них, христопродавцев окаянных, про эту Садово-Куликовскую улицу, гореть ей в геенне огненной, писал фельетонист Василий Шпилька в «Путеводителе по губернскому городу Х»:
– На этой улице евреи с утра до вечера кишат,
А чтоб им было веселее, устроен здесь «Славянский сад».
Цветёт он летом и зимою, шумя еврейскою толпою...
Миша ни минуты не сомневался, кто натравил на него иудино племя. Уж известно, кто! Да что там фельетонисты! Народ зря не скажет, народ сердцем чует: «Не надо и беса, коли жид здеся!» Выручил дворник, честный христианский дворник – тот самый, чьё появление в прошлый раз заставило башибузуков сбежать.
– Аптека, ваше благородие? Так вот же она, рядышком!
И где были Мишины глаза, спрашивается? Бес отвёл? Раз отвёл, значит, верным путём идём?!
– ...Помню, но, увы, не имею чести знать. Нет, раньше не видел. Нет, больше не заходили. А у вас, милостивый государь, уж простите, весьма нездоровый румянец. И глаза блестят прескверно. Я бы порекомендовал вам дивную микстурку...
– Я Миша Клёст, бью...
Желание пристрелить провизора вспыхнуло с такой силой, что Клёст еле сдержался. Куда теперь? Всё началось с «Астраханской», может, там и закончится? На круги своя, как говорится?! Плутать не пришлось: Николаевская площадь – не аптека, захочешь, мимо не пройдёшь. Весь на взводе, запыхавшись от быстрой ходьбы, взбежал Михаил Суходольский по ступенькам, рванул на себя дверь...
– Милости просим!
Портье был тот самый: вопросительный знак в поклоне.
– Нумер изволите?
– Не изволю.
Самым аккуратным образом Миша взял шельмеца-портье за пуговицу. Выпрямил, заставил взглянуть себе в лицо.
– Помнишь меня?
– Кот, – бледный как мел, выдохнул портье.
От него разило кислой капустой.
– Какой ещё кот?
– Оцарапал вас. Если вы жаловаться...
– Меня помнишь, это хорошо. А того господина, что со мной в номер заходил, помнишь?
– Как же-с! – торопливо закивал портье. – Как же-с, помним!
– Знаешь его?
– Никак нет-с! Он у нас даже не записывался...
Миша отпустил пуговицу. Портье шарахнулся от него, как чёрт от ладана.
– Не заходил больше?
– Никак нет-с!
Фарт не возвращался. Свеча заупокойная, молитва, святой Спиридон – всё зря. Где искать беса? Бродить по городу? Шанс наткнуться и так с гулькин нос, а уж с Мишиной нынешней удачей... Сам Мишу отыщет? Как в прошлый раз? Сей вариант Мишу не устраивал. Он не желал быть пешкой в бесовской грязной игре. Мы теперь сами игроки! Придумаем что-нибудь! Думай, голова...
В дверях он обернулся:
– А что кот?
– Кот? – вскинулся портье в удивлении.
– Так и сидит в апартаментах?
– Брекекекс!
Вместо портье на Мишу щурился мёртвый кассир. Лицо его сделалось волглым, склизким, на коже проступили трупные пятна. Щека лопнула, разошлась краями, обнажая гниющую плоть.
– Брекекекс!
Клёста чуть не стошнило. Но он нашёл в себе силы: не сблевал – и не начал палить в мертвеца из «француза». Снова морок! Врёшь, бес, не запутаешь, не запугаешь!
– Что?
Морок сгинул, вернулся прохиндей-портье.
– Исчез, говорю, кот! Как не бывало-с. Мы в номер сунулись – нету! Окна заперты, двери заперты, а кота нет. Как сквозь землю провалился, сатана. Чудеса, право слово!
– Чудеса, – кивнул Клёст.
Сквозь землю, значит? Откуда явился, туда и вернулся, чёртово семя!
На площади он прикинул, что бы ещё предпринять для розысков. Припомнить бы, о чём фраер говорил... В животе требовательно забурчало: со вчерашнего дня у Миши маковой росинки во рту не было. Зайти в трактир? Нельзя. Пока закажешь, пока сготовят, пока принесут...
Надо спешить!
Лихорадочное возбуждение распирало грудь, грозя пойти горлом. В ушах гремел колокольный набат. Едва Клёст задерживался на одном месте более пары минут, его начинала бить дрожь: мелкая, требовательная. Она понуждала двигаться, кровь из носу что-то делать. Тратить время на обед в трактире?! Проще на базар спуститься – вон он, рядом. Пирожков купить, что ли...
Верх Бурсацкого спуска, мощёного булыжником, был чище прочих мест – подтаявшая жидкая каша, повинуясь закону земного тяготения, сползла вниз, к мосту через Лопань. Перед мостом царила лужа шириной с Чёрное море. Через это Лужеморье добрые люди успели наладить деревянные мостки – по ним народ и передвигался с великой осторожностью, опасаясь свалиться в воду: глубина доходила где до колена, а где и до пояса. Помянутый выше Василий Шпилька, злой на язык, и здесь отметился, без обиняков заявив в своем «Путеводителе»:
– ...он от участка в речку прямо к базару грязному идёт.
Ах, надо переулок тот давно назвать «Бурсацкой ямой»!
Его так часто от дождей водою сильно размывало,
что массу на него рублей управа наша издержала...
К удивлению Миши, переправился он без приключений. Карете «Скорой помощи» с красным крестом на дверце повезло меньше – она увязла в грязи у моста. Кучер с усачом-фельдшером в шинели, изгвазданной грязью, изнемогали от усилий, пытаясь вытолкнуть карету на сухое место. Увы, та застряла намертво. К ним на помощь пришёл ражий детина – медведь медведем! – но даже зверских его сил не хватило. Прохожие оглядывались, сочувствовали, взывали к отрядам ангельским – и шли своей дорогой.
Клёст тоже прошёл мимо.
Сразу за мостом царил хаос Благовещенского базара, раскинувшегося под открытым небом. Заполошно кудахтали куры, предчувствуя скорую печальную участь, чавкала грязища, дико завизжала свинья, но визг сразу оборвался. Гремел азартный торг: похвальба, проклятья, ругань. Всё, как в «Путеводителе» язвительного Шпильки:
– Вот тот базар, что на болоте в грязи и сырости стоит,
Коль на базар вы тот пойдёте, у вас иссякнет аппетит.
Торговок брань, хозяек крики, собак кусающихся тьма,
раклы, и вонь, и кутерьма и где-нибудь скандал великий.
А дальше вон «толчок» шумит, здесь торг ворованным кипит
и тьма народа здесь мешает тем, кто на мостик проезжает...
Над вавилонским столпотворением птицами взмывали зычные голоса зазывал:
– Сало! Найкра̀ще сало на всьо̀му сві̀ті!
– Курѐй! Кому курей!
– Молоко! Парное молоко! Только с-под коровы!
– Олія! Со̀няшна, духмя̀на!
– А кому пирогов! С зайчатиной! Ещё утром скакали-бегали!
Углубляться в безумный лабиринт самодельных дощатых прилавков Клёст не стал. Высмотрел с краю дородную румяную тётку, что торговала пирогами из оцинкованной выварки, укутанной рваным одеялом; сунулся к ней:
– С чем пироги, хозяйка?
– Ой, да з чым забажа̀ешь, коза̀че! З м’ясом, з карто̀плей, зі сма̀женою капустою...
– Почём штука?
Торговаться Клёст не любил, но на базаре так было заведено. В итоге он сторговал дюжину за гривенник с пятаком. Тётка скрутила ему «фунтик» – целый «фунт», надо сказать! – из старой газеты, сгрузив туда пироги, ещё тёплые. Отойдя в сторонку и прислонившись к забору, Клёст принялся жадно обедать. Назло фельетонисту Шпильке с его пасквилями, аппетит у Миши не иссяк. Пироги на вкус оказались съедобными, но в третьем по счёту обнаружился громадный, заживо запечённый таракан. Клёст сплюнул от омерзения. Он едва не швырнул в грязь весь «фунтик». Аппетит пропал, как не бывало.
Из-за будки точильщика на Мишу глядел Костя Филин.
5
«Что же она делает в театре?»
– Позор! Стыд и позор!
Алексеева цепко держали за пуговицу пальто. Не убежать.
– Константин Сергеевич, душечка! Это натуральный позор!
– Да, – осторожно согласился Алексеев. – Вы совершенно правы, Василий Алексеевич. А в чём, собственно, дело?
– Был бы жив ваш покойный батюшка, я б и ему сказал: позорище! Вот так прямо в лицо и сказал бы! Не постеснялся бы, да!
Пойман Алексеев был у Коммерческого клуба, где уже семь лет как располагался местный оперный театр. Купеческое общество, владевшее клубом, и к опере подошло с истинно купеческим размахом. Со стороны Университетского сада к зданию пристроили сценическую часть. Зрительный зал оформили – ишь ты! – в стиле французского ренессанса. За образец взяли – ух ты! – парадный зал дворца Тюильри в Париже, обладающий уникальной акустикой. Вдоль стен установили – вот ведь! – спаренные колонны, увенчанные крылатыми женщинами приятных очертаний. Сплетничали, будто натурщицами скульптору послужили жёны и дочери толстосумов, желавшие, вопреки светским приличиям, увековечить себя négligé[8] и в искусстве, и в истории. Настойчивых дам не остановило даже то, что работа летуньям выпала нелёгкая: они поддерживали балконы верхнего яруса. Лепка, барельефы, золочение, бархат...
Сам из купцов, Алексеев иногда задумывался: смог бы он при всём своём капитале стать пайщиком такого театра? А главное, захотел бы? Ну, тысяч десять-пятнадцать вложил бы. Так ведь не взяли бы, в лицо бы рассмеялись нищеброду.
– Позор! Нет, я решительно этого не снесу!
– Васенька!
– Нет, не снесу!
– Васенька, изволь оставить молодого Алексеева в покое!
У рекламной тумбы, не обращая внимания на пафос ситуации, трудился расклейщик. Грязным клеем он мазал крест-накрест афишу, висевшую на тумбе, желая приклеить поверх объявление об отмене концерта.
Алексеев пригляделся:
«Оперный театръ Коммерческаго клуба... при участiи солиста Его Величества Н. Н. Фигнера... артистов Императорской петербургской оперы Ф. И. Шаляпина...»
– Шаляпин им молодѐнек, а? Шаляпин им никто!
За пуговицу Алексеева держал граф Капнист, предводитель губернского дворянства. Человек добрейший и милейший, кавалер пяти орденов, всеобщий любимец, граф тем не менее слыл большим оригиналом, и по заслугам. Жил он в собственном доме на Благовещенской, приёмов не устраивал, а если сам выбирался в свет, то дело неизменно заканчивалось большой потехой для собравшихся.
В типографии Варшавчика готовилась к печати книга за авторством Капниста, под кратким, а главное, ясным названием: «Мнение губернского предводителя дворянства графа В. А. Капниста по вопросам, предложенным высочайше учрежденным Совещанием по делам дворянского сословия». Граф уверял, что книгу ждёт судьба превыше «Войны и мира» – нашумевшего романа за авторством другого графа, не столь великого, как Капнист.
– Шаляпиным они брезгуют! – бушевал граф. – Нет, вы подумайте!
– Не раскупили билеты? – догадался Алексеев.
Будь он антрепренёром, побоялся бы везти молодого Фёдора Шаляпина – восходящую звезду оперы – на гастроли. Статист в Казани, хорист оперетты в Уфе, студент-вокалист в Тифлисе, скитавшийся в захолустье Шаляпин заполучил выигрышный билет, перебравшись в Санкт-Петербург, но в последние два года пел редко и в мало подходящих для него партиях. Алексеев слыхал, что следующей станцией на пути Шаляпина стала Москва – «Частная русская опера» Мамонтова. Впрочем, если Шаляпину и светило обрести известность, это было дело грядущих дней.
Вывозить такого на гастроли в губернский город Х, избалованный премьерами и примадоннами самого высокого полёта – колоссальный риск.
– Какое там! Трети не взяли! Четверти! Десятой части!!! Алчевского им подавай! Фауста – да, Мефистофеля – ни за какие коврижки! Тугоухие! Бездельники!
Шутку Алексеев оценил. Драматический тенор Алчевский начал карьеру в один день и в одном спектакле с Шаляпиным, неугодным здешним ценителям вокала: Алчевский пел Фауста, Шаляпин – Мефистофеля.
– Васенька! – в окрике зазвенел металл.
– Вер-р-роника! – граф со значением воздел палец к небесам. – Бр-ранится!
Имя жены, урождённой княжны Репниной, он произносил, отчаянно грассируя и гримасничая всем лицом, ибо был у супруги под башмаком. Женщина властная, суровая, временами бестактная до грубости, графиня слыла единственным в мире человеком, способным прервать бесконечный монолог Капниста. Звали графиню, кстати, не Вероникой, а Варварой, что не останавливало графа в его вопле души: «Вер-р-роника!» Имя «Варвара» содержало в себе даже больше грохочущего «р-р», но граф оставался верен себе в оригинальности поведения.
– Всё хорошо, Варвара Васильевна! – крикнул Алексеев графине, ждавшей мужа в закрытом экипаже, запряжённом парой гнедых коней. Езды от Коммерческого клуба до Благовещенской, где жили Капнисты, было минут семь, едва ли дольше, чем пешком, но графиня скорее бы поехала по улицам верхом, голая, как леди Годива, чем пошла бы своими ногами. – Мы с Василием Алексеевичем превосходно беседуем!
– Разумеется, – фыркнула Варвара-Вероника. – Он вас до смерти забеседует и глазом не моргнёт. Васенька, я замёрзла! Я требую немедленно ехать...
Из театра вышла женщина в широком салопе на меху. Она застегивалась на ходу, и было видно, что под салопом на ней надет жакет из тёмной шерстяной ткани. Поклонившись сперва графине, а потом Капнисту – именно в таком порядке! – женщина быстрым шагом миновала афишную тумбу и свернула к Университетскому саду.
– Кто это? – задохнулся Алексеев. – Василий Алексеевич, вы её знаете?
Он узнал незнакомку. Это она приносила газеты в контору Янсона. Это она рыдала над могилой Кадминой и плевала на могилу Заикиной. Точно, она, никаких сомнений... Что она здесь делает? Почему вышла навстречу? В последние дни Алексеев боялся случайных совпадений, боялся со всем суеверием артиста и всей осторожностью фабриканта, зная, что случай – второе имя закономерности. Если всему остальному он в силах был сказать, нет, выкрикнуть в лицо бесстрашное «не верю!», то перед этим монстром язык леденел, и Алексеев лишался дара речи.
– Не имею чести, – отмахнулся граф. – Шаляпин им пустой фат!
– Я знаю, – перебила мужа графиня. – Радченко Любовь Павловна, модистка. Шьёт на заказ. Золотые руки! Я шила у неё платье в стиле «reform», из крепдешина. Знаете, такое свободное, в духе японского кимоно. Мне совершенно противопоказаны корсеты, у меня от них головокружение...
– Модистка? Что же она делает в театре?
– Работает костюмершей. Васенька, я превратилась в ледышку! Живо ко мне!
Извиняясь на бегу, граф поспешил к экипажу. «Позор! – кричал он, подкручивая длиннейшие, завитые кверху усы. – Истинный позор!» Но Алексеев уже не слушал графа. Костюмерша? Модистка? Любовь Павловна Радченко?!
Третья свидетельница завещания Заикиной только что прошла мимо него. Поздороваться она не соизволила. Живое противоречие, думал Алексеев, глядя ей вслед Можно ли свидетельствовать на чьём-то завещании, если тебя снедает желание плюнуть на могилу завещательницы?!
Очевидно, что да.
Может ли модистка и костюмерша разносить газеты по нотариальным конторам?
Очевидно, что нет.
__________________________________________________
[1] Каракуль – «чёрное озеро» (тюрк.).
[2] Почему бы и нет? (франц.)
[3] Бар-мицва («сын заповеди») – достижение еврейским мальчиком совершеннолетия.
[4] Кага́л («собрание народа, сход») – руководство общины, посредник между ней и государством.
[5] Лев Чудотворец (итал.).
[6] «Волчий билет» выдавался служащим, совершившим деяние, порочащее честь учреждения. В данном случае, имеется в виду запрет на врачебную деятельность и поступление на государственную службу.
[7] «Когда хочется сказать: ох и ой!» (идиш). Ближайший аналог: ой, горе какое!
[8] В полуодетом виде.
Глава десятая. «АФРИКАНКА-РАЗЛУЧНИЦА»
1
«Пошла, родимая!»
– Сколько, говоришь, твоему раззяве лет?
– Тридцать – тридцать пять. Высокий!
Костя показал рукой для верности.
– Один живёт, значит? Без семьи, без весёлой компании?
– Один, – подтвердил Костя.
Издевается, решил он. Похоже, служащий не верил ни единому Костиному слову: всё переспрашивал, уточнял, лез в душу. Филину до скрежета зубовного захотелось дать ветошнику в его лощёную румяную морду. Он и сам не заметил, как кулак сжал. Зато служитель – хайло в жилете! – заметил и на всякий случай проворно удрал за конторку.
– Ладно-ладно! Сейчас взгляну!
Он зашелестел страницами потрёпанного талмуда, куда записывали постояльцев.
– Говоришь, на днях заселился?
– Точно!
Это была уже пятая гостиница, куда заходил Филин в поисках злополучного Гастона. Это он, Костя, сообразил, что гастролёра нужно искать по отелям. Не знал он другого: как бы ловчее соврать гостиничным прохвостам, зачем им с Ёкарем понадобился Гастон.
– Ё! – осенило Ёкаря. – Давай скажем, что мы половые с трактира?! Нас хозяин послал, ё!
– На хрена?! – изумился Костя.
И руками показал: в смысле, послал-то на хрена?
– Клиента найти, ё! – гнул своё приятель. – Он, значитца, в трактире по пьянке бока̀ забыл, а нас возвращать погнали. А мы не знаем, которая гостиница. Вот, ищем, ё!
– Голова! – искренне восхитился Костя.
Вот ведь, подумал он. Рядом со мной, умным, даже Ёкарь делается не такой дурак, каким родился.
– А то!
– Ты только не говори: бока! Ты говори: часы. Иначе нас живо срисуют. Часы или даже хронометр.
– Хренометр!
– Часы, дубина! Всё, никакого хронометра. Просто часы, и баста.
– Часы! Я запомнил.
– Только у нас часов нету. Скажут тебе: «Где часики? Покажь!» А ты?
– А я им вот, ё! – Ёкарь продемонстрировал Филину могучий кукиш. Грязный большой палец, торчавший наружу, похабно шевелился. – Клиенту, скажу, отдам. А всяким-яким шиш с маслом – на чужое добро зариться!
Ёкарь раздухарился, представил, как будет всем под нос кукиши совать:
– Знаем мы таких! Раз – были бока да сплыли, ё!
– Часы, – напомнил Костя.
Ходить-выяснять решили порознь: одного полового для поисков за глаза хватит, и гостиниц так можно больше обойти. Поделили, кто куда; встречу назначили в начале Екатеринославской, где гостиниц этих – как тараканов за печкой. Ёкарь уже шагнул прочь, но вдруг обернулся:
– Так это что? Выходит, мы теперь вроде борзых? Да, Филин?
– Ты кого борзым назвал, а?!
– Нас, ё!
– Сдурел, чи шо?
– Зырь сам! Борзые фартовых ищут, вынюхивают. Найдут – вяжут или фараонам сдают. Так?
– Ну, вроде так...
– Мы Гастона ищем? Ищем. Вынюхиваем? Аж чихается...
– Ну?!
– Найдём – весовым сдадим. Так?
– Сравнил хрен с пальцем! – сегодня хрен был с Костей прямо неразлучен. – То весовые, а то фараоны, ё!
– Сам ты ё...
На том и разбежались.
И вот – пятая гостиница, где хозяином лягушатник Монне.
– ...Был похожий сударь, как не быть! На днях заселился.
– Как одет? Вдруг не он?
– Пальто-коверкот, цвета беж. Котелок. Саквояж.
– Какой ещё котелок? Для кулеша?
– Шляпа такая, болван! – рассердился служитель. – Да не про твою дурью голову!
– Зови его! Гляну, он ли. Если он, отдам часы.
– А что за часы?
Звать кого бы то ни было служитель не спешил.
– Серебряные, с гравировкой. Тебе-то какое дело?!
Филин смотрел исподлобья, всем своим видом показывая служителю: с тобой разговора не будет, зови постояльца.
– Съехал он вчера, – вздохнул служащий.
И зевнул, разом потеряв интерес и к Филину, и к часам.
– Съехал? Куда?!
– Докладывать он мне будет: как, что, куда... Примчался, как угорелый, забрал из номера саквояж, сел на извозчика – и фью-у-у!
– А часы?
– Оставь мне, я тебе за них рубль дам. Хозяину скажешь, что вернул.
– Ага, нашёл дурака!
Косте снова захотелось дать служителю в морду. Он плюнул на пол, вышел вон, громко хлопнув дверью, и сразу напоролся на Ёкаря.
– Всё обошёл, ё! Нема̀ его нигде.
– И здесь нема̀, – Костя махнул рукой себе за спину. – Жил похожий хмырь, да съехал. Всё одно не наш.
– Почему?
– По кочану! В пальте он был, и котёл на башке. А Гастон в кожухе и треухе.
– Вдруг сменил?
– Шо сменил?
– Кожух на пальту?
Умище, подумал Костя про Ёкаря. Глаз-алмаз! Сам Филин тоже переоделся – не светить же то барахло, в каком на гранд ходил? Серая свитка, картуз... Гастон уж всяко не дурнее нашего!
– Если так, он уже из города сдёрнул.
– А я о чём, ё?!
– Ветошник сказал: сел на извозчика – и тю-тю!
– Он сдёрнул, а мы тут блохами скачем. Пошли, что ли, пожрём?
– Пошли.
Есть приятели обычно ходили на базар. Вроде как прицениваешься: того попробовал, сего, что-то слямзил – глядишь, и сыт. На крайняк и купить жрачку можно. Встретиться забились у будки точильщика, и Ёкарь мигом затерялся в галдящей толпе, сгинул меж кривыми рядами лотков со всевозможной снедью. Филин проводил его взглядом, и тут Костю как ножом под рёбра пырнули. Оглянулся: стоит у забора человек в бежевом пальто, пирожками давится. Вместо котла на голове у человека тоже пирожок. И без усов. Не пирожок без усов, а человек. У Гастона усы были. А так – похож, век на киче чалиться, как одна мама рожала!
Усы-то и сбрить можно...
У Кости аж мурашки по спине побежали. Как им Гамаюн велел? «Найдёте – сами не лезьте, сорвётся. Срисовали, в берлогу проводили – и мухой сюда метнулись.» Ну вот, срисовал. Теперь проводить надо. Да так, чтоб Гастон слежки не приметил. И тогда уже мухой...
– Филин!
К Косте бежал запыхавшийся Ёкарь.
– Нишкни, дурак! Тут...
– Лютый всех зовёт! Сказал – мухой!
– Куда – мухой?! Да тут...
– А то, грозил, бо̀шки поотрывает! И в ду̀пы забьёт!
– Ах, беда...
Филин глянул через плечо. Гастон, не Гастон – человека у забора уже не было. Костя отчаянно завертел головой, высматривая гастролёра, но тот как сквозь землю провалился со всеми своими пирогами. Срисовал Костю?! Или просто ушёл по своим делам?
– Ты как знаешь, Филин! А мне моя башка дорога, ё!
Ёкарь бегом припустил в сторону Бурсацкого моста. Делать нечего: пришлось брать ноги в руки, местись следом. На другой стороне моста Лютый с тремя фартовыми и фельдшер с конюхом выталкивали из грязищи карету «Скорой помощи». Вместе с Ёкарем и Филином подоспели ещё двое. Облепили карету, как муравьи – хруща.
– Навались! – зычно командовал Лютый.
– И-и.. Взяли!
– И-и... Ещё взяли!
– И-и!..
– Пошла!
– Пошла, родимая!
В грязи, хлеставшей из-под колёс, изгваздались только что не по уши. Но карету, слава те, Господи, на сухое выперли.
– Премного вам благодарен! – рассыпа̀лся мелким бесом фельдшер. – Вот есть же на свете хорошие люди! Честный христианин всегда готов помочь ближнему!
Честные христиане смущались, потупляли взоры. Больше всего они сейчас напоминали стаю чумазых чертей, вырвавшихся из пекла на погибель роду человеческому.
– Последнюю рубашку ради него снимет! Когда б не вы, господа...
– Пустое! – осадил болтуна Лютый. – Кто людей у Курносой из лап вытаскивает? Ваш брат, никто иной. Значит, и вас грех не вытащить! Завтра кто из наших к вам на койку попадёт. Тащить будете, а? С того света?
– Всенепременнейше! – заверил фельдшер. – Всё, что в наших скромных силах. И мы с Иваном, и доктора̀...
– И от нашего двора вам привет. Ну, езжайте с богом.
– Будьте здоровы, пано̀ве добро̀дии! – кучер воздел кнут над лошадиными спинами. – Н-но, пошли! Тяни, клячи!
Когда карета, то хлюпая грязью, то дробно грохоча по булыжнику, скрылась из глаз, фартовые собрались в кружок перекурить. Лютый обвёл всех внимательным взглядом – будто из револьвера в каждого прицелился. Выпустил дым через ноздри, напомнил:
– Все скумекали? Докторов не щипать, не трогать. Если в халэпу вляпались, как сейчас – вытаскивать.
– А шо так, Лютый?
– Ты, Сипарь, башкой убогий? Мозги вправить?
– Шо сразу убогий...
– Сколько они наших залатали, знаешь? Меня самого – три раза. Ты в колодец не плюй, Сипарь, там и утопнешь. Сам не схочешь тонуть, я утоплю.
Сегодня Лютый был на диво терпелив, хоть на хлеб мажь, вместо масла. Мог ведь и рожу Сипарю расквасить. А что? Запросто. Или чего похуже сотворить.
– Звиняй, Лютый, уразумел! Это я сдуру, не подумавши...
Лютый уже не слушал Сипаря. Взгляд его остановился на Филине, и страх от ствола, направленного в лоб, мигом вернулся к Косте. «Каков же тогда Лютый, – с содроганием подумал Костя, – когда лютует по-настоящему?!»
– Филин?
Костя поспешно кивнул:
– Ага, Филин. Он самый.
Поперхнулся дымом. Закашлялся.
– Гастролёра ищешь?
– Все гостиницы с Ёкарем оббѐгали!
– И как дела?
– Видел его сегодня, – выпалил Костя.
И обмер. Толкая карету, он решил никому не говорить, что видел Гастона. И вот, на̀ тебе! Лютому разве соврёшь?
– Видел? Где? Когда?!
Лютый шагнул ближе. Взгляд белый, неживой. Костя хотел отвернуться – не смог.
– Тута, на базаре. Только что.
– Охренел, Филин? Видел? И не прилип, следом не пошёл?
– Так звали же! – чуть не плача, взмолился Костя. – Сказали: Лютый зовёт! Чтобы мухой! Ну я и рванул мухой! Сюда, значит...
– Мухой? Соображения у мухи больше, чем у тебя!
В голове взорвалась шутиха. Искры из глаз – на полнеба! Что-то ощутимо толкнулось в спину. Земля, догадался Костя. Это земля, она внизу. А сверху – небо. А я лежу на земле рожей к небу, где медленно гаснут багровые круги. Скула наливалась давящей болью, будто Косте на лицо уронили горячую пудовую гирю. С каждой секундой гиря делалась всё тяжелее и горячее.
На фоне неба возникла медвежья фигура. Лютый хмуро глазел на Филина, как солдат на вошь.
– И рванул он мухой на дерьмо, – ни к кому конкретно не обращаясь, объявил Лютый. – Потому как честный жиган, а я звал. Прощаю. В следующий раз не прощу, не надейся.
Он высморкался, едва не попав в Костю.
– Дятел ты, а не Филин. Прощёлкал гастролёра? Теперь ищи, носом землю рой. Сипарь, Лом!
Убьют, понял Костя. Зарежут, вот и всё прощение.
– Да, Лютый.
– Туточки!
– Глаз со шпаны не спускать! Вместе гастролёра искать будете. Найдёте – делайте, что знаете. Не найдёте за три дня – тащите эту шелупонь ко мне.
– Сделаем, Лютый.
– А шо я?! Чуть шо, сразу Ёкарь! Я ж его не видел, ё!
Нытьё Ёкаря было всем до задницы. Лютый своё слово сказал, значит, быть посему.
2
«Спи, Солнца сын...»
Он вернулся на квартиру вечером, но не слишком поздно. Впрочем, это не сделало город светлым – мартовские вечера в здешних краях быстро темнеют, а городская управа экономила на фонарях. Приживалок дома не было, на стук дверного молотка никто не откликнулся, но подчиняясь какому-то наитию, Алексеев ногой подвинул коврик, лежавший у входной двери, наклонился – и поднял с холодного пола связку новеньких ключей, только что из слесарной мастерской.
Ключи должны были лежать там. Это он знал, но не знал, откуда явилась такая уверенность.
Наскоро раздевшись в прихожей, уронив пальто на пол, Алексеев ринулся в кабинет. Его действия напоминали бессмысленную торопливость пьяного, но алкоголь был здесь ни при чём. Отсутствие приживалок лишь подбадривало Алексеева – если действовать, как безумный, то лучше, чтобы у твоего безумия не было свидетелей. В кабинете, служившем ему спальней, он с порога учинил грандиозную перестановку. Чуть не надорвав спину, придвинул стол вплотную к подоконнику, кресло установил сбоку от стола.
– В театре все не так, как на самом деле, – громко произнёс, нет, спел, Алексеев. – Театральная тишина делается не из молчания, а из звуков. Если не наполнить тишину звуками, нельзя достигнуть иллюзии. Почему?
Играя голосом, он сменил тональность. Начал в ре-миноре, но на словах «из молчания» опустился на полтора тона, в си-минор.
Напротив кресла встал торшер. Задёрнув шторы, Алексеев некоторое время стоял, раскачиваясь, в темноте, потом включил торшер – как делала это Анна Ивановна, гадая ему и Юре. Метнулся к стене напротив, долго ёрзал по сухой штукатурке портретом Заикиной, рискуя уронить на пол и повредить картину. В конце концов остановился на приемлемом варианте: лёгкий крен влево.
– В кулисах топчутся и кашляют работники сцены, вот почему. Бормочут незваные посетители, чьи-то родственники. В зале шумит публика, шелестит фантиками от конфет, сморкается в платки. Это все разрушает настроение сцены, и обычная тишина будет здесь наполнена отвратительным посторонним шумом. Хотите тишины?
Этот пассаж он начал в фа-миноре и закончил в ре-миноре. Вытащил фарфоровых слоников из буфета, расставил на столе журавлиным клином. Самого маленького отнёс в угол, примостив на скрипучей паркетине. Захлопнул дверь, нет, приоткрыл, нет, открыл пошире.
Нет, захлопнул и запер.
– Хотите тишины? Беззвучья, повисшего над вечерним озером? Пусть квакают лягушки. Возьмите машинку, удачно копирующую этот звук, усадите к ней девушку-статистку, велите крутить ручку. Пусть вдали проедет поезд, даст гудок. «Ту-ту-у-у!» – и гудок затихнет вдалеке...
Ля-бемоль-минор. Скользнуть в фа-минор.
Он понятия не имел, кому рассказывает всё это. Себе? Алексеев выстраивал мизансцену по наитию, монтируя её для выхода главного персонажа, и не сомневался, что выход состоится вовремя. Почему? Потому что слово «нюансер», произнесенное младшей приживалкой, до сих пор звучало в ушах Алексеева, а во рту стоял фосфорный привкус снега с надгробного памятника Кадминой. Говоря откровенно, за эти дни Алексеев вымотался до чёртиков. А если учесть, что до чёртиков он вымотался не только за дни, но и за последние годы, то действия его напоминали финальный всплеск активности смертельно больного, прежде чем рок, этот тиран среди режиссёров, велит актёру пасть замертво.
Сбегав в коридор, он принёс перчатку, всю в подсохшей грязи с места упокоения Заикиной, швырнул её поверх саквояжа, выставленного на центр кабинета – и засмеялся, так ловко всё получилось.
– Ту-ту-у-у! Брекекекс! Кворакс, квак, квак, квак! – все, кто ни разу не видел Алексеева на репетициях, решили бы, что бедняга тронулся умом. – Публика начнет прислушиваться, в кулисах замолчат. Это и будет настоящая театральная тишина, во сто крат яснее и пронзительней тишины натуральной.
Ногой он задвинул саквояж под стол – так, чтобы краешек выглядывал наружу. Не раздеваясь, упал на кушетку. Зажмурился, сосчитал до тринадцати.
Когда Алексеев открыл глаза, в кресле сидела Заикина.
– Добрый вечер, Елизавета Петровна, – поздоровался Алексеев. – Хотите чаю?
Заикина не ответила. Призраки, если верить экспертам Оскару Уайльду и Чарльзу Диккенсу, случается, вступают в беседы с любопытными. Но Заикина не была призраком, как не была и мертвецом, восставшим из гроба. Говоря по правде, она никем не была. Тень, воспоминание, отзвук прошлого. Нюанс, деталь, элемент мизансцены, который не мог не проявиться, если общая композиция требует его присутствия.
Заикина выглядела точной копией себя самой с портрета. Даже в сидящей, в ней чувствовались и рост, и стать, и характер. Наклонившись вперёд, Елизавета Петровна вместо ответного приветствия запела колыбельную Селики из оперы Мейербера «Африканка» – той, в которой шестнадцать лет назад блистала и умерла безумная Евлалия. Пела старуха не своим, краденым, кадминским голосом – сопрано, переделанным из меццо-сопрано:
– Спи, Солнца сын...
Очень хорошо, согласился Алексеев. Вовремя.
Он спал и не знал, что спит.
Драма в трех действиях
Действие первое
Лица:
Елизавета Петровна Заикина, гадалка преклонных лет. По актёрской памяти одета ярко, пышно, не по возрасту. Курит папиросы.
Дарья Глебовна Романова, дочь купца 2-й гильдии. Всем хороша, даже слишком.
Неонила Прокофьевна Лелюк. Вдова, приживалка у Заикиной.
Любовь Павловна Радченко, костюмерша в театре.
Действие происходит шестнадцать лет назад, в губернском городе Х. Доходный дом, принадлежащий купцу Романову; квартира, снимаемая Заикиной; кабинет, обставленный для гадания.
Романова. Здравствовать вам радоваться, Елизавета Петровна!
Заикина. И вам доброго здоровьица, Дарья Глебовна. Хотите чаю?
Романова. Спасибо, не откажусь.
Заикина (кричит). Нила, голубушка! Чаю нам! С вишнёвым вареньем!
Романова. Не пройти ли нам тогда в столовую, Елизавета Петровна?
Заикина. Не пройти, Дарья Глебовна. Тут говорить будем.
Романова. Ну, раз тут, значит, тут.
Заикина. На что гадаем?
Романова. Замуж я собралась, Елизавета Петровна.
Заикина. На мужа? На судьбу? На деток?
Романова. На разлучницу.
Заикина. Да что ж такое, Дарья Глебовна! Вы у нас и красавица, и с приданым всем на зависть! Откуда разлучница?! Кто эта змея?!
Романова. Кадмина, гадючка. Евлалия-безумица.
Заикина. Актриса Кадмина?
Романова. Она, мерзавка. Африканка проклятая! У ней с Володенькой роман. Как споёт «Спи, Солнца сын», у него аж волосы дыбом! Бежит за ней, спотыкается...
Заикина. Володенька?
Романова. Титов Владимир Максимович. Поручик 11-го драгунского. Нравится мне очень, до икоты. Как встречу его, так вся горю.
Заикина. Поручик, значит. 11-й драгунский Изюмский Его Королевского Высочества Наследного Принца Фридриха Вильгельма Прусского полк.
Романова. Я вижу, любезная Елизавета Петровна, вы отменно смыслите в воинских частях. Такие пустячки знать изволите. Хи-хи, где служить изволили-с?
Заикина. При полковнике Мельпомене, милочка. На театре невоенных действий. Мелочей не бывает, Дарья Глебовна. Каждый пустячок нам на воротничок! Если уж вы явились ко мне, должны об этом знать. Ну, хотя бы слышать.
Романова. Оттого и пришла, голубушка! Матушка, Елизавета Петровна! Не откажи в помощи! В ножки падаю: отгони разлучницу! Пусть Володенька о ней забудет, пусть носу к ней не кажет! А ко мне пускай всей душой прилепится...
Заикина. Значит, гадать не будем?
Романова. Да на что мне, горемычной, гадать? Пусть Володенька на меня одну смотрит, мной одной дышит! (Плачет, заламывает руки.) Уйми африканку, христом-богом заклинаю! А уж я отблагодарю, за мной не заржавеет...
Заикина. Кто тебя ко мне прислал, горемыка?
Романова. Дюкова.
Заикина. Вера Людвиговна? Дочь Млотковского?
Романова. Она самая.
Заикина. Ну, раз Вера тебе поверила, не погнушалась, ко мне отправила... Значит, сделаем дело. Только я дорого стою, Дарья Глебовна. Чай, не попрошайка на паперти!
Романова (на коленях). Елизавета Петровна! Ты мне мать родная! Гоже ли с матерью торговаться?
Заикина. Ну, я тебе, Дашенька, маков цвет, не мать, а бабушка... Доходный дом, где я имею удовольствие жить-поживать, принадлежит твоему отцу. Скажи ему, пусть продаст мне квартиру в личную собственность. Треть цены заплачу̀ звонкой монетой, остальное – мой гонорар от тебя, за услугу. Скажешь, дорого?
Романова. Да уж недешёво...
Заикина. А говорила, что торговаться не станешь. Обманула меня старую, доверчивую. Ну так как?
Романова. Умаслю отца, Елизавета Петровна! Как бог свят, уболтаю. В ножки паду, вымолю квартирку-то! Ничего для вас не пожалею!
Заикина. Не для меня, радость моя. Для себя стараешься.
Входит Неонила Прокофьевна, приживалка. Вносит поднос: чашки, блюдца, ложки, сахарница, розетка с вареньем.
Заикина. Ага, вот и наш чай-чаёк! Нила, выйди вон, нам с глазу на глаз потолковать надо. Выйди, говорю, неча в углу моститься! Будешь нужна, я позову.
Действие второе
Романова. Ай, Елизавета Петровна! Ай, кудесница!
Заикина. Сладилось?
Романова. Так ведь у африканки голос пропал! Она тык-мык – не поётся! Спи, кхе, Солнца сын, кхе-кхе-кхе! Ох, матушка, сильна ты каверзы устраивать...
Заикина (строго). А ты, матушка, говори, да не заговаривайся! Ишь, каверзы... Когда с меццо-сопрано на сопрано карабкаешься, и не такое с голосом бывает.
Романова. Ой, не такое! Всякое-якое! Ой, бывает! Солнце моё, Елизавета Петровночка! Скромница вы моя!
Заикина. Как папаша твой драгоценный? Что с квартиркой?
Романова. Умаслила папашу, моё слово – золото. В среду к полудню идите к нотариусу, он заверит сделку. Контору Янсона знаете? Университетская, дом шестнадцать. Александр Рафаилович – крючок молодой, да ушлый. Комар носу не подточит! Папаша мой в конторе ждать будут. Только не опаздывайте, они долго ждать не любят, сердятся.
Заикина. Это хорошо, это ты умница.
Романова (приплясывает по кабинету). Володенька мне колечко подарил. К Рождеству свадьбу сыграем. Одной мной живёт, одной мной дышит!
Заикина (передразнивает. Чувствуется, что старуха раздражена). Одной-мной! Приданым твоим он живёт, красавица. Я и так, и этак – без приданого ничего не ладилось.
Романова. А хоть бы и приданым? Мне-то какая разница? Главное, африканка-безголосица отвяла. Слыхали? Из оперного в дра... дрёмати...
Заикина. В драматический перебралась. Знаю, не глухая. Весь город гудит. (В сторону, раздумчиво). Он гудит, а я думаю: отчего бы, а? Голоса нет, опера кончилась, а студенты Кадмину на руках носят. Офицерики хвалу поют. Купцы пиры закатывают. Кто-то здесь помимо меня, древней, старается, только не понять, кто. Ну да ладно, в среду квартирка, к Рождеству свадьба, и делу конец. (Романовой). Ты мой приказ выполнила?
Романова. Как бог свят!
Заикина. К Кадминой не приближалась?
Романова. За версту! За версту бегом оббегала!
Заикина. На спектакли её не хаживала?
Романова. Ни-ни!
Заикина. А теперь пуще прежнего берегись. Ни в оперный, ни в драматический! За версту? За сто вёрст, поняла? Бешеной собаке сто вёрст не крюк. А с женихом своим под ручку – так и вовсе! До свадьбы – никаких театров!
Романова (пляшет). Спи, Солнца сын!
Заикина. Уразумела, пустая голова?!
Романова. Елизавета Петровна, любушка! Ты что же, меня совсем за дуру считаешь?
Действие третье
Заикина в кабинете одна. Читает «Южный край». На носу у неё очки.
Заикина (вслух). «...понесла невознаградимую утрату: вчера, в семь часов пятнадцать минут вечера преждевременно скончалась в полном расцвете дарования артистка Императорских театров Евлалия Павловна Кадмина. Живейшими симпатиями публики артистка пользовалась при жизни, живейшая скорбь провожает её в преждевременную могилу...»
Откладывает газету.
Заикина (хрипло). Предупреждала ведь дуру! Нет, погордиться захотелось, похвалиться перед соперницей... Села в ложе, квашня, выпятилась! А жених вокруг вьюном: конфетки, поцелуйчики... Доцеловались, голубки! Прости, Евлалия, не хотела я твоей смерти. Не за то мне было плачено.
Стук в дверь. Входит приживалка.
Неонила. К вам гостья, благодетельница.
Заикина. Погадать?
Неонила (испуганно). Вряд ли. Я душевно извиняюсь...
Заикина. Кто? Зачем? Я сегодня не принимаю.
Дверь распахивается, едва не прибив Неонилу. Входит женщина в салопе на меху. Снять верхнюю одежду в прихожей она не захотела. Это Радченко Любовь Павловна, костюмерша. Такой её видел Алексеев на кладбище, только сейчас она на шестнадцать лет младше. Глаза женщины заплаканы, но голос не дрожит.
Радченко. Будь ты проклята, Елизавета Петровна! Ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Заикина. Аминь. Садись, тебя ноги не держат. Это ты против меня старалась?
Радченко (стоит). Я.
Заикина. Кадмина заплатила? Моё нюансерство хотела перешибить?
Радченко. Не платила она мне. Она про мой талант даже и не знала.
Заикина. А кто тогда заплатил?
Радченко. Эх ты, сухая коряжина! Любила я её, всем сердцем любила. Спасти хотела. А ты с ножом к горлу: кто заплатил? Из твоих лап я её выдирала, бедняжку...
Заикина (без похвальбы, грустно). Не выдрала.
Радченко. Я как твою пассию в ложе увидала, сразу поняла: конец. Говорила Кадминой: отмени спектакль! В ногах у неё валялась. Не послушалась, гордая...
С двух сторон наползает занавес.
3
«А если я откажусь?»
– Здравствуйте, Любовь Павловна!
– Здравствуйте. Мы знакомы?
Костюмерная была тесной: ни встать, ни шагнуть. Радченко сидела у дальней стены на колченогом табурете, наметывала камзол испанского кроя. Дорогу к ней преграждали манекены: один – в жестяных доспехах, другой – в платье Клеопатры, с завитым египетским париком на болванке, служившей манекену головой.
Керосиновая лампа освещала женщине шитьё.
Спектакль закончился. Отгремели аплодисменты, разъехались экипажи со зрителями побогаче, бедные разбрелись пешком. Переодевшись в будничное, ушли актёры – кто домой, кто в трактир, пропустить рюмочку. Театр обезлюдел, если не считать пьяного сторожа, уборщицы да ещё костюмерши, женщины одинокой, замкнутой, которая, случалось, и ночевать оставалась здесь.
– В некоторой степени, – Алексеев прикрыл за собой дверь, стараясь не громыхнуть. Манекены следили за ним без одобрения. – Извините за поздний визит. Я видел вас в конторе Янсона, куда вы принесли два экземпляра «Южного края». Один прихватил с собой посетитель, и мне кажется, вы этого и добивались.
– Добивалась?
Смеялась Радченко заливисто не по годам. Закрой глаза, и поверишь, что хохочет весёлая девчонка.
– Нет, вы послушайте! Я добивалась того, чтобы нечистый на руку посетитель украл у нотариуса газету? Вы забываетесь, милостивый государь.
Алексеев протянул руку, погладил Клеопатру по локонам. Было в его движении что-то, что сразу отбило у костюмерши охоту смеяться. Всё своё внимание Радченко вернула камзолу, словно Алексеев был третьим манекеном, и ничем более.
– Второй раз я видел вас на кладбище. Вы плакали над могилой Евлалии Кадминой. И мне не хотелось бы говорить о том, что вы делали над могилой Елизаветы Заикиной. Это ведь её завещание вы подписали, как свидетельница?
– Вы шпионите за мной?
– Я? Наши встречи случайны, Любовь Павловна. Как и та, когда вы вчера вышли из театра...
Костюмерша уколола иглой палец, зашипела от боли.
– А вы беседовали с графом Капнистом, – раздражённым тоном произнесла она. – Точнее, выслушивали бесконечный монолог графа. Я вспомнила вас.
– Позвольте, я закончу. Последний раз я видел вас сегодня ночью...
– Ночью? Что за грязные инсинуации?!
– Вы всё время меня перебиваете. Я видел вас во сне.
– Уже лучше! В моём возрасте приятно слышать, что я ещё способна являться во сне таким приятным, таким сладкоречивым молодым людям. Надеюсь, я не позволила себе ничего лишнего?
– Нет. Вы всего лишь сказали: «Будь ты проклята, Елизавета Петровна! Ныне и присно, и во веки веков, аминь».
Алексеев протиснулся между манекенами. Стараясь не сшибить платья, развешанные на стенах, потянулся, взял руку Любовь Павловны. Несмотря на сопротивление, поднёс к губам, поцеловал.
– Вы сказали это шестнадцать лет назад, после смерти Кадминой. Это я услышал вас сегодня ночью, а Заикина – раньше, много раньше. «Любила я её, всем сердцем любила. Спасти хотела....» Это ведь ваши слова? Спасибо вам, Любовь Павловна. Будь Кадмина жива, она бы тоже вас поблагодарила. Я не знаю, что вы сделали, но вы сделали всё, что могли.
– А что я могла? – одними губами выдохнула Радченко. Со щёк её сошел румянец, на лбу выступили капельки пота. – Что?!
– Вот и мне хотелось бы знать: что вы можете? Вы и такие, как вы?
– Кого вы имеете в виду?
– Всех, кто подписал завещание. Вероятно, есть и другие, но о них мне ничего неизвестно. Я говорю о нюансерах.
– О да, – слабо улыбнулась Радченко. Она глядела на Алексеева так, словно запоминала его портрет для дачи показаний. – Вероятно, есть и другие. Вы – Алексеев, это вам Заикина завещала свою квартиру. Не стану отпираться, я вас знаю, только не в лицо. Ни в конторе, ни на кладбище я не обратила на вас особого внимания.
– В конторе вы назвали меня по имени-отчеству.
– Это ничего не значит. Когда я работаю, такие вещи приходят мне на ум сами собой. Приходят на ум, подворачиваются на язык... Как я назвала вас в конторе?
– Константин Сергеевич.
– Очень приятно, Константин Сергеевич. А я, как вам уже известно, Любовь Павловна. Будем знакомы. Что вы скажете про этот камзол? Нравится?
Она подняла камзол, встряхнула.
– Дон Карлос? – догадался Алексеев.
– Да.
– На кого?
– Вы его не знаете. Примерно ваша фактура. Ниже на вершок, шире в плечах.
– Брюнет?
– Да.
– Уберите подставки в плечах. Иначе он будет казаться ещё ниже.
– Каблуки?
– Не поможет. Выйдет такой себе битюг, а не дон Карлос. Призрак Карла Пятого выше его или ниже?
– Выше. Ваш рост, даже с лихвой.
– Да, уберите подставки. Иначе зарежете финальную сцену, с призраком.
Радченко вернула камзол к себе на колени:
– У вас острый глаз. Актёрствуете?
– Любитель.
– В профессионалы не собираетесь?
– Нет. С любительством тоже покончено. Дела, семья, дети – этого достаточно.
Лицо Радченко напомнило Алексееву лицо классной дамы, когда та выслушивала нелепое, неправдоподобное враньё маленького Кокоси. Такое же лицо Алексеев имел несчастье видеть у своей драгоценной жены, когда Маруся внимала его обещаниям принять наконец решение, выбрать между семьёй и театром. Собственно Маруся и была когда-то классной дамой – в Екатерининском институте благородных девиц.
– Не верите? – с вызовом крикнул Алексеев.
– Как вы узнали о моём конфликте с Заикиной? – вместо ответа спросила Радченко. – Шестнадцать лет назад... Вы тогда были совсем молоденьким юношей. Мы говорили без свидетелей, донести вам никто не мог. Что вы сделали для того, чтобы узнать?
Алексеев подвинул ближе пуфик, притулившийся между манекенами. Сел с превеликой осторожностью – всё-таки в костюмерной было очень тесно.
– Я выстроил мизансцену.
– Мизансцену?
– Я двигал предметы в кабинете Заикиной. Так выставляют декорации под заранее расписанный эпизод. Декорацию, бутафорию... Я изменил освещение. Лёг на кушетку. Если я правильно всё сделал, то в мизансцене присутствовало всё необходимое, кроме главного действующего лица.
– Заикиной?
– Да. Это, конечно, если смотреть с кушетки.
– И Заикина появилась?
– В кресле у стола. Там, где я и планировал. Дальше... Полагаю, дальше я спал и видел сон. Я редко запоминаю сны, но этот я запомнил до последних мелочей. Я видел Дарью Романову, купеческую дочь. Видел Заикину. Видел вас...
– В финальной сцене?
– Да.
– Мебель, – странным тоном произнесла Радченко. Камзол дона Карлоса сполз с её коленей на пол, но костюмерша этого не заметила. – Если часто пользоваться мебелью, у неё открываются дверцы.
– Что?
– Ничего. Вот поэтому я предпочитаю обходиться без мебели, одной бутафорией. Да, вы правы: мы сцепились с Заикиной за несчастную Кадмину. Заикина погружала бедняжку в холодный мир, я вытаскивала в тёплый. Елизавета Петровна делала это по заказу, без злобы. Ей хотелось заполучить квартиру. Я – по любви, без заказа. Мне хотелось спасти Кадмину. Если два нюансера тянут кого-то в разные стороны, это не заканчивается добром. Лошади разрывают жертву, понимаете? В те годы я ещё не знала этого правила. А даже если бы и знала...
Тёплый мир, отметил Алексеев. Холодный.
– Мебель, – напомнил он. – Вы сказали: «Если часто пользоваться мебелью, у неё открываются дверцы.» Анна Ивановна тоже говорила мне, что они с матерью служили мебелью для Заикиной. Служили мебелью, а теперь гадают. У них открылись дверцы?
– Да.
– А я? Я тоже мебель?
– Сейчас – да.
– Для какого же замысла понадобился такой неуклюжий элемент декораций, как ваш покорный слуга?
– Вам известно, что правнука Заикиной застрелили при ограблении банка?
– Известно.
– Как вы думаете, такая женщина, как Заикина, склонна прощать врагов своих? Подставлять левую щёку взамен правой?!
– Она мертва!
Радченко наклонилась вперёд:
– Но ещё недавно она была жива.
ПРОЛОГ
(продолжение)
– Значит, так, любезные мои...
Заикина любовалась чашечкой истово, не отводя взгляда. Словно знала, что больше не увидит ни чашечку, ни сервиз, ни света белого. Лицо гадалки сделалось серьёзным: дальше некуда. С таким лицом Клеопатру играть – вот корзинка, в корзинке аспид, и срок пришёл класть змею на молодую грудь.
– Слушайте мою последнюю волю. Слушайте, запоминайте, исполняйте. Не исполните – из могилы вернусь. Зубами загрызу, кровь выпью. Вы меня знаете...
Приживалки знали. Слушали, запоминали.
– Ой, матушка, – захлебнулась старшая. – А с нами-то что будет?
– Исполните – всё будет хорошо. Не обижу вас, пустомель.
– Ну да, ну да, – бормотала старшая. – Всё хорошо, лучше лучшего.
Было слышно: не верит. Боится. А больше того боится возразить, пойти поперек.
– Каким макаром Оська богу душу отдаст, того я не знаю. Знаю лишь, что не своей смертью парень умрёт. Убьют его, верней всего, застрелят. Убийцу я тоже не знаю. Вижу смутно, не разглядеть. Ничего, мне хватит. С того света дотянусь, возьму за кадык...
Приживалки тряслись. Языки заледенели.
– В мести моей подмога – Ашот, Лёвка да Любка Радченко. Меня не будет, они возьмутся.
– Врагиня, – напомнила Неонила Прокофьевна. – Любка-то Радченко – врагиня ваша. Возьмётся ли?
Заикина нехорошо засмеялась:
– Врагиня – то ладно, то между нами. А в последней просьбе Любка не откажет. Таких, как мы, мало, мы друг дружке последняя опора. На могилу мою плюнет, а дело сделает. Мне ли в Любке сомневаться, если она за Евлалию со мной в спор вступила?! Короче, Ашот, Лёвка да Любка. Ну, и с вас, куриц, спрос будет...
– Да каков же с нас-то спрос, матушка? С нас он невелик...
– Квартиру эту завещаю я одному человеку. Позже на бумажке всё вам напишу, а то забудете, дуры куропятые! Он приедет, тут поселится. Запоминайте, это важно: должен он тут поселиться и какое-то время пожить. Надо, чтобы здесь ему было хорошо, тепло, уютно. Уразумели?
– Квартиру? А мы ж куда?
– Сказала: не обижу. Моё слово – золото. Поселится в квартире этот человек, будет работать мебелью. Без него месть не сладится, нет. А вы его ублажайте, ходите за ним, как за мной. Нет, лучше! Пылинки с него сдувайте, ясно?! Исполните моё веление, и у вас все наладится. Заживёте мирком да ладком...
– Мирком, – кивала Неонила Прокофьевна. – Ладком. То-то славно будет!
Лицо приживалки коверкали тайные думы. Актриса из неё была скверная: всё наружу, нараспашку, чересчур. Хорошо, что Заикина думала о своём, тревожилась. Иначе приметила бы. А приметив, не простила бы.
* * *
Костюмерная смыкалась коконом, откуда вот-вот должна была выпорхнуть бабочка. Алексеев и Радченко едва ли не касались друг друга коленями. Если их и разделяло что-то, так это камзол на полу.
– Мебель, – повторил Алексеев. – Дверцы.
– Да.
– У всякой мебели открываются дверцы?
– Нет. Надо иметь способности к нюансерству, тогда двери откроются.
– Как у меня?
– Выходит, что так.
– Я мебель. Я живу на квартире. Меня двигают по городу, создавая необходимые мизансцены. Газеты в конторе – это тоже были нюансы?
– Да. Вы – мебель, газеты – бутафория.
– А где-то там гибнет убийца правнука Заикиной?
– Не думаю, что гибнет. Погружается в холодный мир. Теряет удачу, мучится, сходит с ума. Превращается в тварь дрожащую. Заикина не хотела, чтобы он погиб вот так, сразу. Считала это слишком лёгким наказанием. Просила, чтобы шаг за шагом, по этапу, до самых ворот ада. На её месте я бы тоже...
– А если я откажусь работать мебелью? Если уеду сегодня же?!
– Уезжайте. Скатертью дорога!
– Но месть? Ваше обещание Заикиной?!
– Теперь мы обойдёмся и без вас. С вами, не скрою, будет легче, проще, доступней. Но вы были критичны в первые дни. Теперь колесо вертится, мы справимся. А вы что, не желаете зла убийце невинного мальчика? Вору, грабителю?! Подонку мира сего?! Может быть, вы – не просто мебель, а меч Божий? Да вы и так не просто мебель, вы теперь нюансер, один из нас. Скажите, вы отказали бы Заикиной в её предсмертной просьбе?!
Алексеев встал:
– Не знаю. Даже помыслить о таком не могу.
Нет, думал он, стыдясь произнесенной лжи. Нет, я не отказал бы.
В дверях он обернулся:
– Вы правы, Любовь Павловна. Двум режиссёрам нельзя работать над одним спектаклем. Иначе ни тот, ни другой не захочет поставить своё имя на афишу. Нет, в таком подходе нет ничего хорошего.
Глава одиннадцатая. «ДА, КЛЁСТ, ИСТИННАЯ ПРАВДА!»
1
«И это въ лучшей части города!..»
– Кто там?
Голос был женским.
– Добрый вечер. Простите, ради Бога, я к Константину Сергеевичу.
– Я душевно извиняюсь... А кто вы такой будете?
Открывать дверь женщина не спешила.
– Барышников Михаил Николаевич. Я в товариществе служу, Константин Сергеевич у нас директорствует...
Щёлкнуло, лязгнуло, брякнуло. Дверь приоткрылась на пару вершков, удерживаемая крепкой цепочкой. В щели блеснул недоверчивый глаз, упёрся в Мишину грудь. Тусклый свет двух газовых рожков падал на незваного гостя со спины и сбоку – лица толком не разглядеть. Миша мог бы отступить назад, позволив свету упасть на его небритую физиономию, но нарочно не стал этого делать. Хватит с него подозрительных взглядов в «Гранд-Отеле». Пусть лучше женщина слышит, чем видит: в гостинице только проворный язык Клёста и выручил.
Возвращаясь с базара, он припомнил, как фраер упоминал «Гранд-Отель». Мол, хотел там остановиться, да водопровод прорвало, номера затопило. Может, уже починили? Может, бес в свой чёртов «гранд» переехал?
Снедаемый зудом нетерпения, Клёст поспешил в заветный «Гранд-Отель». На ходу он доедал пирожки: откусывал с большой осторожностью, каждый кусок придирчиво рассматривал. Слава богу, тараканы больше не попадались.
Швейцар помедлил, насупил брови, но снизошёл – открыл перед Мишей дверь. Портье за стойкой воззрился на Мишу с таким подозрением, что оно звенело в воздухе, словно рой комаров.
– Желаете номер?
– Нет, не желаю. Мне нужно встретиться с вашим постояльцем.
– Он назначил вам встречу?
– Увы, нет. Но я служу в его товариществе, и у меня к нему важное дело. Уверен, он будет благодарен, если вы меня к нему направите.
– Что же это за постоялец? Генерал Любомиров? Действительный статский советник Мещеряков?
Портье насмешничал и не скрывал этого. Щёки Миши от ярости вспыхнули двумя кострами, пальцы стиснули в кармане рукоятку «француза». «Я Миша Клёст, бью...» Чудом сдержался, и даже голос его не подвёл.
– Увы, я птица иного полёта, – сокрушенно вздохнул он. – Мне нужен Алексеев Константин Сергеевич, из товарищества «Владимир Алексеев».
– А кем вы, если не секрет, служите?
– Торговый агент. Вы должны знать Константина Сергеевича, он говорил, что часто у вас останавливается...
Миша блефовал – и сорвал куш. Лёд в глазах цербера подтаял, но настороженность осталась.
– Да, Константин Сергеевич наш частый гость. И какое у вас к нему дело?
– Говорю же: я торговый агент, договорился о важной сделке. Нужно одобрение начальства, иначе сорвется. Очень вас прошу...
– Что ж вы, сударь, в таком-то виде на деловую встречу заявились?
Портье с осуждением качал головой.
Сбоку от стойки размещалось ростовое зеркало: венецианское стекло в золочёной резной раме. Миша глянул: батюшки-светы! Варнак, каторжанин: небрит, щёки горят, глаза запали... А пальто? А брюки?! У Никифоровны казалось, отчистил, а тут, при ярком свете электрической люстры...
– Простите великодушно, я только с поезда, двое суток на ногах. Ещё карета «Скорой помощи» у базара застряла, – Клёст с покаянным видом развёл руками. – Помогал вытащить, измазался.
Портье заметно смягчился:
– И рад бы проводить вас к Алексееву, но он у нас не проживает.
– Как – не проживает?!
– Увы, скверная коллизия вышла: водопровод прорвало. Константин Сергеевич хотел заселиться, но номеров пригодных не осталось...
Досадуя, что зря потратил драгоценное время, Миша уже развернулся уходить, но его догнал подарок судьбы:
– Он нам адресок свой оставил. На случай, если номер появится. Вам записать?
– Да, конечно! Буду вам премного благодарен!
Портье зашелестел бумажками на конторке, обмакнул в чернильницу ручку с золотым пером.
– Если вас не затруднит, господин агент, передайте Константину Сергеевичу, что номер для него готов. Ждём его с нетерпением.
– Непременно передам!
Сразу по адресу он не пошёл. Сыскал одёжную мастерскую, заказал чистку пальто. Нельзя в таком виде по городу ходить! Верхняя одежда приличная, а вся в грязи. Нехорошо, подозрительно. В глаза бросается. Никак нельзя так ходить!
– Завтра к полудню будет готово.
– Мне срочно! Чем скорее, тем лучше.
– Быстро, сударь, только кошки родятся.
– У меня при себе нет другого пальто! В чём я домой пойду? Плачу полторы цены.
– Две.
Миша сунул руку под пиджак, сжал рукоять «француза», сунутого за пояс. Хорошо, заранее перепрятал. Оставил бы в пальто, была бы драма. Сжал, отпустил, улыбнулся:
– Ладно, изверг, две.
– Присядьте, подождите.
Ждать пришлось долго. На дворе стемнело, когда Клёст, расплатившись, вышел из мастерской. Оно и хорошо, что сумерки. Меньше подозрений. Побриться бы ещё...
Он хотел зайти в цирюльню – вон, и окна горят! – но лихорадочное возбуждение гнало Мишу вперёд. Он в шаге от цели! Сегодня же избавиться от мерзкого кошмара – и уехать из этого про̀клятого города, поставить крест на последнем деле! Да, последнем! Нечего скалиться из-за плеча, бес!
Посмотрим, чья возьмёт.
Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, и лестница, воняющая кошками, и квартира на четвёртом этаже...
– ...я душевно...
– Извиняюсь, – выдохнул Миша, начиная закипать.
– …по какому, вы сказали, делу к Константину Сергеевичу?
– По торговому.
– А именно?
– Сделку надо утвердить.
– И без Константина Сергеевича никак?
– Никак.
Дверь захлопнулась. «Поговорили!» – злобно подумал Клёст, но тут в квартире ещё раз лязгнуло, и дверь с гостеприимством распахнулась. Из-за спины тётки, закутанной в тёплую шаль, как капустная кочерыжка – в листья, с любопытством выглядывала женщина помоложе. Внешнее сходство криком кричало: дочь.
– Заходите, милости просим! Выпьете с нами чаю, а там, глядишь, и Константин Сергеевич вернутся.
– Его что, нет дома?
– По делам ушёл. Да вы заходите, не стесняйтесь! Он скоро будет.
– Откуда вы знаете, что скоро?
– Так ведь время позднее! В такое время только дома сидеть...
– Благодарю, – Миша церемонно поклонился. – Я лучше завтра приду, с утра. Моё дело до утра терпит. А Константин Сергеевич, небось, усталый вернётся. Отдохнуть захочет, а тут я с торговлей. Спокойной вам ночи...
Спускаясь по лестнице, он слышал, как наверху щёлкают, брякают замкѝ и цепочки. Они щёлкали, а Миша вёл тайный разговор с бесом. В городе ты, бес, никуда не делся, слава богу. Гуляешь? Честных христиан с пути сбиваешь?! Гуляй до поры, а потом в тартарары̀. Хорошо, что тебя дома не оказалось, дружок. Пришлось бы тогда валить и тебя, и старуху-процентщицу, как студент Раскольников в криминальном романе Достоевского, и дочку её, как это сделал раскольник[1] Герасим Чистов, прототип студента, зарубивший топором сразу двоих женщин. Я тебе, чёртово отродье, не Раскольников, и уж точно не Чистов – пережил бы как-нибудь без особых терзаний. Но лишний грех на душу брать не хочу.
Ты, бес – другое дело. За тебя сотню грехов скостят.
Выйдя из парадного, Миша осмотрелся. Прикинул, где скорее всего встанет извозчик, привезший Алексеева; занял позицию в подворотне. С Бассейной точно подъезжать не станет, не рискнёт. Как справедливо, хотя и обидно для городской управы, писали газеты:
«Состояніе Епархіальной улицы, въ особенности части ея, прилегающей къ Бассейной улицѣ, оставляетъ желать много лучшаго. Въ этомъ мѣстѣ заборы установлены у самой мостовой; тротуары отсутствуютъ, а если и кладутъ доски, то такъ небрежно, что прохожимъ грозитъ опасность сломать себѣ ноги. Въ теперешнее дождливое время калоши вязнутъ въ грязи и чтобы не потерять ихъ, приходится ходить по мостовой. И это въ лучшей части города, гдѣ платятъ громадныя деньги за квартиры!»
С наблюдательного пункта в подворотне был виден лишь скромный пятачок, расположенный перед входом в парадное, зато место было освещено фонарем. Авось, не пропустим. Пока выберется из экипажа, пока с ванько̀м расплатится...
Он достал папиросы.
Ничего, Оленька. Ничего, милая. Подожди немного.
Скоро всё закончится.
2
«Не верю!»
...пусть в глазах не понимающих дела я буду мелочным в своих требованиях, понимающие поймут, что это элементарные, самые насущные требования сцены. И в самом деле: возможно ли играть какую бы то ни было серьезную роль, когда в двух саженях от вдохновляющегося актера поминутно скрипит дверь, а шарканье по полу входящей публики заглушает его голос? Можно ли отдаться настроению, когда в расстоянии аршина от действующего на сцене лица топают, шепчутся или ругаются необузданные, подчас даже и пьяные декораторы? Если при таких условиях сам актер не может поверить своему чувству, то чего же ждать от публики, ничего не видящей из того, что происходит на сцене, за вереницей входящих и выходящих, ничего не слышащей от шарканья ног и скрипа двери?!
Ещё:
1) К существующему верхнему и боковому свету сцены добавить на два задних плана бокового и верхнего света.
2) Сделать электрические бережки для освещения пристановок и заднего холста снизу...
Он брёл по ночному городу, увязая в каше раскисшего снега. Выйдя из Коммерческого клуба на Рымарскую, зачем-то свернул направо, к Мордвиновскому переулку, ведущему вниз, на Клочки. Мальчиком Алексеев никак не мог взять в толк, из каких глубин речи взялось название улицы, пока ему не объяснили, что в старину здесь жили лымари – кожевенники, изготавливающие ремни и конскую сбрую. Слово ему понравилось, он даже некоторое время дразнил младшего брата лымарем; потом забыл, перестал.
За Урюпинской усадьбой – одноэтажным зданием, выстроенным сто лет назад городским головой, купцом 3-й гильдии Урюпиным – он сообразил, что идёт не в ту сторону. Может быть, потому что здесь горел единственный фонарь на облупленном, валящемся набок, как подгулявший забулдыга, столбе; может, ещё по какой причине.
Встал, поклонился купеческой тени:
– Спасибо, Егор Егорович! Вразумили, направили...
«Руководствоваться в своей деятельности, – важно откликнулась тень, – следует исключительно законами...»
– Вот-вот! Эх, Егор Егорович, знать бы их ещё, эти законы...
Пошёл в другую сторону.
3) Сделать два переносных электрических щитка для освещения застановок.
4) Было бы желательно усилить свет передней рампы.
5) Уничтожить скрип дверей в зрительном зале.
6) В зрительном зале, в проходах между стульями, стелить мягкие ковры.
7) К дверям зрительного зала приделать замки и подобрать ключи...
Это всё было важно, исключительно важно.
Лымари с их сбруей. Тусклый фонарь. Грязь под ногами. Лужи. Покосившийся столб. Усадьба. Афишная тумба возле клуба. Зачёркнутый Шаляпин. Собака на другой стороне улицы. Подробности – Бог. Дьявол прячется в мелочах. Сад по левую руку. Скрип деревьев в саду. Каштаны? Липы? В чём Бог? В чём дьявол?!
Тёплый мир, сказала Радченко. Холодный мир.
Женская гимназия, 1-я Мариинская. Напротив – зады драматического театра, где когда-то шагу не делали, не испросив совета у Елизаветы Заикиной, мстительной старухи. За спиной – оперный театр. Театры сегодня преследовали Алексеева. Проклятье! Они преследовали его всю жизнь. Прежде чем свернуть в Таракановский переулок, он глянул наискосок, во тьму, в сторону Николаевской площади – туда, где скрытый домами, спал беспокойным сном ограбленный Волжско-Камский банк. Там убили кассира Лаврика, неудачливого Иосифа Кондратьевича, правнука Заикиной. Тоже театр, если вдуматься, только кукольный. Сцена, где судьба повела в пляс своих первых марионеток: жертву и убийцу. А мимо в санях ехала третья кукла, судача с извозчиком.
– Весь мир театр! – шутовски выкрикнул Алексеев.
Ему не ответили. Только собака залаяла.
Письмо, думал Алексеев. Моё письмо Королёву и Щербакову, старшинам Охотничьего клуба в Москве. Мы собирались играть у них спектакль, я ставил условия. «Генеральная репетиция, а вместе с ней и спектакль отменяются...» Тысяча условий, миллион подробностей. Старшины ворчали, упрекали меня в мелочности, придирчивости, называли дятлом и буквоедом. Я думал: режиссёр. Эти, здешние, говорят: нюансер.
Тёплый мир. Холодный мир.
Генеральная репетиция, а вместе с ней и спектакль отменяются в случаях:
1. Если уборные и проходы, ведущие к ним, не будут приготовлены к пяти часам.
2. Если сцена и зрительный зал не будут готовы к восьми часам, т. е. если к означенному часу все служащие по сцене не будут на своих местах, если декорации, мебель, бутафория и прочие вещи не будут заготовлены по режиссерскому списку во всех мельчайших подробностях, и сцена не обставлена и не освещена к первому акту к назначенному часу.
3. Если бы даже, по вине или неаккуратности исполнителей, начало генеральной репетиции не состоялось к назначенному часу, сцена, уборные и зрительный зал непременно должны быть готовы вовремя...
На Сумской фонарей было больше.
Мимо прогрохотал извозчик. Копыта лошадей высекали искры из булыжника. Темнела громада редакции «Южного края». В окне мансарды светилась лампа. «Вчера въ помѣщенiи Волжско-Камскаго банка состоялось совѣщанiе представителей всѣхъ мѣстныхъ коммерческихъ банковъ, на которомъ обсуждался вопросъ о принятiи мѣръ къ охранѣ банковъ отъ могущихъ быть разбойныхъ нападенiй. Совѣщанiе признало существующую охрану банковъ совершенно недостаточной...»
Убийца мог прятаться где угодно.
Убийца не знал о мебели по фамилии Алексеев.
Каменная ограда. Железная решетка. Чёрные тени Университетского сада. Город словно вымер. Уеду, твердил Алексеев в такт шагам. Завтра же уеду к чёртовой матери. Горите огнём, все театры мира! Семья, фабрики, дети, и баста! Маруся будет счастлива. Ничего больше! Нюансерство? Чепуха, выдумка, глупый розыгрыш...
– Не верю!
...На время генеральных репетиций и спектакля к зрительному залу следует приставить одного или двух лакеев, на обязанности которых возложить:
а) наблюдение за тем, чтобы во время репетиций не вносились чайные или закусочные столы;
б) наблюдение за тем, чтобы в зрительный зал, кроме исполнителей, никто не входил без билетов;
в) наблюдение за тем, чтобы после начала действия двери зала запирались на ключ до окончания акта;
г) наблюдение за тем, чтобы перед каждым актом по окончании музыки двери в зрительный зал у сцены запирались на ключ. Таким образом, публика будет входить во время действия через задние двери;
д) к началу репетиций расставить в зрительном зале пять рядов стульев и осветить зал несколькими лампочками...
Три дороги, думал Алексеев.
Три коня.
Три мучителя: дело, театр, семья.
Каждый требует – молча или вслух! – чтобы я всю жизнь посвятил именно ему. Да, я готов отказаться от театра в пользу семьи. Я кричу это городу и миру. Мне достаточно, чтобы жена объявила во всеуслышанье, что признаёт величие моей жертвы, и voi la[2], с театром покончено.
И что же?
Неужели я не понимаю, чем дело кончится?!
Величие величием, жертва жертвой, а дело в итоге сожрет семью с потрохами, с косточками, схрумкает, как сожрало семьи отца и деда, переварит и опорожнится в отхожем месте. Бездарный паяц, я играю роль за ролью: любящий муж, примерный семьянин, успешный промышленник, продолжатель фамильного дела, талантливый актер, любимец публики и коллег. Это слишком, столько ролей мне не сыграть, надорвусь.
Труд? Мучение.
Ветеринарная площадь осталась за спиной. Впереди ждали три – опять три?! – перекрестка. Улица Мироносицкая, именем своим обязанная церкви Жён-Мироносиц, Чернышовская, названная в честь жившего здесь титулярного советника Чернышева[3], и наконец Епархиальная, ещё пять лет назад Кладбищенская.
Все нюансы имели значение.
Предатель, думал Алексеев. Иуда Искариот. Всю жизнь я предаю одно в угоду другому. Предал театр, уехал в Европу за новыми машинами. Вернулся, предал отца, ринулся подменять заболевшего Южина, даже не заехав домой. Предал жену, отослал её в Андреевку, подальше от себя, вечно занятого гения. Предал любовь, требуя от жены признания своих великих жертв в её имя. Мне не хватает сил, решимости, чувства, меня хватает лишь на предательство. Предал актрису Медведеву, цитируя её обидные замечания жене. Предал Дуняшу, откупился тёплым местом и фамилией, которую мой отец – даже не я! – подарил своему внуку.
Вот и сейчас – завтра я уеду из города. Убийца? Убитый? Месть Заикиной? Нюансеры? Правда, ложь?! Горите в аду, я здесь ни при чём! Не хочу, не стану, не буду...
...приготовленные к спектаклю декорации и бутафорские вещи на простых репетициях не обязательны. Сцена обставляется лишь приблизительно имеющимися под руками декорацией, мебелью, бутафорией. На время репетиций к сцене должны быть приставлены несколько рабочих для перестановки. Сцена должна быть приготовлена к назначенному для репетиции часу; к этому же времени мастера должны быть непременно на своих местах...
Предгенеральные репетиции должны происходить по вечерам от семи до двух часов ночи; без грима и костюмов, но с полной обстановкой и освещением...
– Не верю!
3
«Вы позволите вас проводить?»
А случилось так.
Если бы не зонтик, Клёст наверняка прошёл бы мимо, и Михаил Суходольский с Оленькой Вознесенской навсегда потеряли друг друга из вида, не встретившись даже взглядами. Молодая женщина в платье из муслина оливкового цвета выгуливала в Летнем саду ребёнка – трехлетнего карапуза в непременной матроске. Няня или гувернантка, каких двенадцать на дюжину. Лицо? Фигура? Природное обаяние? Нет, ничто не привлекло тогда Мишиного внимания.
Ах, если бы не зонтик!
Летний зонт от солнца, с узорчатыми кружевами и бахромой по краю – вещь легкомысленная и, с точки зрения Миши, совершенно бесполезная. Едва Клёст поравнялся с женщиной, порыв ветра, застав гувернантку врасплох, ловко выхватил из её пальцев ажурную конструкцию – и радостно понёс прочь свою новую игрушку, вертя, будто семя исполинского одуванчика. Клёст прыгнул за зонтом машинально. Он толком не рассмотрел женщину, он не собирался проявлять галантность или производить на кого-то впечатление. Действие «ипподромиума» закончилось два дня назад, утянув в небытие полторы тысячи рублей. Клёст ощущал себя ходячим мертвецом: бесчувственным, безразличным, остывшим. Ему не было дела до всех женщин мира, а уж до зонтиков – и подавно.
Боковым зрением он заметил быстрое движение – и среагировал на предмет, летящий в его сторону. Зонт поймал, но при этом неудачно «вписался» в молодой дуб, до крови ссадив руку о жёсткую кору.
– Ваш зонтик, сударыня.
С руки срывались на дорожку редкие багровые капли.
– Благодарю вас. Позвольте вам помочь – у вас кровь.
Ссадина не болела, и Миша уже хотел идти прочь, но ощутил слабый, едва различимый укол интереса.
– Чем же вы мне поможете, если не секрет? Перевязать руку платком я могу и сам. Платок у меня всегда с собой.
– Быть может, у вас и бинт с собой есть? Йодная настойка?
Малыш в матроске, как завороженный, смотрел на капли крови. Кап-кап-кап, летний дождик.
– А у вас?
– Конечно же! Коленька вечно расшибает коленки. И вообще, я лекарская помощница. Закончила «Рождественские курсы[4]», если вам интересно. Идите-ка сюда, садитесь на скамейку...
Клёст подчинился. В дамской сумочке и вправду нашлось всё необходимое. Руки у женщины были нежные, но крепкие и умелые – перевязку она, вне сомнений, делала не в первый раз. С изумлением Миша осознал, что ему приятны женские прикосновения. Ему, мертвецу, поднятому из гроба! Запах йодной настойки. Слабое жжение. Свежесть фиалок.
Её духи?
Мир стремительно наполнялся красками, запахами, птичьими трелями; чувствами, ощущениями...
Не может быть!
– Простите мою бестактность. Ваши духи...
– Вам не нравится?
– Что вы, напротив! Чудесный аромат! Не подскажете, как они называются?
– «Лесная фиалка». Вам для вашей жены?
Боже мой! Ему не почудилось!
– Я не женат. Видите, кольца нет.
– Многие мужчины не носят обручальных колец. Мой муж, например, не носил. Смеялся, что так легче познакомиться с красоткой строгих нравов.
– Вы замужем?
– Овдовела прошлым летом.
– Соболезную.
– Не будем об этом. Ну вот, я сделала, что могла. Уверена, с вашей рукой всё будет в порядке.
– Нисколько в этом не сомневаюсь! Дипломированный доктор не справился бы лучше.
– Вы мне льстите.
– Самую малость. Разрешите представиться: Михаил Суходольский, коммивояжёр и предприниматель.
– Ольга Вознесенская. Лекарская помощница, как вам уже известно. Тружусь в Николаевском морском госпитале. Мать этого сорвиголовы. Никита, прекрати немедленно! Это кровь, её трогать нельзя... Что ты там опять нашёл?
– Зук! Мама, зук!
Сойдя с дорожки, юный исследователь присел в траве на корточки. В данный момент он пытался ухватить за бока здоровенного жука-оленя. Жук гудел, сопротивлялся, грозно щёлкал «рогами», исхитрившись-таки ущипнуть малыша за палец.
– Ай! Бойна-бойна!
Глаза мальчонки набухли слезами – вот-вот разревётся. Миша присел перед ним на корточки:
– Смотри, Никита! Видишь, как здо̀рово твоя мама мне руку забинтовала? Уже совсем не болит.
– Бойна!
– Сейчас мама и тебя вылечит, и не будет больно.
– Бойна!
По крайней мере, мальчишка не спешил плакать.
– Дяде тоже было больно, но он не плакал, – подключилась Ольга. – Давай ручку, мама поцелует, и всё пройдёт. Хочешь, забинтую, как дяде?
– Хацу! Битуй, мама!
– Смотри, какая бабочка!
– Де?
– Да вот же!
– Баоська!
– Как вы удачно его отвлекли! – улыбнулась Ольга.
С этой минуты она раз и навсегда превратилась для Миши в Оленьку. У неё и глаза были фиалковые, не только духи.
– Пустяки...
– У вас есть дети?
– Нет. Вы позволите вас проводить?
Оленька смерила его оценивающим взглядом. Хорош собой, одет прилично, даже с шиком. Светлая пиджачная пара – лёгкая, летняя. Жилет с часовой цепочкой, шёлковая рубашка. Шейный платок повязан с нарочитой небрежностью, туфли начищены до зеркального блеска. Мягкая шляпа...
– Что ж, извольте.
Они встретились завтра. Послезавтра. Через неделю. На эти встречи Миша летел как на крыльях. На крыльях любви? Клёст был далёк от пошлых, затасканных оборотов. Он знал другое: рядом с Оленькой он вновь ощущал себя живым – как на ипподроме, только ярче, глубже, волнительней...
Может, это и была любовь?
Муж Оленьки, брандмейстер пожарной команды Владимир Трифонович Воскресенский, погиб при пожаре год назад. Из горящего здания его вынесли живым, доставив в Мариинскую больницу на Литейном. Четверо суток Оленька не отходила от мужа, оставив маленького Никиту на няньку, но ожоги оказались смертельными. На исходе четвёртых суток Воскресенский скончался. Вдове покойного, проявившего героизм при спасении погорельцев, был назначен пенсион, но скромный, из расчета двадцати пяти процентов от последнего жалования мужа. Хорошо ещё, у вдовы были скромные сбережения, оставленные в наследство матерью. Денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами, снимать скромную квартирку в доме на Васильевском и растить Никиту. Ольга подумывала уехать к родственникам в Самару, но так и не решилась.
Через три месяца после их знакомства Миша остался ночевать у Оленьки.
4
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Стало холодать. Даже воспоминания о первой ночи, проведенной с Оленькой, не согревали. Грязь у парадного, где жил бес, прихватила ледяная корка. В тусклом свете фонаря она отблёскивала хрупким, ненадёжным стеклом. В подворотню задувал стылый ветер. Миша поднял воротник пальто, надвинул «пирожок» на уши. Ожидая намеченную жертву, он выкурил полпачки папирос, но спокойствия любимый «Дюшес» не принёс.
В горле першило, драло когтями
Неужели почуял? Решил дома не ночевать? С беса станется! Зря караулю, да?! Неприятная мысль улетала, гонимая ветром, и возвращалась с докучливостью упрямой мухи. Клёст полез в карман за очередной папиросой – и услышал далёкий хруст.
Замер статуей.
Шаги? Наверняка случайный прохожий. Бес приедет на извозчике. С его-то деньгами – и грязь месить?
Хруст приближался. Не спеша закуривать, Клёст осторожно выглянул из подворотни. Фигура прохожего тонула в тенях, густых и вязких. Только благодаря движению её и можно было кое-как различить. Миша успокоился – уж его-то человек точно не разглядит! – и сразу разволновался вновь: человек – ладно, а бес? Бесы, небось, ночью лучше кошек видят!
Ерунда, глупости. Тут и кошке ни арапа не высмотреть.
Прохожий шагнул в жёлтое пятно света под фонарём – дальним, не тем, что напротив парадного. Клёст подался вперёд, сделал стойку на добычу, как охотничий сеттер. Он! Ей-богу, он!
Бес-фраер, хрустит-хлюпает.
К щекам прихлынул жар. Взмокли, несмотря на порывы студёного ветра, волосы под шапкой. В груди воцарились радость и лёгкость. Никогда ещё Миша так не волновался; ничего так не предвкушал. Ни разу за тридцать с лишним лет он не был таким живым, как сейчас! Это смерть из меня выходит, подумалось. Войдёт в беса, заберёт его в пекло, ко мне уже не вернётся! В кармане шевельнулся «француз», подтвердил: да, Клёст, истинная правда!
Миша шагнул из подворотни:
– Добрый вечер, Константин Сергеевич!
От неожиданности бес поскользнулся, но нет, не упал. Замер аккурат под фонарём:
– Добрый вечер. Простите, не имею...
Бес подслеповато щурился, пронзал взором мрак: «Кто ко мне обратился? Кто здесь? А ведь знакомый, раз по имени-отчеству...» Сунул руку в карман (Миша напрягся, готовый стрелять!), достал пенсне, нацепил на нос. Действительно не видит? Прикидывается?!
– Имеете, Константин Сергеевич. Ой, как имеете! Дважды вы мне являлись...
– Являлся? В каком смысле?
В ответ Клёст тихо рассмеялся. Ваньку валяет, нечистый! Дурит нашего брата!
Смех бес расслышал:
– А-а, шутить изволите?
Можно было уже трижды пристрелить гадюку. В пяти шагах от Миши, в круге света, он представлял собой идеальную мишень. Бей на выбор: в голову, в сердце. Но Клёст медлил, будто пьяница, которого зовут домой от недопитой бутылки. Его одолевал шквал чувств, какого он не испытывал ни на ипподроме, ни рядом с Оленькой. А по большому счёту – вообще никогда! Мир сделался тёплым, сияющим, удачливым. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! В отличие от проблем доктора Фауста из одноимённой трагедии Гёте, Мишино счастливое мгновенье послушно стояло на месте, длилось без помех, и ад не спешил забрать Михаила Суходольского, грабителя и убийцу, из случайно доставшегося ему рая.
Бес качнулся из жёлтого круга в темноту. Миша ничего не имел против – в упор он и без фонаря не промахнётся. Отступил назад, заманивая беса:
– Стыдно, Константин Сергеевич! Забыли меня, ай-ай-ай!
Бес приблизился. Миша опять разорвал дистанцию:
– А вот я вас помню! Чудесно помню!
Шаг за шагом, они уже вошли в подворотню.
– Михаил? Михаил... э-э.....
– Михаил Хрисанфович, разъездной агент, к вашим услугам. Вот вы меня и узнали!
Рука самовольничала, лезла за револьвером, но Миша укротил строптивицу. Рано, некуда спешить!
– Вы что, меня ждали?
– Вас, Константин Сергеевич. Исключительно вас.
– И зачем же, позвольте полюбопытствовать?
– Жизнь моя в последнее время складывается весьма оригинально. Без вас и не разгребу, знаете ли!
– Забавное совпадение, Михаил Хрисанфович! С моей жизнью творятся те же самые закавыки. Только я, скажу честно, о вас и не задумывался...
– А зря! Задумались бы, сразу и полегчало!
Оба уже скрылись под аркой. Выстрел в подворотне грянет как из пушки. Весь квартал переполошит. Нет, нельзя. Тянем время, выводим беса во двор...
– Я, признаться, консультацию у вас хотел получить...
– По какому предмету?
– По поводу шерсти.
– Я больше по канители. Про шерсть вы не хуже меня знать должны.
– Нет, тут такой вопрос, что только вы и поможете...
– Ночью?
– А что? Самое деловое время.
Назад. Назад. Раки пятятся задом. Одни ли раки?
– Что же вы от меня убегаете, Михаил Хрисанфович?! Хотели спросить – спрашивайте. Может, нам лучше в квартиру подняться? Не во дворе же, извиняюсь, о делах толковать?
– Да у меня разговора на три минуты. Двор? Сойдёт и двор, мы не гордые. У вас спичек не найдётся? Мои кончились, а лавки закрылись...
– Извольте...
Беря протянутый коробок, Клёст на миг коснулся руки беса. Его ударило электричеством, как в институте, во время физического опыта. Кажется, бес тоже что-то почувствовал, забеспокоился. Всё, подводим итоги. Вопреки этой очевидной мысли, Миша извлёк из кармана не «француза», а портсигар. Достал папиросу, чиркнул заёмной спичкой. Во рту откуда-то появился едкий привкус: фосфора, что ли?
Спичку Клёст нарочно не прикрыл от ветра, и та мигом погасла. Громко проклиная сквозняк, Миша выбрался во двор. Бес двинулся следом. Благодаря Бога за внезапный фарт, Миша встал у водосточной трубы, прикурил наконец – и, не спеша возвращать коробок, украдкой огляделся. Ни души. Дом, куда приглашал его бес, высился исполинской серой фуражкой – мокрой, с просевшей снежной блямбой на крыше. Светилась жёлтая кокарда – единственное освещённое окно на втором этаже.
– Так что же вы спросить хотели? – опомнился бес.
– А насчёт шерсти. Вот сколько нынче стоит пуд шерсти крашеной, а сколько мытой, но некрашеной, а?
Миша заговорщицки подмигнул бесу. Помнишь морок, что на меня насылал? Вот теперь сам и отвечай!
– Что за ерунда, голубчик?! Вы ведь...
– Цены меняются, Константин Сергеевич. Вам ли не знать? А ежели шерсть особенная...
– Это какая – особенная?
– С чёрта шерсть. Настричь пуд шерсти с чёрта, собачьего сына... Сколько тот пуд стоить будет? Крашеный и некрашеный?
«Француз» вжался в ладонь. Всё. Как ни хочется продлить спектакль, рождавший бурю восхитительных чувств, пора давать занавес.
Оленька заждалась.
– Голубчик, ваши шутки становятся утомительными...
– И всё-таки?
– Чтобы ответить на ваш вопрос, нам понадобится целый консилиум. Здесь коммерсантам без теологов не обойтись!
– Ну так призовите!
– Кого?!
Бес открыл рот – чёрную дыру, самим адом созданную для ствола «француза» – и Клёст выхватил револьвер:
– Меня! Я – Миша Клёст, бью...
В стёклах пенсне блеснул высверк жёлтого оконного света. Клёст моргнул, запнулся, нога поехала на скользкой бугристой наледи. Он взмахнул руками, ловя равновесие, налетел плечом на жестяную кишку водостока. Раскатисто грохнул выстрел. Пройдя впритирку к голове беса, пуля с железным звоном и визгом ударила в пожарную лестницу, рикошетом улетела прочь, во тьму.
Револьвер, дрожа от позора, вновь нашарил беса. Хотелось в рот, но и в лоб тоже сойдёт!
Вместо того, чтобы сбежать, пользуясь моментом, в подворотню, бес сорвал с себя пенсне и швырнул... Нет, не в Мишу – в тёмный угол двора, где шевельнулась мелкая тень. Похоже, бес сам опешил от того, что сделал. Глядя в его лицо, закипающее изумлением, Клёст промедлил лишнюю секунду. Палец на спуске уже выбирал слабину крючка, когда сбоку, из темного угла, на Мишу с яростным о̀ром кинулся клубок шерсти – немытой, некрашеной, чёртовой! Клубок был в изобилии снабжён когтями и зубами. Он врезался в стрелка, заставив пошатнуться. Щёку рвануло резкой болью. Палец сам собой нажал на спуск. Грянул выстрел, в ответ жалобно зазвенело разбитое стекло.
Адская бестия рвала Мишу в клочья, исходя утробным дьявольским аллилуйя. Клёст едва не выронил «француза» в попытках оторвать от себя взбесившуюся тварь. Оторвал, отшвырнул, вскинул револьвер, ловя на мушку...
Кот!
Клёст поклялся бы на Библии: тот самый кот, что ободрал его в «Астраханской».
Выстрел!
Кот метнулся вглубь двора, растворился в тенях. В подворотне дробно топотали шаги удирающего беса. Щёку и запястье терзали, дёргали мелкие черти, рывками тянули из Миши жилы. Лицо залила горячая кровь – её сладковато-солёный вкус горел на губах. И всё же Клёст шагнул вслед за бесом: в револьвере оставалось ещё три патрона.
Не уйдёшь!
Справа, слева, выше, ниже по Епархиальной и Бассейной взвились заполошные пронзительные свистки. Они быстро приближались. Дворники? Фараоны? Клёст не стал выяснять. Зажав ладонью щёку, из которой продолжала хлестать кровь, он рванул прочь, в лабиринт ночных дворов.
______________________________________________
[1] Приверженец старообрядчества.
[2] Вуаля (voi la) – «вот» (франц.).
[3] Ошибки нет. Фамилия советника Чернышев, улица же называлась Чернышовской, через «о».
[4] Другое название Первого училища лекарских помощниц и фельдшериц.
Глава двенадцатая. «ЧТО ЖЕ ВЫ ИСПУГАЛИСЬ?»
1
«Будь, Алексеев, здрав, кумир в грядущем!»
Вихрем, прыгая через ступеньку, он взлетел на четвертый этаж. Схватил дверной молоток, отпустил без удара, сунул руку в карман за ключами, брякнул ими, вытащил руку без ключей. И новым вихрем, вдвое быстрее прежнего, горным козлом перескакивая через пролёты, хватаясь за перила, каждую секунду рискуя сломать шею, ссыпался обратно на второй этаж, где размещались мастерские.
Да, правда.
Из-за этой двери он слышал голоса.
На бегу не опознал говоривших, это случилось уже выше, перед квартирой Заикиной – и бросило Алексеева из зенита в крутое пикѐ. Вот и вывеска, прибитая гвоздями к дверной филёнке: «Ремонтъ и пошивъ обуви. Мастерская Ашота Ваграмяна».
Мастерская была не заперта. Чахлая цепочка – не чета заикинской входной цепи, на той хоть котов учёных води! – оторвалась с мясом, когда Алексеев пинком распахнул дверь. В свете керосиновой лампы, стоявшей на конторке – здесь, по всей видимости, принимались заказы – он увидел верстаки, сапожные болванки, ящики с дратвой и обрезками кожи, обувь, предназначенную для ремонта, и уже чиненую, ждущую прихода хозяев.
Вся троица нюансеров пила чай.
Несмотря на позднее время, они собрались здесь. Любовь Радченко, сидя на табурете, наливала себе из закопчённого медного чайника. Привалившись боком к стене, Лейба Кантор сосал кусок колотого сахара, смоченный в кипятке. Звучало так, словно Кантор был графом Дракулой, а сахар – несчастной Мѝной Меррей, жертвой вампира. Ашот Ваграмян устроился за конторкой, вертел в пальцах граненый стакан без подстаканника.
– Когда бы вам сойтись втроём? – ядовито произнёс Алексеев. Язык превратился в королевскую кобру, отрава так и капала. – В дождь, под молнию и гром?
И сам себе ответил:
– Как только отшумит резня, тех и других угомоня.
– То будет на исходе дня, – подвела итог Радченко, не чуждая театру. – Шекспир, «Макбет». Акт первый, сцена первая. Присаживайтесь, Константин Сергеевич, вот стул. Что-то случилось?
Алексеев пододвинул стул. Сел верхом, сложил ладони на спинке:
– Ничего особенного. В меня стреляли, а так всё в порядке.
Он еще никогда не видел, чтобы люди так бледнели. Не мастерская, а салон восковых фигур мадам Тюссо. Нюансеры смотрели на него, как цензорская комиссия – на спектакль одного актера, и актёр только что серьёзно дал маху. Начал богохульствовать, например, или оскорбил царствующую особу, или снял штаны и показал комиссарам голую задницу.
– Когда? – выдохнул Ашот.
– Где? – вмешался Кантор.
– Кто?!
За Радченко сегодня оставались финалы.
– Стрелок не представился, – кобра во рту Алексеева сцедила ещё не весь яд. – Я чудом остался цел. Если бы не кот... если бы не дворник... Господи! Вы только послушайте меня! Кот, дворник... Вы полагаете, я рехнулся?
– Нет.
Кантор положил обсосанный кусок сахара на блюдце:
– А я говорил вам, Любовь Павловна! Это падение на кладбище... Оно противоречило всей комбинации! Константин Сергеевич, вы же упали? Я видел, как вы упали! Вы чуть не напоролись на острия ограды...
– Упал, – подтвердил Алексеев. – Чуть не напоролся.
Растянутые связки в паху болели до сих пор. Не надо было столько ходить пешком...
– Вот! – торжествуя, воскликнул Кантор. Пальцы его вцепились в бороду, дёрнули раз, другой. – Я же говорил! А вы со мной спорили... Упал, пострадал, прикоснулся к фамилии Заикиной на плите! Этого не должно было произойти! Он в тёплом мире, откуда все эти неудачи?!
– Перчатку испачкал, – брюзгливо добавил Алексеев. Он сам себе напомнил ябеду, жалующегося директору гимназии на обидчиков. – Снег ещё этот... В рот залетел.
Алексеева трясло от возбуждения. Он прислушался к себе – по старой привычке, анализируя ощущения, выстраивая их в систему. Возбуждение было знакомым. Так его трясло после «Отелло» и «Уриеля Акосты»; так его трясло после Лиона, когда он, рискуя разоблачением и судебным процессом, умыкнул секреты скрытных лионских канительщиков. Он не знал, как человека должно трясти после покушения на его жизнь, но полагал, что это происходит как-то иначе. Оказалось – чепуха, трясёт самым обычным образом.
– Какой снег?
– С памятника Кадминой. В рот, говорю, залетел. Ветром надуло.
– И что?
– Ничего. Вкус у него... Фосфорный, как спичку жевал.
В мастерской повисла пауза.
Это была королева пауз. Такие умел брать Мамонт Дальский, грандиозный драматический любовник, Гамлет, Чацкий и Карл Моор[1] в одном лице – он вешал их над сценой, словно дамоклов меч, и зал боялся дышать, пока не прозвучит следующее слово.
– Вот! – Кантор очнулся первым. – А вы мне не верили! Он должен был прийти на кладбище, явиться с утра! Это вписывалось в комбинацию, и он почуял, понял без напоминаний, сделал ход... А падать он не должен был! Если он в тёплом мире, почему он упал?! Если он мебель, как он почуял?
Ашот отпил чаю.
– Щётка, – задумчиво пробормотал сапожник. – Зубная щётка.
– Щётка? – заинтересовалась Радченко.
– У него пропала зубная щётка, – Ашот говорил об Алексееве в третьем лице, как о постороннем человеке. – Я нашёл. Щётка не пропала, её переставили. Я уравновесил щётку саквояжем.
– Он не мебель, – добавила Радченко, кивком указав на Алексеева. – Не просто мебель. Он нюансер, у него открылись дверцы.
Мужчины уставились на Алексеева. Он машинально проверил ширинку: застегнута ли? Актёрская привычка: перед выходом на сцену подтяни брюки и проверь ширинку... Перед входом на совет директоров сделай то же самое.
– Это меняет дело, – Ашот кусал губы. Как у него при этом получалось говорить, и говорить внятно, оставалось загадкой. – Это усиливает все воздействия. Но если в него действительно стреляли...
– В меня! – взорвался Алексеев. – Даже если я мебель, извольте говорить обо мне, как о человеке! О присутствующем здесь человеке!
– Извините, ради бога, – Ашот опустил стакан на конторку. – Это из-за потрясения. Вы даже не представляете, насколько я потрясён...
– Вы? Насколько же тогда потрясён я?!
– Да, да, конечно. Понимаете, если убийца заикинского правнука погружается в холодный мир, у него падает удача. На данном этапе он, скорее всего, сходит с ума. Но вы! Останься вы простой мебелью, вы всё равно находитесь в тёплом мире, по контрасту с убийцей. Вы не должны падать, в вас не должны стрелять...
– Если два нюансера тянут кого-то в разные стороны, – Алексеев повернул голову к Радченко, – это не заканчивается добром. Лошади разрывают жертву. Любовь Павловна, это же ваши слова, помните? Двум режиссёрам нельзя работать над одним спектаклем. Иначе ни тот, ни другой не захочет поставить своё имя на афишу! Это уже мои слова. Вы все работаете над одним клиентом, ставите один спектакль. Вам не кажется, что с клиентом работает кто-то ещё?
– Не с клиентом, – вздохнул Кантор. – С клиентом – это полбеды.
– С вами, – уточнил Ашот. – С вами, Константин Сергеевич.
– Со мной?!
– Зубная щётка. Раньше я сомневался, спорил с Лёвой... Извини, Лёва, ты был прав. Прав целиком и полностью. Даже если вы нюансер, Константин Сергеевич...
– Даже если так, – перебил его Кантор, бесцеремонно тыча в Алексеева сахаром, – для сложившейся ситуации вы мебель. Ваше нюансерство просто усиливает процесс, ускоряет. В остальном, по воздействию – мебель и мебель, один нюанс из ряда. Важный, не скрою, архиважный, и тем не менее. Поэтому вы смещаетесь в тёплый мир. Как нюансер, вы начинающий, вы пока что не понимаете, как важна любая мелочь, любая часть комбинации...
Алексеев сжал кулаки:
– Начинающий? Не понимаю, да? В режиссёрском экземпляре пьесы я пишу всё: что, где, когда, как именно следует понимать роль и указания! Каким голосом говорить, как двигаться и действовать, куда и как переходить! Прилагаю особенные чертежи ко всем мизансценам: выходы, входы, переходы... Описываю декорации, костюмы, грим, манеры, походку, привычки! Это я не понимаю?! Тёплый мир, холодный – я топлю в нём публику, как котят!
– Если так, вы легко оцените ваше нынешнее положение. Warme Welt?Du solltest nicht fallen[2]...
– Лёва! – напомнил Ашот. – Voch bolory giten germaneren[3]!
– Вы не должны падать, – продолжил Кантор на русском, – ударяться, рисковать собой, получать увечия, становиться жертвой нападения. Это исключено. Раз это происходит, это говорит о том, что с вами работают, погружают в холодный мир. Два взаимоисключающих процесса, понимаете? Это нарушает погружение убийцы, делает его скачкообразным...
– Кого? – хмыкнул Алексеев. – Убийцу?
– Процесс. Не придирайтесь к словам, мы не в театре. Скажите лучше, вам хорошо в квартире Заикиной?
Алексеев покачался на стуле. Увеличил амплитуду, рискуя грохнуться назад, разбить голову о верстак.
– Скачкообразно, – ответил он.
– В смысле?
– Большей частью хорошо. Но временами хочется бежать, куда глаза глядят. Когда я в городе, меня тянет то вернуться, то удрать подальше. Переехать в гостиницу, взять билет на поезд...
– Это они, – тоном прокурора, вынесшего смертный приговор боевой ячейке бомбистов, заявила Радченко. – Приживалки заикинские. Эта дурища Нила...
– Зачем ей? – усомнился Ашот. – Чтобы Нила пошла против воли Заикиной...
– Против воли живой не пошла бы, – объяснила Радченко. – Побоялась бы. А против воли посмертной... За квартиру переживает. Думает, выкинут их с дочкой на улицу. Заикина обещала, что обойдётся, а Нила не поверила. Отваживает Константина Сергеевича, вон гонит...
Дочку подсылала, чуть не брякнул Алексеев. Соблазняла. Его бросило в краску. Сказал бы, обвинил, а потом терзался, ел себя поедом. Недостойно мужчины заводить такие беседы при чужих людях.
Ашот забарабанил пальцами по конторке:
– То приваживает, как велела хозяйка, – ритм ускорялся, делался сложным, замысловатым. – То отваживает, чтобы забыл про квартиру, оставил ей с дочкой. А что, похоже! Нюансы путаются, наслаиваются... Константин Сергеевич, вам лучше уехать из города. С убийцей мы покончим без вас, а вам тут становится опасно. Сегодня в вас стреляли... Кто знает, что случится завтра? Мы, конечно, извиняемся...
– Душевно извиняемся, – подсказал Алексеев. – Нет уж, дудки! Никуда я не поеду.
– Но почему?
– Сыграть спектакль до последнего акта – и сбежать? Мебель я или нет, вы предлагаете мне бросить труппу перед финалом? Лаэрт выходит со шпагой, вино отравлено, а Гамлета и след простыл?! За кого вы меня принимаете, любезные?!
Он встал:
– Кто эти?
Они так чахлы, так чудно̀ одеты,
Что непохожи на жильцов земли,
Хоть и стоят на ней. Вы люди? Можно
Вас вопрошать? Вам речь моя понятна?
Ответьте, если вы способны: кто вы?
Встала и Радченко:
– Будь, Алексеев, здрав, как фабрикант!
Встал Кантор. Оказывается, он тоже помнил «Макбета»:
– Будь, Алексеев, здрав, как режиссёр!
Ашот, третья ведьма, стоял и так. «Макбета» он не читал, оглянулся на Радченко. Та шевельнула губами, и сапожник произнёс по подсказке суфлёрши:
– Будь, Алексеев, здрав, кумир в грядущем!
– Король, – поправил Алексеев. – Король в грядущем. Вы неверно расслышали, Ашот Каренович. А две первые реплики, дамы и господа, я и вовсе осуждаю. Хоть с точки зрения красоты слога, хоть с позиций актерского мастерства – потрясающе отвратительное впечатление. Нету среди вас Шекспиров, и мамонтов тоже нет. Я имею в виду Мамонтов Дальских...
Радченко налила себе ещё чаю:
– Верно Ашот расслышал. Как надо, так и расслышал.
– Если будут вопросы, – перебил её Кантор, сбивая картуз на затылок, – вы, Константин Сереевич, обращайтесь ко мне. Любовь Павловна и Ашот Каренович – люди занятые, им работать надо. Пролетариат, как сказал Herr Engels в «Grundsätze des Kommunismus[4]», добывает средства к жизни исключительно путём продажи своего труда. А я человек свободный, я не добываю. Бедный, но свободный.
– Бедный? – взорвался Алексеев. – Что вы мне голову морочите?!
– Духовно бедный, – объяснил Лёва. – Очень.
2
«Не губите, Константин Сергеевич!»
– Не верю!
– Я извиняюсь...
– Душевно!
– Я душевно извиняюсь! Чему же вы не верите, батюшка мой?
– И вы ещё спрашиваете?!
– Ой, я вся в недоумении! Вы прямо Фома Неверный...
– А вы – воскресший Иисус? Так я вам вложу персты в раны!
– Нельзя так, батюшка! Церковь осуждает...
– Ах, осуждает? Хорошо же, я вам на деле покажу...
Он ринулся по квартире. Приживалки следовали за ним, как собаки на сворке. В глазах Неонилы Прокофьевны плескался ужас, чистый как медицинский спирт. Взгляд Анны Ивановны сиял радостью. Так радуется приговорённый к смертной казни, когда ему велят идти на эшафот, и не надо больше ждать, мучиться, переживать одно повешенье за другим в воображении своём.
Их присутствие стимулировало Алексеева. Он чуял, что это необходимо – две женщины за спиной. Фобос и Деймос, страх и ужас, спутники воинственного Марса.
Кухня. Грязная посуда в мойке.
Пустить воду, вымыть тарелку – третью в стопке, с весёлыми сосновыми шишечками по краю. Не вытирать, ребром поставить в сушилку. Пускай течёт. Больше не мыть ничего, а чашку с остатками спито̀го чая отнести на подоконник. Раздвинуть шторки, задвинуть, оставить щель. Взять солонку, просы̀пать щепотку соли на пол, у порога.
С кухней всё.
В прихожей подвинуть вешалку ближе к двери. Тяжёлая, зар-раза! Только теперь, ни минутой ранее, снять верхнюю одежду. Нет, со шляпой так нельзя. Надо иначе: швырнуть на самый верх вешалки, сразу же передумать, взять, повесить на крючок. Через один крючок от пальто.
Хватит.
Комната приживалок. Ворваться без спросу, достать портсигар. Забросить папиросу под кровать. Ногтем провести по дверце платяного шкафа: крепко, с нажимом. Обозначить слабо заметную царапину.
Теперь в кабинет.
Саквояж на стул. Портрет – набекрень, заикинской головой к окну. Как хочется курить! Нет, курить недопустимо. Позже, на балконе. Фарфоровых слоников, всех без исключения – выставить кольцом, головами к центру. Всё время, пока он безумствовал, горстями разбрасывая нюансы, Алексеев чувствовал, как меняется освещение квартиры, хотя света в реальности не убавлялось и не прибавлялось. Включались невидимые софиты, рампы и бережки; лучи бегали из угла в угол, сходились в точку, высвечивали одинокую алексеевскую фигуру, чем-то похожую на Дон Кихота в окружении призраков, убирали в тень контуры двух женских тел, оставляли от приживалок смутные тени.
Когда освещение удовлетворило Алексеева, он перестал метаться. Повернулся к женщинам, развёл руками: нравится? Лично ему квартира Заикиной нравилась всё больше. Хотелось здесь жить, переехать сюда на веки вечные, изгнать посторонних, как грешников из рая. Алексеев отлично понимал, что это результат сложившейся мизансцены, погружение в тёплый мир, царство плюсов и удачи, что к реальным впечатлениям это чувство влюбленности в жильё имеет лишь косвенное, искусственно созданное отношение – понимал, знал и гордился этим, как овациями после спектакля или трёхкратным ростом прибыли товарищества.
– Батюшка, – бормотала Неонила Прокофьевна, вздрагивая всем телом, словно побитая дворняга. Чувствовалось, что мамаша боится Алексеева как огня. Страх перерождался в благоговение. – Отец родной! Да я же... да откуда мне...
Она готова была лизать Алексееву руки. Она видела в нём Заикину: царицу, богиню, владычицу морскую.
– Знать бы заранее, я бы ни за что... Христом-богом клянусь!..
– А я вам говорила, маменька! – высоким и чистым, как звук флейты, голосом произнесла Анна Ивановна. Кажется, это был первый случай, когда дочь перебила мать, да ещё и торжествуя. – Говорила, что он нюансер. А вы не верили, дурындой меня звали...
– ...не осмелилась бы!..
– А я вам говорила...
– Хватит! – оборвал их Алексеев. – Не старайтесь мне угодить! У вас кишки вылезают от старания...
– Угодим, батюшка!
– Молчите! Вы настолько безнадежны в этой роли, что я даже не пробую делать вам замечаний. Чтобы добиться от вас чего-нибудь, надо вам отрезать руки, ноги, язык, запретить произносить слова с вашим ужасным выговором... Я требую одного! Больше никаких воздействий на меня в смысле квартиры! Никаких вообще, ясно? В противном случае я выставлю вас обеих на улицу и глазом не моргну. Вы поняли меня?
– Да как здесь не понять...
– Здесь или там – вы поняли? Учтите, внизу, в мастерской, сидят все заикинские свидетели. Если что, я призову их сюда!
– Не казни, благодетель! Замолю вину, отработаю...
– Не губите, Константин Сергеевич!
– Молчите и вы, Анна Ивановна! Нюансерша? Всё у вас бледно, неумело! Вам даже какой-нибудь водевиль или комедийку, где от вас потребуется щебетать и топать ножкой, доверить нельзя! Не сметь реветь! О, эти женские слёзы!
Он пнул ногой вешалку – оказывается, скандал переместился в прихожую! – вешалка сдвинулась на прежнее место, на вершок от двери к коридору, ведущему на кухню, и морок рассеялся. Исчез театральный свет, квартира утратила очарование, сделавшись просто частью доходного дома, и приживалки вынырнули из теней, стали отчётливо видны – несчастные испуганные женщины, жмущиеся друг к другу.
Алексееву стало стыдно. Что же это я, подумал он. С какой стати я ору на них? Сатрап и деспот! Дарий Гистаспович, права была жена. Представил себя на сцене, раскомандовался, распустил нервы...
– Извините, виноват. Больше не повторится.
– Батюшка...
– Это вы нас... вы нас простите...
– Благодетель!..
– Всё, хватит. Мы объяснились, этого достаточно.
– Ужинать будете, Константин Сергеевич?
– Чаю выпью. Ночь на дворе, какой там ужин? Заварѝте свежего чайку̀, а я на балкон. Курить хочется, спасу нет... Вы позволите?
– Курите здесь!
– В столовой!
– Где угодно, спаси вас Господь!
– На балкон пойду. Кипятите воду...
Алексеев набросил пальто, надел шляпу. Что-то подсказывало, что курить следует на балконе, стряхивая пепел за перила, вниз, во двор, где его чуть не застрелили. Что-то подсказывало, а Алексеев с недавних пор стал чрезвычайно чуток к подсказкам такого рода.
3
«Но где учиться искусству?»
Нет, бес, шалишь! Не уйдёшь, адово семя!
Пока что уходить доводилось Мише. Мелькала чёрно-белая круговерть дворов и подворотен. Освещённые окна и фонари провожали беглеца редкими жёлтыми глазами. Гончие трели свистков шли за ним по пятам. Отстали, сгинули, стихли в отдалении.
Клёст остановился, перевел дух. Прислушался. Погоня угомонилась, свернулась в клубок. Ушёл? Шёл-ушёл-вышел, шелестел ветер в голых ветвях деревьев. Куда вышел? Шишел-Мышел сел на крышу...
Впереди виднелся узкий проулок. Выход из лабиринта? Миша побрёл в ту сторону, оскальзываясь, громко хрустя ледяной коркой, окончательно заковавшей в каторжные кандалы месиво снега и грязи. Под ноги лезли какие-то бугры и ухабы, встречавшиеся тут на каждом шагу. Проулок вывел на разбитую, выстланную дощатыми мостками улицу. Газовый фонарь на углу высвечивал эмалированную табличку: «Ул. Бассейная». Вот же чёрт! Тут думаешь, что полгорода отмахал, до Епархиальной верста, не меньше, а оказывается, кругами бегал.
Не иначе, бес водит!
Клёст погрозил фонарю пальцем, хрипло рассмеялся. Смех просы̀пался на тротуар кусками колотого сахара. Сам ты себя перехитрил, бесовская морда! Назад к своему логову вывел.
Криво ухмыляясь и не замечая этого, Миша сунул руку за пазуху. Нашарил запасные патроны, отщёлкнув барабан вправо, вытряхнул стреляные гильзы, дозарядил револьвер. Крутнул барабан для проверки. Пальцы ласкали вырезы: гладкие, глубокие.
С богом!
Утонул в грязи. Спрятался за выступами стен. Перебежал из тени в тень. Добрался до угла с Епархиальной. Выглянул: никого. Всё так же горел фонарь над парадным, выхватывал из мрака желтый свинский пятачок, две щербатые ступени, обшарпанную дверь. Минута, другая: тихо. Бегом к парадному! Живо! Пересёк улицу, открыл дверь, нырнул внутрь. Привалился к стене, сжал в руке «француза». Минута, другая. Засада? Нет засады.
Беспечен ты, бес! Ну и поделом тебе.
Ступеньки лестницы. Целая вечность подъёма. Не только потому, что нужно было ступать тихо. Казалось, этой лестнице не будет конца. Она вела не вверх, а вниз, в адские бездны. Морочила, лгала: вместо пекельного жара тянуло мерзким сквозняком. От него противно ныли зубы. Площадка четвёртого этажа. Шаг к знакомой двери, ухо – к филёнке. В квартире разговаривали, приглушённо бубнили, ссорились. Голос беса? Нет, не разобрать.
Там он! В геенне огненной. Больше негде.
Вломиться? Дверь крепкая, не очень-то и вломишься. Постучать? Сказаться, к примеру, дворником? Не откроют. Бес хоть и беспечен, а не дурак. Клёст точно не открыл бы. Значит, крыша. Четвёртый этаж – последний. Куда выходит балкон геенны? Ага, значит, так.
Ледяные перила обожгли пальцы. Лестница здесь раздваивалась, как змеиный язык. Каменная уводила направо, в жилую мансарду; железная – налево, в заброшенную, пустующую часть чердака.
Шишел-Мышел сел на крышу...
* * *
В ночь перед отъездом в губернский город Х Алексееву приснился странный сон. Сказать по правде, Алексеев редко видел сны, а кошмары и вовсе никогда. Очнувшись, он долго сидел на кровати, размышляя, можно ли назвать сон кошмаром. С одной стороны, все признаки кошмара были налицо. Со стороны же другой, финал сновидения удался счастливый, а значит...
Что это значит, он не придумал, так как пошел умываться.
Снилось ему, будто стоит он в коридоре перед застеклённой дверью – и через рубчатое стекло видит столовую комнату, родных, собравшихся за большим обеденным столом. Сидели там живые, сидели и мёртвые – отец, дед, две престарелые тётушки, скончавшиеся мирно, в своей постели, и едва ли не в один день... Обед шёл бурно, весело, смерть не сказалась на аппетите мертвецов, а живые уплетали поданные яства за обе щеки.
Пили и водочку, как же без неё?
Во главе стола сидела маманя – Елизавета Васильевна. Алексеев уж было собрался войти в столовую и присоединиться к пирующей семье, как увидел страшное. С потолка на мамину голову начал спускаться огромный паучище, качаясь на блестящей нити и шевеля суставчатыми лапами. Алексеев знал, что мать страдает арахнофобией – пауков Елизавета Васильевна терпеть не могла и ужасно боялась. Он взялся за ручку двери, стремясь кинуться к матери, убрать паука, бросить на пол, раздавить подошвой, но ручка не поддалась, да и пошевелиться Алексеев смог, лишь приложив к тому титанические усилия. Всё тело налилось свинцом, отказывая хозяину в подчинении.
– Мама!
Язык закостенел, крик застрял в горле.
Паук уже хотел вцепиться Елизавете Васильевне в голову. Семья ахнула дружным хором, тётушки как по команде упали в обморок. Не растерялась одна маманя. Как будто не она боялась пауков, а кто-то другой, Елизавета Васильевна быстро схватила со стола пустую суповую тарелку и швырнула её изо всех сил...
Нет, не в паука, а в стекло входной двери.
Алексеев отшатнулся, ожидая, что осколки изрежут ему всё лицо. Стекло действительно разлетелось вдребезги, но ни один, даже самый мелкий осколочек не зацепил Алексеева. Все они собрались в хищную клювастую стаю и ринулись на злокозненного паука. Рассечен на куски, паук свалился на пол, не зацепив маманю, а Елизавета Васильевна как ни в чём не бывало обратилась к собравшимся:
– Что же вы испугались? – спросила она спокойным тоном. – Я же сказала, что всё будет хорошо!
Сейчас, стоя на ветру, на холодном балконе, с папиросой во рту, Алексеев вспоминал этот сон – и слышал добрый голос матери: «Что же вы испугались? Я же сказала, что всё будет хорошо!» Тарелка, думал он. Тарелка, брошенная не в паука – в дверь. Пенсне, брошенное мной в тёмный угол двора. Осколки рвут паука. Кот рвёт убийцу с револьвером. Могу ли я сказать, что сон в руку? А главное... «Что же вы испугались? Я же сказала, что всё будет хорошо!» Могу ли я повторить это вслед за матерью?!
Папироса погасла. Он прикурил снова.
* * *
Крышка люка открывалась с натугой, с противным ржавым скрипом. Казалось, он вот-вот поднимет на ноги весь дом. Клёст упёрся в крышку загривком, ладонями, нажал сильнее. За шиворот посыпался мелкий сор, и крышка поддалась, распахнулась.
На чердаке царил мрак: плотный, осязаемый, липкий. Нет, это не мрак, это паутина на лицо налипла. Глаза начали привыкать к темноте и выяснилось, что мрак не столь уж беспросветен. Охристые отсветы из люка. Блёклое свечение слуховых окон. Куда выходит балкон геенны?
Ага, значит, сюда.
На каждом шагу перед незваным гостем возникали, словно проявляющиеся фотокарточки, пыльные балки, подпорки и распорки. Верёвки с заскорузлым тряпьём. Ржавый крюк, торчавший из потолка, едва не выколол глаз, сорвал шапку с головы. Клёст долго шарил под ногами, пока нашёл пропажу. С полом дело обстояло ничуть не лучше. Доски стонали блудницами, прогибались под ногами. Если на первых шагах пол хотя бы притворялся полом, то дальше началось форменное безобразие. Удивительные конструкции – пародии на строительные леса – шершавые кубы из дерева, наклонные пандусы... В итоге Клёст не столько двигался вперёд, к мутному свету слухового окна, сколько карабкался, лавировал, пригибался, протискивался, перебирался через препятствия, пытался обогнуть их, с трудом удерживая равновесие и всякий раз выбирая место, куда поставить ногу без вреда для себя.
И холодно, холодно, холодно!
Пространство чердака оказалось гораздо обширнее, чем представлялось поначалу. Не чердак – театральная сцена, сплошь загромождённая угловатыми декорациями. За Мишиными неуклюжими передвижениями следили зрители – полный зал публики, натуральный аншлаг. Бледные лица в тёмных рядах партера сливались в единую колышущуюся массу без имён, фамилий и особых примет.
Как же холодно!
На сцене Миша тоже был не один. Кругом роились призрачные тени. Меж кубами и балками с неприятным шорохом шастали тёмные во всех смыслах личности. Более всего они походили на злобных карлов из сказок. К Мише карлы не приближались, призраки – тоже. Зрители в зале сидели тише мыши, ни жестом, ни словом не вмешиваясь в происходящее. Очень скоро Клёст перестал обращать на них внимание. Шастают? смотрят? ему-то какое дело?! Такие, выходит, чердаки в губернском городе Х. На каждом своё представление. Забрался? Будь добр, участвуй. Главное – благополучно добраться до финала пьесы. Поставить в ней жирную свинцовую точку из «француза».
Путь до слухового окна занял целую вечность.
Не окно – люк. Почему-то мутно-прозрачный. Засов приржавел, заел, но Миша с ним справился. Не с такими запорами справлялся Миша Клёст! В лицо ударил порыв морозного ветра. Улыбнувшись ему, как старому знакомому, Клёст полез на крышу.
Шишел-Мышел...
* * *
Паук, размышлял Алексеев. Кот.
Стеклянная дверь.
Эрнесто Росси.
Росси, если судить строгими законами логики, был здесь вообще ни при чём. И всё же... Мал ростом, вспоминал Алексеев. С отвислым брюшком. Крашеные усы, широкие крестьянские ладони. Лицо в морщинах. С этими данными, уже старик, Росси играл Ромео. Он и не пытался изображать юношу, но как он рисовал внутренний образ! Нюанс за нюансом, подробность за подробностью... Это была не игра, это была откровенная дерзость. В сцене у монаха Ромео катался по полу от боли и отчаяния. Ромео? Юный Монтекки?! Катался старик с круглым брюхом, и ни одна сволочь в зале не рискнула засмеяться!
Мы молчали, любовались и утирали слёзы.
Если нюансы казались Росси незначительными, он ими пренебрегал. Банальный оперный костюм. Плохо наклеенная борода. Мало интересный грим. Но всё, что Росси видел значащим, необходимым... Владение голосом. Необыкновенная четкость дикции. Правильность интонаций. Пластика, доведенная до такого совершенства, что она стала второй природой. Незаметно, спокойно, последовательно, шаг за шагом, точно по ступеням душевной лестницы, Росси подводил зал к кульминации. Но там он не давал публике последнего стихийного удара могучего темперамента, который творит чудо в умах и душах зрителей. Точно щадя себя как актера, он уходил на простой пафос или на гастрольный трюк, зная, что мы этого даже не заметим, так как сами докончим начатое им и пойдем ввысь от данного толчка по инерции, одни, без него.
Я играл Отелло, думал Алексеев, и Росси пришёл на спектакль. Аплодировал, но за кулисы не явился. Передал, что зовёт меня в гости. Я приехал и услышал вместо вожделенных комплиментов:
«Все эти побрякушки нужны там, где нет актера. Красивый широкий костюм хорошо прикрывает убогое тело, внутри которого не бьется артистическое сердце. Он нужен для бездарностей, но вы в этом не нуждаетесь. Бог дал вам всё для сцены, для шекспировского репертуара. Теперь дело за вами. Нужно искусство...»
Я заледенел, вспомнил Алексеев. Лучше бы он меня ударил.
«Оно придет, конечно, – подсластил пилюлю Росси. – Да, я полагаю, что оно придёт, рано или поздно...»
«Но где учиться искусству? Как, у кого?»
«Если рядом с вами нет великого мастера, которому можно довериться, я могу рекомендовать только одного учителя.»
«Кого же? Кто это?!»
«Вы сами.»
И Росси сделал знакомый жест из роли Кина.
Сейчас, стоя на ветру, на холодном балконе, с папиросой во рту, Алексеев вспоминал этот разговор, видел этот жест, отточенный годами игры на сцене до бритвенной остроты – и слышал тихий, чуть глуховатый голос Эрнесто Росси: «Если рядом с вами нет великого мастера, которому можно довериться, я могу рекомендовать только одного учителя. Это вы сами.» Нюансы, думал Алексеев. Холодный мир, тёплый мир. Нюансы; нюансеры. Они не станут меня учить своему искусству. Ваграмян, Кантор, Радченко – нет, не станут. «Сами, – скажут они, – вы сами. Бог дал вам всё, теперь дело за вами. Нужно искусство. Оно придёт, конечно, рано или поздно оно придёт...»
Кое о чём они, впрочем, промолчат, как промолчал об этом и Росси. Может случиться так, что искусство не придёт. Не придёт рано, не придёт поздно; не придёт вообще. Но, как говорил Гамлет, дальше – молчание. Нет, Гамлет – неудачный пример. Гамлет умер молодым. Нам бы что-нибудь из более оптимистического репертуара.
Папироса кончилась. Он прикурил новую.
* * *
Эта плоскость была длинная, скользкая. Она уходила вниз, вниз, где и обрывалась в тёмную безвидную бездну. Стоило больших усилий не соскользнуть в эту бездну. Миша распластался на плоскости (на крыше? на доске?!) и с осторожным усердием насекомого пополз к краю, старательно влепляя озябшие ладони в стылую жесть. Его одолевало гибельное желание отдаться земному тяготению, скольжению, падению, съехать как на салазках и, крича от радости, ухнуть вниз головой в темноту блаженного небытия.
Так было бы правильно. Так раздались бы аплодисменты
Нет, кричал Клёст, споря сам с собой. Это всё ты, бес! Искушаешь, погубить хочешь? Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, да бежат от лица Его ненавидящие Его...
За аршин до края ноздри уловили запах табачного дыма. Сердце в груди забилось пойманным воробышком. Что, нечистый? Вышел на балкон покурить? А вот тебе и пулька из «французика»! Войдёт точнёхонько в темечко, выйдет из подбородка, вырвет челюсть, расплещет мозги по балконным перилам.
Знатное будет зрелище!
Он скользнул к краю – и понял, что падает. Успел мельком увидеть беса, курящего на балконе: тот опёрся о перила, вглядываясь в бездну – ту, что исторгла его из себя. Увидел и огромную подтаявшую сосульку, нависшую над макушкой беса – с крыши свешивался громадный наконечник рыцарского копья.
Холодно, холодно...
«Вот бы! – загадал Миша. – И стрелять бы не пришлось...»
В последний миг, не глядя, он каким-то чудом ухватился за торчавшую из крыши железную трубу. Труба содрогнулась, жесть опасно завибрировала, острый треск прозвучал литаврами похоронного оркестра. Сосулька отломилась и, к восторгу Миши, рухнула на балкон, прямо на голову проклятому бесу!
– Умри, гад! Я Миша Клёст, бью...
И пальцы, намертво вцепившиеся в трубу, едва не разжались, когда бес ответил.
* * *
– Не верю!
За миг до падения сосульки Алексеева бросило в жар, да так, что взгляд утратил резкость. Жар быстро схлынул, но туман в глазах остался. Утомление? Да, пожалуй. Алексеев вспомнил про утраченное пенсне, с огорчением развёл руками, выбрасывая окурок, отступил к балконному порожку, сделал в уме зарубку на память, что завтра хорошо бы зайти в оптический магазин – и острая глыба льда ударилась о перила, разлетелась вдрызг, ухнула во двор дождём убийственных осколков.
Ему показалось, что осколки упали не просто так, что они разорвали в клочья гигантского паука, но это, вне сомнений, были последствия шока. Пауки? В марте? В губернском городе Х?!
Чепуха.
«Что же вы испугались? – услышал он спокойный голос матери. – Я же сказала, что всё будет хорошо!»
Алексеев поднял лицо к небу:
– Не верю!
Он лгал. Он верил.
________________________________________________________
[1] Главный герои пьес «Гамлет», «Горе от ума» и «Разбойники».
[2]Тёплый мир? Вы не должны падать... (нем.).
[3]Не все знают немецкий! (армян.).
[4] «Принципы коммунизма» (нем).
Глава тринадцатая. «ДО СТА ДВАДЦАТИ?»
1
«Холодно-горячо»
– Доброе утро, Ашот Каренович!
– Утро? Добрый день, Константин Сергеевич! Ну вы и горазды спать... Полдень на дворе!
– Полдень? А я и на часы не посмотрел. Извините, не хотел отрывать вас от работы. Лев Борисович сказал... в смысле, Лейба Берлович... Слушайте, как мне к нему обращаться? Так, чтобы он не обиделся?
– Лёва? Он не обидчивый. Как хотите, так и обращайтесь, хоть Левон Бедросович.
В мастерской было прибрано. В мастерской было светло. Незапертая с вечера дверь такой и осталась. Сапожник Ваграмян сидел за железным верстаком, прихлебывая из оловянной кружки, и играл сам с собой в шахматы. Был сапожник свеж, бодр, хотя и чувствовалась в его осанке некая усталость – единственное, что напоминало о безумной ночи, канувшей в небытие. Сказать по правде, Алексеев уже и сам не верил – «Не верю!» – что весь вчерашний кавардак случился с ним, а не с каким-нибудь героем пьесы Гауптмана или Метерлинка.
А ещё он не верил, что заглянул в мастерскую. Проснувшись, дал себе зарок не лезть к нюансерам с со своей настырностью, хранить, что называется, лицо, и вот на тебе! – сохранил аж до второго этажа.
– Спасибо, понял. Ну, я пойду?
– Куда же вы пойдёте, раз пришли? Гость – роза для хозяина! Заходите, я вас чаем напою.
– Лев Борисович просил...
– Пролетариат добывает средства к жизни путём продажи своего труда? – смех Ваграмяна был на редкость заразителен. Рассмеётся в толпе, бац, в городе эпидемия. – Так ведь сегодня воскресенье, Константин Сергеевич! Сегодня пролетариат не добывает. Сегодня пролетариат радуется жизни.
– Господи боже ты мой! Совсем из головы вылетело...
– Я уже и на утреннюю службу сбегал. Тут недалеко, в Инструментальном, в момент обернулся. Садитесь, не стесняйтесь. Самовара не обещаю, а чайник поставим. Может, коньячку?
– С утра? В смысле, с полудня?
– Воскресенье, почему нет? Отличный коньяк, мне родственник прислал, из Далмы.
– Спасибо, лучше чай.
– Чай так чай...
Сапожник занялся примусом. Зажёг, наполнил медный чайник водой из пятилитровой баклаги, поставил на огонь. Выплеснул спитую заварку из другого чайничка – пузатого гнома, рождённого из тёмной глины. Насыпал свежего чаю, открыв для дорогого гостя непочатую жестяную банку «Высоцкого», как называли товар знаменитого чайного короля.
Дожидаясь, пока вода закипит, Алексеев прошёл в мастерскую, встал у верстака. Игра, которую он вначале, со слабым своим зрением, принял за шахматы, оказалась незнакомой, хотя и похожей с виду. На деревянной основе, раскладной, как игральная доска, крепилась непростая конструкция – медная, как и чайник – с массой мелких отверстий, вроде дорожных шахмат, а также лесом штырьков разной высоты и «виселиц» с креплениями на перекладинках. У части штырьков имелись подвижные сочленения, как у лапок насекомого. Всё это предназначалось для крошечной мебели, предметов домашнего обихода, посуды, одежды и ещё чёрт знает чего, вставленного в дырочки, насаженного на штырьки, развешанного на крючках. Вместе этот бедлам, при виде которого девочка лет пяти пришла бы в восторг, складывался в обстановку жилой комнаты.
Посреди комнаты на махоньком диванчике и сидела она, девочка лет пяти – куколка в платьице.
– Что это? – спросил Алексеев.
– «Холодно-горячо». Игра такая.
– А как в неё играют?
– Вот сейчас и сыграем с вами партию.
– Я не умею.
– Умеете, должны уметь. Смотрите...
Сапожник взял руку Алексеева, заставил тронуть пальцами фигурку девочки:
– Как? Если на ощупь?
– Никак.
– Холодно? Горячо?
– Комнатной температуры.
– Ваш ход. Вы играете за холод. Не против?
– Не против. Но я не знаю, что делать!
– Передвиньте любой предмет. Но так, чтобы девочке стало холодно!
Понимая, что любые вопросы только усугубят атмосферу неловкости, Алексеев пригляделся к доске. Девочке, значит, должно стать холодно? Он не понимал, как можно изменить температуру фигурки, и стал представлять, что бы он сделал, если бы доска была сценой, а девочку следовало вывести из круга внимания зрителей. Диванчик, похоже, трогать нельзя. Это было бы проще всего – вынести диванчик к левому борту... Нет, нельзя. Платяной шкаф? Если открыть дверцы, центр мизансцены сместится вот сюда, к зеркальному трельяжику.
Стараясь ничего не поломать, Алексеев открыл дверцы шкафчика.
– Браво, Константин Сергеевич! – Ашот захлопал в ладоши.
Потянулся, тронул куколку:
– Редкий случай. Вот так, с первого раза, то есть с первого хода... А мы так!
Он взял собачку – крошечного шпица – и опустил на диван, рядом с девочкой. Алексеев ахнул: будь он зрителем, собака собрала бы всё его внимание в фокус, а значит, немалая толика этого внимания досталась бы девочке.
– Вы потрогайте! – предложил Ашот.
Куколка потеплела. Алексеев убрал пальцы, прикоснулся вновь: да, потеплела, можно не сомневаться.
– Ваш ход!
Алексеева разобрал азарт. Он присмотрелся повнимательнее: есть! Вот оно, решение! Уцепив ногтями створку окна, закрепленного на краю доски, он потянул створку на себя, но открыл окно не полностью, чуть-чуть, буквально на волосок. Оконные петли были смазаны вполне достаточно, чтобы створка двигалась без проблем, а в мастерской царил сквозняк – его Алексеев почувствовал сразу, едва переступив порог. Сквозняк вцепился в оконную раму, начал дергать створку туда-сюда. Скрип, стук, беспрестанная колготня – это вызвало бы раздражение у кого угодно. Самый стойкий зритель начисто забыл бы про девочку, будь она хоть статисткой, хоть записной примадонной. Каждую секунду он косился бы на злосчастное окно, мечтая, чтобы кто-нибудь закрыл его – или дверь в комнату, уничтожив сквозняк.
– Браво!
Алексеев потрогал куколку. Девочка была холодной, как покойница.
– Одни из нас предпочитают работать с вещами, – казалось, Ашот только сейчас решил объяснить новичку правила игры. – Мебель, кареты, газеты, горшок с фикусом. Внести, убрать, задвинуть в угол. Другие облюбовали людей. Попросить встать там, где надо, или напротив, уйти прочь; заставить крикнуть или почесать нос; спровоцировать нужный тебе жест... В любом случае цель всех этих нюансов – погружение кого-то в тёплый или холодный мир. И да, тот нюансер, который предпочитает работу с вещами, при надобности легко воспользуется людьми.
– И наоборот?
– И наоборот. Чистых вещистов не бывает, как и чистых народников.
Что-то не складывалось. Что?
– А если они не захотят? – торжествуя, словно уличил сапожника в шулерстве, воскликнул Алексеев. – Что тогда?!
– Кто не захочет? Чего не захочет?
– Предположим, швейцар не захочет становиться там, где вы ему предложите. Или нотариус не пустит вас в контору, где вам позарез надо разместить два экземпляра «Южного Края»...
Он осекся.
– Вот-вот, – Ашот деликатно улыбнулся: так, чтобы не обидеть. – Вы уже поняли. Люди расположены к нам, нюансерам. Относятся благосклонно, не удивляются нашему присутствию, считают, что мы знакомы. Случается, даже объясняют другим: «Вот, мол, хороший человек просит, надо сделать...»
Чайник закипел. Сняв его с примуса, Ашот стал заваривать чай в глиняном гноме.
– Они выполняют наши просьбы с удовольствием, – сапожник лил воду тоненькой струйкой, подкручивая чайник так, чтобы кипяток во чреве гнома образовывал слабый водоворот. – Не задумываются о причинах и последствиях, вернее, объясняют их себе самостоятельно, без нашего участия. Вы же не отказали мне, когда я попросил вас курить на балконе, в жуткую холодрыгу, или водрузить саквояж на стул?
Гном нахлобучил шапочку-крышку.
– Точно так же никто не отказывает Любовь Павловне, когда она приносит газеты в контору Янсона, или Лёве, когда он гонит на работу похмельного могильщика. Позже люди забывают о нас, как о пустяке, не имеющем значения. Назовите это гипнозом, месмеризмом, цыганским чудом, природным обаянием – годится любое слово, но это работает. Вы, полагаю, тоже в состоянии убедить кого угодно в чем угодно. Я прав?
Алексеев смущённо отвернулся.
– И всё же, – пробормотал он, – меня вы поначалу раздражали. Вызывали подозрение. Что со мной не так?
– Да, я отметил это, – кивнул Ашот. – Но ведь мы уже во всём разобрались, правда? Я, нюансер, вас раздражал. Это невозможно, но это случилось. С вами всё так, Константин Сергеевич. Вы уже поняли, почему в вашем случае моё обаяние дало сбой?
– Да, – согласился Алексеев. – Понял.
И попросил, краснея:
– Можно коньячку? Вы предлагали.
2
« Продай, ангел!»
– Ой, лы̀шенько! Горе-горюшко!
Добрая знахарка откупорила четвертную бутыль. В бутыли плескалась мутная, болотного цвета жидкость.
– Терпи, милок! Оно жечься будет.
– Зачем?! Не хочу...
– Так трэ̀ба, для пользы...
Пахну̀ло сивухой и летним лугом. Запах нравился, дразнил, раздражал.
Всё сразу.
– Что это?
– Бимбер[1] на травках! Дело верное, не сумлевайся!
Сюда, подумал Клёст. Сюда я стремился. Сюда добрался под утро, преодолев девять кругов адского лабиринта. И вот сижу, как Люцифер, вмороженный в лёд. Не хочу, а смеюсь: «бимбером» среди фартовых зовут всякую мелочёвку из золота-серебра: колечки, серёжки, крестики...
«Никифоровна!»
Имя, верней, отчество старухи, которую он принял за знахарку, ударило молнией, всплыло из заповедных глубин. Я у неё живу, вздрогнул Миша. Угол снимаю, нет, комнату. Иначе зачем бы я к ней явился? Надо же, забыл, всё забыл. И про Никифоровну, и про разодранную щёку, руку, душу... Не болит. Ну, почти. Или болит, а я привык?!
Пить «бимбер», как опасался (надеялся?) Клёст, ему не пришлось. Старуха смочила настоем чистую тряпицу, взялась смывать кровь, гнать прочь заразу. Бимбер жёг, но терпимо. Бывало и хуже.
– И де ж тебя так угораздило, сердешный? Шо з тобою тра̀пылось?
Клёст честно напряг память: знахарка, Никифоровна, ангел в юбке – секретов от неё у Миши не было.
– С нечистью воевал, хозяюшка. Клыки, когти, рога...
– Господь спаси! Откуда же такое?
– Из самого пекла!
– Матерь Божья, заступница! Як и уцелел-то?
Клёст прослезился. В голосе знахарки звенела вера в Мишины слова: искренняя, высшей червонной пробы. Не часто встретишь родственную душу. Иному чистую правду расскажешь – вот как сейчас! – а он, гад ползучий, в ответ носом крутит да своё твердит: «Не верю!» Нет, Никифоровна не из таких, она сердцем правду чует.
Грязен мир, поганка на поганке. Хорошо, есть кем утешиться.
– Биться пошёл, благословясь. Крестом бился, Божьим словом, а то и кулаками. Всю ночь по городу мотались: то я от них, то они от меня...
– Они? Хто ж они?
– Свора бесовская! Которых побил, которые сами отстали. Расточились под утро с первыми петухами. Ну и сам пострадал, как видишь...
– За веру пострадал, во славу Господню! – в глазах старухи блестели слёзы восхищения. – То тебе зачтётся, як Бог свят, зачтётся!
– Спасибо, ангел мой...
– Ой, милок! Уж полвека никто старую ангелом не звал...
Обработав боевые Мишины раны, Никифоровна занялась перевязкой. Клёст глянул на себя в зеркальце, висевшее на стене, маленькое и мутное. Уверился: краше в гроб кладут. Вид такой, словно зубы болят. Щека распухла, а тут еще и повязка. Никто и не заподозрит, что с ним ночью было: ни люди, ни исчадия гееннские. Последних в городе хватает, Миша в этом успел убедиться.
Бес – главарь, атаман шайки. Его в ад отправить – остальные сами сгинут. Ну, или силы лишатся. Найти бы средство верное! Пули беса не берут, и сосульки не берут...
– Что это у тебя за ножик, ангел?
Закончив латать борца с нечистой силой, Никифоровна принялась за стряпню: резала заранее начищенную картошку, ссыпала грудой в закопченный казанок, где уже ждали желтоватые брусочки сала и крошеный лук.
– А от постояльца спа̀док. Прошлый год туточки мѐшкав. Грошѐй в ньо̀го не було̀, в «дурня» жуликам спустил. Ось и розрахува̀вся[2].
В свете солнца, бившем в окошко, вокруг знахарки сиял золотой ореол. Нож в её морщинистых руках сверкал благородным серебром.
Серебро и есть!
«...и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся...»
– Продай, ангел! Сто рублей даю!
– Сто рублей?! Божечки!
– Очень уж он мне глянулся! С детства о таком мечтал...
Миша вскочил, метнулся в свою комнату. Не вписавшись в дверь, треснулся плечом о косяк, боли не почувствовал. Лихорадочно зашарил по карманам пальто, изгвазданного до состояния дерюги золотаря. Зажал в кулаке комок «синеньких», ворвался в кухню, не считая, сунул деньги старухе. Схватил нож – как попало, за лезвие. Нет, не порезался. Почему? Да потому что нож тупой!
«...и пламенный меч обращающийся...»
– Оселок есть?
– Есть, як не быть...
Никифоровна всё не могла опомниться. Ком синего счастья свалился на старуху и отбил всяческое соображение. Двигаясь как во сне, она взяла с полки старый оселок, вручила Мише – и тот с усердием принялся за работу. Через три четверти часа нож мог гордиться бритвенной остротой. Волос резал – куда там дамасской стали!
– Спасибо, ангел! Пойду я.
– Да куда ж тебе идти?! Спи, дави бока̀...
– Некогда мне. Дела у меня.
– Недiля[3] на дворе! Яки-таки дела?
– Такие, что ждать не станут.
Клёст втиснулся в заскорузлое от грязи пальто, нахлобучил шапку.
– Ох, да поглянь на себя! Уся пальта̀ в багню̀ци! Дай вычищу. А ты поснѝдай, я горяченького сготовила. Не убегут твои дела!
Уминая картошку, поджаренную в казанке, Клёст наблюдал, как Никифоровна воюет с мерзкой коростой, оккупировавшей пальто. Победа вышла сомнительной, но, вновь облачившись, Миша походил уже не на забулдыгу, проведшего ночь в канаве, а на забулдыгу, проспавшего ночь на полу в трактире.
Клёста это не волновало. Его уже вообще мало что волновало – кроме одного, главного.
3
« Только плюсы?»
Кантор нашелся в ресторане «Гранд-Отеля».
– Garçon[4]! Хрена, mon cher!
Гарсон бегом принёс хрена. Алексеев пригляделся: на блюде, занимавшем половину стола, в приятном окружении верноподданных колец моркови, свеклы и лука, обильно посыпанная чёрным перцем, лежала королева – да-да, она самая, фаршированная рыба. Традиционная щука? Нет, судя по виду, карп. Часть карпа уже перебралась в тарелку Кантора, где и отдалась ножу и вилке, сдобренная кляксами хрена, багровыми и белыми вперемешку. Насколько помнил Алексеев меню ресторана, фаршированной рыбы там не было. Корюшка фри была, судак в кляре, матлот a la mariniere, даже осетрина была, а gefüllter Fisch[5] – очевидно, только для избранных.
Уместной здесь, в «Гранд-Отеле», она выглядела примерно в той же степени, что и Лейба Кантор.
«Люди расположены к нам, нюансерам, – вспомнил Алексеев слова Ваграмяна. – Относятся благосклонно, не удивляются нашему присутствию.Выполняют наши просьбы с удовольствием...» Рыбу, в частности, фаршируют, мысленно добавил он, обращаясь к отсутствующему сапожнику.
Я прав?
– Присаживайтесь! – Кантор засуетился, выдвинул свободный стул. Суетливость не была ему свойственна, и Алексеев напрягся, чувствуя наигрыш и предчувствуя розыгрыш. – Garçon! Столовый прибор! И хрена, mille diables[6], ещё хрена! Нас двое, в конце концов!
Алексеев сел.
– Уже были у Ашота? – сощурился проницательный Кантор. В бороде его застрял рыбий плавничок. Газету, которую нюансер читал во время еды, он небрежно бросил на стол. – Мучили пролетария в выходной день? Что он вам сказал?
– Что вы обаятельны.
– Я? Разумеется.
– Не конкретно вы, Лев Борисович. Вы, нюансеры.
– И вы ему поверили?!
– У меня на это есть причины. Теперь я, если не возражаете, хотел бы выслушать вас. Вопрос обаяния закрыт, меня интересует вопрос гонорара. Гонорара за ваши услуги.
– Платят, – согласился Кантор. – И недурно платят, поверьте. Но вам это зачем, Константин Сергеевич? Вы же купец! Фабрикант! Мильонщик, чтоб я так жил! Хотите рыбки?
– Хочу.
Официант принес чистый столовый прибор. Алексеев взял себе карпа, но есть не спешил. Налил воды из графина, с жадностью выпил. Ему казалось, что все посетители глазеют на них, но нет, никого их беседа не заинтересовала. То ли выходки Кантора здесь приелись, то ли нюансерство и впрямь с успехом заменяло плащ-невидимку.
– То, что вам платят за услуги, – Алексеев выразительно помахал вилкой, – я уже знаю. Знаю и то, что вы, случается, работаете без формальной оплаты. Заикина вам платила? За расправу над убийцей? Полагаю, что нет.
– Цеховая солидарность, – объяснил Кантор. – Перефразируя «Das Manifest der Kommunistischen Partei[7]», мы, нюансеры, отличаемся от остальных трудящихся лишь тем, что выделяем и отстаиваем общие, не зависящие от национальности интересы движения в целом...
– Это я понял, – перебил его Алексеев. – Меня интересует другое: что, если нюансер откажется работать?
– Не примет заказ? Не получит гонорар, только и всего. Если работа безоплатная, так и вовсе говорить не о чем.
Алексеев ковырнул вилкой рыбу:
– Вы меня решительно не понимаете, Лев Борисович. Что, если нюансер вообще не станет работать?
– Никогда?
– Ни при каких обстоятельствах.
– До конца своих дней? Ни за деньги, ни бесплатно?
– Да!
– Даже ради собственного удовольствия?!
– Даже ради спасения души. Вы можете представить человека с даром к музыке, который не играет, не поёт? Не насвистывает во время прогулки?! Что в этом случае? С музыкально одарённым понятно – дар заглохнет, растворится. А с нюансером?
– Хотите водки?
– Спасибо, мы с господином Ваграмяном уже выпили коньяку.
– Спасибо, да – или спасибо, нет?
– Спасибо, да.
Водка легла на коньяк, как родная.
– Интересный вопрос, – пробормотал Кантор, закусив. Он вдруг стал серьёзен, сосредоточен, утратил всё своё местечковое шутовство. Таким он, должно быть, оперировал. – Я вижу, вы плохо спали этой ночью. Что случится с нюансером, отказавшимся от нюансерства? Нет, дар не заглохнет, это точно. Могу лишь повторить, любезный Константин Сергеевич: в таком случае он не получит гонорар, только и всего.
– Гонорар?
– А вы что думаете, гонорары одни клиенты платят? У нас и другие источники дохода имеются.
– Например?
– Например, живём до ста двадцати лет. Заикина, правда, умерла в девяносто два. Бывает, если бурная молодость...
Алексеев подавился. Закашлялся. Выпил воды.
– До ста двадцати?
– Ну, плюс-минус. Здоровье крепкое, болеем редко. Смерть по естественным причинам, без мучений. Обычно уходим во сне. Есть, где жить, есть, что есть. Короче, не голодаем. Живем в тёплом мире, как у мамки на коленях.
– Это зависит от того, в какой мир вы погружаете клиента?
– Нет.
– Не по-божески выходит, Лев Борисович. Как думаете?
– Напомнить вам про неисповедимость Его путей? Это так, и не нам с вами подвергать сомнению высший промысел. Кстати, мы накрываем теплом не только себя. Будь Заикина жива в момент налета на банк, ее правнук, скорее всего, тоже остался бы жив. При жизни Елизавета Петровна прикрывала свою близкую родню. С ее смертью семейная область теплого мира схлопнулась, и Иосиф Лаврик, земля ему пухом, остался без защиты.
– Это прикрывает всех? Всю семью?!
– Не всех, но многих. Тех, кто живёт близко. Тех, кто близок нам, кого мы действительно любим, по-настоящему. Тут не обманешь... Ещё водки?
– Пожалуй.
– Верно мыслите, Константин Сергеевич. Ну, mazal tov[8]!
Выпили. Закусили. Помолчали.
Рыба закончилась.
– И что? – прервал молчание Кантор. – После этого вы рискнёте отказаться от нюансерства? Не будете насвистывать во время прогулки?! Если да, вы не человек, вы железо.
Алексеев не нашёлся, что ответить.
– Только плюсы? – вместо ответа спросил он. – Так не бывает.
– Не бывает, – согласился Кантор. Глаза бывшего врача-окулиста вспыхнули, Кантора охватило внезапное возбуждение, схожее с нервическим припадком. – Идёмте, я вам покажу минусы. Garçon! Не убирай, мы сейчас вернёмся...
Перед тем, как последовать за Кантором, Алексеев бросил взгляд на газету, недочитанную нюансером. Это была «Недельная хроника Восхода» – приложение к журналу «Восход», издаваемому публицистом Адольфом Ландау. Одну из заметок Кантор обвёл красным карандашом:
«Если у вас восемь человек детей‚ и Б-г благословил вас таким состоянием‚ что вы можете ежедневно тратить на продовольствие четырнадцать с половиной копеек (семь копеек на хлеб‚ три на селедку‚ три на крупу и картофель, и полторы копейки на лук‚ соль‚ перец)‚ то это значит‚ что вы не только не голодаете‚ но «дай Б-г и в будущем не хуже». Если вы можете расходовать лишь девять копеек в день‚ это значит «живем кое-как‚ перебиваемся». А если у вас нет почти ничего‚ и вы проголодали с женой, детьми и старухой-матерью с понедельника до четверга...»
В сочетании с водкой и фаршированной рыбой это смотрелось живой иллюстрацией к теории классовой борьбы. «Если у вас восемь человек детей...» У Алексеева было девять братьев и сестёр. В юности мать, желая утешить сына после проваленного экзамена, подарила ему Причудника – чистокровного английского скакуна. Если мерить меркой «дай Б-г и в будущем не хуже», шести сотен рублей, отданных за Причудника, хватило бы на прокорм семьи, меньшей, чем Алексеевы, в течение одиннадцати с лишним лет.
Никто из посетителей не взглянул на него, когда он шёл к выходу. Даже не заинтересовались.
4
«Там ждет удача!»
В берлоге бес сидеть не станет. Куда он пойдёт? Уж точно не на эту – как её?! – Москалёвку. Здесь нашёл пристанище Миша Клёст, здесь ангелы...
Центр! Надо бежать в центр.
Там бесу самое место. Воскресенье? Ну и что?! Суета мирская, народ толпами – только успевай искушать да пакостить! Наверняка у чёртова отродья и другие дела есть, кроме Михаила Суходольского. Весь город, сволочь рогатая, перекраивает, перелицовывает, как портной – дедовский сюртук. Скоро житья совсем не станет...
Следы бесовской бурной деятельности Клёст обнаруживал на каждом шагу. Город, по которому он шёл, превращался в адскую сцену – вроде той, вчерашней, на заковыристом чердаке геенны, только куда обширней. На Москалёвке ещё туда-сюда, а возле церкви – так и вовсе благолепие. Но чем ближе к Николаевской площади, тем плотнее громоздились на улицах кубы, призмы и конусы – каменные, деревянные, из папье-маше; уходили в бесконечность, отблёскивая изморозью, стальные пандусы и наклонные плоскости; старинные надгробия и дорические колонны высотой от полутора аршин до семи-восьми саженей торчали из мостовой – грибы, ей-богу, натуральные грибы!
Подлинные грибы, впрочем, тоже встречались, большей частью поганки.
Чёрная, густо закопченная труба пересекала улицу наискось. Одним концом она уходила в землю, другим – в окно третьего этажа дома напротив. С неба свисали длиннющие пряди женских волос – русые, каштановые, седые. Их доводилось раздвигать руками. Какие-то волосы были чисто вымыты, иные – сальные, грязные, в перхоти. По нелепой прихоти, вторые пахли ладаном и лавандой, первые же воняли серой. Миша старался избегать волос, но получалось не очень. Вот пандус: взберёшься – соскользнёшь. Вот нагромождение колонн: забредёшь – потеряешься. Вот беспокойный шлагбаум, вот самоходный пень...
Народ по улицам тоже шёл всякий. Попадались люди обычные, приличные: усатый казак в лиловом бешмете, при папахе, портупее и шашке; купчина размером с гиппопотама дымил сигарой толщиной с оглоблю; девица-мещанка хвалилась накидкой сиреневого сукна с капюшоном; мастеровые, чиновники, торговки, нищие, дородная старуха в бордовом салопе...
Нет, старуха была уже из других.
Меж людьми, несомые мартовским ветром, проплывали бледные до прозрачности существа – утопленницы, духи, не пойми какая нежить. У некоторых прохожих, с виду вполне обычных, при ближайшем рассмотрении обнаруживались рога или хвост, собачья голова, ноги, вывернутые в коленках назад. Угрозы от них не исходило – даже от гниющего кассира, временами мелькавшего в толпе, и старухи в бордовом салопе. Мишино чувство опасности молчало; он быстро перестал обращать внимание на тварей и сосредоточился на прокладывании пути-дороженьки в той чертовщине, которой стараниями беса обернулся благополучный губернский город Х.
Спрятаться решил? Надгробиями отгородился? Армией преисподней?! От Клёста не спрячешься! Где тебя искать, где? Куда бесу податься в воскресенье? Уж всяко не в церковь!
Куда же?!
Остатки снега быстро истаивали. Грязь чавкала почище вчерашнего. В небе сквозь пряди волос и рванину облаков то и дело проглядывало солнце. Тем не менее Миша мёрз сильнее, чем в недавние мороз и метель. Желая согреться, он прибавил ходу, но поскользнулся на гладком шаре, утопленном до половины в землю. Пытаясь сохранить равновесие, шагнул на середину мостовой – и его с силой толкнул мускулистой грудью конь, похожий на дракона: с перепончатым гребнем, горящими углями глаз, мохнатыми львиными лапами. Клёст птичкой отлетел к тротуару, больно ударившись плечом о мраморное надгробье...
...или всё-таки о поребрик?
Драконь гневно заржал, норовя встать на дыбы. Упырь-кучер, скаля жёлтые прокуренные клыки, обложил Мишу трёхэтажным загибом.
– С вами всё в порядке? Не ушиблись?
Над ним воздвигся добродушный фавн в добротном пальто-«честерфилде». Из головы фавна росли витые бараньи рога; губы были выворочены, как у мавра.
– Вам помочь?
Фавн протянул Мише волосатую лапищу.
– Спасибо, сударь, я в порядке.
Клёст всё же уцепился за протянутую лапу, и силач-фавн с легкостью вздёрнул его на ноги.
– Благодарю вас, добрый сатир! Дальнейшая помощь мне не нужна, справлюсь сам.
Рогач оторопел. Раскланявшись с ним, Миша двинулся дальше. На него косились, озирались вслед. Брюзгливый чиновник в новехонькой шинели покрутил пальцем у виска, потому что был глуп, как пробка. Не понимал, дурак: на Мишу – одна надежда. Кто ещё спровадит беса в ад? Кто избавит город от дьявольской перелицовки?!
Лестница, по которой спустился Клёст, привела его в подземелье. Может, здесь, поближе к преисподней, бес и притаился? Над вратами ада красовалась вывеска:
АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНЪ ГУСМАНА
Сами врата больше смахивали на обычную дверь. Впрочем, когда Миша толкнул створку, по Мише ударил медный погребальный колокол.
Внутри обнаружилась пещера с сокровищами. На скальных уступах и дубовых полках-стеллажах таинственно отблёскивали в свете трёх керосиновых ламп серебряные дражуары и бронзовые курильницы, подсвечники и дикарские маски, кальяны и трубки, столовые приборы и сервизы, вазы и статуэтки...
– Добрый день. Желаете что-то подыскать?
За прилавком скорчился седобородый карла со стёклышком в глазу. Опасным карла не выглядел. Вряд ли он служит бесу, подумал Миша. Хотя от врага рода человеческого можно ожидать любых каверз.
– Фарфор? Серебро?
– Серебро у меня есть, – Клёст продемонстрировал карле нож. – Ангельской пробы.
– Позволите взглянуть?
После долгих колебаний Миша передал нож седобородому. Если что, он карле и голыми руками шею свернёт.
– Наточен он у вас замечательно! Но вынужден вас разочаровать: это не серебро.
– То есть как?!
– Мельхиор. Этот сплав по виду очень похож на серебро.
– Вы уверены?!
– Многие путают. Не вы первый. Отсутствует проба – можете сами убедиться. Есть и ряд других признаков...
Обманула, ведьма! Нет, нет, ангел! Сам обманулся, сам! Бес заморочил.
– А у вас? У вас есть серебро?!
Клёст подался вперёд, намереваясь схватить карлу за грудки.
Тот в испуге отшатнулся:
– Разумеется! Богатейший выбор! Что именно вас интересует?
– Нож!
– Посмотрим, что мы можем вам предложить...
Миша наспех огляделся. Мы? Карла сказал: «мы»?! Кто здесь прячется? Кто таит злой умысел?! Нет, в пещере ни души. Карла безумен, его надо лечить гипнозом. Пустяки, главное – нож... Ишь, какой шустрый безумец! Пара минут, и на стойке тускло поблёскивала, с любовью выложена на отрезе чёрного бархата, дюжина серебряных ножей, большей частью столовых.
– Подлинность мы гарантируем. На каждом имеется проба, а также...
Карла вещал нараспев, словно псалом читал. Клёст его не слушал. Он хватал один нож за другим, взвешивал на ладони, примеривался, удобна ли рукоять, пробовал пальцем лезвие. Седьмым по счёту ножом Миша порезался – и с торжеством воздел над головой хищно изогнутый клинок пятивершковой длины.
– Этот! Беру!
– Замечательный выбор! У вас есть вкус, сударь...
– Сколько?! Сколько стоит?!
Он заплатил, не торгуясь. Сдачу оставил карле, потому что едва серебряный клинок испил крови, как Мишу осенило. Нож был седьмым. Семь – счастливое число. Фарт возвращается. Где ему в прошлый раз пофартило? В «Гранд-Отеле», где же ещё! Именно там он узнал адрес беса. Счастливый нож, счастливое место!
Там ждёт удача.
5
« Лёва никому не скажет»
– Копится, – бормотал Кантор, пока они спускались чёрной лестницей, отведенной для нужд прислуги. – Копится, накапливается, давит... Вам хорошо! Вы еще не поняли, не надышались...
Местечковый капот нюансера, накинутый, словно плащ вампира, на плечи поверх засаленного лапсердака, картуз со сломанным козырьком – всё это больше не казалось Алексееву смешным. Напротив, ему чудилось совсем иное, словно театральный реквизит, перебравшись из комедии в драму, а может быть, даже в трагедию, пропитался и трагическим духом, предчувствием дурного конца.
– Копится, давит. Холодный мир? Тёплый? Какая разница?! Накапливается, требует сброса. Ты не хочешь, тянешь, отказываешься, и вдруг... Это как со рвотой. Однажды понимаешь, что больше не в силах терпеть, сдерживать позыв. И тебя выплёскивает – где бы ты ни был, прилично это или отвратительно, смотрят на тебя или отвернулись...
На стенах темнели пятна сырости. Пахло кислым. Алексеева и впрямь начало подташнивать. Его слегка качало, но рассудок оставался трезвым. Или это был самообман пьяного, уверенного, что уж он-то – как стёклышко?
– Они сгорают, леденеют, прах к праху... Хорошо, если подготовился, нашёл, куда сбросить, в кого! А если нет? Вы понимаете, что это такое: если нет?! Если бросаешь в кого попало!
Вышли, выпали, выбежали на задний двор.
Сюда поварята вёдрами сносили объедки, которые позже забирал возчик на поганой телеге. По мере движения от кухни во двор объедки проходили сложную сортировку. То, что посвежей да повкусней, растаскивали мелкие служащие для членов своих семей, вечно ссорясь при дележе; прочее доставалось бабам-уборщицам, живущим неподалеку, за рекой – многие из них держали свиней, жиревших на ресторанном харче. То же, чем побрезговали и служащие, и свиньи, грузилось по вечерам в телегу.
– Готовьтесь заранее, Константин Сергеевич! Готовьтесь! Иначе будет, как у меня... Видите? Чуете? Невтерпёж! Не в вас же сбрасывать, право слово? Если не удержу, бегите. Я рукой вот так взмахну, вы и бегите. Тут задами к реке спуститься можно, туда и спешите, не оглядывайтесь. Поняли? И никаких вопросов! Бегом бегите...
На склонах реки, как знал Алексеев, рыскали стаи бродячих собак. Голодные, особенно после зимней бескормицы, они, случалось, набегали во двор «Гранд-Отеля», стремясь поживиться отбросами. Собак отстреливали из окон дворницкой; приходили пострелять и швейцары – эту охоту они в шутку звали «кабыздошкой». В последнее время редкая псина рисковала своей драной шкурой, явившись под прицел. Для этого надо было оголодать вовсе, до смертной одури, когда набить брюхо и сдохнуть – одна радость.
Кудлатая дворняга, ухватившая говяжий мосол, была из таких.
– Вот! – оскалился Кантор. – Вот!
Он протянул к дворняге трясущиеся руки:
– Повезло! Смотрите, сейчас вылетит птичка...
Собака бросила грызть. Присела на задние лапы, поджала хвост. Обмочилась от страха. Алексеев ясно видел собачьи глаза, налитые кровью, затёкшие желтоватым гноем. Во взгляде дворняги плескалась беззвучная мольба. Проплешины лишая, густо испещрившие шкуру, полуоторванное ухо – всё взывало о милосердии.
– Вот!
Сейчас она сгорит, ясно понял Алексеев, не в силах оторваться от чудовищного зрелища. Выгорит изнутри, изойдёт вонючим дымом. Или превратится в ледышку. Глаза – стекло, шерсть – сосульки. Сейчас я увижу, как нюансер сбросит накопленный балласт, и несчастный сосуд утратит последнее, что имеет – жизнь...
– Верите мне, Константин Сергеевич?
– Верю! – белый как стена, выдохнул Алексеев.
Кантор расхохотался.
Смех его сорвал собаку с места. Боком, упав, перекувыркнувшись, вновь вскочив на лапы, бедолажная псина чесанула за угол, дворами, к реке. Вослед ей, подгоняя больнее плети, нёсся заливистый хохот нюансера.
Собака сбежала, а Кантор ещё долго смеялся. Успокоившись, он достал носовой платок, вытер лицо и повернулся к Алексееву:
– Что, и впрямь верите, Константин Сергеевич?
– Верю!
– А зря.
Кантор был серьёзен. Лишь в глазах его, усталых и печальных, плясали искорки, подозрительно похожие на блёстки умолкнувшего смеха.
– Доверчивый вы человек. Трудно вам жить, с таким золотым качеством. Ничего мы не накапливаем, никуда не сбрасываем. Ни в человека, ни в собаку, ни в миску с кашей. Чепуха всё это, клоунада. А правда здесь другая. Нюансерство – опиум, дурман. Раз попробовал, два – пристрастился. К нему привыкаешь, прилипаешь всей душой. Не бросить, не отказаться, проще голову в петлю сунуть. Как вы сказали? «Насвистывать во время прогулки»?! Будете петь, играть, насвистывать! Никуда не денетесь, ясно? До конца дней своих...
– До ста двадцати? – не удержался Алексеев. – Или и здесь соврали?
– Соврал, каюсь. Не живём мы до ста двадцати. Хотя живём долго, это да...
– Как долго?
– Срок не назову, не надейтесь. Дольше отведенного живём, дольше того, что было суждено. Тут у каждого свой срок, своя планида. Болеем ли? Да, болеем, как все. Но там, где другой загнулся бы, мы встаём. Врачи удивляются... Сам врач, знаю.
– Стоп! – закричал Алексеев. – Не верю!
Он торопился, желая подсечь рыбу, заглотившую крючок, уличить Кантора в очередной лжи:
– Значит, обаяние? Значит, люди расположены к вам?!
– К нам, – поправил Кантор.
Алексеев пропустил его слова мимо ушей:
– Относятся благосклонно? Не удивляются присутствию? Выполняют просьбы с удовольствием?! Вас же уволили, Лев Борисович! Уволили за нюансерство! Как же так, а?
Кантор ссутулился, поднял воротник. Впору было поверить, что вернулась зима, ударили морозы, и человек замерзает, как тот ямщик посреди степи.
– Уволили, да. В начале девяностых, с «волчьим билетом». Тут вы правы, Константин Сергеевич, спору нет. А в семьдесят седьмом Леонард Гиршман, мой учитель, собрался на фронт. На войну с турками, понимаете? Хотел лечить больных... Я пошёл к Заикиной, она сказала: убьют. Мы и так, и сяк: убьют, без вариантов. Я ей в ноги пал: помоги! Она взяла два дня на размышление...
Кантор втянул голову в плечи, превратился в горбуна:
– Когда я пришёл снова... Нашлось спасение. Чтобы Гиршман выжил, меня должны были уволить. Не сразу: сначала он остаётся в живых, а меня увольняют позже, в течение пятнадцати лет. Увольняют с позором, так надо. Ключевой нюанс, что поделаешь? Обмануть нельзя, никак нельзя. Я было рискнул, так Гиршман болеть начал. Рука у него отниматься стала...
– И вы? – Алексеев тронул нюансера за рукав. – И вы сами?..
– Да. Я сам погрузил себя в холодный мир. Знаете, как это было трудно? Сизифова работёнка! Мы живём в тёплом мире, а мне кровь из носу приспичило в холодный. Наши дела не замечают, а мне надо было, чтобы заметили, возмутились... Ничего, справился. Уволили, как миленькие! Доносы писали, кляузы, министр лично ногой топал...
– Лев Борисович, – внезапно спросил Алексеев. – А почему вы Кантор?
– Интересный вопрос. А вы почему Алексеев?
– Моего пращура звали Алексеем. Ярославская помещица Иванова отправила его к графу Шереметьеву в Останкино, помогать на огородных работах. Там он влюбился в дочку графского кучера, получил вольную... Это длинная история. С него и пошли мы, Алексеевы. Есть Алексеевы-Рогожские, есть Строгановские, есть Покровские...
– Вы из каких?
– Из Рогожских.
– А я, прошу прощения, из Канторов.
– Но ведь кантор – это, если не ошибаюсь, певец? Поет в молельне?
– Мой папа, такой же купец, как и ваш, только еврей, был Кантором. Мой дедушка был Кантором. И даже моя бабушка, которая лучше всех в Полангене готовила кисло-сладкое жаркое, тоже была фру Канторо̀вой. Все пели, если вам интересно, как сапог, включая прадедушку. Кантор – это фамилия, Константин Сергеевич, просто фамилия. Вы знаете, что такое фамилия? Это наше проклятье. Певец в молельне? Кстати, откуда вы так хорошо осведомлены в еврейской жизни?
– Театр, Лев Борисович. Я ставил «Польского еврея», «Ганнеле», «Уриэля Акосту», «Венецианского купца». Играл главные роли...
– Репертуар, – с невыразимым отвращением произнес Кантор. – Театр, значит. Весь мир – театр, в нём женщины, мужчины – все евреи. Польский еврей, Ганнеле, реб Уриэль, чтоб он был здоров... Я глубоко извиняюсь, но вы случайно не из наших?
– Я русский, – возразил Алексеев. – Константин Сергеевич.
– Ну да, русский. Уриэль Акоста, Шейлок... Константин Сергеевич. А я Лейба Берлович, к вашим услугам. Ну да, конечно же, русский. Я вижу. Я тоже в какой-то степени русский.
Кантор сбил картуз на затылок, словно комический дядюшка из скверного водевиля:
– Вы только не волнуйтесь, хорошо? Лёва все понимает, Лёва никому не скажет.
________________________________________________
[1] Бимбер – самогон.
[2]Спадок – наследство. Мешкав – проживал. Розрахувався – рассчитался (укр.).
[3]Воскресенье (укр.).
[4]Гарсон (фр. garçon) – мальчик, в переносном значении официант. Mon cher – мой дорогой.
[5]Фаршированная рыба (нем.).
[6]Тысяча чертей (фр.).
[7]«Манифест Коммунистической партии» (нем.). Авторы – Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
[8]«Мазаль тов» (букв. «хорошее везение», «удача» (ивр.)) – тост, поздравление, пожелание.
Глава четырнадцатая. «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
1
«Тихо, шелупонь!»
Оглоеды, приставленные Лютым, Косте не нравились. Нет, совсем не нравились. Ёкарь считал, что «не нравятся» – слабо сказано, ё. Но оба благоразумно помалкивали в тряпочку. С одной стороны, вчетвером они без забот управятся с Гастоном. Вчетвером – это вам не вдвоём, это верняк, козырный расклад. С другой, менее приятной стороны, если они Гастона не найдут, то Сипарь с Ломом легко управятся с Филином и Ёкарем – и отволокут обоих к Лютому на расправу. От этой мысли у Кости холодело в животе, а сердце в груди охало, ахало – и начинало колотиться в рёбра, как сумасшедшее.
Гнал Костя дурное предчувствие и в тычки, и плёткой, а только кружили они по городу, кружили, искали Гастона, и время шло, бежало, летело стрелой, и не думать о страшном получалось всё хуже.
Уже в третий раз за сегодня Филин с Ёкарем спорили: где лучше искать гастролёра? Базар обошли дважды. Тёток, что углы сдают, расспросили. Отловили гольцов[1], какие на базаре ошивались. Объяснили, как Гастон выглядит, во что одет. Наказали: увидите – глаз не спускать, а одного – мухой лететь, сообщать. Костя синенькой перед носами у гольцов пошуршал, чтобы понятней стало. Больше на базаре ловить было нечего.
Куда податься дальше, они не знали.
– На Москалёвку топать надо, – бухтел Ёкарь. – Там пошариться.
– Хрена он забыл на твоей Москалёвке?
– Может, это? Угол у кого снял, ё?
Москалёвку Ёкарь знал как свои пять пальцев, и хотел туда.
Сипарь с Ломом в споре участия не принимали. Лом – та ещё жердь! – привалился к забору, курил, отвернувшись. В своей хламиде цвета ржавчины, в мятых штанах он напоминал торчащий из земли обрубок дерева. Пройдёшь мимо – не поймёшь, что человек. Сипарь – квадратный, приземистый – тоже курил самокрутку с махоркой. Раз в минуту он хрипло кашлял, сплёвывая под ноги комки вязкой бурой мокро̀ты.
– Москалёвка? Ты его видел?
– Ну, видел. Тогда ишшо.
– А теперича – при пальте, в «пирожке». Фу-ты ну-ты! В центре ошивается, гадом буду!
Ёкарь с сомнением хмыкал, кривился, отворачивался. Крыть ему было нечем, но шастать по центру, где полно дам-господ, а главное, фараонов, Ёкарю не хотелось. Филину, если честно, тоже. Но попасть Лютому под горячую руку не хотелось ещё больше. Костя с тоской поднял взгляд на Бурсацкий спуск, уходивший наискось к Успенскому собору с колокольней. Купол золотом сверкал в лучах мартовского солнца, слепил взоры. Костя моргнул, вытер слезящиеся глаза рукавом, моргнул ещё раз.
Перекрестился.
Нет, не померещилось!
Верх Бурсацкого пересекал мужчина в пальто и «пирожке». Двигался он странным, не очень-то человеческим образом: петлял, как заяц, уходящий от погони, резко останавливался, заносил ногу, будто хотел подняться на ступеньку, только вот ступеньки никакой перед ним не было. Опускал ногу, чуть не падал, дёргался; боком протискивался дальше, словно брёл в узком проулке...
Пьяный, что ли?
– Гля, Филин! Гастон, ё...
– Точно?!
– Не пойму. Наш при своём уме был...
– Бежим?
– А вдруг не наш? Ноги бить, ё...
– А вдруг наш?! Лютый съест, если опять прозявим...
Сипарь с Ломом проснулись от спячки. Побросали охнарики[2] в грязь, галопом припустили за Костей и Ёкарем. Сипарь даже кашлять перестал. Тем временем Гастон-не-Гастон успел свернуть на Университетскую горку. Когда на горку вылетели преследовали, они увидели свою цель, шустро рвущую когти в сторону Павловской площади. Удирал гад, похоже, вовсе не от Кости с Ёкарем, двигаясь прежней заячьей скидкой, зигзагами и загогулинами, но быстро-то как! Задыхаясь, Костя вылетел на площадь – вон он, сучий потрох, к реке бежит! Утопиться, что ли, вздумал?
Вот же подляна, а? Казалось, догнать его – раз плюнуть...
– Уйдёт, ё! Живей давай!
Гурьбой влетели в узкий проулок. Едва не застряли.
– Твою мать!
– Куда он делся, ё?!
– Тихо, шелупонь! – зашипел Сипарь змеем подколодным. – Спугнёте гастролёра – без Лютого на клочки потрамзаю!
Стараясь не шуметь, фартовые растянулись цепочкой, двинулись гуськом, в затылок друг за другом. Костя шёл первым. Он-то и увидел мелькнувшую впереди фигуру в когда-то бежевом, а ныне грязном пальто.
– К реке забирает!
– Видел его?
– Ага! Свернул, падла...
Вместо награды за бдительность Костя огрёб увесистый пинок в зад:
– Топай, давай! Топай и зорь! И тихо, ракло!
Пинок – ладно. А за «ракло» было обидно страсть как! Проглотив обиду, Костя решил делать, что велено. Дважды ему чудилось, что они потеряли гастролёра – на диво шустрый, Гастон то и дело исчезал, и понять, куда он свернул, было задачей решительно безнадежной. Филин весь обмирал – всё, расправы не миновать! Зарежут, как пить дать зарежут! Нет, шло время, и впереди опять мелькало знакомое пальто.
– На зады тянет!
– На какие зады?!
– К «Гранд-Отелю», ё! Больше некуда!
Поселиться решил, что ли? Почему с площади не зашёл, через главный вход? На кой честному постояльцу по задворкам шариться?
– Бежим!
2
«Холодно здесь...»
Путаясь в мешанине плоскостей и уступов, пандусов и колонн, утонув в столпотворении людей и нелюдей, Клёст на миг растерялся. Заозирался по сторонам: где? куда?! На счастье (везёт! ему снова везёт!), выше домов торчал перст, устремлённый в небеса – колокольня Успенского собора. Перст сиял золотом, подмигивал: «Господь на твоей стороне!» Ангелы осеняли крыльями божьего посланца, указывали путь: от собора до «Гранд-Отеля» было рукой подать.
Улица, как на грех, уводила в сторону (бес водит, путает!). Клёст двинул напрямик, дворами и переулками. Странное дело! Идти таким путём оказалось легче: бесовских препон встречалось заметно меньше.
– Входите тесными вратами, – бормотал Миша, спотыкаясь и крестясь на колокольню. – Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их...
К отелю он вышел задами, со стороны реки. Огляделся, нырнул в щель между домами, ведущую на задний двор ресторана – и чуть не упал, потому что услышал голоса̀. Неужто?
– Узок путь, ведущий в жизнь!..
Притаившись за дровяным сараем, Клёст с осторожностью выглянул. Бес – всё в том же пальто и каракулевой шляпе – стоял к нему спиной, шагах в семи. Пред бесом распинался, что-то втолковывая чёртовому отродью, неопрятного вида жид – при пейсах и бороде, в картузе, залихватски сбитом на затылок.
Кто бы сомневался! Жиды да черти одной шерсти!
Миша окинул двор цепким взглядом. Кроме беса с жидом – ни души. Пара кухонных окон, выходивших сюда, до половины замазана белилами – чтобы не пялилась внутрь всякая шушера. Это хорошо, изнутри тоже ничего толком не разглядишь. Сарай, за которым прятался Миша: тёмное, старое дерево, набухшее от влаги. Пальцы ощущали его рыхловатую податливость. По левую руку громоздились хозяйственные пристройки, кособокие и приземистые. Меж ними тянулся извилистый проход, уводя вниз, к реке, откуда явился Клёст. Значит, три входа-выхода: со стороны собора, от реки – и арка подворотни, выводящая на площадь. Даже если услышат крик – пока сообразят, пока прибегут... Мишин след уже и простынет. Поди знай, какой дорогой ушёл; как выглядит!
– Входите тесными вратами...
Ножей Клёст не любил. На дело брал револьвер, а то и два. Но здесь – особый случай. Раз беса свинец не берёт, на серебро вся надежда. На серебро – и на помощь Господню. Бес не один? Жидом больше, жидом меньше. Туда и дорога бесовскому прихвостню!
Клёст подобрался, намереваясь кошкой выметнуться из-за сарая, всадить заветный ножик в тугую адову плоть.
– Пойдёмте, Константин Сергеевич. Ещё рыбки закажем?
– Торо̀питесь, Лев Борисович?
– Холодно здесь. Не нравится мне погодка...
– Всё-то вам шуточки...
Уходят!
Пять шагов до дверей.
Успею!
Догнать, прыгнуть на спину. Зажать рот, полоснуть по горлу...
В затылок хлестнуло ледяным ветром. По хребту пробежало стадо знобких мурашек. Мише было хорошо знакомо это чувство. Не раз оно спасало ему жизнь.
Опасность!
3
«Гуляем, хлопцы!»
– Он, – выдохнул Костя, шалея от удачи.
Гастон прятался за дровяным сараем. Сбоку было хорошо видно, что его поганая морда неумело перевязана, как если бы Гастона мучил гнилой зуб. Дальше, на чёрном дворе ресторана, возле помойки, точили лясы двое ветошников: один жид, а другой вроде приличный. На кой их занесло-то сюда, к помойке?
– Пасёт их! Зуб даю, пасёт...
Костя обернулся, приложил палец к губам, показал дружкам рукой: укройтесь, мол! Как ни странно, его послушались – даже Сипарь с Ломом. Ну хорошо, лихорадочно размышлял Костя. Гастон пасёт ветошников, мы – Гастона. Что дальше? Думаешь, брат Филин, Гастон тебя к своей хазе приведёт? Накормит, напоит, в баньку сводит?! А вдруг он тебя на ходу срисует? Или до ночи за ветошниками шляться будет, а потом в темноте сдёрнет – ищи-свищи!
На плечо легла тяжёлая лапа Сипаря. Притянув Костю к себе, громила зашептал в самое ухо, брызгая жаркой слюной:
– Вяжем гастролёра, понял?
Костя молча кивнул.
– Как по спине хлопну – рви к нему.
– Повяжем ли? Начнёт орать, набегут из кабака...
– Гурьбой навалимся! – пообещал Сипарь. – Скрутим – и к Лютому.
Костя не очень понимал, как они будут тащить скрученного Гастона через весь город к Лютому, но на всякий случай кивнул во второй раз. Связываться с Сипарём – себе дороже.
Как-то дотащим, ладно.
Ветошники тем временем решили вернуться в ресторан. Гастон привстал, подобрался. Догнать их хочет? Зачем?! Хлопок Сипаря прервал Костины горькие думы, чуть всю душу не вышиб. Миг промедлив, Костя рванул к зловредному Гастону, но поскользнулся, упал на колени. Его обогнал Ёкарь. Позади, отстав на шаг, тяжко топали Сипарь с Ломом.
Гастон обернулся: глаза бешеные. Рожа небрита, перекошена, изо рта слюна капает. Скаженый! С разбегу Ёкарь прыгнул на него, взвыл, покатился прочь, расплескивая грязь. Бедолага скулил и зажимал ладонью щёку, располосованную до голых зубов. Серебристый взблеск в руке Гастона отливал закатным багрянцем.
Перо! У Гастона перо!
– С-сука!
Костя потащил из кармана тяжёлый «Smith&Wesson». Револьвер упирался, цеплялся за одежду. Наружу он не хотел. Костя тоже не очень-то хотел, да выбора не было.
Сипарь с Ломом крались к Гастону, словно два кота – к третьему; обходили справа и слева, насколько позволяла узкая кишка двора. Оба осторожничали: сесть на перо никому не улыбалось. Сипарь тоже достал нож, перехватил острием к себе. Он прятал клинок за предплечьем, держа руку на отлёте. Лом громко хрустнул костяшками, вставил пальцы в прорези свинцового кастета.
– Изувечу, – пообещал Лом. – Как бог черепаху!
Гастон качался на полусогнутых, пластал ножом воздух. «Не подходи! – криком кричала его поза. – Зарежу!» Ёкарь скулил на земле, раздумав воевать. Когда Сипарь с Ломом были уже готовы наброситься, Гастон вдруг развернулся другим боком, вскинул левую руку. Полыхнуло, шарахнуло. Сипарь шатнулся, выронил нож, схватился за грудь.
Между пальцами хлестнула кровь.
– Шпейер[3]! Братва, у него шпейер!
– Я Миша Клёст, бью до слёз!
Лом попятился. Гастонов револьвер убедительно смотрел ему в лоб.
Дурея от возбуждения, Костя что было сил рванул упрямый «Smith&Wesson». Карман треснул, подкладка – тоже, револьвер наконец высвободился. Костя выпалил, не целясь, и заорал от восторга: пальто Гастона брызнуло красным. Гада скрючило, скособочило, и тут кто-то толкнул Филина в грудь. Не сильно и толкнул, паскудник, но Костя улетел далеко, так далеко, что и сам удивился.
Свадьба? Точно, свадьба!
– Гуляем, хлопцы!
Длиннющий стол. Белая скатерть. Столешница ломится от закусок. Гусь с яблоками. Кулебяка с печёнкой. Вареники горами. Пироги. Поросёнок с кашей, с хрустящей корочкой. Сало, колбаса. Казанки с дымящейся картошкой. Господи боже, не оставь нас милостью своей! Самогон, опять же. Море самогона! И водка. Не абы какая, «Смирновская», казенная. Медовуха. Сладкий церковный кагор. Бутылка того вина, что с пузырьками. Издали в нос шибает, даже пить не надо.
– К нам! Костя, иди к нам!..
Гости нарядные, весёлые, румяные. Во главе стола – сеструха Дуняша со студентом своим. Сестра под фатой, белей скатерти. Студент при параде, в костюме новёхоньком. Жених хоть куда, за сто вёрст видать!
В руке у Кости полная чарка. Кричит Костя, радуется:
– Горько!
– Горько! – орут гости.
Студент с Дуняшей целуются. Все пьют, наливают – «...горько!» – закусывают, пьют, наливают. Горько? Сладко! Вкусно-то как! Прямо во рту тает. Радостно на душе, век бы за этим столом сидел, никуда не уходил. Молодые, Дуняша со студентом, туманятся. Эх, хватил Костя лишку! То не беда, сейчас ещё набулькаем, протрезвеем...
Кто это? Кто за плечо взял?!
– Ты меня поцелуй, Костя. Слышишь, люди «горько» кричат?
Надо же! Неужто Оксанка, по которой Костя целый год сох?
– Ты ж померла вроде? От холеры, в августе...
– А какая разница? Если «горько», надо целоваться...
На Оксанке – свадебное платье. И фата, как у Дуняши. А на Косте – мама ро̀дная! Фраер, натуральный фраер! И цветок-георгин в петлице, и кис-кис на шее...
– Это ж Дуняшина свадьба!
– Общая, – смеется Оксана. – Давай, целуй, балбес!
– Горько!
Сладко целоваться. Сладко обниматься.
Дух захватывает.
И музыка ангельская. И вино с пузырьками.
– Рай! Истинно говорю, рай!
– Так ведь рай и есть! Теперь у нас с тобой всегда так будет.
– Всегда?
– Всегда!
Костя улыбается.
– Не веришь мне, суженый?
– Верю! Как бог свят, верю!
Да ладно вам! Своей невесте и не поверить?
4
«А если не будете прощать людям...»
– Я душевно...
– Знаю! Что-то ещё?
С мамашей Алексеев был неласков: чтобы запомнила.
– Господин Рыжков заходили, Федор Лукич. Записку вам оставили.
– Рыжков? Это ещё кто?!
– Полицейский надзиратель. Велели, как только вы явитесь, так записку вам незамедлительно...
Алексеев принял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул.
«Многоуважаемый Константинъ Сергѣевичъ! Выражаю свои соболѣзнованія въ связи съ имѣвшимъ мѣсто покушеніемъ на вашу драгоцѣнную особу. Будьте любезны, загляните въ полицейскую часть на Николаевской, этажъ 2, кабинетъ 16, съ цѣлью составленія словеснаго описанія злоумышленника. Завѣряю васъ, что полиція предприметъ все необходимые мѣры по задержанію сего опаснаго преступника. Съ истиннымъ почтеніемъ, полицейскій надзиратель Рыжковъ.»
– Откуда он знает? – изумился Алексеев. – Я никому, ни одной живой душе...
Нюансеры, вспомнил он. Ни одной живой душе, кроме трёх нюансеров. Кто из них полицейский осведомитель? Кантор? Радченко? Ваграмян?!
– А дворник? – оживилась словоохотливая Неонила Прокофьевна. Глазки её заблестели, замаслились. – Дворник-то! Он и в свисток свистел, и глазами видел, и доложил, куда следует.
– Языком, – машинально уточнил Алексеев. – Языком доложил...
– И языком, и письменно. Грамотный он, дворник. Узнал он вас...
– Лучше бы он преступника узнал! – огрызнулся Алексеев. – Глядишь, мне никуда ходить бы не пришлось...
Верный своему правилу не откладывать дела на потом, а в особенности – дела неприятные, он повернулся к приживалке спиной и вышел вон из квартиры.
Погода удалась на диво. Казалось, всё – и небо, и земля, и даже безлистые деревья – готовились к Чистому понедельнику. Завтра начинался Великий пост, а сегодня мир каялся в грехах, отмечая Прощёное воскресенье – ну и объедался напоследок. Всласть, от пуза, до икоты. Облака сбились в отару, откочевали гурьбой на запад. Ветер стриг их овечьими ножницами, готовясь к сдаче товара на шерстомойню. Небо превратилось в бледно-голубой водоём. Воздух пах свежим огурцом, и надлом сочился прозрачной влагой.
Из ресторана, оставив Кантора лакомиться десертом, Алексеев вернулся на извозчике. По случайной иронии судьбы, им оказался старый знакомый – Семен Черкасский, первым приметивший, как служащие в Волжско-Камском банке «принимают присягу». Сани отставной фельдфебель сменил на экипаж, более соответствующий погоде, лошадь осталась прежняя.
Знал бы, злился Алексеев, велел бы обождать. Ничего, прогуляюсь, проветрюсь. Говорят, пешие прогулки очень полезны для здоровья.
– Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, – бормотал он на ходу, сворачивая с Епархиальной на Ветеринарную, – то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их...
Прощать не хотелось. Вспоминался сволочь-агент: «Я – Миша Клёст, бью...» И выстрел из револьвера. Сосульку, чуть не проломившую Алексееву голову, Алексеев тоже относил на счёт мерзавца, хотя это уже попахивало натуральной паранойей.
«А если не будете прощать людям согрешения их...»
«...все необходимые мѣры по задержанію сего опаснаго преступника...»
Ветеринарная закончилась. Он пересёк Сумскую и двинулся вдоль Университетского сада. Как только ограда лопнула первой же калиткой, Алексеев нырнул туда и зашагал по аллее, слушая громыханье конки по мостовой, крики извозчиков, болботанье голубей, чуявших весну.
Сейчас, в начале марта, вход в сад – царство грязи и голых ветвей – был свободным. Позже, ближе к лету, его закроют, запрут, на главном входе поставят бдительных сторожей, при калитках – будки часовых. Вход сделают платным, станут брать деньги в кассе, обустроенной между тумбами главных ворот, и всё равно не будет отбою от желающих прогуляться в тенистых закутках. Когда-то здесь лежала дикая, неухоженная дубрава – от садов князя Кантемира на западе до древних земляных укреплений на юге. Прогуляешься – ноги сломаешь, угодишь в лапы лихим разбойничкам. Сейчас же горожанам представлялись здесь иные развлечения: циклодром для любителей велосипедного спорта, гимнастический уголок, шелководческая станция, зоологический сад и прочие увеселительные заведения.
– Не обвиняйте, и вас не обвинят, не осуждайте, и вас не осудят, прощайте, и вас простят…
К тому не было никаких причин, но в саду городской гомон казался тише, раздражал меньше. Скоро набухнут почки, дразнясь, выпустят наружу зеленые язычки – первые, робкие. Грянет Пасха, народ повалит толпами из церкви, все станут христосоваться, чмокать друг друга в щёку. Праздник! Но всё это потом, и уже без него, он будет дома, в Москве, или у брата в Андреевке, вместе с семьёй. Пойдут в храм с детьми, Маруся напечёт куличей, и никакого театра, чтоб он скис, никаких дел, чтоб им пусто...
Никаких дел. Чтоб им пусто.
В десятке шагов от главных ворот он замедлил шаг, а там и вовсе остановился. Здесь начинался поворот направо, на главную аллею, и Алексеев видел, как по импровизированной площади, огибая клумбу, ещё только ждущую своих цветов, идёт девочка лет двенадцати в сопровождении гувернантки, судя по одежде, француженки. Должно быть, они среза̀ли путь от Сумской к Мариинской гимназии – в выходные дни занятия не проводились, но дважды в месяц, по воскресеньям, устраивались факультативы для особо одарённых учениц, где писались сочинения на иностранных языках.
Клумба. Ворота. Аллея.
Девочка с гувернанткой.
Голуби в небе.
Мизансцена была такой, что Алексеев ни секунды не сомневался: за девочкой следят трое. Один – он сам. Случайный прохожий, нюанс в мире подробностей, где нет ничего случайного. Вторая – гувернантка. Следит вполглаза, по обязанности.
Кто же третий?!
Голуби в небе. Девочка с гувернанткой. Клумба. Ворота. Аллея. По улице прогремела конка. Заржали лошади. Мизансцена изменилась, сделалась двусмысленной. За кем же всё-таки наблюдает этот третий лишний?
За девочкой?
Или за ним, Алексеевым?!
5
«Злоба его обратится на его голову...»
Это бес!
Бес жиганов подослал, больше некому. Страшится, чёртово отродье! Серебро – не свинец, от него бесу не уйти – вот и прикрылся шпаной.
Ничего, достану!
Клёст уже не бежал – брёл куда глаза глядят. Тащился калекой меж дощатых заборов и плетней, мазанок, бревенчатых домов, редких каменных построек. Ботинки вязли в грязи, ноги заплетались, отказывались держать. Когда силы кончились, он остановился, грузно привалился спиной, чтобы не упасть, к шершавому стволу липы, голой и понурой; перевёл дух. Приглушённые расстоянием, сюда долетали свистки городовых, крики.
Далеко. Опасности нет.
Непослушными пальцами он расстегнул пальто, а затем и пиджак. Правый бок был весь в крови. В нём поселилась тупая, дёргающая боль. Зацепили, сукины дети. Расстегнув и рубашку, Миша, морщась и бранясь сквозь зубы, ощупал рану. Пуля скользнула ниже рёбер, оставив память – жутковатую борозду. Слава богу, не застряла, и нутро, похоже, цело. Вот крови натекло порядочно, что правда, то правда. Сложив носовой платок, Клёст затолкал его под рубашку, прижал к ране. Старательно застегнулся: вроде, терпимо. И кровь больше не хлещет – так, сочится понемногу. Если повезёт, не обратят внимания – пальто и без того в грязи. Пятном больше, пятном меньше...
Что, бес? Думаешь, твоя взяла?!
Револьвер он где-то обронил, но это не имело значения. Главное, нож при нём. Клёст обтер лезвие о подкладку, подставил нож солнышку, выглянувшему из-за туч. Полюбовался искристыми бликами. Огляделся, уже привычно ориентируясь по куполам церквей.
Церковь! Надо в церковь. Потому и оплошал, что в храм Божий не зашёл! А ведь хотел же, собирался... Сейчас Миша был свято уверен в том, что хотел и собирался. Зачем? Ножик освятить, что тут неясного?!
Тогда уж бесу точно кирдык.
Ближе к собору бесовские нагромождения, испоганившие город, сошли на нет. По ступеням Миша поднимался уже беспрепятственно, истово крестясь на ходу. Обедня закончилась, но сегодня, в день воскресный, в церкви всё равно было не протолкнуться. Да и можно ли толкаться? Храм Божий – не базар, тут следует вести себя чинно. Люди двигались медленно, как рыбы в стоячем пруду, старались не топать, не шаркать; ставили свечи, шёпотом читали молитвы, крестились, кланялись, переходили от одной иконы к другой...
Боль в боку пела дуэтом с болью в истерзанной щеке. Славный вышел дуэт: нутряной бас диакона и пронзительный контртенор певчих на клиросе.
– Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный...
Миша влился в благоговейное кружение, потерялся в нём, забыл, кто он, где он, зачем он. С трудом опомнился, лишь оказавшись перед чашей со святой водой, водруженной на мраморный постаментец. Глянул по сторонам – не интересуется ли кто? Шагнул к чаше, взмолился о помощи, опустил в чашу нож. Не вытирая, сунул в карман. Развернулся идти прочь, случайно поднял взгляд....
Икона. Богоматерь с младенцем. Пресвятая Дева Мария – точь-в-точь Оленька! Те же черты, поворот головы, грустная улыбка, сострадание в глазах.
Застыл Миша соляным столбом.
Время? Что такое время? Кто его придумал?!
Затекла левая нога. Он пошевелился, машинально перенеся вес на правую, чтоб не упасть. Моргнул с удивлением. Ему спешить надо, дело закончить, а он... Вышел из собора: смеркается. Сколько ж он перед Оленькой простоял? Куда теперь идти, где искать проклятущего беса?
Ноги понесли сами – вверх по улице, в сторону Ветеринарного института. Почему туда? Оставьте, не ваше дело. Раз ноги несут, значит, так надо. И глаза туда же глядят, только видно плохо.
Ну да, сумерки.
Билетные будки у входа в Университетский сад пустовали. Одна из калиток была открыта, сторож отсутствовал.
– Славлю Господа по правде Его, – возгласил Клёст седьмой псалом. – И пою имени Господа Всевышнего!
Знак, понял он. Приглашение.
Голый мартовский сад ничуть не походил на Эдемский. Но Миша понимал: это оттого, что бес ещё жив, топчет землю, пакостит, искушает. Сгинет пакостник – снизойдёт благодать, станет сад райскими кущами. И лишь от него, Михаила Суходольского, зависит: бывать тому или не бывать. А до тех пор каштаны и клёны будут тянуть измождённые руки к мглистому небу, и воцарится серая пустыня, где вместо шёлка травы – грязь да слякоть, и аспидные решётки оградят сад сей от жаждущих...
– Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь...
Замер, прислушался.
Шаги? Точно, шаги. Теперь главное – не оплошать.
Ближе, ближе.
Клёст осторожно выглянул из-за шершавого узловатого ствола. Когда и спрятаться успел? Прищурился, всматриваясь до рези, до песка под веками в сумеречные кляксы. Из теней соткалась долговязая фигура. Лица̀ не разобрать, но Миша сердцем чуял: он, адов выкормыш!
– Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил...
Освящённый нож лёг в ладонь, как родной.
Семь шагов, загадал Клёст. Семь – счастливое число.
– ...злоба его обратится на его голову...
Пять. Шесть. Семь.
– ...и злодейство его упадет на его темя!
Ангелом возмездия вылетел Клёст из-за дерева. Схватил, скрутил, прижал нож к горлу. Больше никаких разговоров! Одно движение – и потечёт на землю чёрная кровь, воняющая серой. На землю, в землю, под землю, в саму преисподнюю, где тебе и место!
– Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи!..
Кричит. Кто кричит?
Бес?
Женщина кричит. Почему – женщина? Откуда?
Зонтик летит. Кружевной, летний. Бахрома по краю.
Надо ловить.
Как ловить, если нож? Если бес?!
Бес.
Нож.
Зонт.
Бросил Миша нож. Зонт важнее.
Едва пальцы вцепились в резную рукоять зонтика – воссияло солнце в летней бирюзе небес. Оделись каштаны в зелёную кипень, украсились душистыми свечками соцветий. Восстал из грязи травяной газон, накрыл чепуху ярким одеялом. Летний сад, Петербург. Знакомая аллея, знакомое дерево, о которое Миша ободрал руку, ловя Оленькин зонтик. Скамейка...
В ноздри хлынули ароматы: цвет липы, каштанов, фиалок...
Фиалки?!
– Оленька?!
Она стояла перед ним, возвращая счастье первой встречи. Прекрасная, скорбная, как на иконе. Откуда страх в твоих глазах, радость моя?
– Оленька, я...
Где бес? Куда подевался?
Никита!
Вместо беса в руках у Миши дрожал маленький Никита, карапуз в смешной матроске. Обмер, даже плакать не в силах. Сдавил Никиту злой дядька, вот-вот задушит!
И в глазах у Оленьки уже не страх – ужас кромешный.
– Да ты что? Я никогда! Ни за что!
Уронил зонтик:
– Даже пальцем!
Отпустил Никиту: беги к маме! Бухнулся на колени, ткнулся лбом в землю:
– Прости меня, Оленька! Прости!
Грязь вокруг. Грязь, грязь. Сумерки, чёрные скелеты деревьев. Оленька? Другая женщина, незнакомая. Никита? Девочка лет двенадцати...
Снова морок! Наваждение!
– Да я никогда! И в страшном сне...
Пронзительные трели полицейских свистков – они ворвались в уши ангельским пением. Перед ангелами следует предстать нагим, как при рождении. Миша сорвал с себя грязное, простреленное пальто, отшвырнул прочь. Каяться! Вымаливать прощение! И тогда, если Господь смилостивится...
Если смилостивится Оленька.
– Это я не вас! Не вас! Я не хотел, клянусь!
У ангелов была мёртвая хватка.
6
«Я в жизни столько не смеялся!»
– Полиция! Полиция!
Откуда и взялись? Хлынули, набежали.
Контр-погоны с лычками. Двойные оранжевые шнуры. Серые шинели, чёрные папахи. На каждой кокарда – городской герб да служебный номер. Среди городовых, устроивших бессмысленную суету, можно было заметить мужчину средних лет в цивильной одежде. Он отдавал распоряжения, хотя начальственного вмешательства вовсе и не требовалось. Распоряжения отличались краткостью, резкостью выражений и полной бесполезностью для дела.
Набежали и зеваки:
– Что?
– Как?!
– В июле девушку задушили. В точности на этом месте.
– Ага, ситцевым платком.
– Так и не нашли...
– Девушку?
– Убийцу! Искали, а он как в воду канул...
Вязать злодея не пришлось. Он стоял на коленях, схватившись руками за голову, и опасно раскачивался деревом, подрубленным под корень. Сорвал пальто – драное на боку, грязное до умопомрачения. Скомкал, швырнул в пространство, словно отгонял чертей, готовых утащить его в ад. Содрал и повязку с лица, открыв взорам любопытных щёку, изодранную в клочья, всю в багровых ссадинах. Казалось, вот-вот несчастный псих упадёт лицом вперёд, дёрнется в агонии, расплёскивая грязь, и замрёт, остынет, покинет земную юдоль.
– Это я не вас, – бормотал он, обращаясь то к гувернантке, то к насмерть перепуганной девочке. – Не вас я хотел!.. разве бы я осмелился? Разве поднял бы руку?! Нет, это я не вас...
– Это инженер! – разорялся какой-то эксперт. – Межевой инженер!
– Инженер?
– Помните, летом? Приставал к женщинам и детям. Был одет в униформу...
– Помню!
– Газеты писали: «...своего рода Джек-Потрошитель»...
– Убивал? Повесили?!
– Нет, в убийствах не замечен.
– Больной он был. Выслали его...
– ...чтобы людей не пугал...
– Вернулся, мерзавец!
– ...не вас хотел! Бес попутал...
– Бес его попутал!
– Слышали? Ещё и оправдывается, каналья!
Инженер, не инженер, Джек-Потрошитель или случайный психопат – злодея вздёрнули на ноги, удержали, когда он попытался снова упасть на колени. Мужчина в цивильном задавал ему вопросы, злодей не слышал, плакал, бил себя кулаком в грудь. Что-то объяснял про какую-то Оленьку, твердил, что он никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Голос больного дрожал, срывался, понять, что он говорит, не сумел бы и самый дотошный слушатель.
Мужчина морщился, отмахивался, наконец велел замолчать.
Подошёл к Алексееву:
– Господин Алексеев?
– Да. Мы знакомы?
– Односторонне. Я служил в Рязани, вы играли в полковом клубе. Пьеса «Счастливец», уж не помню, чья...
– Немировича.
– Вот-вот! Превосходная комедия, я в жизни столько не смеялся!
Он сделал широкий жест. При желании жест можно было истолковать как приглашение посмеяться и над той комедией, что разыгрывалась сейчас в Университетском саду. Такие жесты любил Сумбатов-Южин, выходец из грузинского княжеского рода, хорошо известный Алексееву – и на сцене, и в жизни, поскольку с успехом совмещал актёрскую карьеру с многими должностями директора и председателя.
– Позвольте представиться: полицейский надзиратель Рыжков, Фёдор Лукич. Это я вам записку оставил...
– Алексеев, Константин Сергеевич. Ну да вы знаете...
– Знаю, и рад этому. Кстати, словесное описание! Скажите, пожалуйста, – Рыжков указал на кающегося злодея, – не сей ли мошенник стрелял в вас? Вы понимаете, о чём я? Если он, мы одним выстрелом убьём двух зайцев...
– Нет, – твёрдо ответил Алексеев. – Не он.
– Вы уверены?
– Да.
– И всё же осмелюсь настаивать...
Рыжков начал подмигивать Алексееву. Делал он это со значением, но крайне неумело. Казалось, надзирателя бьёт нервный тик.
– Присмотритесь, пожалуйста! Если наш милый друг психически болен – всё, можно умывать руки. Закон не позволит нам посадить его в тюрьму. Дело кончится чёрт знает чем, только время зря потеряем. Но если он не далее, как вчера, покушался на вашу жизнь... Это иной коленкор, знаете ли!
– Нет, – повторил Алексеев. – Это совсем другой человек, ничего общего.
– Жаль. Искренне жаль. А если...
– Я могу идти?
– Разумеется. И загляните в управление, опишите стрелка.
– Я его не запомнил. Во дворе было темно.
* * *
Вернувшись на квартиру, Алексеев сбросил в прихожей пальто – прямо на пол, не трудясь поднимать. Расспросы Неонилы Прокофьевны оставили его равнодушным. Сказавшись усталым, он посетовал на головную боль, прошел в кабинет и как был, не раздеваясь, рухнул на кушетку.
Завтра, поклялся он. Завтра уезжаю из города.
Хватит с меня.
Хватит, молча согласилась старуха, сидевшая в кресле за столом. Говоришь, игрывал Отелло? Хватит, благодетель, и спасибо тебе. Мавр сделал своё дело, мавр может удалиться.
_________________________________________________
[1]Голец – малолетний преступник, воришка (жарг.).
[2]Охнарик – окурок (жарг.).
[3]Револьвер (жарг.).
ЭПИЛОГ
«Я буду в час в Славянском базаре – не увидимся ли?»
Записка, сделанная карандашом на визитной карточке
В. Немировича-Данченко
Явление первое
ТРИ КОНЯ
– Спи, – велела Заикина. – Спи-отдыхай, дело сделано.
Отвернувшись от спящего Алексеева, она долго смотрела на себя – ту, которая напротив, на портрете. Казалось, женщины о чём-то беседуют, а о чём, то другим знать не следует. Когда разговор закончился, Елизавета Петровна снова взглянула на Алексеева.
Улыбнулась.
Алексеев спал, как младенец. Только что пальца в рот не совал.
Вокруг них, покойной старухи и живого мужчины в расцвете лет, менялся кабинет. Разбежались слоники, приоткрылись шторы, саквояж удрал под стол. Нюансы выстраивались в комбинацию для гадания. Будущее сквозило в мелочах.
Бог? Дьявол?!
– Три коня рвут тебя на части, три любви; с тремя тебе, голубчик, жить, век вековать. Сбежать захочешь, убежишь и вернёшься. На канитель твою кладу тебе тридцать пять тучных лет, а там прощайся с заводиками. На театр твой кладу тебе шестьдесят лет, начиная от домашнего кружка. На жену твою кладу вам полвека жизни рука об руку. В горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас!
Заикина откинулась на спинку кресла:
– Анюта, мышь серая, тебе двадцать восьмой смертный год напророчила? Я же ещё десяток накину, до тридцать восьмого страшного. Накину, отведу! Нет, не я – сам ты себе их отведёшь. Возьмёшь под уздцы и в стойло, к кормушке с чистым пшеничным зерном! Переживёшь и отцо̀в срок, и дѐдов; до прадеда, жаль, полтора годка не дотянешь. Ну да то не беда, душа моя, то уже счастье, с твоим-то сердцем! Уйдёшь во сне, по-тихому, как праведник. Врачи удивятся, не поверят: как и жил? с таким-то букетом?! Эх, врачи, пиявочники, клистирные трубки... Мы, нюансеры, долго живём, дольше назначенного – если, конечно, доле своей не противимся. Минует тебя и сума, и тюрьма, и барак в тайге, и пуля у кирпичной стены...
Старуха улыбнулась:
– Супруга твоя любезная в обнимку со всеми её болезнями, истинными и мнимыми... Да, вижу. До семидесяти семи дотянет, ты уж не сомневайся. Сын-туберкулёзник восемьдесят годков небо коптить будет. Дочка брата переплюнет – восемьдесят шесть, как один день. Ты уж постарайся, накрой плащом. Сложи пустячок к пустячку: взгляд к жесту, свет к музыке. Жалко будет, если прахом всё пойдёт! Семья ведь, не понюшка табаку! Ладно, хватит о тебе...
Она щёлкнула пальцами, будто кастаньетами.
– Эй, убивец! Да не прячься, всё равно вижу...
У стены встала тень в бежевом пальто-коверкоте и щегольском котелке. Карман пальто слегка оттопыривался: там лежал револьвер. Нет, не шестизарядный «француз» – семизарядный наган, из которого был убит несчастный Осенька.
– Я Миша Клёст, – произнесла тень.
И запнулась, словно забыла, что хотела сказать.
Явление второе
СВЕЧА
«Южный край», стр. 3:
«...къ глубокому нашему сожалѣнію, сего манiака, покусившегося на жизнь ребенка, не удалось законнымъ способомъ помѣстить въ тюрьму. Психически больныхъ людей не судятъ за преступленія, а значитъ, въ качествѣ наказанія онъ былъ всего лишь высланъ за предѣлы губерніи.
Съ глазъ долой – изъ сердца вонъ?
Обращаемъ усиленное вниманіе нашей полиціи на этого больного человѣка, котораго оставлять на свободѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя. Нѣтъ такого закона, чтобы такіе опасные для общественнаго спокойствія субъекты свободно ходили по улицамъ, заходили въ сады и публичные мѣста, пугая и оскорбляя чувство пристойности и нравственность. Такого больного надо держать въ лѣчебномъ заведеніи, а не давать ему возможнымъ творить свои гнусности, хотя бы и...»
* * *
В церкви темно. В церкви тихо.
– О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей...
Пусто в церкви. Время такое.
– Испроси мне, рабу Божию Михаилу, у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное...
Миша бьёт поклоны.
Пятью минутами раньше он возжёг свечу за упокой раба Божьего Иосифа. Миша не помнит, кто таков сей Иосиф, молод или стар, не помнит, был ли он знаком с усопшим – или знает лишь понаслышке. Но едва февраль сменится мартом, который здесь, в Петербурге – натуральная зима, как к Мише начинают приходить сны. Они смутны, невнятны. Двор, одинокий фонарь. Выстрелы, звон стекла. «С кем, кстати, имею честь?» Сарай с лопатами и мётлами. Костюмчик в талию, рубашка накрахмалена. «Лаврик. Ося...» Ствол нагана скрипит о зубы. «Я Миша Клёст, бью до слёз...» Клёст? Кто это – Клёст?!
Миша не помнит. Но всегда просыпается с криком, когда слышит: «Я Миша Клёст...» Чш-ш-ш, шепчет Оленька. Гладит его волосы, слипшиеся от пота. Чш-ш-ш, всё в порядке, всё хорошо. Не кричи, Никиту разбудишь. Да, кивает Миша. Извини, кошмары мучают. Я знаю, вздыхает Оленька. Весна идёт...
Раз весна, значит, время ставить поминальную свечу. Затеплится огонёк, и прощайте, кошмары.
Он делает это раз в год. Ради поминовения он приезжает сюда, в Ораниенбаум, в храм Спиридона Тримифунтского. Ездить далеченько, но Миша не жалуется. Он нуждается в святом Спиридоне, а почему в нём, а не в каком-нибудь другом вышнем заступнике, чья церковь стоит поближе, поудобнее – этого Михаил Суходольский, инженер на электротехническом заводе, принадлежащем акционерному обществу «Siemens und Halske», тоже не знает, не помнит, не считает нужным выяснять.
У него вообще беда с памятью.
– ...избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов...
Резьба на потолке. Стены выкрашены в бледно-розовый цвет. Двухъярусный иконостас, белый с вызолоченной резьбой. Икона святителя Спиридона. Рядом – Николай Чудотворец.
Когда собирали частные пожертвования на храм, у Миши отшибло память так, как никогда прежде. Куда ходил, что делал? Чего искал, где?! Он пришел в себя лишь тогда, когда выходил из храма, а горбатый попик всё бежал за ним, смешно переваливаясь с ноги на ногу, и благодарил, благодарил...
За что? Миша не знал.
– Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение...
Всё, пора. Оленька заждалась.
Надо купить леденец Никите.
– ...безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя...
Явление третье
ДОМ
Скрипнула дверь.
Гуськом, прячась друг за друга, в кабинет скользнули тихие мышки: одна постарше, другая помоложе. Едва ступив за порог, приживалки забились в угол, где и замерли, боясь дышать.
– Душевно извиняюсь, – бормотала мамаша.
– Винимся, – вторила дочь.
– Матушка, не прогневайся...
– В ножки падаем, благодетельница...
Заикина погрозила им пальцем:
– Винитесь, дурищи? За кого вы меня держите, а? Нешто я не знала, какого добра вы после моей смерти натворите? Всё знала, всё. Оттого и не сержусь на вас, скудоумных. Сами того не ведая, сделали всё, как следует. Ну и я в долгу не останусь, отплачу за добро добром. Обещала крышу над головой? Будет вам крыша...
Приживалки обмерли. Им уже виделась гробовая крыша на четырёх гвоздях.
– Не меня благодарите, Лёвку. Глаз у него острый...
* * *
Гуляли. Ели. Пили.
Новоселье!
Не в нагорном районе, который себе цены не сложит: слыхали, пятьсот рубликов за квадратный сажень! Под горой, где Подол, зато место здоровое, осушенное. Жаткинский проезд: восток – набережная, запад – Куликовская улица, север – Губернаторская, юг – Мещанская.
Всё рядом, только рукой потянись.
И проезд освещают не как-нибудь – электричеством!
Двухэтажный кирпичный домик, наша квартира – на первом этаже, окна с ситцевыми занавесками. Да, без удобств. Воду носим из водонапорной будки под Театральной горкой. Бросишь в прорезь полушку[1], тебе из крана и нальют ведро. Ничего, отнесём, не облезем. Зато вокруг будки – торговля, жизнь кипит. На углу пекарня, дальше аптека. И соседи – лучше не придумать. Слесари, портные, жестянщики, столяры, мещане, сапожники. Все к тебе с любовью: утром – «Здрасте, Неонила Прокофьевна!», вечером – «Покойной ночи, Анна Иванновна!»
Осенью, на Покрова̀, Аннушку замуж отдаем. Жених – выигрышный билет. Вдовый, с дочкой, зато при капитале. Человек приличный, добрый, первую жену не бил, вторую же и подавно не тронет. Он доволен, а уж Аннушка-то рада-радёхонька!
Пьём сегодня, завтра похмеляемся!
– Вот документы, Неонила Прокофьевна. Спрячьте как следует, смотрите, чтобы не пропали. Квартирка ваша оплачена на восемь лет вперёд, дальше сами, сами!
– Лев Борисович! Отец родной!
– Ну, положим, в отцы я вам не гожусь. Молоденек, да и носом не вышел. Вот еще наличные, три тысячи шестьсот рублей. Ваша доля, всё по-честному...
– Лев Борисыч! По-честному? Да это же не честь, это милость божия! Ангел вы хранитель, право слово, ангел!
– Ангел – уже ближе. Ангелом я не против. Деньги тоже спрячьте. Неровён час... Захотите в банк положить, найдите меня. Я помогу, подскажу...
– Лёвушка! Голубчик! А ещё говорят, что еврей чёрта жаднее...
– Верно говорят, Неонила Прокофьевна. И вы так говорите. Соседям понравится, уверяю. Не пейте больше, вам хватит...
Кантор отошёл к забору. Новоселье справляли во дворе, накрыв длинный дощатый стол. Дым стоял коромыслом, все уже целовались, обнимались, желали всем всего, не разбирая, кого чествуют и по какому поводу собрались. Кантор закурил, вспоминая Университетский сад, пальто, сброшенное в грязь убийцей заикинского правнука – и себя самого, невидимого из-за ствола матёрой липы. Когда всё кончилось, он поднял пальто, шикнув на мальчишек-оборванцев, подбиравшихся к лакомой добыче, и ушёл вверх по Сумской.
В кармане пальто нашлась квитанция Земельного банка, выписанная на предъявителя – и жетон от банковского сейфа. Деньги разделили поровну: по десять тысяч каждому нюансеру. Остаток пошёл Неониле Прокофьевне с дочкой.
– Ein reines Gewissen, – вслух произнёс Кантор, – ein gutes Ruhekissen[2]!
И вышел на улицу.
Явление четвертое
ВЫХОД НА ПОКЛОН
– Заходи, чего мнёшься?
Вошёл правнук, встал у стены, рядом с убийцей своим.
– Эх, Осенька! А тебе мне и сказать нечего. Ну постой, порадуй бабку, хуже не будет. Оська, Осенька, Иосиф Кондратьевич... Был у меня в сороковом году любовник Иосиф Кондратьевич – титулярный советник, столоначальник Ахтырского земского суда. Пылкий мужчина, лицом хорош, приятно вспомнить. На тебя похожий, только с усами. Всё кололись эти усы проклятущие! Эх, Осенька, мальчик ты мой...
А в кабинет уже лезли, валили, пёрли гурьбой живые и мёртвые – воры, портье, нотариусы, могильщики, предводители дворянства с супругами, кассиры, извозчики... Каждый лез вперёд, выпячивался, тыкал пальцем в грудь. Каждый хотел получить свою толику судьбы, горсть пустяков, мелочей, нюансов, в которых то ли бог, то ли дьявол – не разобрать, но хочется так, что мо̀чи нет!
– Куда? – всполошилась старуха. – Куда, окаянные?! Кто вас звал, кто вам рад, а?!
Нет, лезли, набивались сельдями в бочку. Вот уже и места пустого нет. Раздвигая толпу, как купальщица – воду, к Заикиной вышла молодая женщина. Встала напротив, и старуха отшатнулась, будто вторую свою смерть увидела.
– Прощаю, – сказала Евлалия Кадмина, беря старуху за руку. – И ты меня прости, если что.
– Ты! ты...
Голос утонул в слезах.
– По̀лно! – велела безумная Евлалия. – Это лишнее. Смотри, дню конец, полночь на пороге. Чистый Понедельник под окном гуляет. Идём, Елизавета Петровна, время на пост вставать.
– Да разве на том свете постятся?
Кадмина улыбнулась. Эта улыбка когда-то бросала к её ногам офицеров, а студентов понуждала нести кумира на руках от театра до гостиницы.
– А ты думала, на том свете весь век скоромное жуют? До Страшного суда? Здесь, как везде: одни – так, другие – сяк. И солнышко бывает, и дождь, и снегом балуют. Идём, сейчас дадут занавес.
– На поклон бы? – заикнулась старуха. – На аплодисменты, а?
– Идём, говорю. Оттуда поклонишься, если вызовут.
Когда края занавеса сомкнулись, отсекая день от дня, а правду от вымысла, Алексеев крепко спал. По лицу его бродила смутная улыбка, похожая на улыбку безумной Евлалии. Лицо оставалось спокойным, губы шевелились, повторяя одно и то же, раз за разом, без конца. Но что шептал Алексеев, с кем он спорил или соглашался, чему верил или не верил, разобрать было решительно невозможно.
Только звучала из далей далёких, из тех концертных залов, куда пускают без билета, колыбельная Селики-Африканки, любимая ария безумной Евлалии:
– Спи, Солнца сын, спи, отдохни,
С поля брани возвращаясь;
Лотоса цвет блещет в тени,
К тебе в тиши склоняясь;
Засни, мой друг, покойным сном,
Уж лес и горы замолчали...
_____________________________________________
[1]Четверть копейки.
[2]Чистая совесть – хорошая подушка для отдыха. Немецкая пословица.





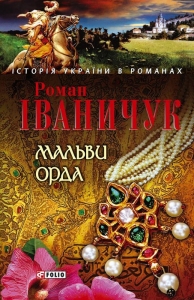
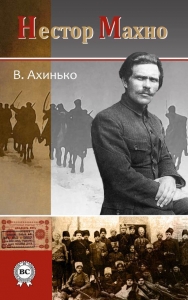
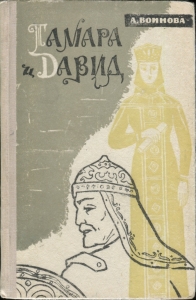


Комментарии к книге «Нюансеры», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев