Николай Павлович Задорнов Амур-Батюшка Книга 1
Глава первая
От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя ни помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный.
В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи, случалось, пускал их в избу.
— Ох, Кондрат, Кондрат, — дивились на него соседи, — как ты не боишься? Люди они неведомые, далеко ли до греха…
— Бог милостив, — отвечал всегда Кондрат, — хлеб-соль не попустит согрешить.
Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там угодья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль и небылицы, и хорошее и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но страна там богатая, земли много, а жить на ней некому.
Да и не одни бродяжки толковали о матушке Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще смолоду укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас; и лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди.
И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы. Крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях, на углесидных кучах[1] и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь извежега, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежговенье, перед великим постом, свадьбу сыграли.
Между тем за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до «манифеста», после того как в народе прошел слух, что открыли реку Амур, которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет и что туда скоро станут вызывать народ-на жительство.
— Сперва-то вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников, — говорил по этому поводу дед Кондрат.
Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор.
После «манифеста» в Сибирь повалило множество народу, туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдат и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкочевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребию, скакали курьеры.
Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдет туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей, кто сколько сможет обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности.
На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям.
Егор не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими мало-помалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постегать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло «ученье»: миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом единственно для того, чтобы и ему было неповадно, чтобы и его уравнять со всем драным и передранным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси.
Егор шел мимо мирской избы. Он был малый крепкий и крутой, но мужики по наущению стариков богатеев к нему все же подступили: им было не в диковину, что ребята и поздоровей его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекосилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и крикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор.
Кузнецовы, так же как и все жители сельца, были до «манифеста» государственными крестьянами. Помещика они и раньше не знали и жили посвободней крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку и при случае мог постоять за себя.
Если бы деревенским воротилам удалось его унизить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кой-какие поблажки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность.
Егор жил небогато. Да и не мог он разбогатеть на старом месте. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он не отличался. Жизнь его кругом стесняла, и его силе негде было разгуляться.
— Ты, Егор Кондратьич, с прохладцей живешь, — как-то раз оказал ему сельский учитель.
— Это жизнь какая! — отвечал Егор. — Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь-они неладны!
— Тебе надо в Сибирь выселяться!
— Пошто же это мне тут-то не жить? — насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.
— Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дадут дороги. Вся твоя сила тут прокиснет. А там жизнь вольнее.
Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь да живет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь.
Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора, Федюшке, предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было.
Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми: Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавить в будущем своих сыновей от солдатчины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддалась уговорам сына быстрей старика. Она хорошо понимала своего Егора и если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от, своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата.
Егор записался в переселенцы.
Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдумано и многое заранее подготовлено для дороги, а когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать.
Егор решил уйти туда, где, как говорили, богачей и начальства либо совсем нет, либо поменьше, чем на Каме. Он надеялся, что если на новых местах сойдутся люди небогатые, то и жизнь у них станет равной и справедливой.
Осенью Кузнецовы сняли урожай, намололи муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев, с тем чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами.
Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали-поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.
Глава вторая
В Перми из уральских переселенцев, съехавшихся туда из разных деревень, была составлена партия. Назначили партионного старосту, и вскоре крестьяне двинулись Сибирским трактом за Урал.
Великий путь от Камы в Забайкалье шли они около двух лет. Первоначально высшие чиновники, распоряжавшиеся переселенцами, рассчитывали, что они смогут передвигаться зимами и быстро достигнуть Читы, откуда должно было начаться их плавание по рекам. Но в сибирские морозы ехать с семьями по степям и тайге оказалось невозможным, и крестьяне останавливались в богатых деревнях, нанимались к сибирякам в работники.
Эх, Сибирь, Сибирь!.. Еще и теперь, как вспомнят старики свое переселение, есть им о чем порассказать… Велик путь сибирский — столбовая дорога. Пошагаешь по ней, покуда достигнешь синих гор байкальских, насмотришься людского горя, наготы и босоты, и привольной жизни на богатых заимках, и степных просторов, и диких темных лесов. Попотчует тебя кто чем может: кто — тумаком по шее, а пьяный встречный озорник из томских ямщиков — бичом, богатый чалдон — сибирскими пельменями, подадут тебе под окном пшеничный калач и лепешки с черемухой. Приласкают и посмеются над тобой, натерпишься ты холоду и голоду, поплачешь под березой над свежим могильным холмом, поваляешься на телеге в разных болезнях, припалит тебя сибирским морозцем, польет дождем, посушит ветром. Увидишь ты и каторгу, и волю, и горе, и радость, и простой народ, и господ в кандалах, этапных чиновников, скупых казначеев. А более всего наглядишься кривды, и много мимо тебя пройдет разных людей — и плохих и хороших.
Под Томском у кулаков-«гужеедов»[2] переселенцы покупали знаменитых сибирских коней. Хороши томские лошади: высоки, могучи, грудасты, идут шагом, а телега бежит. Старых, изъезженных, избитых коняг продавали лошадникам. На томских поехали живей. Осенью на Енисее, у перевозов, во время шуги скопилось много переселенцев. Начались болезни — народ мер повально. Приезжали доктора, чиновники, полиция. Переселенцев остановили на зимовку. Впоследствии енисейских старожилов за то, что они помогли переселенцам хоронить умерших, прозвали «гробовозами».
За Енисеем стала стеной великая тайга. Как вступили в нее переселенцы, так уж во всю жизнь не видали ей конца, сколько бы ни ходили. Велика эта тайга. Зайди-ка в нее, в самую чащу, сядь в сырые мхи да одумайся, где ты, и что за лес вокруг тебя, и что ты такое против всего этого. И такая тебя возьмет лихота, что и не рад станешь. Уж лучше ехать и не думать. Такова-то сибирская матушка тайга.
На исходе второй зимы, когда уже начались оттепели и морской лед трещал так же гулко, как гремит гром в июльскую грозу, переселенцы, перевалив по льду Байкал, вступили в забайкальские горы. Грозно, как облака, уходили они вдаль голубыми снежными «белками». Новая страна — великая, дикая, неведомая — стояла перед толпой оборванных, усталых крестьян.
Начались деревни староверческие, улусы некрещеных и деревни крещеных бурят, казачьи заимки и богатые крестьянские села, растянувшиеся в узкую улицу на долгие версты по тесным и хмурым горным долинам.
Снег стаял, зацвел бледно-розовый багульник, в тайге посвистывали бурундуки. Наступила забайкальская весна. Но переселенцам не радоваться хотелось, а плакать безудержно и безутешно. Больно вспоминались свои покинутые пашни и родная весна, совсем не похожая на здешнюю. Тут дикие камни, обросшие мхами и лишаями, каменистые крутогоры с высочайшими «ветродуйными» рогатыми кедрачами, холодный ветер и казавшиеся хитрыми темнолицые люди. А по долинам и по дорогам — пески и сосны. Повсюду стада скота и баранов. Кое-где — пашни.
Жизнь тут была какая-то чужая, не похожая на сибирскую даже. Русские люди лицами походили более на азиатцев. Суровые, скрытные и неразговорчивые, они жили в неприветливых домах. Их избы сложены были из толстейших бревен, тяжелые ставни запирались железными болтами. Обнесенные высокими бревенчатыми частоколами или городьбой из жердей, их заимки выглядели казенными укреплениями, а не крестьянскими домами.
По-российски гостеприимные и разговорчивые ссыльнопоселенцы, которых на родине мужики боялись бы, как бывших каторжников, тут были для переселенцев самыми желанными людьми. Они жили вперемежку с коренными сибиряками, и называли их гуранами — дикими козлами. Старожилы сами называли себя так в насмешку над своей дикой жизнью.
С русскими дружили и кумовались буряты. Этих скуластых, внешне как бы безразличных ко всему наездников, вихрем носившихся по горным долинам на своих низкорослых гнедых лошаденках, переселенцы встречали повсюду.
Крещеных бурят русские называли «братскими».
Отдельным племенем жили красивые, рослые и светловолосые староверы. Здесь их называли «семейскими».
У людей этих: у казаков, братских, семейских и ссыльнопоселенцев — были разные обычаи и свое особенное хозяйство, отличное от соседей по устройству и по способам его ведения, хотя и много общего было у всех. Глядя на них, и переселенцы обогащались опытом сибирской жизни. Многое присмотрели они по дороге такого, что впоследствии должно было, как они полагали, пригодиться на новоселье.
В конце мая партия прибыла в Читу. Там уже скопилось к тому времени большое количество переселенцев, направлявшихся на Амур и на Уссури. Это были крестьяне Орловской, Тамбовской, Пермской, Вятской и Воронежской губерний. Часть их шла на переселение по доброй воле, часть — по жребию. Были тут и сектанты, и раскольники, и разный другой люд, почему-то не ужившийся на старых местах и стремившийся забраться подальше в тайгу в поисках плодородных земель и вольной жизни.
Под Читой, на Хитром острове раскинулось огромное плотбище. С верховьев Читинки и Ингоды каторжные читинской колонии сплавляли лес, а переселенцы, объединившись по две-три семьи, строили себе паромы.
Егор сговорился ладить плот с камским земляком Федором Барабановым, с которым шел всю долгую дорогу. Мельком знал он Федора на старых местах. Барабановы жили в одной из соседних деревень на Каме. Федор был в семье пятым сыном и ушел в Сибирь потому, что не ладил с братьями. Он знал, что от отца после раздела много не получит, а на малом не мирился. Был он мужик хитроватый, «рисковый» и по-своему смелый. Он не побоялся пойти на Амур, втайне намеревался разбогатеть там во что бы то ни стало, но всю дорогу охал, жаловался на свою судьбу и всего опасался: чиновников, докторов, бродяг, конокрадов, разбойников, холодов, болезней, голода, плохих дорог, и, несмотря на свои страхи, всегда лез на рожон первым. Был он порядочный «торгован», как называли его переселенцы, и всю дорогу барышничал, не без выгоды сменяв шесть штук лошадей на пути от Томска до Читы.
Егор и Федор как бы дополняли друг друга. Егор был крепче и тверже Федора, а тот был похитрей и на язык ловчее и мог из всякого затруднения придумать выход. Так, пособляя друг другу, мужики благополучно осилили многие помехи и печали.
Жена Барабанова, низкорослая силачка Агафья, выносливая и терпеливая, была во всех делах советчицей и помощницей своего мужа, но нередко и помыкала им, если он плоховал. Агафья бралась за любую мужскую работу и делала ее не хуже мужиков. На Ингоде на плотбище, ворочая бревна, она немного отставала от Егора, а Федора, случалось, и опережала.
Плоты, или паромы, строили по-сибирски, укладывая широкие плахи на длинные «арты» — долбленые толстые кедровые стволы. Переселенцам присылали на помощь солдат и каторжников, чтобы долбить «арты» и плотить.
В начале июня суда были готовы и нагружены. Переселенцы двинулись вниз со вторым сплавом. Первый ушел еще в мае следом за льдами.
Поплыли скалистые берега сначала Ингоды, потом Шилки, мрачные теснины, хвойные леса. До Усть-Стрелки миновали семь маленьких почтовых станций — «семь смертных грехов».
«Экая тоска, экая скучища на этой Шилке зимой!» — подумал Егор, услыхав такое прозвище здешних станций.
На вторую неделю пути выплыли на Амур. За Усть-Стрелкой солдаты-сплавщики, направлявшиеся к Хабаровску, указали китайскую землю. Разницы не было: и тут и там все было одинаково, она ничем не отличалась от своей.
По реке шло движение, как на большой дороге. Сплавлялись вниз купеческие баркасы, баржи с солдатами, с казенными грузами и со скотом; на плотах плыли казаки из Забайкалья и везли целиком свои старые бревенчатые избы; попадались китайские парусные сампунки, полные товаров.
Ближе к Благовещенску стали проплывать пароходы. На возвышенностях — релках — виднелись распаханные и засеянные казаками земли. На правом вперемежку с «таежками», как назывались тут перелески, попадались китайские деревни.
Когда приставали к берегу, крестьяне-китайцы подходили к плотам, кланялись вежливо, приносили овощи, бобы, лепешки, показывали знаками, что русские плывут далеко и что путникам надо помогать, что у них маленькие ребятишки хотят кушать.
Немало было разговоров про китайцев. Егор ходил в деревню смотреть, как они живут.
— Такие же люди, — оказал он, воротясь.
Но в душе немало удивился тому, что увидел: уж очень аккуратны были китайские пашни, хоть и малы; и все росло — овощи, хлеб. Кругом тайга и луга. Деревня обведена стеной из самана.
На устье Зеи, в Благовещенске, переселенцы получили «порционы»: сухари, соль, побывали на многолюдном базаре и в солдатской церквушке подле строящегося собора.
Перед крестьянами открывалась еще одна новая страна. Тайга, чем ниже спускались по реке, становилась веселей, кудрявились орешники, радовали глаз дубняки, липовые рощи; на лугах росли сочные буйные травы, а на зеленых косогорах, и на русской и на китайской сторонах реки, цвели красные и желтые саранки и пушистые белые марьины коренья. Маньчжуры подплывали к каравану на лодках, торговали овощами и дичью, несли какую-то тарабарщину, хватали русские монеты, но кредиток не брали.
— Эх, взяли меня, как с гнезда, и унесли!.. Чего только я тут не нагляжусь! — невесело и растерянно говорил дед Кондрат, проплывая расположенный неподалеку от Благовещенска маньчжурский городок с бойким базаром на берегу, с мачтовыми лодками у пристани, с золочеными крышами кумирен и с глинобитной крепостью.
Вскоре китайские деревни исчезли. На обеих сторонах реки стояла сплошная грозная тайга, и с каждым днем все выше вздымались скалы. Кое-где в распадках приютились казачьи посты — несколько свежерубленых избенок — да огороды. Амур, зажатый в каменной теснине, шел местами как между стен. Река зашумела, повлекла плоты быстрей.
Глава третья
В Благовещенске вместо солдат-сплавщиков на паромы заступили лоцманы-казаки из недавно переселенных на Амур забайкальцев. С этими плыть стало веселей. Они все тут знали и обо всем охотно рассказывали.
— Мои деды на этом Амуре жили, — рассказывал низкорослый, кривоногий казак Маркел. — Я-то родился на Шилке, в станице Усть-Стрелка, но род-то от старых жителей. Ведь в прежнее время тут русских много жило. Этой реке и название — Амур-батюшка. Волга — Руси матушка, а Амур-то — батюшка! Были тут и города, заимки. Пашни пахали. А потом с маньчжуром сражались и русские ушли — земля заглохла, стала Азия и Азия. А нынче вот опять топоры застучали. Лес валят, корчуют. Красота!..
— Почему же деды-то уходили с Амура? — спросил Егор.
Маркел не сразу ответил. У него было что рассказать российским переселенцам, и поэтому он не торопился. Казак оглядел мужиков и начал тонким голоском:
— Это было давно. Моего деда дед ли, прадед ли тут жил. Тут было всего: и хлеба росли и люди жили. Китаец тогда за стеной жил. У них коренное государство, ну, вроде Расея ихняя, стеной отгорожена, и начальство строго следило, чтобы за ворота никто не выселялся. А китайцы, конечно, не слушают. Это я знаю, потому сам сидел в Китае в плену и стену видел. Здоровая такая стена, вот с эту кручу, — кивнул Маркел на каменный обрыв, быстро проплывающий над плотами. — Проложена прямо по сопочкам, по степи, где придется. Ну вот, — Маркел кивнул на правую сторону. — В те поры — это давно было — Миколай Миколаич Муравьев говорил: двести лет тому назад маньчжурец пошел на Русь. Маньчжурец в Китае хозяин. Пошли воевать маньчжурские полки. Про китайца в то время слышно не было. Маньчжур до последнего срока был тут грабитель. А китаец вышел на Амур позже. Это народ хороший: труженик и старатель. Сам богдыхан войско привел. Аж до Амура достиг! Выше Благовещенска был большой город Албазин. Отец-то все нам показывал дедушкину пашню — водил на Амур, когда мы в Забайкалье жили. А уж какая пашня! На ней в два обхвата березы выросли. Когда я с отцом ходил, он показывал те места, где был Албазин. А потом отец помер, а у меня знакомых стало много на Амуре из орочен. Я сам часто сюда ездил, ружья возил и охотился, так уж хорошо это место запомнил, где Албазин стоял. А теперь и на тех пашнях тайга, а где так гарь или который лес ветром повалило. А когда-то стоял город, хлеб рос, был скот разведен. Люди жили мирно. Маньчжур и давай воевать. Обложил Албазин. Сперва не мог взять. Но нам помощи нет настоящей — от Москвы-то, говорят, мол, как ее подашь, далеко, мол, через хребты дорога. Стали сдавать крепость, велели народу выйти в Забайкалье, замириться. Обида, конечно… Говорят, шибко плакали старики. Албазинокую-то божью матерь слыхали? — вдруг с живостью спросил Маркел. — Чудотворную-то икону?
— Казанскую, что ли? — переспросил Федор.
— Какой казанскую! — с пренебрежением ответил казак. — В Албазине была чудотворная албазинская. У нас известно. Икону старики на руках вынесли.
Маркешка рассказывал, какая разница между китайцами и маньчжурами и как их различать.
— Как же Амур-то обратно взяли? — спросил Федор.
— Мы как сюда пришли с Муравьевым, и из ружья ни разу не выстрелили. С китайцами все мирно обошлось. Геннадий-то Иванович Невельской на корабле зашел с моря и устье у реки занял. А Муравьев был губернатор в Иркутске, собой рыжеватенький такой, верткий, как хорек, но с солдатами обходительный. Я уж потом сколько раз с ним встречался. Всегда за ручку здоровался. Это уж обязательно! В пятьдесят четвертом году он в первый раз спустился с нами с Забайкалья на судах и проплыл скрозь весь Амур. Мы имя руководствовали, форвахтер показывали. Кто не потрафлял ему — таку вздрючку давал, бывало, горячих всыплют. Проплыли мы, и с тех пор Расея сюда двинулась. И теперь народ сюда льется, как вода. Китайцы не хотели сначала Муравьева пускать, а потом рассудили, что, мол, соседи, жить, говорят, надо мирно, и не стали препятствовать. Старый договор порвали, написали новый. Миколай Миколаич Муравьев подписал, китайцы кистями расписались, выпили хорошенько, и с тех пор живем дружно. И китайцы довольны, а то они боялись, что англичане в Амур зайдут. Так нам Муравьев Миколай Миколаич сказывал; мы ведь и потом у него были лоцманами. Как раз в тот год, как он договор подписывал в Айгуне, я тоже был на сплаве, лоцманил. Беда, он говорил, эти англичане сильно терзают китайцев. Он говорил, будто для китайцев старался.
— Ну ладно, а как же тогда ты в плен попал к китайцам, если с китайцами дружно жили?
— Ну, это дело мое! — недовольно ответил Маркешка и, немного помолчав, добавил: — Это давно было.
Другой сплавщик, пожилой, безбородый и желтолицый Иннокентий, или, как его все звали, Кешка, засмеялся.
— Маркел ходил охотиться на Амур. Его поймали. Год держали в яме, а потом через весь Китай и всю Монголию вывезли в клетке на верблюде и в Кяхте выдали.
Маркел угрюмо молчал.
— Он зимой ходил на дедушкину землю охотиться на белок и соболей да напоролся на льду на китайского генерала, на начальника Айгуна.
Такое объяснение понятно мужикам; русский барин-генерал или китайский могли при случае поступить, конечно, как им вздумается: нашел, видно, в чем-то нарушение.
— Маркешка оружейник хороший. Ружья сам умеет делать, — продолжал Иннокентий. — Прежде на Амуре русские ружья знали. Он ездил, менял…
— Ведь ружья делать занятие доходное? — удивился Федор, обращаясь к лоцману. — Дула-то где брал? На новом-то месте ружья нужны!
— Я просил у начальства позволения открыть оружейный завод в Благовещенске, — отвечал Маркешка.
— Ну и что же?
— Капитала нет! Сказали: «И не суйся». Говорят, ружья покупать надо у американцев или из Тулы. Еще, говорят, не хватало, чтобы забайкальцы стали свои системы придумывать! Однако, твари, ружье мое схватили и не отдали, и видать было, что понравилось им. Ружье отобрали, сняли с него рисунок и куда-то послали. Оказали, в Николаевске есть оружейная при арсенале, чинят там старые кремневки, фитильные, штуцера — всякую такую чертовщину, туда, мол, нанимайся. А на черта мне это дело сдалось?
Егор с большим любопытством приглядывался к Маркешке. Бледный и смирный казак этот, как видно, был выдумщиком и смельчаком.
— Он ведь из Хабаровых! — продолжал на соседнем плоту Иннокентий. — Ерофей-то Хабаров в древнее время был богатырь, голова на Амуре. Албазин-то который построил. Хабаров, паря, знаменитый человек! Маркешка-то его же рода, от братьев от его, что ли, они произошли. Муравьев, когда в первый раз Маркешку увидел, сказал: «Какой же ты богатырь, Хабаров, — такой маленький да кривоногий!»
Все засмеялись.
Егор подумал, что и тут, на новых местах, есть, видно, несправедливость.
* * *
Через неделю караван подходил к деревне Хабаровке.
— Твоим именем, что ль, названа? — с насмешкой спросил Федор у Маркешки.
— Нет, это Ерофеевым! — с потаенной обидой ответил казак.
Маркешка простился со своими товарищами и с переселенцами. От Хабаровки он должен был вести часть переселенцев вверх по Уссури, а оттуда по тайге тропами провести во Владивосток военный отряд.
— А семья где у тебя? Или ты холост? — спрашивал Егор.
— Ребят семеро, да жена, да две старухи живут на Верхнем Амуре, — отвечал Маркешка.
— Далеко же ты на заработки ходишь!
Глава четвертая
В Хабаровке от переселенческого каравана отстали буксирный пароход, баржа с семейными солдатами, паромы с казенным окотом, взятым для продажи новоселам, торговый баркас кяхтинского купца и плоты с переселенцами, назначенными селиться на Уссури. Дальше вниз по Амуру поплыли паромы переселенцев, которым предстояло основать новые селения между Хабаровкой и Мариинском, и лодка чиновника, распоряжавшегося сплавом и водворением крестьян на новых местах.
Под Хабаровкой река заворачивала на север. Из-за островов пала Уссури, и Амур стал широк и величествен. С низовьев подули ветры. Целыми днями по реке ходили пенистые волны, заплескиваясь на паромы и заливая долбленые «арты». Сплав осторожно спускался подле берегов, лишь изредка переваливая реку и отстаиваясь в заливах, когда подымалась буря.
Местность изменилась. Еще под Пашковой начались крутые горы. За Хабаровкой исчезли казачьи посты. Оба берега стали пустынны и дики. По правому тянулись однообразные увалы, то покрытые дремучей вековой тайгой, то обгорелые, то голые и каменистые, то поросшие орешником и молодым кудрявым лесом. Левый берег был где-то далеко; хребты его, курившиеся туманами, лишь изредка проступали из ненастья, синея в отдалении над тальниковыми рощами островов.
Иногда на берегах виднелись гольдские селения. Глинобитные фанзы с деревянными трубами и амбарчики на высоких свайках лепились где-нибудь по косогору близ проток в озера. Переселенцев гольды побаивались и не приближались к ним, да и сами крестьяне сторонились местных жителей, не зная еще, что это за народ, хотя казаки уверяли, что люди мирные и добрые. Убогий вид гольдских жилищ никого на плотах не радовал.
Реже попадались селения русских. Крестьяне, пришедшие на Амур этим же летом, жили в шалашах и землянках и день-деньской рубили тайгу. У староселов, пришедших два-три года тому назад, кое-где уж строились избы; лес отступил от них дальше, на расчищенных от леса солнцепеках были разведены и обнесены частоколом обширные огороды; хозяева разводили скот, сеяли хлеба, коноплю, гречиху, овес.
День ото дня сплав уменьшался. За Хабаровкой отстали воронежские крестьяне. Вскоре высадились на берег орловцы. В одной из старосельческих деревенек отстали и вятские. Дальше должны были плыть четыре семьи пермских переселенцев: их назначили селиться ниже всех — на озеро Додьгу.
Плоты их отваливали от старосельческой деревеньки хмурым ветреным утром. Над рекой низко и быстро шли лохматые облака.
Река слегка волновалась. Ветру, казалось, наскучило бесноваться, он ослабевал и более уж не завивал белых барашков на гребнях волн. Река стихала, она катилась тихо и мерно — мутная, набухшая, бескрайная, как море, уходившая в безбрежную даль, сокрытую туманами и дождями.
Мимо берега, переворачиваясь с боку на бок, проносились огромные голые лесины, коряги, карчи, щепы — остатки деревьев, разбитых невесть где, вынесенные горными речками в половодье.
Повсюду плыли комья усыхающей белой пены, накипевшей в непогоду; и от множества подобных предметов ширь реки становилась еще явственней, глубже и грозней.
Ветер не хотел стихнуть совсем и временами налетал с силой, рассыпаясь по воде, разводя мелкую зыбь и обдавая сырой прохладой собравшуюся у плотов толпу. Народ кутался кто во что мог, мужики и бабы ежились, а босые ребятишки приплясывали, как ямщики на морозе, или стояли на одной ноге, отогревая другую под штаниной, либо сидели на корточках, накрывшись зипунами.
Трудно было предсказать, как разойдется погода. Вдруг на миг-другой сквозь расползшееся облачко проглядывало солнце и, словно для того, чтобы подразнить иззябших за ночь переселенцев, пробегало по ним веселыми лучами; подставив под солнце голую руку, сразу можно было ощутить, как оно жарко палит, несмотря на ранний час. То вдруг облака темнели, ветер налетал откуда-то со стороны другого берега и приносил с собой частые брызги далеких ливней.
На берегу, подле плотов, собралась порядочная толпа. Староселы и остающиеся переселенцы вышли проводить отплывающих. Однако уральцы некоторое время никак не могли решиться, стоит ли плыть дальше в такой день. Некоторые говорили: коли быть непогоде, то не лучше ли переждать ее в деревне, чем отстаиваться где-нибудь на диком берегу? Казаки, сопровождавшие плоты, стояли за то, чтобы плыть, и говорили, что выгоднее хоть сколько-нибудь пройти дальше, пока позволяет погода, чем стоять на месте.
— На этот Амур и в ясный-то день надежды нет. Все тихо, покойно, а сядешь в лодку, доедешь до середки — он забушует, и не знаешь, как обратно доберешься. Чего зря погоды дожидать.
На берег вышел чиновник, ночевавший в избе у старосты. Это был плотный, скуластый сибиряк с жесткой складкой у губ и живыми серыми глазами. Сплав подчинялся ему по всем правилам воинской дисциплины. Оглядев реку и потолковав со стариками, он приказал казакам отваливать и отправился на свою лодку.
На берегу засуетились и забегали озабоченные мужики с шестами в руках. Заголосили бабы. Тем горше было расставание, что вятские были последними российскими спутниками уральцев. Дальнейший путь предстояло совершать им одним.
Старики на прощанье перецеловались, все кланялись друг другу в пояс и желали благополучия на новоселье. Наконец отплывавшие разместились на паромах, с лодки чиновника послышалась команда лоцмана, уральцы взялись за шесты, лязгнули ими о каменистое дно, и плоты тронулись. Черная толпа провожающих, махая платками и шапками, расползлась по косогорам берега.
— От мыса-то тут коса пошла, ты гляди в оба! — кричал чернявый старосел-вятич казаку-лоцману, шагая по берегу вровень с головной лодкой.
Казак стал отводить лодку от берега. На паромах откладывали шесты и брались за греби, как тут называли весла.
— Ну, Христос с вами, детки, — крестил проплывавшие паромы седой как лунь дед из, остававшихся вятских новоселов. — Ищите себе земельку да окореняйтесь. И дай вам бог, дай бог! — бормотал старик, и слезы катились по его темным морщинам.
Егору Кузнецову с переднего парома стало хорошо видно всю деревню. С вечера — приставали к берегу в сумерках — он не разглядел ее хорошенько. Теперь вся она была перед ним как на ладони. И как бы для того, чтобы повеселить Егора, в облаках образовалась пройма, сквозь нее заголубело небо, поток ярких радужных лучей брызнул на невысокие холмы и зазеленил на их склонах поля и огороды.
Видно стало, что деревенька ладная. Свежерубленые розоватые избенки ютились по склонам. Ближе к реке виднелись слепые бревенчатые амбарушки, построенные на свайках, но свайки эти были гораздо короче и толще, чем у гольдов. Видимо, у вятских было что в амбары складывать. Подле домов ни деревца, ни куста, словно тут испокон веков стояла безлесая и от этого на вид безрадостная сибирская деревня. Лес поблизости мужики вырубали, как злого врага. И в самом деле, от леса тут жить надо подальше — из него мошка тучами. Ближние увалы были скрыты низкими облаками, и казалось, что кругом деревни сплошные поля и огороды. Родной вид их радовал Егора и укреплял в нем надежду на новую жизнь.
— Вот же окоренились люди-то, — как бы отвечая сам себе, вымолвил он.
— Вестимо, — отозвался с другой греби темнобородый Барабанов и кивнул на деревянные кресты на прибрежном холме. — Сколько корней-то пущено!
Дед Кондрат снял шапку и перекрестился.
Солнце скрылось, и небо плотно затянуло серыми облаками. Вода заплескалась о паромы, ветер обдавал гребцов брызгами разбитых волн.
Сплав теперь состоял всего из трех плотов. Впереди шла крытая лодка чиновника. Двое забайкальцев в халатах и в мохнатых папахах сидели на веслах. На корме правил лоцман сплава — шилкинский казак Петрован, переселившийся недавно из Забайкалья на Средний Амур. Ветер трепал его неподпоясанную широкую красную рубаху и хлопал ею, как парусом. Изредка над пустынной взволнованной рекой звучал его предупреждающий оклик.
Версты три-четыре все плыли молча, сосредоточенно работая веслами и ощупывая дно шестами, как слепые на чужой дороге. Миновав остров и отмели, караван выплыл на быстрину. Деревня скрылась за мысом. Казаки перестали грести, и лодку понесло течением. Мужики на своих тяжелых плотах, чтобы не отставать от нее, слегка налегали на огромные, тесанные из цельных бревен весла. Одна за другой навстречу плотам выплывали из тумана угрюмые широкие сопки. Волны, всплескивая, ударялись об их каменные крутые подножия.
— А что, Кешка, — обратился Федор к казаку-кормщику, плывшему на первом плоту, — давно, что ль, эти вятские тут населились?
— Чего-то я не помню, который год они пришли, — глухо отозвался Кешка, низкорослый казак в ичигах и грязной ситцевой рубахе. Бледно-желтое лицо его было безбородым, как у скопца, и скуластым, как у монгола. Ему было под пятьдесят, но он выглядел гораздо моложе. Только мешки под шустрыми темными глазами старили его. — Тут, однако, еще до них заселение было, гольды жили на буграх, — продолжал он. — Им немного тут корчевать пришлось: настоящей-то тайги не было.
— Чего же эти гольды отсюда ушли?
— Кто ж их знает! Чего-то вздумалось им, они и ушли. А которые вымерли. В старое время, однако, зараза была завезена. Тут кругом одни гольды — теперь, однако, верст на полтораста, кроме их, нет ни души. До самой вашей Додьги поплывем — русского человека на берегу не увидим. Только солдаты кое-где живут на станках. А чтобы поселение — этого тут нету. За Додьгой, как сказывал я, живет один русский с гольдами.
— Это как ты называл-то его? — перебил казака Федор. — Чего-то я запамятовал…
— Бердышов он, Иван Карпыч. Да он сам по себе на Амур пришел, от начальства независимо. Да и он, однако, уже на додьгинскую релку перекочевал. А дальше опять верст семьдесят нет никого. Селили тут каких-то расейских — орловских ли, воронежских ли, да они перешли на Уссури. Чего им тут? Калугу он еще и не поймает, охотник с него никакой, зверя увидит — бежит. Сохатый ему ни к чему. Клюквы, брусники осенью бы набрать, луку дикого насолить — того не понимают. Цинга на них навалилась. Озимые у них затопило, на другой год хлеб с лебедой пекли, толкли гнилушки, с мукой мешали, ослабли — тайгу чистить не могли. Не подошло им и тут. Видишь, не все здесь выживают.
Мужики гребли так старательно, что плот поравнялся с лодкой. Из-за настила стали видны головы казаков, сидевших за укрытием и куривших трубки. Петрован вылез на крышу и уселся лицом к плоту.
— Староселы-то с новеньких теперь сдерут за приселение! — весело крикнул он, кивнув головой в том направлении, где осталась деревенька, в которой высадились вятские. — Тайгу-то обживать, она, матушка, даст пить!.. Недаром, поди, старались…
— То же и на Додьге, если Бердышов построился, придется маленько ему потрафить, — заговорил Кешка, обращаясь к мужикам. — Деньжонками ли, помочью ли — тут уж такой закон.
— Где же их напасешься, денег-то?.. — возразил Федор.
— Кто обжил тайгу, тому уж плати, — поддразнивал его Петрован. — Никуда, паря, не денешься. Рублей по пяти, по десяти ли теперь с хозяйства отдашь староселу.
— У нас дома, в Расее, промеж себя о таких деньгах и разговору не бывало, — вымолвил Егор.
— Зверовать наладишься, так деньги воротишь, — возразил Кешка. — Тут и соболь, и лиса, рысь, выдра — всякий зверь есть; только знай бегай шибче по тайге-то, она прокормит.
— Хлебом одним разве проживешь тут? От гольдов или от Бердышова, уж от кого-нибудь перенимать придется. А меха китайцы скупят! — силился перекричать плеск волн Петрован. — Бердышов-то тут старый житель; он уж давно сюда пришел. Он теперь, поди, как хозяин на этой Додьге вас встретит, — продолжал он подшучивать над Федором.
— Иван Карпыч не передаст свое охотничество, — серьезно возразил Кешка. — Скорей всего, что от гольдов перенимать придется.
Егор, как человек, решившийся на переселение по убеждению и от души желавший найти для своей жизни новое праведное место, не обращал внимания на рассказы казаков. Он верил, что и тут жить можно и что хлеб вырастет. За годы пути Егор ни разу не посетовал на себя, что снялся со старого места. Он надеялся на свои силы и староселов не боялся.
— На лису-то мы и дома промышляли да на белку, — весело заговорил Федюшка. — Даст бог, и соболя поймаем. Про соболя и у нас дома слышно — на Урале-то.
— Тут кругом охотники ходят, соболюют. Туда вон подальше, в хребтах, уж шибко ладный промысел!
Быстрина несла плоты к крутому обрыву. Из курчавых орешников, росших по склону, торчал горелый сухостой. Выше шел оголенный увал, на склоне его валялись черные поваленные деревья.
— Эй, Петрован, а никак ветер меняется! — оживленно крикнул Кешка. — Кабы верховой-то подул, мы бы, пожалуй, что под парусами, завтра дошли.
— И впрямь сверху потянуло, — отозвался Петрован.
Но не успел он договорить, как ветер с новой силой ринулся навстречу и запенил плещущуюся в беспорядке воду. Петрован слез с крыши, взял правило у молодого казака. Забайкальцы сели на места, и легкая лодка снова быстро пошла вперед.
Ветер полоскал удалявшуюся красную рубаху лоцмана. Хотелось Федору спросить у Кешки, как же все-таки им придется рассчитываться с Бердышовым и много ли, в самом деле, по здешним обычаям следует ему с каждого новосела, но смолчал, чтобы казак лишний раз не посмеялся. «Нет, наверно, зря они балясничают. Быть не может, чтобы Бердышов запросил по десяти рублей», — утешил он себя.
Егора тоже заботила предстоящая встреча на Додьге со староселом. Ссуда, выданная ему, частью уже разошлась, а частью распределена была до последнего рубля.
Берега затянулись туманной мутью, с плотов, кроме волн и мглы, ничего не стало видно. По погоде следовало бы пристать и отстояться где-нибудь в заливе, покуда хоть немного разъяснит, но пристать было некуда. Под скалами река кипела на камнях, приближаться туда опасно, казаки повели караван через реку. Разговоры стихли, все усердно заработали веслами.
Полил дождь, ветер утих, и волны стали спокойней. Где-то проглянуло солнце, лучистые столбы его света пали откуда-то сбоку, сквозь косой дождь, и вокруг плотов во множестве загорелись разноцветные радуги, перемещавшиеся при всяком порыве ветра. Серебрились, ударяясь о воду, дождевые капли, и казалось, что на реку сыплется множество мелких серебряных монет; весело плескались голубовато-зеленые прозрачные волны, насквозь просвеченные лучами. Повсюду, куда хватает глаз, сквозь многоцветный, изнутри светившийся ливень виднелись яркие просторы вод. Куда девалась их муть, их глинистая желтизна, нанесенная в Амур из китайских рек!
Вдруг пала густая тень, и в тот же миг все снова приняло вид мерклый и серый. Остались лишь косые потоки ливня и мутная река, кипевшая водоворотами.
— Братцы, наляжем!.. — тонко покрикивал Кешка.
Мужики дружно вскидывали в воздух полуторасаженные весла. Поскидав мокрые армяки, Егор и Федор работали в одних почерневших от ливня рубахах; с их зимних шапок и с бород текли струи, на изможденных лицах пот слился с водой, глаза полны были решимости: реку во что бы то ни стало нужно было переплыть как можно скорее.
— Бабы, не удайся мужикам! — покрикивала мокроволосая разгоревшаяся Наталья, ворочавшая на пару с силачкой Барабанихой запасную гребь.
Шумела вода, врезанная торцом крайнего бревна, и полоса ее, гладкая, как стальной клинок, с плеском откидывалась напрочь. Где-то в стороне, неподалеку от плотов, вынырнул малый островок и проплыл мимо, как кудрявая романовская шапка, кинутая в воду. Приближались к отмелям. Федюшку поставили с шестом на носу парома. Промеряя глубину, он каждый раз оборачивал мокрое, скуластое, веснушчатое лицо и покрикивал весело:
— Пра-аходит!..
Вскоре плоты вошли в протоку между островов. Дождь окончился. В спину гребцам, навстречу каравану, подул холодный сырой ветер. Опять пошли волны. Пришлось налегать на шесты. Караван продвигался вдоль берега, укрываясь от ветра под самые островные тальники.
Вдруг откуда-то издали до слуха плывущих донеслись гортанные голоса, тянувшие что-то вроде песни. Время от времени эти дружные расплывчатые звуки перекрывались чьим-то пронзительным тонким криком. Все стали озираться по сторонам. Караван шел протокой меж высоких голенастых тальниковых лесов. Слева мимо паромов проплывал островок, открывая желтую песчаную отмель, тянувшуюся вдоль берега. На косе бесились волны, с грохотом выбегая на нее во весь рост и завивая косматые водяные вихри. За широкой протокой, на матером берегу кучка людей тянула бечевой большую черную лодку с косым парусом. На носу ее стоял человек без шапки и, повизгивая, что-то кричал.
— Переваливать Амур хотят, — пояснил казак. — Это гольды тянут в Китай торговца с мехами. Э-эй, джангуй![3] — заорал он. — Твоя майма[4] откуда куда ходи?
С маймы донеслись слабые отклики. Кешка насторожился, приложив к уху ладонь.
— Однако, это китаец-то знакомый, — сказал он. — Тут их трое братьев неподалеку от Додьги торгуют, в той деревне, где, я оказывал, у гольдов Бердышов жил.
Кешка что-то прокричал китайцам не по-русски и, вслушавшись в их ответ, наконец, уверенно сказал:
— Младший брат в Сан-Син пошел за товаром.
— Лавки, что ль, у них?
— В юртах же торгуют. Места тут глухие, а охота хорошая, они у гольдов меха берут. Эти три брата — богатые купцы, силу тут имеют в тайге. Они еще у Муравьева выпросили позволение торговать здесь. При Муравьеве, однако, только один их отец тут торговал. Все инородцы здешние у них в кабале. Зимой они кругом по тайге нартой ходят. Тут у них все в долгу: и орочены и гольды. Гольдов крепко держит. Чуть что — палкой его. А гольд торговца увидит — на коленки перед ним. Этот китаец последние-то годы стал и с русскими торговать. Верстах в семидесяти пониже того места, где вас селят, на устье Горюна, есть деревенька переселенческая — Тамбовка, туда они муку возят и мало-мало толмачат уж по-нашему — научились. А дальше начнутся русские деревни, так они и туда ездят. А теперь, говорят, сюда из Маньчжурии потянулись другие торгаши. Как же! Им с русскими выгодно торговать. Тут теперь сколько народу! Раньше им этак-то торговать не давали. Маньчжурские нойоны — те сами не дураки были об этом деле; чтобы не без соболей с Амура вернуться, уж шибко заботились. А теперь, при русских, торговцам раздолье.
У Федора глаза сузились, он так и впился взором в рассказчика.
— Мы первые-то разы тут проходили, маньчжур нойон-то еще ездил по гольдам, собирал с них албан, дань по-нашему, с головы по соболю, да еще выторговывал сколько. Однако, полну майму мехов увозил. А русские тут и прежде до Муравьева бывали, беглые селились, на охоту ходили.
С реки рванул сильный ветер. Паром покачнуло. Огромная мутная волна вдруг поднялась перед тупым носом парома, с шумом обрушилась на настил и разбежалась по нему ручьями. Грузы и продукты переселенцев были подняты на подставки и закрыты широкими берестяными полотнищами. Вода их не коснулась, но ручьи забежали в балаган, устроенный посреди плота. Завизжали ребятишки и, покинув свои убежища, полезли на мешки. Бабка Дарья, Наталья и Агафья стали перебирать подмоченное тряпье.
Снова запенился водяной гребень, и волна обкатила переднюю часть парома. Кешка изо всей силы навалился на кормовое весло, направляя паром следом за лодкой в узкую и тихую протоку, открывшуюся в тальниках.
Иногда было видно, как волна, далеко не достигнув берега, вдруг сшибалась с другой; слившись, они вздымались крутым водяным бугром и, на миг превышая седым венцом все иные волны, победно всплескивали к небу гроздья брызг и тотчас же распадались.
Плоты пристали к берегу.
— Бушует наш Амур-батюшка, — вымолвил Кешка, оставляя правило и озирая реку.
— Не дай бог, замешкались бы мы на середке, была бы беда! — отозвался Федор.
Глава пятая
Ветер ослаб лишь в сумерках, когда плыть дальше было поздно, и переселенцы стали располагаться на ночлег. В берег вбили колья. К ним подтянули плоты.
Казаки раскинули барину палатку, а сами расположились подле нее, у костра. Обычно они не ставили себе палатки. В хорошую погоду ночевали на лодке, где устроен был навес от дождя. Там у барина оборудована довольно просторная каютка. Сам чиновник предпочитал ночевать на берегу в палатке, где устанавливалась легкая походная койка, укрытая пологом-накомарником.
На этот раз погода была столь переменчива, что и казаки, посидев немного у своего костра, не поленились разбить себе палатку.
Под берегом на широкой отмели устраивались переселенцы.
Мужики разбрелись по лугам острова в поисках наносника для костров. Егор на бугре нашел гниловатую сухую осину, срубил ее и, развалив, по частям перетаскал к огню. Дым от гнилушек отгонял комаров, появившихся сразу, как только стал стихать ветер.
Когда стемнело, к стану подошли казаки и принесли с собой бутылку ханшина.[5] Они уходили пьянствовать к переселенцам: с глаз долой от барина, который за попойки бранил их жестоко.
Егор не пил. Барабанов пригубил для приличия. Кешка с Петрованом распили бутылку и порядочно захмелели.
Кешка стал рассказывать про Ивана Бердышова. Казак не впервые сопровождал переселенцев и любил похвастаться перед ними знанием здешних мест, жизни и людей. Слушать его собрались крестьяне от других костров. Пришли братья Бормотовы — Пахом и Тереха, низкорослый Тимофей Силин со своей женой Феклой. У балагана Кузнецовых развели большой огонь. Ветер колебал его пламя, обдавал всех сидевших подле едким густым дымом. На палках, воткнутых в землю, сушилась одежда и обутки. Дед Кондрат, стоя над пламенем, поворачивал к нему то изнанкой, то верхом свой промокший насквозь армяк. Федор латал протершиеся ичиги. Егор делал шесты — очищал лыко с тальниковых жердей. Ребятишки грызли сухари.
— Давно еще, — говорил Кешка, потягивая ганзу,[6] — когда Амур этот отыскали, Иван-то Бердышов у купца Степанова ходил на баркасе. Сплавлялись они до Николаевска, по дороге с гольдами торговали, делали меновую. Как-то раз заехал он в Бельго. Стойбище это ниже Додьги верст на пятнадцать-двадцать. Вот торгаш, которого мы сегодня встретили, он оттель же. Там у них самое гнездо торгашей… Ну, а тогда-то хоть и не шибко это давно было, но все же население там было поменьше, хотя китаец этот уж и тогда торговал. Тамока и встретил Бердышов одну гольдячку. Она была у этих гольдов шаманкой.
— Как же это так? — заговорил Тимоха Силин. — Разве девка бывает шаманкой?
— Как же, быват, — небрежно ответил Кешка. — Еще как славно шаманят!
— Мы до Байкала видели этих шаманов и у бурят и у тунгусов, — заметил Тимошка, у которого подступало желание высказать все, что он сам знал о шаманстве. — Там более грешат этим старики. Верно, слыхал я, что где-то была и старуха шаманка, но не девка же.
— Шаманство это как на кого нападет. Кто попался на это дело, тот и шаман, — туманно объяснял Кешка. — Хоть девка, хоть парень — все равно. Ведь это редкость, кто шаманить-то может по-настоящему, — со строгостью вымолвил он, и заметно было, что Кешка сам с уважением относится к шаманству. — Ну, а она, эта Анга, так ее гольды зовут, была первейшей шаманкой, хоть молодая и бойкая, а, сказывают, как зальется, замолится — гольдам-то уж любо, загляденье… Иван теперь на русский лад Анной стал ее называть.
Ну, была она шаманкой — девка молодая, мужа нет, жениха нет, гольдов этих она чего-то не принимала. Сама была роду отличного от остальных гольдей. Отец ее в первые годы, как отыскали Амур, помогал плоты проводить, плавал на солдатских баржах, бывал в Николаевске, там научился говорить по-нашему. Он раньше чисто толмачил — не знаю, может, теперь стал забывать, — с ними это бывает, с гольдами: выучится по-нашему, а старик станет, все позабудет, так, мало-мало толмачит, с перескоком. Его сам Муравьев знал. Дед у нее тоже, сказывают, был знаменитый промеж гольдов, он и шаманство знал и удалец был. Его потом убили: деревня на деревню гольды между собой дрались и застрелили его. Это давным-давно было.
Ну вот, значит, встретил Иван ее и встретил. Она, паря, шибко хороша собой была, да и сейчас еще на нее заглядишься… Иван познакомился с ней. Отец да она жили вдвоем, приняли его, угощали. Они, гольды-то, хлебосольные: как к ним заедешь, так они уж и не знают, чем бы попотчевать. Иван, паря, не будь плох, давай было с ней баловать, известное дело — мужик и мужик. Беда! — усмехнулся Кешка. — Молодой, кровь играет… Ну, она себя соблюдала, никак ему не давалась. Она гордая была, ее там все слушали, все равно как мы попа… Ничего у него не вышло, и поплыл он своей дорогой. Ну, проводила она его и пригорюнилась. Запал он ей в голову. Плачет, шаманство свое забывает, бубен этот в руки не берет. А у Ивана-то, не сказывал я, — вспомнил Кешка, — осталась зазноба дома. Ведь вот какая лихота: у него зазноба, а он баловать вздумал… Сам-то он родом с Шилки, из мужиков, от нас неподалеку, где мы раньше до переселения жили, там их деревня. Сватался он к Токмакову. Шибко это торгован у нас, по деревням, по Аргуни и Шилке славился. Дочка у него было Анюша, не девка — облепиха! Парнем-то Иван все ухлестывал за ней. А послал сватать, старик ему и сказывает: мол, так и так — отваливай… Иван-то после того, конечно, на Амур ушел, чтобы разбогатеть. «То ли, — говорит, — живу мне не бывать, то ли вернусь с деньгами и склоню старика». Свиделся он тайком с Анюшей перед отъездом, попрощался с ней и с первыми купцами уплыл в Николаевск. Своего товару прихватил, мелочь разную.
Ну, плывет, плывет… Где его хозяин пошлет на расторжку с гольдами, он и себе мехов наменяет. Он и в Бельго попал случайно. Купец посылал его куда-то на лодке, а начался шторм, сумрак опустился, была высокая вода, его и потащило, да и вынесло на бельговскую косу. Утром он огляделся — гольды к нему приступают… Вот теперь я правильно рассказываю, — оговорился Кешка, — а то бы непонятно было, чуть не пропустил я главного-то. Гольды позвали его к себе, ну, тамока он и Анну встретил, и все так и пошло. Ну вот. Ничего у него с ней не вышло, а как приплыл баркас, Иван ушел на этом баркасе вниз по реке. Так дальше ехал, опять торговал, помаленьку набирал меха. В Николаевск привез целый мешок соболей, сбыл по сходной цене — он тогда с американцами выгодно сторговался, — набрал себе товару и сам, от купца отдельно, пошел по осени обратно. Как встал Амур, купил он себе нарту и пошел нартой на собаках. И вышла ему удача: по дороге опять наменял у гиляков меха. Ну, паря, все бы ничего, да за Горюном напали на него беглые солдаты — тогда их тут много из Николаевска удуло, — напали они на него и маленько не убили. Конечно, все меха отняли…
Замерзал он израненный. Наехали на него гольды, отвезли к себе в Бельго. Там его шаманка признала, взяла к себе. Они с отцом ходили за ним, лечили его своим средством. Ну вот, оздоровел он и грустит, взяла его тоска. Амурская тоска — это такая зараза, беда. Как возьмет — ни о чем думать не станешь, полезет тебе всякая блажь в башку, ну, морок, он и есть морок. Нищий он, нагой, Иван-то, куда пойдет? Дожил до весны у гольдов. Лед прошел — плывут забайкальские земляки. Вышел он на берег. «Ну, Иван, — сказывают, — Анюша долго жить приказала. Ждала тебя, ждала — не дождалась». Анюша-то ушла из дому темной ночью на Шилку — да и в прорубь. Не захотела богатого казака… Сказывают, как Ванча наш услыхал это, так и заплакал. Шаманка-то его жалеет, гладит по лицу, а у него по скулам текут слезыньки.
Эх, Амур, Амур! Сколько через него беды!.. — вздохнул Кешка. — Иван-то и остался у гольдов, стал жить с шаманкой, как с женой, она свое шаманство кинула. Стали они зверя вместе промышлять. Жил он, как гольд, своих русских сторонился. Потом архирей приезжал, окрестил Ангу, велел им кочевать на Додьгу. Говорил Бердышову: «Отделяйся, живи сам по себе, заводи скот, хозяйство, а то огольдячишься. А мы тебе еще русских крестьян привезем, церковь на Додьге построим». Ну, однако, он уже теперь перекочевал, Ванча-то…
— Эх, паря, и баба у него, адали[7] малина, хоть и гольдячка, а красивая, — заключил Петрован Кешкин рассказ. — Игривая, язва! Как взглянешь — зачумишься, — покосился он посоловевшими глазами на темно-русую и миловидную Наталью Кузнецову. — Купец Серебров какие деньги давал Ивану, чтобы привел ее на баркас.
— Не взял Иван, — заметил Кешка.
— Тут какую русскую переселеночку дешевле сторговать можно, — продолжал Петрован.
Наталья поднялась и отошла от костра к шалашу. Крестьяне слушали Петрована молча и с явным неудовольствием.
— Баб-то нет на Амуре, не хватает. Привезут баржу с арестантками, так их солдаты разбирают, — продолжал казак. — А уж переселеночки-то другое дело… У нас на Шилке ли, на Среднем ли Амуре есть деревни, богатеют через баб, отстраиваются… Тракт-то идет зимний, господа едут, купцы — и бабам работы много… — усмехнулся казак.
— Я у вас в Забайкалье свадьбы видел, — заговорил Тимошка Силин, — так казаки калым за девок берут.
— Как же, это что казаки, что крестьяне — первая статья, — ответил Кешка. — У кого девок много, тот и богат. Замуж выдавать — с жениха калым.
— Это только разговор! — сказал Егор, не веривший, чтобы весь народ был так испорчен. Ему казалось, что казачишки хвалятся зря.
— Другой-то муж после с нее весь калым выверстает, — усмехнулся Петрован. — К купцу ее сведет на ночь на проезжую… У нас так бывало… Вот тебе и вся недолга!
— Жену-то! — воскликнула Наталья.
— А кого же? Что ж на нее глядеть, — пьяно усмехнулся Петрован.
— Будет врать-то! — сказал ему Кешка.
— Такого-то окаянного мужика топором зарубить! — с чувством сказала Наталья.
— Пошто ты его рубить будешь? Он не кедра тебе. Или на Кару[8] захотела? Там тебя надзиратель не спросит, хочешь ты али нет спать с ним… — с обидой в голосе проговорил Петрован. — А муж-то для тебя же старается… Ведь платят хорошо.
Петрован умолк, но в глаза никому не глядел.
Все молчали.
— Попутный потянул, однако, завтра будем на Додьге, — поднялся Кешка. — Пойти к себе, — зевнул он, — спать уж пора.
Вдали белели палатки, ветер доносил оттуда запах жареного мяса.
Казаки, распрощавшись с переселенцами, удалялись в отблесках костра.
— Накачало его в лодке-то, на земле не стоит, — кивнул Тереха Бормотов на захмелевшего, шатавшегося Петрована.
— Ну и Петрован!.. — вымолвила Наталья.
— Кешка-то поумней и поласковей его, — отозвался дед. — Вовремя его увел, а то твой-то чуть было не осерчал.
— Дать бы ему по бесстыжей-то роже, — сказал Егор, — знал бы, какие тут переселеночки…
День я му-учусь, ночь страда-аю И споко-о-ою не найду-у, —вдруг тонко и пронзительно запел где-то в темноте Кешка.
— Вот барин-то услышит, он те даст!.. — поднимаясь, добродушно вымолвил Кондрат и, сняв с сука просохший армяк, стал надевать его, осматриваясь, как в обновке.
Я не подлый, я не мерзкий, А раз-уд-далый ма-аладец! —еще тоньше Кешки подхватил Петрован.
— Тянут, как китайцы, — улыбнувшись, покачала головой Наталья, выглядывая из-под полога, где она укладывала ребятишек.
Перемокли, передрогли От амурцкого дождя-я-я, —вкладывая в песнь и тоску и жалость, вместе нестройно проголосили казаки.
Отыш-шите мне милую, Рас-скажите страсть ма-ю…— Ну и жиганы!.. — засмеялся дед, хлопая себя ладонями по ляжкам.
Всем было смешно: понравилось, как горланят казаки. Даже Егор уж не сердился на них. «Жизнь их собачья! — подумал он. — На Каме тоже зимой тракт. До продажи жен там не доходили, но из-за денег много было греха, и разврат кое-где заводится от городской жизни, — люди идут на все, лишь бы нажиться на чужом. А тут, видно, нрав людской еще жестче».
Егор подумал, что старосел на Додьге — птица одного полета с этими казаками, надо будет и с ним ухо держать востро. Тут он вспомнил оружейника Маркела Хабарова, который остался на устье Уссури. У того были другие разговоры и рассказы про другое…
Глава шестая
На другой день погода установилась. С утра дул попутный ветер, и плоты шли под парусами. К полудню ветер стих, но казаки ручались, что если навалиться на греби, то к вечеру караван достигнет Додьги.
Был жаркий, гнетущий день. Солнце нещадно палило гребцов, обжигая до пузырей их лица и руки. Зной перебелил плахи на плотах и так нагрел их, что они жгли голые ноги.
Жар повис над водой, не давая подняться прохладе. Река как бы обессилела и, подавленная, затихла. По ней, не мутя глади, плыли навстречу каравану травянистые густо-зеленые луга-острова. Высокая и строгая колосистая трава, как рослая зеленая рожь, стояла над низкими глинистыми обрывами, и воды ясно, до единого колоса, отражали ее прохладную тень.
Было непривычно тихо. Казалось, жар горячими волнами набегал на лица гребцов, словно в неподвижном воздухе бушевала невидимая буря. Еще жарче стало, когда казаки подвели караван под утесистый берег. Зной, отражаясь от накаленных скал, томил людей двойной силой.
— Экое пекло! — жаловался, обливаясь потом, сидевший у огромного весла, почерневший от жары Барабанов. — Сгоришь живьем…
— Нырни в воду — полегчает! — шутил Кешка.
С травянистых островов на плоты налетело множество гнуса. Зудели комары, носились черные мушки, поблескивавшие слепни как бы неподвижно висели над плотами, намечая себе жертвы. Колючие усатые жучки больно ударялись с разлета в лица гребцов, гнус изъедал босые ноги, впивался в старые расчесы. Мошка роями вилась около коротких, осевшихся от стирок порток.
Время от времени Егор, бросив весло, хлопал себя ладонью по голым потным ногам, оставляя багрово-грязные потеки.
Мошки кругом было великое множество. В жару она стояла над плотами черной пылью, а к вечеру над протоками меж лугов слеталась зеленым туманом, на который глядеть было тошно. В зной она не жалила так жестоко, как слепни, но зато набивалась в уши, в рот, в глаза. Едва же подымалась вечерняя сырость, как мошка с жадностью изъедала на людях всякое неприкрытое место.
Чтобы спастись от гнуса, плывущие обматывали лица и головы тряпьем и платками. Дети укрывались под обширными пологами. На всех плотах дымились костры-дымокуры, сложенные из гнилушек. Слабая синь расстилалась над рекой от каравана.
Греби рвали воду, шесты лязгали о гальку, сопка за сопкой уплывали назад, дикие ржавые утесы становились все круче и выше, нагоняя тоску на мужиков. Вдруг течение с силой подхватило плоты. Каменный берег, выдавшийся далеко в реку и как бы заступивший путь в новую страну, быстро поплыл вправо, и взору переселенцев представилась обширная, как морской залив, речная излучина.
Река достигла тут ширины, еще не виданной переселенцами. Байкал они переходили по льду, а зимой он выглядит заснеженной степью. Сибирские реки в тех местах, где их переплывали переселенцы, ни в какое сравнение с Амуром не шли и еще под Хабаровкой померкли в их памяти.
Далеко-далеко, за прохладным простором ярко-синей плещущейся воды, над зелеными горбовинами левобережья, как замершие волны, стояли голубые хребты.
Легкий ветер засвежил запаленных гребцов, погнал комарье и мошку от их красных лиц. Из-под пологов на ветерок выползли ребятишки. На носу головной лодки показался барин.
— Во-он додьгинская-то релка обозначилась, видать ее! — оборачиваясь к плотам, крикнул Петрован с лодки, указывая на холмы.
У кого из переселенцев в этот миг не дрогнуло и не забилось чаще сердце? Вот и конец пути! Близка новая жизнь, и новая судьба так близка, что даже страшно стало, словно эта неизвестная судьба сама по себе жила на Додьге и поджидала переселенцев. До этого мига будущее все еще было где-то, а где — неведомо. Без малого два года шли люди и верили в будущее, представляя его счастливым, но далеким-далеким, до того самого мига, когда Петрован нашел Додьгу за поймой и махнул на нее своим красным рукавом.
Все стали вглядываться в додьгинокую релку, словно старались увидеть там что-то особенное. Но ничего, кроме леса, там не было видно.
Странно как-то стало Егору, что привычная дорога оканчивалась. Ему представилось, как завтра уж некуда будет ехать, и что-то жаль стало дорожной жизни.
Всю дорогу Егор так верил, что на заветной новой земле его ожидает что-то отменно хорошее, что сейчас даже растерялся. Вера в будущее провела Егора и через черную Барабу и через забайкальские хребты. Он мог бы еще долгие годы брести, голодный и оборванный, ожидая, что когда-нибудь найдет ладную землицу и привольную жизнь.
И вот, завидя додьгинскую лесистую релку, он понял, что теперь надеяться больше не на что, кроме как на самого себя. Сама эта Додьга показалась ему на миг чем-то совсем ненужным, посторонним его хлопотам и заботам, чем-то напрасно нарушающим мерный ход его трудовой дорожной жизни.
— Переваливай! — вдруг неожиданно резко и громко крикнул Кешка.
Все налегли на весла. Течение и греби повлекли плоты через реку.
— Бабы, подсобляй! — Наталья подбежала к запасным веслам, в голосе ее чувствовалось веселое пробуждение от дорожной тоски.
— Веселей, бабы, мужики, подъезжаем! — покрикивал Петрован.
Грозный каменный берег сдвигался вправо. Над его утесами глянула курчавая зелень склонов, а за ней, в отдалении, как сизая туча, всплыл лесистый гребень хребта.
Навстречу плыла поемная луговая сторона. Ветер доносил оттуда вечерние запахи травы и цветов. Дикие утки вздымались над островами и, тревожно хлопая крыльями, проносились над караваном.
— Эвон дымок-то… Что это? — воскликнул Федюшка. — Никак, люди живут?
За тальниками на пойме что-то курилось. Все вопрошающе взглянули на Кешку.
— Там озеро Мылки, — заговорил казак. — При озере на высоких релках гольды живут, а тут кругом место не годится никуда: болото и болото. Как прибудет Амур, все эти луга затопляет, пароходу до тех самых гор ходить можно, только колеса береги, за талины не задевай… Да вас-то тут не станут селить: ваше место вон, подалее: там релка высокая, на ней тайга и тайга, — поспешил он успокоить мужиков, видя, что они стали растерянно озираться по сторонам. — Есть там и бугровые острова, на них пахать можно, никакая вода туда не достигнет. Высокие острова, хоть живи на них!
Солнце клонилось к закату. Жара спадала. Горы теряли свои обычные очертания и расплывались синея. Река ожила, она вся была в подвижных пятнистых бликах, похожих на рыбью чешую, и от игры их казалась набухшей; свет, отражаясь, переполнил ее. Над займищем появились перистые облака. Закат золотил их, ласкал и кудрявил, и они походили на пенистые волны, забегающие на песчаную черту приплеска в ясный полдень при свежем ветре.
Плоты приближались к поемному берегу. Белобрюхие кулики, попискивая, вылетали из мокрых травянистых зарослей и с криками кружились над плотами.
Барин стрелял влет утку. Дробь хлестнула по утиным крыльям и, булькая, рассыпалась по воде. Птица несколько мгновений продолжала лететь и вдруг пала на крыло и камнем рухнула в реку. Тотчас же Федюшка разделся, закрутил на смуглой шее веревочку с медным нательным крестиком и бултыхнулся за уткой. Барин платил ребятам за добытую из воды дичь, и они в оба смотрели, когда он станет палить. Парнишка вскоре подплыл обратно и выбросил на плот пестрого селезня.
На занесенных илом островах виднелись толпы высоких голенастых тальников. В их вершинах, зацепившись рассошинами и корнями за обломленные сучья, висели сухие бескорые деревья.
— Тятя, а как же туда лесины попали? — спрашивал Барабанова сын его, темнолицый и коренастый, похожий на мать подросток Санка.
— Это вода такая здоровая была, наноснику натащила, будто кто швырял лесинами в тальники, — ответил за Федора кормовой.
Все посмотрели на вершины прибрежного леса.
— Неужто вода такая высокая бывает? — удивился Барабанов.
— А то как же… Бывает! Тут, на низу, страсть какая вода подымается, — подтвердил Кешка. — Этих талин-то и не видать, как разойдется он, батюшка. Вода спадет — ты и местности не узнаешь. Где был остров, другой раз ничего не станет — смоет начисто, унесет хоть с лесом вместе, а где ничего не было — илу навалит, коряги нанесет, наноснику натащит, поверх еще илу — гляди, и новый остров готов. На другой год на нем уж лозняк пойдет, трава — остров корнями укрепляться станет. А то, бывает, в тот же год натащит деревьев живых, кустов, они на этом острове корни пустят, примутся. Начальство приедет, топографов привезет, глядит по карте. Что, мол, такое? Съемщики пьяные были, ленились, как же сымали остров, а он не там! Сымут карту сами, хвалятся: дескать, теперь верно. На другой год пароходы пойдут, так-сяк, опять не там остров! Потом привыкли… Теперь знают.
На белом прибрежном песке под тальниками ходил выводок куличат. К ним прилетел большой кулик и стал кланяться, тыкая долгим носом в песок. Пока барин в него целился, кулик улетел.
В тальниковом лесу открылась протока, розовая и прямая, как просека, залитая водой. В отдалении она расширялась.
— Вот и вход в озеро, — заметил Кешка, кивнув головой в ту сторону, — в самые Мылки. А вон луга на мысу. Гляди, сено стоит. Это для вас — начальство заботилось. Солдаты жили — накосили.
Минуя устье протоки, караван обогнул последние тальники на мысу и приблизился к увалу. Впереди стал виден высокий холм, падавший в реку крутыми желтыми обрывами.
— Вот она, додьгинская релочка, — сказал Кешка. — А там подалее, за бугром, прошла протока в Додьгинское озеро. Это релка меж двух озер: сверху — Додьга, снизу — Мылки. Там как голова, — показал казак на холм, — а сюда, пониже, как хвост протянулся.
Плоты тихо плыли вдоль обрыва. Опутанный множеством корней, этот обрыв походил на переломанный или растрескавшийся от времени плетень у земляного вала старой крепости. Переселенцы, волнуясь, но сосредоточенно и молча осматривали место, выдавая свои чувства лишь нетерпеливыми толчками. Было тихо. Только шесты лязгали об дно, вороша звонкую гальку.
Над прибрежным лесом на вершине сухой ели хрипло ворковал дикий голубь.
— Тимошка, — вдруг воскликнул Петрован, нарушая всеобщее молчание, — это, однако, с тобой здешние птицы здороваются! Давай, мол, знакомиться.
Силин задрал голову, но не нашел нужным возразить казаку.
Дикий голубь вспорхнул и улетел. Над лесом парил коршун. Последние лучи солнца облили его оперение алым светом. Сгорбатившись и вытянув лапы, он повис в воздухе подле вершины той же ели, с которой только что улетел голубь, и мягко опустился на бескорый розовый сук, складывая крылья.
— Гляди, коршуны-то… И тут есть, — молвил Тимоха.
Все невольно посмотрели вверх. Взрослые как бы безразлично, а мальчишки со злом.
— Гляди, ребята! Курят утащат, — сказал им дед.
Куры у переселенцев были с собой на плотах в решетчатых ящиках.
На носу лодки барин что-то говорил, обращаясь к казакам и указывая на берег.
— Привалива-ай!.. — раскатилась по реке команда Петрована.
Дружно опустились шесты. В последний раз зазвенела по дну галька, плоты зашуршали о песок. Гнус слетался к каравану. Знакомый зеленоватый туман загустел над бережком.
— Ну, в добрый час, господи благослови, — пробормотал Егор и с колом под мышкой перешагнул с плота на мокрую косу.
От его босых ступней на песке оставались пальчатые следы. Вода, пузырясь, сочилась в них. Под обрывом Егор стал вбивать в землю кол. Тем временем Кешка, сойдя с парома, разглядел неподалеку свежие медвежьи следы. Мужики столпились и стали их рассматривать, как будто это для них было сейчас важным делом. Оттиски звериных лап смахивали на отпечатки человеческих ног.
— Ступня, пальцы, адали Егор прошел, — пошутил Кешка. — Недавно же тут зверь был. Еще воды до краев в след не натекло. Косолапый где-то неподалеку гуляет, однако, в малинниках лакомится или до своей ягоды добрался, — певуче и любовно говорил Кешка про медведя, как про закадычного друга. — Со сладкого-то ему пить захотелось, он к реке и выходил.
— Слышь, Иннокентий, ты уж сруководствуй, пособи сыскать здешнего человека — Бердышова-то, — озабоченно проговорил помрачневший Федор.
— Иван-то Карпыч был бы дома, он бы уж обязательно вышел на берег, — ответил казак, разгибаясь. — Да и мишка бы тут не ходил. Ну, да уж ладно, я схожу разузнаю. Барин до него тоже шибко антерес имеет.
Казак сходил на плот, взял ружье и пошел по отмелям под обрывом.
— Ну что, Кондратьич, приехали, — обратился Барабанов к Егору, и голос его осекся.
Кузнецов глянул на Федора: глаза того жалко сузились, словно он собирался заплакать.
Егору тоже было не по себе. «Пристали к пескам, а наверх не взойти, — подумал он. — Тайга да комары».
— Полезем наверх, поглядим, — хмурясь, оказал он Федору.
— Что и делать-то? — растерянно отозвался тот. — Видать, нам больше ничего не остается.
Он усмехнулся горько и зло, глядя куда-то как бы сквозь Егора.
— Пойдем, брат, — для ободрения Кузнецов ткнул его кулаком под бок. — Лесину хоть срубим, а то пристали, где дров нету.
Действительно, плавникового леса поблизости было мало. Весь наносник остался выше. На ночь следовало запастись дровами.
Егор и Федор обулись в кожаные бродни[9] и, цепляясь за корни и кустарники, полезли вверх по глинистому рыхлому обрыву и с треском стали продираться по тайге. Следом за ними взобрались остальные мужики и парни.
На реке с заходом солнца посвежело, но в чаще стояла влажная духота, пропитанная лесной прелью. Было сумрачно. Под мхами хлюпала вода. Осины, лиственницы и березы росли близко друг к другу. Старая ель, обхвата в четыре толщиной, сверху обломленная и расщепленная, словно с нее тесали лучину, внизу, у толстых обнаженных корней, зияла черными дуплами. Пенек, гнилой и желтый, изъеденный муравьями, был разворочен медведем. Какая-то большая птица испуганно и молча шарахнулась с ветвей и, шумно хлопая крыльями, улетела в лес, задевая за густую листву. Из буйной поросли папоротников и колючих кустарников вздымались корни буревала с налипшим на них слоем мочковатого перегноя. Роилась мошка, вздымалась из раздвигаемых трав.
Егор полез через валежины и, вынув из-за пояса топор, подошел к тонкой сухостойной елке — прямой и бескорой, как столб. Он обтоптал траву вокруг и стал рубить дерево. К нему, прыгая через буревал, подбежал Илюшка Бормотов, Пахомов сынишка. Это был неутомимый, бойкий парень, чуть постарше Федюшки Кузнецова. Он мог день-деньской ворочать греби, толкаться шестом, а вечером на стану его доставало затевать борьбу, плавать через протоки, ловить птиц. По утрам, поднимаясь раньше других, он шатался по тайге, свистел по-бурундучьи и, подманивая к себе зверьков, бил их. Где и когда приглядел он это, было неведомо.
Проплывая по Среднему Амуру, Илюшка сдружился с солдатами-сплавщиками. Народ это был как на подбор, головорезы. Иногда они собирались по нескольку человек добывать себе харчи — попросту говоря, обворовывать огороды в прибрежных китайских деревнях или у казаков — и брали с собой разведчиком Илюшку.
Однажды, еще в Забайкалье, Илья украл у бурят барана из стада. Отец его избил и барана вернул. За Хабаровкой Илья угнал у купцов-сплавщиков лодку. Как ни строг был Пахом, но за эту кражу он стращал сына не от сердца, потому что лодка была тут нужна до зарезу. Пахом, хотя и не умел ездить в лодке, понимал, что без нее на Амуре, как без коня. Он не стал на этот раз драть сына, хотя для порядка все же немного попугал его.
Парень был смугл, под густыми темными бровями глубоко сидели глаза, скулы торчали, как скобы, — все это придавало его лицу выражение жестокости, весь он был какой-то темный и колючий. Неразговорчивый с детства, он был охотник до всякого дела. Воровал он, заведомо зная, что отец его прибьет, и делал это не от нужды, а от избытка сил и из удальства, не ведая еще, какие иные забавы, кроме драк и озорства, заведены для мужиков на белом свете.
Подбежав к Егору, Илюшка стал подсоблять ему и быстро заработал топором. Вскоре раздался треск, и елка повалилась. Егор, Илюшка и Федор живо развалили сухое дерево на части и стали сбрасывать его под обрыв.
Пока мужики были в лесу, на реку спустилась вечерняя синь. На другом берегу не стало видно ни леса, ни утесов, ни горелых полысней на горах. Сопки расплылись и приняли неясные очертания. Облака, плоские и длинные, подобно косам и островам, раскинулись по небу, как по бескрайной и печальной озерной стране. Не было никакой возможности различить, где тут река и где небо, где настоящие острова и где облака. Казалось, что весь видимый мир — это Амур, широко разлившийся и затихший в трепетном сиянии тысячами проток, рукавов, озер и болотистых берегов.
Мужики молча покурили, сидя на поваленном бурей дереве, грустно подивились на чудесную реку и полезли вниз.
— Место высокое, — вымолвил Егор, сойдя с кручи.
Это было все, что он мог сказать в утешение себе и Федору.
— Дай бог!.. — глухо отозвался Барабанов.
Егор раньше времени не захотел загадывать. Будущее представлялось ему сплошной вереницей забот, подступивших с приездом на Додьгу вплотную. Сейчас же голод и усталость так давали себя знать, как, кажется, ни разу еще за все два года пути, и думать ни о чем Егору не хотелось. Он подошел к костру. Вокруг пламени толпился народ. Вернулся Кешка. Он сидел на корточках подле самого огня, окуная голову в дым, чтобы не заедали комары, тянул ганзу и что-то рассказывал мужикам.
— Сыскал я Иваново зимовье, — заговорил он, заметив Егора и обращаясь к нему. — Построился он неподалеку отсюда, в распадке. Избу поставил с полом и с полатями, печку сбил. Никого там нет, только висит юкола на стропилах, а сам-то он в тайге, видно.
— Кабы его покликать, — просил Тереха Бормотов, Илюшкин дядя, осьмивершковый детина с бородой-лопатой во всю грудь.
— Не услышит, хоть стреляй. Он где-нибудь сохатого промышляет. Может, тайгу чистить начнете, застучите топорами, он учует — выйдет.
Казак недолго посидел с мужиками. Кто-то окликнул его из своих, и Кешка ушел по направлению к палатке.
Егор кое-как пожевал солдатских сухарей и вяленой рыбы. Глаза его слипались, и он завалился под полог подле ребятишек. Наталья что-то говорила ему, всхлипывая. Но веки у Егора отяжелели, руки, ноги отнялись от усталости, и он не стал ее слушать. «Пришлось бы сегодня проплыть дальше, силушки бы не стало лишний раз поднять весло», — подумал он, засыпая.
Близко в лесу прозвенела полуночница. Под стук ее Наталье чудился зеленый луг на займище над Камой и табун коней, позванивающих где-то в отдалении боталами.
Глава седьмая
Рассвет. Заря горит, и все небо в тончайших нежно-розовых и палевых перистых облаках. Сквозь них видно ясное небо. Прохладно. Из-под тальников тянется серебряная от росы трава.
Звонко кукует кукушка. Кудахчет курица на плоту в бабкином курятнике. Река курится туманом. Лес в волнистом тумане, словно колдуны окутали его седыми бородами. Дальние сопки порозовели. Из-за хребта глянуло солнце и полило лучи через лес и реку на желтую отмель, освещая стан переселенцев, как груду наносника, выброшенного рекой за ночь.
Долговязый парень в казачьих штанах пробежал по стану, созывая переселенцев на осмотр местности. Крестьяне полезли из-под мокрых пологов. Женщины раздували в тепле огнищ угли. Ребятишки натаскали хвороста. Весело затрещали костры, повалил дым.
Бойко на весь лес заливается кукушка. Звонко и чисто раздается ее кукование в холодной и торжественной тишине утра.
«Долго ли проживем на этом месте?» — загадывает Наталья, стоя на камне и умываясь прозрачной утренней водой. Птица чуть было не смолкла, словно поперхнулась, но тут же, встрепенувшись, закуковала чаще и веселей, словно дерзко подшутила над Натальей и сразу же поспешила ее утешить.
«Не знай, как понять: видно, что первый год тяжело будет, а дальше проживем, что ли… — неуверенно истолковала Наталья кукушкину ворожбу. — Господи, да так ли? — вдруг со страхом подумала она, подымаясь и вытирая лицо. — Где жить-то станем?» — Она оглядела темный лес и реку, несущуюся из тумана.
А кукушка все куковала.
Мужики, вооружившись топорами, собирались к палатке барина. Петр Кузьмич Барсуков был молодой сибиряк, года три тому назад окончивший университет в столице и уже успевший там порядочно поотвыкнуть от родного сурового края. Недавно его перевели из Иркутска в Николаевск на устье Амура, в распоряжение губернатора Приморской области.
В это утро Барсуков испытывал такое чувство, как будто его отпускали из неволи. Наконец-то он водворит на место последнюю партию переселенцев и сможет подняться в Хабаровку, а оттуда отправиться в Николаевск. Скитания по реке надоели ему.
Несмотря на привычку к путешествиям по тайге и по рекам, тоска, особенно за последние дни, давала себя знать. Это была та странная, внезапно охватывающая человека тоска, которой подвержены почти все, преимущественно молодые, путешественники по тайге. Он знал случаи, когда точно в таком состоянии, какое было сейчас у него, приезжие из российских губерний, военные и чиновники, спивались, либо теряли рассудок, либо кончали жизнь самоубийством. Никакие красоты природы, никакое изобилие дичи, до которой обычно Петр Кузьмич был большой охотник, не могли более развлечь его. Пока шли дожди, он еще кое-как терпел эту тоску и одиночество, но когда началась жара, от которой сгорала кожа, трескались губы и, казалось, таял мозг, терпения его не стало. На ум то и дело приходила семья и все домашнее. Он побуждал себя изучать неведомую и интересную жизнь на Амуре, расспрашивал бывалых казаков, постреливал из ружья, рисовал в альбом и писал дневник, но делал это все единственно потому, что знал — так надо делать, чтобы окончательно не раскиснуть. Но ему очевидно было, что наездился он в это лето досыта и пора возвращаться в Николаевск.
Однако прежде чем плыть домой, он должен был побывать в Хабаровке, чтобы встретиться с другими чиновниками и выполнить кой-какие формальности. Только по окончании всех этих дел он мог плыть пароходом на устье.
Одна мысль долбила его мозг: поскорей водворить переселенцев — и домой. «Но как подумаешь, — размышлял он, — сколько еще придется отмахать вверх на шестах, а потом снова вниз, то жутко становится. Да еще неизвестно, когда будут в Хабаровке пароходы».
Ночь Барсуков спал плохо. Детишки, которых он этой весной перевез вместе с женой из Иркутска, не выходили у него из головы. С думами о них поднялся он, как только чуть забрезжил рассвет, и, едва глянуло солнце, велел казаку идти на стан, будить переселенцев и созывать их к палатке.
— С добрым утром, мужики! — встретил их чиновник.
— Благодарствуем, батюшка! И тебе веселый денек! — кланялись мужики, ломая шапки и обнажая длинноволосые головы.
Барсуков предложил подняться на высокий лесистый бугор, видневшийся в версте от стана, и осмотреть местность. Река, широкая напротив отмели, где стояли плоты, резко, крутым клином сужалась к бугру, который выступал в воду мысом. Бугор был высок, с него, верно, хорошо видны окрестности.
— Что ж, пройтись можно, — согласились мужики.
Толпа, давя ракушки, бодро двинулась по отмелям, следом за Кешкой, взявшимся проводничать, обходила заливчики, которые то сужались, то расширялись, образуя чередующиеся песчаные косы.
— Вот где рыбачить-то, красота! — проговорил Кешка, перебредая заливы в своих высоких ичигах. — На косах-то неводить без задева.
Недалеко от бугра, там, где за тальниками торчали кочки и буйно росла осока, открылся распадок между релкой и бугром. Пологие склоны его были порублены. Меж пеньков виднелась бревенчатая, крытая корой избенка. За ней торчал крытый жердями и берестой свайный амбарчик. Поодаль густо, сплошной чащей, росли березы и лиственницы.
— Иваново зимовье, — сказал Петрован. — Зайдем, что ль, ваше благородие?
— Пожалуй, зайдем, — согласился Петр Кузьмич.
— Айда, мужики! — повеселел Федор. — Поглядим, как тут люди живут.
Петрован открыл ставень, отвалил кол, и толпа полезла в дверь. В избе было сыро и темно. В единственное оконце Бердышов вместо стекла вставил пузырь в крепком решетнике, чтобы зверь не залез в избу, когда ставень открыт. Обширная небеленая печь занимала добрую половину избы. Под потолком налажены были полати. У стены тянулись нары, устланные шкурами. По стенам висела одежда и кожаная обувь, на полках виднелась туземная расписная утварь из бересты и луба. Со стропил свешивались связки сушеной рыбы и звериные шкуры.
Мужики молча оглядывали жилье.
— Оставляет добычу, не боится, — заметил Барабанов.
— Кто в тайге тронет! — отозвался Иннокентий. — Но соболей-то не оставит, хорошую шкуру, конечно, прячет.
— А где прячет-то? — с живостью спросил Федор.
— Где!.. — передразнил его казак. — Мало ли где, это уж он знает.
— Топор, пилу имеет, а настоящего старания нет, — заключил Егор, осмотрев избу.
Барин вскоре вышел наружу. За ним выбрались из избы и мужики, почитавшие неудобным торчать там без хозяина.
— Жаль, что Бердышов в отлучке, — сказал чиновник, обращаясь к переселенцам. — Он был бы полезен для вашего брата. Он и сам давно поговаривал, чтобы сюда населили русских.
— Уживемся ли с ним? — спрашивали мужики.
— Да нет вам никакого смысла с ним ссориться, да и не из-за чего.
— Мы-то, конечно, да как он… — отозвались крестьяне, помня рассказы казаков о том, что по здешнему обычаю староселу за приселение надо заплатить или отработать на него.
— Я же говорю, ему давно хочется жить со своими. Делить вам тут нечего будет. Тайга велика, на всех хватит. Да и он как будто ладный мужик.
Казаки снова подперли дверь колом и закрыли ставень, барин сделал какие-то пометки в записной книжке, и толпа стала подыматься. Разводя руками густой зеленый орешник и молодую поросль кленов, разрубая топорами какие-то цепкие колючие кустарники, перевитые ползучими растениями, мужики кое-как взобрались на бугор.
Вершина бугра была обширна, поросла молодым лесом, кое-где виднелись старые сломы от выгоревших и поваленных ветрами деревьев.
Барин поднялся на груду гниющего, трухлявого буревала и, укрепившись, стал осматривать окрестность в подзорную трубу. Мужики тоже полезли на валежины. Перед ними открылся обширный вид. Могучая река, изгибаясь, разлилась по долине. Один из широких и прямых рукавов ее тек со стороны к главному руслу, пробивая брешь в поемном береге; вдали он слился с небом.
— Эх, и река! — удивился Тимошка. — Вон там и берега не видать.
— Наискось верст двадцать будет, — подтвердил Кешка. — А на низу еще шире бывает.
— Эвон и леса залила. А протоки-то, острова-то, как лоскутья нарезаны…
Прямо, напротив бугра, за рекой на утесах стоял частый еловый лес. На этой стороне реки внизу, на песках, дымились костры стана и, как букашки у кучи мусора, копошились люди меж плотов и балаганов. Вдоль реки от холма тянулась додьгинокая релка, куда, собственно, и поселяли крестьян. По релке рос густой смешанный лес. Ближе к падям и заливам курчавилось чернолесье, высились ясени и тополя, дальше шел красный лес, взмахивали к небу огромными ветвями редкие кедры. Близ стана и до самого распада с бердышовской избой релка поросла березой, осиной, елью и высокими лиственницами.
— Вон и Мылки видать, — сказал Петрован, показывая на обширное озеро, залившееся в тайгу верстах в трех выше стана.
— Я давно собираюсь заглянуть в эти Мылки, — проговорил Петр Кузьмич, направляя трубу на дальние холмы. — Говорят, там была усадьба и жил маньчжурский нойон.
— Никак нет, ваше благородие! В Мылках, на нашей памяти, одни только гольды жили. Маньчжурцы эвон где, на той стороне, жили — вернее сказать, иногда наезжали, останавливались напротив этой Мылки, вон, глядите-ка, между гор вроде заливчик и тальники. Это горло в озеро, озеро называется Пиван, вернее сказать, так называется остров и протока за ним, а озеро гольды как-то по-другому называют. На этом Пиване, неподалеку от устья, была городьба, у них была усадьба. Маньчжурцы приплывали сюда и собирали ясак с гольдов. Это я видел, как они плавают на больших лодках. Каждый год ярмарку открывали, торговали с гольдами, гиляками, которых, бывало, догола оберут, обыграют в карты. Тут всякого жулья наезжало. Хватало всего! Как первые-то разы мы с Николай Николаевичем проходили, все это видели. А потом Амур к нам вернулся, маньчжурцы все собрались и пошли домой. Однако решили, что не продержатся; только кто по деревням торговал, те еще остались и сейчас торгуют. Правда, говорят, что один нойон до сих пор сюда ездит тайком и все еще обирает гольдов, но он уж на Пиване не останавливается, а прячется по деревням. А там фанзы и городьба от них остались, и теперь еще колья забиты; если плыть мимо, так с реки видно.
— Не думаю я, чтобы нойоны сюда ездили, — задумчиво возразил барин. — Пограничная полиция знала бы.
— Откуда ей знать! Разве тут усмотришь? Я вам верно говорю.
Барин снова что-то записал в свою книжку.
— Ну, а что же теперь на этом Пиване? — обратился он к казакам, слезая с гнилого ствола.
— Теперь-то уж все кинули то место, никто там не живет, разве гольды когда-нибудь на озеро рыбачить наезжают. Да неужто вы ни разу не были ни в Мылках, ни на Пиване? Да разве не вы назначали места для переселенцев?
— Нет. Там еще до меня бывали другие чиновники.
— Мылкинские-то одно время на реку с озера выселялись, да как пароходы стали ходить, они чего-то испугались и ушли к себе на озерца. Гольды-то, ведь они так понимают, что в этом пароходе черт сидит и колеса вертит. Дальше-то вон идут озера, они туда и перешли. Озерцо за озерцом так и тянутся, как бусинки, да протоки, почитай, верст на двадцать-тридцать, до самых хребтов. Там рыбы этой!.. Как вода спадет на лугах, как пересохнут протоки — собирай ее руками. А где не возьмешь — лужа высохнет, рыба гниет грудами, птиц налетит тьма. Их пугнешь — аж небо как овчиной накроет. Вон луга-то мокрые блестят промеж лозняков, тут и озерца; гольды там при них и привились, как пчелки.
— Вода да болота, — качали мужики бородами, оглядывая окрестности.
— Кабы, ваше благородие, на Бурее-то нас населили. Вот уж там земелька! — уныло пробурчал Федор.
— Земельку-то, ее, матушку, и везде потом польешь, покуда расчистишь, — возразил Петрован. — Или, думаешь, на Бурее пашни тебе приготовлены, дожидаются? Тоже лес рубить надо, а где луга, так и вода заходит. На островах-то и тут хоть нынче пахать можно. Вон, гляди, бугровой остров тянется, пошто ему пропадать? Делай плот, станови на него коня да соху и сплавляйся туда. Балаган наладишь, да и вали попахивай! Прошлый год высокая вода была, а теперь года два можно не сомневаться: не затопит этот остров; а что кругом мокро, так это сверху кажется.
— А гляди теперь в эту сторону, — вмешался в разговор Кешка, — туда пошли зверятники, там и лось ходит, и кабан, лиса, рысь, соболь, паря, и тигра бывает — хватает всего! Рысь тут ха-арошая, голубая, пятнистая. Всех пород зверь есть.
— Тигру шибко не бойся, она русского не трогает, — подхватил Петрован. — Ты встретишь ее, сам не трогай, и она, если не голодная, уйдет, как человека с ружьем увидит.
— С гольдами завести кумовство — тут князьями зажить можно, — вдруг заговорил долговязый казак Дементий, по прозванию Каланча.
— Кабы торгованов сюда населить, они бы раздули кадило, — согласился Петрован. — Тут бы зацаревали…
Кешка провел мужиков по кустарникам к западному склону бугра. Из-за елей блестело озеро. Бурная горная река падала в него из долины. Шум ее на перекатах слышен был явственно, словно там бурили мельничные колеса.
Озеро протокой соединялось с рекой. За Додьгой и далее во все стороны тянулись леса, исчезавшие во мглистой синеве и туманах.
— Вон и самая Додьга пала в озеро. Рыбы там по осени, когда красная пойдет, полно, как у рыбака в корчаге. Лодкам мешают ходить. Городи эту Додьгу и хватай рыбу, кто чем сумеет. Богатый край, что и говорить! — толковал Кешка, — Геннадий Иванович Невельской первый указал на Додьгу, чтобы здесь русским селиться, — добавил он с важностью.
Кто такой был этот Невельской, мужики толком не знали, хотя и слыхали про него не впервой.
Барин велел казакам провести себя по зарослям вниз, к озеру. Переселенцы последовали за ним. У подножия бугра рос пышный лиственный лес. Ветвистые тополя, толстые, как башни, громадные белокорые ильмы, осины, ясени сплелись густой листвой в сплошной шатровый навес.
Кешка, остановившись в высоких папоротниках подле какого-то стройного дерева с перистой светло-зеленой листвой, вынул нож из кожаных ножен и стал легко резать его серебристую морщинистую кору.
— Поди-ка, Кондратьич, — подозвал он Егора. — Глянь, однако, такого дерева нет у вас на Руси.
— Не знаю, что за дерево. Пожалуй, что и верно, такое-то не растет у нас. Кора мяконькая, как бархат, — погладил Егор ладонью ствол.
Мужики столпились вокруг и не могли понять, что это за дерево.
— Э-э, братцы, да ведь это пробка! — заметил Егор, колупнув кору ногтем.
— Это шибко хорошее дерево, — подтвердил казак, снимая срезанный пласт коры и обнажая слой ярко-зеленой маслянистой заболони.
— С этой коры первейшие балберы[10] на невода и на сетки ладят. Гольды это дерево берегут, зря не рубят. И вам тут жить — его знать надо.
Подошел барин. Кешка показал ему срезанную кору.
— Вот, ваше благородие, интересовались вы пробкой здешней.
— Так и тут есть бархатное дерево?
— Так точно, оно самое.
Барин отошел в сторонку, где сквозь поредевший навес листвы в темную сырость леса падали солнечные лучи. При свете их он разглядел кусок пробковой коры.
— Да-а, действительно самая настоящая пробка, — вымолвил он. — Что вы скажете? А? Южная растительность на этом Амуре, — обратился он к мужикам.
— Вот то-то и есть!.. — соглашались мужики и вздыхали тяжко, словно в этой самой южной растительности и была для них какая-то загвоздка.
Глава восьмая
— Дал бы ты нам, батюшка, денек-другой на раздумье, — говорил Федор, сидя на траве у палатки. Мужики одобрительно поддакивали ему. — Нам ведь тут жизнь жить, надо бы осмотреться ладом.
— Да какое тут может быть раздумье? Очевидно же, что место не затопляется. Земля, ведь сами же вы смотрели, на четыре пальца чернозем, лучше все равно кругом нигде нет, Леса годны для построек, кедр и лиственница, чего же еще надо?
— Это конечно, — соглашался Терешка, яростно мочаля бороду. — Видно, что округ нет получше местности, но все же дал бы ты нам срок, нам ведь тут неспособно селиться. Вот говорили: на Амуре земли много, край незанятый. А где она, земля-то? Ее вот, оказывается, и нет.
— Хм-хм… — недовольно буркнул барин и сморщился, покусывая короткий ус.
— Зря колеса везли, — вздохнул Федор.
— Разве такой лес осилишь? Тебе-то, барин, чем скорей нас водворить, тем лучше, а нам-то как? — с жаром продолжал Тереха. — К пескам пристали, а наверх-то и не взойти.
— Сколько труда в этот лес убьешь, а как земля-то не станет родить? — рассуждал Пахом. — Вон она, сырая. Тут, поди, сгниет все.
— Леса и те погнили. Строиться-то как из гнилья?
— Опять же знать бы, когда коней доставят.
— По-сибироки-то, может, тут и ладно… кто ничего не видал.
— Без скотины тут околеешь, — посыпалось со всех сторон на барина.
— Да вы что, подлецы?! — вдруг заорал Барсуков на поспешно повскакавших с травы переселенцев. — Пора тайгу чистить, а вы в затылках скребете. Что вы думаете, глупее вас люди были, когда это место выбирали, слепые, что ли, они были? Чтобы мне сегодня же представить решение! Надо успеть до осени расчистить место под огороды, пары поднять, а вы что? Смотрите вы у меня!
Окрик барина подействовал. Теперь нечего думать и гадать, как бы не упустить хороших угодий. Барин решительно приказывал селиться на релке, и мужики вновь, как это бывало и на родине, как бывало и по дороге, безропотно подчинились привычной силе гнета. Противостоять начальству они не могли, но зато, покоряясь ему, становились перед самими собой неповинными на тот случай, если бы место оказалось выбранным неудачно. Совесть их оставалась чиста.
— Ладно, барин, раз велишь, чего же, — осмелился, наконец, седой Кондрат и выступил из толпы. — А ежели мы тут оголодаем, кто за нас богу ответит?
— Лениться не будете, ничего с вами не станет, дедушка. Тут богатейший край, как это можно оголодать в нем? Это все дурацкие разговоры, наслушались их по дороге. Да ведь вам никто и не запрещает занимать подходящие угодья, если они где-нибудь есть поблизости, — продолжал Барсуков значительно дружелюбнее.
Видя, что мужики идут на попятную, Петр Кузьмич смягчился. Ему неловко стало, что из личного желания поскорее вернуться домой он вспылил и так на них напустился.
— Но сейчас-то надо же где-нибудь селиться, сено тут заготовлено, — говорил он. — Найдете место лучше, затесывайте лес, и уж будет известно, что оно занято. Потом заимки там заведете…
Много чего могли бы мужики возразить Барсукову. Вместо богатых, плодородных земель, промучившись без малого два года в пути, они увидели перед собой горы, дикий заболоченный берег, полугнилой, заваленный буреломом лес и необозримую пустынную реку. Но не было охоты высказывать барину всех обид — их было много, и к тому же каждый понимал, что от пререканий толку не будет. Оставался единственный выход: браться за тяжелый и долголетний труд, чистить лес на релке и окореняться там, где высадились.
— Дивный народ, ваше благородие! — посмеялся Петрован, когда переселенцы разошлись от палатки. — Никакого понятия не имеют, чего сами хотят. Нищета, а тоже корысть-то их обуяла на земельку.
— Ничего, обживутся, тогда все поймут, чего им надо, чего не надо, — возразил Кешка, снимая березовой палкой вскипевший чайник. — Им пока что неохота такую-то тайгу чистить. А как примутся, их и не остановишь. Они сюда шли и, поди, не знай, чего ожидали. Будет время — и окоренятся. Осмелеют еще и поперечничать начнут, — пошутил он.
Пахом Бормотов, возвратясь на стан, выместил свою досаду на девке Авдотье, напустившись на нее ни за что ни про что. Федор охал и вздыхал, жалуясь Егору на свою долю, хотя в душе он не особенно отчаивался.
Спокойнее всех смотрел на будущее Егор Кузнецов. Хорошенько отоспавшись за ночь, он поднялся на прохладной заре с ясной головой, полный сил, здоровья и готовности к делу. Вчерашней вялости, когда ему даже думать об этой Додьге не хотелось, как и не бывало. В это утро, присмотревшись к додьгинской релке и к ее окрестностям, он решил, что жить тут можно.
Сопки, гнилые деревья, топкая земля и буревал не скрыли от него богатства здешнего леса. Деревья, годные для построек и для любых поделок, росли тут в изобилии. Иных пород Егор и вовсе не знал, но уверен был, что со временем и они окажутся к чему-нибудь годны, вроде как то пробковое дерево, мимо которого мужики прошли бы, не будь с ними казаков. Это не лес, а богатство было перед ним, еще неведомое. Земля, родившая буйные травы, чернолесье, ягодники и плодовую дичь, не могла, как ему казалось, не родить хлеба. А чистить эту землю под пашню у него — он знал — хватит силы и решимости.
Нет, не боялся Егор будущего в те дни, когда, тощий и голодный, с впалыми щеками, выдавшимися скулами и надглазницами, в ссевшихся портках и в посконной рубахе, с топором за опояской, стоял он на песчаной додьгинской кошке[11] против дремучего, от века не рубленного леса. Тайга не пугала и не давила его, словно он от природы готов был бороться с ней.
— Ну ладно, это ведь зря мы перед барином дуру пороли, — с обычной своей прямотой говорил он мужикам, собравшимся у его балагана. — Теперь надо работать. Конечно, надо же, чтобы начальство за место поручилось. Раз он маленько поорал на нас, барин-то, значит уж поручился, и теперь нам жить тут… Да и то сказать, место тут как место, как везде, тайга и тайга. Робить надо. Поплачем да потрудимся, бог даст, земелька-то отплатит за пот да за слезы. Верно казаки бают: или где нас пашни ожидают приготовлены? А по правде сказать, ведь это не край, а раздолье, тут хоть вздохнешь. Никого нету. Всякий себе голова…
— Раздолье!.. — горько усмехнулся дед. — Эх-хе-хе, Егорушка, родимец! — с сожалением и мягкостью вымолвил он. — Земля эта век впусте лежала, почему-то не жили на ней люди, ты на нее большую надежду не клади.
— Как она хлеба не родит, придется нам на другое место кочевать, — заговорил Тимошка Силин. — На Уссури ли, еще ли куда.
— Не приведи господь! — вздохнул Пахом.
— Об Уссуре теперь какие разговоры, — недовольно возразил Федор. — Ты бы, Тимошка, еще Барабинокие бы степи вспомнил.
— Надо же кому-нибудь и тут населяться, — стоял на своем Егор, — не пустовать и тут месту.
— А ты, Кондратьич, при барине вроде как бы соглашался с нами? А? — спросил Тимошка.
Кузнецов, казалось, не слыхал его слов. Конечно, перед барином и он был со всеми заодно. Чтобы Барсуков не думал, что место может нравиться, и он делал вид, будто поддерживает общество. А то скажут, мол, облагодетельствовали, решат за это мужикам какой-нибудь ущерб нанести, содрать чего-нибудь, недодать, противлений не примут. Решат: мол, лес, чаща — это пустяки, мужик все сдюжит. Так представлял себе Егор рассуждения чиновника.
Всего этого он не стал объяснять мужикам. Они и так его понимали. Вскоре переселенцы разошлись, качая головами и сетуя на амурские непорядки.
Егор думал теперь о том, что лес этот на пятьдесят сажен вдоль берега и вглубь на сколько угодно станет его собственностью и что надо рубить, корчевать и жечь пеньки, подымать целину, потом копать в береге землянку да ожидать, когда сплавщики доставят коня и корову. Теперь некогда было думать и раздумывать, хорошо тут или худо и нет ли где места получше, а надо работать и работать, сколько станет силы. Место, как он понимал, годилось для жилья, на здешней земле можно было пахать и сеять. Правда, по дороге попадались угодья получше, но что было, то прошло, и мало ли где что есть хорошего, да нас там не ожидают.
В тот же день казаки намерили на каждую семью по пятидесяти сажен вдоль берега. Когда дело дошло до распределения участков, мужики, позабыв все свои наветы на додьгинскую релку, на сырость здешней земли и на гнилость леса, сами указали места, где кому больше нравилось селиться. Участки выбрали поближе к бугру, где лес не такой буйный и местами были полянки.
— Однако, уж земелька-то не шибко плохая, — насмешничал Петрован. — Оказывается, покуда споры да раздоры, а местечки-то себе облюбовали. Лакомые-то куски. Как, еще не столкнулись? А то, бывает, новоселы дерутся на здешних, плохих-то, местах.
Вечером переселенцы перевели свои плоты немного вниз, поближе к распадку, где берег чуть поотложе и где решено было строить землянки.
На другой день, ранним утром, барин и казаки распростились с переселенцами. Барсуков еще раз напомнил, что по инструкции следует сделать в первую очередь, и пообещал принять все меры к тому, чтобы скот и коней доставили вовремя. На всякий случай чиновник предупредил, что скоро на Додьгу для обозрения новоселья приедет исправник. Это последнее замечание он сделал лишь для того, чтобы мужики не вздумали лениться. Но сам он предполагал, что исправник вместе с другими чиновниками задержался по дороге с частью сплава у староселов и сейчас, наверное, все они вернулись в Хабаровку и пьянствуют там в ожидании окончания дел. Пароход, на котором им предстояло возвратиться в Николаевск, возможно, еще и не остановится на Додьге.
— Кланяйтесь Ивану Карпычу! — Кешка, отплывая, помахал форменной фуражкой.
— Ну, слава богу, уехали! — облегченно вздохнули мужики, проводив Барсукова и казаков.
— Чего же «слава богу»? — попрекнула их старуха Кузнецова. — Сколько нам эти казаки про здешнюю жизнь пересказали!
— А без них мы не увидели бы, что ль, чего тут есть, а чего нету? — возразил Егор. — А от барина только и толку, что орет. Сам же нас этим в сомнение вводит.
— Бойкие эти казачишки! — вымолвил Пахом, когда лодка отдалилась и, взмахивая тремя парами весел, пошла поперек реки. — Знают здешнюю жизнь. По-ихнему, тут все ладно.
— У-у, гуранье! — сверкнул глазами Илюшка и слегка присвистнул. Но чувствовалось, что свистнуть он может со страшной силой, раз в десять, верно, громче, но соблюдает вежливость, побаивается и барина и тятю.
— Пытать надо землю, хлебушко родится ли, — толковала старуха Кузнецова. — Теперь, сынок, только покряхтывай. Об хлебушке забота.
— До хлебушка-то с наших потов река набежит!
— За дело, в божий час! — крестился Кондрат. — Помолимся да чащу рубить…
В тот день крестьяне начали расчистку леса. Никто уж более не говорил, худо ли, хорошо ли будет жить тут. Все занялись делом.
В тайге было тихо и душно. В облаках горело томящее солнце. Похоже было, что собирается дождик. Облака то сходились, синея, хмурились и собирались в тучку, то снова расходились, и солнце обдавало людей жаром. Влажный, горячий воздух напоен был пряной и душистой таежной прелью.
Егор и Кондрат обмотались тряпьем, чтобы не заедала мошка, и, расчистив подлесок, принялись рубить большую лиственницу, росшую несколько отступя от берега, в самой трущобе.
Топоры, чередуясь, врубались в красноватую твердую древесину. Смолистые красные щепки отлетали далеко от дерева, ударяясь с силой в соседние стволы. Крепкое дерево с трудом поддавалось рубке.
Наталья, бабка Дарья и Федюшка рубили кустарник и драли из земли корни, а Васька и Петрован, как теперь на сибирский лад называли Петьку, таскали рубленые ветви и сбрасывали все это под обрыв.
Наталья была невысока ростом, но горяча нравом и спора на работу. Завязав юбку между ног, наподобие штанов, она продвигалась по чаще, вырубая кустарник не хуже любого мужика. За ней двигалась вся семья.
Листвянка, которую рубили Егор и Кондрат, стала вздрагивать от каждого удара, ее ветви трепетали. Егор крикнул семье, чтобы перешли поближе к берегу. Кондрат еще разок ударил топором, и дерево начало клониться. Все отбежали.
У комля натянулась и с треском разорвалась недорубленная древесина, ветки, коснувшись ближних деревьев, зашумели, как в бурю, ствол соскользнул с пенька, тучное дерево как бы спрыгнуло и во всю длину своего огромного клонившегося ствола с громом стало вламываться в чащу. Оно переломило несколько берез, сшибло сухую вершину у ясеня, отчего раздался сухой треск, как на пожаре, когда горят сухие доски, и, сокрушая вокруг себя заросли, давя молодые деревца и кустарники, тяжело рухнуло в мокрую землю. Гул пошел по тайге. Следом отвалилась вершина ясеня, где-то задержавшаяся было в качающихся деревьях, и чуть не зашибла Егора.
Долго не могла утихнуть всколыхнувшаяся тайга. По чаще от дерева к дереву пошли толчки, шумела листва; слышно было, как где-то в стороне развалилось и рухнуло наземь старое, гнилое дерево.
Лес валили и Барабановы и Бормотовы. Справа и слева слышался глухой стук топоров.
Солнце поднялось высоко, когда переселенцы, оставив на берегу завалы нарубленных кустарников и несколько поваленных деревьев, спустились пообедать. Накануне они наловили неводишком рыбы. Бабы напекли на огнище хлебцев. Соль, крупу, муку и сухари привезли с собой на плотах. Настя, маленькая дочка Кузнецовых, с утра поддерживала огонь и следила, как варилась уха.
Семья, вооружившись деревянными ложками, расположилась на гальке под тальниками вокруг котла, в котором плавал сазаний жир.
В разгар обеда Федюшка ткнул брата в плечо и показал рукой на реку.
— Гляди-ка, Егор, кто-то сюда едет.
Из-за низкого песчаного мыса выплывала лодка.
— Никак, к нам гольды плывут. — Из тальников, посасывая рыбью голову, вылез Федор.
Стан оживился. Переселенцы оставили обед и молча наблюдали.
В лодках сидели гольды в широких берестяных шляпах. Подняв весла, гребцы тихо плыли мимо стана вниз по течению, с любопытством оглядывая плоты, балаганы и самих переселенцев.
— Услыхали, что лес рубим, — вымолвил Тереха. — Тоже, поди, недовольны.
— Вот бы их пугнуть, — ухмыльнулся Федюшка.
— Ты, дурак, не вздумай, — пригрозил сыну Кондрат, — это ведь соседи.
Вдруг, как гром при ясном небе, раздался в тишине оглушительный свист. Из тайги выбежал Илюшка Бормотов. Парень задержался там с ловлей какой-то птицы и, выбравшись из чащи к берегу, вдруг увидел гольдов. Порубив полдня тайгу, он уже почувствовал себя хозяином на релке. Пальцы сами прыгнули ему в рот, и, уж тут не стесняясь, он залился Соловьем-разбойником, чтобы гольды укатывали отсюда подобру-поздорову.
— Геоли, геоли![12] — тонкими напуганными голосами закричали в лодке.
Гребцы схватились за весла и поспешно и недружно принялись грести. Лодка закачалась и стала отходить подальше от берега.
Илюшка виновато посмеивался и чесал спину. Пахом ругался надтреснутым голосом и, обломав о сыновью спину сухую хворостину, наступал на него, размахивая кулаками. Илюшка, по-видимому, не очень боялся отцовских побоев и скалил зубы.
На стану бабы и мужики покачивали головами, не одобряя такого озорства, но в то же время и посмеивались над удиравшими гольдами, хотя было в их взорах, обращенных к уходившей лодке, и опасение: никто не знал, что это за люди, придется с ними жить…
— Свой уж один гуран вырос, — говорил про Илюшку дед Кондрат, усаживаясь к котелку. — Вот еще гуранята растут, — кивнул он на внуков — смуглого голубоглазого Ваську и белобрысого Петрована, уплетавших горячую рыбу.
— Мы не гуранята, — с обидой возразил плосколицый Петрован, морща лоб и вскидывая на деда такие же, как у матери, серые с голубой поволокой глаза.
— Вот я тебе, постреленок!.. — пригрозил ему дед ложкой.
После обеда, кто мог спать в жару, забрался под пологи, растянутые в тени. Ребятишки, разгоряченные едой и работой, поскидали одежонку и полезли в реку. Вода на косах была теплая, и вскоре веселые крики и плеск раздавались вдоль всего стана.
Илюшка, пользуясь тем, что все взрослые улеглись, притащил из тайги какую-то горбоклювую черную птицу, связанную по ногам травой. Он ее поймал еще поутру и спрятал в дупло.
— Вот она! Дядя Тимоха которую приметил, как подплывали, на дереве сидела… Я сыскал.
Парень держал птицу за связанные крылья. Пугаясь, птица вздрагивала и покачивалась на них, как на пружинах. Она тупо озиралась на сбежавшихся голышей и, когда кто-нибудь к ней наклонялся, выкатывала остекленевшие зеленые глаза и злобно разжимала клюв.
— Это хищная тварина, — проговорил Федюшка, — она птичек жрет.
— Давай казнить ее, — усмехнулся, поежившись, как бы еще не решаясь на жестокость, Санка Барабанов.
Илюшка осторожно, чтобы не клюнула голое тело, поднял и кинул ее. Птица запрыгала по берегу, сначала медленно, как бы еще не веря, что ее отпустили, но понемногу осмелела — она запрыгала быстрей, добралась до реки, осторожно вошла в воду и, погрузившись, стала кое-как взмахивать связанными крыльями. Течение быстро понесло ее прочь от стана. Ворох ее перьев и пуха всплыл на поверхности реки, словно на этом месте распороли подушку.
Ребята стали кидать камнями. Птица отплыла.
— Ты, Илья, зачем над птицей изголяешься? — появилась вдруг между талин Агафья. — Вот я скажу Пахому, он с тебя шкуру сдерет! Это ведь божья тварь.
— Это вредная птица, — возразил Илюшка, — она гнезда зорит.
— Птенцов жрет…
— И в пищу не годится, — подхватил Санка.
— Почем ты знаешь, какая это птица? — с сердцем воскликнула Агафья.
— Мы знаем! — небрежно отозвался Санка, выгибаясь и почесывая голые лопатки, изъеденные комарами.
— Пялишься еще, бесстыжий. Ведь это грех птиц так терзать, — стала было корить Агафья ребят, но они, прикрывая срам кулаками, разбежались по косе и кинулись в воду.
Позже из-под пологов вылезли отдохнувшие мужики. Егор, глядя на ребят, тоже стал купаться. Он плавал вразмашку далеко от берега и вдруг, подняв руки, надолго исчез под водой.
— Ну как, Амур глубокий? — спрашивал Федор.
«Смотри-ка, водяной-то! Уж и под воду-то лезет! — подумал Барабанов. — Везде нос сует!»
Дед точил инструменты на круглом камне. Федор правил пилу. Бормотовы двинулись всей семьей в лес. Вместе с ними пошел Тимошка со своей тощей женой Феклой и с ребятами. Вскоре ушли и Кузнецовы. Стан опустел.
В тайге застучали топоры, затрещали падающие деревья, под обрыв повалились вороха ветвей.
Наталья, бабка и Федюшка после обеда рубили толстые ползучие корни у пенька лиственницы. Егор, подкопав пенек, заложил под него вагу. Рыжие и толстые, как бревна, корни не уходили в глубь почвы, а стелились по неглубокому слою перегноя, выдаваясь наружу, и дерево стояло на них, как елка на кресте.
Корни перепилили, обрубили, и Кузнецовы всей семьей принялись раскачивать вагу. Пенек не поддавался. Егору пришлось подрубить мелкие корни и подкопать его с другой стороны.
— Экая духота! — разогнулась Наталья, вытирая потный лоб, облепленный комарами.
Рой гнуса назойливо жужжал над головой. Влажный воздух был тяжел и недвижим, лес молчал, через солнце тянулись облачка. Деревья утихли в истоме. Руки и ноги наливались тяжестью, голова кружилась от прели и духоты, и думать в такую погоду ни о чем не хотелось.
Кузнецовы снова налегли на вагу. Пенек, наконец, отвалился, и переселенцы увидели черный перегной. Слой его был неглубок. На месте поднятых становых корней кое-где проглядывала глина.
— Вот и землица, — склонился дед, беря щепоть перегноя в темные пальцы.
Глава девятая
День за днем, от восхода до заката, переселенцы рубили и выжигали тайгу, корчевали пни и копали землянки в высоком обрыве берега. Понемногу край релки очищался от леса. Из обрубленных ветвей складывали огромные костры, пылавшие круглые сутки и отгонявшие дымом гнус. Эти костры пугали по ночам гольдов в соседних стойбищах.
Как-то раз, вечером, Федюшка на краю вырубленного леса встретил сохатого. Горбатый и бородатый зверь выбежал из леса и стал как вкопанный, с удивлением уставившись на балаганы. Парень во весь дух помчался обратно. На стану он рассказывал мужикам:
— Рогатый зверь выбежал из тайги… Испугал — дух перехватило…
— Эх вы, лесовики! — проворчал дед на сыновей. — Пошто ружье у сибиряков не взяли? Такая туша мяса сама пришла к стану, а вы что? Эх, родимцы!..
Дед никогда не ругался нехорошими словами, а если хотел кого-нибудь попрекнуть, с мягкостью в голосе говорил: «Э-эх, родимец!..»
Мужики поговорили, что надо бы походить с ружьями по следу и добыть зверя. На том и разошлись.
В сумерках кричал филин. Небо затянуло тучами. Ночью пошел дождь, перешедший в ливень. Егор еще с вечера затянул берестинами имущество, оставшееся на берегу.
Под утро крепкий сон его нарушила Наталья.
— Чужие на стану, проснись-ка, — шептала она тревожно. — Слышь, собаки заливаются? Жучка разбудила, сорвалась с места…
Где-то ниже стана лаяли собаки, кто-то не по-русски покрикивал на них. Слышно было, как собаку ударили и она завизжала. По-видимому, неизвестные отгоняли напавших на них переселенческих собак. Издали лаяли хриплые чужие псы, подвывая, словно их удерживали на привязи.
— Это не Бердышов ли вернулся? — вымолвил Егор, отдергивая холстину, закрывавшую вход в балаган.
Брезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромным парящим котлом, над которым только что подняли мокрую деревянную крышку. Туман раскинулся по реке и лесу. За рекой рваные облака ползли по склонам серых сопок и, цепляясь за лесистые распадки, оставляли там белесые лохмотья, стелившиеся снизу вверх, словно там тянули куделю с деревянных зубьев. Дождя не было, но на землю падала мельчайшая водяная пыльца.
Егор, накинув мешковину на плечи и вооружившись колом, пошел на лай. Его босые ноги ощущали мокрый теплый песок. Дойдя до бормотовского балагана, он различил в тумане неясные очертания лодки. Подле нее копошились люди, таскавшие на берег грузы.
— Это ты, что ль, Егор? — высунулся из балагана бородатый Пахом.
— Кто это на берегу? — спросил Кузнецов.
— Сам не знаю, я на всякий случай забил пульку, — осклабился Бормотов. — Не ровен час, как бы не бродяжки.
Неизвестные, выгрузив лодку, стали таскать грузы в распадок, к бердышовской избе. В тумане довольно ясно обрисовывались согнутые, горбатые фигуры с мешками на спинах.
— Нет, это не бродяжки, а гольды, — сказал Егор, вслушавшись в голос, окрикивавший собак.
— Может, родственники Ивана привезли ему товары, — согласился Пахом. — Рассвет — выйти бы к ним. Они, поди-ка, знают, где он промышляет.
— Может, и сам-то он с ними же.
— Голоса-то русского не слыхать, — возразил Пахом.
Туман стал редеть. К лодке со взгорья возвращалась женщина, за ней трусила собака. Кто-то хрипловато и глухо прокричал у избы. Женщина остановилась и бойко затараторила в ответ.
— Ишь, наговаривает, — усмехнулся Пахом.
— А тот на Кешку голосом сдается. Может, и впрямь Иван Карпыч?
— Ну, бог с ними! Рассветет, тогда пойдем к ним, — сказал Егор и направился к своему балагану.
Спустя полчаса, когда туман рассеялся, толпа мужиков, хлюпая по лужам, подошла к потемневшей от дождя Ивановой избушке. Около нее ярко пылал большой костер. Поодаль двое мужиков, одетых в дабовые,[13] халаты, сидя на корточках, свежевали короткими ножами тушу зверя. Егор различил, что низкий горбоносый старик с косичкой на затылке, обутый в долгоносые улы[14] — гольд, а плечистый и рослый, с темными короткими усами, в поярковой шляпе на голове — русский. Обличьем он смахивал на казаков-забайкальцев. В его исчерна-загорелом лице, в усмешливом взгляде исподлобья было что-то сродни Кешке и Петровану.
Гольд, взявши сохатого за растопыренные красные ноги, перевалил его на другой бок и, оттягивая шкуру от хребтины, подрезал ее короткими и быстрыми движениями.
— Бог на помощь, добрые люди, — снял шапку Егор.
Мужики сделали то же самое.
Русский в поярковой шляпе разогнулся, обтер руки о высокую траву, а ножик о полу халата, мельком глянул на мужиков, наклонил голову, будто усмехнулся в темные усы, и что-то буркнул в ответ. Гольд тоже поднялся, мотнул головой и довольно чисто поздоровался с переселенцами по-русски.
Русский вытащил кисет и трубку, достал несколько листьев табаку, свернул их, вставил в ганзу и вдавил большим пальцем. Гольд стал рубить топором тушу зверя. Переселенцы наблюдали. У русского движения были неторопливы. Его широкие покатые плечи и бычья шея таили в себе, по-видимому, большую силу. Он высек огня, помолчал, покурил, искоса поглядывая на мужиков.
— Видать, хозяин приехал? — спросил его Федор.
— Однако, хозяин, — обронил тот. — Знаете, что ль, меня?
— Иван Карпыч, что ль, будете? Не Бердышов ли?
— Однако, Бердышов, — ответил он, и это «однако», которому сибиряки придают множество разных оттенков, прозвучало на этот раз как насмешка над спрашивающими: мол, а кто же другой, как не я? Али народу много тут, не признали?
— Ну, так давай тебе бог здоровья, знакомы будем, — стали здороваться с ним мужики.
— Иннокентия-то Афанасьева, поди-ка, знаешь?
— Это Кешку-то? — переспросил Бердышов.
— Да, амурский же казак, сплавщиком у нас на плоту шел. Он наказывал: кланяйтесь, дескать, как Иван Карпыч из тайги выйдет.
— Он нам и сказал про тебя.
— Ну, а Петроваи был с ним? — спросил Бердышов.
— Как же, и он был, а еще Иван молодой с Горбицы и Дементий — здоровый мужик, долгий.
— Каланча-то? — дрогнув бровями, спросил Бердышов.
— Во-во, так будто его прозывали! Гребцами они у барина, у Барсукова Петра Кузьмича, работали.
— Не знай, что за Кешка, — вдруг со строгостью вымолвил Иван Карпыч и, нахмурив свои густые и неровные брови, подозрительно оглядел мужиков. — А вы с Расеи, что ль? — как бы между прочим, словно невзначай, спросил он, словно «Расея» была где-то тут, неподалеку.
— С Расеи, батюшка, из-за самого Урала, с Камы.
«Экие недобрые эти гураны», — подумал Егор, глядя на нелюбезного хозяина.
Из избы вышла рослая гольдка в голубом шелковом халате, с длинной трубкой в руках и с золотыми сережками в ушах. Она приблизилась к костру, присела на корточки и с любопытством уставилась на переселенцев большими иссиня-черными глазами. У нее была матовая гладкая кожа, легкие скулы и алый рот. Выражение ее лица было живое и осмысленное. Все мужики заметили это, и гольдка понравилась бы им еще больше, если бы она не курила, смачно сплевывая на обе стороны.
— Вот привезли нас на эту самую релку, — заговорил Барабанов. — Мы-то, конечно, сперва не хотели тут селиться, да, пожалуй что, нас здесь силком оставили.
И Федор стал жаловаться Бердышову на чиновника, что он насильно водворил их на Додьгу, не позволил осмотреть как следует окрестности и самим выбрать подходящее место. Говорил он об этом, всячески приукрашивая притеснения чиновника, чтоб Иван знал, что они тут водворены волей начальства, по казенной надобности и чтобы ему не задумалось заломить с них за приселение лишнего.
— Ну, да ничего, обживетесь, — опять как-то между прочим отозвался Бердышов.
По его знаку гольдка сходила в избу, принесла оттуда большую железную жаровню, вытерла ее тряпкой и поставила в огонь. Старик гольд кинул в жаровню вырезку мяса.
Заморосило.
Бердышов позвал мужиков в избу. Там сложены были мешки с мукой, связки сушеной медвежьей желчи, луки — большие и малые, ружья, колчаны со стрелами, два копья, туес[15] с ягодой, ворох сушеных щук и чебаков.
Иван Карпыч выставил на стол бутылку ханшина, гольдка принесла жареного мяса и накрошила дикого луку. Мужики разместились на нарах, и Бердышов начал угощать их. В избе он стал порадушней и заботливо подливал ханшин в маленькие глиняные чашки. Он снял с себя шляпу и халат, подсел поближе к мужикам и уж не казался таким недоступным, как на первый взгляд. Его темные волосы по сравнению с черной, как вороново крыло, головой его жены оказались темно-русыми. У него была большая голова, лицо широкое и лобастое. Оно сразу запоминалось какой-то особенной неровной линией густых бровей. Его крепкие руки, поросшие волосами, как видно, были сильны, из-под тонкой потной рубашки выдавались мускулы.
Понемногу крестьяне разговорились и стали рассказывать Бердышову про свое долгое путешествие, про невзгоды и сомнения на новоселье.
Бердышов слушал внимательно и больше уж не усмехался. Подвыпив, он объявил, что сам рад их приезду, что с голых и босых за приселение ничего брать не станет, но просит отработать ему на помочах: очистить остатки леса около его избы. На это мужики с радостью согласились.
— А насчет того, — говорил Бердышов, — что тут нельзя пашню пахать — ни к чему сомнения. Зря беспокоиться — только себя расстраивать. Тут и хлеба пойдут и всякие овощи растут хорошо. Еще и теперь столетние старухи указывают на релках места, где будто бы жили какие-то народы и давным-давно были пашни. Говорят, будто когда-то русские тут проживали. Про это я как-нибудь расскажу еще. Шибко занятно, — переглянулся Иван с женой.
Гольдка улыбнулась смущенно и счастливо.
— Место подходящее. Так что обижаться вам не стоит, Тут высоко, а земля черная. Ее в высокую воду не смывает. Уж эту додьгинскую релку удачно выбрали, не как в иных местах… А то, бывает, приедут переселенцы, а их на другой год топит водой. Конечно, барин, куда бы ни привез, все равно орать бы стал. Его ведь какое дело? Где приказано населить народ, там и вали, водворяй его, а не слушает — ори на него, да и все. Казенное дело такое — своего ума не надо! Только, однако, на этот раз подфартило же вам!
— Ну, уважил ты нас, Иван Карпыч, то есть так уважил!.. И мы тебя уважим, дай срок! — соловьем заливался охмелевший от вина и от радости Федор.
Его хитрые глаза заплыли, а лицо сияло. Отказ Бердышова от платы за приселение и рассказы его о том, что на Додьге пойдут хлеба, придали Барабанову духу.
— Вот теперь и я вижу, что тут жить можно, ей-ей! — весело приговаривал он, подсаживаясь поближе к хозяину и похлопывая его с осторожностью краешком ладони по плечу и как бы напрашиваясь в друзья.
Егора водка не веселила и новостей, кроме той, что денег с него не потребуется, он не услышал. Как-то уж само по себе это было понятно, что и место тут высокое, и под пашни оно годится, и все прочее. Он был очень доволен, что Бердышов не берет денег, и теперь думал, что жаль — так затянули разговор и затеяли чуть не гулянку, за пьянством пропадает время, годное для чистки леса. «Покуда теплая погода, робить бы, — думал он, — а не пиры пировать». Но уйти было нельзя. Впрочем, и он угощался охотно и с интересом присматривался к Ивану и его жене. Бердышов на первых порах выказал себя ладным мужиком, но Егор как-то невольно был с ним настороже. Он помнил рассказы казаков про нравы и обычаи забайкальских деревень и на Амуре.
Федор сегодня не походил на самого себя, и перемена эта в нем, должно быть, была не от хмеля и не от удачи, а что он останется с деньгами. Было в пьяной радости Федора что-то неприятное и поддельное. Подвыпив, он без всякой нужды хитрил по пустякам, делая вид, будто что-то знает особенное, а перед Иваном всячески старался выказать себя ловкачом. Похоже было, он угодничал потому, что Ивана побаивался в душе. Егор знал его натуру.
Остальные переселенцы радовались, что дело так хорошо обернулось.
Пришел старик гольд и принес свежего осетра.
— Ну, строганины, что ль, отведаем? — предложил Иван мужикам. — Едали, что ль, строганину в Забайкалье? Приготовь-ка нам, Анюта, талу,[16] — обратился он к жене.
Гольдка перепробовала лезвия нескольких охотничьих ножей, выбрала самый острый и тут же настрогала тонко и нарубила мелко сырой осетрины, нарезала дикого луку и каких-то кореньев, все это смешала вместе и подала на стол.
— Ну, а теперь под строганинку, — предложил Иван, снова наливая глиняные чашечки.
Старика гольда он называл дядькой Савоськой и пояснил, что это брат его тестя. Впрочем, и он и Анга называли его то Савоськой, то Чумбокой, как звали старика по-гольдски.
На голове старика торчали редкие седые клочья волос, в уши продеты были серебряные кольца. Кольца же украшали его маленькие пальцы. Говорил он по-русски довольно внятно, даже острил. Подвыпив, он расстегнул рубаху и с гордостью стал показывать свой нательный медный крестик.
Пирушка у Бердышова продолжалась целый день.
Под вечер небо прояснилось, и на Додьгу с попутным ветром на парусной лодке приплыл сам Иванов тесть со своей молодой женой и сынишкой, тот самый старик Удога, о котором переселенцы много наслышались еще по дороге.
По-русски его звали Григорием Ивановичем. Это был рослый и худой старик с толстой седой косой, с седыми бровями и с черными, как угли, глазами. Серебряные усы он подстригал коротко, как Иван.
Выбравшись из лодки, он с нежностью поцеловал Ангу в обе щеки и, отведя ее в сторонку, потихоньку говорил что-то ласковое.
Молодая жена Удоги — веселая, коренастая, широкоплечая гольдка — была одной из тех крепких женщин, которые всякую работу делают не хуже своих мужей. Восемнадцать верст от стойбища Бельго до Додьги она выгребала веслами против течения, помогая ветру. В гости она вырядилась по-праздничному. На ней бледно-розовый шелковый халат, расшитый редкими синими узорами, в которых, если пристально вглядеться, различались очертания птиц, животных и цветов. На маленьких ногах гольдка носила легкие новенькие обутки, сплошь покрытые мелкой вышивкой. Айога — так звали жену Удоги — встретилась с Ангой не как мачеха, а как задушевная подруга. Гольдки обнимались, целовались и, войдя в избу, без умолку разговаривали.
Маленький сынишка Айоги, Охэ, послонявшись между взрослыми, сбегал к лодке, достал оттуда лучок со стрелами и побежал в тайгу бить птичек. Вихрастые крестьянские ребята дичились, глядя на него с косогора и не решаясь подойти.
Иван и Удога, разговорившись, то и дело переходили с русского языка на гольдский. Из их беседы мужики поняли, что Бердышов и Савоська долго были где-то на охоте, и Удога, услыхав от проезжих, что они вышли из тайги, сразу поднял парус и поспешил на Додьгу. Мужики заметили, что Савоська и Григорий не выражали восторга по случаю встречи. Егору показалось, что братья относились друг к другу с прохладцей.
С переселенцами Удога держался с достоинством, — видно было, что он знает себе цену.
В этот вечер захмелевшие мужики пробеседовали с ним недолго и вскоре после его приезда разошлись.
— Ничего, как будто хорошие люди эти гольды, — говорили они между собой про Удогу и про Савоську.
На другой день оба старика гольда приходили на стан, чтобы попрощаться с переселенцами. Они уезжали в свое стойбище.
Вечером на стан заглянул Бердышов. Сидя у огонька, он рассказывал переселенцам про своего тестя:
— Григорий ведь заслуженный перед начальством. Только теперь везде чиновники новые и про него забывать стали, а раньше, бывало, Григорию Ивановичу большой почет был.
— Какая же у него заслуга? — спросил Егор.
— Как же! — заговорил Иван с таким видом, словно удивился, что мужики еще не знают про заслугу Удоги. — Ведь в прежнее время Амур был неизвестным. Жили эти гольды, охотились, приезжали к ним маньчжурцы, сильно их грабили и терзали. Наши русские купцы тоже на свой риск и страх привозили товар на меновую. Проходили через хребты. А маньчжурцы — по воде… Вот тут наискосок Мылок, на той стороне, — показал Иван за реку, — была ограда — нойоны жили. Да и те только наездом бывали. Им, сказывают, закон тут жить не дозволял.
— Кешка нам про это рассказывал, — перебил его Силин.
— А ты слушай, чего тебе говорят. Мало ли чего Кешка сказывал, — огрызнулся на него Федор и, состроив внимательное лицо, обернулся к Ивану.
— Когда же этот Амур нашли, — продолжал Бердышов, — и стали проверять, фарватер у него искали, снизу, с Николаевска, приплывали русские морские офицеры. Григорий Иванович-то не побоялся нойонов, показал русским фарватер. Потом, когда была Крымская-то война, и у нас на низу была война. Тут, паря, англичан отбивали на морском берегу, а по Амуру туда сплавляли войска на баржах на подмогу. Григорий с ними проводником плавал и довел баржи в целости до Николаевска. Савоська с ними же плавал, только тому награда была, а заслуги не вышло — он маленько чудаковат, ему не дали заслуги. Потом на другой год они опять плавали. Савоська — тот с родичами еще смолоду поссорился и убежал на море, жил у гиляков. Он с самых первых дней с Невельским ходил, проводничал. Он Невельского-то вверх по Амуру привел и Удогу сговорил помочь экспедиции. Потом уж, вот недавно, как вернулся Амур к Расее, сам губернатор Муравьев назначил Григорию Ивановичу заслугу. Выдали ему казенные сапоги, штаны и мундир с золотыми пуговицами. Это все у него и сейчас в сундуке хранится. А был тут маньчжурец Дыген. Шибко вредный старикашка. Он тут прежде сильно безобразничал. А перешел Амур к нам — на Пиване заросла травой вся ограда, и медведи туда повадились колья дергать. Вдруг этот самый Дыген заявляется к нам в Бельго. Тварина же! — с досадой воскликнул Иван, и было видно, что он до сих пор сам зол на маньчжура. — Как он в старое время донимал этих гольдов!.. И меха у них брал, девок портил, баб, какие понравятся, к себе таскал, а сам, гадина, кривой, глаза у него гноятся. Посмотреть, так замутит.
Иван сплюнул в костер.
— Ну вот, заявляется он в Бельго: давай, мол, ему по старой памяти меха. А я жил тогда, конечно, у них в деревне. «Ну, — говорю, — Гриша, открывай сундук, надевай полную форму». Вот вытаскивает он мундир, обрядил я его как следует, берем мы в руки по винтовке и вылезаем оба на берег. — Рассказывая, Бердышов поглядывал изредка на Наталью точно так же, как Петрован. — Как Дыген увидал мундир да золотые пуговицы — ну, дуй не стой! — подняли на лодке парус и уплыли. Потом, сказывали гольды, он узнал, что это был не русский, и шибко удивился, что простого гольда наши почему-то в такую заслугу произвели. С тех пор в Бельго маньчжур этот не показывается, хотя, слышно, еще и до сих пор бывает он тут по маленьким деревням. Ищет, где народ подурней.
— Да-а, Грише было уважение, — продолжал Иван Карпович после короткого молчания. — Бывало, сам Муравьев едет мимо — сейчас катер к Бельго приваливает, губернатор спрашивает Григория. Григорий Иванович выйдет на берег и рассказывает все, чего хочешь. Невельской, который этот Амур отыскал, Николаевский пост на низу поставил и самый первый дом на нем срубил, тот все с тунгусами да с гиляками водился. И он Григория-то знал. А теперь уже и начальство новое, и люди не те стали, губернатор другой. Про Григория стали забывать. Китаец-лавочник и тот ему уважения не выказывает. Вот седни жаловался он на этого торгаша. Гольды боятся лавочника, как мы исправника: чуть что — на коленки перед ним.
— А скажи-ка ты, Иван Карпыч, — снова полюбопытствовал Тимошка, — почему у гольдов всегда гребут веслами бабы, а мужики сидят в лодке сложа руки? Сегодня плыли они — Савоська у правила, а Григорий сидит, ничего не делает, парень на ворон пялится, а баба за всех робит веслами-то.
— Приметливый же ты, — беззвучно засмеялся Иван. — Это уж верно, так у них заведено. Мужик сидит, ничего не делает, а бабы огребаются. Спросишь: «Эй, чего твоя баба работает, а чего твоя сам даром сидит?» — «А чего, мол, ей… Она греби да греби, — с живостью представил Иван гольда, сощурив глаза и подняв лицо кверху, — а моя, поди, ведь думай надо».
Наталья от души смеялась, слушая Бердышова, смеялись и все остальные бабы и мужики. Видно было, что Иван представляться мастер.
Глава десятая
Цвели желтый зверобой и золотарник, васильки голубели в посохших травах, белые гроздья винограда свешивались с прибрежных кустов. На ранних вырубках розовыми полянами раскинулся иван-чай.
Стояли ясные, сухие дни, и работа у мужиков спорилась. Тайгу быстро оттесняли. Переселенцы работали с утра до ночи.
С приездом Бердышова жизнь на стану несколько оживилась. Каждый вечер Иван Карпыч приходил к шалашам и рассказывал разные истории из здешней жизни. Говорил он много и охотно, признаваясь, что рад побеседовать с русскими людьми, которых все эти годы приходилось ему видеть лишь от случая к случаю.
Впрочем, он не всегда был радушен и приветлив, часто разыгрывал с мужиками разные шутки, пугал их, что может заговорить дерево, и оно не поддастся рубке, или, если захочет, отведет рыбу от невода. То вдруг он становился строг и угрюм, не отвечал толком на расспросы, городил всякую чушь, так что мужикам трудно было разобрать, когда он говорит правду и когда шутит.
Бердышов был человеком сильным и деятельным. Весь его вид говорил об этом. Но если работы у него не было, особенно когда он по нескольку дней отдыхал после охоты, он начинал озорничать.
Как-то под вечер Федор, выйдя из тайги, встретил его на берегу. Иван шел в тени деревьев, опустив низко голову в надвинутой на глаза поярковой шляпе, и глядел себе под ноги. Вокруг него вился рой мошкары.
— Здорово, Федор Кузьмич, — вымолвил он, не доходя до Барабанова шагов на десять и не подымая головы.
— Ты как меня увидел? — удивился Федор.
Бердышов молча шел прямо на него.
— Возьми-ка моих комаров, — махнул он руками, поравнявшись с Барабановым, и отшатнулся в сторону.
Вся туча гнуса перелетела на Федора.
— Э-э-э-эй, да ты что, да на что они мне? — завопил Барабанов, отбиваясь от комарья.
Но Иван уже шел своей дорогой, и только покатые плечи его тряслись от смеха.
— Чудной он какой-то, не поймешь его, — говорили про Бердышова переселенцы. — Надо всем смеется, из всего у него шутки.
— В тайге столько проживешь, чудной станешь, — оправдывал его Кузнецов, — а он тут давно живет, уже лет восемь, поди…
— Недаром казаки-то говорили, что у него жена шаманкой была. Это ведь колдунья, шаманка-то. От нее он и перенял, поди, эти выходки. Видишь, какой он переменчивый, то так прикинется, то этак, не дай бог околдует, — не то на самом деле пугался, не то шутил Тимошка.
— Он и над гольдами, над родичами, и то просмешничает, — утверждал Пахом. — Уж таков человек!
— Того и гляди боднет лбищем-то. Вот помяни мое слово, он еще натворит нам делов целую контору, — говорил Силин.
В конце июля на Додьгу прибыли казенные баркасы, доставившие на каждую семью переселенцев по коню и по корове. Кони оказались клячами, а весь скот бракованным, и крестьяне были в отчаянии. Коровы доились плохо. Вместо обещанной муки почему-то привезли зерно.
— Вот еще новая забота, — горевали мужики, — чем же молоть станем?
Они на все лады ругали Барсукова.
— Лошадь отходим! Выпасется на лугах, — говорил Егор жене. — Какая бы заморенная ни была, а откормится — будет конь. Мы сами пришли заморенные, и кони у нас такие же.
В бормотовской лодке мужики стали возить сено, заготовленное солдатами. Но сена было мало, а трава, стоявшая на лугах, уж превратилась в дудки. Все же пришлось косить ее и возить с острова на берег.
— Как солома, — говорили крестьяне.
Бабы расчистили под грядки малые клочья земли.
Вскоре после отплытия баркасов Бердышов напомнил мужикам, что они обещали ему устроить помочь: расчистить тайгу подле его избы. На другой день переселенцы вышли работать на Иванов участок. Там порубили и пожгли все пеньки и деревья, оставив только несколько лиственниц подле самой Бердышовой избы. Теперь кругом нее чернели пепелища.
В награду за труды Иван по обычаю устроил мужикам пирушку: выставил водки и роздал пуда три вяленой сохатины.
А на бабьих огородах, на целинных влажных землях, под горячим солнцем быстро взошли лук, редиска. До осени переселенки надеялись кой-чего вырастить.
Огород был для каждой семьи заветным местечком. Наталье плакать хотелось от радости, когда впервые зазеленели всходы на ее грядках. Лес еще стоял поблизости, тучи комарья туманом зеленели над релкой, но, глядя на такие знакомые, по-старому родные и милые комья черной земли и на стройные рядки лунок с бледно-зелеными ростками, верилось, что будет тут и дом, и пашня, и двор. Хотелось работать еще пуще, и Наталья трудилась не покладая рук и не жалея себя. Это чувство испытывали все переселенцы, и всем работалось в тайге веселей, когда за спиной появились маленькие росчисти.
Вечером после тяжелого труда не было для измученных новоселов большей радости, чем посидеть на огороде и полюбоваться на первую зелень, выращенную среди таежной дичи своими руками.
Иван Карпыч прожил на Додые недолго. Однажды поутру дверь его избы опять оказалась припертой колом, а его дощатая лодка, обычно лежавшая на песке, исчезла.
— На охоту уехал со своей гольдкой, — решили переселенцы.
Парни и ребята любили поговорить между собой про зверей, про охоту и про Бердышова.
Побывавши раз-другой у его избы — часто они боялись туда подходить, чураясь гольдки, к которой присматривались с недоумением, — они забыть не могли охотничьи копья, ножи, звериные шкуры, луки, сохатиные окорока.
— Встретить бы мне зверя, я бы его пальнул!.. — мечтал Илюшка.
— Пахом тебе ружье-то не даст, — насмешливо возражал белобрысый Санка Барабанов. — Из чего ты его палить-то станешь?
— Тятя мне дать ружье посулил, ей-ей, посулил, — хвалился Илюшка.
Схватив с песка палку, он, пригнувшись, взбежал на изволок берега и нацелился в черное обгорелое корневище.
— Ка-ак бы я его!.. — И он зажмурился.
— Да-а, Иван Карпыч где-то сейчас промышляет, — задумчиво говорил Петрован Кузнецов. — Вот с ним бы на зверя-то сходить!..
В это лето из ребят, пожалуй, не осталось ни одного, который не собирался бы стать охотником подобно Бердышову. Их, подросших в тяжелой и длинной сибирской дороге, привлекала жизнь промысловиков, жизнь, полная приключений и опасностей, о которых они много наслышались. И хотя они, дети хлебопашцев, всегда помнили о пашнях, о хлебах, о скоте и хвастались друг перед другом, как и что быстро растет на огороде, но уж тайга все сильней тянула к себе юных амурцев.
Наступил тихий жаркий август; иван-чай стоял в белом пуху, таволожник цвел белым и розовым. На бузине закраснели ягоды. Стрижи летали высоко над релкой. Кончалась малина, созрела голубица.
Вечерами на реке дымились туманы. Ночи стояли безлунные, редкие звезды мерцали красным пламенем, как отдаленные костры. Лишь над высокой сопкой на северо-западе, куда не достигали речные туманы, ярко и чисто светила Большая Медведица.
Глава одиннадцатая
Наступила осень. Поспели колючие лесные орехи, ползучие растения опутали тайгу, трава посохла, сопки покраснели и пожелтели, обмелела речка Додьга и, утихшая, бежала слабыми ручейками по широкому каменистому ложу.
В тайге стало посуше. Осыпалась голубица, созрела брусника, от нее было красным-красно, словно кто-то рассыпал по траве бусы. Доходил, синел виноград. Птицы потянулись на юг.
Додьгинская релка понемногу обнажалась, но лес, отступая, еще стоял на ней полосатой темно-белой стеной из берез и лиственниц. На вырубленных полянах торчали пеньки и дыбились корневища.
На берегу подле маленьких огородов достраивались четыре землянки. Обычно в Сибири на новоселье не строили изб. Жизнь переселенцы повсюду начинали одинаково, исподволь, как бы не решаясь окончательно утвердиться до тех пор, пока хорошенько не осмотрятся и не освоятся с местной природой. Землянки не жаль было бы оставить, если место оказалось бы негодным и пришлось опять куда-нибудь переселяться. К тому же постройка избы требовала много труда и времени, а ни того, ни другого мужикам теперь не хватало.
Землянки копали в крутом береге. Это были обширные ямы с установленными вдоль стен досками — остатками плотов. На них настилали крышу, а весь верх заваливали пластами земли. Печки сбивали из сырой глины чекмарями — так называли деревянные молоты, а глину накладывали в дощатые формы на месте будущей печи. Вдоль стен тянулись широкие земляные нары, служившие и сиденьями и кроватями. Землянки были теплы, обширны, освещались маленькими окнами, обращенными к реке.
В конце августа, когда начался ход рыбы, жилища были готовы. Для скота и для коней неподалеку от землянок выкопали ямы, прикрытые срубами с накатником. Поверх наваливались высокие кучи сена. Все селение как бы зарылось в землю, готовясь к суровой ветреной зиме.
С доставкой коров пища стала разнообразнее. Появились творог, сметана и простокваша.
Понемногу осваивались переселенцы с амурской жизнью. Осенью они впервые наблюдали ход красной рыбы — кеты, или, как называли ее тут по-гольдски, давы. Еще по пути на Додьгу они много слышали и от староселов и от казаков о том, что осенью из моря в Амур заходят косяки красной рыбы и идут в горные речки. Но никто из них не верил, что будто бы рыбы этой такое множество, что она, как рассказывал сплавщик Петрован, мешает ходить по реке лодкам.
Пришла кета. По Амуру вверх и вниз засновали гольдские лодчонки с рыбаками и с добычей. Мужики время от времени пробовали ловить рыбу на косе у стана, но удачи им не было. Их короткий невод тянул пять-шесть рыбин. Однажды бабы, ходившие на Додьгу по ягоды, увидали, что на горле Додьгинского озера вода словно закипает от косяков кеты, заходящей в мелкие протоки. В тот же день мужики, распаленные этими рассказами, поплыли на Додьгу с неводом. Ловля и на этот раз была неудачной. Неводишко оказался слишком стар; когда его завели и захватили тяжелый косяк, невод разлезся. Вся рыба ушла. Рыболовы пустили в ход палки, багры и стали хватать рыбу кто чем мог.
Кета нравилась переселенцам. Они решили солить ее и сушить, запасать на зиму.
Ход был ранний, кета шла еще не уставшая, жирная и толстая, отливала серебром. По крутым рыбьим бокам — багровые и лиловые разводья. Мужики в толк не брали, что за пятна на кете.[17]
— Идет она во множестве, толпой, верно, и колотится друг об дружку до синяков, — предположил быстрый на всякие соображения Федор.
Однажды поутру, выйдя из своей землянки, Егор увидел, что на песчаной косе, выступившей из-под спадавшей воды как раз против его жилья, под берегом, какие-то гольды ловят большим неводом рыбу.
Было пасмурно и ветрено. Слабые волны лениво набегали на косу. Казалось, вся природа озябла и сжалась за ночь от сырости и холода. На песке стоял голоногий парень в коротких, выше колен, штанах и держал в руке «пятовой» конец невода. Лодка с гребцами, описав по реке полукруг и ведя «забегной» — передний конец невода, поспешно возвращалась к пескам, как бы стягивая плавучую дугу из частых поплавков.
«Рыбачат под моим берегом без спроса», — подумал Егор.
Гольдская лодка подошла к берегу. Один из рыбаков, ежась, побежал по песку к стогу. Приблизившись, он стал хватать сено пучками и совать за пазуху. Он, видно, промок, замерз и хотел согреться. Егор заметил, что от стога, который накануне привез он с острова, чуть не половина убыла. «Под моим берегом рыбачат без спроса да еще берут сено. На чужом месте хозяйничают!»
Мужик обозлился на рыбаков, как только может обозлиться человек, давно уже не ссорившийся ни с кем, накопивший в себе много разных обид и вдруг решивший все их выместить. Ему и в голову не пришло, что гольды от века каждую осень ловят рыбу у додьгинских кос, а что такое сено и зачем оно нужно, не знают, и что тут никакого посягательства на его права не было и быть не может. Но таково уж свойство новосела — полагать началом жизни в новом краю лишь тот день, когда он сам приехал.
Можно было подумать, что Егору никто не чинил такой большой обиды, так он разозлился. Гольды в этот миг казались бог весть какими злодеями. Да тут и впрямь можно было посердиться и высказать свои права. Как слыхали мужики, гольды были народом смирным и незлобивым, так что обидней всего стало Егору, что именно они, не спросясь, завладели его берегом. Будь это русские мужики или солдаты и нанеси они Егору обиду пожесточе, он стерпел бы. Оно и понятно: обижал бы тот, от кого не в диковину сносить обиды. А тут вдруг… Этого стерпеть никак нельзя.
Егор выбрал подходящий кол и, вооружившись им, скинул бродни, подсучил портки и побрел через заводь к пескам.
Гольды вылезли на берег и с короткими оживленными возгласами бойко перебирали веревку, вытягивая невод на косу. Было заметно, что тянут они порядочную тяжесть. Егор тут заметил, что пучки сена подвязаны зачем-то на подборах невода.
Вдруг вода ожила, забурлила валами. Огромные голубовато-серебристые рыбины с шумом заплескались на мели и наперебой запрыгали из воды, пытаясь выскочить из невода. Мелькали бьющиеся хвосты, пасти с зубами и пятнистые бока. Рыбы было так много, что у Егора зарябило в глазах.
Гольды стали бить кету веслами по головам и закрывать ее сверху широким неводом. За косой, к которой они тянули невод, были мелкие заводи и широкие лужи; некоторые бойкие рыбы пытались по ним бежать. Одна жирная и грузная кетина, всплескивая воду сильными ударами хвоста, промчалась мимо Егора, выбралась на узенькую кошку, отделявшую лужу от реки, и, быстро толкаясь хвостом и карабкаясь плавниками, пыталась перебраться по мокрому песку; сгибаясь то так, что этак, она словно оглядывалась, опасаясь, что гольд догонит и хватит ее веслом.
— Эй, уходи отсюда! — крикнул Кузнецов, приближаясь к рыбакам.
Но они либо не обращали на него внимания, либо не слышали его слов за ветром и за работой. Нестарый гольд в меховой шапке, двое парней в халатах из рыбьей кожи и девчонка выбирали рыбу из невода. Ловко хватая кету за хвосты, гольды раскачивали ее и бросали в длинную и широкую лодку, до половины нагруженную вздрагивающей серебристо-лиловой рыбой.
На корме сидела патлатая, толстощекая, румяная гольдка. Она била неспокойных рыб веслом, чтобы поскорее засыпали. Одна кета перепрыгнула борт лодки уже после того, как женщина ударила ее.
Вдруг, к изумлению Егора, гольдка подняла за жабры небольшую рыбу, разгрызла ей голову и, присосавшись, зачмокала, морщась от удовольствия.
«Что делает? Живую рыбу жрет!» — подумал Кузнецов и решительно подступил к рыбакам, еще более на них озлобившись.
— Проваливай с этого места! — крикнул он погромче, обращаясь к старшему гольду, перебиравшему мокрый невод.
Тот разогнулся и посмотрел удивленно. У него было плоское лицо, словно вдавленное у переносицы, и выпуклый лоб.
Кузнецов подскочил к нему и, держа кол под мышкой, вырвал невод и толкнул гольда в плечо по направлению лодки.
— Отъезжай, чтобы тут духу твоего не было! Наловил — и дуй отсюда! Не твое место!
Рыбак упирался и что-то с чувством говорил по-своему, тыча себя пальцем в грудь и показывая на берег. Опутанная упавшим неводом, всплескивалась невыбранная рыба. Парни, опустив руки, стояли в нерешительности, со страхом поглядывая на Егора. Проворная девчонка забралась в лодку и, примостившись на корме, казалась довольно спокойной, должно быть полагая себя в безопасности подле матери.
Гольд снял шапку, обнажив высокий лоб. Улыбнувшись виновато и жалко, он заморгал. Маленькие руки его доверчиво потянулись к неводу.
— Ступай, ступай! Нечего балясы точить! — выразительно махнул рукой Кузнецов. — А то нашел где рыбачить! На чужом месте. Много вас найдется!..
Гольд, наконец, рассердился. Его маленькие черные глаза сделались острыми и забегали в косых прорезях. Он закричал тонко и пронзительно.
— Да ты что это? — рассердился Егор, подымая палку. — Говорят тебе, улепетывай и больше сюда не ходи!
Гольд оробел. Он беспомощно развел руками и побрел, опустив голову и что-то бормоча. Девчонка закричала, прижавшись к матери.
Егор последовал за гольдом и, добравшись до лодки, с силой оттолкнул ее.
Лодка отошла. Рыбак догнал ее по воде, а парни побежали вброд через заводь.
На косе остался невод — грубая, крепкая снасть, широкая и длинная, искусно свитая из травы. Поплавки были сделаны из коры уже знакомого Егору бархатного дерева и из свитков бересты, а похожие на маленькие кирпичики грузила — из мастерски обожженной красной и белой глины.
Шум у реки привлек внимание всех жителей поселья. Все переселенцы вышли из землянок на берег. К Егору, хлюпая по холодным лужам, подбежали разутые Федюшка и Санка.
— Ах, Егор, Егор, ты чего же это наделал?! — с укоризной вымолвила, подходя к мужу, босая Наталья. — Зачем невод отнял? Они, верно, не понимают, что у нас сено накошено. Зря ты!..
Егор погорячился и теперь быстро отошел. Сейчас ему казалось, что и верно можно было обойтись не так круто.
Ребятишки стали выбирать из невода оставшуюся рыбу.
— Чего зря! — со злом воскликнул Федор. — Пусть-ка знают, как рыбачить на чужом берегу! Нет, родимые! — с восторгом победителя орал Барабанов, грозя кулаком гольдской лодке, качавшейся в отдалении на волнах. Видно было, как волны разбивались о ее нос и вихрями брызг обдавали борта. — Не тут-то было, теперь без невода-то попробуй порыбачить! Поделом, поделом тебе! — кричал Федор.
— Невод-то широкий, — говорил Тимошка. — Таким ловко рыбачить. Гляди, какой! Теперь понятно, почему у нас не ловилась.
Дед Кондрат в подсученных штанах бродил вокруг, осматривая туземную снасть.
— Смотри ты, какая работа! — говорил он Пахому. — И то правда, каждая пичужка своим носком кормится.
— У них, Иван сказывал, коров нет, — твердила Наталья, — рыба да рыба, а больше им и есть нечего. А ты отнял невод. Зачем так обошелся?
— Между соседями чего не бывает, — уже спокойно отвечал Егор. — Теперь про сено знать будут.
Ему хотелось оправдаться перед детьми. Не желал он, чтобы они научились обижать людей, вот так вот отбирать, что придется.
— Тятька сено косил, старался, он за это сено, мамка! Ты бы щи варила, а пришли бы чужие и съели.
— А они рыбу ловили, а он забрал… — ответила мать.
Васька помутнел взором и косо взглянул на отца.
Глава двенадцатая
Мужики, занятые постройкой землянок, никак не могли собраться вместе порыбачить. Тем временем невод висел без дела.
Возвратившись на Додьгу, Иван Бердышов ни разу не спросил Кузнецова, где тот взял невод туземной работы. Бывало, пройдет мимо коряг, покосится на растянутый бредень, потом на Егора, и только густая бровь у него дрогнет, но он ни словом не обмолвится. И Егор молчал.
«Хитрый! — думал Егор. — Молчком хочет все узнать. Чует… Он тут как хозяин».
Федор впоследствии рассказал Бердышову, что Кузнецов отобрал невод у рыбаков, но Иван никак не отозвался о таком поступке соседа и опять смолчал, словно не слышал ничего. Барабанов немало этому дивился. Он привык, что люди охотно слушают сплетни про соседей и осуждают их непременно. Впрочем, он поведал про это не со зла на Егора, а из простого желания позабавить чем-нибудь Ивана Карпыча. Но тот никакого удовольствия не выказал, даже обидно было Федору.
Иван и Анга по приезде домой занялись ловлей кеты на зиму. Вдвоем им трудно было управляться с большим неводом. Со своими гольдскими родичами Иван почему-то не хотел рыбачить. Крестьяне в помощь им посылали ребятишек. Илья, Санка, Петрован работали у Ивана, гребли в лодке, тянули невода, возили рыбу. Бердышов обучал их обращаться с неводом. За работу он роздал им лодку рыбы.
— Не даром робили у Ивана, — говорили мужики.
Лишь часть рыбы засолили они на зиму. Но соли было в обрез. Кету, добытую палками и руками, вялили на ветру. Бердышовы из части своей добычи готовили юколу. У Ивана налажены были длинные вешала из нескольких рядов жердей. Анга пластала рыб ножом и вешала их сушить. Жабры и внутренности рыб она выбрасывала собакам. Жерди, унизанные красными комьями кетового мяса, прогибались от тяжести. Когда ветер тянул снизу, от вешал разило гнильем. В жаркие дни рыбу дочерна облепляли мухи.
— Зачем тебе столько рыбы, Иван Карпыч? — полюбопытствовал Тимоха Силин. — Разве ты такой постник?
— Как же, паря Тимша, я шибко богомольный! — отвечал Бердышов. — Да и собак кормить чем-то надо.
Тимоха уж и сам догадывался, что это корм для собак, что для своих страшных псин готовит его Иван.
— Так ты для собак? А я думал, сам все съешь и зубы сотрешь жевавши.
— Что получше отдам собакам, а остатки сам догрызу. А ты становись на четвереньки, сунь пасть в реку и цеди. Рыба сама полезет. Сквозь зубы Амур процедишь, рыбу всю сжуешь — и голодный останешься.
Смущенный Тимоха приумолк. Иван за словом в карман не лез.
— А у тебя пошто, Иван Карпыч, собак так много? — спросил однажды соседа дед Кондрат.
— Разве это собаки? — удивился Бердышов и, подмигнув, добавил: — Это кони, дедка.
Кондрат ничего не сказал Бердышову, но принял ответ его за насмешку и насупился. «Завидует, что нам коней доставили!» — решил он.
Дед запомнил, что Иван ему ответил, и как-то пожаловался на него сыну.
— Он, батюшка, верно тебе сказал. Ведь зимами тут ездят на собаках, вот они ему как кони, — ответил Егор. — Али ты не видал, как по Енисею инородцы нартами ходили?
— Тебе бы, Иван, настоящего коня завести, — сказал дед Бердышову в другой раз, — хозяйство поставить, скотина чтобы была…
— Будет время, однако, обзаведемся, — ответил Бердышов. — Я прошлый год брал коня, да сплавил его в Тамбовку.
Брал он у казны и корову и тоже продал переселенцам, потому что ходить за ней было некому. Анга, бесстрашно охотившаяся на зверей, побаивалась домашней скотины. А Ивану, как на грех, досталась такая бодучая корова из диковатых бурятских забайкалок, что с ней не было никакого сладу. Гольды считали дойку делом неприличным.
— Как тебе не стыдно? — говорили они и смеялись.
Сначала Иван сам доил корову, потом, когда Анга привыкла к ней, Ивану приходилось стоять тут же настороже. Да еще сначала гольдка просила мужа, чтобы он держал ружье наготове. Но когда Бердышовы уходили на промысел вместе, коня и корову не на кого было оставлять.
Хотелось Ивану и пашню пахать и хозяйство завести. Деньжата у него были, он мог купить и коня и скотину. Но не торопился — он хотел, чтобы жена его сначала обжилась подле русских и переняла от них умение вести хозяйство и ходить за скотом.
Анге и самой хотелось поскорей стать русской, чтобы Иван не стыдился ее. Она проявляла любопытство ко всему, что делали переселенки, и живо все перенимала. Она училась говорить по-русски, выказывая в этом редкую способность.
Когда в землянках не было еще печей, бабы пекли хлеба в бердышовской избе. Глядя на них, и Анга стала стряпать калачи и подовые пироги с ягодами. А раньше, кроме пресных лепешек, делать ничего не умела.
Ягоды на Додьге было много. В конце июня, когда приплыли переселенцы, в тайге созрела смородина и малина, вскоре на деревьях зачернела черемуха, которую бабы сушили и толкли, а потом стряпали из нее сладковатые пирожки. По осени на лесных полянах синела опавшая голубица. На болотах, за Додьгинским озером, во мхах понемногу доходила клюква.
На Додьге Анга показала бабам место, где у воды на глинистом берегу в изобилии вился по деревьям дикий виноград, а в трущобе на пойме все шиповники и орешники были переплетены «кишмишем»[18] со сладкими длинными сахаристыми зелеными плодами.
Когда начался ход кеты, к селению стали подходить звери.
— Ты остерегайся, когда за ягодой ходишь, — наказывал Егор жене. — Медведи в эту пору выходят из лесов ловить рыбу. Не дай бог, встретишься!
Коровники на ночь закрывали на запоры. Ребятишкам велено было в тайгу не ходить.
Как-то раз испуганная Агафья Барабанова прибежала домой.
— Федор, вставай-ка, — тормошила она мужа. — Я медведя встретила. Корова-то вышла, а я за ней. И он там… Кабы не подрал…
Федор не сразу сообразил, что ему толкует жена.
Последние дни Барабанов заленился. Землянку он сделал, а для коня и для коровы рядом с ней выкопал как бы вторую комнату, отгороженную от жилья толстыми досками. Обе были под одной крышей из накатника с землей. Главное, чтобы можно было зимовать, Федор сделал, а до остального не доходили руки. Забота о жилье и о скотине — самая тревожная из забот — отпала, и Федор вдруг почувствовал смертельную усталость. И хотя работы еще хватало, но браться ни за что не хотелось. Сказалась, наконец, усталость от долгого сибирского пути.
— Федор, а Федор! — сильной рукой Агафья потянула мужа за плечо.
Он нехотя поднялся на лавке и с ожесточением схватил себя за подбородок, словно собирался вырвать жидкую бороденку.
— Слышь ты, да ты одурел, что ли? Продери глаза-то… Ступай, кликни Бормотовых али Ивана ли Карпыча, будет тебе валяться: медведь у стана. Вот-вот корову задерет…
— Медведь? — Федор вытаращил свои маленькие глаза и стал живо обуваться.
— Ощерился пастью-то да ка-ак фыркнет!.. Встретился-то, будь он неладный!.. Я бежать, и он ушел. Да корова-то там…
Федор схватил ружье, заткнул топор за пояс и без шапки побежал к Бердышову. По дороге он выпалил из ружья.
— Ты что это? — спросил Егор, точивший у своей землянки топор на круглом камне.
— Беда, Кондратьич, медведь чуть Агафью не подрал! — сказал Федор. — Пойдем к Ивану скорей.
Бердышов, услыхав, что к озеру вышел зверь, снял со стены кремневое ружье. Егор пришел к нему с рогатиной — он сделал ее накануне, насадил железное острие на палку, — тоже собирался «воевать» с медведями.
— А почему ты, Иван, не берешь штуцера? — спросил Егор. — Ведь он бьет дальше, чем кремневка?
— По привычке старое ружье таскаю.
— Плохи, что ль, новые?
— Нет. Но я все думаю: неужели хуже охотником стал? Хороший охотник должен уметь из плохого ружья взять зверя. Гольды говорят, самое лучшее — пороть медведя рогатиной, а еще лучше ножом. Я тоже думаю, кто к хорошему оружию привыкнет, будет трус.
Пока мужики собирались, барабановская корова сама прибежала на берег к своей землянке.
Барабанов успокоился, сходил домой, взял сошки, чтобы удобней было стрелять, и впопыхах позабытую шапку.
— Рыба есть, теперь мясо надо заготовить на зиму, — говорил Иван.
— Медвежьего-то, — подтвердил Федор.
— У гольдов обычай: про медведей не говорить, слово «медведь» не произносить. Ночью про медведей не поминают, а то задерет. А мы орем: «Медведь, медведь!..»
Мужики отправились к озеру напрямик через релку, чтобы оттуда идти на Додьгу. Едва вошли они в лес, как сзади послышался топот. Вдогонку охотникам бежал Пахом Бормотов с ружьем. В последнюю минуту и он решил идти на медведя.
— Медвежатничал? — спросил его Иван.
— Приводил господь!
Спустившись к озеру, охотники увидели на песках частые медвежьи следы, шедшие в разных направлениях вдоль берега.
Иван повел их налево, к устью речки, стараясь держаться под зарослями.
— Вон мишка-то лакомился, — показал он на Красноватые кустарники, обрызганные звериною слюной, — загребал лапами и, паря, посасывал.
В голосе Бердышова, как и обычно, когда он говорил про зверей, слышались и умильное любование медведем и дружеская насмешка над его привычками.
След привел охотников к одному из рукавов Додьги. Речка обмелела и притихла. Течение несло красные и желтые листья. Из-под спавшей воды выступило широкое каменистое русло. За галькой на берегах стоял густой елово-лиственный лес, а под сухим подмытым берегом торчали во множестве корни деревьев. Вся тайга, вместе с подлеском и с тонким слоем перегноя стоявшая на белом песке, была видна как бы в разрезе. Отяжелевшие синие грозди мелкого винограда свешивались с оголенных прибрежных побегов.
В воздухе с криками летали чайки и коршуны. В прозрачной зеленой воде вверх по течению стайками пробиралась кета. На камнях поток змеил изображение рыб, как в кривом зеркале.
— Вот лиса рыбачила, — пнул Иван зубастую рыбью голову. — Сейчас все — и звери и птицы — жрут эту красную рыбу почем зря.
На камнях повсюду виднелись гнившие остатки рыб, выловленных птицами и животными.
— Первые-то дни эта рыба была жирная, а нынче отощала, — заметил Егор, — горб у нее растет, зубья она скалит, нос крючком стал.
— Ход оканчивается, — ответил Иван. — Рыба эта из моря идет и всю дорогу не жрет ничего. Последняя самая отощалая идет. Сейчас она голодная, злая. Вон, гляди-ка, разодрались. — Иван показал на брызги в речке.
Горбатые, ослабевшие рыбины плескались на мели, хватая друг друга зубастыми пастями. Иван поднял с песка палку и ткнул их.
— Злая эта кета, вон как хватается, аж кожа летит. По речке на самый верх заберется, там икру вымечет, закопает ее в песок, в ямки. Хвостами она закидывает песком эту икру. После этого станет больна. Одуреет зубатка, стоит, уткнувшись мордой в берег, помирать собралась. Трогай ее — она не шевельнется.
— Она уж и сейчас заблужденная идет. Кому не лень, всякий ее схватит, — заметил Пахом.
— Мишка-то, однако, где-нибудь этой же давой промышляет, — проговорил Бердышов.
Он вдруг приумолк и стал внимательно озираться по сторонам.
— Неужто вся эта рыба сдохнет? — спросил Егор.
— Вся пропадает. Молодь выйдет из икринок, ее унесет водой в море, а вырастет — опять к нам же придет. Гольды говорят, что каждая рыба свою речку знает.
— И потом опять вся передохнет? — с изумлением спросил Пахом.
— Опять, паря.
— Какое богатство! Вот бы в Расею его!..
— И тут найдется куда девать… Ну, братцы, тихо. Эвон Михайло-то Иваныч!
Зверь сидел в отдалении, посреди шумного потока, на корневище затонувшей лесины и ловил рыбу. Оскалив пасть, он водил мордой над водой. Высмотрев добычу, хватал ее когтистой лапой и подкладывал под себя. Меж косматых задних лап зверя видны были головы наловленной рыбы. Он так увлекся своим занятием, что не учуял охотников, кравшихся за стволами деревьев. Один раз, запустив лапу в воду, медведь потерял равновесие и приподнялся. Мокрые рыбы, лежавшие под его задом, соскользнули с коряги и повалились в речку. Течение унесло их. Медведь, усевшись снова, почувствовал, что под ним ничего нет. Он забеспокоился, поднялся на задних лапах и заглянул под себя. Рыб не было. Медведь, глянув вокруг себя вправо, влево, стал крутиться на коряге и вдруг заревел тонко и жалобно, поднявши морду кверху.
Бердышов выстрелил. Дрогнул тяжелый воздух. Подскочив на лету, словно его перекинуло воздушной волной, испуганно закричал коршун-рыболов и скорей полетел прочь. Медведь громко заревел и, схватившись лапой за морду, как человек, которого ударили по лицу, покачнулся. Не устояв на мокрой лесине, он грузно бултыхнулся в реку и с ревом кинулся было бежать по воде, но лапы его подкосились, зверь вдруг осел и повалился на бок. Вода валом забила через него, как через плавниковую лесину, обросшую водорослями.
Мужики забрели в Додьгу и вытащили медведя на берег.
— Третьяк, — определил Иван. — Отъелся за лето, как купец.
Егор вырубил толстую березовую палку. Лапы зверя перевязали попарно, просунули жердь под узлы. Егор и Пахом подняли тушу вверх ногами, взвалили ее на плечи и отправились в поселье.
— Как он орал-то ребячьим голосом, жалко же ему добычи стало, — говорил Бердышов, идя позади мужиков.
— Много же тут этих медведей. Скотину шибко охранять надо, — рассуждал Егор.
— Зато волков нет, — возразил Иван. — А этот к поселью редко придет, ему в тайге достает чем кормиться. Вот тигра уж ежели повадится, то будет горе-гореваньице. Хищная, пропастина!..
— Бывает тут и тигра?
— Редко заходит, но случается. Гольды ее не стреляют — боятся. Она ежели к кому пристанет — не отвяжется.
Берегом Додьги охотники вышли обратно к озеру. Впереди шел Федор с ружьем, за ним Егор и Пахом несли тушу зверя. Иван замыкал шествие.
— Эй, гляди-ка, это кто еще на озере? — вдруг воскликнул Барабанов.
От устья главного русла Додьги саблей искрилась белоснежная длинная коса, за ней в даль озера потянулись небольшие острова-отмели. На одном из них сидели два черных медведя. Издали их можно было принять за людей.
— Туда шли, как мы их не увидали? — изумился Пахом.
До медведей было далеко, выстрелом не достать. Мужики, положив тушу на траву, разом закричали, стараясь вспугнуть зверей. Но медведи продолжали сидеть, изредка ворочая головами.
Так и не удалось мужикам полюбоваться бегством испуганных зверей; снова взвалив добычу на плечи, они двинулись домой.
Дома зверя освежевали и поделили на части между всеми переселенцами. Иван рубил медвежатину и, раздавая куски, наказывал, когда мясо будет съедено, вернуть все кости.
— На что тебе кости? — спросил Федор.
— Надо. Да ты не забудь…
— Кости мне ни к чему, — с оттенком обиды сказал Барабанов.
— С костей не разбогатеешь, а беду наживешь, — подтвердил Бердышов. — Да смотри, круто зверятину не соли, а то другой раз медведь злой будет.
Егор, подумавший, что Иван шутит, принес домой мясо и позабыл передать жене его наказ. На обед бабы наварили щей и нажарили медвежатины с диким луком. Зверь попался молодой, и все досыта наелись.
После обеда Наталья выбросила полную тарелку костей собакам. А на другой день дочка Кузнецовых Настя, опрометью пробегая мимо отца, кряжевавшего лесину подле огорода, испуганно и злорадно крикнула ему:
— Ага, тятька, попался! — и, сверкая пятками, помчалась к землянке.
Вскоре оттуда появилась Наталья. Настька спешила за ней.
— Какие с нас кости Иванова баба просит? — спросила мужа Наталья.
Егор вспомнил и рассказал.
— Будь они неладны с причудами-то! Вот дочка прибежала и орет в голос, что Анга велит кости отдать, а то, мол, тебя зверь погубит.
— Собаки-то грызли, а Иванова тетка видела. Она говорит, если костей не отдашь, то и Ивана и тебя, обоих вас, медведь задерет, — прерывающимся голосом выговорила Настька.
— Слушай их, дочка, больше! — молвил Егор. — Это Иван шутит…
Глаза у девочки прояснели.
Бабы собрали оставшиеся кости и отнесли Анге, недоумевая, зачем они ей понадобились.
Потом уж Иван, посмеиваясь, признался, что, по здешним понятиям, съевши медвежье мясо, следует кости зверя закоптить и снести в тайгу.
— Этим он как бы отпускается обратно, чтобы еще раз нагулял мяса и приходил опять. Так тут гольды понимают, — объяснял Иван. — Уж такой обычай… Я о вас же беспокоился.
— Да-а… Ишь ты! — удивлялись мужики, опять не беря в толк, дурит Иван или сам верит. — Еще раз чтобы… А коптить-то зачем?
— А коптить-то — это, однако, вроде как шкуру обратно на него надевают. Теперь нас с тобой, Егор, может медведь задрать.
Бердышов смотрел хитро, но не улыбался.
— Охотники! Конечно, может быть, и есть у них такой обычай, — сказал Егор, когда Бердышов ушел. — А может, и чудит Иван.
Все эти разговоры про здешние обычаи и про разное колдовство шаманов и шаманок ему не очень нравились: он опасался, что Иван сам не верит, а чего-то крутит. В то же время Егор старался найти свое место и оправдание всякому здешнему понятию.
— Как-никак, а без ружья, Кондратьич, тут не прокормишься, — говорил Федор. — Надо бы и тебе винтовку купить, вместе бы на зверей зимой пошли.
— Надо бы, конечно, — задумчиво соглашался Егор.
Он понимал, что охота тут будет большим подспорьем. Но сам он шел на Амур за землицей, пахать пашню и сеять, а не зверей ловить, и здешний порядок жизни перенимать не хотел и поддаваться никому из-за охоты не собирался. Становиться охотником он не желал. Он даже ружья не купил, хоть и мог бы сделать это, если собрал бы все гроши и поднатужился.
Он шел в Сибирь землю пахать и без своего хлеба не представлял будущей жизни ни для себя, ни для детей, когда они подрастут. По его мнению, охотник был чем-то вроде бродяги, если у него не было пашни.
А Егор хотел осесть на новом месте крепко, прочно, трудом своим доказать, что он не боится самого тяжелого дела, что не на кисельные берега и не на соболей надеялся, когда шел сюда. Он даже радовался, что рубит такой густой лес и корчует такие страшные пеньки.
Он не был суеверен, не признавал ни леших, ни ведьм, ни чертей, не был и набожен, хотя и молился. Но казалось ему, что чем больше тут положит он сил, чем трудней ему будет, тем лучше будет жить его род, поэтому не жалел он себя. Он желал подать пример и другим людям, как тут можно жить.
«Конечно, почему бы и не поохотиться на досуге? — думал он. — Здесь в самом деле грехом было бы не ловить зверей, если они сами подходят чуть не к избе».
Но бегать за ними и надеяться детей прокормить промыслом он считал позором. В жизни, полагал он, хорошо можно делать только одно дело, хотя бы и другие удавались.
Несмотря на большую бороду, Егор был еще молод: ему недавно перевалило за тридцать — он женился рано, — и он со всей страстью хотел потрудиться. Упреки в несуразности и лени, которыми допекали его на старых местах богатые мужики, пустое; хотя и богатеи были теперь за тридевять земель и казались Егору ничтожными, но зло к ним осталось до сих пор — так они его обидели в прежнее время, так глумились, — и он хотел построить тут жизнь, которая была бы крепка и свободна. Своим трудом он воевал против старых врагов и их злой дури.
Глава тринадцатая
С каждым днем все холоднее и злее становились ветры. На реке день и ночь бушевали седые валы, омывая песчаные косы.
Еще в сентябре на сопках появилась осенняя желтизна. Ветры гнали из тайги шелестящие вороха красных и желтых листьев. В октябре ударили первые морозы, выпал обильный снег.
На реке появились ледяные забереги; сопки побелели, и река между ними казалась огромным черным озером. Вскоре шуга зашуршала о забереги, и даже в сильные ветры волн на реке не стало.
Погода стояла переменчивая: то начиналась заверть — снегопад с диким крутящим ветром, снегом застилало лес и реку, видны были только кромки заберегов и черные окраины вод; то день выдавался тихий, из тумана проглядывало солнце, а в воздухе стоял по-морскому сырой амурский холод.
Исподволь наступала зима. Бердышов предсказал, что первая половина ее будет пуржливая и падут глубокие снега. Сам он после хода кеты иногда уходил с собаками белковать на ближние горы в кедровники. Жена его, оставаясь дома, чинила зимнюю одежду, делала меховые обутки, самоловы на зверей, готовила оружие к зимнему промыслу, вытачивая железные наконечники для стрел и копий.
Кузнецовы заканчивали устройство зимовки для коня и коровы. Около своей землянки, большой, просторной — не чета барабановской, — они выкопали в береге широкую яму, укрепили в ней стены жердями и перегородили надвое. Сверху закрыли накатником и дерном, устроили вход с деревянными задвижками, чтобы зверь не подобрался ночью.
Наталью и бабку заботила Буренка. Корова была нестарая и смирная, но либо как следует не раздоенная, либо испорченная: молока давала мало, так что не хватало ребятишкам, а один сосок совсем не доился. Наталья предполагала, что вымя запустили на барже, где за коровами нехотя ухаживали каторжанки.
Наталья следила за выменем, старательно раздаивала, надеялась оживить сосок. Старуха прикладывала к вымени припарки.
Ударили трескучие морозы. Встал Амур. Над его широкими торосистыми просторами мели сухие леденящие юго-западные ветры. Дни установились солнечные и жгучеморозные. Тоска брала Наталью, когда поутру глядела она из своего маленького оконца на ледяные долины реки. Еще по осени время от времени, весело посвистывая, проплывали мимо поселья пароходы, шли баркасы, везли товары, сплавлялись запоздалые баржи; солдаты и кандальники пели над тихим Амуром заунывные родные песни.
Теперь за окном была безлюдная снежная пустыня; редко-редко промчится под черными обрывами дальнего берега гольд в длинных низких санях, запряженных собаками.
Наталья старалась не смотреть на реку. Страшная стужа, казалось, сожжет, заглушит все живое. Идет зима, нет у семьи ни муки, ни молока, и даже ружья нет у Егора. Мало теплой одежды: все износилось, изорвалось, надо бы делать новое.
Наталья кляла казну: словно в насмешку, доставили зерно. А как его молоть? Но женщина не смела опускать руки. Она знала: если отступится, все погибнут.
Хлеб, муку и зерно крестьяне тратили понемногу. Мука почти у всех кончалась, а ручных жерновов у переселенцев не было. Надо было подумать, как молоть доставленное на барках зерно.
Егор наладил ручную мельницу: он выпилил из крепкой лиственничной чурки пару одинаковых кругляшей, набил в них осколки изломанного чугуна, выдолбил желобки и приделал ручку. Ребятишки глаз с отца не сводили. Между кругляшами, как между жерновами, перемалывалось зерно. Егор молоть обучил ребят. Работали Петрован, Настя и Васютка. Чтобы приготовить муки на квашню, ребятишкам приходилось ворочать деревянные жернова целый день.
Как ни дорога была мука, а Наталья решила делать корове болтушку.
Каждое утро по морозу шла она в коровник, разгребала глубокие снега деревянной лопатой. Буренка мычала радостно, чувствуя, что сквозь сугробы пробивается к ней хозяйка, несет корм. Открывалась дверь. Жаркий мокрый воздух с запахом навоза ударял в нос.
Наталья гладила корову, чистила ее бока в грязных завитках шерсти, садилась у вымени и, вытирая его насухо, трогала соски. Молоко струйками ударяло в подойник.
Вдруг она заметила, что из глухого соска также сочатся капли молока, едва надавишь и оттянешь его пальцами. Вот и ударило струйкой, с визгом.
Радость охватила женщину. Сосок раздаивался! Боже ты мой! Неужели корова выправится?
Васька и Настя выгребали навоз, стелили корове сухую траву. Петрован за перегородкой ссорился с Саврасым. Наталья, идя домой, взглянула на реку — ледяная пустыня уже не пугала ее сегодня так, как прежде: ведь корова-то молока прибавила!
С каждым днем корова стала давать больше молока. По утрам Наталья приносила дымящийся подойник. Ребятишки наедались досыта, и взрослым стало хватать.
Темнело рано. Дети долго рассказывали сказки, потом укладывались спать. Шумел ветер в лесу. Женщины чинили одежду при свете лучины.
Детям кажется, что теперь ничего не страшно: есть жилье теплое, ветер не продует, есть зерно, молоко… Корова в тепле. Такой ветер и стужа, а отец закрыл ее, завалил крышу. Ребятам представляется, что корове и коню в эту холодную, злую полночь так же тепло и уютно, как им самим. Они тесней жмутся друг к другу.
Однажды утром девчонка Бормотовых принесла Наталье свежего мяса.
Накануне Пахом Бормотов с Илюшкой повстречали на опушке чащи имана. Козел прибежал из тайги, по-видимому спасаясь от преследования хищников. Бормотовы погнались за ним на лыжах. Иман вяз в сугробах, дырявил наст, оставляя на нем кровавые следы. Ноги его были изранены, он убегал медленно, и охотники догнали и убили его неподалеку от поселья.
Бормотовы часто похаживали в тайгу на поиски зверя. Пахом оказался запасливей других переселенцев. Всю дорогу он питался Христовым именем и сберег часть ссуды. Летом на Шилке он сторговал себе у казаков три пары охотничьих лыж, подбитых коровятиной,[19] а еще под Красноярском у кузнецов взял самодельную сибирскую винтовку. Из дому он привез свое старое кремневое ружье. Ночами Илюшка рубил свинец и катал картечки, заготовляя охотничий запас.
Следом за Бормотовыми в тайгу потянулся Федор Барабанов. Он собирался заняться охотой по-настоящему. На родине он ловил лисиц и рысей, ружьишко у него было. Иван отдал ему свои старые лыжи, и Барабанов бегал на них к Додьге проверять поставленные на лисиц ловушки, разбрасывал приманки тем же способом, как это делали охотники на Каме, ходил с собакой белковать на ближние горы, в кедровник.
— А куда будешь продавать добычу? — спрашивал Егор соседа.
— Весной на баркас.
* * *
— Федор, а Федор, — приставала Агафья, когда муж приходил домой, — мука-то кончается, намолоть бы хоть для ребятишек.
— О господи, господи!.. — вздыхал Барабанов и валился на лавку. И его брала тоска временами, никакого дела начинать не хотелось.
У Барабановых запас муки окончился, и они пробавлялись размолотым зерном, из бережливости подмешивая в него толченых сухих гнилушек.
Как ни раскидывал Федор умом, приходилось открывать следующий мешок с зерном.
— Федор, так как же?
Руки опускались у Барабанова. Каждый день приносил ему новые печали и заботы, новый ущерб, а прибыли с самого приезда еще ниоткуда не было.
Однажды Федор собрался с духом и попробовал подговорить Бердышова взять его с собой в тайгу на соболиный промысел.
— Однако, это дело не пойдет, — насмешливо возразил ему Иван Карпыч. — Ходи ко мне, смотри, как я ловушку лажу, а уж в тайгу вместе не пойдем — это ведь зверованье, а не ково-нибудь! — вымолвил он, состроив суровое лицо, такое же таинственное и непонятное, как и то, что он сказал.
Свое «зверованье» Иван держал в тайне. Никто не знал, когда он уходит на охоту. Только свежая лыжня на снегу указывала направление его пути.
Обычно он пропадал на несколько дней, потом так же неожиданно появлялся поутру в поселье. Иногда исчезала вместе с ним и Анга. По его неясным рассказам выходило, что и она была первейшая охотница и меткий стрелок.
* * *
В свободное от охоты время Иван частенько заходил к Кузнецовым. Покуривая трубочку, сидел он в теплой землянке и, посмеиваясь, выслушивал суждения переселенцев об амурской стороне.
— Здешняя рыба против расейской вкусом выдает, — говорил Тимоха.
— Это только кажется! — отзывался Егор.
— Нет! Ешь, ешь ее и никак не наешься, — подхватывал Барабанов. — Брюхо набьешь — и опять голодный.
— Вали в тайгу, там наладишься, оздоровеешь, — твердил Бердышов. — Белки сейчас шибко хорошие.
— Без ружья да без собаки? Куда пойдешь? Шапкой, что ли, белок ловить? — возражал Егор.
— Шапкой! — смеялся Иван Карпыч. — А почто лучком не хочешь? Гляди-ка, гольды сколько этой белки лучками стреляют. Да и орехов наберешь, их снегом сейчас навалило, только подбирай.
«Не хватало мне с лучком идти!» — думал Егор.
После снегопада Анга звала крестьянок сходить в кедрач за шишками, но переселенки боялись уходить далеко от поселья. Немного шишек набрали ребятишки на холме. Несколько малых раскидистых кедров росло на бугре над обрывом. Илюшка посшибал с них все шишки.
Иногда Иван запрягал в нарту собак и, размахивая палкой, лихо ездил.
— Скачет, как на конях! — показывал дед вслед исчезнувшей в тайге нарте. — А я думал, он просмеял меня.
— Чудной все же этот Иван, — говорил Тимошка Силин.
— Того и гляди боднет лбищем-то, — соглашался Тереха. — Нет, помяните мое слово, он когда-нибудь еще натворит делов целу контору!..
Глядя на людей, Егор сделал себе лыжи-голицы. Подшивать их нечем. У Егора нет ружья. Мужик смотрел в окно. Луга — вот они. От самого горла озера Мылки начинались поймы и острова. Река встала, теперь дорога туда есть. «Неужто я охотиться не сумею?»
На лугах лисьих следов множество.
В заросли желтых трав, торчащих из сугробов, стал приходить Егор. Отсюда видно релку, лес за ней, дымки землянок. Кузнецов расставлял петли и капканы.
Однажды Егор принес в мешке окоченевшую лису. Он подвесил ее к потолку. Лиса оттаяла; и когда кровь стала капать на пол, мужик снял с нее шкуру, а полумерзлое мясо выбросил собакам. Одна шкурка теперь была.
В другой раз Егор пришел с охоты озабоченный. Оказалось, что он видал черно-бурую лису, мех которой ценится очень дорого.
— Иду, а она сидит смотрит. Я близко подошел — не убегает. Кинул в нее палкой, попал по ногам — убежала.
Будь у Егора ружье, он наверняка бы принес богатую добычу.
Дед Кондрат решил сам сходить за черно-бурой лисой. Егор запомнил место. Мужики отправились на остров. Егор показал свежий след хромой лисы. Старик наладил петлю и неподалеку поставил ловушку с приманкой. Но лиса не попадалась.
— Ты ее напугал, — говорил дед, — теперь она боится.
Как ни хитрили Кузнецовы, черно-бурая лиса обходила все их ловушки.
* * *
Однажды поутру, глянув в обледеневшее по краям окошечко, Егор увидел на восходе над горами правого берега темно-синюю зубчатую тучу с раззолоченными краями. В этот день начался снегопад. Ветер утих. Мокрый снег обильно падал хлопьями, наваливая большие рыхлые сугробы поверх старых, крепких задулин.[20] В тайге от тяжести снега, навалившегося на деревья, с треском ломались ветви.
После снегопада потеплело. С реки подул чистый, свежий ветер. Под вечер ребята, отработавши в стайках и на релке, играли в снежки и делали снеговую бабу с сучьями вместо глаз и носа. Васька наладил из обрывков веревок постромки, запряг в самодельные салазки Серого и Жучку и, подражая Бердышову, кричал: «Та-тах-та-тах!» Бедные дворняги путались в веревках, Васькиных окриков не слушали, а глупо мотались из стороны в сторону, то и дело вываливая своего погонщика в снег. Вдруг из бердышовской избы выскочила Анга. В синем халате, с непокрытой черноволосой головой и с длинной трубкой в руках, она, прыгая по сугробам, подбежала к Ваське. Живо распутавши постромки, она сама помогла собакам сдвинуть салазки и, покрикивая на них, пробежала шагов сто. Когда псы разбежались, она отстала. Санки вязли в рыхлом снегу, но крестьянские собаки, хотя и не были обучены ходить в упряжке, не останавливались и протащили через сугробы визжащего от удовольствия Ваську. Ребятишки с криками восторга разбежались по берегу. Анга, стоя на своем крыльце, курила трубку и смеялась.
Усталые собаки, обежав по релке круг, приплелись к землянкам. Высунув язык и тяжело дыша, они остановились у бердышовской избы. Гольдка, лаская их, присела на корточки и стала растолковывать ребятишкам, как надо учить собак таскать сани, как ими править и как погонять.
До этого случая ребята побаивались Ангу. Теперь между ними установилась дружба. Гольдка с радостью обучала детей езде на собаках. Васька, слушая ее, объездил своих псов, а на него глядя, занялись собачьей ездой и другие ребята. Вскоре черно-белые пятнистые крестьянские собаки стали лихо таскать салазки, а Санка даже приспособился возить на них кадушку с водой от проруби.
Сама Анга понемногу привыкала к новой жизни. Говорить по-русски она стала чище и каждую пятницу приходила к бабке Дарье с просьбой:
— Корыто давай!
— На что тебе корыто?
— Стирать надо.
— Ишь ты! — каждый раз удивлялись бабы. — Ну, чего же, бери вон там в углу. А свое-то когда заведешь?
— Не знай. Иван-то уж наладит ли, нет ли, — отвечала Анга и уходила с корытом. А под вечер у ее избы ветер хлопал обледенелым бельем на веревке, протянутой меж лиственниц.
— Чистотка, — говорили про нее бабы, — не смотри, что гольда.
Когда Иван уходил в тайгу один, изба его становилась местом сборища баб со всего поселья, приходивших посмотреть на Ангу. Особенное любопытство проявляли крестьянки к тому, как она деревянным молоточком выделывала на чурбаке рыбью кожу. Сшивая рыбьи шкурки вместе, она кроила и шила из них передники, халаты, обувь с загнутыми морщинистыми носами и даже штаны Ивану.
— Тепло на рыбьем-то меху? — бывало, подсмеивался над ним Егор.
— А где ты тут русскую-то одежду возьмешь? — недовольно возражал Иван. — На баркасе-то она кусается, а у китайца и того дороже. Ладно, в тайге и так проходим. Чай, не на ярмарке, нас тут не видать.
Впрочем, такие шутливые замечания переселенцев удручали Ивана, и он озабоченно оглядывал свою одежду и вскоре совсем перестал носить штаны из рыбьей кожи.
Мужики были довольны, что, наконец, и они пробрали Бердышова своими шутками, а он на этот раз не нашелся чем отшутиться.
Из сохатых шкур Анга делала теплые куртки, рукавицы и меховые торбаса, искусно расшивая их бисером и цветными нитками.
Егор, раньше недоверчиво относившийся к гольдке, однажды, сидя у Ивана, не удержался от похвалы, глядя, как она хозяйничает.
— Ладно, значит? — с живостью отозвался Иван. — Так ничего, что нерусская?
— Это ничего. Крещеная она — значит, наша.
— Только почему ты ей не закажешь табачищем дымить? — сказала Барабаниха.
— Охотница же она, в тайгу ходит, — возразил Бердышов, — а в тайге как же без табаку? Никак нельзя. Я знал под Нерчинском старика, так тот всю жизнь эту трубку изо рта не вынимал. Длинная у него трубка была. Спать ляжет — возьмет ее в зубы и лежит посасывает. Трубка погаснет — он проснется, огоньку высекет, опять раскурит — и на бок.
Однажды, глядя в окно, как Бердышовы пошли за нартами на лыжах через Амур, Егор сказал, обращаясь к Наталье:
— Иван со своей гольдячкой в тайгу пошел. Славная она…
— Да ведь какая переимчивая, будь она здорова, скуломорденькая, все понимает, — стуча чугунами у печи, подтвердила бабка. — На все руки излаживается…
Глава четырнадцатая
Непривычная рыбная пища плохо грела крестьян, они мерзли, и дух их падал, они робели и не решались на далекие путешествия в тайгу, чтобы добыть себе мехов и мяса. Быстро сказалась скудность привезенных с собой запасов. Хлеба уходило много, а покупать его было негде. Сознание оторванности от всего мира угнетало переселенцев. В свободное время или в непогоду они собирались в землянках и толковали о своих делах.
И Егора день-деньской одолевали невеселые думы. Правда, он находил себе работу и без дела не сидел, но на душе его было тяжко. Впрочем, он знал, что хоть камни с неба вались, а он должен здесь окорениться.
Как-то раз сидел Егор у окошка и подшивал бродень, когда в землянку вбежала запыхавшаяся бабка Дарья.
— Иди-ка, Егор, бельговские торговцы приехали! — воскликнула она.
— Какие еще торговцы? — недоуменно глянул Егор. — Откуда взялись?
— Иди, говорят тебе, живо! Китайцы на собаках муку привезли да синее, бязь, что ли…
— На какие вши покупать-то станем? — покачал головой Егор и отложил бродень на лавку.
— Федор сговорился с ними в долг. Сказывают, уж на тот год осенью расчет делать будем. Ступай живей!
Кузнецов вышел из землянки. На снегу под бугром, у барабановского жилья, стояли две собачьи упряжки. Двое торговцев, одетых в мохнатые ушастые шапки и в широкие черные шубы на длинношерстном белом меху, возились подле длинных нарт. Рослый работник развязывал веревки, разгружал тюки и таскал их в землянку к Федору, а другой — сухощавый и подвижной — укладывал собак на снег и разбирал запутавшиеся постромки. Ватага неуклюжих ребятишек, похожих в своей тяжелой одежде на маленьких мужичков, с любопытством наблюдала за ними.
Это приехал Гао Да-пу — хозяин бельговской лавки, решивший ссудить новоприбывших переселенцев товарами. Мылкинские гольды донесли ему, что переселенцы, живущие на Додьге, пробуют заниматься охотой, и купец решил поторговать с ними.
Торг происходил в землянке. Торговцы скинули свои шубы и остались в синих запачканных стеганых штанах и кофтах. Они уселись на корточки на полу и раскладывали посреди землянки дабу, сарпинку, нитки и разные безделушки. В углу на курятнике лежало несколько длинных и узких мешков с мукой.
— Ну, хозяин, как на новом месте поживаешь? — весело спрашивал Гао Да-пу. В умных карих глазах его была настороженность. Бегло, но со вниманием оглядывал он собравшихся в землянке переселенцев. — А-а, Федора, Федора! Знакома имя! Почему старое место бросил? Наверно, там земли мало, на новые места надо ходить, там помещики есть, тут нету? Моя дома тоже помещик есть, земли мало, там шибко худа жили.
Гао слыхал, что переселенцы уходят со старых мест из-за малоземелья и помещиков. Он знал, о чем надо говорить, чтобы расположить к себе новоселов.
— Наша дома совсем худо, наша папка своя стара китайская Расея бросил, на новое место ушел… Своя Расея давно не видала. Ну как, паря Федора, откудова твоя ходи, какой города пришела, какой деревня, какой твоя города фамилья? Че тебе пермяка? Ребята, все сюда таскай! Как не боиза! Шибко далеко ходи! — восклицал китаец и, ворочая белками, ловил малейшее движение окружающих. — Это, однако, твоя товарища, — кивнул он на Егора. — Одна компания, на одном баркасе ходи. Там, Расея, ваша одна деревня жили или разна?
«Да, вот это китаец так китаец!» — подумал Егор.
Он лишний раз убедился, что китайцы — народ живой, это заметил он еще летом, проплывая по границе. Но там он видел китайцев-тружеников — крестьян и рыбаков, а этот был богач, ловкий мужик — с ним надо было держать ухо востро. Он и по-русски говорил так, что заслушаешься.
— Моя на китайска сторона жить не хочу. Русские самые хорошие люди! У меня только коса китайская, а сам я настоящий русский! Только по-русски писать не могу! Как узнаю, где приехали русские, сразу еду помогать. А китайцев моя не любит. Губернатор Муравьев мне тут велел торговать, всем сказал, что меня обижать нельзя! — строго оглядел мужиков торгаш. — Моя имя русское — Ванька Гао Да-пу.
Однако голодным мужикам было не до рассуждений.
— Ну, а мука у тебя почем? — спросил Кузнецов.
— Мука? Мука, скажем, совсем даром: два рубля восемьдесят копеек.
— А ну, открывай мешок-то!
— О, смотри! — воскликнул торговец, распуская жестокое и сухое лицо в улыбку. — Хорошая мука, белая-белая мука, будет вкусный хлебушка.
Он протянул Егору горсть муки.
— Пшеничная, что ль? Чего-то не пойму.
— Я в Благовещенске такую видал, — проговорил Тимошка Силин, — она с горохом, что ли, не знаю. Кешка сказывал, хлеб из нее черствеет скоро.
— А это что такое? — спросил Пахом, указывая на черную палку, торчащую в мешке.
— Это такой угли, — ответил торговец, — чтобы мука сухой была.
— Ты пошто такую цену ломишь? — вдруг заговорил, поднимаясь с лавки, желтый и тощий дед Кондрат. — Виданное ли дело, родимые, — обратился он к мужикам, — мука с горохом чуть ли не по три рубля!
— Чего кричишь? Чего напрасно? — с горькой обидой в голосе накинулся торгаш на деда. — Зачем говори три? Два восемьдесят! Кушать не хочешь — не покупай! Весной такая мука десять рублей будет. Эту муку сегодня не купишь — не надо! Моя уезжай! А весна придет — тебе хлеба нету. Тебе весной пропади, умирай, а моя другой раз сюда ходи не хочу.
— Да ты хоть маленько уступи, — подговаривался Барабанов. — Мы бы тогда у тебя всю муку забрали.
— Уступи, уступи! — передразнил Гао. — Эта мука настояща цена три рубля. Моя и так убыток торгуй. Покупай! — кричал торговец, вскакивая на ноги. — Знакомы станем! — Он хлопнул Барабанова по плечу, видно подражая русским купчикам, стараясь принять вид залихватский и развязный. — Тебе чего надо — у меня в лавке все есть. Вали ходи, все бери, какой товар есть — все продаю! Моя сам собаки запрягай, таскай сюда. Тебе соболь убивай, лиса лови, моя шкурка бери — расчете станем. Потом опять долг-бери.
Федор достал из темного угла несколько беличьих шкурок и лису-сиводушку.
— Белка — какой зверь! — пренебрежительно отозвался торгаш, рассматривая шкурки. — Соболь — хорошо!
— Это ты зря говоришь: белка — хороший зверек, — пытался вразумить торговца Пахом. — В Расее-то самый ходовой мех.
— Конечно, белку могу купить, помогай хочу, — подмигнул китаец Федору и передал беличьи шкурки своему работнику, а сам стал смотреть лису, поглаживая ее, дуя на мех и переламывая шкурку.
Рослый работник повертел беличьи шкурки в руках и передал их обратно своему хозяину, что-то буркнув потихоньку.
— Самая хорошая белка — десять копеек, а такая белка — пять копеек, — с горячностью проговорил Гао. — Такую белку только русский купец летом на баркасе покупает. Наша такой товар шибко не надо, мало-мало надо. Белок невыгодно торгуй, тебе невыгодно такой зверь стреляй. Белка много убей, а товар получи мало. Все равно ничего нету. А тебе один соболь поймай — деньги есть, товар есть…
Тем временем и лиса и белки снова попали в большие руки рослого китайца, и тот упрятал их в мешок.
— Ты хороший человек, — хвалил торговец Барабанова. — Моя не боится тебе в долг давать. Тебе соболя поймай — моя разный товар давай, тебе наша мука кушай, шибко сильный будешь, потом лучок сделаешь, тайга пойдешь, всяка — разный зверь убей. Худой соболь ты поймай — моя два рубли плати, хороса соболь — три рубли, шибко-шибко хороса, паря, моя пять рублей не жалей. Товар всякий бери, водка покупай — гуляй, — соблазнял он мужиков.
— Ну, а лису как же ты ценишь? — спросил Федор, недовольный тем, что китайцы забрали меха, не спросив его согласия.
— Это лиса ничего. Хороса лиса. Такой шкурка можно покупай, — и китаец назначил сходную цену.
Бормотовы принесли торговцу беличьи меха и шкурку кабарги. Пахом был упорней Федора и спорил до седьмого пота.
Егор продал свою красную лису.
Долго торговались мужики с купцами; наконец те уступили, и крестьяне забрали у них всю муку и несколько отрезов бумажной материи, обещая отдать долг к весне мехами либо к осени деньгами.
В разгар торга в землянке появился Бердышов, только что вернувшийся с охоты.
— Ваня, дорогой, старый знакомый! — кинулся к нему Гао Да-пу. — Давно не видались, шибко давно!
— Э-э, здорово, Ваня! — отвечал Бердышов. — Ну, как торгуешь? Муку продал?
— Продал, все продал. Тебе чего надо, какой товар? Почему давно в нашу деревню не ходил? Тятька Гришка, однако, сильно скучай. Ангу давно не видел. Папку худо забывать.
Иван вынул из-за пазухи сморщенную соболиную шкурку.
— А ну-ка, глянь!
— Лучком стрелял?
— Самострелом!
— Анга тоже в тайгу ходит?
— Конечно, Анга тоже.
Китайцы вывернули шкурку, тщательно осмотрели ее, передавая из рук в руки и обмениваясь короткими замечаниями.
— Шкурку сам снимал? — спросил торговец Бердышова. — Зачем шкурку сломал? — сердился Гао Да-пу, обнаружив, что соболь попорчен ножом. — Сам не умеешь снимать, спроси Ангу.
Это была обида — посылать охотника к бабе учиться, но Иван лишь посмеялся.
Егор знал: торговцам привычно обижать народ. Уж торгаши наглые, зато им время от времени и достается. В России то им красного петуха пустят, то прибьют насмерть. За долгие годы страдания люди с ними расплачиваются.
— Ну, а вот это как? — вынул Иван из-за пазухи еще одного соболя, вывернутого мездрой вверх.
— Это хороший! — воскликнул довольный Гао и принялся уговаривать Ивана Карпыча купить жене стеклянных бус, морских ракушек или цветного ситцу. — Твоя баба молодая, ей русскую рубаху шить надо. Ангу надо русской бабой сделать, юбку надо, сарафан. Тебе деньги не жалей.
Бердышов все же не стал покупать материю, потому что у Гао была лишь плохая сарпинка и синяя китайская даба. Он уговорился, что лавочник приготовит ему к рождеству муки и двадцать локтей русского ситца.
— А спирту надо?
— Спирту? — Иван нахмурился, помолчал и, вдруг засмеявшись, ответил: — Что же, давай и спирту. Сдохнуть с тобой! Да уже заодно и ящичек пороху — вот и сочтемся, там за тобой еще за старые меха оставалось, спирту-то надо…
Иван как-то странно посмеивался. Но в чем тут могло быть надувательство — Егор в толк не брал.
Агафья приготовила торговцам угощение. Они попили кирпичного чайку и стали собираться в обратный путь. Гао Да-пу сложил соболей в мешок. Рослый работник вынес остатки товаров из землянки и погрузил их на нарты.
За два-три часа, проведенные среди переселенцев, для Гао Да-пу стало очевидным, что они живут бедно и голодно.
Он заметил их оживление, когда они увидели мешки с мукой. Нюхом торгаша он чуял, что тут ему будет пожива, и он стремился затеять с ними торговлю и ввести их в долги.
Гао был уверен, что со временем переселенцы обживутся и так же, как и в других посельях, станут поставлять дрова для пароходов, возить почту и охотничать, тем самым добывать деньги. Впрочем, он рисковал. Каждую весну вновь прибывшие переселенцы повально болели цингой. Многие умирали, а сородичи их, оставшиеся в живых, медленно возвращали долги. Как понимал Гао, цинга должна была к весне появиться и на Додьге, но он не боялся. Он помнил, что торговля — риск, и старался раздать побольше товара всем мужикам, надеясь с тех, кто останется в живых, взыскать убытки.
— Эй, старик! — обратился китаец к Егору, которого по бороде принял за старика. — Тебе ружье надо, нет ли?
— Ружье-то? Что ж, надо, надо. А у тебя есть, что ль?
— Одна штука есть, — китаец поднял кверху указательный палец. — Моя сам не шибко надо, моя уступи могу.
— Его охота ходи нету, — заговорил другой китаец, показывая на хозяина.
— Моя торгуй, моя тайга не ходи, стреляй не надо.
— У тебя ведь фитильные ружья-то, зачем они сдались? — заговорил Бердышов. — Нет, братка, мы себе ружье летом на баркасе возьмем.
— Ну, ничего, — без сожаления отступился китаец от своего намерения продать старое ружье. — Моя другой товар есть, че надо, говори: порох, свинец, крупа, мука, халаты.
Лежавшие собаки, видя, что сборы закончены, зашевелились. Первым поднялся вожак, а за ним и вся упряжка.
Торговцы попрощались с мужиками. Гао, закутавшись в шубу, сел на заднюю нарту. Его работник потянул переднюю нарту, пробежал вместе с упряжкой несколько шагов и, когда псы разошлись, прыгнул на нарту на мешки с товарами.
— Беда этот китаец-торгован! — промолвил Бердышов, кивая вслед Гао Да-пу. — Всякое барахло норовит насовать. Вишь ты, фитильное ружье хотел сбыть. Хитрый же! Ему зимой-то раздолье — один он тут по всей округе. Муку он нынче подходяще[21] оценил.
— Политичный же этот китаец! — покачал головой Федор. — Почище другого писаря!
— Помещика поминал! — горько усмехнулся дед Кондрат.
Собаки мчались вдоль берега, нарты быстро удалялись. С Амура несся жесткий ледяной ветер. Солнце склонилось за дальние сопки, тайга, красная от заката, раскинулась вокруг.
— Ну, слава богу, теперь с мукой! — с облегчением вымолвила бабка Дарья, когда Егор притащил мешок в землянку.
— Уж теперь настряпаю, — говорила Наталья. — Пирогов напеку. Ягода-то наморожена у меня, ягодного-то пирожка. Отмучились, ребята! Слава богу, теперь молоть зерна не надо!
Зерно оставалось для посева. Все благодарили в душе китайцев. Радовались и дети и взрослые.
«Теперь бы мне кстати поймать чернобурку, — подумал Егор. — Купили бы у торговца еще муки и на одежду».
Егор стал собираться на охоту.
«Эка он разохотился!» — думал Кондрат.
— Видишь, лавочник-то сказал мне, что надо, мол, зверя ловить… — заметил Егор.
Приезд китайца не только облегчил Егору жизнь, но и оживил переселенцев. Оказывается, и тут есть народ бойкий, торговый, оборотистый.
— Наторговались, родимцы! — бормотал дед. — Теперь в долгу как в шелку.
Дверь вздрогнула от порыва ветра, и в землянку клубящимся паром ворвался мороз.
Глава пятнадцатая
Солнце встало в густом тумане и, поднявшись над лесом, светило тускло. В вершинах деревьев прыгали белки. Под кедрами валялись пустые шишки и ореховые скорлупки.
Федор Барабанов, волоча в глубоком снегу лыжи, забирается на сопку. С тех пор как китайцы побывали в поселье с товарами, он стал больше охотничать. Чуть ли не каждый день поднимался он затемно и уходил на Додьгу проверять свои ловушки. Он расставлял их верстах в трех-четырех от поселья по лесистой долине, где было много лисьих следов. Там же Барабанов постреливал белок. Хорошей охотничьей собаки у него не было, и за ним иногда увязывалась его старая, уже беззубая дворняжка Серко. Обычно Федор стрелял белок лишь в том случае, когда сам их видел.
В погоне за прыгающим зверьком, переходя от дерева к дереву, Барабанов добрался до старого кедрача. Кругом были толстые деревья с красноватыми стволами и длинными иглами. В их гуще пряталась белка, и Федору пришлось долго бить по стволу палкой, прежде чем зверек решился на отчаянный прыжок. До ближайшего дерева было далеко. Белка побегала в ветвях кедра, несколько раз то появляясь, то исчезая, но глухие удары дубины о ствол снова выгоняли ее из густой зелени. Наконец, изогнувшись и жалко опустив лапки, белка со слабым стоном прыгнула через полянку. С испугу она промахнулась и попала не на ветку, а на ствол и ухватилась коготками за лиственничную кору. Она судорожно вскарабкалась наверх и заметалась по голой качающейся ветке. На миг она было притаилась, расстелив свой пушистый хвост, Федор мгновенно выстрелил. Белка перепрыгнула на кедр, но не удержалась в вершине его и стала падать.
«Готова!» — подумал Федор. Но зверек замер где-то в нижних ветвях. Барабанов с силой швырнул туда палку так, что упали кедровые шишки. Следом свалилась раненая белка и забилась на снегу. Федор добил ее и привязал к поясу.
Шишки он тоже подобрал и, пощелкивая орехи, двинулся дальше. «Да-а, вкусные орешки, — подумал он, — только пальцы коченеют. Пожалуй, что и впрямь стоит сюда прийти с мешком».
На другой день он забрал с собой в тайгу Санку и кузнецовских ребят. Те забирались на лесины, рвали шишки или сбивали их, колотя по ветвям палками. К обеду притащили в деревню полмешка кедровых шишек.
Теперь щелканье орехов слышалось во всех углах. Ореховой шелухой и смолистой кожурой от шишек, прилипавшей к одежде и к обуви, ребятишки засорили пол и лавки. Не привыкшие щелкать орехи, ребята натирали себе пузыри на языке, но все же не могли оторваться от назойливого лакомства.
Вечером в землянку к Кузнецовым заглянул Бердышов. Егор показал ему новую свою добычу — красно-пегого молодого лисовина. Зверь попал в ловушку, и бревно, прилаженное на приманку, придавило его.
— Чего же, ладно. Продашь китайцу… Только сними эту шкуру ладом, а то она ломаться станет.
Наталья поставила на стол деревянную чашу с орехами. Иван грыз их, перекусывая орехи поперек, быстро выбирая языком ядрышки из скорлупок.
— Орехи грызть за мной ты никак не поспеешь, — усмехнулся Бердышов, глядя, как Егор кусает орехи вдоль, ломает и скорлупу и сердцевину, а потом все сплевывает, не сумев разобрать языком, что можно есть, а чего нельзя. — Это еще не такие хорошие орехи: скорлупка толста, щелкать их неловко. А вот у нас в Забайкалье орехи так орехи: скорлупа тоненькая, орешек ядреный, маслянистый. Подсушат их бабы в печи, каленые-то они адали облепиха. Свежие тоже ладны. У нас и масло с них делают и сбойны. Нащелкают девки полну латку, потом заварят кипятком, распаривают, прижулькивают веселком. Масло-то отделяется. Эх, у моего отца дома свой завод был: и латки, и камни, и котел! Масло мы делали ореховое. На усдобление идет. Ведь это красота!.. А уж сбойнами до тошноты объедались. Вот как хорошо жилось!
В тот вечер Иван, начавши с забайкальских орехов, вспомнил былую жизнь и долго говорил о своей семье и о родной Шилке.
Он был потомком забайкальских крестьян, которых Муравьев впоследствии записал в казаки. Отец его, небогатый скотовод, земледелец и охотник, всех своих сыновей — их в семье было трое — с малолетства приучал зверовать в тайге. Ивану парнишкой случалось бывать на Амуре и за Амуром. Отца влекли туда слухи о том, что там видимо-невидимо зверья. Однажды Бердышовы заплутались, долго бродили по трущобе и, выбравшись на Амур, голодные и оборванные, наткнулись на китайский караул. Они еле-еле отстрелялись от него и снова ушли в тайгу.
— В те времена маньчжуры строго смотрели, чтобы русские на Амур не выходили, — говорил Иван. — А инородцы эти еще и в те времена хороши были с нами. Мы им на расторжку всякую мелочь таскали; стеклышки, нитки, сережки. Русский, бывало, у них первый гость. Нас почитали. Рисковое дело было промышлять за Горбицей, по ней раньше шла граница. Ведь, бывало, тыщу верст прешься, как не знай куда. Ну, уж если бы попались, была бы печаль.
Ушел Иван от Кузнецовых в задумчивости и расстройстве, что случалось с ним всегда после того, как поминал он родину и сравнивал старую свою жизнь с теперешней.
Живя на Амуре с гольдами, он надеялся со временем разбогатеть и богатством вознаградить себя за страдания и бедность. Хотелось ему, чтобы слух о его богатстве дошел до Шилки, чтобы и на родине услыхали, как зажиточно живет Иван. В Бельго он начал жить без гроша за душой. Гольды, приютившие его, сами были небогаты. А в понимании русского человека — без земли, без скота и без хозяйства на русский лад — были почти нищи. Иван, оправившись, стал помогать им, как мог. Он жил бережливей их, не позволял торговцам обманывать себя, промышлял с настойчивостью, а не поддаваясь воле случая, как они, из года в год добывал все больше и больше пушнины. Анга быстро переняла от Ивана эту настойчивость в стремлении к богатству и помогала ему.
Но, живя среди гольдов, Иван не мог разбогатеть: приходилось делиться с ними своим достатком, платить их долги, отстаивать их в ссорах с торговцами, что ему всегда удавалось сделать если не хитростью, то силой.
Торговцы побаивались Ивана и не перечили ему. Но и он зря с ними не ссорился и со временем стал заступаться за гольдов только в случае крайней нужды.
Почти все бельговцы через жену приходились Бердышову родственниками, и отказать им в помощи он не мог. Когда они проедались или пропивались, Иван кормил их и даже покупал для них товары на баркасах. Только часть доходов от проданной пушнины ему удавалось утаивать от своих родичей, но больших денег он скопить не мог.
С переселением на Додьгу Бердышов освобождался от назойливых родственников. Анга, которая жила мечтой обрусеть и старалась во всем подражать русским, была довольна отъездом из Бельго, хотя и скучала о доме.
Наступала решающая пора, и Бердышовы стали охотничать особенно усердно, зная, что теперь каждый лишний соболь приближает их к богатству. Воспоминания о доме всегда подхлестывали Ивана. «Поди, уж братья мои и товарищи разбогатели, — думал он. — А я все гол как сокол. За шутками и за озорством жизнь-то и минет. Что с того, что я и силен, и понимаю всякого зверя, и никогда еще не струсил! От силы мне и беда, она зря играет, на безделицу меня прет».
Иван понимал, что больше нельзя терять времени. Однако он знал, что от одного промысла ему не разбогатеть. Были у него и другие намерения…
* * *
На другой день после беседы в землянке ударил сильный мороз. Деревья заиндевели. С реки опять подул жестокий ветер.
Егор поутру пошел к Бердышову, но того дома не оказалось.
— Где он? — с удивлением спросил Кузнецов у Анги.
— Не знай, куда пошел, — уклончиво ответила та, укладывая в мялку шкуру дикой козы.
Егор догадался, что Иван, верно, на промысле.
— На охоту, что ль, пошел?
— Однако, на охоту! — безразлично ответила гольдка.
Пока Егор возвращался к землянке, на усах у него намерзли сосульки, а воротник полушубка закуржавел.
Лес стоял как мертвый. Егор нарубил дров и принес несколько охапок в землянку. Печь жарко раскалилась.
Пришел Барабанов. Он в этот день не решился пойти на Додьгу проверить там свои капканы.
Когда туман рассеялся, Егор заметил, что жена пошла с ведрами на прорубь, но что-то увидела, остановилась как, вкопанная и долго глядела вверх.
— Гляди, на небе три солнца, — сказала она мужу, вернувшись.
Егор вышел, а за ним Федя, дед, бабка и ребята.
Над вершинами лиственниц явственно светили три красных солнца: среднее — яркое и большое, и два малых по бокам, соединенных друг с другом мерцающей огненной дугой. Боковые солнца то расплывались и удлинялись, превращаясь в огненные столбы, то снова круглели.
— Я уж который раз это вижу, — говорила бабка Дарья. — Как-то утром вышла я по воду, гляжу, мать пресвятая богородица, из-за горы два солнца лезут. Я сперва сама не своя стала, а потом смотрю, которое обыкновенное-то поболе сделалось, а другое тает, тает и вовсе погасло.
— Мороз! — сказал Егор. — Как рожки с боков горят!
Холода стояли целую неделю. Потом сразу потеплело, повалили снега, и начались сильные ветры.
Однажды поутру Егор проснулся от шума и треска в тайге. Едва просунулся он в дверь, как снежный вихрь облепил его мокрыми хлопьями, ветер ворвался в землянку. Кое-как Егор выбрался наружу и стал отгребать снег от двери.
Кругом ничего не было видно. Пурга завывала и свистела в лесу, словно по воздуху с размаху секли цельными деревьями, как прутьями. Ветер дул с верховьев. Снег вдруг понесся сплошной лавиной, словно спустившаяся снеговая туча помчалась по земле, заваливая сугробами всякий холмик, пенек и кустик на релке. Но через несколько мгновений прояснело, словно тучи пронесло.
Наталья пошла по воду.
Едва спустилась она на лед, как опять застлало все вокруг. Снег слепил глаза, бил в лицо непрерывным и жгучим потоком. От быстрого ветра перехватывало дыхание. Рыхлые снега на тропе уже были глубоки, местами приходилось пустые ведра подымать вровень с плечами, но тропу еще не совсем замело. Временами рывки ветра останавливали Наталью, тогда она оборачивалась к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь перевести дух.
Она дошла до снежной воронки, образовавшейся на месте проруби, разгребла снег, надломила тонкий ледок, настывший за ночь, и набрала воды.
Обратно идти было полегче. Ветер дул в спину, подгонял Наталью, подхватывал ее и нес вперед, а полные ведра, хотя и вязли в глубоком снегу, но прокладывали сами себе дорогу, так что за Натальей оставалось три борозды.
Только подымаясь на берег, она заметила, что ветер вовсю хлещет воду из ведер. Она зашагала побыстрей. Вот уже в снежной мгле зачернела дверь землянки, и в тот же миг Наталья поскользнулась на обдутом обледенелом гребне косогора и упала, перевернув на себя ведра.
Ветер сразу схватил воду и заморозил ее так, что вся одежда превратилась в ледяную корку. Ведра с грохотом покатились вниз через снежные волны.
До сих пор Наталья терпеливо сносила всякие невзгоды, но сейчас ей стало так обидно, как никогда еще не было за все годы, прошедшие с ухода из дому. Слезы полились из ее глаз.
— Господи, за что мучаемся! — с горечью воскликнула она, падая в сугроб и закрывая голову руками. Рукавички ее проледенели насквозь, и руки окоченели до жжения. Ветер стал заносить ее снегом.
Кое-как собралась она с духом, поднялась на ноги, вытерла сухим рукавом лицо, огляделась и полезла под откос. В сугробах Наталья отыскала ведра и снова поплелась к проруби.
— Ты, Егор, ступеньки выруби к бережку, — сказала она, возвратившись с водой в землянку, — а то, гляди-ка, я обкатилась как. — Она стала очищать одежду от ледяшек.
— В такую погоду снег надо таять, а не на прорубь ходить, — ответил на это Егор.
— Задним-то умом ты крепок, — вспыхнув и утираясь, отозвалась жена. — Да будь ты неладен со своим Амуром! Куда завез да как тут жить… На погибель ты нас завел сюда!..
Наталья расплакалась. Егор был смущен такой вспышкой жены и молчал угрюмо.
Наталья отвернула мокрое лицо. Ей стало нестерпимо больно: вдруг все обиды; все страдания этого безмерно тяжелого года подступили ей к сердцу. Она подумала, как бы пожалели ее там, в России, на родине, если бы узнали, как мучается она с детьми. «Да нет, и не узнают никогда, мы тут как канули в воду». Она вдруг с ясностью почувствовала, что зашла с мужем на край света, что дальше идти некуда, и горше жизни быть не может, и что пожалеть ее тут некому. От этой мысли стало ей так горько, что она скривилась, затряслась и в отчаянии завыла — завыла чуть слышно, как бы не веря, что плач, рыдания могут привлечь к ней чью-то жалость. Егор казался ей в этот миг чужим, постылым. Тут и от слез не было бы толку, и она выла в тупом отчаянии только потому, что не могла сдержаться.
Егор поник. Жаль ему было жену. С ней прошел он самый трудный путь в жизни. Она была его помощником, другом. Ее теплота, совет, доброе слово грели сердце мужика и рассеивали его заботы. И вот Наталья, жена, работница, мать его детей, поддалась.
— Наташа…
Страшно ему стало, что жена поддалась, и еще страшнее было, что воет, ревет она не для людей, не для него, а про себя, словно никому не желая открывать своих ран. Егор почувствовал себя одиноким. Семья недовольна. Неужто все не так идет?.. Он забеспокоился. Наталья была так обижена, что совсем ушла в себя.
— Наташенька… жена…
Она завыла чуть громче, отзываясь на ласковую его речь. Сердце ее просило участия, сочувствия, доброты.
Егор присел к ней. Она заревела в голос и сквозь плач стала браниться, но Егор понимал, что она уже не сердится, что это дурные думы, зло, все плохое выходит прочь из доброй души ее и что, выбранившись, выплакавшись, снова станет она сердцем с ним.
Пурга, то ослабевая, то усиливаясь, пробесновалась целый день. А под вечер к Кузнецовым в землянку неожиданно явился Бердышов. Он вышел из тайги поутру и, как оказалось, уж отоспался, успел хлебнуть стакан водки и теперь решил проведать переселенцев. Все были рады его возвращению.
— Как же это ты, Иван Карпыч, домой-то попал, экая погода, ни зги не видать? — спрашивал его дед.
— Маленько не сбился. Однако, тогда была бы беда, — довольно смеялся Бердышов.
Набегавшись по тайге до усталости, он опять был в хорошем настроении. Охота у него была удачная, он раздобыл соболей. После недельного шатанья по тайге в одиночку он радовался теплу и людям.
— Отец учил нас не блудить в тайге, приметы передавал. Это как грамота, еще трудней — так мой тесть-то говорит. Вот однажды отец воткнул в сугроб бутыль с водкой и говорит: «Вали по следу, ищи ее. Найдешь — твоя, а не найдешь — отдеру!»
— Ну-у!.. — открыл рот Федюшка.
— А-ах! — воскликнул дед. — Ну? Неужто так и сказал?
Иван усмехнулся.
— И выдрал, значит? — продолжал любопытствовать дед.
— Пропала иль нашел? — спросил, в свою очередь, Егор.
— Конечно, нашел, — безразлично ответил Иван, словно это само собой подразумевалось, — куда денется!
— А-а!.. — разочарованно отозвался дед, словно пожалел, что Ивана в свое время лишний раз не выдрали.
Завыл в трубе ветер, и снег с шумом забил по двери. Дрожал ставень. Лучина затрещала, вспыхнула и погасла. Наталья высекла огонь, зажгла новую лучину и воткнула ее в поставец.
— Экая лютая погода, — заметил Егор.
— Нет, не всегда и тут такие зимы. Это испытание новоселам: как, мол, не оробеют ли?
— Чего же робеть? — возразил Егор.
— Даст бог, окоренитесь, — продолжал Иван, кутаясь в козью шубу и прилегая боком на лавку. — Потомит она годик, а потом отпустит. Только бы не высокая вода летом, можно остров распахать, тогда бы уж все ладно было. А непогода — это пустяки. Вообще-то всегда бывает какая-нибудь лиха беда, когда придут новоселы: пурга ли, высокая ли вода, или другое чего.
Пришел Барабанов и стал у двери, отряхиваясь от комьев снега.
— А тебе, Федор, однако, ловушки теперь не найти, — вспомнил вдруг Бердышов. — Занесло всю твою охоту. Ты когда ее проверял последний-то раз?
— Третьеводни был, да ничего не попалось.
— А на соболей-то ты ладишь самострелы?
— А как же, конечно, да все без толку!
— Ты чего-то не так устраиваешь, — посмеялся Бердышов в сознании своего охотничьего превосходства.
Рванул сильный ветер и с шумом понесся по тайге.
— Экий ветрина! — вздохнул дед. — О господи!..
— Кто по Амуру сейчас едет, тому уж горе-гореваньице, а в тайге все же не так, — сказал Иван, прислушиваясь к шуму.
— Давно слыхал я, еще в Расее, — заговорил дед, — что есть будто у нас земля, а населения на ней нет. Еще тогда баили, что станут выкликать в народе охотников на переселение, а не сыщут охотников, пошлют невольников. Земля та будет сурова, не в пример холодней Расеи.
— А вот ведь, братки, не знаю я, где эта самая Расея, — вдруг сказал Бердышов. — Какая она из себя?
— Даст бог, Иван Карпыч, и тут леса порубим, земли запашем, тоже Расею сделаем — поглядишь тогда, — простодушно ответил Егор.
— Вот теперь я который год от переселенцев слышу: Расея да Русь, сам же русским прозываюсь, а где она, эта матушка Русь, откуда население все идет, — я и не знаю. Забайкалье свое знаю, Шилку знаю, Онон, Ингоду до верховьев — по-нашему это и есть самая Русь. На Селенге бывал, далее — Байкал, в Иркутске дядья мои бывали ходоками от нерчинских мужиков — везде народ по-русски говорит, и мы эти места всегда за коренную Россию держим. — Иван помолчал и усмехнулся. — А оказывается, ниче, паря, я не знаю… Гураны мы, уж гураны и есть, тайга и тайга… самовара не видали.
— Ты, может, и про Питер да про Москву не слыхал? Чего с тобой сделаешь! — молвил Силин.
— Пошто не слыхал! Там император живет, это я знаю, тамока дворцы, соборы, эти города и нам столицы. Да я не пойму только, почто тут-то не Русь? Не одинаково, что ли, с вашей местностью? — хитро прищурился он.
— У нас разве такая жизнь! — воскликнул Федор и стал рассказывать, какие хлеба родятся на Каме, какие там богатые села.
— Я послушаю, как на старых местах народ жил, меня бы, однако, медвежатиной оттуда не сманили. Чего же вы сюда приехали, коли там лучше?
— Чего ты понимаешь про Расею! — вдруг обиделся дед Кондрат. — Это страна великая, народ в ней крепкий, кондовой. Здешний-то край Расее же подчинился!
— Ваши забайкальские-то похожи на бурят, — промолвил Егор.
— Верно, на верхней Аргуни казаки на бурят смахивают, а наши-то, шилкинские, от них совсем отличны. Роды-то наши от первых поселенцев, — со сдержанной обидой возразил Иван. — Кто волей, а кто неволей шли в Забайкалье. Так же, как вы на Амур… У нас деды расейские были, русы волосы имели, еще и сейчас про русы косы до про золоты кудри песни поют, а золотых-то кудрей мало, почитай, ни у кого нет, кроме семейских. А песня-то как поет: «Подойди, родима матушка, русу косу расплети, подойди, родимый братушка, русу косу расплети…»
— Почернел народ, озлился, — усмехнулся дед.
— Это уж потом они маленько почернели. Но все равно родятся беленькими. Пока младенцы — белобрысые.
— Хитрый народ эти забайкальские! — с досадой и восхищением сказал Федор.
— Маленько-то, конечно, хитрованы. Да без хитрости нельзя. Как ты с инородцем станешь жить иначе? Наши забайкальские при границе жили, у них это хитрованство-то как заслон от чужих. Тут на хитрость только и жить. С торгованами, с албанщиками[22] встречаемся. Тут одни торгаши. Они за работу не уважают, а уж хитрован — первый у них человек.
— Все же сибиряки не похожи на расейских, — шутливо возразил Егор, видя, что Ивана такие замечания хватают за сердце, — за своих трудно признать забайкальцев-то.
— Как разведка на войне! Прадеды наши пошли вперед, стали жить в Забайкалье, далее этот Амур наши же забайкальские отыскали. Это теперь потянулся народ из России. На Амуре-то окоренимся, а молодая-то поросль дальше, может, потянется. В Забайкалье легче было, чем тут. Буряты там ха-ароший народ, с ними жить да жить, они русского человека как следует понимают.
— А как китайцы? Что за народ?
— И китайцы народ хороший!
— Ладно, что они тут торгуют, а то бы совсем худо было, — сказал Федор.
— Конечно! Кто бы торговал? Где бы хлеб-то брали? — подтвердил дед.
— Ну, летом, ладно, на баркасе, — продолжал Федор, — а зимой? Амурские-то купчишки — зверистый народ, сам говоришь, жулики как на подбор. Поглядели мы на них в Хабаровке, не дай бог к ним в кабалу попасть. Без китайцев бы тут трудно было. А бельговский лавочник вон какой боец да говорун, такой и обманет — не жалко.
— За присказку-то? — усмехнулся Егор.
— Сдались они тут, как в Петровки варежки! — недобро возразил Бердышов.
Егор уже не впервой замечал, что Иван недолюбливает бельговских торгашей.
— Конечно, настанет время, уйдут, наверно, — сказал Кузнецов.
— Вестимо, — подтвердил Федор, — разве продержишься? Тут теперь с Руси полон Амур найдет народу.
— Охота мне повидать Расею, — продолжал Иван задумчиво. — Я когда-нибудь еще поеду туда…
Глава шестнадцатая
С приходом на Амур крестьяне плохо соблюдали старые обычаи, ели мясо в постные дни и в посты, лишь бы было где его взять; если стояла хорошая погода, то работали и в праздники и по воскресеньям, хотя и помнили эти дни. Они считали себя тут как бы свободными от прежних суеверий и предрассудков. Тут было все не так, как на родине. Старые обычаи и приметы были теперь ни к чему.
Какой же мог быть домовой в землянке! Только в пурге некоторые переселенцы еще по-прежнему видели черта, с чем Бердышов никак не соглашался.
— Все черти тут при гольдах живут, — смеялся он, — у них этих чертей, беда, шибко много, а при русских чертей нету. Поразговаривай-ка с Ангой, она их всех знает, где какой.
Забывались и старые песни. Давно уж не певали их крестьяне, и не хотелось петь, чтобы не бередить душу воспоминаниями о родине.
В рождественский пост переселенцы вовсе оскоромились. Бормотовы подстрелили в верховьях Додьги секача.[23]
К рождеству и у Кузнецовых и у Барабановых были мука и мясо, и бабы стали подумывать, как бы отпраздновать праздники, чтобы хоть чем-нибудь оживить свое унылое житье-бытье.
На последней неделе поста морозы отпустили. Стояли ясные, хотя и ветреные дни. Как-то поутру, еще затемно, в землянку к Кузнецовым ввалились Иван и Федор, одетые в полушубки и в дохи. По их движениям, как они рассаживались на лавке, и по их оживлению Егор, лежа на печке, догадался, что мужики что-то задумали.
— Ну, Кондратьич, подымайся, — хлопнул себя кнутовищем по валенку Федор.
— Чего еще затеяли? — привстал Егор.
— Праздники станешь ли справлять? — спросил Бердышов.
— Стало бы с чего их справлять, — отозвался из теплого угла дед.
— Чего тут! Ни попа, ни церкви, — возразил Егор. — Если метели не будет, робить бы, а то время только зря пройдет.
— Грех в праздник-то робить, — покачал головой Федор. Как он ни был скуповат, но погулять любил, хотя часто жалел после гулянок пропитого и проеденного. — Дело-то не медведь, в лес не убежит. А мы было в Бельго собрались, в лавку. Думали, и ты с нами поедешь — крупки купить да и на рубахи бы набрать надо. Айда! Да и водчонки возьмем, надо же и погулеванить, а то тут вовсе зачумишься.
— И то дело, поезжай-ка, Егор, — подхватила бабка. — Настьке да Наталье на сарафаны бы привез к празднику. А то, как на Амур пришли, еще нисколечко для «женского» не брали.
— Конь у тебя застоялся, — сказал Бердышов, — слышно, как назьмы копытами отбивает. Запрягай-ка, живо промнешь его. Поглядишь, как гольды живут. Ты ведь еще не видел. Лодку тебе надо, уговоришься, сделают весной. Лыжи купишь. Забегаешь по тайге-то! Берегись тогда, звери!..
— Денег-то нету. Набрать товару не мудрено, да отдавать-то чем станем? — упорствовал Егор.
— Нам и так поверят. А отдавать когда надо будет, тогда и подумаем, — ответил Иван. — Да вот Федюшку свези, пусть и он приглядывается, — кивнул Иван на паренька.
Тот с радостью вскочил с лавки и опрометью кинулся обуваться. Видно было, что и ему до смерти наскучила однообразная жизнь.
Ущербленная луна уже побледнела над лиственницами, когда мужики на двух санях съехали с берега на широкий амурский лед и покатили в Бельго.
Федор лежал в передних санях между Санкой и Иваном. Бердышов показывал дорогу, чуть намеченную по снегу, а парнишка правил. Настоявшийся Гнедко шел крупной рысью. Егор с Федюшкой и Тимошка Силин лежали в задних розвальнях. Егоров Саврасый, бойко перебирая мохнатыми лодыгами, следовал за передними санями, то и дело набегал на них и, потряхивая гривой, пофыркивал над головой Барабанова.
— Вот ты, Иван, все с бельговскими водишься, — говорил Федор. — А ведь Мылки к нам будут поближе, а из мылкинских ни разу никто не был на Додьге, как мы приплыли. И ты про них никогда не поминаешь.
— Между Мылками и Бельго идет вражда, — проговорил Иван Карпыч. — Они как-нибудь еще драться станут. Мылкинские и меня заодно с бельговскими считают.
— Ишь ты! Чего же это гольды не поделили?
— Из-за девок они в прошлом году поссорились. Тут в Бельго есть старик Хогота, у него сын Гапчи, отчаянный парень, он себе украл бабу в Мылках, она была женой тамошнего богатого старика. Потом мылкинские всей деревней напали на этого Гапчи, хотели ее отбить, но ничего у них не вышло. Ну и затянулась эта канитель.
Федору только теперь стало понятно, почему Иван ни словом не обмолвился, когда Егор отобрал у гольдов невод. «Однако, это мылкинские тогда были. А ты, видно, тоже тут не без греха», — подумал он про Бердышова.
По реке навстречу едущим дул морозный ветерок. Через торосники дорога, чуть намеченная нартами и изредка проезжающими тут санями, уходила под обрывы правого берега. На середине реки топорщились глыбы битого льда, нагроможденного на мели и вмерзшего во время рекостава.
Заснеженные каменные сопки вереницей плыли назад. Крутые и щербатые обрывы их были черны. Через шесть таких сопок открылся вид на лесистую пойму, на паши[24] и на глубокую падь, ушедшую клином, как в стены, в крутые и щетинистые хвойно-лесные увалы. Над поймой у самого берега высилась небольшая релочка с обрывами. На ней в порубленных перелесках и ютилось несколько десятков хмурых приземистых фанзушек поселка Бельго.
— Эвон кто такой? — сказал Санка, завидев поодаль от дороги человека, который приник на корточках ко льду и махал палкой вверх и вниз.
— Это рыбак, старик какой-нибудь, махалкой ловит рыбу в проруби, — объяснил Иван. — Как пристанем к лавке, ты беги с Федюшкой, погляди. Без наживы, одним кованцем[25] таскает.
Рыбак, завидя коней, поднялся и стал присматриваться к едущим.
Бердышов показал дорогу к лавке, и вскоре розвальни, поднявшись на берег, подкатили к глинобитному дому с высокой крышей, стоявшему поодаль от стойбища.
Под свайными бревенчатыми амбарами загремели цепями сторожевые черные псы. Ездовые собаки подлаивали им.
Купцы вышли из фанзы. Гао Да-пу, спрятав руки в разрезы стеганой юбки и согнувшись, короткими шажками выбежал вперед и остановился, не доходя саней.
— Давно, давно, Иван Карпыч, ты в нашу лавку не ходи, — скалил он зубы, поеживаясь. Собрав в жесткие складки крепкое смуглое лицо, торговец поблескивал бойкими глазами.
Тут же суетились, унимая собак, его братья. Старший из них был толст, но проворен. Разогнав собак, он подскочил, чтобы поздороваться с мужиками, и стал с размаху хлопать ладонью по их рукам. Одет он был неряшливо. Грязная стеганая кофта лоснилась, на лысине торчала маленькая засаленная тюбетейка.
Младший брат, напротив, выглядел щеголем. Из-под распахнутой лисьей шубы виднелся шелковый черный халат, голову покрывала новенькая шапочка с шариком на макушке, на ногах он носил теплые туфли с толстыми войлочными подошвами; ходил он, как-то необыкновенно выворачивая пятки и покачивая бедрами. У него были живые, шустрые глаза и острое тонкое лицо с тяжелой и неприятной нижней челюстью. Несмотря на разницу во внешности, и у грязного толстяка и у щеголеватого юноши был одинаковый вид сытости и довольства. Старший — обжора и здоровяк, а младший, как видно, имел слабость рисоваться и во всем подражать богатым городским купцам.
Иван Карпыч называл их Василием и Мишей, а самого хозяина — Иван Иваныч или просто Ваней.
Работники притащили два старых овчинных тулупа и накрыли ими коней, как попонами. Щеголеватый Мишка время от времени резко покрикивал на работников, стараясь показать себя перед мужиками хозяином.
Гао Да-пу обнял Бердышова и повел гостей в фанзу. Там оказалось несколько гольдских женщин; толстяк выгнал их вон, едва русские вошли в дверь. Фанза была полна разных товаров, шкур, китайской мануфактуры, посудин с вином. На канах[26] стояли лакированные столики. На всем лежал отпечаток благополучия хозяев.
Мужики и торговцы, как обычно во время купли-продажи, заспорили, зашумели, стараясь перекричать друг друга. Брань повисла в воздухе.
Федюшка и Санка, обогревшись, выскочили из лавки и побежали на Амур к проруби. Там сидел горбатый седой гольд, одетый в коротенькую шубейку, и махал своим самоловом.
Едва ребята к нему приблизились, как он выдернул из проруби щучку. Высвободив из-под жабер вершковой крючок, гольд кинул рыбу на снег. Она забилась и запрыгала, но морозный ветер быстро обледенил и усыпил ее.
Ребята, оглядевшись, осмелели и подошли к рыбаку вплотную. Он поднял к ним дряблое лицо с больными глазами и заискивающе улыбнулся, показывая свой самолов. На короткой палке, на конце поводка, была прикреплена деревянная рыбка, обшитая мехом белки-летяги, а повыше ее — железный крючок. Таково было все устройство снасти.
Старик оказался добрым. Слов его ребята не понимали, но он изобразил движениями, как щука играет с деревянной рыбкой, пытаясь ее проглотить, и зацепляется жабрами или боком за прыгающий в воде остроконечный крючок. Самоловы с ненаживленными крючками ребята видели и по дороге у амурских казаков, но такую простую махалку они наблюдали впервые.
С берега сбежали, направляясь к проруби, двое расторопных гольдят. Однако, разглядев чужих, они помчались обратно, и, как ни кричал им старик, они его не слушали и скрылись в одной из фанз. Гольд сам собрал закоченевших щук и, ворча, отправился через сугробы, а Федюшка с Санкой возвратились в лавку.
Мужики набрали водки, ситцев, табаку и разной мелочи. Поскидав дохи и полушубки, они, сидя на теплых канах, пили горячий чай. Торговцы поднесли им по чашечке ханшина; бородатые лица переселенцев раскраснелись и повеселели.
Разговор шел о землепашестве на Амуре.
— Моя тут маленький огород есть, — рассказывал Гао Да-пу. — Огурец есть, брюква, капуста. Тоже каждый год землю копаем. На Горюн переселенцы первый раз приехали — моя раньше думай, как они в тайге пашню делай? Потом смотри — его тайга рубили, землю копали, хлеб посеяли. Потом другой год хлеб собирали. Его шибко работай — хлеба немножко, совсем мало получи. Моя думай, ваша шибко много лес руби не надо. Надо соболя ловить, соболя поймаешь — барыш получишь, мука, водка купи — гуляй можно…
Гао Да-пу советовал мужикам охотничать, суля большие выгоды.
Иван, между прочим, узнал бельговские новости. Оказалось, что в стойбище, кроме женщин, детей и нескольких больных стариков, нет никого. Охотники, ушедшие на промысел осенью, из тайги еще не возвращались.
Погостив в лавке, мужики направились в стойбище с намерением выменять у стариков кой-какие необходимые вещи. Покупки уложили в сани, распростились с торговцами. Иван, встав на колени в передних розвальнях, тронул вожжами Гнедого. Мужики двинулись пешком вровень с санями, переговариваясь с Бердышовым.
Едва сани переехали редколесье, отделявшее лавку от стойбища, как на улице началось необычайное оживление.
Нарядные гольдки в ярких халатах стали перебегать из фанзы в фанзу или, открыв дымные двери своих жилищ, громко переговаривались между собой, с улыбками поглядывая на мужиков, одновременно и смущаясь и всячески стараясь обратить на себя их внимание. Из лачуг несся оживленный смех.
— Это ведь для нас они, дурехи, вырядились. А то они в рванье ходят, в халатишках из кетовой кожи, — говорил Иван. — Увидали и понадевали на себя всего: и шелка и серебро, чего у каждой лежит.
— Бабы же! — отозвался Егор.
— Тут сейчас бабье царство, — засмеялся Иван, — а торговцы чего хотят, то и делают с ними. Мужья все в тайге, а старики сами всего боятся. Тут сейчас меньшой лавочник, как петух, всех этих баб подряд топчет. А мужики где-нибудь для него же добывают меха.
— Как солдатки, — вымолвил Егор. — Эх, бедность, бедность, — вздохнул он, — везде так-то бывает!
Подле длинной глинобитной фанзы стоял давешний горбатый рыбак. Он бранил низкорослую женщину с серебряным кольцом в носу, стоявшую на дороге. Как видно, женщина наскучалась за зиму и сейчас была в сильном волнении. Она поводила плечами, закатывала глаза и вертела головой, желая, чтобы на нее посмотрели новые люди. Из-за ее желтого халата, расшитого красными узорами, со страхом выглядывала орава ребятишек, мал мала меньше, с глазами, воспаленными от болезней и дыма, с лишаями на лицах, с жестковолосыми черными головами.
Иван поздоровался с горбатым гольдом, и тот, оставив игривую молодуху в покое, поспешно заковылял вровень с санями.
У следующей фанзы, покуривая, сидели двое древних стариков. Один из них слепой, другого согнуло в три погибели от какой-то болезни. Иван вышел из саней и заговорил с ними по-гольдски.
Сопровождаемые тремя стариками, мужики вскоре подошли к дому Удоги — тестя Ивана. Жилье его отличалось от других. В углу сложен очаг наподобие русской печки, а пространство между канов устлано вымытыми и выскобленными досками. На канах стояли русские сундуки, а в окна вставлены стекла.
Айога и ее сынишка Охэ с восторгом встретили Ивана. Хозяйка захлопотала об угощении.
У всех бельговских гольдок вдруг оказались неотложные дела к Айоге, и они то и дело забегали в фанзу. Некоторые из них, посмелее, усаживались в сторонке, у очага, и с таким видом слушали разговоры приехавших, что казалось, никакая сила не смогла бы сдвинуть их с места.
Айога приготовила гостям кашу с сушеной кетовой икрой. Охэ, полнощекий коротыш в ватной курточке, не отходил от Ивана и ластился к нему, терся большой и чистой стриженой головой о его колени.
— Чего же ты на охоту не ходишь? — спрашивал его Бердышов. — Большой уж, свои нарты пора заводить.
— Тятька не берет, — чисто по-русски ответил ему Охэ.
— Пора бы тебе белок стрелять, как же это ты? Шаманом, что ли, будешь, пошто ленишься в тайгу бежать? — дразнил его Иван. — Еще не собираетесь помириться с мылкинскими? — обратился Иван к старикам.
Бали — гольд с бельмами на глазах, со впалыми щеками и редкими волосами на верхней губе, шамкая, стал с трудом говорить, что Хогота хоть и старик, но еще крепкий и до сих пор ходит на охоту. Ему удалось поймать медвежонка, и он теперь выкармливает его, а летом хочет заколоть, устроить праздник, позвать в гости мылкинских и мириться с ними.
— Ты бы, Ванча, помог нам помириться, — смахнул слезу Пагода.
Это был согнутый болезнью старик со страшной головой. У него на темени седой щетиной торчали стриженые волосы, а маковка и затылок были обнажены, голая кожа на них красна, узловата и морщиниста. Когда-то Пагода попал в медвежьи лапы. Зверь сломал ему шейные позвонки и, ухватив когтями затылок, содрал кожу с головы. Согнулся же Пагода недавно от ломоты в пояснице, так что при ходьбе он касался правой рукой земли.
— С тех пор как ты уехал от нас, нам жить плохо стало, — жаловался старик.
— Нынче весной, если не помиримся, беда будет! — Сказав так, горбатый Бата заморгал красными безволосыми веками. — Мылкинские могут у нас всю деревню перебить. С копьями нападут, станут всех колоть.
Мужикам пришлось долго слушать непонятную беседу Ивана со стариками. Наконец Федор не вытерпел и заговорил о деле. Бердышову и самому надоели жалобы гольдов, и он рад был завести с ними другой разговор, тем более что заступаться за гольдских баб и ссориться из-за них с торговцами он совсем не собирался. Он стал переводить, и мужики через него завели беседу со стариками.
Егор и Федор условились с Батой о цене лодок, которые делал его сын.
Старики брались вязать мужикам невода и сети, делать снасти, шить меховую обувь, шапки, куртки для охоты. Все эти работы они собирались задать своим дочерям, внучкам и невесткам. Однако мужики еще робели сделать гольдам сразу так много заказов и не воспользовались их предложениями.
Тимошка Силин сторговал себе пару лыж.
Старики были очень рады приезду переселенцев. Они подробно отвечали на все их расспросы и всячески старались удружить им. Старым гольдам была приятно, что и они еще кому-то нужны и что нашлись люди, слушающие со вниманием их советы и наставления.
Мужики погостили в Бельго до вечера, смотрели фанзы, амбары, запасы юколы, нарты, собачью упряжь и ездовых собак, самоловы, самострелы и копья. Они побывали около дома Хоготы, где в бревенчатом срубе сидел молодой медведь, предназначенный для угощения мылкинцев.
Прощаясь, Иван звал Айогу на рождество вместе с Григорием и Савоськой, если те к празднику вернутся из тайги.
Затемно мужики двинулись в обратный путь. Ударил сильный мороз, мгла окутала реку, лесистые распадки по склонам сопок казались огромными синими птицами, парившими над ледяной безмолвной пустыней. Мужики кутались в шубы и тесней жались друг к другу, но мороз все же находил себе лазейку. Приходилось соскакивать с розвальней и бегом бежать за конями, только так можно было немного согреться.
Егор, отъехав верст пять и набегавшись, повалился на сено и задремал. Спал он недолго и поднялся, весь дрожа от холода. На реку спустился густой туман. Саврасый, побелевший от инея, перестукивал копытами.
— Не спи, Кондратьич, замерзнешь, — услыхал Кузнецов глухой голос Тимошки, толкавшего его в бок. — На-ка тебе!
Силин протянул бутылку. Егор пригубил. В груди его полыхнуло жаром. Федюшка тоже выпил несколько глотков, и братья, соскочив с розвальней, побежали за скрипящими полозьями. Тимошка, закутавшись в тулуп, сидел в санях неподвижно, как бурхан.
Жар горел в теле Егора, лицо жгло и ломило от мороза, дыханье перехватывало. С разбегу он опять повалился на сено. Тимошка снова достал бутыль и, потянувши из горлышка, сунул ее Егору. Кузнецов выпил, завернулся в доху и лег ничком. Голова его кружилась, теплая истома полилась в ноги и руки.
— Эй, там! — закричал вдруг Тимошка, обращаясь к передним саням. — Не спите! Какие-то навстречу едут. Слышь, собаки заливаются…
Егор прислушался. Скрипели полозья, екала селезенка у Саврасого. Конь тяжело дышал и шебаршил копытами по дороге. Откуда-то из темноты вдруг явственно донесся собачий лай.
— Берегись, Тимошка! — громко и насмешливо отозвался Иван. — Едут не наши, а чужие! Шибко едут, держись!
Лай становился все громче и ожесточеннее. Вдруг с передних саней послышались испуганные крики Федора, и сейчас же их перекрыли чьи-то чужие гортанные голоса.
— Никак встретились! — воскликнул Тимошка. Он нахлобучил шапку и, на ходу выпрыгнув из розвальней, исчез во мраке.
Саврасый остановился. В тумане послышались громкие голоса, что-то не по-русски говорил Иван Карпыч. Егор пощупал, не вылетели ли из саней обновы, что он вез жене. Нет, целы. Ну и слава богу! Он обошел сани и, проваливаясь в снег, направился по сугробам на голоса.
У передних розвальней он различил Бердышова и Барабанова, переругивавшихся со встречными. В своих огромных шубах те походили в тумане на большие соборные колокола. Они обступили мужиков полукругом, сдерживая своих злобно рвущихся собак.
— Ведь он же кричал тебе, — говорил Бердышов, обращаясь к рослому встречному.
Двое людей в шубах оттянули своих лающих собак с дороги и стали их бить.
— Чего случилось-то? — спросил, подходя, Егор.
— Вожак, кажись, укусил Гнедка за ногу… Как встретились, он захрипел и схватил его, — уныло ответил Федор.
— Не захотел с дороги свернуть! — подтвердил. Иван.
Заиндевевший конь стоял, понуро опустив голову.
Между тем из темноты подъехали еще нарты. С них слезли двое и присоединились к толпе.
— Гляди-ка, сколько их едет, — почесал затылок Тимошка.
— Егор, бери-ка мое ружье! — сказал Бердышов.
Кузнецов схватил из розвальней винтовку. Один из встречных, небольшого роста, в пышной шубе с высоким воротником, очевидно хозяин, что-то кричал своим, по-видимому приказывая уступить.
Бердышов пристально вглядывался в него.
— Иван Карпыч, да не трожь ты их, ладно уж, поехали, — заговорил Федор, опасаясь, что начнется драка. — Может, не укусил, не видно… Что зря… Не допусти до греха, бог с ним.
Тем временем встречные быстро собрались и с криками погнали собак.
— Ишь, с пустыми нартами поехали, — зло вымолвил вслед им Бердышов. — Не отняли бы, я бы с ними сцепился, насмерть забил, — говорил он, надевая доху. — Это маньчжурец поехал, начальник их, тварюга! До сих пор они из Китая потихоньку на Амур ездят, гольдов грабить. И дороги не дает, едет как начальник. Они и русских убивают, глаза им выкалывают!
Бердышов пересел к Егору, и розвальни тронулись.
— Ну, Егор, теперь согрелись, не замерзнем! — вдруг неожиданно весело проговорил Иван. — Можно ехать хоть всю ночь, — и он завалился на бок. — Маньчжурец этот ходит сюда на грабежи. Тайно албан — налог — с гольдов берет, пугает их, а они боятся — платят. Русских, говорит, всех надо убить. Если кто соболя не отдаст, уши отрежет. Раньше они летом приплывали, а теперь норовят зимой, пока полиции нет. Они к весне стойбища объезжают и зимние меха берут, а наш исправник живет себе в Софийске, не тужит. Ему хоть бы что!
— Почему собаки коня схватили? — спросил Федюшка.
— Вожак всегда хватает всякого, кто на дороге встречается. Не любят ездовые собаки, когда дорога занята. Если две чужие упряжки встретятся да ездоки недоглядят — как схватятся, начнут кататься, ну, беда, народом приходится их растаскивать.
— Слышишь, Иван, а почем ты знаешь, что это маньчжурец поехал? — спросил Тимошка. — Может, китайский торгаш?
— Нарты пустые, да и народу много. Они помалу боятся ездить. Все равно никуда не денутся, будет время — попадутся, придет их черед. Мне бы только этого нойона встретить, самого бы главного. Уж он старик старый, рябой, а злой же — хуже медведя. Беда, как его гольды боятся. Он в прежнее время на Пиване царевал, потом уж погнали его оттуда, — усмехнулся Бердышов. — Черт его душу знает, не он ли это поехал? Может, я спьяну не разглядел…
В поселье мужики вернулись поздно. Пока они ездили, женщины выскребли и вымыли землянки, перестирали одежонку, а бабка Дарья повесила в угол на икону белое вышитое полотенце. По сибирскому обычаю стены убрали пихтовыми ветвями, и в жилье пахло свежей хвоей.
На другой день началась стряпня. Наталья напекла рыбных пирогов, а со звездой, в сочельник, Кузнецовы всей семьей выпили ханшина и попели старые песни. Дед оживился и весь вечер рассказывал ребятам сказки.
— Лунь пловет, лунь пловет, — окал он в углу, — сова летит, сова летит…
Попозже пришли Иван с Ангой. Вскоре в землянку собрались все переселенцы. При свете лучины водили хороводы, пели, плясали и разошлись глубокой ночью.
Мела метель. Снежные кудри вились под тускло светившимися окошечками землянок. Хлопья снега, падая на распаленные лица мужиков, таяли и леденели на усах и на бороде.
— Нечистый дух и в праздник покоя не дает, — жаловался Тимошка, пригибаясь и еле шагая против ветра, прячась за широкую спину Пахома.
— В праздник-то самый от него морок, — пояснил ему пьяный Бормотов. — Он тоже это дело понимает.
Егор втайне не любил праздников, всегда жалел бесцельно проходившее за гулянкой время. Тем более тут, на Амуре, где не было ни попов, ни церквей, праздники, по его мнению, были совсем ни к чему. Впрочем, он всегда старался следовать тому же порядку, что и окружающие. Видя желание семьи погулять не хуже людей, Егор не стал перечить; он съездил в лавку, взял вина, гостинцев и созвал гостей. Но даже в это время из его головы не уходили заботы о деле. Работа его спорилась больше, чем у других. Сквозь бедность и голод Егор предугадывал впереди достаток. Вся его душа, все его радости были в труде, в стремлении к этому достатку, и лишняя поваленная лесина доставляла ему большее удовольствие, чем водка, угощения и бесконечная болтовня мужиков.
На первый день рождества гуляли у Ваньки Бердышова, как под пьяную руку звали на праздниках Ивана Карпыча. Пахом и Тереха Бормотовы взялись корить Барабанова за то, что он сменял им на кабанину плохую муку. Слово за слово, Пахом разошелся и помянул Федору старые грехи.
— Слыхал я, пошто ты из дому ушел. Не с добра ты на Амур перекинулся! — кричал он, ударяя кулаком по столу так, что тарелки прыгали. — И тут за прежнее берешься, — стыдил он Федора при народе.
— А ты, Пахом, зря старое вспоминаешь, — заступился за соседа Иван. — Вот сказал бы этак сибиряку, из каких-нибудь не помнящих родства или ссыльнопоселенцев, и тут же с тебя бы душа вон. Чего с кем было на родине, не нам с тобой судить, а тут мы все одинаковые. Крепостных до «манифеста» и то освобождали, если они заходили на Амур. А мука, — хлопнул он по костлявому плечу Пахома, — какая бы ни была, дороже здесь, чем зверятина.
— Вот это ты верно сказал, — согласился Пахом, тряся бородой. — Но пошто, будь он неладный, горклую-то отдал и не сказал? Сказал бы, ладно уж, все равно мы бы взяли, а то в обман ввел.
Дело чуть не дошло до кулаков. Иван утихомирил Пахома и Тереху.
На другой день после бердышовского угощения большинство гостей его болели, отравившись крепким ханшином. Однако к вечеру мужики, несколько оправившись, снова собрались пить у Тимошки.
Тимошкина жена, сухопарая Фекла, измученная работой и голодом, обычно ворчливая и крикливая, была охотница до самого безудержного веселья, словно на праздниках, под хмельком, когда забывались заботы и печали, старалась она скорей наверстать радости, упущенные в бедной и скучной жизни. Несколько дней перед рождеством она старалась изо всех сил: скребла, стирала, мыла и стряпала из скудных запасов муки рыбные пироги.
Фекла опьянела. Она пела и плясала, ее изможденное худое лицо зарумянилось, она буйно веселилась, топчась с платочком в руках по землянке, выкрикивая плясовую и не обращая внимания ни на кого, словно плясала она не перед людьми, а лишь для одной себя; большие, лихорадочно блестевшие глаза ее блуждали.
Братья Бормотовы примирились с Федором, стали обниматься, пороняли на пол дорогие Фекле глиняные чашки. Барабанов, прослезившись, клялся мужикам, будто сам не знал, что мука была прогорклой, и Пахом, наконец, великодушно простил ему обман.
Гости поели все Феклины угощения, выпили водку, нагрязнили в землянке, побили посуду, поссорились, перецеловались и разошлись. Пьяный Тимошка изругал и больно ударил Феклу.
Так минуло рождество, прошел хмель, веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.
Глава семнадцатая
— Ну, Ивану есть с чего гулять, он богатый, а ты куда лезешь? — упрекал Егор Тимошку. Они сидели на релке, на лиственнице, только что срубленной Егором. — Разве нельзя собраться песни попеть, сплясать да и водочку попить, но все бы ладом, не тужиться из последнего. Нет, ведь норовят все вывернуть. Ты, что ль, боишься, что на твой век веселья не станет? Ты думал бы, как робить да робить! Ан робить-то нам неохота, нам бы жар-птицу поймать в лесу. Нищие мы, жрать нечего, а на уме пьянство да гулянство. Нам бы тайгу-матушку чистить, а мы все языки чешем, кто прав, да кто виноват, да что зачем, чтобы причина нам была лодырить. Самих себя обманываем, причину находим: мол, холод ли или еще кто виноват. Языком-то чесать легче, чем робить, сомнениям-то всем твоим грош цена. Э-эх, родимцы, мужички!.. Пошто через Сибирь шагали, али чтобы испиться тут? Китаец-то этот разок-другой даст муки тебе, а после в шею погонит, да долг-то обратно потребует. Кто тебе тут поможет, у кого ты милостыню просить станешь? Тут и по миру некуда пойти.
— Правда, Кондратьич! Да и то сказать, где нам с бедности-то ума набраться, кабы нам это понять! Богатый-то, сказывают, и ума прикупит, а бедный так и есть дурак дураком, — вздыхает Тимошка, глядя на ясное небо. Лицо у него маленькое, рябоватое, с клочковатой бороденкой. Он ухмылялся виновато.
— То-то!.. — хмурился Егор, не понимая толком, что Тимоха хочет сказать.
Подошел Федюшка с наточенными топорами. Егор поднялся, подступил к лесине и стал обтаптывать вокруг снег. После крещенья братья работали от зари до зари. Рубили лес и заготовляли дрова и бревна для будущих построек.
— Возьми топорик да пособи нам, — сказал Егор сурово.
— Дай-ка мне топорик-то, я тоже разогреюсь, — попросил Тимошка через некоторое время, глядя, как бойко и весело братья застучали топорами по березе.
Федюшка засмеялся и отдал топор Тимофею. Тот оживился и заработал с видимым удовольствием.
— А пошто же у себя не робишь? — спросил его Кузнецов, когда лесина с треском повалилась поперек лиственницы.
— Видать, застоялся ты, — смеялся Федюшка. — Как закраснел! Живой опять стал.
— Чистил бы у себя, вот бы и ожил, а то замерзнешь, — твердил Егор.
— Никак не соберусь, — поскреб в бороде Тимошка. — Ведь я один…
— Приходи нам пособлять, а потом мы поможем тебе. Вот и будешь на людях, и работа пойдет.
— При людях, конечно, веселее работать, — обрадовался Силин, — а один я никак не могу. Как гляну я на эту тайгу, тоска меня берет: экая ведь трущоба, да разве один человек тут может? — смущенно признался он. — Я, может, оттого не роблю, что это все понимаю. Да и как возьмешься, когда все неладно? — с виноватой улыбкой продолжал он, как бы оправдываясь, что позволил себе такое откровение. — Вот теперь Фекле неможется, голова у нее болит, в глазах темнеет, кости ломит, кровь с десен идет, сама она не своя, цинга, что ль, на нее наваливается?
— У нас дедка тоже зубы изо рта таскает, — улыбаясь, вымолвил Федюшка, словно это было смешно и забавно. Для Федюшки в его скучной жизни и дедова немочь была чем-то вроде разнообразия. — Бабка его пользует, — продолжал он. — Ты спроси-ка ее. Она знает траву такую, у нее она насушена, с собой. Будто помогает.
— Это, сказывают, уж каждому надо тут цингой переболеть, никуда от нее не денешься. Лечить ее, поди, зря только время проводить. Наверно, перетерпеть надо — и все. Не стоит и лечиться.
Тимошка все же пошел к Дарье. Старуха побывала у Феклы и велела ей пить пихтовый отвар. Но, несмотря на бабкино леченье, чем теплее становились дни, тем все хуже было Фекле.
Тимошка стал работать, помогать Кузнецовым, а Егор и Федюшка каждый третий день работали на его участке. Тимоха оказался мужиком сильным и работящим. Работая на чужом участке, каждый старался, чтобы не остаться в долгу.
…Дед Кондрат стал плох и уже с трудом выходил из землянки на солнышко.
После Нового года погода стояла переменчивая. То солнце пригревало, и как будто дело шло к весне, и даже однажды в тихий день на солнцепеке подтаяли снега; Егор с Федюшкой, чистившие в этот день тайгу, слегка закраснели от свежего загара. То вдруг снова ударял мороз, как и в начале зимы, лес и реку окутывал туман, и холодные ветры осаждали поселье то сверху, то снизу. Однако морозы были уж не такие стойкие, и, если не было ветра, стоило в ясный день солнцу разогреться к полудню, как холод несколько спадал. Все же, по мнению переселенцев, январь стоял студенее, чем на родине.
Федор Барабанов после праздников старательно охотничал. Он уходил теперь надолго, ночевал в тайге.
Санка был постоянным спутником и помощником отца. За последний год парнишка поздоровел, раздался в плечах, нагулял щеки, стал смугл лицом. Он уже начал покуривать табачок, с ребятами разговаривал небрежно, поглядывая на них с высокомерием, и терся около мужиков. Во всем его обличии сквозили смышленость и пробуждающаяся хитроватость промысловика. Он ходил вразвалку, лениво и в то же время шустро поглядывал по сторонам бойкими светлыми глазами, как бы чего-то все время высматривая. На промысле он был проворен и приметлив. Ему иногда даже удавалось и такое, что не всегда мог сделать сам Федор. Умел он делать дело и помалкивать, в чем был противоположностью Федюшке Кузнецову, который хоть и старше его и на вид казался рослым, здоровым пареньком, но в душе оставался еще подростком — простым, наивным и добрым.
Побывав у гольдов, Санка и Федька устроили себе такие же самоловы, какие видели они у горбатого Баты. Однако за работой Федьке редко удавалось половить у проруби рыбку. Зато устройство махалки живо переняли другие ребята. Из обломков гвоздей они сами ковали и обтачивали крючки, раскаляя их в печках.
— Какую вы тут кузницу затеяли? — ругала бабка Ваську и Петрована, стучавших у порога. — Может, нужный гвоздь-то стащили. Тут всякая железка дорога.
— Ладно, бабка, — с сердцем отмахивался Васька, увлеченный работой.
— Я тебе дам «ладно»!.. Разве это игра? Вот схвачу тебя за вихры — будешь знать. Вон бери лопату да ступай стайку чисти. Дела полон рот, а им в забавы забавляться.
Санка Барабанов, ходивший с отцом на охоту, смилостивился над ребятами и подбил для них белку-летягу, чтобы было чем обшить деревянные рыбки, вырезанные для самоловов.
Когда Бердышова не было дома, меньшие ребята со всякой просьбой бежали к гольдке, с которой водили дружбу с тех пор, как она учила их объезжать собак.
Анга, пополневшая — она была беременна, — садилась посреди избы на пол, ребятишки окружали ее, и она помогала им ладить самоловы.
Однажды веселая ватага ребят ввалилась в землянку Кузнецовых. Плохонькая одежонка детей затвердела от мороза и запорошилась от возни у прорубей.
— Ты где это завалялся?
Наталья растолкала малышей, подбираясь к Ваське, но не договорила и ахнула, всплеснув руками. У мальчика из-под мышки торчала большая пятнистая рыба, несколько мерзлых щучек он придерживал рукой, приподняв полу шубейки.
— Ах, пострел! Никак, сам добыл! — с добротой в голосе воскликнула бабка.
Васька сжал губы и гордо сверкнул голубыми глазами. Побледневшее за зиму, острое, решительное лицо его зарделось.
В дверях появился Петрован с самоловом. Важно и небрежно оглядев всех в землянке и оставаясь безразличным к радости матери и бабки и к визгу Настьки, он стал раздеваться и как бы невзначай поставил махалку на видное место у окошка. Он разулся, повесил ичиги на большой деревянный гвоздь и полез на лавку. Остальные ребята выбежали за дверь и с криком понеслись по морозу к своим землянкам.
Все радовались добыче Васьки и Петрована. Рыба осеннего улова всем надоела, и свежая добыча пришлась кстати.
— Эх ты, кормилец ты мой! — поцеловала меньшого Наталья.
Теперь на ребячью махалку все стали смотреть совсем по-иному.
— Кто же это вам такую снастеньку показал? — спрашивала ребят бабка, трогая рыбку и крючок.
— Федюшка с Санкой у гольдов подсмотрели, да Иванова тетка нам помогла, мы к ней бегали за нитками, она нам балберы пришивала, — рассказывал Петрован небрежно, как о чем-то давно прошедшем.
— А у нас ведь на Каме тоже на ненаживленные крючки ловят, — сказал Егор, возвратившись домой и рассмотрев сыновьи самоловы. — Это, говорят, русские обучили гольдов.
— Не знаю, кто кого, русские ли гольдов, гольды ли русских, — рассудительно отвечал Петрован.
С того дня ребят посылали к проруби за рыбой, как в кладовку. Вскоре ловля щук стала для них такой же работой, как помощь отцу на релке или уход за коровой и за конем.
После рассказов ребят о том, как Анга им помогала, Наталья стала чаще бывать у Бердышовой. Она видела, что гольдка славная и добрая женщина. Анга, тяжело переносившая беременность, за последнее время особенно чувствовала свое одиночество. Русских баб она все еще несколько стеснялась. Иван пропадал на охоте, родные были далеко. Ее влекло к детям, с ними она чувствовала себя как ровня, а они были рады, что во всяком деле у них есть советчик. Но все же гольдка была одинока. Наталья, чувствуя это, потянулась к ней.
Больная Фекла все более и более водилась с Бормотовыми, которые жили большой и дружной семьей несколько поодаль от землянок Кузнецовых, Силиных и Барабановых, саженях в ста выше, ближе к старому стану. Фекле было трудно ходить на верхний конец, и она добиралась туда лишь в случае крайней нужды, но жены Терехи и Пахома Бормотовых бывали у нее постоянно, туда же захаживала часто Дарья.
Другая соседка Кузнецовых — Агафья, была женщина грубая, жесткая и завистливая. Наталья и прежде особенно с ней не дружила, хотя и встречалась с утра до ночи по многу раз. Агафья с приездом на Додьгу стала завидовать во всем Наталье: и что та хороша собой и что Егор ее — мужик работящий, не в пример Федору, прямой, не шатающийся от одного дела к другому. Завидуя, Барабаниха по всякой малости и при всяком случае превозносила себя, своего Федора и все свое и старалась хоть разговорами о своем превосходстве уязвить соседку.
Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, — рассказывал про нее еще в дороге Федор, — шаг шагнула — и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.
Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она влепила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжко, улегся на лавку и уж более не заикался.
Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.
К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.
— Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, — как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. — Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.
Надевши подарок Анги — новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки как перышко и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.
Возвратившись с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.
— Твой-то опять седни робит? — вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.
— Чего же ему не робить? — возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. — Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? — не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.
— Да ты, никак, в обновке? — деланно удивилась Агафья. — Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, — выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, — этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, — заключила она презрительно.
— Как-нибудь и в этих проходим! — Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. — Где уж нам стары пимы таскать! — кинула она через плечо.
После этого разговора Наталья, чувствуя зависть Барабанихи, назло ей стала еще чаще бывать у Анги, стараясь всячески ей услужить. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге сшить платье крестьянского покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка располнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.
— Ты теперь на русскую походить стала, — говорила ей Наталья.
Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Пиваном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.
— Ты чего это делаешь? — внезапно обняла ее Наталья.
— Не знаю, — виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталье:
— Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, — и тихо, таинственно добавила: — Чтобы нам всем ладно было. Я еще старое не могу забыть, когда одна.
— За что же тебя срамить, бог с тобой…
Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.
— Молитва говори, — велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.
Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:
— А другой-то молитва знаешь?
— Знаю.
— Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.
— Тебя кто молиться-то учил? — спросила ее Наталья.
— Батька учил, а Иван плохо молится…
— Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.
— Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.
Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она вовсе не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.
Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.
Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменой во внешности жены.
— С обновой тебя, что ль? — вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обряжается в сарафан. — Поди-ка, щипну тебя. — И он начал щипать жену, баловаться с ней, тянул ее к себе, а она хохотала.
— А Наталья — боец, — говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. — Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.
— Сохатины-то нету… — Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. — Однако бы, ангалкой[27] рыбы наловить им.
— Одолжить им, что ль, снасти? — в нерешительности спросил Иван. — Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.
— А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?
Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.
— Ну нет, к китайцу не поеду, — отмахнулся Иван. — Товар-то им дарить не жирно ли станет?
Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щипать из сухого полена лучины.
— Ваня, а пошто ты меха нынче у себя держишь, в лавку не везешь? — спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.
— Маленько обожду. Считай сама: до рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболь пошел хлестко, гольды им полные амбары натаскают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! — вдруг ухмыльнулся Бердышов.
— Ты задумал чего? — мягко и счастливо засмеялась Анга. — Однако, чтобы Гао тебя только не обманули…
— С них станется, — вздохнул Иван. А голос был насмешливо самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!
Анга догадывалась о намерениях мужа. Иван задумал накопить побольше мехов и продать их весной на сторону, а не бельговскому торгашу. Удога и Савоська были с ним в сговоре и обещали к тому времени тоже подкопить мехов.
Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкурок, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почуяла, что муж ее что-то затевает… В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой. Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.
После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.
— Тебе свежей рыбы надо? — обратился он к Егору.
— Мало ли чего мне надо, — возразил тот.
— Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей никуда бы не тронулся.
— Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неводом?..
— А разве в степи нет реки?
— Нету.
— А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амуры-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу — не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали… Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» — «Как же, — говорит, — пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».
Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменился, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.
— Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, — говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженный разными рыболовными снастями.
— Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.
Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки берестяной чумазкой.[28]
— А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? — опросил Федюшка.
— Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.
В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть — длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанные на поимку крупной рыбы.
Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепоясанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора окоченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душной землянки.
— Нос отморозил, потри-ка снегом, — сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.
Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.
— Как же это ты недоглядел, потер бы нос-то, — говорила Наталья. — Теперь лицо мерзнуть станет.
— Завтра бери чепан, да езжайте на коне, — наказывал дед. — Поди, и огонь на льду развести можно.
На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее бьющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.
— Кабы не сорвалась, — беспокоился Егор, крепко держа веревку.
— Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то…
Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.
— Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? — уговаривал Иван бьющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. — Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать — с ума сойти!
Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбатив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев исступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.
Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.
У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.
По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке было людно, шумно и весело.
Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умывшись и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.
Варится рыбка, едет Филипка, —подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.
В красной шапке, сам на лошадке, Детей своих благодарить…Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.
— Эх, хороша ушица! — приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.
— Из щуки-то вкусней, — вдруг с сердцем выпалил Васька.
Все засмеялись упорству маленького рыболова.
— Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со щуками? Эх ты, ерш! — ткнул его Иван в бок.
— А ты чего дерешься? Сам ерш! — голубые глаза Васьки запалились злым холодком. — Вот захочу, наловлю осетров… — Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.
Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.
— Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? — дразнил его Федюшка.
Глава восемнадцатая
Соболь неумелым ловцам не давался. Единственной шкуркой раздобылся Федор Барабанов, вытащив убитого стрелкой зверька из чужой ловушки. Бердышову он сказал, что сам поймал соболя. Шкурка была рыжеватая, как и большинство амурских соболей; Иван оценил ее в три рубля. Федор отвез соболя в Бельго и выгодно променял китайцу на товар.
Легкость добычи распалила Федора. Он спал и видел удачное соболевание. Целыми днями бродил он с сыном по окрестной тайге, разыскивая соболиные следы и расставляя петли и ловушки. Он похудел, осунулся, скулы его заострились, а глаза поблескивали, как у голодного.
— Что, Федор, с добычей, что ль? — каждый раз окликал его Кузнецов, когда Федор с Санкой выходили из тайги.
— Не спрашивай, Кондратьич, — удрученно отмахивался Барабанов и останавливался.
Намолчавшись в тайге, он принимался долго и подробно рассказывать все свои приключения.
— Замаешься ты, гляди, лица на тебе не стало, — заключал Егор, выслушав его. — А тут Агафья одна без тебя лесины валила, робит, чисто мужик. Ты сам-то как, хлеба станешь ли сеять? Не перекинься совсем на промысел.
— Как же я без хлеба-то, куда же?..
— Тайгу, что ль, сохой поведешь? Избу из чего поставишь? Да и место не расчищено, солнышко-то не станет тебя ждать, Кузьмич.
— Затягивает охота, — говорил про Федора дед Кондрат. — Это как картежная игра. Продуться можно — без штанов останешься.
Каждый раз, намучившись в тайге, Федор зарекался охотничать.
— Пропади пропадом это зверованье, ни за что больше не пойду, с места мне не сойти, — клялся он и решал взяться за чистку леса.
Но проходило несколько дней, и Федора снова тянуло в тайгу. Он бросал работу, заготовлял припасы, чинил обувь и, набив котомку рыбой и сухарями и забравши с собой Санку, снова отправлялся на промысел.
Усталые, пробежав двадцать-тридцать верст на лыжах, Барабановы находили свои ловушки пустыми.
— Он, тятя, стороной обошел, — показывал Санка на обходной соболиный следок.
— Вижу, — вздыхал Барабанов и в печали рубил пихтовые ветви, разгребал снег и располагался отдыхать подле костра.
— Хоть бы нам опять гольдский лучок найти, — подговаривался Санка.
— Хитрый же ты, сукин сын, растешь, — ворчал на него отец. — Ты поймай соболя-то, а чужого стащить всякий сумеет.
В неудачах своих Федор в душе винил Бердышова, подозревая, что тот таит от него настоящее устройство ловушек и показывает не то, что надо.
— Может, он шутит надо мной, изголяется или боится передать настоящее правило и только зря меня по тайге гоняет, — предполагал Федор.
На то было похоже. Иван каждый раз просмеивал его за неудачное соболеванье.
— Опять никого не поймал? — с насмешливой уверенностью спрашивал он.
— Ведь и ходил соболь, трогал петлю и стрелку спустил, но не попал, — с досадой рассказывал Барабанов. — Значит, чего-то не так мы настораживаем, — значительно вскидывал он брови. — Не все, что ль, ты мне рассказывал, Иван Карпыч? — Он умоляюще смотрел на Бердышова, словно просил его открыть тайну лова соболей. — Скажи: может, какое слово есть?
Иван лишь посмеивался.
— Прошлый-то раз посчастливилось тебе, это прямо счастье ить! Однако, какой-то соболь дурной был. А то в твои ловушки заместо соболей-то все рябчики, да крысы, да бурундуки попадают.
— Помяни мое слово, Иван Карпыч, все же я этих соболей осилю. Не сойти мне с места! Коли не перейму от людей, так сам, своим умом достигну. Тогда уж засоболюю, — и Федор, меняя выражение лица, спрашивал Ивана ласково и умоляюще: — А может, возьмешь меня с собой на охоту?
— Вдвоем в тайгу идти — охоты не будет. С Ангой хожу — ее тоже в балагане оставляю, или она сама по себе охотничает. Да как с тобой пойдешь? А если вдруг тигра? Не выдашь? У нас, паря, кто товарища выдал — тому пулю. Ты со мной и сам ходить не станешь, а уж я тебе и так все показал! Какой тебе еще холеры надо?
Федор не добился от Бердышова толку и решил ехать к гольдам учиться у них охоте на соболей. Кстати, нужно ему было заехать к китайцу в лавку, отдать лис и десяток белок.
В тихий день, заложив Гнедка в розвальни, покатил он с Санкой в Бельго.
— Еще соболь есть — нету? — спросил его Гао, перебирая привезенные меха.
— Нету, братка, эти дни соболевать я не ходил.
Торгаш знал, что Федор ходит на промысел. Гао даже догадывался, что он взял соболя из чужой ловушки. О том, что делают додьгинские новоселы, лавочнику подробно доносили его покупатели — мылкинские гольды, соседи уральцев. Недавно брат Гао, толстяк Васька, был в Мылках, и тамошний богач Писотька Бельды жаловался, что у него в тайге кто-то разорил самострел и украл соболя. Охотники ходили по следу воришки и достигли додьгинской релки. Подходить к землянкам они не решились, но, возвратившись к себе в Мылки, поклялись при удобном случае отомстить новоселам за все обиды и утеснения, причиненные им в эту осень и зиму.
Бердышова ни гольды, ни китаец не подозревали в воровстве. Все знали, что он охотится, как гольд, и в тайге ничем от них не отличается. Очевидно было, что соболя украл кто-то из новоселов. Гао Да-пу полагал, что это был Федор, незадолго перед этим привозивший ему шкурку соболя. Торговец никому об этом не сказал, чтобы зря не обидеть покупателя, распространив про него дурную весть.
На счастье Федора, между Мылками и Бельго были нелады из-за кражи невесты, и сношений между этими стойбищами не было. Мылкинские сторонились бельговских и своих новостей им не передавали, так что бельговские ничего худого про Федора думать не могли и не знали о краже в тайге.
— Тебе соболь лови не могу, — язвительно и громко заявил китаец.
— То есть как это ты сказал?
— Люди говори: тебе сам лови не умей, тебе шибко хитрый — чужой ловушка трогал.
— Ты что это? — раскрыл Барабанов рот. — Одурел? — криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Чего я наделал!» — с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.
— Ловушку трогаешь — хозяин догоняет и тебя убьет, — наставительно говорил торгаш.
— Не пойму я тебя, — чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.
Лавочник заметил, что вору стало не по себе.
«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, — ободрял себя Федор. — Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».
— Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? — раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: — Ну, ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, — подмигнул он Федору. — Моя все кругом знает — ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, — неожиданно заключил он.
«Силен тут торгаш!» — подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.
Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы запастись пищей и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврике, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появились вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея[29] с китайской водкой.
Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.
Федор подвыпил, и когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои охотничьи неудачи.
— Соболь никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, — привирал он, — кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя — никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.
— Его просто как возьмешь не умеючи-то? — с достоинством, чистым русским языком говорил Удога. — Соболя ловить — учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону…
— Вот, вот, — подхватил Барабанов, — то-то и есть…
— Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, — наставляя на сердце палец, показывал гольд.
— А-а, ишь ты! — приговаривал Федор. — Вот оно что!
— Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, — отец говорит, — плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, — говорит, — никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозится меня убить. Беда, — потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, — горячий у нас отец был. Ну вот… Прошло три дня, на мою стрелку соболь попал. «Ну, слава богу, — отец говорит, — это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»
— Григорий Иваныч, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, — стал просить Федор. — По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дьячку за грамотой.
К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.
Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнущих звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловок, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужику надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидущие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.
Пришел Ногдима, приземистый, пожилой, но еще моложавый на вид старик с плоским темным лицом. Его черные, как смоль, прямые волосы и черные горящие глаза придавали ему вид дикий и жестокий. Глядя на него, живо представлялось, как он, сверкая глазами, гоняет по снегам зверя и, настигнув, бьет его копьем в горло.
Ногдиме перевалило за шестьдесят, но он был еще крепок, и на черном лице его морщин не было видно, лишь еле заметные светлые бороздки легли поперек лба, да слабые морщинки лучились у глаз.
Появился седоголовый, больной глазами Хогота, о котором Федор уже не раз слышал, как об отце похитителя невесты и хозяина медведя, предназначенного в угощение мылкинским. Сын его Гапчи, рослый и здоровенный парень в маньчжурской шапке с бархатным околышем и в красном ватном халате, в который он вырядился по случаю приезда русского гостя, торчал тут же. Еще недавно Гапчи был грозой мужей и похитителем супружеской верности гольдских красавиц. Но после того как он увез из Мылок юную жену богатого старика, он сам стал ревнив и уж более не нарушал счастья и покоя чужих семей.
Явился приятель Удоги — Кальдука, по прозванию Маленький. Скинув лисью шубейку, старичок остался в залоснившемся дабовом халате с серебряными пуговицами и в улах из рыбьей кожи. Его маленькая головка с жалкой пегой косичкой тряслась на слабой шее, круглое желтое личико Кальдуки с мелкими расплывчатыми чертами выражало легкомыслие и беззаботность, движения были мягки и округлы. Улыбаясь и кивая головой, он подал Федору маленькую руку в кольцах и присел против него за столик.
Кальдука был вечным нахлебником Удоги. Про него говорили, что он прожил жизнь чужим умом. В юности он был парень как парень, только не удался ростом. Старики женили его неудачно, купив ему по дешевке вдову. Она оказалась женщиной грубой, терзала Кальдуку ссорами и капризами, всю жизнь воевала с ним из-за нарядов. Первый ее ребенок был мальчик, но впоследствии она рожала только девочек. Сын Кальдуки погиб уже взрослым на рыбалке, и старик остался в большой семье единственным охотником. Жил он бедно и небережливо. Выдавая подросших девочек замуж, он ненадолго богател, но вещи и ценности, полученные в калым, живо переходили от него к торгашам.
При удаче Кальдука любил попьянствовать, вкусно поесть. Не думая о будущем, он ловил удобный случай, чтобы набрать у торгашей как можно больше товаров, и вечно был в неоплатном долгу. Выручать же его приходилось Удоге или другим сородичам, которые по доброте не могли отказывать ему в помощи, хотя и попрекали потом Маленького в расточительности, в лени, в неумении жить. Впрочем, на Кальдуку эти попреки давно не действовали. За долгую жизнь он привык и к помощи родичей и к их попрекам и надеялся на них больше, чем на себя.
Федор вспомнил, как Иван Карпыч однажды, рассказывая ему про причины бедности гольдов, помянул про Маленького. По его словам выходило, что туземцы могли бы жить и лучше и богаче, не будь среди них таких мотов и бездельников, как Кальдука, привыкших жить попрошайничеством, разоряя зажиточных сородичей.
Охотник Кальдука был приметливый, но не крепкий. В добыче он отставал от других, да у него и не было никогда надежды прокормить промыслом себя и всю свою семью. Обыкновенно его забирали с собой в тайгу хорошие охотники, чтобы он вел их хозяйство в балагане и готовил пищу. За это давали ему часть добычи. Зато летом Кальдука блаженствовал. Женщины работали за него на рыбалке от шуги до шуги.
Приплелись древние старики, знакомцы Федора: горбатый Бата и слепой Бали.
Вскоре вернулся Савоська, ездивший на собаках на другой берег ловить рыбу в прорубях. Еще задолго до того, как он переступил порог, слышна была его русская брань и удары палкой по собакам. Айога побежала распрягать воющих псов, и вскоре в облаках пара появился Савоська, небольшого роста, сухой и сутулый, в заиндевелой, словно заросшей белым мхом, одежде.
Он быстро скинул с себя заиндевелые кожаные обутки и живо отсыревшую в тепле куртку и, вскочив на кан, начал кашлять долго и хрипло. Кашель, вылетая со свистом из простуженных легких, сотрясал все его щуплое, жесткое тело. Наконец Савоська откашлялся, коротко кивнул головой Федору и, подсев к коротконогому столику, стал пить маленькими глотками водку из чашечки и жаловаться на боли в груди. Застывшее тело старика бил озноб, его маленькие жилистые руки дрожали.
Удога заговорил с братом по-своему, часто упоминая слово «лоча». Остальные гольды пыхтели трубками и лишь изредка прерывали беседу братьев короткими замечаниями. Федор печально слушал гольдов и уж собирался было повторить свою просьбу, когда Удога вдруг обернулся к нему и сказал:
— Вот братка завтра сведет тебя в тайгу, все покажет, он все знает.
Переходя с гольдского на ломаный русский язык, туземцы заспорили между собой, куда и как лучше повести Федора на охоту.
Каждый называл какое-нибудь место: ключ, сопку или падь. Так проспорили они долго, а Федор только удивился, как добродушны и покладисты эти свирепые на вид люди. Спорили они горячо, и каждый, по-видимому, от души хотел удружить ему. И удивительно было Федору, что в их добром отношении к себе он не замечал никакой корысти.
Между тем Санка, наевшись чумизы, откинулся к стене и, устало полузакрыв глаза, с любопытством следил за Савоськой. Разморясь в жаре и непривычно насытившись, сынишка Барабанова давно бы уснул, если бы не этот живой и шутливый старик, иногда смешно коверкавший русские слова. Однако Санка был недоволен, что именно Савоська — больной, иззябший и уставший старик — поведет их в тайгу. Он совсем не казался ему хорошим охотником.
Когда же Савоська подвыпил и стал ругаться по-русски и хохотать надтреснутым смешком, переходившим в кашель, Санке показалось, что смеется он нарочно, только чтобы позабавить народ, и ему стало жалко старика.
«Какой чудной этот Савоська!» — подумал Санка, засыпая. Шум голосов стал отплывать. Санка пошел куда-то по лесной тропинке за Савоськой, потом плавно и мягко провалился куда-то в пропасть и вскоре забрался так далеко, что возврата оттуда не было.
Наутро Савоська разбудил Барабановых затемно. Собирая свой охотничий припас, он проворно бегал из фанзы в амбар, переодевался в белую охотничью одежду из лосиных шкур, лазил под крышу, вскакивал на кан и все чаще тяжело кашлял.
Охотники собрались быстро и молча, надели котомки, ружья, вынесли на снег лыжи. Савоська кликнул свою лохматую подслеповатую собаку, и все трое тронулись по бельговскому распадку к седловине.
Собака сильно прихрамывала и время от времени прыгала на трех лапах, держа левую переднюю на весу.
— Что это с ней? — опросил у гольда Санка.
— Медведь ей лапу ломал. Потом шибко мороз был, она мало-мало больной лапа отморозила. Такой другой собаки нигде нету, она все понимает, как человек, только говорить не может.
За день Барабановы пробежали за Савоськой верст двадцать. Гольд привел их к зарослям стелющегося кедра у вершины каменистого хребта. Через ущелье видно было, как далеко-далеко за складками сопок белой равниной расстилался Амур.
— Тут соболь живет в норе. У него своя дорога есть, он только по этой дороге всегда ходит. Белку, мышь сам убьет, сам таскает и сам кушает. Вот его дорога, смотри, — показывал старик на соболиные следы. — Шибко далеко этот соболь не ходит, по своей сопке ходит. На большой сопке три пары живет, на маленькой — одна пара бывает.
Старик закреплял на расщепленном деревце лук с прикладом так, что он туго натягивал тетиву. К прикладу он прикрепил вязку из конских волос. Клубок таких вязок вместе со свитками волос и с оленьими жилами гольд хранил в особом мешочке. К тропке соболя спускались сверху несколько волосков. Концы их на уровне соболиной грудки перехвачены были малым волоском, который чуть заметно ложился поперек тропки.
— Соболь бежит, — говорил Савоська, — этот волосок тронет, стрелка его убьет. — Гольд тронул волосок палкой, тетива сдвинулась, стрелка с силой воткнулась в сугроб, а лук закачался на ветке.
Самострелы Федор с грехом пополам сам умел делать, но хитрость была в точном прицеле стрелы на грудь зверька и в поперечном волоске, который следовало наводить так, чтобы он был незаметен соболю. Федору казалось, что он уже постиг тайну устройства самострела, но грубые руки его никак не могли точно навести поперечный волосок.
— Ничего не понимаешь! — сердился Савоська. — Зря с тобой хожу. Ты все равно, какой был, такой и есть!
— Дай-ка, тятя, — вызвался насторожить самострел Санка.
Ловким ударом топора он расщепил елку, зажал приклад, навел стрелку на тропку, наладил волосок и обратил шустрые глаза к Савоське, как бы испрашивая у него одобрения.
— Соболь если попадется, тогда узнаем, молодец ты, нет ли, — произнес гольд и, оставив лук, побежал дальше короткими шажками, переваливаясь с лыжи на лыжу.
Лучки он делал на ходу. Видя след какого-нибудь зверя, он обегал растущие поблизости ели, разыскивал на них природные изгибы, обращенные к, северу, быстро вырубал из них луковины и натягивал их, перевивая концы оленьими жилами. Следуя за ним повсюду, Санка стал отличать деревья, годные для поделки лучков.
Вечером под ветвями огромного старого кедра охотники разгребли снег и развели костер.
В тайге было тихо. Огонь освещал красноватую кору кедра, несколько лип на увале и лыжи, стоймя воткнутые в сугроб.
Савоська сказал, что не признает никаких балаганов, так что Федору и Санке предстояло дремать всю ночь, привалясь к кедрине и поворачиваясь к костру то одним боком, то другим.
Гольд сидел на корточках близко к пламени и жадно грыз сухую юколу, разрывая ее пальцами и зубами. Отогревшись, он снова удушливо закашлял, дрожа всем телом. У ног его бежала хромая Токо и облизывала свою черную уродливую лапу. Время от времени Савоська давал ей кожу от юколы. Собака жадно хватала ее и мгновенно проглатывала. Изредка она оборачивалась к Санке, и тот, заигрывая с нею, совал ей в морду тугую сохатиную рукавичку. Токо урчала и скалила на парнишку свои крупные волчьи клыки, а тот улыбался умильно и поглядывал на отца, не то опасаясь, что Федор рассердится, не то приглашая его порадоваться.
— Бродяга-медведь ее лапу совсем испортил, — сетовал Савоська. — Когда самый мороз был, его кто-то напугал. Медведь берлогу бросил, пошел кругом. А я его встретил и погнал. Зверь шибко злой был, как хунхуз! Медведь тоже бывает хунхуз!
Отбиваясь от собак, зверь хватил лапу Токо зубами. Собаке грозила смерть, если бы Савоська в тот же миг не вонзил в сердце медведя пику.
— Тебе тоже хорошую собаку надо, — назидательно говорил гольд.
— Вот то-то и оно! Да где ее взять?
— Учи, сам учи, собака все может понимать. Она — как человек. Наши старики говорят, что собака раньше давно-давно человеком была, только теперь у нее шкура другая. Медведь тоже был человеком. Ночью ты спишь, а он ходит. Тигр, говорят, тоже был человеком. Такие разные сказки есть, — таинственно продолжал он. — Кто на охоту ходит, должен знать. Друг другу рассказывать. — Старик засмеялся и повесил голову. — Буду тихо говори, тут в тайге хозяин скоро чертей гоняет… — Сайку мороз продрал по коже. — Тут не шибко хорошее место. Старики говорят — тут дурное место, тут амба исиндагуха бывает. Знаешь, что такое амба исиндагуха? Это обход. Черти караул несут, как солдаты в Миколаевоком, и делают обход тайги. Надо всю ночь сказки говорить, тогда ничего.
Гольд достал из-за пазухи лубяную коробку с табачными листьями, набил дрожащими руками трубку и закурил.
«С этими соболями не без нечистого, чуяла моя душа! — думал Барабанов. — Ванька Бердышов, будь он неладен, однако, гольдяцким божкам в тайге молится. То-то и не хочет с собой никого брать, стыдно ему».
— Савоська, — задушевно, как бы по-приятельски, заговорил он, стараясь придать своему голосу побольше ласковости, — вот ваши говорят, надо в тайге черту угощение ставить. А мне не надо бы этому Позе[30] кланяться, лучше бы мне своему богу помолиться. Чужой-то мне ни к чему. Это ведь грех по-нашему. Ты сам крещеный, должен понимать.
— Тебе соболь надо — нет? — вдруг закричал Савоська, вскакивая на кривые ноги. Обутые в белые олочи,[31] они были как тонкие кривые березки. — Зачем говоришь? В тайгу ты зашел, соболя тебе не надо?
«Шаманом, что ль, обернулся, пугает, сверлит глазищами-то… Индо, черт с ним… помолиться, как велит», — испугался Барабанов.
— Тебе Позя молись — завтра твой лучок будет соболь, — твердил гольд.
«Кабы, правда, поймать бы соболя, черт его бей, — помолился бы, пустяки это, конечно. Но, шут его знает, вдруг не помолишься и добычи не будет?» — раздумывал Федор.
— Ты верно ли знаешь, что соболь поймается? — подловато глянул он на гольда, как бы торгуясь с ним.
— Давай скорее, хлеб у тебя есть — хлеб кидай, все равно сухари можно. Говори: «Мне соболя давай!» Проси его как надо, сам думай, чтобы хороший охота была.
«Разве рискнуть? — подумал Федор. Но ему неловко было перед сыном отступаться от закона. — Да и беда будет, если поп узнает на исповеди — епитимью наложит».
— Молись, тятька, — вдруг шепнул Санка, которому до страсти хотелось отличиться и найти зверька в своей ловушке.
— Ах ты, бесенок! — отпрянул от него отец. — Тебе бы только соболя, с малых лет рад от всего отступиться.
Беседа прекратилась. Санка еще немного повертелся у огня и, наконец, задремал сидя. Голова его то и дело клонилась к пламени, он вздрагивал и просыпался, каждый раз испуганно тараща глаза на огонь. Вскоре Санка уснул крепко и, не в силах держаться, повалился на пихтовые ветви, уткнулся лицом в рукав и захрапел.
Раздумье брало Федора. И хотя он уверен был, что Санка правильно нацелил стрелку и зверек не минует засады, но все же казалось ему, что дело тут нечисто, недаром в такой тайне хранит время ухода на промысел Иван, недаром ему, Федору, до сих пор, несмотря на все старания, не попался ни один соболь. Опять же и россказням Савоськи веры не было. «Чего-то он тут хитрит, однако, не такой он чудак, как прикидывается… То говорил „тихо надо“, какой-то обход чертей, сказывал, будет, а потом сам разорался». Подумав так, Федор было осмелел и хотел пошутить над Савоськой, чтобы дать ему понять, что понимает, как он хочет обморочить его. Но вдруг Савоська задрожал, отложил трубку и, обернувши к Федору перекошенное от ужаса лицо, показал на поднявшиеся уши собаки. Токо насторожилась.
«Шут его бей, где наша не пропадала!» — подумал Федор. Он достал ломоть черствого хлеба и протянул гольду.
— Брат Савося, ты лучше меня это дело знаешь, давай-ка помолись… Чего дивишься? Кидай своему Позе, — он подмигнул гольду.
— Как хочешь, — вдруг сказал Савоська. Он сел к Федору боком, не глядя на него, и стал курить, сплевывая через плечо. — Чертей в тайге нет! Я в них сам не верю. Кто хочет быть хорошим охотником — про чертей думает, поверит и на них будет надеяться, а не на себя! Обязательно поймает зверя! Люди — трусы! Тьфу! — злобно плюнул он. — Ты думаешь, Федя, я верю в Позю? Я сам не верю? Правда! А ты уж, я вижу, струсил. Неужели собрался молиться Позе? Эх, Федька… Тьфу! — повернув лицо к лесу, громко плюнул он еще раз. — Тьфу на всех чертей! Вот так надо. Ни черта не бойся! Мой отец был шаман, и его обманули. Я сам шаманство знаю… Но ты не верь… Ха-ха-ха!.. — покатился со смеху Савоська, видя недоумение Барабанова.
Токо опять насторожилась.
— Кто-то ходит! Позя сердится, зачем кричим…
— Свят, свят! — перекрестился Барабанов. — Аминь, аминь, рассыпься! — ограждался он крестным знамением.
Гольд и мужик прислушались. Гольд вскоре успокоился, поднял трубку и снова закурил, все время искоса поглядывая на Федора.
Стояла такая тишина, что слышно было, как приливает к ушам кровь. В ее прибое можно было вообразить и отдаленное грохотанье телеги, и вой зверей, крики птиц, стук топора, и даже церковный колокол, казалось, звонил то отходную, то к обедне. Федор старался убедить себя, что все это лишь морок, но все же тревога не покидала его.
— Ох, беда, намаешься с этими соболями! — вдруг тяжко вздохнул он.
Глава девятнадцатая
Как ни велика тайга-матушка, но и в ней человек с человеком встречаются. На четвертый день охоты, под вечер, Иван Карпыч набрел на чужой балаган.
«Это, однако, Родион Шишкин промышляет. Ага! Он мне давно нужен». Для начала Бердышов решил подшутить над старым знакомцем.
— Здорово, Родион! — неслышно подкравшись и заглянув в балаган, гаркнул Бердышов.
Залаяла собака.
— Уф, спугал! — Шишкин обронил котелок с похлебкой. От пролитого горячего балаган внутри застлало паром. — Слышишь, Ванька, брось шаманить — сердце оборвется.
— А где тут шаманство? Ты, однако, задумался, вот и не слыхал.
Бердышов залез в шалаш и стал снимать с себя ружье и мешок.
— Ну, я-то задумался, а кобель-то мой тоже, что ль, задумался? — ворчал Шишкин, собирая с пихтовых ветвей куски горячего мяса и складывая их обратно в котелок.
— Чудак, я тебе скридал, подкрался, как к сохатому. Я сегодня лося этак достиг, даже видал, как он глазами моргает. Вот вплотную подходил, как к тебе. Зверь и то не слыхал, а ведь твою-то собаку я знаю, завсегда ее обману. Однако, ты ее голодом держишь, она тебе в рот смотрела, я и подкрался.
— Варево из-за тебя пролил…
— Ничего, — успокаивал его Иван. — Не серчай, сохатина есть, — кивнул он на окорок, подвешенный к суку березы, подле которой налажен был балаган. — Еще наваришь. Надо же маленько и пошутить, а то вовсе в тайге одичаешь, зачумишься с кручины.
Родион долил котелок и поставил на огонь. Это был широкоплечий мужик среднего роста, лет сорока. Грудь у него колесом, лицо обросло темной шелковистой окладистой бородой. Он был жителем ближайшего до Додьги сельца, основанного несколько лет тому назад тамбовскими выселками на устье горной реки Горюна. Родион быстрей всех тамбовцев освоился на новоселье и, сдружившись с гольдами, вскоре стал в своей деревне лучшим охотником.
— Ты как, Родион, по тайге один ходить не боишься? — спросил Бердышов, пуская табачный дым к очагу.
— А кого мне бояться? — отвечал Шишкин, почесывая толстый угреватый нос. — Если мишка встретится, так он меня сам боится.
— Нет, паря, блудне[32] не попадай.
— Я никогда товарищей не беру. Наши, знаешь, какие охотники!.. Пристанут: «Пойдем да пойдем вместе!» А я им: «Не пойду совсем». А сам чуть свет уйду в тайгу. А ты сохатого где оставил?
— Нигде не оставил. Удул он от меня.
— Кхы-кхы-кхы-кхы, — сотрясаясь от сдавленного смеха, расплылся Родион во всю бородатую рожу. Его большие уши задвигались. — Кхлы-кхи-кхи-кхи, — не разжимая крупных желтых зубов, издавал он сдавленные, хриплые звуки.
— Подхожу я к нему, лежит он на боку, глазами моргает. Шерсть-то на хребте прямая, стоит, а я думал, бок. Как выстрелил, а он ка-ак вскочит…
— Кхл-кхл-кхл, — смеялся Родион.
— Я между двух лип сжался. Не знаю, как остался жив. Маленько он меня рогами не саданул. Истинная правда!
На большом огне ужин сварился быстро. Охотники уселись возле котелка, хлебая варево деревянными ложками.
— Ну, как твои пермские новоселы, живы-здоровы? — спросил Родион.
— Как всегда. Покуда баба да старик оцинговали.
— Ну, это еще полбеды. Наши-то, вятские, которых за протоку нынче населили, почитай что все цингуют. И что эта цинга на них наваливается, не пойму. Наши старухи им бруснику и клюкву таскают. Им теперь хорошо: есть к кому за помощью обратиться. А каково нам было? Как пришли да оцинговали, а ни помощи, ни совета спросить не у кого. К гольду, бывало, придешь, так он и денег не берет, не понимает их, а дай ему тряпочек. А хлеб пожует, пожует, да — тьфу! — выплюнет его.
— Наши-то лес очищают, пашни станут на релке пахать и на острове. На них глядя, я тоже запашу.
— Без коня-то? — ухмыльнулся Родион.
Иван ничего ему не ответил и только пошевелил лохматыми бровями, словно собирался напугать Родиона, но потом раздумал.
— А зверей-то промышляют они? — спросил Шишкин.
— Помаленьку! Не знаю, скоро ли привыкнут. Они сказывают, что раньше этим занимались у себя на старых местах.
— Конечно, сперва-то трудно. Вон наши вятские! Нашли берлогу в горе. У всех кремневки, да была еще пешня. Они ее накалят — да в берлогу. Пока несут, она остынет. Медведь убежал — ни одна кремневка не выпалила.
— А ты уж обжился на Амуре, не вспоминаешь свою Расею больше?
— А чего мне ее вспоминать? Как мы с отцом помещику да соседям землю обрабатывали да из кабалы никогда не выходили? Да веники помещику ломали, он нам по десять копеек платил. Нищему-то чего вспоминать? Я тут как родился. Тут место лучше, чем там.
После ужина Шишкин стал выпытывать у Ивана, каким способом он неслышно подкрадывается к сохатому на близкое расстояние. Все тамбовские охотники считали Ивана человеком, знающим тайны тайги.
— Это надо уметь, — уклончиво отвечал ему Иван. — Ты попробуй сам, своим умом дойди.
— Откроешь, как скрадывать, я тебя, Иван Карпыч, уважу. Ну, сказывай, как скридаешь?
— А тебе какое дело? — полушутя ответил Бердышов.
Впрочем, если бы Иван Карпыч и захотел, он, пожалуй, вряд ли смог бы толком рассказать, как он подкрадывается к сохатому. Тут во всем: и в умении определить, где и как лежит зверь, и в умении подобраться к нему тихо и быстро из-под ветра, и в каждом движении была у него выработана звериная же сноровка, которую он мог выразить лишь приблизительно.
— Ну, ты чего рассерчал? Словно третьяк,[33] на меня глядишь! Истинно третьяк и третьяк, лоб позволяет и взгляд тоже.
— Сам-то ты третьяк, шаман, — недовольно ворчал Родион.
— Башка у тебя крепкая, как камень, — шутливо сказал вдруг Иван. — Я когда-то видал, как богатые монголы с тоски башками стукаются. Сидят в юртах — жирные, поперек себя толще, чумные от безделья, нажрутся баранины и давай. Башки здоровые, как треснутся друг об дружку, как орехи колют. — Иван, подсев к Родиону поближе, вдруг изо всей силы стукнул его своим лбом по голове.
Шишкин загоготал, поймал Ивана за руки и, размахнувшись головой снизу вверх, угодил ему затылком в висок.
— Ну, синяк посадил! — еле вырвавшись, ухватился Иван за голову. — Твоей башкой дрова колоть или свайки у гольдов под амбары забивать. Из такой башки и дума не выйдет! Больно! — по своей привычке хитрить он разыгрывал из себя побитого. — А ты что думал, когда один сидел? — отталкивал он наседавшего Родиона.
— А что? — Родион остановился на коленях. — Одному-то, поди, тоскливо иной раз, — признался он и, ободренный шутками Ивана, снова стал подбираться к нему.
— Ну, не лезь, вали, вали! Убьешь еще. — Иван шлепнул тамбовца ладонью по лбу. — Разъярился, как тигра… Ну, слушай, я тебе про сохатого скажу, — заговорил он, видя, что обида у Родиона прошла. — Это надо знать, как скридать сохатого. Много я и сам не знаю. Скридаю, как могу. — Он набил в трубку табачных листьев из Родионовой коробки и глубоко затянулся. — А как скрадывать, ты спроси у тестя моего Григория, он тебе скажет. Он это понимает лучше меня.
После горячего мясного ужина табачный дым завеселил охотников. Иван вытянул к очагу ноги и, облокотившись, прилег на сохатиную шкуру, служившую Родиону подстилкой. На низком потолке из корья пятнами мерцали отблески пламени. Дым от очага тянуло в отверстие крыши. Балаган был дырявый, но от большого огня и от сытного обеда охотникам стало так тепло, что Родион, подсев к Ивану, скинул куртку и остался в одной легкой рубашке. Собаки, уничтожив остатки пищи, тесней прилегли к охотникам. Родион еще подкинул в огонь смолистых лиственничных поленьев. На минуту показалось, что очаг угасает, но вскоре поленья разгорелись, начали стрелять искрами в потолок и в стороны, пламя вспыхнуло еще ярче.
— К сохатому подходить надо с тыла. Он, когда идет, поворачивается и ложится головой сюда же, откуда шел, и замечает под ветками твои ноги. Это охотник должен знать. Должен сбоку скрадывать его. Он, откуда шел, туда и смотрит. А подходить надо с тыла и сбоку. А когда подкрался, пали — и все… Беда, — неодобрительно покачал он головой, вспоминая свою утреннюю встречу с лосем. — Ка-ак он дунет в чащу, даже тайга загудела.
— Тебе на ночь дрова рубить? — вдруг весело воскликнул Родион, подмигнув Ивану. Он понял, что Бердышов никаких тайн ему не откроет, а лишь зря будет говорить. — Иди ищи сухую листвянку, — и он потянул Ивана за ногу, обутую в унт.
— Эй, ты, обожди, куда тащишь…
— Кхл-кхл, — скалил зубы Родион.
Он стянул Ивана со шкуры на валежник и сам улегся на брюхо боком к огню. Иван, в свою очередь, потянул его за ноги. Мужики разыгрались, как ребята, стали мять друг друга и возиться на шкуре, перепугали собак и чуть не свернули балаган. Иван свалил Родиона чуть не на очаг и подпалил ему бороду, а Родион ловко сдернул у него с левой ноги унт и выбросил из балагана далеко в снег. Ивану с босой ногой пришлось лазить по рыхлым сугробам. Собаки опередили его: Смелый притащил обутку.
— Как медведи в берлоге, расходились. Ну, будет, будет! — возвратившись в балаган, предупредил Бердышов, видя, что у Родиона опять заиграли глаза. — Ты здоровила какой, как амба,[34] верткий, хвоста только не хватает, а то бы я тебя за хвост.
Шишкин все же вцепился Ивану в ляжку, но тот вырвался, схватил топор и убежал из балагана рубить дрова.
Дважды принес он по большой охапке и, уложив их у входа, стал готовиться ко сну.
Родион притих и задумчиво смотрел на пламя, почесывая толстый угреватый нос.
— А что, Родион, — спросил его Бердышов серьезно, — ты с соседями дружишь?
— С какими соседями? С русскими али с гольдами?
— С горюнскими. Ты сказал мне, что они тебе друзья. Видишь, наши гольды сказывали мне, что в Мылках был недавно маньчжурец Дыген. Не слыхал ты? А оттуда он будто проехал к вам на Горюн.
— Как же! Это я знаю, — нахмурил Родион брови.
— Гольды божатся, что он их опять грабит.
— Да ну-у?.. Скажи, пожалуйста! Ах, язви его в душу! — воскликнул Родион.
— Как бы отсюда отвадить? Разоряют они гольдов, портят их. Покуда этот Дыген где-нибудь поблизости, гольды сами не свои. А начальство наше пропускает. Зимой сидят они у себя в Софийском, жарят в карты, водку пьют, а лед пройдет, приедут на пароходах и начинают кричать. Нет того, чтобы нойону хвост прищемить. Теперь маньчжурец с товарищами, как я слыхал, пошел нартами на Горюн. Там им раздолье. А с Горюна по озерам пойдет к тунгусам. Поймать бы этого Дыгена! — вздохнул Иван, залезая в меховой мешок. — Я давно на него зуб точу.
Закрыв глаза, уставшие за день от напряжения, он стал рассказывать про свою ночную встречу на Амуре.
— Был я хмелен, мы в Бельго у китайцев водку пили. Я в потемках-то не разглядел, кто едет. Если бы знал верняком, что это был кривой маньчжурец, я бы сгреб его и отвез в Софийск, душу бы из него вытряс.
— Вот ты мне что скажи: почему опять Дыген сюда ездит? Ведь он уж стар, ему бы дома на печке сидеть.
— Дыгену туго приходится. Он в карты играть любит. Продуется в пух и прах, все проест, пропьет и едет на русскую сторону за мехами.
— Старый кот, по горшкам ловко лазает!
Охотники еще немного потолковали, и вскоре в балагане наступила тишина. Изредка лишь слышно было, как рушилась в очаге подгоревшая головешка да измученные собаки вздрагивали и стонали во сне. Очаг угасал понемногу. Становилось темно.
Шишкин заворочался в своем мешке.
— Ты не спишь, Родион? — поднялся вдруг Иван.
— А что?
— Че-то тебя спросить хочу, выглянь.
— Ну, чего тебе? — приоткрылся взлохмаченный тамбовец.
— У тебя, однако, дружки-то среди гольдов есть?
— А тебе на что?
— Ты знаешь, каких Дыген с озер соболей вывезет: черных-черных, один к одному. Таких нет у нас. Он через озера да через хребты пройдет, везде побывает и на Амгунь сходит. Соболя там якутские. Пойдет он обратно, вот бы когда нам с тобой подкараулить его. Тебе бы ловко можно поймать его, ведь ты от Горюна недалеко живешь.
Тамбовец молчал и чесался яростно, по-видимому о чем-то раздумывая.
— А я тебе подход ко всем зверям открою, подумай-ка! Всех охотников на Амуре превысишь, богачом станешь. Сохатого скрадывать научу.
Иван давно искал случая разбогатеть. От охотничьего промысла или от меновой торговлишки нечего было и думать нажить богатство. Застрелить кого-нибудь из русских или здешних китайских торгашей — не оберешься потом разговоров. Верней всего было, как он полагал, ухлопать Дыгена, который жил в Маньчжурии и сюда ездил тайно. Дыген был маньчжурским дворянином и в старое время совершал поездки в пустынные, неразграниченные земли. Когда-то, как рассказывали гольды, он приехал впервые и привез всем подарки: кому чашку, кому халат, кому безделушки. За подарки он потребовал соболей. С тех пор он часто являлся в сопровождении вооруженных слуг и заставлял туземцев платить ему как бы род дани.
Теперь он, пользуясь темнотой местных народов, все еще совершал тайком свои поездки.
Иван полагал, что убить Дыгена — верное средство разбогатеть. А Китай не может потребовать расследования, если слух об убийстве дойдет туда. Это значило бы признаться, что маньчжурские чиновники разрешают за взятки такие грабительские походы на русскую сторону. Здесь же за убийство Дыгена, который страшно терзает гольдов, все будут благодарны.
Но Бердышов знал: одному ему не перестрелять целый отряд маньчжурских разбойников. Следовало найти спутников. Родион — смелый человек, хороший стрелок. «Если не поддастся уговорам, найду что сказать, все равно пойдет со мной», — подумал Иван.
Бердышов, не ожидая, что ему ответит Родион, оставил его в раздумье, а сам закутался с головой. Вскоре из мешка послышался его густой храп.
Наутро Иван дружески распростился с Родионом и, ни словом не обмолвясь о вчерашнем разговоре, двинулся в обратный путь. День выдался ветреный и морозный. До вечера крутила метелица. Ночь Иван провел, забравшись в дупло старой ели, а наутро снова двинулся в путь. Ветер все крепчал, временами несся снежок. К полудню, когда Иван достиг Косогорного хребта, идти на лыжах стало легче, начались гари. Здесь свежие снега были крепко убиты ветрами.
На Косогорном у Ивана были расставлены сторожки на соболей, и он полез наверх проверять их.
Один из самострелов, к его удивлению, оказался разоренным. Пойманный соболь был украден. На снегу лежала окровавленная стрела, под бугор, в горелый ельник, ушла лыжня.
Бердышов понял по следам, что вор был недавно, и погнался за ним. Он бежал, распахнув меховую куртку и не замечая холода и резкого ветра. Лицо его горело, и лоб под сохатиным мехом истекал потом.
Открытой грудью рассекая морозный вихрь, Иван мчался по уклонам так, что мимо лишь мелькали стволы горелых лиственниц.
Еще больше обозлился он, когда следы свернули по пади к Мылкинскому озеру. Недолго думая, Иван помчался прямо в Мылки.
Глава двадцатая
Стойбище Мылки было расположено на берегу одноименного озера, которое представляет собой обширный залив Амура, простирающийся в глубь тайги. На северном берегу его в переломанных зарослях чернотала, подле глубоких проточек в заветные озерца, кишащие рыбой, приютились жилища гольдов.
Жгучий мороз рвал и метал над широким снежным простором. За тайгой синели округлые купола дальних сопок, и синие же дымки из труб стойбища метал ветер у подножья леса.
Там, где под берегом из сугробов торчали острые носы и дощатые борта плоскодонных лодок, Иван взобрался по крутому яру наверх. Перед ним желтели мазанные глиной приземистые лачуги. Со всех сторон затявкали, лениво сбегаясь, своры тощих собак. Иван крикнул на них, псы отстали. По свежей лыжне он направился к длинной лачуге с окнами, завешенными снаружи вздрагивающими от ветра шкурами кабарги. Шагах в двадцати от фанзы из высоченного сугроба обильно дымилась деревянная труба, сделанная из полого дуплистого дерева. Подле самой лачуги стояли малые амбарчики на свайках. Под ними виднелись нарты, шесты, палки. На пустых вешалах ветер раскачивал тяжелые связки обледеневших берестяных поплавков.
«Давно я тут не был!» — подумал Иван. Сняв лыжи, он с силой толкнул обледеневшую дверь и вошел в фанзу.
Внутри было полно народу. На просторных канах сидели, поджав ноги, старики гольды и обильно дымили трубками. Картина была знакомая. Все присутствующие слушали со вниманием сухого старика с седой плоской бородой и жесткими, колючими глазами. Не прекращая своей речи, старик враждебно посмотрел на вошедшего Ивана.
Бердышов узнал его. Это был хозяин фанзы Писотька Бельды.
У очага хлопотала его дочь, горбунья с прекрасными черными глазами и уродливо тонкими ногами, которые, казалось, вот-вот не выдержат тяжести тела и подломятся. При виде Ивана на ее полных красных губах заиграла недобрая улыбка.
Рядом с Писотькой Иван заметил лысину Денгуры, бывшего родового старосты. Тут же сидели многие другие гольды, хорошо знакомые Ивану, но все они делали вид, что не замечают его и со вниманием продолжают слушать пискливый голосок хозяина.
— Батьго, — тихо поздоровался Иван, как бы не желая нарушать беседу.
Он скромно присел на край кана и стал дожидаться окончания разговора.
Речь шла о том, что надо высватать невесту сыну хозяина.
«Жених-то, верно, и стянул у меня добычу», — подумал Иван, глядя на бойкого, рослого, широкоплечего хозяйского парня, не похожего на гольда.
Писотька был одним из коренных жителей Мылок. На другой год после оспы, уничтожившей старое богатое стойбище Мылки, он возвратился на родное озеро и первым построил себе большую фанзу. К нему переселился Денгура, а потом и все другие мылкинские, оставшиеся в живых после мора.
Писотька был богат. По стенам на деревянных гвоздях висели белые овчинные шубы, ватные халаты, на нарах высились разноцветные свертки шелков; на двух очагах стояло множество чугунной посуды. Повсюду были расставлены искусно сделанные берестяные короба, ломившиеся от всякого добра.
Иван слыхал от Гао Да-пу, что Писотька дает убежище маньчжурам, тайно приезжающим на Амур, и ведет с ними торговые дела. Гао Да-пу не дружил с Писотькой, чувствуя в нем соперника. Не любил бельговский торговец и маньчжуров. Китайские купцы и раньше всегда подговаривали гольдов не давать им меха. Но торговцы лишь втайне противодействовали Дыгену.
У себя на родине они были целиком во власти маньчжуров, а поэтому при случайных встречах с ними на Амуре вели себя внешне покорно, любезно и гостеприимно, опасаясь, что те на родине всегда могут беспощадно расправиться с ними.
В одном лишь, как слыхал Бердышов, несчастен был гольдский купец Писотька: стоило какой-нибудь из его трех жен родить мальчика, как тот вскоре умирал. Большак же его, которого он собирался женить, не был ему сыном. Смолоду его старшую жену забирали к себе маньчжуры, и после того в срок она родила парнишку. Старик хотел иметь своих сыновей, но, как ни старались шаманы и знахари, дети не выживали. На этот раз младшая жена Писотьки качала в углу лубяную зыбку, закрытую тряпкой, и старательно и громко называла младенца девочкой, что означало, как понимал Иван, что под тряпкой у нее лежит мальчонка.
«Боится, чтобы черт не утащил парня, — подумал Иван, — на девку его переделала. Это уж гольдяцкая хитрость известная…»
Между тем гольды смолкли. Им самим до смерти хотелось узнать, зачем явился Бердышов. От любопытства у них разговор про сватовство не ладился. Старики умолкли и стали поглядывать на него.
Иван поднялся. При виде жесткого и злого лица Писотьки в нем вспыхнул гнев. Какая-то сила так и толкала его схватить хозяина за глотку и рассчитаться с ним тут же, при всех. Иван негодующе, но довольно сдержанно спросил по-гольдски хозяина, зачем он украл из его ловушки добычу.
Ропот пробежал по канам.
— Следы вора привели к твоему дому. Ловушка была разорена сегодня, и я пришел по свежему следу.
Густые клубы дыма окутывали изможденные лица гольдов.
Вскочил Денгура, продувной торгаш и говорун. Это был тощий высокий старик с лысой головой и худым скуластым лицом. Он еще сохранил живость ума и красноречие. Все более и более возбуждаясь, он стал доказывать Ивану, что «лоча», поселившиеся на Додьге, сами воры и что во всех неладах виноваты они сами.
— Осенью Улугу стал там рыбачить, а один мужик напал на него, отобрал невод и хотел его побить.
— В плечо меня ударил, — поднявшись, робко подтвердил Улугу, кривоногий гольд с плоским лицом. — Я ловил рыбу, русские у нас отобрали бредень!
— А зачем вы сено растащили? — спросил Иван.
— Ну что, Ваня, разве травы жалко? — с кроткой укоризной спросил Улугу.
Гольды наперебой заговорили, обвиняя новоселов в разных поступках.
— Недавно кто-то из них украл из нашей ловушки соболя! — завизжал хозяин фанзы, пуская в ход последний и самый веский довод. — Вы нашего соболя украли, а мы — вашего. Теперь в расчете.
Присутствующие засмеялись.
— Мы тебя в краже не виним, на другого человека думаем, — заметил Денгура, который был осторожнее других мылкинцев и не хотел зря обижать Ивана.
— Откуда же ты знаешь, что соболя взяли наши? — грубо спросил Бердышов Писотьку, уставившись на него исподлобья, как бык.
— Мы тоже по лыжне вора ходили, — сердито ответил гольд. — К вашей деревне вышли… Не знаю, кто теперь нас рассудит, — горько усмехнулся он.
Только тут Иван догадался, какого соболя добыл Федор.
— Ты неверно говоришь, — решительно отрубил Бердышов. — Наши не брали соболя. А невод отобрали — не знали, что это сосед рыбачит. Меня не было, а они подумали, что это чужой человек ловит без спросу.
— А соболя взяли — тоже, понимаешь, не знали, что сосед ловушку поставил? — усмехнулся хозяин.
— А соболя совсем не брали, — упрямо стоял на своем Иван.
— А кто же взял?
— А кто взял? Может, амба взял, — вдруг сделав страшную рожу, ответил Иван. — Черт стащил соболя! — рявкнул он, вскакивая на кан, и с силой ударил себя кулаком в грудь. — Черт! Амба! Ему, может, охота нас поссорить — он украл соболя, а лыжню наладил до нашей деревни, а вы поверили. Он нас ссорит, а мы, как глупые, не можем помириться.
Гольды опешили.
— А ты про черта откуда знаешь? — значительно слабее и уже не так зло спросил Писотька.
— Покуда не знаю, а вот Анга пошаманит, тогда все знать буду. Когда люди ссорятся и обманывают друг друга, всегда амба какой-нибудь виноват, — торжествующе произнес Иван и, оглядев подавленных, притихших гольдов, спокойно уселся на кан. — Бывает же, что черту охота поссорить между собой людей, — продолжал он. — Камлать надо, а не ссориться. Гонять его всем, дружно!
Бердышов хорошо знал гольдов. Видя, что они поддались, он воспользовался их смятением и стал втолковывать, что никто из русских не мог взять добычи из ловушки.
— Надо было сразу ко мне идти, мы бы с Ангой пошаманили и все бы узнали.
Гольды стали переглядываться между собой многозначительно. Многие из них не верили Ивану: как-то трудно было допустить, что соболя стащил черт. Все продолжали подозревать в краже Барабанова, которого хорошо знали по следам старых лыж Ивана, однако удобный миг для спора с Бердышовым был упущен. Никто более не решался оспаривать его слов, тем более что он так хорошо обвинил во всех людских бедах черта.
Этого-то и надо было Ивану.
— А что же вы поздно хватились? Да если бы я узнал, что кто-нибудь из наших украл соболя, я сам бы его застрелил. Но и ты, Писотька, вели отдать мою добычу, а не отдашь — беда будет. — И Бердышов, не говоря лишнего слова, нахлобучив шапку, поднялся и стал надевать ружье.
Угроза подействовала на мылкинцев. Они повскакивали с канов и принялись уговаривать Ивана еще погостить в Мылках. Дандачуй, сын Писотьки, плечистый толстогубый парень, не на шутку перепугавшись, сбегал в амбар и принес оттуда закоченелого соболя. Писотька, заискивающе улыбаясь, отдал его Ивану.
— Ну, давно бы так, — улыбнулся Иван и, возвратив зверька Писотьке, попросил отдать его работникам, чтобы они сняли шкурку.
Потом Иван разделся, показывая этим, что идет на примирение, прощает вора и хочет погостить у хозяина.
На столиках появилась водка. Бердышова взяли под руки и усадили на почетное место. Гольды тесно окружили его.
— Мы не знали, что это твоя ловушка, — говорили они, — твою бы мы не тронули.
— Ты хороший человек, мы на тебя не сердимся…
— Кушай, Ванча, не будем ссориться, — угощал Писотька.
Иван опять стал объяснять, что невод русские отняли за то, что у них взяли сено, а что накосить его и привезти стоило больших трудов, что скот переселенцев кормится травой.
— А зачем скот? — с любопытством спросил Улугу.
Иван рассказал, как и зачем доят коров.
— Мы не знали, — кротко ответили гольды.
— А зачем молоко? — спросил Дандачуй. — Пусть живут без скота, едят рыбу.
Но всем остальным гольдам очень хотелось поехать в Уральское и посмотреть, как это женщины доят зверей и не боятся. Видно было, что гольды уже не сердятся.
— Нам теперь плохо стало, — жаловался Денгура, со свистом потягивая водку из чашечки. — Мы, старики, стали никому не нужны. Эх, в старое-то время в нашей деревне весело было! А теперь нас всякий обидит, — всхлипнул бывший староста и размазал заскорузлыми пальцами слезы, катившиеся по морщинам.
Он хотел было помянуть Ивану о своих охотничьих угодьях под Косогорной, где Иван промышляет без спросу, но смирился. «Тайга большая, всем места хватит», — подумал он и смолчал.
Бердышов стал уговаривать Денгуру мириться с бельговскими и принять у них выкуп за украденную жену.
— Чего тебе сердиться! Теперь пора уж все позабыть. Гапчи и его отец Хогота пир тебе устроят, целую неделю все бы гуляли, — соблазнял он старика. — Я сам с Ангой приеду. Хогота медведя выкормил. Если ты примиришься с ним, для тебя заколют зверя, всю вашу деревню пригласят. Знай гуляй!
Денгура еще упирался, важничал и поминал нанесенные ему обиды, зато другие старики глотали слюнки, представляя себе угощение из мяса молодого медведя. Все начали уговаривать Денгуру мириться.
— Конечно, что же зря ссориться? — поддакивали они Ивану.
Ко всеобщему удовольствию, Денгуру уломали, и Бердышов взялся быть посредником при замирении. Как только окончится зимний промысел, он обещал съездить в Бельго и сговориться о мировой.
— Какой ты хороший человек! — хвалили гольды Бердышова. — Мы тебя, оказывается, совсем не знали.
— Однако, все-таки и на меня сердились? — посмеиваясь, спрашивал Иван. — Знаться со мной не хотели. Помнишь, как мы с тобой в тайге встретились? — обратился Иван к Улугу. — Я тебе кричу: «Иди сюда!», а ты только отмахнулся рукой да в чащу.
Гольды засмеялись.
— Это было, — согласились они. — Маленько, конечно, сердились.
— Шибко не сердились, а маленько-то было, — подтвердил Денгура.
— За одно меня с бельговскими считали, я уже догадался, — продолжал Иван. — А ведь я про вас все время вспоминал. «Что, — думаю, — никого из них нет, не приезжает никто ни ко мне, ни к Анге?» Ну, догадался, что осерчали. Ну, да не беда, теперь как-нибудь станем жить дружно.
Погода разыгралась. Ветер налетал на крышу фанзы с такой силой, словно на нее низвергался водопад. Наступали сумерки, и Бердышов решил остаться ночевать в Мылках, надеясь окончательно упрочить этим дружбу с гольдами, а заодно кое-что выспросить про Дыгена.
Денгура, желая уважить Ивана, стал звать его и всех стариков к себе.
Мела поземка. По озеру метались снежные вихри, тайга шумела, ветер гнул голые тальники, как колосья, раскачивал лиственницы и с воем дыбил к их стволам огромные ветви. К стойбищу намело сугробы, местами превышавшие амбары и фанзы, с их гребней при каждом порыве ветра с воем и свистом взлетали тучи снега, осыпая Ивана и гольдов, трусивших гуськом след в след за Денгурой. Ветер бил в спину и в бока, хлопал полами, рвал пуговицы с одежды, тащил с людей шапки, насильно заворачивал их на ходу или вдруг, навалившись на грудь, не пускал их дальше да еще хлестал по лицу сухим, колючим снегом и мелкими ледяшками. Слышно было, как скрипели на увале вековые деревья. Гольды бежали, пригибаясь и увязая по колено в сугробах.
Вдруг все вокруг застлало белым, не стало видно фанз, ни леса, ни озера, слышен был лишь сплошной вой и свист. Лицо Ивана залепило мягким свежим снегом. Начался снегопад.
Кое-как все добрались до двери фанзы. Гольды отряхивали шубы, раздевались и лезли на горячие каны.
Фанза Денгуры была обширна, в стене ее, обращенной к озеру, тянулся целый ряд решетчатых окон, залепленных цветной бумагой. Ярко пылали два очага; на полу светили раскаленными угольями и грели воздух два больших горшка.
Жены Денгуры сгрудились в отдалении, на другом конце канов. Бердышов мог наблюдать их, лишь когда они приносили и ставили на столики угощение.
Внимание его привлекло новое лицо. Это был усатый пожилой человек с резкими чертами лица и с неровными желтыми зубами. Когда Иван подсел к столику с угощениями, незнакомец только что проснулся и, почесываясь, озабоченно прислушивался к шуму бурана. Денгура назвал его проезжим торговцем. Но у Бердышова глаз был достаточно наметан. Ни у кого не допытываясь, он понял, что это один из шайки, сопровождавшей маньчжура, почему-то отставший от своих. На стене между одеждой висело разное оружие, но длинная сабля, полуприкрытая лисьей шубой, никак не могла принадлежать хозяевам.
Иван завел разговор о покупке невесты для сына Писотьки, и старики оживленно стали рассказывать ему все подробности сватовства. Усатый подсел к ним. Он мрачно молчал. Бердышов перехватил несколько его встревоженных взглядов и понял, что маньчжур исподволь за ним наблюдает. Чтобы рассеять всякие его подозрения, Иван после ужина предложил усатому сыграть в кости. Тот охотно согласился и несколько раз подряд обыграл Бердышова. Гольды этому дружно и от души смеялись, сам Иван вторил им, тряся головой и беззвучно открывая рот, а усатый, несмотря на грозный свой вид, улыбался жалко и растерянно. Бердышов понял, что спутник Дыгена сначала испугался его, а теперь доволен, что все обошлось благополучно.
Усатого и впрямь напугало появление Ивана. Он целый день валялся на горячих досках, тепло укрывшись тяжелым халатом, в приятном безделье, как вдруг в фанзу ввалился этот плечистый человек и с ним ватага гольдов, всячески угождавших ему. По обличию этот русский — настоящий тигр: таков был его пытливый, хитрый взгляд и нарочитая мягкость, за которой чувствовалась хищная сила зверя. Судя по тому, что гольды так хлопотали вокруг Бердышова, усатый полагал, что он либо богач, либо начальник. Только когда Иван заговорил с ним дружески и предложил играть в кости, да еще, не обижаясь, проиграл несколько раз, у него отлегло от сердца, и он разрешил себе поверить, что этот русский не такой уж страшный, как показалось сначала.
Бердышов ни о чем не расспрашивал, несмотря на то, что между ними уже установилось некоторое доверие. Он надеялся в ближайшие дни при случае выпытать о нем все у кого-нибудь из небогатых мылкинских. С этой целью Бердышов пригласил гольдов к себе на Додьгу смотреть свою новую бревенчатую юрту.
Писотька вызвался в ближайшие же дни привезти к Анге своего маленького сына, чтобы шаманка отогнала от него злые силы. Старик закрыл колючие глаза, заплакал горько и стал жаловаться, что все его сыновья умирают маленькими, а шаманы не могут помочь ему в этой беде, и теперь последний его сынишка тоже прихварывает.
— У нас теперь русская лекарка есть, старуха-шаман, она тебе поставит на ноги парнишку, — утешал его Иван.
На следующий день Бердышов стал собираться домой. Гольды подали ему упряжку великолепных рослых псов. Правил ими Улугу, чем Иван был весьма доволен. Распрощавшись с гольдами, он повалился на нарты. Погонщик поднял палку и с криками: «Та-тах-тах!» — вихрем пустил псов с косогора на озеро.
Вчерашняя пурга, как заботливая хозяйка избу, выбелила начисто уже начавшие было сереть ледяные поля и сопки. Солнце ярко сияло, снега слепили глаза. Вокруг разлилось спокойствие и величие, чувствовался праздник, отдых природы от диких ветров и морозов. Собаки мчались весело, легко и быстро преодолевали сугробы, через дужку нарт ездоков то и дело запурживало свежей снежной пылью.
— А что, Улугу, — заговорил Иван, когда нарты пошли протокой и Мылки скрылись за чащей голого чернотала, — кому ты теперь меха продаешь?
В глубоком снегу собаки замедлили ход. Улугу, видя, что им тяжело, не понукал их.
— Меха-то? — переспросил он, оборачиваясь к Ивану. — Бельговскому торговцу отдаю, мы ему все должны.
Иван помолчал. Собаки, выйдя на гладкий, обдутый ветром снег, помчались быстрее. Вдали, из-за отходившего в сторону полуострова, как битые зеркала, засверкали тысячами солнц амурские торосы. Далеко-далеко, за ледяной рекой, в голубоватой дымке чернел каменный обрыв у входа в Пиванское озеро. Над ним разметались сопки. Их склоны окутаны были легкой синей мглой, оттенявшей ущелья, пади и перевалы. Слева над горизонтом стелилась красновато-бурая завеса, словно где-то там горели леса.
— А кто же это гостит у Денгуры? — спросил Бердышов, отряхивая воротник от комьев снега.
Улугу смутился и заморгал маленькими глазками. Иван не торопил его с ответом, зная, что гольд все равно ответит и не соврет. Чтобы скрыть свое замешательство, Улугу стал размахивать палкой и громко ругать на разные лады собак. Отъехав еще с полверсты и достигнув берега, где начиналась релка, он вдруг проворно обернулся к Ивану и переспросил его:
— Это который человек в кости с тобой играл? Про него спрашиваешь?
Иван молча кивнул головой.
— Это не купец, — вымолвил гольд со злобой.
Собаки, высунув языки, тяжело дышали, вытаскивая нарты на снежный заструг. Улугу, спрыгнув с нарт, помогал им, прихватывая постромки. Преодолев сугроб, он снова вскочил на нарты и погнал упряжку быстрей.
С верховьев чуть колыхнул легкий ветерок. Бердышов, подняв воротник и подставляя лицо теплым солнечным лучам, вытянулся на нартах. Лучи грели по-весеннему, во всем существе Ивана разлилась лень и приятная истома. Только сейчас стала сказываться в нем усталость от долгих зимних таежных скитаний. Воздух был по-весеннему тяжек и томил, а от жаркого солнца слегка кружилась голова и тяжелело тело.
— Не знаю, почему меха у нас берут, — продолжал Улугу. — Соболя им отдай, рыбу налови, угощай их. Где возьму, как на всех напасусь!
— Один, что ли, он приехал?
— Какое один! — воскликнул гольд. — Целая ватага ездит. Сам кривой старик был. Знаешь его? Злой старик, рябой, левый глаз течет. Он тоже был нынче в Мылках, а потом пошел нартами вниз.
— А помощника оставил в Мылках?
— Конечно, оставил!
— Куда же они поехали?
— На Горюн пошли. Вниз они не поедут: там Софийск, Николаевск, русских много. Они по рекам поедут в тайгу, где глупый народ живет, — там напугают, отберут соболей. К тунгусам пойдут. Знаешь, тунгус в тайге живет, ничего не видит, — усмехнулся Улугу темноте и невежеству таежных тунгусов. — Муку, крупу не едят, все мясо да мясо, а если мяса нету, все помирают. Сколько Дыген велит дать — все отдадут.
— Значит, по-твоему, тунгусы дурные, что Дыгену меха дают? — спросил вдруг Иван.
— Конечно, дурные…
— Ну, а сам-то ты как? Наверно, двух соболей Дыгену отдал? Ну-ка, признайся, — Иван слегка тронул отвернувшегося в сильном смущении гольда. — Вот то-то, брат!.. Мы других судим, а сами… Собрались бы вы всей деревней да взяли бы Дыгена в рогатины, как медведя. Чего на него смотреть? Обманывает он вас. Считай: сколько ты ему за свою жизнь переплатил? Эх, Улугу, Улугу!.. — Иван хлопнул гольда по спине.
Вдали за мысом показался дымок. Вскоре стал виден косогор с черными пеньками.
— Видать юрты ваши, — молвил Улугу, не оборачиваясь.
Откуда-то издалека донеслось позвякивание колокольцев. Улугу завертелся на нартах, оглядываясь по сторонам.
— Почта поехала, — показал Иван в сторону дальнего берега.
Между торосами рысили запряженные гусем кони.
Глава двадцать первая
Замерзшее оконце в оттепель начинало оттаивать, с него обильно текло. Агафья срубила со стекла лед, протерла окошко, и яркий солнечный свет впервые за зиму осветил темные углы барабановской землянки.
Ребята спорили из-за места на солнышке. Гошка начистил до блеска железную тарелку и забавлялся, пуская зайчиков на стены.
— Ну, вот и веселей у нас стало, — говорил Федор, заходя в землянку с Тимошкой.
С утра они работали вместе, валили лес и пришли голодные и уставшие.
— Томит солнышко-то, — сказал Силин.
— У меня аж в ушах звенит, — подтвердил Санка, снимая вымазанную смолой куртку.
— Солнце-то здесь теплое, а у нас об эту пору так не греет. Кабы не ветры, тут бы уж весна была.
Агафья подала сухари и чугунок мелкорубленого мяса кабарги. Следом появился горшок каши и свежая рыба, добытая Санкой на махалку. С пищей у Барабановых за последнее время стало получше. Федор, охотясь с Савоськой за Амуром, подстрелил кабаргу. Санка поймал на свой самострел соболя, а на третий день промысла Федор взял лису.
Санка и Тимошка доедали чумизу, а Федор глодал кабаржиные кости, когда в землянку вошел Бердышов. Барабанов стал подробно рассказывать ему о своей удачной охоте.
— А ты коня у кого ставил, покуда промышлял? — спросил его Иван.
— Григорий Иваныч, дай ему бог здоровья, позаботился. Кормил, шубой его на ночь укрывал, доху не пожалел на коня.
— Ты в лес с Савоськой ходил?
— С ним.
— Это охотник так охотник!
— А у нас, дядя Ваня, почта ночевала, — блеснул светлыми глазами Санка, давно ожидавший очереди что-нибудь рассказать. — У них вчерась конь в тростнике подох. Мы с тятькой шкуру с него сымать поедем.
— Ну-ну, охотник, отцу зверей добываешь, — потрепал Бердышов Санку по русым вихрам.
— Он на свой лучок соболя-то поймал.
— Молодец! Ну, будь здоров покуда, Федор Кузьмич, заходи вечерком ханшин пить, обо всем с тобой и потолкуем, — и, подмигнув Санке, Иван вышел.
К вечеру снова началась метель. Под вой ветра в русской печи Бердышов поведал Федору о своей беседе со старыми гольдами в Мылках. Слабо горел жирник, освещая вымытые добела плахи и деревянную тарелку с соленой черемшой.
— Пообижались на нас эти гольды. Сказывают, нет покоя. Стал я их допытывать, какой же им ущерб от нас. Допытал! — Федор насторожился, полуоткрыв рот и перебирая пальцами темную бороду. — Да-а, — продолжал Бердышов. — Они мне все сказали. Я не поверил сперва. «Как? — думаю. — Быть того не может, чтобы сосед обворовал ловушку у гольдов». Нет, они стоят на своем.
Анга поправила жирник, ушла в угол. Собаки скреблись в дверь. Иван поднялся и впустил их в избу. Они вбежали жадной измерзшейся ватагой, стуча когтями по гладким половицам. Отряхивая куржу и снег, слабо урча, разбрелись по избе и стали укладываться вокруг стола. С вожделением поводили они узкими острыми мордами, судорожно позевывая и пощелкивая пастями от голода. Эти могучие, выносливые псы никогда не были сыты. Живя в вечном страхе перед побоями, они не жаловались громко на свой голод, а терпеливо и долго ждали, когда кинут им кусок юколы, и лишь слабым подвыванием, полным тоски, выдавали свои желания. Иван не кормил их досыта, чтобы они были спорей на работу и злей. При нем они и грызлись-то потихоньку и терпели друг от друга быстрые укусы в морду и за уши.
Федор недолюбливал эту мохнатую стаю и с опаской огляделся, когда псы обложили его со всех сторон, словно зверя в берлоге.
— Провалиться мне на месте, — хитро и жестко улыбался Иван, и углы его губ дрожали, — а чего я гольдам пообещал, исполню! Отучу вора воровать. Теперь никто во всей округе чужого не тронет. Своим судом станем судить, хоть брата родного за такое дело, душа из него вон, собаками затравлю.
Такие разговоры Бердышова перепугали Федора не на шутку. Его начинала колотить дрожь. На свою беду, он понимал, что растерялся и ничего не может придумать, чтобы как-нибудь вывернуться. Иван тоже все ходил вокруг да около, и тем неприятней становилось Барабанову, что он и в толк не брал, добивается от него чего-нибудь Бердышов или задумал устроить ему какое-то страшное наказание. Федор хотел было уйти домой, но Иван не пустил его.
— Угощаться будем, сиди, что тебе не сидится? Еще чаевать будем.
Серый вожак, словно сговорясь с хозяином, каждый раз, когда Барабанов пытался подняться с лавки, скалил пасть и начинал злобно хрипеть. В полутьме под столом и сзади, за лавкой, куда бы Федор ни поглядел, повсюду белели клыкастые собачьи морды.
— Оказалось, что варнак этот живет у нас, на Додьге, — продолжал Иван.
В печи страшно взвыл ветер, словно там кто-то томился.
— О господи, господи! — вздохнул Федор, озираясь по сторонам.
— Этого у нас еще никогда не бывало, чтобы охотник у охотника взял добычу. За это у гольдов суд. Выкуп берут с вора: котлы, халаты, ружье. А у русских за такие штуки — пуля. Смерть, паря! — сказал, как отрезал, Иван.
У Федора лязгнули зубы от страха.
— Догонят, к лесине поставят и пристрелят. И сам пропадешь, и детушкам позор на всю жизнь. Они-то виноваты ли? Скажи ты, Кузьмич, Санка твой, к примеру? — продолжал Бердышов.
— Иван Карпыч! — вдруг в голос взревел Барабанов. — Не погуби, помилуй!.. Это я соболя у гольдов взял! — кинулся он на колени.
Вожак, злобно скурносившись, рванулся, чтобы цапнуть обнаженными клыками руку Федора, но Иван пнул собаку в брюхо с такой силой, что она перевернулась на спину и захлебнулась бессильным злобным хрипом, а одна рыжая сука взвизгнула со страха и закатилась в собачьей истерике. Остальные псы посторонились, поджимая хвосты и отворачивая морды от хозяина.
Рыдание клокотало в горле Федора.
— Будь милосерден, не погуби!
— Чего же ты задиковал? — Иван усмехнулся, поднял Федора за воротник. — Ты чудак!
Барабанов всхлипывал.
— От кого ты прятался, скажи? — говорил Иван. — Да что бы ты в тайге ни сделал, я все узнаю. Я ее, матушку, насквозь вижу, по следу скажу, а следы заметет, шаманить стану — как в воду посмотрю. Собаки у меня и те вора чуют, они тебя и не любят, — он отогнал пинком бродившую вдоль стен рыжую суку.
Барабанов, вздрагивая, бился лбом о стол и бормотал что-то несуразное. Голос его заглушали пурга и шум леса.
Изредка доносился слабый треск падающих деревьев.
— Попомни мои слова, Федор. Покуда твое счастье. Ну, ежели ты еще раз в тайге чужого коснешься, не пощажу. А пока — как ничего не было. Слышь ты, — Иван потряс Барабанова за плечо, — не дикуй… Чаевать станем.
Глава двадцать вторая
Однажды Анга привела в землянку Кузнецовых молодую кривоногую гольдку в щегольском халате и с серебряным кольцом в плоском носу. На руках у нее был заплаканный косоглазый ребенок.
— Бя-я-я… Бе-е-е, — укачивала его мать.
Это была молодая жена мылкинского богача Писотьки. Она приехала на собаках вместе с мужем, чтобы полечить ребенка у Анги, но та шаманить отказалась и привела женщину к старухе.
Раздев младенца, бабка ужаснулась его виду. Ребенку было более года, но мать, по-видимому, еще ни разу не мыла его. У мальчика вздулся животик, тело покрылось струпьями.
— Все мальчишки у нее, как родятся, помирают, — объясняла Анга. — Отец говорит: «Кто вылечит — ничего тому не пожалею».
Гольдка что-то с чувством говорила бабке Дарье по-своему, прижимая к груди красивые грязные руки в серебряных кольцах и браслетах.
— Болезнь эта — собачья старость, — поучала Ангу старуха, рассматривая голенького ребенка. — Наверно, у нее в избе собак много, а она брюхатая шагает через них. Скажи ей, что бабе нужно обходить собаку, а то дитя больное родится, да и купать бы его надо, а то ведь срамота смотреть — грязищи на нем на палец. И собака щенка вылизывает, а дитя до чего у нее запакостилось. Вылечила бы я ей дитя, да нету у меня муки, надо калач испечь, чтобы было все как следует…
Анга предложила бабке муки. Пока Наталья затапливала печь, Бердышова сбегала домой, принесла муки и завела квашню.
— Какая понятливая! — удивлялась бабка, глядя, как гольдка ловко месила тесто и катала калач.
Бабкино лечение продолжалось весь день. Наталья натаскала воды и нагрела ее в печном котле. Старуха стала купать маленького гольда. Вначале он с удовольствием барахтался в воде, но вскоре купанье ему надоело, и он расплакался. Бабка вымыла его дочиста, вытерла насухо и, завернув в свою чистую посконную рубаху, положила на подушки.
— Насилу отмыла, — с упреком говорила она гольдке, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под платка.
Анга переводила ее слова.
Женщины выгребли печь и на горячем поду испекли калач. Гольдке настрого наказали сидеть смирно. Лечение началось.
Помахав калачом, бабка забормотала заклинания от собачьей старости, потом, развернув ребенка, просунула его через калач, и тотчас же, разломив калач на части, выбросила его за дверь собакам. Потом она посадила голого ребенка на деревянную лопату и, открыв заслонку, что-то приговаривая, сунула его в печку.
Гольдка в ужасе с криком кинулась к Дарье, но Анга остановила ее и стала успокаивать.
Мальчик между тем снова заплакал. Бабка все же трижды совала лопату в печь, каждый раз быстро вынимая ребенка. Наконец Дарья сняла его с лопаты и снова положила на подушки. Матери объяснили, что все лечение окончено. Гольдка стала поднимать старые тряпки, брошенные старухой к порогу, намереваясь снова завернуть в них ребенка.
— Эй, тряпки эти надо выбросить, — сказала Дарья, вырывая из рук женщины лохмотья. — Надо новые брать, эти никуда не годятся, чистые надо, давай-ка толмачь[35] ей, — велела старуха Анге.
Бердышова эти дни дома не было, и Писотька уехал обратно в Мылки. Жена его еще погостила у Анги, перенимая от нее все, чему та сама за эту зиму научилась от русских. Сына она каждый день носила к Кузнецовым и показывала бабке. Ребенок поправлялся, оживал и все меньше походил на маленького старичка. Желтые щечки его чуть зарозовели, стали круглее и крепче. Мать, глядя на него, не могла нарадоваться.
С тех пор мылкинские гольды повадились лечиться у Дарьи. Их нарты, запряженные мохнатыми псами, часто останавливались над берегом напротив кузнецовской землянки. Бабка ворожила, выбивала больные зубы, лечила разные нарывы, болячки, опухоли.
Постоянное общение с гольдами так приучило бабку к ломаному языку, что она даже кошке, стащившей с шестка кусок лосиного мяса, говорила:
— Чего твоя балуй? А? Ах, ты!.. Вот я тебя ножом маломало секи-секи…
Глава двадцать третья
На рассвете фанза выстуживалась. Женщины поднимались рано, топили очаг и варили в глубокой подвесной сковородке чумизу.
Кальдука Маленький выходил кормить собак. Они обступали его жадной сворой и, подвывая, провожали до маленького амбарчика с юколой. Кальдука залезал в лабаз и давал в зубы каждому из псов по темному пласту костей от сушеной мороженой рыбы, остальное съедено было людьми.
Чуть брезжил рассвет. Заснеженные сопки и река были ярко-синими. В глубоких снегах дымились низкие фанзы.
Сегодня Кальдука поднялся не в духе. Ему неприятен был вчерашний разговор с лавочником. У Гао Да-пу за ним накопился огромный долг — в восемьдесят серебряных рублей. И долг этот за последние годы как-то странно и быстро рос, хотя Кальдука брал в лавке то же, что и прежде. Это был опасный признак. С таким долгом нельзя расплатиться иначе, как отдав кого-нибудь из семьи в рабы. Кальдука ничего не понимал в записях торговца, но ему казалось, что должен он гораздо меньше, чем значится в долговой книге. И он пытался уменьшить долг.
Всю зиму Кальдука провел в тайге, лишь изредка возвращался домой, чтобы пополнить запасы юколы. Но что мог он поделать, если хозяин тайги не посылал зверей в его ловушки?
Даже старый осиновый кривоногий бурханчик, служивший еще отцу Кальдуки, был, видимо, бессилен помочь его горю, и гольд, затаив обиду, собирался хорошенько высечь деревянного бога. Но пока Кальдука все еще не решался на такой поступок, откладывал наказание со дня на день, втайне надеясь, что бурхан, может быть, образумится и еще пошлет ему счастье.
Охота кончилась, а пушнины у Кальдуки было мало, и он не мог отдать долг торговцу. Вчера Гао Да-пу велел ему прислать в лавку тринадцатилетнюю дочь Дельдику, за которую Кальдука собирался получить со временем богатый калым.
Вечером, возвратившись из лавки, Кальдука не в силах был сдержать свой гнев. Он раскричался на женщин, наполнявших его фанзу. Их было много в семье: жена — жирная Майога, которую он взял когда-то по бедности вдовой, в надежде со временем купить девушку, но с которой ему пришлось прожить всю жизнь; седая, с больными ногами мать — Уму; вдовая невестка Одака — жена единственного сына Кальдуки, которого утащил Му-Амбани — водяной черт, и четыре дочери, из которых старшая была косая и такая безобразная, что до сих пор не нашлось охотника жениться на ней; отдать дочку даром за нищего старик не хотел — хоть какой-нибудь калым надо было за нее получить.
— В моем доме много лишних ртов! — кричал Кальдука. — Никаких соболей не хватит прокормить такую ораву. Долг в лавке такой большой, что торговец забирает в рабыни Дельдику.
И разъяренный Кальдука схватил палку и начал драться. Он таскал толстую Одаку за волосы, бил ее по спине и по заду, потому что Одака была самым лишним ртом. В фанзе поднялся вой. Все женщины заплакали и завыли, услыхав, что торговец хочет взять себе маленькую Дельдику. Женские слезы еще более распалили чувствительного отца, и его палка пошла гулять по бабьим спинам. Он переколотил всю семью. Досталось даже старухе матери, а заодно со всеми и осиновому идолу за то, что он плохо заступается за Кальдуку перед хозяевами тайги и зверей. «И бога отколотил, и мать, и все семейство. Так им и надо!» — думал Кальдука.
Накормив собак, Кальдука вышел на берег и посмотрел на Амур. Уж много-много лет Кальдука, если только не промышляет в тайге, по утрам смотрит на реку. Возвращаясь с охоты и завидев великий Мангму,[36] он вскакивает на нарты и громко приветствует его, славя Му-Андури — владыку речных и морских вод.
Мысли старика были печальны. «Сегодня китаец возьмет за долги дочь. Через год-другой за девушку можно бы получить дорогие подарки от жениха. Теперь этого не будет. Конечно, может быть, потом он отпустит ее, но после того, как она поживет в лавке, никто не даст за нее хороший торо[37]», — рассуждал Кальдука.
Кальдука окликнул Удогу. Старики присели на корточки возле амбара и закурили. Удога уже знал, что Гао хочет взять Дельдику, и сочувствовал беде сородича. Ежегодно торговцы отбирали у гольдов женщин. Перед концом зимней охоты они торопились выколотить долги с охотников до ледохода, опасаясь, что гольды приберегут меха к лету, чтобы покупать товары на русских баркасах.
В воздухе потеплело. Свежий снег еще не таял, но был влажен и комьями облеплял обувь. Чувствовалось, что весна где-то недалеко. Старики долго молчали, посасывая трубки и озабоченно поглядывая по сторонам, словно чего-то ожидая.
— Когда я был мальчишкой, — заговорил, наконец, Удога, — давно-давно это было, мы жили на Горюне. У меня уже были свои нарты, отец меня приучал ходить на охоту, дал мне трех собак, я вместе с ними таскал свой припас и юколу. Савоська был еще совсем малыш.
Над хребтами сверкнула солнечная корона. Синева исчезла, словно с реки сдернули покрывало. Сопки пожелтели. Кальдука выбил золу из трубки и позвал Удогу в фанзу.
— Однажды, — продолжал Удога, расположившись на кане подле очага, — мы с отцом отправились соболевать на озера, за Амгунь, к морю. Я тяну свою нарту, он — свою. Нашли сопку, соболиных следов было много. Сам я еще не умел ставить сторожки. Отец насторожил пять лучков: три на себя, а два на меня, будто бы я их сам поставил. Пошли дальше и так везде охотились. Немного времени прошло, вернулись мы на сопку проверить нашу охоту. Под мои самострелы попали соболя, а отцовы стоят, как стояли. Отец говорит мне: «Тебе счастье от этих соболей будет».
— А у меня нет сына, — всхлипнул Кальдука, — некому мне помочь.
На себя Кальдука Маленький не надеялся. Он всегда был беспечным человеком. Если у него бывали меха, он покупал водку, устраивал угощения и наигрывал на муэня — это любимый гольдский музыкальный инструмент — железная подковка. Кальдука закладывает ее в рот. Ударяя по прикрепленной к ней пластинке, похожей на язычок, он извлекал дрожащие печальные звуки. Он мог проводить так целые дни. Если бы его не выручали сородичи, он давно погиб бы от голода. Сам Удога много раз помогал ему, а однажды во время оспы спас Кальдуку: приютил его у себя и долго кормил его самого и всю его семью.
— Потом мы переехали в стойбище Бичи, но и там нам плохо жилось, — продолжал Удога. — От торгашей покоя не было, они туда повадились ездить. Отец наш был отчаянный. Помнишь его? Вон Савоська в него уродился. Наладил он лодку, нас всех посадил, пошли мы на Мангму. Соседям отец сказал: «Какой бичинский торгаш ко мне на новое место приедет за старыми долгами — убью и кровь выпью; с другими буду торговать, покупать у всех буду, ни у кого в долг брать не стану». С тех пор до самой его смерти мы никому должны не были. Потом, когда отца убили, я стал жениться, пришел в лавку к отцу этого торгаша, к Гао Цзо… Хитрый был старик. Я у него стал просить халаты, чтобы торо за невесту заплатить. У меня не хватало вещей до полного торо. Мать не хотела, чтобы я в долг брал, а я ее не послушал — молодой был, дурак, бабу скорей хотелось. Я пришел в фанзу Вангба, к Гао Цзо, встал перед ним на колени, поклонился. У него тогда своей лавки не было, он у Вангба жил.
Кальдука много раз слыхал этот рассказ, а некоторые события и сам помнил, но все же слушал Удогу со вниманием.
— Старик сидит на кане, лапшу ест палочками, глаза у него узкие были, он их будто закроет, а сам смотрит. Тихий был, тихий, говорил потихоньку. Я прошу у него: «Дай мне вещи, какие надо». Он отвечает: «Ладно, только не забыл ли ты, что твой отец умер?» Я кланяюсь: «Помню, джангуй!». Гао-отец вздохнул и говорит: «За ним ведь был большой долг…» Я с ним спорить не могу. Раз он так сказал, надо будет платить. Забрал я, чего мне нужно было, ушел, сам дома заплакал. Ну, беда, ой, беда мне была, сколько я мучился! Потом сильно мне хотелось отдать долг, выручить семью, никому должным не быть, как отец велел нам. Как мы ни старались с Савоськой, никак долга скинуть не могли, уменьшался он, но все-таки записаны были мы в книге. Правда, и первую мою жену торгаши никогда к себе не таскали. Брат восстание против маньчжур поднял… Пришлось ему бежать. Потом уж, когда Невельской пришел, брат у него работал. Невельской поймал Гао, узнал все про него, заставил признаться, что ему не должны. Потом на баркасах русские поплыли, я стал проводить их суда: они платили мне хорошо. Молодые офицеры всегда заступались за гольдов и денег нам не жалели, серебро давали. Лавочник при расчете опять меня обмануть хотел, но уж я сам хитрый стал, в Николаевске у русских научился. Не дал себя обмануть.
Удога ушел.
«Вместо Дельдики я пошлю в лавку толстую Одаку», — вдруг придумал Кальдука, и сейчас же ему захотелось привести свою мысль в действие.
— Эй, Одака! — вскочил он, обращаясь к невестке. — Иди живо в лавку, скажи, что я послал тебя вместо дочери. Я не отдам ему Дельдики! — закричал старик. — Ступай, работай на них, спи с ними, а дочку-я не дам им портить.
Еще не понимая, что ей велят, но уже чувствуя угрозу, потому что свои пояснения Кальдука подкреплял обычно побоями, Одака, как только старик произнес ее имя, замерла в оцепенении, моргая маленькими, заплывшими жиром глазками. Далее она уже совсем не понимала злую болтовню Кальдуки, и ей становилось все страшней и страшней, по мере того как старик, ярясь от своих собственных слов, приближался к ней.
— Иди к торговцам вместо Дельдики, иди, — подхватила жена хозяина, грузная Майога, толстогубая женщина с большим сизым бугроватым носом и с жирными щеками. Она вздрагивала от злости так, что тряслись щеки, а в больших отвислых ушах звенели кольчатые серьги.
— Пусть хоть лавочники растрясут твой жир, — подхватила, слезая с кана, больная ногами бабка.
Обе женщины накинулись на Одаку.
Они никогда не могли с ней сладить и ненавидели ее. Толстая Одака, живя в их доме, все делала им наперекор. Ее ничем нельзя было пробрать, эту ленивую бабу, спокойно и терпеливо сносившую все обиды. После смерти мужа ей, сироте, некуда было деваться, и она была лишним ртом в большой семье Кальдуки. Когда старик объявил, что отправляет ее в лавку, женщины обрадовались.
— Тебя давно надо было отдать китайцам, — шамкала старуха, ворочая желтыми больными белками.
Видя, что Одака упирается, Кальдука разъярился и пустил в ход палку. Он схватил Одаку за волосы, с ожесточением стал колотить и, наконец, вытолкнул ее, босоногую и простоволосую, на мороз.
Дельдика, с ужасом смотревшая на это наказание, от души жалевшая Одаку, вынесла ей шубейку и обутки, и Одака поплелась через сугробы и кустарники к фанзе торговцев.
У всех полегчало на душе, когда черная дверь лавки, с наклеенными на ней красными бумажками, захлопнулась за Одакой. Между тем в фанзу Кальдуки стали собираться соседи, и хозяин, поставив на кане столик, принялся вместе с гостями за пшенную кашу.
— Какой амба изводит меня? — жаловался Кальдука. — Сегодня ночью я видел во сне, будто ловлю рыбу на косе, на Ондинском острове, и у меня запутался невод.
Старики, уплетая кашу, качали головами и смотрели на Маленького с сожалением: увидеть во сне запутанный невод означало беду.
— Однако, если беда на девок, то виновата Лаптрюка,[38] — заговорил горбатый Бата. — За шаманом ехать придется — гонять Лаптрюку.
— Шаман сам узнает, какой амба. Может, Лаптрюка тут не виновата, — возразил Пагода. — Шаман молиться станет — узнает… Это, кажется, крутит тебя не Лаптрюка, а оборотень Нгывы-Амбани. Чтобы отогнать его, можно не звать шамана, а камлать самим. Надо нарубить ветвей тополя и положить их на каны, когда ляжешь спать. Перед сном надо помахать вокруг себя и проговорить: «Не играй, не мешай!»
Вернулся Удога. Он слушал разговоры про злых духов и молчал угрюмо. Много раз пытался он убеждать сородичей, что все это чушь, сказки!.. С годами даже родной его брат, когда-то бывший бесстрашным проводником капитана Невельского и его офицеров и сам ни во что не веривший, кроме как в бога, и тот стал снова, как в детстве, поминать иногда всякую чертовщину.
В это время до слуха сидевших в фанзе донеслись визгливые выкрики торговца и вопль женщины.
Все кинулись наружу.
По тропинке, протоптанной в кустарниках к лавке, Гао Да-пу гнался за толстой Одакой, пиная ее ниже спины и выкрикивая грязные бранные слова.
— Хитрый Кальдука хотел отдать мне лишний рот, — нарочито громко, чтобы всем было слышно, кричал он. — Беги, беги, вонючка, мне тебя не надо!
Торговец остановился на полдороге между лавкой и фанзой Кальдуки и, глядя, как взлохмаченная Одака улепетывает к толпе гольдов, прокричал:
— Хитрые, хитрые лисы! Когда надо справлять праздник, просят: «Хозяин, дай водки!» — изогнувшись, представил он просящего гольда. — Когда голодные: «Хозяин, дай чашку пшена!» А отдавать не хотите, надеетесь на рогатую лягушку?[39] Посылаете ко мне голодную девку? Нет-нет, — подпрыгивая, взвизгнул лавочник, — отдай молоденькую дочку, а вонючку возьми себе. Сам хочешь получить за дочку торо, а торговец вешайся от убытков. Видано ли, чтобы долги не были отданы ни к Новому году, ни к концу охоты? — И Гао Да-пу, громко бранясь, поплелся в лавку. — Вечером отдавай долг или приводи девчонку, старый лисовин, а то сам приду за ней и отберу ее у тебя! — крикнул он из кустарников, оборачиваясь к Кальдуке.
Весь день гольды курили на канах длинные трубки, рассказывали разные истории об охотниках, о чертях и спорили, какой именно амба виноват в несчастьях Маленького и чем бы отвратить от него беду.
— Никакой черт не виноват в том, что Гао отбирает у нас девушек, — возразил старик Удога. — Помнишь, когда поплыли первые баркасы, шаман Бичинга говорил, что русские — это черти. Если бы они были черти, от них было бы много бед, а оказалось наоборот. Боясь русских, китайские торгаши перестали отбирать у нас девок, теперь они снова хотят приняться за старое.
Все же и Удога не сказал, что надо сделать, чтобы Гао не отобрал Дельдику. Когда-то он храбро ссорился с торгашами и не уступал им ни в чем. Осмелел он после того, как его наградили русские. Он служил у них лоцманом на сплавах, отличился отвагой и знанием реки. Сам губернатор Муравьев не раз хвалил его за усердие. Позже в Бельго поселился Бердышов, он не давал спуску торговцам. Но после того, как Иван и дочь Анга уехали на Додьгу, постаревший Удога снова стал побаиваться лавочника. Взрослых сыновей у него не было, сам он охотился все хуже, Савоська тоже сдавал, и у братьев уже не стало прежней уверенности в себе. Хотя они сами не были должниками, у них не хватало храбрости заступиться за Кальдуку.
Вечером, когда тайга побагровела от заката, ветер донес до слуха стариков голоса. К фанзе подошли Гао-младший и Гао-старший с работником Шином. Они стучали палками в стену так, что сыпалась глина и появлялись дыры, в которые валил мороз. Торговцы требовали, чтобы им вывели девочку.
Женщины заголосили. Кальдука Маленький выскочил наружу и заспорил с торговцами. Тогда Шин, рослый и сильный маньчжур, растолкав гольдов, ворвался в фанзу. Он оттолкнул Удогу, а бойкий Гао Да-лян крикнул гольду:
— Не смей мешать нам, тебя теперь никто не боится!..
И Удога с болью в сердце отступил, сознавая, что он теперь им действительно не страшен. Вряд ли кто из новых русских помнит о былых его заслугах. Все начальники здесь новые, никто не заступится за него. Надежда была лишь на Ивана, но тот редко наезжал в Бельго, и старых знакомцев, боевых морских офицеров, водивших сплавы, не осталось, все они по какой-то причине уехали.
Много потрудился в свое время Удога, и вот теперь его опять никто не знает. Лавочники скорей всех сообразили, что Удога теперь бессилен. Самый младший из них первый сказал ему об этом.
«Да, теперь меня никто не боится», — с горечью думал старый гольд. Рассказы о его подвигах стали лишь преданиями, сказками. Наконец прорвалась злость торговцев, которую они копили на Удогу много лет. Пока что это была лишь дерзость, но как знать, на что решатся они дальше.
В фанзе поднялся ужасный гам. Женщины пытались отбить Дельдику у китайцев.
Глава двадцать четвертая
Бабка Дарья, коренастая, моложавая, с широким лицом и зоркими глазами, сидела за столом и слушала разговор мужиков про охоту.
— Видно, мужики у нас сами лису не поймают.
Придерживая левой рукой фартук, она приподнялась и пошарила правой по черепкам на полке, достала какой-то травы, намяла ее с тестом.
— Кинь на острове, у норы, — сказала она сыну.
Через два дня Егор пришел с мешком и, сняв его с плеча, стукнул об пол чем-то тяжелым. В мешке была лиса-сиводушка. А на третий день попалась чернобурка.
— Целый месяц мы за ней ходили. Кабы не ты, старуха, не поймали бы, — признался дед.
— Лис да лиса, не пробеги мимо, — напевала старуха какой-то заговор, переставляя черепки со своими снадобьями.
В пятницу на первой неделе великого поста к Кузнецовым приехал Писотька с женой. Старик, увидя бабку Дарью, прослезился от умиления, его плоское лицо просветлело, а колючие, подозрительные глаза смягчились. Он поклонился ей в ноги и выложил на лавку соболя и великолепную чернобурку.
— Спасибо, бауска, сибко спасибо, моя сынка вылецил, — мягко и певуче говорил Писотька, обращаясь с непривычными чужими словами, как с дорогими безделушками. — Моя лиса ловил, народ в тайгу гонял, сам бегал, чтобы тебе гостинца таскать. Баба моя тоже гостинца привез.
Гольдка отблагодарила старуху меховыми сапогами. Стоя на коленях, она вынула подарки из кожаного мешка.
— Ну-ка, бауска, говори такое слово, чтобы никогда мальсиска не хворал. Наса тоже саман есть, да он плохо лецил, все моя мальсиска помирал, а твоя, бауска, сибко хороса…
— Мыть ребят надо, купать в воде хорошенько, с мылом, — втолковывала бабка гостям, рассевшимся на высокой земляной лавке. — Анка Бердышова дала твоей бабе мыла, — обращалась она к Писотьке, кивавшему головой на всякое ее слово, — она теперь сама знает, что с мылом делать. Корыто надо, воду нагревать да купать его, купать, — старуха делала руками такие движения, словно окунала ребенка в воду. — Его здоровый, шибко здоровый будет.
— Они так-то не поймут, им, поди, показать корыто надо, — с сожалением глядя на гольдов, вставила Наталья.
— Ну как не поймут! — возразила старуха. — Они понятливые.
— Конечно, понимай, как не понимай, — подхватил старик. — Корыто долбить надо, потом вода наливай, купай мальсиска-то. Наса тозе летом купаться ходит, только зимой не могу, сибко холодно…
Пришли Кондрат, Егор и Федюшка. Благодаря заботам Анги, подкармливавшей Кузнецовых соленой черемшой, мороженой клюквой и толченой черемухой, дед понемногу поправлялся. Чувствовал он себя все еще слабым, но все же, стараясь не быть обузой детям, ходил на релку и работал там, потихоньку раскряжевывая срубленные деревья.
Писотька быстро разговорился с мужиками, проявив особенное любопытство к Кондрату. Оба старика, усевшись рядом, поглядывали друг на друга с некоторым удивлением. Более всего Писотьку занимала седая широкая борода деда, а Кондрата — серебряные кольца в ушах и в носу гольда.
Писотька глядел долго на Кондрата и, наконец, попросил у него позволения потрогать бороду.
— Ну, трогай, — сказал дед, подняв подбородок и согласившись только из-за того, что гольд привез чернобурку.
— Ай нари![40] — умиленно восклицал Писотька. — Серт не знай, какой мяконький твоя борода!
Все уселись за стол. Гости, подражая русским, учились брать пельмени ложками.
Дарья и Наталья от души старались угодить гостям. Гольды прогостили у Кузнецовых до вечера и на прощание приглашали их всей семьей к себе в Мылки.
Так случилось, что Егор стал обладателем соболя и двух чернобурок. Кузнецовы решили отдать долг торговцу и на свою чернобурку набрать в лавке соли, муки, круп. На другой же день, заложив Саврасого в розвальни, Егор отправился в Бельго.
По дороге Егор сломал оглоблю, вырубил в прибрежном лесу новую и из-за этого задержался. Лишь к вечеру доехал он до Бельго. Взявши коня под уздцы, он вывел сани на откос берега и поставил Саврасого подле амбара.
Залаяли собаки. Из фанзы выскочил Гао Да-пу.
— Цу-цу! — закричал он на собак и, пряча руки в рукава стеганой кофты, разогнал псов пинками.
Собаки попрятались под амбар.
Торговец поздоровался с Егором и велел ему идти в лавку, а сам, вытянув шею, стал вслушиваться в какие-то неясные звуки, доносившиеся со стороны стойбища.
Собаки снова вылезли и громко залаяли на Егора. Торговец рассердился и погнался за ними.
— Иди, иди! — грубо крикнул он Егору.
Кузнецов пошел в фанзу. К его удивлению, там никого не было. По-видимому, братья хозяина и работник были в отлучке. Егор снял шапку, пригладил волосы, сел на теплый кан и стал ожидать лавочника.
В дальнем конце фанзы пылал очаг, языки пламени то и дело вылетали из-под котла с бурлившей водой. Пахло бобовым маслом, чесноком, прелью залежалых материй, сыростью и дымом.
Егору не понравилось, как торгаш пренебрежительно поздоровался с ним и как покрикивал, словно видел перед собой человека зависимого. Егор знал, что такова повадка у всех торгашей, когда у них что-либо просят. Ему хотелось поскорей показать пушнину и этим доказать, что он приехал не просить товары в долг, а расплатиться.
Гао долго еще ругал разлаявшихся собак, потом с кем-то громко бранился и, наконец, вбежал в фанзу, сильно хлопнув дверью. Что-то приговаривая по-своему, он присел на корточки у очага и стал греться.
— Ну, что приехал? — не оборачиваясь, спросил он Егора.
За последние годы Гао Да-пу насмотрелся на бедствующих переселенцев и не стеснялся с ними. Егор уже был его должником. Торговец знал, что он охотничает неудачно, и поэтому никак не полагал, что у мужика за пазухой лежат меха.
Егор поднялся с кана, размотал кушак, достал из-под рубахи соболя, сиводушку и чернобурок и выложил их на низенький прилавок.
— Ну-ка, глянь, чего я тебе привез, — сказал он.
Лавочник вскочил и зажег на прилавке свечу. При виде мехов он мгновенно оживился. Хватая каждую шкурку за хвост и за голову, он тряс их, рассматривая у огня, дул на них, ласково поглаживая своими сухими желтыми пальцами, и, откинув голову, любовался ими с видом знатока.
Егор подумал, что не зря ли выложил сразу все шкурки. «Надо мне было сперва показать одну, а то он вон как вцепился».
Тут Гао опять к чему-то прислушался. Вдруг он бережно положил чернобурок на прилавок и, ни слова не говоря, выскочил наружу.
«Какой ему нечистый мерещится?» — удивился Егор и тоже стал прислушиваться, но, кроме гудения ветра в дымоходах под канами, ничего не услышал.
При свете свечи Кузнецов подробней оглядел лавку. На глинобитных нарах стояли столики-коротышки с посудой и палочками для еды; на полу громоздились тюки и ящики; вдоль одной из стен тянулись полки с разложенными на них товарами; с поперечных балок из-под крыши свешивались несколько крупных звериных шкур и пучки сухой травы, предназначенной для завертывания ног; посредине фанзы, над канами, висели шубы и огромное фитильное ружье, аршин двух с половиной в длину; повсюду на деревянных гвоздях сушилась набитая травой обувь.
Ветер донес до слуха Егора чьи-то отдаленные голоса. Где-то в стойбище кричала женщина.
«Что-то тут у них неладно!» — с тревогой подумал Егор.
В фанзу вскочил Гао.
— Две чернобурки — восемь рублей, больше не стоят, это не шибко хорошая шкурка, — живо проговорил он, вешая чернобурок на деревянный гвоздь над прилавком.
— Да-а… — протянул Егор.
Торгаш раскрыл долговую книгу.
— Прошлый раз товар брал, сколько должен?
По его расчетам получилось, что и соболя и обеих чернобурок едва хватало на уплату старого долга. Егор попробовал сказать, что нет такой цены на меха, что каждая чернобурка стоит дороже всех товаров, какие он взял, но торговец так нагло и уверенно твердил свое, что мужик умолк.
Торгаш и слушать не хотел никаких возражений. Он охаял обе чернобурки, нашел проколы в шкурке соболя, совал Егору меха в нос.
Кузнецов подумал, что, быть может, на самом деле меха уж не так и хороши.
Пощелкав на маленьких счетах и что-то записав в книгу, торговец согласился отпустить Егору в долг мешок муки и мерку пшена. Он снял с полки выдолбленную из осины мерку и дважды насыпал ее, каждый раз уравнивая крупу палочкой с краями.
Когда Егор увязывал мочалкой мешок, где-то подле лавки, под берегом, послышалась возня. Кого-то, видимо, волочили по сугробам к фанзе. Слышалось тяжелое мужское дыхание, скрип снега, короткие торопливые возгласы и сдавленный женский стон.
Залаяли собаки. Ветер вдруг усилился, могучий поток воздуха зашумел, покрывая все звуки. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился разъяренный толстый брат Гао, тянувший за руку маленькую девушку-гольдку. Ветер трепал ее косы и полы халата. Молча, как пойманный зверек, отбивалась Дельдика от толстяка Гао. Она пыталась укусить его за руку, упиралась о косяки, и только когда торговец подхватил ее за пояс и втащил в фанзу, с ее сжатых губ слетел стон отчаяния.
Следом за Гао Да-ляном, отряхиваясь от снега, вошли младший брат хозяина и работник, вооруженный длинной бамбуковой палкой. Все трое сильно запыхались и о чем-то громко говорили, обращаясь к старшему хозяину. Гао Да-пу тоже закричал.
Толстяк, не стесняясь присутствия Егора, толкнул девочку в дальний угол; она прижалась к стене, закрывая халатиком голые колени и не сводя с торговцев своих больших выразительных глаз, в которых мгновенно отражалось каждое их движение.
Вынося мешок с мукой, Егор услыхал, как девочка пронзительно закричала. Возвратившись за вторым мешком, он увидел, как Гао Да-пу что-то ласково говорил всхлипывавшей девочке. Остальные торговцы как ни в чем не бывало расселись на корточках на полу и закурили трубки, не обращая никакого внимания на Егора, словно его тут и не было.
«Девку у кого-то отобрали», — подумал Кузнецов и, не прощаясь, ушел из фанзы.
За свою жизнь Егор повидал много людского горя, но все же сердце его не очерствело.
Он оглянулся. Луна уже поднялась над хребтами и посветлела так, что на ней ясны стали пятна. Небо очистилось, ночь обещала быть ясной. Можно отправляться домой, но Егор решил пойти к гольдам. Его удивляли наглость и самоуверенность торгашей. Он готов был заступиться за девочку, но сначала хотел разузнать хорошенько, что случилось. Он запахнул чепан, повязался кушаком, надвинул шапку и отвязал Саврасого от березы. «Ну-ка!» — тронул он коня и повалился в розвальни. Заворачивая, он заметил, что по кустарникам к нему близится какая-то тень.
Едва Егор отъехал от лавки, как из чернотала наперерез ему, прыгая по сугробам и оглядываясь по сторонам, подбежал гольд, повязанный платком. Егор с трудом узнал в нем Иванова тестя — Удогу.
— Батьго![41] — ласково кланялся старик. Важности у него как не бывало.
— Здорово, Григорий, — отозвался Егор, остановив коня.
Удога повел его к Кальдуке Маленькому. Фанза его была полна народу. Савоська что-то кричал, обращаясь ко всем присутствующим. Мать, бабушка и сестры Дельдики громко плакали.
— Беда, беда!.. — сказал Удога.
Гольды обступили Егора.
— Его девка пропала! — крикнул Савоська и ткнул в грудь Кальдуки.
По маленькому сухому лицу гольда текли слезы, скатываясь на кофту. Он подал Егору руку в медных кольцах и, кивнув головой, улыбнулся.
— Давай говори, — обратился Савоська к Кальдуке.
Но тот не находил сил и слов, чтобы толком рассказать о горе, а лишь кривил губы в жалкой улыбке, заискивая перед Егором.
— Гао-хунхуз, — хрипло заорал Савоська, — у него девчонку отобрал! — Он показал на Кальдуку, кивавшего головой в подтверждение Савоськиных слов. — В лавке ты был? — спросил он Егора.
— Был.
— Маленькую девку видел?
— Она еще совсем девочка. За этим стариком долг большой есть! Соболя нету, у него сынка нету, сам один охотник, — пояснил Савоська. — Вот сколько тут баба есть — все его бабы. Гао Да-пу в эту фанзу пришел, бил старика палкой, девчонку взял. Силком ее таскал в лавку, там черт его знай, что хочет делать.
Среди женщин послышались всхлипывания.
Дело было ясное. Егор понял: ему непременно надо пойти в лавку и заступиться за маленькую гольдку. Пока торговцы обманывали самого Егора, он еще терпел, но тут нельзя было не заступиться. Он поднялся, ощупал топор, поправил шапку, надел рукавицы и взял в руки кнут.
Савоська согласился пойти с Егором. Они вышли из фанзы и, пригибаясь от ветра, двинулись по направлению к лавке. Вскоре сквозь вой ветра и скрип деревьев до их слуха стали долетать пронзительные голоса торговцев.
— Ссорятся, что ль? — остановился Егор, не доходя до лавки.
— Нет, наш торговец всегда так кричи, он такой люди.
Егор велел Савоське зайти за лавку и ждать. Залаяли собаки. Егор дернул дверь. Она оказалась запертой. Он постучал. Оживленный разговор в лавке стих. Егор постучал сильнее.
— Отвори, хозяин! — проговорил Кузнецов.
— Это ты, Егор? — спросили из фанзы. — Чего надо?
Дверь приоткрылась, на пороге появился младший брат.
Торгаш поторопил Егора войти в лавку и плотно притворил дверь.
— Чего обратно пришел? — спросил с канов средний брат, запуская палочки в чашку с лапшой.
— Ночью домой не ходи, что ли, черта боиза твоя? — насмешливо спросил его Гао-младший.
Торговцы засмеялись. Они ужинали, сидя на канах. Насколько мог разглядеть Егор, маленькой гольдки между ними не было. «Что за чертовщина? Куда они ее девали? — подумал он. — С них всего станется», — и он насторожился.
— Шибко холодно? — спросил младший брат, глядя, как Кузнецов потер нос рукавицей.
— Холодновато, — ответил Егор, снял рукавицы, положил их на нары и сдвинул шапку на затылок, собираясь заговорить.
— Кушать хочешь? — предложил толстяк. — Лапша есть.
— Кушать мне некогда, — возразил Егор. — А я к тебе по делу, — обратился он к Гао Да-пу и присел подле него на кан.
Торговцы стихли. Тут Егор услыхал, что подле него, между стеной и глиняной кадушкой, кто-то шевелится. Он пригляделся. Из-за кадушки торчали детские ноги в стоптанной обуви. Маленькая гольдка спряталась от своих мучителей, только бы их не видеть.
— Это кто у тебя за кадушкой? — спросил Егор.
— Это? — Гао Да-пу вскочил с кана и, вытирая пальцы о кофту, подбежал к кадушке. — Это маленькая собака! — воскликнул он и стал ругать девочку.
— Слышь ты, — тронул его Егор. — Обожди-ка…
Но торговец долго еще кричал на девочку. Егор заметил, что Гао навеселе, от него разит водкой и чесноком.
— Ну, так вот, — заговорил Егор, когда Гао Да-пу, наконец, утих и снова занялся лапшой. — Давай-ка, брат, отпусти эту девчонку домой. Ее там отец с матерью ожидают.
— Зря говоришь, — усмехнулся торговец.
— Ты не смейся, я верно говорю. Ты ее лучше отпусти, пока беды не нажил.
— Ничего не понимаешь, — спокойно заговорил торговец. — Старик Кальдука много в мою лавку должен. Мы Кальдуку любим-любим. Ему трудно жить. Мы берем его девку, ее мало-мало кормим, она работать будет, за чушками смотреть. Мне эту девочку жалко-жалко.
— Ну, уж это ты зря, — недовольно возразил Егор. — Я сам видел, как вы ее волокли. Кабы ты ее жалел, она бы за кадушку не залезла.
— Ей тут очень хорошо. Что мы кушаем, она то же кушает. Спать вместе ложиться будем. Ее сюда клади, — Гао-младший показал на ворох тряпья. — Вместе спать шибко хорошо! — и молодой торговец нагло засмеялся в глаза Егору. — Играй, играй можно!
Егор понял, что над ним издеваются.
— Ах вы, язви вас в душу! — вдруг озлобился он. — Ребят у гольдов отымаешь? Да как же ты смеешь у отца отымать девку?
Торговцы, повскакав, с криками окружили Кузнецова.
— Чего кричишь? Вали отсюда! — крикнул Гао Да-пу.
Торговец схватил Егора за плечи и вдруг ловко ударил его ногой ниже спины.
— Че кричишь! Моя сам губернатор знает! — Он еще раз ударил Егора. — Вали отсюда! Муравьев мой приятель был!
— Отпускай девку, или я тебе всю лавку разнесу! — И, как бы в подтверждение своих слов, Егор, оттолкнув торговцев, пинком повалил на них весь прилавок.
Костяные счеты, мерки, аршины, баночки с тушью и все торговые записи полетели на пол.
— Вот я тебе покажу губернатора!.. — гремел Егор, топча ногами долговую книгу.
Видя гибель заветной книги, где записаны все долги, Гао Да-пу ужаснулся. Вскочив на кан, он закричал братьям и работнику, чтобы хватали Егора. Гао-младший, Гао-средний и Шин, вооружившись палками и размахивая ими, стали подступать к мужику.
Оглядев разъяренные лица торговцев, Кузнецов вдруг размахнулся кнутом и изо всей силы полоснул всех троих по головам. Удар с силой пришелся по толстяку и по работнику, но младший брат ловко подставил под кнут палку. Ремень завился вокруг нее, и торговец оторвал половину.
— Не тронь! На куски изрублю! — закричал Егор.
Мужик вырвал из-за пояса топор. Торговцы шарахнулись к нарам.
Видя, что они пререкаются между собой, кому первому начинать нападение, Егор, заткнув топор за пояс, вытащил из-за кадушки Дельдику и понес ее из лавки. Девочка, не понимая, что с ней делают, завизжала и забилась.
— Нельзя! — заорал Гао Да-пу. — Моя стреляй! — и он потянулся к фитильному ружью.
Под руку Кузнецову попал кол, которым подпирают дверь снаружи, когда уходят из фанзы, — он пустил его в хозяина. Торговец увернулся; кол угодил в решетчатое окно, морозный воздух хлынул снаружи.
Как только дверь распахнулась, выбежавший из-за угла Савоська схватил Дельдику на руки и помчался с ней по кустарникам к стойбищу.
Гао Да-лян вцепился в чепан Егора, но тот повалил его в сугроб, а сам стал отходить от лавки, отбиваясь от собак. Только в кустарниках, когда собаки отстали, Егор перевел дух. «Ну, слава богу, девку вызволил и сам жив-здоров!» — подумал он. На лице была липкая царапина. Егор вытер кровь.
Вспоминая подробности драки, Егор подумал, что надо было под горячую руку отобрать своих чернобурок. «Они же на стене висят, что бы мне руку-то протянуть!» Почитая сплошным обманом всю здешнюю торговлю, он не видел особого греха в своем намерении. Мысли о чернобурках отравили ему всю радость победы. Егор вспомнил, сколько положил он труда и времени, добывая чернобурку, и как радовались ей дети. И он вот все отдал торгашу чуть не даром. Чем дальше Егор отходил от лавки, тем обиднее ему становилось, что он так ожесточенно дрался за Ивановых кумовьев, за которых, по правилам, следовало заступаться Бердышову, а для себя не получил никакой выгоды. «Один ущерб: кнут поломали, рукавицы не дали взять… Или вернуться по горячему следу? — Он остановился. — Эх, кабы вовремя, будь я неладен! — досадовал он на себя. — Теперь лис у них уж не отнимешь и к фанзе они не подпустят. — Егор оглянулся на лавку. — Вот нарочно пойду», — решил он.
Оставив кнут на дереве, чтобы не мешал, он вытащил из-за пояса топор, вырубил из молодой березки комлястую дубину и двинулся обратно.
На этот раз он решил не входить в лавку и постучал дубиной в дверь.
— Эй, выходи кто-нибудь!.. Оглохли, что ли?
Незапертая створка задребезжала. Никто не отзывался, словно в лавке все вымерли. «Притаились, будь они неладны!» — подумал Егор и снова постучал.
— Иди, иди, а то стреляем! — вдруг крикнули из лавки.
— Я вот тебе постреляю!..
Егор с размаху грохнул дубиной по стене. Посыпалась глина. Собаки огласили воздух новым взрывом лая.
— Выноси обратно чернобурок, которых я тебе привез! — приказал Егор. — Хватит, повисели они на стенке.
— Товар брал! — восклицал Гао Да-пу откуда-то из глубины лавки. — Чернобурок обратно не дам!
— А если не отдашь, так я тебе камня на камне не оставлю. Кидай чернобурок, или поломаю всю лавку! — Егор снова ударил дубиной по стене.
Дверь распахнулась. Из темноты высунулось длинное ружейное дуло. Грохнул сильнейший выстрел старинного фитильного ружья. Одновременно в лавке раздался вопль. Егор догадался, что при отдаче стукнуло стрелка прикладом.
Кузнецов отошел от двери и притих. Пахло паленым. Выстрелом опалило ему бороду. Немного погодя из дверей высунулась голова Шина. Егор замахнулся, и будь у него дубина полегче, Шин не успел бы исчезнуть невредимым и захлопнуть дверь.
— Кидай, кидай чернобурок, не раздумывай! — крикнул Егор и принялся колотить дубиной.
Глина на стенах трескалась и осыпалась, жерди на крыше дребезжали и прыгали.
— Эй, Егор! — жалобно воскликнул купец. — Чернобурку отдаю, ты не сердись, наш дом не ломай, мы не стреляем!
— Как это не ломай? А ты детям жизнь ломаешь — это можно?
Торгаши, видимо, признавали себя побежденными, но Кузнецов опасался, нет ли тут подвоха. Прекратив осаду лавки, он остался настороже, стоя между выбитым окном и дверью. Потом он быстро подпер дубиной прикрытую Шином дверь, а сам, вооружившись топором, встал возле окна. Теперь лавочники в своей же лавке были как в западне.
Из окошка выкинули чернобурок. Опасаясь попасть под выстрел, Егор подгреб их к себе топорищем и спрятал за пазуху.
— Теперь рукавицы кидай!
— Какие рукавицы?
— Сам знаешь, какие рукавицы.
Переговариваясь, торговцы забегали по лавке, видимо разыскивая рукавицы.
— Одна рукавица есть, другой нету! — жалобно кричал Гао Да-пу.
— Ищи другую у кадушки, возле прилавка.
Наступила тишина. Торговцы, видимо, искали.
— Есть, есть! — вдруг весело закричал Гао Да-пу. — Нашел, лови!
Обе варежки вылетели через окошко и упали в снег.
— А соболя надо? — кричали торговцы, видимо готовые все отдать со страха.
— Соболя себе оставь. За долги да за покупки тебе хватит его с сиводушкой.
«И соболя-то им еще много будет, — подумал Егор, — соболь-то хороший».
Подняв варежки, Егор зашел за угол и, все еще опасаясь, чтобы ему не выстрелили в спину, отходя, держался той стороны, где в стенах лавки не было окон.
В кустарниках его повстречал Савоська в сопровождении нескольких гольдов. С молчаливым восхищением они отдали Егору найденный ими кнут и повели мужика к стойбищу.
В доме Кальдуки было всеобщее ликование. Старики наперебой кланялись Егору и лезли к нему целоваться. Савоська оживленно махал руками, рассказывая все подробности освобождения Дельдики. Егора усадили за столик, но он отказался от угощения и стал собираться домой. Кальдука снова опустился перед ним на колени, прослезившись, о чем-то его просил.
— Он дочку просит взять с собой, чтобы ты увез ее к Анге на Додьгу, а то, когда ты уедешь, Гао придет и опять отберет девку. Пожалуйста, вези ее к Ивану, — сказал Удога.
…Было еще не поздно, когда Егор с Дельдикой тронулись в дорогу. Застоявшийся конь, чуя, что путь ведет домой, бойко побежал по тропинке. Розвальни закачались на сугробах. Луна, как золотая белка, запрыгала в узорчатых вершинах лиственниц. Егор оглянулся на огоньки в фанзе торгашей и шибче погнал Саврасого.
«Так вам и надо! — подумал он. — В другой раз, может, не станете издеваться над людьми».
Глава двадцать пятая
За думами Егор незаметно добрался до Додьги.
— Доехали, — сказал он маленькой гольдке, остановив Савраску подле Ивановой избы.
Дельдика забеспокоилась и что-то залепетала по-своему. Егор помог ей выбраться из розвальней и повел в избу. Притворив за собой дверь жарко натопленной избы, мужик покашлял, но из темноты никто не отзывался. Слышно было только, как, часто и быстро стуча ногой, зачесалась в углу собака.
— Григорьевна, ты дома? — спросил Кузнецов.
— Кто это? — послышался с полатей испуганный и хриплый голос Бердышова.
— Никак, это ты, Иван? Слезь, я тебе гостью привез.
— Чего это тебя в полночь носит?.. Анна, поди засвети огонька: кого он там привез?
Бердышова слезла на пол, высекла огонь и зажгла лучину.
— Дельдика! — с восторгом воскликнула она, и обе гольдки радостно бросились друг к другу.
Тем временем Иван Карпыч слез с полатей и, поджав ноги, присел на лавку.
— Ты к китайцам, что ль, ездил? — спросил он.
— К ним, — ответил Егор.
Бердышов достал табак и трубку и, поудобней привалясь к горячему чувалу, закурил.
— Я продрог сегодня, беда, иззяб. И с чего, сам не знаю, будто не силен мороз, — посетовал Иван.
— А я полагал, что ты на этот раз подольше пособолюешь.
— Ничего не попалось, — удрученно ответил Иван. — За пустяками проходил, измаялся, ног не чую.
Впрочем, и при удачной охоте он редко сознавался, что взял добычу. Возвратившись с промысла, он обычно жаловался, что все плохо, что напрасно проходил в тайге.
— Ну-ка, ну-ка, рассказывай, — оживился Бердышов. — Григория видел ли?
— Как не видел! Кабы ты знал, Иван Карпыч, чего там сегодня стряслось…
— Значит, это ты неспроста девчонку-то привез? Э-э, да у тебя морда покорябана. А что это, синяк?
— Такая там передряга была! — вздохнул Егор.
Бердышов сразу повеселел.
— Как дело к весне подходит, пора гольдам долги отдавать, так торгаши за их девок берутся. Это уж известно. А это гольдам — острый нож.
Егор стал рассказывать про свои приключения.
— Так ты, оказывается, и мехами раздобылся? Ладно, значит, у тебя старуха лекарит. Это хорошо, теперь мылкинские на нее молиться станут, — заключил Иван по-своему рассказ Егора.
Кузнецов, между прочим, помянул, что обеих чернобурок он отобрал обратно и привез домой.
— Теперь боюсь, как бы чего не вышло, — не дай бог, они жаловаться станут.
Бердышов от души хохотал, слушая Егора.
— Здорово ты им задал!.. И не бойся, ничего не станется, — говорил он, вытирая слезы, навернувшиеся от смеха.
— Сам посуди — восемь рублей за пару чернобурок!
Иван Карпыч слез на пол и обулся.
— Ладно, что девку привез. — Он подошел к Дельдике, сидевшей на табуретке, и потрепал ее по голове. — Пусть живет, Анне будет помощницей. Хорошая девка! — вдруг засмеялся он. — Без обмана… Если бы не ты, некуда бы ей деться. — Дельдика замерла от его прикосновения и, не смея шевельнуться, косилась на Ангу. — Так восемь рублей тебе Гао не пожалел за шкуры? — обернулся Иван к Егору.
— А сам-то ты не продаешь ему свою добычу?
— Не продаю и не стану продавать. Больше ему от меня соболей не видать. Вот пойдет с Хабаровки почта, соберу свои меха, доберусь до Софийска или до самого Николаевска. Хочешь, и твоих чернобурок отвезу?
— Можно, конечно, — согласился Егор.
Иван вышел проводить его.
Ветер менялся. Небо затягивало тучами. Луна купалась в белых пенистых волнах.
— Эх, отощала у тебя коняга! — Иван похлопал Саврасого по заиндевелой спине. — Чего это бока-то ей как сшило?
— Корма нет, без овса стоит.
— Ничего, скоро оправится.
— Разве что! — ответил Егор и, взяв Саврасого под уздцы, направился к своей избе. — Завтра приду к тебе.
— Приходи, — отозвался Иван и заскрипел дверью.
Дома у Кузнецовых не спали. Наталья послала Федюшку распрячь коня и внести муку, а сама накрыла на стол. Дети слезли с печи и уселись на лавке. Для них не было большего удовольствия, чем слушать отца, когда он откуда-нибудь приезжал. По его рассказам они узнавали окружающий мир, людей.
Егор умылся и сел за стол. Он ужинал ухой, черствым хлебом. Лучина, воткнутая в светец, освещала русское лицо его со светлой бородой и острыми глазами. Егор рассказал, как поссорился с торговцами.
— Анга тоже сказывала про этих купцов, будь они неладны! — поддакнула мужу Наталья. — Окаянные, что делают с гольдами, а те терпят.
— Торговля: не обманешь — не продашь… — заключил лежавший на полатях дед.
Когда все легли спать, Наталья убрала посуду, потушила огонь и легла подле мужа.
«Завтра чуть свет побегу к Анге смотреть гольдскую девчонку», — решила она.
С содроганием она думала о судьбе, которая ждала Дельдику, если бы за нее не вступился Егор. Муж представился ей смелым, сильным, ее умиляло, что он подвергался опасности из-за маленькой гольдки. И она обняла его крепко, как, бывало, обнимала, когда только что вышла замуж.
* * *
Наутро Егор принес Бердышову своих чернобурок и просил продать их повыгодней.
— Уж постараюсь для тебя, Кондратьич.
День был ясный, солнечный, с крыши обильно капало.
— Как теплеет-то! — говорил Егор, глядя в оттаявшее окошко. — Успеешь ли до распутицы?
— Еще холода будут, — возразил Иван. — Это только немного отпускает, а как ветер подует, ударит морозище, снова закрутит пурга. Беда, как зима сызнова настанет! Амур еще не скоро тронется.
— Нартами ты бы живо отмахал.
— Забота с собаками, да и в городе трудно с ними, — возразил Бердышов.
Он не хотел ехать один с дорогим грузом. С почтой было надежнее.
— Тепло-то тепло, но ненадолго, — снова заговорил Бердышов, выходя из дому. — Сейчас самое время для цинги. Ты смотри, Егор, не оцингуй тут без меня.
Санка Барабанов протрусил мимо них верхом, направляясь к проруби поить коня.
Федор встретил мужиков у землянок.
— Все почту ждешь? — спросил он у Ивана.
— Скоро должна быть.
— Дед у нас занемог опять, — сказал Егор.
— Надо баб гонять в тайгу, чтобы клюкву, бруснику искали, рыбу свежую надо есть, не вымораживать ее, сырую хорошо бы, тоже помогает мясо сырое, хвою пить надо. Разные средства есть против этой цинги.
— По-ошта едет! — вдруг прокричал со льда Санка.
— Где увидал? — отозвался отец.
— Эвон… Через торосник переезжает.
— Обознался ты! Ничего не видно!
— Чего обознался! — кричал Санка, отъезжая от проруби. — Вон она! — парнишка показал рукой и, ударив коня ногами, поскакал обратно к берегу.
— Верно, колокольцы слыхать, — согласился Иван. — Востроглазый он у тебя, нас переглядел. Туда вон сколько верст будет!
Часа через полтора к поселью подъезжали груженые кошевки. Ражие детины в собачьих дохах правили конями, запряженными попарно, гусем. В кошевках виднелись ружья.
— С этакими не пропадешь, — рассуждал Федор, — покатишь, как у Христа за пазухой, хоть тыщу с собой вези.
— Эй, здорово, паря Ванча! — сказал, ломая шапку, передний ямщик.
Переселенцы высыпали из землянок на талый прибрежный снег встречать приехавших. Ребятишки пустились бежать наперегонки с почтовыми конями.
Дед Кондрат вдруг заплакал и пошел в землянку.
— Ты чего это? — спросил его сын.
— Кабы весточку с родимой сторонки-то… — скривившись, пробормотал старик.
Глава двадцать шестая
С первыми теплыми днями цинга начала валить новоселов одного за другим. Заболели бывшие еще недавно такими здоровяками братья Бормотовы. У Пахома из распухших десен выпадали зубы. Тереха еле волочил ноги, лицо вздулось, побагровело. Сама не своя ходила Пахомова жена Аксинья.
Анга при всем своем желании вызволить переселенцев из беды не могла всех их накормить соленой черемшой и мороженой ягодой. Запасы ее кончались. Из последнего давала она блюдце черемши больной Тимошкиной жене или семьям Егора и Федора.
Анга посылала Дельдику с бормотовскими бабами за Додьгу, на болота, искать под снегами клюкву, или в лес по бруснику. Приезд маленькой гольдки пришелся кстати. Дельдика теперь хозяйничала за отяжелевшую, располневшую Ангу, ходившую последний месяц, была ей во всем старательной и услужливой помощницей. Как раньше русские бабы обучали Ангу хозяйничать, так теперь сама она обучала всему этому Дельдику.
Однажды Егор позвал Барабанова ловить сазанов подо льдом.
Федор охотно согласился рыбачить. Все утро мужики провели на льду неподалеку от поселья. Возвращаясь в обед домой, рыболовы заметили вдали, на снегах, движущуюся черную точку.
— Кто-то едет снизу, — вымолвил Егор.
— Гольд на собаках, — отозвался Санка.
— Видишь, что ль?
— Нет, не вижу, — ответил парнишка, — а шибко быстро бежит.
Точка скрылась за торосами, и переселенцы разошлись по землянкам. Немного спустя Егор вышел еще раз поглядеть, кто же все-таки едет.
Из торосников, которые тянулись верст на пять, на простор гладкого снега вылетела собачья упряжка. Псы мчались во всю прыть, направляясь наискось к землянкам.
«Какой-то гольд к нам торопится, — подумал Егор. — Не от Ивана ли?»
Поравнявшись с кузнецовской землянкой, ездок в шубе соскочил с нарт, завернул их за дужку прямо на поселье и густо рявкнул на собак:
— Кой!
Псы свернули в сторону и снова рванули нарты. Судя по низкому, густому голосу, ехал русский.
На косогор взлетела дюжина огромных золотистых псов. Тут-то Егор разглядел седока. Упряжкой правил здоровенный курносый поп в мохнатой китайской шубе.
— Торо! — воскликнул поп, втыкая палку в снег.
Нарты остановились.
— Батюшка, свет ты наш, отец родной! — выбежав из землянки, восклицал прослезившийся Барабанов.
— Заходите в жило, батюшка, — приглашал Егор, осторожно подступая к упряжке, — а мы управимся с собаками.
— Умеешь разве? — спросил его поп.
— Да как-нибудь.
— Нет уж, давай я сам, — возразил священник и стал укладывать упряжку на снег.
Из всех землянок выскочили переселенцы и обступили попа. Он возился с собаками, изредка поглядывая на собравшихся. Сермяги, рваные шапки, лапти, куртки «крестьянского», еще в России катанного сукна, бледные лица, всклокоченные бороды, лихорадочно блестевшие глаза, худенькие полуодетые ребята, девочки-подростки, строгие и молчаливые, как взрослые бабы, темнолицые изможденные женщины с нахмуренными бровями, вот-вот готовые безудержно зарыдать или заговорить о своих бедах, — все это уже было знакомо попу, не впервые видел он нужду, голод и болезни переселенцев.
— Как поселье-то назвали? — весело, густым басом спрашивал он, приглядываясь к лицам мужиков.
— Да еще без названия живем, — угодливо ответил Федор. — Так Додьга и Додьга прозываем.
— Сами-то с Урала, слыхал?
— Оттель, батюшка.
— Ну вот и поселье-то Уральским надо называть.
— Да так и зовем! — сказал Егор.
Управившись с собаками, священник подозвал Кузнецова, которого сразу отличил как мужика крепкого и покладистого.
— Веди к себе, богатырь, — вымолвил он. — У тебя стану. Как зовут-то тебя?
— Егором, батюшка.
— В честь святого Георгия-победоносца, — улыбнулся поп.
— Он у нас округ гольдов и китайцев побеждает, — прыснул Илюшка Бормотов.
Все с недоумением посмотрели на парня, словно спрашивая его, зачем он нарушает торжественность минуты.
— Уймись, ты! — Агафья ткнула Илюшку под ребро так, что у того дыхание перехватило. — Нетёс!
Мужики вошли в землянку Кузнецовых. Бабы захлопотали. Запылала печь. Переселенцы тесно уселись на лавках. Поп, отдохнувши, помолился, бабы тихо плакали, мужики хмурились. Всем им молитва напомнила о родине. Только ребятишки, позабывшие церковную службу, слушали попа более с любопытством и страхом, чем с благоговением.
Амурский «наездной» увидел в этот день всех переселенцев. Когда к Кузнецовым пришла Анга, поп бойко заговорил с ней по-гольдски, как природный гольд. Жизнь здешнюю он знал не хуже Бердышова, но был разговорчивее его и отвечал охотно на любой вопрос. Он знал, как чистить и корчевать тайгу, советовал крестьянам приглядывать по окрестностям места под заимки, объяснял им, когда и как лучше пускать палы, понимал толк в хлебопашестве, в охоте и рыболовстве; священник был знаком с большинством амурских торговцев, знал, когда, в каких селениях и какие бывают цены на товары, сам разбирался в мехах, как заядлый пушнинник. Он меньше всего говорил о божественном и более толковал о хозяйственных делах, ободрял мужиков, уверял, что тайги и дичи страшиться не следует, что здешний край — золотое дно и что тут только лодыри не разбогатеют.
На следующий день поп отслужил молебен в землянке Кузнецовых, помолился об исцелении болящих, покропил водой стены и самих хозяев, потом обошел все землянки, сараи и скотники, освящая строения, кропя коров, коней и птицу.
Анга заказала себе отдельный молебен с водосвятием и по совету Дарьи попросила попа прочесть молитву за путешествующих, чтобы Иван благополучно вернулся из города.
Вечером поп крестил «дорожного», родившегося на плоту, сына Силина и «амурскую», родившуюся на Додьге, дочь Пахома. Крестным Феклина «дорожного» стал Федюшка, а крестной — Анга, выполнявшая все обряды с особенным усердием. Приезд попа ободрил больную Феклу — в эти дни она стала выходить из дому.
Несмотря на то, что, по сути дела, поп помощи переселенцам не оказывал, приезд его подействовал на них благотворно. У них побывал свежий человек, который, хотя и наскоро, но все же вошел в беду каждого, выслушав всех, дал много полезных советов и своими молебнами доставил крестьянам торжественные минуты, которых они давно уже не испытывали. Они верили, что теперь им станет лучше, и от этого, казалось, чувствовали себя поздоровей.
Помочь цинготным поп был не в силах, но обещал походатайствовать в городе, чтобы на Додьгу прислали фельдшера.
Между прочими делами поп, как оказалось, имел из города поручение от пароходной конторы договориться с мужиками о поставке дров для пароходства. Он объявил цены на дрова, условился, какая семья и сколько подряжается выставить сажен, а в довершение всего роздал небольшие задатки.
Наутро, благословив на прощанье всех жителей Додьги, поп укатил на своих собаках дальше, объезжать приход, разбросанный на сотни верст.
— Вот те и поп! — печально усмехнулся дед, глядя на реку, где батюшка помахивал палкой и покрикивал на собак. — Да это не поп, а жиган. Эх, Сибирь, Сибирь!.. — жаловался старик. — Попы — и те торгованы…
Ничто не радовало старика на новоселье. Здешняя жизнь казалась ему ненастоящей, словно она только снаружи была подделана под российский лад, а в сердцевине оставалась чужой и непонятной. Здесь все было не так, как привык он видеть и понимать на родине. Он вырос и состарился на пашне, политой потом его отца и деда, и настолько привык за свои шестьдесят лет к родной природе, что только ее и считал настоящей. Видя, что тут слой перегноя тонок и близка глина, он не верил, что здесь земля будет долго родить хлеб. Снега тут таяли поздно, лето было жарче, чем на родине, зима студеней и ветреней; почва, где ни ступал дед на берег, все лето оставалась мокрой; приметы погоды не сходились ни с одним праздником; леса были завалены гниющим буреломом и заболочены; травы росли быстро и, превращаясь в дудки, не годились на корма; богатства края — рыба, меха, леса — не радовали деда, словно он видел их в сказке или на картинке, а не наяву.
Здешние жители, как и все сибиряки, по его мнению, поголовно были жиганами и варнаками.
— С чего бы им иначе сюда идти? — говорил дед. — Либо сами убежали, либо сослали их на каторгу.
И, наконец, даже здешний «наездной» священник, о существовании которого дед слыхал прежде и которого ожидал он с нетерпением, оказался таким же варнаком. Более всего поп допытывался, добывают ли переселенцы меха и подрядятся ли заготовлять дрова для пароходства, и менее всего поминал про бога.
Молодые мужики не заметили в священнике того, что увидел дед. «Откуда им знать… И этим довольны — много ли им надо? — думал Кондрат. — Молодым-то кто помахал кадилом, тот и поп».
Сыновья и внуки, видя, что дед печалится, старались хоть немного оживить его.
— Тепло уж на улице, солнышко-то пригревает, — заговорил с отцом Егор.
— Греет, да плохо. У нас солнце об эту пору ниже и теплей, — возражал дед. — Тут хоть солнце и выше, а земля студеней.
— А ты чего, дедка, в избе сидишь? Иди на солнышко, — говорил Васька. — Весна на дворе.
— Много ты знаешь, пострел, какая бывает весна-то! Вот у нас дома весна так весна!..
— Сегодня уж теплей.
— Не знаю, доживу ли, нет ли до весны-то? — задумчиво говорил дед. — Ты-то доживешь, а я-то уж поспел…
Глава двадцать седьмая
Из Николаевска-на-Амуре в обратный путь Иван Карпыч тронулся на паре гнедых забайкалок, купленных им у казака-лошадника.
На восьмой день пути, не доезжая нескольких верст до устья Горюна, он попал в сильную пургу. С утра дорогу переметала поземка, ветер разошелся, нагнал тучи. К полудню началась сильная метель, и во всю ширь Амура, как хороводы белых теней, заходили снежные вихри. Вскоре начался обильный снегопад. Дорогу завалило снегом, дальше ехать стало невозможно, и Бердышов, завернув коней, с трудом добрался до маленького стойбища Гучи, расположенного неподалеку от устья одной из горюнских проток.
На Гучи он застал всех жителей в величайшем смятении и страхе. В последние дни к жилищам гольдов повадился тигр. Он таскал собак и свиней, а в последнюю ночь долго ходил вокруг одной из фанз, по рассказам гольдов, стучался в дверь, мяукал, наконец, разорвал лапой бумагу и, сломав бамбуковый решетник в маленьком окошке, просунул лапу в фанзу, скреб ею по канам, намереваясь, как предполагали туземцы, утащить кого-нибудь из спавших.
Хозяева, подняв циновку, показали Ивану многочисленные и глубокие царапины от когтей зверя на глиняной поверхности кана и на досках.
Гольды, почитавшие тигра как божество, не смели стрелять в него и относились к его посещениям с суеверным страхом, полагая, что это наказание ниспослано им за какие-то грехи.
Стояла такая погода, что ехать дальше, до Тамбовки, — верст восемь-десять — нечего было и думать. «Утащит эта тигра моих коняг, — опасливо подумал Иван, распрягая своих низкорослых лошаденок и задавая им овса. — Однако, не вовремя я сюда попал». Но делать было нечего. Иван поставил коней подле самой фанзы под ветром, накрыл их старыми хозяйскими шубами, чтобы они не мерзли, а ночью несколько раз выходил к ним с заряженным ружьем. Ночь прошла спокойно, и собаки проспали до утра, не подымаясь. Ночью метель стихла, взошел месяц, день обещал быть ясным.
Под утро, когда хозяева проснулись и было кому разбудить Ивана в случае опасности, он решил поспать и завалился на нары у самого окошка. Бердышов сразу крепко уснул. Спал он недолго и сквозь сон вдруг почуял, что кто-то скребет его за бок. «Тигра!» — мелькнуло у него в голове. Иван мгновенно очнулся и вскочил.
— Ну и крепко ты спишь! — оскалилась перед ним бородатая рожа Родиона. — Ты чего? Испугался, не признаешь, что ли? Это же я, я, Шишкин… Ты, поди, думал, что тигра тебя за бок?
— Ты откуда взялся?
— Все оттуда же… А ты куда запропастился? Я тебя который день ожидаю.
— На что я тебе?
— Поднимайся, поедем тигру бить, — отвечал Родион.
— Куда?
— Она сегодня ночью на Чучах чушку поела, поедем со мной на ту сторону.
— Куда же я поеду? Видишь, у меня кони стоят!
— Ванча, поедем, прошу! — молил Родион. — Как я могу на одного себя надеяться? Ведь это тигра, а не медведь, медведя я понимаю, а это хищный зверь…
Родион с утра поехал из Тамбовки за сеном, которое у него на одном из островов было заметано в стогах. Добравшись до Чучей, он услыхал от гольдов о ночном нападении тигра и поспешил обратно, чтобы забрать с собой несколько человек охотников и убить зверя. Проезжая мимо Гучи, он увидел, что гольды поят у проруби чьих-то коней. Он свернул в стойбище, чтобы посмотреть, кто там остановился, и, к радости своей, встретился с Иваном.
— Гольдам только дай с конями повозиться, шибко любят, — смеялся Родион, рассказывая, как он заметил, что в Гучи есть кто-то чужой. — Своих коней у них нет, а охота бы и им на коне ездить.
Иван молчал, видимо что-то обдумывая. Вдруг лицо его оживилось. Он усмехнулся какой-то своей потаенной мысли, быстро и хитро глянул на Родиона.
— Ладно, доставай лыжи.
— Давно бы так! — обрадовался Шишкин.
— Ну, а если эта тигра нас сгребет, кому оба моих коня достанутся? — шутливо сказал Бердышов.
— С тигрой этой у нас такое чудо было, — рассказывал Родион. — Она залезла на зады к Овчинникову, мы ее караулили, пьяные, да не слыхали, как она забралась в скотник. Сильвестр залез на крышу, провалился меж жердей да ка-ак ухнет — и прямо на нее. Тигра испугалась — и бежать. Ей бы его за шиворот… Потом в переулке ее ожидали, самострел ставили, как на медведя: два кулака на коленку, чтобы ей в сердце пришлось. Но какой рост у нее, не знали — и ошиблись. Ранили ее, она ушла. Долго не было, а вот теперь опять у гольдов появилась. Надо, парень, нам ее уничтожить, а то она скотину давит.
Родион не досказал, что между своими охотниками он похвастался убить «эту тигру», и поэтому никак не хотел упускать зверя. Разделить честь победы с Иваном ему было выгодней, чем со своими, поэтому, встретив его, он решил не ездить в Тамбовку.
У хозяев охотники выпросили две пары лыж и сошку. Бердышовских коней, чтобы зря их не маять, решено было оставить у гольдов. В Чучи мужики поехали на Родионовой кобыле.
— А где у тебя ружье? — спросил Иван, усаживаясь в розвальни.
— Я по сено ехал, не взял, — усмехаясь, признался Родион.
— Так какая может быть охота? Ты смеешься надо мной?
— Прошу, поедем! — умоляюще заговорил Родион. — Я на Чучах у гольдов отниму ружье.
— Да они не дадут тебе ружья: тигра — это бог для них.
— Ванча, силой отыму! — Родион тронул вожжами кобылу.
Отступать было поздно. К тому же охотничья страсть заговорила в Иване.
— Ладно, я тебе потрафлю. Верно, нам с тобой надо поучиться стрелять вместе, — и он подмигнул Родиону.
Шишкин закурил и утих.
— Ну, а у тебя, Родион, что новенького? — спросил Иван, когда сани выехали на дорогу. — Про Дыгена слыхал?
— Слыхал мельком: едет он по Горюну, гольдов обирает, — протянул Родион.
Иван поднял брови и многозначительно кивнул головой в ту сторону, где Горюн вытекает из гор.
— А у меня к тебе дело из города. От исправника.
— Что такое? — встрепенулся Родион.
— Вот я скажу тебе сейчас. — Иван не торопясь закурил. — Исправник велел мне Дыгена поймать и доставить в город. И тебя назначил мне в помощники.
Родион остолбенел и долго молчал. Он был отважный охотник и меткий стрелок, но душой прост и доверчив. Он верил Бердышову. Новость, сказанная Иваном, озаботила его. Приказ исправника — закон.
— Надо их захватить, но так, чтобы никто не видел, — продолжал Иван.
— Как же это можно сделать? — воскликнул Родион. — А мимо деревни как их повезем? Да и зачем такая тайна?
— Это мое дело. Ты только помоги мне их поймать. А не поможешь — худо будет и тебе и мне. Уж кто-то донес про нас с тобой в город, будто мы с Дыгеном заодно гольдов грабим. Ведь у тебя дружки среди гольдов есть?
— Дружки-то есть, но ведь я никогда… — начал было оправдываться испуганный тамбовец.
Иван перебил его:
— Я-то знаю! А люди думают, что если к гольдам ты ездишь — значит на грабеж. Ты уж лучше остерегайся. А то люди наговорят на тебя.
Родион помолчал в раздумье.
— Иван! — сказал он. — А почему полицию не пошлют его ловить?
— Полиция на лыжах ходить не умеет, — отвечал Иван. — Да и стрелять будут — могут промахнуться. От них убежать нетрудно. А про нас с тобой все знают, что мы охотники хорошие и что от нас никто не убежит. Всюду настигнем. Только, паря, это дело следует держать в тайне. Маньчжурца надо схватить тихо. А то у него есть друзья в вашей деревне, а это дело политичное. Начнется, чего доброго, война с Китаем.
Родион в беспокойстве молчал. Его тронуло, что в городе такого хорошего мнения о нем, но, с другой стороны, все это было мужику не по душе, и служить исправнику, которого он не любил, тоже охоты не было, а отказаться, конечно, нечего и думать.
— Придется нам с тобой ехать на Горюн, куда-нибудь за быки, там его и подкараулить, — продолжал Иван. — Гольдов надо взять с собой. Донял Дыген и их и китайцев. Все народы его возненавидели.
— У ноанского торговца чего-то выпытывал, язык ему вытягивал, иголками колол.
— Н-ну?!. За что?
— Китайцы сами не знают. Я мельком слыхал, что ноанский торговец где-то золотишко добыл. Вот из-за этого… Но в точности не знаю.
— Золотишко? — переспросил Иван.
— У Дыгена один спутник помер на озере, оцинговал, да один больной, сказывают — морок на него навалился. Вместе с этим больным их всего пятеро. Скоро Юкану выйдет с Горюна, его можно взять с собой. С ним будет братан его Василий, тот, который капитана водил с экспедицией. Может, они помогут.
— Юкану я знаю, — ответил Иван. — Я слыхал, что он торгует с тунгусами, соболей у них скупает. Они к нему на оленях с озер выходят. Мне помнится, он тебя охотничать учил?
— Было, — ответил Родион. — Давно, первый ли, второй ли год, как я приехал, пошли мы на охоту — человек шесть гольдов и я с ними. Юкану тогда медвежью дорогу нашел. Стали мы гонять медведя, а Юкану отстал, потом слышим: «Бах…» Он палит сзади, кричит: «Кой, кой!» Мы прибежали, а он давай нас всех ругать. Я последним прибежал. Он кричит на меня по-своему, а я еще тогда ничего по-гольдски не понимал. Потом мы догнали этого медведя, стали стрелять, пуля ему попала в ногу. Он заревел — и на нас. Юкану кричит по-русски: «Не стреляй, надо копьем колоть!» И ка-ак ружье с размаху бросит в снег! Ну, мы, все семь человек, с копьями вперед. — Родион снял рукавицы, растопырив пальцы, протянул руку, изображая, как охотники накинулись с копьями на зверя. — Медведь здоровый был, сразу три копья сгреб и сломал. Ну, тут Юкану крепко его ударил прямо в сердце. Юкану смельчак, ничего не боится. И Василий тоже не робкого десятка, не выдаст. Ружья есть у обоих.
— Это Юкану тебе про золотишко сказывал? Я давно знаю, что там, на речках, золото есть. Еще мой дядя до Муравьева бывал на Амгуни, нашел россыпь.
Родион молчал, помахивая вожжой над крупом кобылы.
— Да-а, однако, этот Дыген богатство везет с собой, — вздохнул Иван.
За разговорами незаметно добрались до Чучей. Кобыла трусцой затащила их на косогор. Несколько жалких фанзушек расположились подле устья горной речки. По долине ее рос густой лес. Кругом виднелись белые раскидистые ясени, безобразные столетние тополя, осины, огромной толщины дубы, клены, черемуховые деревья и голый кустарник, торчавший повсюду из сугробов. А над всем этим чернолесьем высились кедры и ели, иссиня-черные на снежных откосах гор. На островах посредине речки густо рос тальниковый лес с тальниковым же кустарником, который был переломан и повален целыми рядами в ледоход, местами завален льдинами и занесен снегом.
Чучинские гольды оказались неразговорчивыми. Тигра они боялись как огня и наотрез отказались помочь охотникам. Кое-как Родион упросил их хотя бы посмотреть за конем. Уходя из фанзы, он потянулся снять со стены кремневку, но гольды в ужасе закричали:
— Ой, ой, куда берешь? Зачем берешь?..
— Дай, говорю! — кричал Родион, хватаясь за ружье.
— Ой, амба нельзя бить! — вопили гольды, опасаясь, что тигр станет им мстить, если дадут охотникам оружие.
Они обступили Родиона тесной толпой. Оглядывая фанзу безразличным, как бы смущенным взором, Родион заметил под крышей разные охотничьи рогатины и копья; он вдруг ловко вскочил на кан, выхватил из-под потолка геду[42] и кинулся было вон из фанзы.
Гольды с криками набросились на него.
— Зачем берешь? Зачем берешь? — орали они, хватаясь за геду.
Родион изо всей силы дернул копье, вырвал его и, как безумный, выскочил наружу; проворно надев лыжи, он во весь дух помчался следом за Иваном, лыжня которого ушла в кустарники.
— Дурная у тебя смекалка, — сказал Бердышов, когда Родион догнал его. — Лучше ничего не придумал: с палкой на хищного зверя!
— Обратно, Ванча, сразу нельзя идти: позор, гольды подумают, что мы испугались.
— Зря ты меня сюда затащил, — проворчал Иван и быстро пошел вперед.
— Четкий след у нее, — говорил Родион, кивая на следы тигровых лап на снегу и стараясь узнать, сердится ли Иван.
— Ишь, как снег-то хвостом бороздила, — примирительно ответил Иван. — Чего-то тащила, присаживалась.
— Чушку у этих гольдов унесла, где мы коня оставили, а они ее, тигру, берегут, от нас еще охраняют, чудаки!
— Грех им против тигры идти, сомнение берет, как бы после чего худого не стало. Вроде как тебе же на Дыгена, — ухмыльнулся Иван.
Долго шли мужики по следам тигра, с напряжением всматриваясь в чащу, прислушиваясь ко всякому треску и шороху. Зверь был где-то близко. Шишкин и Бердышов наткнулись на кровавые следы его пиршества. Тигр не отходил от стойбища далеко — похоже было, что он сам следит за охотниками, притаился в засаде. На счастье, лес был тут не так густ, и зверь не мог подобраться незамеченным.
Тигр запутал следы. Побродив по долине, охотники решили отдохнуть на обширной поляне, посреди которой лежала огромная ель, поваленная ветром и полузанесенная снегом: тут все видно вокруг, и зверь не подкрадется незамеченным. Охотники сняли лыжи, стоймя воткнули их в сугроб и уселись на корточки. Рядом с лыжами Родион поставил в снег копье. Иван достал кисет, и оба мужика закурили трубки.
— Покурим да и пойдем обратно, — сказал Иван. — Хватит на сегодня, набродились. Слава богу, что не встретили. Ты как дите.
— А куда торопиться? Все равно нам теперь дня два ждать в Тамбовке. Лучше тут лишний день пробудем, чем в деревне каждому глаза мозолить.
— Так где теперь Дыген? В Ноане? — спросил Бердышов.
— Сегодня к вечеру должен бы быть в Бохторе. Стар этот Дыген, а отчаянный. Теперь ему годочков шестьдесят, если не больше, а он все еще ездит. Редко они набеги на нашу сторону делают, но здорово гольдов грабят.
— Постой, — шепнул Иван, вскакивая, и, схватив ружье, взвел курок.
— Ты чего?
— Тигра!
— Где?
— Под елкой, вон хвостом вертит. Где затаилась, подле нее сидели!.. Молчи! — Иван отбежал от елки.
Родион, выдернув копье из сугроба, последовал за ним.
Зверь шевелился под елкой, злобно колотя хвостом по ветвям. Родион приготовил копье. Иван отломил толстый сук и кинул его прямо в зверя. Огненно-пушистый хвост захлестал по еловым рассошинам, сбивая снег с ветвей. Зверь готовился к бою.
— Кошка, — вымолвил потихоньку Родион.
В тот же миг тигр выскочил из-под ветвей. «Ну, это смерть», — подумал Шишкин, крепко сжал геду в руках и встал подле Ивана.
Зверь сделал два огромных прыжка. Иван прицелился в глаз зверя, полный мутной злобы, и спустил курок. Раздался выстрел.
Зверь снова прыгнул, но, перевернувшись в воздухе, повалился в снег и забился в дикой ярости. Он ухватил когтями и зубами пенек и стал терзать его в предсмертных мучениях; щепы летели во все стороны. Родион ударил его в морду копьем. Зубы зверя лязгнули о железный наконечник. Родион вырвал копье из окровавленной пасти и с силой вонзил его в ухо тигра.
— Эй, шкуру не порти! — глухо закричал Иван.
Но Родион еще раз ударил тигра. Иван подбежал и выстрелил зверю в глаз.
Зверь стал утихать.
— В самую бровь угодил, — сказал Родион, рассматривая рану. — Ловко ты прицелился, а то бы нам с тобой не миновать смерти.
— Отойди, а то она схватит тебя, — предостерег Иван.
Словно в подтверждение его слов, зверь еще раз вздрогнул. Охотники отпрянули. Судорога пробежала по телу тигра, вздымая волнами пышный красно-черный мех. Вытянулись и шевельнулись лапы, показались когти, словно зверь потянулся спросонья.
— Готова.
— Теперь издохла, — вымолвил Родион. — Как она на нас озлилась!
— Не заметили бы мы, как она хвостом вертит, накурились бы досыта. Это она табачного дыма не стерпела, а то бы так и пролежала под елкой. Паря, эту бы тигру кинуть к вам в Тамбовскую губернию, вот бы пошла потеха!..
— А ты почему осип, Ванча? — вдруг засмеялся Родион, глядя на Бердышова. — Э-э, тебе бы сейчас в зеркало посмотреться.
— Как же! Тамбовские мужики на весь Амур страху напустили, — отшучивался смертельно бледный Иван. — Ну, ничего, гроза пронеслась! А, оказывается, вдвоем с тобой можно зверовать! Теперь пойдем на других зверей…
Глава двадцать восьмая
Родион давно дружил с гольдами; и когда случалось ему идти куда-нибудь далеко в тайгу, он обращался к ним за помощью. Поэтому никому из тамбовцев не показалось странным, что за последние дни в гости к Шишкину повадились горюнские гольды. Все замечали, что он куда-то собирается, но куда именно, никто не спрашивал — Родион все равно не скажет.
Когда после удачной охоты на тигра у Шишкина зажился Иван Бердышов, для всех стало очевидным, что оба заядлых охотника что-то затеяли.
Родион с Иваном в ожидании вестей о маньчжуре исподволь готовились к предстоящему походу на Горюн.
Родион по многу раз рассказывал своим односельчанам, как он вышел «с палкой на тигру». В довершение своего хвастовства он однажды вывесил тигровую шкуру перед своей избой на зависть своим соседям и соперникам по охоте — Спиридону и Сильвестру Шишкиным.
На третий день к вечеру приехали гольды Юкану и Василий. По их словам, Дыген поутру выезжает из последнего стойбища, где он прожил два дня.
— Откуда знает? — удивился Юкану, когда Иван, войдя в зимник, где остановились гольды, поздоровался, назвав его по имени.
Юкану был рослый, краснолицый и усатый, более похожий на чубатого казака, чем на амурского гольда.
— Знаю, знаю! — загадочно усмехнулся Иван, пожимая его заскорузлую руку. — Батьго, батьго!
В зимнике, просторной теплой избе, где никто из Шишкиных не жил и где зимами квасили шкуры, шили сбрую, шубы, обувь и готовились к охоте, мужики просидели с гольдами до поздней ночи.
Гольды ненавидели Дыгена и согласились помочь Ивану. Он о чем-то долго беседовал с Юкану наедине.
Затемно Иван, Родион и оба гольда выехали на двух нартах из Тамбовки, направляясь к устью Горюна. С ночи падал снежок, на льду намело порядочные сугробы, и нарты двигались медленно.
— А вот теперь скажу тебе правду, — сказал Бердышов Родиону. — Исправник велел нам с тобой этих грабителей перестрелять.
Родион испуганно взглянул на Ивана.
— Смотри не выдай. Дело государственное.
«Час от часу не легче, — думал Родион. — Вот запутают меня…»
Василий, ехавший на передних нартах вместе с Иваном, всю дорогу не давал ему покоя, клянча у него за свои услуги в придачу к серебру разные вещи. Болтливый и назойливый, он не походил на своих соплеменников. То просил Ивана купить жбан водки, то слишком хвалил его охотничий нож, добавляя, что ему самому хотелось бы иметь точно такой же, то вдруг спрашивал, чем станет угощать его Бердышов, если он приедет гостить к нему на Додьгу.
«Какой попрошайка!» — подумал про него Иван.
Василий всем своим поведением показывал Ивану, как он для него старается: гольд безжалостно колотил собак, то и дело кричал, что надо ехать быстрей, потому что они везут богатого, доброго человека, который ничего не жалеет для бедных жителей Горюна. Не находя иного способа выказать Ивану, как он поступается ради него своим удобством, Василий старался всячески потесниться на нартах, хотя для двоих места вполне хватало.
Наконец Василий надоел Ивану, и тот пригрозил, что не даст ничего, если он будет клянчить.
Гольд поморгал больными веками и сначала хотел что-то возразить, но сдержался, по-видимому решив получить подарок. По мучительному выражению, появившемуся на его лице, видно было, что молчание стоит ему великих усилий. Наконец он, видимо, успокоился, сел боком к Ивану и запел.
На моих собаках лоча едет, Ханина-ранина, —бойко выводил он.
Звуки песни напомнили Ивану самодельную скрипку, которую ему случалось слышать в Бельго.
Мы джангуя повстречаем, Ханина-ранина, —потихоньку заунывно продолжал Василий.
Сам я драться с ним не стану, Ханина-ранина… Джангуйни навстречу мчится, Ханина-ранина, Мое сердце встрепенулось, Ханина-ранина.— Где ты его видишь? — спросил Иван.
— Далеко… Так поется, — ответил Василий по-русски. — Еще маленько проедем, там встретим.
Нойон Дыген пропал, Ханина-ара… —взвизгнул гольд и на полуслове затих.
Издалека послышался ожесточенный собачий лай. Нарты проезжали под черными обрывами горы Голова Рябчика. Собаки, тяжело дыша, с трудом преодолевали снежные валы.
— Дыген едет! — крикнул сзади Юкану. Он слез с нарт и, чтобы облегчить работу собак, пошел пешком.
Лай становился все явственнее. Иван слышал, как вожак встречной упряжки злобно заливался на все лады, — он требовал уступить дорогу. Собаки Юкану и Василия залаяли в ответ.
Из-за скалы выползли нарты. Десяток собак, впряженных елочкой, с трудом их тянули, барахтаясь в глубоком снегу. По судорожным движениям псов, по высунутым языкам, которыми они время от времени прихватывали снег, по тощим, провалившимся бокам с всклоченной мокрой шерстью видно было, что собаки тянут из последних сил.
Впереди на нартах сидел человек в шубе с мохнатым воротником. Его шапка и плечи были завалены толстым слоем снега. Он все время держал над собаками длинную палку, как бы угрожая им. Нарты ехали прямо. По тупому, безразличному выражению лица и по безумному взгляду, устремленному куда-то вдаль, нетрудно было догадаться, что от долгих таежных путешествий на этого маньчжура напал «морок». Он сидел не шевелясь, тупо всматриваясь вперед, как бы силясь что-то припомнить. Собаки сами себе выбирали дорогу, погонщик лишь изредка, словно очнувшись от своих видений, с силой ударял палкой по собачьим спинам. Среди длинных мешков, привязанных к нартам, спиной к собакам сидел другой человек, голова его была укрыта высоко поднятым воротником.
Третий шел на широких лыжах. Вдали, из-за скалы, появилась вторая упряжка.
Сердце у Ивана застучало. Он скинул доху, пододвинул к себе заряженное ружье и велел Василию сворачивать. Взрывая груды рыхлого снега, нарты встали поперек дороги, чуть отступя от нее.
Сидевший на мешках оглянулся и, увидев встречных, что-то закричал погонщику, но тот, казалось, ничего не слышал. Тогда он проворно соскочил с мешков, к нему присоединился бежавший на лыжах: они стали бить собак и тянуть упряжку в сторону.
Иван и Родион смотрели на них и не трогались с места.
Родион был храбрый человек, верный своему слову. Он никогда не выдавал товарищей. И на этот раз, хотя вся эта затея не нравилась ему, он готов был, как ему велели, стрелять.
Видимо полагая, что русские боятся ехать мимо собак, спутники Дыгена пытались отвести своих псов от дороги. Тем временем приблизились вторые нарты. В них сидел рослый толстогубый маньчжурец, а из-за его спины виднелась чья-то заснеженная шапка, украшенная собольими хвостами.
В рослом погонщике Иван узнал одного из тех встречных, с которыми он спорил ночью под Бельго из-за покусанного собакой барабановского коня. Когда нарты подъехали ближе, человек этот проворно слез на снег и вцепился в хребтину остервенело рвавшегося вперед вожака.
Иван, обернувшись к Юкану, показал на рослого детину.
Между тем встречный в собольей шапке отряхнул снег с воротника и обернулся, по-видимому обеспокоенный длительной задержкой. Иван увидел знакомое рябое лицо, кривой глаз и седые усы, свесившиеся по углам рта. Это был Дыген. Лицо его, с тех пор как Иван видел его в последний раз, пополнело и стало благообразней.
«Вот когда ты попался!» — подумал Иван. Он еще дальше отъехал от дороги и, махнув рукой рослому погонщику, крикнул:
— Проезжай!
Встречные перебросились короткими замечаниями, погонщик повел вожака вперед, согнувшись, держа его за шерсть загривка и за поводок. Нарты приближались к Ивану. Вожак, оскалившись, залаял на него. Собака за собакой пробегали мимо Бердышова.
В широких тяжелых нартах виднелись кожаные мешки, тюки и шубы. Поравнявшись, Дыген уставился мутным глазом на Ивана. Он узнал Бердышова и, как видно, встревожился.
— А-на-на! — вдруг с жаром выкрикнул Бердышов по-гольдски.
В руках у Юкану сверкнула длинная сирнапу — палка с зажатым в нее клинком. Василий быстро кинулся к чужим постромкам и перерезал их ножом, а Юкану ударил по голове рослого погонщика. Упряжка запутала его в поводках и, с воем ринувшись вперед, потащила по снегу.
Иван как зверь рывком кинулся к нарте нойона.
Дыген пронзительно закричал. Он силился обернуться к своим спутникам, но тяжелая теплая одежда мешала ему. Иван застрелил его в упор. Родиону сбоку видно было, как старый разбойник тряхнул простреленной головой, откинулся на спину, перевернулся и повалился ничком в снег. Следом за ним, словно убитый тем же выстрелом, рухнул со своих нарт погонщик первой упряжки и, провалившись в глубокий сугроб, остался лежать неподвижно. «Не с испугу ли помер? — подумал Иван. — Вот как бывает! Или притворяется?»
— Эй, Родион, не зевай! — вдруг крикнул он. — Стреляй!
На первые нарты вскочили двое спутников Дыгена. Один из них погнал собак стороной, а другой, чтобы облегчить сани, на ходу выбрасывал грузы. Однако по целине, в глубоких снегах псы продвигались медленно.
— Стреляй, Родион! — прикрикнул Бердышов.
Родион дважды выстрелил из штуцера и, не дав им далеко отъехать, выбил одного из нарт.
Погонщик, на ходу кидавший мешки, упал.
Его товарищ, яростно колотя собак палкой, быстро удалялся. Юкану и Василий надели лыжи и, вооружившись копьями, побежали вдогонку.
Иван опустился перед Дыгеном на колени и расстегнул на нем лисью шубу. Под ней была стеганая шелковая кофта с серебряными шариками-пуговицами.
— Ну, теперь надо разобраться, сколько он жиру нагулял, во сколько наши грехи оценены.
За поясом Дыгеновых ватных штанов Иван нашел вместе с разными мелкими вещами небольшой, но тяжелый мешочек. Развязав его, он высыпал на руку кучку золотого песку.
— Эй, смотри, чего нашлось, — обратился он к Родиону. — Золотишко!
Подошел побледневший Родион.
Иван вытаскивал из мешочка мелкие щербатые самородки.
Издалека донеслись слабые крики. Мужики обернулись. Остановив собак, Юкану и Василий расправлялись с последним спутником Дыгена.
— Ну, вот и все! Отвоевались! Вот и забили тигру. Та, паря, с шерстью, кошка была, а тигра-то, вот она лежит!
Глава двадцать девятая
Пурга намела в Тамбовке сугробы вровень с избами.
«Завалины было потаяли, — думала Таня, с трудом пробираясь по глубоким сугробам, — а вот опять буран».
Девушка забежала к соседям. Арина Шишкина, высокая худая женщина, стоя у стола, разливала молоко по крынкам.
— Дуняши нету? — спросила Таня.
— Сейчас зайдет.
— Татьяна, что ли, пришла? — не поворачивая головы, спросил Спиридон.
Татьяна обернулась.
В углу при свете сального огарка мужик зачищал напильником железо, делал какую-то новую часть к ружью.
Спиридон, или, как называли его соседи и родичи, Спирька, тоже страстный охотник. В свободное от полевых работ время дни и ночи напролет возился он с оружием, а потом неделями ходил по тайге.
— Что ж, отец-то еще не приехал?
— Нет еще, — ответила Таня. — А Дуня пойдет к нам?
— Пусть идет, — отозвалась Арина. — Носит в такую погоду! — проворчала она.
Зашла Дуняша — тонкая и стройная белобрысая девушка-подросток. У нее худенькие плечики, широкое лицо я глаза, глубоко сидящие под белесыми бровями. Она в лаптях и в белом холщовом платье.
Таня заговорила с ней вполголоса.
— Чего же Родион-то не едет? — снова спросил Спирька.
В Тамбовке все мужики были охотниками. Зверей они били еще на родине, в тамбовских казенных лесах. Придя в Сибирь, тамбовцы селились сначала по Лене, но там им не понравилось, и они в шестьдесят первом году перешли на Амур, на Горюнский станок.
Вскоре после водворения на новом месте охота стала предметом увлечения всего мужского населения Тамбовки, от мала до велика. Охотились тамбовцы зимой и летом, добывая зверя всеми способами, полагая, что в тайге его хватит на века. Этой страстностью и безрассудным хищничеством они отличались на промысле от урожденных сибиряков, для которых охота — обычное дело, та же работа и которые знают, что зверям и в тайге бывает перевод.
Между тамбовскими охотниками не первый год идет спор, кто же из них лучший охотник. Родион в эту зиму добыл зверей больше всех, но признать его лучшим охотником Спирьке обидно. Спирька сам знаменитый охотник. Его зовут все «Лосиная смерть». Такое прозвище сильно льстит ему, и он желает поддержать свою славу. «Родиону просто счастье, как в карточной игре, — думает он. — Ему удача с тигрой. Она объявилась в деревне, когда его и не было. Мы с Сильвестром и с Санькой Овчинниковым должны были взять на сеновале, сидели, караулили, почти подбили. Нет, ушла и все равно Родиону попалась. А по правилу тигра должна быть наша! Нынче только и разговору везде, что про Родиона, он хитрый, к Бердышову как-то подъехал и с ним дружит».
Спиридон бросил железо на стол, потушил огарок, поднялся. Мужику лет тридцать пять. Он чуть выше среднего роста, сутуловат, со светло-рыжей бородой, которая в сумерках кажется черной.
— Да как же ты, Татьяна, не знаешь, куда он подевался? Не на охоту? — допытывался мужик.
— Не знаю, — потупив голову, ответила девушка.
— С ума все посходили с этой охотой! — пробормотала Арина.
— Ну, айда, — шепнула Дуня, подтолкнув подругу.
Девушки выбежали. Здоровые и крепкие, старшие дочери в семьях, девушки-подростки Таня и Дуняша целыми днями работали, как батрачки. Нравы в Тамбовке были суровые, родители ни в чем не давали девкам воли. Только на работу могли они тратить свои молодые силы. Зато много было радости, когда удавалось им убраться с родительских глаз долой.
— Ну, держись, Танька! — весело воскликнула Дуняша.
Таня пустилась наутек. Дуня была выше, сильнее; легко прыгая по глубокому снегу, она догнала подругу и повалила ее в снег.
— Тебе за тот раз!
— Опять ты…
Пурга заносила их.
— Вы что, девки, с цепи сорвались? — услыхали вдруг они знакомый голос.
В волнах несущегося снега стояла бабка Козлиха. Про эту старуху говорили, что она умеет колдовать и ворожить.
— Чего делают! — воскликнула старуха, как бы обращаясь к невидимому свидетелю.
Утихшие девушки поднялись, отряхиваясь от снега.
— Бабушка, вы как на улицу выходите, бурана не боитесь? — бойко спросила Таня.
— Вот я тебя!.. — пригрозила старуха. — Мать-то дома?
— Она к вам собирается, — соврала Таня.
— А-а, — дружелюбно отозвалась Козлиха. — Пусть идет. Скажи, пусть придет.
Старуха пошла своей дорогой.
— Вот теперь тебе будет на орехи!.. — сказала Дуня.
— Сегодня нам с тобой доплясывать. От того разу осталось недоплясано… Ну, отстань, хватит, а то голосу не будет.
— Мать-то уйдет?
— Уйдет, — уверенно ответила Таня.
— А то скажет: «Девки, в пост-то песни орать!» — всплеснула руками Дуня.
— Ишь, метелица…
— Сейчас хоть вечерку с гармонью — никто не услышит.
— Ух, жарко!.. Пурга крутит, — едва переводя дух, вбежала Таня в избу. — Несет как на крыльях. Мама, иди, тебя Козлиха спрашивала. К себе звала…
Петровна управилась с делами и ушла. Таня уложила маленьких братишек, переменила лучину и уселась на лавке. Выражение истомы и нежности появилось на ее грубом лице, в голубых глазах. Русые пряди липли к смуглому лицу, ресницы и брови были влажны. Щеки горели от ветра и снега. Как бы не в силах сдержать волнующего ее чувства, она заголосила сразу громко, ясно и протяжно.
…Девушки пели, потом, по очереди подыгрывая на бандурке, плясали друг перед другом.
Малыш закричал во сне, сбрыкал толстое одеяло. Таня положила бандурку, присела на кровать, прикрыла братишку, приговаривая нараспев:
Ба-а-аю, ба-а-аю…Оконце не прикрыто ставнем, и в стекло бьет метель. Из теплой избы смотреть страшно, что там делается. Дуняша задумчиво перебирала струны самодельной бандурки. Таня сказала ей:
— Сегодня Терешка на проруби спросил, почему мы с тобой к его сестре не приходим.
Она села на лавку и обняла подругу.
— Больно он нужен! — с пренебрежением ответила Дуня.
Терешка — сын богача Овчинникова, рослый, бойкий парень — поглядывал на Дуняшу и пытался, как говорится, ухлестывать за ней.
На днях подруги приходили к Овчинниковым. Терешка стал заигрывать и залепил Дуняше все лицо снегом. Она обиделась. Даже вспомнить неприятно.
Сейчас подруги наслаждались тишиной, спокойствием, уединением. Можно было помечтать всласть, наговориться о чем хочешь: взрослых нет, в избе тепло и так хорошо, работать не заставляют сегодня. Отца нет, и мать Таню не неволит, противная прялка убрана.
Дуня и Таня хоть и живут под строгим надзором родителей, но в обиду себя не дают. Они еще не сломлены жизнью и обе полны светлых надежд.
Что Терешка! Опротивевший соседский парень, грубиян! Он драчун, бьет парней. Правда, бывает, и ласково заговорит, но чаще он девчонок норовит схватить за волосы, ущипнуть.
Куда занесет девушек судьба? Что их ждет? Кто их суженые? Еще годик, и выдадут их замуж… Уж поговаривают об этом отцы и матери, и страшно становится. Конечно, любо стать невестой, просватанной, шить наряды… Песни будут над тобой петь… Но страшно…
— А вот вдруг ночью увидит кто-нибудь наш огонек, — говорит Дуня, — и заедет к нам. Молодой да красивый…
Подруги обнялись крепко, глядя на черное окно. Пурга выла, никто не ехал, ничего не случалось в жизни особенного.
— Отец сказал, что надо в тайгу собираться. Скука смертная! — молвила Дуня.
У Спиридона сыновей больших нет, он берет с собой дочь на охоту. Дуня умеет настораживать капканы, но стыдится рассказывать об этом в деревне, говорит, что отцу готовит обед в балагане. Тайги она не боится, были случаи, что ходила по ней ночью, на что не все мужики отваживаются. Ей только странно, что парни не так смелы. Чего же бояться!
На столе книги. Дядя Ваня Бердышов оставил их.
— Это что? — спросила Дуня.
Девушки почти неграмотны, с трудом разбирают буквы, помогая друг другу.
На картинке нарисована девица в бальном пышном платье, в шляпе и накинутом плаще, а перед ней стоит, опустившись на колено, молодой красавец. Что это? Кто они? Понятно девушкам, что парень стал на колени в знак любви и уважения. Хотелось бы самим стать грамотными, узнать, что написано.
— Спросить бы у дяди Вани, он скажет, — сказала Дуня, — он грамотный.
— Счастливый дядя Ваня! Он все знает, везде бывает, — молвила Таня.
Долго рассматривали девушки картинки.
— Давай сходим за Нюркой, — предложила Таня, — покажем ей.
— Ее не пустят.
— Да ну, пойдем! Утащим…
Девушки накинули шали. Пурга на дворе не была такой страшной, как казалась из избы. Едва девушки отбежали от ворот, как со стороны реки из-за сугробов появились черные собаки, три нарты и люди.
Из не прикрытого ставнем окошка избы мерцал огонек, и лучи его падали на несущийся снежный вихрь. Нарты поравнялись с воротами и остановились. Трое в лохматых шубах вышли на свет, направляясь к калитке.
— Кто же это? — с тревогой в голосе опросила Дуняша.
— Тебе чего надо? — стремительно подбежала Таня и встала в калитке, заступая приезжим дорогу.
— Родион дома?
— А тебе зачем?
— Куда он ушел? Моя дело есть, без погоди. Наше шибко холодно.
«Китайцы!» — подумала Дуня.
— Ничего не холодно. Тепло на улице, — сказала Таня. — Видишь, мы раздевшись бегаем.
— Че твоя совсем дурак? — сказал китаец. — Помирай хочешь?
— К гольдам езжай, у них ночуй. Их деревня рядом, вон огни горят.
— Моя знакомый!
— Ты, что ли, Васька Галдафу? — приглядевшись, спросила Таня.
— Ну, чего, узнала? — заблестел тот глазами. — Здравствуй! Моя Васька Галдафу… Здравствуй! — стал здороваться он с девушками. — Ты какая красивая, — он хотел ущипнуть Дуню за щеку.
— Ты смотри, я как брякну по морде, — отпрянула девушка.
— Играй, что ли, нельзя? Наша знакомый!
— Ну, заходи и заводи собак, — сказала Таня.
Толстяк обратился к одному из спутников и что-то сказал, как показалось Тане, по-русски. Приезжие, не открывая ворот, провели собак и нарты через калитку.
— Один-то будто русский, — потихоньку шепнула Дуня.
Девушки, оставив дом и спящих ребятишек на китайцев, сбегали за Петровной. Та позвала Спиридона, чтобы говорил с гостями.
— А это чей же парень с вами? — спрашивал Шишкин у Гао.
На лавке сидел белобрысый рослый молодец с тощим скуластым лицом, красным от смущения и мороза.
— Знакомый! Его отец — мой друг. Фамилия Городилов. В деревне Вятской живет.
— Куда же вы? — обратился Спиридон к парню.
— В город, — быстро, как приказчик в магазине, ответил парень и вдруг смутился и заморгал белесыми ресницами.
— Его имя Андрюшка, — продолжал китаец.
— Пожалуйста, заходите ко мне, — сказал Спирька. — Рады будем… А как у вас нынче покосы, тоже топило?
Петровна подала ужинать. Городилов отвечал кратко и неохотно. Он осторожно брал хлеб, ломал его маленькими кусочками и жевал неестественно медленно. Спирьке это не понравилось. Шишкин пытался расспросить, зачем он едет в город и как нынче живут мужики в Вятском.
Девчонки зорко наблюдали за приезжим парнем.
Спирька понял, что от вятского не добьешься толку, и заговорил с китайцем.
— Что, Вася, на Горюн не поедешь?
— Нет, там чужой река! Там другой хозяин — Синдан.
— Видишь ты! Значит, у вас разделяются по купцам эти гольды, как крепостные за помещиком.
Гао и Андрей переночевали в зимнике.
Когда Спиридон пришел утром к соседям, Андрея там не было. Он, как оказалось, ушел к Овчинниковым. У него было к богачам какое-то дело. Похоже было, что Андрюшка привез им спирт.
В тот же день в Тамбовку приехал другой торговец, по прозвищу Ченза. Гольды так называли его. Он был с речки Хунгари, впадающей в Амур выше Уральского. Ченза возвращался с низовьев Амура. Там обычно торговал его брат, но недавно он захворал и поручил Чензе собрать долги.
Толстяк Васька и Ченза, щуплый, исчерна-смуглый китаец с сухим, узким лицом и с проседью в черных усах, открыли скупку мехов в Спирькиной избе. Мужики приносили свою добычу.
Спирька по просьбе Петровны показал им шкуру убитого Родионом тигра. Китайцы сразу же назначили хорошую цену, но Петровна отдать не согласилась.
После обеда торговцы собрались ехать. Андрей запрягал во дворе своих собак, надевал на них хомуты. Девушки столпились у ворот. Он бросал на них косые, недовольные взоры.
— Бедненвкий! Он в работники к китайцу нанялся! — шутливо молвила Дуня.
— Ну чего выставились? — грубо спросил парень. — Не видели, как собак запрягают?
Дуня с укоризной улыбнулась. Парень не понимал шуток.
— Боится, сглазим, — со сдерживаемой насмешкой уронила Таня.
— А вот нарочно буду смотреть! — подбоченилась Дуня и вытаращила глаза на парня.
В калитку вошел рослый, худой и краснощекий Терешка Овчинников.
— Девки, не смейтесь над ним, — сказал он. — Андрей с рублем. Захочет — так всю Тамбовку нашу сдвинет с места.
— Надсадится, — отозвалась Таня.
Приезжий парень разогнулся и, жалко моргая, словно собираясь плакать, уставился на Терешку. Белые, как лен, брови выступили на густо покрасневшем лице его.
— Ой, девки, зачем вы его обижаете? — умоляюще шептала, трогая Дуню за рукав, толстая черноглазая Нюрка. — Ой, уж как не стыдно вам!.. Просто какие-то бесстыжие…
— Тятя, а кто он такой? — спросила Дуня у отца, когда торговцы уехали.
— Парень не дурак! Китаец говорит, что он повез в город спирт продавать. Тихоня, все краснеет. Я его просил продать спирту, так он мне дал бутылку, а больше не дал. Говорит, мало осталось. Я их знаю! Ему, видишь, невыгодно мне продавать. Он из молодых, да ранний. Гляди, он все моргает, а в городе, знаешь, какие деньги огребет… Он бы и вовсе не сказал, что спирт везет, кабы Васька не сознался, кто с ним путешествует. И Овчинниковы его ждали. Будут гольдов спаивать. Вот так и живем на новом месте. Одни хлеб сеют, а другие контрабандой занялись. Их послушаешь, так все тут только и делают что пьют. В реке, по их словам, не воде бы течь, а спирту.
Вечером Спиридон беседовал с соседом-приятелем — тамбовским богачом, мужиком огромного роста, Санькой Овчинниковым и со своим родичем Сильвестром Шишкиным.
— Давай с тобой возьмемся и превысим Родиона, — говорил Спиридон. — Я полагаю, что надо захватить эту тигру живьем и представить в Николаевск начальству, чтобы по всему Амуру объявили, какие мы охотники. Отправят ее в Петербург на корабле, а? Как ты, Сильвестр, мыслишь? Однако, и там такой животной нету.
— Как ее возьмешь? — угрюмо возражал Овчинников. — Она нас сожрет…
— Пущай попробует, — отозвался Спиридон. — Но если уж поймаем ее живьем, Родион не будет над нами насмехаться. Живьем еще никто тигру не ловил!
— Давай мы у Родионовой тигры усы выдерем! — сказал Сильвестр. — Слыхал, что китайцы сказали? Самая цена в усах да в костях! Они лекарство из костей делают для стариков.
— Нет, я на это не согласен. Не годится, — отвечал Спирька.
— Я выдеру сам, а ты молчи! Вот придет Родион, и больше хвастаться ему нечем будет… Тигра останется без усов!
Но ни Сильвестр, ни Спирька не привели замысла в исполнение — усы у тигра ночью выдрал Терешка Овчинников по наущению отца.
Глава тридцатая
Ночью Таня слыхала, как приехал отец, что-то таскали в зимник.
«Грузы, что ль, тятя возить подрядился?» — подумала девушка.
Отец и Иван распрягли собак, покрикивая на них.
— Ты, Иван, ввел меня в грех, — сказал Родион, входя в зимник.
— За товарища надо согрешить… — усмехнулся Бердышов. — Забудем! Исправнику не вздумай сказать!
— Ка-ак?!. — изумился Шишкин.
Мужик совсем пал духом.
— А будешь жаловаться — самого тебя затаскают, — продолжал Бердышов.
— Не про жалобу речь, — ответил Родион. — В какое дело я попал!.. — Он сел, опустив плечи.
Иван уговаривал Родиона взять часть пушнины из запасов Дыгена:
— Бери! Все равно мне не увезти. Что ж, бросать, что ли? Подумаешь, паря, в какое дело ты попал! Как не стыдно говорить так! Я ведь не жалуюсь, а тебе не совестно изменять товарищу, сожалеть, что помог?
— Да уж что тут! — махнул рукой Шишкин. «У меня дети, что я могу сделать с Ванькой? — размышлял он. — А с полицией не дай бог связываться. Лишь бы не узнали сами. Теперь век буду в кабале у Ваньки».
У Родиона было такое чувство, словно его запутали в силки.
— Но ты не совестись. Мы с тобой, по справедливости ежели рассудить, Горюн от разбойников избавили, славное, паря, дело сделали, для твоих же друзей старались. Осознай-ка!
Родион понимал, что Дыген разбойничал бы без конца, а полиция бездельничала бы. И при том беззаконии, которое было на Амуре, поймай Дыгена и привези его в город — горя не оберешься. Самих же затаскали бы по полициям. Вот и выходит: не убей — он бы ездил грабить, а убил — грех! Куда ни кинь — кругом клин.
— Все же я свою часть пропью! — сказал Родион. — Мне такого богатства не надо!
* * *
— Без ног вернулись, еле живы, завтра уж просим, — говорила Петровна всем мужикам, заходившим утром проведать, с чем вернулся Родион.
Она видела, что муж ее и Бердышов привезли что-то в мешках, и опасалась, что дело тут нечисто. Желая узнать, что делают мужики в зимнике, она зашла туда.
Иван и Родион еще спали. Груды черных соболей были разложены по лавкам.
— Что же это вы, купили или как? — окончательно расстроившись, спросила она очнувшегося супруга.
— Ты помалкивай! — тихо ответил Родион и кинул на жену такой яростный взгляд, что Петровна сразу ушла.
Мужики спали до полдня. Петровна послала Митьку в зимник звать отца и Бердышова к обеду.
— Ты где ночь пропадал? — спросил сына Родион. — Почему тебя вчера не было?
— На той стороне у гольдов в деревне был на празднике, там в медведя играли, — свободно ответил парень.
— Я ему никогда не запрещаю с гольдами гулять, пусть дружит, — сказал Родион.
Митька сел на лавку и, рассказывая про праздник, как бы невзначай водил по мешкам ладонью.
— А вы чего это привезли? — спросил он.
— Ну, пойдем обедать, — строго глянул Родион на сына и поднялся.
— А ты запасливый, — говорил Иван, заходя в горницу, где на столе расставлены были бутылки. — А, тут еще книги мои… — заметил он.
— Книги ваши очень девицам понравились, — приговаривала, суетясь, Петровна.
За столом сидели долго. Подвыпивший Родион, оставшись наедине с Бердышовым, ругал его:
— Тварь ты! Вот ты тигра-то и есть! А вот ты мне скажи: есть ли черти или нет? Вот вчера мы ехали, и горы были на левой стороне, потом, смотрю, горы справа пошли. Где верх, где низ — понять нельзя, будто другой рекой едем. А потом все обратно установилось.
— Скажи по душе: все же страшновато? — смеялся Иван.
— Да как сказать?.. Маленько есть… Ванька, ты быстро не уезжай, оставайся. Скоро пасха, мы всю деревню песни петь заставим, бабам платков пообещаем, девчонкам пряников, гулянку сделаем… Хитрый ты, тварь! Когда ты на реке Дыгена встретил, почему не сгреб, когда со своими пермскими ездил в Бельго в лавку? — говорил Родион. — Ты его нарочно отпустил.
— Нет, правда, я не знал. Какая мне выгода его отпускать?
— Ты давно в тайге шляешься, понимаешь, когда кого бить, Ты его отпустил, чтобы он жиру нагулял.
— Как же, это надо знать, когда зверя бить, — засмеялся польщенный Иван.
— У нас рядом Халбы — гольдяцкая деревушка, — рассказывал Родион. — Там у них в лесу ящики стоят. В ящиках такие черти с усами размалеваны, куда тебе!.. А у меня там друг шаман. Если ящики пустые, он пошаманит, настращает гольдей, чтобы несли в тайгу водку, а сам на другой день пойдет опохмеляться. Из этих ящиков всю водку выпьет… А гольды радуются, думают, что ее черти выпивают.
— Как же тебе шаман признался?
— Я сначала не верил гольдам, они говорили, что Позя пьет. А я думаю: «Не может быть!» Выследил шамана, когда он прикладывался, захватил его у самого ящика. Ему уж деваться некуда было.
— В Халбах второй день в бубен жарят, орут, дверь заперли у Хангена и никого не пускают, — стал рассказывать Митька. — Только не Ханген, а заезжий шаман шаманит.
— Родион, пойдем поглядим, как шаман шаманит, — сказал Иван.
Вечерело. Мужики вышли из дому.
Родион лег на брюхо и полез под крыльцо.
— Ты чего, молишься, что ль?
— Я камень хочу достать. Подшутим над ними, кинем камень в окошко.
Иван повеселел.
— Ты погоди, надо бы обутку старую достать.
— Митька, сходи поищи на задах какую-нибудь старую обутку, — сказал Шишкин сыну.
— Чучело бы сделать или бы какой сучок, чтобы на бурхана походил, — предложил Иван.
Митька принес старый унт. Иван положил в него камень, набил сеном.
— Угадай в шамана! — говорил Родион. — В заезжего-то! Знать будет, как у нас шаманить.
Мужики пошли в гольдскую деревню.
— Га-га-га! — орали в одной из фанз.
Родион подошел к окошку и стал всматриваться внутрь.
— А не убьют они нас, если поймают? — спросил он.
— Темно? — спросил Иван.
— Не шибко темно. Печку закрыли.
— Что-нибудь видишь?
— Только что тень ходит, прыгает, а больше ничего.
Крики стихли. Судя по разговору, шамана угощали водкой. Снова забил бубен. Заорал шаман.
— Да, это не Ханген, — сказал Шишкин.
Бердышов продавил решетник окошка и с силой запустил обутку внутрь фанзы. На миг наступила тишина. Иван скинул свою козью куртку, накрылся ею с головой и полез в окошко. Родион держал дверь. В фанзе поднялся ужасный вой.
Бердышов поймал заезжего шамана, содрал с него шапку, ударил по голове, забрал со стола жбан с водкой и выскочил в окошко.
— Ну, теперь беги! — крикнул он Родиону и со всех ног побежал к берегу.
Шишкин спешил за ним. Мужики спустились под обрыв. Сзади выстрелили несколько раз. Иван вскрикнул.
— Ты что? — спросил Родион.
— Только чуть живой, — пробормотал Иван.
— Врешь…
— Ей-богу!.. Пуля… попала… Вот дошутились…
Приятели вернулись домой. Родион осмотрел его. Иван был ранен в мякоть у лопатки, пуля чуть царапнула его.
— Что случилось? — заходя в зимник, спросила Петровна.
— Старого белья дай, — ответил ей Родион. — Гольды его подстрелили. Всадили пулю.
— Это на счастье! — молвил Иван. — Ты свидетель… Вот теперь я, чуть что, славно отбрешусь… Мол, Дыген первый начал драку, и меня подстрелили, стреляли в спину… Молчи. Мы с тобой еще наживемся на этой пуле. Спасибо гольдам! А маленько бы повыше — до свидания бы! Как раз следом бы за Дыгеном!
— Значит, еще рано, еще долго пропьянствуешь.
— Нет, я много пьянствовать не собираюсь…
— И что ж ты, без конца будешь жить?
— Не знаю, кто следующий меня стрелит!
— Кто-нибудь найдется…
Мужики пошли в избу.
Явились Спиридон и Сильвестр. Шишкин налил им по стакану водки.
— Я не пью, — ответил с достоинством Спиридон.
— Пей, я тебе велю! — Иван содрал со Спиридона куртку и усадил его за стол.
— Садись, сосед, — сказал Родион. — Хлещи!
— У меня пост…
— Гляди, какие у него разговоры! Ты что, поп или писарь? Откуда в тебе такая грамотность, чтобы так рассуждать? Ну, забудь все. Давай по-братски чокнемся. Ну-ка, Петровна, вставай, — разошелся Шишкин, — созывай девчонок!
— Пост, окаянный ты! — всплеснула руками Петровна.
— Чего же, что пост? А мы будем как господа. В праздник гулять всякий дурак сумеет, а вот ты попробуй в пост, — молвил Родион. — Дожидать праздников мочи нет. Пускай попы-твари знают… На самом деле? Что за издевки? Почему нам часовню, церкву ли не построят? Пусть знают, что мы через это вовсе сопьемся…
— Кто неграмотный, так и не знает, пост ли, кто ли… — заговорил Сильвестр, которому хотелось выпить. — Верно, вот я, к примеру, я и вовсе не знаю, что сегодня вторник, а что в воскресенье пасха, откуда мне знать? Чего с меня возьмешь, темный — и все тут. Хоть от кого отоврусь.
— Гольдам на Мылке церковь хотят построить, а русским нет, — говорил Спиридон. — Это что такое? А мы как? Инородцам церкви, а мы в темноте…
— Это уж как водится. У гольдов меха, с них попы наживаются, — сказал Спирька.
— Давай нарочно в пост напьемся и гулянку устроим, — сказал Сильвестр, — а попу скажем, что ошиблись, не знали, когда пасха.
— Кхл… кхл… просчитались!
— Верно. Им, может, совестно будет!
— За этим должон поп смотреть, а его нету. Пусть нас господь накажет, зато видно будет, как мы страдаем.
— А то маленько еще поживем и одичаем.
— На Ваньке Бердышове и так уж шерсть растет.
— Уж дивно вылезло.
— Тигра и тигра: пасть позволяет!
— Вот только что пасть поменьше.
— Митька, лови курицу, кабанина надоела. Или девчонок позови, они хорошо поют, — обратился отец к Тане. — Митька! Наша гармонь у Овчинниковых. Живо! — шумел Родион. — Скажи: ко мне исправник едет.
Но Петровна не позволила созывать девушек, уняла мужиков, не разрешила им устроить гулянку.
— Вот поп те узнает, проклянет, — ворчала она.
— Пущай проклянет: Ванька уж и так давно проклятый.
— Поп ученый человек, он все поймет… — пытался возражать Спиридон.
— Гуляй, Мишка, ее не слушай, баб черти придумали. Дергай, запевай забайкальскую! Митька, дуй за Овчинниковыми, пущай принесут спирту, у них в амбаре есть. Э-эх!.. Эх, ты!..
С этого дня Родион и Иван загуляли. Бердышов остался в Тамбовке на праздники.
В первый день пасхи на широкой, недавно протаявшей лужайке, на берегу, между Горюном и избами, мужики, парни и девушки играли в «беговушку».
Иван, причесанный, в одной рубахе, без картуза, поплевывал на обе ладони, перекладывая с руки на руку длинную жердь, и подмигивал белобрысому Терешке Овчинникову, державшему в руках тугой и тяжелый, как камень, маленький кожаный мяч.
Бердышов был трезв, но прикидывался подвыпившим и потешал всех.
Терешка подкинул мяч. Жердь со страшным свистом пронеслась у самого его носа, не задев мяча. Иван, видно, и не собирался бить по мячу, а хотел напугать Терешку. Тот обмер и побледнел. Иван пустился бежать. По нему били мячом, он увернулся, кто-то из бегущих навстречу с силой пустил в него перехваченный мяч. Иван прыгнул, как кошка, схватил черный ком в воздухе и с размаху на бегу врезал им по брюху бежавшего навстречу Родиона так, что слышно было, словно ударили по пустой бочке.
Все захохотали.
Родион пустился за Иваном с кулаками. Все бегали, мяч летал в воздухе.
В другой раз Иван так ударил, что мяч ушел чуть ли не, за Тамбовку; и пока за ним бегали; Иван успел вернуться на место.
Терешка, когда ему приходилось подавать мяч, теперь отступал подальше, даже если бил и не Иван.
К обеду, раскрасневшиеся, веселой шумной толпой гости вошли в дом Родиона.
— Что в этой книге, дядя Ваня? — спросила Дуня у Бердышова.
— Стихи!
— Видишь ты! О чем же?
— Мне сказали: «Читай». Я купил книги, — говорил Иван. — Буду потеть вместо тайги… Городские любят, когда складно сложено. Кто влюбится, читает своей… Вот смотри, вырастешь, ищи себе грамотного…
Он стал читать стихи ей и Татьяне. Стихи были про любовь и разлуку.
Вечером в избе Родиона собрались соседи. Женщины — празднично разодетые, в белых кофтах с расшитыми рукавами. Худенькие, приодетые девчонки в сарафанах сидели на лавке.
— Бабы наши ожили на Амуре и осипли на рыбалках, голосу ни у одной не стало, — говорил Родион.
— А девки хорошо поют, — оказал Сильвестр. — Еще рыбу не ловят!
— У нас невесты еще не выросли, — пояснял Родион. — Есть из новоселок, а наши еще маленькие, но поют хорошо.
— Мы сами еще молодые! — подхватил Спирька.
— А подрастут, можно сватать, — добавил Родион. — Находи нам женихов хороших. Только бы не бандистов. Ищи загодя!
Грянула гармонь. Девчонки затянули песню.
— Петровна, у тебя ладный голос, подтягивай!
— Гуляй, кума!..
— Девчонки еще молоденькие, а славно танцуют, — сказал Спиридон.
— Подрастут — и можно сватать! — твердил Родион.
В избу ввалились великаны братья Овчинниковы.
— Ну че, гулеваним? Давай, давай, — бубнил Санька Овчинников.
Заплясали бабы, замелькали платочки. Петровна проплыла по избе.
Легкая и стройная, в белых рукавах и сарафане, в толстых чулках и ботинках, Дуня вышла на середину избы. Она подняла голову и, разводя руками, легко проплыла по избе.
— Вот Ваньку выбери!
Дуня повела плечами, улыбнулась.
— Гляди — Дунька! Молоденькая, молоденькая, а какой змеей вильнула!
— Парень, ожгла? Куда теперь денешься?
— Эх, ма-а, забайкальские казаки! — пустился в пляс Бердышов.
По тому, как ловко и с каким притопом Иван прошелся по кругу, видно было, что мужик он еще молодой и бравый. Он надулся, вытаращил глаза, лицо его побагровело.
— Гляди, Ванька чего вытворяет!
— Эй, бурхан пляшет!
— Брюхан, истинно брюхан…
Бердышов и Дуняша, взявшись за руки уж после того, как стихла музыка, отделали несколько коленцев, как бы не желая уступать друг другу конец танца.
Иван вдруг схватился за голову и грузно пошатнулся на сторону. Дуня засмеялась.
— Ты что?
— Вы, дяденька, маленечко меня не придавили, — отстранясь, вымолвила она.
Иван взял ее за руки и развел их, клонясь к ее шее.
Дуняша вырвалась и отбежала.
Иван, пошатываясь, отошел к столу.
— Хоть бы и я тигру показывал? А что? — говорил Спирька.
— Усов меньше стало. Кто-то повыдергал! — сердился Родион. — Куда тигра без усов!
— Тебе бы бороду повыдергать! — пробасил Овчинников, желавший отвести от себя подозрения.
— Хотя бы, — безразлично ответил Спиридон. — Что, без бороды не проживу?
— Ты думаешь, эта тигра нам легко досталась?
— Скорей всего, что китайцы выдернули, — сказал Сильвестр. — Мы только в шутку об этом говорили, но ничего не делали.
— Какие шутки! — с досадой воскликнул Родион.
— Вот Овчинников свидетель! — сказал Сильвестр.
— Я ничего не знаю… Это, верно, китайцы!
— Родион, встретишь Ваську Галдафу, повыдергай у него косу — это, наверно, он, — сказал Иван, пристально приглядываясь к Овчинникову, замечая его смущение.
— Ну чего, весело у нас?
— Как не весело! — засмеялся Иван. — И девчонки у вас славные. Я всем женихов найду. А одну, как подрастет, сам просватаю!
— А ты не хотел на праздники оставаться, — хлопнул его Родион по спине.
Шишкин за гульбой повеселел.
Иван гулял во всех домах. Тамбовцы радушно принимали его. В деревне распустили слух, что Иван и Родион где-то добыли богатство.
На прощание Шишкин крепко поцеловал. Ивана, просил приезжать еще.
Голубые озера стояли на льду Амура, и похоже было, что уже нет пути. Иван ехал на риск.
— Иван Карпыч, погоди, — окликнул его на дороге полупьяный Спирька.
— Чего тебе?
— Я тебя уважаю. Я все знаю и никому не скажу. Я сон видел, — таинственно заговорил мужик, — будто пошел я ловить калуг, а на прорубях заместо рыбы…
На огороде ходили Спирькины жеребята. Молоденькая кобыленка подошла к перегородке и потянулась к Иванову жеребцу. Буланый задрожал и, раздувая ноздри, стал обнюхивать ее. Кобыленка жадно тянулась трепетными губами к его морде.
— Смотри, кони милуются. Жеребенок, а покрыться хочет, — перебил Иван.
— Это тебе мерещится все! Не покрыться, а жеребенок просто играет… Глупости все на уме…
Иван проворно слез, вспугнул жеребенка, с жестокостью ударил жеребца кнутовищем по морде и опять лег в розвальни.
— Ты шибко пьяный сегодня, — сказал Иван Спирьке. — Чего городишь — я не пойму. В другой раз потолкуем. Ну, будь здоров!
— И тебе не хворать, — снял шапку Шишкин.
Иван погнал коней.
Едва поравнялся он со Спирькиной избой, как из ворот выбежала Дуня. Увидевши коней, она ахнула и замерла.
— Ты чего, плясунья, ахнула?
— Маленечко вам дорогу не перебежала.
— Смотри, а то я бы тебя бичом, — проезжая, весело молвил Иван. «А ведь славная девчонка подрастает», — подумал он.
Через два дня, где верхом, а где вброд, бросив по дороге розвальни и навьючив тюки на коней, Бердышов с трудом добирался к Уральскому.
Глава тридцать первая
Федор решил, что сейчас самое время съездить к лавочникам и что они после драки с Егором станут покладистей. «Хоть с Егоровых кулаков разжиться».
В Бельго он заехал к Удоге, но того дома не оказалось. Айога ушла утром в дальние фанзы, а старик был на охоте. Соседи его не выражали гостеприимства и почему-то враждебно смотрели на Федора. «Узнали теперь все, твари, про мылкинскую ловушку!» — подумал он.
Не хотелось Федору сразу заезжать к торговцам, но деваться было некуда. Чтобы дело повести как полагается, в лавку следовало бы зайти невзначай, даже будто нехотя.
Удрученный, тихо ехал Федор по деревне по направлению к лавке. Вдруг из какой-то фанзы вышел высокий молодой гольд с непокрытой, наполовину выбритой головой и, покачиваясь, пошел ему наперерез.
— Здрасту! — застенчиво улыбаясь, молвил он.
— Здравствуй! Ты какой здоровый детина, а какой стеснительный! Тебе если чего надо, так говори смелей.
— Меня знаес?
— Конечно, знаю! Апчих, что ли, тебя зовут?
— Уй-уй-уй, — удивился гольд. — Как знаю? Моя Гапчи… Уй! Черт тебе знает, как тебе помню все… Уй-уй-уй!.. — радостно засмеялся он тоненьким голоском. — Ты у Удоги гостил, тот раз приходил?
— Гостил.
— Моя тятька Хогота знаешь? Который медведя показывал…
— Знаю, знаю.
— Потом ты как раз был, на охоту ходил с Савоськой в компании…
— Ходил и на охоту.
— Ну, конесно, мы знакомы. Здрасту, — протянул Гапчи руку. — Нам пойдем?
— Зачем?
— Гости нам пойдем. У нас водка есть… Мясо тоже. Вон тот наш дом, там моя отец, моя баба есть.
Федор завернул к фанзе. Выпить водки, хорошенько поесть, завести знакомство с гольдом — все это было кстати. Федор вспомнил, что вражда между Мылками и Бельго шла из-за жены Гапчи, украденной им у соседей. Барабанов желал узнать все подробности.
Хогота, отец Гапчи, седоусый, приземистый, с красными, воспаленными глазами, радушно встретил Федора. По-русски он разговаривал лучше сына.
— Ну, как живете? Как с лавочниками обошлось дело? — спрашивал Федор.
— Ладно обошлось, помирились… Конесно, еще заботу имеем.
— Слышь, а где же Григорий?
— Тадяна, Тадяна!.. — крикнул Гапчи.
Вошла толстая молодая гольдка, с лицом белым и румяным, как у русской купчихи. Она стала подавать кушанья.
— Моя баба! — с восторгом воскликнул Гапчи. — Че тебе, нравил такой баба? Ей морда белый-белый… Правда? Че сказес?
Гапчи заговорил с гольдкой по-своему. Тадяна остановилась на свету и с лаской смотрела на мужа своими черными, чуть навыкате, маслянистыми глазами.
— Ну как? — снова обратился молодой гольд к Федору.
— Чего же! Славная…
— Моя шибко нравил, — Гапчи радовался, как ребенок, глядя на жену. — Такой другой нету, ага?
— Ты давно женился? — спросил Федор, делая вид, что не знает про вражду двух стойбищ.
— Ой, Федор! — вздохнул старик. — Он ее как брал-то! Увозом женил, таскал…
Хогота стал жаловаться на сына.
— А моя охота нынче хорошо ходил, — перебил Гапчи. Он стал приносить шкуры лис, выдр, рысей, соболей.
Гапчи старался показать, что счастлив; он хвастался всем, что имел: женой, добычей, оружием. Потом стал приводить охотничьих собак. Он, должно быть, радовал всем этим и самого себя.
Когда хвастаться стало нечем, Гапчи сник и повесил голову.
— А я бы на твоем месте не стал мириться. Ну их к чертям! — говорил Барабанов. — Мне, знаешь, эти мылкинские не нравятся.
— Нельзя, Федор, надо. Такой у нас закон.
Гапчи встрепенулся. Он поднялся, ушел в угол, сел там подле жены и обнял ее. Супруги о чем-то заговорили.
— За нее почему бы и не дать выкупа, кабы люди-то хорошие были. Баба славная. Опять же у вас закон.
— Не знаю, что будем делать, если много запросят, — задумчиво говорил Хогота.
— Моя баба всем нравил. Только отец че-то сам не знает — нравил ему моя баба, нет ли! — вдруг с раздражением заговорил сын.
Федор стал догадываться, почему его позвали. Несмотря на достаток и на любовь Гапчи и Тадяны, в этом доме не было покоя. Федору казалось, что невестка не принесла счастья этому дому. По словам старика Хоготы, едва они приехали, как тотчас же на нее обратили внимание лавочники и зачастили в дом. А прежде они никогда не бывали тут. А сын Гапчи — слабый человек. Его стали спаивать, угощать, звать к себе. Хогота понимал, к чему идет дело. Сын радовался, что у него жена красивая, но что в этом было толку, когда лавочники вились около нее, готовы были погубить всю семью. Не на счастье весельчак Гапчи увез ее от старика. А тут еще и нет замирения и мылкинские грозят местью.
— К чертям всех! Никому ничего не давай! — сказал Федор.
— Они тогда убьют кого-нибудь.
— Пусть только попробуют!.. А если их к становому, знаешь, можно такое им присобачить — сразу охота пропадет. У нас по-русски, без разговоров…
Федор не утешил гольда. Не того Хогота ждал от гостя.
— Ну, а что нового, у вас? — оживился Барабанов, подумавши, что все эти гольдские дела — пустяки, а что ему еще предстоит заехать в лавку. — Как Кальдука-то? Вот старичишка!
— Кальдука женихов ищет, девок хочет продавать, бедным быть не хочет.
— Вишь ты! И ту продавать, что у Ваньки?
— И ту бы, конечно, отдал, да жениха нету.
— Ну вот, значит, теперь у вас все ладно. С охоты пришли, с китайцами замирились. Теперь только Мылки…
— Баба, конечно, хорошая, — снова заговорил про свое старик, — только сын сильно беспокоится, когда в тайге бывает. С охоты домой спешит.
— Поди, боится, что обратно отобьют?
— Зимой молодые все охотятся, а старики не придут, — уклончиво ответил Хогота и вдруг горько усмехнулся. — Не этого, конечно, боится. Вот сейчас-то опасное время. Мы на охоту не идем. Надо кому-то ехать просить замирения. Мне нельзя… Боюсь: если много попросят, чем платить?.. Слух до нас дошел, что пять котлов хотят просить. Где возьмем? Пожалуй, не стоит.
Гапчи разъярился и вскочил с кана. Отец и сын долго кричали друг на друга.
Барабанов стал собираться в лавку.
— Ты когда домой поедешь, то Мылки рядом, нам помогай, — попросил Хогота.
— Как же, постараюсь! Если встречусь.
— Ну ладно, если встретишь, тогда уж помогай. Говори, чтоб дешевле мирили.
— Чего-нибудь придумаем. Ванька приедет — с ним посоветуюсь.
Желая утешить старика, Барабанов похлопал его по плечу, думая тем временем, как бы половчей от него отвязаться.
Отъехав от фанзы, Федор почувствовал некоторую неловкость. Ему вдруг стало совестно, что гольд так просил его, а он ничем не взялся помочь.
«Черт их знает! Может, на самом деле как-нибудь пособить. Не так уж трудно припугнуть мылкинских. Такой славный старик. Верно, помочь, что ль, по-человечески? А то, видишь, Ванька, тварь, взялся тут всем помогать».
Глава тридцать вторая
Когда Федор вошел в лавку, на полу лежала такая груда мехов, что ее не обхватить было обеими руками.
— А-а, Федор! — воскликнул Гао. — Ну, как поживаешь? У меня сегодня братка домой пришел, он далеко ездил.
— Здравствуй, здравствуй! — вскочил с кана младший брат.
— Сиди как дома, — сказал старший торговец, усаживая Федора за столик. — Чай пей буду, ешь? Почему не хочу? Зачем напрасно? Чай пей, лапшу кушай, лепешки у нас шибко сладкие, язык проглотить можно! Пожалуйста, сиди, наша мало-мало торгуй.
Такое дружеское, простое обращение богатого китайца было приятно Федору. Его встречали как своего, выказывали радость, угощали и не стеснялись вести при нем свои дела. Как и предполагал Федор, торговец, после того как его поколотил Егор, заметно переменился.
«Эх, вот это богатство! — с восхищением смотрел Барабанов на груду мехов. — Вот как ведут дело! Куда Ванька лезет? Никогда ему за ними не угнаться. Вот это жизнь! Чистое дело — торговля!»
Он вспомнил Додьгу, переселенческие землянки, отощалых земляков, тяжелый их труд на релке… А тут шум, толпа народу, возгласы хозяев и охотников, меха на полу и на канах. Все это было ему по душе. Федор и раньше слыхал, что китайцы вывозят с Амура много мехов, но только сейчас, при виде такого вороха пушнины, он понял, что это означает.
Повсюду лежали и висели вывороченные мездрой кверху желтые, как пергаментная бумага, белки с голубыми и черными пушистыми хвостами. На прилавке высилась грудка соболей. Младший торговец и работник разбирали их, откладывая отдельно черных и желтых, и составляли пачки штук по двадцать в каждой.
«Ловко придется, скажу, что Ванька против них задумал… Вот схватятся, — со злорадством подумал Федор. — Они у него все расстроят…»
Гао Да-пу опять не церемонился с гольдами. Все равно теперь меха пошли. Он что-то насмешливо говорил старому охотнику Ногдиме. Гольды то и дело качали головами, усмехались и переглядывались друг с другом. Заметно было, что они сочувствуют сородичу, но остроумная речь торговца овладела ими, и они понимают, что вряд ли Ногдима сумеет настоять на своем.
Ногдима лишь изредка что-то тихо и неуверенно возражал. До сих пор он представлялся Федору человеком твердым и решительным. Его плоское черное лицо с острыми глазами, в тонко изогнутых косых прорезях, сильные скулы, тонкие, словно крепко сжатые губы — все это, казалось, выражало свирепость, упрямый, крутой нрав, уверенность в себе и в своей силе.
Но перед торгашом Ногдима оробел. Он ворочал мутно-желтыми, в кровавых прожилках белками, стараясь не глядеть на хозяина, как бы чувствуя вину перед ним, и возражал все слабее и слабее.
«Гольды некрепкий народ, — размышлял Федор. — Видно, Ванька Гао, чего захочет, вдолбит им. Это надо знать и мне».
Наконец гольд махнул рукой и с таким видом, словно соглашался на все. Он отдал меха, вышел из толпы и уселся в углу.
— Кальдука, иди сюда! — взвизгнул торгаш.
Все засмеялись.
Маленький выбрался из толпы. Голова его дрожала. Улыбаясь трусливо и заискивающе, он кланялся.
Торговец протянул руку под прилавок. Маленький решил, что хозяин ищет палку, чтобы поколотить его, и повалился на пол. Лавочник вытащил пачку табаку. Шутка удалась. Все оживились.
Подскочил младший брат и поднял Кальдуку Маленького.
— Что ты? Наша помирился… Больше ругаться не будем! — смеясь, говорил Гао Да-пу по-русски, а сам косился на Федора. — Кальдука, вот я тебе этот табак дарю! Я тебе ничего не жалею.
Федор сообразил, что все это говорилось для него. «Считают меня заодно с Егором. Ну и пусть!»
Торгаш закрыл долговую книгу. Гольды разошлись.
— Ну как, ловко я Кальдуку напугал? Моя так всегда играй. Только играй… Моя никогда настояще не бей. Гольды зря говорят, что моя бей. Моя их не бей. Моя их люби!
— Наша только вот так всегда играй, — подхватил младший брат. — Мало-мало шути, играй. Без пошути как жить? Нельзя!
— Ну, Федора, как думаешь, почему Егор не приходит? — спросил Гао Да-пу. — А? Он разве помириться не хочет? Разве можно так жить? Друг на друга надо сердиться, что ли? Убить, что ли, надо? Так будет хорошо?
Как Федор и предполагал, лавочник искал в нем своего заступника, выговаривая обиды, просил о примирении и о краже соболя уже более не поминал. «Теперь он не упрекнет меня! Отбил ему Егор охоту! Ай да Егорий!»
Приняв вид очень озабоченный, Гао спросил, как живут переселенцы.
— У нас Тереха и Пахом, братки с бородами, — говорил Барабанов, — знаешь, которые муку брали?
— Знаю, знаю.
— Ну вот, чуть не помирают. Цинга их свалила.
Торговец изумился.
— Ну, конечно! И сами виноваты. Ведь вот ни у нас, ни у Егора нет цинги. Старик у Кузнецовых прихварывал, да вылечился.
Гао Да-пу о чем-то поговорил с братом.
— Ладно, — обратился он к Федору. — Мужики Пахом и Тереха болеют. Пошлю больным людям муку, крупу, у меня чеснок, лук есть. Мужик будет лук кушать, и цинга пройдет. Мы совсем не плохие! Что теперь Егор скажет, а? Зачем его так дрался? Мы правильно торгуем. Людей жалеем, любим. И скажи: денег не надо. Совсем даром! — в волнении и даже со слезой в голосе воскликнул торгаш. — Моя сам русский!
Работник принес луку, чесноку и муки. Несмотря на весеннюю пору, у Гао еще были запасы в амбарах.
— Федор, вот мука. Тимошкиной больной бабе тоже дай. Баба пропадет — русскому человеку тут, на Амуре, жить трудно.
Торговцы приготовили к отправке в Уральское целую груду припасов.
— Только смотри, Федор, это дело не казенное, надо хорошо делать.
— Как это не казенное? — насторожился Барабанов.
— Не знаешь, что ли? Казенное дело такое. Солдаты плот гоняй, там корова, конь для переселенцев. Солдат говорит: «Наша бедный люди: денег нету, давай корову деревню продадим!» Пойдут на берег — корову продают. Деньги есть — водку купят, гуляют. Потом еще одну казенную корову продадут. Еще другую корову убьют, мясо казаку продадут в станицу и сами кушают тоже. Потом плот разобьют, совсем нарочно сломают. Пишут большую бумагу, такую длинную… Так пишут: наша Амур ходила, был шибко ветер, волна кругом ходи, плот ломай, корова утонули, кони пропали, наша не виновата. Это русска казенна дело… Русский начальник в большом городе живет — думай: «Черт знает, как много плотов посылали — все пропало! Переселенцы как-то сами жить могут без корова, что-нибудь кушать тайга нашли». Начальник так думает. Его понимает: солдат машинка есть.
— Что такое машинка?
— Как что? Ну, его правда нету, обмани мало-мало.
— Это мошенник, а не машинка.
— Все равно машинка. Пароходе середка тоже машинка есть. Ветер не работает, люди не работают, его как-то сам ходи! Мало-мало обмани есть! Все равно машинка! Люди тоже такой есть. Начальник-машинка тоже есть. Думай: «Разве моя дурак, тоже надо мало-мало мука, корова украли, богатым буду, а переселенцы там как-нибудь не пропадут». Вот такой казенна дело!
— Откуда ты об казне так понимаешь? — обиделся Федор не столько за начальников, сколько за себя, что лавочник смеет подозревать и его в таких же делах.
— Моя, Федор, грамотный. Все понимает, не дурак. Начальников не ругаю. Русские начальники шибко хорошие. Один-два люди плохой, а другой хороший, — поспешил Гао тут же похвалить русские власти, чтобы избавить себя от всяких неприятностей. — Русский царь — самый умный, сильный, хороший: его ума — два фунта. Моя царское дело понимаю. Его птица есть настоящая царская птица, у нее две головы есть, ума шибко много. Когда советоваться надо, царь ее спросит, птица скажет. Русский царь шибко сердитый, людей военных у него много, пушки есть большие, сколько хочешь людей могут убить. Наш пекинский царь тоже есть. Пекинский царь, как бог, силы много.
— Слышь, а вот у меня поясница тоже ломит, ноги мозжат… Как ты полагаешь, не дашь ли и мне луку-то?
— Можно!
— И муки. Ребята тоже прихварывают.
Но уловка Федору не удалась. Торговец отпустил ему муки, леденцов, луку, водки, но все записал в долговую книгу.
Как ни обидно было Федору брать в долг то, что другим давали даром, но он ни словом не обмолвился.
— Федор, помни, — говорил торгаш, — тут только Гао помогает. С нами ссориться нельзя. Если мы помогать не будем — пропадешь. Так всем скажи.
— Это тебя поколотили как следует, вот ты теперь и стараешься, — ответил несколько обиженный Федор. — Все-таки ты, Ваня, русского человека не знаешь! — расставаясь, сказал торговцу Барабанов.
— Ну, как не знаю! — самоуверенно ответил Гао Да-пу. — Моя теперь сам русский. Разница нету.
Засветло Федор вернулся в Уральское с твердым намерением передать больным в целости и сохранности все продукты, посланные торговцами.
Глава тридцать третья
Больной, вспухший Тереха лежал на лавке.
— А где Пахом? — спросил Барабанов.
— В стайке, — ответила бледная Аксинья, перебиравшая какие-то грязные тряпки.
— Не хотели должать, да, видно, придется, — сказал Тереха. — Надо куда-то ехать.
Вошел Пахом. Барабанов заговорил с ним:
— Ты, сказывают, в Бельго собрался. Не езди, я тебе и муки и крупы привез, луку. Лавочник прислал. Узнал, что ты хвораешь, и прислал. Без денег, даром…
И Федор стал передавать Бормотовым подробности своего разговора с Гао.
Пахом заробел.
— Нет, не надо нам, — вдруг сказал он, выслушав рассказ Федора, — бог с ним… Уж как-нибудь пробьемся.
— Чудак! Ведь он даром, как помощь голодающим.
— Нет, не надо.
— Не бери, Пахом, — подхватил Тереха. — Не бери! Как-нибудь цингу перетерпим. И не езди… дорога плохая.
— Их обманывали, обманывали… — как бы извиняясь за мужиков, заговорила Аксинья.
Федор рассердился:
— Да ведь ты только что в лавку собирался. Как же так? Сам не лечишься, поднять себя не можешь и другим лечить не даешься? Что ты за человек? Возьми в толк! Мне-то как быть теперь? Куда эту муку? Я для тебя старался, вез, к пасхе тебе желал угождение сделать.
— Убей — не возьму! — стоял на своем Пахом. — Прощения просим.
— Быть не может, чтобы даром! — суверенностью молвил Тереха.
— Вот тебе крест! Не веришь — съезди в Бельго… Не Хочешь даром брать — пусть цену назначит. Мне какое дело? Человек просил передать.
— Не поедем в Бельго: делать там нечего.
— Да ты не бойся.
— Вот луковку возьму. За луковку ничего не станет, — ухмыльнулся Пахом и с видимым удовольствием взял пару луковиц. — А муки не надо.
— Гао обижается, что помощи не принимаем.
— Нам такой помощи не надо. Мы без нее проживем, — твердо ответил Пахом. — Все равно теперь уж скоро весна. Не знаю, сплав вовремя придет, нет ли… Парень-то кормит нас, мясо таскает, — кивнул отец на Илюшку.
— Вот тварь, какой нравный у нас Пахом! — выходя, бормотал Федор. — Никак на его не угодишь, что ни делай, а он как раз поперек угадает.
* * *
С тех пор как отец и дядя заболели и перестали вырубать лес, Илюшка целыми днями пропадал в тайге. Казалось, он даже был доволен тем, что мужики заболели.
Ни у кого ничего не расспрашивая, он совершенствовался в охоте. В верховьях Додьги он убил кабана, сделал нарты и привез на себе мясо. Он ловил петлями рябчиков и тетеревов, а когда жил дома, добывал махалкой рыбу.
Сильный и выносливый, он ел сырое мясо, сырую рыбу, глодал какую-то кору в тайге и цинге не поддавался.
Илюшка давно поглядывал на Дельдику. Впервые увидев ее, он, словно изумившись, долго смотрел ей вслед. Встретив ее другой раз при ребятах, он поймал девочку и натер ей уши снегом. Маленькая гольдка закричала, рассердилась и полезла царапаться. Илюшке стало стыдно драться с девчонкой — он убежал.
— Она тебе морду маленько покорябала, — насмехались ребята.
Русские девчонки прибежали к Анге жаловаться:
— Тетя, вашу Дуньку мальчишки обижают.
— Тебя обижали? — спросила Анга.
Дельдика молчала. Ее острые черные глаза смотрели твердо и открыто.
Однажды Илюшка наловил рябчиков. Аксинья велела несколько штук отнести Анге. Бердышовой дома не было: она строила балаган в тайге. Илюшка отдал рябчиков Дельдике и засмотрелся на нее. Гольдка вдруг засуетилась, достала крупных кустовых орехов и угостила ими Илюшку.
На другой день Санка, не желая уступить товарищу в озорстве, поймал Дельдику на улице и опустил ей ледяшку за ворот. Подбежал Илюшка и сильно ударил Санку по уху. С тех пор все смеялись над Илюшкой и дразнили его гольдячкой.
— Илья Бормотов за Дунькой ухлестывает!
— У-у-у, косоглазая! — без зла и даже как бы с лаской в голосе говорил Илья о Дельдике.
Он опять наловил рябчиков и отнес их Бердышовой. На этот раз Анга была дома. Парень отдал дичь и присел на лавку, ожидая, не заговорят ли с ним. Однако ни Анга, ни Дельдика не выказывали ему никакого внимания. Бердышова всхлипывала, тяжело дышала и куда-то собиралась. У нее были испуганные глаза. Дельдика помогала ей одеваться.
Илюшка, видя, что тут не до него, загрустил и побрел домой.
Глава тридцать четвертая
— Не жалей невода! Еще невод сделаем, — говорила, обращаясь к Улугу, его жена Гохча. — У меня такой чирей на шее! Сильно болит, стыдно в люди показываться. С шишкой, что ли, на праздник ехать, чтобы люди смеялись? К русской лекарке меня свези, пусть полечит. Все соседки к ней ездят, все знают старуху. Одни мы не знаем, совсем стыдно.
— Может быть, бельговцы не захотят мириться, — нерешительно возражал муж. — Только даром будешь лечиться. И так пройдет.
— Ой-ой, как болит! Все равно поедем… Такой большой чирей! — жаловалась Гохча. — Ай-ай, как сильно хвораю! А про невод не поминай! Хоть бы был хороший! А то совсем старый. Совсем его не жалко!.. Ай-ай, как сильно хвораю!.. Ничего ты не знаешь, по-русски говорить не умеешь. Все от русских чего-нибудь узнают. Что ты за человек? И хорошо, что невод у тебя отобрали! А то новый бы никогда не завел.
«Крепкий и очень хороший был невод», — думает Улугу.
— Гохча к русским собирается, — смеялись соседи. — Хочет, чтобы Улугу по-русски выучился.
— Не езди, бабу не вози, — пугал соседа старик Денгура, — тебе худо будет: тот мужик, который тебя летом поколотил, он сын русской шаманки, он опять обидит. Русские — плохие люди. Кто к ним ездит, еще хуже заболеет.
— Чего не езди? Езди! Не бойся! — восклицал Писотька. — Старуха хорошо лечит. Мне парнишку поставила. Самый лучший баба-шаман. Когда Егорка невод отбирал, долго смотрел на тебя?
— Нет, однако, недолго. Один раз меня толкнул, потом ругался.
— Ну, не узнает! Один раз ударил? Тогда не узнает.
— Ты бы его бил, тогда бы он узнал, — усмехнулся сын Писотьки Данда, и все засмеялись.
Толстогубый, с широким мясистым носом, высокий и широкоплечий Данда с годами все более становился похожим на китайца. Ростом и силой он даже превосходил самого здорового из них — работника Шина.
Данда вел все торговые дела Писотьки. Это был парень смелый, дерзкий на язык, просмешник, а в ссорах и в торговых делах мстительный и жестокий. Должники боялись его не меньше, чем бельговских лавочников.
Богатство Писотьки околочено было с помощью Данды. Это он рискнул разорить ловушку Бердышова за то, что Федор украл соболя. Он горячо любил Писотьку, которому, как все предполагали, не был сыном.
— Тебя Егорка никогда не узнает, — продолжал Данда с загадочным видом, и все заранее покатывались со смеху. — Для русских все мы на одно лицо. Только у кого длинные носы, тех они друг от друга отличают. Длинноносых понимают, — при общем смехе и веселье схватил он Улугу за плоский, едва выдававшийся нос. Такие шутки над бедным стариком прощались Данде.
— А ты зачем мне поперек слово говоришь? — вдруг с обидой обратился Денгура к Писотьке. — Конечно, русские плохие люди, воришки. Все украдут… На берегу ничего нельзя оставить — все утащут, а лечить совсем не умеют: от них все болезни.
— Тяп-тяп, — передразнил старика Данда. — Знаю, тебе не нравится, что мы с русскими знакомы. Чего, охота опять, как при маньчжурах, старостой быть?
Насмешка была злая и попала в цель. Старик обиделся и умолк.
— Охота тебе чужим служить? Твое время никогда больше не вернется. Теперь надо по-другому жить. Эй, Улугу. Улугу! — вдруг тонким голоском закричал Данда. — Ты по-русски не знаешь, как будешь жену лечить?
На другой день Улугу повез жену в Уральское.
— Лечить-то они хорошо умеют, — ворчал Улугу, — а вот разве хорошо невод отбирать? Тот старик вместе со старухой живет, я его встречу, что с ним буду говорить? Смешно! Неужели русские, у кого широкие, правильные лица, тех друг от друга не отличают, а у кого лица узкие и носы длинные, только тех узнают? Смешно! Неужели такие дураки?
Кузнецовы только что отобедали, когда Улугу с женой вошли в землянку. Щуплый и жалкий, стоял гольд у порога, переминаясь с ноги на ногу. Дарья заговорила с ним. Она уже знала несколько гольдских слов. Гольдов усадили на лавку.
Улугу время от времени озирался на Егора. Убедившись, что тот не обращает на него внимания и, может быть, в самом деле, как уверял Данда, не умеет отличать гольдские лица друг от друга, Улугу успокоился.
Егор взял пилу и ушел из землянки. Следом за ним вышли мальчики.
— Тятя, а ты у этого гольда летось невод отнял, — сказал Васька, подымаясь за отцом на бугор.
Кузнецов уж и сам подумал, что где-то видел этого гольда.
— Что же, что отнял, — строго ответил он. — За дело отнял.
Спустя час Егор вернулся в землянку. Лечение окончилось, и бабка прихорашивала гольдку. Она отмывала ей грязь со щек. Муж внимательно смотрел на нее, сидя на лавке.
Егор остановился у порога, глядя на Улугу. Он вспомнил осеннее утро, косу над обрывом, ветер, волны. Улугу заметил на себе пристальный взор. Он почувствовал, что русский его узнал. Сердце Улугу замерло. Не желая выдать испуга, он, в свою очередь, пристально и как бы с подозрением стал смотреть на Егора.
Мужик в раздумье повесил голову. Мать его лечила и мыла гольдку. Сам гольд доверчиво вошел в дом, где жили люди, отнявшие у него невод. «А невод ему — что нам пашня».
Стыдно стало Егору, что в свое время, не зная тут ни людей, ни обычаев, сгоряча отобрал невод. Он хотел бы теперь его вернуть, но не решался заговорить об этом. «К случаю придется — отдам, — подумал Егор, но тут же подумал, что надо себя перебороть и честно сказать все. — Может быть, гольд тогда не разобрал, кто его обидел, не знает, что это я».
Егору пришло на ум, что нужно угостить гольда. Он послал мать к Федору одолжить водки.
— Удивил, Егор Кондратьевич! — восклицал, прибежав с бутылкой, Барабанов. — Я бы другому, убей, не дал, а тебе можно.
После первой чарки гольд развеселился. По-русски он не понимал, и говорить с ним было не о чем.
Барабанов начал знаками объяснять, что пора Мылкам мириться с Бельго.
— А то хуже будет. Ой-ой-ой, как худо! Скажи своим, что исправник приедет.
Тут Федор пальцем показал себе на лоб, потом плюнул на ладонь и, сжав кулак, замахнулся.
— Исправник, понимаешь?
— Отоли! Отоли![43] — испуганно вскричал Улугу.
Он понял, что речь идет о кокарде и мордобое. Он вскочил с лавки и тоже показал себе на лоб, потом плюнул на руку и тоже замахнулся кулаком.
— Исправник, отоли!
— Вот тут Бельго, а тут Мылки, — показывал Федор ладонью на столе. — Надо мириться, дружно жить. Араки пить надо, — щелкнул он себя по шее.
Когда Улугу, собираясь домой, вышел с женой из землянки, Егор вынес невод и поклонился гостю.
Гольд на миг остолбенел. Он ссутулился и заморгал. Краска выступила на его смуглом лице.
Потом он выхватил невод из рук Егора и бросил его в нарты. Сам прыгнул следом и, не прощаясь, не взглянув на Егора, помчался в Мылки.
Улугу с женой приехали через несколько дней снова. Они привезли Кузнецовым мяса и рыбы. Знаками гольд объяснял Егору, что дома все сказал, велел мириться и что жене лучше. Он все время кланялся и хитро улыбался.
— Гляди, привезли кабанины, — с уважением говорил про гольдов Кондрат, — будет чем кормить ребятишек.
Похоже было, что мир заключен прочный.
Бабка дала жене Улугу свежей мороженой капусты и несколько картофелин.
Улугу стал часто ездить в Уральское.
Понемногу Кузнецов и Улугу сдружились. Когда начались теплые дни, Егор как-то показал гольду соху.
— Вот это, брат ты мой калинка, называется соха! Соха! Понял?
— Соха, — повторял гольд.
Он теперь знал слова «соха», «картошка» и многие другие.
Понемногу гольд учился говорить по-русски.
Федор, встречая Улугу, каждый раз торопил его с примирением.
— А, исправник, отоли! Понимает! Смотри, брат… Скажи Денгуре, что исправник, брат, все отоли. Все понимает! Ой-ой, худо будет!.. Так и окажи.
С Федором гольд предпочитал объясняться знаками.
— Отоли, отоли! — Улугу, показывая себе пальцем на лоб, быстро плевал на руку и потом замахивался кулаком.
— Исправник-то отоли! — восклицал Федор.
Глава тридцать пятая
Как из бездонной пропасти, Иван выбрался с конями на релку. Внизу стлалась густая мгла. Льда амурского не было видно: казалось, что там провал. Тускло светила луна, и зеленоватый свет ее кругами расходился по туману. Лишь кое-где, как майские светляки, сквозь мглу просвечивали торосники.
Иван затрусил в распадок. Иззябший и уставший, поглядывал он на огонек своей избы.
«Однако, добрался, — подумал он, слезая с коня, — сам жив, лошади целы, ружье, меха, серебро привез и опять же не без золотишка». Нагрузившись тюками, Иван вошел в избу. Смрадный, жаркий воздух охватил его. У нар собрались бабы-переселенки. Сначала он ничего не понял. И вдруг заметил, что посреди избы к потолку подвешена зыбка.
— Вот и тятька приехал! — радостно воскликнула Наталья Кузнецова.
В тот же миг слабо закричал ребенок. Бабы обступили Ивана со всех сторон.
— Гляди-ко… На-кось тебе дочь-то, — приговаривала Наталья, поднимая младенца.
«Вот бабы, чем радуют!» — подумал Иван, удрученный тем, что родилась дочь, а не сын.
Но едва глянул он на крошечное опухшее личико и увидел в нем знакомые бердышовские черты, как доброта и жалость прилили к сердцу.
— Ах, ты! — покачал он головой, еще не решаясь тронуть ребенка.
— Чего боишься? Бери, твое, — заговорили бабы.
Анга застонала.
— Что с ней?
— Болеет, — сказала бабка Дарья. — На снегу, в лесу рожала-то, что с ней сделаешь! Девчонка прибежала, кричит в голос: «Тетка помирает!..»
Дельдика, вытянув шею, молча и серьезно смотрела на Ивана, желая, видимо, узнать, понравится ли ему девочка и что он станет с ней делать.
— Пошли в тайгу, в самую чащу, — продолжала старуха, — а у нее там балаган налаженный. Она родила и лежит без памяти. Видишь, по своему обычаю, значит, рожала.
Иван подсел на край нар, взял жену за руку и что-то сказал ей. Анга всхлипнула. На потном лице ее появилась плаксивая улыбка. Иван погладил ее горячую руку, перебрал пальцы в толстых серебряных кольцах.
— Не помрет, — молвила старуха.
Наутро Анге полегчало. Иван выпарился в печке, выкатался в снегу и, красный, как вареный рак, завтракал калужьей похлебкой.
Пришли мужики.
— Как дочь назовешь?
— У нас тетка Татьяна была, не шибко красивая, но ума палата. Татьяной назову. Ну, а вы как пасху справляли?
— Водки не было, — отвечал Тимошка. — Хуже нет, трезвый праздник. А ты спирту привез?
— Нету спирта. В Николаевске и спирт выпили и духи. Матросы платят рубль за флакон и пьют. Китайцы сверху везут туда ханжу. Находятся и русские мужики, что за сотни верст везут в город бутылку водки, только чтобы нажиться. У кого с лета остался спирт, те… Там харчи шибко дорогие. Людей не хватает. Казна и купцы большие деньги платят. Город строят, пароходы собирают. Там каторжане, солдаты, матросы.
За чернобурок Иван отдал Егору сорок рублей.
— А Галдафу мне восемь целковых не пожалел, — угрюмо сказал Егор, забирая деньги.
Все засмеялись.
— Я твои шкурки продал в Николаевске американцам. У них там магазин. Чего только нету! Товару, что стены трещат. Я всегда к ним заезжаю, другой раз ночую у них… Ружье купил у американца. Там есть один американец, у него жена — поповна, сам он был матросом на китобойном судне. Корабль их разбился у наших берегов, все утонули, а он в России остался и стал от своих купцов торговать. У попа дочь высватал… Оружье у них шибко хорошее, — показал Иван новенький винчестер.
В те времена винчестер с магазинным затвором был редкостью, самой последней новинкой, однако мужики особенно не удивлялись устройству американского ружья, полагая, что здесь, возможно, вообще заведены такие винтовки.
— Ты уж из него стрелял кого-то, — заглянул Федор в дуло.
— Как же, испробовал, — усмехнулся Иван, и глаза его заиграли. — С такого ружья не хочешь, да попадешь в кого-нибудь, жалко не стрелить.
— Паря, с американцами сдружишься, они тебя до добра не доведут…
— Это баловство одно, а не ружье, — сказал дед Кондрат. — В нашу пору таких не было, а били метче. Люди были здоровее, глаз имели верный, глаза у них не тряслись, руки не тряслись, воровали меньше.
При виде иностранного ружья Егор невольно вспомнил Маркела Хабарова — тому ружье запретили делать, а самого за то, что он придумал новое устройство охотничьей винтовки, поставили сплавщиком на плоты.
* * *
Солнце просвечивало далеко сквозь голоствольную чащу; как метлы на белых черенах, стояли желтые березы.
— Ручьи играют… забереги есть, — сказал Тимоха.
— Я уж поплавал по дороге.
— Вчера вон те пеньки выворотил, — с гордостью показал Егор вздыбленные, дымившиеся корневища. — Таял землю огнем, а потом уж их легко драть.
— Пойдемте к Пахому, — звал Федор.
Он рассказал Бердышову про случай с мукой, как Бормотовы отказались от помощи.
В землянке Бормотовых на столе и на лавках лежали куски рубленого кабаньего мяса.
— Парень у нас охотничает, — рассказывал Пахом. — Ружье ему отдали. Сами не можем…
— Ходить-то?
— Чего ходить-то! И прицела взять не можем, дрожь в руках. Хоть зверь в избу заходи, ничего не сделаем!
— А ты, Илюшка, и рад, что ружье тебе теперь дали? И слава богу, что отцы свалились?
— Рад-то он, верно, рад. Только, видишь, порох-то мы извели, — продолжал бородатый дядя Тереха. — Ты бы хоть немного одолжил.
— Это можно.
— А ты думаешь, пароходом доставят провиант?
— А почему у лавочника не возьмешь?
— Злодеи они. Девку от отца с матерью отнять хотели. А потом муку присылают. Такой тебе зря муки не пошлет. Девка-то тихая, ладная девка, все услужить хочет…
— Федор-то говорит: «Не трусь!» А нам, видишь, не боязно, да зачем же от злодеев хлеб-то принимать?
— А парень кабана запорол нынче, — перебил брата Пахом. — Мясо есть, даст бог, не околеем.
— Как же ты заколол зверя? — обратился Иван к Илюшке, молча сидевшему в углу.
Парень вдруг ухмыльнулся, надел шапку и ушел.
— Что это с ним?
— Сейчас покажет, — слабо оказал отец.
Илюшка принес самодельную деревянную пику.
Мужики засмеялись:
— Вот дубина ладная!
Они, казалось, не придавали никакой цены Илюшкиной охоте и смотрели на его пику, как на пустую забаву, чудачество.
Иван оглядел палку и покачал головой. Он понимал, какую храбрость и силу нужно иметь, чтобы убить такой штукой кабана.
— Он ее под вид гольдяцкой геды произвел, — объяснял Пахом, — только без железа.
— Как же ты колол?
— Пырнул… Как дал ему вот под это место!
— А он как дал бы тебе клыками… Что тогда?
Илюшкино лицо вытянулось, нижняя губа вывернулась, брови полезли на лоб, парень затряс головой, словно удивляясь, что могло бы с ним случиться. Предположение, что кабан мог ударить его клыками, показалось ему смешным.
— Давно бы ружье надо Илюшке отдать, — сказал Егор, — пока порох был. А то зря спалили.
— Кто же знал, что у него такая способность?
— Мы с матерью все ругали его, что в тайгу бегает. Признали уж, когда пороха не стало.
— Кто же обучил тебя копье сделать?
— А про него я в гольдяцкой сказке слыхал. Санка рассказывал. Они с гольдами на охоту ходили. Я за выворотень спрятался, кабан-то набежал.
— В первый-то раз в ухо угодил? — с живостью расспрашивал Иван.
— Свежинкой поделимся, — говорил Пахом.
— Вечером приходи, — сказал Бердышов. — Выпьем.
— На радостях-то…
— Попа нет, вот беда.
— Сами окрестим.
Пахом послал Бердышовым кабанины. Иван прислал ему пороха и кулек муки.
В сумерки мужики пили ханшин.
— Проздравляем, Анна Григорьевна, — кланялся Пахом.
Иван качал младенца и что-то бормотал то по-русски, то по-гольдски.
Мужики допоздна играли в карты.
Эх, бродни мои, бродни с напуском! —подпевал Иван. — Первые два года мужиков кормит казна. Они в это время в карты играют — так тут заведено. Вам амурские законы надо знать.
— Теперь такого правила нету, — ответил Егор. — Нынче шибко не помогают — сам себя прокорми.
— Беда, копейку продул. С вами играть — без штанов останешься!
Эх, бродни мои, бродни с напуском! —крыл Иван Тимошкину семерку.
— С тебя копейку выиграл. Слышишь, моя дочь голос подает? Что, тятьку надо? Девка у нас на бабушку Бердышиху походит. Я, на нее глядя, своих нерчинских стал вспоминать, а то было совсем забыл.
Эх, бродни любят чистоту, А поселенцы — карты!..Глава тридцать шестая
На Амуре уже выступали забереги. По ним в лодках приезжали к Ивану гольды. Иван раздавал им серебро за проданные меха. У всех знакомых гольдов он брал в город меха на продажу. Явился Айдамбо, совсем еще юный паренек, лучший стрелок на всем озере. Он позже всех вышел из тайги. Мельчайшими красными узорами были расшиты его куртка белого сукна, белые лосиные штаны и унты.
— Соболя есть. Держи, — говорил Айдамбо. — Соболя на, другого на… третьего на… четвертого на… — Айдамбо выбрасывал из-за пазухи черные шелковистые шкурки. — Теперь где водочки достанешь?
— Отдам тебе все! Свое уступлю, ребята хорошие! А ты разве пьешь?
— Отцу покупаю. Да и сам выпью! Отец больной ждет меня. Давай скорей!
Водка у Ивана была. Он берег несколько ящиков. Зная, что у всех торговцев запасы иссякли, дороги по Амуру нет, а мехов у охотников много, Иван открыл свой амбар.
Он знал: меха теперь потекут к нему.
* * *
Айдамбо, увидев Дельдику, замер в немом восхищении. Она мыла посуду точно так же, как это делали русские женщины.
Иван заметил взор юноши.
— Понравилась? — смеясь, спросил он.
Айдамбо покраснел, не в силах вымолвить слова.
— Поговори с ней! — посоветовал Иван.
— Не па-ажваляет, — ответил Айдамбо и захихикал виновато, словно его защекотали. Смелости его как не бывало.
— Кто не позволяет? — спросил Иван с удивлением.
— Жакон не па-ажваляет, — отвечал гольд.
— Ну, уж ты старый закон не слушай. Здесь у нас русская деревня, и можешь говорить с ней, сколько хочешь. Я бы молодой был, сам бы от нее не отстал. — Он подмигнул парню.
Айдамбо весь день провел у Бердышовых.
— А отец, наверно, покупки ждет. Ты мне говорил, что он больной, ему надо выпить, чтобы согреться, — посмеивался Иван после обеда, — а ты водку не везешь.
— А ну его к черту! — с досадой отвечал Айдамбо.
Однако при упоминании об отце выражение заботы появилось на лице гольда. Вскоре Айдамбо собрался.
— Я скоро снова приеду, — сказал он Ивану, — и привезу тебе меха.
— Ты мне говорил, что соболей больше нет у тебя.
Айдамбо смутился.
— У меня своих нет, но у отца есть, а он мне должен, — соврал он. — Верно, верно! Ведь я ему водки на свои купил.
Айдамбо приободрился, чувствуя, что вывернулся удачно. Он уехал в Мылки.
На другой день к Ивану приехал гольдский богач Денгура. Он был очень ласков с Бердышовым и тоже все время поглядывал на Дельдику.
— Ты бы продал мне маленькую девку, — потихоньку попросил он Бердышова.
— Зачем тебе?
Полой халата старик проворно обтер свою вспотевшую лысину.
— Хочу жениться, — хитро улыбаясь, признался он.
Иван засмеялся:
— У тебя молодую жену отобрали, так ты хочешь на девчонке жениться? Надо тебе! В утешенье-то! А не боишься, что из-за нее опять будет беда?
— Только продай! — обрадовался Денгура, видя, что Иван слушает его сочувственно. — Я тебе все отдам.
Бердышов вдруг нахмурился.
— Она молоденькая еще. Когда подрастет, тогда только решу, кому отдать.
— Ну, отдай за меня! — взмолился Денгура. — Ведь сейчас только уговоримся, а жениться потом, когда подрастет. Возьми у меня подарок, задаток. Отдам тебе вот эти меха. Даром!
Денгура полез в мешок. Там были приготовлены лисы. Иван подарки принял, но обещания не дал. Денгура сказал, что не теряет надежды. Он предполагал, что за богатые подарки рано или поздно заберет Дельдику.
— А ее больше никто не сватал? — вдруг с беспокойством спросил он.
Иван засмеялся:
— Никто! Никто!
Проводив Денгуру, он велел жене хорошенько вымыть Дельдику, причесать ее, переодеть во все новое.
— Она просит сшить ей русский сарафан, — говорила Анга. — Наталья ее подучила.
— Нет, надо, чтобы в гольдском ходила. Пусть-ка на нее свои заглядываются. Верно, какая она славненькая, — говорил он, любуясь Дельдикой.
Когда из Мылок снова приехал Айдамбо, Ивана дома не было. Анга уходила к соседям, а с ребенком оставалась Дельдика.
Юный Айдамбо всем нравился в деревне. Анга рассказала женщинам-переселенкам, что парень ездит из-за Дельдики.
— Еще парнишка, а добывает мехов больше, чем отец и дедушка.
Возвратившись домой, она увидела при свете лампы, что Айдамбо, стуча умывальником, моет руки, а Дельдика ждет рядом с полотенцем и тараторит без умолку про то, как надо мыться.
* * *
Анга и Наталья сшили Дельдике русское платье и сарафан.
Айдамбо изумился и долго сидел на лавке, не сводя глаз с Дельдики. Ему нравилось, что она во всём чистом.
«А что, если я русскую одежду надену? Может быть, скорей понравлюсь ей?»
Кальдука Маленький приехал к Бердышову. Старик был чем-то обрадован.
— За дочерью приехал, — оказал он. — Спасибо, Ваня, что выручил. У-у, какая стала! — умилился Кальдука, завидя Дельдику, подбежавшую в опрятной одежде и в русских сапожках.
— Как же я ее отпущу! Ее опять там китайцы заберут, — ответил Иван.
— Нет, не бойся, — воскликнул радостно Кальдука, — китайцы уехали!
Но Иван совсем не собирался отпускать Дельдику домой.
— Нет, Дельдика никуда не поедет, — сказал он. — Пусть поживет у нас. Нам надо помогать. А мы ее будем кормить и одевать. Она у нас как дочь родная.
Кальдука совсем не ожидал такого оборота. Он остолбенел.
— Как ты сказал?
— Что она у нас как дочь родная. А ты какой же отец, если не смог защитить!
Кальдука злобно усмехнулся.
— Вот еще один добрый человек нашелся! — воскликнул он. — То мне все китайцы помогали, говорили, что будут ее кормить и одевать. А теперь ты нашелся! Тоже меня любишь и помогаешь.
Старик посидел у Бердышовых и решил сходить пожаловаться Егору.
Кальдука надеялся, что Егор и сейчас заступится за Дельдику. Он рассказал ему про свою беду.
— К ней тут женихи ездят, подарки возят Ивану, — проговорила Наталья.
Кальдука ждал ответа Егора.
— Что тебе сказать? Конечно, нехорошо, что Иван ее домой не пускает. Но тут она все же кое-чему от Анги научится. Ведь он ее не совсем отнял.
— Нет, совсем! — с горечью воскликнул гольд.
— Пусть пока поживет, — сказал Егор, — а там посмотрим. Да он тебя не обидит. Он не такой мужик как будто.
— Он ее замуж выдаст, торо себе возьмет, — стал жаловаться Кальдука, чувствуя, что Егор ничего не сможет поделать с Бердышовым. — Ты, Егор, не знаешь, какой Ванька!
Весь этот разговор озаботил Егора.
— Да быть не может, чтобы он от отца отнял ее, — оказала Наталья. — Анга-то ей тетка родная.
— Все же Иван хитрый мужик, — сказал Кузнецов жене, когда гольд ушел. — Он себе выжмет барыши из этой девки. Но мы должны не допустить до позора. Пусть уж хоть не за старика, а за ровню замуж отдает.
Егор решил при случае поговорить с Иваном, заступиться за Дельдику.
Глава тридцать седьмая
Быстро наступила весна. В тайге стояли широкие лужи: голоствольная чаща в низинах затоплена водой. По балкам шумели ручьи. Воздух теплел и мерцал так явственно, что, казалось, видно движение ветра.
На Амур набегали талые воды, образуя обширные озера. И казалось, что уж нет льда: в ясный день река сплошь голубая, как летом, и только утаявшие торосники выступали из нее белыми островами.
То вдруг ударял мороз, озера на льду застывали, Амур белел, пронзительный студеный ветер приносил снежную бурю. Снова, как осенью, сквозь мглу бурана под обрывами видны были лишь черные воды заберегов, влекущие льды и громадные грязные коряги.
Стихала пурга, теплело. Рябились лужи, пар курился с мокрых крыш и тропинок, из-под снега выступала земля, и уж кое-где на бугорках и под пеньками в желтой прошлогодней траве проглядывала свежая прозелень.
Вода прибывала. Лед, провисший в зимнюю убыль, подняло и выровняло, вода все дальше выступала на отмели, и под обрывами берега понеслось бурное грязное течение.
Грязно-белые льдины отрывались от станового льда и, со звоном ударяясь друг об друга, проплывали по широким заберегам.
Кузнецовы во всякую погоду проводили дни за работой на релке. Егор взялся за чистку пашни еще в марте, когда земля была мерзлая. Свежие крепкие пеньки от рубленных зимой деревьев он выжигал, раскладывая костры в подкопах между корней. Сердцевина пенька выгорала, земля вокруг оттаивала, так что Кузнецовым оставалось драть полуобгоревшие корни.
С теплыми днями земля оттаяла почти на ладонь, и все переселенцы принялись за корчевку.
Вскоре повсюду задымились подожженные выворотни. На росчистях запылали костры.
На рассвете была подвижка льда. Егор проснулся от грохота, доносившегося с реки, и вышел. Верховой ветер налетал порывами, ударял в лицо залпами, словно старался сбить, сдвинуть лед, погнать его дальше. Остроносые льдины, похожие на баржи и лодки, теснились и с грохотом лезли на берег, продвигаясь вперед толчками, словно одушевленные существа.
«Как звери!» — подумал Егор.
Наутро исчезли забереги. Груды льда громоздились на речные косы. Ледяное поле с почерневшими торосами, похожее на кочковатое болото, передвинулось вниз. Это заметно было по голубым, полным воды колеям дороги, отошедшей от съезда.
Вдали, у мыса Пиван, часть реки очистилась, засияла летней синевой. Это далекое сверкание воды предвещало Егору близкое лето, пахоту, посев.
Ветер бушевал с такой силой, что по релке летали тлеющие головешки от костров. Лед, не двигаясь, стоял день и другой.
Вечерами переселенцы собирались вместе в какой-нибудь из землянок и подолгу обсуждали, что будут сеять и когда придется начинать работы. Все споры и распри были забыты. Бабы уговаривались работать на огородах: на Ирину высаживать капусту, на Фалалея — огурцы. Рассада у них росла в ящиках.
Мужики рассуждали о корчевке, о пахоте и о посевах. Земля их частью еще лежала под лесом, и трудно было загадать, что удастся сделать на Егория и что к Ереме, но загадать хотелось, и мужики вели длительные беседы допоздна, пытаясь проникнуть умом вперед в то время, когда закончат они корчевку и выйдут с лукошками в поле. Все дружно соглашались, что если удастся расчистить и обработать землю, то хорошо бы посеять тут ярицу, овес и гречиху, и что первый год надо совсем немного посеять ярицы, лишь для пробы.
— А то может забить… А озимые еще не знаем, пойдут ли тут. Кабы не вымерзли.
— Овес-то, — окал Кондрат, — он таковский, «затопчи меня в грязь — вырасту князь». Тут всегда мокро, овсы-то, даст бог, пойдут.
О приметах погоды мужики расспрашивали Ивана, но он не брался толком объяснить, какие дни стоят тут перед Николой.
— Как с Охотского моря ветер потянет, тогда жди снегов. Оттуда, снизу. Микола летний с морозом… Паря, беда амурский Микола! Баловень же!
Как-то после полудня Егор, работая на релке, сквозь вой ветра в деревьях услыхал, как со звоном упал истаявший под жарким солнцем торос.
— Льдина развалилась, — сказал Васька, прислушиваясь.
Снова разбился торос и снова зазвенел, но звук этот не стих, а стал усиливаться. Васька глянул подобрыв — и обомлел: лед шумел и звенел по всей реке.
— Тятя, Амур тронулся! — испуганно закричал Васька.
Под берегом поползла ледяная скала. Падали и звенели торосы, словно на реке били стекла.
Поле льда тронулось все сплошь, во всю ширину реки. Кромка его задевала за глыбы, нагроможденные на берегу. От трения льдин начался шум и свист. Истаявшие льдины разваливались, превращаясь в груды мельчайших ледышек. Они всползали на берега, бурлили огромными валами и, словно закипая, издавали шелест, напоминавший шипение. По движущейся реке тысячами солнц засверкали рушившиеся торосы. Громадные ледяные поля лезли на мыс, ломались о старые заторы.
Отец и малые сыновья его — Петр и Василий — стояли над обрывом в голой чаще тальников.
— Смотрите, ребята, как пошла река, — говорил Егор. — Запомните, как стояли мы перед дремучей тайгой, собирались хлебушко сеять, а лед ломало… Вам, ребята, жить тут, отец вас сюда привез и поселил… Вы, ребята, возрастете и с отца спросите.
Егор хотел оказать детям, что как река ломает лед, так и он ломает тут на релке древнюю чащу, начинает новую жизнь.
— Помните, ребята, первый ледоход. Весна началась…
Прожит без малого год, самый трудный, первый год, первая злющая голодная зима. Одним этим половина дела сделана. Выжил человек, вытерпел. Теперь, Егор, прилежи руки — и вот она перед тобой, новая жизнь, возьми ее, полей землю потом!
Подошел Федор и с живостью подмигнул Кузнецову:
— Река пошла… Жди гостей. Торгованы теперь потянутся. Эх, Кондратьич, на торговой реке живем!
— На вольной земле стоим, Кузьмич, — отвечал Егор.
Васька насмотрелся на движущиеся льды, и, когда ушел с берега, все пеньки и коряги и вся релка поплыли у него перед глазами.
День и ночь мимо селения проплывали ледяные поля.
— Тут и ледоход не такой, как у нас, — говорила Наталья. — Быстро несет.
На другой день к вечеру река очистилась, набухла, и в сумерках последние белые льдины проносились по ней, как белые птицы по воздуху.
Подул теплый ветер. Ночью прошел дождь. С криками полетели караваны гусей.
Наутро Егор с отцом, братом и сыновьями в дыму костров, с ломами и мотыгами в руках чистили свою землю.
Глава тридцать восьмая
За голыми тальниками блестит вода. Даль реки в голубой дымке. Последний ветер угнал облака и стих поутру.
Амур спокоен. Чистые воды его тянутся из-за островов широкими бледно-голубыми полосами и сливаются на фарватере.
Вид вокруг такой обновленный, словно переселенцы перешли на другое место.
Посмотрит Егор на реку, и добрые морщинки сбегутся у глаз.
Мир стал выше, просторнее, светлее. Далеко-далеко над голубыми и синими полями вод мечутся белоснежные чайки. Они падают на воду, то стонут, то плачут, то хрипло и злобно ворчат. В тишине слышно, как всплескивают, взбивая воду, их острые белые крылья.
Земля на релке в дыму.
«Началось!..» — в суровом торжестве думает Егор.
Наталья работает рядом, мотыжит землю, дерет корни.
А за рекой уже очистились от снега сопки, седой щетиной выступил на рыжих склонах березняк, почернели каменные гребни и перевалы, только чуть пониже, повторяя все их извилины, как вторые белые гребни, лежат в тени остатки снегов.
Федор Барабанов тащит огромную вагу. Агафья помогает ему.
У Ивановой избы грохнул взрыв, земля поднялась столбом, коряги, щепы, корни полетели над тальниками. Егор невольно обернулся. На виду у него дрогнул, как бы подпрыгнул, громадный пень, дал трещину, раскололся, дым и пламя ударили из него, как из пушки, и новый взрыв потряс воздух.
— Что делает! Ах, гуран, пороху-то не жалеет! — восклицает дедушка Кондрат.
Иван вылез из-за толстого дерева. За ним с мотыгой на плече брела Анга.
Под вечер Кузнецов и Бердышов поехали в лодке зажигать старую сухую траву на островах. Егор помнил, какие дудки пришлось косить в прошлом году.
— Жечь ветошь надо, чтобы она молодую траву не забивала, — говорил он детям, — будет там покос.
По дороге на острова Егор помянул Ивану про Кальдуку и его дочь.
— Что же, я для тебя, выходит, старался, когда ее отбил? Ты против китайских купцов людей подговариваешь, а сам, как бельговский торгаш, хочешь от нее доход иметь? — шутливо сказал он.
Иван засмеялся и замотал головой.
— Верно! Ты ловко подметил! Но все как раз наоборот! Я с ней ничего плохого не сделаю. Устрою, что Кальдука станет богатый.
Иван открыто и весело говорил об этом, и Егор готов был верить ему.
— Смотри, если обманешь, бить будем тебя, как бельговских торгашей, — сказал он полушутя.
Иван смеялся, но поглядывал на Егора настороженно и испытующе.
Ночью с реки открылся вид на огненное море. Егор и Бердышов зажгли все окрестные острова. Оттуда доносился по воде сухой треск пылающей травы.
* * *
Когда впервые на амурской земле взялся Егор за свою соху и пошел за ней по корчеванной, но еще дикой мокрой земельке, в которой во множестве видны волокна и мелкие коренья, сердце мужика больно и радостно защемило, словно после долгой разлуки встретил он родного человека.
По реке пробегали пароходы, шли самосплавом караваны барж, маймы с соломенными парусами. Маленький казенный «Амур» остановился у Ивановой избы. Пароход, приткнувшись, как лодка, носом к берегу, ждал, когда командир его отгуляет с Бердышовым, разгонит свою тоску и снова пустится в далекий путь на тысячи верст.
Иван собирался в Хабаровку за товаром.
Вот уже другой пароход — пассажирский — подошел к берегу. С него сошел мужчина огромного роста, тучный, с багровым лицом. Он был в форме, со шпагой.
— Эх! Вот этот разнесет!.. — восхищенно воскликнул Илюшка.
Иван надел казачью фуражку с околышем и вышел встречать начальство.
— Здр-равия желаю! — гаркнул он, вытягиваясь.
За исправником, поскрипывая новенькими ремнями, в новых мундирах, с оружием, в начищенных сапогах, шли по сходням становой, урядник и двое полицейских — черный и рыжий. Солдаты отдали буксир и подвели к берегу крытую лодку. Пароход ушел.
Становой и урядник указали, как надо строить избы, пахать землю, садить картошку. Исправник предупредил мужиков, что зимой надо начинать почтовую гоньбу.
— А кони где? — спрашивал Егор.
— Я дам полконя да ты полконя, — говорил Тимошка Силин. — Пахом с Терехой дадут по одной ноге — вот и соберем упряжку, получим за разгон. Я это дело знаю, ямщичил дома.
— Гроза пронеслась! — говорил Иван, когда власти уехали.
— А ты что, струсил?! — воскликнул Силин. — Сколько им выпоил? Или соболями откупился?
— Про это тебе еще рано рассуждать! — недовольно отвечал Иван. — Ты еще амурскую болотину потопчи лаптями!
Пашни переселенцев были запаханы. Над черными клиньями плыл, мерцая, теплый весенний пар.
— Ну, кто сетево подымет? Кто старший? У кого рука легкая? — обсуждали мужики.
— У тебя, дедушка Кондрат! Тебе общество доверяет первые семена кидать. Ты — самый старший.
Дед отнекивался:
— Недостоин! Какие еще мои годы… Не гожусь я.
— Дедушка, Христом-богом просим… Не обездоль, детей сиротами не оставь, кинь первое семя!
«Вот и я пригодился, — думал Кондрат. — Не зря старика вели дети на Амур».
Вечером дед Кондрат, стоя в корыте посреди избы, долго мылся, плескался, охал. Наконец облил из ведра свое могучее костлявое тело, вытерся, надел чистое белье, расчесал волосы и бороду. За ним помылся Егор, потом начали мыться бабы, ребята.
Наталья прибралась в землянке, вынесла последние помои. И когда перевернутое корыто сохло на дровах у печи, она поставила Петрована и Ваську на колени перед образами.
— Молитесь, ребята, просите бога, чтобы дал урожай на Амуре, — сказала она. — Бог детскую молитву услышит.
На заре среди лиственниц и болот, на черной от сырости, но по-российски родной и знакомой пахоте собрались мужики в чистых рубахах и новых лаптях. Дед встал на колени лицом на восток, красневший за рекой, за еловыми лесами, и помолился. Затем он поднялся, проворно и быстро зашагал по полю, широкими привычными движениями разбрасывая семена из лукошка.
— Батюшка, Никола-угодник, благослови семена в землю бросать! — приговаривал старик. — Борис и Глеб, уроди хлеб!..
* * *
Гольды приезжали в Уральское, звали мужиков на праздник примирения, но у Егора дел было много, и он не поехал.
Молодой гольд Айдамбо снова явился в Уральское. Был он низок, широколиц, румян и одевался ярко, в такие искусные вышивки, что русские бабы прозвали его писаным красавцем и шутя заигрывали с ним. Айдамбо, замечая баб, старался поскорей пройти мимо и скрывался у Бердышовых. Все знали, что он ездит из-за Дельдики.
…На релке тишина. Мужики разбрелись кто куда. Все осматриваются в новой жизни, никто не теснит друг друга. Леса, земли, рыбы, зверя множество. Бери, сколько можешь!
«Там, на старом месте, был дом, хотя и не новый, но большой, крепкий, ладный, — думал Егор. — Была землица, хозяйство. Не скоро заведешь все это здесь. Тут еще нет ничего, а душа радуется: всему я хозяин, все мое, к чему только я сам способен. Не рано ли я радуюсь? Дай бог!..»
Как-то поутру вышел Егор и увидел, что земля повсюду дала ровные всходы. А крыша землянки уже заросла травой…
— Хлеб-то наш… — оказал Егор детям. — Вот вам, ребята, и весь сказ, как стали русские мужики жить на Амуре.
Друг-приятель Егора, мылкинский гольд Улугу, в шляпе, с трубкой, поднялся на релку. Егор показал ему ниву.
— Че тебе говорит, Егорка! — воскликнул Улугу. — Какой это хлеб? Это трава!
Деревья, поваленные Егором, громоздились вокруг. Среди них зеленели и краснели гладкие, как озерца, всходы овса и гречихи.
— Глаза страшатся, но руки все сделают, — говорил мужик детям.
Там, где ступил Егор на землю, земля родила.
Примечания
1
Углесидная куча — место выжигания древесного угля для железоделательных заводов на Урале.
(обратно)2
Игра слов, от выражения «гужо меду».
(обратно)3
Джангуй — хозяин (искаженное китайское).
(обратно)4
Майма — торговое судно.
(обратно)5
Ханшин — китайская водка.
(обратно)6
Ганза — трубка с медной головкой.
(обратно)7
Адали — как (забайкальский жаргон).
(обратно)8
Кара — Каргийская каторжная тюрьма.
(обратно)9
Бродни — высокая кожаная обувь с мягкой подошвой, без каблука.
(обратно)10
Балберы — поплавки.
(обратно)11
Кошка, коска — коса, отмель.
(обратно)12
Геоли — гребите.
(обратно)13
Даба — синяя бумажная материя.
(обратно)14
Улы — обувь из рыбьей кожи или шкуры лося.
(обратно)15
Туес — берестяной коробок.
(обратно)16
Тала — мелко строганная рыба, строганина.
(обратно)17
Эти пятна — брачный наряд кеты, идущей осенью в горные речки на икромет.
(обратно)18
«Кишмишем» переселенцы на Амуре называли плоды лиан.
(обратно)19
То есть коровьей кожей.
(обратно)20
Задулина — крепко сбитый ветром сугроб.
(обратно)21
Подходяще — то есть дорого.
(обратно)22
Албанщики — сборщики дани — «албана».
(обратно)23
Секач — дикий кабан, самец.
(обратно)24
Паши — поемные луга.
(обратно)25
Кованец — кованый крючок.
(обратно)26
Каны — теплые глиняные нары.
(обратно)27
Ангалка — сетка.
(обратно)28
Чумазка, или чумашка, — берестяная коробка или долбленка. Обычно для вычерпывания воды из лодки.
(обратно)29
Сулея — сосуд, бутыль, бывает из прессованного картона.
(обратно)30
Позя (искаженное нанайское от Подзя-ней) — дух тайги, покровитель охоты.
(обратно)31
Олочи — невысокая обувь из звериной шкуры мехом внутрь. Обычно делается из меха лося.
(обратно)32
Блудня — медведь без берлоги, бродящий по тайге; такой зверь опасен.
(обратно)33
То есть трехгодовалый медведь.
(обратно)34
Слово «амба» имеет два значения: злой дух и тигр.
(обратно)35
То есть «переводи».
(обратно)36
Мангму — Амур.
(обратно)37
Торо — выкуп за невесту (нанайское).
(обратно)38
Лаптрюка — дух, одни из многих.
(обратно)39
Есть поверье, что если охотник найдет рогатую лягушку, то он будет счастлив, станет богат.
(обратно)40
Непереводимое восклицание.
(обратно)41
Батьго — здравствуй (северонанайское).
(обратно)42
Геда — нанайское охотничье копье.
(обратно)43
Отоли — понимаю (нанайское).
(обратно)
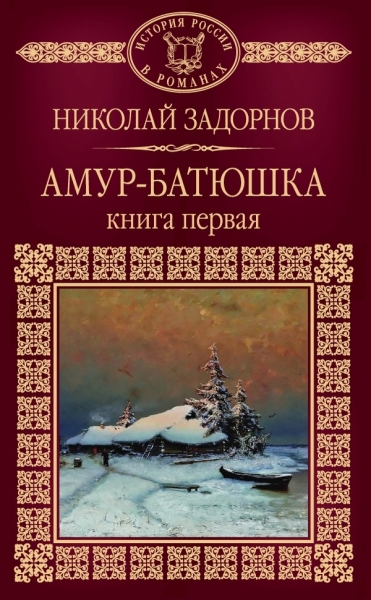


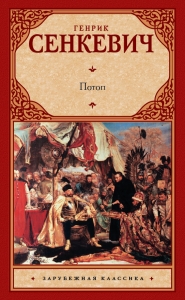

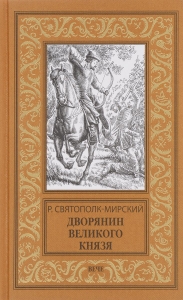
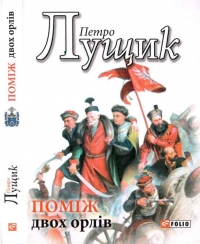
Комментарии к книге «Амур-батюшка. Книга 1», Николай Павлович Задорнов
Всего 0 комментариев