Джавад Тарджеманов
(Джавад Афтахович Тарзиманов)
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА
Роман известного татарского писателя и ученого Джавада Тарджеманова "Серебряная подкова" посвящен выдающемуся русскому математику, создателю неевклидовой геометрии, одному из основателей Казанского университета Н. И. Лобачевскому.
Автор рисует политическую и духовную обстановку начала прошлого века: власть крепостничества, мракобесие монархистов, духовенства, что так мешало научному творчеству Лобачевского и его друзей, губило нестойких духом, тормозило просвещение народа. Сильная воля, светлый ум, любовь к творчеству помогают Н. И. Лобачевскому стать всемирно известным ученым, одним из самых передовых людей своего времени.
Художники ВАЛИАХМЕТ и АЛИШЕР ДИАНОВЫ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВЕСНА ГЕНИЯ
В Казань, учиться!..........
Трудное начало ...........
Первые порывы...........
Золотой треугольник .........
Радость и горе ...........
Химик или математик?........
Шаг за шагом...........
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТИНЕ
Пятно на Солнце ..........
Тьма и свет............
Поездка в Петербург (Письма).....
Новый Свет............
Бурям навстречу..........
Серебряная подкова (Эпилог)......
Часть
первая
Гением быть нельзя, кто не родился. В этом-то искусство воспитателей: открыть Генийт обогатить его познаниями и дать свободу следовать его внушениям.
Н. И. Лобачевский
ВЕСНА ГЕНИЯ
В КАЗАНЬ, УЧИТЬСЯ!
В 1802 году, глубокой осенью, тройка сытых лошадей не спеша катила по старинному тракту просторный тарантас. В нем ехал приказчик именитого казанского купца Жаркова и с ним попутчица, коллежская регистраторша Лобачевская. На узкой передней скамейке, спиной к сиденью кучера, устроились, тесно прижавшись друг к другу, три мальчугана - ее сыновья.
За тарантасом тянулись возы, груженные невыделанными овчинами. Приказчик вез их с Макарьевской ярмарки в Казань, издавна славившуюся кожевенным производством, большим знатоком которого был сам Жарков.
Путешественники сильно утомились: от Макарьева до Казани триста верст с небольшим, но ехали они уже четвертые сутки. Дорога, вся в ухабах и рытвинах, измучила даже сытую тройку, обозные же тяжело груженные лошади и вовсе еле-еле тянули свою поклажу. Не легче доставалась поездка и другим обозам: то и дело на пути встречались поломанные и даже опрокинутые на глубоких колдобинах экипажи, телеги. Кучера и возчики, чертыхаясь, как могли чинили поломанные оси, торопливо собирали спицы рассыпавшихся колес.
Тракт шел большей частью дремучими лесами. Огромные ветки вековых дубов, стоявших вдоль обочин, тянулись через дорогу навстречу друг другу, и, несмотря на ясный день, местами на дороге было почти сумрачно.
У Васильевской переправы через Волгу обозу повстречался порядочный отряд казаков с пищалями за спиной и с пиками, поднятыми кверху. Мальчики приняли эту встречу с восторгом, как желанное развлечение, а мать удивленно посмотрела на приказчика. Тот кивнул головой:
- Не извольте, сударыня, беспокоиться, для охраны дончаки назначены, потому как слишком развелся разбой на больших дорогах. Однако мы вскорости будем в Казани.
Это сообщение встревожило Прасковью Александровну Лобачевскую, она чаще стала оглядываться, но вот казаки скрылись, а Казань как будто и не приближалась.
Правда, на дороге было уже не так пустынно: чаще попадались пешеходы крестьяне с котомками за плечами.
Оборванные, босые, так как пара новых лаптей обычно висела за спиной, приготовленная для улиц Казани. Татары, мордва, чуваши, русские шли в одиночку и целыми семьями. Горькая нужда равняла их по внешнему виду, гнала в город в надежде на какой-нибудь заработок.
Осень была суровая. Ненастье сменилось морозом, и под колесами похрустывал первый тонкий ледок: это в колеях и выбоинах замерзла вода последних дождей. Низкая темная туча с востока постепенно затягивала небо, грозилась первым снегом.
А тут еще и езда была не из легких. Однако и тесную скамейку, и толчки на ухабах, и пронизывающий ветер - все вдруг забывали мальчуганы, едва заговаривали о цели поездки. Подумать только - едут они в гимназию! В Казань! А какие там встретят их товарищи? Учителя? Какую они получат форму?
Средний из братьев, Коля, худенький, с прямым тонким носом и живыми серо-голубыми глазами, вспыхивал и волновался больше всех. На его звонкий голос оборачивались и порой улыбались порядком уставшие пешеходы, которых обгонял неспешно двигавшийся тарантас.
- Гимназия! Какая она? - уже не раз обращался он к матери, а та, устало и мягко улыбаясь, отвечала:
- Скоро увидишь. Потерпи немного.
Коля прижмуривал глаза, чтобы можно было представить себе удивительную гимназию. И она действительно возникала перед ним: белокаменная, с башней и высоким крыльцом, точно замок, виденный им на какой-то картинке. Но почему тарантас движется так медленно? Ведь они должны бы уже въехать в этот удивительный город!
У него даже заныла шея, так часто поворачивал он голову, стараясь из-за спины кучера заглянуть подальше вперед, на досадно исчезавшую за очередным поворотом Дорогу.
- А что же там? Не видна еще Казань?
- Пока нет, сынок, подожди маленько, за тем вон бугром она покажется, ответил кучер, дергая вожжами. - Эй вы, дружки-голубчики!..
Но лошади, пробежав немного рысцой, снова переходили на умеренный шаг. Кучер не торопил их: не барский выезд. К тому же приказчику от обоза нельзя отрываться:
мало чего может случиться в дороге.
Тарантас на рыси качался и прыгал так, что мальчики хватались друг за друга, чтобы не вылететь при толчке на первом же ухабе. Но когда лошади переходили на шаг, Коля грустно вздыхал, поправляя худенькой рукой слегка курчавившиеся светло-русые волосы; уж лучше было бы толчки терпеть, но только бы ехать быстрее.
Прасковья Александровна, сама не меньше утомленная дорогой, задумчиво смотрела на детей. Волосы ее слегка тронула седина, виски покрыла сетка мелких морщинок.
Трудно поверить, что ей всего лишь тридцать лет. Но добрая улыбка и большие умные светло-серые глаза под густыми ресницами делали ее печальное лицо привлекательным.
Да, многое пришлось пережить Прасковье Александровне за последние десять лет. И теперь, когда ей для раздумья времени было достаточно, мысли невольно возвращались к прошлому. Только резкие толчки тарантаса ненадолго прерывали ее воспоминания.
Братьев и сестер у нее не было. Возилась она с куклами, шила им платья из разноцветных лоскутьев, за что получила от няни прозвище лоскутницы.
Потом настала веселая девичья пора... Как это не походило на последнее десятилетие! Родной Макарьев - городок небольшой, уездный, но зато на его ярмарку летом съезжались купцы не только со всех концов России, а даже из-за границы. Крупные торговые операции шли бойко.
Но девушку интересовало другое: для шумной толпы каких только не было на ярмарке увеселений! Карусели с разукрашенными бисером лодочками, перекидные качели, от которых дух захватывает...
Застенчивая Параша с тугой темно-русой косой и в нарядном платье была хороша сооой: высокая, стройная, лицо белое, с легким румянцем. Платья, сшитые своими руками, всегда были ей к лицу. Недаром приезжие парня засматривались на Парашу, от местных же и вовсе проходу ей не было.
Небогатые родители, гордясь красотой своей дочери, не жалели средств и наряжали ее всем на удивление. Отец мечтал еще дать ей хорошее образование. Случай к этому представился: частым гостем в их доме был дальний родственник матери, весьма просвещенный человек, макарьевский уездный землемер Сергей Степанович Шебаршин.
.Чего только не знал он, чего только не видел и где не бывал - о чем угодно расскажет. С ним часто советовались отец и мать, как им лучше вести свое хозяйство. Тормошила своими расспросами да просьбами прочитать ей о дальних странах и любопытная Параша. Мало-помалу бездетный вдовец Шебаршин всей душой привязался к этой умной, сердечной девочке.
- Дядя Сережа, я хочу и сама читать, - призналась она однажды.
Мать лишь головой покачала, когда на следующий день Шебаршин явился к ним с новой азбукой и грифельной доской. С этого дня уроки доставляли большую радость и ученице, и учителю. Она была уверена, что, случись какоенибудь горе, Сергей Степанович всегда поможет ей...
А дальше...
Прасковья Александровна тяжело вздохнула и, точно прощаясь навсегда с веселыми девичьими снами, провела рукой по лицу.
Двенадцать лет прошло, а все так помнится, будто вчера это было. Тихим теплым сентябрьским вечером, в субботу, забежали за ней подружки звать ее в хоровод. Время не ярмарочное, когда в Макарьеве чужаков полным-полно.
Сейчас в хороводе свои, знакомые, так что мать отпустила ее без опаски. Не успела с подругами до угла дойти, как увидела коляску Шебаршина. Рядом с ним сидели в ней двое незнакомых.
Смутилась Параша. Сергей Степанович, помахав ей рукой, велел кучеру остановиться.
- Куда, Парашенька? - спросил он. - В хоровод?..
Подружки туда без тебя дойдут. Садись ко мне в коляску, домой отвезу. Я по тебе так соскучился.
Еще больше растерялась Параша. Тут с передней скамейки спрыгнул молодой человек в синем мундире с малиновым воротником, поклонился и говорит:
- Я, Сергей Степанович, и пешком дойду, чтобы вашу племянницу теснотой не беспокоить.
Шебаршин засмеялся:
- В тесноте, да не в обиде. Садись, Парашенька, тут езды на пять минут.
Села Параша на переднюю скамейку и краешком глаза посмотрела на гостя, что сидел рядом с дядей Сережей. Он был намного старше того красавца, который снова уселся на передней скамейке с нею рядом. Параша успела заметить, что лицо старика попорчено оспой, а глаза его смотрят не строго, даже ласково. Но, как бы ни смотрели, они меньше смутили Парашу, чем синие глаза молодого соседа.
Ехали недолго. За это время Параша и глаз не подняла на гостей. Когда же кучер остановил лошадей, первая соскочила у подъезда и проворно убежала в свою горенку...
Села там в уголке - не дышит.
А по лесенке - шаги. Вошла мать, обняла ее бережно.
- Ты чего напугалась-то? - спрашивает. - Гости по нашему состоянию почетные: господин Аверкиев - надворный советник... Перстней-то у него на пальцах! Видела?..
По дружбе с дядей Сережей пожаловал. А племянника привез к нам зачем сама догадайся.
- Ой, маменька! - промолвила Параша и лицо руками закрыла.
- Дело-то девичье, - вздохнула мать. - Ничего, Парашенька, не пугайся, к чаю выйди. Не укусят. Может, и судьба твоя тут окажется.
Племянник такого важного чиновника губернской палаты, каким был Аверкиев Егор Алексеевич, и в самом деле оказался женихом. Служил в Нижегородской межевой конторе.
- Чин, правда, у него не ахти какой - коллежский регистратор, - уже вечером говорил жене Парашин отец. - Но это неважно. Годы молодые, с таким дядюшкой в регистраторах долго не засидится.
Родители Параши немало дивились - с чего бы Аверкиев облюбовал Парашу для своего племянника?
- Человек он разумный, - объяснял Сергей Степанович. - Видит, Параша всем взяла: и красавица и умница, а уж скромна... И я им присоветовал. Не век же ей в девках с нами, стариками, коротать, надо свое гнездо вить. Л-мы на ее счастье любоваться будем.
Парашу эти разговоры мало занимали. Синие глаза красавца Ивана Лобачевского покорили ее в первую же минуту. Она сказала родителям: "Я согласна" - и заплакала.
При таком всеобщем согласии время тянуть не стали.
Параша не успела оглянуться, как отпраздновали обручение. Аверкиев сам надел на дрогнувший Нальчик невесты рубиновое кольцо.
- Это, - сказал он, - для начала, невестушка... Жить прошу в мой дом, он для вас будет полной чашей.
Через неделю в церкви Казанской богоматери, только что возведенной в Макарьеве, состоялось венчание. Поскольку шестнадцатилетних венчать не полагалось, по хлопотам Аверкиева невесте записали двадцать один год. Сразу же после свадьбы молодые переехали в Нижний Новгород, в просторный особняк Аверкиева на Сретенской улице, окна которого смотрели на кремль и верхнюю базарную площадь.
Первое время после Макарьева жила Параша как во сне. Запомнился вечер, когда она из гостиной вышла на балкон полюбоваться Волгой при полной луне. В ясной тишине с реки доносились песни бурлаков, грустные, тоскливые. Она слушала их, и вдруг какое-то предчувствие неизвестной, тяжелой беды защемило сердце.
Но шли дни, а беды не было. Аверкиев был с нею попрежнему родственно ласков и радовался, глядя на дружную жизнь молодых. Богатый дом, сад с беседками, с оранжереями, большое количество прислуги, несколько пар лошадей в конюшнях поражали Парашу. Но любовь и забота мужа были ей всего дороже. Он в это время не отходил от нее, наглядеться не мог. Вместе побывали они у родных, знакомых Аверкиева и везде были достойно приняты. Муж вел себя в гостях весело и скромно, за столом даже от вина отказывался.
- На лад, на лад пошло дело! - приговаривал Аверкиев, хлопая племянника по спине. А тот при этом так терялся, что приводил свою молодую жену в изумление. Но из-за застенчивости не решалась она спросить, что его так смущает.
Прошло несколько недель - самое счастливое время Парашиной жизни. Удивляло ее, что муж как будто вовсе не бывал на службе: отлучался редко и ненадолго. Тем лучше: больше времени он проводил с ней.
Но вдруг все как-то сразу и странно переменилось. Кудато исчезли внимание мужа, его постоянная забота. Он потерял сон и аппетит, сделался ко всему равнодушным, изменился в лице. Молодая женщина заметила, что это видят и слуги и, перешептываясь, поглядывают на нее искоса. Но семья Аверкиевых, казалось, ничего не замечала, и Параша спросить у мужа - что же случилось - не решалась.
Наконец Иван Максимович однажды ушел, как сказал, на службу и домой вечером не вернулся. Параша места себе не находила, но Егор Алексеевич, по виду очень спокойный, убедил ее не волноваться.
- Служба не родной дом, - говорил он. - Срочно выехал куда-нибудь по земельным делам и забежать сообщить не успел. Не волнуйся, Парашенька.
Но и второй день кончался, а мужа все не было. Аверкиевы уехали в гости, Параша уныло бродила по пустым комнатам, не зная, что и подумать.
Горничная девушка Анюта наблюдала за ней, делая вид, что прибирает комнату, и наконец не выдержала, подошла к хозяйке:
- Матушка, молодая барыня, вы только меня не выдавайте. Не могу я видеть, как вы мучаетесь, я вам всю правду расскажу.
Параша присела в кресло и застыла, не вымолвив ни слова.
Горничная оглянулась, на цыпочках подошла к двери, прислушалась и опять вернулась к неподвижно сидевшей хозяйке.
- Пьет он, ваш барин, Иван-то Максимович, - шепнула, нагибаясь. - Не приведи бог, как пьет. Со службы за это был уволен. Только дядя Егор Алексеевич ему по любви бумагу отхлопотали - по удушью, мол, и цинготной болезни к службе не способен. А как ему не дашь вина, даже в ногах валяется, плачет. Когда же, бывало, вовсе не дадут, боже мой, чего натворит - и лютый зверь того не сделает.
Параша побледнела.
- На вас, матушка, его женили неспроста, - продолжала девушка. - Думал Егор Алексеевич, по любви к вам от пьянки отстанут. Очень мы вас жалели, только сказать не смели.
Девушка всмотрелась в лицо хозяйки, белое как полотно, и вдруг с испугом вскрикнула:
- Матушка-барыня, что ж это с вами?! Да что же я такое натворила!
- Ничего, - тихо проговорила Параша. - Ничего, Аннушка, спасибо, что сказала. Иди, мне сейчас лучше одной остаться. Никому не расскажу, не бойся.
- Спасибо, матушка, спасибо! - зашептала девушка. - Не погубите меня: если барин узнает, беда мне будет горькая.
Она убежала. Параша долго оставалась неподвижна, затем поднялась, прошла по комнате слегка пошатываясь, будто во сне. В углу, чтобы не упасть, схватилась рукой за миниатюрный столик. Тот покосился, маленький изящный ящик выскочил из него, и бумаги веером разлетелись по ковру. Параша нагнулась и тщательно, лист за листком начала собирать их в ящик. Печать с оттиском какого-го красивого герба привлекла ее внимание. Так же, словно во сне, Параша присела на стул и поднесла к свечке лист синеватой бумаги.
"Объявитель сего свидетельствуется сим аттестатом, что он природный польской нации законный сын, находившегося во услужении моем в должности певческой, жителя местечка Животова, Максима Васильева сына Лобачевского, который в 1757-м году привезен был мною из Малороссии и женился на крепостной моей девке Аграфене, Андреевой дочери, с которой и прижил сего сына Ивана. И был уволен с отцом его от меня в 1775-м году.
Ныне для точного свидетельства о его рождении и свободности и дан ему сей вид во уверение, за моей рукой, под печатью фамильного моего герба, в Москве февраля 24-го дня 1777 года. Князь Михаил Долгоруков, лейбгвардии капитан" [Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 1294, он. 2, 1777, № 2896, л. 2.].
Уже "аттестат" прочитан и перечитан, а Параша сидит, не будучи в состоянии ни понять, ни сообразить, что к чему, и лишь синеватая бумага в ее руках чуть вздрагивает.
Но вот она положила ее в сторону и лист за листом прочитывает содержимое всего ящика. Теперь она знает о муже все, что следовало знать и ей, и родителям, и Сергею Степановичу еще до свадьбы. Наверное, знай это, дядя Сережа не привез бы такого жениха для своей любимой девочки.
А узнала она вот что.
После окончания начальной школы 20 марта 1777 года шестнадцатилетний Иван Лобачевский был определен копиистом в Московскую межевую канцелярию и отослан в партию ростовского землемера Нестерова "на порожнюю вакансию с жалованьем из шестидесяти рублев в год, за вычетом на госпиталь". В начале 1786 года Иван Максимович числился канцеляристом, а 7 июля ему был присвоен чин губернского регистратора. В конце 1787 года он перевелся в Нижегородскую межевую контору, но вскоре был уволен в отставку. По свидетельству нижегородского лекаря, "он, Лобачевский, одержим удушьем и цинготной болезнью. Почему и службы продолжать не способен". Среди бумаг Ивана Максимовича был также указ межевой канцелярии от 2 мая 1789 года, где говорилось: "Регистратора Лобачевского по прошению его за болезнями, буде нет никакого препятствия, от межевых дел уволить и дать ему для свободного в России жития паспорт, а о службе - аттестат, каков он заслужил".
"Каков он заслужил!" - Параша мысленно повторяла эти слова. Да, теперь она знала им цену. И еще знала, чем сейчас занимается ее любимый муж... А Егор Алексеевич Аверкиев! Такой к ней ласковый и внимательный! Ведь он-то знал, за кого сватал неопытную девушку! И молчал...
- "Думал Егор Алексеевич, по любви к вам от пьянки отстанут..." повторила она горько. - Спасибо Аннушке за то, что сказала правду.
Что же теперь делать? Бежать?.. Но что скажут родители, если она покинет почтенный дом Аверкиевых? Мать и так больна, ее гордая душа такого удара не выдержит.
А родственники?.. Подруги? Знакомые?.. А сила брачных обязательств?..
Параша металась по комнате, изредка останавливалась перед окном и прижимала горячий лоб к холодному стеклу. Бежать сейчас, уйти от мужа, каков бы тот ни был, - значило покрыть себя навек позором. Однако и с ним остаться в доме Аверкиева, так обманувшего ее и родителей, тоже невозможно.
Так прошла ночь. Наступило утро, а с ним вернулся домой отравленный запоем человек, совсем не похожий на того, которого проводила Параша всего лишь три дня тому назад. Он стоял перед ней с опущенной головой, нестерпимо жалкий, больной. И гневные слова ее остались невысказанными. Параша молча повернулась к двери, затем, оглянувшись, уже на пороге увидела: муж, не раздеваясь, в беспамятстве упал на кровать.
Прошло три дня, пока Иван Максимович оправился настолько, что можно было с ним разговаривать. Несчастный вид его не лишил Парашу твердости, которую ощутила она впервые в ту ночь, когда бесхитростные Аннушкины слова раскрыли перед ней неприглядную тайну жизни мужа.
И сейчас она, с виду спокойно, сказала ему, что в доме Аверкиева жить не будет и помощи от него никакой не примет.
- Пока не бросишь пить и на службу не определишься, - предупредила она, глядя в опухшие бегающие глаза мужа, - и на глаза мне не показывайся.
Иван постоял, будто искал ответа, но, так и не сказав ни слова, молча направился к двери. Аверкиева, стоявшего на пороге, он даже не заметил, зацепил его плечом и вышел, не оглянувшись.
Аверкиев, осунувшийся, потупивший голову, стоял, опираясь рукой о притолоку. Параша заговорила первая:
- Не ждала, Егор Алексеевич, от вас такого...
- Чего? - не понял он.
- Обмана, - сказала Параша и отвернулась.
- Сам вижу и чувствую, не так вышло, как думалось, - тихо, не сразу ответил Аверкиев. - Прости, невестушка, грешен. Крепко верил - буду на ваше счастье смотреть и радоваться. Не получилось. А что у меня жить не хочешь, - то прошу, прими хоть маленький домик, отдельный, который тотчас же для вас куплю. - Аверкиев умолк, выжидательно и тревожно смотрел на Парашу. Не дождавшись ответа, вздохнув, договорил четко: - С Иваном беда. И мое терпение лопнуло. Больше сына родного держал его в своем сердце. А теперь и твое горе к моему приложилось. На службу Ивана без промедления определю. А коль ту службу он честно исполнять не станет, не вытерплю, во всем повинюсь губернатору. Тот Ивана за лихой обман с цинготной болезнью и за уклонение от государственной службы не помилует.
Старик Аверкиев постоял у порога, но, так и не дождавшись ответного слова, повернулся и вышел.
Неожиданно выказавшийся твердый, решительный характер жены поразил, даже испугал Ивана Максимовича.
Он с покорностью занял подысканное Аверкиевым временное место уездного землемера в городском наместническом правлении.
В марте 1791 года у какой-то губернской секретарши Аверкиев купил за 100 рублей небольшое подворье с огородной землей близ Черного пруда, на углу Алексеевской и Вознесенской улиц, и Параша была вынуждена принять его для жительства. "Строение" состояло из двух небольших домиков: по две "господских" комнаты в каждом и третьей - "людской", для прислуги. Дом, в котором поселилась Параша с мужем, тремя окнами с зелеными резными ставнями выходил на улицу; фруктовый сад и палисадник с цветами окружали его. Рядом, под горой, текла речка Почайна.
После переезда в скромный домик из просторных аверкиевских хором Параша горячо взялась налаживать жилье и хозяйство. Каждое утро вставала в пятом часу, ложилась вечером в одиннадцать: шила, стряпала, стирала. Старалась хоть в этом отвлечься от горьких мыслей. Но тут неожиданно ее здоровье не выдержало: Параша свалилась и месяц пролежала, почти не приходя в сознание. Даже известие о тяжелой болезни матери выслушала безучастно, вряд ли поняв, что случилось.
Однако молодой организм переборол-таки странную болезнь, которой врачи ,не могли дать названия. К осени Параша встала и вскоре благополучно разрешилась от бремени первенцем - Сашей. И тут в ее жизни наступила новая счастливая полоса: любовь к ребенку, общие о нем заботы, волнения и радости, казалось, окончательно примирили ее с мужем. А он был нежен и заботлив, как в первые дни, прилежно ходил на службу и совсем бросил пить...
При одном воспоминании об этой незабвенной поре жизни яркий румянец зажег щеки Прасковьи Александровны. Ее веки, отягощенные дремотой, чуть приоткрылись. Мерный шаг лошадей, которых надоело подгонять задремавшему ямщику, не мешал картинам прошлого возникать в ее памяти. Мальчики на передней скамейке тоже притихли, то ли устали, то ли сами размечтались о будущем, сулившем им много увлекательного.
- Бросил пить, - чуть слышно шепнула Прасковья Александровна и глубоко вздохнула.
Да, на короткое время тогда ей показалось, что запои кончились. Но, к сожалению, она ошиблась. Уже на исходе зимы как-то муж, запоздав со службы, явился пьяный.
С этого дня все переменилось: пьяным он возвращался все чаще и чаще, пока наконец совсем не вернулся. Он исчез.
Этот новый удар лишил Парашу всякой надежды на исправление мужа. А нужно было жить и воспитывать своих детей. Двоих. Потому что Параша в это время ожидала второго. Как же быть ей?
От помощи, которую так искренне предлагал Аверкиев, она по-прежнему отказывалась: обида за обман, искалечивший ее жизнь, была незабываемой. Возвращаться в Макарьев, где каждый хорошо ее знает, и выставлять свое горе всем напоказ? Ни за что! Материальной помощи от разорившегося отца ждать не приходилось.
Вернется ли муж - неизвестно. Если же и вернется, не будет он опорой семьи, придется ей самой поддерживать его. Как же тогда жить на свете?
Вспомнились уроки дяди Сережи, давшего ей знания, женщинам в ту пору несвойственные. И вот она уже сама дает уроки в городе купеческим и чиновничьим сынкам.
Их отцы оплачивают ее труд жалкими грошами, беззастенчиво используя трудное положение "брошенной" жены.
Параша не спорит с ними: она шьет по вечерам, вышивает, чтобы только свести концы с концами.
Ее письма домой в это время немногословны, потому что боялась она ужасной правдой огорчить и без того несчастных больных родителей. Они так и не узнали до конца, каким горем обернулась для их любимой дочери замужняя жизнь.
Параша не знала, что скажет мужу, когда тот вернется, поэтому решилась написать о случившемся дяде - Сергею Степановичу - и просить его совета.
Получив письмо, Шебаршин тотчас поспешил в Нижний и ворвался в дом к Аверкиеву, готовый осыпать старого друга укорами. Но вид старика, убитого тяжким горем, смягчил его негодование. Аверкиев сам жестоко винил себя в несчастии Параши, вдвойне горюя от невозможности помочь ей, как бы ему хотелось. Она по-прежнему наотрез отказывалась принять от него что-нибудь, кроме крыши над головой.
- Помогите спасти ее, - упрашивал он Шебаршина. - Жена ваша умерла давно, детей нет. В пустом доме в Макарьеве тоска вас небось заедает.
- Не без того, - признался Шебаршин. - О такой беде и родителям сказать не смею: оба чуть живы, куда им такое вынести.
- Я ведь и сам на Парашиных деток радоваться имел надежду, - сказал Аверкиев. - Да вышло-то вон как...
Долго молча сидели два старика. Наконец Аверкиев встал и подошел к Шебаршину.
- Выходит, вы единственный ее покровитель, Сергей Степанович. Два домика, что на углу Алексеевской и Вознесенской, где Параша согласилась жить, хоть за полцены, хоть задаром берите. Христом богом вас молю, переезжайте, раз уж она помощи моей не принимает.
- Перееду, - кивнул Шебаршин, крепко пожав руку старого друга.
Купчую совершили незамедлительно.
Через две недели, в начале мая, Шебаршин покинул Макарьев. Родителям Параши сказал только, что подыскал подходящую службу в Нижнем, те обрадовались: они знали, как Параша к нему привязана. Сами уже на долгую дорогу не отваживались, но Сергей Степанович пообещал им на следующее лето, если зятя со службы не отпустят, самолично привезти Парашу погостить с двумя внуками.
О первой поездке Шебаршина в город Нижний, о разговоре с Аверкиевым Прасковья Александровна узнала только несколько лет спустя от Сергея Степаноича. Сам он к ней в тот приезд не заглянул, но уведомил ее коротеньким письмом о своем переселении. Параша получила его воскресным утром, когда не требовалось бежать на уроки. Узнав крупный твердый почерк Сергея Степановича, нетерпеливо и тревожно разорвала конверт; каждую весть, откуда бы та ни шла, встречала с опаской - так мало было за последние годы хорошего.
"Бесценный друг Парашенька, - начиналось письмо, - не удивись, если через неделю от сего письма увидишь ты меня во главе целого обоза у ворот твоей усадьбы, что на Алексеевской улице. Один домик в ней, как я наслышан от Егора, тебе не надобен, а мне на первый случай весьма пригодится, ибо я на работу в Нижний приглашен и с переездом меня весьма торопят. Около тебя и Саши и моему одинокому сердцу теплее будет..."
На этом чтение письма прервалось. Параша вдруг прижала письмо к лицу, упала головой на стол и разрыдалась.
"Теплее... тепло..." Как мало в ее жизни было этого простого человеческого тепла. И как всем сердцем она к нему тянулась...
- Целую неделю ждать, - повторяла Параша.
Но, как ни длинна была эта неделя, и ей пришел конец.
Тихий двор в тупике Алексеевской улицы наполнился шумом и сутолокой: в распахнутые настежь ворота въехали возы, груженные всякой домашней утварью, мебелью, большими ящиками с книгами. Дворовые Шебаршина проворно их разгружали, вносили вещи в пустовавший дом рядом с домиком Лобачевских. Ожили также и надворные постройки: в хлеве жалобно мычали утомленные долгой дорогой коровы, а рядом, в курятнике, звонко визжала пила и стучал топор: то плотник Шебаршина, здоровенный двадцатилетний Андрюшка, ладил насесты, чинил загородку для кур и гусей, томившихся в дорожных тесных клетках.
Всем этим деловито распоряжался пожилой дворовый Алексей. Он передал Параше, что коляска барина в дороге поломалась - колесо подвело, - и Сергей Степанович просит у барыни разрешения распорядиться вещами как полагается.
- Разрешить?.. Алексеюшка, делай все, как знаешь, - сказала Параша. Стоя на крыльце, она смотрела, как быстро и ловко помогает Алексею жена его Авдотья, как резво бегают на посылках их дети, Яшка и Фишка, и девочкасиротка Устья. Вместе с плотничавшим в курятнике Андрюшкой они составляли весь домашний штат Шебаршина.
Поселиться им предстояло в "людских" помещениях обоих домов. Возчики были наемные и собирались уже, покормив лошадей, ехать обратно.
Параша с ребенком на руках все еще стояла на крыльце, когда в распахнутых воротах показалась дорожная коляска. Заслышав звон бубенцов, ребенок замахал ручонками: непривычная суматоха во дворе ему, видать, понравилась. Коляска тем временем подкатила к дому. Сняв картуз, Шебаршин соскочил и поднялся на ступеньки.
Параша встречала его молча, лишь слезы текли по ее щекам. Сергей Степанович протянул к ней руки, затем обнял ее.
- Все будет ладно, все будет хорошо, - проговорил он.
Голос его дрожал. Он осторожно поцеловал ее в щеку и, не удержавшись, тихонько всхлипнул.
Через минуту, проворно спустившись вниз по ступенькам, Сергей Степанович распоряжался вещами, часть которых дополнила скромную обстановку дома Лобачевских.
Параша, придя в себя от волнения, хлопотала по хозяйству: надо было накормить и разместить всех людей. На душе у нее потеплело: не одна теперь на свете, есть у нее покровитель и защитник.
Шебаршин, грубоватый по наружности, порой вспыльчивый, по всегда справедливый и добрый, был на редкость образованным человеком: он кончил университет, хорошо впал несколько иностранных языков, писал неплохие стихи, рисовал. Интересовался и политикой, и литературой, но поистине всей душой увлекался математикой, считая науку эту главной. "Греки справедливо назвали ее математикой, то есть наукой всех наук", - утверждал он.
В Макарьеве и в Нижнем Шебаршин пользовался общим уважением за ум, доброту и честность. Его слова и обещания считались авторитетнее гражданских актов. Таков был человек, на твердую руку и преданное сердце которого смогла положиться Параша в самую тяжелую минуту жизни. Репутация лучшего землемера Нижегородской губернии дала Сергею Степановичу возможность немедленно получить хорошую службу. Передав Параше управление всем хозяйством, он большую часть временя проводил в служебных разъездах.
Между тем 20 ноября [По новому стилю 1 декабря] 1792 года в семье Лобачевских родился второй сын, Коля. Заботы в доме прибавилось.
Муж, еще раз вернувшийся после запоя и прощений, как прежде, не пытался взять на себя какую-либо ответственность за жизнь семьи. Безвольный и опустившийся, он принял заботу Сергея Степановича о своей семье как должное и был этим доволен.
С появлением у Параши второго сына домик на Алексеевской стал тесноват, и Сергей Степанович приобрел на Печерском поле новое владение и участок пустовавшей земли, где развел сад с оранжереей, не уступавшей аверкиевской. Разумеется, в новый дом переехали все вместе.
Хлопот у Прасковьи Александровны прибавилось. Но радостно было сознавать, как старый землемер дорожит каждой мелочью семейного уюта, которым она с любовью окружает его в недолгие приезды. Он отдохнет немного у семейного очага - и снова на другое утро дорожная коляска ждет его у крыльца. Кучер с трудом сдерживает резвых лошадей, Авдотья проворно укладывает в ящики под козлами и сиденьем кульки с домашней снедью. Маленький Саша сидит на коленях Сергея Степановича, старается заглянуть ему в глаза. Старик это видит и прячет в усах лукавую улыбку.
- А что, Парашенька, - говорит он, отодвигая пустой чайный стакан, - уж не проехаться ли вместе нам по хорошей-то погоде? Может, и еще кого-нибудь прихватим, а?
Саша не выдерживает.
- Меня! Меня! - кричит он. - Дядя Сережа, я уже большой, с кучером на козлах буду.
- Нет уж, - вмешивается мать. - Только со мной в коляске и недалеко, ведь Коленька дома...
- Устинья Коленьку с глаз не спустит, - говорит Шебаршин, поднимаясь. Поторопись, Параша, до жары овод не так пристает к лошадям.
Незаметно, казалось, вырос первый - Саша, но вот уже подрастает и Коля. Теперь он тоже получил место в семейных поездках за город, которые так радовали всех четверых. Сергей Степанович начал заниматься по вечерам с мальчиками, стремясь привить им любовь к землемерному делу. Те ликовали. Каждый вечер, проведенный с дядей Сережей, был для них настоящим праздником.
- Я примечаю, Парашенька, - хвалился он, - сколь полезны Саше наши поездки. С такой пытливостью следит он за действиями при размежевании, что... вот увидишь:
быть ему землемером! Слава богу, неплохая профессия, дельная. Надо бы определить его в Московскую гимназию.
Семью Параши старик давно уже почитал своей. И когда у Лобачевских родился третий сын, Алексей, он узаконил его как приемыша.
Муж Параши отнесся к этому равнодушно. Когда он изредка после разъездов появлялся в доме, дети сторонились его, как чужого. И тем горячее любили они сердечного Сергея Степановича.
Наступил 1797 год. Неожиданно губернскую межевую контору закрыли в Нижнем, и все чиновники были переведены в Уфу. Параша проводила туда мужа с чувством облегчения. Однако не предчувствовала, как скоро настанет конец ее мирной жизни. Прошла неделя, и Сергей Степанович тяжело занемог. Болел он недолго: вскоре попросил осунувшуюся от горя Парашу привести к нему ее детей - проститься.
- Не довелось мне, Парашенька, увидать, как они станут людьми. Придется тебе одной о них заботиться.
Пусть университет окончат. Все, чем владею, оставляю тебе в этом завещании, - старик дрожащей рукой протянул ей гербовую бумагу.
Вечером он скончался.
Параша с детьми остались жить в доме, завещанном ей Сергеем Степановичем.
В память о нем она всегда называла всех троих сыновей своих "воспитанниками умершего капитана Сергея Шебаршина".
Иван Максимович Лобачевский преспокойно служил в Уфе, не заботясь о том, как живется его семье, и только в 1800 году приехал домой на побывку. Радости от его появления в доме не было: трезвый, он упорно молчал и ни во что не вмешивался. Но вскоре снова начал выпивать, изводя жену придирками. Параша плакала. Вспышки мужа стали повторяться чаще, грубее, и с ним оставаться дальше было уже невозможно.
Осенью 1801 года, продав подворье в Нижнем, Прасковья Александровна с детьми вернулась в Макарьев, к своему отцу. Матери уже не было в живых.
В середине февраля меньшому, Алеше, исполнилось семь лет. Чтобы осуществить наказ покойного Сергея Степановича, Прасковья Александровна решила отправиться в Казань и устроить сыновей в гимназию. Для детей разночинцев добиться приема в гимназию, единственную тогда на весь огромный край от Поволжья до Сибири, было трудно. Сюда приезжали отовсюду, из отдаленных уголков страны, главным образом дети обеспеченных знатных родителей, а детям разночинцев устраивали особо строгие экзамены. Однако она решилась.
...И вот, погруженная в свои воспоминания, приближалась Прасковья Александровна к заветному городу. Резкий удар кнута по лошадиным спинам вернул ее к действительности. Вниз, по склону, тарантас покатился быстрее. Запрыгали узелки, дорожные корзинки с поклажей.
- Доехали! Слава те, господи! - радостно воскликнул кучер.
Лес кончился, и уже хорошо стала видна Казань. Белые дома блестели в ярких лучах солнца, между ними выделялись тонкие высокие минареты мечетей и пузатые купола церквей. Однако до городской заставы оставалось еще несколько верст.
- Маменька, - взмолился Коля, - больше не могу сидеть спиной к городу. Пусти меня туда, на козлы, чтобы лучше видеть. Можно?
- Можно, можно, - разрешила мать. - Но только не свались.
Коля мигом очутился рядом с кучером.
- Эх вы, милые, пошевеливайтесь!.. - крикнул тот на лошадей и, звонко щелкнув кнутом, похвалился: - Эх, махнули! Какие послушные...
Лошади, почуяв близкий отдых и кормежку, сами перешли на легкую рысь. Приказчик не останавливал кучера:
здесь, под самой Казанью, можно было без опасения опередить обоз.
Прасковья Александровна тоже обрадовалась близкому окончанию трудного пути, но сердце ее учащенно забилось:
что ждет ее сыновей в Казани, чем встретит их этот сверкающий под солнцем долгожданный город?
Небольшой дорожный столб возвестил: до Казани осталась одна верста. Впереди на левом прибрежном взгорье Казанки, на самой вершине, уже хорошо видны зубчатые стены кремля с высокими башнями по углам и белокаменные палаты около самой высокой башни Сююмбики... Наполовину скрытые деревьями, окна в предзакатных лучах солнца играли всеми цветами радуги. Город выглядел прекрасным, почти сказочным.
Лошади бежали уже по земляной дамбе, с двух сторон которой стояли коротенькие столбики, словно какой-то волшебник-землемер нарочно понатыкал вехи. Коля следил за их убегающими параллельными рядами; ему казалось, что они ведут его, куда-то указывают путь. Но куда? Конечно же в гимназию, ради которой и проделана вся трудная дорога.
Когда же столбики убежали назад, перед Колей в его воображении опять возникла эта манящая, таинственная гимназия. Вот он входит в большой светлый зал. Там, в глубине, - длинный стол, а за ним - учителя, много учителей, все в черных сюртуках, седобородые. И сразу начинают спрашивать его, экзаменовать по всем предметам.
А что, если выслушают его и скажут: "К сожалению, вас нельзя принять. Вы мало знаете..." Какой позор! Что скажет маменька? И Сергей Степанович, если бы тот был жив?
Он говорил: "Когда поступите в гимназию, передайте ей в дар мои землемерную цепь и эккер. Там есть, конечно, и свои инструменты, но мне приятно думать, что на занятиях вы будете пользоваться моими..." Они везут их, эти завещанные дядей инструменты, в своем багажнике.
Тарантас тем временем уже проехал дамбу, за которой показались дровяные склады, большие кучи соли, шкур, торговые лабазы, а чуть поодаль - грязные улицы.
Кругом стоял тяжелый смрад от смешанных запахов кожи, рыбы, дегтя и мыла. Где-то вблизи, в переулке, по неровному булыжнику грохотала старая телега. Колеса ее так нудно скрипели, что хотелось уши заткнуть. Кто-то протяжно кричал: "Воды кому, воды ка-ба-а-ан-ной". К этому голосу присоединился другой, тонкий и сиплый: "Эй, ребятишки, дам вам по пышке, цена - не индейка, всего полкопейки!" Везде - кучи золы, битые горшки, тряпье.
И здесь, как в Нижнем, весь мусор выкидывали на дорогу.
Миновав заставу, где когда-то, еще до пугачевского пожара, стояла триумфальная арка, построенная в честь приезда Екатерины Второй в Казань, тарантас выехал на Триумфальную улицу. Из-за высоких глухих заборов, откуда слышался басовитый лай цепных собак, показались карнизы домов с красными крутыми крышами. Расторопные приказчики побрякивали связками ключей возле больших лабазов и амбаров с пудовыми замками; толстые купчихи пронзительно кричали, выглядывая из деревянных лавчонок; деловые татары с острыми бородками, в каракулевых шапках и узких бешметах, в кожаных ичигах и калошах живо тараторили посредине улицы. Около большой церкви косматые нищие, тряся лохмотьями, жалобно причитали:
- Подайте на хлеб, христа ради!
Неожиданно из-за угла показалась большая группа этапников. Шли они понурые, под конвоем к главной крепости, чтобы оттуда начать слезный путь в суровые края Сибири. Впереди них рядом с тощей, заморенной клячей семенил ногами татарин-водовоз. Он подгонял свою лошадку вожжами, кнутом и даже кулаком, но та, пробежав с десяток сажен, остановилась.
- Эй! 0-с-свободи дорогу! - заорал хриплым голосом конвойный...
- Вот она, Казань! - проговорил Саша испуганно.
- Это еще не город, а пригород, сыпок. Дворянская Казань вона где! объяснил кучер, указывая рукой на гору, где виднелись великолепные белокаменные особняки. - Там улицы просторные, с торцовыми шашками...
- А это что же на цепях над речкой? Мост, видать? - спросила Прасковья Александровна.
- Это не речка, - включился в разговор приказчик. - Древний канал Булак. Еще при татарском ханстве прорытый в середине города, чтобы соединить озера Кабан с Казанкой. А мост через него подъемный. Днем по нему ходят, а ночью поднимают - суда пропускают с Волги. Мой хозяин его выстроил. Купец-то не простой - оптовую торговлю ведет по всей России. Сапожный товар и холст поставляет всему войску. Амбары тут, видите, каменные? Все жарковские, наши...
Кучер натянул вожжи. Лошади остановились у железных кованых ворот каменного дома, крайнего на левой набережной Булака.
- Вот я и доехал, - весело сказал приказчик. - Степан, довезешь барыню с детьми на Лядскую, куда им требуется.
Прасковья Александровна поблагодарила попутчика и простилась. Тот пожелал ей успеха. Мальчики еле дождались конца их разговора - так не терпелось им отправиться дальше. Усталые лошади неохотно тронулись от знакомых ворот, и путники, переехав деревянный мост через Булак, пересекли нарядную Проломную улицу. По крутому кремлевскому съезду лошади с трудом втащили тяжелый тарантас на главную городскую площадь перед Спасской башней. Здесь когда-то всенародно читались царские указы, вершились над виновными суд и расправа. Но сейчас тут встречались только гуляющие пары.
На углу этой площади, в начале Воскресенской улицы, достраивалось громадное здание - гостиный двор. Напротив него красовался дворец богача Дряблова, известного фабриканта, о котором так много рассказывал покойный Сергей Степанович. В его дворце, говорил он, в 1767 году остановилась Екатерина Вторая. Царице так понравилась Казань, что после она писала: "Сей город, бесспорно, после Москвы в России первый..."
- Смотри! - тихо сказал удивленный Саша, потянув Колю за рукав.
Мимо них пара лихих рысаков мчала карету, блестевшую золотом и лаком. Спины лошадей были покрыты голубой сеткой, их копыта мягко цокали по торцовой мостовой.
Два нарядных лакея стояли на запятках роскошной кареты, держась руками за блестевшие поручни.
- А гимназия ваша - во-он там, - показал кнутом кучер в конец Воскресенской улицы.
Мальчики повернули головы направо, ш там увидели два длинных ряда красивых зданий.
- Такая большая? - спросил удивленный Алеша.
- Потом узнаем, теперь уже скоро, - сообщил Саша. - Кучер, наверно, и сам не знает.
Коля поднялся в тарантасе и, придерживаясь рукой за козлы, молча смотрел на сливающиеся вдали здания.
На Спасской башне кремля часы пробили четыре.
Тарантас проехал через площадь и свернул по узкой улице к Черному озеру, вдоль которого были разбросаны маленькие дощатые лавочки. Это был Житный торг. Тут продавались овощи, мука, печеный хлеб, калачи. Между возами, заполненными фруктами, шныряли босоногие мальчишки в рваной одежде. Они подбирали просыпавшиеся на дороге яблоки, а если подводчик зазевается, прорезали мешки.
Внизу откоса, на берегу озера, стояло несколько ветхих лачужек. В них проворные старухи варили пельмени, пекли горячие блины, готовили студень и прочие кушанья. Тут же под открытым небом, расположившись на скамьях, за дощатыми столами, врытыми в землю, столующиеся уплетали варево из глиняных чашек. Пахло кухонным чадом.
Поодаль бойко торговали кумачом, галантереей, мылом, духами. Цирюльники, щелкая большими ножницами, зазывали народ в свои палатки. Желающего стричься тут же сажали на полено, стоящее торчком, и, надев на голову горшок, подравнивали концы торчавших из-под него волос.
Миновав кузнечный ряд с несколькими слесарными корпусами, тарантас выехал на Лядскую улицу и остановился перед небольшим двухэтажным домом, низ которого был каменным, а верх - деревянным.
- Вот и приехали, - сказала Прасковья Александровна.
Коля выскочил из тарантаса, поднялся на крыльцо и, подскочив, ловко дернул за ручку дверного колокольчика.
Дребезжащий звук его еще не затих, как в широко распахнутой двери появилась маленькая полная старушка.
- Парашенька! Мы так заждались. Да какая же ты славная стала! И таких молодцов уже вырастила, даже не поверишь. А мы-то... - но последние слова ее заглушил скрип закрывающейся плотно за гостями большой двери.
* * *
Первые дни в Казани были полны томительных ожиданий. Прасковья Александровна с утра уходила хлопотать по делам, строго наказывая мальчикам никуда не отлучаться: вдруг они могут понадобиться. Время в чужом доме тянулось очень медленно, хотя хозяева, старинные друзья родителей Прасковьи Александровны, были так приветливы.
Прасковья Александровна еще при жизни Сергея Степановича записала несколько необходимых адресов его влиятельных товарищей, которые могли помочь ей устроить сыновей. К сожалению, двое из них уже умерли, третий выехал из города. Но кое-кто из друзей все-таки нашелся, так что нужное содействие в конце концов ей оказали.
Взволнованная, с покрасневшими от радостных слез глазами, вернулась она домой и крепко прижала детей к груди.
- Получила... Наконец-то разрешили принять вас в гимназию, - сообщила мать и, не скрывая, вытерла свои глаза платком. - Вот написано тут...
Она порылась в сумочке и, достав аккуратно сложенную бумажку, прочла: "Принять для обучения на собственное содержание..."
- Значит, приняты? - радостно спросила хозяйка.
- Да, если только... - Прасковья Александровна вздохнула, - если только выдержат экзамены.
В гимназии существовало трехгодичное обучение с нижними, средними, высшими классами по каждому предмету, не считая начальных подготовительных. Даже поступающим в нижний класс надо было пройти очень трудные испытания.
Прасковья Александровна три года готовила детей, знакомила их с грамматикой российского языка и началами арифметики. Один год перед выездом из Нижнего Саша и Коля занимались в народном училище. Дети охотно и много читали не только художественную литературу, но и познавательные книги.
Наступил день экзаменов. Утро выдалось веселое, солнечное. Медленно кружась, падали с кленов последние листья. Багрово-красные, они пестрели по обочинам проезжих улиц, напоминая о недавнем тепле.
Прасковья Александровна пошла провожать сыновей.
Ежась от холода, с книгами под мышкой, впереди шел Коля, одетый в короткую курточку. Раскрасневшийся от быстрой ходьбы, он то и дело спрашивал:
- Мама, не видно еще гимназии?
- Пока нет. Но сейчас увидим...
Вслед за Колей шел Саша. Как старший, нес он бережно в одной руке дядин эккер с треногой, в другой - землемерную цепь и держался поэтому независимо. Шествие замыкала Прасковья Александровна, которая вела за руку младшего, не по возрасту рослого сына: тот был выше Коли на целую голову, почти как Саша. Через плечо Алеша повесил сумку с аспидной доской и грифелем.
Город уже давно проснулся. Много народу сновало у балаганов и дощатых лавок на Рыбнорядской улице. Коля по-прежнему шел впереди. На перекрестке он остановился, не зная, в какую сторону поворачивать. Но заметив приклеенный к забору лист бумаги, подошел к нему ближе и начал читать:
"Объявление.
От Казанского губернского правления через сие объявляется, что в оном будет продаваться принадлежащий штабс-капитану Попову четырнадцатилетний крестьянский сын Иван, оцененный в 300 рублей, могущий принести в год доходу до тридцати рублей. А также продается мерин серый 3-х лет, роста большого, неезженый. Цена по договоренности".
Коля вопросительно посмотрел на мать и братьев, которые тем временем тоже подошли к объявлению.
- Идемте, дети, - сказала Прасковья Александровна. - Потом поймете, когда выучитесь, а пока думайте об экзаменах. - Она повела сыновей оврагом к Воскресенской улице, в начале которой виднелось высокое белокаменное здание.
Гимназия помещалась в одном из наиболее красивых особняков Казани - в бывшем губернаторском дворце. Фасад его украшали величественные коринфские колонны - восемь на центральном портике и по четыре на боковых.
Над крышей возвышался большой купол с круглыми окнами, а над центральным портиком - треугольный фронтон с изображением лиры, глобуса и математических инструментов.
Мальчики безмолвно стояли на площади. Гимназия в самом деле казалась им сказочным замком. К ней подходили ученики. На всех были форменные курточки, сшитые из темно-зеленого сукна, со стоячими, красного цвета воротниками, с огненными кантами на рукавах и желтыми пуговицами. Только у некоторых почему-то воротники были зелеными, а пуговицы белые.
- Буду ждать вас там, у солнечных часов, - сказала Прасковья Александровна, показывая рукой в сторону сквера на углу Воскресенской, наискосок от гимназии, - а вы ступайте на второй этаж и разыщите инспектора Илью Федоровича Яковкина. Совет гимназии поручил ему принять от вас экзамен.
Она сообщила также, что, кроме инспектора Яковкина, будут на экзамене математик Григорий Иванович Корташевский, физик Иван Ипатьевич Запольский и преподаватель русской словесности Лев Семенович Левицкий.
- Помните наш уговор - подарить гимназии эккер и землемерную цепь... Но сначала надо успешно выдержать экзамены, - договорила она, целуя сыновей. - Ну, ладно, идите. Держитесь смелее, все будет хорошо!
Мальчики робко взошли на высокое крыльцо между колоннами, прошли мимо седого солдата-инвалида, стоявшего у входа, и попали в просторный парадный вестибюль, освещенный верхним стеклянным куполом.
- Вы куда? - спросил инвалид и направился к ним, постукивая деревянной ногой.
- Мы... у нас экзамен, - ответил Саша и сделал шаг ему навстречу.
- Экзамен? По лестнице на второй этаж и налево ступайте, в зал собраний. Но сперва тут оставьте верхнее платье... Да смотрите, никуда не сворачивать, - предупредил инвалид. - Снизу глядеть буду.
Сказав это, он повернулся и, пристукивая деревяшкой, возвратился на свое место у дубовой двери.
Откуда-то сверху доносился гул ребячьих голосов.
- Там, наверно, классы, - промолвил Коля и прислушался.
Вдруг, заглушая голоса, наверху пронзительно, торопливо зазвенел колокольчик, и говор стих.
- Идем! - решил Саша.
Втроем они, такие маленькие на широкой большой лестнице, шли рядом, не глядя друг на друга, чтобы не выдать своего волнения.
Но вот лестница кончилась, и большая белая дверь оказалась перед ними быстрее, чем этого им хотелось бы. Дверь открылась от первого нажима на ручку, и, переступив порог, Коля вошел в просторный зал.
У больших окон, выходивших на Воскресенскую улицу, мальчики увидели несколько взрослых. За длинным столом, накрытым зеленой суконной скатертью, сидел пожилой учитель с красным добродушным лицом. Немного дальше, у классной доски, стояли два молодых человека в мундирах из темно-синего сукна и с ярко-серебристым шитьем на воротниках. Один из них что-то писал на доске и говорил ровным, спокойным голосом. Он казался энергичным, но сухим и строгим - все в его движениях было рассчитано, точно. Другой, наоборот, выглядел добрым. Он был пониже первого и не так сухощав.
"Строгий" первым заметил вошедших Лобачевских.
- Иван Ипатьевич, трое; видимо, те, о которых нам говорили... Братья Лобачевские? - спросил он, подходя к мальчикам.
Саша кивнул.
- Значит, будем экзамен держать? - продолжал он, когда мальчики робко поздоровались. - Очень хорошо. Давайте к столу... Кто первый?..
Коля шагнул вперед и назвал свое имя.
- Николай Лобачевский? Прекрасно... У, сколько вы книг принесли! Покажите-ка!..
"Строгий" начал вслух читать названия:
- "Грамматика российская" Ломоносова... Очень хорошо. А тут?.. "Евклидовы стихии, перевод с греческого Суворова и Никитина"... Вон как! Значит, вы, юный геометр, Евклидом увлекаетесь?
- Господин инспектор... - начал было Коля.
- Старший учитель, - поправил его "строгий".
- Простите, господин учитель, я хочу быть землемером, а не геометром...
В это время из двери, на которой была прибита медная дощечка с надписью "Инспектор Илья Федорович Яковкин", вышел среднего роста человек, лет сорока, и быстрыми шагами направился к столу, здороваясь на ходу с присутствующими легким кивком головы. Был он в черном полуфраке, в белом жилете и синих панталонах. Коля заметил: странная у него, точно приплюснутая, голова, гладкие жирные волосы, язвительная улыбка и совиный взгляд.
- Начнем, господа! - сказал вошедший, глянув на мальчиков круглыми зеленоватыми глазами, затем добавил, обращаясь к "строгому": - Господин Корташевский, вы с Иваном Ипатьевичем старшим займитесь, - он кивнул на Сашу, - а мы с Львом Семеновичем испытаем среднего...
Поди-ка сюда!
Инспектор сел в мягкое кресло, рукой поманив к себе Алешу, - по росту принял его за "среднего Лобачевского".
У Коли вдруг закружилась голова. Саша, заметив это, шагнул к нему и незаметно поддержал рукой за пояс. Коля тотчас отвел его руку.
- Ничего, - шепнул он. - Уже проходит.
Яковкин ничего не заметил.
- Ты... как тебя... Николай?.. Сядь вон туда, можешь порисовать, что ли, - покровительственно сказал он и обратился к Алеше.
Коля сел на указанное место. "Младший Лобачевский".
Машинально сунул руку в левый карман и вытащил оттуда грифель, а в другой руке, по забывчивости, положив книги на стол, продолжал держать аспидную доску. Это, видимо, и подсказало Яковкину - "можешь порисовать".
"Не буду!" - решил мальчик и выглянул в окно. Ветер свирепел сильнее, голые ветки деревьев метались, словно просили о помощи. На толстом суку старой липы неподвижно сидела ворона. Ей, наверное, холодно.
"Поделом тебе. Улетела бы в теплые страны греться на солнышке..." размышлял мальчик. Но ворона вдруг наклонила голову и так лукаво посмотрела в окно, что Коля не выдержал: рука сама потянулась к аспидной доске. Рисованье давалось ему легко. На доске появилась такая же ворона, даже умный взгляд ее был передан удачно. Коля увлекся и рядом с вороной посадил сороку, затем нарисовал сову с круглыми глазами, похожую на инспектора. Но тут голос Яковкина прервал его занятие:
- Младший Лобачевский, подойди к столу. А ну-ка, покажи мне, что изобразил. - Он поднялся и подошел к мальчику. С минуту молча смотрел на его рисунок. - Сотри, - сказал наконец приглушенным голосом. - И ступай к столу!..
Корташевский и Левицкий удивленно переглянулись, они хотели посмотреть рисунок, но Коля уже стер его рукавом своей курточки.
- Приступим, - объявил Яковкин, усаживаясь в кресло.
Начало экзамена было неудачным. Коля так растерялся, что не расслышал первого вопроса. Когда же вопрос этот ему повторили, он ответил неуверенно. Затем чуть не запутался в четырех правилах арифметики, но Левицкий пришел ему на помощь:
- Не волнуйся, братец, вижу - знаешь... Расскажи-ка нам про звательный падеж.
Коля молчал.
- Ну, когда хочешь позвать кого-нибудь из товарищей, как ты говоришь? уточнил вопрос Лев Семенович.
- Эй! Поди сюда! - с отчаянием ответил Коля.
Яковкин язвительно усмехнулся.
Тогда Левицкий предложил:
- Прочитай нам свое любимое стихотворение.
- Выйдите на середину, - вставил Корташевский, нахмурив брови.
Коля подчинился. Он отошел от стола и, приподняв руку, начал читать по-латыни оду Горация "К Мельпомене".
Вскоре Яковкин прервал его, стукнув ладонью по столу:
- Хватит, можно так и попугая научить. Посмотрим, знаешь ли перевод.
- Знаю, - ответил Коля.
- Начинай!
Мальчик вспыхнул.
- Не буду, - сказал он.
- Как?! - растерялся инспектор.
Дело принимало дурной оборот.
- Успокойтесь, Лобачевский, - посоветовал "строгий". - Сейчас же извинитесь!
- Господин учитель, больше так не буду, - пробурчал Коля.
- Вот и прекрасно, - сказал Корташевский. - Переведите нам первые строчки.
Создал памятник я, меди нетленнее,
Пирамидных высот царственных выше он.
Едкий дождь или ветер, яростно рвущийся,
Ввек не сломит его...
читал Коля.
- Довольно, - сказал учитель. - Знаете... Прочтите нам, Николай, и русские стихи.
Он прочитал им басню Ломоносова о двух астрономах и поваре, отвергавшем утверждение Птолемея следующим доводом:
Кто видел простака из поваров, такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого?
Корташевский и Левицкий, переглянувшись, одобрительно кивнули друг другу. Но Яковкин был недоволен.
- Та-ак-с, - протянул он. - А кто же тебя, Лобачевский, обучил такому стихотворению?
- Мама, - сказал Коля.
- Ее выбор не одобряю, - объявил инспектор. - Стихами, смысл которых тебе еще не ясен, голову забивать не следует. Лучше скажи нам, какие люди назывались в старину волхвами?
Коля удивленно посмотрел на Левицкого, и тот счел нужным вмешаться.
- Извините, господин инспектор, - вежливо напомнил он. - Мы же собираемся принять Лобачевского в нижние классы.
Яковкин нахмурился:
- Куда его, такого, в нижние! Я бы совсем не принял.
Только вот за то, что воспитанник покойного Шебаршина...
Ладно уж, пусть попробует в начальном, подготовительном...
Старшие преподаватели присоединились к его решению.
Экзамен кончился. Инспектор подписал свидетельство, что Лобачевские Александр и Алексей приняты в нижние классы как весьма достойные.
- А ты, - сказал он Коле, - будешь в классе начальных правил языка российского и арифметики у господина Федора Петровича Краснова...
Уже готовясь покинуть зал, Саша вдруг повернулся к столу.
- Дядя Сережа, то есть Шебаршин Сергей Степанович, наказывал нам передать гимназии эккер и землемерную цепь, - сказал он. - Я положил их за дверью. Можно принести?
Брови Яковкина поднялись.
- Цепь и эккер? - повторил он. - Хорошо. Сами возьмем. Идите.
Мальчики вышли. Посмотрели на сверток, лежавший за дверью, и молча спустились по лестнице вниз.
- Экзамен-то сдали? - участливо спросил их инвалид и сам открыл перед ними входную дверь.
- Сдали! Сдали! - крикнули вместе Алеша и Саша.
Коля прошел мимо швейцара молча. Тот посмотрел ему вслед и, вздохнув, закрыл двери.
Мать стояла на улице, ждала их. Алеша и Саша бросились к ней, размахивая руками. А Коля приотстал немного. Мать поняла, что случилось неладное, и поспешила к нему навстречу.
- Не приняли?
- В подготовительный. А Сашу с Алешей в нижние, - ответил он. - Мама, прости меня. Ведь я не хотел огорчать... Но вот...
- Ничего, сынок, - утешала мать. - Не горюй. Ты себя еще покажешь... А сейчас, дети, пойдем к доктору Бенесу.
Он живет на Лядской улице.
Лекарь принял их учтиво и сразу же дал три свидетельства о хорошем здоровье и крепком телосложении Александра, Николая и Алексея Лобачевских.
Наконец все формальности были выполнены, и 5 ноября 1802 года совет императорской Казанской гимназии в протоколе за № 158 постановил удовлетворить просьбу коллежской регистраторши Лобачевской "о принятии трех ее сыновей Александра, Николая и Алексея, детей губернского регистратора Ивана Максимова Лобачевского, в гимназию для обучения на собственное разночинское содержание до открытия вакансии на казенное".
Получив это постановление, Прасковья Александровна тут же внесла в контору гимназии деньги за учебу и, помолодевшая, вышла поздравить своих сыновей, ожидавших ее у входа.
Обнимая их, она смеялась и плакала. Еще бы! Новая жизнь раскрыла перед ними свои двери.
ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Сборы в гимназию были недолгими. Утром у ворот уже стоял извозчик, нанятый с вечера. Мать хлопотала на кухне, приготовляя завтрак, но горячие лепешки, аппетитно шипевшие на сковородке, не соблазняли мальчиков. Умытые, причесанные, в праздничных курточках, они долго слонялись по комнатам, пока наконец не присели к столу.
- Смотрите же, дети, ведите себя хорошенько и будьте как можно предупредительнее со всеми, - просила мать.
После завтрака мальчики оделись и по старому обычаю с минуту молча посидели перед выходом.
- Ну, с богом! - Прасковья Александровна поднялась, обняла и поцеловала каждого. Все. Теперь можно выходить.
Озябший извозчик у ворот похлопывает рукавицами.
Резкий морозный ветер на крыльце рвет платок с головы матери.
- В гимназию! - говорит она извозчику.
Санки тронулись, провизжав полозьями. Прасковья Александровна стояла на крыльце и смотрела им вслед, пока не скрылись они за поворотом...
Мальчики сидели молча, прижимаясь друг к другу. Когда сани повернули за угол, спохватились: даже не помахали рукой на прощание.
Но думать об этом некогда: извозчик уже натягивал вожжи, лихо подкатив к подъезду гимназии.
Алеша не поверил:
- Так быстро?!
- Вылезай! - ответил Саша.
Входная дубовая дверь в гимназию открывалась туго.
Саша нажал ее плечом, пропуская братьев. Затем и сам вошел.
В просторном вестибюле остановились и посмотрели друг на друга растерянно: занятия в классах, видимо, уже начались, а тут было тихо и пусто.
- Куда же теперь? - спросил Коля.
- Подождите, сейчас придут за вами, - строго сказал стоявший у двери солдат-инвалид и взглядом показал на широкую каменную лестницу.
- Вон уже идет! - шепнул Алеша, попятившись назад, за спины старших братьев.
С верхнего этажа неторопливо спускался пожилой офицер - дежурный по классам Василий Петрович Упадышевский. Одной рукой он опирался на перила, другая - в черной перчатке - была подвязана широкой черной лентой, перекинутой через плечо. Мальчики узнали его по висевшему на шее ордену. Доктор им рассказывал, что кисть руки Василий Петрович потерял в бою, а черная перчатка его набита хлопчатой бумагой.
Упадышевский приветливо глянул на смущенных мальчиков. Он хорошо знал и ценил их воспитателя - капитана Шебаршина.
- Братья Лобачевские? - спросил он хриплым басом. - Ну, кто из вас в подготовительный?
Коля понурив голову, нехотя шагнул вперед.
- Пойдем со мной, - сказал седой офицер, - к Федору Петровичу Краснову. А вы подождите.
Подготовительный... Коле казалось, что кто-то громко по слогам повторяет слово это на каждой ступеньке. Но вот лестница кончилась.
Когда поднялись на второй этаж, Коля направился было в зал собраний, но Упадышевский остановил его.
- Нет, нам в столовый зал, направо, - сказал он, открывая противоположную дверь.
Неожиданный яркий свет заставил Колю зажмуриться - утреннее солнце уже заглядывало в окна. Следуя за дежурным офицером, переходил он огромный зал, выкрашенный до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше - розовой известкой. Простенки между окнами были заполнены раскрашенными картинками отечественной истории, а в дальнем углу сияли позолотой озаренные солнцем образа иконостаса.
- Это наша домовая церковь, - пояснил Упадышевский, заметив, что мальчик озирается по сторонам, - А вот и подготовительный.
Он открыл дверь в класс.
- Федор Петрович, пожалуйте - к вам новый ученик, Николай Лобачевский, - торжественно произнес дежурный, обращаясь к учителю. Затем он повернулся и вышел, тихо закрыв за собой дверь.
Коля растерялся. Комната была большая, высокая, заставленная рядами узких столиков со скамейками, на которых сидели ученики. Все они - в темно-зеленых мундирах, с галстуками на шее. В глубине комнаты - кафедра.
За ней стоял длинноволосый блондин, такой худой и высокий, что ему невольно приходилось горбиться. Острые глаза его уставились на мальчика.
- Пришел, так садись, - послышался неприятный скрипучий голос. - Там, там, где стоишь, - на заднюю скамейку. Посмотрим еще, годен ли будешь сидеть на передней.
Начало было не ободряющим. Коля робко сел на свободный край скамейки, присматриваясь к учителю.
"Совсем как наш макарьевский священник, - с удивлением подумал он, такая же косичка. Борода, как веник.
И нос кверху".
Тут Краснов, подняв руку, почесал свою голову. Рукав его поношенного синего сюртука на локте был разодран - видимо, протер на кафедре.
Осмелев, Коля присмотрелся теперь и к ученикам. Все они сидели неподвижно и затаив дыхание, как завороженные, смотрели на учителя.
Мертвую тишину вдруг нарушил припадок хриплого кашля. Держась руками за края кафедры, учитель, багровый от напряжения, дико вращал глазами казалось, вотвот он задохнется. В классе облегченно вздохнули. Когда же кашель кончился, ученики снова застыли в неподвижности.
Коля повернул голову направо, но сидевший рядом ученик пожалел новичка: он слегка толкнул его ногой и прошептал, почти не двигая губами:
- Не шевелись, а то спросит!
Положив перо, учитель закрыл журнал и хлопнул по нему ладонью. Затем, выпятив нижнюю челюсть, посмотрел на учеников мутными глазами.
- Ну-с, шалопаи, - начал он. - Что же вы знаете?..
Ничего не знаете. И знать ничего не будете. Вы дома небось только в бабки играли да голубей гоняли. Так?.. И пре-краа-асно! Чу-де-сно!..
Краснов поднялся, двумя пальцами вынул щепотку табаку из лежавшей перед ним табакерки на кафедре и двинулся вдоль первого ряда. Сидели там лучшие ученики, поэтому просмотр их тетрадей по арифметике не затягивался. Пробежав глазами листок, учитель бросал его на стол и обращался к следующему.
Но со второго ряда началось. Обнаружив ошибку, свирепый учитель швырял тетрадь на пол и кричал ученику:
"Поднимай!", затем бил его тетрадью по лицу. А в третьем ряду совсем разбушевался. "Дурак! Свинья! Болван!
Осел!" - выкрикивал он визгливо, топая ногами. Наконец, взяв двух соседей-второгодников обеими руками за волосы, так стукнул их друг о друга, что у несчастных слезы брызнули от боли. Но кричать нельзя: учитель требовал тишины.
Самые отчаянные из наказанных как-то находили в себе силы даже улыбаться и грозить кулаком, когда учитель поворачивался к ним спиной.
Коля совсем остолбенел от удивления. Там, в народном училище, в Нижнем Новгороде он таких учителей не видел.
Отец, правда, бушевал, когда напьется. Но то было дома, не в школе. А тут? В гимназии?..
Он придвинулся к соседу и спросил его нерешительно:
- Учитель... что?.. Пьяный?
- Тише! - испугался тот. - Услышит - в беду попадешь.
Но было поздно: Краснов оказался рядом.
- Разговаривать? - зарычал он. - Базар тут разводить?.. Получай, Рыбушкин! - И, схватив ученика за руку, потянул его к себе.
Коля не выдержал.
- Не смейте! Не трогайте! - крикнул он, вскакивая с места.
Краснов онемел от изумления и выпустил руку плачущего мальчугана.
- Учителя учить?! - завизжал он и, схватив Колю за воротник, потащил в угол. - На колени! До конца урока!
Дайте болвану кочергу в руки!
Оглушенный, Коля не успел опомниться, как учитель, подтащив его к печке, швырнул на пол и всунул в руки железную кочергу. Пьяный отец не унижал его таким образом!
Кочерга шевельнулась в руке мальчика: ударить бы...
Но вдруг он очнулся, подумав: "А мама? Нет, надо стерпеть..."
Коля стоял на коленях у печки до самого звонка. Учитель схватил с кафедры журнал и, не оглядываясь, поспешил к двери. Коля тоже поднялся, швырнув кочергу в угол.
Ученики тотчас окружили его.
- Дружим? - спросил сосед по скамейке, широко улыбаясь. - Моя фамилия Рыбушкин. Миша... Ты молодец, Николай. Кабы не звонок, поди, кочергой двинул бы. Я видел. А?
- Двинул бы, - ответил Коля. - Только нельзя было.
Маму вспомнил.
Перемена кончилась - нужно было садиться на места.
Коля успокоился, но как только вошел учитель, снова навалилась тяжесть на плечи. То, что случилось на первом уроке, было ужасг.о. "А что еще будет завтра? - невольно спрашивал он себя. - Что, если не решишь задачу?.."
На втором уроке разбирали начальные правила российской грамматики. Несмотря на то что Коля знал их, он так волновался, что вряд ли смог бы ответить на вопрос учителя. К счастью, тот и не спрашивал, будто не замечал его в классе.
Наконец колокольчик оповестил, что и второй урок закончен.
- Сейчас нас поставят во фрунт по ранжиру, - сообщил сосед Миша. Хорошо, если бы мы с тобой по росту подошли. Рядом были бы, а?
- Неплохо, - согласился Коля.
И желание мальчиков исполнилось: когда их построили по два и строем повели в столовую, они оказались рядом, в одной паре. У входа в столовую дежурный, остановив новенького, подал ему деревянную ложку.
- Держи, - сказал он. - Да свое имя вырезать не забудь, чтобы не затерялась. После, когда выйдешь, на стену ее вон там повесишь.
Коля долго мешал своей ложкой мутную похлебку. Затем попробовал - она была невкусной. Вскоре на второе подали кусочек вареной говядины с овсянкой.
- Ешь, не копайся, - посоветовал Миша. - Привыкнешь, все подчищать научишься, - добавил он, старательно вытирая хлебной коркой оловянную миску. - Проголодаешься - и болтушке будешь рад.
За порядком в столовой наблюдал Сергей Александрович Попов, широколицый, с приплюснутым от какого-то несчастного случая носом, воспитатель. Гимназисты его не опасались. Они тут же при нем восхищались Колиным поступком на первом уроке. "Дал бы ему по рылу", - говорил о Краснове Миша. Коля понял: происшествие с кочергой не унизило его в глазах товарищей. Об учителе все гимназисты говорили с отвращением. Пьяница, невежественный и грубый, к учительской должности вовсе не способен, а вот учит, потому что умеет прислуживаться. К директору подходит на цыпочках.
- Еще ведь нашу гимназию кончил, - объясняли Коле. - В Преображенском полку служил. А сам хуже ката.
Ему бы место на каторге, надзирать за разбойниками...
От оживленных разговоров гул стоял в столовой. Старшеклассники держались отдельно, с достоинством, говорили тихо, и в голосе многих прорывались уже басовые нотки.
После обеда гимназистов парами повели в нижний рисовальный класс. Увидев братьев, Коля вспыхнул, отошел в дальний угол и сел там на задней скамейке.
Алеша и Саша с тревогой следили за ним издали, не понимая, что случилось.
Молодой красивый учитель рисования Федор Иванович Чекиев ни в чем не походил на Краснова. Этот - воспитанник Петербургской Академии художеств любил свое дело и был тактичен с гимназистами. Хотя и старался порой как можно строже смотреть на своих учеников, но из-под густых бровей умные глаза его всегда блестели добротой.
Коля, однако, не сразу проникся к нему доверием. Начальные приемы рисования, показанные Чекиевым, казались .ему странными. Дома он с увлечением рисовал с натуры животных и птиц, а тут Федор Иванович заставлял его чертить какие-то палочки.
- Голову держи прямо. Язык не показывай: он тебе не помощник, улыбнулся Чекиев, похлопав Колю по спине. - Люди научились рисовать уже давно, - продолжал on рассказывать, обращаясь ко всему классу. - Первые письмена состояли тогда из рисунков. До нас дошли древние изображения на скалах, на каменных плитах, но многие из них еще не разгаданы...
Ученики слушали его и рисовали с увлечением.
"Так, бывало, проводил свои уроки дядя Сережа", - подумал Коля.
Когда прозвенел звонок, он быстро поднялся и хотел было выйти раньше братьев, но в дверях показалась грузная фигура Упадышевского.
- Лобачевские, - объявил он басом, - пойдемте вниз.
Там ожидает вас матушка.
Прасковья Александровна стояла в приемной комнате.
Увидев сыновей, она кинулась им навстречу:
- А вот и мои ученики! Ну, как? Понравилась гимназия?
- Понравилась! - ответил Саша.
- Тут хорошо! - заверил радостный Алеша.
- Еще бы не понравилась! - вмешался в разговор Упадышевский. - Ведь сюда учиться едут со всех концов:
из Тобола, Бухары, Тифлиса, на лошадях, а то и на верблюдах...
- Мы тоже ехали на лошадях! - похвалился младший.
Но мать в это время тревожно смотрела на молчавшего Колю. Нагнувшись к нему, она шепнула:
- Не расстраивайся, Колюшка, все наладится, вот увидишь...
- Да, мама, я тоже думаю, что все будет хорошо...
Упадышевский проводил Прасковью Александровну до
выхода. Вернувшись, он сказал:
- Теперь все трое отправляйтесь в контору, там спимут с вас мерку, чтобы сшить гимназическую форму.
Скучно и медленно, как тяжелый сон, тянулись для Коли последние уроки этого первого дня в гимназии. Были минуты, когда ему казалось, что не семь часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того момента, как поднялись они по широким ступеням парадного крыльца и с трепетом открыли огромные двери этого здания.
После уроков мальчикам показали места их в спальнях:
Алеше и Саше - вместе, в комнате, выходящей на Воскресенскую улицу, Коле - в спальне подготовительного класса окнами во двор.
Вечером, в шесть часов, очередной пронзительный звонок возвестил о том, что все должны вернуться в классы - "к завтрашнему дню" твердить уроки. Ученики снова заполнили грязные, неприбранные с утра комнаты. Началась нудная зубрежка. Многие учили уроки вслух, заткнув уши, чтобы шум им не мешал. Тут же сидел за столом дежурный воспитатель, но тот и не пытался навести порядок. Наоборот, взяв толстую книгу из шкафа, читал ее с таким упоением, будто в классе он был один.
Следуя примеру своих соседей, Коля тоже попробовал заткнуть уши. Но в голове гудело, и шум класса напоминал ему отдаленный гул Макарьевской ярмарки. С отчаянием убедившись, что не может понять ни слова из прочитанного вслух, он отложил тетради в сторону.
Звонок на ужин застал его все в том же безнадежном состоянии: уроки не были готовы.
Кушать после такой зубрежки совсем не хотелось. Коля с трудом кое-как проглотил две-три ложки постной овсяной каши, только лишь затем, чтобы не приставал дежурный.
Потом всех отвели в зал размяться. Многие, особенно младшие воспитанники, бегали охотно, играли в пятнашки, громко стуча башмаками. Коля вынужден был пробежать несколько раз по залу, чтобы отдохнуть от ходьбы в строю, но в игру не вступал - и на бегу не покидала его неотвязная мысль: "Уроки-то не выучены. Что же будет завтра?"
Наступило время отбоя. Под строгим контролем комнатных надзирателей воспитанники разошлись по своим спальням и, раздевшись, улеглись на жесткие кровати с мочальными тюфяками.
- И чтобы не было тут болтовни. Спать! - скомандовал пучеглазый надзиратель, когда все натянули на себя колючие солдатские одеяла, пахнущие клопами.
Тяжело ступая, он взял сальную свечу и вышел из камеры. Но странно: тяжелые шаги за дверью внезапно стихли.
- Что ж это? На цыпочках дальше пошел? - спросил удивленный Коля.
Миша прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться:
- Держи карман шире - на цыпочках! Он теперь битый час у двери будет стоять - подслушивать. Кто говорит, кто смеется - всех перепишет. А завтра - на расправу.
Грозное слово "завтра" заставило Колю забыть и надзирателя, и гнусное подслушивание. Мальчик заметался на кровати. В не прикрытые занавесками окна смотрела яркая луна, какая-то неприветливая, совсем не та, что заглядывала в уютную домашнюю спальню в Нижнем. Заглядывала смело, а не подглядывала, как сейчас. Она даже похожа то на Яковкина, то на его верного слугу - надзирателя, что прижимает сейчас ухо к дверной щели, а завтра побежит к нему с доносом.
Постепенно измученные за день гимназисты засыпали, но сон их был неспокойным. Одни, правда, шумно храпели, но другие что-то бормотали во сне и жалобно вскрикивали, видимо, переживали дневные события. Кто-то громко застонал, кто-то всхлипнул...
Коля не выдержал. Зажал уши руками, потом и вовсе накрылся подушкой, оставив маленькую щель.
Снова как из чистого, не покрытого рябью озера всплывают милые детские воспоминания. Родной дом в Нижнем.
Знакомая улица. Глубокие овраги с крутыми склонами, по которым так весело карабкаться. Кругом заросли кустарника - лучшего места и не придумаешь, где разыгрывать с ребятами войну, охоту. Рядом Черный пруд, заросший камышом, а чуть подальше - речка Почайна. Водились в ней крупные налимы. Порой даже всем на удивление рыбаки вытаскивали огромную, казалось не по речке, зубастую щуку с желтыми звериными глазами.
Вот они шумной толпой залезают на крышу, делают самострелы, запускают огромного змея: настоящее чудовище, с погремушками, с трещотками, с длинным красным хвостом из мочала.
Саша первый тогда придумал:
- Пойдем запускать не с крыши, а с Гребешка!
Мальчишки даже завизжали от восторга.
- С Гребешка! С Гребешка! - И сразу бросились вниз, а там от Черного пруда по Лыкову мосту через Почайну.
Гребешок - вершина окской горы. По дороге к ней чуть не рассорились кому нести змея. Потом оказалось, тащить его в руках по крутому склону горы было не так-то просто: змей изгибался - вот-вот из рук вырвется, погремушки гудели. А на самой вершине, когда его уже запускать собрались, он чуть не сбросил под обрыв мальчугана, державшего бечевку. Хорошо, что успели обмотать ее вокруг тяжелого камня. Зато сколько гордости было! Змей рвется в облака, и ребятам кажется - весь народ ликует:
смотрите, мол, какого змея затащили по такой тропе!
А внизу обрывы, заросшие лесом, круто спускаются к воде. Другой берег Оки низкий, стелющийся там, за водной гладью, золотой лентой песка. До чего же просторно! И слезать не хочется. Но вскоре, спустив змея на землю, ребята сходят вниз. Прыгают в прохладную воду, ныряют, гоняются друг за другом. А в костре в это время поспевает рассыпчатая печеная картошка... Вечером усталые, но довольные бегут они домой.
- Каково нагулялись? - весело спрашивает Сергей Степанович.
Он с газетой в руках сидит на крыльце дома...
Убаюканный такими воспоминаниями, Коля задремал.
Доброе лицо дяди Сережи куда-то исчезло. И на крыльце появился Краснов с кочергой в руке. Вот он, ехидно улыбаясь, медленно сходит вниз...
Коля застонал и, сбросив рывком одеяло, сел на кровати.
В спальне тихо, слышно даже, как в умывальной комнате редко, со звоном падают на дно таза капли воды. Луна передвинулась, но светит по-прежнему ярко и холодно.
В комнате нет ни Сергея Степановича, ни Краснова.
С подавленным стоном Коля снова ложится на жесткую подушку. Но спать ему не хочется. Чтобы не увидеть во сне Краснова, он уже сознательно вспоминает все, что было так недавно и чего теперь навсегда лишился...
Уютный маленький дом, почти не видимый в зелени сада. В кустах черной смородины под окнами жил соловей.
В дупле старой осины однажды синица вывела птенцов...
У самого дома на улице высился громадный тополь. Коля верил тогда Сашиной сказке, будто бы тополь этот подпирает небо, чтобы оно не свалилось на землю. Хотелось ему забраться на дерево, заглянуть - какое оно там, небо. Но мать, узнав об этом, взяла с него слово не лазить по деревьям, чтобы не сорваться. Досадно было, а ничего не поделаешь. Так и не пришлось заглянуть ему в небо...
По вечерам, особенно поздней осенью, в доме у них всегда было много людей. Мать, единственная грамотная женщина тогда на всей улице, читала им потрепанную книгу "Жития святых". Коротая время, соберутся, бывало, соседки, усядутся вокруг сальной свечи с рукоделием и слушают сказки затаив дыхание. Святых, как известно, всегда мучили, но те не поддавались. Иногда, правда, являлся ангел, утешал их при мучениях. Коля как-то спросил: "А почему же ангел не прогонит мучителей? Тогда святых и утешать не пришлось бы". Женщины ахнули, замахали руками, но толком объяснить ничего не сумели. Коля больше в их разговоры не вмешивался...
Его воспоминания были прерваны подозрительным шорохом у входа в спальню. Дверь чуть заметно скрипнула.
"Пучеглазый!" - догадался Коля, закрывшись одеялом.
Длинная тощая фигура надзирателя, загораживая ладонью свечку, осторожно прошла вдоль кроватей. Снизу огонек освещал его тонкий нос и проворно бегающие глазки.
Ничего не обнаружив, надзиратель на цыпочках вернулся к двери, постоял немного на пороге и так же бесшумно вышел в коридор.
Коля долго потом вертелся на жестком матраце, посматривая на спящих товарищей. Эта первая ночь в гимназической спальне казалась ему бесконечной. За окном шумел ветер; от его завываний становилось тоскливо и страшно.
Сон пришел только под самое утро, когда уже начали светлеть незавешенные окна - из черных они стали синими.
Но тотчас в нижнем этаже пронзительно зазвенел колокольчик. Шесть часов. Дежурный вскочил как ужаленный и босой, неодетый бросился будить воспитанников, сдергивая с тех, кто был поближе, одеяла:
- Вста-а-а-вай... Подъем!
Некоторые успевали схватить конец одеяла, пытаясь в него закутаться, но дежурный мальчик им не уступал, тащил к себе другой конец.
- Тебе-то хорошо, а мне каково, - жаловался он, - С кого будет спрос, если ты проваляешься?
Точно живое, слетело и с Коли одеяло. Испуганно векочив, он осмотрелся, будто в первый раз видел, где находится. Тесно: девять небольших кроватей и шкафчики в изголовьях, каждому - свой. В середине длинный стол, вокруг него скамейки, дубовые, крепкие. Комната высокая, но воздух в ней тяжелый, затхлый. Каменные плиты пола холодом жгут босые ноги.
Удивление в глазах мальчика сменилось тоской... Дома... Еще затемно, бывало, присядет на край постели мать, проведет рукой по голове и скажет: "Колюшка, самая румяная лепешка стынет". Но ему не хочется расставаться так рано с теплой постелью. Натягивает он одеяло до самого подбородка и сладко дремлет. Ему так приятно чувствовать близость матери, слышать спросонок ее ровный, ласковый голос...
- Эй, ты, чухонь, одевайся!
Это уже не голос матери... Коля вздрагивает всем телом и хватается рукой за брюки.
- Надзиратель! - крикнул кто-то испуганно.
- Коля, скорей, поторапливайся, - шепчет Миша, - не то, чего доброго, и в карцер попадешь.
Все одеваются наспех, ощупью: тусклый рассвет робко заглядывает в окна спальни, а свечей по утрам зажигать не полагается.
- По два в ряд! Стро-о-ойся! - провизжал дежурный, худенький белобрысый мальчуган с испуганными глазами.
Воспитанники, обвязавшись вокруг пояса полотенцем, построились. Чтобы согреться, боками толкали друг друга.
Надзиратель, хмуро посмотрев на всех, махнул рукой.
- Веди! - разрешил он.
Мальчики следом за дежурным зашагали в умывальную. Там сразу же началась борьба: умывальников всего лишь три, а каждому хотелось вымыться пораньше.
"Старички" ругались Охрипшими голосами. Высокий широкоплечий гимназист локтем оттолкнул Мишу Рыбушкина в угол.
- Сторонись, после Смолина я моюсь! - крикнул он.
Смолин, такой же грубый, широкоплечий, под стать первому, плескался над умывальником, разбрызгивая воду во все стороны. Когда же кончил умываться, высоко поднял мыло и крикнул:
- Кому дать? Кто Петра Смолина сегодня угощает, подходи!
На три умывальника воспитанникам выдавали один кусок мыла.
- Отдай сюда! - потребовал Миша.
Кто-то заявил:
- Надзирателю скажем!
Смолпн рассердился, пригрозил им:
- Ну, подождите, жадюги. Небось карманы от гостинцев лопаются... - Он осмотрел всех столпившихся. - Эй, Панкратов! Таврило! Выходи, получай!
Из толпы нерешительно выдвинулся некрасивый большеголовый мальчик. Добрые глаза его смотрели вниз.
- Бери, бери! - протянул ему Смолин. - Живо! Тебе, кажется, мать пирожков принесла, я видел...
Несколько раз, когда Коля становился под кран, его сзади оттаскивали за ворот. Умыться удалось ему в последнюю очередь.
Наконец причесанные гимназисты парами проследовали в столовую. На столах дымились кружки горячего молока, возле каждой - ломоть пшеничного хлеба. Но сначала, перед завтраком, нужно выслушать молитву.
- "Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении", - громко читал юноша в мундире с красным воротником.
Ученики стояли со сложенными крест-накрест руками.
После молитвы расселись по скамейкам. Счастливчики достали из карманов домашние лакомства. Со всех сторон посыпалось:
- Княжевич, дай баранку, я тебе задачку решу.
- Сенька, твой черед. Я тебя угощал, помнишь?
- Давай сменяем хлеб на молоко!
Смолин выжидал, когда надзиратель, свесив голову, задремлет.
- Эй, Таврило! - тараторил он. - Твой пирожок так и рвется ко мне в рот, помоги-ка ему. бедняжке, найти дорогу!
Коля вспыхнул, но Миша предупредил его:
- Ешь! И не связывайся...
Когда звонок возвестил окончание завтрака, мальчики, покинув скамейки, гурьбой устремились к выходу: каждый спешил вовремя попасть в свой класс.
Началась возня у двери, затем на лестнице. Под общий хохот один мальчуган вскочил на плечи другому.
Спускавшийся вниз надзиратель не выдержал.
- Обезьяны! - крикнул он и стащил наездника. Затем, распахнув дверь чулана под лестницей, втолкнул его туда и запер на задвижку.
- Темница, - шепнул Рыбушкин. - А есть еще настоящий карцер, туда сажают надолго.
- За что? - не понял Коля.
- Узнаешь...
Разогнав гимназистов по классам, надзиратель ушел.
А Краснов опоздал на урок. Оставшись без присмотра, гимназисты зашумели, забегали. Кто-то залепил комком жеваной бумаги толстощекому Николаю Княжевичу прямо в нос. Тот не долго думая швырнул в обидчика своей доской.
Аспидная доска со свистом пролетела по воздуху и попала в оконное стекло.
На звон и грохот прибежал хромой сторож.
- Чье баловство? - крикнул он грозно. - Сейчас же выходи, который озорник!
Перепуганные мальчики молчали.
- Вот я господину инспектору доложу, - пообещал старый инвалид и, хлопнув дверью, заковылял по коридору.
- Признавайся, Княжевич, - посоветовал Рыбушкин. - Твой отец прокурор. Тебе язва эта ничего не сделает, а не то нам всем...
Он не успел договорить, как в дверях показался инспектор Яковкин, красный от возмущения.
- Весьма похвально, - медленно произнес он, ехидно улыбаясь. - Весьма похвально. Примерное поведение воспитанников - украшение гимназии...
Окинув зорким взглядом всех учеников, инспектор посмотрел в упор на Колю, будто сверля его своими круглыми глазами.
- Лобачевский, - произнес он медовым голосом. - Вижу, ты скажешь мне, кто посмел разбить казенное стекло.
Коля недоуменно пожал плечами.
- Дурачком прикидываешься? - завизжал Яковкин, топая ногами. - Не верю, что не видел! Не верю, что не знаешь!
Он остановился первести дух, но Коля в это время сказал ему:
- Знаю... Это я стекло разбил, господин инспектор!
В классе послышался глубокий вздох. А спустя минуту надзиратель и сторож, прибежавшие на крик инспектора, уже волокли Колю в дальний конец коридора.
- В карцер его! На хлеб и воду! Потом совет гимназии рассмотрит! задыхался инспектор, устремляясь по коридору в другую сторону.
Сторож и надзиратель втолкнули Колю в карцер и, с грохотом хлопнув дверью, задвинули тяжелый засов.
Несколько минут Коля стоял неподвижно, затем, когда шаги в коридоре стихли, очнулся и, кинувшись к двери, что было силы забарабанил по ней руками.
- Пустите! - кричал он срывающимся голосом.
Уйду от вас! Убегу! Пустите!
Но к нему не подходили - за дверью было тихо.
Коля сел на пол, спиной опираясь о грязную стену.
Теперь он мог осмотреться. В небольшой пустой комнате стоял полумрак, по углам висела давняя паутина. Окон в карцере не было, и свет падал сверху, через трубу с круглым стеклом, вмонтированную в крышу. Ему стало жутко. "Мама не простит, - подумал он. - Сколько хлопотала, сколько денег истратила. И вот... А с какой радостью мы ехали в Казань! И вдруг эти Краснов, Яковкин... Совсем не такие..."
Он ожидал, что все учителя будут похожи на дядю Сережу. Тот никогда не кричал и не топал ногами. Однажды, когда Коля поздно вечером сидел в его кабинете и донимал дядю вопросами: откуда берутся туманы, отчего падает снег и почему бывает холодно, - в дверь постучали.
- Войдите, - сказал Сергей Степанович.
Мать вошла и всплеснула руками.
- Так и есть! Опять, Коля, ты дядю Сережу мучаешь вопросами?
- Это ничего, Параша, - успокоил ее Сергей Степанович. - Коля у нас молодец. Глаз у него "не спящий", все видит и всему объяснения ищет. Он доберется до самых начальных истин. Это похвально...
Коля утешал себя воспоминаниями до тех пор, пока не загремел, отодвигаясь, дверной засов и чья-то рука не дотронулась до его плеча.
- Дело-то какое вышло, - досадливо говорил сторож стоявшему за ним надзирателю.
Но тот оборвал его:
- Не тебе рассуждать об этом... Лобачевский, вставайте, напрасно вы не сказали, что стекло разбил Княжевич. Можете вернуться в класс.
Сторож, отступив, наблюдал, как надзиратель тряс Колю за плечо.
- Бесчувственность, удивления достойная, - презрительно бормотал он при этом.
Коля поднялся.
- Вы слышали, что вам сказано? - повысив голос, повторил надзиратель. Можете в класс вернуться. Единственно по своей вине в таком непривлекательном помещении оказались.
- По какой вине? - спросил Коля.
- Не рассуждать... Ради своего упорства...
Ничего не поняв, Коля повернулся и молча вышел в коридор.
- Сначала в умывальную. В должном виде в класс являйтесь, - бормотал ему вслед надзиратель.
Коля шел как во сне. В голове шумело, ноги были вялыми. Он еще не знал, что возмущенные ученики заставили Княжевича пойти к инспектору с повинной.
Не хотелось бы Яковкину освобождать Лобачевского, но вот пришлось, ничего не поделаешь. Зато уж сорвал потом злобу на других. Бегая по кабинету, он визгливо кричал на перепуганного сторожа-инвалида, вытянувшегося перед ним в струнку:
- Дурак! Дубина! Зачем было меня беспокоить? Не мог известить надзирателя? Найди его, дубина, и чтобы сей момент освободить из карцера этого предерзкого мальчишку! Живо!
Коля вернулся в класс на перемене. Ученики тут же окружили его, но звонок разогнал всех по местам.
Начался урок немецкого языка. Учитель Ахматов, гладко выбритый, щегольски одетый, вошел в класс и, выждав, когда утихнет шум, поздоровался, четко выговаривая каждое немецкое слово.
Как и все, Коля раскрыл учебник. Но после перенесенных потрясений хорошо знакомые по домашним занятиям буквы готического алфавита заплясали перед глазами строчки стали расплываться. Непонятно, куда исчез класс учитель. В сумеречном состоянии он почувствовал себя не в классе, а дома, уютно устроившимся в мягком кресле.
Слова учителя будто были знакомы, но их значения не понимал он и бессмысленно смотрел в книгу, все ниже опуская голову...
- Лобачевский, вы, кажется, веселый сон видите? А как насчет немецкого? - послышался голос Ахматова Коля вздрогнул так, что учебник упал на пол.
- Я, нет, я... - растерянно пробормотал он, поднимая книгу.
Но учитель, знавший историю с разбитым стеклом, не стал отчитывать ученика. Тот и без того был наказан.
Как потом ни старался Коля внимательно следить за каждым словом учителя, смысла их не мог уловить и елееле дождался конца урока.
Попрощавшись по-немецки, учитель вышел из класса.
Наконец-то наступил свободный час - для отдыха и свиданий с родителями. Все ученики хлынули к дверям приемной комнаты.
В большом темноватом зале кое-где сидели у стен и стояли взрослые, не снимавшие верхней одежды. Посередине прогуливался надзиратель, следя за порядком. Посетители говорили сдержанно, вполголоса. Если же иногда и прорывался чей-нибудь начальственный бас, то надзиратель только почтительно косился в его сторону. Такую вольность мог позволить себе кто-нибудь из очень влиятельных родителей.
Одинокий, точно забытый всеми, Коля рассеянно смотрел по сторонам. Саши с Алешей в посетительской не было - их классу отводился другой, особый час. Так что и ждать ему некого: мать не совсем здорова, уже известила сыновей, что сегодня прийти не сможет.
Он подошел к подоконнику и выглянул в окно, выходившее на гимназический двор, занесенный снегом и разделенный посередине забором с калиткой. У калитки - небольшая будка, в ней дежурит солдат-инвалид. Гимназистам разрешается гулять в свободное время только на передней - чистой половине двора. Задняя занята службами: конюшня, баня, дальше - пруд и овраг. Место запретное и потому привлекательное. Но сторож в будке - строгий караульщик. Ведь по тому оврагу легко выбраться и в город, за территорию двора.
На передней половине пусто, неприветливо, растет лишь несколько голых деревьев и кустов у забора. Так же пусто и холодно сейчас в сердце мальчика. Все присутствующие в зале заняты разговорами, а до него никому и дела нет. Сумерки вползали в окна огромной залы. Тоска сжимала горло. Но слез не было... Восторженные мечты о гимназии... Как не похожи они оказались на то, что пришлось увидеть. Все тут чужое, постылое...
- Убегу! - забывшись, проговорил Коля. И тут же, вздрогнув, огляделся. Нет, кажется, никто не услышал.
"Сегодня же, ночью", - решил он, едва шевельнув губами. И сам удивился, как быстро сложился в голове план побега.
Шкаф с верхней одеждой замыкается, но ключ - Коля это видел - всегда лежит в тумбочке дежурного надзирателя. Ночью, когда тот заснет, возьмет он ключ, достанет из шкафа пальто. Но дверь на улицу-то заперта. Как же выйти? Случайно слышал он, как повар жаловался инвалиду: "Не жизнь, а маета. С вечера еще подремать не успеешь, а водовоз уже в дверь стучится, раньше солнышка является. Пока на кухне кадки наливает, а ты печку топить собирайся..."
"Вот, пока дверь открыта, я и того..." - решил Коля, но вдруг его кто-то потянул за рукав.
- Ты чего так испугался? - шепнул Рыбушкин. - Точно я тебе иголку в бок всадил.
- Нет, ничего, я так... - ответил Коля. - Задумался.
- Директор будет у нас новый, - сообщил Миша таинственно. - Лихачев, помещик. Раньше был директором казанских училищ. Говорят, не строгий.
Колю не тронуло такое известие. Гимназия, директор...
с этим покончено. И прежнего-то ни разу не видел. Да и видеть не хочет.
- Ну что ж... - отозвался он равнодушно. - Пускай будет новый.
- Какой ты, однако, черствый, - удивился Миша и стремглав побежал сообщать новость дальше...
Никогда вечер не казался таким длинным и ночь не тянулась так томительно. В спальне уже давно было тихо.
Надзиратель, несколько раз обойдя камеры, проверил - все ли спят, нет ли где какого баловства - и удалился в свою каморку. Кто-то забормотал непонятное. Коля прислушался. Не любил он, когда во сне бормочут. Жуткое что-то в этом бессмысленном бормотании. Будто не спящий, а кто-то совсем другой, притаившийся в комнате, лепечет всю эту чепуху.
Коля приподнял голову. Нервное напряжение обострило его слух настолько, что теперь он явственно слышал, как надзиратель, кряхтя и ругаясь, стаскивал сапоги, долго ворочался на жестком диване. Наконец из каморки донесся далекий заглушенный храп. Откинув одеяло, Коля встал с кровати. Пора. Босиком, дрожа на полу от холода и волнения, он шаг за шагом подбирался к двери в комнату надзирателя. Как же раньше не замечал он, что скрипит она так сильно. Может, вернуться? Ни за что!
Вот он уже тянется к тумбочке. Пальцы проворно шарят на верхней полке. Все! Ключ в руке.
Надзиратель в это время повернулся на другой бок, сердито скрипнув диваном. От испуга Коля чуть не вскрикнул, но ключ не выронил. Он мигом выскочил из каморки надзирателя и, совсем обессиленный, упал на свою кровать.
Обошлось. Но это было только начало. Теперь - шкаф, пальто, водовоз...
Коля, припав на локоть, вслушивался в темноту. Никогда не думал он, что ночная тишина так полна всяких звуков: то скрипы, то шелесты, а вот и чуть слышный мышиный писк... Ишь какие они разговорчивые, эти мыши! Наконец в нижнем вестибюле раздался гулкий бой часов, тех, что высились в углу, как башня. Раз! Два! Три! Четыре!..
Ну что же?.. В самый раз!
Одетый, с ключом в руке, он пробрался на цыпочках в коридор, к заветному шкафу с одеждой. Сапоги скрипели - поэтому надо их вынести в руках. Но вот застучало сердце: "Поймают, с ключом... как вора! Что же тогда будет?.." Вспомнились Краснов с кочергой, совиные глаза инспектора, карцер... "Нет, ни за что не вернусь!"
Дрожащей рукой нащупал он дверцу шкафа. Но где же замочная скважина? Вот она! Дверца наконец открылась, и вдруг...
- Дядя Ваня, - послышался голос надзирателя. - Ты, что ли, там возишься?
Коля замер. Надзиратель, зевнув, заскрипел диваном.
- А, мыши проклятые... - сказал он, и снова послышался его равномерный храп.
Коля вытер со лба холодный пот. Взяв свою одежду, он вышел из коридора и спрятался под лестницей. Теперь надо ждать водовоза. Ведь самое страшное, казалось ему, позади. Осталось только выскользнуть на улицу.
Наконец он услышал равномерный стук в наружную дверь. Тихий, затем все громче, громче, пока не открылась дверь кухни. Повар, сердито прошлепав ногами в опорках, загремел засовом.
- Пропасти на тебя нету, Парфентий, - проворчал он, возвращаясь на кухню. - Когда ты только спишь?
- Спим, сколько нам положено, - услышал Коля веселый, совсем не сонный, молодой голос.
Он осторожно выглянул из-под лестницы. Парфентий с двумя тяжелыми ведрами в руках тоже прошел на кухню.
Дверь во двор открыта. Скорее!
Коля выскочил из-под лестницы, тремя скачками перемахнул ступеньки парадного крыльца. Ворота в другую половину двора были распахнуты настежь, а около будки сторожа не видно.
Пригибаясь, готовый в любую минуту броситься наземь, чтобы его не увидели, Коля перебежал вдоль забора к воротам. Неожиданно в будке послышался кашель. А что, если сторож глядит в окошко? Надо спрятаться.
Коля устремился в угол второй половины двора и там под забором увидел большую промоину от весеннего ручья.
Он пролез в дыру на край оврага, заросшего кустарником, и, хватаясь руками за ветки, торопливо спустился по крутому откосу вниз...
Через полчаса Коля стоял на крыльце двухэтажного дома. Тихонько постучал в окно. Еще раз, еще... Наконецто занавеска приподнялась.
- Кто? - спросил встревоженный голос горничной.
- Я... Коля... Прасковьи Александровны сын.
- Коля?! Сейчас...
Дверь открылась.
- Пожалуйте, - пригласила горничная, указав на лестницу. - Они уже не спят. Собираются...
Коля поднялся по ступенькам на второй этаж.
Мать укладывала вещи в дорожную корзину. Заслышав чьи-то шаги на лестнице и скрип распахнутой двери, она выпрямилась, не в силах вымолвить ни слова. Затем бросилась к сыну и торопливо начала раздевать его.
- Что случилось?
И Коля не выдержал - заплакал.
- Убежал я, убежал. Возьми оттуда меня. Все там злые... Увези меня в Макарьев, домой!
Прасковья Александровна подняла голову сына, заглянула ему в глаза.
- Увезу, родной, увезу. Не оставлю.
Через несколько минут, успокоившись, мать и сын сидели рядом на диване. Коля впервые за короткое время гимназической жизни рассказал ей все, что пришлось ему вытерпеть в этом заведении. Прасковья Александровна слушала его, не прерывая.
- Хорошо, Колюшка, - решила наконец. - Только больше никому не рассказывай, будто ничего и не было.
А сейчас отдыхай, оставайся дома. Я пойду в гимназию, попрощаюсь там с Алешенькой и Сашей... Поговорю еще с директором. И сегодня же уедем в родной Макарьев. С жарковским приказчиком я уже договорилась.
* * *
Небольшой городок Макарьев, куда в отчий дом возвратились Прасковья Александровна и Коля, находился у левого притока Волги - Керженца. В то время весь путь свой эта быстрая извилистая речка бежала дремучими лесами.
На берегах ее лоси, медведи, куницы, волки водились в изобилии. Тут же спасались и непокорные, свободолюбивые люди от произвола помещиков, царских чиновников, а чаще всего - сохраняя свое "древнее благочестие" от гонителей светских и церковных. Отсюда, с Керженца, вылетали на волжский простор вольные молодцы - гроза купцов и судовладельцев. И здесь же, в недоступных дебрях, они таили награбленное добро.
Скиты на Керженце множились в удалении от. церковной и гражданской власти. Еще в 1435 году Нижегородский Печерский монастырь основал здесь, на волжской пойме, свою обитель. Инок Макарий должен был переманить, вернуть в лоно православной церкви спасавшихся в глухомани непокорных. Успешно ли действовал Макарий - неизвестно, так как уже в 1439 году золотоордынский хан Улуг-Мухаммед обитель эту разорил. Самого Макария с его монахами увели в Казань и вскоре отпустили, взявши клятву - не восстанавливать обитель у границы Казанских владений.
Однако через два столетия в 1624 году клятва Макария забылась, и тетюшский инок Авраамий с братией снова построил обитель на том же месте. В древней Руси чтимые монастыри всегда были центром, куда стягивался народ.
Случилось так и с обителью Авраамия: к северо-западу от нее, в полутора верстах возникло селение Крестцы. У стен тогда новой, но по старой памяти называемой "макарьевской" обители река запестрела торговыми судами. Одни приплывали по Волге сверху, из русских земель, другие снизу, от устья. В середине июля тут обменивались грузами, затем возвращались каждый в свою сторону.
Москва к этому отнеслась доброжелательно: перенести центр волжской торговли с Арского поля у татарской столицы в русские земли - чего уж лучше. И вот в 1641 году издается указ: ярмарка у Макарьевского монастыря утверждается.
И у правительственных чинов забота с плеч, и монастырь доволен. Еще бы! Все денежные сборы с ярмарки:
таможный, привальный, отвальный, похомутный а также "на свечи и ладан, и церковное строение, и братии на пропитание" - полностью шли на монастырь, хотя государство иногда и накладывало руку на его доходы. Монастырь быстро вырос и превратился в крупнейшее феодальное поместье, с тремя тысячами "крепостных душ". Он вел большое хозяйство и куплю-продажу, сдавал в аренду склады погреба, торговые помещения; держал для их постоянной охраны караул из большого числа иноков. Забота о "спасении душ" самих монахов и окружающего населения все меньше и меньше беспокоила монастырскую верхушку Огромен был монастырь, окруженный высокою каменною стеною и похожий больше на замок или крепость- по четырем углам его круглые башни, между ними на середине стен - квадратные, с воротами. С южной стороны обращенной к Волге, главный вход - Святые ворота Толстые стены монастыря имели амбразуры нижнего боя а также бойницы для стрельбы сверху. Но все они оказались ненужными - во время разинского восстания в октябре 1670 года монастырь был захвачен без боя отрядом атамана Максима Осипова, которому защитники сами открыли неприступные ворота крепости.
Слава макарьевской ярмарки росла и скоро вышла далеко за пределы волжского края. На великое, невиданное в других местах России торжище съезжалось множество купцов из Китая, Индии, Персии, среднеазиатских и европейских стран. Каких только товаров тут не яродавали!
От персидских ковров и китайского фарфора до карет английских - все можно было купить на этой ярмарке.
Город, выросший из монастырского села Крестцы разбогател, расширился и выглядел сказочным. Правда, прошлой осенью, когда Коля приехал сюда из Нижнего, Макарьев показался ему невзрачным городишком: немощеная грязная площадь с единственной церковью Казанской богоматери, покосившиеся темные заборы, незатейливые деревянные домики, тротуары, выложенные досками, по которым надо ходить с оглядкой, а на улицах мусор и ни души, точно жители не то спят, не то куда разъехались Хуже того зимой - глушь страшенная. Но весной как только Волга и Керженец разлились, город будто сбросил прежнюю дремоту. Первым, как медведь после зимней спячки, "проснулся" монастырь: там с утра до ночи слышалось церковное пение, голоса певучих колоколов разносились по широкому раздолью. Казалось, жители только и ждали этого зова: где-то в дальнем углу городка, на всполье застучал топор, ему откликнулась пила, и вокруг закипела дружная работа. Не прошло и нескольких недель, как на широкой песчаной равнине, словно по щучьему велению, возник новый Макарьев - ярмарочный город с грандиозным Караван-сараем или Гостиным двором, окружавшим центральную площадь. В середине площади красивое деревянное сооружение - биржа. Вокруг этих построек на сотни десятин раскинулся лабиринт разукрашенных улиц, переулков и закоулков со множеством лавок, гостиницами, ресторанами, театром и комедиантскими балаганами, армянской церковью и мечетями, огромными шатрами цирка и зверинцем - всего не перечесть.
Накануне ярмарки по Волге сверху и снизу потянулись к Макарьеву вереницы груженых судов. Как лебединые стаи белели паруса быстроходных расшив. Тяжело налегая грудью на лямки, медленно двигались бурлаки, волочившие тяжелые дощанки, тихвинки с разукрашенными кормами, кладушки, барки, соминки, гуеяны с причудливыми украшениями коротких мачт и прочие "посудины". Черепашьим шагом ползли неуклюжие коноводные баржи. Двигаясь, они шумели внутри шестернями, оглашали Волгу неумолкаемой перебранкой рабочих, которые вываживали со дна заброшенные якоря или на лодках-завознях торопились подальше закинуть новые. Шум, скрип, конский топот, ругань, звон якорных цепей и стоны бурлаков неумолкающим гомоном стояли над Волгой. Суда с каждым днем все гуще обступали противоположный отвесный берег, откуда выгруженные товары доставлялись на ярмарку плоскодонными паромами. Густой лее высоких мачт все больше и больше закрывал белые стены монастыря, встречавшего с утра гостей бархатным звоном колоколов.
Ярмарка уже давала знать о себе огромным столбом пыли, поднявшимся над нею. Бесчисленная толпа людей, тысячи лошадей, экипажей и телег на много верст покрывали недавно пустующее поле. Суета вокруг, давка, звон колоколов и грохот колес, многоязычный говор и хлопанье по рукам - все это сливалось в единый гул, от которого кружилась голова.
В самом городе была такая же сутолока. Все мало-мальски пригодные помещения домовладельцы Макарьева сдавали приезжающим для жплья, а сами занимались стряпней дешевых обедов, которые тут же разносили по лавкам торговцев или продавали прямо на улицах
Так шумела бойкой торговлей и безудержным весельем ярмарка в течение двух месяцев. Но вот приходил ей конец, и жизнь замирала. Исчезали причудливые строения, многотысячные толпы людей, отплывали суда - и снова пусто было на песчаной равнине, окутанной мраком ненастной осенней ночи.
Багровое зимнее солнце опускалось к Волге за дальней окраиной Макарьева.
Засунув руки в боковые карманы дубленки, подаренной дедом, Коля стоял на покатой крыше сенного сарая и неотрывно глядел на гладкую, как разостланная скатерть широкую подмонастырскую равнину, вспоминая чудо-ярмарку.
Белые поля и бледно-синеватое раздолье Волги просматривались до высот противоположного берега Кругом - снег, а в середине пустыни - десяток уцелевших строений и застрявших у берега в замерзшей воде барок Чуть ле вее - на снежной глади вырисовывались величественные здания монастыря. Постройки его казались рожденными самой землей, на которой они стоят. Кубы церквей и соборов, цилиндры башен, пирамиды шатров и колоколен ка залось, вырастали так же легко, естественно, как многовековые могучие дубы соседнего леса.
Мальчик на крыше, не чувствуя холода, любовался дивным искусством неизвестных зодчих, в котором природа и произведения человеческих рук сливались так чудесно в единое целое. Он поежился и невольно повернулся спиной к ветру. Его взору открылись теперь заваленные снегом проулки. Многие окна домов и лачужек в лучах заходящего солнца полыхали огнем.
Всю неделю с того дня, как вернулись они в Макарьев, Коля провел дома. У деда было свое небольшое хозяйство: сараи, погреба, скотный двор, огород и птичник За яблоньками у липовой рощи приютилась пасека на дюжину колод. Здесь и поселился дед после разорения когда большой старый дом был продан с молотка за полцены.
Бабушка не перенесла удара, захворала и вскоре умерла Суровый дед сразу же привязался к мальчику и вскоре кошмары гимназической жизни перестали тревожить Колю. Он то и дело приходил к деду в комнату с торопливым рассказом о том, что увидел, что услышал и что просто пришло ему в голову.
- Сегодня дочитаю "Странствования Телемака". Ладно, дедушки? спрашивал он, с ногами забираясь в глубокое старое кресло.
- Дочитаем потом, а сейчас прогуляемся. Куда пойдем - увидишь.
Спустя минуту вдвоем они шли по улице. Интересно - куда?
Коля, зная твердое слово деда, не стал допытываться.
Подошли к дому, совсем не похожему на другие. Вместо настоящих окон вверху, под крышей, были незастекленные продолговатые отверстия. Кузница! И кузнец в кожаном фартуке и в кожаных рукавицах весь перемазан сажей только зубы да глаза блестят. Он ловко поворачивал клещами кусок железа на пылающих угольях, будто мясо жарил. Его подручный, молодой парнишка, нажимал на ручку меха, похожего на гармошку. Мех этот, как странное чудовище с журавлиным клювом, дул на угли, похрипывая, точно задыхался. Кузнец неожиданно выхватил раскаленное железо из горна, перекинул его на большую наковальню и, ловко поворачивая клещами, начал бить молотком. Искры огненными стайками разлетались по сторонам, как стрелы: да, без кожаного фартука тут не обойтись.
А раскаленное добела железо уже покраснело, будто застыдилось, что с ним так обращаются грубо. Еще несколько ударов - и снова захрипели мехи, запылали угли. Снова побелевший кусок железа перелетел на большую наковальню.
Вскоре удивленный Коля схватил деда за руку:
- Смотри, дедушка! Ведь это же петушок! Железный!
Дед и кузнец улыбались, а готовый петушок, остывая, шипел в деревянной лохани с водой. Клубы густого пара поднялись над лоханью. Кузнец постучал молотом по другому куску железа и, вынув петушка из воды, насадил его на еще теплый железный прут.
- Готово, - сказал он. - Бери, сынок, на память.
- Спасибо, - сказал Коля, принимая подарок. Петушок был еще теплый, будто живой.
Дед посоветовал Коле укрепить его на садовую калитку.
- Утром увидишь петушка в окно и сам бодрый встанешь...
Такие прогулки деда с внуком были частыми. В другой раз побывали они на ветряной мельнице. Коля не думал что самая обыкновенная мельница может оказаться такой интересной. О том, что машет она крыльями, ворочает жернова и золотистые зерна перетирает в струйки белой муки знал он раньше... Но теперь само зерно в рассказах дедушки становилось необычным, даже сказочным - еще до мельницы чего только с ним не случалось: его жали, сушили в стогах, молотили, провеивали...
Незаметно подошла и третья неделя жизни в Макарьеве. Мать не могла нарадоваться, видя, как за это время расцвел ее мальчик. Пора было начинать занятия чтобы Коля не отстал от братьев. Она привезла из Казани все необходимые учебники. Два, три часа в день для начала - вполне достаточно...
- Коленька, пора заниматься! - напоминает мать с крыльца.
Коля стремглав слезает с крыши сарая, гладит на ходу мохнатого Шарика, который с радостным лаем рвется к нему, гремя цепью, и бежит на зов матери. Владея редким даром увлекательно рассказывать, она сумела так заинтересовать сына домашними уроками, что и трех часов оказалось мало. Жаль только, приходилось ему одному заниматься, без товарищей.
Занятия начинались обычно с арифметики. Прасковья Александровна считала, что математика приучает ребенка думать самостоятельно, излагать свои мысли коротко и ясно.
Уроки эти были особенно занимательными. Коля с увлечением выводил кривые цифры на доске. Но вот они уже не вмещаются, им тесно. Тогда мать подавала ему чернила из каких-то порошков, гусиное перо и несколько листов чистой бумаги:
- Пиши, сынок. Старайся только без ошибок.
Прасковья Александровна славилась в городе как белошвейка. До глубокой ночи сидела за шитьем на чужих, тихо напевая старинные русские песни, которые слышала от няни. Затаив дыхание Коля подолгу слушал ее пение, пока не засыпал. Иногда, заслонив свечу рукой, она подходила к нему, закрывала ноги одеялом и тихонько целовала голову. "Такой мамы нет ни у кого", думал он. Случалось, она угадывала даже то, чего Коля и сказать не успел. Еще издали увидит его и чувствует, с какой новостью бежит он домой. Читает по лицу, как по книге. Да, мать у него необыкновенная.
Но как ни любил ее Коля, иной раз, бывало, и не послушается. Однажды она запретила ему лазить по чердакам и копаться там в разном хламе, тем более брать запыленные книги для взрослых, пока мать сама их не прочитает. Но разве можно удержаться? Его тянуло к этому хламу. Там стоял большущий, окованный железными полосами сундук, набитый книгами, большими картами, свернутыми в трубку, и рукописями. Раз, отыскивая убежавшего кота, наткнулся Коля на это бесценное сокровище и замер от восторга. Чего только там не было! Но все это свалено в беспорядке. Видно, кто-то уже тут рылся. Не Саша ли? Не потому ли он так много знает?
Коля бережно листал одну книгу за другой. Рассматривал переплет, читал заглавие. Потом какая-то книга привлекла его своими рисунками. Он читал ее стоя и в то же время настороженно прислушивался к шагам на лестнице.
Даже придумал подтягивать протянутые для белья веревки, на тот случай, если кто-нибудь заглянет.
Поначалу хитрость удавалась. Чуть скрипнут ступеньки он уже как ни в чем не бывало поправляет веревку.
Но случилось раз Коле так увлечься книгой, что не заметил он, когда мать поднялась на чердак и замерла в изумлении.
- Маменька, прости, - сказал он тихо.
- Коля, Коля!.. Как же ты посмел? Ведь я просила...
К тому же весь окоченел от холода...
В это время на чердак заглянул и дедушка.
- Нашелся! Я же говорил, Параша, только тут его найдешь, раз целыми часами пропадает... Не твоего ума книжонки эти, малыш, - обращался он то к внуку, то к дочери. - Что ни говори, Параша, в последние годы с ума спятил Сергей Степанович. За большие деньги стал покупать образа и старые книги. Кто ни скажет ему, вот, мол, в такой-то деревне у такого-то мужика имеется редкостная книжка, - глаза у него так и загораются. И поскачет сломя голову за много верст к мужику за книгой. Видишь, какой сундук заполнил! А ты, мой друг, запомни: больше сюда ни шагу! Слышишь?
- Слышу, - отозвался Коля.
- И ежели еще раз тебя тут замечу, так и знай - запру чердак насовсем... Возьми-ка эту вот связку книг, и марш отсюда!.. В мою комнату занесешь! - крикнул он вдогонку внуку.
В свое время, кроме псалтыря и "Московских ведомостей", дедушка ничего не читал. Теперь же, под старость ничто в жизни так не привлекало его, как старые книги. По целым вечерам просиживал он в своей комнате на диване читая без разбора все, что попадалось под руку Любил и побеседовать о прочитанном. Однажды, после памятного случая с внуком, дедушка заговорил о загадочных вещах.
- А знаете ли вы, - сообщил он торжественно, - что из плоских, одинаковый обход имеющих фигур круг - самая большая, а между объемными телами - шар? А слыхали вы о квадрате круга? Сколько больших людей билось над тем, чтобы из круга построить равновеликий квадрат - и не могут. Вот ведь как! Или будто существуют славные софисовые столбы, на коих, сказывают, ученый муж Меркурий начертал начальные правила геометрии. Не чудеса ли?..
Коля внимательно слушал замысловатую речь дедушки. Неужели есть она, такая задача, которую никто решить не может? И что это за начальные правила на столбах?
- Дед... а дедушка, где вы читали об этом? Не в тех ли книжках, что с чердака сняли?
- Да-с, в журнале, издаваемом при Санкт-петербургской императорской академии, - ответил дед. - Пожалуй было бы весьма полезно прочесть и Коле ту "Историю о математике", - продолжал он, обращаясь к дочери. - Ничего порочного там я не встретил.
Прасковья Александровна, занятая раздачей сладкого не возразила.
После обеда дедушка подозвал к себе Колю и, кивнув на стопку книг, сказал ему:
- Бери-ка, постранствуй по ним, а я потом расспрошу, в каких царствах побывал и какие училища в оных книгах посетить изволил...
Когда вечернее солнце заглянуло в детскую, старые книги у Коли уже стояли на полке в ряд. И не может он наглядеться на свое неожиданное сокровище. Тут были томики в серых переплетах "Академических известий" за 1779 - 1781 годы. Чего стоят, например, одни заглавия:
"Натуральная история о рыбах", "Жизнь капитана KyKa"j "История Америки", "Христофор Колумб", "История о древних российских монетах", "Происхождение различных отраслей математики и история их у самых древнейших народов"! Пока лишь осмыслишь одни заглавия, уже совершишь немалое увлекательное путешествие. А на журнальных страницах бушуют моря, из неприступных джунглей выглядывают индейцы, вооруженные копьями. Но ты плывешь дальше, затем, отдышавшись на каком-нибудь открытом тобой необитаемом острове, снова поднимаешь паруса...
И так день за днем, с одной страницы на другую. А рядом с тобой стоит, навалившись на штурвал, отважный Колумб и зорко всматривается в безбрежную даль. Не ждал он у моря погоды, потому и открыл Америку. "Да, Колумбы не боятся трудностей", - решает Коля. Жаль только, не скоро увидишь в этом безбрежном океане желанный берег.
В "Академических известиях" вон сколько томов! Но Коля неутомим. Этому способствуют крещенские морозы: холод загнал всех в комнаты. Коля проводил время с матерью и дедом, читал им вслух. А в долгие вечера попеременно читали дед и мать.
Наконец глубокий снег покрыл землю сугробами, заоушевали бураны. Занесет окна доверху, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от крыльца в сараи так, что надо их отрывать лопатами. В такую погоду Коля редко выходил из дома.
Как у большинства детей, растущих одиноко или в кругу взрослых, у него сложился богатый мир своих понятий, о существовании которого старшие и не подозревали.
В последнее время стал он увлекаться поэзией. Читал запоем все поэтические сборники, сохранившиеся на чердаке. Даже пробовал сам сочинять стихи. В "Истории о математике" узнал он, что ученики Пифагора писали свои сочинения стихами. То воображал, что едет на верблюде по египетской земле, мимо величественных пирамид и сфинксов. То посещает гордого Евклида в Александрии, который на вопрос царя Птолемея - нет ли другого легчайшего пути для изучения геометрии, ответил: нет, к сожалению, даже для государей. То спускается в темницу к Анаксимандру, который старался и там, в заточении, сыскать квадратуру круга... Такими стихами он исписывал все попадавшиеся клочки бумаги, убежденный в том, что со временем будет поэтом.
Разыскивая новые стихотворные сборники, обнаружил Коля в сундуке потрепанный томик Державина. При неярком свете у грязного, затянутого паутиной окошка жадно прочитал он первые страницы этой книги в засаленном переплете, и мысли его унеслись далеко. Державин сразу покорил его своими звучными стихами.
При каждом удобном случае Коля возвращался на чердак. Теперь он проводил там, в "своей библиотеке", целые часы. Мать уже сняла запрет, и прибегать к помощи бельевой веревки не требовалось. Выложив книги, Коля решил разделить их по содержанию и составить список: в одну сторону лубочные издания, в другую - рукописные книги, С витиеватой славянской вязью, читать которые он еще не мог. В третью стопку легли старинные богословские книги в тяжелых переплетах, и, наконец, в четвертую - самые ценные для мальчика - математические, исторические и философские. Томик стихов Державина Коля положил отдельно, в углу, на маленький столик, нашедший на чердаке последнее прибежище.
Однако привести в порядок библиотеку Сергея Степановича до конца не удалось. В куче старых, пожелтевших от времени газет Коля нашел истрепанную небольшую книжку. Это был рассказ о том, как сын простого рыбакапомора с далекого севера зимой отправился учиться в Москву.
"Бывают же такие, - подумал Коля, прочитав эту книжку. - Не побоялся. Ушел один из родной деревни. В лютую стужу догнал обозы... А я-то? Учиться бросил. Из-за чего? Ломоносов не бросил бы..."
Коля покинул чердак и закрылся в своей комнате. Никого не хотелось видеть. Но вскоре постучала мать, затем вошла и протянула ему письмо:
- Прочитай. От Саши.
Старший брат сообщал из гимназии, что с Алешей учатся успешно и жизнью своей довольны. Коля позавидовал братьям. Здесь в Макарьеве он один, как птица в клетке.
- Хочу в Казань. Обратно... в гимназию...
Мать выслушала его спокойно, будто и не удивилась.
- Хорошо, - улыбнулась она. - Поедем.
Одобрил ее решение и дед, хотя и горькой была для него новая разлука с внуком.
Собрались быстро: в конце марта зимний путь ненадежен. До Казани четыре дня езды по твердой дороге. И вот они опять на тройке лошадей, в рогожной кибитке. Звон-"
кий говор бубенчиков теперь звучит по-другому. "В Казань... В Казань..." - выговаривают они. Говор их успокаивает и веселит надеждой. Когда кибитка заворачивала за угол, сердце Коли заныло. Он оглянулся на деда, сгорбленного, жалкого, - тот опирался рукой о калитку и пристально смотрел им вслед...
Снова бегут лошади, позванивая бубенчиками, шуршат колеса на дороге, и за каждым поворотом открываются новые картины - то большое озеро, то снежные поляны, окруженные темными соснами.
Днем хорошо было ехать, но еще лучше ночью. Ни Коле, ни матери не спалось. Они сидели молча, думая каждый о своем, и не могли надышаться приятным весенним воздухом.
При выезде на Волгу из-за леса показалась полная луна и залила серебристым светом снежные просторы. Впереди по дороге шел одинокий путник, напоминавший Коле мальчика-помора. Тот в такую же ночь, одинокий, шагал с котомкой за плечами навстречу тяжелой, но прекрасной жизни.
Коля прижался к плечу матери.
- Замерз?
- Нет, мама. Ты за меня теперь не бойся. Учиться буду хорошо.
Мать обняла его за худенькие плечи.
- Спасибо.
До ночлега и в следующие дни - до самого приезда в Казань - больше не говорили об этом. Но когда собрались идти в гимназию, к Яковкину, да еще с такой трудной просьбой, Коля не выдержал.
- Мама, - сказал он, - пусть он только примет. После я докажу этому инспектору, что я не попугай. Больше тебя ничем не огорчу. Никогда.
Прасковья Александровна поцеловала его.
- Я верю тебе, Коля.
* * *
Разговор с Яковкиным затянулся.
- Распущенность! - кричал он, шагая по кабинету и поворачиваясь так, что брелоки часовой цепочки позвякивали на его круглом животе. - Если такое допустить, все мальчишки по домам разбегутся. Дурной пример, сударыня, и пагубный!
Прасковья Александровна сидела бледная. Сжав руки, она молча смотрела, как беснуется человек, от которого зависит будущее мальчика, ее сына.
- Прошу вас, простите крестника Сергея Степановича. Больше таких поступков не будет с его стороны, обещаю, - заверила Прасковья Александровна, когда инспектор замолчал. И, странно, ее сдержанность понравилась Яковкину. Слезные просьбы его раздражали.
- Ну что ж, - сказал он, усаживаясь в кресло. - Пусть будет по-вашему. Но предупреждаю: на собственное содержание. Достаточно того, что ваш старший уже принят на казенное. Этот же пусть еще заслужит. Учредим за ним особое наблюдение. Особое! - подчеркнул это слово коротким взмахом жирного пальца. - И при первом же случае...
Не договорив, Яковкин повернул кресло к столу и придвинул к себе толстую папку с бумагами, дав этим знать, что разговор окончен.
Прасковья Александровна даже не помнила, как поклонилась ему и вышла из гимназии. Очнулась она у дома, где ждал ее сын. Еще на лестнице провела рукой по лицу, вытирая слезы, так что Коля, кинувшийся к ней, увидел только ее радостную улыбку.
- Все благополучно, сын мой: ты принят.
Коля, неожиданно для себя, тоже улыбнулся. Будто в груди его лед растаял. Все тяжелое потускнело в памяти, осталась только тоска по великолепному зданию, похожему на греческий храм, по товарищам, особенно по веселому соседу - Мише Рыбушкину.
В тот же день пошел он в гимназию. Опять его стригли под гребенку, водили в баню, выбрали по росту мундирную курточку, повязали суконный галстук. Выдали также перчатки, носовые платки и гребенку. Теперь он становился полноправным учеником гимназии.
Надзиратель разночинских камер, Сергей Александрович Попов, осмотрел Колю со всех сторон, поправил галстук и весело сказал:
- Все как полагается. Теперь войдем в залу. Матери, должно быть, не терпится обозреть сына своего во всей форме.
В зале ожидания Коля заглянул в зеркало и не узнал себя. Когда же присмотрелся к форме, обнаружил, что мундир ему выдали не тот.
- Сергей Александрович, - повернулся он к надзирателю, - ошиблись, не ту форму дали. Посмотрите, пуговицы белые. Ведь у всех на куртках золотые.
Надзиратель вытер платком лысину, откашлялся и наконец ответил как-то нехотя:
- На то было царское указание.
- Какое? - не понял Коля.
- Золотые пуговицы - у дворян. У разночинцев - белые.
Попов был добродушным человеком. Заметив, как дрогнули губы у мальчика, он утешил его:
- Разница тут небольшая. Лишь бы учились хорошо...
Пойдемте-ка вниз. Маменька уже, наверно, там, с братьями в их спальной камере находятся...
Ему не хотелось говорить, что и спальные камеры для разночинцев отдельные, а в классных и в столовых полагалось им сидеть за другими особыми столами.
- С братьями будете жить в одной комнате, - сообщил он.
Однако ни братьев, ни матери в спальной камере не было. Коля попросил у надзирателя разрешения подняться на второй этаж.
- Только в классы не заглядывайте. Там сейчас идут уроки.
На лестнице Колю задержал чей-то голос.
- Подождите! Подождите! - кричал ему вдогонку светловолосый толстый гимназист с голубыми глазами. Бежал он по лестнице, немного задыхаясь. Ноги у вас длиннее моих, - улыбнулся он. - Поэтому и не догнать. Я знаю вас, тогда еще сказали, будто не Княжевич, а вы сами стекло разбили. Помните? Ну вот, я запомнил. Мы с вашим братом Сашей в одних классах. Меня зовут Сергей. Да, да, Сергей Аксаков. Так что будем знакомы. Нашего полку прибыло. Рад, очень рад!
Коля не понял, чему же тут радоваться. На темно-зеленой курточке у того золотые пуговицы. Дворянин. Стало быть, сидеть им за разными столами. Но гимназист глядел ему в глаза так доверчиво, а толстые губы его улыбались так добродушно, что Коля согласился:
- Да, будем знакомы. Я - Николай.
- Лобачевский, - добавил Аксаков и крепко пожал ему руку. - Отлично... Куда же мы пойдем и что вам показать?
Коля был тронут.
- Хотелось бы все посмотреть, снизу доверху - сказал он. - Я ведь и в первый раз ничего не видел. Знаю Только, где контора, кладовая, спальня.
- Тогда начнем сверху, - предложил Аксаков. - У меня свободный час. Пойдем...
Они поднялись на верхний полуэтаж, из окон которого виден весь двор.
- Тут вот живет квартирмейстер поручик Михайлов, - объяснял Сережа, показывая двери. - А здесь квартиры служителей канцелярии. В этой большой комнате - больница, дежурит в ней доктор Бенес. А вот квартира преподавателя фортификации.
- Какой? - не понял Коля.
- Преподает нам артиллерию, - пояснил Аксаков.
- Разве?
- Не только артиллерию, но и фехтование, тактику.
Ведь наша гимназия именуется императорской, поэтому обязана готовить к службе и гражданской, и военной.
Коля удивлялся:
- Не знал такого...
- Еще узнаешь... Пойдем-ка вниз. Я расскажу тебе историю этой гимназии.
Они спустились вниз и в конце коридора уселись на скамейке между окном и шкафом.
- Тут нам никто не помешает, - сказал Сережа. - Так вот... Слышал я, рассказывал один учитель. Раньше в Казани была духовная семинария и духовное училище. Готовили священников. Там и предметы у них были все богословские. А ректор Московского университета хлопотал:
нужна Казани гимназия, чтобы готовить будущих студентов. Открыли ее. Случилось это пятьдесят лет назад. Первым "командиром гимназии" был какой-то писатель Веревкин. Его драмы, говорят, и в Петербурге ставились.
Первых воспитанников было всего лишь четырнадцать, и среди них Державин.
- Поэт? - спросил Коля.
- Тот самый... Учили тогда кое-как - читать и считать...
- А геометрию?
Аксаков махнул рукой:
- До нее не дошли... Послушай-ка, что говорил Державин в своих воспоминаниях. Тут я выписал несколько слов из его книги. - Он достал из кармана свернутый вчетверо листок и, бережно развернув его, прочитал: "Нас учили тогда языкам без грамматики, числам и измерению без доказательства, музыке без нот. Книг, кроме духовных, почти никаких не читали..."
Сережа сложил бумажку и так же бережно спрятал ее в карман.
Коля удивился:
- Неужели учились так плохо?
- А жили еще хуже, - ответил Аксаков. - Дедушка моего приятеля рассказывал, что гимназисты голодали, ходили оборванные. Московский университет не высылал вовремя учебников и денег на содержание. Веревкин даже был вынужден просить родителей "присылать припасы натурою", потому что самые бедные из воспитанников часто питались милостыней. Потом гимназия совсем закрылась.
Открыли ее снова только через десять лет. В этом вот особняке губернатора. Павел Первый приехал в Казань и утвердил новый устав гимназии. У меня где-то записано, что случилось это в 1798 году.
Коля похвалил:
- Молодец, что записываешь.
- Пригодится, - подмигнул Аксаков. - Я записываю все, что услышу. Даже вот что выписал из расписания, - достал он из другого кармана длинный список предметов. - Кроме обязательных, тут и гидравлика, и бухгалтерия, и гражданская архитектура. Будем изучать шесть языков: русский, татарский, латинский, греческий, французский, немецкий.
- А геометрию? - спросил Коля.
- И геометрию...
Во время обеда Коля наконец-то встретился в столовой с прежними товарищами. Яковкин распорядился поместить его в те же начальные классы, приказав ему в короткий срок догнать упущенное.
Но Коля и сам стремился к этому, без приказа. Учителя задавали ему ежедневно два-три дополнительных урока из пройденного. Страстное желание быть в нижних классах рядом с братьями помогло ему за месяц догнать и перегнать своих товарищей. Он даже начал заниматься латынью в первом классе вместе с братом Сашей Краснов по-прежнему кричал на всех учеников но Колю больше не затрагивал и часто, сидя на кафедре внимательно присматривался к нему с каким-то настороженным любопытством.
Однажды, проверив домашние задания, он вдруг собрал свои вещи, затем, проходя мимо Коли, положил перед ним листок с арифметической задачей.
- Урок за меня докончить. Задачу решите сами - приказал он и вышел из класса, хлопнув дверью Все на минуту притихли. Затем, точно по команде сорвались.
- Ура!
- Новый учитель!
- Здравия желаем!..
Коля встал, весь красный от смущения, и, глядя в пол, неуверенно держал в руке злосчастную бумажку.
Наконец Миша Рыбушкин вскочил на стол и замахал руками.
- Господа! Внимание! - крикнул он и, когда все насторожились, ожидая новой проказы, продолжил уже обычным голосом: - Не сдается ли вам, что наш горячо любимый учитель в эту самую минуту в щелочку подсматривает?
Шум в классе мгновенно затих.
- Так что, мои достолюбезные, - продолжал Миша, - давайте подумаем, что нам утешительнее: без учителя задачи решать или при учителе?
- Без учителя! Без учителя! - закричали все разом.
- Так вот и решайте, - посоветовал Рыбушкин, спрыгнув со стола. Дурака валять нечего... Начинай, Лобачевский, мы слушаем.
Коля несмело прочитал написанное на листке условие задачи; увлекаясь, начал объяснять, как надо решить ее.
На следующий день Краснов, проверив тетради, с удивлением посмотрел на Колю.
- Молодец, - кивнул он. - Решили правильно. Вот и сии три задачки решите сами, а я пойду проветрюсь.
Когда учитель вышел, на этот раз не хлопнув дверью, Коля поднялся и начал было читать условие первой задачи!
Но тут же заметил, что слушают его невнимательно. Лица у всех были хмурые, взгляды недоверчивые. Кое-кто ульи бался, но улыбки эти были нехорошие.
- Что случилось? - растерянно спросил он соседа.
- Видишь ли... - замялся Миша. - Не любят они Краснова...
- И его любимчиков, - добавил кто-то.
- Но ведь надо же учить, - растерялся Коля.
- Учи, да не заучивайся! - погрозили справа.
- Долой! - потребовали в первом ряду.
Коля сел. На глазах его выступили непрошеные слезы.
- Давай, давай! - потребовали другие. - Не то кожу сдерет учитель!
Коля снова поднялся, неуверенно подошел к доске и взял кусочек мела.
- Читаем задание, - начал он тихо. - "Два пешехода вышли навстречу друг другу из двух пунктов, расположенных..."
- В точке А, - подсказал чей-то насмешливый голос.
- Ив точке Б, - добавил другой.
Миша не вытерпел.
- Господа! - вскочил он с места. - Лобачевский не виноват! Будьте любезны слушать его внимательно...
Урок прошел, как все уроки. Задачи были решены, причем Коля так же терпеливо помогал отстающим, и те принимали его помощь как должное, однако что-то изменилось в отношении к нему всего класса. Никто не пригласил его на перемене играть во дворе, да и сам он туда не вышел.
Отчуждение росло не по дням, а по часам - с каждым новым уроком, проведенным Колей. Одиночество стало ему невыносимым. Но Краснов, неспособный заметить мучительную драму своего невольного помощника, поручал ему проводить уроки арифметики до самой весны.
А весной случилось непредвиденное...
Был уже по-летнему теплый день середины мая, когда в нижнем латинском классе появился новый учитель.
Вошел он просто, легко, будто из рабочего кабинета в гостиную. Все дружно встали, но учитель энергичным движением руки дал знак садиться. Это был небольшого роста, хорошо сложенный молодой человек, двадцати пяти лет, не больше, с приветливым и открытым лицом, с проницательными черными глазами.
Одет он был, как и полагалось, по форме: в темно-синий, наглухо застегнутый мундир с ярко-серебристым шитьем на воротнике.
Поздоровавшись, учитель сразу же подошел к доске, взял мел и быстрым движением руки начертал изящную кружевную строчку, похожую на прерванную нить с двойными точками сверху и снизу.
- Это меня так зовут, - сказал он, улыбаясь. - Понятно, господа?
- Непонятно, - удивились мальчики.
- Тогда поясню вам. Первое слово справа - моя фамилия, второе - имя, третье - отчество.
- Буквы-то пляшут, как живые, - похвалил Рыбушкин. - Только мы читать их не умеем.
- Разве не учили арабский?
- Пока нет, не пробовали.
- Тогда я то же самое напишу вам латинскими буквами.
Снова мел пробежал по доске, уже слева направо - Ибрагимов... Нигмат... Мирсаити, - хором читали мальчики.
- Господин учитель! - поднял руку Рыбушкин. - Как это будет по-русски?
- Мое имя Нигмат означает благоденствие, отчество Мирсаит - староста. А фамилия моя не переводится Ибрагим - это имя пророка... Значит, французы должны бы меня звать... - Он быстро написал три слова по-французски, а в другой стороне те же три слова по-немецки. - Так что у меня столько имен, сколько языков имеет человечество.
Ученики переглянулись.
- А как же тогда нам величать вас, господин учитель? - послышался чей-то робкий голос.
- В Московском университете, где я учился и работал меня звали Николай Мисаилович... Ну что ж господа, и вы так зовите, - улыбнулся он, - Если не возражаете...
- Нет! Не возражаем! - весело откликнулись ученики.
- А теперь давайте знакомиться по-настоящему, - предложил учитель. Кто из вас какие стихи знает? На любом языке. Читайте.
Коля смотрел на учителя затаив дыхание. Бодрый, веселый, с добродушной улыбкой - тот поражал его своей живостью.
А мальчики тем временем вставали один за другим и читали стихи: русские, татарские, немецкие, французские. Учитель слушал их внимательно.
- Хорошо!.. Прекрасно! - говорил он каждому и, выждав минуту, спросил: - А кто знает латинский?
Коля поднял руку.
- Начинай, - кивнул ему Ибрагимов.
Чарующая звонкая латынь обворожила учителя. Дослушав оду "К Мельпомене" до конца, подошел он к мальчику и положил ему руку на плечо.
- Молодец! Чувство ритма замечательное. Быть вам поэтом... Надеюсь, и перевести сумеете?
Коля вздрогнул, вспомнив такой же вопрос на первом экзамене. До чего же обидно тогда было!
Теперь он тоже испуганно глянул на учителя и встретил его улыбающиеся глаза. Нет! Не Яковкин!
- Попробуйте, - напомнил Ибрагимов. - Сможете?
- Смогу, - ответил Коля.
Перевел он оду Горация легко и точно.
- Спасибо, - сказал учитель весело.
После урока не ушел он из класса.
- Ну, кто со мной? В кремль? - спросил учеников. - С горы полюбуемся разливом.
- Лучше с башни! - предложил Рыбушкин. - Оттуда видней.
Охотников набралось много. Через полчаса были они уже в кремле. Прошли мимо артиллерийского цейхгауза и гауптвахты в крепости, минули архиерейский дом с духовной консисторией, затем соборную Благовещенскую церковь и остановились у высокого минарета, названного именем последней татарской царицы - Сююмбикэ.
- Вон туда гляди, - кивнул Миша Рыбушкин в небо, где на зеленом остром куполе башни сиял позолоченный шар с полумесяцем.
Коля поднял голову, представляя, как долго будешь лететь с такой высоты, если сорвешься, и тут его фуражка свалилась на землю.
- Не теряй, - засмеялся Миша. - И не задирай так голову... Аида, мы отстали, - потянул он Колю за рукав.
Они подошли к двери,. откуда несло холодом, как из погреба.
- Но там темно, - задержался Коля на пороге - Только внизу,- пояснил приятель.- Поднимемся выше, там будет светлее.. Вон, видишь, каменные ступеньки? Шагай по ним.
- А ты?
- Я за тобой.
В полумраке, ощупью, карабкались они по стертым ступенькам крутой винтовой лестницы все выше и выше Гдето над ними слышались гулкие голоса ушедших вперед учеников. Сердце у Коли так же колотилось гулко будто готовился он прыгнуть с обрыва. Но вот они вдвоем благополучно преодолели все сто восемьдесят семь ступеней и, догнав товарищей, очутились на самом верхнем ярусе По карнизам башни разгуливали сизые голуби, что-то клевали озабоченно и выговаривали свое "гур-гур".
Коля робко заглянул в одно узкое окошко и замер- что это за тропинки внизу между черными копнами? Ба! Да это же не тропинки, а длинные улицы! Крыши домов и сараев действительно сверху похожи на копны А крохотные садики у домов - на зеленые полоски одеяла Козы же на склонах оврагов и вовсе казались букашками - Что за прелесть! - воскликнул в это время Рыбушкин.- Иди-ка сюда,- позвал он Колю.- Ты же смотришь совсем в другую сторону - там ничего не видно.
У противоположной стены яруса перед узким окошком стоял учитель и подробно рассказывал ученикам о том что сейчас они видели.
- У Казани Волга разлилась на семнадцать верст На юге, вон там, отражаются в ней Услонские горы Чуть пра вее, к западу, раскинулась Адмиралтейская слобода где по велению Петра Великого начали строить флотилии кораблей на Каспий. Рядом - Ягодная слобода. За ними еще дальше, на холме Зилантау белеет Зилантов монастырь. Зилант по-татарски - змея, тау - гора. Татарская легенда рассказывает, что на той горе водился крылатый змей Но колдун будто бы уморил его дымом разложенного у норы костра. В "Сказании о царстве Казанском" также говорится, что на Каме был город Старый Бряхов, откуда царь Саин привел свой народ на берег Волги, ближе к русской границе. Новое место ему понравилось: были здесь и пасеки, и пастбища, "зверя всякого и рыбы во множестве"
Но в том краю обитал двуглавый змей. Один смелый воин сказал царю: "Страшного змея уничтожу и место очищу я". Так они сделал. Вот почему краснокрылый черный змей Зилант, с двумя лапами, с закрученным в кольца хвостом, под золотой короною, стал гербом Казани... А вон там, еще западнее, в голубом тумане белеет Кизийский монастырь темной сосновой рощей. Ближе, за Подлужной слободой, видны в деревьях летние дачи...
Прекрасным видом Казани весной, во время разлива, не раз еще будут любоваться и Коля, и его товарищи, но это первое впечатление запомнится им на всю жизнь [Уже будучи профессором, Н. И. Лобачевский напишет стихотворение "Разлив Волги при Казани" ("Заволжский муравей", 1834, № 17, стр. 29 - 31), которое начинается так:
Царица рек, в торжественном теченье
К далеким Каспия обширного водам
Ты уклоняешься к Казани на свиданье
С сей древней матерью татарским городам!..
Ее со всех сторон, как друга, обнимаешь,
И трепетной струей приветствуешь луга,
И тихо с голубых рамен дары слагаешь
На оживленные Булака берега...].
Однако пора было возвращаться в гимназию. По команде Ибрагимова ученики начали спускаться вниз. Это оказалось труднее подъема.
- Так и в жизни, - улыбнулся Ибрагимов. - Стремитесь же неуклонно вверх, к вершинам еще не открытых знаний. Это нелегкий путь. Но жить значит гореть огнем исканий во имя человечества!
Эти слова учителя также запомнились Коле на всю жизнь.
ПЕРВЫЕ ПОРЫВЫ
Наступило знойное лето 1804 года. Вторую неделю в Казани стояла такая жара, что казалось, будто само небо выцвело. К полудню городские улицы пустели - все люди прятались в тени. Окна в деревянных домах закрывались наглухо ставнями.
Но в здании гимназии даже в такую жару не смолкал напряженный гул голосов. Как пчелы в медосбор, гудели гимназисты, заучивали уроки, от зари до зари просиживая за книгами. Вряд ли этот "мед премудрости" не казался им горше полыни.
Летний зной и страх перед экзаменом делали казарменный режим несносным. По-прежнему гимназистов "фрунтом" гоняли в классы, в столовую, в церковь. Изо дня в день кормили давно уже надоевшей овсяной кашей, один вид которой отбивал аппетит. Покупать что-либо съедобное запрещалось. Деньги, присланные родителями своим сыновьям, сдавались на хранение надзирателю, и тратить их можно было только с его разрешения. Даже отвести душу в письмах не могли - письма строго проверялись.
Каждого тянуло домой: всласть хотелось покушать и вдоволь отдохнуть.
В разнообразном гуле долбежки все чаще прорывались нотки возмущения: озлобленные "пчелы" готовы были жалить, не хватало только повода. Но вот...
В субботу гимназистов, совсем измученных жарой и зубрежкой, привели обедать в большой столовый зал второго этажа. Настежь распахнутые окна не спасали от жары. Особенно душно было в глубине, у столов "разночинцев". Их и обслуживали в последнюю очередь, после детей дворян.
Коля сидел рядом с младшим братом. Поглаживая рукой остриженную голову, он мечтал о предстоящих каникулах, о макарьевской ярмарке и поэтому не сразу обратил внимание на шум, неожиданно возникший в зале.
В столовую вошел директор Лихачев. Воспитанники с ним почти не встречались: в гимназию он заглядывал редко, учебными, тем более хозяйственными делами не занимался, должность директора была ему нужна только для собственного тщеславия. Даже внешность его не внушала доверия: нижняя губа выпячивалась вперед, точно ее разнесло после укуса пчелы.
Неуклюжей походкой, вразвалку Лихачев подошел к столу старшеклассников и деланно бодрым тоном спросил:
- Ну как, господа, изволили накушаться?
Гимназисты переглянулись.
- Еще бы! Нас теперь кормят, как лошадей, - ответил старший Княжевич [В то время на учебу в гимназию из одной семьи поступало сразу несколько братьев. Так, например, когда учились братья Лобачевские, в Казанской гимназии было: Княжевичей - тро^, Леревощиковых - двое, Панаевых четверо, Балясниковых - двое, Маиасеиных - трое... Братьев называли: первый, второй, третий, или: старший, средний, младший.], Дмитрий, и протянул директору оловянную чашку с овсяной кашей, как бы предлагая тому проверить.
- Правильно. Как же вас не кормить посытнее? Впереди ведь ваша страда экзамены, - добродушно согласился Лихачев.
Но тут из-за стола поднялся лучший ученик гимназии Федор Пахомов.
- Ошибся, Княжевич! - крикнул он задорно. - Лошадям и перед пахотой сала не видать как своих ушей.
А вот о нас, гляди, как позаботились! - и он поднял вверх деревянную ложку с крохотным кусочком сала.
Зал дрогнул от смеха. Но Пахомов махнул рукой, призывая к молчанию.
- Жаль, - продолжал он, - что нет у моего отца свечного завода. Эх, и сырья бы ему накопил я за зиму, раз-,, богатеть можно!
- Как?! - вне себя закричал директор, топнув ногой, - Истинная правда, - невозмутимо сказал гимназист. - Вы посмотрите. Разве таким салом кормят людей?
Только и годится на мыло да на свечи.
Зал больше не смеялся. Воспитанники повскакали с мест. Послышались крики:
- Вам бы, господин директор, попробовать самому эту прелую дохлятину!
- Мы не свиньи, а люди!
Раздался пронзительный свист, чашки полетели на пол, со всех сторон посыпались еще более резкие выкрики.
Лихачев схватился руками за голову и побежал к двери.
Надзиратели, отгородив его своими спинами от гимназистов, услужливо раскрыли дверь.
Лишь поздней ночью затих "растревоженный улей": усталость дала себя знать и воспитанники наконец-то уснули. Но Коле не спалось. Еще в начале мая, когда в окнах выставили рамы, а в гимназическом саду зазеленела трава и красная верба покрылась пушистыми барашками, у него появилось новое развлечение, не безопасное и тем более занимательное.
Когда в полночь весь дом замирал, Коля наспех одевался и подходил к раскрытому окну. Спать ему не хотелось. А в окно глядела такая волшебная луна, что в ее свете обыкновенный сад казался необыкновенным. Коля залезал на подоконник и тихонько спрыгивал на мягкую, чуть влажную землю. Акбая, сторожевого пса, угощал припасенным в кармане кусочком хлеба, и тот благодарно лизал ему руку, радостно повизгивая. Подружился Коля и с ночным сторожем. Тот мог бы донести надзирателю, но бабай твердо знал свои обязанности: он должен сторожить гимназию от воров и разбойников, а русский мальчик всегда вежливо с ним здоровался - пу и пусть гуляет себе на здоровье.
Так было несколько раз: утомленный короткой ночной прогулкой в саду, Коля незаметно влезал в окно и крепко засыпал до самого подъема.
Но в эту ночь, влезая в окно, расслышал он какой-то подозрительный шепот на втором этаже. Затем что-то зашуршало по стене, будто с крыши сваливали ворох сена, Коля спрыгнул с подоконника в сад и, не веря своим глазам, увидел наверху раскрытую створку одного из окон стеклянного купола. Под ним висел человек, покачиваясь на канате; в одной руке у него была кисть, в другой - ведерко.
- Петя, не робей, - послышался шепот с крыши.
"Княжевич! Митя!" - узнал его по голосу Коля.
- Держим крепко, - заверил Княжевич. - Пиши поскорее.
Петя водил кистью по стене, рисуя какие-то буквы.
Наконец, поставив точку, шепнул восторженно:
- Готово! Тяните! - и скрылся в открытом окне.
Створка за ним захлопнулась.
Произошло это все так быстро, что Коля невольно подумал: не померещилось ли? Нет, на стене остались еле видные в сумерках буквы. Но прочитать их пока невозможно.
Вернувшись в свою спальню, он долго вертелся под жестким одеялом: "Кто этот Петя? Не тот ли Петр Алехин, которого наградили в прошлом году большим похвальным листом? И что же он мог написать на стене?.."
Утром Коля почувствовал: кто-то с него стягивает одеяло. Дежурный? Нет, Алеша.
- Скорей! Скорей вставай! - торопил его младший братишка, - Дежурные смоют - не увидишь.
- Кого?
- Там, под куполом...
- А! - догадался Коля.
Едва успев одеться, он пулей вылетел во двор. Там уже толпились гимназисты - шумели, смеялись, показывали руками на купол, под которым сияли красные буквы: "Конец бесправию! Долой Лихачева!"
С большим трудом надзирателям удалось разогнать гимназистов по классам. Спешно были вызваны пожарные - стереть столь крамольную надпись.
Инспектор Яковкин охотно приступил к расследованию. Охотно потому, что лучшего повода унизить нового директора и не придумаешь. Ох, как мешал ему этот Лихачев!
Яковкин поодиночке вызывал к себе в кабинет каждого ученика. В ход было пущено все - уговоры, угрозы.
Многие мальчики возвращались от него в слезах, А ночью надзиратели шныряли в спальнях и подслушивали у дверей, стараясь поймать неосторожное слово. Но смельчаков так и не открыли.
- Буйство! Неистовство! - кричал Яковкин, топая ногами, - Воспитатели юношества, крамолу вырастившие!
Непокорство властям проглядевшие!
Надзиратели дрожали, но помочь инспектору ничем не могли. Бунтарские же настроения тем временем разрастались и крепли. В свободные часы все чаще можно было видеть, как гимназисты хмуро перешептывались, по тут же замолкали, если какой-нибудь надзиратель пытался подойти к ним ближе.
Директор Лихачев перепугался. "Волнения среди учащихся - это же общественный беспорядок, организованное выступление против начальства! Не дай бог, слух дойдет об этом и до властей..." Сгоряча он распорядился наказать всех воспитанников - на три дня посадить их на хлеб и воду. Но тут возмущение перешло уже в открытый бунт, весьма порадовавший лукавого Яковкина. Началось это в субботу, 4 июня. После обеда гимназисты вышли на прогулку. За высоким забором на заднем дворе послышались жалобные стоны. В щели штакетника было видно: у конюшни квартирмейстер прапорщик Михайлов палкой избивал солдата-инвалида, служившего привратником.
- За что же бьете неповинного, ваше благородие? - спрашивал привратник.
- Туда! - скомандовал Дмитрий Княжевич.
Гимназисты, как один, кинулись в открытую калитку и тотчас окружили квартирмейстера.
- Господин прапорщик! - подошел к нему рослый старшеклассник Иван Крылов. - Бить старика, георгиевского кавалера, стыд и позор! Это варварство!
- Варвар!.. Палач! - подхватили остальные ученики, не раз уже слышавшие об издевательствах Михайлова.
Княжевич-старший вырвал палку из рук экзекутора.
Тот с руганью набросился было на гимназиста, но Иван Крылов придержал его за локоть:
- Не смей, господин поручик.
- Не желаю разговаривать с обезьянами Пугачева!
Будьте вы прокляты! - завопил вдруг квартирмейстер.
Но в ответ послышался такой угрожающий гул голосов, что пришлось ему бежать на крыльцо и захлопнуть за собой входную дверь.
Убедить гимназистов немедленно вернуться в классы удалось только Сергею Александровичу Попову - единственному надзирателю, которого все любили. Он обещал сам доложить об их просьбе директору Лихачеву. А требование было такое: уволить квартирмейстера Михайлова за жестокое обращение с инвалидом и за гнусное оскорбление чести гимназистов. Однако Лихачев не оценил благородного порыва юношей, наоборот, он обвинил их в дерзком поведении, обещал наказать "зачинщиков" и приказал запирать на ключ все двери в спальнях.
Такие меры обозлили гимназистов. Когда вечером все ушли на ужин, Княжевич, Пахомов, Алехин и Крылов изломали кровати в комнатах ненавистных надзирателей.
На следующий день ученики высших классов заявили, что не будут ходить на занятия, пока не уволят квартирмейстера. К ним присоединились и другие классы, даже нижние. Три дня заседал совет гимназии в полной растерянности. А "бунт" воспитанников разгорался. Раздавались крики:
- Вон Лихачева!
- Долго ли будем его терпеть?
- Не поздоровится директору, если не разберет нашей апелляции...
Лихачев струсил. Он уже не решался без охраны появляться ни в здании гимназии, ни даже на дворе и на заседание совета пробирался тайком, через квартиру инспектора. Избегая встреч с учениками, посылал уговаривать их то учителей, то надзирателей.
Но гимназисты были непреклонны. 9 июня двадцать восемь казенных учащихся из высших классов гимназии во главе с девятнадцатилетним Петром Балясниковым, игравшим на кларнете марш, ворвались в конференц-зал, где происходило "экстраординарное" заседание совета под председательством Лихачева, и еще раз потребовали немедленного увольнения Михайлова.
Притворясь перепуганным, Яковкин дрожащим голосом шепнул директору:
- Александр Логинович, они могут нас убить. Соглашайтесь!
Путь к отступлению был отрезан караулившими у запасного выхода гимназистами, Лихачев сдался. Тут же наскоро был составлен приказ об увольнении квартирмейстера и прочитан воспитанникам. Успокоенные, все разошлись.
После ужина раньше обычного легли спать, и в гимназии стало тихо. Но в кабинете Яковкина всю ночь горела свеча и скрипело перо. Ловкий инспектор неустанно строчил рапорты на имя губернатора Мансурова и министра народного просвещения Завадовского, изображая "бунт"
непослушных в самых черных красках. Директор Лихачев, "действовавший не по царскому закону", обвинялся "в посягательстве на высочайшее повеление", а также в недозволенном увольнении дворянина Михайлова. Яковкин забыл только прибавить, что сам посоветовал это сделать напуганному Лихачеву.
Доносы помогли: через несколько дней возмущенный губернатор вызвал воинскую часть.
Солдаты с ружьями под командой офицеров заполняют гимназию. За ними следуют Лихачев и тучный Мансуров, одетый в генеральскую форму. Приведенные под конвоем в зал воспитанники построены во "фрунт". В наступившей мертвой тишине торжествующий директор вызывает по списку Дмитрия Княжевича, Федора Пахомова, Ивана Крылова, Петра Балясникова, Петра Алехина... - всего шестнадцать учеников из высших классов. Арестованы лучшие старшеклассники, слава и гордость гимназии. Вооруженные солдаты тут же уводят их в карцер.
Весь день до вечера воспитанники слонялись по коридорам бесшумно, словно были на похоронах.
После осадного положения в гимназии ввели еще более строгий режим. Невозможно было поговорить с товарищами. Запрещены отлучки в город, свидания с родными сократились. Письма к родителям подвергались более строгой цензуре: порою целые абзацы в письмах замазывались черной краской или вырезались ножницами.
Занятия по музыке и танцам были заменены маршировкой и обучением ружейным приемам - под руководством военных из гарнизонного батальона. Свободного времени у гимназистов не оставалось. Были также введены и уроки верховой езды на лошадях, для чего на косогоре за двором построили манеж.
На первых порах военные занятия даже понравились Коле. Вот они, ученики нижних классов, шагают по двору.
На плече у каждого деревянное ружье. Это куда интереснее, чем сидеть на уроках Яковкина. Плохо только, что ни одной минуты не может он попросту махать .руками да еще топтаться на месте - непременно кому-нибудь на пятку наступит.
- Чего ты все вертишься? - упрекнул его как-то Ми-"
ша Рыбушкин. - Опять отдавил мне пальцы.
- Огонь у меня в груди, - улыбнулся Коля.
- Ишь развоевался! Не удержишь...
- Кто разговаривает в строю? - оборвал их строгий унтер в потрепанном военном кителе. - Сейчас я заставлю эамолчать. А ну-ка, марш вперед!.. Выше ноги!.. Тверже!
Руби так, чтобы земля дрожала! Быстрей! Быстрей!..
Бегут ребята мимо него - усталые, измученные. Мши гие уже едва ноги волочат по двору, а грозный унтер не унимается, гонит их дальше.
- Ать-два, ать-два!.. - кричит он. - Выше голову!..
Еще выше!.. Кто же там семенит, как осел?.. Отправлю к инспектору.
Гимназисты еще не знали, что был у Яковкина разговор с этим унтер-офицером. "Совсем распустили учеников, - строго выговаривал инспектор. - Где у них бравый вид?..
Гонять их надо, гонять в строю до седьмого пота..."
После таких занятий Коля спал мертвым сном, однако занимался по-прежнему успешно. На переводных экзаменах он по всем предметам, кроме катехизиса да священной истории, получил "отлично". В первых числах июля на торжественном акте ему, в числе других отличников, был вручен похвальный лист в золоченой рамке. "За прилежание", - читал он золотые буквы, за которыми вставало прошлое: мать у корзины с вещами, он, тогда плачущий, в ее объятиях. "Увези меня, маменька, в Макарьев, домой!" Ни словом она его не упрекнула. И вот ей награда за это!
Наступали каникулы, а с ними - затишье в гимназии.
Воспитанники думали, что нашумевшее "Дело о волнениях среди учащихся" давно забыто. Нет же! Оказалось, что колесо расследований продолжало еще вертеться.
Однажды Яковкин собрал всех учителей, воспитанников и служителей в актовом зале, чтобы в присутствии губернатора Мансурова зачитать им только что полученное из Петербурга постановление министерства народного просвещения. Предчувствуя недоброе, гимназисты замерли. Грозно посмотрел на них инспектор, потирая руки.
- "Учеников, - начал он читать, - Княжевича-первого, Пахомова, Алехина, Крылова, как главных виновников происшедшего беспорядка, исключить из гимназии без аттестатов, прочих же, то есть Балясникова, обоих Петровых и Упадышевского-первого, - подвергнуть строгому аресту в течение недели..." Повиновение! Повиновение беспрекословное, - потребовал инспектор. Весь облик его стал неузнаваем: появилась гордая осанка, голова запрокинута, глаза горят синим огнем.
- "...Так правящий должностью директора надворный советник Лихачев, продолжал он читать громче, - допустив вкрасться дерзостям в юношах, не принял деятельных мер к прекращению зла сего и дал ему усилиться, когда оно обнаруживалось, то во избежание подобных неустройств впредь должность его поручить инспектору гимназии Яковкину..."
Ликующий голос его будто всем говорил: вот она, власть! Настоящая!
Коля посмотрел на братьев и на своих товарищей. Саша невольно вздрогнул. У младшего Алеши даже глаза потускнели. Робость и растерянность появились на кругленьком лице Аксакова. Миша был непроницаем, посмотрел на инспектора как-то исподлобья.
После прочтения бумаги все учителя переглянулись.
Губернатор Мансуров распорядился немедленно снять воинские караулы у всех ворот и вывести солдат из гимназии. Воспитанникам предложили разойтись по комнатам:
занятия в этот памятный день отменялись.
Коля не заметил, как вечер сменился ночью. Неподвижно сидел он в своей комнате перед окном и пристально смотрел на старый тополь у забора. Но тополя не видел, ничего, что говорилось и делалось вокруг, не слышал, потому что голова разламывалась от боли. "Как же так? - напряженно думал он. - Из гимназии выгнали самых лучших. За что? Неужели за то, что смело защищали старого солдата?.. И не просили прощения, вышли гордо, как победители..."
Настал август. Не верилось, что уже кончилась вакация и нужно снова приниматься за учебу.
Загоревший летом, но мало подросший, двенадцатилетний Коля сидел за длинным столом рядом с рослым Алешей. Теперь они в средних классах учились вместе. Оба недавно стали казеннокоштными, то есть были приняты на казенное содержание.
Средние классы в гимназии считались главными из всего курса, и учиться в них было намного труднее. Существовало мнение, что ученик, преуспевший в этих классах, непременно будет лучшим и в старших, тогда как, напротив, часто случалось, что первые ученики низших классов оказывались в средних навсегда посредственными. Но Колю это не пугало, хотя и знал он, что многие воспитанники оставались второгодниками, даже сидели в средних классах по два-три года. Классы эти были всегда переполнены, так что учителя не могли заниматься порой со всеми одинаково. Поэтому вновь переведенные ученики подолгу сидели на крайних отдельных скамейках, и вначале их просто не замечали. К счастью, все учителя, кроме Яковкина, преподававшего историю и географию, были прежние, хорошо знавшие Колю.
Ибрагимов сразу вел в средних классах три основных предмета: высшую арифметику - алгебру, славянский язык и российскую словесность. Русская речь его была меткой, живой и безукоризненно грамотной - лишь иногда проскальзывали неточности в произношении, присущие нерусскому человеку. Остроумный, хорошо владеющий несколькими языками, он горячо любил русскую литературу и, главное, умел увлечь этой любовью своих учеников. Немаловажным было также то, что Ибрагимов, не повышая голоса, разговаривал со всеми одинаково, для него все - и дворяне, и разночинцы - были равны. Мисаилыч, как называли своего учителя воспитанники, в класс входил с необычной для других учителей простотой и приветливостью, словно старший брат или друг после долгой разлуки. Поэтому его урока ждали как праздника. Весело и шумно проходили такие занятия.
Но в это утро на уроке славянской грамматики было тихо, лишь время от времени слышался голос учителя.
Ибрагимов диктовал собственный курс для тех, кто его еще не слушал. Рыбушкин четким почерком писал на классной доске, остальные списывали в свои тетради.
Но Коля не был занят. Он передал тетрадь Алеше - тому подошел черед записывать - и смотрел в окошко.
Было хмурое утро. Накрапывал дождь, заставляя прохожих спешить по своим делам. Вскоре тучи рассеялись, прояснилось небо, и солнце вдруг заглянуло в комнату, озарив ее сиянием.
Коля вынул из кармана металлическое зеркальце, подставил его под солнечный луч, и яркий зайчик с темного, прокопченного потолка перепрыгнул на белую, с облупившейся штукатуркой стену, затем на черную классную доску.
- Что бы это значило? - спросил учитель, когда светлое пятно скользнуло по его лицу. - Кто из вас пускает зайчика?
Все переглянулись, недоуменно пожимая плечами. Тогда Коля поднялся.
- Господин учитель, это я... Лобачевский... Нечаянно.
- И тебе не совестно? Почему не пишешь?
Коля объяснил, что пишут они с братом поочередно.
- Тогда не мешай другим, - сказал учитель. - Иди в коридор и там лови зайчика.
Но едва сконфуженный Коля вышел из класса, как наткнулся на нового директора Яковкина. Тот вел не менее сконфуженного Сережу Аксакова.
- Чем вы тут заняты? - грозно спросил Яковкин.
- Я... я, Илья Федорович, вышел, - забормотал растерявшийся Коля.
- Сейчас же назад! - крикнул директор. - Все вы от уроков отвиливаете!
Коля нерешительно вернулся в класс. Вошли за ним и Яковкин с Аксаковым.
Гимназисты вскочили.
- Николай Мисаилович, - начал директор, - ни у кого столько бездельников не спрашивается выйти, как у вас.
Для этого существует перемена. Во время урока воспитанники должны заниматься... Предупреждаю, буду строго следить за тем, чтобы мои указания исполнялись неукоснительно.
Ученики затаив дыхание смотрели на учителя. Стоило тому сказать, что Лобачевский не отпущен по своей надобности, а выгнан из класса, как последует строгое наказание - новый директор в таких случаях крут был на расправу.
- Хорошо. Ваше указание приму к руководству, - сказал Ибрагимов, глядя не в глаза Яковкину, а в раскрытый на столе журнал. - Садитесь, Лобачевский.
Все облегченно вздохнули. Коля прошел на свое место.
- А его, - кивнул директор на Сережу, - запишите в классный журнал.
- Как? Почему же Аксакова снова сюда? Пятьдесят четвертым?.. По славянской грамматике и русской словесности он удостоился награды, сказал Ибрагимов. - И был переведен. За что же опять...
Но Яковкин прервал его:
- За то, что ничего не знает по другим классам. И я решил оставить его еще на год в среднем.
Разрешив ученикам сесть и продолжать занятия, директор вышел. По классу прошел удивленный шепот. Все ждали, что скажет учитель.
Но всегда снисходительный Ибрагимов приказал им замолчать.
- Продолжим прерванный урок, - объявил он строго...
Пэсле обеда, во время большого перерыва, Сережа под
бежал к братьям Лобачевским.
- Пускай хоть и в средних, зато вместе с вами, - весело сказал он и взял Колю за руку: - Пойдем-ка в сад, прогуляемся. Что-то хочу сказать.
Алеша, проводив их до лестницы, побежал к старшему брату.
- Берегись Яковкина, - предупредил Сережа на лестнице. - Теперь он будет нас преследовать...
Они спустились вниз, и, когда шли по двору, Коля задумался: это ведь по его вине директор сделал выговор учителю. Но тот не дрогнул, спас ученика. Чем же теперь отплатить ему?
- Да ты меня, видать, не слушаешь, - сказал Аксаков, - Этот Яковкин придирается ко мне хуже Камашева.
- Кого? - не понял Коля.
- Был у нас такой инспектор. Боялись его больше, чем директора. И чем я не приглянулся ему - не знаю.
Просто изводил меня: сам, бывало, проверял мои тетради.
Придирался на каждом уроке. Всех учителей заставлял меня спрашивать, а сам сидит в сторонке - слушает. Был я тогда казеннокоштным и поэтому казался ему дармоедом. При всех называл меня: "плакса", "маменькин сынок". Я даже захворал от обиды, и вскоре увезли меня домой, в Аксакове. Целый год потерял из-за этого Камашева, пока не вышел он в отставку. Снова привезли меня сюда, в нижние классы. Только уже на своем содержании своекоштным.
- И снова не везет? - спросил Коля.
- Ничего, привыкну... Я теперь люблю гимназию.
Меня уже не смущает суматоха. На первых порах помогли мне учителя Николай Мисаилович и Григорий Иваныч Жорташевский. Так что скоро я стал у них лучшим учеником. На уроках Ибрагимова - тем более. Он ободрил меня даже стихи сочинять приохотил. Да и сам их неплохо пишет. Недаром считают его первым поэтом Казани Помню пришел к нему на урок новичком и сел на заднюю скамейку. Вдруг он подошел, начал спрашивать - сперва из славянской грамматики, затем из русской: одну главу другую Отвечаю - он только улыбается и головой кивает. Потом берет меня за руку, подводит к первому столу и говорит:
"Садитесь, вот ваше место!"
- Замечательно! - воскликнул Коля. - Рад я, что и тебе он понравился. Только вот не пойму, как ты мог полюбить Корташевского, этого сухого и жесткого человека.
Чем он привлек тебя?
- Умом! - ответил Аксаков. - Ум у него что надо!
Григорий Иваныч большой ученый, сам он пишет курс геометрии. Читает много древних авторов. Латинский и греческий знает, как мы с тобой русский.
- Откуда же тебе известно? - усомнился Коля. - Ты разве учился в его классе?
- Я же у него живу.
- Как?! Давно?
- Два года, - сказал Сережа. - Когда родители привезли меня в гимназию и поместили своекоштным учеником - значит, надо было им и квартиру найти. Мать знала Григория Иваныча, упросила его быть моим воспитателем, то есть взять меня к себе на содержание. Деньги он отказался брать, но потом договорились: расходы за стол и за квартиру делить пополам. Так и живем с той поры...
- Где? - спросил Коля.
- На Грузинской улице. Дом Елагиных. Это в десяти шагах от приходской церкви святой Варвары, у Сибирской заставы. Прежде всего начали заниматься иностранными языками, особенно французским.
- Ну и как?
- За полгода мог я свободно читать любую французскую книгу. Сначала переводил сказки Шехерезады, затем "Дон Кихота". Боже мой! Как легко было учиться по таким веселым книгам! Григорий Иваныч говорил, что, когда мы читаем их вместе, он отдыхает. Бывало, смеемся до упаду...
- И Григорий Иванович? - не поверил Коля.
- О, смеется он редко, но крепко, - заверил Аксаков. - Однажды слышу: с кем-то говорит и хохочет. Я заглянул в его комнату и вижу: держит он в руках математическую книгу, смотрит на играющих котят и заливается так, что зубы сверкают. И лицо у него в это время такое доброе...
- Странно, - признался Коля. - Никогда не видел, чтобы он улыбнулся.
- Увидишь, - пообещал Сережа. - Так вот, - продолжал он. - Учение в гимназии - дело теперь для меня второстепенное. Постоянно хожу не ко всем учителям - потому-то и злится на меня господин директор. Остальное время дома занимаюсь. Математика у меня хромает, не лезет в голову. Григорий Иваныч помогал мне усердно, когда же увидел, что я не держу в голове ни одного доказательства, приказал ходить на его уроки в геометрическом классе. Послезавтра начнет преподавать новый курс.
- Мне бы тоже хотелось его послушать. Можно?
- Почему бы нет, - сказал Аксаков. - Приходи...
В геометрическом классе не смолкал гул веселых голосов: столько новостей нужно было успеть рассказать друг другу, пока не вошел учитель.
У классной доски стройный красивый гимназист лет шестнадцати напрасно старался перекричать общий шум.
- Господа! Господа! - повторял он, размахивая потрепанной книгой, но его не слушали. Тогда, проворно вытащив из бумажного свертка длинное полотенце, он перебросил его через левое плечо так, что правая рука была свободной, и, вскочив на стул, принял величественную позу древнего римлянина.
Это подействовало. Разговоры смолкли, все обернулись к нему.
- Господа! - повторил гимназист. - Начинаю наш первый урок геометрии. Слушайте же внимательно!
Удерживая книгу в левой руке, он водил по строчкам указательным пальцем правой и продолжал важным голосом, явно подражая учителю:
- Я собрал вас в этом Мусейоне [Мусейон (дословно: храм муз) - научный центр в древнем городе Александрии], мои драгоценные ученики, чтобы просветить ваш разум чтением своих "Начал".
Пересмеиваясь, гимназисты окружили оратора. Игра им понравилась.
- Учение мое, - продолжал тем временем оратор, - начинается определениями, аксиомами, постулатами. Дальнейшее ваше продвижение в глубь сей науки зависит от того, как вы усвоите их.
Он строго взглянул на слушателей, поднял палец и еще торжественнее продолжал:
- Определение первое. Точка есть то, что не имеет частей... Усвоили?
- Дорогой Евклид Александрийский, - вмешался ломающимся голоском высокий худощавый гимназист, сидевший на подоконнике. - Что-то не очень лезет в голову.
Если у точки нет частей, значит, и самой точки не имеется?
"Евклид", несколько замявшийся на своем пьедестале, попросил подать ему со стола другую книгу и, быстро полистав ее, нашел необходимую страницу.
- Господин Перевощиков! - торжественно проговорил он. - Ответствую вам словами "Критической истории философии" Бруккера. Слушайте внимательно: "Философия, или же любомудрие, - наука такая, которая посредством понятий учит познавать качества и отличительные особенности предметов..."
- Как раз наоборот, - послышался чей-то голос, такой тихий, что "Евклид" или не расслышал его, или не считал нужным ответить.
- Второе определение! - возгласил он. - Линия есть длина без ширины...
- Эй ты, Евклид... Казанский, - снова прервал его Дмитрий Перевощиков и, соскочив с подоконника, подошел к доске. - Не мути нам воду!
Схватив мел, он резким движением руки провел на доске жирную черту.
- Вот она, линия. И, по-твоему, длина ее не имеет ширины. Так? И вообще, что же такое длина? Да и можно ли о ней толковать, если ты нам понятия линии сперва не определил? Ну-ка?
Среди гимназистов, окружавших "Евклида", произошло движение.
- Ну и наука эта геометрия, - пожаловался кто-то в заднем ряду. - С ума сойдешь.
Его поддержали другие:
- Да, наука трудная.
Но тут к оратору протиснулся высокий ученик с темнорусыми волосами. В правой руке у него была какая-то книга.
- Разрешите мне ответить за вас, дорогой учитель, - с доброй улыбкой предложил он, показав два ряда белых зубов.
- Ну что ж... Пожалуйста, Саша... господин Лобачевский, - раскланялся "Евклид" и ловко соскочил со стула, уступая место.
- Мне пьедестала не требуется.
Кто-то пошутил:
- И так высокий.
Саша Лобачевский повернулся ко всем и поднял над головой развернутую книгу.
- Пуганая ворона, говорят, куста боится, - начал он. - Так и мы. Боимся трудностей... Книга сия - "Сокращения математики". Написал ее Румовский, адъюнкт Академии наук. Послушайте, что пишет он в предисловии:
"Хотя математика перед всеми науками в точности преимущества имеет и знание первых ее частей всякому необходимо, однако ж начала ее в начинающих учиться при самом вступлении отвращение производят. Посему кто бы мог винить математиков, что не стараются они об изобретении другого способа к познанию истин математических, но в рассуждении сего оправдать их может Евклидов ответ, который он дал своему государю..."
Саша с улыбкой посмотрел на "Евклида Казанского".
Тот кивнул ему:
- Читай, не задерживай.
- "Когда царь Птолемей спросил Евклида, нельзя ли для него найти менее трудный и утомительный путь к познанию геометрии, чем проложенный в его "Началах", тогда ответствовал Евклид, что к геометрии нет царской дороги..."
Но тут зазвенел колокольчик и положил конец диспуту.
Ученики заняли свои места. Спокойной, уверенной походкой вошел учитель математики Григорий Иванович Корташевский. В руках держал он журнал и книги, а под мыш-.
кой - свернутый в трубку лист бумаги.
Старик сторож внес полную корзину каких-то инструментов и наглядных пособий.
Строгим взглядом Корташевский оглядел всех учеников, стоявших навытяжку.
- Садитесь, господа, - сказал он и тут же, не подымаясь на кафедру, начал свой урок.
- Говорят, математика - это язык точных наук. Действительно, господа, разве можно изучать, скажем, такие предметы, как механику, физику, артиллерию, архитектуру, не зная математических исчислений, правил, теорем и формул? Конечно же нет. А без них не может развиваться наше отечество, не могут свершаться научные открытия...
Так вот, сегодня мы приступаем к изучению новой области математики геометрии, которая, как вам известно, является древнейшей и большой ветвью громаднейшего "математического древа". Ее обычно связывают с именем Евклида, жившего...
Но в это время кто-то усмехнулся, гимназисты заерзали на местах, зашептались, поглядывая в сторону "Евклида Казанского". Корташевский слегка постучал рукой по столу, и этого было достаточно. Все притихли.
- Евклид, - повторил учитель, вернувшись к доске, - жил приблизительно в третьем веке до рождества Христова... Но геометрия началась еще задолго до него. Геометрия - слово греческое, в переводе на русский язык означает землемерие или межевание... Да, да, не удивляйтесь.
Название этой науки вполне соответствует ее словам:
гео - земля, метрия - измерение. Вот я принес вам инструменты, какими пользовались еще древние геометры: линейку, циркуль, угольник и транспортир. С их помощью будем чертить с вами различные фигуры, затем измерять их величины.
- Господин учитель, разрешите спросить, - поднял руку "Евклид Казанский".
- Ваша фамилия?
- Панаев... Александр.
- Слушаю вас, Панаев. Спрашивайте, - разрешил учитель.
- Вы сказали, что геометрия - измерение земли. Но как же измерять ее такими вот линейками?
Все улыбнулись, но учитель кивнул головой.
- Похвально, - сказал он. - Вопрос уместный. Как же, в самом деле, провести нам прямую линию не тут, на бумаге, а в поле? Как же, скажем, проложить межу длиной в несколько верст и точно ее измерить!
Григорий Иванович достал из корзины, принесенной сторожем, длинную веревку и железную цепь.
- Скажите, как ваша фамилия? - спросил он, обращаясь к толстому гимназисту с красным лицом и огненными волосами - тот сидел в заднем ряду и развлекался тем, что накручивал нитку на золотую пуговицу своего мундира, затем раскручивал ее.
- Моя фамилия? - поднялся гимназист. - Овчинников... Дмитрий.
- Так вот, Овчинников, для чего служит, по-вашему, эта вот цепь? Может, вы даже знаете, как ее называют?
Овчинников поднял голову, рассматривая потолок.
- Похоже, такую цепь, - начал он робко, - папаша с Макарьевской ярмарки привез. Для собаки. Потому как простую веревку...
- - Садитесь, Овчинников, - прервал его Корташевский. - Мы говорим сейчас не о собаках, а об измерении земли.
Гимназист потупился, что-то рисуя пальцем на столе.
- Садитесь, - повторил учитель строже. - А нитку оставьте в покое и слушайте урок внимательно.
Затем он обратился ко всему классу:
- Кто скажет, как эта цепь называется?
Ученики молчали.
- Разрешите мне, господин учитель, - послышался вдруг робкий голос.
- Пожалуйста, - кивнул учитель.
Все оглянулись: кто же это?
С последней у стены скамейки застенчиво поднялся Коля Лобачевский. Рядом с ним сидел Аксаков с добродушной улыбкой на губах. Толстый Овчинников, рассмотрев серебряные пуговицы на мундирчике "чужого", фыркнул:
- Заяц... разночинец...
Густые брови Корташевского сошлись у переносья, глйза его посуровели.
- Овчинников! - сказал он. - Вон из класса! Явитесь к инспектору и скажите, что я вас выгнал за нарушение порядка! За оскорбление товарища!
Пожав плечами, Овчинников нехотя пошел к двери.
Проводив его суровым взглядом, Корташевский уставился теперь на Колю, припоминая, где и когда видел этого мальчика. И почему он оказался тут, среди юношей высших классов?
- Кто вы такой?
- Лобачевский, - не сразу ответил растерявшийся Коля.
- Имя? - спросил учитель.
- Николай.
- Брат Александра?..
Коля кивнул.
- Идитем к доске, Лобачевский, - пригласил учитель. - Вот вам цепь. Что вы о ней скажете?
Коля смутился. Руки его дрогнули, когда он дотронулся до цепи. Она! Та самая, которую они втроем передали в дар гимназии!
- Рассказывайте, - напомнил учитель.
Коля вынул из корзины колышки, треногу, эккер и подробно рассказал, как надо провешивать в поле прямую линию и как строится прямой угол.
- Все это знали еще в древнем Египте, - заключил он. - Для такой работы гарпедонапты...
- Кто-кто? - спросил учитель.
- Ну... эти самые... их землемеры. Они пользовались натянутыми треугольником веревками, в три, четыре и пять единиц, хорошо зная, что угол между меньшими сторонами всегда будет прямым. Еще я прочел в старинной книге, что и в древнем Вавилоне улицы пересекались под прямым углом. Значит, уже знали...
Но Панаев прервал его.
- А ты можешь определить, скажем, площадь нашего двора? - кивнул он в окно.
- Двор-то легко измерить, - вмешался другой ученик. - А вот попробуй улицу. Да еще кривую.
- Мой дедушка говорил, - похвалился третий, - без геометрии ни одного канала не выроешь. Сам он даже разработал чертеж моста через Булак.
- И здания хорошего без чертежа не построишь, - заверил четвертый.
- Вот видите, - выслушав учеников, сказал Корташевский. - Геометрия нужна повсюду. И необходимость в ней возникла уже в глубокой древности. Он развернул принесенный лист и прикрепил его к доске. То была карта Древнего Востока, нарисованная цветными карандашами.
- Вот перед вами Египет, - показал учитель. - Житницей этой страны всегда была растянутая на сотни верст узкая полоса Нильской долины. В обе стороны от нее раскинулись бескрайние пустыни. Ежегодно летом бурные потоки стремительно мчатся в долину с горных вершин далекой Абиссинии. Река Нил поднимается, выходит из берегов, и недели через три вся долина бывает покрыта водой. Чтобы ослабить ее разрушительную силу, приходилось египтянам строить искусственные дамбы, рыть отводные каналы. Когда же разгулявшийся Нил постепенно входит в свои берега, почва долины уже глубоко напитана влагой, удобрена сверху жирным илом. Так река готовит землю к посеву, но в то же время и начисто смывает все межевые знаки земельных владений. Поэтому очень важно уметь быстро восстановить права хозяина и точно размежевать его надел. Для этого древним египтянам надо было знать землемерие, то есть геометрию. Нужна была геометрия также при сооружении грандиозных пирамид и храмов, оросительных каналов, на строительстве и планировке городов...
Таким образом люди не только в Египте, но и в древнем Вавилоне, в Индии, в Китае накопили множество практических сведений по геометрии. Однако запомните, она еще не стала наукой подлинной, такой, которая позволяла бы нам увеличивать свою власть над природой. Наука возникает, когда люди не только созерцают изменения в окружающем их мире, но и задумываются, по каким причинам, по каким законам они происходят. Такими пытливыми людьми были древние греки. Среди них особенно выделялся Евклид светило геометрии. К сожалению, мы знаем о нем очень мало. "Евклид, сын Иаукрата, сына Зенарха, известный под именем Геометра, по своему происхождению грек, по местожительству сириец, родом из Тира..." - вот и вся его биография по арабскому источнику двенадцатого века. Другие историки полагают, что учился он в Афинах, у последователей философа Платона, затем приглашен был царем Птолемеем Первым, покровителем искусств и наук, в Александрию - столицу греко-египетского государства, чтобы там, в Мусейоне, основать математическую школу...
Слушает Коля Корташевского затаив дыхание, и возникают перед ним удивительные картины далекого прошлого.
Вот богатый многоязычный город, чем-то напоминающий Макарьевскую ярмарку: так же раскинулся на берегу - только не матушки-Волги, а лазурного Средиземного моря. Шумные толпы греков, египтян, арабов и евреев заполняют широкие улицы. Всюду снуют продавцы то с корзинками, то с глиняными сосудами. Другие торговцы зазывают прохожих в свои палатки. Ревут ослы на привязи мирно жуют колючки верблюды.
Город окружают гавани, заполненные лесом корабельных мачт. Александрия, как и Макарьев, торгует чуть ли не со всем известным тогда миром. У входа в главную гавань, с правой стороны виден Фарос, маленький остров на скале которого взметнулось в небо изумительное сооружение-трехъярусный маяк. А в плотине, соединяющей остров с побережьем, два канала с мостами для пешеходов. Корабли свободно проходят по этим каналам из одной гавани в другую.
Но главной гордостью Александрии считается: грандиозный Мусейон - храм искусств и науки с его ботаническими садами, астрономической башней, анатомическим театром, помещениями для занятий, столовой для учащихся и ученых, богатой библиотекой, имеющей сотни тысяч свитков, среди которых подлинные рукописи, принадлежавшие Платону и Аристотелю. Здесь живут и работают математики, астрономы, философы, поэты, художники От Мусейона к дворцу Птолемея проложена Царская улица, прямая как стрела и самая людная в городе Часто по ней шагает в белой тоге старик с высоким лбом и курчавой бородой. С почтением уступают ему дорогу: идет Евклид - учитель самого царя. Он с достоинством отвечает на приветствия. Горожане уже знают его как человека, преданного науке, честного и скромного. Рассказывают случай. Однажды юноша, только что начавший изучать у Евклида геометрию, спросил: "А что я буду иметь за это?"
Евклид позвал раба и сказал: "Дай ему грош, он ищет не знаний, а выгоды..."
В свободные часы Евклид сидит в библиотеке изучая рукописи Анаксимандра, Пифагора, Демокрита, Евдокса и Гиппократа - своих предшественников. Он понималчтобы сделать геометрию наукой, надо собрать воедино все уже известное, из отдельных частей построить надежное здание. Но что же должно быть основанием, опорой для стен такого здания?
Вот он, погруженный в свои мысли, гуляет в прохладных садах Мусейона. Слышен легкий шорох пальм. Над головой...
- Ты не заснул? - неожиданно толкает Сережа локтем. - Кажется, урок заканчивается.
Коля посмотрел вокруг. Да, гимназисты уже зашуршали своими тетрадями, чтобы записать домашнее задание.
Окончив рассказ о прошлом геометрии, Корташевский расставляет на столе различные модели. Затем, отставив корзину, обращается к ученикам:
- Господа, прошу запомнить: основы геометрии, как и любой науки, должны быть заложены опытным путем, потому что практическая деятельность человека, по замечательному высказыванию Ломоносова, является главной основой познания... Гельвеции недаром утверждал, что руки всегда служили человеку путеводительницами к разуму...
Взяв на столе небольшую картонную коробочку, он продолжал:
- Между различными свойствами тел - первейшее, которое прежде всего чувствам нашим подвержено и без которого другие с телом едва сопряжены быть могут, есть протяженность или то свойство тел, вследствие коего занимают они место в пространстве. Каждому видно, что протяжение простирается в три стороны: в длину, ширину и вышину. К примеру, возьмем эту коробку и нашу комнату.
Они, как и все другие предметы в природе, имеют все три измерения, причем различной величины. У деревянного кубика, - учитель отложил его в сторону, - три измерения равные. Чугунное ядро и бильярдный шар, которые также я прихватил на урок, имеют уже иную пространственную форму. Следовательно, мы должны различать и размеры, и формы окружающих нас предметов...
Григорий Иванович достал из нагрудного кармана часы, похожие на луковицу, и, взглянув на циферблат, покачал головой.
- Как быстро летит время. Хотел еще рассказать вам об основных понятиях, но, видно, уже не успеем.
Гимназисты зашумели:
- Успеем, Григорий Иванович! Мы не пойдем на перемену, рассказывайте...
Но Корташевский, улыбаясь, ответил:
- Так нельзя, господа. Надо уметь вовремя учиться и вовремя отдыхать... Сейчас я дам лишь первое основное понятие о геометрическом теле. С ним будет связано и ваше домашнее задание - что же такое поверхность, линия и точка? Учебником- предлагаю "Курс математики" Тимофея Осиповского, том второй, содержащий геометрию Эту книгу можно купить на Гостином дворе в книжной лавке Пугина. Имеется также и в гимназической библиотеке.
Выждав, пока ученики записали его задание, Корташевский начал объяснять:
- Чтобы все вам было понятно, господа, возьмем такой гример... - Он достал из корзины стеклянную колбу, наполненную какой-то жидкостью, и, к удивлению гимназистов, простую соломинку. - Вот сюда налита мыльная вода, - продолжал учитель, устанавливая колбу на подоконник. И неожиданно рассмеялся: - Вас, наверное, не придется обучать, как пускать мыльные пузыри?
Ученики оживились, а Корташевский, обмакнув сплюснутый конец соломинки, начал выдувать пузырь. Невесомый шарик быстро увеличивался, вот он уже заиграл всеми цветами радуги. Затем, оторвавшись от соломинки, покачался, как бы раздумывая, куда лететь, и наконец торжественно выплыл через открытое окно из комнаты.
- Улетел! - засмеялся Панаев. - Другой надуйте!
Учитель послушно стряхнул с примятой соломинки второй пузырь, за ним третий, четвертый... Вырастая и переливаясь на солнце, они весело друг за другом вылетали на улицу.
- Теперь вы подайте-ка мне то ядро на столе, - обратился он к одному из учеников. - Спасибо... Мыльный пузырь и чугунное ядро. Имеется ли в них что-нибудь общее?
- Круглые, - нерешительно сказал кто-то из учеников.
- Совершенно верно, - подтвердил Корташевский. - Пузырь и ядро имеют одинаковую протяженность. Или точнее - одинаковую пространственную форму. Поэтому представляют они одно и то же геометрическое тело - шар, хотя физические свойства и размеры у них разные. Вот посмотрите сюда еще раз. Внимательно...
Григорий Иванович взял соломинку и начал выдувать очередной пузырь. Но в это время в коридоре послышалось шарканье чьих-то поспешных шагов и громкий раздраженный голос: "Господин директор, какой позор! В этом классе во время занятий гимназисты пузыри пускают... Не верите? Сам губернатор видел! Мы стояли напротив здания и вдруг!.. Летит!.. Один за другим!.."
От сильного толчка распахнулась дверь. На пороге стоял разъяренный директор. Корташевский, оглянувшись на Яковкина, щелкнул по соломинке, и новый радужный пузырь, подхваченный сквозняком, стремительно поплыл в окно.
- Тээк-с! - выдохнул Яковкин, зло сверкнув глазами, и, громко хлопнув дверью, чуть не побежал из класса.
В эту минуту послышался внизу продолжительный звонок. Но гимназисты не вскакивали, как всегда, на этот раз они сидели молча и ждали, что скажет учитель.
- Николай Лобачевский, - произнес наконец Григорий Иванович. - Вы оставили свой класс и пришли на мой урок. Имели на это разрешение? Спросились?
- Нет, - сказал Коля.
Учитель нахмурил брови.
- Григорий Иванович, - поднялся рядом с Колей Аксаков. - Это я виноват... Ему хотелось побывать на вашем уроке. Он любит геометрию...
Не повернув головы, учитель спросил:
- Больше вам нечего добавить?.. - Затем, обращаясь ко всем, кивнул на дверь. - Вы свободны... Лобачевский, останьтесь.
Гимназисты неохотно вышли в коридор.
- Ну-с, молодой Евклид, - улыбнулся Григорий Иванович. - С какого же урока вы сбежали, чтобы слушать геометрию?
- С катехизиса, господин учитель... Закона божия.
Корташевский сдвинул брови.
- Это хуже. Узнает Яковкин - вам не поздоровится.
Вы об этом не подумали?
- Думал, - признался Коля. - Только ведь я два года ждал, когда же начнем изучать геометрию. Следил за расписанием. Но геометрии не было. И вдруг, слышу, кто-то будет изучать ее... Мне так много надо бы спросить у вас...
- О чем?
Коля замялся.
- Говорите, я слушаю, - ободрил учитель.
- О том, почему начинается книга Евклида с непонятных определений? Для измерений и доказательств они же совсем не потребны...
Корташевский слушал внимательно. Было видно, что худенький мальчик, желавший понять Евклида, заинтересовал его. "Рановато, рановато, мой друг, разбираться тебе в сочинениях, которые и взрослым-то не по плечу", - думал он, глядя на Колю. Затем, положив руку на его плечо, признался:
- Разговор, вижу, будет у нас долгий. Здесь не место и не время. Приходите в это воскресенье ко мне домой.
А где я живу... не знаете? Ну, а с гимназистом высших классов Аксаковым, кажется, вы знакомы?
- Высших? - оживился Коля. - Его вернули?
- Да, совет гимназии так решил... Вот с ним и приходите. Но только не забудьте взять разрешение комнатного надзирателя, чтобы никаких недоразумений потом не вышло. Поняли меня?
Дверь неожиданно раскрылась, и на пороге снова появился директор. Он с удивлением посмотрел на Колю:
- Как вы тут оказались? Почему не в своем классе?
- Господин директор, Лобачевского сюда вызвал я, - вмешался Корташевский и, повернувшись к мальчику, добавил: - Все. Вы свободны.
"Выручил! - подумал Коля. Он выскочил в коридор и тут же остановился. Не из-за меня ли?"
- Господин Корташевский! - визжал за дверью директор. - Скажите, у нас тут гимназия или балаган? Что это за игрушки на столе?.. Тэк-с, тэк-с, гимназистов, значит, мыльными пузырями развлекаете! И все это - среди белого дня, под носом у губернатора! Позор! Полувековая история нашей гимназии не знала такого... Непонятно, кто вы - учитель у нас или бродячий фокусник?
- Господин директор, - ответил Корташевский. - Вы забываете о главном о наглядности преподавания. Особенно важной при изучении так трудно понимаемой геометрии...
- Оставьте! - прервал его Яковкин. - Предмет, почерпнутый из мудрости самого всевышнего, - и трудно понимаемый? Да это же кощунство! Я не допущу такой наглядности! Шарлатанства с мыльными пузырями тем паче.
Корташевский возразил:
- Представить себе не могу, чтобы такое могло быть с убеждением сказано. Все трудно постижимое должно доказываться на простых вещах...
- Опять вы за свое! - не выдержал Яковкин, стукнув кулаком по столу. Что ж, поспорим, где надо!
- Поспорим. Но только без оного бешенства. Истина рождается в спорах серьезных, а распри человеческие - это уже от сатанинского...
- Что вы сказали?! Мне?! Такое?! Боже! - воскликнул Яковкин и попятился к двери.
Чтобы не быть застигнутым, Коля стремглав побежал на лестницу - в свой опостылевший класс.
* * *
Отстояв обедню в своей церкви, казеннокоштные гимназисты разошлись кто куда. Воскресенье! Классы, коридоры, спальни опустели, надоевший гул сменила непривычная тишина. Коля радовался: вот когда без помехи можно посидеть за книгой!
Придвинув к раскрытому окну табуретку, он раскрыл оставленную братом книгу Румовского и выглянул на улицу. Погода менялась на глазах: то сеял мелкий теплый дождик, то из-под легких тучек выглядывало солнце, расцвечивая радугой влажный воздух. Слышался торжественный перезвон с казанских колоколен.
- Читать невозможно! - самому себе сказал Коля и, закрыв окно, склонился над книгой.
- "Два рода видим издаваемых математических книг, - читал он вполголоса. - В иных содержатся правила без доказательств и изъясняются одними примерами, а в иных, сверх того, доказательства предлагаются... В чем состоит порядок математический?"
Коля на минуту задумался.
- Ну что ж, посмотрим дальше. "В математических рассуждениях начало истин делается от понятий самых простых... От подобных начал математики поступают к труднейшим понятиям, и ничего, что не ясно или не доказано, за основание не принимают..."
Коля, бросив книгу на подоконник, взъерошил волосы.
- Вот здорово! - сказал он, вскочив с табуретки. - "Ничего, что не ясно или не доказапо..." Какие же основания предлагаются?
Убрав со лба свисавшие волосы, Коля начал быстро перелистывать страницы.
- Так... "Начальные основания теоретической геометрии..." Посмотрим. "Определение первое. Тело геометрическое есть то, что во все стороны имеет определенное протяжение. Протяжение оного определяется поверхностями, поверхности - линиями, линии - точками.
Примечание. Хотя всякое тело имеет три измерения, то есть вышину, ширину и длину, но оных никаким образом от тела отделить невозможно..."
Прервав чтение, Коля снова задумался. Григорий Иванович говорил то же самое: за первичное берем тело.
Ну, а дальше?
- "Из определения тела геометрического видно, что об оном основательно рассуждать нельзя прежде, чем свойства точек, линий, поверхностей или плоскостей не будут известны, и для того надлежит начать от точек, потом приступить к линиям, потом к поверхностям, а напоследок к телам геометрическим".
Коля зашагал по комнате, рассуждая вслух:
- Понимал. Все было хорошо. Но этого не понимаю.
Отчего, не выяснив свойства точки, линии, поверхности, нельзя рассуждать о геометрическом теле? Почему же Григорий Иванович объяснял это хорошо и ясно?
Коля задержался у подоконника. Вспомнились мыльные пузыри, вылетающие в окно, и разъяренный Яковкин в распахнутых дверях... Но тут же, наморщив лоб, тряхнул головой.
- Кто же прав? С точки или с тел начинается геометрия? Дальше, дальше надо читать. Вот где, оказывается! "Определение второе. Точка есть знак никакой величины... Иные точкой называют то, что никаких частей не имеет..." - читал он с отчаянием, останавливаясь и несколько раз повторяя одно и то же предложение. - Ладно, читаем дальше. "Определение третье. Линия есть длина, не имеющая ни толщины, ни ширины"... Вот и пойми, что к чему?
Коля снова зашагал из угла в угол.
- Раз точка такой знак, - рассуждал он вслух, - который никаких частей не имеет, вряд ли можно изобразить ее на бумаге даже самым тонким грифелем. Как же тогда ее представить?.. А линию?.. Румовский сам вначале указал: ничего неясного или недосказанного не принимать, а здесь у него все наоборот... Может, я не понимаю?
Только теперь он почувствовал, что в комнате жарко.
Распахнув окно, выглянул на улицу. Звон колоколов не утихал. Знойно припекало солнце, высушив последние следы летнего дождя. Где-то хором пели праздничные песни, весело играла гармошка. Но мысли об учебнике Румовского не давали покоя. А что, если поговорить с Григорием Ивановичем?
- Да, что ж это я! - спохватился Коля. - В десять назначена встреча.
Он поспешно засунул книги в тумбочку и выбежал в коридор, затем на улицу.
Но Сережи у назначенного места в саду не было.
Коля сел на скамейку в тени дерева, прислушиваясь к легкому шороху листвы. Среди густой зелени кое-где, как огоньки, вспыхивали на солнце отдельные красные и желтые листики - первые вестники приближающейся осени.
На Воскресенской улице шло праздничное катание.
В богато убранных каретах, заложенных сытыми лошадьми, разъезжали нарядные дамы, толстые купчихи с детьми. Никуда не торопились они, так что кучера, довольно причмокивая губами, лишь изредка подгоняли своих лошадей.
Сердце у Коли заныло - вспомнилась мать. У нее ведь никогда не бывает времени для прогулки. Что сейчас она делает? Шьет или вяжет? Сколько ниток прошло через ее руки! Если бы растянуть их, то, пожалуй, хватило бы до самого Петербурга... Скорее бы окончить гимназию, потом - университет. И ни от кого бы не зависеть. Вот он уже в Макарьеве. Одетый в собственный костюм, без этих ненавистных белых пуговиц, вбегает в комнату и видит: мать сидит за шитьем, а старый дед - за книгой... "Маменька, дедушка, узнали..."
- Ты что, и днем засыпаешь? - услышал Коля знакомый голос. Он оглянулся. Перед ним, сияя лучистыми глазами, стоял Сережа. И не один, а с крепостным Евсеичем, дородным дядькой.
- А я не спал, - ответил Коля. - Замечтался...
- Мечтаешь? Это неплохо.
- Извольте спросить, - вмешался Евсеич. - На извозчике поедете али пешком?
- Пешком... пешком.
- Тогда я сейчас отпущу извозчика.
Старик ушел. Сережа проворно перескочил скамейку и сел рядом с Колей.
- Мы ездили на базар, - объяснил он. - Григорий Иваныч велел и за тобой заехать.
- Спасибо.
- Но лучше мы пешком прогуляемся. Тут недалеко.
Да и день такой веселый.
Коля кивнул.
- Ты, кажется, чем-то расстроен, - сказал Сережа - Геометрией. В учебнике Румовского запутался.
- Это еще не беда. Григорий Иваныч распутает...
Через полчаса втроем они подошли к двухэтажному дому. Дверь им открыла горничная:
- Пожалуйте наверх..
Евсеич с покупками ушел на кухню, а Сережа повел полю на второй этаж.
- Входите, входите, - отозвался на робкий стук чейто веселый голос.
В кабинете за письменным столом, заваленным книгами, сидел в туго застегнутом на все пуговицы темном сюртуке и с тюбетейкой на голове Ибрагимов.
- Николай Мисаилович! - воскликнул Коля. - А мы подумали...
- Что Корташевский волшебством превращен в Ибрагимова? - договорил тот и, закрыв лежавшую перед ним книгу, отодвинул ее в сторону.- Или видеть меня вам не в удовольствие?.. Ну, то-то же. Не огорчайтесь Ибрагимов, улыбаясь, поднялся навстречу мальчикам - Ну, как себя чувствует наш Телемак? [Телемак - сын Одиссея. Так звали Сережу все товарищи Корташевского] - спросил он, потрепав Сережу по голове. - И каковы успехи в царстве королевы геометрии? - кивнул он в сторону Коли.- Слышал я, будто бы даже и, катехизис оказался побежденным, не смог удержать вас от бегства на урок царицы наук?
- Да, не удержался...-подтвердил Коля.- Только вот... геометрия оказалась труднее, чем я думал. Сегодня сидел над Румовским и еще больше запутался.
Ибрагимов подошел к приоткрытому окну и раскрыл его створки пошире. В комнату повеяло терпким запахом поспевающих яблок.
- Печально, - проговорил он, - что вы здоровья своего не бережете и занимаетесь в неположенное время.
Геометрия - царица строгая, требует не только ума острого, но и здорового тела, иначе с ее воинами - теоремами - не совладаете. Вонпство ее упрямое, стойкое...
Вам сколько лет?
- Скоро двенадцать исполнится.
- Та-ак, - протянул Ибрагимов. - Отец?
Коля вспыхнул - это был для него трудный вопрос.
- Есть... Но с нами не живет. Уехал.
- Значит, нет, - сказал учитель. - В смысле опоры его пе существует. Надо полагаться на себя, на свои силы.
Л сил этих в жизни потребуется - ох как много! - И вдруг спросил: Играете в городки?
Мальчики переглянулись. Но Ибрагимов уже повернулся к Сереже:
- Забыли, Телемак, что в прошлое воскресенье вы мне проиграли? А ну-ка в сарай - за чурками! Живо!
Мальчиков как ветром сдуло: скатились они по широким перилам лестницы вниз и побежали к сараю.
- Знаешь, почему он городками увлекается? - шепнул, задыхаясь, Аксаков. - Чтобы лучше понимать геометрию!
- Как?! - не поверил Коля.
- Вот увидишь!
Нагруженные чурками, вернулись они к Ибрагимову.
Тот уже поджидал их у калитки сада. Когда вышли втроем на большой пустырь, несколько слонявшихся там подростков с радостью кинулись к "городошникам".
- Ну, геометр, покажи-ка нам свои знания, - улыбнулся Ибрагимов, кивнув на чурки, сложенные для начала "конвертом".
Коля смутился: ему еще не приходилось играть в городки.
- Давай, давай, - торопил Сережа. Он уже держал в руках две надежные палки, приплясывая от нетерпения.
Коля замахнулся и швырнул свою первую палку повыше. Но та упала далеко за чурками. Вторая палка, брошенная им пониже, не долетела, - ударившись концом в землю, она перепрыгнула через "конверт" под общий хохот ребятишек.
Тогда к черте подошел Ибрагимов. Примериваясь одним глазом к вытянутой в руке палке, он ударил так, что чурки брызнули в стороны. Подростки завопили от восторга: "конверт" распечатан.
За игрой Коля и не заметил, как подошел к ним Корташевский.
- Еще у калитки по радостным воплям догадался, где надо искать вас, улыбнулся он. - Здравствуйте, здравствуйте... Лобачевский, вы до которого часа ко мне отпущены?
Коля побледнел.
- Забыл! Совсем не спрашивал разрешения.
Корташевский развел руки в стороны.
- Беда мне с вами. Пойдемте, сейчас напишу записку Сергею Александровичу, если он еще не успел сообщить о вашем уходе инспектору... Городки не убирайте, - попросил он Ибрагимова, - и меня вы раззадорили.
В кабинете Корташевский быстро написал несколько слов на бумажке и протянул ее Коле.
- Теперь уже поговорить нам с вами некогда, придете в другой раз... Да! - Он порылся в книгах и вытащил одну, в синей обложке. - Вот вам биография Ломоносова...
Бегите!
Коля, схватив книгу, опрометью выскочил из комнаты, забыв даже поблагодарить учителя.
Спустя минуту Корташевский был на пустыре.
- Мальчик не совсем обыкновенный, - сказал он Ибрагимову, подбирая палку по руке. - Видит глубже своих сверстников.
- И я совершенно того же мнения, - отвечал Ибрагимов.
Коля видел во сне белое поле без конца и края. Резкий ветер наметает сугробы в рост человека, пересыпает снегом дорогу. Мороз крепчает. Коля бежит и бежит по дороге, чтобы не замерзнуть, но холод уже пронизывает его до костей. А дорога все тянется и тянется без конца. И не видно вокруг ни человека, ни зверя.
Наконец далеко впереди что-то зачернело на дороге Обоз! Люди! Коля, напрягая последние силы, догоняет их. Сани гружены мороженой рыбой. Кое-где рыбьи головы торчат из-под мешковины, зашпиленной деревянными колышками. Рты у них раскрыты, словно рыбы хотели что-то проговорить и не успели. Коля поравнялся у крайней подводы с плечистым подростком: закинув мешок за плечи, тот размашисто шагает по снегу. Лицо его знакомое. Где же они виделись?
"Эй, паренек, - обращается к нему Коля. - Куда спешишь?"
"В Москву".
"Зачем?"
"Учиться, - отвечает тот. - А зовут меня Михаиле".
"Я тебя узнал, - радуется Коля. - Ой, как пурга разыгралась. Не вернуться ли нам?"
Паренек упрямо трясет головой:
"Куда пошел - назад не возвращаюсь. И тебе не советую..."
Но тут взметнулся на дороге снежный вихрь - и сани с рыбой, лошади, паренек с мешком - все исчезло в непроглядной белой мгле...
Коля проснулся. В открытую форточку дует холодный ветер. Алеша и Саша мирно спят на соседних кроватях.
Коля поднялся, чтобы закрыть форточку, и видит на стуле книгу "Жизнь Ломоносова". Переложив ее на тумбочку, он вытаскивает из-под своей подушки другую книгу в красивой обложке. Надо прочитать. Хотя бы начало. Коля подошел на цыпочках к подоконнику и осторожно, так, чтобы не разбудить учеников, прикрыл форточку. Затем вернулся в постель. Прикрыв краем одеяла книгу, пробежал в предутренних сумерках первые строчки:
"Великий Колумб твердой рукой своей вел корабль в неведомое. Токмо он един мыслью предузнал бытие нового мира..."
- Коля, - послышался тревожный шепот Саши.
Спрячь тетрадку.
- Это книга.
- Какая? Ты что читаешь? - строго допрашивал Саша. - Я за тобой наблюдаю и вижу - прячешь. Запрещенное?
- Нет, из библиотеки взял... о Христофоре Колумбе...
- А... я подумал, что Григорий Иванович дал тебе также и "Слово о Ломоносове" Радищева.
- Разве оно запрещено? - удивился Коля. - Кем?
- Екатериной Второй. Она посадила его в Петропавловскую крепость, как "бунтовщика, хуже Пугачева".
Потом в кандалах отправила в Сибирь, через нашу Казань. Я не читал его сочинений, но слышл о них от Ибра
гимова. Того, кто читает или переписывает книгу Радищева, считают преступником.
- А где он сейчас? - поинтересовался Коля. - В Сибири?
- Нет, в могиле.
- Умер?
- Покончил самоубийством. Всего за месяц до нашего приезда в эту гимназию. В его бумагах нашли записку:
"Потомство отомстит за меня", - Какой человек погиб!
На минуту оба замолчали.
- Скажи, Саша, - первый заговорил Коля, - ты какую науку больше любишь?
- Философию.
- А можешь посвятить ей всю жизнь?
- Конечно. Если только буду знать, что людям принесет она пользу.
- Я тоже так, - обрадовался Коля. - Только ты философию любишь, а я математику...
- Ну, ладно, спи до звонка. Пока не пришел дежурный....
В этот день Коля еле-еле дождался конца уроков, И сразу же отправился к Григорию Ивановичу.
- Надеюсь, вы сегодня с разрешением? - улыбнулся Корташевский. - Раз так, то садитесь и рассказывайте, О чем хотите говорить со мной?
- О геометрии, - начал Коля. - Как ею заниматься?
С чего начать?
- Посмотрим, обсудим, - сказал учитель. - Вот вы "Жизнь Ломоносова" прочитали. Что из нее больше всего вам запомнилось? И что вы себе на память выписали?
- Я все помню, - ответил Коля. - Каждое слово. С тех пор как прочитал в первый раз, два года назад в Макарьеве, на чердаке дедушкиного дома. Поэтому и не выписывал.
- Напрасно. Там ведь прямо сказано, с чего начинать.
Корташевский раскрыл книгу.
- Вот вам на третьей странице такие слова Ломоносова: "...для приобретения большого знания и учености требуется знать язык латинский". А дальше, на шестой странице, послушайте, что говорит о Ломоносове автор предисловия к его сочинениям: "Через год после того настолько стал он силен в латинском языке, что мог уже сочинять небольшие стихи. Тогда начал учиться по-гречески, - чтобы, усвоив его, познакомиться с творениями математиков Эллады в подлинниках, не искаженных переводами..." Вот что следует вам запомнить из прочитанного, - сказал Корташевский и, отложив книгу, достал из ящика тетрадь в голубой обложке с черными краями. - Это "Слово о Ломоносове" Радищева. Прочту из него лишь одно предложение: "Познанием чуждого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усваиваем их понятия, и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаем и приводим в единую связь". Вы поняли?
- Понял! Понял! - воскликнул Коля. - Но, кроме греческого, я хочу знать и французский.
- Не много ли? - спросил Григорий Иванович. - За двумя зайцами погонишься...
- Нет. Я хочу понимать "Дон Кихота" и Шехерезаду.
- Вот, оказывается, в чем дело! - засмеялся Корташевский. - Видно, Сережа вас так взбудоражил. Ну что ж, попробуем! Добьетесь мало-мальски успеха, получите и "Дон Кихота" на французском, и "Начала" на греческом...
Учитель встал из-за стола и, подойдя к этажерке, взял там книгу, должно быть очень ценную - в особом кожаном футляре.
- Вы тогда, в геометрическом классе, помню, спрашивали, - взволнованно заговорил он, возвращаясь к столу, - почему книга Евклида начинается с непонятных определений, почему основные положения геометрии так запутаны? Выяснение следует начать вот с этой книги. Она - одна из первых печатных изданий "Начал" Евклида. И вообще это едва ли не первая книга, вышедшая из-под изобретенного тогда печатного станка. Здесь полный греческий текст "Начал" и также латинский перевод их. Ни одно из классических сочинений древности не было столь уважаемо просвещенными людьми, как это. Оно было переведено тогда на многие языки мира, переписано или переиздано тысячи раз во всех странах и до последних лет остается почти единственным руководством к изучению геометрии. Но, может быть, ни одно сочинение с тех пор не претерпело столь много перемен, прибавлений, исправлений, как эти "Начала", от своих переводчиков, издателей и переписчиков. Поэтому, чтобы выяснить, почему, где, когда и кем были введены темные понятия в геометрию, нужно прежде всего изучить вам эту родословную книгу на греческом языке.
Григорий Иванович замолчал, внимательно посмотрел на Колю, который с волнением слушал его, широко раскрыв глаза, и вдруг тепло - будто -говорил не ученику, а равному себе - доверчиво признался:
- Ведь я сам уже несколько лет ломаю голову над этими вопросами. От разрешения их, может быть, зависит не только развитие геометрии, но и всех наук. Для чего"
изучал я греческий язык, потом арабский...
- Арабский? - удивился Коля.
- Да, да! И вот почему. Арабы когда-то посредниками были между древнегреческой и новоевропейской наукой. Еще в первой половине девятого столетия ученый Хаджадж сделал полный и сокращенный перевод "Начал"
Евклида. - Корташевский взял со стола толстую тетрадь и раскрыл ее. - В предисловии к сокращенному курсу написано, что "в царствование халифа Гаруна ал-Рашида Хаджадж был командирован в Византию для перевода "Начал"
Евклида. Когда же халифом стал ал-Мамун, Хаджадж убедился, что он угодит своему новому государю, если для него упростит и сократит книгу Евклида...". Хаджадж так и поступил... Как видите, - улыбнулся Григорий Иванович, - Хаджадж по сравнению с Евклидом оказался более податливым учеником: он сумел найти для своего повелителя халифа более короткий путь к геометрии, чего не мог или не хотел сделать, по известному преданию" сам Евклид своему царю... В начале двенадцатого столетия был сделан перевод "Начал" с арабского на латинский язык, а в 1482 году наконец вышел он первым печатным изданием... Сейчас я как раз вот и занимаюсь тщательным сравнением различных изданий "Начал" Евклида на греческом, арабском и латинском языках. И думаю, что и вы, Лобачевский, поможете мне, когда овладеете греческим.
- Постараюсь! - ответил Коля - Начну сегодня же.
От Корташевского возвращался он вечером, бережно, как драгоценность, унося три книги: "Домашние разговоры на французском, немецком, латинском и русском языках", "Лексикон простого греческого языка" и "Греческую грамматику". Последняя книга была ему особенно дорога - издание Московской славяно-греко-латинской академии, той самой, где учился Ломоносов. "Может быть, именно эту книгу держал он в своих руках, может, по пей учился!.."
- Пади! - раздался громкий окрик над ухом.
В тот же миг лошадиная морда оказалась у его лица.
Испуганно вскрикнула женщина. Коля едва отскочил, и нарядная коляска с дородным кучером на козлах промелькнула мимо.
Только тут заметил он, что шагал по мостовой. Крепко прижимая к груди книги, уже с оглядкой перешел улицу и заторопился к зданию гимназии.
Теперь ежедневно после уроков, забившись в уголок пустого класса, Коля учил греческую грамматику или твердил новые французские слова. Два раза в неделю ходил к Григорию Ивановичу на домашние уроки. Занятия шли весьма успешно, особенно по французскому языку, ибо многие слова были понятны по сходству с латынью, которую знал он хорошо.
К концу третьего месяца учебы Коля уже сносно читал по-французски, понимал прочитанное и пробовал составлять словарик. Это было не так уж трудно: писал он французское слово, а рядом с ним - однозначное русское. Дальше следовало целое семейство других слов, примыкающих к уже записанному. Например, если он запоминал пофранцузски "дом", как это не поинтересоваться другими словами: стена, пол, крыша, потолок, дверь, окно, порог, крыльцо...
Иногда, увлекшись волшебной игрой в мире слов, Коля даже забывал об ужине.
Большие успехи Лобачевского-среднего в самостоятельном изучении греческого и французского дошли каким-то путем до сведения директора.
И вот он однажды, во время вечерней проверки, вызвал Колю из общего "фрунта" на середину зала. Велеречивым сладким голосом долго восхвалял его блистательные способности, призывая всех воспитанников учиться в гимназии с таким же прилежанием.
Следующий день был воскресный. Сразу же после завтрака вернулся Коля в свою комнату заниматься греческим, чтобы через час идти к учителю Корташевскому. Но только сел он за стол, как появился надзиратель и пригласил его к директору.
"Что ему нужно?" - думал Коля, задержавшись у двери кабинета.
Наконец постучался.
- Войдите! - послышался властный голос директора.
Коля вошел.
Яковкин стоял к нему спиной и смотрел в окно.
- Да кто же там? - спросил он сердито, не оглядываясь.
- Это я, Лобачевский.
- А-а! - повернулся директор и сел на диван. - Очень рад! Проходите сюда! Садитесь.
Он усадил его рядом с собой. Помолчал немного. Потом заговорил о том, что полюбил братьев Лобачевских, как своих сыновей, за их трудолюбие и настойчивое влечение к знаниям. Но директор заинтересован в том, чтобы дарование их расцвело во всем блеске. Более того. Ради таких пытливых учащихся он будет просить его величество об открытии университета в Казани.
- Вполне, вполне вероятно, мой дорогой. Не смотрите на меня столь недоверчиво. Поймите: я ведь искренне, со всею страстностью желаю вам и всем удачи, хочу помочь вам стать людьми достойными своей отчизны. Для того чтобы вас хорошо воспитывать, надо знать и ваш внутренний духовный мир. А вы, мой милый, не хотите мне помочь доверием. Это непохвально...
В беседе Илья Федорович находил такие задушевные слова и так произносил их, что Коля готов был даже упрекнуть себя: "Как же я в нем ошибался!.."
Директор тем временем тяжело встал с дивана, подошел к двери, тщательно закрыл ее и, достав из шкафа баночку варенья с ломтиками белого хлеба, вернулся к мальчику.
- Не стесняйтесь, мой друг, кушайте, - пригласил он.
- Спасибо, я не хочу.
- Нет, нет, угощайтесь, - приказал директор, намазывая хлеб вареньем.
Коля нерешительно протянул руку. Затем, взяв ломоть, откусил немного.
- Не правда ли, варенье вкусное? Макарьевское!.. - похвалился директор. - Не очень ли скучаешь по родным и близким?.. Наверное, и тут уже нашел приятелей, говорят, с Аксаковым дружишь... И часто у них бываешь?..
Кушай-кушай! Не стесняйся.
Коля не смог отказаться. К тому же варенье - малиновое, из Макарьева. "Как же так я мог ошибаться в директоре", - удивлялся он.
- Да, какое счастье для вас иметь такого замечательного учителя, как Григорий Иванович, - продолжал Яковкин. - Ведь он с вами, с тобой и Сережей, говорят, еще и дома занимается, - журчал вкрадчивый голос Яковкина. - Под его руководством и с древней историей наук знакомитесь, о нашем Ломоносове кое-что узнаете. Не так ли?
- Так, - ответил Коля.
- О Радищеве тоже? - спросил директор, заглянув ему в глаза.
Но тут, заметив этот уже не добродушный, а колючий, требовательный взгляд Яковкина, Коля насторожился.
- О Радищеве?.. Нет, ничего не слыхал... Но "Жизнь Ломоносова" читал еще в Макарьеве.
- А "Слово"?
- Какое?
- "Слово о Ломоносове", - уточнил директор.
- Не знаю. В классах такого "Слова" не было.
- Ну, это я только так спросил. Ты, Николай, мальчик умный и честный, похвалил его директор. - Верю тебе. И запомни: я твой друг. В любое время заходи ко мне, посоветоваться обо всем, что в гимназии творится. Если кто нарушил правила - воспитанник или надзиратель, все равно, даже и преподавателя не жалей, - скажи мне. Я всегда буду рад... И варенье всегда у меня в шкафу, - добавил он, улыбаясь.
Но глаза его не улыбались.
После разговора с директором Коля долго стоял в своей спальне перед окном, прижимаясь горячим лбом к холодному стеклу.
Вечером он заболел. Саша просидел у его постели всю ночь, а рано утром вызвал дежурного лекаря. Сменивший доктора Бенеса Риттер, веселый, румяный детина, больше разбирался в хороших винах, нежели в болезнях и лекарствах. Поскольку недавно в Казани вспыхнула эпидемия малярии, он каждому больному, не задумываясь, назначал огромную дозу хинной корки с глауберовой солью. Осмотрев Колю, Риттер заявил: "Понятное дело - это лихорадка" - и, назначив то же лекарство, приказал перенести больного в палату.
Закутанный ватным одеялом, наслаждаясь ощущением теплоты, разлившейся по всему телу после двух стаканов чая с медом, Коля дремал и потел во сне до самого вечера. Зато ночью стало ему хуже: сон пропал, температура повысилась. Когда пришел разбуженный Сашей Риттер и, весело потирая руки, спросил: "Ну как, молодой человек, поправляетесь?" - Коля не ответил. Он вяло шевелил губами, щурился на свет и, наконец, еле-еле приподнялся, чтобы дать лекарю пощупать свой живот.
Риттер увеличил дозу хинной корки. Но, к счастью, после него заглянул в палату надзиратель Сергей Александрович и, выслушав Сашу, затем осмотрев больного, посоветовал не травить его лекарствами.
- Это не лихорадка, - заверил он, - а простуда, и лечить ее надо не глауберовой солью...
Спустя неделю Коля поправился настолько, что лекарь наконец-то выпустил его из палаты. А вскоре в одно из воскресений он получил разрешение посетить Корташевского.
День был морозный, солнечный. После бурана, бушевавшего всю ночь, небо, затянутое тучами, прояснилось.
В городе все было заметено снегом, и вдоль заборов сияли белизной огромные сугробы. Дворники у ворот разгребали снег лопатами.
Коля шел по заснеженному тротуару, слегка пошатываясь: морозный воздух кружил ему голову. А тут еще беспокоила тревога - не успел разобраться в таблице девяти склонений греческой грамматики.
Но вот уже и дом Елагиных. Какой-то мальчик проворно кидает снег лопатой. Коля присмотрелся к нему:
Сережа!
- Ты ли это? - воскликнул он вместо приветствия.
Сережа, раскрасневшийся, веселый, махнул лопатой вверх, обсыпал себя и Колю снежной пылью.
- Видел? Отобрал у дворника. Не барское дело, говорит, мозолить руки... А ты, вижу, совсем поправился.
Пойдем-ка прогуляемся немного, - пригласил он, воткнув лопату в сугроб.
Коля пошел рядом.
- Я ведь и сам лихорадкой болел, - доложил Сережа. - Трое суток не отходил от меня Григорий Иваныч.
И, знаешь, мы с ним теперь как друзья. Даже не верится, что ему двадцать шесть а мне тринадцать. И занимается по всем предметам. Так что гимназия, пожалуй, мне теперь и не потребна. Только вот, - замялся он, сбив носком попавшую под ноги ледышку, - с математикой не ладится.
Не могу понять...
- С математикой? - удивился Коля. - Чего ж там понимать? Арифметика и даже алгебра сами в голове укладываются. Вот разве только геометрия...
- Не скажи! - возразил Сережа. - С вечера в моей голове уложится, а к утру - как ветром выдует... Но другие предметы, особенно литературу, люблю и понимаю, - договорил он весело.
Мальчики повернули с Грузинской улицы на Воскресенскую.
- Знаешь, - продолжал Сережа. - Григорий Иваныч советует больше заниматься литературой. И даже сам достает книги: Ломоносова, Державина, Дмитриева... Читаешь их и думаешь: вот бы самому написать! Я признаюсь тебе в этом как другу. Понимаешь, так хотелось бы сделаться писателем. Но это все мечта.
- Может, и сбудется, - поддержал его Коля. - Может, как любит говорить мой дедушка, это и есть твоя дорога в жизни.
- Вряд ли, - сказал Сережа. - Григорий Иваныч, знаешь, как строго судит? В этом году написал я сочинение "О красотах весны". Ибрагимову даже понравилось. А Григорий Иваныч сказал ему: "В сочинении семь чужих предложений. Вижу, нахватал из прочитанных книг. Потому судить о даровании пока воздержимся". Потом он сказал мне так: "Нужно прежде всего воспитать свой собственный вкус, читая книги писателей значительных. Только тогда выяснится, сможешь ли сказать что-нибудь свое. А пока за перо не берись..."
Коля подумал: а не скажет ли Григорий Иванович ему то же самое? За таблицу девяти склонений. Прежде надо бы разобраться в них как следует...
- Я, пожалуй, вернусь в гимназию, - сказал он.
- А как же Григорий Иваныч?
- Зайду к нему вечером.
Коля повернулся и быстро зашагал в другую сторону"
Сережа удивленно посмотрел ему вслед.
- А вечером его не будет, - крикнул он вдогонку.- - В театр собирается.
Коля не ответил.
На другое утро погода испортилась. Над городом нависли хмурые тучи. Даже снег казался не белым, а темносерым.
Шел урок Яковкина по истории, нудный, томительный. Учитель говорил о каком-то короле, который от всех других королей отличался только тем, что имел большой горбатый нос, и что все ученики обязаны были помнить об этом так же, как о делах Александра Македонского.
Воспитанники сидели тихо - ведь это был урок самого директора. После неудавшейся попытки приблизить Лобачевского-среднего Яковкин снова стал изводить его мелкими придирками. Да и с другими он обращался не лучше.
Но как ни страшен был учитель, как ни боялись ученики, что их вот-вот сейчас вызовут, все же они, скучая, потихоньку развлекались кто чем сумеет: рассеянно смотрели в окно или внимательно следили за мухой, ожившей так рано и летавшей из угла в угол по классу. Ее назойливое жужжание пока не мешало учителю говорить о короле с горбатым носом. Когда же муха, ударившись о потолок, упала на кафедру и завертелась под носом у директора, кто-то засмеялся на задней скамейке. Прихлопнув муху классным журналом, Яковкин посмотрел на всех, и взгляд его задержался на Лобачевском. Тот, ничего не замечая, готовил задание к уроку словесности. Временами движением гусиного пера он отбивал одному ему слышный ритм стихотворения и тут же записывал очередную строчку.
Яковкин, продолжая рассказывать, с безразличным видом прошелся по классу и, прежде чем кто-нибудь успел разгадать его маневр, оказался рядом с ничего не подозревающим Колей.
- Развлекаться на уроке изволите? - спросил он, схватив на столе исписанный листок бумаги. - Что это?
Ненапечатанное произведение господина Лобачевского?
Коля поднялся.
- Господин учитель...
Но торжествующий директор не стал его слушать.
- Извольте сесть на место, пока я вас не выгнал, господин пиит.
Он вернулся на кафедру и, показав исписанный листок всему классу, прочитал его вслух:
Колумб отважно вдаль стремился,
Ища желанных берегов,
Но долог путь. И становился
Слышнее ропот моряков.
А он глядит на океан,
В волненье тяжко дышит грудь,
Вопрос - исполню ль я свой план
И верно ль мой намечен путь?..
И вот сбылись его мечты.
- Земля! - воскликнул человек.
- Колумб, - кричат матросы, - ты
Прославил родину навек!
Яковкин усмехнулся:
- Не правда ли, гениальное произведение? Сохраним его для будущего...
Коля снова поднялся:
- Это мои стихи. Верните их.
- Тэк-с, тэк-с... Были твои, теперь мои, - сказал Яковкин, сунув бумажку в свой карман.
- Это нечестно! - послышался чей-то голос на задней скамейке.
- Нечестно? - удивился директор. - Это вы мне говорите? Прошу подняться того, кто сказал такое...
Неизвестно, что бы дальше произошло, если бы директора не озадачили возмущенные голоса.
- Нечестно! Верните! - кричали гимназисты.
Яковкин побледнел.
- Бунт! Опять бунт? - завизжал он, стуча кулаками по кафедре. Но тут же вдруг замолчал, посматривая на всех испуганными глазами. Должно быть, вспомнился ему Лихачев, смещенный "за неспособность предотвращения бунта", который произошел в гимназии весной. - Хорошо, - сказал он спокойнее. Лобачевский получит свою поэму в конце урока. Весь класс, - добавил он уже более строго, - за непочтение останется без обеда!
Весть о случившемся на уроке истории вскоре облетела всю гимназию. Многие воспитанники с вызовом декламировали запомнившиеся им отдельные строчки стихотворения.
После занятий Колю в спальной комнате ожидал Сережа.
- Молодец! Какой ты молодец! "Колумб отважно вдаль стремился"... Вот кому быть писателем! - восторгался он. - Теперь слушай внимательно. Сейчас вызвал меня Григорий Иваныч. Им с Ибрагимовым сегодня в театр нельзя пойти, они отдают свои билеты нам. Понимаешь? Сергей Александрович уже позволил. Он тоже идет. Я домой не пойду, Евсеич подъедет за нами к театру.
Коля обрадовался. После сегодняшних событий хотелось отдохнуть ему. Да и в театре он еще ни разу не был.
И вот они втроем, с надзирателем Сергеем Александровичем, уже на улице. К вечеру похолодало. Из труб тянулись кверху длинные столбы дыма, ветки деревьев покрылись кружевами сверкающего инея. Весело хрустел под ногами снег. В синей дымке вечера все казалось вокруг таким сказочным и легким.
На Рыбнорядекой улице людно: пешеходы, экипа-, жи, верховые - все двигались в одну сторону, к театральной площади. Засветились в домах заледеневшие окна, где-то уже вышел с дозором ночной сторож, и в морозном воздухе звонко застучала его колотушка.
Мальчики остановились у подъезда красивого деревянного здания, на углу Рыбнорядской и Грузинской улиц, первого постоянного театра Казани. Прочитали:
труппа из крепостных помещика Е. П. Есипова играла "Недоросля" Фонвизина. И сегодня была премьера.
Стараясь не отстать от Сергея Александровича, мальчики вошли в просторный вестибюль театра. Билеты у них были в партер, но времени до начала много, и Сергей Александрович позволил им подняться на галерку. Оттуда они с удивлением заглянули вниз, как в огромный колодец, по стенам которого, точно ласточкины гнезда, прилеплены ярусы.
Увидев Сергея Александровича, махнувшего им рукой, они спустились в партер. Публика прибывала.
Мимо них пробежал рыжий мальчик-лакей, размахивая серебряным колокольчиком - последний звонок.
- Сейчас начнут.
Коля с удивлением рассматривал театр и публику.
Большая люстра висела над серединой зала и многочисленные бра, по три свечи, торчали на перегородках между ложами. Но служители с гасильниками уже начали тушить боковые свечи. Зрительный зал погружался в полумрак, освещенной оставалась только сцена да кое-где над входными дверьми тускло мерцали крохотные свечи.
Наконец, будто потревоженный ветром, заколыхался и плавно поднялся кверху занавес.
Коля застыл на месте. Все то, что увидел он, превзошло его скромные ожидания. Игра нарядных актеров покоряла, заставляя забыть окружающее. Все выглядело как в жизни, естественно и правдиво. Митрофанушка так ничему и не выучился. Простакова смешила зрителей своим торопливым говором. А Скотинин этот...
Ну и подошла ему фамилия. По Сеньке шапка!
Вернувшись поздно из театра, Коля заснул не сразу. Но впечатления от спектакля не покидали его и во сне. Скотинин выступал с Яковкиным, а Митрофанушка превращался в гимназиста Овчинникова. Сон и явь к утру перепутались настолько, что мальчик, одеваясь после звонка, не сразу в них мог разобраться.
Однако воспоминания о вчерашнем посещении театра вскоре потускнели, во время завтрака в гимназии от стола к столу передавали немаловажную весть, о которой заговорили все воспитанники. Дежурный офицер Матвей Никитич, отец Дмитрия Перевощикова, подтвердил, что из Петербурга получено срочное донесение: в Казани учреждается университет. В то время в России было всего три университета: в Москве, Дерпте и Вильно. Казанский будет четвертым.
Гимназия гудела как растревоженный улей. Все поздравляли друг друга, клялись, поступая в университет, не жалеть своих сил, дабы "приумножить славу отечества".
Коля завидовал будущим студентам: его только через год могут принять, а вот их, воспитанников высших классов, уже сейчас готовят. Саша и Сережа попадут, конечно, в числе первых.
В этот день с двух часов до половины четвертого по расписанию следовало быть уроку высшей арифметики. Старший учитель Ибрагимов появился в классе, как всегда, без опоздания, по звонку. Он быстро взошел на кафедру и, веселым взглядом окинув стоявших перед ним навытяжку гимназистов, спросил их дрожащим от волнения голосом:
- Будем ли мы в такой радостный день заниматься разбором домашних заданий?
- Отложим, - предложил один воспитанник,
- Успеем, - поддержал другой.
Ибрагимов кивнул им.
- Так пусть же урок наш сегодня песней прозвенит, - сказал он и торжественно продекламировал:
Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!
О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа, ты все о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
И дым отечества нам сладок и приятен.
Так писал Державин, богатырь поэзии, в стихотворении "Арфа", стройном и благозвучном, в каждом слове своем поистине музыкальном. Словесность и музыка - две родные сестры, - с увлечением продолжал учитель. - Вы, господа, наверное, помните песню Державина:
О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Слышите, какой нежный стих? Музыка перлов!
Мальчики слушали его не шевелясь, по-прежнему стоя навытяжку.
- Садитесь же, господа, садитесь...
Ибрагимов тоже сел.
- Я, кажется, так увлекся, что и не заметил. Покорно прошу снисхождения. Пиитические восторги мои порою сильнее меня самого. Ведь с этими стихами Державина соединено в моем понятии все, что составляет достоинство человека: честь, правда, любовь к добру и к природе, справедливость, преданность отечеству, труд бескорыстный, вера в неисчерпаемые силы российского народа и его светлое будущее, уважение ко всему, что дорого для человечества...
Черные глаза Ибрагимова сияли, весь он точно светился, переполненный радостью. Как любил его Коля в такие минуты!
Арифметика была забыта, урок превратился в задушевную беседу о смысле жизни, о главных обязанностях человека.
- Перед вами открыты все дороги, - продолжал Ибрагимов. - Но дороги бывают разные. И вы обязаны выбрать из них только те, которые указуют вам честь и разум. И люди на вашем пути повстречаются разные.
Умейте отличать среди них достойных от недостойных.
И не позволяйте себе, уверившись в собственных достоинствах, отнестись к ним свысока, почитая себя вправе следовать в жизни лишь собственными путями, презирая всех с вами не согласных...
Когда немного стемнело и стало как будто уютнее в комнате, рассказ учителя незаметно перешел в оживленную беседу. О чем только не переговорили на этом уроке высшей арифметики: о Москве и Петербурге, в которых учителю довелось пожить, о Ломоносове, о Петре Великом. Вспомнили, как им трудно было начало учения, и решили, что все они теперь, старшие, должны бы на первых порах помочь младшим. Для этого Лобачевскому и другим способным ученикам надлежало посвятить несколько часов для занятий с воспитанниками подготовительных классов.
Ибрагимов был взволнован.
- Молодцы! Принимайтесь же за дело, довольно баклуши бить. Вам самим полезно повторить начала. Подика, половину перезабыли, не умеете два на два помножить. Я за вас буду хлопотать перед нашим директором:
он, вероятно, позволит привести в исполнение ваш план.
Ведь скоро приватные экзамены... А вот и звонок, господа. Спасибо вам за этот урок арифметики. До свиданья! - слегка поклонился он и вышел из класса.
Через день позволение директора было получено.
Ибрагимову удалось уверить Яковкина, что ученики средних классов, зная любовь директора к воспитанникам, хотят помочь ему, учителям и надзирателям в их заботах о младших. Утешив таким образом директорское самолюбие, он сумел начать работу, не дожидаясь решения гимназического совета.
Коля и его товарищи сами объявили в подготовительных классах о своем намерении. Сначала желающих готовить уроки под их руководством нашлось немного, но с каждым днем однокашники этих немногих видели, что те знают уроки лучше и получают меньше щелчков и нулей, и вскоре число подопечных выросло. С наступлением приватных экзаменов пришлось дополнительно заниматься по вечерам с двумя подготовительными классами уже в полном составе.
Общее увлечение захватило и самих учителей. Они пожелали заниматься вне уроков со всеми старшеклассниками, готовя их к университету. Корташевский начал читать курс прикладной математики для самых одаренных учеников.
Коля никогда еще не чувствовал себя так хорошо: читал он много серьезных руководств, расширяющих рамки обязательных знаний, усердно изучал греческий и французский, проводил вечера вместе с младшими учениками да еще успевал и длинные письма писать в Макарьев - матери и дедушке.
* * *
В морозное утро 29 января 1805 года по заснеженным улицам Санкт-Петербурга мчалась карета, запряженная девятью лошадьми. Вот она выехала из города на московскую дорогу, темноватой лентой уходившую в ослепительно белую даль...
Семидесятилетний путник, сидевший в этой карете, кутался в лисий тулуп, спасаясь от холода. Половину своей жизни, более сорока лет, он, вице-президент Петербургской Академии наук, никуда не выезжал, отдавая науке все время. Теперь же вот ехал в Казань, отделенную двухнедельною дорогою от Петербурга. В бумагах, которые вез он в портфеле, говорилось, что "господин - действительный статский советник Степан Яковлевич Румовский, попечитель Казанского учебного округа, выезжает из столицы по высочайшему повелению для обозрения некоторых училищ в Казанском округе". Действительной же целью поездки сего "таинственного визитера"
являлось открытие в Казани университета, учрежденного еще 5 ноября 1804 года.
Ехал он с поручением основать университет, зажечь первый очаг культуры на востоке России. Думая об этом, Румовский забывал тяготы утомительного путешествия.
Перед его взором одна за другой возникали картины давно минувшего прошлого, вырисовывался тернистый путь, который прошла молодая русская наука, прежде чем сумела завоевать признание. И чем больше размышлял об этом, тем скорее хотелось ему добраться до Казани. Карета летела стремительно, лишь по вечерам останавливаясь на короткие для его возраста ночлеги.
Восемьдесят лет прошло с тех пор, как Петр Первый основал в России Академию наук. Своих ученых тогда было немного. Для организации образования и научной работы пришлось приглашать иностранцев. Наряду с передовыми учеными, какими были тогда Вернули, Эйлер и Рихман, честно отдававшими науке свои знания, в Россию в поисках легкой наживы приехало немало всяких авантюристов, прикрывавшихся профессорским званием.
Один из немногих академиков, Михаил Васильевич Ломоносов настаивал на выдвижении молодых русских ученых, встречая сопротивление со стороны Шумахера, Тауберта и других иностранцев, стоявших во главе академии.
- Русские не способны к науке, - надменно заявляли они. - Хватит с них одного Ломоносова.
Но Ломоносов в борьбе, с ними был непреклонен.
"Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться", - писал он.
Именно таким, энергичным и неутомимым, запомнился Румовскому Ломоносов в апрельский день 1748 года, когда "первый русский ученый" производил в СанктПетербургской семинарии отбор воспитанников для определения их в академическую гимназию. Среди выбранных им шести учеников был и Румовский. Склонность его к математическим наукам проявилась еще в гимназии, где он учился у Рихмана. Степан Яковлевич с болью вспомнил, как в те годы они втроем - он, Рихман и Ломоносов - изучали природу атмосферного электричества, как однажды, в конце июля 1753 года, во время одного из опытов погиб от удара молнии любимый учитель Рихман.
Трагическое событие надолго вывело его из душевного равновесия, - лишь через четыре года смог он вернуться в Петербург и начать педагогическую деятельность.
Затем последовала напряженная работа над учебником "Сокращения математики". С тех пор жизнь его, Румовского, была тесно связана с Петербургской академией.
По дороге в Казань вспомнился ему и 1761 год, знаменитый прохождением Венеры перед диском Солнца.
Для наблюдения этого редкого явления русская академия снарядила в то время две экспедиции в Сибирь. Во главе одной из них поставлен был Румовский. Ехал он тогда с экспедицией по той же дороге, которая лежала перед ним и теперь, сорок лет спустя.
После сибирской поездки Румовский написал "Наблюдения прохождения Венеры в Солнце", получившие всеобщее признание.
Дальнейшие годы в жизни Румовского были годами непрерывного труда. Он принимал активное участие в составлении первого научного "Словаря русского языка", преподавал астрономию морским офицерам, в 1800 году был выбран вице-президентом Академии, а три года спустя назначен первым попечителем Казанского учебного округа. Задача, возложенная теперь на попечителя, осложнялась еще и тем, что минуло ему семьдесят лет за неделю до подписания нового университетского устава.
Размышления о будущем университета не оставляли Румовского на протяжении всей дороги.
Вспомнилось ему, с какой страстностью боролся Ломоносов за утверждение им основанного Московского университета. Для создания нового, Казанского университета потребуется не меньше сил. Ведь и сейчас, через полвека после основания Московского университета, не перевелись в России внутренние и внешние враги отечественной науки, с которыми придется выдержать ожесточенную борьбу. И сейчас еще встречаются люди, продолжающие утверждать, что в создании "высших храмов наук более убытка для казны, нежели выгод для отечества".
Кроме того, у Казанского университета появятся новые трудности, связанные с местными условиями. Некоторые из них Румовский как попечитель округа уже предвидел. В 1804 году в Казанской гимназии было всего лишь 173 воспитанника, из которых многие, разумеется, пойдут не в университет, а на гражданскую или военную службу. Откуда же набирать ему студентов?
Румовский сознавал, что причина этого крайне горестного явления заключалась в сословном разделении, на основе которого строилось образование в России. "Учреждение университета должно исключительно клониться к просвещению юношей дворянского сословия, занимающего важнейшие должности в государстве", - писали в 1803 году представители так называемого Казанского образованного общества в официальном обращении в Главное управление училищ. Выходило, таким образом, что новый университет будет учебным заведением преимущественно дворянским, то есть дети разночинцев и простого народа будут лишены возможности получить высшее образование. А менаду тем сами дворяне предпочитали отдавать своих детей на военную службу, а не в высшее учебное заведение, так как военная карьера привлекала их гораздо больше, чем наука. Это не было новостью для попечителя. Он помнил, что полвека назад, при создании Московского университета, пришлось и Ломоносову столкнуться с такими же сословными притязаниями дворян, пытавшихся закрыть дорогу в науку людям из парода.
"Найдется ли в Казани человек неутомимой воли и светлого ума, который достойно продолжил бы дело Ломоносова", - думал попечитель. Ведь ему самому, Румовскому, эта задача уже не под силу. Но такой человек должен найтись. Иначе новый очаг высшего образования, пе успев загореться, потухнет...
С такими тяжелыми думами Румовский одиннадцатого февраля прибыл в Казань.
...Через три дня в актовом зале гимназии было созвано первое заседание расширенного совета Казанского учебного округа.
Задолго до назначенного часа в нетерпеливом ожидании собрались учителя и цвет русского и татарского дворянства с губернатором Мансуровым во главе. Говорили все вполголоса, то и дело поглядывая на входную дверь.
Наконец тяжелые дубовые двери, дрогнув, распахнулись и в зал вошел одетый в старомодный камзол с потускневшим золотым шитьем невысокий полный старец - Румовский. За ним следовал правитель его канцелярии Соколов; отступив на полшага в сторону, сопровождал их Яковкин.
Все поднялись. Румовский неторопливо подошел к столу, с приветливой улыбкой ответил на почтительные поклоны, затем, протянув руку, принял от Соколова большую кожаную папку. Из нее на шелковом шнуре свешивалась тяжелая сургучная печать.
Яковкин, обежав академика, сам подвинул ему кресло.
Румовский слегка наклонил голову и, не садясь, раскрыл папку. Старческим, дрожащим голосом начал он читать утвердительную грамоту нового Казанского университета:
- "Блаженной памяти Августейшая Прабабка Наша Государыня Императрица Елизавета Петровна, шествуя по стезям великого Преобразителя России, между прочими славными подвигами благоволила основать в Казани 1758 года Гимназию и даровать ей некоторые права, незадолго пред тем Московскому Университету пожалованные. Предположив, сообразно степени просвещения настоящих времен, в сем самом месте учредить Университет, дабы существование сего благотворного заведения сделать навсегда неприкосновенным и даровать ему возможность к достижению важного назначения образования полезных граждан на службу отечества и распространения в нем нужных познаний, Мы соизволили Императорским Нашим словом за Нас и за преемников Наших постановить следующее..."
Здесь Румовский остановился, передохнул. Далее в грамоте излагались отдельные пункты, определяющие структуру и права Казанского университета, который пока существовал только на бумаге и числился, как это ни странно, "при гимназии". Путь его будет не легким: ни собственного помещения, ни денег на строительство, ни профессоров, ни даже студентов... Но университет родился, и это было самое главное.
Дочитав утвердительную грамоту, Румовский торжественно вручил ее собранию. Затем он объявил распоряжение министра народного просвещения графа Завадовского от 23 января 1805 года. Директор гимназии Яковкин утверждался в звании профессора истории, географии и статистики Российской империи, а Корташевский, Запольский и еще несколько старших учителей - в звании адъюнктов.
Но среди них, к недоумению присутствующих, в списке не было Ибрагимова.
После того как приказ был зачитан, последовала церемония присяги вновь назначенных преподавателей молодого университета. Голоса приносивших присягу заметно вздрагивали, заученные казенные слова одухотворялись величием торжественной минуты: история государства Российского делала новый шаг на пути к просвещению.
Но вот заседание окончено. Румовский пожелал посмотреть, как живут и учатся питомцы. В сопровождении всех сотрудников нового университета он обошел классы, кухню, столовую и спустился в спальные камеры. Повсюду был строгий, образцовый порядок, непривычно нарядно и чисто. На двери зеленые портьеры, на окнах - накрахмаленные занавески, на подоконниках цветы, собранные у всех учителей и служащих. В это время дня воспитанники гуляли во дворе и камеры были пустыми. Но в одной из них за столом, заваленным книгами, сидел гимназист. Опираясь подбородком на руку, он так увлекся чтением, что не услышал ни скрипа двери, ни шороха шагов.
Румовский оглянулся на сопровождавших, сделав им знак рукой остановиться. Потом осторожно подошел к гимназисту и через его плечо посмотрел на книги. Слева, рядом с романом Сервантеса и греческим словарем, лежали его "Сокращения", справа "Начала" Евклида на греческом языке и раскрытая тетрадь. Гимназист, поглощенный своей работой, продолжал писать: он переводил Евклида с греческого языка на русский. Увидев свою книгу, Румовский растрогался. Дрожащей рукой он достал из кармана платок...
Яковкин рванулся было вперед, но Корташевский, опередив его, подошел к столу.
- Господин Лобачевский!
Коля поднял голову.
- Извините, Григорий Иванович, я не слышал...
Но, заметив толпу в дверях и незнакомого старика возле себя, растерянно вскочил.
- Ваше высокопревосходительство, - сказал Корташевский, - разрешите вам представить: воспитанник средних классов Николай Лобачевский. Он имеет некоторые способности в науках математических. Его волнует вопрос, почему начала геометрии темны, как вы тоже, ваше высокопревосходительство, уместно изволили отметить в этой вот своей книге "Сокращения математики".
- Да, - сказал Румовский, - от ясности первых понятий зависит успех учения. А порядок и строгость в геометрической книге столь же нужны, как забавные случаи в романе... Вы, молодой человек, - продолжал он, рассматривая смущенного мальчика, - изучаете "Начала" по первоисточнику. Весьма похвально. Поелику немногие из обучающихся этой науке стараются проникать в ее глубину.
Что вы скажете, ясно ли были истолкованы геометрические мысли Евклида на русском языке?
От неожиданной встречи с попечителем, самим Румовским, Коля совсем растерялся. Чтобы дать ему возможность опомниться, Корташевский заметил:
- Но вы сами, ваше высокопревосходительство, указали в этой книге, что темнота в началах геометрии происходит не из-за неточности перевода.
- Вот как? - усмехнулся Румовский. - Значит, вы, молодые люди, собираетесь винить всех математиков, живших после Евклида, в том, что не думали они об изобретении другого пути к познанию математических истин?..
А знаете ли вы Евклидов ответ по этому поводу? - спросил он, повысив голос, не то всерьез, не то в шутку, и снова поглядел на Колю, явно желая, чтобы тот сам ответил.
. - Да, ваше высокопревосходительство, я узнал об этом из вашей книги. Евклид якобы сказал, что и для государей нет легкого пути в познании.
- Так, так, вижу, вы книгу читали, - похвалил Румовский. - И кажется, не без пользы. Вопрос этот уже две тысячи лет волновал всех математиков. И меня в том числе. Неоднократно предпринимал я попытку восходить к настоящему источнику математических истин, однако не имел успеха. Вы, молодой человек, я вижу это по вашим глазам, горите желанием разрешить благороднейшую задачу и найти другой путь к познанию математики. Желаю вам успеха!
Попечитель, дружески похлопав Колю по руке, направился к выходу. За дверью он движением головы подозвал к себе Яковкина.
- Вы, господин директор, хорошо знаете сего воспитанника? - спросил он.
- Как не знать, ваше высокопревосходительство, - заторопился директор. - Лобачевский был вначале самым непослушным...
- Я не об этом, - прервал его Румовский и, вынув из внутреннего кармана камзола книжечку, цветным карандашом записал: "Гимназист Николай Лобачевский имеет все признаки стать большим математиком". Показав эту запись Яковкину, добавил: - За его судьбу мы все в ответе перед нашим отечеством... Уразумели?..
После обеда в гимназической столовой Румовский перешел в гостиную отдохнуть. Однако тихий час не состоялся. Он увидел на столе записку, написанную им вчера, но еще не отосланную. Это был доклад министру народного просвещения графу Завадовскому. Румовский вспомнил, что, прежде чем отправить записку, надо ему осмотреть все главные улицы Казани, чтобы окончательно установить место, которое можно приобрести под университет. Вопрос о помещении в данный момент являлся главным, требующим неотложного разрешения.
Румовский позвал комнатного служителя, приказал ему вызвать Яковкина и подать карету. Важное поручение гра-"
фа Завадовского не давало ему покоя: "обозреть на месте, каким бы образом возможно было здание так расположить, дабы в оном все отделения помещались". Тогда ни министр, ни Румовский не имели представления о будущем здании Казанского университета. И сейчас надлежало впервые знакомиться в городе с местными условиями.
Румовский сел в карету рядом с Яковкиным, кучер лихо тряхнул вожжами, гикнул - и кони тронулись. Проехали по Воскресенской в сторону кремля, спустились на Черноозерскую, оттуда через Лядскую и Арскую повернули к Грузинской. Иногда перед каким-нибудь видным зданием Румовский приказывал остановиться. Он вылезал из кареты на мостовую, долго и внимательно разглядывал выбранный дом, но почти всегда, к сожалению, оставался недовольным. Уже к вечеру карета, проехав Рыбнорядскую улицу, по крутому склону поднималась на Воскресенскую, Вверху вырисовывалось огромное белое здание гимназии, увенчанное большим куполом, придававшим зданию вид храма науки.
"Да, пожалуй, оно сейчас наилучшее в городе и, будучи выстроено там, на возвышенности, господствует над всей окрестностью!" - решил Румовский. Однако этот построенный пять лет назад и переданный гимназии бывший губернаторский дом для университета был, конечно, маловат.
Попечитель решил вызвать губернского архитектора, чтобы с ним осмотреть соседние дома и сады, смежные с гимназическим двором.
Ближе всего к гимназии стоял так называемый Тенишевский дом, в котором жил губернатор Казани Мансуров, После осмотра попечителю дом этот понравился даже больше, чем здание гимназии: в нижнем и верхнем этажах имелись коридоры, из которых открывались двери в отдельные комнаты, тогда как в гимназическом доме все комнаты были проходные. Понравился губернаторский дом и своим довольно большим и хорошо ухоженным фруктовым садом, который был заложен еще прежним хозяином дома князем Тенишевым. К губернаторскому особняку примыкал также каменный двухэтажный дом с балконом, принадлежавший коменданту города генерал-майору Кастеллию. Наконец, рядом находился дом инженера - подпоручика Спижарного. Таким образом, все четыре особняка составляли обширный квартал, шедший по косогору до центральной Проломной улицы.
Румовский поручил архитектору сделать план этого квартала, сам же решил ходатайствовать перед Главным правлением училищ о пожаловании университету смежного с гимназией губернаторского дома и двух соседних.
Мысль о постройке нового здания для университета никому не приходила в голову, да едва ли можно было рассчитывать и на средства для такого строительства.
Таковы были замыслы попечителя. Однако, прежде чем приступить к перестройке намеченных домов и к организации единого университетского квартала, необходимо было еще получить "высочайшее указание" о финансировании проектируемых работ и найти помещение для гимназии [Практическое решение всех этих вопросов затянется на долгое время. Еще много лет, пока Николай Лобачевский не станет членом, а потом и председателем строительного комитета, университет будет ютиться в отдельных, неприспособленных комнатах Казанской гимназии.].
"Тесновато, конечно, будет двум учебным заведениям под общей крышей, рассуждал тем временем Румовский, - но раз дело начато, придется его продолжить. Гимназия даст первых университетских преподавателей и предоставит на первое время свое помещение" - так успокаивал он себя, когда, вернувшись в гостиную, ложился отдыхать после утомительных осмотров.
На другой же день по указанию Румовского в гимназии начались большие хлопоты. Надо было "назначить" или перевести в студенты лучших учеников из высших классов, получить на это согласие их родителей, выделить студентам особые спальные и классные комнаты, устроить им стол в другом зале и, главное, начать курс новых университетских лекций. Организационная горячка продолжалась целую неделю.
И вот наконец долгожданный день, 22 февраля, - день провозглашения имен воспитанников, назначенных студентами. Торжество состоялось в большом зале. С левой стороны были поставлены во "фрунт" по ранжиру все гимназисты в новых - специально сшитых к приезду попечителя - форменных мундирах и суконных галстуках. На правую сторону должны были переходить новоиспеченные слушатели университета после провозглашения их имен.
За большим столом, накрытым яркой малиновой скатертью, восседали профессор и адъюнкты университета.
Кресло председателя занимал Румовский. На столе перед ним лежал список счастливцев, которые через несколько минут станут первыми студентами. Воспитанники стояли смирно: в строю ни шепота, ни движения. Казались живыми у всех только горящие глаза, глядевшие на руки председателя.
И вот они, руки попечителя, шевельнулись, взяли список...
- Аксаков Сергей, - произнес негромкий старческий голос.
Ряды гимназистов слегка дрогнули, но Сережа стоит на месте, не в силах сдвинуться.
- Иди, иди! Чего там! - слышит он шепот соседей.
Сережа выходит. Поклонившись попечителю и преподавателям университета, он чеканным шагом переходит на правую сторону зала. Маленькая фигурка тринадцатилетнего студента казалась такой одинокой у длинной пустой стены. Старик Румовский привстал и захлопал в ладоши, затем, прослезившись, потянулся в карман за платком.
После Сережи Аксакова на правую сторону перешел Петр Балясников, отсидевший неделю в карцере за "опасное неповиновение начальству". За ним вышли: Еварист Грубер, будущий попечитель Казанского учебного округа, Александр Княжевич, будущий министр финансов, Александр Лобачевский, братья Панаевы, будущие известные писатели, братья Перевощиковы, будущие академики, - всего 38 человек. Но сейчас они все были равны - все юноши, взволнованные и восторженные.
Список прочитан. Румовский берет в руки университетский устав и обращается к первым студентам с краткой речью.
- Господа, - говорит он, - этот высочайший устав открывается такой статьей: "Казанский университет есть высшее учебное сословие, для преподавания наук учрежденное; в нем приготовляется юношество для вступления в различные звания государственной службы"... Однако не одно преподавание наук возлагается на это учреждение.
Вменяется ему распространение знаний вообще и, прежде всего, путем основания при нем ученых и литературных обществ. Параграф девятый устава гласит: "К особливому достоинству университета относится составление в недре оного ученых обществ, как упражняющихся в словесности российской и древней, так и занимающихся распространением наук опытных и точных, основанных на достоверных началах..."
Здесь Румовский остановился и, глянув уже в сторону гимназистов, еще раз прочитал параграф девятый, подчеркнув слова: "основанных на достоверных началах".
Коля, воспитанник средних классов, стоял во втором ряду и был уверен, что Румовский обращается к нему. Но попечитель вряд ли его видел за рослыми гимназистами первого ряда.
Вскоре официальная часть закончилась. Члены совета, покинув стол президиума, перешли в передний ряд кресел.
Переведенные в студенты Петр Кондырев, Александр Панаев и Василий Перевощиков читали свои стихи, посвященные торжеству открытия университета; Павел Попов преподнес попечителю "некоторые опыты своего искусства" - резьбу по дереву. Старик Румовский был растроган таким подарком.
Через два дня в комнатах здания, выделенных университету, были прочитаны первые лекции для студентов.
Изучали вначале математику, литературу, древние языки, ботанику. Отстающие дополнительно посещали уроки высших классов гимназии.
Румовский, довольный тем, что начало положено и первые лекции прочитаны, отправился в длинный обратный путь из Казани в Петербург. Доверчивый старик так и не рассмотрел, в чьи руки передал судьбу молодого университета: Яковкин сумел ему понравиться и получить еще одно назначение - стал инспектором студентов.
После отъезда Румовского Яковкин почувствовал себя в двух учебных заведениях полным хозяином: все адъюнкты состояли в совете гимназии, где он был председателем.
Сам же, занимая две должности, фактически стал ректором университета и навел в нем свои порядки. Чем больше похоже на казарму - тем проще. По его распоряжению сразу же завели "Книгу о поведении студентов". Первым попал в нее Петр Балясников, якобы замеченный в "умышленном своевольстве и ослушании начальства". Система слежки еще больше усовершенствовалась. Яковкин сам теперь назначал старших в спальных камерах - "как глаз и ухо начальства", требовал от них надзирать за поведением студентов и конечно же докладывать ему немедленно.
* * *
В маленьком домике в Макарьеве долго светилось окно спальни Лобачевской. На столе чернильница, гусиное перо, чистый лист бумаги. Сидя у стола, Прасковья Александровна в пятый раз перечитывает письмо за подписью инспектора Яковкина, с университетской печатью. В письме сказано, если желает она, чтобы ее дети окончили ученье на казенный счет, надо ей дать обязательство: после университета каждому из них отработать шесть лет в должности учителя.
"Обязательство... - размышляет Прасковья Александровна. - Что же может быть лучше такой службы? Нести людям свет просвещения - всегда благородно".
Ее лицо светлеет, и, обмакнув перо в чернильнице, она склоняется над листом.
Письмо важное, бумага дорогая. На такой запрос ответить надо бы достойным образом. Прасковья Александровна раздумывает, с чего начать. Раньше она писала только письма к сыновьям. Но там пишется легко, ибо сердце подсказывает. Здесь же каждое слово должно быть к месту.
И медлить нельзя: ведь Саша, старший, уже "назначен" в студенты. Не опоздать бы.
Прасковья Александровна старательно выводит свежеочиненным пером все необходимые слова. Затем, внимательно перечитав листок, она складывает его, достает кусочек сургуча... Горячие красные капли падают на бумагу.
Самая большая капля в середине прижата резным золотым перстнем, подаренным Сергеем Степановичем. Посмотрев на потеплевший от сургуча подарок, вздыхает и заботливо прячет его в заветную шкатулку.
Письмо рано утром отправлено. Когда еще дойдет оно до Казани!
А братья Лобачевские ждут его с нетерпением. Что, если за это Сашу исключат из университета и вернут в гимназию? Они даже не решаются говорить об этом вслух.
- А вдруг оно пришло, - начинает кто-нибудь из них и тут же срывается бежит в контору. Там коллежский регистратор Курбатов занят работой: суровой ниткой подшивает "входящие" бумаги. Завидев мальчика, ворчит недовольно:
- Только мне и заботы - ваши письма помнить. Вон сколько их приходит.
На этот раз ,он встретил Колю выговором:
- Опять за письмом? Работать мешаешь. Бери вон дело, сам листай, может, письмо уже и подшить успел.
"Дело" - толстая папка. Сколько в ней бумаг - и больших и маленьких! Братья, уже все трое, старательно пересматривают их одну за другой. Вот письмо престарелой матери Ляпунова. Счастливый, она соглашается, значит, он - уже студент.
- Смотри, - шепчет Коля. - "За неумением которой писать и по ее приказанию подписуюсь, ее сын Яков Ляпунов". Наша мама все письма сама пишет...
- А это вот, гляди, - показывает Алеша. - Княгиня Чхеидзе, мать Алексея. Тоже "за неумением и по ее прошению руку приложил..."
- Пускай, - вздыхает Саша, - пускай "за неумением", да вот письмо пришло бы... Не то рассердится Яковкин и вычеркнет.
- Ну, хватит вам читать чужие письма, - ворчит коллежский регистратор. - Приходите завтра.
И наконец оно пришло.
- Вот вам, читайте! - весело встретил их на другой день Курбатов. Матушка согласна.
Саша развернул письмо и прочитал его вслух:
- "Милостивый государь! Илья Федорович!
Два письма из совета кимназии от имени Вашего имела честь получить. Извините меня, что я по причине болезни долго не отвечала. Вы изволите писать, чтоб я уведомила Вас о своем намерении, желаю ли я, чтобы дети мои остались казенными на том условии, что, окончив ученический и студенческий курсы, быть шесть лет учителями. Я охотно соглашаюсь на оное и желаю детям как можно больше прилагать свои старания за величайшую Государя милость, особливо для нас, бедных.
Остаться честь имею с должным моим к Вам почтением.
Милостивый государь!
Покорная Ваша слуга Прасковья Лобачевская.
19-го марта 1805 года".
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
В приоткрытую дверь геометрички просунулась белокурая голова Панкратова.
- Колю не видели? - спросил он.
В классе было семеро мальчиков с именем Николай:
Афанасьев, Балясников, Зыков, Корсаков, Княжевич, Упадышевский и Лобачевский. Поэтому каждого из них называли каким-нибудь прозвищем. Одного лишь Упадышевского величали Николаем-вторым, так как старший брат его, Николай-первый, уже был переведен в студенты.
- Где же Коля? - снова спросил Панкратов.
Но ему и на этот раз не ответили: все были заняты. Оставалось до первого звонка немного времени, а сегодня Ибрагимов собирался рассказывать о новых свойствах треугольников, и каждому во что бы то ни стало надо было повторить пройденное. Самые исполнительные ученики уже разложили на столах всевозможные треугольники, вырезанные из картона и цветной бумаги, даже из аккуратно выструганных деревянных дощечек, скрепленных у вершин маленькими гвоздиками. Некоторые тут же наспех резали бумагу, поглядывая на треугольники соседей. Были также и такие, которые, зажав уши руками, торопливо бормотали, стараясь кое-как заучить хотя бы одну теорему.
Тогда Панкратов, потеряв терпение, ворвался в комнату и встряхнул за плечи одного зубрилу.
- Оглохли, что ли? Коля где, я спрашиваю?
- Какой?
- Математик.
- А ну тебя... Не знаю! - ответил ученик и вновь затараторил: - Наложим треугольник ABC на треугольник...
Панкратов сердито махнул рукой и вышел из класса, хлопнув дверью.
"Математик" - это прозвище Лобачевского. Появилось оно сразу же после разговора его с Румовским и втайне доставляло мальчику немалое удовольствие. В знаниях математики он опередил своих товарищей: перечитал в гимназической библиотеке многие серьезные работы на русском, французском и латинском языках [Многие из этих книг по своей проблематике далеко выходили за рамки гимназической программы. Среди них были: "Курс математики" Безу, "Начала геометрии" Лежандра, "Первые основания математических наук" Котельникова и "Краткое руководство к теоретической геометрии" Крафта.], даже тайком досещал университетские лекции Корташевского.
В новом 1805/6 учебном году Григорий Иванович прекратил занятия с гимназистами, потому что начал читать лекции студентам. Гимназисты немало удивились, когда вместо него был назначен преподавать им геометрию Ибрагимов. Они любили его как превосходного учителя трех классов латинского, славяно-российского и арифметического. Но разве может он быть еще и геометром?
- Для нас это вопрос не шуточный, - озабоченно говорил Таврило Панкратов. - Скоро экзамен, сможем ли выдержать их?
- Да, за Корташевским были мы как за каменной стеной, - отозвался Павел Петров, один из лучших учеников гимназии. - Тот, бывало, все растолкует... Как полагаешь, Математик? Не завалимся?
Коля, пожав плечами, ответил:
- Полагаю так: если что непонятным покажется, то сам по книгам разберешься. Библиотека у нас богатая.
- Тебе-то хорошо, на любом языке прочитаешь, - отозвался чей-то голос...
Это было вчера. Теперь же, когда ученики сидели в классе, ожидая Ибрагимова, Коля раскачивался во дворе на высокой трапеции.
- Вот он где! - воскликнул Панкратов. - А я тебя ищу по всей гимназии.
Рядом стояли студенты.
- Не мешай, - попросил один из них. - Они с Овчинниковым спорят, кто с размаху на подколенки съедет. Проспорившему - сто щелчков.
- Не видишь? - усмехнулся другой. - Овчинников уже лоб готовит.
В это время Коля на взлете быстро скользнул назад - и вот уже перекладина под его коленками. Повиснув таким образом вниз головой, он раскачался посильнее и ловко соскочил на землю.
- Начинай! - потребовал один студент.
Коля, махнув рукой, сказал Овчинникову:
- Ладно, Митя, не буду. Но в другой раз не спорь.
А сейчас - на урок...
С последним звонком они вбежали в класс и торопливо заняли свои места.
Вошел Ибрагимов. Держал он в руках модель многоугольника и большой циркуль. Не сделав обычной проверки - все ли присутствуют, - неожиданно сказал:
- Ну-ка, давайте к доске. Вы, оба!
Все посмотрели в ту сторону, куда показал учитель.
Там, на второй парте справа, Коля что-то горячо разъяснял Панкратову, показывая разноцветные соломинки. Оба так были увлечены, что не расслышали учителя.
Почувствовав толчок в спину, Коля вскочил. За ним поднялся и Панкратов.
- Меня? - спросили они в один голос.
- Да, да, вас обоих, - повторил Ибрагимов. - Посмотрим, как вы усвоили третий признак равенства треугольников.
Гимназисты удивились: как же двое будут говорить одно и то же?
Мальчики подошли к доске и стали в разных концах.
Коля взял мел и, разломав его на два кусочка, протянул один Панкратову.
- Господин учитель, - спросил он, - что же мы одну теорему вдвоем будем доказывать? Я ведь смогу и сам, без помощи...
Ибрагимов нахмурился.
- Вам помогать никто не собирается. Расчертите мелом -доску пополам и запишите условие...
Мальчики записали.
- Так, - одобрил учитель. - Так, а теперь вы попробуйте каждый по-своему доказать ее, только чтобы в построении, а также в доказательстве теоремы всякий шаг ваш был обоснован.
Ученики еще больше удивились. Никогда еще такого не слышали, чтобы можно было доказать одну и ту же теорему по-разному.
Панкратов подумал-подумал и, вздохнув, бойко застучал мелом: на доске появились треугольники точно по учебнику и буквы те же самые.
Коля стоял, отвернувшись от написанного на доске, и продолжал вертеть в руках захваченные соломинки.
- Что же вы не приступаете, Лобачевский? - спросил его Ибрагимов. Доказательства не знаете?
- Знаю, - ответил Коля.
- Почему же не приступили к чертежу?
- А мне чертеж и ни к чему. Я так могу доказать вам, что если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого, то такие треугольники равны. Без чертежа. И даже без лишних слов.
По классу прошелестел шепот и затих, несколько мальчиков, того не замечая, даже привстали на скамейках. Черные глаза Ибрагимова блеснули.
- Доказывайте, - коротко сказал он.
Коля сжал губы, словно подтверждая этим, что не проронит ни слова. Щеки его вспыхнули. Он согнул три красные соломинки, пополам каждую, и, вставив их концами одна в другую, образовал треугольник. То же самое проделал с тремя некрашеными, золотистыми соломинками. Выдвигая и вдвигая концы соломинок, он добился, что стороны одного треугольника стали соответственно равны сторонам другого. Затем, высоко подняв оба треугольника, наложил их сторонами друг на друга так, что всем хорошо было видно: треугольники равны. Глаза его выжидающе смотрели на учителя.
- Прекрасно, прекрасно! - одобрил Ибрагимов. - Треугольники сделаны вами своеобразно и доказательство наложением весьма наглядно. Так и Евклид равенство фигур определял. Способ этот хорош. Садитесь.
Коля прошел на свое место и сел, положив треугольники на стол.
- Однако же, - продолжал Ибрагимов, обращаясь ко всему классу, - данный способ далеко не везде применим, например в землемерии, в домостроении. Потому и требуются иные способы судить о равенстве треугольников без наложения. Обратимся к доказательству Панкратова.
Истомившийся ожиданием, Панкратов живо повернулся к доске.
- Опишем из точек А и С треугольника ABC радиусами АВ и СВ дуги... начал он и, ни разу не споткнувшись, благополучно закончил доказательство.
- Хорошо, - похвалил и его Ибрагимов. - Но это мы знаем из учебников. А не придумаете ли сами, как еще можно доказать? Может, кто из класса возьмется?
Гимназисты переглянулись.
- Но разве существует еще третье доказательство? - спросил чей-то удивленный голос.
- Есть, - кивнул Ибрагимов. - Например, у того же Румовского. И даже более простое, изящное. А можно, если хорошо подумать, обнаружить и свое доказательство. Учение по учебнику - это проторенная дорога, на ней преодолевать неожиданные преграды не требуется. Однако намного достойнее научиться быть первооткрывателем. Хотя бы сначала в столь малом, как открытие нового доказательства для известной теоремы.
Коля, слушавший внимательно, уже несколько раз порывался поднять руку. Ибрагимов заметил это.
- Лобачевский, вы что-то хотите сказать?
Перебирая на столе свои разноцветные треугольники,
Коля поднялся.
- Господин учитель, вы только что говорили о поисках новых, самостоятельных доказательств. Но я не понимаю в этом смысла: ведь, кажется, достоверность нашей теоремы видна с первого взгляда, без доказательства.
Ибрагимов прошелся по классу, выжидая: не поднимутся ли еще руки. Нет, все молчали.
- Вас, молодой человек, - усмехнулся он, - голыми руками не возьмешь... Действительно, так: наглядность чертежа или модели геометрических фигур позволяет обнаружить некоторые их свойства. На таком непосредственном созерцании была основана геометрия древних египтян. Они пользовались ею для узкопрактических целей.
Сейчас на примере треугольников вы нам тоже остроумно представили подобный образец наглядности... Да вы садитесь!.. Но для установления более сложных геометрических свойств материальных тел природы такой способ уже не годится. Сомневаетесь?.. Тогда сейчас убедитесь в этом сами...
Урок превращался в интересную беседу. Лица мальчиков порозовели.
- Мы будем рассматривать сегодня, - продолжал Ибрагимов, - теорему о равенстве суммы внутренних углов треугольника двум прямым. Ее доказательство...
Коля, не дослушав, поднял руку.
- Ну что ж, говорите, Лобачевский.
- Господин учитель, ведь и здесь доказательство можно заменить одним словом "Смотрите!", - возразил Коля, Ученики замерли: неужели переспорит учителя?
Но Ибрагимов сказал спокойно:
- Вот, еще вам один Бехаскера Чарж нашелся. Ну, ну, выходите сюда. Убедите нас.
Коля направился к доске.
- Дай-ка, - на ходу попросил у гимназиста, сидевшего за первым столом, большой треугольник из толстой бумаги. Затем, оторвав с боков два уголка и приложив их слева и справа к верхнему так, что получился один развернутый угол, поднял их над головой. - Смотрите!
- Выше! - сказал Ибрагимов. - Поднимите выше.
Пусть видят все... Вам, понятно? - спросил он учеников, И те, перебивая друг друга, закричали:
- Ясно! Понятно!
- Развернутый угол равен двум прямым.
- Доказал!
Ибрагимов помахал им рукой.
- Тише, тише, господа. Вы на уроке. Садитесь, Лобачевский. Очень хорошо. Значит, по-вашему, доказывать излишний труд? Все тут ясно нам и очевидно? - спросил он Колю.
- Д-да... - произнес тот с некоторой запинкой.
Лукавый огонек, вспыхнувший в глазах учителя, вдруг дал почувствовать Коле, что его доказательство не совсем достоверно.
- Так вот, господа, - продолжал Ибрагимов, - древние индийские математики поступали точно так же. Пренебрегая теоретическими обоснованиями, они делали чрезвычайно выразительные чертежи, а вверху над ними писали слово, только что произнесенное Лобачевским: "Смотри!"
Так .цоступал индусский математик двенадцатого века Бехаскера Чарж. В своей книге "Лилавати" ["Лилавати" - прекрасная (инд.)] он доказывал теорему Пифагора двумя чертежами, считая, что иного доказательства ей не требуется.
Ибрагимов помолчал, прошелся по классу, как бы желая дать ученикам время подумать над сказанным.
- Чтобы оценить по достоинству значение доказательств, - обратился он с вопросом, - не задумывались ли вы, в чем их суть? А стоило бы... Как же можно всем нам отрицать роль этих доказательств или роль умозаключений, если не знать, что это такое? Благоразумно ли, например, отказаться от какой-то, может быть, и вкусной, и здоровой пищи по той причине, что вы ее никогда не пробовали?..
В четвертом веке до рождества Христова, - продолжал Ибрагимов, Аристотель высказал утверждение, по тому времени очень смелое. Он сказал первое: что Земля, при всех положениях, во время лунных затмений отбрасывает на Луну круглую тень. Второе: что, несомненно, такую тень отбрасывает при всех положениях только шар. Следовательно, Земля - шар. Из двух достоверных суждений Аристотель, таким образом, вывел умозаключение об истинности своего утверждения или, другими словами, доказал шаровидность Земли. Вот что значит логическое доказательство.
Объяснения учителя покоряли стройностью суждений.
В них не было ничего лишнего. Все продумано, логично.
Да и сами по себе доказательства стали более интересными.
- Теперь мы вернемся к индусам и примеру Лобачевского, - продолжал Ибрагимов. - Он пытался убедить нас одним словом: "Смотрите!" Но можно ли сказать, что в данном случае не было доказательства? Конечно же нет.
Просто, не рассуждая, глядя на показанную им фигуру из трех уголков треугольника, мы ни к какому выводу не пришли бы. На самом же деле вспомнили, что развернутый угол равен двум прямым. Это было наше первое суждение. Затем признали, что эта фигура из трех уголков представляет собой развернутый угол. Это было второе суждение. Отсюда вывели заключение, что раз так, то сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым. Как видите, простого созерцания было недостаточно. Мы смотрели, рассуждали. Кстати... - Учитель прошелся по классу и вскоре остановился у скамейки Лобачевского. - Кстати, господа, - повторил он с лукавой улыбкой, - обращаю внимание ваше на тот факт, что "немое" доказательство Лобачевского, такое внешне эффектное, на самом деле не совсем достоверно и бесспорно.
Ученики зашушукались, но Ибрагимов будто и не заметил этого.
- Посудите сами: почему же мы уверены, что после такого сложения уголков треугольника две их крайние стороны составят непременно продолжение одна другой, образуя развернутый угол? - спросил он у всех.
- Так это же видно!
- Бесспорно!
- Ясно! - с увлечением закричали с разных сторон.
- А вы забыли, что каждое геометрическое утверждение, если это не аксиома, должно быть непременно доказано, хотя б и казалось оно всем очевидным? - спросил Ибрагимов. - "Очевидно" - понятие обманчивое. Одному очевидно, другому нет. Помните, как долго люди считали очевидным, что Солнце движется вокруг Земли. Все ведь своими глазами видели. Вот вам и "очевидно". Значит, и для суммы углов треугольника тоже требуется до-ка-затель-ство, - договорил он последнее слово раздельно, по слогам.
- Надо смерить углы транспортиром, - сказал ему Лобачевский. - Вот и все убедимся.
- Превосходно, - кивнул Ибрагимов. - Каждый, у кого начерчен треугольник, измерьте углы, затем, сложив их, скажите результат... Лобачевский, пожалуйте к доске. Будем записывать.
Гимназисты завозились. Ибрагимов, устав от ходьбы, уселся на свой стул и внимательно стал следить, с каким увлечением все кинулись выполнять задание.
Через несколько минут раздались удивленные голоса:
- У меня 181°!
- У меня 179°! Это почему?
- А вот у меня 180°30'!
Коля терпеливо стучал мелом: колонки цифр удлинялись, вот уже чуть ли не вся доска ими занята.
Ибрагимов повернулся к нему:
- Ну, Лобачевский, готов результат?
- Нет еще. - Коля лихорадочно подсчитывал. - Сейчас кончу. Как же так? Что-то между 178° и 181°, - удивился он.
- То-то же, - улыбнулся учитель. - Значит, глаза у всех разные?
Коля молчал.
- Убедились? - добродушно спросил Ибрагимов. - И не смущайтесь. Это вас не глаза подвели, а карандаши, линейки, транспортиры - словом, ошибки построения. Эти ошибки неизбежны, если бы даже измерили вы десятки треугольников. Важно и другое. Нам надо знать не только то, что сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым, но также и то, почему она должна быть именно такой. Измерительное, опытное доказательство нам этого не объясняет. Ясно? Это лишь грубое и приблизительное обоснование теоремы.
- Ошибка невелика, - заметил Коля и, не ожидая разрешения учителя, вернулся на свое место.
- Как? И это все, что вы поняли? - вспыхнул Ибрагимов.
Класс притих в напряженном ожидании - что же будет? Учитель поднялся, молча подошел к форточке и раскрыл ее. Свежая струя воздуха дохнула в комнату.
Гимназисты неодобрительно покосились на Колю. Тот сидел, понурив голову, и никого не видел.
Овладев собой, учитель вернулся на кафедру.
- Лобачевский, - проговорил он сдержанным голосом. - Хорошо, если человек уверен в своих способностях, не допуская себя до гордыни. Запомните, не придает она силу душевную. Напротив, затемняет сознание. Человек от сего лишается необходимой способности видеть свои недостатки, свои слабые суждения, теряет уважение к суждениям других.
Ибрагимов снова прошелся по классу и, вернувшись к доске, продолжал:
- Вы сказали - "ошибка невелика". Но знаете ли вы, что если бы сумма внутренних углов треугольника не была совершенно точно равна двум прямым, то вся геометрия Евклида оказалась бы неправильной? "Теорема эта равносильна аксиоме параллельности или пятому постулату Евклида", - писал иранский математик Абу-Джаафар Мухаммед Насирэддин Туей в своей книге "Введение к геометрии". Опираясь на эту теорему, вычисляют площади земельных участков, измеряют недоступные высоты и расстояния, составляют планы городов и географические карты. Все это стало бы невозможным, если бы сумма этих удивительных углов была подвержена малейшему колебанию.
Класс молчал. Слышно было, как поскрипывает на ветру открытая форточка. Гимназисты с уважением, даже с некоторым страхом рассматривали лежащие перед ними на столах треугольники, точно загадочные фигуры - вместилища таинственных законов. Урок затягивался, но это%ге никто не замечал.
- Ученые глубокой древности, - рассказывал учитель, - придавали особое значение этой простейшей геометрической фигуре - треугольнику. Они считали его чуть ли не основным началом всех тел, надеялись, изучив его свойства, познать законы Вселенной.
Второгодник Овчинников, толкнув соседа, шепнул:
- Из-за какого-то простого треугольника и столько разговоров.
- Балбес ты, - сказал ему сосед. - Если тебе слушать не хочется - не мешай другим.
Учитель в это время взял большой пятиугольник из деревянных планок, скрепленных по углам гвоздиками.
Чтобы всем было видно, понес его меж рядами скамеек.
- В чем же секрет треугольника, столь поразивший древние умы? продолжал он. - Смотрите, я растягиваю этот многоугольник в ширину, теперь - в длину, и он легко меняет форму. Выкинем одну планку - и четырехугольник подвижен: то квадрат получается, то ромб... Еще выкинем одну планку. Теперь это уже треугольник. Попробуйте изменить его форму. Перекосить... Вот, возьмите, - предложил он Овчинникову. - Ну, как? Выходит?
- Нет, не выходит, - сказал озадаченный второгодник. - Жесткий. Разве что сломать его...
- Стойте, стойте! - испугался Ибрагимов, схватив ученика за руку. - Не жмите... Жесткий!.. Это и есть чудесное свойство треугольника. Его используют и в технике и в строительстве. Мосты, крыши, дома - всюду в них вы найдете укрепляющие треугольники. Но, кроме того, запомните, что любой многоугольник можно разбить на треугольники. Не удивительно, что древние выделяли треугольник из всех других фигур.
- Вот оно что! - сказал сосед Овчинникову. - А ты говоришь: из-за какого-то... Слушай.
- Теперь вам понятно, - продолжал учитель, - что необходимо доказать нашу теорему, и доказать со всей математической строгостью... Итак, утверждаем: сумма внутренних углов треугольника равна 180°...
Учитель, вернувшись к доске, быстро начертил треугольник и начал доказывать теорему. Торопливо заскрипели перья в классе...
- Надеюсь, господа, - подводил итог учитель, - вы сами убедились в необходимости математического доказательства. С его помощью геометрические истины обобщают и приводят в стройную научную систему, в которой раскрываются все внутренние связи между ними. Вот почему итальянский ученый, художник и поэт Леонардо да Винчи утверждал, что никакое человеческое исследование не может назваться настоящим знанием, если не прошло через математические доказательства. Замечу, однако, что для приобретения настоящего знания большое значение имеет и опытное доказательство. Они весьма полезно дополняют друг друга. Выражаясь образно, мы как бы в науке имеем две лестницы, но по каждой из которых в отдельности не можем подниматься вследствие большого расстояния между ступенями. Следует сложить обе лестницы, тогда можно будет свободно подниматься вверх, опираясь на их ступени поочередно...
Ибрагимов замолчал. Он стоял, облокотясь на кафедру, и выглядел уставшим, однако черные глаза его по-прежнему горели весело.
- Может быть, имеются вопросы?..
В коридоре, у самой двери, зазвенел голосистый звонок. Затем дверь неожиданно распахнулась и на пороге появился дежурный сторож с медным колокольчиком в руке.
- Виноват, ваше благородие. Полагаю, что звонка на ту перемену, может, недослышали, так это уж я на вторую звоню, - почтительно проговорил он,
В классе послышались возгласы:
- Как же мы не заметили!
- Два урока пролетело.
- Два часа как одна минута!..
Ибрагимов улыбнулся.
- Наверстаем...
За дверью в коридоре веселее и звонче залился колокольчик, но ученики не спешили выходить из класса, им хотелось поговорить с Ибрагимовым.
- Теперь уже до следующего раза, господа, - сказал он им и предложил желающим самостоятельно доказать хотя бы одну хорошо знакомую теорему иным способом, чем в учебнике Осиповского. Затем поклонился и вышел своей обычной торопливой походкой.
Лобачевский догнал его на лестнице.
- Николай Мисаилович! - сказал он взволнованным голосом. - Простите! Я не хотел вас огорчить... Ставьте мне за поведение что угодно - худо или очень худо, но только не сердитесь...
Ибрагимов засмеялся, потрепав Колю за плечо.
- Странный вы мальчик, Лобачевский! Ну как могло вам такое прийти в голову? - сказал он, удивляясь. - Это же благодаря вам так интересно поговорили на уроке. Вы помогли всему классу разобраться в сущности доказательства.
- Я?! - не поверил Коля. - Тем, что не хотел признавать их. Не понимаю...
- Постепенно поймете! Не сразу ведь становишься большим умельцем во всяком деле, тем более в геометрии! - сказал Ибрагимов, спускаясь рядом с Колей по лестнице. - Геометрия, дорогой мой, удивительнейшая наука. Желающий глубоко в нее проникнуть, обязан собственным трудом, шаг за шагом, пройти весь путь ее развития.
- Значит, нужно усвоить все... начиная с первых понятий? - оживился Коля.
Ибрагимов одобрительно кивнул:
- Только так! Разве можно построить прочный дом без надежного фундамента или создать науку без ее начал? - И сам ответил: - Конечно же нет!.. А сейчас отдыхать, - слегка подтолкнул он Колю на лестницу и проводил его долгим взглядом.
Был час приготовления уроков. За маленьким столиком, облокотясь на руки, сидел Коля и внимательно читал "Начала". На улице бушевал сильный ветер. Осеннее солнце пряталось в тучах, изредка заглядывая в спальную комнату. Но Коля его не видел. Чем дальше он читал, тем больше хмурил брови.
- Вот напасть: что нп определение, то все туманнее и запутаннее.
В это время скрипнула дверь и в щели показалась голова Панкратова.
- Математик, идем в геометричку, - пригласил он.
- Зачем?
- Теоремы будем доказывать. Одному не под силу.
Помолчав немного, Коля согласился.
- Только с уговором: одному - доказывать, а другому - спрашивать. И каждое утверждение обосновать. Шмнишь, как Николай Мисаилович советовал? Он вскочил с табуретки, повторяя слова учителя: - Каждое новое утверждение логически доказать с помощью ранее принятых истин.
- Ясно, - кивнул Панкратов, - Ничего не брать на веру... Пойдем!
Захватив книги, мальчики поднялись на второй этаж и вошли в геометрическую комнату.
- Пусто, - с удовольствием отметил Панкратов. - Ну, кому первому к доске? Орел или решка? - подбросил он вверх монету. - Орел... Значит, моя очередь.
Он подошел к доске и, повернувшись к другу, который в это время устроился на кафедре, начал почтительным тоном:
- Господин учитель, у меня к вам просьба...
- Какая? - сердито прервал его Коля. - Брось!.. Будем заниматься по-серьезному.
- Я же и так серьезно, - заверил Таврило. - Задавай теорему, только потруднее. Легкую совсем не умею своими словами доказывать. Например, эту: перпендикуляр короче наклонной. Начертишь ее, а что говорить, когда и без лишних слов понятно. Будто в корыте плаваешь. То ли дело трудная теорема там совсем другое, словно бурная речка с опасными порогами. Нелегко по ней плыть, но зато можно показать свои способности...
- Смотри, уплывешь, - усмехнулся Коля. - Временито в обрез. Бери мел и пиши: "Внешний угол всякого треугольника больше каждого его внутреннего угла, с ним не смежного". Написал? Доказывай!
Панкратов глубоко вздохнул и, подняв рукава своей куртки, будто перед жаркой схваткой, начертил на доске треугольник.
- Ишь какую теорему выбрал, - проворчал он добродушно. - Тут попотеешь. Придется вспомнить, что и месяц тому назад учили.
- Господин Панкратов, без лишних разговоров, - заметил Коля, подражая голосу Яковкина.
Таврило фыркнул, но тут же спохватился и глянул на свой чертеж.
- Пусть будет он треугольником ABC. И пусть одна его сторона ВС будет продолжена до буквы Д. Мы утверждаем, что внешний угол АСД больше каждого из внутренних углов ВАС и СВА. Разделим сторону АС пополам в точке Е.
- Постой, постой! Не торопись... А что ж это: внешний и внутренний углы треугольника?
- Неужели не знаешь? - удивился Панкратов.
- Уговор дороже денег, - напомнил Коля.
- Ну что ж... Угол, смежный с каким-нибудь углом треугольника, - начал объяснять Таврило, - называется внешним углом этого треугольника. Таков, например, угол АСД. Но, в отличие от внешних, углы самого треугольника называются внутренними. Все!
- Нет, - сказал Коля, - не все... Я пока не знаю, что ж это: "смежный угол"...
- А-а... - протянул Панкратов. - Сейчас вот узнаешь... Два угла называют смежными, если одна сторона у них общая, а две остальные составляют продолжение одна другой... Так?
- Верно... Продолжай дальше.
- А что продолжать?
- Но ты не объяснил еще главного: что же такое угол? Потом, неизвестно мне, что следует понимать под словом "сторона"...
- Фу-у! - рассердился Панкратов. - Ты меня совсем изводишь.
- Ничего, не лопнешь.
- Ладно, Математик, не шути... Сейчас я тебе разберу по всем пунктам. Начнем с угла. Итак, фигура, образованная двумя лучами, исходящими из одной точки, называется углом. А сторонами... Ты что улыбаешься? Думаешь, пропустил? Нет, шалишь, брат! Я потом... Так вот, полупрямые, образующие угол, называются его сторонами. Теперь-то можно дать определение луча. Прямая, ограниченная только с одной стороны, называется лучом или полупрямой, - закончил Таврило и торжествующе посмотрел на Колю. - Понял мою хитрость?
- Молодец, одним выстрелом убил двух зайчат, но вот сама зайчиха-то убежала!
- Зайчиха?.. - озадаченно переспросил Панкратов. - - Какая?
- А вот какая... Про угол ты говорил и использовал самое первоначальное евклидово понятие - точку. Почему не дал ее определения?
- "Почему, почему"!.. - проворчал Таврило с раздражением. - Прикажешь определять ее, точку эту, как нечто, не имеющее частей, или прямую линию как нечто прямое...
- Точка... Линия... Эх! - воскликнул Коля, махнув рукой. - Помню, об этом слышал еще в прошлом году на первом уроке у Корташевского. Как же я сам не смекнул?
Ведь правда, все наши предыдущие понятия в конце концов свелись к двум - точке и прямой линии. А если и другие геометрические понятия также основываются на них, то ясно, почему они...
- Что же ты! - прервал его Панкратов. - Не может быть! Ну... допустим, возьмем понятие о параллельных прямых. Это суть, как говорил Николай Мисаилович, две прямые, лежащие на одной плоскости и не имеющие общей точки. Но кроме прямой и точки оказалось еще одно понятие - плоскость. А можно ли определить ее с помощью точки и линии?..
- Н-да... - замялся Лобачевский, но тут же сообразил: - Так ведь плоскость есть такое же первоначальное, независимое от других понятие, как точка или прямая линия.
- Так и есть! - произнес Таврило. - Вот он и третий заколдованный круг: плоская поверхность есть нечто шки ское. А может быть, еще найдется много подобных первоначал?.. Проверим?
- Ну что ж, давай! - кивнул Коля и вдруг насмешливо запел тонким голосом:
Жил-был царь,
У царя был двор,
На дворе был кол,
На колу мочало...
Начинай сначала.
Чтобы ничего не пропустить нам, иди ты по "Началам", а я - по Осиповскому. С первых страниц разберем все геометрические понятия. Только с уговором: друг другу не мешать.
- Дальше в лес - больше дров, - вздохнул Панкратов. - Ладно уж...
Пристроившись к подоконнику, где посветлее, мальчики усердно зашелестели страницами.
Каждый читал по-своему: Лобачевский, с бумажкой и карандашом в руках, делая выписки, снова и снова возвращался к первым определениям и теоремам. У Панкратова была замечательная память, он удивлял способностью производить в уме довольно трудные математические вычисления и мог читать все подряд, не останавливаясь и лишь изредка перечитывая особо нужные места.
Вечерело. Последние отблески зари трепетали на стеклах окон. Сумерки сгущались быстро, и классная комната незаметно погружалась в темноту.
Панкратов, прервав чтение, поднялся.
- Может, хватит? - спросил он Колю. - Совсем темно стало, не то глаза испортим... А ты, пожалуй, прав.
Я добрался уже до параллелограмма, и, знаешь, ровнехонько все понятия, непосредственно или через другие, определяются только с помощью точки, прямой линии и плоскости... Да-да, их всего-навсего три. Значит, они действительно являются основными. - Таврило вдруг отступил на шаг и церемонно раскл-анялся: - Прошу прощения, госпожа Точка, госпожи Прямая и Плоскость, это я по своей тупости счел вас ненужными. Оказалось, ни одно геометрическое построение и рассуждение без вас не обходятся. Аи да дамы!
- Чему радуешься, простофиля? - упрекнул его Коля, швырнув книгу на подоконник. - Это ужасно! Какая же наука может быть ясной, когда в основе всех ее понятий лежат столь темные определения? Подумай только:
"Точка есть нечто, не имеющее частей". Не должно быть подобной темноты в геометрии! Мы, наверное, тут чего-то недопонимаем...
- У меня уже голова разламывается, - вздохнул Таврило. - Пойдем-ка на волю, проветрим головы - может, легче станет.
Однако ни прогулка во дворе, ни ужин в столовой не прояснили сомнений. Приятели снова заперлись в геометричке. Обсуждение - что же такое точка, линия и плоскость - объявили запрещенным.
- Временно, - добавил Коля. - Иначе нового доказательства теоремы найти нам не удастся.
Теперь каждый самостоятельно искал это новое доказательство. Но, увы, безуспешно. Всякий раз оказывалось, что удалось найти лишь обозначения и фигуры чуть-чуть не такие, как в учебнике. Все же остальное шло до учебнику. Чертили, стирали, спорили, пока все масло в коптилке не выгорело. Но доказательства нового, своего, так и не получилось
- Идем спать, может, во сне увидим, - сказал Панкратов.
Коля только махнул рукой.
На следующий день лучшие гимназисты собрались в геометрическом классе один мрачнее другого. Удивительный подъем, вызванный прошлым уроком, плодов не принес: никто не смог найти нового доказательства этой мучительницы - теоремы. Воспитанники с тяжелым унынием ждали своего учителя, беспокойно поглядывая на дверь. Но случилось неожиданное: Ибрагимов, появившись на пороге, предложил:
- Господа! Не хотите ли на волю - погреться на солнышке? Наше занятие сегодня проведем за Казанкой, в чистом поле. Там и познакомимся как следует с предком нашей геометрии - землемерием. Согласны?.. Одеться и приготовиться - даю вам на сборы пять минут!
Гимназистов будто подменили. Появились улыбки на их унылых лицах. Все вдруг засуетились и, толкая друг друга, направились к выходу.
Внизу по распоряжению Ибрагимова уже были приготовлены вехи, землемерная цепь, эккер и все необходимое для работы в поле. Мальчики живо разобрали все инструменты. Коля схватил землемерную цепь.
Сентябрьский день выдался на редкость теплый и почти безоблачный. На улице было многолюдно, весело. Ибрагимов шел с мальчиками, не требуя от них положенного строя. Поэтому все были такими радостными. Но уж самое чудесное, пожалуй, началось около Казанки.
Остановившись на берегу, Ибрагимов объявил:
- Здесь, господа, у нас будет переправа. Но предварительно предлагаю измерить ширину реки.
Двое учеников, схватив мерные шнуры, кинулись к лодке, лежавшей на берегу.
- Стойте, стойте! - закричал учитель. - Шнуры короткие, на ширину реки не хватит их. А главное - представьте себе, что нет у нас ни лодки, ни шнура. Тогда как быть?
Мальчики растерянно переглянулись.
- Тогда, может, на глаз определить? - нерешительно сказал Коля. - Тут, наверное, сажен двадцать, не больше.
- Глазомер у вас неплохой, - одобрил учитель. - Свойство для землемера весьма полезное. Сейчас проверим, насколько близки вы к истине. Для этого нужно... Панкратов, скажите нам: первый признак равенства треугольников.
- Если две стороны, - бойко начал Таврило, - и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны между собой.
- Прекрасно! - кивнул Ибрагимов. - Так вот, господа, измерим ширину реки по этой самой теореме, - Он посмотрел на Панкратова. - С помощью, например, козырька фуражки. Она ведь не то, что мерная цепь - всегда у человека на голове окажется.
Мальчики снова переглянулись.
- Ничего себе землемерный инструмент, - шепнул Овчинников.
- А получится ли? - спросил Панкратов.
- Не верите? - усмехнулся Ибрагимов. - Что же, попробуем... Станьте, Панкратов, лицом к реке. Надвиньте фуражку на свои глаза так, чтобы нижний обрез козырька совпал с противоположным берегом... Надвинули?..
А теперь, не изменяя положения головы, повернитесь налево и заметьте на этом берегу самую дальнюю точку, видимую из-под козырька... Заметили?.. Хорошо! Сейчас вам остается лишь отмерить шагами расстояние до этой самой точки. Согласно теореме, будет оно равно ширине реки.
Заметьте, мы опять используем свойство треугольника...
Поняли?
Мерить расстояние за Панкратовым кинулись и другие. Практические занятия оказались для всех интереснее любой игры.
- Видите, - сказал учитель. - Оказывается, шаг - тоже измерительный инструмент. И весьма важный. Кроме того, всегда он у землемера, так сказать, под рукой.
Перейти к следующему заданию на Казанке удалось не сразу - ведь каждому хотелось проверить волшебные свойства козырька собственной фуражки.
Особенно интересными были землемерные работы в поле. Мальчики проводили натянутой веревкой прямую линию, строили, затем измеряли на местности углы, провешивали эккером параллельные прямые и снимали планы полевых участков.
- Господин учитель... Господин учитель, - звали его те, у кого что-нибудь не ладилось.
Ибрагимов поспевал ко всем, разъяснял, показывал.
И какой же горестный возглас разочарования раздался, когда, взглянув на часы, он объявил: "Время истекло. Пора возвращаться в гимназию".
Обратный путь прошел так же весело. Под впечатлением урока вспомнился Панкратову рассказ его деда о курьезе, который приключился много лет назад с писателем Державиным при составлении плана города.
- Ну, ну, расскажите, - попросил учитель.
- Было это в 1760 году, кажется, в июне месяце. Директор Веревкин тогда еще назывался командиром гимназии. Вышел ему от сената приказ: немедленно составить план города Чебоксар. А преподаватель геометрии капитан Морозов к тому времени умер. Что же делать? Вот и переложил директор задание сената на Державина, только что закончившего учение, и для помощи дал ему несколько учеников. А геометрии все учились без доказательств и на практике не бывали. Как тут быть? Приступают они к Веревкину - покажи да научи, Ну, вот он и показал... Распорядился тут же сделать рамы шириной в семь-восемь сажен, а длиной - в шестнадцать. Оковали те рамы железом и потащили цепями по улицам для измерения. Проходит рама - хорошо. Если же улица узка и рама за дом заденет, мелом писали на воротах: "Ломать".
- Ну и ну! - засмеялся Ибрагимов. - Что же дальше?
- А дальше Державин сам начертил этот план - такой преогромный, что ни в одну комнату не вмещался.
Чертил его на чердаке. Но так и не докончил. Свернули в трубку, отвезли в Казань. И с тех пор в Чебоксарах дома не ломали...
- Забавно, забавно, - смеялся Ибрагимов. - Спасибо за рассказ... А теперь, господа, прибавим шагу, мы опаздываем...
Сегодня весь день Коля занимался, шумел и спорил не меньше других. Но вот окончен день, погашены огни в спальных камерах. Дежурный уже вовсю храпит на своей кровати. А Коля все вертится на соломенном тюфяке: не до сна ему. Неслышно выскользнув из-под одеяла, он оделся, взял аспидную доску, грифель и заранее припасенный огарок свечи. Устроившись перед окном, осторожно загородил свечу книгой.
В спальне холодно, сквозит ветер из оконных щелей.
Но Коля этого не чувствует. Видимо, это был для него самый счастливый день. Оттого ли, чт.о он вдоволь поупражнялся в землемерии, или потому, что впервые после каникул так хорошо повеселился, но в этот вечер мысли его были светлыми. Не прошло и полчаса, как он по-своему доказал теорему о сумме внутренних углов треугольника.
Стало и радостно и тревожно. Еще раз проверил он записанное. Да, все правильно. Погасив свечу, осторожно разделся в темноте и лег в постель. А драгоценную доску положил под кровать, чтобы не стерлось написанное.
Утром, открыв глаза, Коля удивился: кто-то закутал его в одеяло до самого носа. Ну, конечно же старший брат позаботился. Он и за младшим, Алешей, смотрит, хотя и живет уже не в этой, а в соседней, студенческой спальне.
Саша стоял у подоконника, показывал всем аспидную Доску.
- Саша! - испугался Коля.
- Наконец-то! - воскликнул брат. - Вставай, уже все проснулись. Молодец ты, Коля! Молодец! Как только увидел доску под кроватью - сразу понял. Прекрасное доказательство! И ведь новое! Твое собственное!
- Ты хорошо проверил?.. Правда, мое? - поднялся Коля.
- Твое, твое... Поскорей одевайся и в умывальную!
...Первый успех так обрадовал Колю, что с этого дня поиски новых доказательств теорем стали для него большим утешением. К тому же погода испортилась: то и дело шел дождь, мелкий, настырный; гулять во дворе, да и просто выглянуть на свежий воздух нельзя. Поэтому после уроков, едва покончив с ужином, Коля бежал в спальную камеру и снова садился к аспидной доске. Он чувствовал себя необычно, как путник, впервые совершающий путешествие по неизведанным землям. Это было трудно, зато увлекательно. Случалось, что крутые горы фактов стеной загораживали дорогу и новые поиски доказательств неожиданно уводили в сторону, откуда не было выхода. Но зато какая радость охватывала его при каждой, пусть и небольшой победе!
Коля теперь понимал, что геометрия - не случайное сборище теорем, а стройная система, где каждое новое положение вытекает из предыдущих. И, переходя к новой теореме, сразу прикидывал, как ее доказать. Больше того, многие теоремы он уже предвидел и, встречая их в учебнике, радовался как старым знакомым. Порой казалось ему, что знает он геометрию очень давно и теперь не учит ее, а только вспоминает старое.
Но вот случилось непредвиденное...
В тот субботний вечер Коля, поужинав и прихватив, как всегда, свечу и книги, вошел в пустой класс. Тут было тихо. Никто ему не помешает. Но когда присел он к первому столу, вдруг, отодвинув от себя все книги, выпрямился, пораженный столь неожиданной мыслью: "А где же начало?.. Каждая последующая теорема вытекала из предыдущих путем рассуждений. Так?.. Но ведь и все предыдущие опирались на еще ранее доказанные. А те, в свою очередь, на другие... Так должны же быть какие-то первые теоремы? На что же будут опираться эти самые, исходные, которые не могут быть доказаны обдумыванием ["Теорема" - слово греческого происхождения ("теорео" рассматриваю, обдумываю).], то есть ссылкой на ранее известные теоремы?.."
Время шло, а Коля сидел неподвижно, в душевном смятении. Длинный обгоревший конец фитиля дымил, как факел, и, согнувшись, плавил свечку. Сало струйкой стекало на стол. Услышав треск, мальчик спохватился: быстро снял нагар, выпрямил обрезанный фитиль и придвинул к себе учебник.
- Ну, что же, побежим не вперед, а назад! - сказал он вслух и принялся прослеживать доказательства, но только в обратном порядке.
На это ушло немало времени.
Вот наконец и "первый рубеж": определения, постулаты, аксиомы... "На чем они держатся? Куда шагнуть от них? В пропасть?"
На развернутой странице "Начал" перед мальчиком стройным столбцом красовались пять постулатов:
I. Требуется, чтобы от любой точки ко всякой другой точке можно было провести прямую линию.
II. И чтобы каждую прямую линию можно было продолжить неограниченно.
III. И чтобы из любого центра можно было описать окружность любым радиусом.
IV. И чтобы все прямые углы были равны между собой.
V. И если при пересечении двух прямых, лежащих в одной плоскости, третьей (прямой) сумма внутренних односторонних углов меньше 2 d (180°), то эти прямые, при достаточном продолжении их, пересекаются, и притом именно с той стороны, где эта сумма меньше 2 d.
Коля знал, что латинское слово "постулатум" означало "требование". Вероятно, поэтому первые четыре постулата и начинались такими словами: "требуется, чтобы..."
Непонятно только, зачем здесь нужно требовать, когда истинность этих утверждений в дальнейшем все равно ведь нигде не доказывается и не проверяется, а лишь принимается на веру. Для математика было бы нелепо сказать: "Я верю в теорему Пифагора", он убежден в ее правильности, она, теорема, уже доказана. Почему же здесь мы верим?
Неясно еще, не есть ли какое-нибудь из этих утверждений следствие остальных, не теорема ли?..
Коля в отчаянии перебирал страницы "Начал" Евклида и гимназических учебников по геометрии.
"А что же Румовский? - спрашивал он. - Ведь, по его словам, ничего, что не ясно или не доказано, за основание не принимают. Почему же постулаты и аксиомы, лежащие в фундаменте геометрических построений, приводятся не только без всякого доказательства или проверки, но даже без пояснения - на основании чего и каким путем возникли эти утверждения?.. Разве они даны свыше и их следует безоговорочно принять, как обороняемые страхом догматы веры?.. Верь - и не рассуждай... Вера? Во что? А через веру ли дорога к истине?"
Коля был потрясен до глубины души. Мог ли ожидать он, что в математике - в этой науке наук - встретится вдруг е неразрешимой загадкой?
И тут неожиданно тревожные мысли перенесли его в Макарьев.
...Как-то зимним вечером, за неделю до возвращения в Казанскую гимназию, Коля сидел один в своей комнате.
Вокруг было тихо. Но вот неожиданно звякнуло железное кольцо калитки. Хриплым, едва слышным голосом кто-то произнес обычную при входе молитву. Вошел старец высокого роста. Преклонные лета сгорбили его, седые волосы неровными, всклоченными прядями свисали на лоб из-под шапки. У ветхой сермяги недоставало внизу одной полы, на его ногах истоптанные лапти, за плечами корзина, плетенная из лыка. Истово перекрестившись и поклонясь в пояс иконам, он обратился к хозяйке, поднявшейся ему навстречу.
- Откуда? - спросила Прасковья Александровна.
- Странник о Христе, - зашамкал беззубый старик, задыхаясь. - Указали мне боголюбцы путь. Говорили: кто ни приди к сему дому, кто ни помяни у ворот имя Христово - каждому хлеб-соль и теплый угол...
- Садись, дедушка, садись, обогрейся! Вишь у тебя сермяга-то какая ветхая... Сядь, старче, и сними свой пещур.
Не дожидаясь ответа, мать протянула руку - помочь старику, но, коснувшись его, вдруг отшатнулась и прошептала молитву. Тяжелые железные вериги впились в худые плечи старика.
"Наверное, беглый каторжник", - в ужасе подумал Коля. Вериги представились ему похожими на кандалы.
Шепча молитву, странник сам снял пещур. Услышав голоса в комнате, из кабинета вышел дедушка.
- Господа ради, - поклонился ему странник, - приюти меня грешного на малое время в стенах твоих, благодетель.
- Рад всей душой, божий человек, - ответил дед, внимательно всматриваясь в его истомленное лицо, изборожденное морщинками. - Как твое имя?
- Грешный инок Варфоломей!..
- Ах, батюшка, отче Варфоломей! - воскликнула Прасковья Александровна. - Слышали мы о тебе, слышали. Откуда же ты и куда держишь путь? Садись же! Отдохни...
- Града настоящего не имею, грядущего взыскую, - ответил старик, тяжело опускаясь на скамью. - Путь же душевный подобает нам, земным, к солнцу истины держати.
Он помолчал немного, с минуту посидел, склоня голову, - по движению губ было видно: творил неслышную молитву. Затем, еще раз перекрестившись, начал рассказывать:
- Жил я, матушка, в пустыне, в керженских лесах...
Келейку своими руками построил, печку сложил ради зимнего мраза; помышлял тут и жизнь свою грешную кончить.
А вот намедни, грешный, я отлучился дровишек набрать.
Подхожу назад к своей келейке - только дымок от головешек ее курится... Начисто сгорела!.. Немалое время жил я в той келейке, барыня, сорок лет. Чаял в ней и помереть, домовину сам выдолбил - думал в нее лечь... Сгорела и моя домовинушка!.. Годы мои старые, а плоть немощна.
Дайте пережить у вас до лета, не оставьте, ради Христа, меня грешного.
Старик снова склонился в земном поклоне. Прасковья Александровна подняла его.
- Слыхали, отче Варфоломей, слыхали про ваше несчастье. Пришла и в Макарьев весточка, что царский воевода в керженские леса выезжал староверов ловить и жилища их сжигать... Взыщи, господи, с них за эти прегрешения...
- Ох, не кори, матушка, - встав с лавки, строго промолвил инок. Нам-то что велел он творити? Саму-то первую заповедь какую он дал? Врагов любить! Читала это?
- Читывала... Но за что ж они так лютуют? - продолжала Прасковья Александровна. - Ведь и они во Христа веруют.
- Как за что? Царский указ о раскольниках-староверах, уклоняющихся от православной церкви, знаете? - продолжал старик, обращаясь то к хозяйке, то к ее сыну, стоявшему возле нее. - Казнить смертью перекрещивающихся в старую веру, бить кнутом раскольников-старообрядцев, а также их укрывателей.
- Дедушка, - спросил Коля, - чем ваша старая вера лучше? Почему вы за нее так держитесь? Оставили бы...
- Оставить веру? Свою, истинную?.. О маловер! - с укором покачал головой инок. - Это я-то, неужто вроде той махавки, что по ветру туда и сюда поворачивается.
Нет, сынок, в истинной вере я тверд, как пустынножитель Варлаам... Слыхал про него?
- Нет, не слыхал, - признался Коля.
- А раз так, то послушай... Пришел он в здешние леса к нам из дальней Сели-Галицкой, а там был он до того приходским попом. Познав же истину, отрекся от никонианской церкви, вдался в старую веру и покинул свой град.
Жил тут в лесной келье с тремя учениками. Великий был ревнитель древлего благоверия! Старинных же богослужебных книг, что еще до патриарха Никона были в употреблении, имел довольно; отовсюду собирал правоверных на книгоучение, утверждал их в старой вере. Узнали о том гвлицкие начальники, послали ратных людей с огненным боем изыскать отца Варлаама и учеников его. И более шести недель ходили ратные по лесам и болотам, ищучи жительства преподобного... Ну и вот, - с тяжелым вздохом заключил старец, - ранним утром галицкий воевода подступил к той пустыни, потребовал сдачи Варлаама с учениками его. Они же, замкнув свою келью, зажглися в ней и сгорели...
...Варфоломея тогда напоили, накормили. Коля проводил его в свободную комнату.
- Бог спасет, родименький! Бог спасет! - повторял старик. - Ибо грешны мы все...
- Какой же вы, дедушка, грешный? - удивился Коля, - Вы же верующий...
- Всяк человек состоит из души и тела. Душа - творение божие, но тело своим диавольским созданием - грешное. Душа с грешным телом и борется. Когда будет она телом побеждена, то по смерти поступает во власть духа злобы. Если же в этой борьбе душа возьмет верх, то еще здесь, в земной жизни, блаженная будет. Но в нынешние времена мир преисполнен ересей, и нет в нем больше древлего благоверия. Враг - антихрист Никон распростер над людьми свою власть. Как волки в овечьих шкурах являются его слуги никониане, глаголя: "Я правой-де веры". Всякий, кто имеет дело с ними, отвержен от бога и погибнет погибелью вечной. А кто ищет истинной веры, должен отрешиться и бежать в пустыню - в дебри лесные, в горы недоступные. Все, кто не нашей веры, - антихристовы дети...
- Постойте, - прервал его Коля. - Бог один. И все - лето прежней веры держится, кто новой - признают лишь единого бога. Почему же тогда восстают друг на друга?
- Блаженные отцы русской веры повелевают нам, - внушительно пояснил Варфоломей, - осьмиконечный крест почитать едино и двумя перстами крестным знамением себя осенять, а не тремя - "щепотью", как никониане поганые крестятся...
- И за то на смерть они шли? - не поверил Коля.
- Было еще, - продолжал старик, - и другое. В наших священных книгах писалось имя Христа - Исус, а в новых - с приложением лишней буквы: Иисус. Нам же, староверам, ненавистно и страшно так не токмо сказать в молитве, но даже помыслить об этом...
- От единой буквы такой страх?
: Варфоломей сумрачно посмотрел на Колю.
- О маловер! Не вороти мою душу, - сказал он с досадой, осенив себя крестом. - Ишь как бесу-то полюбилось на языке твоем сидеть... Ступай-ка спать...
Когда Коля вернулся в свою комнату, он не мог заснуть, пораженный мужеством керженских пустынножителей - готовностью их пойти на любые лишения и жертвы ради веры. Ведь они правду ищут. Выгода им какая? Одно гонение. Откуда же у них такая сила? И за что идут на смерть? За букву "и" да за крест из двух пальцев?
Дедушка считал религию как нечто необходимое, без чего не проживешь. "Надо же во что-то верить", - говорил он, безучастный к спорам о различиях между "верой старой" и новым православием.
Однажды мать спросила его, почему не ходит он в церковь. Дедушка признался: "Когда-то ходил, Пашенька, но теперь мне там делать нечего". "А бог?" - удивилась мать. "Бог в человеке", - ответил он и стал ей доказывать, что "существование божественного начала можно человеку ощутить лишь в творческих поисках духа и в откровенных размышлениях, а не в церковных обрядах, совершаемых священниками ради корысти".
Коля вмешался в этот разговор. "А где же тогда бог?" - спросил он дедушку. Тот коснулся пальцем его лба: "Вот здесь, у источника твоей мысли! Только лишь простаки, - добавил он, - ищут его тень в церковных сумерках..."
Мать, конечно, также не отличалась набожностью, хотя в ее комнате угол и был заставлен иконами, а на столике перед ними лежали книги "Священного писания" в тяжелых кожаных переплетах. Никогда сама не принуждала сыновей читать молитвы, даже перед сном, или заучивать божественные заповеди.
После разговора с иноком Варфоломеем Коля зашел к деду.
- Почему же по государеву приказу велено казнить людей старой веры? спросил он, встревоженный, - Разве не все равно царю, как мы крестимся двумя или тремя пальцами?
- Дело-то, Коленька, не только в старой вере, - после минутного молчания начал дед, усаживаясь на диван. - Это предлинная история. В давние годы предки наши, славяне, поклонялись не Христу, а Ходячему Облаку - Сварогу. Потом они стали бить поклоны Солнцу - Дажбогу и, наконец, Грому Гремучему - Перуну да Матери Сырой Земле. В конце лишь десятого века пришло к нам христианство. Из Византии. Об этом хорошо написано в "Сказании о крещении Руси при Владимире". Первыми священниками у нас были греки. Многие русские не хотели креститься. Но после грозного приказа князя Владимира одни пошли к реке по принуждению, другие же в леса бежали. Однако древнеславянские верования сохранялись еще сотни лет, особенно в лесах Заволжья и на Севере - тамошний люд жил как отрезанный от крещеной Руси.
Не хотел ни церквей, ни архиереев, ни царских воевод.
В этих местах находили убежище беглые солдаты, холопы, а также те, кто задолжал казне, о ком тогда сложилась пословица: "Нечем платить долгу, катай за Волгу". Таковы были поселенцы наших керженских лесов, когда в 1653 году царь Алексей Михайлович и новый патриарх Никон решили ввести в русское христианство новшества, разослав по церквам указ о том, чтобы земные поклоны заменить поясными, чтобы креститься не двумя пальцами, а тремя... Староверы отказались выполнить указ и стали стекаться на поселение в керженские леса. К тому же наступил моровой год: в некоторых местах чума истребила целые деревни. Вслед за тем пошли неурожайные годы, голодовки. "Зло торжествует в мире, - говорили проповедники древлего благоверия. - Род христианский наказуется за то, что многие пошли по следам антихриста Никона...
Слуга дьявола не только новый патриарх, но и царь, от которого вышли всякие мучительства..." Ответом на эти проповеди защитников старой веры было распоряжение царя Федора: сжечь их "за великие на царский дом хулы...". Тогда по велению Питирима, нижегородского архиепископа, капитан Ржевский послал рассылыциков разнести по бревнам все кельи керженских староверов. Семьдесят семь скитов было разорено. Голова дьякона Александра, перекрестившегося в старую веру, скатилась под топором палача в Нижнем Новгороде, несколько старцев сожжено было на кострах у села Пафнушево. И сорок тысяч старообрядцев, не считая женщин и детей, бежало из керженских лесов за литовский рубеж, в подданство короля польского...
- Сорок тысяч? - удивился Коля, - За рубеж? А тамто жизнь праведная?
Дедушка не смог ответить, он только пожал плечами...
Вспомнился и другой рассказ - макарьевского кормщика, бывшего проводника парусных судов. Много повидал на своем веку этот старый моряк. Побывал он в Китае в Индии. От него и узнал Коля, что в разных странах у людей и боги разные.
- Бывало, идешь сотни верст - один бог, а переехал реку или горный перевал, смотришь - другой бог и вера другая. Когда же переплываешь море, там, на другом берегу, и подавно жди нового бога.
- Может, в других странах и не боги вовсе, а так одна выдумка, спросил Коля. - Разве могут быть границы на земле между небесными богами?
Старый моряк усмехнулся:
- Вот, сынок, этого сказать я не могу. На небе не был какие у богов там границы, не знаю...
С таким же вопросом обратился Коля к престарелому дьякону, жившему по соседству с Лобачевскими. Тот выслушал его внимательно и стал разъяснять:
- Истинный бог - один: пресвятая троица. Что же касается веры в иных богов - это заблуждение, от лукавого. Не все люди еще просвещены светом Христовым Захотелось Коле поговорить об этом и с человеком другой веры. Нашелся такой: в гимназии ночным сторожем служил старик татарин, бывший солдат. Сам он и его семья жили тут же, в подвальном помещении, придерживались магометанской веры, соблюдали свои праздники обряды. Как-то вечером Коля спросил его:
- Почему, бабай, разные люди веруют в разных богов и кто из них выше аллах или пресвятая троица?
Бабай усмехнулся.
- Бог один у всех людей. Нам он открылся через Магомета, вам - через Христа.
- Как же так? Бог один, а вера - не одна?
Бабай рассердился:
- Это не твоего ума дело. Как аллах решил, так и сделал.
- А наш отец дьякон считает, что бог един в трех лицах...
- Врет ваш дьякон, - прервал бабаи. - Самому бы ему поучиться, а он еще мальчишкам голову забивает.
Иисуса, говорят, и на земле-то не было, а про Магомета этого никто не скажет. Понятно?
- Понятно, - кивнул Коля. Но сам почувствовал, что совсем запутался...
Так ничего и не добившись от взрослых, он обратился к гимназической библиотеке. Прочитал запоем четыре книги "Жития святых", "Смерть и страдание Христа". Заглянул и в Библию. Напрасно. Слишком наивные толкования священных книг о явлениях в природе, о начале и конце света, о пресвятой христианской троице вызвали разочарование. Засалившиеся от частого чтения церковные книги мало-помалу исчезли с его стола. На их месте появились новые, которые вызывали у надзирателей и учителя закона божия протопопа Михаила удивление: томики "Естественной истории" Бюффона, "Посланец звездного мира" Галилея, "История ума человеческого от первых успехов просвещения до Епикура"... Произведения философов давали ему куда более удовлетворительные ответы на его вопросы.
- Вы, господин Лобачевский, вступаете на опасный путь! - предупредил однажды отец протопоп. - Читаете, как вижу, только греховные книги. Они отдаляют вас от Христа... У меня такое ощущение, что вы начинаете сомневаться в том, во что верили вчера.
- Может, батюшка, есть она, такая вера, которая не боится никакого сомнения? - спросил Коля.
Протопоп Михаил поднял руку, угрожающе потрясая пальцем:
- Поговорим об этом завтра.
На следующем уроке разыгралась буря. Зашел разговор о троице, о самом главном догмате христианского вероучения, согласно которому бог един и в то же время троичен то есть выступает в трех ипостасях: бог-отец, бог-сын и бог - дух святой.
- Потому-то и крестимся мы тремя перстами, - заключил учитель закона божия.
- Не пойму, - вмешался Коля, - разве когда-нибудь единица была равна трем?
- Да вы, Лобачевский, совсем отошли от веры! - закричал протопоп Михаил. - Знайте, спор о вере - самый большой грех перед господом. Начало премудрости - в страхе божьем!..
- Вот она, вера! - воскликнул теперь Коля в пустом классе, обращаясь к лежавшим на столе учебникам.
Он погасил свечу и в темноте, не испытывая страха, вернулся в спальную комнату.
РАДОСТЬ И ГОРЕ
Библиотека размещалась в четырех комнатах нижнего этажа. В первой, большой комнате была читальня, в средней и в двух смежных с ней хранились книги, рукописи, атласы, ноты, эстампы. Там же находились минералогические и натуральные редкости, банки с мелкими заспиртованными животными, собрание русских и булгарских монет. Имелось четыре глобуса - два земных и два небесных, висел на стене большой план Казанской губернии, стояла в углу модель телеграфа. Таким образом, библиотека служила и музеем.
Для посетителей и читателей открывалась она только два раза в неделю, по средам и субботам с десяти часов утра. Но сегодня еще не было и девяти, а Лобачевский уже сидел за столом в средней комнате. Яркое солнце заливало стол и книги. С улицы в широко раскрытое окно вливался утренний свежий воздух, издали доносилось мягкое цоканье копыт по торцовой мостовой.
У Коли было радостное настроение - ничто не мешало ему заниматься.
Прошло всего несколько дней, как поступила в контору первая официальная бумага нового инспектора гимназии Федора Эвеста. В ней он представлял "список учеников, которые, по долговременному упражнению в геометрическом классе, текущее полугодие в гимназии без пользы ходить будут". В списке числился и Николай Лобачевский - "лучший из всех".
Об этом узнал он позавчера от Ибрагимова. После уроков Николай Мисаилович, обняв и поцеловав Колю на прощание, торжественно поручил его Корташевскому как "без пяти минут студента". Голос учителя дрогнул. Коля тоже не выдержал, отвернулся в сторону.
- Ну-ну! А еще хотите быть студентом, - недовольно проговорил Корташевский. - Лучше подумайте, как плодотворнее использовать эти оставшиеся "пять минут"...
Ведь еще не известно, почему начала геометрии так темны.
Примитесь-ка за очень серьезное изучение древнего мира, в особенности Греции: географии, истории, культуры и философской мысли. Ибо именно там геометрия была возведена в строго логическую систему, которая дошла до нас в "Началах" Евклида...
И теперь вот свободные от геометрического класса часы Николай проводил в библиотеке. В списке книг, которые необходимо было прочесть ему в ближайшее время, значились "Древняя история", "Путешествие Пифагора", "Сокращенная история философии от начала мира".
Сейчас он сидел за "Критической историей философии" Иакова Бруккера. Внимание привлекла Пифагорова секта. В биографиях и в учении философов этой секты было много интересного. Сам Пифагор с малых лет был отвезен отцом с острова Самосского в Финикию и отдан в учение философу Ферециду. "Затем, - прочел Николай, - для снискания мудрости он ездил в Египет, Вавилон и дошел до самой Индии. По возвращении в отчизну завел тайное училище и свое учение преподавал в пещере... Он учил, что числа суть умственные, выведенные из начал божественного разума, и все, что ни есть, происходит из них... Пифагор - изобретатель известных геометрических положений..."
"Постой, постой! - привстал Николай, отодвигая книгу. - Почему основные геометрические положения должны быть выведены умозаключениями из божественного разума?.. Ведь Ибрагимов и Корташевский говорили, что основы геометрии должны быть почерпнуты из природы, из свойств различных тел опытным путем?.. Кто же прав?
Что есть источник исходных геометрических положений:
природа или божественный разум?.."
- Коля... Николай, скажите, какой сегодня день? - послышался голос в соседней комнате.
Это спрашивал Петровский, учитель артиллерии и фортификации. В начале 1803 года ему была препоручена должность библиотекаря.
- Степан Сергеевич, кажется, двадцать второе августа... среда.
Уже двадцать второе! Как быстро летит время. Ровно два месяца назад Лобачевский сдал публичный летний экзамен, получив по всем классам "отлично". И тогда же Ибрагимов привел его сюда, в эту библиотеку [Начало библиотеке было положено еще в марте 1799 года.
По указанию императора Павла, в мае 1798 года посетившего Казянь, из далекого Новороссийска привезли на восемнадцати подводах книги покойного князя Потемкина. Их свалили в одном из гимназических помещений. Сюда же поступили богатые личные библиотеки доктора Франка и Полянского - близкого друга Вольтера. Книги были старейшие и современные, на языках: российском, латинском, немецком, французском, итальянском, арабском, татарском, еврейском... Среди них и такие редчайшие издания как:
"Астрономия" Манилиуса (1499), "Божественная комедия" Данте (1564) "Россия или Московия, или, что то же самое, Татария"
(1630) первопечатное издание "Апостола" (1564), "Книга царств"
(1518), "Пятикнижие Моисея" - древняя еврейская рукопись на 50 телячьих кожах, и другие,
Пойдет время, Лобачевский станет ректором и одновременно библиотекарем. Университетские деловые бумаги будет подписывать- "вектор-библиотекарь Лобачевский". Даже от самого министра духовных дел и народного просвещения Голицына потребует, чтобы немедленно вернул книги, полученные из библиотеки.
Впоследствии библиотека станет одним из самых больших книгохранилищ России, а затем Советского Союза. В 1953 году постановлением Совета Министров СССР Научной библиотеке Казанского университета присвоено имя Николая Ивановича Лобачевского.].
- Вот гимназист, который вам очень подойдет, - рекомендовал он его Петровскому.- Отлично знает латынь, французский, немецкий и греческий. Так что вам для приведения книг в порядок...
- Самый подходящий! - заключил Петровский. - Как это я сам упустил его из виду? Он же и у меня учился, превосходно... Как, молодой человек, согласны?
Коля вспыхнул от радостного волнения. Петровского все гимназисты любили как хорошего учителя и друга.
Жил он в гимназии на антресолях. Зимой, когда воспитанники строили снежные крепости, разыгрывая баталии, Петровский с удовольствием принимал участие, показывая мальчикам, как лучше сделать крепость и штурмовать ее.
Со дня организации библиотеки сменилось много библиотекарей, но книги оставались лежать в беспорядке. Но вот за дело принялся Петровский и решил навести порядок. По его настоянию были изготовлены специальные книжные шкафы, и теперь Коля, в оставшиеся до отъезда домой на каникулы дни, с увлечением помогал разбирать книги, составлять каталоги. Он так увлекся этой работой, что иногда забывал об уроках. Библиотека была для него волшебным миром, удивительные книги которого были ему дороже всего на свете. И он с уважением трогал тяжелые крышки их кожаных переплетов, искренне радовался, когда мог приходить сюда в дни и часы, недоступные для других. Тем более, тут можно было спокойно заниматься.
А сейчас, перевернув страницу "Критической истории", Николай вновь углубился в чтение.
- "Демокрит Абдеритянин, муж, одаренный чрезвычайным умом... Первоначальною причиною мира принимал бесконечно малые и неразделимые частицы материи, или атомы, - читал он, - и, чтобы совсем уничтожить творца, приписывал им начертание и силу движения самим от себя... Он отрицал бытие божие, утверждая, что начало религии должно сыскивать страх... Сказывают, что день и ночь Демокрит проводил за городом в могиле, упражняясь в учении и писании, и не верил в привидения. Какие-то молодые люди, нарядившись в духов, пришли в Демокритову темницу; однако он, не переставая писать, сказал: "Перестаньте делать из себя шутов..."
Прервав чтение, Николай попытался представить себе строгое и неустрашимое лицо философа. Не удивительно ли, Демокрит больше двух тысяч лет назад призывал к освобождению от страха перед богами, чтобы человек мог свободно познавать природу, проникать в ее сокровенные тайны! Только в этом он видел задачу каждого ученого.
Николай готов был целый день читать и выписывать удивительные мысли Демокрита. Но, посмотрев на часы, он заторопился и со вздохом закрыл книгу: нужно идти на урок.
На другой день в назначенное время Лобачевский направился к Григорию Ивановичу на его квартиру. Сегодня было ему о чем поговорить с учителем!
Лобачевский вошел в подъезд знакомого двухэтажного особняка, поднялся на второй этаж и решительно дернул за ручку звонка. Дверь открыл Евсеич. Отступив, чтобы дать дорогу, шепотом предупредил его:
- Потише, милостивый государь! Григорий Иванович работает, всю ночь не спал. Полежал часа два и засел. Сережа говорит, он ученую книгу сочиняет.
- Простите, я не знал, - ответил Николай, покраснев до ушей. На цыпочках прошел он коридор, открыл знакомую дверь в Сережину комнату и в изумлении попятился:
человек небольшого роста, в поношенном сюртуке, с бородой и большим животом, стоял перед зеркалом и, размахивая шпагой, кричал:
- А ну-ка, ну, кто из нас отчаяннее, а?!
Николаю показалось, тот сейчас ткнет шпагой, и невольно крикнул:
- Слушайте, вы разобьете зеркало!
- А вам какое дело, милостивый государь? - сердито зарычал седобородый и, не выдержав, расхохотался.
Только тут Николай сообразил: очередная шутка Сережи.
- И все-то на уме у тебя глупости! - упрекнул он друга.
- Какие же это глупости? Я, старый генерал, вызываю на дуэль молодого улана. Такая роль у меня в этой пьесе.
А театральным увлечением заразил знаешь кто? Родной дядюшка! Приехал сюда погостить. Ну, мы с ним побывали в театре Есипова. И не один раз. Ему ничего, живет себе спокойно. А вот я...
Продолжая говорить, Сережа проворно стащил сюртук, бросил его на стул. Туда же полетели шпага и седая бо
- Садись вот сюда! На диван! - Сережа потянул Николая за рукав. - А я хожу как потерянный. В голове у меня феи, драконы, прекрасные дамы, рыцари. Об ученье и думать забыл. Григорий Иваныч сразу же сообразил, вызнал у дядюшки, да как взялся!.. Ой-ой! - Сережа закрыл свое лицо руками. - Читал мне, читал поучения, до слез довел, - продолжал он, опуская руки. - Одним словом, гроза и ливень. Однако подействовало. Взялся и я за ум, за ученье. А Григорий Иванович оценил мою решимость и начал снова со мной разговаривать - как думаешь, о чем?
Сережа соскочил с дивана и теперь стоял перед Николаем, усиленно размахивая руками.
- О театре, понимаешь? Рассказал мне о сценическом искусстве, о многих славных русских актерах. И как рассказывал! Потом в один счастливый день сам свозил меня в оперу. Блаженство! Чудо! И вот опять все во мне закипело. - Сережа засмеялся. - Нет, Коля, ты не думай, учиться я не бросил. Но приехал нынче зимой в Казань гфсатель и артист Плавильщиков, и меня вдруг осенило: а Ш затеять ли нам спектакли своими силами? А?
- Замечательно! - сказал Николай. - И что же?
- И все! Мы с Александром Панаевым на днях сочинили маленькую драму. Сами! - Сережа схватил со стола тетрадку, подал ее Николаю. - Вот. Мы уж ее разыграли вместе с его братьями у них на квартире. Здорово получилось. Я был убит из пистолета. Григорию Иванычу об этом еще не известно.
- Ошибаетесь, - послышался голос Корташевского.
Юноши оглянулись. Их смущение развеселило старого наставника. Он посмотрел на стоявшего рядом с ним Ибрагимова, и оба улыбнулись.
- Слышал, слышал, Сережа, вы, кажется, в роли старика так отличились...
- Однако, на мой взгляд, - вмешался в разговор Ибрагимов, - от подобных домашних спектаклей при малом числе зрителей и польза малая. Не следует ли вам попытаться организовать в университете своими силами театр?
На спектакли привлекать можно студентов, гимназистов да и прочую молодежь города... Не так ли, Григорий Иванович?
Неожиданное предложение поразило Сережу. Он стоял молча, глядя восторженными глазами то на Ибрагимова, то на Корташевского.
- Над этим надо подумать, - сдержанно сказал Корташевский. - А сейчас, Николай, вы, кажется, хотели меня видеть? Пойдемте.
Лобачевский тронул Сергея за плечо.
- Потом зайду! - проговорил он и, поспешно взяв со стола принесенные книги, направился в знакомый кабинет.
- Григорий Иванович, - заговорил он, садясь на стул, указанный Корташевским. - Вот что я прочитал за последнее время. Все было интересно. Только вот главного тут, о чем говорили мы, я не смог найти...
В это время дверь кабинета раскрылась.
- Добрый день, коллега! - проговорил громкий, не-"
знакомый Николаю голос.
Корташевский быстро поднялся навстречу вошедшему и весело заговорил:
- Приветствую первого профессора медицины Казанского университета господина Каменского. Ну как, привыкаете, Иван Петрович?
- Весьма успешно. Ваш директор гимназии профессор Яковкин уже назначил меня своим "сочленом" по конторе, - отвечал Каменский, чуть улыбнувшись. Я с первых дней работы стал свидетелем печального состояния здешних дел. Яковкин самовольничает, а заезжие горе-профессора, немецкие чиновники, относятся к новорожденному университету холодно, подчас и враждебно. Уверен, что для доктора Мартина Германа или Генриха Бюнемана профессорство в Казани - лишь средство пополнения кошелька. По-русски ни одного слова не знают, читают лекции по-латыни, а студенты не понимают их отменно баварского произношения латинских слов. Вчера я был свидетелем, как студенты просили у Яковкина позволения вовсе не посещать аудиторию Бюнемана, чтобы не терять даром времени. Удивляюсь, право, Григорий Иванович, как вы терпите?
Каменский говорил горячо, подкрепляя слова короткими энергичными жестами, Николай при его появлении отошел к раскрытому окну и теперь с жадностью прислушивался к разговору. В то же время он понимал, что его присутствие здесь неуместно, по как поступить - не знал.
- Как я терплю? - Корташевский покачал головой.
Я ведь всего лишь адъюнкт и решающего голоса лишен, - признался он.
Каменский, нахмурив брови, слушал внимательно.
- К счастью Яковкина, почти все профессора - иностранцы, - продолжал Корташевский. - Им, как вы уже изволили заметить, лишь бы набить кошелек русскими денежками. Вот и подписывают все "деловые" бумаги, какие господин директор им подсовывает, не читав их, ибо все равно в русской речи сии ученые мужи не разбираются. - Корташевский махнул рукой и отвернулся к двери.
- Ясно! - сказал Каменский. - Вот почему человек с незавидными способностями, не чувствующий нутром своим организма университетского, безнадежный в науке, имеет, однако ж, столько дерзости говорить: "Университет - это я!"
- И мало того! - воскликнул Корташевский, быстро вскочив с дивана. Но тут, увидев Николая, смутился: поистине разговор шел не для гимназических ушей. Он взял на столе небольшую пачку исписанных листков. - Простите, я совсем забыл о вас. Вот, возьмите и пройдите, пожалуйста, к Сереже. Пока мы заняты разговором - прочитайте. Надеюсь, тут найдете вы ответ на все ваши вопросы.
- Благодарю вас! - Николай не знал, чему радоваться больше: листкам или возможности выйти ему из неловкого положения. Поклонившись Корташевскому и гостю, он поспешно вышел.
Сергея в комнате не оказалось. Николай сел за стол, развернул рукопись. Называлась она "Платон и Аристотель" - возможно, та самая, о работе над которой с таким уважением говорил, открывая дверь, Евсеич. Николай погрузился в чтение, чувствуя, что содержание захватывает его все больше. На страницах рукописи оживали дела и люди минувших веков.
Прошло больше двух тысяч лет с тех пор, как Платон двадцатилетним юношей побывал на беседе у Сократа.
Очарованный мудростью философа, он сделался его ревностным учеником и последователем. После гибели Сократа Платон отправился в Италию к пифагорийцам, где познакомился с их учением о переселении и перевоплощении душ. Потом он много путешествовал по Египту, беседовал со жрецами, владеющими знаниями о движении небесных светил. От строителей царских пирамид он получил сведения о началах геометрии.
Первые геометры чертили фигуры посохом на песке.
В их представлении Земля была не шаром, а плоскостью. Поэтому, соединяя две точки кратчайшей линии, называли ее прямой. Они еще не подозревали, что это не прямая, а отрезок дуги. То же самое, но в несколько уменьшенном виде, повторяли на досках, на камнях-плитках, на папирусе и, предполагая, что их чертеж в точности отображает земную поверхность, уже мысленно развивали первоначальные геометрические понятия и выводили из них на этой идеальной плоскости и в пространстве новые и новые теоремы.
Но с течением времени, когда, наблюдая небесные светила, человек узнал, что Земля не плоская, а круглая, OKat, залось, что воображаемая геометрическая плоскость не совпадает с поверхностью Земли, она касается ее в одной лишь точке. Геометры были крайне взволнованы этим открытием. Ведь многое, что прежде принималось ими за неоспоримое, выглядело теперь лишь иллюзией, продуктом фантазии. Раз поверхность Земли сферическая, рассуждали они, то неверно даже определение самой прямой, как единственной кратчайшей линии между двумя точками.
Ведь на шаре через две точки, лежащие хотя бы на диаметрально противоположных концах, можно провести бесчисленное множество таких линий, тогда как на геометрической плоскости - лишь одну. Более того, прямая предполагалась бесконечно продолжаемой, а в действительности - на земном шаре - все линии сходятся. Как же тут быть?
Но остроумный ученик Сократа объяснил это просто:
- Геометрия наша на идеальной плоскости и в пространстве явилась наукой, не имеющей ничего общего с землемерием - геометрией на земной поверхности, - говорил Платон. - Потому и самые понятия о прямой, плоскости и пространстве должны быть признаны не взятыми из опыта и измерения, а постигаемыми душой извечными идеями.
Такое толкование о происхождении геометрических истин вызвало много споров у древнегреческих философов и геометров. Многие не соглашались. Но были у Платона и последователи.
- Пусть наша геометрия расходится с миром чувственно-воспринимаемых, мимолетных вещей, - говорил он теперь уверенно. - Зато ее великая премудрость рождена гениальной мыслью самого бога, Верховного геометра. Этого вполне достаточно, чтобы опровергнуть любой факт, как бы ни был он веществен. Геометрия, к сожалению, еще не является той наукой, которою хотел бы ее видеть бог. Математики не возвышают этого предмета до познания сущего, вечного, ибо связывают свои рассуждения с чувствами. А обращение к чувственно-воспринимаемым вещам, доверие непосредственным впечатлениям приводят к иллюзии, подобной представлению предков о том, что Земля наша плоская. Поэтому надо нам отрываться от чувств, погружаться в глубины своей души...
В сорокалетнем возрасте - в том самом, какой греки считали временем расцвета человека, Платон вернулся на родину и открыл на окраине Афин, в роще героя Академа, свою философскую школу, получившую название академии. При входе в нее было высечено весьма категорическое предупреждение: "Да не войдет сюда тот, кто не знает геометрии!"
Слова эти оказали удивительное действие: со всех концов Греции, Италии и Египта хлынули к нему юноши, горевшие желанием постигнуть сокровенные тайны всех наук. Но доступ в академию был открыт лишь избранным, сыновьям знатных и богатых аристократов.
Раскрывая перед учениками "тайны" геометрии, Платон стремился превратить ее в способ познания всего сущего.
За каждой геометрической фигурой, уверял он, скрыто истинное знание и символ. Геометрия не только учит обращению с фигурами, но помогает проникнуть и в сущность Вселенной.
- Обратите взор свой на Землю, - говорил он. - Земля - кормилица наша и в то же время первейшее небесное тело. Бог утвердил ее как неподвижный шар в самом центре Вселенной, чтобы она была навеки блюстительницею и устроительницею дней и ночей. Потом получили существование Солнце, Луна и остальные блуждающие звезды, известные под именем планет, необходимых для определения и соблюдения счета времени. Вы, конечно, и сами видите, как они обращаются вокруг Земли по окружности, начерченной Верховным геометром.
По поверхности Земли текут реки и бушуют на ней безбрежные океаны. А над всеми - повсюду воздух. Эти три стихии - земля, вода и воздух, да еще четвертая, огонь, - образуют все сущее: и наше тело, и тело зверей, и деревьев, и камни...
Далее Платон переходил к объяснению природы четырех стихий:
- Огонь, земля, вода и воздух, как всякому известно, - тела. Но тело бывает ограничено известным количеством плоскостей, а всякая плоскость слагается из более простых геометрических элементов, именно из треугольников... Вот в чем полагаем начало огня и всех остальных.
Какую же геометрическую форму имеет каждое из этих тел, из каких первоэлементов оно состоит? Между ними самое легчайшее, тонкое, острое, удобноподвижное - огонь; из геометрических фигур, значит, больше всего подходит к нему четырехгранная пирамида [Пирамида - многоугольник, одна грань которого (основание) есть треугольник или многоугольник, а другие грани - треугольники, имеющие общую вершину (греч.)]. Во всех этих отношениях следующее за огнем место принадлежит воздуху третье - воде и четвертое - земле. На этом основании геометрической формой воздуха можно считать правильный октаэдр [Октаэдр - восьмигранник; тело, ограниченное восемью треугольниками, а в случае правильного октаэдра - равносторонними (греч.)], формой воды - правильный икосаэдр [Икосаэдр - двадцатигранник; тело, ограниченное двадцатью многоугольниками, каждый из которых, в случае правильного икосаэдра, - равносторонний треугольник (греч.)], а формой земли - самой устойчивой из четырех родов - куб...
Молодые аристократы, с увлечением слушая учителя, верили ему, восторгались не только его доводами, но и интонацией, жестами, мимикой.
- Что же касается тех различных видов, которые произошли из этих четырех стихий - эссенций, - продолжал Платон, - то причину их разнообразия следует полагать в наличии в составе каждого из них двух первоэлементов - неравностороннего прямоугольного и равнобедренного треугольников, потому что оба они дали множество разновидностей, малых и больших, - именно в таком количестве, сколько видов могут содержать в себе их роды.
Различные виды, смешиваясь и между собою и с видами других родов, дают нам то бесконечное разнообразие, которое непременно должен принять в соображение тот, кто хочет иметь вероятное представление о природе...
Однако недолго довелось торжествовать Платону. Как гром среди ясного неба, ошеломила Афинскую академию неслыханная весть: нашелся человек, осмелившийся выступить против самого Платона, и не кто-нибудь из атомистов, а его самый выдающийся ученик, сын личного врача царя Аминты. С таким человеком нельзя было не считаться.
Это был Аристотель. Семнадцати лет он покинул родной город Стагир на берегу Стримонского залива, чтобы надолго поселиться в академии Платона. Его притягивала к Афинам не только необычная популярность философа.
Он мечтал о знаниях, которые ему удастся почерпнуть из редчайших научных рукописей в библиотеке Афинской академии, а также из личных бесед о геометрии и философии с Платоном.
Двадцать лет пробыл Аристотель в Афинской академии, пока не убедился, что там занимаются пустыми разговорами. Все яснее становилось, что учение об идеях - это грозная опасность для истинной науки, основанной на опытах и реальных фактах, на правильном их объяснении.
- И учитель, и истина мне дороги, - заявил однажды Аристотель, - однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Как же можно согласиться с Платоном в том, что естественные тела состоят из геометрических фигур треугольников и каких-то умопостигаемых бестелесных сущностей - идей...
Выбравшись наконец из лабиринта громких фраз платоников, Аристотель понял, против чего и за что надо бороться. Он покинул Афины и поселился в Мидии. Затем несколько лет был воспитателем наследника македонского престола, будущего великого полководца Александра Македонского.
Вернувшись в Афины, Аристотель основывает собственную философскую школу - Ликей. Щедрая поддержка Александра Македонского позволила ему собрать ценные ботанические и зоологические коллекции, а также большую библиотеку. Здесь он объединил виднейших греческих ученых, ставивших на первое место не фантастическую теорию идей, а точное описание природных и общественных явлений.
Работа закипела. Вскоре накопилось столько материала, беспорядочного и разрозненного, что возникла серьезная опасность в нем запутаться. Никто не знал, как объединить бесчисленные факты в одну систему.
Это была задача трудная. В самом деле, если все без исключения должно быть строго доказано путем последовательных умозаключений, то получится бесконечность выведения одних истин из других, которая, в конце концов, заставит спросить: а откуда выведены те предпосылки, на которые мы опираемся? Что взять за первооснову? С чего начать?
Беспокойные взоры учеников обратились на учителя.
Не зная, как разрубить гордиев узел, Аристотель был вынужден отступить на позицию Платона и признать, что во главе каждой отрасли знания должны быть поставлены исходные допущения, принятые на веру и будто бы не нуждающиеся в обосновании в силу своей очевидности. Появились так называемые аксиомы. Все же остальное, что к данной отрасли относится, должно выводиться путем логических умозаключений, то есть доказательств.
Пересмотреть под этим углом зрения весь накопившийся материал, привести в систему разрозненные отрывки геометрических знаний - вот в чем заключалась главная задача, которую Аристотель завещал геометрии.
Как потом указывал греческий комментатор Прокл, за решение такой задачи принимались Гиппократ Хиосский, Февдий Магнезийский, Гермотим Колофонский и многие другие. Однако их произведения померкли в свете бессмертного сочинения математика Евклида.
Жил этот математик в Александрии, где и основал свою геометрическую школу. Он собрал не только все элементы геометрии, но и привел их в одно целое, доказал все, что было до него доказано другими не столь убедительно...
На этом прерывалась рукопись Корташевского. Николай долго еще сидел над ней, задумавшись. Она затрагивала самые важные вопросы, волновавшие геометров. Он тоже преклонялся перед подвигом Евклида. Но тут же возникало недоразумение. Как мог такой великий математик считать аксиомы продуктом чистого разума?
Или Григорий Иванович чего-то не дописал, или он сам, Николай, чего-то недопонял. Так что же признать за основное? За начало всех начал? Вечную и неизменную идею или вещественный мир? Если основным началом является природа, могут ли платоновские идеи быть источником исходных геометрических положений? Не в этом ли причина всех недоразумений в "Началах"?
Николай отложил рукопись. Он смотрел теперь в окно, поглощенный мыслями.
Главный вопрос, возникший у него еще при чтении "Критической истории философии", оставался без ответа.
Необходима была чья-то поддержка.
С рукописью в руках вышел он из комнаты Сергея, подошел к двери Корташевского. Дверь была раскрыта, но, кроме Каменского, в кабинете оказалось целое общество:
адъюнкт Запольский, бухгалтер гимназической конторы Ахматов, учитель рисования Чекиев.
Николай нерешительно переступил порог и, поклонившись присутствующим, протянул Корташевскому рукопись:
- Григорий Иванович, я зайду в другой раз.
- Приходите в следующий понедельник, - ответил Корташевский. Непременно.
В подъезде Лобачевский увидел стремительно бежавшего Сергея.
- Николай? Вот кстати, - обрадовался тот. - Мы с Мисаилычем сейчас от нашего директора. Представь себе!
Уломали его. Разрешил-таки ставить нам спектакль в спальной комнате казенных в$щитанников. Играем комедию Веревкина "Так и должно". Ты в роли судьи. Согласен?
- Придумаешь! - испугался Николай. - В жизни еще не играл и не собирался.
- А ты подумай, подумай! Здорово получится. Не пожалеешь! - выпалил Сергей и, толкнув Лобачевского в плечо, помчался вверх по лестнице. Подумай серьезно! - донесся голос его уже со второго этажа.
На следующий день у студентов и гимназистов было вдоволь хлопот. Торопились до субботы выучить роли, приготовить костюмы, сшить из простыней занавес и перегородить им большую длинную комнату.
В субботу на этой сцене, освещенной сальными свечами, с большим успехом была впервые разыграна комедия Веревкина.
Старый Доблестин, роль которого исполнял Сережа, явился в солдатском изорванном сюртуке, похожем на такой же сюртук одного из гимназических сторожей-инвалидов. На голове у него красовался напудренный мелом парик из пакли, а на руках - цепь, снятая с дворовой собаки.
Зрителей было много: университетское и гимназическое начальство, профессора, адъюнкты, учителя с женами и дочерьми. Студентов и гимназистов набилось на задних скамейках столько, сколько могло там поместиться. Хлопали все без конца, не жалея ладоней. После спектакля Николай подошел к Сергею. Тот, разгоряченный успехом, вытирал свое лицо, измазанное мелом.
- Ловко придумано? То-то же!.. Ну? - спросил он. - Будешь играть?
- Кажется, буду, - сказал Николай. - Только вот роль бы мне какую поменьше.
- Хорошо. Найдем. Это, знаешь, как болезнь прилипчивая. Начнешь и не отстанешь.
С разрешения попечителя казенным студентам "в награду за их отличное прилежание" для спектаклей предоставили удобную классную комнату: она разделялась пополам двумя колоннами.
Но веселое увлечение театром неожиданно обернулось крупным скандалом. Александр Панаев упросил Аксакова, "директора театра", дать ему в драме "Следствие примирения" роль генерала. Этот генерал, погибающий в конце пьесы от выстрела, должен был произвести впечатление и на барышню, которой Панаев очень уж интересовался.
На репетициях, однако, выяснилось, что Панаев для роли не годится.
- Провалит пьесу! - возмущались актеры. - Хреоуем передать роль Балясникову. Он у нас самый смелый.
Но директор труппы с этим не пожелал считаться. Лобачевский не выдержал: на репетиции, во время диалога Аксакова и Панаева - "генерала", подошел и стал между ними.
- Александр, вы с ролью не справились. Откажитесь, - потребовал он.
Панаев побледнел и не сказал еще ни слова, как вспыльчивый Сережа взорвался.
- Кто же здесь директор, я или ты? - крикнул он запальчиво. - И не твое дело указывать ему, дворянину.
Лобачевский, задыхаясь, шагнул к нему с крепко сжатыми кулаками. Но, к счастью, Балясников и другие студенты успели схватить его за руки.
- Пустите, - сказал Николай. - Не трону.
Затем, ни на кого не глядя, повернулся и вышел из комнаты.
Оставшиеся посмотрели на Сергея.
- Все равно этой роли не играть Александру, - сказал Панкратов. - Не упорствуйте, Аксаков, мы все находим, что роль надо передать Балясникову.
Панаев, смущенный, отошел в сторону.
- Ах, так| - вскипел Аксаков. - Тогда и я отказываюсь от своей роли.
Но, к его изумлению, в ответ раздались голоса:
- Вот и верно, снять его!
- И в театре ему делать нечего. "Зазнался. Кто за исключение?
Все дружно подняли руки.
- Еще пожалеете об этом! - крикнул пораженный Аксаков. Он схватил за руку молчавшего Панаева и повел его из комнаты.
Все переглянулись.
- Ничего, - успокоил Балясников. - И без них справимся...
В это время Николай размашисто шагал по улице.
"Не мое дело указывать, - повторял он, возмущаясь. - Дворянину! Однако не дворянскими грамотами устилается путь к знаниям".
Он пришел домой не скоро. И только тут с новой болью подумал, что гордость не позволит ему ходить на квартиру к Григорию Ивановичу - в дом, где живет Аксаков.
Не знал тогда Лобачевский еще об одном обстоятельстве, которое вскоре должно было навсегда разлучить его с любимым учителем.
Корташевский с первых дней жизни Казанского университета горячо отстаивал его независимость, предусмотренную уставом. На заседаниях совета он требовал отделения гимназии от университета и всегда резко выступал против Яковкина.
Казанский университет уже становился колыбелью многочисленной семьи молодых ученых. Тем горячее возмущался Корташевский небрежным отношением профессоров-немцев к своим обязанностям преподавателей и воспитателей. Студенты жаловались ему, что "вместо законного и беспристрастного экзаменования все они подвергаются смеху экзаменаторов-немцев". Но чем больше сближался Григорий Иванович с воспитанниками, тем большую ненависть к себе вызывал он у Яковкина и преподавателейиноземцев. Обстановка в университете усложнялась. Этому во многом способствовало и неопределенное положение совета. Еще два года назад, сразу же после отъезда Румовского, Яковкин издал приказ о том, что "собрание профессоров и адъюнктов будет именоваться по-прежнему советом Казанской гимназии, хотя будет сообразовываться сколько возможно с предписаниями, в уставе университета изображенными...". Такая формулировка давала широкий простор для своевольного управления. Корташевский возмутился и подал письменное мнение о том, что положение совета гимназии недостаточно для руководства при решении дел университета.
Письмо не осталось без последствий. Яковкин объявил адъюнкта Корташевского "идущим против постановления, главным правлением училищ и министром народного просвещения утвержденного". Но Григорий Иванович и не думал сдаваться.
К нему присоединился профессор Каменский, человек прямой и настойчивый. Они потребовали отделения университета от гимназии, настаивали, чтобы законное право университета на самоуправление было проведено в жизнь.
Яковкин всеми силами противился этому, прибегая даже к обману. Пользуясь тем, что профессора-немцы не знали русского языка, он подсунул им на подпись бумагу - донос на давно уже неугодного ему главного надзирателя гимназии. Немцы подписались, думая, со слов Яковкина, что это всего лишь предписание об обязанностях главного надзирателя.
Корташевский рассказал обо всем этом на заседании совета. Каменский его поддержал.
В ту же ночь Яковкин написал в Москву новый донос, уже на Корташевского и Каменского, жалуясь на их "прихотливые затеи, причиняющие ему нестерпимые мучения".
Министр Завадовский не стал разбираться, кто прав, кто виноват. "Чтобы прекратить существующие в совете Казанской гимназии беспорядки, обуздать непослушание и тем отвратить вредное влияние их примеров, - писал он Яковкину, - главных виновников неустройства профессора Каменского, адъюнкта Корташевского и других им подобных отрешить от их должностей и заменить другими".
...Николай в задумчивости шел по коридору гимназии.
Почувствовав на своем плече чью-то руку, поднял голову и отшатнулся: перед ним стоял Аксаков.
- Да брось ты глупости вспоминать, - возбужденно заговорил Сергей. Слышал? Григория Иваныча уволили, Яковкин съел. Ну и подлец! И Каменского. Даже Ахматова и Чекиева не пожалели. Теперь Яковкин царь и бог.
И немцы торжествуют.
Общее горе сблизило прежних друзей. После занятий они вышли вместе.
- К Григорию Иванычу, - сказал Сергей.
Лобачевский молча кивнул ему: согласен.
Застали они Корташевского, как всегда, за работой.
Учитель, казалось, похудел и немного сгорбился, но голос его был по-прежнему спокойным, уверенным.
Григорий Иванович обрадовался приходу юношей, приветливо протянул им руку.
- Садитесь. Я думаю, - заговорил он, - что скоро все уладится и правда восторжествует. Так что пока горевать нам рано, тем более вам, Лобачевский. Через две недели будете вы держать экзамен в университет! Вас еще не предупредили?
Корташевский обнял его за плечи.
- Вам нельзя терять ни минуты. Безотлагательно за дело принимайтесь, проговорил он.
- Прощайте! Спасибо! - только и смог выговорить обрадованный Лобачевский.
* * *
14 февраля 1807 года. Полдень. Из двери главного подъезда университета выбежал юноша в мундире со шпагой.
Резкий ветер взметнул его темно-русые вьющиеся волосы, бросил ему в лицо горсть колючих снежинок. Юноша, не замечая холода, прислонился к белой колонне у двери.
Постукивая деревянной ногой, вскоре вышел сторожинвалид. В руках он держал шинель и шляпу.
- Господин Лобачевский! Вы что ж это? Не весна ведь на дворе.
Лобачевский оглянулся.
- О! Спасибо, дядя Емельян, - поблагодарил он, принимая шинель. - Сам не знаю, как получилось. Голова закружилась...
- От радости, - сочувственно сказал старик. - Она ведь иной раз труднее горя достается... Но вы тут недолго.
Музыка сейчас начнется, угощение...
Солдат заковылял к двери.
- Господин капельмейстер Новиков уже распорядились, - добавил он с порога. - Кантату в честь университета воспитанники должны петь.
- Спасибо, дядя Емельян, - ответил Николай.
В последний раз подставив разгоряченный лоб холодному ветру, он вошел в открытую дверь.
Сверху, из актового зала, доносилась торжественная кантата:
...Цветущими наук садами
Прославится тобой Казань,
И зрелых сведений плодами
Тебе воздаст святую дань.
Украсится и вознесется
Сей град среди других градов...
Николай, медленно поднимаясь по лестнице, прислушался. Это поют и в его честь. Они, восемь воспитанников старших классов, стали студентами. Вот оно, доказательство!
Николай положил руку на эфес шпаги, вытянул ее немного и вдруг остановился на лестнице, как обожженный.
Ведь праздновалось двухлетие университета, но Корташевский не пришел. Почему?
Он, решительно вложив шпагу в ножны, сбежал вниз.
- Дядя Емельян, скорее шинель и фуражку! Григория Ивановича нет, я должен позвать его.
- Ну-ну, - бормотал сторож, снимая шинель с вешалки, - дела-то какие! Такого человека...
Но Лобачевский, не дослушав его, выскочил из вестибюля и мчался уже по улице. Ветер дул ему в лицо, колючие снежинки заставляли жмуриться.
В городском саду дети слепили огромную снежную бабу Сами в снегу вывалялись так, что походили на свое творение. Теперь они состязались: кто ловким ударом снежка сшибет ей нос. В другое время Николай не утерпел бы сам принял участие, но сейчас даже не оглянулся.
У дома Елагиных он вздрогнул от неприятного предчувствия. Парадная дверь почему-то распахнута настежь...
Взбежав по лестнице, увидел: в коридоре, у самой двери кабинета, громоздятся большие заколоченные рейками ящики.
"Может, просто переезжает на другую квартиру?" Но сердце подсказало: не то.
В дверях кабинета появился Корташевскии.
- При шпаге? Так-так. Поздравляю, Николай... Иванович Теперь и отчество к лицу. Входите.
В кабинете уже не было ни книг на полках, ни картин и рисунков на стенах. Пусто.
- Григорий Иванович, вы... куда? - спросил Николаи.
Корташевскии положил ему руку на плечо.
- Да да, уезжаю. Сегодня утром получено письмо - сенат к сожалению, отказал восстановить нас в университете. Может, никогда не вернусь в этот город...
Голос Корташевского дрогнул. Этого Николай не мог перенести. Отвернувшись, он заплакал. Вошедший в эту минуту Сергей тоже всхлипывал.
- Ну, ну, друзья, - утешал их Корташевскии. - Так не годится... Вы теперь уже при шпаге. Мужайтесь! - Он повернулся к столу. - Вот здесь я вам отложил кое-что.
Знал, что вы придете. Это Ломоносов, - указал он на толстые тома в кожаных переплетах. - А тетрадь - мои выписки из Дидро. У этого философа много поучительного.
Вот, например, здесь, послушайте: "Необъятную сферу наук я себе представляю как широкое поле, одни части которого темны, другие освещены. Наши труды имеют своей целью или расширить границы освещенных мест, или приумножить на поле источники света. Одно свойственно творческому гению, другое - проницательному уму, вносящему улучшения..." Чувствуете?..
Беседа затянулась допоздна. Пожалуй, никогда еще Корташевскии не разговаривал с учениками так задушевно и долго.
Когда Лобачевский вернулся в гимназию, там все уже спали, утомленные впечатлениями торжественного дня. Он тоже разделся и лег. Но спать не давали тревожные мысли о Григории Ивановиче.
- Не может быть! Не может быть! - повторял он шепотом.
Но вдруг представил Яковкина с его сладкой улыбочкой.
- Этот все может! - чуть не вскричал Николай и, сбросив одеяло, встал с кровати. Затем, прихватив книги, карандаш и свечу, он отправился на второй этаж, пробормотав по дороге: "Все равно теперь не уснуть".
В коридоре было темно. Лобачевский на ощупь нашел одну из классных комнат и, закрыв за собой дверь, зажег свечу. Положив на стол только что принесенные от Григория Ивановича книги Ломоносова, он внимательно перелистывал их страницы, отыскивая в них высказывания об Аристотеле.
- Наконец-то! - воскликнул он. - Чуть было надежду не потерял. Вот: "Все, которые в оной [Имеется в виду философская наука] упражнялись, одному Аристотелю последовали и его мнения за неложные почитали, думали, будто бы он в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было главным препятствием к приращению философии и прочих наук, которые от ней много зависят. Через сие отнято было благородное рвение, чтобы в науках упражняющиеся один перед другим старались о новых и полезных изобретениях..."
По мере чтения предисловия Ломоносова к "Физике"
Вольфа Николай оживлялся: "Вот верно! Так!" Наконец, сам того не замечая, стал читать вслух:
- "Словом, в новейшие времена науки столько возросли что не только за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться. Сие больше происходит оттого, что ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве" [Под этим словом Ломоносов понимал эксперимент, испытание, опыт].
- Вот-вот, - повторял он. - Выходит, что и к таким великим умам, как Аристотель, относиться надо с критикой...
Запишем.
Гусиное перо зашуршало по жесткой бумаге. Страницы покрывались беглыми строчками.
Отложив том Ломоносова, Николай взъерошил чуб, на минуту прижал свои ладони к глазам.
- А что же говорит об этом Дидро? Ну-ка, взгляну, - стал он торопливо перелистывать страницы тетради Корташевского, пока не отыскал "Мысли к объяснению природы".
- "Математические науки без опыта не приводят ни к чему прочному... Понятия, не имеющие никакой опоры в ппироде, можно сравнить с северными лесами, где деревья не имеют корней. Достаточно порыва ветра, достаточно незначительного факта, чтобы опрокинуть весь этот лес деревьев и идей".
Чем больше читал Лобачевский, тем яснее понимал, что (Ъпанцузский ученый, как и Ломоносов, был горячим последователем философии, призывающей учиться у природы.
Но важнее всего ему показалась последняя выписка.
- "Не знаю, в каком смысле философы полагали, - читал он задыхаясь от волнения,- будто материя безразлична к движению и покою... По-видимому, это предположение философов напоминает положение математиков, допускающих точки, не имеющие никакого измерения; линии - без ширины и глубины; поверхности - без толщины".
Вскочив с места, Николай зашагал по классу.
- Демокрит! Ломоносов! Дидро! - восклицал он, воссторгаясь их открытиями.
Знал он теперь, по какой идти дороге. И быть может, именно в эту минуту явилось предчувствие, что и ему предстоит принять участие в этой великой борьбе света и разума с морем тьмы, косности, невежества.
Робкий утренний рассвет вернул Николая к заботам очередного дня. Прежде всего, наспех одевшись, пошел он искать Балясникова.
- Пeтр! Сенат уволил Корташевекого, - почти крикнул он, едва увидев его в коридоре. - Что же делать?
Балясников остановился.
- Вчера я видел, Григорий Иванович вещи укладывает, - сообщил Николай.
- Надо идти к губернатору, - проговорил Балясников после минутного раздумья. - И не медля. Требовать: Яковкина - вон, Григория Ивановича и других оставить.
- А выйдет ли толк? - усомнился Николай. - Мансурову до нас и дела нет.
- Другого, поумнее, в казанских верхах, к сожалению, пока не имеется, отрезал Балясников. - Чем располагаем, за то и хватаемся.
- Идем! - предложил Николай. - На занятиях со всеми переговорить успеем. Так?
- Согласен, - Балясников широко взмахнул рукой и протянул ее Николаю.
Весь день среди студентов было заметно движение: собирались по два-три человека, разговаривали, сохраняя равнодушное выражение лиц; когда же появлялся надзиратель, немедленно расходились.
К вечеру на летучем собрании студентов, которое проходило на заднем дворе, было решено: идти всем. С губернатором от старших студентов говорить Балясникову, от младших - Лобачевскому.
Появление студентов Мансурову не понравилось: в нем он усматривал опасное неповиновение начальству. Однако принял их довольно вежливо и обещал рассмотреть заявление в ближайшее время.
Но, к его негодованию, студенты на следующий день дерзостно явились узнать, дан ли делу ход.
Возмущенный таким своеволием, губернатор не только не принял студентов, но приказал дежурному офицеру препроводить их в распоряжение университетского начальства.
Восстановив таким образом дисциплину, Мансуров считал дело благополучно разрешенным. Но возмущенные, студенты в ответ на необдуманные меры начальства перестали ходить на лекции. Дело пахло бунтом.
Немецкие профессора, погнавшиеся в Казань за длинным рублем, при виде пустых аудиторий перепугались не на шутку. Еще сильнее встревожились родители бунтарей и общественность города. Случай до сих пор небывалый.
"Мятежный" университет не имел еще ни отдельной от гимназии самостоятельной организации, ни правильно поставленного преподавания. Казалось, министру просвещения ничего не стоит росчерком пера смести с лица земли такой университет и расправиться с бунтовщиками. Но город принял горячее участие в университетских делах. Поднялся неслыханный шум. Сослуживцы и воспитанники открыто возмущались поведением Яковкина.
Губернатор Мансуров ошибся, полагая, что студенческий бунт можно погасить обычными полицейскими мерами. Скрепя сердце обратился он письмом к министру внутренних дел, признавая непригодность Яковкина к руководству университетом.
"Учреждение здесь университета, - сообщалось в этом письме, представляло каждому благомыслящему лестные виды в ожидаемом распространении просвещения...
Начала, положенные в гимназии, долженствовали бы служить к тому основанием. Но, к сожалению, с беспристрастным голосом всей публики, смею сказать, что управление сими заведениями вверено человеку без достаточных способностей, профессору Яковкину, которого качество, правила и частную жизнь не одобряет общее мнение. Всеобщий ропот на упущение воспитания, не прикрываемое даже ни наружным порядком, ни наружной благопристойностью произвел те последствия, что некоторые воспитанники взяты были обратно, не докончив ученья, и многие по недоверию удерживаются отдать в гимназию детей своих.
Наконец, из членов университета, люди, заслужившие доверенность публики и желавшие исправить беспорядки, совсем неожиданно отрешены. Из сих профессор и доктор Каменский, с великими познаниями по своей части, наилучше аттестованный прежним своим начальством и приобретавший здесь как по своим талантам, так и по образу жизни общее одобрение, совершенно отрешен от должности. Еще хуже поступлено было с адъюнктом - профессором Корташевским, человеком с отличными способностями и знанием, с наилучшим образом мыслей и поведения...
Оба они просили в свое время показать им причины отрешения, но им ничего не ответствовано..."
Казалось, Мансуров заинтересовался делом, о котором писал. Но это было не так.
"Если бы успехи просвещения не имели тесной связи с другими предметами, к пользе народной относящимися...
и если бы, наконец, - закруглял он, чтобы выйти сухим из воды, негодование публики, приемлющей участие в жребии отрешенных и в пользах воспитания, не были мне побудительными причинами по вверенному в губернии хозяйству, - я бы не смел утруждать Ваше сиятельство в деле, для меня чуждом".
28 февраля, узнав о письме губернатора, студенты наконец решили возобновить занятия и отправились в аудитории. Николай побежал сообщить Григорию Ивановичу о письме губернатора и посоветовать ему, отложив отъезд, подождать ответа министра. Затем, успокоенный, вернулся в университет.
Но вечером, уже по дороге в спальную комнату, догнал его заплаканный Сергей и, оглядываясь, тихонько сунул в руку записку.
- От Григория Иваныча, - шепнул он.
Николай незаметно развернул помятый, сложенный вчетверо листок бумаги. "Через час уезжаю. Приходи", - прочитал он. А внизу приписка: "Без шума".
- Значит, никому не говорить? - спросил Николай.
- Ни в коем случае, - ответил Сергей.
Через минуту, незаметно проскользнув мимо дежурного, они уже бежали по улице.
- Только что получена депеша из Петербурга, - объяснял на ходу Сергей. - Срочно вызывают Григория Иваныча и Каменского. Зачем - неизвестно.
Корташевский встретил их в полном сборе к отъезду.
Шуба, меховая шапка, рукавицы лежали на стуле около двери. Все понимали: дорога будет нелегкой.
Григорий Иванович обнял Николая.
- Спасибо, что сразу пришел. Мы отправляемся ночью. Ждать больше нечего. Иначе нельзя. Но главный разговор наш не о том. О тебе.
Учитель и ученик не заметили этого сердечного перехода на "ты". Сережа молча поспешил в свою комнату, чтобы не мешать им.
- Ты выходишь на верный путь познания математических истин, - продолжал Корташевский, опускаясь на диван и движением руки предлагая Николаю сесть рядом. - Но это первые шаги. Демокрит, Ломоносов, Дидро указывают путь к проникновению в истинное начало геометрии. Вероятно, уже не суждено мне принять участие в этом великом труде. Но Румовский понял то, что и я понимаю. Ты, Николай, и твои товарищи разрешите эту задачу. Помни, что сказал Радищев: "Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский".
Григорий Иванович задумался. Молчал и Николай, не в силах произнести ни слова.
Корташевский наконец поднялся.
- Пора, мой друг, - взволнованно проговорил он и начал прощаться.
Николай не помнил, как спустился по выщербленным ступенькам старой лестницы, как долго бродил по городу.
В университет он вернулся, когда совсем окоченел от холода. Бабай, ночной сторож, помог ему войти незамеченным и тем избежать неприятностей.
Не прошло и двух недель после отъезда Коршшевского в Петербург, как за любимым учителем отправился и Сергей Аксаков.
Расставание с близкими людьми тяжело сказалось на Лобачевском. В Казани оставался еще Ибрагимов, но тот был серьезно белен. Петровский уволился, не без помощи Яковкина, и в библиотеке появился новый заведующий.
Николай похудел, осунулся: куда исчезли его кипучая энергия, упорство? Можно было подумать, что юноша перенес тяжелую болезнь. Даже к университетским занятиям он зачастую оставался безучастным. Правда, этому способствовало еще и то, что после отъезда Корташевского преподавание математики временно поручили студенту Владимиру Графу. Он повторял со студентами гимназический курс: алгебру, начала геометрии. Николаю, опередившему своих товарищей, все это было знакомо. Да и сам Граф, назначенный учителем, в своих знаниях вряд ли мог с ним соперничать. Николая все меньше привлекал университет, а лекции Графа он и вовсе не посещал. Проверяя студенческие ведомости, Яковкин с большим удовольствием отметил это обстоятельство.
- Наконец-то, - ехидно проговорил он. - Остыл жар будущего великого математика. Его высокопревосходительство поторопился тогда е пророчеством замечательных успехов сего студента. Ну что же? Не беда, если и потерпит разочарование.
А Николай действительно вел себя так, что это подтверждало злорадные предсказания директора. На короткое время его былое увлечение геометрией как будто пробудилось: он принялся, хотя и без прежнего жара, за решение сложных геометрических задач. Но так же скоро без причин охладел к ним и стал опять ко всему безразличным.
В стенах опустевшего, опостылевшего университета ему было душно.
Теплым апрельским утром Николай вышел побродить по городу. Он шел по главной - Проломной улице и вдруг услышал веселые возгласы лавочников:
- Ой, студено идет, студено! Шпага-то кривая!
Не зная, куда бы скрыться, Николай свернул в переулок и вышел на Булак. Летом этот канал отравлял весь город испарениями гнили. Но сейчас, весной, полный свежей волжской воды, украшенный вереницей барж, он был так удивительно красив, что Николай залюбовался им.
- Эх, ухнем! - запели бурлаки. Они дружно поднимали на цепях большой деревянный мост, чтобы пропустить под ним груженую баржу.
Николай подождал, пока баржа прошла иод мостом, затем двинулся дальше вдоль Булака. Набережная была заполнена: толпа вскоре подхватила и понесла его в сторону крепости. Не заметил он, как очутился в центре весенней татарской ярмарки "Ташаяк" [Ташаяк - дословно "глиняная посуда" (тат.)]. Своим названием она была обязана большому количеству посуды: фарфоровой, стеклянной и особенно глиняной, которую тут же сгружали с прибывших барж. Кроме посуды, ярмарка пестрела привозными товарами: тут были самые разнообразные тюбетейки, башмачки, ичиги, ковры. Кругом слышались гудки, свист, радостные ребячьи голоса. Мальчишки пускали фонтанчики вверх из глиняных брызгалок и ловко ныряли в толпу, спасаясь от рассерженного прохожего.
Ярмарочный шум, яркое солнце, веселье захватили Николая. Он остановился у балагана, перед которым, переваливаясь с лапы на лапу, неуклюже плясал большой бурый медведь. Вожак - одноглазый татарин в засаленной тюбетейке выбивал бойкую дробь на самодельном лубяном барабане. Товарищ его, тоже татарин, с таким же увлечением пиликал на самодельной скрипке. Лицо его было уморительно смешным. Когда смычок с резким визгом вел мелодию на высоких нотах, брови музыканта поднимались, когда же переходил к басам опускались. И уж совсем забавно было смотреть, когда смычок вдруг начинал метаться по струнам, выводя невероятные трели: глаза и брови татарина, в отчаянном стремлении не отстать, казалось, тоже пускались в пляс, вызывая дружный смех зрителей.
От смеха человек добреет, - в шапку музыканта, которую нес в лапах по кругу замаявшийся медведь, посыпались медяки. Николай тоже бросил монету.
Побродив по ярмарке, он отправился далеко за город: после суматохи ему хотелось отдохнуть в лесной тишине, послушать веселые птичьи голоса. В университет вернулся только вечером, не зная, как быть дальше.
У лестницы его окликнул сторож:
- Извольте пройти в приемную. Там вас маменька дожидается.
Николай бросился по коридору и замер на пороге приемной: мать сидела на диване, одной рукой обнимала Алексея, другой - Александра, и что-то им рассказывала.
Николай кинулся к матери, обнял ее.
После первых минут радости Прасковья Александровна сказала:
- Садись. Ведь я из-за тебя сюда приехала.
- Из-за меня? - удивился Николай. - Мама, но ведь я ни в чем...
- Вот письмо Григория Ивановича, - договорила Прасковья Александровна, раскрывая сумку.
- От Григория Ивановича? Мама, где он сейчас? Что с ним?
- Видишь, ты сам даже узнать не позаботился. А ведь он о тебе так беспокоится. И меня приехать заставил.
Я чуть на переправе не утонула... Вот слушай, что пишет. - Прасковья Александровна достала письмо и, развернув его, стала читать: - "Я сам все еще сомневаюсь в полной спра-"
ведливости полученных из Казани неприятных нам всем известий. Мне никак не верится, чтобы перестал учиться мой лучший ученик..."
Николай несколько времени сидел молча.
- Правда? - спросила мать.
- Правда, - почти шепотом ответил он. - Я не ходил на занятия, бродил по улице, чтобы не быть в этом здании.
Здесь мне все напоминает Григория Ивановича. И всех, кто с ним ушел отсюда. Я лучше буду самостоятельно, по книгам...
- Так-так, Григорий Иванович это предугадывал. Послушай дальше: "Может быть, Николай думает учиться самостоятельно. Если так, он крепко ошибается. В частном воспитании нет самой могущественной пружины, нет того живейшего и сильно воздействующего на молодые сердца побуждения, короче говоря, нет соревнования, рождающего страсть к чести и нравственному изяществу. Но такое соревнование найдете в гимназии, в университете, ибо оно обитает в заведениях общественного воспитания. Кроме того, найти богатую библиотеку, физический кабинет, ботанический сад, машины можно только в заведении общественном..."
Закончив чтение, Прасковья Александровна вопросительно посмотрела на сына.
- Как же, Коля? Решай сам, останешься в университете или со мной соберешься в Макарьев, в одиночку заниматься?
Николай вдруг повернулся к матери, поцеловал ее и стремительно вышел из комнаты, не сказав ни слова.
Прасковья Александровна вынуждена была задержаться в Казани.
Дня три Николай ходил хмурый, где-то пропадал. Следивший за ним Александр сообщил матери, что брат ходил к больному Ибрагимову. Затем отправился на суконную фабрику и в Адмиралтейскую слободу.
Наконец Николай вернулся к матери и коротко доложил ей:
- Остаюсь. Буду здесь учиться.
До переводных экзаменов оставалось мало времени.
Однако Николай взялся готовить пропущенные им уроки с такой же настойчивостью, с которой когда-то искал ответы на все вопросы. Он сидел за книгами днем и ночью, никуда не отлучаясь.
Экзамены прошли успешно. Прасковья Александровна, еле дождавшись их окончания, теперь не помнила себя от радости: Александр обнаружил "чрезвычайные дарования и таковые же успехи в физических науках"; младший, Алексей, был принят на первый курс университета; Николай отличился познаниями в математике и натуральной истории.
В Макарьев с матерью на летние вакации собрались и ее сыновья. Выехать решили ночью перед рассветом: по холодку лошади бегут охотнее и людям легче. Рассчитывали в самую жару останавливаться где-нибудь на дневки до вечерней свежести.
Накануне, девятнадцатого июня, уже к вечеру, Николай пошел к Дмитрию Перевощикову проститься и попросить у него на лето книг по математике.
Увлекшись разговором о рыбной ловле, он засиделся у Дмитрия. Вдруг дверь со стуком распахнулась, и в комнату вбежал Василий Перевощиков. Но, увидев Николая, испуганно попятился.
- Там... сейчас на Казанке, - начал он, задыхаясь, - там, там... - Не договорив, бросился на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, зарыдал.
- Вася! - Дмитрий схватил его за плечо и встряхнул, стараясь оторвать от подушки. - Вася! Что случилось? Да скажешь ли ты наконец?
Василий поднял свое лицо, залитое слезами.
- Скажу, не ему. - Он указал на Лобачевского. - Ему нельзя.
- Что?! - испугался Николай, вскочив с места.
- С ума ты сошел? - в отчаянии крикнул Дмитрий, Схватив за угол подушку, он вырвал ее из-под головы брата. - Сейчас же говори!
Василий вдруг оттолкнул его и сел на кровати.
- Саша, - выговорил он медленно. - Саша Лобачевский... утонул!.. Панкратов два раза нырял, но сам чуть не погиб...
Николай на миг оцепенел, провел рукою по лбу и, вдруг крикнув: "Саша!" - кинулся вон из комнаты.
Он бежал на Казанку. Еще издали увидел на берегу толпу. Люди, в мокрой одежде, с баграми, с веревками, расступились перед ним. Саша лежал на земле, покрытый кем-то принесенной простыней. Все молчали.
Не скоро нашли женщину, которая смогла бы сообщить о несчастном случае матери. Но в последнюю минуту Николай удержал ее.
- Не надо... Я скажу сам.
Сопровождаемый студентами, он вошел в дом, затем в комнату, где Прасковья Александровна уже кончила последние приготовления к отъезду, повернулся и плотно закрыл дверь. Студенты, оставшиеся в передней, стояли молча, не смея шевельнуться. Вскоре за дверью послышался вскрик, и все вдруг затихло. Ни крика больше, ни плача.
Это было самое страшное.
Дверь наконец отворилась. Мать стояла у порога, опираясь на руку Николая.
- Проведите меня к нему, - тихо сказала Прасковья Александровна.
Глубокой ночью следующего дня сыновья увезли мать в Макарьев.
Так печально закончился первый университетский год Николая Лобачевского.
ХИМИК ИЛИ МАТЕМАТИК?
Возмутившее всех изгнание Корташевского и трагическая смерть Александра надолго лишили Николая душевного равновесия. Бессонные ночи, наполненные какимто полубредом, следовали одна за другой. Он понимал:
дальше так продолжаться не может, но пока не знал, что же делать. Едва засыпали все, Николай, закрывая рукой пламя свечи, пробирался по коридору в пустую аудиторию.
Отчаянным усилием воли он пытался продолжать занятия по математике, стремясь отвлечься от ночных кошмаров. Однако ничего нового не находил, а здоровье заметно ухудшалось. Впалые глаза, бледность и худоба стали видны всем посторонним. "На глазах тает", - чуть не со слезами думал Алексей, наблюдая за братом. Он решил уговорить Николая пойти после занятий подышать свежим воздухом. Тот согласился.
Направились они в заброшенный Волховский парк на берегу Казанки, отгороженный ветхим забором от Арского поля. Река, глубокие живописные овраги, далекий вид на Заречье напоминали волжские просторы в Нижнем, овраг у Почайны...
Алексей с радостью заметил, как повеселели глаза Николая и просветлело его лицо.
- Ты помнишь, Алеша, - заговорил он, оживляясь, - давно это было, я стихотворение сочинил? Про старый дуб и речку. Смеешься? Постой, вспомню...
Они долго еще бродили без цели, забыв о лекциях и ежедневных заботах. Ловили бабочек на берегу, катались на лодке, довольные собой и всем на свете.
Возвращались не спеша. На Воскресенской улице Алексей остановился у Тенишевского дома, расположенного рядом с гимназией. В его нижнем этаже помещались химические классы.
- Постой, кажется, днем забыл огонь потушить, - сказал он, - я только на горн взгляну. Сейчас вернусь.
Николай, не дожидаясь, пошел за ним следом. Едва раскрылась дверь кабинета, как оттуда ударил кислый запах.
Братья закашлялись.
- Что ж это? - спросил Николай.
- Опыты, опыты, молодые люди, - послышался веселый голос где-то за шкафом.
- Это сам Эвест? - тихо спросил Николай.
- Нет, наш лаборант-механик Никита Филиппович Горденин, - ответил Алексей. - Вот уж на все руки мастер! Видишь, в той комнате, - показал он рукой на другую открытую дверь, - печь большая? В ней три горна и котел.
Так вот мех для подачи к ней воздуха он сам построил.
Комиссия принимала. Очень хвалили его и новый профессор Фукс, и Эвест, и Запольский. Он и в стекольном деле мастер: вся химическая посуда, какую ты видишь, - его работа. Золотые руки!
Алексей говорил с увлечением и был очень рад, что брат слушал его с интересом.
- Для этого зимой Никита Филиппович целый месяц работал на хрустальном заводе Юшкова в Васильеве, - продолжал он, показывая Николаю стол, заставленный химической посудой и банками с реактивами. - Вот смотри, это я тут занимаюсь. Хочешь узнать чем?
- Не знаю, будет ли мне так интересно, - засмеялся Николай.
Алексею показалось, что к брату возвращается прежнее безразличие.
- Жаль, Николай: кроме своей математики, ничего ты знать не хочешь! заговорил он быстро, - Как же Ломоносов? Его на все хватало. И математик, и философ... Смотри! - Алексей взял с полки небольшую книгу. - Видишь?
"О пользе химии".
При имени Ломоносова Николай оживился, протянул руку.
- Нет, нет! - Алексей вернул книгу на полку, - Ты прежде взгляни, чем я занимаюсь. Например, вот в этих колбах два водных раствора. Но друг е другом не смешиваются. Как перевести растворенное вещество из первого растворителя во второй?
- Выпарить первый раствор, - не задумываясь, ответил Николай.
- А если с растворителем и растворенное вещество улетучится?.. То-то! Не так уж химические дела просто решаются!
Повернувшись, Алексей вынул из шкафа обернутую черной бумагой колбу с бесцветной жидкостью,
- Это сероуглерод. Он с водой не соединяется, очень сильный растворитель. Смотри!
Он влил немного сероуглерода в колбу с водным раствором какого-то красноватого вещества, помешал стеклянной паоючкой. С видом фокусника торжественно раскланялся и иротянул брату колбу:
- Айн, цвай, драй! Получай!
Николай заинтересовался. Взяв колбу, он повернул ее к свету. Сероуглерод отделялся от воды, всплывая наверх, но был уже не бесцветным, а красным: слой воды посветлел.
- Видал! - воскликнул Алексей. - Сероуглерод забрал и растворил в себе вещество, которое содержал водный раствор. Ловко, не правда ли? Сам от воды отделился и вещество прихватил.
Но, взглянув на брата, вдруг осекся. Тот, рассматривая колбу, думал о другом.
- Два слоя. Так... Так... И между ними общая граница, - с увлечением рассуждал Николай. - Значит, определяя поверхность, обращаем внимание на прикосновение двух тел. Сероуглерод отделяется от воздуха тоже поверхностью.
Николай подошел ближе к свету, рассматривая жидкость. Вот он отдалил и снова приблизил колбу к своим глазам. Алексей наблюдал за ним, не решаясь вмешиваться.
- Если так... - продолжал Николай, не замечая ни Алексея, ни заглянувшего в дверь лаборанта, - если так, то геометрически одинаковыми будут такие тела, которые, занимая равное место, одинаково прикасаются к окружающему пространству. Да-да, именно прикосновение является общим геометрическим свойством для всех тел природы.
Стало быть, из этого отличительного качества должно проистекать учение о линиях и поверхности.
Николай осторожно поставил колбу на стол. Гла"а его сияли, складки на лбу разгладились. Наконец-то загадка показалась ему решенной. Теперь уже и самому нетрудно вывести понятие о точке, линии, о поверхности.
- Нашел, Алеша! - радостно заговорил он. - И все через твою химию! Вот что значит опыт! Рассуждение и опыт. Сочетание двух лестниц. Как был прав Ибрагимов!
Николай обхватил стоявшего в недоумении брата и стремительно закружил по комнате, едва не свалив его на стол с реактивами.
В тот же вечер, дождавшись, когда все разбрелись кто куда, Николай сел за письмо к Григорию Ивановичу. После извинений за долгое молчание поделился он с учителем своей сокровенной мыслью.
"Исходя из первоосновы - прикосновения тел, - нисал он, - кажется, можно получить все начальные понятия геометрии. Тело получает название поверхности, когда оно касается другого и когда принимают в рассуждение только это взаимное прикосновение. Потому возможно отбросить все части одного, неприкосновенные к другому. Линией называется тело, которое касается другого только линейно, при условия, что все остальные, не прикосновенные друг к другу части будут отброшены. Так доходим до тонкости волоса, черты от пера на бумаге.
И последнее. Тело получает название точки, когда рассматривают его прикосновение к другому в точке, а потому дозволяют отбрасывать части первого, неприкосновенные к другому. Так можно доходить до малости песчинки или точки от острия пера на бумаге.
Таким образом, в поверхности, линии и точке обращаем внимание только на прикосновение тел..."
Дописав и запечатав письмо, Николай впервые за много дней почувствовал, что с души свалилась какая-то тяжелая ноша.
Ему захотелось выйти подышать свежим воздухом. Но уже совсем собравшись, он вдруг вспомнил:
- А как же Ломоносов! "Слово о пользе химии"?
В его сундучке лежало полное собрание сочинений Ломоносова. Но эта работа до сих пор оставалась непрочитанной. Однако сегодня химия неожиданно помогла Николаю, как ему казалось, найти ключ к начальным понятиям геометрии. Через минуту он уже сидел за столом, с жадностью перелистывая страницы "Слова". Как мог он раньше не обратить внимания на эту работу, в которой так удивительно показана тесная связь различных отраслей науки, в частности химии, с натуральной историей и математикой! Но разве можно было предположить, что книга по химии имеет отношение к математике!
"Почему исследователи естественных вещей в сем деле так мало преуспели?" - спрашивал в ней Ломоносов.
И разъяснял, что для этого требуется, чтобы в одном человеке сочетался весьма искусный химик и глубокий математик. Причем от химика он требовал и теоретических знаний и искусства в практической работе, а от математика "привыкнув к математической строгости в изобретениях и доказательствах, уметь вывести в природе сокровенную тайну". Химию великий ученый называл руками науки, а математику - ее физическими очами.
Все важное для себя из этого "Слова" Николай подробно изложил в тетради. В конце приписал: хочешь стать настоящим математиком старательно изучай прочие науки, особенно опытные: химию и физику.
На следующий день первым занятием шла математика.
Ее по-прежнему вел студент Граф. Лобачевский отправился в химический кабинет, к адъюнкту Эвесту, который преподавал химию и materia medica [Materia medica - теперь фармакология].
Эвест стоял в передней комнате, что-то прокаливая на бледном пламени паяльной горелки. Ему не было еще и сорока лет. Но, растрепанный и неряшливый, он выглядел много старше.
В ответ на почтительный поклон Лобачевского Эвест кивком указал ему на табуретку и опять занялся горелкой.
Кончив свое дело и узнав, что Николай желает получить сведения по химии "начиная с азов", он сразу оживился и потащил его в заднюю комнату, представлявшую основную лабораторию.
Николая неприятно поразили грязь и беспорядок в этой комнате, скорее напоминавшей захламленную кухню. Огромный стол был завален химической посудой, большей частью невымытой.
Химик, видать, обрадовался приходу нового слушателя.
- Химией уже занимались? - быстро спросил он его. - Нет? Ничего, скоро догоните. Займемся добыванием лекарственных препаратов. Специальная наука materia medica вам не известна? Возьмите у Яковкина разрешение посещать мои лекции.
- Но, - смутился Николай, - интересуюсь я только химией, а лекарем быть не собираюсь.
- И не нужно, - согласился Эвест, суетливо разбирая что-то на столе. Это наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм. Вы будете в ней моим первым учеником. Все почему-то записываются на химию.
А ведь и в materia medica я рассматриваю не только лекарственные вещества, но и обычные химические элементы.
Разве только...
Эвест вдруг остановился. Посмотрел на Лобачевского и с лукавой улыбкой погрозил ему банкой с раствором, которую держал в руке.
- Только... вы Яковкину об этом не больно докладывайте... Хорошо?
- Согласен! - улыбнулся Николай.
На лице Эвеста расплылась улыбка. Он хотел что-то сказать еще, но вдруг на соседнем столе зашипело и забулькало. Химик повернулся так быстро, что фалды его сюртука взметнулись вверх, и кинулся к нагретой колбе, из которой клубами поднимались удушливые пары. Николай, очень довольный, вышел.
С этих пор начал он регулярно посещать лекции Эвеста и до позднего вечера просиживал в его лаборатории.
Интерес к химии, которая сулила ему новые знания, возрастал с каждым днем. Эвест в лабораторию прибегал часто, но в суть работ вникал мало: заглядывая в чашки и колбы, он скорее имел вид любопытствующего посетителя, чем внимательного учителя. Однако полное предоставление инициативы нравилось молодому "химику", как уже многие называли Николая.
За новыми увлечениями незаметно подошел 1808 год.
На столе Яковкина лежала толстая папка - "Ведомости о занятиях и успехах воспитанников". Директор-профессор придирчиво ее перелистывал. Вдруг морщины на его низком лбу разгладились, тонкие губы растянулись в злорадной усмешке.
- Достопримечательно!.. Утешительно! - сказал он, взяв свежеочиненное гусиное перо.
Директор-профессор был обрадован свыше меры: в списке студентов, записанных на посещение лекций по математике, отсутствовало имя Лобачевского.
- Вот так "математик"! - цедил Яковкин. - Тэк-с, тэк-с... Подумать: на materia medica перескочил! Эвест на единственного своего слушателя не нарадуется... Не иначе мать, по моему совету, на медицину уговорила, продолжал он перелистывать ведомости. - "Математик"
был да сплыл. Теперь попечитель им интересоваться перестанет. А нам это на руку-с!
Директорское перо так и летало по бумаге. Как же не обрадовать уважаемого попечителя таким известием!
Письмо было составлено весьма искусно: сперва сладкоречивые поздравления с Новым годом, приветствия членам семьи его высокопревосходительства, усердное приглашение не отказать посетить Казань... И лишь в самом конце вскользь упомянуто: "Студент Николай Лобачевский приметно предуготовляет себя для медицинского факультета" [Это письмо, сохранившееся в архивных фондах Казанского учебного округа, ввело в заблуждение многих современных авторов, писавших о Н. И. Лобачевском. У них студент Николай Лобачевский представлен как "мечущийся между медициной и математикой". Но медицину читал профессор Браун, на лекциях которого Н. Лобачевский не бывал. А что представляла materia medica - читатель уже знает]. Дальше вновь шли приветствия и лучшие пожелания.
- Письмецо-то с начинкой! - резюмировал директор и, не жалея сургуча, припечатал его круглой университетской печатью.
Однако "начинка" в письме оказала неожиданное для Яковкина действие.
* * *
Санкт-Петербург.
Тяжелые хмурые облака низко плывут над Невой, чуть не касаясь крыш величественных дворцов, украшающих гранитную набережную.
Степан Яковлевич Румовский заранее предчувствует изменение погоды: его старые кости по ночам так ломит, словно впиваются в ноги десятки сотен иголок. Только лишь днем он забывается.
На этот раз мокрый снег начался еще с вечера, значит, затянется надолго. С мучительными, не дающими покоя мыслями о предстоящей бессоннице Степан Яковлевич после ужина прошел в свой кабинет. Бегло просмотрев свежие газеты, начал он разбирать корреспонденцию. В первую очередь всегда читал письма из Казани. До сих пор ему еще не были досконально известны главные причины печальных событий, имевших место в университете в прошлом учебном году.
Несмотря на взволнованные доклады профессора Каменского и адъюнкта Корташевского, а также на жалобы губернатора Мансурова и некоторых других, Румовский не совсем верил в то, что положение в Казанском университете чрезвычайно тревожное. Выдвинутые обвинения против директора-профессора он считал клеветой завистников.
Но вот и письмо от Яковкина. Старику Румовскому оно показалось весьма обстоятельным и даже искренним. Возникшее в его душе недоверие к директору-профессору начало таять как льдинка, брошенная в теплую воду... А это что? "Лобачевский приметно предуготовляет себя для медицинского факультета..."
Седые брови попечителя хмурятся. Он поправляет очки, строго сжимает губы, еще и еще раз перечитывает замысловато выведенную строку. Затем, отстранив письмо и положив локти на стол, Румовский погружается в размышления.
Лобачевский... Ему вспомнился мальчик за столом, заваленным книгами. Философия, математика... Три-четыре книги на древних и современных языках... Он склонился над ними, когда его товарищи бегают и шалят во дворе.
Затем студент, увлеченный поисками начал геометрии, о котором с таким восторгом отзывался Корташевский...
И вдруг попечитель неожиданно вспомнил. "Знаете вы этого Лобачевского?" - спросил он тогда у Яковкина и в ответ услышал язвительный голос: "Как же, самый озорной". Следовательно, для директора-профессора способности гимназиста к математике, языкам и философии не имели значения. Озорство, простительное в этом возрасте, их заслонило. Может ли такой человек быть воспитателем юношества? Способен ли сам отличать и растить молодые таланты? С большим опозданием истина вдруг начинала проясняться.
Но если студент Лобачевский совершил такой опрометчивый шаг, то, вероятно, должны быть какие-то веские причины, размышлял Румовский. Он и сам в пору молодости чуть было не заблудился.
Во время опытов с атмосферным электричеством от внезапного удара молнии погиб его любимый учитель Рихман. Предавшись безудержному горю, студент Румовский начал сторониться в академии своих товарищей. Казалось ему, что пламенная любовь к математике и физике остыла. Он продолжал посещать лишь лекции по химии, которые читал тогда Ломоносов. Этот великий учитель заметил и понял состояние своего ученика и сразу же отправил его в Берлин к знаменитому в ту пору математику и механику Леонарду Эйлеру для продолжения образования.
Михаил Васильевич, заботившийся о воспитании молодых ученых, понял тогда Румовского и сохранил его для науки.
А теперь вот он и сам, вице-президент Академии наук, знает ли причины, побудившие Лобачевского забросить геометрию?
"Вы отвечаете за этого юношу перед отечеством и наукой", - сказал он тогда Яковкину. А сам он разве не отвечает?
Румовский невольно поднял глаза к портрету Ломоносова. Почудилось: бывший учитель посмотрел на бывшего ученика сурово.
- Завтра же в Казань. Разберу, не мудрит ли Яковкип!
С этими словами он вскочил с кресла и... с болезненным стоном рухнул обратно.
Несколько дней Степан Яковлевич пролежал в постели.
К страданиям от боли в ноге присоединились душевные муки. Он понял, что полное доверие директору Яковкину было с его стороны ошибкой. Не придал он должного значения словам профессора Каменского и адъюнкта Корташевского и, уволив их, оказал университету медвежью услугу. Не поэтому ли от математики отошел теперь Лобачевский, несомненно самый одаренный в этой области юноша? Надо найти способ исправить содеянное.
Прежде всего необходимо установить самый строгий контроль над всей деятельностью директора, думал Румовский. Он сам не сможет выбраться в Казань, следует просить министра послать ревизора. Хорошо бы отделить университет, чтобы прекратить недоразумения в совете и дать ему полную автономию, предусмотренную уставом 1804 года. Для этого необходимо ускорить строительство нового здания.
Чтобы улучшить преподавание в этой высшей школе, нужны были ученые. Румовский начал заботиться об этом еще задолго до открытия университета. Своих ученых тогда не хватало, пришлось выписывать профессоров из-за границы, главным образом из Германии. Многие из иностранцев не оправдали себя на деле: приехав сюда в погоне за деньгами, эти горе-профессора не только не заботятся о воспитании кадров местных ученых, но и не дают им расти. Значит, в будущем следует приглашать ученых лишь по строгому выбору, от всего сердца преданных науке, - таких, какими были Бернулли, Эйлер и Рихман. Вместе с тем, чтобы очистить Россию от иноземных трутней, придется удвоить, утроить старание по воспитанию в университетах своих научных сил, молодых русских ученых.
Так думал Румовский, с болью в душе признавая, что мысли эти не новы. Те же надежды лелеял он, еще приступая к организации Казанского университета. Но задуманное не выполнено. Теперь остается исправить ему старое и далее не повторять ошибок. Едва поправившись, он приступил к работе.
...В Казанском университете жизнь тем временем шла по-старому. В последних числах января, собрав юношей в большом зале, Яковкин огласил "Правила поведения студентов", которые вводились впервые. Правила эти ничего хорошего не сулили студентам. На первом плане стояли все те же оскорбительные наказания, угрозы. В адрес начальства сразу же посыпались насмешливые куплеты, злые эпиграммы. Однако внимание студентов скоро переключилось на другое событие.
В начале февраля, едва проснувшись, они услышали от комнатных надзирателей интересную новость: ночью прибыл в Казань профессор Мартин Христиан Бартельс. Упорные слухи о предстоящем приезде первого почетного члена Казанского университета ходили уже давно, и все воспитанники только и говорили о Бартельсе, хотя еще толком никто ничего не знал.
Первыми сведениями о новом профессоре поспешил поделиться субинспектор [Субинспектор - помощник инспектора] Петр Кондырев, рассчитывая этим расположить к себе студентов. Сам вчерашний выпускник университета, субинспектор вел себя нахально и лицемерно, стараясь угодить Яковкину, и студенты его не любили.
Как рассказал Кондырев, Бартельс происходил из бедной семьи. Сначала учился в низшей школе сиротского дома, затем в частном училище Брауншвейга. Ради куска хлеба в шестнадцать лет стал работать помощником учителя, помогая ученикам в чистописании. В числе воспитанников этой школы находился мальчик Гаусс, весьма одаренный в математике. Несмотря на восьмилетнюю разницу в летах, между ними завязалась дружба. Мартин Бартельс доставал необходимые книги, затем изучал их вместе с Гауссом. Благодаря настойчивости не только пробил дорогу себе, но и оказал помощь Гауссу. Дружба не прерывалась. Они встретились потом в Геттингенском университете, куда Бартелъс попал по рекомендации в то время известного математика, почетного члена Петербургской Академии Иоганна Пфаффа.
В 1801 году Гаусс, ставший знаменитым ученым, получил приглашение в Российскую Академию. Но рекомендовал он вместо себя Мартина Бартельса, которому Румовский и предложил занять кафедру чистой математики в Казанском университете.
Бартельс, по словам Румовского, был "одним из первых математиков немецкой земли, которому вся Германия имеет мало подобных".
Рассказ Кондырева заинтересовал Николая. Он решил немедленно записаться на лекции Бартельса и первым поспешил к директору. Но Яковкин, даже не дослушав его, перебил:
- Этого еще не хватало! Господин Лобачевский, вы долго будете стрекозой порхать от одного профессора к другому? Сами с математики перепрыгнули на materia mediса, а сейчас - опять на математику? Может, еще что-нибудь надумаете?
Лобачевский хотел возразить, но, встретившись взглядом с директором, стиснув зубы, молча повернулся и вышел из кабинета.
Лекции Бартельса должны были начаться в марте месяце. Профессор собирался читать аналитическую тригонометрию, плоскую и сферическую, приложение ее к ма"
тематической геометрии, астрономии.
Настало второе марта. Задолго до начала занятий математическая аудитория, впервые после отрешения Корташевского, была переполнена. Слушать вступительную лекцию Бартельса пришли старшие студенты, первокурсники, а также учителя и воспитанники гимназии. В расписании о геометрии ничего не говорилось, и Лобачевскому не хотелось унижаться, встретившись там с Яковкиным, но потом он не выдержал, поднялся на второй этаж и поспешил к математической аудитории. В тот же момент из-за угла коридора, шагах в десяти, показался господин среднего роста в сопровождении важно шествующего Яковкина. Это был Бартельс. На мгновение взгляды Лобачевского и директора скрестились. Яковкин торжествующе усмехнулся, в притворном удивлении подняв брови, а студент, повернувшись, быстро сбежал вниз по лестнице.
Сцена была настолько выразительна, что Бартельс невольно задержался. Но, увидев, что сбежавший студент исчез где-то за поворотом лестницы, пожал плечами.
В спальной камере Николай долго не смог разжать кулаки, побелевшие от напряжения, потом, несколько успокоившись, нагнулся и достал из-под кровати сундучок с книгами.
- Ну что ж, - проговорил он, - буду заниматься теперь самостоятельно. Постараюсь не отстать. Надо прежде вспомнить забытое...
Сидя на полу, разбирал он книги. Но в это время в камеру с шумом и смехом ввалились его товарищи.
- Вот тебе на! - удивился Дмитрий Перевощиков, заметив сидящего на полу Николая.- - Что случилось, Коля?
Почему ты не был на лекции?
- Разве уже кончилась? Так быстро? - спросил Николай.
- Не было ее!
- Как не было? - вскочил Николай, уронив книгу на пол.
- Анекдот, Коля, не поверишь! - смешался Панкратов. - Только представь себе, входит Бартельс в аудиторию и просит: "Пусть кто-нибудь выйдет к доске, покажет степень ваших знаний". Александр Княжевич и показал:
разрешил ему из дифференциалов и конических сечений такую чертовщину, что Бартельс глазам не поверил. А потом и говорит нам: "Для таких студентов надобно мне самому хорошенько подготовиться". И... - Панкратов, не договорив, огляделся.
- Поклонился нам и вышел! - закончил Княжевич.
- Правда? - все еще не верил Николай. - Ну и ловко, ну и молодец же ты, Саша!
Подбежав к Александру Княжевичу, он хлопнул его по спине.
- Я ведь и сам не думал, - смущенно признался тот. - Понимаешь ли, светило! Значит, и правда преподавание математики у нас поставлено было неплохо.
- Ибрагимова за это надо благодарить, - отозвался Перевощиков. - И Корташевского. Где-то сейчас он, Григорий Иванович?..
- Я вчера из Петербурга письмо получил, - сказал Панаев. - От Аксакова. Корташевский служит в комиссии по составлению законов.
- Давайте мы сейчас ему напишем, - предложил Панкратов, - И про этого Бартельса расскажем. Обрадуем.
Предложение всем понравилось. Панаева усадили за стол, сунули бумагу, перо. Перебивая друг друга, подсказывали, как бы чего не забыть.
Лобачевский стоял в стороне, кусая губы. Бартельс подготовится, Бартельс будет читать лекцию... только не для него.
Никто не заметил, как он тихо вышел из комнаты...
В химических классах Тенишевского дома, куда Лобачевский ходил усердно, дышалось и легче и свободней, чем в гимназическом здании. Лаборатория успокаивала. Когда Николай стоял у рабочего стола и наблюдал за ходом химических реакций, никакие лишние вопросы не лезли в голову, его увлекала прямая, ближайшая цель.
Кроме того, здесь не было встреч с Мартином Бартельсом. Видеть, как, закончив лекцию, тот, веселый, благодушный, спускается по лестнице, окруженный студентами, было нестерпимо. Лекция, которой не слышал Николай и не услышит, воспоминание о злорадной улыбке Яковкина глубоко ранили его сердце, не давали забыть... А впрочем, Николай и не хотел забывать. Оставаясь один в спальне или в пустой аудитории, он часами читал и думал над прочитанным.
Регулярно посещая занятия по химии, Николай подружился там с Гордениным. Замечательный механик-изобретатель в свободное время увлекался пиротехникой. Он векоре научил Николая делать ракеты. Запускали вдвоем их по ночам на безлюдном Арском поле. Случайные прохожие в изумлении наблюдали, как среди мрака вдруг с шипением и треском рассыпались в небе целые фонтаны разноцветных звезд. Первое время друзья хранили в тайне свое увлечение. Но вот как-то вечером, по ребячьей неосторожности, ракета взлетела на гимназическом дворе, вызвав переполох у начальства.
Рассвирепевший директор сам взялся разыскать виновника. Всех студентов, которые по его подозрению были причастны к делу, приказал оставить без обеда. Вскоре довольный директор писал на рассмотрение совета: "17 дня поутру студент Стрелков признался мне, что пустил ракету, получив от Лобачевского, который ее и составил, и что знали о сем назначенный в студенты Филипповский и некоторые другие"...
История с ракетой могла окончиться печально. В ту ночь, оказалось, пожарный солдат на каланче, приняв спросонок ослепительный фейерверк за пожар, дернул веревку сигнального колокола, чем вызвал переполох и в соседних дворянских особняках. Яковкин мог теперь совсем избавиться от своевольного юноши. Однако неизвестно почему он ограничился лишь незначительной мерой наказания: распорядился посадить Лобачевского на три дня в карцер, хотя в определении было указано, что его проступок "заслуживает особенное осуждение". Для такого "великодушия" у директора-профессора, как после выяснилось, была веская причина: до него дошли слухи о скором прибытии в Казань сенатора Данаурова, командированного высочайшею волею для ревизии по ходатайству Румовского.
Яковкин был убежден в том, что экс-профессор Каменский успел нажаловаться попечителю. И, не веря в благополучный исход ревизии, поспешил заранее приготовить себе мостик для отступления. "Хотя мне весьма прискорбно и самому чувствовать и признаться, - писал он в Петербург попечителю в своей депеше, - что зрение мое тупеет и силы, приметно ослабевая, расстраивают здоровье, особливо от беспрерывных и разнообразных занятий по должностям директора гимназии и инспектора студентов, но, во всем предаваясь совершенно провидению, бестрепетно ожидаю, может быть, и скорого прекращения бытия моего... Для укрепления остающихся еще во мне сил осмеливаюсь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство о милостивейшем снисхождении - уволить меня, хотя на некоторое время, от обеих оных должностей... К чему прилагаю и формальное прошение об увольнении от службы..."
Но с этой депешей директор-профессор опоздал - через день после ее отправления Данауров уже прибыл в Казань.
Яковкин ездил к нему представляться, но сенатор его не принял. Ревизор встретил удрученного директора лишь через неделю, и то весьма неласково: оборвал на полуслове и отчитал за позднее к нему представление, а также за то, что не получил рапорта о состоянии университета и гимназии. Придрался даже к неуместному обращению к нему на латинском языке.
Такой прием не на шутку встревожил директора. Но старого хитреца не так-то просто запугать. Он заперся в своем кабинете. Далеко за полночь в окнах его ярко горели свечи. Лишь под утро, когда заметно посерели черные стекла, предвещая рассвет, Яковкин встрепенулся. Губы его скривились в насмешливой улыбке.
- У девушек ушки золотом увешаны, - проговорил он и сделал быстрое движение пальцами, точно пересчитывал монеты. - У сенатора - тоже... Видимо, дорого мне обойдется... Ничего не поделаешь, потом окупится!
Дальнейшие свидания сенатора и директора происходили без каких-либо свидетелей. Результат сказался быстро.
Поверхностно проверив дела, Данауров переменил гнев на милость. Всем виденным он остался вполне доволен и даже пообещал донести об этом не только министру, но и самому государю императору.
Теперь уже Яковкин решил взять обратно свое ходатай-"
ство. "Не безответно было бы мне пред Господом оставить свое поприще, если призван на него же", - спешил он со-"
общить попечителю.
Так закончилась первая ревизия Казанского университета, доставившая вскоре Яковкину орден святого Владимира четвертой степени. Однако Румовский результатами ревизии не был удовлетворен. Читая хвалебное донесение Данаурова, старик недоуменно качал головой. А закончив это чтение, долго сидел в задумчивости, пока не сказал со вздохом:
- Туман... Будущее покажет.
* * *
Николай, сбежав с торжественного акта, лежал на вати в полной парадной форме. Руки в белых перчатках заложил за голову, даже свою шпагу не отстегнул. Комната была пуста, все наверху, в зале собраний. Оттуда в наступившей тишине вдруг послышался ликующий голос Яковкина.
- Господа! Господа! - возвещал он.
В зале начинался торжественный акт, посвященный четырехлетию со дня открытия университета. Студенты, адъюнкты, профессора - все были там... Кроме него... Шн чему?
Два года назад в этот же день, четырнадцатого февраля, Николай удостоился звания студента и получил шпагу.
Чего же он добился? Ни математика, ни химика не полу-"
чилось... Товарищи опережают: Дмитрий Перевощиков окончил университет, и сейчас он - старший преподав атель Симбирской гимназии. Брат его, Василий, получает звание магистра [Магистр - учитель] и сам начнет читать курс лекций студентам. Конечно, Перевощиков старше его на два-три года. Но и его ровесник Александр Княжевич сегодня стал кандидатом на звание магистра...
Николай быстро поднялся. В его душе наперебой заговорили двое, и один судил другого сурово и строго.
"После отъезда Корташевского ты не был ни на одной лекции по математике, - говорил первый. - Яковкин отказал в посещении лекций Бартельса. А что же ты сделал, чтобы своего добиться? Не стыдно ли показаться теперь на глаза Бартельсу?.."
"Разве я не проявляю настойчивости? - защищался второй. - Разве не размышлял о том, почему в основе геометрии должны лежать именно Евклидовы постулаты?.."
"Но ведь они-то и явились тем препятствием, споткнувшись о которое, ты не шагаешь дальше. Правильно ли это?.."
Сверху донеслись торжественные звуки музыки. Николай вскочил и начал ходить по комнате, до боли стиснув пальцы. Да, уже больше года он, рассуждая об аксиомах, не раз уже спотыкался на этом заколдованном вопросе и не смог продвинуться дальше.
"Правильно ли это? Время не ждет. С этого дня ты уже студент предпоследнего, третьего курса. Еще год - и с университетом покончено. А дальше? Хватит ли сил для достижения цели? Не довольно ли топтаться на месте?"
Николай выглянул в окно, затем прислонился разгоряченным лбом к стеклу. Немного легче стало.
"Я сам виноват: слишком понадеялся на свои силы.
Здесь, в университете, не обращался ни за каким-либо советом, ни за помощью. А дружеская беседа могла бы мне помочь исправиться. Да, надо искать ошибку прежде в своих суждениях".
Николай отшатнулся: в оконном стекле, как в зеркале, отразилось его лицо. Не обращая внимания на призывные звуки музыки сверху, снова зашагал по комнате.
- Не ошибся ли я в самом начале, определяя основные понятия исходя из прикосновения тел? - размышлял он вслух. - Есть ли такой математик на свете, который бы с этим согласился? Даже Григорий Иванович молчит, единственный, кому открыл я свои сокровенные мысли. Болен?
Или не хочет расстраивать? Что же остается делать?
Неожиданно дверь приоткрылась.
- Господин Лобачевский, вам письмо и посылка, - сообщил старик служитель. - Почтальон ждет внизу.
- Письмо? - повторил Николай и кинулся в коридор, обгоняя сторожа.
- Молодые-то ноги! Сами несут! - усмехнулся тот.
В швейцарской Лобачевский расписался в получении письма и посылки, сунув почтальону какую-то монету.
Адреса были написаны рукой Григория Ивановича. Что это - радость или новые огорчения?
Распечатав на ходу письмо, Николай прочел его первые строки.
"Не удивляйтесь, что я до сих пор не ответил на Ваше письмо: продолжительное время находился в заграничной командировке и лишь несколько дней тому назад благополучно возвратился в Петербург..." - писал Корташевский.
Николай бегло пробежал глазами вступительную часть письма. Однако чем дальше, тем читал он медленнее, задумываясь над каждой фразой.
"Человеком сильной воли считается тот, кто сочетает в себе ясность цели с настойчивостью в ее достижении, умением преодолевать все и всякие препятствия на своем пути. Эти волевые качества, хотя и в глубоко скрытом виде и малой степени, имеются почти у всех; их лишь следует развивать... Верить в себя, конечно, нужно всегда, но не зазнаваться..." - продолжал Григорий Иванович. Последние слова учителя серьезно встревожили Николая. По долголетнему опыту их дружбы он хорошо знал значение такого подготовительного тона. Затаив дыхание вошел он в комнату, сел на кровать и продолжал неторопливое чтение:
"Вы правы, что геометрию надрбно начинать не с точек, линий и поверхностей, а, наоборот, с конкретных тел. Однако, выдвигая на первый план их "прикосновение", Вы упускаете из виду, что геометрия прежде всего наука об измерении протяжения. Что делает "Начала" особо абстрактными, излишне удаленными от реальных пространственных форм и сводит их лишь к чисто формальным логическим толкованиям? В первую очередь то, что Евклид нигде не указывает цели и задачи геометрии".
- А я-то, а я-то как мог это упустить? - вскричал Николай. - Ведь геометрия и увлекла меня прежде всего в землемерии.
Немного успокоившись, он вернулся к письму.
"Каждое тело в природе, от песчинки до громаднейшего Солнца, - писал Корташевский, - имеет существенную и неотделимую принадлежность протяжение, простирающееся в три стороны: в длину, ширину и вышину...
Протяжение одного измерения будем называть линией; протяжение двух измерений - поверхностью; а протяжение всех трех измерений - телом геометрическим.
Итак, исходя из "троякого протяжения", мы можем получить все начальные понятия геометрии: геометрическое тело, поверхность, линию и точку, причем последняя определяется как место без протяжения.
Я пишу, как и всегда буду писать Вам, друг мой, чистосердечно и потому прошу не обижаться на мою прямолинейность. К сожалению, пока ничего не могу сообщить Вам о моих занятиях по геометрии. Бесконечный поток чиновничьих дел в департаменте их остановил. Вижу, что наш предмет скрывал трудности, которые нельзя было вначале подозревать и которые, как сами убедились, растут по мере приближения к начальным истинам в природе. Но, как говорится, волков бояться - в лес не ходить. Тем паче, когда в Казани находится такой признанный охотник, как Бартельс - учитель знаменитого Гаусса.
Честь имею поздравить Вас с наступающим третьим годом обучения в университете и послать Вам по этому случаю первые два тома собрания сочинений Радищева, которые на днях мне привезли из Москвы".
Только теперь Николай вспомнил о посылке. Он живо распаковал бумажный сверток, освободив две книги. На титульном листе первого тома ровным каллиграфическим почерком было написано:
"Студенту третьего года обучения
Николаю Лобачевскому!
Пусть бессмертное изречение Радищева, проникнутое глубокой верой в творческие силы и великое будущее русского народа, будет путеводной звездой при восхождении к вершинам науки!"
Николай прижал к груди подарок любимого учителя.
Глаза его сияли. Вот она, удивительная сила дружбы! Теперь начнет он занятия у Бартельса, и Яковкин не сможет помешать ему, нет, он даже сейчас пойдет к Бартельсу и расскажет о своих сомнениях. Если надо, попросит помощи записаться в слушатели.
Схватив шапку и перчатки, Николай, в парадной форме, выбежал на улицу.
Дорогу знал он: Бартельс жил на казенной квартире, в бывшем каменном двухэтажном доме инженера-подпоручика Спижарного, на самом углу университетского квартала, наискосок от Воскресенской церкви.
Лобачевский решительно дернул ручку звонка.
- Jst Herr Professor zu Hause? [Господин профессор дома? (нем.)] спросил он у горничной, открывшей дверь.
- Ja... ja [Да... да (нем.)], - ответила та, указав на дверь из передней в довольно большую комнату.
Николай вошел, осмотрелся. Вдоль стен - шкафы, заполненные книгами, кожаный диван, фортепиано. Изящные гравюры на стенах, часы в углу с медными гирями, а под ними небольшая астрономическая труба - все придавало комнате уютный вид.
Из противоположной двери вошел Бартельс, в темноеинем домашнем сюртуке и в зеленых панталонах, с длинным чубуком в левой руке. Большая красивая голова его казалась еще больше от густых и длинных волос, падавших на плечи. Из-под высокого лба на студента смотрели добрые задумчивые глаза.
- Прошу садиться... Чем я могу быть полезным? - обратился он к Николаю на модном в то время французском языке, опускаясь в глубокое кресло, Николай присел на краешек соседнего стула и робко начал по-немецки:
- Я, герр профессор, студент третьего курса Николай Лобачевский...
- Очень приятно с вами познакомиться! - Бартельс приветливо наклонил голову. - Я вас, молодой человек, ожидал. Да, да, не удивляйтесь. Non magister ad discipulum venire debet, sed discipulus ad magistrum [Не учитель должен приходить к ученику, а ученик к учителю (лат.)], неторопливо произнес он латинскую поговорку.
- Простите, герр профессор, - покраснев, ответил ему Лобачевский на том же языке, - но как вы меня знаете?
Бартельс улыбнулся.
- Приятно, весьма приятно убедиться в хорошем знании стольких языков, сказал он по-немецки. - А что в латыни усовершенствовались, похвально, молодой человек.
Латынь - королева наук, она в каждую область знаний открывает широкий доступ. О вас же, господин Лобачевский, я был наслышан в Петербурге, от адъюнкта Корташевского.
- От Григория Ивановича? Он говорил с вами обо мне? - взволнованно воскликнул Николай.
Бартельс опять наклонил голову.
- Как же, как же. Он заботился о вас, как о родном брате. Перед моим отъездом в Казань зашел даже напомнить, чтобы я обратил особое внимание на студента Лобачевского. И добавил: оный студент сам к вам должен прийти. Что ж, хотя и не скоро, но это, как видите, свершилось.
Николай окончательно растерялся.
- Извините, герр профессор...
- Полно, молодой человек. Существеннее другое: господин Корташевский сообщил мне, что вас глубоко волнует задача основания геометрии, поиски первых ее начал. Считаю сие весьма похвальным и возвышенным. Но представляете ли вы, какую трудную, сказал бы вам, неразрешимую задачу вы ставите перед собой? Буду с вами откровенным. Еще знаменитый александриец Птолемей писал:
"Невозможно, или по крайней мере очень трудно, найти основы первых начал". И он был сто раз прав. После Евклида прошло более двух тысяч лет. За такой великий срок все знаменитые геометры - от античных Паппа и Прокла до современных энциклопедистов Даламбера и Лежандра - ломали головы над сией задачей, пытаясь усовершенствовать или по своему разумению изложить исходные геометрические понятия и аксиомы.
Повернувшись к незатопленному камину, Бартельс неторопливо выбил пепел из трубки.
- Так вот, их сочинения выходили под разными названиями, - снова он обратился к внимательно слушавшему Лобачевскому. - "Обновленный Евклид", "Евклид, освобожденный от всяких пятен". "Опыт усовершенствования элементов геометрии"... Кстати замечу, мой славный ученик Гаусс тоже несколько лет ломает голову над проблемой обоснования геометрии. Но решения лучше Евклидова и по сей день еще никому найти не удалось. Воздадим же должное гению великого эллина и не будем зря силы тратить на ненужный поиск. Не лучше ли нам обратить внимание на высшие части математики?
Бартельс говорил плавно и свободно, подчеркивая наиболее важные мысли короткими взмахами чубука.
Внимание Лобачевского раздваивалось. Одновременно слушал он Бартельса и вспоминал: как же так, ведь еще Дидро говорил, что "одни участки широкого поля науки темны, другие освещены. Цель нашего труда - расширить границы освещенных мест, или же приумножить в поле источники света". Лобачевскому хотелось напомнить об этом, но прерывать почтенного профессора не решался.
Тот же, уютно устроившись в кресле и помахивая изящным чубуком, продолжал:
- Вообще, молодой человек, нужно ли утруждать себя поиском новых путей в построении основ геометрии? Что худого в том, что мы получили геометрию в виде совершенно законченном, как тысячелетнее, не нами накопленное богатство? Разве плоды ее, обобщенные так блистательно Евклидом за двести семьдесят лет до нашей эры, не стали азбучными основами знания, фундаментом всех точных наук? И разве были какие-нибудь сомнения в ее истинности, побуждающие к новому обоснованию?
Лобачевский молчал, хотя все новые противоречивые мысли не давали ему покоя. "Действительно, практика жизни всегда подтверждает справедливость Евклидовой геометрии. Было когда-нибудь, чтобы дом развалился оттого, что в основании Евклидовой геометрии лежат темные понятия? И все-таки..."
- Герр профессор, - решился он возразить, - кто не согласится, что никакая наука не должна бы начинаться с таких темных понятий, с каких, повторяя Евклида, мы начинаем геометрию?
- Не забудьте, молодой человек, еще до сегодняшнего дня Евклидова система была никем непревзойденной, замечательной математической абстракцией... - снисходительно улыбнулся Бартельс, но закончить не успел.
- Однако чрезмерная отвлеченность в "Началах" как раз и мешала этой абстракции найти для себя реальную основу, - горячо перебил Лобачевский. Я не могу примириться с тем, - продолжал он с увлечением, - что за двадцать веков, прошедших со времен Евклида, происхождение абстрактных понятий и аксиом геометрии так и осталось невыясненным. Именно это я и считаю причиной застоя в геометрии... Еще Гераклит говорил, что все течет, все изменяется...
Бартельс внимательно слушал его с доброй улыбкой в уголках тонко очерченных губ. В этой улыбке чувствовалась снисходительность маститого ученого к нетерпеливой горячности юного и неопытного геометра.
- Верно, что науки с неба не падают, а постепенно и медленно развиваются трудами многих и многих, - сказал он, продолжая улыбаться. Верно также, что теперь в началах геометрии путаница мыслей не имеет предела.
Смею думать: причиной тому служит отсутствие единого подхода к выбору первоосновы при разработке системы геометрических понятий. Я попытаюсь объяснить: в древнем мире геометрия возникла из потребности межевания или раздела земель на участки. Измерение длины и ширины частей производилось тогда с помощью канатов или собственных шагов. Посему и не удивительно, что у всех античных геометров первоосновой были такие понятия, как часть, длина и ширина. С помощью их получали свое определение точка, линия и поверхность.
- Каким образом? - нетерпеливо спросил Николай.
- Очень просто. Установление точных границ земельных участков, наряду с другими потребностями, например с необходимым сужением пограничной зоны, привело к понятию линии как длины, не имеющей ширины. К другому древнему геометрическому понятию - точка есть то, что не имеет частей, - скорее всего пришли в абстрактном процессе уменьшения размеров какого-нибудь земельного участка или тела путем беспредельного деления...
- Но всякое реальное тело, будучи материальным, имеет части, - возразил Николай, волнуясь, - процесс деления материального тела не может завершиться.
Бартельс довольно кивнул: этот горячий, думающий студент начинал его интересовать.
- Согласен с вами. Еще древнегреческий философ Анаксагор говорил: "В малом не существует наименьшего, но всегда имеется еще меньшее. Ибо то, что существует, не может перестать существовать от деления, как бы далеко ни было продолжено последнее".
- Как хорошо сказано, лучше не скажешь! Герр профессор, разрешите, я это возьму себе на заметку, - и Лобачевский, вынув из кармана маленькую тетрадь, записал эти слова Анаксагора. - Все же по затронутому вопросу я не могу быть согласен с древними геометрами, - продолжал он, пряча записную книжку. - Ведь понятия части, длины и ширины не существуют в природе, а только в мысли. Следовательно, они производные или составленные, требующие существования других, и поэтому не должны приниматься за первоначальные понятия.
Бартельс опять кивнул и, раскрыв на столе коробку с табаком, начал набивать свою трубку.
- Разумеется, в определениях древних геометров, - сказал он, - много наивности и Несовершенства. Но в те времена и сама геометрия понималась не в столь широком смысле, как теперь. А мы сами-то чем отличились от своих предков? Разве только тем, что дело обоснования геометрии еще больше запутали. В наше время каждый придирчивый геометр в качестве первоосновы старается выдумать что-нибудь свое, вроде: троякое протяжение или трехмерное пространство, движение, даже прикосновение тел и также их...
- Рассечение, - подсказал Николай, от удивления широко раскрыв глаза. Откуда вам известны мои мысли, герр профессор?
- Вчера я получил письмо от господина Корташевского, - смеясь, объяснил Бартельс. - Да, замысел у вас интересный. Однако и Декарт и Кант по-своему правы. Декарт, основатель универсальной математики, объяснение всех явлений полагает в движении. И его новое понятие движения куда проще, чем понятия поверхности и линии в Евклидовых "Началах". Вот что писал он по этому поводу в своем "Трактате о мире". - Бартельс взял с письменного стола книжку в роскошном переплете и, открыв страницу, заложенную пером, прочитал: "Это видно хотя бы из того, что линию геометры объясняют посредством движения точки, а поверхность - посредством движения линии..." Ну, что вы теперь изволите сказать, молодой человек? Разве понятие движения не достойно быть первоначальным? Да вы и сами, наверное, наблюдали ночью падающую звезду, которая огненной точкой чертит на небе отчетливую линию. А фейерверка, оставляющего за собой блестящий след, не видали?
" Как не вждал, герр профессор, вндал!..= ответил ему Лобачевский, вспомнив случай с ракетой. - Да, мне тоже кажется, что движение достойное первоначальное понятие.
- А трехмерное пространство? Кто же не согласится, что каждое естественное тело имеет три протяжения. Раз так, отсюда сделан и такой вывод. - Бартельс теперь заглянул в другую раскрытую книгу и прочитал, отчеканивая каждое слово: - "Геометрия есть наука, определяющая свойства пространства..."
- Чье суждение? - заинтересовался Лобачевский.
- Моего соотечественника Иммануила Канта, - профессор, придерживая пальцем нужную страницу, показал обложку.
- "Критика чистого разума", - прочитал Николай заглавие этой книги.
- Как видите, мой друг, каждый кз нас по-своему прав, и поэтому каждый старается отстаивать именно свою точку зрения. А в конечном итоге - полная неразбериха, пугающая всех еще в самих началах. Вот результат наших умствований...
- Но, герр профессор, источником всех знаний является одна и та же природа, а отсюда и система геометрии должна быть единой, - настаивал Николай.
- А почему же тогда выбор первоосновы сей науки столь произволен? ответил вопросом профессор. - Чем вы это объясните?
Бартельсу не раз уже приходилось обсуждать начальные проблемы геометрии. И на все вопросы и сомнения у него давно сложились готовые ответы. Профессор, пожалуй, как никто, видел слабые стороны геометрии Евклида.
Но ради сохранения душевного спокойствия давно уже отказался от всяких попыток построить геометрию на новых началах.
- В молодости я сам имел надежду раскрыть перед человечеством сокровенные тайны геометрии, - медленно заговорил он после минутной паузы. - Но сейчас безвозвратно потерял надежду. Такая участь постигла не только меня одного, но и многих других математиков. Теперь у нас, в Германии, некоторые неудачники стараются успокоить себя той мыслью, что потребность в строгом доказательстве или обосновании чего-либо свойственна только людям низшего умственного склада.
"Вот еще не хватало", - подумал Николай, но сказал совсем другое:
- Я прошу, герр профессор, у вас разрешения посещать ваши лекции.
- Это само собой разумеется, - ответил Бартельс. - Господин Корташевский не ошибся: вы достойный ученик.
Я надеюсь, что мы еще продолжим наш сегодняшний разговор. - И, взяв со стола книгу, он протянул ее Лобачевскому. - Вам нужно прочитать "Историю математики"
Монтюкла. Должно быть, вы еще с ней не знакомы.
Поблагодарив, Лобачевский попрощался и вышел на улицу. К университету шел он медленно. Ему надо было разобраться в целом ворохе мыслей, рожденных беседой.
Голова горела. Да, никогда не следует спешить с выводами, какими бы они достоверными ни казались. Ведь Бартельс, пожалуй, прав: не только прикосновение тел, но и троякое протяжение, а также и движение могут быть приняты за первооснову. Тогда не исключено, что имеется еще немало других, подобных основ. А если так, то не может быть единого подхода к построению геометрии. Значит, вообще невозможно избежать произвола и темноты в самих началах...
Он шел, не замечая ни улиц, ни домов, ни сильного, пронизывающего ветра. Мороз обжигал щеки. Николай миновал университет, прошел мимо бывшего гимназического манежа и начал спускаться к Рыбнорядской улице.
Вечерело. С базара торопливо уходили озябшие лотошники. Покрикивая на лошадей, спешили засветло вернуться домой водовозы-татары.
Лобачевский не заметил и сам, как очутился на Рыбном базаре. Несколько раз он прошел мимо дощатых лавок и поредевших обозов с мерзлой рыбой. Приказчики астраханских, байкальских и пермских рыбопромышленников предлагали покупателям за полцены остатки своих товаров.
Тут же, чтобы согреться, боролись и тузили друг друга наемные возчики, одетые в нагольные тулупы. Не чувствуя ни холода, ни усталости, Николай долго бродил по базару.
Вдруг кто-то тронул его за плечо:
- Лобачевский, что с вами? Уж не заболели вы средь бела дня лунатизмом? Битый час наблюдаю, как вы бродите, аж сам промерз до костей.
Николай вздрогнул и остановился. Перед ним стоял незнакомый студент в совсем еще новенькой шидели.
- Тут, за углом, чайная. Идем погреться! - весело, мягким окающим говорком предложил юноша и решительно потянул Николая за рукав.
Дверь чайной простуженно скрипнула, и теплый воздух клубами пара выкатился наружу. Холод промерзшей на ветру шинели, казалось, только теперь, в помещении, понастоящему охватил застывшее тело: Николай приметно поежился.
- Пару чая! - попросил еще с порога незнакомец. - Вот сюда, здесь тепло, - сказал он, увлекая Николая в глубину комнаты.
Проворный половой в белой косоворотке поставил им на стол два чайника: маленький с заваренным чаем и большой - с кипятком.
Наливая чай и размешивая сахар, незнакомец двигался почти так же быстро, как говорил. Это был юноша лет шестнадцати, выше среднего роста, широкоплечий и довольно полный. Круглая, гладко стриженная голова держалась гордо и прямо. На широком, со следами оспин очень смуглом лице блестели узкие глаза: они словно прятались под густыми бровями. На тонких губах играло то строгое, то по-детски забавное выражение, как-то не вязавшееся с крутым энергичным подбородком. Лобачевскому юноша понравился.
- Да вы и вправду вовремя догадались меня отогреть, - заговорил он, приходя в себя, и вдруг спохватился. - Постойте, а вообще-то кто вы сами да и откуда меня знаете?
В ответ юноша добродушно улыбнулся, протянул руку.
- Ну, что ж, давайте знакомиться по всем правилам.
Симонов, Иван. Из Астрахани. Три месяца готовился в здешней гимназии к слушанию университетских лекций.
Во время торжественного акта был провозглашен студентом. Вот шинель, видите? Еще на плечах не обмялась. Вы почему-то в самом начале торжества куда-то исчезли. Ну и меня, понятно, там не заметили.
- Откуда же вы меня знаете? - продолжал Николай, все больше удивляясь.
- Тайна эта не слишком глубокая, - усмехнулся Иван Симонов. - Сказали знакомые студенты. А заинтересовался я вами по разговорам. Вы, говорят, и математик и химик. И за последнюю специальность три дня в карцере отсидели. Правильно?
Лобачевский помолчал.
- Желание, - ответил он медленно, - еще не достижение. Ведь не всякий, кто интересуется математикой, может почитать себя геометром... И не каждый пиротехник становится настоящим химиком. А за ракету я действительно три дня отсидел. Было такое!
Оба рассмеялись.
Николай почувствовал себя свободно в обществе нового знакомого.
- Спасибо вам, - сказал он. - Я только сейчас ощутил по-настоящему, как это приятно согреться.
- Вот то-то, - кивнул Симонов. - Химия химией, - добавил он, добродушно улыбаясь, - но и от геометрии не отмахивайтесь. Только мне вот не очень близки эти слишком уж отвлеченные понятия, по сердцу больше настоящая действительность.
Он отодвинул в сторону стакан и, достав платок, вытер вспотевший лоб.
- Я люблю природу, - продолжал Симонов, - и поначалу в гимназии увлекся физикой. Потом все больше и больше стали волновать вопросы о строении Вселенной, о природе ее частей. На эти вопросы отвечает, главным образом, астрономия. Желая глубоко изучить эту науку, я и приехал сюда, в Казань...
Дверь с улицы распахнулась. В чайную с мороза вваливались один за другим озябшие извозчики. Стало тесно.
Лобачевский поднялся и протянул Симонову руку.
- Видно, с вами у нас будет разговор... Давайте дружить [Впоследствии Симонов станет знаменитым ученым, первооткрывателем Антарктиды и основателем Казанской астрономической школы, почетным членом ученых обществ и учреждений многих стран]. А сейчас идемте, здесь не до разговоров.
По дороге в университет они уже не только перешли на "ты", но и рассказали о своих стремлениях и неудачах, во всем обещали помогать друг другу.
Прощаясь, Николай пригласил его:
- Приходи ко мне завтра в четыре пополудни, - Спасибо. Не опоздаю, пообещал Симонов.
Однако наутро, чуть свет, Николай проснулся не совсем здоровым. Долго не мог найти себе места в жаркой и неудобной постели. Все тело его ломило, во рту было сухо.
- Пить, - попросил он брата.
- Наконец-то! - воскликнул Алексей. - Ты уже давно стонешь, а глаза у тебя закрыты... Сейчас принесу...
В комнату вошел надзиратель. Потрогав больного, велел он вызвать врача немедленно, Алеша растерялся: - Какого? Фукса? - Да, Карла Федоровича.
- Спасибо, - сказал Николай.
С конца 1806 года врачом университетской больницы был назначен доктор медицины Карл Федорович Фукс, известный далеко за пределами Казани. Обруселый немец, веселый, общительный, страстно увлекающийся наукой, он покорил студентов.
Одно время под его влиянием и Лобачевский был сильно увлечен естествознанием, целые вечера проводил за микроскопом...
Фукс явился тут же. Добродушно улыбаясь, подошел к постели больного и, потрепав его по голове, сказал что-то веселое, ободряющее. Затем проверил пульс.
- Обыкновенная простуда, мой друг, - объявил он. - Придется полежать. И принимать лекарство. Иначе можно дождаться худшего...
Прошли четыре горьких, как прописанное лекарство, дня, показавшиеся Николаю целой вечностью. Но больше, чем сама болезнь, угнетало вынужденное безделье. Стоило утром почувствовать себя хоть немного легче, он тут же старался найти себе занятие.
В этот яркий весенний день, лежа в постели, Николай уже несколько часов подряд наблюдал, как в золотистом пучке солнечных лучей носились тысячи мельчайших пылинок. Что за беспорядочное движение! Пылинки метались и кружились в луче, словно рой мошек теплым летним вечером. Лобачевскому вспомнилось: такие же запутанные, сложные узоры выписывает цветочная пыльца в капле воды под микроскопом. Пылинки были неутомимы. Они постоянно, с одинаковым усердием, продолжали свою бесконечную пляску. В чем причина этого движения? Что заставляет частицы изменять свой путь и, как бы наскочив на невидимое препятствие, неожиданно бросаться в сторону? Лобачевский все больше убеждался, что объяснить это вовсе не просто и нелегко. "Что же такое пыль? - рассуждал он. - Это мелкие частицы песка, угля и других веществ. Но и песок и уголь тяжелее воздуха и должны бы тонуть в нем, как тонет в воде камень. А почему пылинки этих же веществ не только не падают, наоборот, они мчатся вверх, в стороны, книзу, чтобы в следующее мгновение опять подняться? Может, потому, что они так малы?.. Нет!
Ведь самая мелкая свинцовая дробь так же хорошо пойдет ко дну, как и большой кусок свинца, ибо имеет значение не размер, а удельный вес. Раз так, что же мешает пылинкам упасть?.."
Николаю не терпелось поделиться с кем-нибудь своими наблюдениями. Он обрадовался, когда Симонов пришел его навестить. Раскрасневшийся от мороза, с доброй приветливой улыбкой Симонов сразу же спросил:
- Можно сесть на кровать?
- Садись, садись, - кивнул Николай. - Мне как раз надо показать... Видишь, как солнечный луч пронизывает воздух, а в нем пляшут пылинки?
- Ну и что с этого? - с удивлением ответил Симонов и, прищурив глаза, посмотрел туда, куда показывал Николай. - Ты их считаешь, что ли? Пылищи-то здесь хватит!
- Я не о том, - Николай приподнялся на локоть. - Скажи мне, чем вызвано движение пылинок?
- Ах вот оно что! - Симонов смутился, вопрос-то был задан серьезный. Подумав, он ответил: - Полагаю оттого, что воздух никогда не бывает спокоен: в нем движутся навстречу друг другу и перемешиваются потоки теплого и холодного воздуха. Эти потоки, пожалуй, и заставляют пылинки двигаться.
- Нет! - возразил Николай. - Потоки воздуха должны увлекать всю пыль в одном и том же направлении.
Я наблюдал это, когда Салих-бабай топил печку. Если, например, пускать табачный дым вблизи горячей печки, то потоки воздуха уносят его вверх, к потолку. Наоборот, у холодных окон потоки гонят дым к полу. А пылинки ведут себя совсем по-другому: одна из них летит вверх, ее ближайшая соседка может стремительно падать вниз или в сторону. Беспорядочная пляска.
- Хм... - задумчиво протянул Симонов. - Стало быть, потоки воздуха не являются причиной беспорядочного движения пылинок. Да, пожалуй, ты прав...
- Я знаю, что прав, - перебил его Лобачевский. - Да что в этом проку? Ведь я все-таки не знаю главного: какая же неведомая сила все время пылинки швыряет из одной стороны в другую?
- А ты, Николай, пока не думай об этом. И так у тебя голова болит.
Лобачевский усмехнулся.
- Как же не думать? В движении пылинок должна быть своя определенная причина, должен быть какой-то смысл! Ведь здесь, как в науке о строении Вселенной, мы имеем дело с теми же основными факторами: пространством, движением и телом, хотя и ничтожно малым по сравнению с какой-нибудь звездой.
- Хорошо, что припомнил! - воскликнул Симонов, стараясь отвлечь друга от трудного вопроса. Он вынул из большого свертка с книгами брошюру. Сегодня в гимназической библиотеке нашел интересное сочинение профессора Тимофея Осиповского...
- Осиповского, говоришь?.. Дай-ка сюда! - Лобачевский нетерпеливо протянул руку. - Наверное, тот самый, который написал учебник по геометрии?.. "О пространстве и времени... Речь, говоренная в торжественном собрании императорского Харьковского университета, бывшем 30-го августа 1807 года..." - прочел он заглавие брошюры.- - Интересно, что же Осиповский пишет о пространстве?
- Он резко выступает против одного из новейших философов Германии Канта...
- Против Канта? - переспросил Лобачевский, еще больше волнуясь. Недавно профессор Бартельс очень хвалил его книгу "Критика чистого разума".
- Точно! Осиповский как раз ее и разбирает...
Но тут разговор неожиданно прервался: в комнату вошел директор-профессор Яковкин в сопровождении доктора Фукса.
- Великолепно, великолепно! - воскликнул директор еще с порога, обращаясь не то к Фуксу, не то к сидящим на кровати. - Дружба - великое дело. Я доволен, что верные друзья не забывают больного товарища.
Симонов поднялся ему навстречу. Но Яковкин покровительственно махнул рукой и, подойдя к постели, бесцеремонно уселся на нее, так что Лобачевский вынужден был подвинуться.
- У вас, мой друг, слабый организм, - внушительно говорил директор. Его надо беречь, охранять от всего, что может оказаться вредным. Вы бледны, худы, словно перенесли тяжелую болезнь.
- Я, господин директор... - попытался что-то сказать Лобачевский, но Яковкин прервал его:
- Я слышал, вы много читаете. Такое пристрастие к разным книгам для больного крайне опасно. И главное, увлекаясь чтением, вы пропустите такие важные предметы, как лекции профессора Бартельса.
"Что такое? - не понял Николай, глядя во все глаза на Яковкина. - Ведь сам же не давал разрешения посещать уроки Бартельса. Потерял из-за него целый год, целый курс лекций".
- Будьте любезны, после выздоровления, - договорил Яковкин, подымаясь, - посещать все лекции, особенно лекции многоуважаемого Бартельса. И дайте слово, что будете заботиться о своем здоровье.
- Хорошо, - совершенно сбитый с толку, пробормотал Николай.
- Это мне от вас и нужно. Всего вам хорошего! - Приветливо помахав рукой, директор вышел в сопровождении Фукса.
Приятели посмотрели друг на друга и рассмеялись.
- Тут какая-то собака зарыта, - решил Симонов, согнутым пальцем вытирая прослезившиеся глаза, - Этот плут, что бы ни делал, три увертки про запас в кармане держит...
На следующий день Лобачевский впервые присутствовал на лекции Бартельса.
Профессор читал приложение тригонометрии к сферической астрономии и математической географии. От основных свойств тригонометрических функций он перешел к их применению при геодезических и астрономических вычислениях. Перед студентами раскрывалась широчайшая картина единства математики. Аудитория замерла в напряженном внимании.
Лобачевский жадно слушал, боясь проронить хотя бы одно слово. А сколько важных и необходимых знаний было упущено за год!
На лекциях Бартельса Николай впервые узнал, что не только для природы геометрии, но и для всего математического знания характерны поразительные внутренние связи. Отсюда вытекало и то бесчисленное множество приложений, которые одна область математики находит в другой.
Это неожиданное открытие еще больше увеличило интерес Лобачевского к лекциям Бартельса.
Дни летели один быстрее другого. Лобачевский даже не заметил, как наступила весна. С головой ушел он в занятия по высшей математике, все больше углубляясь в теорию. Этому, кроме успеха Бартельса, немало способствовало и другое обстоятельство.
Почти сразу же по выздоровлении Лобачевского студентов перед вечерней молитвой собрали в зал заседаний.
Там были все профессора и преподаватели. Яковкин огласил полученное из Петербурга послание Румовского.
- "Желал бы я, чтобы между студентами и кандидатами больше находилось таких, - торжественным голосом прочел Яковкин, - кои бы приготовляли себя к математическим, физическим и философским наукам..."
Лобачевский почувствовал, как кто-то крепко сжал его руку. Обернувшись, встретился со смеющимися глазами Симонова.
- Теперь я разобрал, почему Яковкин твоим здоровьем озаботился и к лекциям Бартельса допустил, - прошептал он.
Лобачевский кивнул головой: вот где, оказывается, была разгадка директорского благоволения.
Действительно, друзья верно разгадали поступок лицемерного директора-профессора. Получив послание Румовского еще во время болезни Лобачевского, Яковкин немало был перепуган.
"Спросит, спросит старик, почему этого нахального студента не удержал в математике, - сокрушенно думал он. - Сам же и доложил ему, что, дескать, он переключился на медицину. Ну не лопоухий ли? А?"
Горестно покачав головой, директор отложил дела и немедленно явился к Лобачевскому, надеясь все уладить.
Волноваться теперь нечего, наоборот, можно почтительно доложить, что его, Яковкина, заботами Лобачевский от медицины отторгнут и возвращен к математическим наукам.
Больше того, субинспектор Кондырев вскоре получил указание подать в совет рапорт об особо отличившихся в этом году студентах. В числе их оказался и Николай Лобачевский, хотя Кондырев и затаил к нему ненависть.
Субинспектор сообщал: "Отличившиеся хорошим поведением, принимая в рассуждение целый год, а не части:
Николай Лобачевский, Доримедонт Самсонов, Алексей Пятов... заслуживают быть упомянутыми пред начальством..."
На этом основании собрание совета решило "записать о сем в протокол и, собрав студентов, в присутствии всего совета отдать справедливость отличившимся, о чем и довести особым рапортом его превосходительству г. попечителю и кавалеру".
Чтобы отвести подозрение Румовского, Иковкин не ограничился этим, а пошел еще дальше. По его представлению, Николай Лобачевский был утвержден камерным студентом - "с целью поощрения в поведении".
Согласно инструкции, камерный студент должен был "надзирать в спальных комнатах за поведением своих товарищей, за правильным употреблением времени их в занятиях наукою".
Николай не стал "оком и ухом начальства". В обращении с товарищами он по-прежнему был искренним, не терпел двуличия и предательства. Зато звание "камерного студента" давало ему право на получение жалованья - пяти рублей в месяц. А это пришлось весьма кстати, так как материальное положение братьев Лобачевских давно уже было довольно трудным. Выделить необходимые деньги для своих сыновей одинокой вдове зачастую оказывалось не так-то просто.
Поэтому сразу же после официального уведомления Николай, радостный и возбужденный, сел за письма.
"Милая маменька, - с нежностью выводил он в первом письме. - Итак, скоро получу жалованье. Как я думаю его распределить? Два рубля пошлю вам, куплю одну весьма нужную книгу и еще... маленький подарок, не решаюсь еще вам сказать - кому. Но вы меня, дорогая маменька, знаете и уверены, что я дурного поступка не совершу".
Николай отодвинул письмо, задумался. Вспомнилась теплая, лунная августовская ночь. Они, студенты, после ужина собрались на большом крыльце университета, обращенном во двор. В тишине послышались нежные трели кларнета. Студент-выпускник Гроздовский играл простодушно-милую, всем знакомую песенку, слова которой сочинил Ибрагимов:
Во поле березонька стояла,
Во поле березонька стояла.
Студенты дружно подхватили ее:
Люли, люли, стояла,
Люли, люли, стояла...
Пели все. В том числе и мечтательный университетский поэт Панаев. С глубоким чувством, еще ломающимся голосом, пел брат Алексей.
Вдруг наверху, в квартире Яковкина, звякнуло и раскрылось окно. Лобачевский невольно взглянул туда: в ярком свете луны хорошо была видна громоздкая фигура директора. Видимо, лунная ночь и пение студентов даже на него произвели впечатление. Вскоре с Яковкиным рядом появились две стройные светлые фигурки. Наклонились они, опираясь на подоконник. Свет луны упал на девические лица, так не похожие на грубое лицо Яковкина.
И два свежих голоса присоединились к студенческому хору.
Люли, люли, горевала,
Люли, люли, горевала.
В чистом кудрява бушевала,
В тереме девица горевала.
Николай незаметно подошел ближе. Увлеченные пением, девушки его не заметили. Они были еще совсем юны:
Параше лет шестнадцать, Анне - пятнадцать. Их мягкие, задушевные голоса для Николая перекрывали весь хор, увеличивая очарование ночи. Другие студенты тоже это почувствовали, продолжая петь, все обратились к силуэтам в окне.
Такое внимание к его дочерям директору не понравилось. Окно стукнуло и закрылось. Николай еще постоял в тени сиреневого куста и, никем не замеченный, вышел из ворот.
Люли, люли, горевала,
Люди, люли, горевала,
неслось ему вслед. Но милых девичьих голосов уже не слышалось в хоре, и песня перестала для него существовать.
Долго бродил Николай по уснувшим улицам и лишь ночью вернулся в пансион. Удалось незаметно пробраться в открытое окно.
А утром Алексей спросил:
- Думаешь, окно-то само тебе открылось, шатальщик?.. Я уж видел: куда собрался.
- Почему так подумал? - удивился Николай.
Алексей усмехнулся.
- Соответственно впечатлению, которое произвело на тебя пение двух юных волшебниц.
- Пустяки, - ответил Николай, чувствуя, что краска заливает его щеки. Просто...
- Я не говорю, что не просто, - прервал Алексей.
Николай, схватив полотенце, опрометью кинулся в умывальную, пораженный тем, что брат разбирался в его чувствах лучше, чем он сам...
Николай вздохнул. Письмо к матери лежало недоконченное. И, хотя он держал перо в руке, мысли возвращались к той лунной ночи.
...Вскоре он был представлен обеим барышням. Встречаясь на улице, почтительно им кланялся. При этом одна из девушек всегда немного краснела. Это была Анна.
Наконец он получил разрешение бывать иногда на вечерах, которые Яковкин устраивал дома и на даче для старших дочерей.
Встречаться часто не могли они, посещать постоянно дом, где есть девушки на выданье, имел право только близкий родственник или жених. Он же не был ни родственником, ни женихом. Разве мог он, бедный студент, разночинец, помышлять о согласии Яковкина, даже если бы Анна...
Как многое изменила эта внезапно вспыхнувшая любовь. Доныне Николая интересовала только наука, Ей он уделял все время. Но вот пришла пора, и в заветной тетрадке около математических формул появились новые стихи...
Закончив письмо к матери, Николай начал писать Корташевскому. Сначала об университетских делах. Разве не интересно узнать Григорию Ивановичу о том, что новое здание на Воздвиженской улице почти готово к перемещению гимназии, так что скоро университет начнет существовать самостоятельно.
"Нынче летом и осенью вновь назначенный адъюнкт технологии Федор Христианович Вуттиг, - писал далее Лобачевский, - первый среди ученых нашего университета, совершил путешествие на Урал с целью изучения минеральных богатств и технических производств края. До его возвращения, в ночь на 26-е октября 1809 г.. умер дорогой Федор Леонтьевич Эвест, основатель химического класса, - так что лекции по химии прекратились, а вещи лаборатории поручейо было временно принять мне.
Об открытии университетской типографии я Вам, кажется, уже писал. Вот недавно вышла ее первая ласточка - "Азбука и грамматика татарского языка" адъюнкта Хальфина. Как получу первое жалованье, куплю эту книгу и начну изучать.
Что еще нового? Кажется, все. Да, кстати, профессор Яковкин шумно отпраздновал получение им ордена - креста св. Владимира четвертой степени..."
Перо повисло над столом. Невольно припомнилось четверостишие Ибрагимова, передававшееся из уст в уста:
Господи Иисусе Христе!
Спас ты вора на кресте.
Теперь тебе другое горе - Спасти крест иа воре.
Нет, писать этого нельзя, хотя Яковкин и заслужил подобную стихотворную шутку. Но вот Анна...
ШАГ ЗА ШАГОМ
Деревья университетского сада уже покрывались яркозеленой листвой. Солнце так щедро согревало землю и светило так ярко, что каждого невольно тянуло выйти на улицу. По вечерам на берегу Казанки молодежь водила веселые хороводы. Из окон дворянских особняков лилась танцевальная музыка. Балы сменялись маскарадами, концертами.
В такой весенний вечер Лобачевский предложил Симонову отправиться на бал в дворянское собрание, чем немало удивил его. Неразговорчивый и нелюдимый, Николай обычно предпочитал далекие прогулки. Друзьям очень редко удавалось уговорить его пойти на студенческую вечеринку или на танцы.
Но знакомство с Анной изменило его. Начал он исправно посещать платные уроки танцев у Надзирателя Мейснера, научился там легко танцевать и плавный менуэт, и веселую польку. Балы, маскарады уже не отталкивали, а привлекали его. Сегодня он тоже торопился на свидание с Анной.
Дворянское собрание помещалось в бывшем дворце фабриканта Дряблова на Воскресенской улице. Из его просторных окон видна была и Волга, и нижняя часть города.
Когда-то в этом здании останавливалась Екатерина Вторая, "первая казанская помещица". Так императрица назвала себя на торжественном приеме, оказанном ей казанским дворянством.
Николай, взявшись за бронзовую ручку, с волнением открыл тяжелую дверь. Юноши вошли в просторный вестибюль. С потолка свешивалась огромная люстра с восковыми свечами. В гардеробной встретили они студента Владимира Панаева. Это - младший брат Александра, виновника давней размолвки между Лобачевским и Аксаковым. Владимир, влюбленный в сестру Анны - старшую дочь Яковкина, был теперь на всех балах и маскарадах.
- А, Николай! - весело крикнул он, увидев приятеля в большое трюмо, перед которым старательно поправлял свои волосы. - Что бы значило твое появление? Уж не взошло ли нынче солнце с другой стороны?
- Взошло, да еще какое! - многозначительно подмигнул Симонов. И, подхватив обоих друзей под локти, повел их по широкой лестнице, наверху которой нетерпеливо толпились в ожидании барышень молодые люди в разного цвета фраках и офицерских мундирах.
В огромном зале уже строились пары для первого танца. Девушки внимательно следили за нарядными студентами в щегольских темно-синих мундирах, со шпагами на черных муаровых лентах. Привлекательнее всех выглядел Николай - худощавый и статный, с густой волнистой шевелюрой.
Однако, войдя в залу, он окинул ее взором и нахмурился. Вдоль стен сидели девушки на стульях, совсем еще молоденькие, взволнованные - ведь это их первый бал, и не такие молоденькие, более спокойные - для них этот бал уже не первый, а рядом с каждой почтительная дама - то ли мать, то ли родственница. Дамы беседуют, любезно кивая друг другу, но порой их быстрые взгляды скользят по нарядам и прическам девиц, притаившихся около своих матерей. У каждой в обтянутых перчатками пальчиках беспокойные веера и маленькие карнэ - книжечки в которых записано: какие танцы отданы каким счастливцам.
Анны в зале нет. Еще нет или ее и не будет? Почему?
Но вот молодые люди у входа, расступясь, вежливо кланяются: появились они, сестры Яковкины, в сопровождении пожилой родственницы. Немного позади за ними следовал субинспектор Кондырев. Глаза его пытливо шарили по сторонам, задержались на Лобачевском, но тот и не заметил этого. Видел он, как пышная дама проплыла к свободным стульям, уселась, расправив платье, раскрыла веер, хотя в зале было еще не жарко. Сестры Яковкипы скромно поместились рядом.
Пора! Владимир слегка подтолкнул Николая, и направились они к девушкам. Вежливый поклон, глаза их на мгновение встретились... И вот уже две новые пары, плавно скользя по вощеному паркету, присоединились к танцующим.
- Анна! - сказал Николай, взяв ее за руку, и вдруг от ощущения этой руки, мягкой и теплой, от взгляда сияющих глаз он смутился.
- Николай, - улыбнулась Лнна.
Пока пели скрипки, это плавное движение вместе, в едином ритме, заменяло разговор или, вернее, было разговором чудесным и понятным только им двоим. Когда музыка смолкла, Николай спохватился:
- Могу ли я пригласить вас на следующий?
Анна, покачав головой, шепнула:
- Через два танца. Раньше нельзя, будет слишком заметно.
Глубокий реверанс. Анна села на стул. Николай отошел от нее в сторону. Два танца. Два танца, которые будет она танцевать с другими! По глаза его сияли.
А субинспектор Кондырев тем временем подсчитывал студентов: "Симонов, Панаев, Лобачевский... Так-так. Двое получили разрешение. Третий разрешения такого не имеет. Самовольно ушел. Однако же танцует с дочерью господина директора. И меня даже приветствием не удостоил..."
Когда загремела музыка, господин субинспектор покинул зал и спустился по лестнице с удивительной поспешностью.
Через несколько минут, задыхаясь от быстрой ходьбы, он постучал в дверь директора.
- Войдите! - крикнул тот.
Приглашение было столь нелюбезным, что субинспектор замешкался.
- Прошу прощения, Илья Федорович, если побеспокоил не вовремя...
- Напротив, любезный, входите, - неожиданно переменил тон Яковкин и с несвойственной ему живостью повернулся в кресле. - Вот, прошу ознакомиться. Письмо к полицмейстеру господину Симонову. Сам при этом прослушаю, как оно получилось.
Удивленный, Кондырев взял письмо и придвинулся ближе к слабому свету свечи.
- "Милостивый государь мой Григорий Егорович! - начал он читать.Вчерашнего дня, то есть 22 апреля 1810 года, двое студентов Казанского университета Лобачевские, из которых старшему, Николаю, особенно рекомендовано доктором пользоваться свежим воздухом по причине слабости здоровья, прохаживавшись по Неяловской роще, прошли в Волховскую рощу, дабы через нее выйти на улицу. Однако при этом были задержаны посторонними людьми, назвавшимися сторожами, кои сказали, что не велено гулять в Волховской роще. Они обошлись с Лобачевскими весьма грубо без всякой причины и, невзирая на уверения, что они - студенты, насильно приневолили их идти прежде к Вашему высокоблагородию, а потом отвели в полицию. Оба студента не нанесли никому никакого оскорбления, однако были задержаны..."
По мере чтения лицо Кондырева покрывалось пятнами от злости: планы его рушились. Такой удобный случай свести счеты с Лобачевским и тем самым услужить Яковкину. А тут вдруг сам директор выбивает оружие из рук.
Заступается...
- Читайте, - напомнил Яковкин.
- "Таковое насилие, - продолжил Кондырев, - студентам оказано в предосуждение прав Казанского университета, всемилостивейше ему пожалованных по грамоте и уставу..."
- Тэк-с... - протянул Яковкин с видимым удовольствием. - Теперь сам слышу - неплохо написано. Прошу завтра же с утра сие послание вручить господину полицмейстеру... Вы что-то и сами хотели мне сказать?
Кондырев очнулся:
- Да, да. Считаю своим долгом... Студент Лобачевский получил у вас разрешение?
- Куда? - спросил Яковкин.
- Из пансиона отлучиться... Полчаса тому назад я встретил его в дворянском собрании...
- Хм... Кажется, был у меня, - сказал директор.
Субинспектор совсем растерялся. Не зная, как перевести разговор на другое, он почтительно поклонился директору и вышел из кабинета.
Яковкин взял чистый лист бумаги - надо было составить письмо попечителю.
"Во всем течении дел по совету и университету, слава Богу, доныне все тихо, спокойно и порядочно", - вывел он первые слова.
Наступившая перед экзаменами тишина действительно радовала директора, и он, прервав донесение, с удовольствием перекрестил себя испачканной в чернилах рукой.
"Г. профессор астрономии Литтров благополучно прибыл в Казань, продолжал он. - Я временно устроил его в Великопольском доме. Назначил ему, по его просьбе, троих слушателей: старшего Лобачевского, Линдегрена и Симонова. Сверх того, просил он еще представить на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства вопрос о покупке некоторых инструментов..."
Долго еще скрипело по шероховатой бумаге перо Яковкина. Стараясь упрочить свое положение, директор-профессор не стеснялся в обещаниях и лицемерных заверениях. Наконец, потушив свечу и замкнув дверь кабинета, вполне довольный своей работой, направился он по коридору - заглянуть перед сном в спальные камеры.
Как и следовало ему ожидать из доноса Кондырева, кровать Николая Лобачевского пустовала. Покачав головой, директор повернулся было к выходу, но, услышав легкие шаги в коридоре, загородил свечу рукой и отступил в сторону от входной двери.
Николай ничего не замечал вокруг: впечатления вечера заслонили всякую предосторожность. Она просила его прийти. Много танцевала с ним, больше, чем допускалось правилами благовоспитанности. Говорили они, говорили...
О чем - он уже не помнит...
Войдя в камеру, Николай остановился у порога. Свеча, которую загораживал Яковкин, освещала его низкий лоб и тонкие губы... Только на этот раз эти губы сложились в добродушную улыбку, столь необычную на лице директора.
- Ай-яй-яй, - промолвил Яковкин, покачивая головой. - Поздновато, молодой человек, гулять изволите, поздновато. Пожалуйте-ка сюда! пригласил он и, выйдя в коридор, поднял свечу повыше. Пламя качнулось в одну, в другую сторону, озарив лицо Николая: высокий лоб, изящный тонкий нос и ясные, широко раскрытые от удивления глаза.
"Красавец, черт возьми, - позавидовал не склонный к восхищению директор. - И, видать, умен изрядно. Пожалуй, если бы не разночинное происхождение..."
- Давненько не имели мы случая видеться, - пожалел он. - Будучи назначены камерным студентом, вы еще ни разу ко мне в кабинет не заглянули, как по уставу полагается. Но это мы оставим. А вот вы сами нарушаете порядок: без ведома начальства балы посещаете. Разве я вам отказал бы в разрешении?
Смутился Николай. Не знал он, что кроется теперь за этим новым проявлением дружелюбия... Директор тем временем изобразил на своем лице улыбку.
- А я ведь забочусь о вашей судьбе, да будет вам известно. Вы назначены мною, вместе с Симоновым и Линдегреном, к профессору Литтрову [Иосиф Литтров, двадцати пяти лет, получил по конкурсу кафедру высшей математики в Краковском университете бывшей Ягеллонской академии, где в свое время учился Коперник. С 1803 года поселился в Вене. В 1809 году армия Наполеона заняла Вену превратив обсерваторию в пороховой магазин. Оскорбленный Литтров предложил свои услуги России. "В других государствах науку только терпят, в России ее уважают", - писал он попечителю Румовскому].
- А где он? - удивился Николай.
- Господин Литтров? Уже находится в Казани, - ответил Яковкин, довольный тем, какое произвел впечатление. - Для встречи с ним прошу завтра к шести часам вечера явиться в обсерваторию. А сейчас... - помахал он рукой, указывая на дверь спальни. - Пора. И чтобы за вами больше художеств таких, молодой человек, не водилось.
- Хорошо, господин директор, - ответил Николай. - Признателен вам бесконечно.
- Пожалуйста! - кивнул Яковкин.
На другой день, едва дождавшись назначенного часа, Николай поспешил в новое гимназическое здание в котором помещалась обсерватория.
Он дошел по Воскресенской улице до Гостиного двора, затем свернул в тесный кривой переулок и наконец вышел к двухэтажному белому зданию на углу Воздвиженской улицы. Над бельведером здания возвышался частично застекленный купол с башенкой. Его-то и называл Яковкин "обсерваторией".
Умерив шаг, Николай поднялся на второй этаж - в большой полутемный зал с хорами наверху.
Служитель, высокий сутулый старик, спросил:
- Вам кого?
- Профессора Литтрова.
- Через ту вон дверь, - указал служитель, - пройдите на хоры, оттудова потом и в серваторий.
По крутым ступеням витой лестницы, ведущей в "серваторий". пришлось карабкаться на ощупь. В темноте Николай неожиданно уперся в дверь, толкнул ее и очутился в довольно просторной, круглой комнате. Из окон ее, расположенных по кругу, открывался широкий вид на всю Казань. Посредине комнаты на длинном столе, покрытом зеленым потертым сукном, находились оловянная чернильница, две медные зрительные трубы, какой-то астрономический инструмент, в виде четверти круга. Тут же лежали старательно очинённые гусиные перья, стопки бумаг и раскрытые книги. Вокруг стола в строгом порядке стояли жесткие стулья с высокими прямыми спинками, немного в стороне виднелась большая труба на деревянном треножнике.
В глубине комнаты расположился в кресле профессор Бартельс.
По правую сторону от профессора, у раскрытой створки застекленного купола, опершись на спинку стула и вытянув шею, стоял молодой человек, рослый, плечистый, с крупными чертами лица и с шапкой рыжеватых волос. Одежда его - засаленный сюртук и потрепанные панталоны - выглядела небрежной. Это был вновь назначенный магистр математики Григорий Борисович Никольский.
На табуретках у стены сидели два студента Иван Симонов и Осип Линдегрен. Оба с интересом слушали Бартельса который в ожидании приезда Литтрова знакомил слушателей с Лапласовым "Изложением системы мира".
Беседа шла на немецком языке - русскому Бартельс учиться не собирался.
Поклонившись профессору и Никольскому, Николай дружески кивнул товарищам и занял место рядом с ними - на третьем табурете.
- Таким образом, - не торопясь продолжал Бартельс - весьма крупным событием в космогонии [Космогония - наука о происхождении и развитии небеспых тел.] явился
труд философа Иммануила Канта "Всеобщая естественная история и теория неба". В нем он дал только что изложенную вам знаменитую гипотезу о происхождении всего мироздания. Этого ученого по справедливости признают наиболее глубоким философом нового времени...
- Простите, герр профессор, - прервал его Симонов, - с тех пор как творец "Всеобщей естественной истории"
создал "Критику чистого разума", он перестал быть естествоиспытателем.
Брови Бартельса поднялись.
- Как вы это понимаете? - спросил он удивленно.
- Я не разделяю такого мнения, - вмешался Никольский, выступив на два шага вперед, - ибо полагаю, что Кант есть величие, против коего рука не должна подниматься.
- Что ваш Кант! - горячо возразил Симонов по-русски. - Вся его философия - это бред чистого разума. - Затем, обращаясь к Бартельсу, он снова перешел на немецкий. - Герр профессор, ведь Кант категорически отрицает независимое существование пространства и считает его только лишь прирожденным, изначальным измышлением разума.
- Допустим, так, - спокойно сказал професор. - Ну и что же?
- Но ведь утверждение такое неизбежно и логично ведет к отрицанию всего внешнего мира...
- Вы так полагаете?
- Не только я. И наш замечательный русский математик Осиповский так утверждает.
- Замечу, отсюда и еще кое-что следует, - неожиданно вмешался в разговор Лобачевский. - Если допустить по Канту, что понятие пространства изначально дано сознанию, то, значит, и геометрические понятия пространства также ничего не имеют общего с внешним миром и не отображают его...
- Зря вы спорите, молодые люди, ведь профессор, безусловно, прав, снова поспешил вмешаться Никольский, хотя профессор никак еще не выразил своего мнения. При этом он отвесил полупоклон в сторону Бартельса, внимательно следившего за разговором, - А вы, - Никольский повернулся к Лобачевскому, - не вполне уяснили себе особый характер геометрии, как науки умозрительной и в своем развитии независящей от опыта. Математические и геометрические построения конечно же являются результатом чисто умственной деятельности ученого, творением его духа, так сказать, чистого разума. Поэтому-то великий Платон учил, что изучение математики отвлекает ум человека от всего вещественного и делает его способным понимать все идеальное.
Никольский еще раз глянул в сторону Бартельса и, почему-то уверившись, что профессор такого же мнения, с апломбом закончил:
- Для подтверждения сказанного достаточно заметить, что математик мог бы по-прежнему умножать богатства своей науки, даже если бы окружающий нас мир исчез.
Лобачевский, внимательно слушавший его, не выдержал:
- Но была бы геометрия, если бы не существовала природа?
Молодой магистр замялся. Но, к его счастью, в этот момент широко распахнулась дверь и на пороге показался высокий сутулый служитель. В руке нес он медный подсвечник с белой свечой, освещая путь на лестнице следовавшему за ним человеку. Войдя в комнату, служитель посторонился дал дорогу довольно полному, изысканно и со вкусом одетому человеку средних лет.
Все поднялись ему навстречу.
- Добрый вечер, господа, - проговорил вошедший, вежливо кланяясь.
Николай заволновался: узнал он гостя. Это был знаменитый академик-астроном Вишневский. Путешествуя по России с целью определить географические координаты некоторых населенных пунктов, приехал он в Казань и сегодня присутствовал на занятиях в университете, где выразил восхищение познаниям Лобачевского, с такой легкостью решившего чрезвычайно сложную задачу "о круговращении".
Академик осмотрел всех присутствующих и, заметив Николая, улыбнулся ему.
На лестнице послышались торопливые шаги. В комнату поспешно вошел Яковкин, а следом за ним, отставший немного, сухощавый господин в синем фраке, с нахмуренным, строгим лицом, окаймленным густыми бакенбардами.
Все переглянулись: погода была ясной, безоблачной, а в руках незнакомца большой дождевой зонтик. Темно-серые глаза его смотрели спокойно и внимательно. Крутой перелом правой брови придавал его лицу выражение задумчивости и печали. Это был вновь назначенный профессор Литтров.
Яковкин представил астронома и познакомил его с присутствующими :
- Вот наш многообещающий магистр математики Никольский... А это, махнул он рукой в сторону стоявших студентов, - будущие ваши помощники: Николай Лобачевский, Иван Симонов и Осип Линдегрен.
- Очень рад, - сказал профессор, любезно кланяясь.
И тут же, повернувшись, начал осматривать комнату.
Яковкин поспешил, как говорится, показать ему товар лицом:
- Окна сей обсерватории сделаны так, что каждое стекло и порознь и все вместе могут быть по надобности отворяемы...
Он говорил торопливо, словно боялся, что его прервут и не дадут высказаться:
- Печка не могла быть устроена, потому что, как видите, стены из тонких досок, но зато со временем даже можно изобразить небесное полушарие. Сие будет зависеть уже...
Академик Вишневский, рассеянно слушавший директора, прервал его:
- Перед моим отъездом попечитель говорил мне, что писал вам о необходимости в этой обсерватории устроить громовой отвод и послал в Казань описание, как его сделать. Но я пока не вижу тут громоотвода...
- Верно-с, получил такое предписание от его высокопревосходительства, но было поздно, ибо стройка уже кончилась, - ответил Яковкин. - Теперь, конечно, более ничего не остается, как предаться воле божьей с обыкновенными предосторожностями...
После короткого разговора директор повел академика вниз. Ушли за ним и Бартельс и Никольский.
Оставшись наедине с тремя своими слушателями, Литтров жестом попросил их занять места рядом с ним за длинным столом.
Беседа началась без предисловий. Новый профессор посвятил ее истории астрономии. Система всего мира, казавшаяся ранее такой запутанной и сложной, теперь являлась в его изложении в новом свете.
Лобачевский, слушая, находил подтверждение тому, что познание причин естественных явлений - уже не пустая мечта мыслителей, а вполне реальная возможность науки. "Придет, непременно придет время, когда наука рассеет страх перед якобы непостижимыми тайнами неба. Этому стоит посвятить всю жизнь!" - думал он.
В комнате было тихо, лишь изредка потрескивали свечи, зажженные служителем. В окнах уже давно синела звездная ночь. Литтров заторопился.
- Нашу первую беседу, - сказал он, - хочется мне закончить словами Лапласа в его "Изложении системы мира".
Открыв необходимую страницу, он торжественным голосом прочитал:
- "Успехи в науках создаются только теми истинными философами, в которых мы находим счастливое сочетание могучего воображения с большою строгостью в мышлении и тщательностью в опытах и наблюдениях". А теперь... - Литтров поднялся и, протягивая руку в угол к своему зонтику, договорил с улыбкой: - Поднимемся поближе к звездам. Возьмите фонарь.
Юноши, переглянувшись, пошли за ним следом.
Тихо поскрипывали тонкие деревянные перила узкой лесенки, по которой все четверо поднялись на круглую площадку на верху купола, венчавшего здание. Над спящей Казанью в темной синеве сверкали бесчисленные звезды; снизу доносились иногда заглушенные расстоянием голоса говоривших запоздалых пешеходов; кое-где виднелись еще редкие огоньки светившихся в домах окон. А с далеких волжских просторов тянуло речной прохладой. Сердце у Николая забилось чаще. На всю жизнь ему запомнилась эта первая встреча с небом и звездами.
Литтров сел на круглый табурет. Указывая зонтиком в небо, заговорил:
- Чтобы лучше разобраться в мире звезд, еще древние ученые поделили его на участки. Затем в каждом из них произвольно сгруппировали звезды в различные фигуры - созвездия.
Прочертив по воздуху несколько небольших кругов, Литтров опустил свой зонтик. Взгляды притихших студентов невольно блуждали по небу, но четкой группировки созвездий не улавливали.
- В пестром узоре небесной карты, - продолжал тем временем Литтров, нам лучше сначала найти созвездие Большой Медведицы. Этот светящийся "ковш" семи ярких звезд и будет нашим главным небесным ориентиром. Если мы проведем прямую линию через две крайние звезды кверху, то наткнемся на яркую Полярную звезду. Она видна в любое время года. С этой звезды, пожалуй, и начнем наше первое небесное странствие, пользуясь моим астрономическим зонтиком.
Литтров поднял его над головой, нажав пружину. Зонтик с лёгким шорохом раскрылся.
- Дайте свет, - попросил профессор.
Симонов поднял фонарь повыше.
У студентов вырвались возгласы удивления: там, на черном шелковом поле зонтика, изнутри были вышиты созвездия северного небосвода с Полярной звездой в средине.
Установив зонтик наклонно по направлению к Полярной звезде, Литтров повернул его так, что положение вышитой Большой Медведицы точно совпало с Большой Медведицей, снявшей в пебе. Затем, показывая то на "узоры"
зонтика с надписями, то на созвездие в пебе, начал он объяснять расположение и всех других созвездий.
Очарованные Литтровым, юноши вернулись в университет глубокой ночью.
С этих пор Николай "заболел" астрономией. Каждый вечер, дождавшись темноты, бежал он в обсерваторию и, направив большую зрительную трубу в небо, долго не мог от нее оторваться. Новый мир, потрясающий своим величием, изо дня в день раскрывался перед ним все шире и глубже. Там, где простой глаз видел две-три звезды, телескоп открывал их сотни. Казалось, миру звезд нет конца.
Впервые увидев четыре спутника Юпитера, он тогда не только восторгался тем, что сама природа будто в назидание человеку поместила в небе миниатюрную модель системы Коперника, но и задумался: что же заставляет их вращаться. В чем причина всякого движения?
Эти вопросы неотступно преследовали Николая.
Рассвет, заглядывая рано утром в окно спальни, все чаще заставал его склоненным или над потрепанным фолиантом в кожаном переплете, или над книгой, отпечатанной совсем недавно. Труды великих ученых и мыслителей древности сменялись новейшими работами по философии, астрономии, которыми снабжал его профессор, восхищенлый способностями своего ученика. В поисках ответов на свои вопросы Николай обращался ко всем философам.
- "Так как природа есть начало движения и изменения, а предметом нашего исследования является природа, - читал он у Аристотеля в его "Физике", то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы..."
Но чем дальше углублялся он в эту "Физику", тем чаще пожимал плечами. Было непонятно, почему Аристотель, допустив наличие в природе внутреннего движения, приходит к выводу, что "все движущиеся тела приводятся в движение чем-нибудь", что "должен существовать неподвижный первичный двигатель".
Автор "Альмагеста" - самой древней из дошедших до нас книг по астрономии, - Клавдий Птолемей также объяснял движение планет существованием особого двигателя.
Не давали ответа и современные ученые, хотя и отводили этому вопросу большое место в своих рассуждениях. Лобачевский с жадностью прочитал "Начальные основания умозрительной и опытной физики". Автор этой книги профессор Харьковского университета Афанасий Стойкович - посвятил "явлениям движения" целую главу.
"В естестве нет покоя, но все переменяет отношения свои в пространстве, то есть находится в движении, - писал он. - Материя и ее движение образуют целую природу... Но материя сама по себе не может прийти в движение, и в сем отношении мы рассматриваем ее как нечто мертвое..."
Лобачевский развел руками: выводы профессора уводили куда-то в сторону.
"Если ученые правы, - размышлял он, - то получается, что пространство, движение и материя существуют каждое самостоятельно и независимо друг от друга. Значит, между ними нет никакой внутренней связи. Но, в таком случае, как же объяснить, что планеты вокруг Солнца движутся не беспорядочно, а вполне определенно, подчиняясь общему закону тяготения?.."
Волнуясь, Николай вставал, мерил шагами комнату.
И каждый раз, когда приближался к голой стене и вынужден был возвращаться назад, ему казалось, что совсем другая, только невидимая стена так же вот вырастает на пути его раздумий и поисков. Он опять натыкался на те же три первоосновы: тело, трехмерное пространство и движение.
Так, чем бы Лобачевский ни увлекался в своих поисках, что бы ни изучал, проблема построения геометрии занимала его постоянно.
Размышляя о причине движения небесных тел на площадке обсерватории, он продолжал настойчиво искать, в чем же заключается то исходное, общее начало всех начал, что способно рассеять облака противоречий, внести логическую стройность и гармоническую простоту в запутанный ворох мнений. Может, именно в этом и лежит путь к постижению важнейшей тайны геометрии, в которую он так пытливо мечтал проникнуть.
Однажды, рассказывая о том, как человечество поднялось к высотам познания Вселенной, Литтров затронул вопрос об истории открытия закона всемирного тяготения.
Лобачевский слушал его внимательно.
- Еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский, наблюдая за движением планет в небе, догадался, что все они, вместе с нашей Землей, ходят вокруг Солнца и в то же время все имеют собственные суточные обращения, - говорил профессор. - Но такое утверждение Аристарха показалось его современникам нечестивым и оскорбляющим богов-планет, которых он заставил вертеться в пространстве...
Лекция Литтров а была подробнейшим обзором всех систем и открытий в астрономии от Аристарха Самосского до Коперника.
- И никто из них не мог объяснить, какая сила заставляет планеты вращаться вокруг Солнца, - заключил профессор. - Пока причину этого движения впоследствии не открыл Исаак Ньютон. Его закон всемирного тяготения одинаково незыблем во всех своих проявлениях. Падает яблоко его притягивает к Земле та же сила взаимного тяготения масс, которая удерживает Землю на ее орбите около Солнца...
Дождавшись конца лекции, Лобачевский подошел к Литтрову.
- Господин профессор, не сможете ли вы разъяснить мне один вопрос?
- Пожалуйста. Сколько угодно.
- В своих "Математических началах естественной фи-"
лософии" Ньютон подробно изъяснил небесные явлениям морские приливы, однако нигде не указал причины самого тяготения...
- Довольно того, молодой человек, - ответил ученый, - что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным законам. Таким образом, двери открыты - нам предоставлен доступ к плзнанию прекраснейших тайн природы. Вас это не удовлетворяет?
Николай медлил с ответом, но Литтров не торопил его.
- Нет, не удовлетворяет, - сказал наконец Николай, - Как же объяснить само происхождение солнечной системы, не зная начальных причин движения?
- На этот вопрос отвечу вам словами самого Ньютона, - Литтров достал книгу и раскрыл ее. - Вот, послушайте: "Планеты и кометы, следуя изложенным нами законам, непрестанно обращаются по орбитам постоянного рода и положения. По законам тяготения они продолжают оставаться на своих орбитах, но получить первоначальное расположение орбит лишь по этим законам они совершенно не могли..."
Профессор остановился и внимательно посмотрел на Лобачевского.
- Так что ваш вопрос вполне уместен, - продолжал он. - А вот что написано дальше: "Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначем, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа..."
- Значит, солнечная система получила тяготение от бога? - спросил Николай. - Значит, и всякое движение нуждается в объяснении посредством первоначального толчка, или так называемого первого двигателя в виде премудрого творца?
- Объяснения другого пока мы не знаем, - ответил профессор. - Может, вам, Лобачевский, удастся придумать что-либо лучшее. Ибо до сих пор окончательная истина еще никому не известна. Со времен открытия закона тяготения никто не мог описать механизма, скрытого за этим законом, не повторив того, что уже сказано было самим Ньютоном. Так что пока нет у нас иной модели для теории тяготения, кроме чисто математической.
Николай молча поклонился и вышел из комнаты. Не заметил он, с каким интересом смотрел ему вслед ученый.
"Выходит, и пылинки в световом луче двигаются по воле бога. Будто нет у него более важных дел, чем швырять их из одной стороны в другую", размышлял тем временем Николаи, спускаясь по лестнице так поспешно словно хотел уоежать от осаждавших его мыслей.
- И некого спросить! - прошептал он с отчаянием.
* * *
Закончились летние каникулы. В университете уже бы ло вывешено расписание на 1810/11 учебный год а Лоба чевский все еще гостил у матери в Макарьеве: за мизерное вознаграждение готовил он дома для поступления в гим пазию троих барчуков. И хотя новый год был для него выпускным, в Казань пришлось возвратиться лишь в первых числах сентября - с опозданием на две недели Был воскресный день. В пансионе уже никого из това рищеи не оказалось, после обеда все разбрелись кто купа Николай тоже пошел бродить по улицам:, "А там видно Рудот..."
Задумавшись, и не заметил он, как прошел Театраль ную площадь, попал на Грузинскую улицу, застроенную красивыми особняками, затем глухим переулком вышел к своему любимому садику на северной окраине города Уго лок этот всегда притягивал его к себе какой-то необъяснимой, властной силой.
Разгоряченный быстрой ходьбой, Николай снял треуголку и вошел в раскрытую калитку.
Сад располагался на высоком обрывистом берегу Ка занки. Впереди за речкой расстилалась без конца и края луговая долина, покрытая небольшими озерками перелес ками, заросшая вдоль берега кустами тальника Левее вид нелись вдали синеющие вершины Услонских гор и просто ры сверкающей Волги. На этом берегу поблизости возвышался Федоровский бугор, по склонам которого плотно ютились одноэтажные деревянные домики. А на правой стороне утопала в зелени Поддужная - дачный поселок где имели загородный летний дом и Яковкины Весной в половодье, когда речка разливалась версты на три в ши рину, все пространство луговой стороны представлялось морем, по которому разбросано было множество зеленых островков и отдельных высоких деревьев, растущих прямо из воды.
По единственной аллее сада Николай прошел в дальний угол, на заветную скамейку. Тут они часто сидели с Анной.
Это их излюбленное место. Может, она и сегодня сюда заглянет? Обменяться бы новостями, условиться о следующей встрече. Так мало! И так много!
Николай сел на скамейку и тут же оглянулся, потревоженный легким шорохом в кустах акации. Да, к нему приближалась Анна. В легком розовом платье, в шляпе с широкими полями, из-под которой выбивались черные кудри, она была красивой и в то же время чем-то взволнованной.
- Вы? - поднялся Николай.
Оглянувшись, Анна подошла к нему ближе.
- Кажется, действительно я, - улыбнулась она, задыхаясь. - Чувствовала, что вы уже здесь. И так спешила...
Сегодня у нас на даче вечер. Приходите... Хорошо?.. Извините, я тороплюсь. Меня, должно быть, ищут.
Анна спустилась по крутому откосу вниз, и тропинка увела ее в заросли дачного сада.
Николай хорошо знал эту загородную дачу Яковкиных.
Три новых деревянных дома, широкий двор с конюшней и постройками, сад, простиравшийся до самой Казанки, густой, огороженный, крепким забором. Из этого сада частенько удавалось Анне проскользнуть и в другой сад, на горе, чтобы встретиться там с Николаем.
На даче всегда было много народу: подруги дочерей, студенты, гимназисты, молодые офицеры. Пили чай прямо в саду, под яблонями, а в ненастную погоду - на террасе.
По вечерам устраивали танцы.
Николаю здесь удавалось поговорить с Анной гораздо больше, чем там, при коротких свиданиях в саду под обрывом. Его часто удивляли неожиданно зрелые суждения, которые она высказывала ему о жизни, о прочитанных книгах. А читала, видать, она много и более серьезно, чем это было в обычаях девушек того времени.
Едва дождавшись часа, когда можно было явиться на вечер, Лобачевский поспешил в Поддужную. У калитки сада заметил он Владимира Панаева. Тот был в изящном сюртуке, совсем не казанского покроя, в белом жилете и в шелковых чулках. Однако Николая поразило несоответствие такого наряда с нахмуренным лицом Панаева.
- Что случилось? - обеспокоенно спросил он. - Тыне болен?
- Пока что нет, - уныло сказал Панаев. - Дело хуже, друг. Как бы нас не обыграли.
- Не понимаю.
- Поймешь, когда поздно будет... Илья Федорович надумал дочерям подыскать партии повыгоднее. В Казань приехал барон Врангель. Яковкин уже предложил ему быть экстраординарным профессором правоведения. Чем не жених? Профессор! Да еще и с такой рыцарской фамилией...
Панаев улыбнулся, но глаза его были печальными.
- Сегодняшний вечер - в честь рыцаря. И две дочки на выданье... Соображаешь? - спросил он.
В это время с террасы послышался голос Яковкина:
- Молодые люди, просим, входите!
На террасе уже собралось человек пятнадцать. Все они были друг с другом хорошо знакомы, но сегодня беседа у них, видимо, не клеилась. Многие с нетерпением поглядывали на садовую калитку. Николай понял: толки насчет нового жениха стали уже известными всем гостям. И поэтому все молчали.
Зато звучнее раздавался уверенный голос нового магистра исторических наук Петра Кондырева. Тот охотно и пространно толковал скучающим барышням, что "любомудрие - мать всех наук и научные истины целиком исходят из нашего мышления, ибо ум - самое изначальное...".
Барышни слушали, переглядываясь, и наконец не выдержали.
- Нам папенька новых золотых рыбок достал! - воскликнула Параша. Пойдемте, я покажу.
Девушки вскочили с мест и веселой стайкой впорхнули в комнату. Озадаченный Кондырев поднял брови, не закончив проповеди.
В этот момент калитка сада скрипнула и на дорожке ведущей к дому, появился новый гость, незнакомый присутствующим. Это был красивый человек, двадцати пяти лет, в изящном сюртуке светло-кофейного цвета и в белых перчатках, по виду скорее важный чиновник, чем ученый Похоже было, что Яковкин давно уже наблюдал за калиткой из окна, судя по тому, с какой поспешностью выскочил теперь навстречу гостю, рассыпаясь в любезностях.
- Господин Врангель! Егор Васильевич! Пожалуйте! - восклицал он. - А мы-то уж и беспокоиться начали.
Пожалуйте, пожалуйте! Моя супруга. Честь имею... А где же дочки?
Поддерживая Врангеля под локоть, сияющий хозяин привел его к остальным гостям:
- Пожалуйста. Имею честь! Егор Васильевич Врангель...
Взаимное представление было закончено, а девушки пе появлялись. Яковкин забеспокоился.
- Пока нам стол готовят, пожалуйте сюда - посмотрим библиотеку моих дочек, - пригласил он гостей в покои барышень.
Это была уютная, со вкусом обставленная комната: на стенах несколько гравюр и две картины в золоченых рамах. В большом шкафу из красного дерева на полках стояли книги в нарядных переплетах. Между окон у столика столпились девушки вокруг сверкающего зеркальными боками аквариума.
Почетный гость подошел к дочерям Яковкина, привотствуя их с непринужденностью светского человека.
Николай украдкой присматривался к Анне. Держалась она с достоинством, но ни разу пе глянула в его сторону.
Тем временем, выбрав удобную минуту, новый гость подошел к стоявшему в углу небольшому клавесину.
- Могу ли я попросить вас? - обратился он к Анне.
- Сыграй, сыграй, милая, - закивал Яковкин.
- Хорошо, - согласилась Анна, усаживаясь.
Когда пальцы ее забегали по клавишам, наполнив компату легкой, порхающей музыкой, Врангель стоял рядом и внимательно следил за нотами, чтобы вовремя перевернуть страницу.
Анна играла какую-то сверкающую солнцем тирольскую мелодию. Звуки напомнили Николаю то утро, в далеком детстве, когда лежал он в постели, зажмурив глаза, и нежился в полудреме. "Вставай, Колюшка! - послышался ласковый голос матери. - Вставай, вставай!" - говорит она, улыбаясь, и проводит теплой рукой по его стриженым волосам... Но вот музыка стала смелее, уверенней. Это была уже гордая радость человека, впервые узнавшего светлое чувство, которое люди зовут любовью.
"Кому она играет?" - очнулся Николай, прислушиваясь.
Но песня кончилась. Anna поднялась и, глянув ему в глаза, чуть улыбнулась.
- Еще! Еще! - просили гости.
Нет, она устала.
- Спасибо, - учтиво склонился перед ней Врангель.
В глазах ее мелькнул веселый огонек:
- "Спасибо" за то, что играла, или за то, что музыка наконец кончилась?
Врангель подхватил шутку, с наигранным ужасом всплеснув руками.
Гостей пригласили к столу на террасе. Яковкин усиленно хлопотал, как любезный, внимательный ко всем хозяин, но было заметно, что главным, достойным его внимания на этом вечере по-прежнему оставался будущий профессор.
- Ты видишь? - тихо спросил Николая Панаев, когда они сели рядом.
Тот молча сжал его руку.
Однако стараниями хозяина веселый ужин был неожиданно испорчен. Желая поразить гостя учеными познаниями своих дочерей, он превратил застольную беседу в астрономический диспут. Никольский и Кондырев с охотой воспользовались этим случаем выказать свои знания.
- Первые причины пока нам неизвестны. Мы говорим: дважды два четыре. Но почему? Сказать лишь можем: так образован ум, - разглагольствовал Никольский уплетая кулебяку. - И нужно ли нам знать первые причины?.. Обуздаем же дерзкое и бесполезное любопытство откажемся навсегда проникать в истоки... Философы средних веков тоже хотели узнать первые причины пока мрак тщетных умствований не ослепил их...
- Но явился Бэкон с ярким светильником опыта - не вытерпел Николай, - и природа нам открылась.
- Опытом в силах мы познать лишь те явления, существование которых зависит от породивших их причин, - хладнокровно продолжал Никольский. Стремясь же познать причину существования всего, в том числе пространства и движения, мы сталкиваемся неизбежно с мыслью о боге, как о первопричине всего существующего.
Даже великий Ньютон и тот склонялся...
- Не менее великий Гераклит, - прервал его Николай, - говорил, если помните, следующее: мир, единый никем не создан из богов и никем из людей, а был и будет вечно живым огнем.
- Безбожник ваш Гераклит! - возгласил Кондырев.- И мы потрясены его неслыханным вольнодумством!
- Неправда! - вмешалась Анна. - Гераклит сказал еще другое...
Но, заметив испуганный взгляд матери, она умолкла.
Для Врангеля эта вспышка не прошла незамеченной.
Брови его нахмурились, глаза насмешливо блеснули.
- Отрицая божественное влияние, вы, молодой человек, запаслись, вероятно, и собственным объяснением причин тяготения? - спросил он изысканно светским тоном, слегка наклонив голову.
Губы Николая дрогнули, но умоляющий взгляд Анны заставил его сдержаться.
- Объяснения такого не имею... пока, - добавил он и отвернулся, не желая больше разговаривать.
Врангель чуть заметно пожал плечами, показывая, что умолкает единственно из уважения к хозяевам.
- Да-с, - отозвался Яковкин, обращаясь к Николаю. - Правильно сказывали раньше: никогда не берись, молодой человек, за то, чего не умеешь, и не говори того, чего не знаешь. Запомните: мир без единого творца не существует. Иначе придется признать, что философия ведет к безбожию... чего быть не может.
Николай не сдержался:
- Гиппократ как раз утверждал другое: знание порождает науку, а незнание - веру.
Яковкин в ужасе поднял руки вверх, как бы отстраняя удар. Но в это время хозяйка, не принимавшая участия в разговоре, поспешила вмешаться.
- Барышням хочется потанцевать, - улыбнулась она, вставая из-за стола.
Все последовали ее примеру. Молодежь, за исключением Никольского и Кондырева, поспешила в сад, где музыканты уже настраивали свои скрипки. Глиняные плошки с фитилями, размещенные вокруг на стойках, освещали всю площадку. Из-за деревьев поднималась полная луна. Вверху с писком промелькнула черной тенью летучая мышь, напугав и барышень, и музыкантов. Последовал громкий смех - общее веселье разгоралось.
Анна, пользуясь моментом, отошла в глубь аллеи.
Николай поспешил к ней объясниться, но его задержал резкий голос Яковкина:
- Господин Лобачевский, прошу ко мне.
Анна шепнула:
- Сдержитесь. Ради меня.
Поднявшись по ступенькам террасы, Николай вошел в кабинет Яковкина. Директор-профессор уже сидел за столом в своем кресле с высокой спинкой. Ни выражение лица, ни голос его не напоминали об отеческом добродушии памятного разговора после бала.
- Садитесь, - пригласил он, величественным жестом указав на плетеное кресло перед столом. - Как же, молодой человек, не можете вы удержаться от неблагопристойного поведения на глазах у своих сверстников?..
Ежели не одумаетесь и не откажетесь от своих дерзостных мыслей, кои противоречат божественному откровению, буду вынужен сообщить о вашем поведении его высокопревосходительству господину попечителю. С грустью должен указать, что его доброго мнения пока не заслужили.
Яковкин замолчал и выжидающе смотрел на Лобачевского. Тот сидел неподвижно, глядя в темный угол комнаты. "Ну, сейчас начнется!" - подумал он. И знакомое тягостное, столько раз уже испытанное во время объяснений с директором чувство раздражения, обиды, злости охватило его.
- Должен вам указать, - снова заговорил директор, не дождавшись ответа, - что я не могу одобрить также замеченного мною замышления, касающегося моей дочери Анны. Вам оказана честь быть принятым в моем доме, но при условии не заноситься мыслью недозволенной. - И, приподнявшись в кресле, он вдруг стукнул ребром ладони по столу: - Не по себе дерево рубите, молодой человек! Думаете через выгодный брак свою карьеру обеспечить?
Николай покраснел. Пальцы рук, сжимавшие ручки плетеного кресла, побелели, губы вздрагивали.
- Мое уважение к Анне Ильинишне, - сказал он, подымаясь, - не дает мне возможности высказать, сколь я возмущен вашими словами. На этом разрешите откланяться.
Ни с кем не прощаясь, Лобачевский вышел на улицу.
Разбудил его рано утром назойливый комариный писк. Над головой шныряла ранняя птица, упорно спрашивая: "Чьи вы?" Николай повернулся и тут же, услышав под собой шорох сена, испуганно вскочил. С щемящей болью вспомнил он вчерашнее: до полуночи бродил вокруг Подлужной и вдоль Казанки, пока не присел отдохнуть на этой вот копне сена. Жгучее чувство унижения пронизало его насквозь. Надо же... Яковкин и Кондырев с удовольствием пропишут ему самовольную отлучку. Встретиться бы с Анной...
Вдруг внимание Лобачевского привлекло движение травы рядом с копной. Спрыгнув на землю, он шагнул осторожно раз, другой... Из-под ног его ящерица кинулась в другую сторону, и колеблющиеся травинки отмечали ее проворный бег. Николай, не отрываясь, долго смотрел ей вслед.
- По движению травы можно судить о движении ящерицы, - шептал он в глубоком раздумье. - Нет ли тут сходства с игрой пылинок?..
Он чувствовал, что вопрос этот не праздный. Только бы ухватиться ему за нить наводящей мысли. Но та ускользала. И вдруг, точно вспышка молнии, появилось объяснение: игра пылинок вызвана движением частиц воздуха так же, как движение травы - бегущей ящерицей...
"Догадка? - спрашивал себя Николай. - Но только ли догадка?"
И внутренний голос отвечал ему: это именно так.
Теперь он, кажется, напал на верный след...
Николай торопливо расправил измятый мундир и пригладил волосы. Но как теперь шагать ему по городу - при шпаге? Надо спешить, пока на улицах только дворники.
В саду, нарушая утреннюю тишину, перекликались птицы. "Чьи вы? Чьи вы?" - настойчиво допрашивал чибис над головой. Николай быстро шел по липовой аллее, стараясь припомнить, у кого что говорится о воздухе - у Лукреция, у Ломоносова... Надо проверить...
На въезжей дороге Арского поля Николай остановил извозчика.
- В университет! Скорей! - поторопил он.
Солнце уже поднялось над городом, ярко горели купола церквей. На улицах появились прохожие, бежали на рынок шустрые кухарки с большими корзинами, торопились к озеру водовозы, громыхая бочками.
Покинув извозчика у Тенишевского дома, Николай под густыми акациями прошел незамеченным к знакомому окну спальной комнаты. Он взобрался на подоконник, но в это время рядом звякнуло, раскрываясь, другое окно.
Кто-то выглянул и, может быть, видел его ноги. Ну и пусть!
В комнате все воспитанники спали. Один лишь Алексей лежал с открытыми глазами, заложив руки под голову, и пристально смотрел теперь на брата. Николай поежился под его неподвижным взглядом. Затем виновато улыбнулся. Но младший брат, закрыв глаза, повернулся лицом к стене.
В то же время в коридоре послышались чьи-то поспешные шаги. Николай быстро лег в постель и краем глаза увидел заглянувшего осторожно в приоткрытую дверь субинспектора Кондырева. Тот посмотрел на спящих и так же бесшумно захлопнув дверь, удалился.
- Кажется, влип! - шепнул Николай, подымаясь.
Алексей не стерпел.
- Я тоже не спал всю ночь! - пожаловался он, садясь на кровати. - Куда же ты подевался? Тебя Симонов искал весь вечер. Откуда у тебя солома в волосах?
Николай приложил палец к губам.
- Тише ты! После объясню. А сейчас - не мешай.
Наклонившись к плетеному сундучку, он поспешно стал рыться в книгах, пока не вытащил тяжелый том в кожаном переплете. Ломоносов!
Алексей махнул рукой и, завернувшись в одеяло, снова лег в постель.
- "Отдельные атомы воздуха, - читал Николай в раскрытой книге, взаимно приблизившись, сталкиваются с ближайшими в нечувствительные моменты времени, и когда одни находятся в соприкосновении, вторые атомы друг от друга отпрыгнули, ударились в более близкие к ним и снова отскочили; таким образом, непрерывно отталкиваемые друг от друга частыми взаимными толчками..."
Здесь он, отложив книгу, закончил недочитанное предложение своими словами.
- ... сталкиваются на пути с пылинками, ударяют их и заставляют перемещаться в разные стороны. Вот в чем заключается причина бесконечной пляски пылинок. А ссылаться на бога - вздор!
Николай прошелся по комнате из угла в угол. "Но атомы воздуха сами откуда получили движение?" - подумал он и снова сел за книгу.
Перед ним лежали "Размышления о причине теплоты и холода"! Николай терпеливо перелистывал страницы, пока не обнаружил там главное: Ломоносов указывал, что теплота - это движение тех самых частичек, из которых состоят все тела. Чем выше температура, тем быстрее частицы движутся. Но почему же мы ни просто глазом, ни с помощью микроскопа не замечаем движения в телах?
И этот вопрос Ломоносов не оставил без ответа: "Ведь нельзя нам отрицать, - писал он, - существования движения там, где его не видно: кто, в самом деле, будет отрицать, что когда через лес проносится сильный ветер, то листья и сучья деревьев колышутся, хотя бы при рассматривании издали глаз не видел движения. Точно так же, как здесь вследствие расстояния, так и в теплых телах вследствие малости частичек движущейся материи колебание ускользает от взора".
- Так вот она, движущаяся материя! Значит, источник движения находится в ней самой. - Лобачевский захлопнул книгу и сунул ее в сундучок.
- Сейчас иду! - кивнул он Алексею, звавшему его на завтрак.
- Только из головы солому вытряхни, - уже с порога крикнул брат, усмехаясь. - И переоденься. Не в парадной же форме к завтраку явишься?
Какую солому?.. Николай вдруг остановился, точно его ударили. Вспомнились и вечернее отчаяние и бодрость утреннего пробуждения. Об этом после, после... До встречи с Анной... А сейчас не утерять бы нить, удачно схваченную в рассуждениях Ломоносова...
Только после уроков удалось Лобачевскому вернуться к своим занятиям. Сегодня лекции были нудными, он елееле дождался их окончания: так непомерно долго тянулось время.
Теперь на столе пред ним лежала книга Радищева...
"О человеке, о его смертности и бессмертии". Нет ли в ней чего-нибудь ранее им не замеченного?
- Так, так, - повторял он, листая страницы, пока вдруг не задержался и дрожащей рукой не положил на стол книгу, развернутую на 143-й странице.
"Бездействие есть то состояние существа, - писал Радищев, - из коего оно исступить не может, доколе что-либо его из оного не извлечет... утверждать, что бездействие есть свойство природы, кажется ч нелепо..." И дальше:
"Когда все движется в природе и все живет, когда малейшая пылинка и тело огромнейшее подвержены переменам неизбежным, разрушению и паки сложению... имеем право неоспоримо утверждать, что движение в мире существует, и оно есть свойство вещественности, ибо от нее неотделимо".
- Вот оно! - поднялся Николай, - Значит, вывод мой не преждевременный.
Итак, все процессы во Вселенной суть вечное движение, вечное изменение материи - единственного действующего лица в этом величественном .процессе мироздания.
Эту мысль не удалось уничтожить ни преследованиями, ни тюрьмой. Не заглушат ее и старания Никольских и яковкиных. Она живет. И будет жить вечно.
Дверь комнаты приоткрылась.
- Николай, мы собрались на прогулку. Не желаете принять участие?
- Спасибо, не могу, - ответил он. - Мысль одна тут вертится...
- Но смотрите, как бы с ней и мозги не завертелись.
Дверь захлопнулась.
Даже не заметив, кто приглашал его, Николай с облегчением вздохнул:
- Избавился!
"Итак, материя без движения немыслима, - вернулся он к прерванным размышлениям, - а движение материи всегда протекает в пространстве. Отсюда следует: вот почему при определении начальных геометрических понятий, принимая за первооснову или трехмерное пространство, или движение, каждый из нас был прав, но только не совсем, отчасти. А так как из нас каждый на своем настаивал, то казалось, что не может быть единого подхода к обоснованию геометрии".
- Но эта проблема вполне разрешима. Нужно только исходить из движения, из движущейся материи! - выговорил он вслух.
Николай на минуту закрыл глаза ладонью и стоял так ослепленный величием представившейся ему картины.
Затем сложил книги в сундучок и, чувствуя, что не в силах больше предаваться размышлениям, вышел на улицу.
Казалось, в жизни осталась только дорога в Подлужную, к заветной калитке. Он шел туда уверенно, как на заранее обещанное свидание. Там она ждет его...
И не ошибся. В саду сквозь решетку мелькнуло ее светлое розовое платье.
- Анна!
Девушка подошла к забору.
- Тише. Нас могут услышать... Меня тут заперли, не выпускают.
- Анна, - повторил Николай, задыхаясь. - Вы знаете, чем кончился наш разговор с отцом?
- Чувствую, - шепнула девушка.
- Я лишен возможности бывать у вас.
- Не велика беда, - улыбнулась она, просунув ему руку сквозь решетку.
Он взял ее двумя руками.
- Сколько же нам придется ждать?
- Когда меня выпустят!
- Нет, когда я приду просить вашей руки...
- О, для этого нужно завоевать положение, - усмехнулась она. - Так говорит мой отец.
- Я завоюю, - пообещал Николай, сжимая руку. - - Врангель напрасно радовался. Мне сегодня удалось-таки найти, в чем главное свойство материи...
Анна высвободила свою руку.
- Что с вами? - спросил он.
- Так, ничего... Я только подумала, что как бы вы ни любили меня сейчас, наука всегда будет вам первой дамой сердца.
- Одно другому не мешает.
- Посмотрим. Будем надеяться на лучшее.
Она заторопилась:
- Мне пора.
- Где мы теперь увидимся?
- Не знаю. До свидания.
- Анна! - крикнул он вдогонку.
Но ее среди кустов уже не было видно.
Дальнейшие события круто изменили налаженную жизнь в Подлужной.
Директор-профессор и без того находился в дурном расположении духа. Его настроение было испорчено еще летом, когда из Петербурга получил он ящик с тридцатью костяными шарами для баллотировки. В предписании попечителя указывалось: "РТзбрать ректора, установить разделение факультетов и сделать выбор в деканы для каждого из них".
До сих пор Яковкпн один управлял университетом и гимназией. Сам составлял расписание лекций, назначал часы преподавания вновь определенным профессорам, выбирал пм слушателей. Из членов совета никто не вмешивался в его дела. Но закрытая баллотировка могла все нарушить. Илья Федорович понимал, что первые выборы явятся "началом конца" его самовластия. Надо было поторапливаться и вовремя сбыть с рук дочерей, подыскав для них выгодных женихов. Один такой жених уже нашелся - барон Врангель. Правда, на первом же вечере, устроенном в Подлужной, этот Лобачевский чуть не опозорил доброе имя директора перед столь важным гостем.
А он-то, Яковкин, ослепленный вниманием старика Румовского к этому щенку адъюнкта Корташевского, начал было приближать его к себе... Ну, слава богу, с ним покончено, и Врангель не рассержен, судя по тому, с какой довольной улыбкой выслушал он рассказ о заслуженном наказании дерзкого безбожника. Теперь главный вопрос - это проклятая баллотировка. Еще и закрытая: не узнаешь, кто подсунул тебе черный шар...
Наконец подошел день выборов, 16 сентября 1810 года. Директор-профессор не ошибся: в ректоры не прошел он. За него было подано только три белых шара, один из которых опустил он сам. Яковкин был избран лишь деканом отделения словесных наук. С горя он даже захворал и несколько дней пролежал в постели.
Бывшему "ректору" не терпелось найти виновника, настроившего против него избирателей. Он перебирал в своей памяти всех подозрительных, пока не задержался на Лобачевском. Не тот ли? Ведь однажды он уже скомпрометировал его: подговорил студентов идти к губернатору.
Да и сейчас, видимо, действует по наставлению Корташевского, которого Яковкин вынудил уехать из Казани. "К тому же осмелился предерзостно помышлять об Анне", - отметил Яковкин, забывая, что еще недавно сам присматривался к молодому студенту.
Уверившись в такой догадке, он приказал Кондыреву немедленно учредить за вероотступником строгий надзор.
Субинспектор, уже давно следивший за непокорным студентом, чтобы свести с ним счеты за его едкие эпиграммы, был очень доволен таким поручением. Теперь он, как тень, повсюду следовал за Лобачевским, держа наготове объемистую карманную тетрадь, в которую записывал каждый опрометчивый шаг Николая.
Все донесения Кондырева и рапорты Яковкина преследовали одну цель добиться в ближайшее время исключения Лобачевского из университета. Оба торопились. Но выполнить им это было не так-то просто. Преподаватели университета и сам попечитель академии Румовский хорошо знали о чрезвычайных способностях молодого студента. И конечно же будут защищать его. Поэтому нужны были весьма веские факты, которые изобличали бы Лобачевского в самом предосудительном поведении.
Однажды, в час урока случайно вернувшись в камеру, Николай застал у своего стола субинспектора. Тот рылся в его тетрадях.
- Кто вам, господин Кондырев, разрешил хозяйничать в чужом столе? крикнул Николай с порога.
Субинспектор выронил на стол все, что было у него в руках.
- Вам нужны мои записи? - подошел к нему Николай. - Хотите передать их Яковкину?
Кондырев молчал, губы его дрожали.
Николай схватил на столе пачку тетрадей и сунул их ему под нос.
- На, возьми, подлец!
Субинспектор испуганно попятился и выскользнул из комнаты.
- Обыск! - произнес Николай, закрыв глаза руками. - До чего уже дошло! Как дальше учиться в такой обстановке? - Он зашагал по камере.
С кем посоветоваться? Ибрагимов?.. Николай Мисаилович еле жив... Симонов?.. Но тот, кроме астрономии, больше ни о чем ни думать, ни говорить не может... Анна?.. Ее нет в Казани - отправили в Петербург. Несомненно, чтобы отдалить его... Но так ли это? Не сама ли она в последнее время уклонялась от свиданий? "Как бы вы ни любили меня, вспомнились ее последние слова, - наука всегда будет вам первой дамой сердца". Так она сказала... С этого началось... А что, если этим и кончится?
Он торопливо сунул тетради в ящик стола и, задвинув его, выбежал на улицу.
Куда же? Не все ли равно?.. К Бартельсу! Тот поймет!
Бартельс, новый декан отделения физических и математических наук, встретил Николая в дверях кабинета.
Внимательные глаза его испытующе посмотрели на юношу сквозь большие круглые очки, всегда немного сползавшие с носа.
- Что-то случилось? Не так ли? - спросил он, усаживая гостя на диване и сам опускаясь в кресло рядом. - По глазам вижу.
Но, всмотревшись ближе в расстроенное лицо юноши, отвернулся и начал перебирать какие-то бумаги на круглом столике.
- Ну-ну, - продолжал Бартельс, деликатно дав гостю немного успокоиться, - Ждал вас, чтобы услышать, как все было на самом деле. Говорят, вы опасный еретик, милый друг. Вот в этом прежде всего и покайтесь. На прошлом заседании совета все выступление господина Яковкина было посвящено только вам. Большая честь. Но я ничего толком не понял. Хорошо, что вы сами пришли ввести меня в курс дела. Я к вашим услугам.
Бартельс говорил это, внимательно рассматривая бумаги. Но с последними словами он сгреб их в одну кучу и, откинувшись на спинку мягкого кресла, водворил сползающие очки на свое место. Сквозь круглые стекла на Лобачевского смотрели умные, доброжелательные глаза.
- Я к вашим услугам, - повторил Бартельс и подвинулся глубже в кресло, выказывая готовность к долгому обстоятельному разговору.
Этот разговор действительно получился долгим и тем самым в большой степени возвратившим Николаю душевное равновесие. Бартельс внимательно слушал его, пе перебивая, и, когда Николай кончил, крепко пожал ему руку.
- Замечательно! В этих исследованиях вам посчастливилось напасть на совершенно другой - новый путь, не похожий на старые. Да-да! Вы превзошли своих учителей.
Николай смутился.
- Что вы, герр профессор! По существу мпою ничего еще не сделано. Только ищу...
- Вот именно, - перебил его Бартельс. - Ищете! Упорно! Это редчайшая, к сожалению, в наше время способность. И, не сомневаюсь, найдете. Однако... - Профессор поднялся и, молча пройдясь по кабинету, снова сел. - Однако ваши мысли действительно слишком решительны.
Мы не привыкли еще к такой самостоятельности в иссле-"
довании коренных вопросов мироздания. Оказывается, не зря господин Яковкин испугался. Многим еще не по вкусу придется ваша точка зрения. Потому что разрушает церковные представления о мире. Вероятно, поэтому и установлена слежка за вами. Нужно вам немедленно принять меры предосторожности: во-первых, надежно спрятать свои записи, а также и некоторые книги, которыми вы пользовались. Во-вторых, временно, для видимости, прекратить философские исследования...
Заметив, что Николай нахмурился, профессор взял его за руку.
- Не огорчайтесь, - отеческим тоном продолжал он. - Я сказал "временно". Кроме того, ваша мысль не останется без работы. Как только я закончу курс лекций "Дифференциальное и интегральное исчисление", приступим к изучению двух новых предметов: "Приложение аналитики к геометрии" по Монжу и "Аналитическая механика" по Лагранжу. Так что пищи для ума вам хватит...
- Спасибо, герр профессор, - сказал Николай, поднимаясь с дивана. - Вы помогли мне. Я ведь и пришел к вам за помощью.
Бартельс был тронут. Его большие голубые глаза блеснули. Опять он протянул руку, и Николай почтительно пожал ее.
- Что же касается критической оценки ваших взглядов, - сказал профессор, уже стоя в дверях, - то при всем желании вряд ли смогу быть компетентным судьей. Ведь я не философ, а математик. Вот скоро в Казань приедет мой старый приятель Броннер. Он, говорят, назначен в университет ординарным профессором на кафедру теоретической и опытной физики. Очень осведомленный человек, особенно в различных областях естествознания. Я вам помогу завязать с ним дружбу.
...Знакомство Лобачевского с профессором Францем Бронпером произошло совсем случайно, без участия Бартельса.
Как-то в начале ноября, под вечер, Николай зашел в книжную лавку Пугина в Гостином дворе. На столах и полках лежали грудами новые и подержанные книги на русском, французском, немецком и латинском языках.
Здесь можно было найти светские романы, богослужебные церковнославянские книги, научные трактаты, учебники, "травники" (так назывались древнерусские лечебники).
Тут же продавались географические карты, гравюры, картины. Имелись даже семена редкостных растений: альпийского льпа, суходольного американского риса, китайской конопли.
Лобачевский с интересом перебирал новые приобретения книжника. Это были старинные книги в кожаных переплетах. Некоторые сильно потерты, на одной даже видны следы огня...
"И книги имеют свою судьбу", - невольно вспомнилось юноше древнее изречение. Его внимание привлек один трактат на латинском языке, изданный в 1617 году в Амстердаме, и он долго не выпускал его из рук. "Об обращениях небесных сфер", - прочитал Николай на титульном листе книги, едва поверив своим глазам. Это было великое творение Коперника. Первое издание.
Заметив, с каким восторгом юноша рассматривает книгу, продавец тут же стал набивать ей цену:
- Правильно изволили сказать, редчайшее издание.
За него и десятки не жалко... Вам, студенту-любителю, так и быть, уступлю за трешницу...
Николай сунул в карман руку. Чудес не бывает: как и ожидал, нащупал там всего лишь несколько монет. Но Коперник...
- Отложите для меня, зайду после, - попросил он.
- Слушаюсь, - отозвался торговец и, отложив в сторону эту книгу, придвинул Лобачевскому следующую, на греческом языке.
- "Физика", - прочитал Николай, а ниже: - Аристотель.
С трепетом развернул он пожелтевшие страницы. Вдруг чья-то сильная рука легла на его плечо, и звонкий голос проговорил по-гречески:
- Вы давно интересуетесь Аристотелем?
Николай оглянулся. Рядом с ним стоял человек лет пятидесяти, с проницательными узкими глазами на скуластом лице.
- Будем знакомы: Броннер, он же Аристотель, - произнес он, улыбаясь, но, заметив, с каким удивлением рассматривает его юноша, спросил: Простите, на каком языке могу с вами объясняться?
- Можно и по-немецки, но я понял все, что вы сказали, герр Броннер, ответил Николай на греческом языке.
- Раз вы знаете столько языков, значит, не иначе, как вижу я перед собой студента Лобачевского! - воскликнул по-немецки Броннер, протягивая руку. - Вот неожиданность! Очень рад познакомиться. Только что профессор Бартельс говорил о вас... Что это за древняя книга, которую вы купили? спросил он, указывая на ветхий томик, отложенный продавцом.
- Трактат Коперника "Об обращениях небесных сфер", - ответил Николай. Но я пока еще не купил его.
- Почему?
Николай пожал плечами.
- Бедный студент? - улыбнулся Броннер. - Понимаю.
Но упустить вам такую книгу нельзя. Берите. Я уплачу.
Расплатившись, они вышли на улицу. Было холодно и сыро. Порывистый ветер с Волги трепал голые деревья, заставлял прохожих поеживаться. Тонкое форменное пальто Лобачевского не согревало. Решили поторапливаться.
- Вы сейчас не заняты? - спросил Броннер. - Проводите меня к университету. - И, непринужденно взяв смущенного юношу под руку, профессор повел его по Воскресенской улице.
- Я знал вас уже по рассказам Корташевского и Бартельса. А тут еще такая встреча - с Аристотелем в руках...
Ваши поиски в геометрии, как мне говорили, оригинальны.
Я тоже в такие, как ваши, годы увлекался...
- Чем, господин профессор? - нетерпеливо прервал Николай.
Броннер внимательно посмотрел на студента.
- Чем?.. Нет, я сначала расскажу вам о другом, чтобы вы могли понять меня... Пятьдесят лет назад в небольшом придунайском городе Гехштадте родился белобрысый мальчик. Отец его был рабочим и выделывал кирпич, за который получал гроши. Другим источником заработка была...
не удивляйтесь, его скрипка. Да, да, кирпич и скрипка.
Не странно ли, правда?
Лицо Броннера казалось теперь каким-то болезненным, голос его звучал не так звонко. Передохнув, он спросил:
- Мой молодой друг, я не заставляю ли слушать вас неинтересное?
- Что вы. герр профессор! Напротив, я рад, - заверил Николай. - Со мной так не часто разговаривают, - неожиданно докончил он.
- Так, так, - протянул Броннер. - А мне тоже не часто приходится рассказывать. Но раз вы пожелали выслушать историю мальчика до конца, так слушайте...
Мальчик был живой, сообразительный, очень любил читать. Но где взять книгу, когда в семье даже хлеба не хватало? И постригся он в монахи, получив право жить в отдельной келье и заниматься в богатой монастырской библиотеке. За последнее мальчик со всем готов мириться, даже с мышами, которых в келье было такое множество.
В библиотеке он усердно изучал математику, механику и физику, мечтая о летательной машине, о вечном двигателе.
Научные занятия оказались настолько успешными, что монастырские пастыри отправили его в католический университет города Эйхштадт. Он представил вступительный реферат "О том, как пробуждать в юноше любовь к самостоятельному мышлению"...
Неожиданно прервав свой рассказ, Броннер остановился у парадного подъезда величественного белого здания с антресолями, охраняемого часовым и каменными львами.
- Что это за дворец?
- Дом губернатора, - сказал Николай. - А вон то, желтое, на целый квартал, мимо которого мы только что прошли, - духовная семинария...
- Ах так! Значит, есть где работать, если выгонят из университета! засмеялся профессор.
- Разве были вы священником?
- Н-да... - неопределенно сказал Броннер. - Давайте продолжим наш рассказ... Так вот, в начале 1782 года молодой монах, уже в Эйхштадте, серьезно продолжал заниматься математическими науками, особенно землемерием и астрономией. Мысль о бесконечности Вселенной, о неисчислимом множестве солнечных систем, подобных нашей и, может быть, населенных живыми существами, не давала ему покоя. Религиозные книги его больше не удовлетворяли. Он отрекся от монашеского, принятого им в детстве, обета и вступил в орден иллюминатов [Название ордена происходит от латинского слова "просвещение"], получив условное имя - Аристотель. Но в 1785 году правительство разогнало всех иллюминатов. Бывший монах бежал в Швейцарию, где всецело посвятил себя науке. Там он приобрел известность и после долгих лет скитания приехал наконец в Казань, в "окно Азии"... Вот и вся моя история, - добавил Броннер у входа в университет.
- Ваша? - удивился Николай.
- Да, моя собственная, - кивнул профессор. - Войдем? - предложил он, взявшись за дверную бронзовую ручку.
- Благодарен вам, гедзр профессор, за доверие... Но я сейчас не могу...
- Понимаю... Заходите ко мне чаще. До свидания.
- До свидания! - воскликнул Николай, почтительно отворив перед Броннером двери.
Встречи Лобачевского с Броннером стали частыми, а беседы их - более откровенными.
Они говорили о науке, о просвещении в России, гнусном крепостном праве.
Бунтарски настроенный, профессор в такие минуты преображался: глаза его пылали, на лице напрягался каждый мускул.
- Рождается ли сын дворянина со шпорами на пятках, а сын крестьянина с хомутом на шее? - спрашивал он, возбужденно шагая по комнате. - Народ не сознает своей мощи, не понимает и размеров насилия, от которого сам страдает. Ибо забит он, забит и неграмотен. Кому же надлежит взять просвещение в свои руки? Только молодежи! Это ваш священный долг перед народом.
Николай уходил от Броннера воодушевленный.
И в спальной камере, несмотря на предостережения Бартельса, держал на своем столе рядом с книгами Аристотеля, Коперника, Ломоносова произведения Вольтера и Дидро...
"Чем больше читал он, тем резче проступали в нем черты вольнодумства и своеволия", - писал в своем донесении неотступно следивший за ним Кондырев.
Николай тем временем по-прежнему бывал на всех уроках профессоров Бартельса и Литтрова, продолжая под их руководством научную работу над различными вопросами высшей математики. За повседневными хлопотами не замечал он, как над головой у него сгущались черные тучи.
В инспекторский "шнуровой журнал" попадало все, что могло бы очернить вольнодумца, - от выдуманных сообщений о "самовольных отлучках" до более серьезных обвинений. К ним Кондырев относил "нарушения правил, свойственных благородно воспитываемому человеку, проявление высокомерия и неповиновения начальству".
Клевета субинспектора возымела действие, и гроза наконец разразилась. В протоколе витиеватым почерком было написано: "За постоянное соучаствование и потачку проступкам студентов, грубость и ослушание Лобачевскийстарший наказан публичным выговором, лишением звания камерного студента, права получать шестьдесят рублей в год и отпуска до разрешения начальства".
Затем последовал новый, более страшный удар.
В начале мая Яковкин собрал всех воспитанников университета в актовом зале, чтобы в торжественной обстановке зачитать им только что полученный из Петербурга царский указ, где говорилось: "казенных студентов-разночинцев, уличенных в важных преступлениях, исключать из университета и отсылать в солдаты. Из дворян же таковых представлять его величеству..."
Это был удобный случай рассчитаться Кондыреву и Яковкину с разночинцем Лобачевским - отдать его в солдаты! Высочайшее повеление о "важных преступлениях"
можно было толковать по-разному.
Тотчас Кондырев подал Яковкину пространный рапорт.
"Лобачевский-первый, - говорилось в этом решающем доносе, - в течение трех последних лет был, по большей части, весьма дурного поведения, многократно подавал худые примеры для сотоварищей, за проступки свои неоднократно был наказываем, но не всегда исправлялся; в характере оказался упрямым, нераскаянным, часто ослушным и весьма много мечтательным о самом себе".
Отметив, что Лобачевский "только по особым замечаниям был 33 раза записан в журнальную тетрадь и шнуровую книгу", субинспектор подсказывал вывод: "исправление сего студента... должно воспоследовать ныне же и притом самыми побудительными средствами со стороны милосердия или строгости, каковые найдет благоразумно начальства".
И чтобы это благоразумие не качнулось, упаси бог, в сторону "милосердия", Кондырев не замедлил подать новый рапорт о худом поведении студента, на этот раз обвиняя Лобачевского в том, что "в значительной степени явил он признаки безбожия".
Этого было вполне достаточно для того, чтобы выгнать вероотступника из "храма науки". Довольный инспектор вынес дело, состряпанное им, "о недостойном поведении Лобачевского-старшего" на срочное обсуждение совета.
Николай уже был на волосок от солдатской шинели.
10 июля 1811 года совет собрался в актовом зале. Все теперь от него зависело. Поскольку Лобачевский не принадлежал к дворянству, для того, чтобы сдать его в солдаты, не требовалось монаршего утверждения.
Однако Яковкин и Кондырев не рассчитали своих сил.
Все профессора физико-математических наук дружно защищали от их нападок одаренного студента. За него вступился и приехавший в Казань академик Вишневский.
Решив клин выбить клином, профессора Бартельс, Броннер и Литтров представили коллективное предложение о том, чтобы за "чрезвычайные успехи и таковые же дарования Николая Лобачевского в науках математических и физических рекомендовать к повышению в степень магистра". Это явилось предложением оставить его в университете и приготовить к профессорскому званию.
Солдатская шинель и профессор!
Николай был спасен. Совет большинством голосов решил: "Юноша сей должен быть сохранен для науки".
Однако же за то, что "в значительной степени явил он признаки безбожия", предлагалось его заставить принести публичное покаяние.
3 августа 1811 года попечитель Румовский утвердил представление совета, но счел нужным объявить свое "сожаление о том, что Лобачевский отличные способности помрачает несоответственным поведением".
Вскоре Лобачевскому была присвоена степень магистра, помощника профессора. В качестве реферата представил он свою первую научную работу "Теория эллиптического движения небесных тел".
"Многие места сего коротенького сочинения, - писал профессор Бартельс в своем отзыве, - свидетельствуют о его выдающемся математическом даровании, которое в будущем не сможет остаться непрославленным".
Часть
вторая
Даже несоглашающиеся пред
положения не могут назваться
еще ложными: они заставляют
думать о началах, откуда то
и другое может быть следст
вием, но до которых восходить
предоставлено изредка появля
ющимся в веках Гениям...
Н, И. Лобачевский, 1825 г.
ВОСХОЖДЕНИЕ
К ИСТИНЕ
ПЯТНО НА СОЛНЦЕ
Начался новый, 1816/17 учебный год.
Большая математическая аудитория Казанского университета переполнена. Впереди, у самой кафедры, сидят почетные гости, профессора и адъюнкты в новых вицмундирах и фраках с высокими, доходящими до подбородков накрахмаленными воротниками. За первым рядом на скамейках разместились воспитанники в темно-синих сюртуках с двумя рядами начищенных до блеска пуговиц.
Кроме первокурсников отделения физико-математических наук собрались также студенты остальных факультетов и курсов, многие - из любопытства, поглазеть на двадцатитрехлетнего экстраординарного профессора Лобачевского. О нем уже ходили необычные толки. Прославленный Бартельс, учитель Гаусса - "короля математиков", даже именовал его гением.
В коридоре послышались мерные шаги. Первокурсники невольно привстали с мест. В открытую дверь вошел и задержался у порога стройный молодой человек в темносинем форменном сюртуке с большим стоячим воротником.
Вьющаяся русая шевелюра, высокий лоб и ясные глаза пока еще не придавали его мужественному лицу выражения, свойственного ученому. Рядом с ним появился в дверях коренастый человек. Обращаясь к вытянувшимся, как свечи, студентам, он сказал:
- Господа, имею честь представить вам нового профессора Николая Ивановича Лобачевского. С этого часа начинаются лекции по чистой математике. Желаю вам успеха!
Затем он повернулся и вышел, оставив дверь открытой.
Лобачевский поднялся на кафедру. Окинув быстрым взглядом слушателей, многие из которых были его сверстниками, затем, выждав, пока все они усядутся, начал он излагать свою первую лекцию негромким, но внятным голосом:
- Господа, человек родился быть хозяином и повелителем природы. Но мудрость и опыт, с которыми он должен ею править, не даны ему от рождения. Человек становится хозяином лишь тогда, когда он знает законы бытия.
Это знание дает наука. В своем неудержимом движении вперед она проникает в глубочайшие тайны природы, она же делает ее богатства достоянием человека.
В самом простом сближении, в одном уже вольном созерцании природа внушает нам радостное удивление, возбуждает пытливость мысли. Между тем в явлениях природы есть формы и ритмы, недоступные глазу простого созерцателя, но вполне открытые взору аналитика. Мы называем эти формы и ритмы физическими законами. В своей вступительной лекции хочу я поговорить об особенностях математической науки вообще, поднявшись, если хотите, на ступеньку выше известных законов, раскрываемых нашим познанием, в первую очередь - математическим. Передо мной все время будет величественная природа. Вся она словно мудрая книга, постоянно раскрытая перед нашими глазами. Но, как говорил Галилео Галилей, понять ее может лишь тот, кто предварительно научился ее языку и узнал те письмена, которыми она была написана. Без них мы можем только кружиться впустую по темному лабиринту...
Прекрасным введением в изучение природы является математика. Это я впервые узнал в геометрии. В детстве, благодаря знакомству с практическим землемерием, пространственные формы и количественные отношения были мне хорошо известны. Когда я приступил к научному изучению геометрии, удивительным оказался только ее строгий метод, способствующий развитию логичности и тонкости мышления. Тут я почувствовал, что исчезают все трудности, которые мешали мне в других областях.
Так с увлечением начал я заниматься потом астрономией, представлявшейся прежде совершенно далекой и недоступной. Однако то, что после довелось мне узнать о строении Вселенной, поразило прежде всего своей геометрической стороной...
Лобачевский на миг умолк и посмотрел в сторону коренастого человека, сидевшего в первом ряду, напротив кафедры. Это был молодой профессор астрономии Симонов, с которым Николая связывала давняя дружба. Судьба их сложилась одинаково. Подружившись еще студентами, они в один и тот же год окончили университет и сделались магистрами, адъюнктами, затем профессорами.
Теперь вот, в эту волнующую, знаменательную для Николая минуту, Иван был рядом, и его внимательные глаза ободряюще смотрели на друга.
Лобачевский облегченно вздохнул и поднял руку, словно указывая на что-то, пока ему одному видимое.
- Только тогда, - продолжал он, - следя за движением планет, осознал я глубокий смысл образного высказывания Галилея. Математика - это ключ к правильному пониманию природы, она помогает обобщить нам результаты наблюдений и сделать научные выводы...
Лобачевский заметил движение в зале. Студенты переглядывались, что-то говорили друг другу, торопливо записывали.
- Господа, - повысил он голос. - Я говорю здесь о линиях, которые получаются при сечении прямого кругового конуса плоскостями, не проходящими через его вершину. Эти замечательные кривые - эллипс, парабола и гипербола - были известны еще математикам древней Греции, жившим задолго до нашей эры. Но сотни лет учение Аполлония Перского о геометрических свойствах конических сечений считалось чисто умозрительной затеей не имеющей отношения к действительности. Позже во времена Иоганна Кеплера и Исаака Ньютона, эти геометрические свойства неожиданно приобрели в пауке чрезвычайное значение. Оказалось, что коническим сечениям подчинены явления природы: параболу описывают снаряд или камень, брошенный к горизонту, по эллипсам движутся небесные светила...
В аудитории было тихо - ни звука, ни шелеста. Лобачевский отметил, что между ним и студентами, с таким увлечением следившими за развитием его мысли, установилось понимание.
- Так сблизились в геометрических кривых различные, замеченные в природе явления, - продолжал он, оживляясь. - Так был найден путь к выявлению общих законов. Прав Лаплас, когда говорил, что если бы человек ограничивался только собиранием фактов, наука была бы бесплодною и никогда не указала бы нам великих законов природы. Подчиняя факты математическим вычислениям, отыскивая взаимосвязи между ними, обобщая их путем отвлечения и восходя, таким образом, к явлениям более или менее общим, человеческий ум доходит, наконец, до открытия законов. А знание их и есть тот волшебный ключ, который дает в руки своему обладателю власть над природой.
- Господа! - Лобачевский сделал жест рукой, словно призывал к участию в этом разговоре. - Может ли существовать более убедительное доказательство могущества математики? Мог ли человек постигнуть чудесные тайны природы, столь тщательно в ней сокрытые, если бы не был он знаком с геометрией, и в частности с коническими сечениями? Нет, конечно! Только те, которым еще никогда не представлялось удобного случая узнать математику, считают ее наукой сухой, оторванной от жизни. В сущности же она требует самой богатой фантазии. Математик должен видеть в жизни то, чего не видят многие другие... Вам, воспитанникам сего заведения, избравшим благородное дело, в котором сочетаются фантазия художника и точность аптекаря, абстракция философа и зримое искусство ювелира, - вам, дорогие друзья, предстоит познать самое большое счастье на земле - счастье творческого труда!
Бурной овацией встретили эти слова студенты.
Предупредив, что вводная часть окончена, Лобачевский приступил к изложению основ курса математики.
- Я говорю о понятиях, которые должны быть положены в основание математических наук. Решение сего вопроса важнее всего для геометрии. До сих пор Евклидовы "Начала", несмотря на блистательные успехи наши в математике, сохранили свои недостатки, я бы назвал их первобытными. В самом деле, кто не согласится, что никакая математическая наука не должна бы начинаться теперь с таких темных понятий, с каких, повторяя Евклида, мы начинаем изучать геометрию. Темноту в понятии производит здесь отвлеченность, оторванная от почвы, на которой она выросла. Ведь за этой своеобразной символикой формул и сложностью геометрических фигур, словно за высокой стеной, математика совсем уединилась от окружающего мира. Стена эта, вынуждая работать исключительно в царстве отвлеченных понятий, закрывает горизонт и мешает взглянуть математикам на внешний мир. И они настолько свыклись с созданными ими в результате отвлечения математическими понятиями, что давно уже забыли тот путь, по которому их далекие предки пришли к этим понятиям. Более того, они постепенно склоняются к мысли, что такие понятия созданы разумом человека в силу его врожденных способностей...
Лобачевский остановился передохнуть и глянул в сторону преподавателей, сидевших в первом ряду на стульях. Симонов что-то говорил, наклонившись к профессору Бартельсу. Тот, слушая внимательно, смотрел на лектора.
Недалеко сидел по-юношески бодрый первый выбранный ректор университета Иван Осипович Браун - профессор анатомии, муж внучки великого Леонарда Эйлера. С ним рядом, откинувшись на спинку стула, напряженно следил за лектором экстраординарный профессор чистой математики Никольский... Только не было среди ученых коллег адъюнкт-профессора и поэта, первого учителя и друга Ибрагимова [Умер 17 апреля 1818 г] - тот заболел чахоткой. Лобачевский отметил:
надо навестить его...
- Со времен Платона, - вернулся он к прерванной лекции, - много было мыслителей, для которых существует вечная и неизменная идея, некий бестелесный, вездесущий дух, а нас окружающий мир - это лишь непостоянная изменчивая тень мира духовного. Математика им кажется этаким ажурным зданием, основанным только на врожденных понятиях, которые своим существованием обязаны миру идей. Между тем каждый знает, что любое здание, даже самой изысканной архитектуры, покоится в конечном счете на земле. Я желаю, чтобы мои собратья по науке ощутили эту материальную почву; без нее нет ничего и ничто не может развиваться. Не потому ли геометрия до настоящего времени, по существу, не вышла ни на шаг за пределы того состояния, в каком перешла к нам от Евклида?..
Никольский предупреждающе кашлянул и даже головой покачал, осуждая столь дерзостные мысли.
- В основание математических наук, - продолжал тем временем Лобачевский, - должны быть нами приняты понятия, которые мы приобретаем в природе посредством наших чувств и которые можем поверять в природе прямо, не прибегая к другим, искусственным и посторонним.
Врожденным не должно верить! - последние слова произнес он раздельно, и в зале все насторожились. - Да, с этими новыми понятиями наука получит совершенно другое направление. По такому пути шел великий труженик русской науки Михаиле Васильевич Ломоносов. "Напрасно, - писал он, - многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано..."
Осуждающий ропот и гул одобрения послышались в аудитории. Никольский перекрестился. В глазах его - застывший ужас: а что, если за такие крамольные слова придется отвечать не только лектору, но и всем присутствующим?
Лобачевский поднял руку, призывая к порядку. В зале стало тихо.
- Какие же понятия легче и прежде всего создаются человеком в постоянном взаимоотношении с природой? - спросил он. - В природе мы познаем, собственно, только тела, их движение, без которых невозможны чувственные впечатления. Итак, все прочие понятия, например геометрические, произведены умом нашим искусственно, будучи взяты в свойствах движения...
В первом ряду послышался недоумевающий возглас Никольского: "Какое отношение имеет оно к геометрии?
Не странно ли это слышать из уст профессора чистой математики?"
Ход лекции нарушался, хотя время уже истекало. Надо было заканчивать.
- Не какая-то внешняя сила в природе служит источником ее движения, заключил взволнованный Лобачевский, - а сама природа обладает силами, которые являются началом всякого движения и бесконечного разнообразия.
Потому возможно и допустимо нам объяснить естественные явления без помощи каких бы то ни было божественных сил.
- Да что ж это, Петр Сергеич? - возмутился Никольский, обращаясь к соседу, экстраординарному профессору истории Кондыреву. - Какую он ересь порет?
Лобачевский даже не глянул в его сторону: что можно было ждать ему от ученого-богослова...
- То, что вы услышали в моей лекции, - добавил он, обращаясь к студентам, - быть может, не сразу еще вразумительно, хотя и вполне истинно. Путь к познанию математики нелегок, и большое удовлетворение получит из вас тот, кто сумеет преодолеть все трудности, которые встретятся на этом пути.
Лобачевский сошел с кафедры. Чтобы не выслушивать замечаний Кондырева и Никольского, уже поднявшихся для разговора с ним, он покинул аудиторию и вышел на улицу.
Почему же не вполне удалась его лекция? Неужели сказано было не все и не так, как надо бы? Но ведь иначе он говорить не мог! Наука не стоит на месте. Она с каждым годом раскрывает все новые тайны природы, потому и не должна бояться поднять руку на старое, отжившее...
Лобачевский, заложив руки за спину, шел по Воскресенской в сторону кремля. На улице было многолюдно.
Чтобы не мешали ему думать, он свернул в переулок и спустился к Черному озеру. Но и там было много казанцев. У берега вдоль широкой северной аллеи расположились на скамейках учителя, чиновники, барышни. Тут же под руку с разодетыми дамами прохаживались важные господа - при всех орденах и лентах. Не желая раздражать своим видом начальство, южные узкие аллеи сада на другом берегу заполняли канцеляристы.
Лобачевский сел на крайнюю скамейку в самой узкой аллее. Здесь было не так шумно. Запах созревших яблок и вянущей листвы напомнил ему такой же августовский день в гимназии. Первый урок геометрии. У раскрытого настежь окна Корташевский запускает радужные пузыри, объясняя геометрическое тело - шар. Затем последовали удивительные занятия с треугольниками на уроках Ибрагимова. Сколько было радости! На уроках этих преподавателей он увидел настоящую творческую науку, в непрестанных поисках доставлявшую такое счастье своими открытиями.
Новая глава биографии началась 10 июля 1811 года В этот день Лобачевский стал магистром, получив право заниматься научной и педагогической деятельностью. Тут же было ему поручено читать публичный курс геометрии для гражданских чиновников, желающих сдавать зачеты на "классный чин". Затем дали ему студентов, которых по решению совета начал он обучать математике "на россписком языке", так как иностранные профессора совсем не знали этого языка.
...В ночь на 12 июня 1812 года началась война с армией Наполеона, вторгнувшейся в Россию. Через несколько недель умер Румовский. Новым попечителем Казанского учебного округа был назначен сорокапятилетний камергер Михаил Александрович Салтыков, демократ и вольтерьянец. Хотя жил он в Петербурге, но в Казани часто бывал наездами, привозил сюда семью и даже, как-то узнав о необычайной одаренности Лобачевского, упросил его давать уроки по математике своим детям - Софье и Михаилу. Николаю нравилось проводить вечера в этой просвещенной, дружной семье.
Первое же распоряжение Салтыкова коснулось профессоров, адъюнктов, магистров и казеннокоштных студентов - им, по высочайшему повелению, категорически запрещалось отпрашиваться в действующую армию. Новый попечитель хотел во что бы то ни стало сохранить Казанский университет. Не удалось ему только удержать своекоштных студентов: почти все они офицерами уехали на "защиту отечества". Лобачевский завидовал им, но бессилен был нарушить волю попечителя.
Война гремела где-то в стороне. Грозные отзвуки ее докатывались до Казани. Когда же пришла весть о падении первопрестольной столицы, а вслед за этим хлынули потоки москвичей, искавших убежища в городе, потрясение было так велико, что Николай заболел и несколько недель пролежал в больнице под наблюдением врачей.
С таким здоровьем нечего было и думать о "ратных подвигах".
В необычных условиях военного времени Лобачевский все же не оставлял научной работы. Вслед за первым магистерским сочинением - "Теория эллиптического движения небесных тел" - он представил факультету новый труд - "О разрешении алгебраических уравнений".
Да, высшей радостью для него всегда был напряженный творческий поиск в науке. Но в личной жизни ему не везло. До сих пор не имел он еще ни семьи, ни дома. Больно хлестнуло по сердцу, когда услышал он весть об Анне, так неожиданно вышедшей замуж за князя Максутова.
Надо же...
Совсем близко, под крепостью, заиграла грамонь, и ктото пропел задорно, с возгласами:
Не ищи меня, богатый!
Ты не мил моей душе!
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше...
Знакомые слова новой популярной песни "Вечерком красна девица", написанной Ибрагимовым, снова напомнили об Анне, о последнем вечере в Подлужной. Она тогда была такой нарядной и так хорошо играла... Вспомнился и красавец Панаев, которого Яковкин также отвергнул: Прасковью потом обвенчали с молодым профессором правоведения бароном Врангелем.
...А время шло. В 1813 году, в начале марта, новый попечитель совсем переехал в Казань, чтобы на месте управлять просвещением в четырнадцати вверенных ему губерниях восточной России. Враг всякого притворства, ненавистник лести, камергер Салтыков сразу же раскусил "деспота" Яковкина, решив "отстранить его и дать университету управление" согласно уставу: директор-профессор вскоре был низведен до рядового преподавателя истории.
Запомнилась и весна 1814 года. Именно тогда, в пору всенародного торжества по случаю победы над войсками Наполеона, Лобачевский и Симонов были произведены по предписанию министра просвещения в адъюнкты. Нужно было читать свои первые лекции. За короткий срок, желая знать современное состояние науки, Николай Иванович проштудировал бездну журналов и книг. Но такой непомерно тяжелый труд не замедлил сказаться на здоровье.
В течение многих месяцев он, по свидетельству доктора профессора Эрдмана, "страдал болезненно-угнетенным состоянием, расстройством пищеварения в такой степени", что был вынужден взять отпуск и уехать лечиться в город Макарьев, к матери. Отдохнув там немного, Лобачевский вернулся в Казань. Но едва приступил к работе, как возобновились головные боли. Пришлось совсем прекратить научную работу. Вынужденное безделье угнетало больше, чем нездоровье. С тяжелым чувством бродил он по темным коридорам университета, по извилистым аллеям ботанического сада...
В это время попечитель всячески старался помочь молодым русским ученым занять в университете подобающее место: 27 апреля 1816 года он предложил совету повысить в звании двух адъюнктов - Лобачевского и Спмонова. Но Яковкин, провоцируя, дал понять ректору Брауну, что в случае производства их в профессоры кому-то из немцев придется покинуть Казанский университет, ибо штат уже заполнен. Разгорелись бурные дебаты. Тогда Кондырев, уже отрекшийся от бывшего директора Яковкина, выступил с пространной речью в защиту Лобачевского, назвав его чуть ли не гением. Это было так неожиданно...
И вот он, Лобачевский, двадцатитрехлетний экстраординарный профессор, читал сегодня первую лекцию. Началась новая полоса в его жизни. Удастся ли достигнуть манящих вдали горизонтов науки, чтобы заглянуть в неведомое? Который год, изучая и сравнивая законы геометрии с явлениями природы, он вынашивал надежду найти ключ к загадкам Евклидовых "Начал". Но суждено ли найти ему этот ключ?..
- Наконец-то! - воскликнул Симонов. - А мы тебя ждем. Устроили товарищеский ужин - отметим твою первую лекцию. Все уже собрались. Только тебя нет, виновника торжества.
- Если я провинился тем, что прочитал неудачную лекцию...
- Перестань, Коля.
Симонов сел рядом и по студенческой привычке положил руку на его плечо.
- Я всегда слушаю тебя с радостью, но - увы! - не всегда понимаю. Сегодня тоже не смог уяснить: какая может быть связь между геометрией и сущностью движения?
Лобачевский молчал.
- Мне кажется, Коля, это крайности! - продолжал Симонов. - Право, к чему они? Ведь сам же не раз говорил, что математика должна быть независимой от философии...
Лобачевский поднялся.
- Ладно, пойдем! - кивнул он другу.
* * *
Товарищеская встреча, возможно, так и осталась бы традиционной, с торжественными тостами, с поздравлениями, если бы не беседа, завязавшаяся после ужина. Все уже вернулись в гостиную, расположились там поудобнее в креслах и на диванах. И тут профессор Броннср заговорил о вступительной лекции молодого коллеги.
- Я почитаю своим долгом, - с отменной сердечностью обратился он к Лобачевскому, - выразить вам нелицеприятно, что немало удивлен вашим поразительным пренебрежением аксиомами и постулатами, которые кладутся в основу построения всей геометрии. В своем двухчасовом выступлении вы, кажется, ни разу не упомянули о них. Почему, интересуюсь?
- Почему? - повторил Николай, пристально глядя в узкие острые глаза профессора. - Какой толк в нагромождении аксиом и постулатов в начале курса, когда.
- Когда... - неожиданно в тон ему заговорил Кондырев, только что начавший партию в шахматы с профессором Никольским, - когда выбор их произволен, и мы...
- Я не отрицаю роли аксиом, - прервал его Лобачевский. - Еще в гимназии, на уроках Ибрагимова, понял, что в геометрии каждое следующее предложение железной силой логики выводится из предыдущих, и эта непрерывная цепь последовательных умозаключений и доказательств в конце концов, должна исходить из некоторых первоначальных, отправных положений, принимаемых без каких-либо доказательств. Безусловно, такой дедуктивный метод является одним из величайших достижений греческих мыслителей. Но я не могу понять, что собою представляют основные допущения Евклида: почему именно такие, а не другие начала могут быть приняты без доказательства и должны стать исходными положениями всех точных наук.
- Вы, математический гений, не можете понять, что значат аксиомы и постулаты? - расхохотался Кондырев. - Уморили, Николай Иванович! Кто же кроме гимназистанедоучки этому поверит-?
- Можете не удивляться! Я такой же гений, как ваш гимназист. Не понимаю. И смешного тут, Петр Сергеевич, не вижу. - Лобачевский взволнованно зашагал по гостиной. - Я не согласен с точкой зрения Румовского, Лежандра, Лакруа и других математиков. Для них аксиомы суть истины сами по себе очевидные, а теоремы - предложения, коих истина делается очевидною посредством рассуждения - доказательства. Но теорема: "две прямые имеют лишь одну общую точку" - не менее очевидна, чем постулат: "через две различные точки проходит только одна прямая". Более того, очевидность эту, в силу неизбежно ей присущей субъективности, вообще нельзя принять в качестве мерила истинности. По этому поводу когда-то Ибрагимов привел нам столь убедительный пример, что я и до сих пор его помню. "Птолемеева идея неподвижности Земли, ее центрального положения в мироздании, - говорил он, - согласуется полностью с непосредственным зрительным восприятием и поэтому должна быть отнесена к числу истин, кажущихся нам очевидными".
Лобачевский остановился. Глаза его что-то искали в пространстве, пока не задержались на какой-то невидимой точке.
- По-видимому, трудность понятий увеличивается по мере их приближения к начальным истинам в природе, - продолжал он. - С первого взгляда исходные положения геометрии кажутся нам столь же простыми, сколь и необходимыми, но когда вдумываемся в их смысл, пытаемся понять, откуда берут они свое начало, то встречаемся тут с большими трудностями. Не разрешить их значило бы сделать важное упущение в преподавании. Здесь нельзя довольствоваться одним названием истин, а должно утвердить их неоспоримо. Речь идет об аксиомах. До тех пор, покуда не будет уяснена их природа, покуда не будут положены основания геометрии, прочные и в истинном смысле математические, изложение геометрии не следует, мне кажется, начинать с аксиом и постулатов.
- Отчасти я согласен с вами, друг мой, - вежливо сказал Бартельс.
На минуту он задержался. Раскуривая свою неизменную трубку с янтарным наконечником, затем, выпустив дым и слегка рукой отмахнув его, продолжал:
- Да, вопрос о происхождении основных исходных допущений геометрии остается по celt день открытым. Являются ли аксиомы результатом нашего произвола? Вот в чем вопрос. Или они покоятся на врожденных идеях? Или же представляют собой истины, заимствованные из опыта?
Евклид не дает нам ответа на эти вопросы. Он довольствуется установлением аксиом. Вопрос о том, какое различие между аксиомами и постулатами "Начал", также остается открытым. Теперь мы даже не делаем различия между нимш все первичные утверждения называем аксиомами. Но во времена Евклида, по-видимому, под постулатами разумели допущения о возможности определенных геометрических построений, а под аксиомами общеизвестные положения, относящиеся к величинам вообще.
- Выходит, постулаты,-вмешался Кондырев - это пути, по которым движется наша геометрическая мысль это правило изящной логической игры, вполне подобной игре в шахматы. Очевидно, шахматным фигурам в геометрии соответствуют основные понятия, или, как говорят еще, основные геометрические образы, такие, как точка прямая и плоскость; а известным правилам передвижения фигур по доске - постулаты, например, утверждение и том, что через две точки можно провести лишь одну прямую...
Не прерывая игры, он изучал расположение фигур на шахматной доске и, наконец передвинув одну из них про должил свою мысль:
- Вот мой конь только что перепрыгнул через пет ки-солдат противника, сделав при этом ход, напоминаюпри букву Г. Однако творец шахмат мог приписать ему и другое правило передвижения. Тогда не только бы ход ко ня изменился, но и система всей шахматной игры То же самое и в геометрии. Когда-то Евклид - может и не он, а кто-нибудь из его предшественников,придумал постулаты, на которых обосновал свое дальнейгаее изложение.
- Вот потому-то и Кант уверяет, что геометрию можно вывести прямо из головы, не прибегая к опыту, - заме тил Никольский, сделав ответный ход.Полагаю что постулаты суть вечные, неизменные истины, от рода свойгт венные нашему сознанию и единственно возможные как ниспосланные свыше самим богом,-и только! ОгтяT ное-дело человеческого разума.-И, погрозив кому-то шахматной фигурой, заверил: - Не больше! Я усматриваю в этом различие нашего человеческого познания от позна ния бога. Тогда как творец познает все мгновенно мы переходим от одного умозаключения к другому путем постепенных рассуждений... Поэтому главным недостатком ва шеи вступительной лекции, Николай Иванович - настави тельно сказал он, обращаясь к Лобачевскому - я считаю отсутствие богословской основы. Учение без веры не только немыслимо, но и вредным почитается...
- Ну, ну, продолжайте,- поднялся и подошел к шахматному столику Симонов. - Сделайте одолжение Никольский, присматриваясь к фигурам, ответил- - Только в законе божием заключена совершенная математическая точность. Поэтому геометрию можно уподобить шахматам, основанным на вечных правилах-постулатах, созданных самим творцом.
- Слушайте, Григорий Борисович! - воскликнул Симонов. - Да вы кто, богослов или ученый?
Никольский разко повернулся к нему.
- Да поймите же, - продолжал астроном, - все, что вы сказали, нелепость! Можно ли сравнить геометрию с шахматами, с этой забавой, с праздной игрой по совершенно произвольным правилам и с произвольно принятыми фигурами?
- Господи, боже мой! - удивился Никольский. - Нашли же повод о пустяках...
Но Симонов прервал его:
- Это не пустяки! Геометрические истины, по-вашему, заложены в священном писании... Сказки!.. Не было и нет готовых или врожденных понятий в нашем сознании, мы приобретаем их в жизни постепенно, так же как ребенок учится ходить. Опыт и наблюдение убеждают нас, что через две точки можно провести прямую линию, и притом одну, и что прямолинейный путь кратчайший. Эта истина известна даже хищному животному, оно ведь не по кривой бросается на свою добычу... Так что аксиома прямой - обобщенный опыт, но выраженный в отвлеченной, общей форме. То же самое можно сказать о других аксиомах. Они принимаются без доказательства потому, что в их истинности убеждаемся повседневным опытом и наблюдениями.
Отрицать это может лишь тот, кто никогда не пользовался геометрией на практике, не измерял с помощью теодолита суммы углов треугольника...
В пылу спора Симонов переходил к назиданиям, недопустимым в товарищеском кругу. Лобачевский это почувствовал:
- Нельзя тебе так горячиться - вредно для здороВЬя5 - пошутил он. - Дай и другим высказаться... Мне вот, скажем, не понравилась твоя попытка свести мудрую игру в шахматы к пустому занятию. Напрасно. В шахматах, как и в геометрии, мы приобретаем дар предвидения, привычку продолжать упорные поиски новых возможностей...
Сейчас открою форточку... А твой ответ на вопрос, почему только такие, а не другие начала могут быть приняты без доказательства, совсем не убедителен. Опытное происхождение аксиом ничуть не отличает их от многих теорем, ибо, как показывает нам история математики, большинство теорем также явилось результатом отвлечения от опыта и было известно задолго до появления доказательного курса геометрии Евклида.
- Вот оно! - подтвердил Кондырев, изучая позицию на доске и прислушиваясь к разговору.-А вы, милейший Иван Михаилович,-обратился он к Симонову - попробуйте решить опытом, что на плоскости через данную точку можно провести лишь одну прямую, параллельную другой прямой. В одной плоскости прямые действительно тежат параллельно - это мы видим, но что при своем про должении эти прямые не пересекутся - для нас это уже загадка. Можно проверить, что параллельные не встретятся на этой вот шахматной доске, в нашей гостиной однако может быть, они пересекутся при своем дальнейшем продолжении, например, в коридоре, в атмосфере в мировом пространстве? Нам кажутся два равных отвеса параллельными, но их линии при своем продолжении пересекутся за шесть тысяч верст отсюда - в центре Земли Не так ли?
Кондырев посмотрел на Бартельса. Тот, вынув трубку изо рта, улыбнулся, но пока не ответил.
- Как видите, господа, - продолжал Кондырев - путем опыта убедиться в справедливости пятого постулата Евклида еще никому не удалось и вряд ли когда-либо удастся. Раз так, то какую бы мудрость мы ни приписывали нашим отдаленным предкам, остается для нас непонятным как могли они в свое время извлекать из опыта и наблюдений то, что сейчас, для нашего современного сознания никоим образом сделать невозможно. Поэтому надо нам признать, что ими открытые законы геометрические имеют чисто умственное происхождение и посему обладают идеальными качествами очевидной достоверности. В самом деле... - Кондырев нацелился рукой сделать ход - Ну-с Григорий Борисович, держитесь... - и вдруг осекся, в недоумении подняв брови. - Как? Неужели мне мат?
- Я тоже думаю, что мат вам, - усмехнулся Никольский, довольно почесывая стриженую голову.
Спор на минуту был прерван. Все поднялись и подошли к шахматному столику.
- Сам виноват, - улыбнулся Лобачевский.
- Да, прозевал, - согласился Кондырев. - Проспорил - Занимался бы шахматами, глядишь, и победил бы самого Никольского, - заметил Симонов.
Когда игроки начали вторую партию и все вернулись на свои места, разговор о постулатах возобновился. Интересную мысль подал Симонов.
- Очевидность пятого постулата, вероятно, вытекает из опытной истины о прямой линии, как наикратчайшем расстоянии между двумя точками пространства.
- Да об этом уже писали французы - Лежандр и Лакруа, - вставил Бартельс.
Лобачевский не выдержал:
- Согласен с Карамзиным, что умом чужим никогда мы умными не будем. Однако, думаю, что не следует нам и отвергать разумного. Если истинность пятого постулата вытекает из этих свойств прямой линии, то, разумеется, он должен быть доказан как теорема, на основе остальных аксиом и постулатов Евклида. Об этом я думал и раньше.
- А вы докажите нам! - улыбнулся Бартельс, откинувшись на спинку стула. - Еще древнегреческие мыслители, жившие после Евклида, считали аксиому параллельности, резко выделявшуюся тогда среди остальных своей громоздкостью и малоочевидностью, "пятном на Солнце" в геометрии. В течение двух с лишним тысяч лет многие выдающиеся математики пытались вывести это утверждение как логическое следствие прочих определений, аксиом и постулатов. Однако пятый постулат не поддавался доказательству. Спрашивается, где же в конце концов причина этой неоспоримой достоверности пятого постулата, если постулат сей не допускает ни опытной проверки, ни доказательства?..
Бартельс на миг умолк, разжигая трубку, словно давал возможность присутствующим высказаться. Но все молчали.
- Геометрия, говорил Кант, является наукой, определяющей свойства пространства, - продолжал Бартельс. - Другими словами, основания геометрии вытекают из той очевидности, какой представлено само пространство. Мысленно мы в состоянии устранить все вещественные предметы Вселенной. Тогда перед нами предстанет бесконечная, непрерывная, повсюду и по всем направлениям однообразная пустота или тот абсолютный простор,, который оказывается необходимою средою и вместилищем всех внешних явлений и всех наших представлений. Мы его и называем пространством. Таким образом, это чистое, никаким внешним чувствам не доступное и от них совершенно не зависящее умозрение. Потому все, что мы устраиваем в пространстве, имеет для нас непосредственную достоверность и очевидность.
Спор все более разгорался. Говорили по-французски, по-русски, по-немецки, часто перебивая друг друга. Шахматное сражение затихло игроки следили теперь за разговором.
- Спорили-спорили, а все-таки, дорогие коллеги, оказались правы мы с Петром Сергеевичем, - объявил, подымаясь, Никольский. - Убедившись в невозможности экспериментальных и логических доказательств аксиомы параллельных, мы, естественно, возвратились к мысли что в основе геометрии лежат вечные истины, которые от рода свойственны сознанию, как дарованные нам самим твор-- цом...
Лобачевский возразил:
- Эти вечные основания следует обновить!
- Как же вы решились на сие греховное безумие? - удивился Никольский, укоризненно покачав головой. - Отрицать нам идеальные начала - все равно что расписываться в неверии...
- Неужели вы, Григорий Борисович, ничем другим больше не располагаете? - с досадой перебил его Лобачевский. - Библейские суждения совсем не к лицу нам, учителям университетской молодежи. В науке ничто не может быть основано теперь на вере.
- Однако вот ничем иным еще не смогли убедиться мы в справедливости аксиомы параллельных, - саркастически вставил Никольский. - Может, есть какое-либо другое, только вам известное, основание?
Лобачевский ответил:
- Есть! Геометрия не представляет собой безвыходного лабиринта формальных умозаключений, в котором окончательно потеряна кем-то нить, ведущая к отправным точкам. Весь вопрос в том, что ж это за истины, на которых основывается геометрия?.. Пытаясь дать ответ, мало только наблюдать природу и бесконечно увлекаться голыми опытами, считая их единственным средством для приобретения истинного знания, как нельзя и постичь истину одной лишь силой ума, духовным созерцанием, рассматривая разум как некую всеобъемлющую божественную мудрость.
- Но это ведь незыблемо со времен Адама! - воскликнул Никольский.
- Вы, наверное, хотели сказать: со времен Платона, - поправил его Лобачевский. - Но я полагаю иначе! Разум - это известные суждения, в которых как бы отпечатались первые действующие причины Вселенной и которые соглашают все наши выводы с явлениями природы, где противоречия существовать не могут. Вопрошая природу и подвергая ответы анализу, говорит Лаплас, можем последовательным рядом обдуманных выводов дойти до общих явлений, от которых происходят все частные факты. Открытие этих великих истин и приведение их к возможно меньшему числу и должно составлять предмет наших усилий...
- Ну и что же из того явствует? - не утерпел Кондырев. - При чем же здесь геометрия и пятый постулат?
Лобачевский ответил:
- Геометрия для меня - составная и нераздельная часть науки о природе. Раз так, то главная задача ее - познать, раскрыть в своих понятиях и аксиомах свойства нас окружающего мира. Как учат философы Демокрит, Ломоносов, Радищев и Дидро, первопричина всех явлений природы - материя. Но, как известно, материя немыслима вне движения, а движение всегда протекает в пространстве...
- Опять свое... - махнул рукой Никольский. - Ма-тее-ерия, движе-ние... К чему эти слова пустые?.. Вы же сами, Николай Иванович, сегодня в лекции толком не сказали, как это можно связать с "Началами" Евклида. Не так ли?
Наступила неловкая пауза. Признаться в своем бессилии? Лобачевский помолчал.
- Да, - наконец произнес он. - Об этом еще нужно серьезно подумать... Потому-то я и воздержался говорить об аксиомах. Но полагаю, что искомая связь должна быть найдена. Вероятно, истинность аксиомы прямой состоит именно в согласованности ее с природой.
- Та-ак-с, - протянул Кондырев. - А как же пятый постулат?
Лобачевский подумал.
- Одни геометрические истины мы познаем пз опыта, - сказал он, - а другие, при недостатке наблюдений, должны предполагать умственно.
- Ага! - воскликнул Никольский. - Вот вам и уголок для божественной мудрости.
- Ничуть! - усмехнулся Лобачевский. - Мы докажем аксиому параллельности как теорему на такой основе, которая...
- Хо-хо, дорогой коллега! - снова прервал его Никольский. - Невозможно сие человеку! Такие небылицы можете рассказывать юным студентам, а не старикам.
Лобачевский хотел было возразить, но вмешался Броннер:
- Зачем только я завел этот разговор! Для ссоры?.. Не горячитесь, дружок, - обратился он к Лобачевскому. - Трудно вас понять. Однако я верю вам и советую: подумайте, что сказали вам другие. Долю их возражений примите - они вам пригодятся.
Лобачевский понял, что разговор окончен.
- Простите, - сказал он, обращаясь ко всем.
Никольский пожал плечами.
- Да, да, не будем ссориться в такой знаменательный для вас день, государь мой, - сказал он, протягивая Лобачевскому руку.
В эту ночь он спал неспокойно. Снились ему то Никольский, то Кондырев, которые двигались по комнате весьма странно: первый - ходом ладьи, второй - ходом коня, и произносили какие-то непонятные слова. Раза два просыпался он в холодном поту и чувствовал, что вчерашний спор бессознательно продолжается и во сне.
- Что за черт! - не выдержал он и, поднявшись, распахнул окно.
Прохладные капли дождя залетали в комнату. Внизу чернели крыши города. Над ними при ярких вспышках молний возникали четкие контуры белого здания университета и снова погружались в темноту.
Вот уже второй год Лобачевский с матерью и братом жили в двухэтажном доме на косогорной Лядской улице, почти рядом с университетом. Это было удобно, тем более что с началом занятий пришлось экономить время так строго, что на сон оставалось каких-нибудь шесть часов, не больше.
Вдохнув полной грудью прохладный воздух, он закрыл окно и снова лег надо было выспаться до рассвета.
Предутренний сон самый крепкий, так что Никольский и Кондырев уже не помешают...
Но вот наступило утро. Солнечный луч, продвигаясь по комнате, озарил подушку, и Лобачевский проворно вскочил с кровати. Накинув пестрый халат, он сошел с крыльца на широкий двор. За ночь отгремевшие грозовые тучи покинули город.
Прищурив глаза, Лобачевский посмотрел в чистое небо, затем, спохватившись, резким движением сбросил халат на скамейку и сделал несколько гимнастических упражнений.
- Совсем другое самочувствие, - сказал он, улыбаясь, Алексею, выглянувшему в окно. - Тебе тоже советую.
Прекрасная штука - гимнастика. Молодцы греки!
Под конец, обливаясь холодной водой, Лобачевский невольно вспомнил вчерашний спор. То ли от воспоминания, то ли от холодной воды по телу пробежала дрожь. Он растерся жестким полотенцем и, вернувшись в комнату, решил: надо привести в порядок мысли, рожденные вчерашним спором.
- Ну что же, друг, - сказал он самому себе, - зафиксируем все, что сказали другие, и поразмыслим...
Раскрыв тетрадь и обмакнув гусиное перо в чернила, начал он торопливо записывать:
1. "Пятый постулат - пятно геометрии" (Бартельс).
2. "Истинность аксиомы параллельности зависит, пожалуй, от понятия о прямой линии, полученного из опыта"
(Симонов).
3. "Аксиома прямой характеризует коренное свойство того пространства, в котором находится такая линия"
(Броннер).
- Интересная мысль! - пробормотал он, записывая.
4. "Геометрия является наукой, определяющей свойства пространства" (Кант).
5. "Пространство - это безграничная, по всем направлениям однообразная пустота" (Кант и Бартельс).
- Кажется, и Ньютон придерживается такого же мнения. Проверить!
6. "Пятый постулат есть необходимое следствие наших понятий о пространстве" (Бартелъс).
7. "Геометрия, подобно шахматам, пустая игра по совершенно произвольным правилам с придуманными аксиомами" (Кондырев и Никольский)...
Лобачевский отложил тетрадь в сторону и долго сидел неподвижно, погруженный в размышления. От вопроса к вопросу он все больше углублялся в корни геометрии, хранившей для него столько загадок. Не раз уже казалось ему, что близок он к цели. Еще сделать шаг и... Но шаг этот каждый раз не приближал его к заветной цели.
Вот ж сейчас. Вчерашний снор столкнул его с проблемой, с которой он, как геометр, неизбежно должен был встретиться. Пятый постулат, много веков занимающий умы ученых, доставивший лучшим геометрам столько тревог, остается по-прежнему загадкой. Простой и... неразрешимый вопрос.
- Неразрешимый ли? - поднялся Лобачевский и возбужденно заходил по комнате. - Надо разрешить. Непременно! Доказать, что геометрия не произвольное творение математиков, не игра ума! - Он подошел к шкафу и достал нужную книгу.
Евклид. На ходу перелистывая страницы, Лобачевский вернулся к столу. Вот они - пять предложений, составляющих теорию параллельных линий [Определение самого Евклида: параллельные суть прямые, которые, находясь в одной плоскости и будучи продолжены в обе стороны неограниченно, ни с той, ни с другой стороны между собой не встречаются]. Он знал их наизусть и даже, закрыв глаза, видел перед собой знакомые строчки. Но все же каждый раз, открывая книгу, надеялся найти в них что-то новое... намек... разгадку...
Делая пометки в тетради, не раз он возвращался к прямым теоремам параллельных.
(Lobach01.gif)
"Предложение 27. Если прямая EF, пересекая две (другие) прямые Л В и CD, образует с ними равные накрестлежащже углы (например, с и е), то эти прямые А В и CD параллельны".
"Предложение 28. Если прямая EF, пересекая две (другие) прямые АВ и CZ), образует внешний угол (например, а), равный внутреннему противолежащему с той же стороны (то есть соответственному углу е), или если внутренние односторонние углы (например, d и е) составляют вместе два прямых угла (то есть 180°), то эти прямые АВ и CD параллельны".
Лобачевский, отложив перо, задумался. Нет, ни к чему тут не придерешься. Доказательство прямой теоремы параллельных Евклид выполнил безупречно, четко, на солидной основе первых двух постулатов и общих логических положений. Из этого, однако, еще не следует, что непременно должна быть справедливой и обратная теорема.
Если мы, например, знаем, что человек работает в Казанском университете, преподает или учится, то, конечно, живет он в Казанской губернии. Но можно ли утверждать: если человек живет в Казанской губернии, то работает он в Казанском университете? Нет, разумеется, это уже под вопросом. В геометрии то же самое: истинность какой-либо теоремы еще ничего не говорит об истинности обратного суждения. Поэтому необходимо проверить:
справедливо ли утверждение, обратное предложениям 27 и 28? Так появилась в "Началах" Евклида следующая, 29 теорема [Прямая теорема о параллельных прямых: если при пересечении двух прямых третьей оказалось, что "te+"Cd = 180° (или выполняется любое из 12 подобных равенств), прямые параллельны.
Обратная теорема о параллельных прямых: если две прямые параллельны, то при пересечении их третьей окажется, что - L"f:d = 180° (или выполняется любое из 12 подобных равенств).].
"Предложение 29. Прямая, пересекая две параллельные прямые, образует с ними равные накрестлежащие углы, внешний угол равен соответственному внутреннему, а внутренние односторонние углы составляют вместе два прямых".
Доказательство этой обратной теоремы параллельных нужно было выполнить теми же средствами, какими доказаны предыдущие двадцать восемь утверждений "Начал", то есть ссылкой на ранее выведенные предложения, и в конечном итоге ссылкой на первые четыре постулата и общие логические положения. Но тут Евклид неожиданно изменил своему принципу. Он прибег к новому постулату, который - что казалось таким странным - был просто-напросто перефразировкой доказываемой теоремы:
"Если при пересечении двух прямых третьей сумма внутренних односторонних углов меньше 2d, то эти прямые при достаточном продолжении пересекаются и притом с той стороны, с которой эта сумма меньше 2d".
Это и есть пятый постулат Евклида [В настоящее время вместо Евклидовой формулировки принимают ей эквивалентную, принадлежащую английскому математику XVIII столетия Плейферу: через точку, взятую вне прямой, в ее плоскости можно провести только одну прямую, не встречающую данную]. И каждый, кто приступает к изучению геометрии, должен принять ево суть на веру, без доказательств, рассматривая как одну из исходных истин, на которых строится вся геометрия.
Но разве предыдущее предложение менее очевидно, чем это? На каком же основании возводить его в ранг аксиомы? Оно скорее производит впечатление теоремы - по своему содержанию значительно сложнее других постулатов и для понимания требует уже ряд предварительных сведений. Более того, в "Началах" оно используется довольно поздно, лишь в доказательстве двадцать девятого предложения, тогда как ко всем остальным аксиомам и постулатам Евклид прибегает в первых же своих теоремах.
Да, это произвольное допущение действительно является "темным пятном" геометрии, нарушающим всю ее гармонию. Оно помещено среди постулатов не потому, что его нельзя доказать, вывести умозаключением из других, более очевидных истин, а только потому, что Евклид не смог отыскать удовлетворительного решения. Геометрию нужно очистить от этого пятна, следует найти доказательство и свести пятый постулат в ранг теоремы.
Рассуждая, Лобачевский запустил пальцы в густые волосы.
- Но как приступить к решению этой задачи? - прикусил он кончик гусиного пера. - Будем исходить из аксиомы прямой: через две точки можно провести только одну прямую. Так? - Перо теперь заскрипело по шершавой бумаге. - Однако существует ли геометрическая связь между этой аксиомой и пятым постулатом?
Лобачевский тщетно пытался ухватить какую-нибудь наводящую нить, но та не давалась, ее пока не было.
В кабинет вошла Прасковья Александровна.
- Кушать пора, сынок.
- Разве... - очнулся он. - Какой тут завтрак... Я пока не хочу.
- Не завтрак, - напомнила мать. - Подошел обед... Не останови тебя, так ты не вспомнишь и до вечера. Ну, как хочешь, а я принесу.
Когда на столе появилось первое блюдо, в комнату, распахнув дверь, неожиданно ворвался Броннер. Полы его длинного незастегнутого сюртука развевались, шляпу он держал в руке.
- Нашел, Николай! Нашел! - крикнул он еще с порога. - Не зря называли меня иллюминаты Аристотелем. Целый день искал и все-таки нашел.
Николай удивленно смотрел на физика: его крупное лицо с широким лбом, обрамленное длинными волосами, которые он то и дело закладывал за уши, было бледным. Он всегда бледнел, когда был чем-нибудь взволнован.
- Добрый день, учитель! - обратился к нему Николай по-немецки. Садитесь, пожалуйста!
Броннер бережно достал из бумажного свертка старую, потрепанную книжку и, протянув ее Лобачевскому, сказал:
- Откройте сорок восьмую страницу... Нашли? Обратите внимание вот на эти строчки!
- "Необходимость в математических польожелинх и необходимость в вещах, возникающих согласно природе, - прочел Николай на греческом языке, - в известном отношении очень сходны, именно, если прямая линия есть вот это (то есть установленное аксиомой прямой), то необходимо, чтобы треугольник имел (внутренние) углы, равные двум прямым..." Послушайте, ведь это же интересно! - прервал чтение Лобачевский. - Чьи слова?
- То-то же, - с некоторой гордостью отозвался Броннер. - Дальше читайте.
- "Однако нельзя еще сказать, что если последнее положение правильно, то правильно и первое, а только:
если оно (то есть утверждение, что сумма внутренних углов треугольника равна 180°) неправильно, не будет и прямой... не будет начал, если треугольник не будет иметь два прямых угла".
Лобачевский посмотрел на Броннера.
- Это же Аристотель! - воскликнул он. - Спи огненные слова мне врезались в память еще в гимназии.
- А вы читайте, читайте! - улыбнулся физик. - Вот здесь.
- "Говоря правильно относительно некоторых вещей, - пробежал Николай отмеченные строки, - нельзя утверждать, что это относится ко всему. Ведь и треугольник всегда имеет (внутренние) углы, равные двум прямым, однако причина сей вечности лежит в другом, для начал же, которые существуют вечно, такой другой причины нет..."
Гм... В одном предложении столько мудрых мыслей, что и голова не вмещает. Я немедленно перепишу.
Он раскрыл титульный лист книги:
- "Физика"?
- Да, - сказал Броннер, - та самая, которую мы когда-то с вами купили в книжной лавке. Изучил я это сочинение от корки до корки еще в студенческие годы, в Эйхштадтском университете.- Мне запомнилась тогда крылатая фраза, которую искал я сегодня в этой книге... Догадались какая?
Лобачевский ответил:
- "Если прямая линия есть вот это, то есть предписанное аксиомой прямой, то необходимо, чтобы треугольник имел внутренние углы, равные двум прямым". Не та ли?
- Та, - улыбнулся физик. - Когда вчера на банкете завели разговор о том, что истинность пятого постулата вытекает из определенных свойств прямой линии, мне сразу же показалось, что у кого-то я читал об втжж вещах. А дома вспомнил Аристотеля...
Тут Броннер заметил, что Лобачевский уже не слушает его.
- Теорема о сумме внутренних углов треугольника опирается на постулат о параллельных линиях, - рассуждал он вслух, - и если бы удалось независимо от постулата Евклида установить, что сумма углов треугольника равна двум прямым, то, опираясь на это предложение, можно было бы легко доказать и самый постулат... Кажется, гдето я читал об этом...
- Вот именно, - прервал его размышления Броннер, - из аксиомы прямой вывести теорему о сумме внутренних углов треугольника, а из нее утверждение, содержащееся в постулате Евклида. Оно без всякого сомнения может быть вполне доказано. Так предполагали еще древние мыслители. Вот что писал, например, знаменитый Прокл.
Я прочту вам перевод с английского текста, изданного в Лондоне в 1792 году. - Броннер достал из свертка другую книгу в кожаном переплете и, полистав ее, нашел подчеркнутые строчки: - "Это утверждение должно быть совершенно изъято из числа постулатов, потому что оно - теорема, вызывающая много сомнений... и сам Евклид дает обращение этого предложения в качестве теоремы".
Броннер на минуту задержался. Лобачевский спросил его:
- Все?
- Нет, еще не все. Дальше идут знаменательные строки. Послушайте: "Конечно, совершенно необходимо признать, что прямые линии наклоняются одна к другой, когда прямые углы заменяются острыми [(lobach02.gif)То есть когда перпендикуляры к секущей заменяются наклонными, образующими с ней острые внутренние односторонние углы]. Однако то, что эти наклонные при продолжении сойдутся, остается не достоверным, а лишь вероятным до тех пор, покуда этому не дано будет логическое доказательство, ибо существуют бесконечные наклонные линии, которые никогда не сходятся... [(lobach02.gif) Например, две гиперболические ветки АА' и BE' могут асимптотически приближаться одна к другой, образуя острые углы из концов секущей АВ] Но то, что бывает при других линиях, почему же не может быть при прямых? До тех пор, пока мы этого не обнаружим путем доказательства, свойства, которые могут проявиться при неограниченном продолжении других линий, тяготеют над нашим воображением... Совершенно ясно: должно быть найдено доказательство настоящей теоремы, а такое требование природе постулатов совершенно чуждо..." Что вы скажете на это?
Лобачевский крепко пожал его руку.
- Спасибо вам, герр профессор! - поблагодарил он учителя. - Разрешите выписать прочитанные вами фразы.
В них я нашел подтверждение собственной мысли.
- Тем паче вы должны разрубить этот гордиев узел.
И я благословляю вас! - улыбнулся Броннер. - Как бывший священник, хотя и отрекшийся.
Подумав, он добавил:
- Мне кажется, что главная цель молодого ученого - это приучить себя думать... Думать - значит неустанно направлять мысли на предмет исследования, иметь его в виду и ныне и завтра; говорить, писать, спорить о нем; подходить к нему с одной и с другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения и справедливо их взвесить. Во-вторых, загляните в "Начала геометрии"
Лежандра. Не включает он в число аксиом постулата о параллельных линиях и в каждом новом издании дает вместо него то или другое доказательство, которое, однако, всякий раз оказывается неудовлетворительным. У вас, Николай Иванович, получится. Верю в это. Я с начала поиска на вашей стороне, потому что мне самому часто приходится размышлять о параллельных. Мы, физики, весьма заинтересованы в том, чтобы этот пятый постулат был доказан, ибо до сих пор некоторые наши теории висят в воздухе... Ну, как говорит ваша русская пословица, - ни пуха ни пера!
После ухода Броннера Лобачевский долго не мог успокоиться.
Да, предстоят упорные поиски! Не мог не прислушаться оп к грозному предостережению Бартельса. Хотя и сам знал, что лучшие математики мира издавна ломали голову над неуловимым доказательством пятого постулата. И не имели успеха. Но, может, именно здесь найдется ключ к познанию сокровенной тайны аксиом, в которую так упорно стремился проникнуть? Рассуждая таким образом, Лобачевский вспомнил магистерский труд Симонова "Об определении суточного движения Солнца через наблюдение пятен, на оном находящихся".
Темные пятна! Их наблюдали еще в глубокой древности, когда и телескопа не было. Казались они временными островами в огненном, бушующем на Солнце море.
Сущность пятен этих оставалась неизвестной, и тем не менее Галилей благодаря им открыл, что Солнце вращается вокруг своей оси.
Чем черт не шутит! Может, и пятый постулат, "пятно геометрии", позволит проникнуть в ее тайну? Не зря же с древних времен взоры всех мыслителей прикованы к этому "пятну".
И снова Лобачевский вернулся к загадочным словам:
"Не будет начал, если треугольник не будет иметь два прямых угла... причина сей вечности лежит в другом..."
"А в чем же именно, в чем коренится такая причинная связь? - Аристотель ответа не дает. Как доказать, не пользуясь постулатом о параллельных, теорему о равенстве суммы внутренних углов треугольника двум прямым?" спрашивает себя Лобачевский.
В памяти всплывают знакомые слова: "Сумма трех углов треугольника не может быть больше двух прямых".
Так писал в своей книге Лежандр.
Николай поспешно разыскал в шкафу старое издание "Начал геометрии", которым пользовался еще в гимназии.
Лежандр ставил задачу прийти к теореме о сумме углов треугольника строгим рассуждением, исходя из предложений "Начал" Евклида, вывод которых не опирается на пятый постулат. С такой целью он прежде всего устанавливает ряд теорем, которыми исключается возможность, что сумма внутренних углов треугольника может быть больше двух прямых, и отделяет друг от друга две другие гипотезы: 1) что сумма равна 180° или 2) что меньше она двух прямых углов.
Французский геометр стремится отвергнуть последнее предположение. Всего-навсего! И пятый постулат будет им доказан, ибо справедлив он, если сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым. Цепь изящных и тонких рассуждений Лежандра кажется безупречной.
В таком случае, почему же решил он отказаться в новом издании своего учебника от найденного доказательства?
В чем тут загвоздка?
Проверяя весь ход рассуждений Лежандра, Лобачевский наконец обнаружил: тот незаметно для себя ввел новое допущение, по существу равносильное пятому постулату, и тем самым свое доказательство свел на нет.
"Итак, мы весьма приблизились к цели, но не достигли ее совершенно, сознался Лежандр, - потому что наше доказательство зависело от предварительного допущения, которое могло быть в строгом смысле отвергнуто. Вот это соображение и заставило меня возвратиться в девятом издании к ходу доказательства Евклида".
Когда же удалось, не пользуясь постулатом о параллельных линиях, установить, что сумма внутренних углов треугольника не может превышать двух прямых, то, чтобы доказать, что эта сумма непременно равна 180°, оставалось лишь обнаружить, что не может опа быть и меньше двух прямых, отступиться от своей цели и опять принять позицию Евклида?.. Нет, Лобачевский мириться не мог с таким половинчатым решением!
И почему все до единого треугольники: тупоносвхе и острокрылые, равнобедренные и разнобокие, прямые и косые, малюсенькие и великаны должны иметь внутренние углы, равные в сумме точь-в-точь двум прямым? Или она меньше 2d, если существует хотя бы один треугольник, в котором сумма углов меньше 2d? Ни в "Началах" Евклида, ни в каком-либо ином руководстве по геометрии об этом не говорится ни слова.
- Ну что же? Попробуем, - Лобачевский присел к столу, но, почувствовав, что не сможет сейчас работать, снова поднялся.
Голова горела - надо было успокоиться. Он вышел на улицу и вскоре был уже на берегу Казанки. Высоко в небе клубились тучи. Сквозь них проглядывало солнце и золотило верхушки старых тополей на бывшей даче Яковкиных. У знакомой калитки Николай невольно замедлил шаги. А вдруг распахнется дверь и он увидит Анну! Только нет, не появится. Вспомнились горькие слова из ее последнего короткого письма, написанного перед свадьбой:
"Умоляю забыть обо мне..."
- Забудем, - сказал Николай, расстегнув тугой воротник сюртука.
Да, в его неудачной любви к Анне виноват он сам.
"Ну что ж. Ты мечтал полюбить науку, так люби ее. Твое желание сбылось. Радуйся!" - говорил он себе с горечью.
Затем по деревянному настилу перешел на другой берег Казанки, где когда-то Ибрагимов с ними - гимназистами - занимался практическим землемерием. Но сейчас и эти воспоминания, такие дорогие сердцу, не отвлекали от мыслей об Анне в Подлужной.
"Неужели так и пройдет моя жизнь в одиночестве?.."
Поздно вечером, вернувшись домой, Лобачевский почувствовал себя настолько усталым и разбитым, что сразу же лег в постель.
Время шло. А дело не подвигалось. Не зная, как изложить теорию параллельных линий, Лобачевский был вынужден прекратить лекции по геометрии. А чтобы совсем не сорвать занятий, срочно переключился на логарифмы.
Одновременно проводил метеорологические наблюдения, исследования земного магнетизма. И много читал. Заноем - и дома, и в библиотеке. В голове рождались всевозможные комбинации доказательств пятого постулата. След этих мучительных поисков первой глубокой морщинкой прорезался между бровей.
Студенты уже заметили тревожные перемены: лекции Лобачевского стали сухими, логически не стройными. Профессор обрывал речь на полуслове и, точно забыв о слушателях, молча прохаживался у кафедры. Затем, очнувшись, продолжал свою лекцию. Выражение озабоченности не сходило с его лица. Собеседников слушал рассеянно и часто прерывал их:
- Простите, я что-то не дослышал.
В эти дни в журнале инспектора студентов профессора Броннера появилась такая запись:
"31 окт. 1816 г. Являются студенты Иконников и Еврейнов с жалобою на то, что не могут понимать проф. Лобачевского, так как он объясняет не применение логарифмов, а их происхождение. Они просят отослать их к проф. Никольскому, изъясняющему вторую часть алгебры. Не упоминая имен, я известил об этом профессора. Студентам же рекомендовал вести себя спокойно и, если пожелают, ходить на лекции к обоим профессорам".
...Как-то в конце февраля, закончив лекцию, Лобачевский задержался в аудитории. Стирая тряпкой на доске написанные формулы, он вдруг остановился, точно пораженный:
- Да ведь нашел!
Голос его в пустой аудитории прокатился по углам гулким эхом. Лобачевский оглянулся: нет, никто не слышал.
И снова посмотрел на доску: она была чистой. Взяв мел, начал он торопливо чертить линии только что пришедшего решения. Тряпки не было куда-то подевалась. Не останавливаясь, он стирал написанное ладонью.
Три основные части рассуждения: сперва - доказательство новой теоремы "Если сумма углов в каком-либо треугольнике равна двум прямым, то во всяком другом треугольнике будет то же".
- Посмотрим теперь, что из этого получится! Будем полагать, что сумма углов во всяком треугольнике равна двум прямым или меньше двух прямых, записывал он торопливо.
Дальше, введя лемму о ломаной с прямыми углами (то есть постулат о невозможности самопересечения в многоугольнике) и опираясь на нее, Лобачевский пришел к теореме, что сумма углов произвольного треугольника равна двум прямым углам.
Отсюда перешел он к давно желанному окончательному доказательству Евклидова постулата параллельности. Это было выполнено в один прием на основе последнего предложения.
Теперь только, поставив точку, Лобачевский ощутил в ногах страшную слабость. Но в груди у него все ликовало. Ну да ведь он доказал недоказуемое!
Через несколько дней Лобачевский с полной уверенностью в разрешении многовековой проблемы пришел в математическую аудиторию, чтобы доложить об этом своим слушателям.
Он поднялся на кафедру и, волнуясь, начал излагать новое введение к теории параллельных, изредка поглядывая на лучших учеников, сидящих в первом ряду. Вон, склонившись над своей тетрадью из голубоватой бумаги, торопливо пишет Михаил Темников [В геометрическом кабинете Казанского университета хранятся подробные записи студента М. Темникова "Лекции господина профессора Лобачевского от 1816 - 1817 гг.", в которых особый интерес представляет попытка Лобачевского доказать Евклидов постулат параллельности на основании введенной им леммы.]. Рядом с ним сидит Семен Мухачев. Чуть подальше за ними - Эдуард Бартельс, младший сын декана.
Раздался звонок. Положив мел и тряпку, Лобачевский направился к выходу. Лицо его светилось, щеки горели, губы еще продолжали шевелиться, будто самому себе торопился он досказать недосказанное.
В коридоре остановил его Бартельс:
- Ого, вы сегодня совсем другой человек! Очень рад.
Ну, рассказывайте, что это за перелом? Причины?
Лобачевский остановился и вдруг обнял профессора.
- Мартин Федорович, ведь я доказал! - вырвалось у него.
- Постулатум?! - воскликнул Бартельс, схватив Николая за плечи. - Не может быть! Кто найдет, говорил мой Гаусс, доказательство аксиомы о параллельных, тот заслужит бриллиант, равный по величине земному шару!.. Вы пошутить изволили, дорогой друг?
- Что вы... Я действительно нашел и хотел бы теперь с вами поделиться...
- Только не сейчас, - прервал Бартельс. - Я вас жду сегодня к ужину. Там не помешают нам. Дай бог удачи!
- Спасибо! Непременно приду, - заверил его Лобачевский.
До вечера было далеко, а время тянулось нестерпимо долго. И, не дождавшись назначенного часа, Лобачевский поспешил к Бартельсу.
Мартовский ветер гнал по улице мокрые хлопья снега, бросая их на землю, где они медленно таяли. Но Лобачевский шагал по Театральной, обгоняя прохожих, не чувствуя ни ветра, ни снега. Он торопился к учителю, знания которого были так велики. Тот мог сказать ему, не ошибся ли он, как все предшественники.
Профессор жил теперь в собственном особняке на Поповой горе. У подъезда Николай уверенно дернул бронзовую ручку звонка. За тяжелой дверью в передней послышались мягкие шаги.
Отдав горничной пальто, Лобачевский направился к раскрытой двери кабинета, в которой уже стоял приветливо улыбающийся хозяин. Пропустив гостя вперед, он взволнованно сказал ему:
- Жду, никак не могу дождаться. Вот кресло, на столике возьмите карандаш и бумагу. Я слушаю.
Лобачевский опустился в кресло.
- Вот, - слегка задыхаясь, проговорил он, - доказательство Евклидова постулата. Пожалуйста, следите!
Бартельс, кивнув головой, пристально смотрел на быстро двигающийся карандаш.
Наконец Лобачевский протянул ему исписанный лист.
Карандаш упал на пол, но его не подняли.
Бартельс, не отрываясь от листка, задумался. Восхищение профессора сменилось недоумением и глубокой печалью.
Лобачевский следил за ним с тревогой. Почему же он молчит?
Но вот хозяин медленно встал из-за стола, молча прошелся по комнате. Затем, раскурив свою трубку, заговорил:
- Однажды, когда я учился в Геттингенском университете, попала мне в руки диссертация Клюгеля под скучным названием "Обзор важнейших попыток доказательства теоремы о параллельных линиях". Попала ко мне случайно. И оказалась для меня роковой. Мое воображение заколдовали такие строки... Бартельс достал с этажерки небольшую книжку и, отыскав нужную страницу, прочитал ее: - "Все науки хранят в себе загадочные вещи. Неудивительно, что наш ум, заключенный в определенные пределы, многого не постигает и не в состоянии раскрыть источники и причины многих фактов. При всем этом я не знаю, коренится ли больше в слабости нашего ума или в характере самых истин вины того, что в пределах геометрии существуют препятствия, которые не дают возможности овладеть подступами к пей в такой степени, как это было бы желательно. Немногочисленны истины, которые в геометрии могут быть доказаны без пособия теоремы о параллельных линиях; но еще малочисленное те истины, которые можно использовать для ее доказательства"...
Бартельс посмотрел на Лобачевского.
- Вот с тех пор безжалостный бесенок в течение долгих лет не переставал надо мною издеваться и нашептывать: "Попробуй-ка найти сие доказательство, ключ к загадкам геометрии". Бесенок этот будил меня среди ночи, сбивал с толку во время чтения лекций... - Бартельс бросил книгу на кресло. - А ведь кажется само собой разумеющимся, что перпендикуляр и наклонная, проведенные на плоскости к одной и той же прямой, обязательно пересекутся. Но где же доказательство?.. Доказательство истины сей не могли сыскать ни греческий ученый Прокл, - начал он отсчитывать на пальцах, - ни азербайджанский математик Насирэддин Туей, ни великий итальянский иезуит Иероним Саккери, ни английский ученый Джон Вэллис, ни швейцарец Луи Бертрану, ни французский геометр Лежандр, ни сам король математиков, мой геттингенский колосе - Карл Гаусс!
- Не мучайте меня, профессор, - взмолился Лобачевский. Он видел перемену Бартельса, который стал теперь так холоден и логичен. Это не обещало добра. - Скажите прямо, не щадите: доказал я или нет?
Но Бартельс был неумолим.
- Вы не торопитесь, а выслушайте, коли пришли советоваться.
Не спеша достал он какой-то журнал и, показав страницу, отчеркнутую сбоку синим карандашом, тем же размеренным тоном произнес:
- Вот оно, Гауссово откровение! Послушайте: "В области математики найдется немного вопросов, о которых писалось бы так много, как о пробеле в началах геометрии при обосновании теории параллельных линий. Редко проходит год, в течение которого не появлялось бы новой попытки восполнить этот пробел. И все же, если хотим говорить честно, со всей откровенностью, нужно признаться, что по существу мы за две тысячи лет нисколько не ушли в этом вопросе дальше Евклида. Такое откровенное и открытое признание кажется нам более соответствующим достоинству науки, чем тщетные старания скрыть этот пробел, который мы не в состоянии восполнить сплетением призрачных доказательств, не выдерживающих критики..."
Так писал Гаусс. Это был человек, проникший во все области математики: в алгебру, в теорию чисел, в геометрию. Он рассчитал путь малой планеты Цереры, вычислил орбиту Паллады, написал "Теорию движения небесных тел", создал высшую геодезию - дисциплину, до тех пор не существовавшую, построил электромагнитный телеграф, объяснил явления земного магнетизма... С таким человеком нельзя не считаться.
Лобачевский взял у Бартельса книжку и сам еще раз перечитал ее жгучие строки. Тем временем хозяин, дымя трубкой, прошелся по кабинету. Затем он остановился перед гостем, будто спрашивал его строгим взглядом: "Ну?
Дошло?"
Захлопнув книжку, Лобачевский глянул на ее титульный лист: "Геттингенский библиографический журнал, номер 63 от 20 апреля 1816 года". Сверху в левом углу надпись: "Моему первому учителю и другу профессору математики Казанского университета Бартельсу. От Гаусса, профессора математики Геттингенского университета и директора обсерватории".
- Не кажется ли странным: библиографический журнал и Гаусс? А? спросил хозяин. - Это его рецензия на сочинение математика Штейнкопфа... Что касается вашего доказательства, оно, разумеется, не лишено доли остроумия. Но уверены ли вы, что лемма, которую вы предпосылаете этому доказательству, не будет эквивалентна пятому постулату? Я боюсь, что приведет она в конечном счете к Евклидовой теории параллелей. Что скажете на это?..
Бартельс опять прошелся. Лобачевский, потрясенный, сидел у стола, закрыв лицо руками: освобождение геометрии от злополучного темного пятна, еще так недавно казавшееся делом решенным, отодвинулось куда-то еще далбше.
- Дорогой мой, зная твой пылкий характер, - заговорил в первый раз на "ты" Бартельс, положив руку на плечо Лобачевского, - я был уверен, что пустишься в поиски решения этой вечной задачи. И потому в своих лекциях боялся даже упоминать об этом постулате. Я не хотел, чтобы моя жизнь повторилась в тебе! Вот видишь, из-за того, что пытался одолеть учение о параллельных линиях, остаюсь я безвестным.
- Что вы, что вы, герр профессор! - встрепенулся Николай, увидев повлажневшие глаза учителя. - Простите меня!
Бартельс, удрученный горькими воспоминаниями, посвоему понял его слова.
- Да, прав Генрих Ламберт [Генрих Ламберт (1728 - 1777) - немецкий математик], - воскликнул он. - Я помню до сих пор, хотя и прошло уже много лет, как писал он по этому поводу в Лейпцигском журнале: "Доказательства Евклидова постулата могут быть доведены столь далеко, что остается, по-видимому, ничтожная мелочь. Но при тщательном анализе оказывается, что в этой кажущейся мелочи и заключается вся суть вопроса: обыкновенно содержит она либо доказываемое предложение, либо эквивалентный ему постулат"... Я много читал, сопоставлял, пока наконец не убедился в том, что это - вечная темнота, бездонный мрак. И всякие попытки решения сего вопроса навсегда, мой друг, обречены: ждет их неудача.
- Может, надолго, но только не навсегда! - вырвалось у Лобачевского.
Был он бледен, губы вздрагивали, ноздри тонкого носа трепетали. Волнуясь, он даже не заметил Броннера, вошедшего в комнату, и обернулся только на его встревожедный голос:
- Друзья, наше солнце, кажется, помрачнело. Я только что...
- Все вы о пятне на Солнце! Увольте! Оставьте меня в покое! - прервал его Бартельс.
- Вы тоже получили письмо?
- Какое?
- От его высокопревосходительства господина попечителя Салтыкова.
- Не понимаю.
- Так и предполагал! - воскликнул Броннер. - Вот пакет - прочтите!
Бартельс вынул из пакета письмо.
- "Более нежели вероятно, - читал он, - что за исключением Московского, все остальные наши университеты будут упразднены. Вопрос о закрытии университета Казанского и Харьковского уже поставлен на очередь. Попечитель Дерптского учебного округа Клингер ходатайствует о своем увольнении, мотивируя; такое решение нежеланием присутствовать при похоронах вверенного ему университета. Эта же причина побуждает и меня последовать его примеру... При настоящем положении вещей продолжение службы представляется в моих глазах немыслимым. Гроза может, усилившись, поразить и нас, а я вовсе не желаю доставлять моим врагам такое удовольствие... Все рушится, и нам нечего рассчитывать на помощь со стороны министерства..."
Ошеломленный таким известием, Бартельс молча посмотрел на коллегу. Лобачевский попытался его успокоить, но вскоре общее отчаяние передалось и ему.
- Да, - снова заговорил Броннер, - ничего другого и нельзя было ждать нам от обер-прокурора святейшего синода князя Голицына, занявшего пост министра народного просвещения. Чтобы сработаться кому-либо с таким человеком, надо прежде овладеть искусством соединять пронырливость с угодливостью и вооружиться терпением...
Нет, не могу пойти на сделки с моей совестью! Жизнь моя складывалась неудачно, хотя я носил в себе запас благих намерений, которые хотел употребить на воспитание молодежи. Простите, но я наивно верил, что можно добро делать безнаказанно, и убедился в том, что самым опасным является даже простое желание творить его...
В голосе Броннера звучало разочарование.
- Уже первые шаги управления Голицына, - продолжал он, - дали возможность нашему попечителю ясно предусмотреть катастрофу, готовую разразиться в деле русского просвещения, и не могли не укрепить его, прямого человека, в мысли покинуть служебное поприще. При нынешних обстоятельствах я тоже не вижу возможности работать на пользу университета и потому советую вам, дорогие коллеги, пока нас не вышвырнули за борт, последовать его примеру. - Помолчав, он добавил: - Как вовремя уехал отсюда Литтров!
- Да, - грустно промолвил Бартельс. - Ему везет:
был обыкновенным профессором, а стал директором всемирно известной Венской астрономической обсерватории.
Кстати, я получил от него письмо... Вам небезынтересно будет его прочесть, - обратился он к Лобачевскому и, выдвинув ящик ппсьменного стола, достал синий пакетик. - Пожалуйста!
Лобачевский вынул из конверта мелко исписанный лист превосходной слоновой бумаги.
"Помню, - писал астроном, - как удивились мои знакомые, услышав, что я решился ехать в Казань. По их мнению, это было почти на краю света, и они отказывались от всякой надежды со мной увидеться. В России же на мою поездку посмотрели без восторгов, ибо многие русские были знакомы с местами, еще более отдаленными. Узкие границы нашей родины, видимо, сузили наши воззрения и чувства, тогда как там, сообразно громадным пространствам, они и развиваются шире. Из личного опыта могу сказать, что когда иностранец, после продолжительного пребывания в России, возвращается в свою родную клетку, с большим трудом приходится ему отвыкать в ней от широких идей и представлений о вещах и находить некоторый вкус в той мелкой кукольной комедии, которая окружает его здесь..."
Читая эти строчки, Лобачевский невольно вспомнил тот последний день мая, когда Литтров оставил Казань.
Все профессора и студенты отделения физико-математических наук провожали его до Волги. Здесь, на ее берегу - в Верхнем Услоне, был устроен прощальный обед. Броннер читал свои идиллии, затем играл на скрипке. Все пели прощальные русские песни...
Заметив, что Лобачевский чем-то расстроен, Броннер подошел к нему, сел рядом.
- Друг мой, оставим печальные мысли, подумаем, как быть нам дальше, сказал он внушительным тоном. - Вы, Николай, - человек науки, над которой здесь, к нашему огорчению, тучи все больше сгущаются. В России теперь нужда не в науке, а в религии, чтобы направить мысли к богу и сохранить монархию. Ваши взгляды, знаю, ставят под сомнение изложенную R библии историю о сотвореншт мира. Это известно экс-директору Яковкнпу, а следовательно, и Голицыну. Поэтому еще раз вам советую, пока не поздно, уехать отсюда, например, со мною в республиканскую Швейцарию, где у меня много близких друзей. Подумайте, без этого не сбыться вашей мечте: создать науку для народа, - науку такую, которая, как вы говорили, даст возможность человеку стать хозяином природы...
Лобачевский слушал его, склонив голову. Страшное известие огорчало больше, чем личные неудачи.
- Поймите, - настойчиво повторял старик, дотрагиваясь до его руки. - Я давно слежу за вами. Уверен, что из вас получится незаурядный геометр, а может, и великий ученый. Ждет вас блестящее будущее. Если не хотите быть жертвой невежественной тирании, поедем в Швейцарию. Или же к Литтрову. Через пять-шесть лет вы станете у нас европейской знаменитостью...
Лобачевский уже готов был прервать его, но уважение заставило ждать, когда профессор остановится. Наконец Броннер замолчал, и Николай воспользовался этим.
- Очень тронут вашим приглашением. Спасибо, - сказал он сердечно. - За этот вечер пережил я столько тревог, что не знаю, как вам ответить. Все для меня вдруг оказалось таким неожиданным и горьким. Пятно расширилось и почти закрыло солнце. Но уйти сейчас отсюда, уехать, когда решается тут судьба университета... Покинуть своих студентов... Нет, я ие могу!
Броннер стремительно поднялся и крепко пожал ему
- Я преклоняюсь перед вашей чистотой, - взволнованным голосом объявил он, - и больше не смею настаивать. Если бы не мой преклонный возраст, не плохое здоровье и, наконец, не прошлое, внушающее страх за принадлежность к ордену иллюминатов, я бы тоже тут остался.
Бартельс, до этого молча сидевший с потухшей трубкой, тоже вдруг поднялся и посмотрел на гостей растерянно.
- А если все, все погибнет? Куда нам?.. Дорогой мой, - обратился он с отчаянием к Лобачевскому, - я не хочу потерять своего лучшего ученика... Мы уже полюбили вас...
Лобачевский никогда еще не видел, чтобы глаьа учителя сияли так ярко.
- Я глубоко верю в искренность ваших слов, - произнес он дрогнувшим голосом. - Если бы не вы, наверное, всю жизнь пришлось бы мне провести в солдатчине. Знаю, с каким трудом удалось вам спасти меня. Такое не забывается. Не буду больше отнимать у вас времени. Еще раз от всей души благодарен вам обоим.
Бартельс пошел его проводить и, на минутку задержавшись у двери, посоветовал:
- Больше не расходуйте на пятый постулат ни часа:
недоказуем он. Все мыслимые идеи уже использованы.
Лобачевский пожал плечами:
- Согласен. Видимо, доказательства сей истины отыскать нельзя... Но почему?
- Да потому, что этого никогда и никто не достигнет.
Идите лучше отдыхать. Сейчас нам, возможно, понадобятся наши силы... совсем для иного дела.
ТЬМА И СВЕТ
Лето 1819 года близилось к концу.
Старый тарантас, поскрипывая, катился по дороге, ведущей из Оренбурга в Казань. Тройка почтовых кляч трусила привычной рысцой, не обращая внимания на ременный кнут, которым кучер не столько торопил их, сколько сгонял с тощих спин зеленоглазых слепней.
В тарантасе всего лишь один пассажир - профессор Лобачевский. Он возвращался домой из оренбургских степей. Лечение кумысом и Сергиевскими серными водами за лето изменило его до неузнаваемости: он загорел, окреп на свежем воздухе и с радостью готовился возобновить любимую работу, прерванную весной обострившейся болезнью.
Потянулись безбрежные степные просторы. В этом году природа не поскупилась на урожай: золотистые копны густо покрывали желтеющую стерню. По всем дорогам тянулись возы, навьюченные тяжелыми снопами. Кое-где на еще не сжатых полосках белели косынки жниц и молнией сверкали на солнце неутомимые серпы.
Мерное покачивание тарантаса, тяжелый скрип телег, звонкий голос жаворонка, невидимого в солнечных лучах, и треск неутомимых кузнечиков сливались вдали с щемящей сердце песней, затянутой жницами. Тяжесть их труда забывалась в ощущении бесконечной щедрости природы, радовавшей глаз путешественника.
Не в силах сдержать восторга, Лобачевский продекламировал:
Как мил сей природы радостный образ!
Как тварей довольных сладостен возглас!
Где осень обжлъе рукою ведет,
Царям и червям всем пищу дает...
Молодой кучер оглянулся.
- Ты чего? - спросил его Лобачевский.
- Эко чудны вы, барин, - усмехнулся тот, - "Царям и червям"... Ну и дела.
- Так писал наш стихотворец Державин, - оживился Лобачевский. - Ты умница, Иван. Видно, способен почувствовать эту земную истину. Такое дается не каждому.
Мне до смерти надоели одурманенные ученые мужи. Напрасно стал бы я искать у них -понимания подобных высказываний. Тебе же охотно расскажу и другое. Не знаю, понятно ли будет. Но слушай: и ты, и солнце, и царь, и червь - все в мире из одного начала...
- И впрямь на диво сказано, - удивился кучер, - хоть и не все понятно...
Лобачевский улыбнулся:
- Ничего, Иван, придет время - поймешь. В природе много дивных вещей... Я жмею безумное намерение охватить разумом всю Вселенную, от туманных звезд до невидимых первоначал...
Лошади, не слыша понуканий, перешли на ленивый шаг и, казалось, вот-вот совсем остановятся.
Кучер слушал весьма усердно, даже пот выступил у него жа лбу.
- Вы простите меня, барин, я неученый. Это не по моему разуму, - сказал ои со вздохом. - Дела-то божьи, кто их разберет...
Он перекрестился и, повернувшись к лошадям, снова поднял свой кнут:
- Н-ло, милые...
Лобачевский рассеянно глядел ио сторонам. Дорога впереди круто сворачивала вправо. Сжатые лоля и поймы остались позади. Места пошли уже не такие ровные. По левую сторону виднелись торы, покрытые на склонах сосновым лесом. Чуть правее сверкала река, берега которой заросли кустарником. За рекой, уходя к горизонту, чернела свежая пашня.
Палящий зной ослабел, повеяло прохладой. Из-за гор надвигались тучи. Быстро наплывая, вскоре они закрыли солнце, косая полоса дождя соединила вдали помрачневшие небо и землю. Но справа над рекой небо вновь очистилось, и тут же, сквозь гуманную мглу, засверкал пестрый поясок радуги.
Николай Иванович встрепенулся. Радуга всегда радовала его яркими цветами красок. "Лей свет в тьму..." - вспомнил он строку стихотворения Державина, которая запала еще с детства.
"Вот именно: свет - в тьму. До чего ж это хорошо сказано! Только радуга - явление краткое и бесследное, а свет человеку нужен постоянный. Свет науки! Она должна быть всеобъемлющей и доступной каждому..."
Лобачевский посмотрел на кучера, усердно торопившего кнутом лошадей, и снова задумался.
"Да, ничто иное, а математика открыла прямые средства к познанию окружающего. Поэтому переработка основных пунктов в построении геометрии необходима, - размышлял он! - Без ясности и строгости в начальных понятиях нет науки..."
Тут лицо его нахмурилось. Еще весной представил он в совет университета .сочинение, которое озаглавил "Основание геометрии". Оно было невелико, похоже скорее на конспект, но, как полагал он, могло стать важным пособием для гимназистов и студентов. Работа над учебником была мучительной и в конце концов принесла ему большое огорчение. Поводом оказался тот же пятый постулат, или "темное пятно" геометрии. Лобачевский попытался воедино связать все геометрические истины, однако постулат о параллельных, как назло, разделял геометрию на две существенно различные части: первая не зависела от постулата, вторая целиком основывалась на этом постулате [В современной математической литературе совокупность теорем, не опирающихся на пятый постулат, называют абсолютной геометрией. Вторая часть носит название "Собственно Евклидова геометрия"].
"Как бы там ни было, - продолжал размышлять Лобачевский, - но усилия мон должны принести плоды. Неспособность восполнить пробел в началах геометрии является временным неведением, но никак не безнадежностью наших попыток. Трудность задачи лишь усиливает мою веру и надежду, что нечто весьма фундаментальное и, вероятно, совсем новое ждет своего открытия в области естественных наук..."
Но в это время тарантас круто свернул в сторону, и размышления Лобачевского были невольно прерваны. Он осмотрелся. Навстречу двигалась веселая кавалькада мужчин и женщин. Видимо, помещики направлялись в гости в какое-нибудь пригородное имение. Лобачевский заметил, как ловко и непринужденно управляли горячими лошадьми барышни в черных изящных амазонках. Взгляд его невольно задержался на девушке лет семнадцати: она что-то весело сказала даме, ехавшей рядом, и тут же звонко рассмеялась. Он спохватился: надо было раскланяться, но было уже поздно. Девушка, заметив его пристальный взгляд, улыбнулась и, что-то еще сказав соседке, дернула повод. Лобачевский, смущенный своей невежливостью, покраснел. Краем глаза он успел заметить, что важная дама, по-видимому, сделала ей какое-то замечание - девушка тоже покраснела и, пустив лошадь галопом, быстро промчалась мимо тарантаса.
- Но, вы, залетные! - крикнул кучер, и лошади понеслись рысцой.
Лобачевский оглянулся: только пыль у поворота указывала место, где скрылась кавалькада. Он достал из кармана шелковый платок и не спеша развернул его, намереваясь вытереть лицо. На уголке платка искусно вышито "Л". Лобачевский улыбнулся.
- Ее работа, - пробормотал он. - Подарок...
И вспомнил вчера покинутые им Сергиевские воды. Недавно там, у серных источников, познакомился он с юной красавицей Лизой. Мать ее лечилась от ревматизма. Глаза Лизы - такие же синие, как у только что встретившейся на дороге девушки...
- Надолго ли сохранится у вас память об этих днях? - спросил ее Лобачевский в день отъезда.
Лиза не сразу ответила.
- Зачем вам это? - поинтересовалась она. - Вы же постоянно говорили со мной о своей науке, всегда интересуетесь только ею...
Он взял ее за руку.
- Однажды мне уже сказали об этом. Одна девушка...
Впрочем... я готов был ее полюбить. Но... влияние родителей...
Рука Лизы дрогнула.
- Вам больно вспоминать об этом?
- И да, и нет, - сказал он. - Мы так мало знали друг друга. Не иллюзией ли, не игрой ли воображения была наша любовь? Будь у меня титул потомственного дворянина или большое состояние, тогда бы я мог стать ее мужем. Однако ни того, ни другого не было. И ее любовь не выдержала испытания.
Лиза высвободила руку, спрятала под косынку на своей груди. Лобачевский медленно прошелся по террасе.
- Да, - повторил он, - испытания не выдержала. Значит, ошибся в ней. И за то наказан. Богатство, знатность, повышение в чинах...
- Не всем это нужно, - прервала его Лиза.
- Но вы слышали, что вчера сказала ваша матушка?
Хочет она иметь своим зятем лишь дворянина.
- Да, - согласилась Лиза, - это ее желание.
- А ваше? - спросил он.
Лиза, пожав плечами, не ответила.
Видимо, чужим и далеким показался ей этот столь близкий человек. Она молча теребила в руках платочек.
Губы ее дрожали. Но покорно склоненная голова и потухший взгляд говорили яснее слов: и ее иллюзии пришел конец...
Сильный толчок на ухабе едва не выбросил его из тарантаса. Он растерянно оглянулся, прижал к губам платочек, источавший тонкий запах французских духов, и бережно сунул его в карман. Как знать: наверное, для него этот платок был забыт на перилах террасы?
Повернулся кучер. Он держал в одной руке цветастый кисет, в другой готовую самокрутку.
- Барин, табачком не побрезгуете?
- Спасибо, Иван, я не курю. И тебе не советую. Брось, никакого удовольствия.
- Какое с него удовольствие, - отвечал возчик. - Жизнь-то у нас нелегкая, барин. А закуришь - будто и полегчает.
Кучер был рад собеседнику, разговорился. Отец его, мелкий торговец в Оренбурге, попал в лапы ростовщика, лавку отняли, а семью выгнали на улицу. Отец нанялся возчиком, но вскоре умер. Место его досталось младшему сыну. И с тех пор семья, шесть человек, вся на его шее.
Разговор прервался. Показалась длинная вереница баб в белых платках. Они шли друг за другом гуськом по закраине дороги. На плечах у каждой котомка, привязана к ней пара новых лаптей. Поравнявшись с тарантасом, бабы останавливались, отвешивали низкий поклон и шли дальше.
Лобачевский велел придержать лошадей.
- Куда вы, бабушка? - спросил он у сгорбленной старушки, еле шагавшей, опираясь на палку.
- Глуховские мы, родимый, - ответила та чуть дыша и вытерла свое лицо концами головного платка. - Идем в Казань... На богомолье.
- Эк, горе-то чего делает, - покачал головой кучер. - Стало быть, не легка доля, коли тащатся по такой жаре, а сами чуть живы. Ну, господь с вами!
Бабы остались позади, разговор с возчиком прервался, но внимаиие Лобачевского привлекла новая пара. Восоногая девочка вела под руку высокогo, костлявого старика.
Седая голова его с трудом держалась на тонкой шее, клонилась к плечу. Старик шея медленно, едва передвигая ноги.
Лобачевский велел кучеру остановиться и выпрыгнул из тарантаса.
- Здравствуй, дедушка! Из каких вы мест?
- С далеча, барин. Верст за шестьдесят, - сказал старик, - силой, вишь, больно плох.
- Болен, что ли?
- Грудь меня совсем одолели, - ответил старик хрипло, прикладывая сухие пяльцы к тощей груди, - Ломит все... ходить не дает... Уже четвертый месяц так-то... - сказал он и вытер пот, капавший с лица, рукавом рубашки, - Что же вы, застудились, что ли?
Старик покачал головой.
- Нет, барин, печник я. У нас в деревне церковь ставили... Да время ненастное... по весне было... Я и скатись оттуль, с крыши-то... Вот грудью и упал на бревно.
- Эк, горе, - вмешался Иван, - тогда бы тебе сразу надо было съездить в город, к лекарю.
- Был в самом... ну, как его, запамятовал...
- В университете, - подсказал ему Лобачевский.
- Да, барин... вот как раз оттоле иду, - глубоко вздохнул старик, - да не приняли... Места, вишь, там нету...
- А чего не подождал? - перебил его кучер. - Пока место в больнице найдется.
- Я и сам так думал, сынок, - ответил тот, - но сказали: долго придется ждать... А питаться чем?.. Вот мы с ней и пошли опять в деревню...
- А там кто у тебя? - продолжал спрашивать Лобачевский.
- Был сын, отец ейный, - вымолвил старик, указывая костлявой рукой на девочку.
Только теперь Лобачевский пригляделся к ней. Стройная девочка лет четырнадцати, с голубыми, цвета нежного весеннего неба, глазами, белокурые шелковистые волосы длинными прядями сбегали по щекам ее прелестного личика. Пестрядинное платье, порванное на локтях, с заплатками из белой холстины, едва прикрывало босые ноги до колен.
- Сынок, верно, давно богу душу отдал, - продолжал между тем старик, Как ушел на войну с французами, с тех пор ни слуху ни духу... Мать сиротки от родов померла. И землицы, избенки не стало...
- У кого же вы теперь живете?
- Да у своего же соседа... на хлебах. Подсоблял ему кое-что, пока господь силу не отнял. Люди они, вишь, бедные. Сами радешеньки бывают, коли сухого хлебушка поснедают... Ох, и помирать уже негде... Знать, воля господня такая, супротив ее не станешь...
- Вот что, дедушка, я сейчас отвезу тебя в нашу больницу. Садитесь! пригласил его Лобачевский.
- Помилуй, барин, как же так?.. За что мне такие милости... - начал старик в замешательстве, но Лобачевский не дослушал его.
- Что же вы стали, - сказал он, - поторопиться надо, не то, чего доброго, не доедем к вечеру.
Старик и девочка переглянулись, но пока что не сошли с места.
- Нет, барин, благодарствуйте, - произнес старик и тряхнул головой. Не поедем.
Лобачевский, удивленный столь решительным отказом, спросил:
- Почему же?.. Может, красавица, ты мне скажешь? - подошел он к девочке и провел рукой по ее голове. - Как тебя звать, милая?
- Маша, - отозвалась девочка. - Мы с дедусей напугались в городе...
- А что же там случилось?
- Народу много, - покраснела девочка. - Бегут из конца в конец.
- Мимо больницы, - добавил старик. - Народу - видимо-невидимо. Лиха пе было бы. Сказали, барин, что у вас там... Эх, ты! Запамятовал...
- В университете?
- Ага, там. Сказывают: похороны... пять гробов...
- Какие гробы? - отшатнулся Лобачевский.
- Да кто ж их знает. Говорят всяко, барин, виноват, не ухватил... Прогнали нас окаянные...
- Кто прогнал?
- Городовые... Прости нас, барин. Опосля мы придем.
Лобачевский оглянулся на кучера.
- Едем, Иван! Живее!.. Там разберемся... Постой!
Он достал из кармана кошелек и, высыпав на ладонь все монеты, протянул их старику.
- Тебе... на лечение. Бери, бери! - Затем, обращаясь к девочке, добавил: - А ты, милая, непременно приведи его в больницу. Прямо ко мне... Стой, вот записка тебе.
Вырвав из дорожной тетради страничку, Лобачевский торопливо написал несколько строк и протянул девочке.
Смятение старика было так велико, что, перекрестившись, он упал на колени. За ним стала на колени рядом и внучка.
- Барин... ваше высокоблагородие... благодетель наш! - бормотал старик, - Сам господь нам послал...
- Встаньте, встаньте же, - растерялся Лобачевский, приподнимая старика...
Через минуту он уже садился в тарантас.
- Эй, вы, залетные! - крикнул возчик. - Поворачивайтесь. Живо!
Утомленные, кони рыси не прибавили, так что кучеру не раз пришлось подгонять их кнутом, пока вывезли они тарантас на последнюю перед Казанью высокую гору.
Лобачевский привстал в тарантасе. Перед ним открылась широкая низменность, поросшая кустарником и березовыми рощами. Словно три зеркала, соединенные цепочкой протоков, блестели три озера Кабан: дальнее, среднее и ближнее. С одной стороны ближнего протянулись Архангельская и Суконная слободы, с другой - Татарская, с огромной мыловаренной фабрикой. На солнце ярко сияли золотом полумесяцы мечетей и кресты церквей.
- Постой, Иван. Погоди немного.
Лобачевский выскочил из тарантаса, не ожидая, пока лошади остановятся.
Внезапно ударил колокол Воскресенского монастыря.
На зов его тотчас откликнулись медные великаны Спасо-Преображенского, Ивановского и Богородицкого монастырей, отозвались колокола кафедрального собора и всех церквей. За перезвоном почти не слышны были тревожные крики галок, кружившихся над колокольнями.
- Доехали, слава те господи, - проговорил кучер и, сняв картуз, размашисто перекрестился.
Вдруг ворота Воскресенского монастыря под горой широко распахнулись и показалась во дворе сверкающая позолотой нарядная карета. Шесть лошадей все, как одна, караковой масти - не спеша вывезли ее на дорогу. На козлах торжественно восседал кучер в немецком расшитом кафтане с широкими обшлагами. В руке он держал огромный бич, служивший скорее для украшения, чем для понуканий, - сильные, откормленные лошади гарцевали, пританцовывая. Впереди кареты ехали двое верховых в зеленых епанчах-капотах. Один бережно держал на руке архиерейскую мантию, другой архиерейский посох.
"Архиепископ Амвросий, должно быть, едет на богослужение", - подумал встревоженный Лобачевский. До сих пор ему не верилось в таинственные похороны. Однако печальный перезвон колоколов и торжественный архиерейский выезд из монастыря теперь насторожили его. Чьи же похороны могли вызвать подобные приготовления?
- Гони! - заторопился Лобачевский и проворно вскочил в тарантас.
Бубенцы под крашеной дугой коренника зазвенели, уставшие кони, почуяв близкий отдых в знакомой конюшне, охотно побежали под гору. Вот и поворот с Оренбургского тракта на Егорьевскую улицу, к самому центру Казани. Слева над серыми деревянными домишками поднялись фабричные корпуса мануфактуры. Кирпичные стены с большими зарешеченными окнами подавляли своими размерами жалкие халупы крепостных суконщиков, огороженные дырявыми плетнями.
Как ни торопил возницу Лобачевский, вереница экипажей, толпы народа, спешившего к центру, заставили его тарантас двигаться медленно. Тут были жители и окрестных сел, русские ж татары, мужчины, женщины, дети. Магазины, кабаки, лавчонки не торговали. Разноязычный говор выдавал общее возбуждение, причины которого Лобачевский не мог уловить. Синие тучи вновь закрыли солнце, казалось, вот-вот хлынет дождь, но пока его не было.
Стоя в тарантасе, Лобачевский наблюдал, как со стороны Татарского моста, у слияния Кабана с Булаком, словно поспешая на сабантуй, огромными толпами шли кустари, шакирды [Учащиеся мусульманского духовного училища медресе], лавочники Сенного базара. С минарета белокаменной мечети зазвучал протяжный призыв муэдзина.
Площадь перед университетом оказалась оцепленной солдатами. Проехать было невозможно. Лобачевский выскочил из тарантаса и кое-как протиснулся ближе к похоронной процессии, медленно выходившей со двора университета на площадь. Во главе ее под заунывное пение хора двигалось многочисленное духовенство с крестамтг на груди, в черном траурном облачении. Вот они, пять гробов, накрытых белым коленкором... Но почему нет венков, на лентах которых можно было прочитать, кто ж эти покойники?
А за гробами... Лобачевский даже подался вперед, желая убедиться: не ошибся ли? Да, за гробами шли новый ректор университета профессор Солнцев и незнакомый, но явно высокопоставленный чиновник с холодным, жестким лицом. За ними следовали преподаватели, студенты, гимназисты, видные жители Казани. Толпы народа безмолвно жались к стенам домов, освобождая процессии дорогу к Арскому православному кладбищу. Тишину лишь нарушали церковное пение да унылый колокольный звон.
Лобачевский недоуменно пожал плечами.
- Да что же тут происходит? - спросил он, обращаясь к соседям.
- Николай Иванович! - окликнул его в это время чей-то голос.
Уж не ослышался ли? Нет, чья-то рука сжала его руку.
- Сюда, в сторонку.
Лобачевский чуть не вскрикнул от радости: перед ним стоял Ибрагим Хальфин, его бывший учитель по гимназии, ныне адъюнкт кафедры татарского языка в университете.
- Сюда, - повторил Хальфин и потянул его за руку в сторону от процессии. Он, как всегда, был наряден, светлосерый костюм и летняя шляпа молодили его, но лицо было мрачным.
- Что же случилось, Ибрагим Исхакович?.. Кого тут хоронят?
Хальфин усмехнулся невесело.
- Скелеты, - шепнул он. - Из анатомического кабинета, с Поддужной. Как раз на пять гробов хватило.
- Скелеты?! Зачем? - удивился Лобачевский. - Вы что? Шутить изволите.
Но Хальфин схватил его за руку.
- Тише! - предупредил он. Затем, отчеканивая каждое слово, сообщил: По велению нового попечителя его превосходительства Магницкого. Во время обозрения университета весной, вы, помнится, тогда еще болели, он выразил возмущение по поводу "мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию творца, на анатомические препараты". Вот ныне и приказано предать земле все кости, на которых до сих пор обучали студентов.
- А Солнцев? Где же был Солнцев? Почему не отстоял? Он же ректор! возмутился Лобачевский.
Хальфин положил ему руку на плечо.
- Успокойтесь, Николай Иванович. Теперь наш верховный блюститель не ректор, а директор... Его превосходительство Александр Павлович Владимирский.
- Тот, кто сейчас так важно возглавляет позорное шествие? - не унимался Лобачевский.
Но Хальфин, оглянувшись, не успел ему ответить - рядом раздался пронзительный крик:
- Балам-джаным! Улымны бирегез! [Сынок-душенька! Верните сына моего! (тат.)]
Маленькая сгорбленная старушка в отчаянии пыталась пробиться к гробам. Лицо, изрезанное морщинами, лохмотья старой одежды на истощенном теле и непритворное горе матери вызвали жалость даже в сердцах солдат.
Они отстраняли ее с притворной суровостью. Но старушка по-прежнему кидалась на цепь, выкрикивая:
- Балам... Балам...
Лобачевский повернулся к рядом стоявшему пожилому татарину и спросил его:
- Ни булды? [Что случилось? (тат.)]
- Шайтану душу сына продал, - ответил тот и потупился.
На помощь пришел Хальфин, - переговорил по-татарски с несколькими стариками.
- Беда, - озабоченно повернулся он к Лобачевскому. - В университетской больнице у этой старухи умер сын. По бедности своей похоронить его не могла, и тело было передано в анатомический театр. Теперь она боится, что кости ее сына похоронят на русском кладбище и на том свете навечно будет разлучена с родным сыном.
- Какой позор! - сжал кулаки Лобачевский.
- Мужайтесь, мой друг, еще не то придется нам увидеть, - успокоил Хальфин. - Следуйте за мной.
Лобачевский послушался. У входа в парадный подъезд он вспомнил, как два года назад на этом же месте поклялся не покидать науку и слова Броннера в их последней беседе: "Россия теперь нуждается не в науке, а в религии, чтобы направить мысли к богу и сохранить монархию".
Молча поднялись по широкой лестнице на второй этаж, молча прошли зал собраний и вышли в полутемный коридор, из которого дверь вела в аудиторию.
- Сюда, Николай Иванович.
Знакомая до мелочей аудитория. Та же кафедра... Но что это за надпись на ее передней выпуклой стенке? Лобачевский с трудом прочитал сверкающие золотом буквы, написанные славянской вязью: "В злохудожну душу не внидет премудрость".
- Чепуха! - возмутился он. - Что придумали! Это в каждой аудитории так или только для меня писано?
- Везде, - сказал Хальфин дрогнувшим голосом. - Попечитель Магницкий нашел, что наши студенты не имеют пока должного понятия о заповедях божьих. Посему строго установлено чтение священного писания не только в положенные часы, но также и в аудиториях. Появилась даже кафедра богословия; туда назначен архимандрит Феофан, бывший настоятель Спасо-Преображенского монастыря.
- Дальше? - спросил встревоженный Лобачевский.
- Есть и дальнейшее, - усмехнулся Хальфин. - Долой философию, да здравствует богословие! Азиатская типография, по предписанию попечителя, должна теперь служить распространению священного евангелия на татарском языке. Мне, как государственному цензору, прибавилась новая забота... Магницкий также решил задушить Общество любителей отечественной словесности, созданное покойным профессором Ибрагимовым. Вместо него учреждается Казанское сотоварищество российского библейского общества.
Лобачевский воскликнул:
- Не университет, а монастырь!.. Мне что-то здесь душно. Идемте!
- Нет, посидим немного.
Несколько минут они сидели молча на скамейке, отвернувшись от опозоренной кафедры.
- Дорогой мой, - сказал Хальфин. - Это еще не все.
По предписанию того же Магницкого директор образовал особый комитет. Его задача - поскорей очистить нашу библиотеку от зловредных книг: Фонвизина, Дидро, Вольтера... Члены комитета: Кондырев, Дунаев и другие. Вы тоже туда назначены.
- Я?! - крикнул, вскакивая, Лобачевский. - Это невозможно!
- Теперь все возможно, - кивнул ему Хальфин, подымаясь. - Не криком, но хладнокровием должны мы действовать. Надо нам отобрать самое ценное, вынести под видом алькорана и спрятать.
- Куда же?.. Где?
- У меня, - сказал Хальфин. - Это идея профессора Дунаева. Так что не меня благодарите. Вы займетесь книгами на иностранных языках...
- Да, да! Сейчас же! - Лобачевский направился к выходу.
- Я больше за вас не опасаюсь. Теперь идем в профессорскую, а затем, для полноты картины, покажу вам карцер - ныне "комнатой уединения грешников" называется.
Карцер тоже пригодился Магницкому. Теперь там на прежде голой стене висела большая картина, изображающая "Страшный суд". Грешников, подвешенных на крючья, поджаривали пляшущие черти с красными головами.
Картина по замыслу Магницкого наглядно демонстрировала каждому отбывавшему наказание, что его ждет на том свете, если не поспешит он исправиться на этом.
В карцере уже четвертые сутки томился на хлебе и воде студент Горбунов, попавший сюда за какую-то провинность. По предписанию Владимирского, был он обряжен в старую рубашку, мужицкий кафтан и лапти - "в преобразование, что за мотовством последует бедность".
Однокурсников несчастного студента обязали каждое утро молиться в церкви о спасении души его. "Для увещевания" Горбунова посещал духовник отец Александр.
По его усмотрению выводили узника освежаться воздухом, "однако не при солнечном свете и не днем, и чтобы при сем случае никто из других студентов не был"...
- Вот оно как, Николай Иванович, - пожаловался Хальфин.
Лобачевский слушал это с болью в сердце. Могильная тишина царила сейчас в когда-то шумевших залах и коридорах. Где же она - так недавно бурлившая здесь молодая жизнь? Где сейчас отважные умы, не смущавшиеся трудностью решения самых волнующих философских вопросов? И что их ждет впереди?
У двери аудитории Лобачевского встретил сторож.
- Господин профессор, там возчик спрашивает, с которым из Оренбурга ехать изволили.
- Возчик? Да как же я мог забыть? - спохватился он. - Сейчас вернусь, Ибрагим Исхакович! - И почти бегом направился вниз по лестнице.
...Вечер Лобачевский провел в главной библиотеке университета. Книги, рукописи, карты грудами лежали на полках, на столах и даже на полу.
Каталоги отсутствовали. Разрозненные описи находились в таком беспорядке, что невозможно было в них разобраться. Но беспорядок, ранее раздражавший Лобачевского, теперь его только порадовал: при таком хаосе легко было спасти самые ценные книги, не опасаясь проверки.
С трепетным волнением осторожно раскрывал он знакомые фолианты в кожаных переплетах. Древние и средневековые мыслители: Аристотель, Лукреций, Лукиан, Джордано Бруно... Все так хорошо известные, а теперь вот, под угрозой уничтожения, стали они для него еще дороже. Математика, астрономия, механика, физика, философия. Сокровищница человеческих знаний, накопленных веками. Неугасимая жажда познать всю мудрость, силой человеческого ума заключенную в этих фолиантах, дрожью отзывалась в руках, кто к ним прикасался.
Выбирая все, что возможно было спасти, Лобачевский не замечал времени лишь перед рассветом возвратился он в свою неуютную казенную квартиру. Одиночество угнетало его. Мать уехала в родное гнездо, в Макарьев, и вернется не скоро. Брат Алексей, адъюнкт при кафедре технологии, направлен в так называемую визитацию по уральским горным заводам. Симонов, тот в кругосветном путешествии на судах "Восток" и "Мирный", под командой Лазарева и Беллинсгаузена. Может ли он, счастливец, предполагать, что здесь творят мракобесы! Броннер - вот кого не обмануло предчувствие: осенью он отправился в Швейцарию, в отпуск, и больше не вернется...
Лобачевский прошел по комнатам, пустым и гулким, затем остановился перед окном. Рассветало, а на душе было тягостно. Поговорить бы с кем-нибудь, согреться теплом живого человеческого участия. Не пойти ли в обсерваторию?.. Недавно, перед летней вакацией, с отъездом Симонова преподавание астрономии, а также попечение обсерватории совет поручил ему, Лобачевскому. Только там, у телескопа, наедине со всей Вселенной и своими, не дающими покоя мыслями, он не чувствовал одиночества...
Совсем недавно ему казалось, что наука вечно будет возвышаться над политикой, над самой жизнью. А все ученые, подобно горным орлам, будут жить в гордом уединении, чтобы ничто не препятствовало свободному полету их мысли. Самые стены университета казались ему стенами крепости, за которыми ученые найдут надежную защиту от всех мелких будничных дел.
А теперь... Не мифом ли оказались эти неприступные стены? То, что сейчас творят мракобесы в Казанском университете, - не является ли отражением борьбы, в которой силы реакции пытаются помешать ученым и задушить все передовое, восстающее против ее тьмы?..
Лобачевский оторвался от окна и крупными шагами заходил по комнате. Университетские события словно распахнули перед ним окно в широкий мир. Не отдельные толчки, но мощные землетрясения колеблют почву Европы. Отгремела гроза французской революции, но вот уже кипят жестокие бои в Испании, поднялись карбонарии в Италии. В Пруссии реакционный режим вызвал волну протеста, в результате чего был убит мракобес Коцебу - ставленник государя в Священном союзе. Пробуждается от векового сна и русский народ. Волнуются военные поселяне в Чугуеве. На Дону восстание крестьян. Да и в Казани совсем не тихо: бунтуют крепостные суконщики. В Петербурге появился Пушкин, истинный выразитель народных дум. Говорят, он - ученик Державина. Пламенные строки его "Вольности" у всех на устах.
И Лобачевский продекламировал их:
- Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!...
- До чего же верно, - сказал он, прислушиваясь к отзвукам в пустующей комнате. - Однако где же путь, которым надлежит шагать России? На каком поле произойдет битва за ее счастливое будущее? В аудиториях ли ждать сражений или на баррикадах революции?
Опущенная рука нащупала спинку плетеного кресла.
Он сел в него и задумался. "Но может ли свет появиться без просвещения?.. В университете, в этом храме науки, - здесь, именно здесь, его истинное место..." Вспомнилось обязательство, данное им при зачислении в казеннокоштные студенты: "прослужить шесть лет учителем". Ну что ж! Оно выполнено. Старик Бартельс передал ему почти все дисциплины чистой математики: тригонометрию, учение о конических сечениях и аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисление. А после смерти профессора Реннера он читает курс прикладной математики. Даже астрономию: замещает отсутствующего Симонова. Долг выполнен.
Лобачевский вздохнул и резким движением повернул свое кресло к письменному столу. Прошлое уступило место настоящему: завтра вступительная лекция по математике. Надо просмотреть литературу, записи, чтобы как можно полнее передать слушателям самое ценное из чужих и собственных работ.
Когда заглянуло в окно солнце, осветив письменный стол, заваленный разноязычными книгами, Лобачевский погасил свечу и с трудом разогнул онемевшую спину. План вступительной лекции был готов.
С улицы послышался протяжный крик: "Воды - кому, воды ка-ба-а-нной!"
- Отлично. Как раз то, что нужно!
* * *
Лобачевский стремительно, как всегда, прошел коридором университета, распахнул дверь в математическую аудиторию, где должен был читать лекцию, и замер на пороге: место его на кафедре было занято! Возвышался там Никольский, заложив руки за борт своего форменного фрака. Появление Лобачевского, видимо, смутило его: не договорив очередной фразы, он закашлялся. Но Лобачевский уже овладел собой: слегка наклонив голову, что могло быть всеми принято и за поклон, быстро вошел он в аудиторию и сел в мягкое кресло, предназначенное, как потом выяснилось, директору.
Никольский оправился от смущения и, так же наклонив голову, отвечая на поклон, обратился к аудитории.
- Господа, - продолжал он елейным голосом, - благомыслящий математик, углубляющийся в природу вещей, повсюду видит перст всемогущего, полагающий известные пределы, которых никто перейти не может. Обращает ли он просвещенный взор на свое жилище, то есть на Землю, ясно видит сии непременные законы, сохраняющие бытие и всех тварей. Он знает, что Земля от своего коловращения и бега в пространстве небес могла бы разлететься на части, ежели не положено было в ней крепких оснований связи:
моря и океаны, города и селения, горы и холмы, древеса и животные от центробежной силы все рассеялись бы по небу, если бы сила тяжести не противоборствовала первой в известной соразмерности... Возводит ли он очи свои вверх, там видит сонмище светил небесных, шествующих в дивном порядке во веки веков. Кто же сохраняет сии порядки? Без сомнения, сам творец. Таким образом, благоговейный математик, рассматривая Вселенную, столь великолепную и разнообразную, вместе с отцом церкви воспевает: "велий еси господи, чудна дела твоя и ни едино слово довольно к пению чудес твоих!"
Лобачевский сидел в кресле, сжав руками подлокотники с такой силой, что пальцы его побелели. Одно мгновение показалось ему, что заснул он после бессонной ночи.
Однако это был не сон. Что же мог означать этот балаган?
В аудитории - гробовое молчание. Лишь два рослых студента на крайней у двери скамейке пытались рассмешить соседей: строили гримасы, подражая Никольскому.
Остальные с удивлением смотрели на лектора и, как видно, тоже спрашивали себя: что все это значит?
Между тем лекция продолжалась.
- В математике видим превосходные подобия священных истин, - говорил Никольский уверенным голосом, изредка поглядывая на Лобачевского. - Как без единицы не может быть числа, так и Вселенная не могла бы существовать без единого творца. Святая церковь употребляет треугольник символом господа, как верховного геометра, зиждителя всякой твари. Две линии, крестообразно переШлющиеся прямыми углами, могут быть прекраснейшими иероглифами любви и правосудия. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ скрещения правды и мира, правосудия и любви через ходатая бога и человека, земного с божественным...
В аудитории заметно росло недоумение, студенты начинали переглядываться или, обхватив голову руками, смотрели вниз, опасаясь выдать себя несдержанностью.
- Еще в трудах Платоновых читаем, что при помощи математики очищается и получает новую жизненную силу орган души, - продолжал Никольский, - в то время как другие занятия уничтожают его и лишают способности видеть, тогда как он, орган души, значительно более ценен, чем тысяча глаз, ибо только им одним может быть обнаружена истина... А доколь сердце не отрешится от чувственности, от самолюбия, премудрость в него не войдет по слову святого писания: "в злохудожну душу не внидет премудрость..."
Лобачевский побледнел. Последние слова, написанные на кафедре и повторенные лектором, возмутили его. "Никольский там, - подумал он, важно шествующий в унизительной погребальной процессии за гробами, наполненными анатомическими препаратами! Никольский здесь, перед безмолвствующей, пораженной аудиторией, читающий лекцию нараспев, как затверженную молитву... Довольно!.." Лобачевский покинул кресло и вышел из аудитории.
К ректору! Там найдет он ответ на свой мучительный вопрос: что бы это значило?
Дубовую дверь кабинета Лобачевский открыл с большим усилием. Все тут было ему знакомо: этот огромный письменный стол, тяжелые кресла красного дерева с резными спинками. Вспомнились бурные заседания совета в этой комнате, словесные баталии между профессорами различных убеждений. Но что-то и новое появилось, чуждое...
Ах, да, картины, похожие на иконы: "Отрок Иисус во храме", "Крещение Господне". Их прежде не было.
- Проходите, - пригласил директор холодным голосом, не поднимая глаз от лежавших перед ним бумаг.
Лобачевский попятился, удивленный столь нелюбезным приемом. Но в это время тяжелая дубовая дверь вновь открылась, и в кабинет не вошел, а вкатился проворный Солнцев. Заметив Лобачевского, быстро направился к нему, протягивая руки.
- Рад видеть вас, дорогой Николай Иванович. Его превосходительство и я давно ждем...
- Господин ректор, - задыхающимся голосом прервал его Лобачевский, не отвечая на приветствие. - Кто же дал право профессору Никольскому читать вступительную лекцию по математике вместо меня? И какую лекцию! Вы бы ее послушали. Это не математика. Бред! И позор для науки! Природа. Бог. Они противоположны друг другу, как тьма и свет!
Владимирский очнулся: медленно встал, отстраняя тяжелое кресло, и шагнул из-за стола.
- Ваше превосходительство, разрешите представить, - заспешил Солнцев. Экстраординарный профессор Николай Иванович Лобачевский.
- Весьма приятно, - слегка поклонился Владимирский, но руки не протянул. - Мне известны, господин Лобачевский, ваши отличные познания в математике. - Холодные глаза его смотрели на собеседника в упор. Пожалуйста, прошу садиться, - легким движением руки он указал на кресло. А вы, господин ректор, - Владимирский повернулся к Солнцеву, - ознакомьте господина Лобачевского с предложением его высокопревосходительства господина попечителя от пятого августа за номером шестьдесят вторым.
Солнцев подошел к столу, быстро нашел нужную бумагу и протянул ее Лобачевскому. Тот, опускаясь в кресло, взял от него сероватый лист, исписанный каллиграфическим почерком. Внизу подпись: "Магницкий". Пробежав глазами первые строчки: "Все нижеразъясненные Высочайшие распоряжения привести в немедленное исполнение", Лобачевский посмотрел на Солнцева. Тот кивнул на бумагу: дальше смотрите.
- Пункт четвертый... А, вот оно!.. "Профессор Никольский может занять кафедру профессора Лобачевского, которому могут быть предложены кафедры физики и астрономии..."
Лобачевский почувствовал, что ему не хватает воздуха.
Он вскочил, отодвинув кресло.
- Этому... этому... нет объяснения.
Солнцев осторожно взял его под локоть:
- Успокойтесь.
Владимирский налил из графина воды в стакан и протянул его Лобачевскому:
- Выпейте. Нельзя так волноваться. Французы гово-, рят: не место красит человека, а человек место. Вы не согласны?
Лобачевский не слышал его. "Немедленно уйти в знак протеста, - было первое, что пришло ему в голову. - Но это ли достойное решение?.."
Владимирский, не получив ответа, повернулся и поставил стакан рядом с графином. Выражение участия на его лице исчезло, сменилось обидой.
- Мне казалось, - нахмурился он, искоса поглядывая на Лобачевского, что вам бы следовало быть весьма благодарным его высокопревосходительству, чьим вниманием вы не оказались вне стен этого университета. Может, вы еще не знаете, что, согласно приказу господина попечителя, уволено девять профессоров, заподозренных в распущенном вольномыслии. Они позволили себе забыть, что цель правительства заключается в образовании студентов как верных сынов православной церкви, а также верных подданных своему государю, отечеству...
Директор говорил впустую. Лобачевский не слушал его и думал о том, как бы выстоять в этом словесном потоке бездушия и лицемерия.
- По сему его сиятельство князь Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, с ведома его величества, направил меня директором в сей университет, навести в нем должный порядок. - Опершись руками на край стола, директор внушительно, как судья, изрекающий приговор, произнес: - Я должен ознакомить вас, господин Лобачевский, с некоторыми пунктами полученной мною из министерства инструкции. А именно: "Профессор теоретической и опытной физики обязан, во все продолжение курса, указывать на премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания окружающих нас чудес, - чеканил он каждую фразу. - Профессор астрономнаблюдатель укажет на тверди небесной пламенными буквами начертанную премудрость творца и дивные законы тел небесных, откровенные роду человеческому в отдаленнейшей древности..."
Закончив чтение, Владимирский строго взглянул поверх бумаги на Лобачевского.
- Ну-с, что имеете сказать? По нраву ли вам? - спросил он высокомерно.
Лобачевский усмехнулся. "Пугает? - подумал он. - Что ж, зато я знаю теперь, с кем бороться. Против слепой веры. За науку. А сил у меня хватит..."
Владимирский не выдержал: стукнув кулаком по столу, он крикнул срывающимся голосом:
- Не хотите со мною разговаривать? Но я по глазам читаю ваши мысли. Вы меня презираете, не правда ли?
- Да-да! - воскликнул вдруг очнувшийся Лобачевский, не расслышав, о чем его спрашивают. - Не безумие ли все, что с нашим университетом сделали? Самая возможность примирения с сим исключается. - Лобачевский, задыхаясь, шагнул к закрытому окну и порывисто распахнул его. - Я слушал вас, господин директор, и мне было стыдно. За вас... Ежели бы слышали свой собственный голос, то, уверен, содрогнулись бы от ужаса. Неужели вы сами верите в то, что пытаетесь выдать за вечные истины?
Владимирский перекрестился. В другое время это могло и смешным показаться. Но сейчас было не до смеха.
Лобачевский уже не мог остановиться.
- Вам следует знать закон из физики: действие равно противодействию, запальчиво продолжал он, обращаясь к Владимирскому. - И не забывайте, что боязнь печатного слова побудила монахов Майница, в замке святого Мартына, учредить цензуру как орудие истребления мысли при самом ее рождении. Но в то же время в неизвестности морей Колумб дерзал открыть морской путь в Индию. И, неведомо для себя, вдруг открыл Америку. Тогда же родился Коперник, начертавший в пространстве путь небесным телам. Правда, иногда великое порождало и невежество. Так, еще Радищев отмечал, что книгопечатание породило цензуру... Но ведь науке невозможно связать крылья...
- Довольно! - крикнул директор. - Наслушался!.. Не зря говорят: бодливую корову из стада вон! - И, резко взмахнув рукой в сторону Лобачевского, быстро зашагал к двери. Однако на пороге задержался и посмотрел на Солнцева. - Я полагаю, как, надеюсь, и вы полагаете, господин ректор, - проговорил отрывисто, - мнения, высказанные здесь господином Лобачевским, являют зловредную ересь. Поэтому считаю своим долгом поставить ему на вид, что буде не проявит он должного раскаяния, пусть пеняет на себя.
С последними словами он переступил порог, и его решительные шаги, удаляясь, замерли в коридоре.
Минуту в кабинете было тихо. Первым нарушил молчание Солнцев. Он подошел к Лобачевскому и обнял его за плечи.
- Николай Иванович! Я ведь очень уважаю вас и прошу: смирите свою гордость, - проговорил он взволнованным голосом. - Предупредить хочу вас: эти люди - Аракчеев, Голицын, Магницкий, Владимирский - ничем не брезгают...
- В этом я не сомневаюсь, Гавриил Ильич, - отвечал Лобачевский. Спасибо. Но я...
- Ваше упорство непонятно, - прервал его Солнцев, доверительно взяв за руку. - В каком-то иностранном журнале я прочитал любопытное высказывание о часах: история - цифербрат, геометрия - стрелка, на двенадцати стоящая, арифметика - пружина, часы в движение приводящая, физика же - ось, на коей стрелка утверждена...
Следовательно, надо хорошо узнать ось, дабы стрелка могла получить правильное движение.
Коснуться при Лобачевском предмета, который так сильно занимал его воображение, ве.е, равно что поднести огонь к запальному шнуру фейерверка. Владимирский, разговор с ним, угрозы - в эту минуту все было забыто.
- Для меня, - воскликнул он в увлечении, - нет жизни без математики. В ней чувствую себя как в родной стихии. Геометрия - наука о Земле, о нашей планете. Но ведь на Земле в одном направлении пространство простирается в непостижимые дали Вселенной, в другом, противоположном, - к бездонной сфере атома. Отсюда непременно должна возникнуть наука - пангеометрия, все пространство собою обнимающая. Подобно тому и человечество в будущем объединить возможно в одно великое братское содружество, существующее для достижения одной великой; цели. В том я вижу назначение человека. Его долг и его счастье.
Лобачевский остановился. Помолчал и Солнцев, обдумывая только что услышанное.
- Да, безусловно, так, - согласился ректор, открывая карманную сигарочницу. - Однако жизнь сурова, и задачи ее неотложны. Вам, Николай Иванович, прежде всего надлежит успокоиться. Побеждают сильные духом не только словами, но и терпением. Давайте присядем. - Солнцев подвинул кресло. - Расскажите, как довелось отдохнуть...
Сигару хотите?.. Ах да, вы не курите... Напрасно. Рекомендую - И он приветливо раскрыл сигарочницу.
Пока Лобачевский неумело пальцами общипывал свою сигару, Солнцев уже глубоко затянулся и выпустил вверх колечко благовонного дыма.
- Житейская философия, - продолжал он, - учит нас и в дурном отыскивать хорошее, что помогает приспосабливаться к тяжелым обстоятельствам. Терзаться постоянно трудностью положения - все равно что ежеминутно заглядывать в пропасть, чего делать не следует. Спокойно же озираясь вокруг, всегда найдешь и тропинку, по коей опасное место вполне обойти возможно. Повторяю. Обойти! - сказал Солнцев и наклонился, чтобы дать прикурить Лобачевскому. - Да, - продолжал он, - я понимаю ваше раздражение. Видит бог - сочувствую. Но... извиниться необходимо. И сегодня же... Вы, Николай Иванович, и так достаточно рисковали. Бальзамом для ваших ран послужит работа. Математика, говорите, - цель жизни вашей.
И вы будете заниматься ею: нравится это Магницкому или нет. Работа вас утешит и успокоит. Она ускорит ход времени. А время - старая истина лечит все раны.
В руке Лобачевского еле дымилась угасавшая сигара.
Слушал он рассеянно. Голос ректора и сам ректор - полнотелый, круглолицый, олицетворение благодушия - успокаивали его до боли натянутые нервы. Лобачевский знал, какую нелегкую жизнь прожил этот человек. Сын капельмейстера в крепостном оркестре князей Голицыных, он сумел окончить Московский университет, работал в канцелярии седьмого департамента. В двенадцатом году, спасаясь от наполеоновского нашествия, вместе с другими сенатскими чиновниками попал в Казань. Здесь не захирел, не спился, как многие другие в глухой провинции, но быстро пошел вверх по служебной лестнице. В четырнадцатом году он уже магистр, затем доктор прав при Казанском университете. На следующий год - профессор, еще три года - и он уже декан и проректор. А сейчас, после смерти Брауна, тридцатидвухлетний Солнцев - ректор университета.
Опустив глаза, Лобачевский заметил, что сигара его почти перестала дымиться. Он раскурил ее, сделав глубокую затяжку, и закашлялся.
- Ничего, ничего, коллега, - улыбаясь, приободрял его Солнцев. Самосад с вишневым листом довелось бы вам попробовать. Раз потянешь слеза из глаз, другой раз - кровь из носа, на третий - и дух вон!
- Мне сейчас не до шуток, Гавриил Ильич, - признался Лобачевский. После таких событий...
Но Солнцев опять прервал его:
- Так. Не скажите. Некоторая доля этакого легкомыслия, друг мой, иногда необходима, чтобы не впасть в отчаяние.
- Да? - усмехнулся Лобачевский. - Господь бог сотворил, говорят, осла, дав ему толстую шкуру. Тем самым его положение отличается от моего... - И, не договорив, он тут же спохватился: - Простите, Гавриил Ильич... Я не заслуживаю вашего душевного внимания. Сразу навалилось на меня столько неожиданного. Я ведь имел в виду их... Но, признаться, до сих пор о них пока ничего не знаю. Расскажите, пожалуйста, кто этот Владимирский, откуда он?
Солнцев откинулся на спинку своего кресла и двумя руками старательно расправил бакенбарды, как делал обычно, приступая к значительному разговору.
- Хорошо, Николай Иванович. Но вам -изменила память. Ведь вы же должны его знать, заочно...
- Как? Неужели тот самый Владимирский, из города Симбирска? Лобачевский даже привстал в кресле от изумления. - Не того ли у нас при баллотировке на кафедру патологии два года назад прокатили на вороных? Он же теперь всей своей скверной душонкой ненавидит наш университет! Мне, помню, еще Михаил Александрович Салтыков рассказывал, какую Владимирский после того кляузу министру просвещения состряпал. На все казанское ученое сословие, преднамеренно его поругавшее, как писал он. Да, Магницкий знал, кого поставить к нам директором! Где же удалось найти ему такого?
Солнцев засмеялся.
- Магницкий был в Симбирске губернатором. Владимирский там же акушером врачебной управы. А дальше, как говорится, рыбак рыбака видит издалека.
Солнцев потянулся к портсигару на столе.
- По второй?
- Благодарю. - Лобачевский отрицательно покачал головой. - И первую не докурю... Скажите, Гавриил Ильич, правда ли, что Магницкий после своей ревизии рекомендовал государю закрыть наш университет?
- Более того, - Солнцев не торопясь высек огонь, прикурил. - Не токмо закрыть, но и публично всем объявить об этом, ибо наш храм науки "причиняет общественный вред". Могу наизусть процитировать вам заключительные строки Магницкого. Слушайте: "Акт об уничтожении Казанского университета тем естественнее покажется ныне, что, без всякого сомнения, все правительства обратят особенное внимание на общую систему их учебного просвещения, которое, сбросив скромное покрывало философии, стоит уже посреди Европы с поднятым кинжалом".
Солнцев, проговорив эти слова нараспев, улыбнулся.
- Однако государь на докладе Магницкого наложил резолюцию: "Зачем уничтожать, лучше исправить".
- Но "исправить" наш университет поручил тому же Магницкому, отозвался Лобачевский. - Ну и дела...
Наступило молчание.
- Жаль, что вы, Николай Иванович, отсутствовали во время ревизии Магницкого, - сказал Солнцев. - Ловкий и хитрый карьерист. Чутье необычайное. В Париже называли его "русский лев", и сам Бонапарт предсказывал ему на родине карьеру необыкновенную. Предсказание оправдалось. Едва был назначен в Симбирск губернатором, прослышал, что министр князь Голицын - личный друг царя, председатель всероссийского библейского общества. И что же? Тотчас Магницкий весьма торжественно открыл отделение общества и в Симбирске. Сразу же замечен, с того и в гору пошел. Теперь рвется ко двору, пытается обратить на свою особу внимание государя, для чего пугает его и всех революцией, старается показать себя надежным слугой. Так-то вот...
Солнцев спохватился и, взглянув на свои часы, проворно встал с кресла.
- Разговор наш, Николай Иванович, между нами останется. Поверьте, мне до сих пор и поговорить-то не с кем было. Не с кем! Друг мой, не оставляйте меня! - И, сжав руку Лобачевского, заглянул ему в глаза. - И, пожалуйста, извинитесь... Прошу вас. Ради будущего. Ради меня.
Лобачевский выпрямился.
- Хорошо, Гавриил Ильич. Обещаю.
- Договорились! - воскликнул Солнцев. - Спасибо.
Я бегу. Да, чуть не забыл: вам письмо из Петербурга. Свой человек привез, и потому ношу при себе, желая передать из рук в руки. Даже дома не оставляю - опасаюсь.
Он оглянулся, пошарил в кармане жилета и достал небольшой пакет с красной сургучной печатью.
- Спасибо, Гавриил Ильич! - Лобачевский еще раз пожал его маленькую руку. - Вечером прошу ко мне в гости, на бишбармак собственного приготовления, с кумысом.
Возвратившись домой, Лобачевский торопливо закрыл на ключ входную дверь, сломал сургучную печать на пакете и развернул письмо. Читал он жадно: то хмурился, то улыбался, вытирая под глазами невольные слезы. Это была рука друзей, протянутая из далекого Петербурга. Университетские товарищи, бывшие казанцы: Григорий Корташевский, Сергей Аксаков, Александр Княжевич, Еварист Грубер и Владимир Панаев. Они знали, что сейчас должен думать и чувствовать Лобачевский, как и Солнцев, требовали от него выдержки, терпения. Магницкие приходят и уходят, ибо торжество мракобесов недолговечно, "А нашу alma mater нужно всем нам охранять и сохранить". Это их общий священный долг, и значит, и его, Лобачевского. Не имеет он права бежать из университета.
Лобачевский читал, перечитывал, бережно складывал письмо и снова его разворачивал. Оставалось последнее и самое горькое - сжечь письмо: кто знает, что еще может случиться? Наблюдая, как голубоватые листки темнели и сворачивались в огне свечи, он испытывал почти физическую боль. Превращались в пепел драгоценные слова надежды на лучшее будущее, послания честных и верных сердец. Но каждое слово сохранилось в его душе. Вечером он все расскажет Солнцеву. И то, что обещал ему выполнить, не казалось теперь таким уж невозможным.
Он развернул уцелевшую от огня маленькую записку, вложенную в письмо. Ее можно было сохранить: Корташевский извещал о рождении сына [Г. И. Корташевский был (с 1817 г.) женат на сестре С. Аксакова, Надежде Тимофеевне]. Мальчика назвали Николаем. В его честь!
Поддержка друзей в столь тягостный день оказалась решающей. Лобачевский вернулся к занятиям, приняв предложение попечителя как необходимость. Физикой решил заниматься если не так горячо, как математикой, но столь же честно и ревностно. В первое время даже отложил свою почти уже законченную работу по геометрии.
ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ
(Письма)
29 июля 1821 года,
Гороховец, 6 утра.
Как бы я желал, милая добрая маменька, еще раз поцеловать Вашу ручку. Но судьба надолго разлучила меня с Вами. И полтораста верст, отделяющие меня от Макарьева (надеюсь, что Вы находитесь уже там), в настоящее время еще более непреодолимы для меня, чем та тысяча верстовых столбов, мимо коих я должен мчаться, все более удаляясь от Вас.
Мое путешествие и доселе порой представляется мне сном. Стоит пробудиться - и вот я вновь окажусь подле Вас. Но увы! Чувствую, что причина моей разлуки с Вамп не только приглашение господина попечителя прибыть в столицу. Мне необходим, скажу более - спасителен этот внезапный отъезд из Казани. Рассеяться, отдохнуть, расстаться (пусть временно) с опостылевшими за последнее время людьми, университетом. Очень уж утомился я от непрестанных стараний укротить свое негодование. До сих пор оно бушует во мне. И нет в душе уже свободного места, нет сил хладнокровно наблюдать торжествующее мракобесие!
Лишь теперь, немного придя в себя, я могу признаться Вам, маменька, что прямо-таки боялся сойти с ума. Страх этот охватил меня, когда Солнцев единственный профессор, с которым ощущал я душевную близость, - был отрешен от должности и предан суду университета, ибо... его деятельность оказалась противна "духу святому господнему и власти общественной". И это не было концом терзаний: ректором вместо Солнцева назначен Никольский, каждым словом своим, каждой лекцией позорящий храм науки.
Простите, что пишу очень плохо. Виновато перо, кроме того, спешить и то и дело от письма отрываться приходится - под окном вещи мои из одного экипажа в другой перекладывают, опасаюсь небрежности. Однако, кажется, с вещами покончено. Могу рассказать Вам уже спокойно, как я добрался до сего древнейшего русского города, еще в XII веке основанного. В Нижнем, за отсутствием почтовых лошадей, для ускорения нанял я вольных до станции Пыра, впрочем, как ни досадно, но все равно большей частью двигались шагом.
До самых сумерков, не отрываясь, любовался я нашей красавицей Волгой, вечно юной и вечно новой. Сердце сжимается от восторга перед прелестью чудной нашей природы, вздыхаешь и вновь любуешься.
Порой сквозь легкий туман, словно сквозь прозрачное кисейное покрывало, малая точка на воде завидится - суденышко. Близится, близится. Вот уже с чайкой сравнялось, все растет и летит на белых крылышках-парусах.
И не одно уже оно, за ним и другие гонятся, сверкая белыми, как сахар, парусами в три, а то и в четыре яруса. И такая тишина кругом, что сердцу и радостно и грустно.
Вспомнилось, как в Казани нас провожал Алексей, как плыли мы на пароходе и всюду народ собирался, любуясь на такую диковину. Босые бурлаки, словно малые дети, рты раскрывали. Простились мы с Вами, маменька, у села Исады, что живописно раскинулось против Макарьева.
Сия минута, думаю, памятна Вам. И не забыть печальный взор, коим Вы меня провожали. Грустные воспоминания, ибо все это было и прошло невозвратимо.
Но воспоминания не угасают в душе, благодарной Алексею за заботу, с которой помогал он нам в подготовке нашего путешествия. От всей души спасибо и ему, и доброму другу Ибрагиму Исхаковичу. Истинно по-братски проводил бн нас. По возвращении в Казань прошу Вас, маменька, передайте ему мой низкий поклон.
Прощайте, милая маменька. Лошади готовы. Целую ручку Вашу.
Ваш сын Николай.
г. Владимир, 30 июля.
Дорогая маменька!
Вся ночь прошла в утомительной езде, и сегодня только к часу дня прибыл я во Владимир. Остановился в гостинице на Дворянской улице, это самая большая улица города. За номер заплатил 70 копеек и за самовар 20 копеек. Номер мой довольно чистый, на втором этаже, стены крашеные, окно одно, большое, называемое итальянским.
Напившись чаю, нанял я извозчика, чтобы проехаться по городу, осмотреть его достопримечательности. На Дворянской в глаза бросается гостиный ряд, тут же базар расположился. Шум, крик, смех - все как на базаре полагается. Оживление чрезвычайное: телеги, кибитки, дрожки, порой коляска нарядная. Торгуют чем попало. Лавчонок маленьких, помимо гостиного ряда, столько, сколько помещается в них яблок. За бульваром к Клязьме - городской сад, кажется, не совсем в порядке, но местоположение чрезвычайно живописное.
В общем Владимир прекрасный русский город, каменный, многоцерковный, а главное, в нем хорошо сохраняется старина. Заметна уже близость Москвы.
Я пишу Вам, а под окном непрерывно гремят, проносятся экипажи, скрипят возы. Заглушая прочие звуки, сейчас над городом плывет вечерний звон: колокола многих церквей зовут к вечернему служению. Церквей здесь много и весьма старинных, некоторые изумительны по красоте и величию, например, Дмитриевский и Успенский соборы на Дмитриевской площади. Белокаменная резьба Успенского собора восхищает, архитектура являет гармоническое слияние легкости и торжественности. Внутри сохранились фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Представьте себе, маменька, что в каменной резьбе Дмитриевского собора сосчитано более тысячи различных изображений: птицы-звери, грифоны-звери с лицами человеческими и просто звери и птицы. А то во весь опор учатся всадники или схватились в смертной борьбе... Есть и Самсон, пасть льву раздирающий. Тут и там переплелись шеями гуси... Словом, сколько ни провести времени в сем дивном храме, все новые фигуры являются взору. Ах, маменька, зачем нет тут Вас, зачем это не Макарьев! То не полное наслаждение, когда нет возможности разделить его с тем, кто душою тебе близок. Что ни вижу, что ни чувствую - удовольствия от того лишь половина. Сколько радости было бы от возможности сказать: "Маменька, взгляните еще вот на это!"
С Дмитриевской площади направился я к Золотым воротам. Величественное сие сооружение чем-то нашжинает нашу Сююмбекову башню. "Золотые", ибо когда-то были окованы золоченой медью. Перед воротами некогда имелся ров, через который перекидывался по надобности легкий мост. В противоположном конце Дворянской улицы, как бы напротив Золотых, находились Серебряные ворота. Через них въезжали в город путешественники с востока, из Казани и других городов. Созерцая величественные храмы Владимира, вспомнил я невзрачные здания нашего университета. Дерзкая мысль при этом возникла в моей голове, но пока ее не решаюсь высказать. Я сделал некоторые зарисовки с этих соборов, быть может, они когда-нибудь пригодятся.
Потолкался я и на базаре среди народа, торговал калачами, сторговал Вам, маменька, ножнички и наперсток.
Затем пошел к себе в номер чай пить. Но так стало мне грустно и одиноко, что и чай не пился. Сел у окошка, чтобы хоть чем-то развеяться, но не получилось.
Прощайте, маменька! Кланяйтесь родным и добрым друзьям, всем, всем. Прощайте.
Николай.
Москва, 1 авг. 1821 г..
12-й час ночи.
Наконец я, милая маменька, в Москве. Добрался на вольных, так как почтовых лошадей ни в городе Богородском, ни на станции Старая Купавна достать не привелось... В город дотащился не в пору рано и потому принужден был остановиться в дорогой гостинице с мебелью красного дерева, с огромными окнами, на Большой Дмитровке. Плачу по 3 рубля в сутки за комнату и 75 копеек за прислугу. Дорого, дорого! Меня утешает одно: рядом университет и Кремль.
День прошел, даже почти незаметно: утром, напившись чаю и побрившись, поехал я к Перевощикову в надежде получить письмо от Вас, маменька, но не застал его дома.
Потом до вечера бродил по городу и, пообедав, отправился в Императорский театр, по которому очень соскучился (ведь уже шесть лет, как в Казани сгорел театр).
Теперь я воротился домой и после кофе с бисквитом сел за этот лоскуток бумаги.
Что же писать Вам о Москве? Огромный город, много старины, много народу, деятельность так и кипит; всюду Русь - она дорога сердцу. Не скрою, что когда я услышал, въезжая в Москву, звон колоколов, зовущих к заутрене, когда увидел башни Кремля и главы соборов, сердце мое забилось учащенно, мне казалось, что я в объятии материродины.
Брожу по Москве как в лесу, но люблю, люблю ее. Повсюду на улицах оглушительный стук: грохочут кровельщики на крышах новых домов. Город отстраивается и хорошеет после Наполеонова пожара. Два пункта, с которых я видел до сих пор Москву в некоторой подробности, это:
Кузнецкий мост, густо заселенный, и Театральная площадь.
На Кузнецком мосту и вокруг него, как нигде более, стоял сплошной крик, шум, свист, звон колокольчиков.
Говор русский, французский, английский, немецкий, татарский (что интересно, маменька, почти все здешние буфеты в руках татар). Везде всевозможные лавки, но купцы жалуются на худой торг. Кстати, я купил прекрасную складную шляпу.
Теперь вернусь к театру. Давали оперу "Жан Парижский" Буальде. С успехом дебютировал молодой певец Петр Александрович Булахов. У него гибкий приятный голос, позволяющий ему легко преодолевать высокие ноты.
А в целом пьеса так себе. Все натянуто, и музыка очень часто не согласуется со смыслом слов. Но Москве нравится. Театр был почти полон. Пользуясь прекрасной увеличительной трубкой, я подносил к своему носу лицо за лицом из всех лож и видел Москву - видел очень много усов, изможденных лиц под чепчиками, белил и румян, но очень мало хорошеньких.
Пора. Ложусь спать. Прощайте, маменька. Покойной
Вам ночи!
Ваш сын Николай.
2 августа 1821 г.
Здравствуйте, маменька! Сегодня утром я опять был у Дмитрия Матвеевича, опять не застал его, но письмо от Вас получил. С каким нетерпением читал я его, с каким удовольствием перечитывал! Сердечное спасибо Вам, маменька. Очень рад, что Вы благополучно прибыли в Макарьев. Совершенно против воли я заставил Вас волноваться. Будьте уверены, маменька, что если не получите иногда письма от меня в то время, когда ожидаете, то причиной этому не я, а те, которые могут отправить и не отправляют мое послание. Но, пожалуйста, не беспокойтесь: берегу свое здоровье, остерегаюсь от всего как умею.
От Перевощиковых я отправился в университетскую библиотеку, где провел более двух часов, рассматривая новые книги, касаемые точных наук. Там познакомился со своим коллегой по выборной должности - деканом физико-математического отделения Московского университета Иваном Алексеевичем Двигубским. Уже не молодой, но, кажется, очень трудолюбивый и вечно деятельный человек. Я провел с ним целый день. Говорит умно и рассудительно. На память он подарил мне учебники свои по физике. В прошлом году начал издавать журнал "Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических", где помещал много собственных научных статей. У него надобно учиться быть деятельным и аккуратным. На обед повез он меня в английский клуб, который занимает огромный дом, великолепно убранный.
Оттуда снова поехал я к Перевощикову. Наконец застал его дома и провел с ним весь вечер. Он много рассказывал, многих раздраженно бранил, стараясь, однако, выведать прежде мое мнение, - и вообще показался мне вовсе не таким, каким я его надеялся встретить. Видно, Дмитрий Матвеевич, как и наш Алексей, крайне недоволен своим небыстрым продвижением по службе - он все еще адъюнкт.
Что ж еще сказать? Утром, проездом в университет, осмотрел я Успенский собор. Храм поразительный величиною, богатством, и при виде его мне снова пришла мысль о соединении гимназического (бывшего губернаторского)
и тенишевского домов в единое целое. Но как приступить к делу - ума не приложу. Пусть пока будем знать я да Вы, маменька!
Однако я опять от множества впечатлений пишу дурно-быстро и не связно. Что поделаешь? Вечно что-нибудь забуду. Впрочем, уже поздно. Завтра - в дальнюю дорогу.
Чемодан мой уложен, портфель тоже, хоть и многое бы надобно было еще сделать в Москве. Приходится сказать:
до свидания, милая маменька! Будьте здоровы и покойны.
Получаете ли письма от Алексея? Пишите мне теперь в Петербург.
Ваш любящий сын Николай.
6 авг. 1821 г.. Новгород.
Тра-ля-ля-ля! Тра-ля-ля! Хоть польку готов танцевать.
Не мудрено: нашел ведь, маменька, нашел! Придумал, как приступить к делу, о котором уже писал Вам. Это случилось только что, во время прогулки моей по здешней крепости. Не знаю только, как получится, и потому молчу.
Город сказочный и поучительный. О нем слышал я еще в детстве из легенд и былин о Садко, Волхове, Василии Буслаеве. Овеянным романтикой древних сказаний о мужественных людях, совершавших удивительные подвиги, запомнился мне Новгород.
В таких размышлениях подъезжал я к нему, любуясь на множество монастырей, расположенных вокруг. Сказывают, что все они, даже находящиеся теперь на пятнадцать верст от города, когда-то заключались в нем; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. По летописям известно, что Новгород Великий имел народное правление. Его князья пользовались весьма малой властью.
Истинными правителями новгородскими были посадники и тысяцкие. Народ в собрании своем на вече - вот кто был истинный государь. Обширная область новгородская простиралась тогда на север до Белого моря и на восток за Уральский хребет.
Вот уже целый день я тут (отстал от своих дорожных спутников). Сколько ни спешил, а насилу управился увидеть все, что предполагалось. Я был и в торговой части города (на восточном берегу реки Волхова), и в Софийской с "детинцем" - кремлем (у ворот его народ так всегда толпится, что надобно ждать). Кремль занимает весьма пространную площадь, окружен огромною каменною стеною с башнями и воротами. Великолепный Софийский, НиколоДворищенский и Георгиевский древнерусские храмы, Грановитая палата, звонница Софийского собора и церкви старославянской архитектуры. И мне опять взгрустнулось:
зачем я тут один, без Вас, маменька, без возможности разделить чувство удивления и восхищения.
Вам, конечно, доставили уже письмо мое, и в Петербурге надеюсь получить Ваш ответ. Но надобно описать Вам, как, выехав из Москвы, дотянулся я до Новгорода.
Прежде всего кончились досадные хлопоты с лошадьми, препирательства с упрямыми и жадными возницами. Ныне от Москвы до Петербурга путникам предоставлены дилижансы. Вы, маменька, немало удивились бы сему экипажу.
Карета чрезвычайно вместительная, на восемь и даже двенадцать персон, движется она с изрядной быстротой.
К десяти часам утра все пассажиры были уже готовы, места в дилижансе заняты, и восемь прекрасных лошадей понесли нас в путь. Первые минуты путешествия прошли в полном безмолвии. Вероятно, каждый из нас был занят собственными мыслями. В задумчивости мы пропускали даже без всякого внимания множество встречающихся карет, оставляли без замечания проплывавшие мимо огромные здания. Наконец ветер, свободно гуляющий в открытом поле, дал нам почувствовать, что последние дома Москвы остались далеко позади.
Бесконечной лентой тянется, уходит вдаль дорога. Вокруг необозримые поля, лишь изредка встретишь деревушку с покосившимися, жалкими избенками под лохматыми шапками соломенных крыш, да нет-нет мелькнет озерная синева. И вновь необозримые поля и пастбища. Слышится звук пастушьего рожка и далекий торжественный колокольный звон. А полосатые верстовые столбы неторопливо бегут и бегут мимо окошка. Как мило все и как уныло!
К обеду следующего дня приехали мы в Тверь. Незабываемым зрелищем был для меня Вышневолоцкий канал, наполненный барками, ожидающими своего шлюзования, чтобы плыть до Петербурга. Вот так бы соединить все реки России в единую связь, подчинить человеческому разуму всю природу!
На этом письмо свое прерываю - подошла почта.
Прощайте. Целую.
Ваш Николай.
Санкт-Петербург, 8 авг. 1821 е.
Любезный друг мой, маменька!
Вот уже больше полсуток, как я в столице - за тысячу с лишком верст от Макарьева, за 1592 версты от Казани.
Я выехал из Новгорода без промедления, очередным дилижансом. Мое место в карете оказалось угловое (это - лучшие места), спиной по направлению к движению экипажа. Когда утомление от качки на ухабах дало себя знать и пассажиров стало клонить ко сну, я тоже закрыл было глаза, но потом, по-видимому, привычка воздерживаться днем от сна взяла свое. Я достал "Невский зритель" за прошедший год (купил в Москве) и стал читать отрывок из поэмы "Руслан и Людмила". Знали бы Вы, маменька, сколь высоко и натурально искусство Пушкина. В стихах его, словно из самого сердца изливающихся, живость и легкость изумительные. Уж не сама ли муза поэзии водит рукою истинного поэта?! До самого Петербурга не сомкнул я глаз, толчки и ухабы оказались незаметными, а Морфей - бессильным перед восторгами Парнаса.
Чем ближе становилась столица, тем сильнее чувствовал я нетерпение увидеть ее. Колеса нашего дилижанса стучали по бревнам, коими вымощена дорога. По ней брели люди пешком, с котомками за спиной, быстро неслись экипажи. Наконец у чуть светлеющей линии горизонта появилась темная, неясная от большого отдаления, громада.
"Петербург", - сказал один из моих спутников, а другой добавил: "Однако не менее как верст двадцать до въезда осталось".
Я смотрел неотрывно, и неясная вначале громада выравнивалась, росла на глазах. Вскоре на розовеющем утреннем небе вырисовывались причудливые контуры зданий то с куполообразными, то с островерхими крышами. Они все поднимались выше и выше.
"Так вот она какая, столица!" - мысленно воскликнул я и тут же запахнулся плотнее. Еще с вечера, маменька, я пересел на переднее место, уступив свое даме, которую беспокоил холодный ветер. Ветер беспокоил теперь и меня, но зато, приближаясь к Петербургу, имел я возможность рассмотреть его во всех подробностях.
Вскоре мы миновали окраину, чугунолитейный и другие заводы, оставили за собой унылые казармы рабочих и кладбище. Затем широкая прямая Литовская улица, с прекрасными домами и чугунными решетками оград, привела нас в самый город, несмотря на раннее утро, уже полный кипучей жизнью. Сильное и приятное чувство охватило меня, будто и я тоже участник сей кипучей деятельности. Верст пять еще ехали мы до центра. Наконец увидели празднично нарядный Невский проспект, напоминающий по своей многолюдности нашу Проломную, причудливые мосты, Фонтанку, одетую в гранит, громадный Гостиный двор (говорят, он заключает в себе до 200 лавок).
Истинное восхищение вызвали у меня архитектурные творения Воронихина Казанский собор с его дугообразной величественной колоннадой (представьте, каким жалким покажется мне теперь Казанский университет). Подле Почтамта дилижанс остановился. Я нанял карету, велел сложить в нее свой багаж и, с надеждой встретить земляков, отправился в Татарскую гостиницу, что на Невском проспекте, перед Адмиралтейством. Тут отвели мне во втором этаже комнату по 5 рублей в день, и я зажил. - Предполагаю пробыть в Петербурге по крайней мере месяц, ибо считаю необходимым посещать лекции академиков, иметь с ними беседы.
Чтобы рассказать Вам, дорогая маменька, что я видел и слышал в столице в продолжение двенадцати часов, принимаюсь за другой листок. Надобно признаться, я сделал очень мало - почти ничего, но, право, очень трудно быть успешнодеятельным в городе, подобном Москве и Петербургу, когда еще он совершенно нов и когда надобно беречь деньги, следовательно, не тратить их на извозчиков, а ходить пешком.
После того как привел себя в надлежащее состояние и позавтракал в Старотатарском ресторане - а он находится прямо в здании гостиницы, направился я к Департаменту народного просвещения. Был там на крыльце, был в вестибюле, был в приемной попечителя, но увы... далее не был: секретарь доложил ему о моем приходе и, возвратясь в скором времени, сообщил, что Его высокопревосходительство очень занят и принять меня никак не может. Мне оставалось лишь обратиться вспять, еще раз взглянув на великолепие вестибюля.
Выйдя из Департамента, направился я навестить Михаила Александровича Салтыкова и Григория Ивановича Корташевского, но не застал их.
Все остальное время, до позднего вечера, бродил я по городу. Невский проспект теперь был уже полон, более полон, чем наша Рыбная площадь во время воскресного базара, только не возами, а экипажами и гуляющими. Тут я встретил не одну петербургскую красавицу, и, признаюсь Вам, маменька, нигде не случалось мне видеть такого собрания хорошеньких женщин. А движение по Невскому...
В одном месте я стоял несколько минут, выжидая возможности перейти на другую сторону; столь велик поток экипажей. Подхваченный толпой гуляющих, я незаметно для себя опять очутился в самом начале Невского и остановился очарованный архитектурной сказкой Андрея Дмитриевича Захарова, иначе и не назовешь взметнувшийся в небо на тридцать три сажени золоченый шпиль со знаком корабля, плывущего в бесконечность.
Налюбовавшись, обошел я Адмиралтейство, повернул на Дворцовую площадь и - опять задержка: можно ли не восхититься хоть издали Зимним дворцом, его колоннадой и грандиозной Триумфальной аркой Главного штаба. Отсюда путь мой лежал к набережной.
Был тихий и солнечный вечер. В широкой спокойной глади Невы отражались контуры Петропавловской крепости, ростральных колонн-маяков на Стрелке Васильевского острова, Биржи, корпусов Двенадцати коллегий, в которых два года назад разместился здешний университет.
Прогуливаясь по Дворцовой набережной, я не раз останавливался в раздумье. Какая-то далекая, тихая грусть щемила сердце. Лишь теперь понял я, как дороги мне и Казань, и университет. С ними связаны мои первые мечты, первые научные достижения, первое смутное, но чистое и нежное чувство к Анне.
Простите, маменька, за те недобрые слова, которые по своей горячности я высказал в отношении Казани и нашего университета в первом письме к Вам. Как я одинок, совершенно одинок был на прекрасных набережных и улицах этого гранитного города-великана, среди незнакомых.
Тут я особенно осознал, что каждый, где бы он ни жил и работал, обязан трудиться и бороться там же, ради того, чтобы жизнь стала лучше, легче, если не для него, то для будущих поколений, за судьбу которых мы в ответе. А я убежал, уехал, не выдержав временных невзгод. Простите!
Вот с какими мыслями, усталый и грустный, я вернулся в гостиницу.
- Вас, господин профессор, в ресторане дожидаются ваши земляки-татары, - сказал мне стоявший у входа швейцар, весь в галунах и с булавой. - Они пришли еще днем. Спрашивают: не проживает ли тут кто-нибудь из Казани?..
"Кто бы это мог быть?" - удивился я. Но в ту же секунду знакомый голос воскликнул радостно: "Николай Иванович!" - и кто-то, обняв меня, прижал к груди.
- Николай Алексеевич?!
Ну, конечно, это был Галкин, наш гимназический лекарь, врач кругосветной экспедиции на шлюпках "Мирный" и "Восток". Свершилось!
- А где Ваня... Иван Михайлович? - вырвалось у меня.
- Симонов вместе с Фаддеем Фаддеевичем и Михаилом Петровичем в Царском Селе у государя императора на приеме... Но что же мы стоим?! - воскликнул Николай Алексеевич. - Сюда, в ресторан. Вас ждут не дождутся наши матросы...
- Матросы?!
- Да! В экспедиции было человек десять татар. Многие из Казанской губернии. Они истосковались по родной земле, по Казани за 751 день плавания по штормовым морям и океанам. Узнали, что вы тут остановились, и меня просили прийти... Пойдемте же!
Когда вошли в ресторан, я лишь успел сказать: "Эсселаме галейкем! [Да будет мир над вами! (форма приветствия) Здравствуйте (араб.)] - как десяток дюжих молодцов, бронзовых от южного загара, все, как один, вскочили из-за стола и вытянулись во фрунт.
- Что же вы? Садитесь, садитесь! - проговорил Галкин и, обернувшись, пояснил мне: - Царским повелением за беспримерный наш поход разрешен вход в ресторан, наряду с прочими награждениями.
Мы сели, и, немного осмотревшись, Галкин представил мне каждого из них. Я с восхищением глядел на отважных мореплавателей - скромных рядовых матросов, вынесших на своих плечах всю тяжесть плавания. Некоторые имена их я запомнил. Это матросы первой статьи Губей Абдулов, Абсалимов, Габидулла Мамлинов, канонир первой статьи Якуб Беляев, квартирмейстеры [Мичманы] Назар Рахматуллов и Сандаш Анеев.
За столом новые мои приятели уже наперебой рассказывали мне о празднике Нептуна на шлюпках по случаю перехода через экватор, об огромных плавучих ледяных горах - айсбергах, столкновение с которыми для корабля означает часто верную гибель; о страшных штормах в Индийском океане. Вспоминали, как 16 января 1820 года был открыт новый Южный материк - страна, покрытая высокими горами и льдами; об удивительных летучих рыбах и дельфинах (один дельфин так сильно подпрыгнул, что полетел в люк и угодил в каюту капитана прямо на стол, где были разложены карты); с жалостью и негодованием вспоминали, как в Рио-де-Жанейро на рынке португальцы продавали несчастных негров из Африки, содержащихся в клетках. Пришлось им побывать в гостях и у короля полинезийского острова Отаити (в центральной части Тихого океана). А вечером, после вахты, пели они русские и татарские песни вдали от берегов родной земли.
Принесли шампанское. От имени всех казанцев я провозгласил тост в честь отважных мореплавателей, за их здоровье и успех. Потом мы все долго гуляли по набережным. Воротился я лишь в 12-м часу ночи и взялся за письмо к Вам.
Сейчас уже скоро час. Покойной ночи!
Посылаю Вам, маменька, виды С.-Петербурга. Завтра напишу листок и брату.
Крепко любящий Ваш сын.
С.-Петербург, 1821, август 16. Вторник,
Минула неделя, а я не писал к Вам, милая маменька, ни строчки, и мне становится совестно, даже грустно.
Знаю, как Вы беспокоились обо мне, когда не было писем, - знаю по себе. Но молчал не из-за недосуга.
Я намеревался послать Вам это письмо не почтой (для этого есть важные причины), а через Николая Алексеевича Галкипа или Назара Рахматулловича Рахматуллова, которые отправляются обратно в Казань, но отъезд их задержался. Между тем стечение обстоятельств показало, что я, по-видимому, останусь в столице до первого зимнего пути.
Поэтому я попросил Назара Рахматулловича заехать в Макарьев и увезти Вас в Казань. Он же вручит Вам это письмо. Прочтите и сожгите. О том, что пишу здесь, не должен знать ни один человек, кроме Вас и Алексея. Кстати, от брата давно писем не получал, и что с ним, не знаю.
Мои личные новости, которые для Вас, маменька, лучше всех новостей, вот какие: был два раза у Михаила Александровича Салтыкова. Он уже сенатор. Принял и обласкал, словно сына. Расспрашивал меня, что успел сделать, чем занят, вникал во все подробности и обещал содействовать успеху. Дал несколько дельных советов.
У Салтыковых я виделся с милым существом, Вы не угадаете, каким. Мне самому-то до сих пор не верится: это.
была Анна Ильинична Яковкина. Она теперь обитает в селе Медведево Ржевского уезда Московской губернии, в имении мужа - князя Максутова. Приехала повидать отца, который, оказывается, живет в Царском Селе у своего зятя барона Врангеля. Он сейчас в отставке.
В мой первый приход к Салтыковым я мельком встретился с Анною на пороге, но тут же мы разминулись, так что и поздороваться не успели. Бывши вчера, я слышал от Софии Михайловны (кстати, она выходит замуж за поэта Дельвига, друга Пушкина), что Анна Ильинична узнала меня, каждый день спрашивала, был ли я, буду ли еще, просила послать за нею, лишь только я приду. И случаю угодно было, чтобы мы встретились снова. Несмотря на присутствие посторонних, встреча получилась весьма сердечная. И простились мы, как следует прощаться людям, умеющим уважать друг друга. Она была прекрасная девица, а теперь прекрасная женщина - жена и мать, предпочитающая домашний уют всему блеску света. Да, она и должна была быть такою, и мне думать так, несмотря на некоторую боль сердца, утешительно.
Теперь о самом главном - о встречах с попечителем.
В первый раз я был у него в прошлую среду. И был принят неожиданно милостиво. Удивительно для меня и начало нашего свидания. Войдя в огромный кабинет, я поклонился. Он медленно подошел ко мне, внимательно оглядел и, после некоторого молчания, сказал неспешно:
- Так это вы - господин Лобачевский! Очень рад, что вижу вас наконец.
Пока не дошло до "очень рад", я чувствовал себя весьма неуверенно: пронзительным взглядом он будто хотел заглянуть мне в самую душу. Но смысл взгляда был непонятен.
- Не удивляйтесь, Николай Иванович, - продолжал он чуть ли не заискивающе. - Я чувствую к большим математикам особую симпатию. Когда-то в ранней молодости и сам мечтал идти по стопам прадедушки Леонтия Филипповича Магницкого, который в царствование Петра Великого издал на русском языке энциклопедический курс арифметики. Потом, как всякий природный математик, увлекся поэзией и даже пробовал писать...
- Весьма известно ваше прекрасное стихотворение "Соловей", - вставил я.
Магницкий пытливо посмотрел на меня, ответил:
- Благодарю. Но государю императору угодно было, чтобы я потрудился на дипломатическом поприще - сначала при посольстве нашем в Вене, а потом в Париже. - И вдруг такая перемена темы: - Вы слышали, господин профессор, Наполеон скончался нынешним летом?.. Да!
Кто-кто, а он уж истинный француз. Ведь я знал покойного и знал немало из того, что еще не скоро сделается достоянием истории. Его роман с божественной Жозефиной, супругой первого русского консула, бесподобен... Тут Магницкий, не договорив, внезапно засмеялся слабым, пискливым смехом, не вязавшимся с его высокой нескладной фигурой. (Вообще меня поразило бледное, желчно-холерическое лицо этого могущественного человека, не то изнуренное болезнью, не то утомленное жизнью, с презрительно опущенными углами губ. Чтобы дорисовать его портрет, добавлю: у него несоответствующая росту маленькая голова с мягкими волосами, высокий лоб, мясистые уши и пронизывающие серые глаза.)
Так и не докончив начатой фразы, попечитель внезапно вновь переменил тему:
- Да, что же мы с вами стоим?! Пожалуйста, сюда, - и пригласил меня к письменному столу, который по своей массивности напоминал бильярдный. Что нового в университете? Вам вручили мое письмо?
- Да, ваше превосходительство. Весьма благодарен вам за приглашение посетить столицу. Перед моим отъездом совет рассмотрел ваше предписание изготовить чертежи и наметить место для сооружения университетской церкви. Но конкретного решения не было вынесено ввиду недостатка времени. По пути сюда я мысленно не раз возвращался к будущему архитектурному образу университета. Мне кажется, можно было бы вставить церковь между существующими учебными корпусами - бывшими губернаторским и тенишевским, соединив их в единое целое с такой же величественной колоннадой, какой украшен здешний Казанский собор. А встройку лучше сделать в два этажа: в нижнем расположить вестибюль, а в верхнем, высоком, - церковь.
Разговор об университете, столь близком моему сердцу, сразу вернул мне утраченное было хорошее расположение духа. Не знаю, уловил ли Магницкий мои истинные намерения или нет, но он внезапно прервал меня.
- Так, так... - воскликнул он оживленно, при этом как-то странно пошатнулся всем телом. - Я пригласил вас, Николай Иванович, желая лично удостовериться как в образе мыслей ваших, так и в ваших достоинствах. И я вижу, что не ошибся в своих предположениях. - Лицо его вновь болезненно передернулось, брови сильно поднялись вверх, он широко, по-театральному, взмахнул рукой. - Вы подали блестящую мысль, прямо-таки гениальную мысль!
Теперь вижу, что университет наш пребывал в ничтожестве. Мы выстроим церковь, самую красивую в Казани.
Средств не пожалеем. Сегодня же положу к стопам государя нижайшую просьбу о переустройстве.
Он опять взмахнул рукой и устремил взгляд вверх, словно уже видел перед собой будущее сооружение.
- Идею вашу полностью одобряю, - продолжал он взволнованно. - Над главным подъездом, над многоколонным портиком, будет водружен крест с эмблемами наук у подножия. И слова: "Во свете твоем узрим правду".
Заметив, что я что-то хочу сказать, он перебил меня:
- Все, все! Это должно стать эмблемой университета.
Вы надоумили меня, Николай Иванович. Великое вам спасибо. Добрые дела не остаются без награды всемогущего. - Говоря это, он выпрямился торжественно, словно вещая с кафедры перед большой аудиторией. - Вы, Николай Иванович, будете членом строительного комитета, который создан будет незамедлительно. В моем покровительстве не сомневайтесь.
Я вышел из Департамента вне себя от радости. "Скоро обновится наш университет!" - думал я.
Однако последующие встречи с Магницким омрачили мое настроение. В пятницу он принял меня также весьма вежливо, но в голосе, в скользящем взгляде почувствовалось нечто сразу меня насторожившее.
Магницкий сидел за письменным столом, заваленным книгами и рукописями, перед ним - свинцовый карандаш, пучок аккуратно очинённых перьев и стопка великолепной бумаги с золотым обрезом.
Внимательно выбирая из пучка перо, он сказал:
- Присядьте, уважаемый друг Николай Иванович! Пока я буду подписывать бумагу, прошу вас как представителя особого комитета по приведению в порядок университетской библиотеки рассказать о проделанной вами работе. Надеюсь, вы привезли мне список назначенных к истреблению вредных безбожных книг? Я также просил составить два экземпляра каталога: один для самой библиотеки, второй - для меня... Я вас слушаю.
Заговорил я не сразу. Вы меня понимаете, маменька?
- Ваше превосходительство, - начал я, - проверка наличности книг по документам оказалась задачей невыполнимой, ввиду чрезмерной запущенности библиотечного дела: сдачи и приема библиотеки в надлежащем виде никогда не проводилось, описи никем не подписаны, и, чтобы доказать их справедливость, потребуется поднять архив, скопленный в течение двадцати лет.
Мы помолчали.
- Вот как, - проговорил наконец Магницкий. Не глядя на меня, обмакнул перо в чернильницу, старательно попробовал его на бумаге. - Продолжайте!
- Свои занятия по библиотеке я начал было с ее приема, - объяснял я, однако работа сильно задерживалась сперва болезнью исполняющего должность библиотекаря профессора Кондырева, затем - моим отвлечением другими делами по университету. А после отъезда профессора Бартельса, когда вместо него я был избран деканом физико-математического отделения, эта работа совершенно остановилась. За неимением писцов неоконченною осталась и начатая уже переписка каталогов книг. Обманутый надеждой привести библиотеку в совершенный порядок, я не могу более противиться любви к тем занятиям, к которым меня пристрастила особенная наклонность, и поэтому прошу вас снять с меня возложенное поручение...
Я не успел закончить, как Магницкий, бросив перо, резко перебил меня:
- Следующий раз, господин Лобачевский, прежде чем являться с такого рода просьбами к попечителю извольте разрешать вопрос на месте, в Казани.
Я хотел встать, но сдержался.
- Ваше превосходительство, я привез об этом постановление совета университета. Разрешите передать.
Магницкий внимательно прочитал донесение, потянулся к серебряному колокольчику на столе. Секретарь его на диво вымуштрован: колокольчик едва успел звякнуть, как он уже появился перед столом.
- Готовьте предписание совету Казанского университета о моем согласии на увольнение профессора Лобачевского от возложенных на него занятий по библиотеке а также на продление срока его пребывания в отпуску в Петербурге... Донесения совета Казанского университета, присланные через господина Лобачевского, приобщите к делу - Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!
После ухода секретаря Магницкий внезапно поднялся с обитого кожею кресла; подойдя к этажерке, взял красный сафьяновый портфель и, порывшись в нем, достал какуюто бумагу.
- И в дальнейшем, Николай Иванович, можете рассчитывать на мою поддержку... Считая вас человеком высшего типа, хочу услышать ваше мнение о моем проекте который намерен послать в центральный комитет библейского общества. Я никому об этом еще не говорил, - с такими словами попечитель вручил мне письмо.
"Доколе благочестивое правительство наше не примет общих мер к истреблению всех безбожных книг, которыми наводнены лавки наших книгопродавцев, большая часть библиотек - публичных и частных, - так писал Магницкий, - дотоле обязанность каждого истинного члена библейского общества есть, исторгая всеми способами из обращения сии ядовитые стрелы диавола, истреблять их".
На этом я остановился: не хватило дыхания. Однако же, приметив, что Магницкий прилежно за мною наблюдает, опять опустил глаза на письмо.
"Идя от сего понятия, - писал дальше Магницкий, - купил я несколько подобных книг и рукописей и, препровождая их при списке, прошу истребить. Из газет я увижу, будет ли мысль моя одобрена библейским обществом; а между тем стану продолжать покупать все подобные произведения и от всей души желаю, чтобы каждый член библейского общества хотя одну подобную книгу представил для истребления..."
Читая это письмо, я чувствовал, как мои кулаки сжимаются сами собой. И этот человек предлагает мне свое покровительство, без сомнения ожидая уплаты за оное честью моей! Однако от него во многом зависела судьба университета. Необдуманностью я мог бы поставить ее под угрозу. И я молчал, стараясь утишить негодование, кипевшее в душе. Мое молчание Магницкий принял, по-видимому, за знак согласия.
- А теперь жду вашего слова: сколько безбожных книг из университетской библиотеки и вашей личной истребили вы сами? - спросил он торжественным тоном.
Я решился.
- Ваше превосходительство, - отвечал я с твердостью, - я бы никогда не решился сделать костер из имущества казенного, поступить против совести и устава, подписанного государем императором.
- Я вас не понял, господин Лобачевский...
- Как вам известно, ваше превосходительство, параграфы 74 и 184 университетского устава дозволяют иметь в библиотеке все книги, какого бы содержания они ни были. Только вредные и соблазнительные велено отмечать в каталогах, на заглавных листах книг, и никому, кроме профессоров и адъюнктов, не давать, то есть хранить особо.
Лицо Магницкого вдруг сделалось сухим и холодным. - - Другого ответа я и не ожидал от вас. Кажется, все проясняется.
Он уставился на меня, но я выдержал его взгляд.
- Я пригласил вас сегодня, господин Лобачевский, - продолжал он уже значительно тише, словно его что-то душило, - собственно, для того, чтобы оказать вам услугу.
- Весьма тронут таким вниманием, - ответил я.
- До меня дошли слухи, что на вас готовится донос его сиятельству господину министру духовных дел и народного просвещения, члену государственного совета Александру Николаевичу Голицыну. Донос сей, конечно, повлечет за собой для вас, по крайней мере, большие неприятности.
- Я ни в чем не чувствую себя виновным.
- Однако то, в чем вас обвиняют, - повысив голос, продолжал Магницкий, - имеет под собой почву. В молодости вы находились в тесной дружбе с еретиком Броинером-Аристотелем, одним из основателей ордена иллюминатов. А дух нынешней безбожной философии опасен именно потому, что он есть не что иное, как настоящий иллюминатизм. Это тот самый дух, который Иосиф II скрывал под личиною филантропии; у Вольтера, Руссо и энциклопидистов таился под скромным плащом философизма; в царствование Робеспьера - под красною шапкою свободы... Сие страшное чудовище подрывает у нас алтари и трон...
- Ваше превосходительство, причем же тут я?! - прервал я его.
Магницкий усмехнулся. И тут эта усмешка лучше чем слова обнажила настоящее качество его души.
- Говорят, что вы, еще будучи студентом, в значительной степени явили признаки безбожия, - продолжал он. - Правда, я еще не проверял по кондуиту. Может, это просто зловредные измышления завистников. Потом... Магницкий помолчал, как бы собираясь с мыслями, - потом говорят, что вы, преподавая физику и астрономию, ни разу не указывали на премудрость божию, в сих науках явленную.
Ваше философское мировоззрение будто бы ставит под сомнение подлинность изложенного в библии о сотворении мира, вносит смуту в юные, неокрепшие умы...
Не в силах более скрывать овладевшее мною возмущение, я встал:
- Ваше превосходительство, зачем же гадать?! Убеждения мои покоятся на трех основаниях - любви, вере и надежде: любви к науке, вере в торжество прогресса, надежде - видеть зарю, предвестницу счастливейших дней России... Не буду больше отнимать у вас дорогое время...
- Ну, зачем же так волноваться! - Магницкий тоже встал, маска дружелюбия вновь легла на его черты. - Успокойтесь. Святая церковь не запрещает науки. Культурная часть общества может руководствоваться разумом. Однако простому народу необходима религия. Сен-Симон прав:
между людьми существуют градации. Высший тип - это люди с тонко работающим мозгом. А там, внизу, масса - глина человеческого общества, из которой все можно лепить... Так ведь?!
Я ничего не отвечал. Магницкий говорил медленно, но твердо, тоном, не допускающим возражений.
- Мы делаем историю, - начал опять он, видя, что я стал спокойнее, - мы стоим на страже государственных интересов, и горе тому государству, в котором стремления грубых масс выдвинулись вперед и овладели всем... Посему власть царская должна быть от бога. Следовательно, и просвещение должно быть соображено с этим... Да, нам теперь время стать в ряду с просвещеннейшими народами, кои не стыдятся уже света откровения. В Париже издается новый перевод пророчеств Исайи; вся Англия учится оригинальному языку библии; Германия, благодаря Канту, пришедшему через лабиринт философии к преддверию храма веры, ищет мудрости в одной библии. И мы ли одни останемся полвеком позади?!.
Я молчал.
- Николай Иванович, по-видимому, вам сегодня нездоровится. Лучше об этом договоримся в понедельник. Но учтите, нам предопределено работать вместе, так хочет судьба. Обращение с вами будет размерено по вашему поведению. Я сдержу слово. Вы свободны!
Этими словами Магницкий дал понять, что прием закончен.
Я молча поклонился и направился к двери. Судите сами, маменька, о моем состоянии.
В понедельник Магницкий встретил меня отменно сухо и неприязненно.
- Что ж это вы, господин декан, не можете призвать к порядку родного брата, адъюнкта технологии Алексея Лобачевского? До сих пор он не выполнил обещанного описания своего путешествия по Сибири и всех минералов, присланных им в университет из Пермской губернии. Мы вынуждены будем признать его путешествие лишь потерею времени и денег... Конечно, он человек ученый и весьма образованный в технологических, химических, физических и частию в математических и словесных науках, не притворщик и не лицемер, но так вести себя... Он столь многим обязан университету. Вы, как старший и как прямой начальник, должны привести его в чувство.
- Ваше превосходительство, брат мой в зрелых летах и имеет свой разум. Что же до его обязательств по отношению к университету, то он там много потерял, ибо товарищи его уже давно стали профессорами.
- Как же прикажете произвести его в профессоры?!
Вы думаете, он мне не известен? Круто запивает, якшается с купчишками и заводчиками, рвения по службе не проявляет. Буйством своим и худым поведением порочит честь принадлежности к ученому званию. В письме ректору я указал наложить на него взыскание...
"Новый донос? Кого? Никольского или Владимирского?.. - мелькнула у меня догадка. - Но вы еще плохо знаете характер брата. Он оставит университет, если не будет избран профессором..." Пока Магницкий твердил о "неуместной гордыни" Алексея, я с ужасом представлял себе, ; что Алексей может наделать без нас, особенно без Вас, маменька. Вот почему Вам нужно немедленно отправиться обратно в Казань вместе с Назаром Рахматулловичем.
Бывает состояние, когда человек совершенно лишается возможности управлять своей судьбой, блуждает во мраке, не зная, куда направить шаги свои. Тут ничего более не остается, как отдать всего себя текущему мгновению, не удручаясь даже мыслью о будущем.
В таком положении находится теперь наш Алексей.
Хаос, что он встретил в Казани, вернувшись с Урала, так сильно на него подействовал, что он совсем растерялся.
У него не хватает сил противостоять нынешним тяжелым условиям и сохранять веру в будущее.
Дорогая маменька, я инстинктивно предчувствую, что мир накануне великого научного открытия, которое поведет его вперед. И открытие совершится не по прихоти случая, к нему приведет глубокий, совершенно новый пересмотр старых знаний. Да! Я в этом глубоко убежден, я это знаю. Наконец, маменька, скажу несколько слов о петербургских новостях и о себе.
Вина не пью, не наряжаюсь, в карты не играю. Что до концертов и сцены, то это другое дело. Чуть только прочту объявление о чем-нибудь хорошем, тотчас справлюсь с карманом и марш. Уже два раза был в театре, давали "Сороку-воровку", новую оперу, написанную Россини и имеющую необыкновенный успех: оба раза театр был битком набит. Анету играла Семенова-младшая, актриса прекрасной внешности и высокого дарования. Тонкость, с которой она передает глубокие движения души, поистине изумительна. Не подумайте, маменька, что я в нее влюбился, но, право, она так мила, что все бы на нее смотрел. Такая игра - источник высокого наслаждения для зрителя.
На прошлой неделе в театре встретил Сергея Тимофеевича Аксакова. Он еще растолстел, увлекся искусством и стал отъявленным театралом: пишет статьи о спектаклях.
Но собирается уехать в свое Аксаково, заняться хозяйством. От него узнал, что Григорий Иванович все еще на даче. Пушкина сейчас здесь тоже нет: его сослали за вольнолюбивые стихи на юг.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Как вам нравятся, милая маменька, эти стихи? Не правда ли, прекрасны? Это последняя новость в нашей литературе, и как же горько, что нигде эти стихи напечатаны быть не могут.
Два дня провел я с Иваном Михайловичем Симоновым.
Радость встречи для меня была огромной. Он всюду таскал меня за собой, и повсюду чествовали "Колумба Российского". Однако радость была не без горечи: годы плавания и особенно шумная встреча в столице, видимо, сильно его изменили. Герой всех петербургских салонов, он стал каким-то отчужденным, словно смотрит не то сквозь, не то поверх людей. Прежней близости не получилось.
Пока о том довольно. Многое я увидел здесь, но как много еще следует увидать. Так, маменька, побывал я и в галантерейных лавках. Хотя не много в том смыслю, но один новейший узор ткани так мне понравился, что я не смог удержаться, чтобы не купить; того менее могу вытерпеть, чтобы не послать его Вам, милая маменька. Мне хотелось, чтобы Вы его получили не позже дня Вашего ангела. Вовремя или не вовремя, но поздравляю Вас с ним и, целуя Вашу ручку, желаю здоровья и покоя. Еще желаю, чтобы скорее прошли дин моей разлуки с Вами.
Прощайте, маменька. По приезде в Казань поклонитесь Ибрагиму Исхаковпчу и его супруге (я с удовольствием вспоминаю вечера, проведенные в их гостеприимном долге)
и всем, кто меня не забыл.
Крепко любящий Вас сын Николай.
НОВЫЙ СВЕТ
Длительный и трудный путь поисков, который совершил Николай Лобачевский, приблизил его к берегам "Нового Света" [Так известный французский ученый Таннсря сравнил Н. И. Лобачевского с Колумбом, открывшим Новый Свет.] - неевклидовой геометрии. Но за туманной завесой пятого постулата выглядела она лишь миражем, пугающим "путешественников"-ученых своей неправдоподобностью.
Когда, несколько позже Лобачевского, "подплыл" к этому же неизведанному доселе "материку" гениальный венгерский геометр Янош Бойаи, отец его математик Фаркаш, всю жизнь занимавшийся поисками доказательства пятого постулата Евклида, писал своему сыну: "Молю тебя оставь навсегда в покое учение о параллельных линиях; ты должен страшиться его, как чувственных увлечении; оно лишит тебя здоровья, досуга, покоя, оно погубит счастье твоей жизни. Этот беспросветный мрак может поглотить тысячу таких гигантов, как Ньютон; никогда на земле не будет света, и никогда несчастный род человеческий не достигнет совершенной истины, не достигнет ее и в геометрии; это ужасная вечная рана в моей душе; да хранит тебя бог от этого увлечения, которое так сильно овладело тобой. Оно лишит тебя радости не только в геометрии, но и во всей земной жизни... Непостижимо, что в геометрии существует эта непобежденная темнота, этот вечный мрак... Ни шагу дальше, или ты погибнешь!"
Роковой пятый постулат не устрашил Николая Лобачевского, наоборот, сама трудность задачи привлекала его - чем дальше, тем сильнее.
Некоторые склонны думать, что часто великие открытия даются гениальным людям без труда, по чистой случайности. Ньютон будто бы увидел падающее с ветки яблоко и сразу открыл закон тяготения. Совсем не так. Внезапное "озарение" бывает не в начале, а в конце, как результат большой напряженной работы ученого. Сам Ньютон будто бы на вопрос, как дошел он до этой мысли, ответил:
"Я просто думал об этом всю жизнь".
Так было и с Лобачевским.
Нам остался неизвестным тот счастливый день, в который он, как обычно, умываясь утром, зачерпнул горсть воды, освежился, и вдруг, словно молния, сверкнула мысль - ответ на вопрос "почему", столько лет не дававший ему покоя. Да, пятый постулат недоказуем в пределах геометрии потому, что является он только гипотезой, одним из возможных допущений о свойствах окружающего нас трехмерного пространства. Истинность его может быть окончательно решена лишь опытным путем, обращением к самой природе. В этом и заключена "причина сей вечности". От остальных аксиом пятый постулат не зависит, и потому его невозможно из них вывести логически. В то же время, как писал Аристотель, "не будет начал, если треугольник не будет иметь два прямых угла". Но ведь "Начала" - это вся геометрия Евклида. Значит... Не закружится ли голова от подобного дерзновения?
И Лобачевский дерзнул. Если Евклидову аксиому параллельности, рассуждал он, принять за предположение, то, значит, можно заменить его противоположным утверждением, а именно: через точку, лежащую вне прямой, на плоскости можно провести бесчисленное множество прямых, которые с данной прямой нигде не пересекутся, то есть будут ей параллельны. Тогда, сохранив остальные аксиомы, на этой новой основе можно логически построить совершенно другую, неевклидову геометрию. Древние "Начала" не единственная математически мыслимая теория безграничного пространства.
Ньютоново яблоко? Случайность? Нет, логическое завершение многолетней работы, сознательно и бессознательно годами накоплявшейся в голове ученого. Мгновенный взрыв умственной энергии, который совершился под влиянием какого-то случайного толчка. Но какого? Возможно, даже неосознанного самим Лобачевским.
Теоремы, новые теоремы цепью ложатся на листы голубоватой бумаги. Николай Иванович не отрывается от письменного стола. В мелких строчках четкого почерка все отчетливее почти невероятная и вместе с тем логически безупречная геометрическая система. Стройностью, последовательностью выводов она уже не уступает "Началам"
великого грека. Но как разительно непохожи пространственные образы этого мира на привычную нашу геометрическую действительность. Не так ли в детстве, с широко раскрытыми глазами, с замирающим сердцем, он, мальчик, погружался в волшебный мир сказок дяди Сережи. Лобачевский откинулся на жесткую спинку плетеного кресла, онемевшие пальцы выпустили гусиное перо. Не хватало воздуха.
Свершилось! Две тысячи лет хранил свою загадку пятый постулат. И вот она разгадана: здесь, под его пером, возник дотоле никому не ведомый, не представляемый в науке мир.
Лобачевский собрал на столе разбросанные листы, резким движением отодвинул их в сторону. Только не торопиться. Истина превыше всего. Тысячелетиями люди познавали соотношения между отрезками прямых и углами. В "Началах" знания эти наконец были объединены в геометрическую систему, которая действительно соответствует миру, доступному нашему наблюдению.
- Доступному нашему наблюдению, - одними губами, беззвучно повторил Николай Иванович.
И, словно желая убедиться в этом, шагнул от стола к ближайшему окну, откинул занавеску. В небе ярко горели звезды.
- Вселенная, - задумчиво проговорил он и, склонив голову, коснулся лбом холодного стекла. - Космос... Недоступный пока нашему наблюдению. Чья же геометрия там царит? Евклидова или эта... новая. Ведь обе они логически не противоречивы. Где же искать и как найти критерии?
Лобачевский нетерпеливо смял перо и, взяв из приготовленной стопки другое, новое, обмакнул его в чернильницу. На последнем, не до конца заполненном листе записал: "Спрашивать природу! Она хранит все истины и на вопросы наши будет отвечать непременно". Подчеркнул эти слова. Затем отбросил перо. Упав на листы, оно забрызгало их двумя кляксами. Но Лобачевский не замечает их, он пристально смотрит на последнюю строчку внизу листа.
Проходит час. Комната наполняется, предутренним светом, а новых строк на последнем листе пока нет...
В следующие дни Лобачевского не покидало странное ощущение раздвоенности. Он выполнял все, что полагалось и требовалось, и в то же время не прекращал спора с самим собой. Записанные ночью слова не давали ему покоя.
"Спрашивать у природы"... Но прямая опытная проверка аксиомы параллельных невозможна. "Однако если верен пятый постулат, - рассуждал он, - то сумма трех углов всякого треугольника постоянна и равна двум прямым". Если же верна его новая, неевклидова геометрия, то сумма углов треугольника переменна. И ее отклонение от 180° тем больше, чем больше размеры треугольника...
Лобачевскому вспомнились веселые походы - практические занятия геодезией в поле. Сколько тогда было измерено треугольников, малых и больших. Он досадливо поморщился. Действительно, и в самых больших сумма угловнеизменно равнялась двум прямым. Но рождался вопрос:
так ли верны угломерные приборы, да и наши органы чувств... А потом... Чем больше размеры треугольника, тем больше...
Лобачевский опять и опять вспоминал яркие звезды ночного неба. Не там ли, в глубинах космоса, таится разгадка?.. Что, если кем-то измерен будет не земной, а космический треугольник?..
Вскоре неожиданно появилась новая надежда, укрепившая небывало дерзкую мечту Лобачевского. Стал он полным хозяином литтровской астрономической обсерватории.
Место ей сам профессор Литтров тогда выбрал на высоком пригорке в ботаническом саду. Окна большого квадратного зала выходили теперь на все четыре стороны света: выпуклую, как большой купол, крышу прорезывала щель в направлении меридиана. Тяжелые оптические приборы под крышей располагались на каменных столбах, основанием для которых служил фундамент. Поэтому никакие сотрясения пола приборам не передавались. Впереди, перед самой обсерваторией, на платформе стоял домик с вращающейся крышей. Домик служил ученым для наблюдений, проводимых с помощью параллактической машины.
Лобачевский работал в обсерватории не первый год.
Еще в 1815 году, едва прибыли в университет необходимые приборы, его пригласил сюда Иван Михайлович Симонов, наблюдавший тогда под руководством Литтрова за кометой, открытой Олберсом.
Теперь уже Литтрова не было в Казани. Его сменил Иван Михайлович, вернувшийся после двухлетнего кругосветного плавания. Но вскоре Симонов уехал за границу - приобрести астрономические и физические инструменты.
Правда, говорили, что уехал-то не за приборами, а "на гастроли", как прославленный "Колумб Российский", ибо его кругосветное путешествие произвело впечатление на весь мир. Лобачевский, хотя и преподавал астрономию и работал в обсерватории, но чувствовал себя лишь временно исполняющим обязанности. Теперь же, после отъезда Симонова, ему, профессору чистой математики, пришлось принять обсерваторию и стать ее полным хозяином.
Лобачевский понял: судьба дала возможность проверить его сокровеннейшие мечтания. На Земле для этого мало простора. Теперь наконец-то измерит он космический треугольник! Основанием его возьмет диаметр земной орбиты, а вершиной выберет яркую звезду - Сириус или Ригель. Будет ли сумма углов такого космического треугольника меньше двух прямых? И на сколько?
Дни были заняты повседневной работой, лекциями.
Остаются ночи. Но до сна ли ему? Астрономический треугольник не измеришь транспортиром. Все детали этого необычного опыта надо продумать ему до мельчайших подробностей. Нет здесь важного и не важного, все было связано, как звенья одной цепи. Не доверяя памяти, Лобачевский исписывает горы бумаг. Учтены аберрация света, собственное движение Земли, "неподвижной" звезды, а также и движение всей солнечной системы. Теперь можно приступать. Но тут вдруг выявилась опасность - несовершенство самих астрономических приборов. Много бессонных ночей потребовалось, чтобы, насколько это было возможно, убедиться в их точности.
Наконец, "засечка" - первое измерение с помощью звезды в небе, то есть ее параллакса, - уже сделана. Теперь остается ждать. Полгода. Пока Земля не окажется в противоположном пункте орбиты и на другом конце диаметра.
Тогда можно будет сделать новую засечку - на ту же звезду. Целых полгода! И не с кем разделить ему тяжесть ожидания.
Те, кто не знал о задуманном, ничего не замечали в поведении молодого профессора. Как всегда, был он сдержан и точен в повседневном выполнении своих служебных обязанностей.
Но вот обязанности его выполнены. Лобачевский, чтобы остаться наедине с мечтой, отправлялся на рыбалку. Рыба могла сколько угодно клевать и стаскивать червяка - Николай Иванович ее не замечал. И возвращался домой без улова.
Так продолжалось до тех пор, пока Земля не оказалась на другом конце диаметра своей орбиты, который представлял собою основание космического треугольника. Новая засечка на ту же звезду в небе должна дать ему ответ на заданный природе вопрос.
И вот опыт закончен. Лобачевский стоит у раскрытого настежь окна в зале обсерватории. Часы отсчитывают время. Чередой величаво плетут кружева по небу созвездия.
Среди них и та, единственная звезда, от которой он ждал ответа. Но, к сожалению, ответа не было. Сумма углов космического треугольника, измеренного им, оказалась не равной 180°, но... отклонение было в пределах возможной погрешности его измерений. Да, небо упорно продолжало хранить свою тайну. И снова невидимая стена преградила путь.
Лобачевский очнулся. "В пределах погрешности... в пределах погрешности..." - повторял он бессознательно.
Затем отошел от окна, прошелся по комнате и снова заглянул в окно. Вот он, тот самый Ригель, маленькая звездочка в далеком небе... Ну, а если это не предел погрешности?..
В эту ночь Прасковья Александровна терпеливо ждала сына. Свет в окнах обсерватории то погасал, то снова загорался. Порой издали можно было различить силуэт человека, беспокойно шагавшего вдоль окон. Прасковья Александровна чувствовала: не к добру это, не ладится что-то у Николаши. Вздыхала и снова шла на кухню, в который уже раз принималась подогревать остывший ужин.
Когда небо заметно посветлело, ее разбудил осторожный скрип двери. Она сконфуженно вскочила со стула.
- И надо же, Николаша, никак я вздремнула. Ужин остыл, я сейчас... - Но тут же, всмотревшись в его лицо, не выдержала: - Николаща! Замучился ты. Господи, на себя не похож.
Лобачевский ответил не сразу. Он стоял, опустив голову, с каким-то выражением безразличия на лице.
- Николаша, - повторила мать еще тревожнее и дотронулась до его руки. Ты что же так?
Бледное лицо его слегка порозовело, уставшие глаза прояснились.
- Маменька, не беспокойтесь... Это в пределах ошибки... Извините, я не то сказал... Ужин? Так что же, - улыбнулся он. - Ужином позавтракаю... Неужели вы ночь не спали?
Но мать не обманешь. Прасковья Александровна, сдерживая себя, спокойным голосом ответила:
- Что ты, Николаша. Спала преотлично... Сейчас подам завтрак...
Оправиться от нового удара, который нанес ему неудавшийся опыт, было не легко. Теперь Лобачевский все чаще и чаще проводил ночи в обсерватории. Гусиные перья, заготовленные днем, к утру оказывались нередко все до единого стертыми. Стопка исписанной бумаги заметно прибавлялась. Лобачевский писал:
"Итак, наш опыт оправдывает точность всех вычислений обыкновенной геометрии и дозволяет ее начала рассматривать как бы строго доказанными... Тем не менее новая геометрия может существовать в нашем воображении. Да, достаточно ли был велик взятый треугольник?..
Не говоря о том, что в воображении пространство может быть продолжаемо неограниченно, сама природа указывает нам на такие расстояния, в сравнении с которыми исчезают за малостью даже и расстояния от нашей Земли до неподвижных звезд... Может, воображаемая геометрия проявляется за пределами видимого нами мира. Но как доказать?..."
"Как доказать?" Эта мысль так овладела вниманием Лобачевского, что рассеянность его становилась уже заметна всем окружающим.
Не могло такое состояние остаться незамеченным и для университетского начальства: недоброжелательному глазу все непонятное становится подозрительным. Причин для этого и раньше находилось предостаточно: к посещению церкви не прилежен, должного уважения к своему начальству не чувствует, в толковании законов допускает свободомыслие. А теперь и вовсе намвтилось блуждание ума в направлении, непонятном и неблагомысленном, следовательно, и недопустимом...
Коллеги, на всякий случай, начинали сторониться Лобачевского, боясь навлечь подозрение. В чем - они сами не знали. Начальству, должно быть, виднее.
Лобачевский был одинок. Брови его всегда сурово сдвинуты, взгляд устремлен куда-то вдаль. Даже тем, кто пытался иногда заговорить с ним, он отвечал коротко, не поддерживая разговора. К чему, если нельзя было рассчитывать на сочувствие, на понимание того, что ему одному открылось. Что мог он услышать в ответ? "Зачем стремиться к звездам, когда можно неплохо устроиться и на Земле?
Не грешно ли раскрывать извечные тайны природы, которые бог счел нужным сокрыть от человека?"
Но, избегая общения с людьми, он все упорнее, все увлеченнее отдавался работе. Той, которой посвятил всю жизнь. И пока не спешил с обнародованием своей работы.
Слишком необычна была смелость и новизна его новой геометрии, чтобы не опасаться малейшей недоработки. Ученый мир должен увидеть ее лишь во всем сиянии великой истины, безошибочной и точной, и эту истину открыть миру суждено ему, Лобачевскому.
Однако безмерное напряжение подорвало его здоровье.
Он слег в постель,
* * *
И все же болезнь, какой бы ни была тяжелой и длительной, оказалась для него необходимой разрядкой. Выздоровление шло медленно, и, как это ни было странным, Прасковья Александровна почти радовалась его болезни.
Сын, ослабевший от приступов горячки, словно сделался ей ближе и роднее, вернулось ощущение давних лет, когда он, ребенок, делился мыслями, понятными только ей.
Почти совсем исчезла ее пугавшая складка между бровями, сын порой отвечал даже такой улыбкой, которую она видела давно, еще в Макарьеве.
Понятно, что Прасковья Александровна слегка вздрогнула и побледнела, когда врач наконец сказал ее сыну:
- Завтра, Николай Иванович, можете совершить свой первый выход в университет. Предупреждаю, однако, будьте осторожны, если не хотите вновь оказаться в руках эскулапа.
Лобачевский улыбнулся и посмотрел на мать.
- Не волнуйтесь, маменька, ваши заботы не пропали даром: своим уходом вы мне возвратили не только здоровье, но и благоразумие.
- Насчет благоразумия не знаю, Николаша, - вздохнула Прасковья Александровна. - Только боюсь вот, опять ночами начнешь пропадать в своей обсерватории.
- Не будет, - заверил врач, погрозив пальцем Лобачевскому. - Слышите, Николай Иванович?
- Слышу и повинуюсь.
- На улицу чтобы не выходил без шарфа, - торопливо проговорила Прасковья Александровна, желая заручиться поддержкой врача.
- Само собой, - улыбнулся тот. - Покойной вам ночи!..
А ночь прошла не спокойно. Лобачевский долго не мог уснуть, волновался: ведь завтра день возвращения к работе!
Утро удалось на славу: легкий морозец, чистый свежий воздух. Лобачевский вышел на крыльцо и задержался на верхней ступеньке. Белые снежинки опускались на подставленную ладонь и ложились одна возле другой, словно затем, чтобы можно было полюбоваться каждой.
"Изумительно! Все различны. Все разнообразны бесконечно. И в то же время - везде правильная шестиугольная форма. Ни одного исключения, удивлялся Лобачевский. - Почему? Каковы законы этой вязки атомов, с таким искусством осуществленной самой природой?"
Он сошел с крыльца и, размышляя всю дорогу над загадочной формой снежинок, не заметил, как вошел в университет. Очнулся, когда швейцар поздравил его с выздоровлением.
- Сколько до звонка?
- Сорок минут, господин профессор.
- Спасибо. Успею...
Лобачевский по дороге к своей аудитории заглянул в кабинет минералогии, названный теперь музеем, Начало музею, основанному здесь еще в 1817 году, положил профессор Броннер своей весьма ценной коллекцией.
Лобачевский остановился посреди комнаты. Четыре стены до самого потолка были заставлены стеллажаплачет. Говорит: успокоился немного, пока хворал. А чуть поднялся - побежал и как бы от рук не отбился. Даже теплый шарф забыл. Вот он! - Хальфин подмигнул, вытащив из кармана вязаный шарф. Надевайте и собирайтесь!
- Отбился?.. Помню, еще Яковкин предупреждал не раз: "Лобачевский, быть вам разбойником..." Не сидится мне дома, Ибрагим Исхакович.
- А здесь вы чем занимаетесь?
- Геометрией, - Лобачевский указал на разложенные минералы.
- Геометрией?.. Не шутите? - удивился Хальфин. - Но кристаллами занимается горное дело. И химия. При чем же тут математика?
- Вспомните, Ломоносов еще говорил: "Химия, чтобы стать настоящей наукой, должна выспрашивать у осторожной и догадливой геометрии". Догадливой! Как сказано точно! Удивляюсь, не она ли помогла мне сегодня уразуметь язык сих безжизненных мертвых тел? - Тонкие пальцы Лобачевского любовно тронули один из лежащих на столе камней. - Великие, пока еще не познанные законы природы скрыты в каждом из этих кристаллов. Изумруд и поваренная соль драгоценны в том одинаково. Ибо каждому кристаллу свойственны определенные геометрические характеристики. Совсем не случайно, а в силу своей физической природы. Эти физические и геометрические свойства тела составляют единое целое, в котором одно от другого оторвано быть не может. После сего можно ли говорить, что геометрические свойства тел не должны стать предметом изучения.
Хальфин слушал его увлеченно.
- Я, признаться, не думал об этом, - промолвил он робко. - А теперь... Благодарен вам, Николай Иванович.
Целый мир вы раскрыли. Я надеюсь, это не последний разговор наш о кристаллах. Но боже мой! Вон сколько времени у вас отнял... Спасибо.
- И вам я благодарен. Вечером буду непременно.
А сейчас, простите, читаю лекцию.
- Очень хорошо, - поднялся Хальфип. - Все наши так соскучились, ждут не дождутся. Барана закололи, ждет вас тутырма [Вареная домашняя колоаса] пальчики оближете. Осталось еще прпготовить пельмени... для жениха, - он усмехнулся. - Хабибджамал и эчпочмак [Треугольный пирог с мясом и картофелем. Эчпочмак - треугольник (тат.)] приготовит. Да еще не простой, не похожий на Евклидовый.
Он снова улыбнулся и, крепко тряхнув руку Лобачевского, поспешил было к двери, но вдруг остановился.
- Да, чуть не забыл! С ночевкой собирайтесь, Николай Иванович. Завтра на рыбалку отправимся. Хоть на воскресный день свою геометрию забудете. Ну, пока.
Хальфин торопливо скрылся. Лобачевский постоял минуту, прислушиваясь, не идет ли кто в коридоре, но там было тихо. Жалея, что приходится ему так рано расставаться, он разложил минералы по мягким гнездышкам, запер шкаф с книгами, накинул пальто и, заметив на спинке стула принесенный Хальфиным шарф, улыбнулся...
После трудового дня, вечером, несмотря на усталость, Лобачевский отправился к другу своему - Хальфину. Эти посещения были для него единственным отдыхом, который он позволял себе. Остальное время отдано работе. Наука и чтение лекций - лекции своего курса, лекции за других, отсутствующих профессоров. А дальше: он возглавляет физико-математический факультет, строительный и издательский комитеты, несет нелегкую должность непременного заседателя правления учебного округа - вместо заболевшего профессора Дунаева. Для работы над своим учебником "Алгебра" встает на заре и с увлечением трудится два-три часа. Кроме того - семейные обязанности... Жизнь в квартире, принадлежавшей университету, сильно досаждала мелочными стеснениями. Пришлось переехать на частную, где тотчас обнаружились новые хозяйственные заботы. Брат Алексей отошел от семьи, даже обедал в каком-то клубе.
Так что Лобачевский отдыхал только в доме Хальфина, потомственного татарского просветителя. Дед его, Сагит Хальфин, сначала переводчик петровской Адмиралтейской конторы, депутат Старой и Новой татарских слобод, затем шестнадцать лет был в Казанской гимназии преподавателем восточных языков [Был автором "Русско-татарского словаря", "Краткой грамматики", "Татарского словаря" и ряда других учебных пособий]. Его сыновья Исмагил и Исхак преподавали в той же гимназии в течение пятнадцати лет, с 1800 года учителем стал сын Исхака - Ибрагим [Автор книги "Жизнь Чингиз-хана и Аксак-Тимура", учебников, лексикона татарского языка и хрестоматии, за которую царь пожаловал ему бриллиантовый перстень].
Теперь Ибрагим Исхакович, цензор первой азиатской типографии, адъюнкт-профессор восточной словесности университета, продолжал преподавать и в гимназии, где уже учатся его младшие сыновья. Получили образование и старшие дети, и жена, что по тогдашнему времени считалось редкостью.
Обе семьи связывала тесная дружба еще с того времени, когда Лобачевский и Халъфин, спасая университетскую библиотеку, прятали в доме Хальфиных "зловредные" книги, подлежавшие уничтожению.
Лишь только Лобачевский дернул ручку звонка в парадном подъезде, как тяжелая дверь тотчас распахнулась.
Хальфин держал бронзовый подсвечник, другой рукой загораживал свечу от ветра.
Лобачевский не успел еще раздеться в просторной передней, как его тут же окружили все члены многочисленной семьи. Послышались радостные возгласы, приветствия.
Лобачевский, улыбаясь, приложил к сердцу руку и поклонился прежде хозяйке. Она стояла в дверях женской половины, слегка заслоняясь шелковой занавеской-чаршау, так что видны были только голова, повязанная белым Платком, и рука с золотым браслетом. Ее миловидное смуглое лицо сияло приветливой улыбкой. Хабибджамал плохо знала русский язык, но с Лобачевским заговорила по-русски:
- Здоров яхши?
- Яхши, яхши, - снова поклонился гость.
- Ай-яй, эфенди, - покачала головой хозяйка и прижала руками свои полные щеки, показывая, каким худым он выглядит. - Зачем не кушай?
Лобачевский, смеясь, тщетно подыскивал нужные татарские слова, вдруг из-за плеча матери выглянула Гайпук - семнадцатилетняя дочь. К ее изящному европейскому платью очень шел такой же изящный татарский головный убор калфак. Прикрепленная к нему прозрачная шаль прикрывала тугие косы.
- Charmante! [Восхитительно (франц.)] - залюбовался Лобачевский, отвесив ей восточный поклон.
Румянец на щеках Гайнук стал ярче, она застенчиво кивнула головой и спряталась тут же за гувернанткуфранцуженку, стоявшую рядом с матерью.
Он хотел что-то еще сказать ей, но в это время из другой комнаты выскочил маленький Арсланбек.
- Николай-абый! - закричал он и, подскочив, с размаху повис на шее наклонившегося к нему гостя. Черная, вышитая жемчугом тюбетейка слетела с его бритой головы.
- Здравствуй, здравствуй, малыш, - улыбнулся Лобачевский. Одной рукой он прижимал к себе мальчика, другой поднял с пола тюбетейку. - На, держи!
Тюбетейка до краев наполнилась конфетами. Сияющий мальчик, держа ее двумя руками, посторонился: к Лобачевскому, радостно и немного смущаясь, подошел Салих, высокий статный юноша в нарядном новом казакине и в черной бархатной тюбетейке. Он с нетерпением ожидал своей очереди обменяться несколькими словами с гостем.
За ним прятались и весело выглядывали младшие Шахингирей и Шахахмет гимназисты. Они явно гордились мундирчиками, то и дело оборачивались, поправляя шпаги, стараясь привлечь внимание Лобачевского.
- Ну, все. Церемония встречи закончена! - Хальфин подхватил гостя под руку, и направились они по деревянной лестнице на второй этаж, в кабинет хозяина. Поднимаясь по ступенькам, отец напомнил Шахингирею: - Зови товарищей ужинать [У Хальфиных во флигеле проживало семеро гимназистов-татар. В Казанской гимназии дети местных татар не имели права жить вместе с казеннокоштными гимназистами-христианами. Попечитель Магницкий зорко следил за выполнением этого распоряжения].
В кабинете Лобачевский, едва усевшись в кресле, поспешно вытащил из портфеля объемистую рукопись. - - Ибрагим Исхакович, - озабоченно заговорил он, - прошу вашей помощи: профессор Эрдман перевел на немецкий язык "Магазин тайн" ["Сокровищница тайн" - поэма гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (1141 - 1209 гг.)], известную вам поэму, и намерен ее использовать как учебное пособие для студентов. По указанию попечителя совет университета поручил мне и профессору Фуксу дать отзыв о качестве перевода.
Магницкий усмотрел, что будто поэт-магометанин в сей поэме упоминает имя Иисуса Христа без должного уважения. Однако мне по незнанию языка оригинала о качестве перевода судить невозможно. Вы же, Ибрагим Исхакович, с вашим отличным знанием арабского и персидского языков, не говоря о немецком...
- Ну, мои-то познания немецкого весьма посредственные, - отмахнулся Хальфин.
- Полно вам, Ибрагим Исхакович. Мне известно, что читатели венского журнала "Сокровищницы Востока" остались весьма довольны вашими комментариями к текстам древних ярлыков, - напомнил ему Лобачевский. Посему, надеюсь, окажете нам услугу. Надо сверить немецкий перевод с персидским подлинником. Прошу также, Ибрагим Исхакович, не откажите разъяснить и некоторые персидские слова, которые тут отмечены. Вот, например... - Лобачевский развернул рукопись, - имена: Муштари, Харут, Зухра...
- Ну, это не так трудно, - Хальфин взял рукопись. - Муштари - планета Юпитер. Но... в данном случае иносказание: "покровитель мудрости". Харут и Марут - имена двух ангелов. По мусульманскому преданию, они презирали человеческий род, погрязший в грехах. Аллах, для испытания твердости в добродетели, послал их на Землю в человеческом облике. Но ангелы испытания не выдержали. На Земле воспылали оба страстью к дивной красавице Зухре и совершили сами ряд преступлений. Разгневанный аллах ввергнул их в колодец, где и пребывают они до страшного суда. Зухра же, хотя и явилась причиной их падения, однако ни в чем не согрешила, за что вознесена была на небо и сияет в нем Венерой, покровительницей красоты.
- Значит, Венера подчас оказывалась дамой более строгих правил, чем в античных легендах, - улыбнулся Лобачевский. - А ведь правда, какого наслаждения поэзией и мудростью Востока лишает нас незнание восточных языков.
- Хорошо, что напомнили! - Хальфин сиял с этажеркп пухлый потрепанный томик в зеленом сафьяновом переплете. - Представьте, совершенно случайно попалась мно в книжной лавке. Любопытнейшая философская поэма "Мэспэви", автор - Джалоллптдпп Румп. Взгляните, кап переписана! Чудо! Недаром каллиграфия считалась в то время немалым искусством.
Лобачевский наклонился над развернутой книгой. Затейливая персидская вязь почти не поблекла от времени.
Хальфин потянул книгу назад.
- Подождите, я сейчас найду сам это место. Вот оно!
Послушайте:
Офтобе дар яке зарра нихон...
И вдруг очнулся:
- Да что ж я? Простите, ведь вы же не знаете персидского... Ну вот, переведу как сумею.
Заглядывая в открытую книгу, Хальфин медленно заговорил:
В каждом атоме скрыто солнце, Неожиданно атом этот может заговорить.
Земля превратится в мельчайшие пылинки, Если это спрятанное солнце вырвется из засады.
- В каждом атоме скрыто солнце! - словно в озарении повторил взволнованный Лобачевский. - Да! В каждом атоме... Сколько лет назад жил этот Руми?
- Пятьсот. Родился в Малой Азии, в Руме. Отсюда и его прозвище - Руми.
- Гениальное предвидение, - Лобачевский быстро взял карандаш из вазочки, чуть не опрокинув ее на столе. - Ибрагим Исхакович, повторите, пожалуйста, я запишу...
Хальфин следил за ним с живым участием.
- Жалею, что я не философ и не физик, - заговорил он, продиктовав четверостишие. - Однако всей душой почувствовал глубину поэтической и философской мысли, заложенной в этих строчках.
- Незабываемо! - произнес Лобачевский. - Какой порыв - постичь разумом сущность явлений, с которых наука до сих пор еще не смогла совлечь покрывала тайны... Бесстрашная мысль... - Он почти беззвучным шепотом повторил записанное, встал с кресла и, заложив руку за борт сюртука, начал измерять шагами узкий длинный кабинет.
- Николай Иванович, мы с вами еще вернемся к этому поэту-философу, и, может, не однажды. Но сейчас не месяц рамазан [Месяц поста у мусульман], в столовой, наверное, все уже в сборе...
В просторной столовой с высокими окнами, украшенными геранью и бальзаминами в горшках, вокруг стола выстроилось все мужское население дома: сыновья Хальфина и живущие у него ученики. Женщинам по шариату [Письменный свод мусульманских законов] показываться мужчинам не полагалось - гимназисты были уже достаточно взрослыми. На стене висело в дорогой раме искусно выписанное арабской вязью изречение корана. Сами стены были расписаны сверху донизу не менее искусно цветами, орнаментом с картинами жизни животных, что уже являлось отступлением от магометанского закона, который запрещал изображение живых существ.
Вдоль стен между мягкими диванами стояли шкафы с красиво расставленной за стеклянными дверками китайской фарфоровой посудой.
Лобачевскому, как самому дорогому гостю, на стул положили шелковую подушку. Хозяин сел на другом краю стола, ближе к двери. Старший сын, Салих, прислуживал.
Ужин, как всегда в этом доме, был обильный и разнообразный. Сначала традиционный чай с различными пирожками, творожниками, за ним более сытные блюда: пельмени, эчпочмак, губадия [Круглый пирог с многослойной начинкой из риса, мяса, изюма, яиц и курта].
Лобачевскому всегда было приятно и легко в доме Хальфина. По тому, как весело и непринужденно вели себя гимназисты, чувствовалось, что им тоже здесь уютно. Сын Хальфина гимназист Шахингирей, гордясь тем, что сидел рядом с Лобачевским, особенно старался угодить желанному гостю.
- Николай Иванович, - говорил он, - отведайте, пожалуйста, вот катык, вот каймак, а это малосольный арбуз... Нет, нет, вы этого еще не пробовали, это язык телячий. Знаете, у нас говорят: "Аш ашка, урыны башка".
Значит - каждому кушанью свое место.
Лобачевский улыбнулся, и мальчик в ответ засмеялся так весело, что встревоженный отец погрозил ему пальцем.
Лобачевский положил руку на плечо сконфуженного мальчика.
- Ибрагим Исхакович, Шахингирей не знает, что я - бывший казеннокоштный гимназист. Так что знаю цепу хорошим блюдам. А вашим - тем более, очень люблю татарскую кухню.
- Значит, и это вот попробуйте, - просиял мальчик пододвинув какую-то чашку, заманчиво покрытую фарфоровой крышкой.
- Нет, больше не могу, - отказался Лобачевский - Стакан катыка на закуску - и все. Можно теперь и побеседовать.
- О науке, - неожиданно воскликнул Шахингирей - Да, начнем с науки... Вчера я был в гимназии поинтересовался, как вы учитесь...
Он подробно рассказал им о своих впечатлениях и в конце посоветовал:
- Учитесь, как ваши отцы и прадеды. Они стремились к знанию, несмотря на чинимые им препятствия.
После разговора гимназисты покинули столовую а хозяева с Лобачевским направились в гостиную Она походила на небольшой музыкальный музей. Два высоких канделябра ярко освещали большой персидский ковер на полу и яркий узорчатый шелк на стенах. Драпировка из той же ткани отделяла заднюю женскую часть комнаты.
Лобачевский подошел к высоким шкафам из красного дерева, занимавшим одну из стен гостиной. В них хранилась гордость Хальфина, большая коллекция татарских народных музыкальных инструментов. Он собирал их много лет и не раз отправлялся в далекое путешествие, если узнавал, что где-то есть возможность приобрести какой-то редкостный экземпляр.
- Вы и теперь пополняете эту коллекцию? - спросил Лобачевский.
- А как же, - с увлечением отозвался Хальфип.- - Не только сам езжу, разыскиваю, многие привозят и сами...
не бесплатно, конечно. Дед мой тоже делал скрипки, и очень хорошие. Вот... - Хальфин открыл один из шкафов, вынул скрипку нежно-золотистого цвета. - Последняя работа деда, - проговорил он тихо. - Незадолго до смерти закончил.
Осторожно держа скрипку левой рукой, правой Хальфин взял с полки смычок. На тонком пальце блеснул бриллиантовый перстень - знаменитый подарок.
- Любил старинную песню, - проговорил он задумчиво. - Кто знает, сколько поколений она пережила.
Смычок легко дотронулся до струн, и скрипка запела.
Мелодия, грустная и полная странного очарования, не походила на знакомые Лобачевскому старинные напевы татарских народных песен. Хальфин играл увлеченно, пальцы легко и быстро двигались по грифу дедовской скрипки. Наконец смычок последний раз прильнул к струнам и медленно опустился вместе с рукой, держащей его.
- Рэхмэт! Зур рэхмэт [Большое спасибо (тат.)], - сказал Лобачевский взволнованно. - Даже меня, сухого математика, ваша музыка взволновала до глубины души. Еще, прошу вас, Ибрагим Исхакович.
Хальфин глубоко вздохнул, медленно поднял руку и вновь коснулся струн. Но теперь к звукам скрипки неожиданно присоединился нежный девичий голос. Лобачевский живо обернулся. Драпировка, отделявшая женскую часть комнаты, была наполовину отдернута, и за ней, словно на пороге распахнутой двери, стояли, обнявшись, Гайнук и ее мать.
Общее воодушевление захватило девушку, и она запела, сама того не замечая. Чистый голос ее чудесно вторил задушевному звуку скрипки...
За песней, шуткой, общими разговорами долгий зимний вечер пролетел незаметно. В столовой не раз появлялся кипящий самовар, а перед сном все вышли подышать свежим воздухом.
Давно уже Лобачевскому не спалось так спокойно, как этой ночью.
Было еще темно, когда Хальфин вошел в спальню с горевшей свечой в руке.
- Надо вставать, Николай Иванович, уже пятый час, настоящие рыбаки всю рыбу выловят.
Лобачевский быстро сел на кровати. За окном слышались голоса - там хлопотали, укладывая в сани снаряжение и припасы.
Хальфин принес медный таз и узкогорлый кумган с теплой водой, помог умыться гостю. В столовой уже весело шумел самовар, в печке трещали дрова, яркое пламя отражалось в заледенелых оконных стеклах. В комнатах было так тепло, что не верилось - есть ли мороз на дворе.
Лобачевский торопился покончить с легким завтраком и чаем. Казалось ему, что все тревоги, сомнения отошли куда-то, пропали, осталось только радостное ожидание удачной поездки.
Хальфин тоже спешил. Вскоре, облачившись в теплые овчинные тулупы, валенки, меховые ушанки, они вышли на крыльцо. Морозный воздух обжег своей свежестью, на минуту перехватив дыхание. Лобачевский осмотрелся. Куда исчез буран, поднявшийся ночью! О нем напоминали только сугробы, которые громоздились вдоль заборов, да свежерасчищенная дорожка от крыльца к воротам.
Пока собирались, небо совсем посветлело. Все во дворе было видно: конюшня, каменный амбар с железной дверью, бревенчатые сараи, колодец с покатой крышей над ним.
Но, пожалуй, больше всего внимание Лобачевского привлек необычный экипаж. Он с удивлением его разглядывал: в легкие длинные сани, стоявшие у открытых ворот, запряжены две пары сильных собак. Салих успокаивал самых нетерпеливых.
Хальфин обошел вокруг саней, по-хозяйски проверил, крепко ли увязаны вещи. Собаки ласкались к нему, нетерпеливо повизгивали. Передний белый пес, подскочив, положил лапы ему на грудь.
- Хэерле иртэ, Акбай! - Хальфин ласково потрепал его мохнатые уши. Хэзер кугалабыз, дустым!..[Доброе утро, Акбай! Сейчас тронемся, дружок! (тат.)] Усадив гостя, он и сам сел на сани в передке.
- Акбай, алга! [Вперед (тат.)] Собаки с радостным визгом кинулись к набережной.
Они были попарно привязаны к длинному ремню - потягу и бежали быстро. Дорога знакома: к устью Казанки - значит, будет свежая рыба.
Поднимая вихри снега на берегу, сани спустились на ровный лед Кабана. Акбай, не ожидая команды, повернул упряжку влево, к Булаку. Впереди показался Татарский мост, на нем оживленное движение: едут водовозы, спешат на утренний базар крестьяне. Собаки еще не устали, они живо домчали по Булаку сани до Кремля, и Акбай снова сам повернул влево, на Казанку.
Потянулись вмерзшие в лед суда, словно погруженные в зимнюю спячку, лишь вверху, в стройных мачтах, упруго, с надрывным стоном гудел зимний ветер.
Дорога до ближайшей слободы по-прежнему ровная.
Ночной буран, как ни удивительно, высоких сугробов на реке не оставил. Сытые собаки, радуясь простору, летели так, что ветер свистел в ушах.
- До чего же приятный способ передвижения, - восторгался Лобачевский. Начинаю завидовать эскимосам.
Будто крылья за плечами выросли. Уж не завести ли мне подобную упряжку?
- Не советую, - сказал Хальфин, - Дрессировка собак - дело трудное. У меня этим Салих занимается. Лучше давайте чаще вместе на рыбалку ездить. На готовом транспорте.
- С великим удовольствием. При возможности хоть каждое воскресенье, Лобачевский поднял воротник и поправил ушанку. - Только вот когда привыкну...
Хальфин повернулся к соседу:
- Истосковался я по рыбалке. Зимой - какой клев!
Рыба дремлет, насадкой мало интересуется. Зато летом...
Да и теперь, надеюсь, душу отведем. Окунь и судак ждут нас - не дождутся. Простая блесна с голоду им уклейкой покажется...
Пронзительный крик прервал его. Молодая татарка с ведрами на коромысле отскочила в сторону, испугавшись необычного транспорта. За ней с криками бросились и другие. Ведра на коромыслах заколыхались, выплескивая воду. Акбай прижал уши и недовольно зарычал, пролетая мимо, но женщины уже успокоились и лишь весело смеялись им вслед.
Вскоре сани вкатились в небольшое татарское село Бишбалта - начало большой Адмиралтейской слободы, окруженной высокими дубравами. Жители этого села изготовляли гребные судна на Волгу. Когда-то здесь, в устье Казанки, Петр Великий основал корабельные верфи.
Хальфин остановил упряжку рядом с деревянным сараем, где хранилась галера "Тверь", на которой в 1767 году прибыла в Казань Екатерина Вторая. Тяжело дыша, собаки улеглись на снегу.
- Ибрагим Исхакович, давайте заглянем, - кивнул на сарай Лобачевский. Давно хочу посмотреть на эту галеру.
Сбросив тулуп, он отодвинул доску и ловко проскользнул в отверстие.
В сарае без окон было сумрачно. Зеленая краска галеры еще не стерлась, видна была и позолота на резьбе, украшающей борта. Грузная галера в тесном сарае подавляла своими размерами. Два этажа: верхний - для Екатерины, в нижнем - восемь комнат - ее придворным. Крепостным гребцам особого помещения не полагалось.
- Николай Иванович, - послышался голос Хальфина, - поторопитесь. Мне от собак отойти нельзя, время уходит.
Лобачевский в последний раз окинул взглядом дотлевающую галеру и, также ловко выскользнув из отверстия, осторожно поставил доску на место.
- Пора, пора, Николай Иванович, - торопил его Хальфин. - Рыбаки все лучшие места займут. Усаживайтесь!
Отдохнувшие собаки устремились вперед, мимо сосен, стоявших по берегу. Тяжелые, обсыпанные снегом ветви чуть покачивались вверху, словно приветствуя проезжающих.
Веселый свист полозьев и речной простор напомнили о далеком детстве, о таком же просторе в Нижнем Новгороде...
- Что за уныние на вас напало, друг мой? - спросил Хальфин, озадаченный затянувшимся молчанием.
- Уныние? - очнулся Лобачевский. - Что вы, туганым...[Родимый, любезный (тат.)] Так ли я сказал?
- Так, так.
- Мысли у меня самые светлые. Вспомнил детство и то, что было в нем хорошего. Ехали мы с дядей из Нижнего в такой же морозный день, и снег так же весело скрипел под санками...
- На рыбалку?
- Нет, в Макарьев, к дедушке...
Собаки вдруг остановились, поглядывая на хозяина.
Вдали, за волжским ледяным простором, виднелись Услонские горы.
- Что? Сговорились дальше не ехать? - проворно соскочил Хальфин. Молодцы! - Он протянул руку Лобачевскому. - Приехали. Мои лошадки помнят место не хуже, чем я. Тут по дну Волги тянется гряда, и в марте крупный окунь выходит на ее вершину - дышать ему легче...
Ну вы, борзые!
Собаки, освобожденные от упряжки, радостно кувыркались по снегу. Под гулкими ударами остро заточенной пешни во все стороны брызнули прозрачные осколки льда.
- Ибрагим Исхакович, дайте-ка я покажу сам, что и с пешней могу справляться...
Лед был крепок и толст. Не раз пешня переходила из рук в руки, пока не были пробиты обе лунки.
Хальфин старательно очистил свою лунку от мелких осколков, поставил на лед низкую складную скамеечку и, выпрямившись, рукавицей вытер мокрый лоб.
- У вас тоже готово, Николай Иванович? Тогда садитесь, только тулуп не вздумайте расстегивать. Через пять минут лишнего тепла как не бывало, выдует, - предупредил он.
Лобачевский засмеялся:
- Вы под стать маменьке.
Размотав лески, наклонились они - каждый над своей лункой. Оловянные рыбешки-блесны закрутились, погружаясь в зеленовато-прозрачную воду. Тишина была такая .что слышалось дыхание мирно спавших собак.
Не прошло и минуты, как Хальфин резко дернул руку вверх, и на снегу, изгибаясь кольцами, забился крупный полосатый окунь.
- С добрым почином, - кивнул соседу Лобачевский и вдруг сам откинулся на скамейке: леска дрогнула, из лунки вылетел и упал на снег окунь поменьше.
Сквозь тучи проглянуло солнце, и каждая крупинка свежего чистого снега засветилась нестерпимым блеском.
Алмазный иней покрывал яркие плавники остывающего на льду окуня. "Да, в каждом атоме скрыто солнце", - вспомнилось Лобачевскому изречение Руми. Он смотрел на леску и не видел ее. "Что же такое атом? Если в нем "скрыто Солнце", не похож ли на мельчайшую планетарную систему: в центре "Солнце" - ядрышко, а вокруг него, возбуждаемые притяжением, вращаются "планеты" частицы?.."
Леса уже выскользнула из руки.
"Однако расстояния, на которых там, в атоме, происходят события, малы непостижимо, почти нуль по сравнению с нашими земными размерами, поэтому и явления притяжения совсем иные... Значит, известные нам законы механики там бессильны... А если внутри атома Евклидова геометрия несправедлива? Если там должна быть своя, может быть, новая?.." [Замечательные высказывания Н. И. Лобачевского, что геометрические свойства пространства должны находиться в зависимости от материи и действующих сил, получили впоследствии обоснование в общей теории относительности А. Эйнштейна. Более того, после создания этой теории, давшей возможность извлечения атомной энергии, обеспечившей все необходимые расчеты, связанные с ее получением, выяснилось, что геометрия Лобачевского нужна и очень полезна при расчете сверхбыстроменяющихся скоростей элементарных частиц] Лобачевский, наклонившись над лункой, застыл неподвижно.
Хальфин с улыбкой посматривал в его сторону. "Хорошо, - думал он, удивительно хорошо. Наконец-то математик отдыхает по-настоящему. Глаз, как видно, с поплавка не сводит. Надо было бы давно привезти его сюда".
БУРЯМ НАВСТРЕЧУ
Первый день занятий в 1825/26 учебном году окончен.
За окнами вечер. На столе в кабинете Лобачевского строгий порядок. И сам Лобачевский стоял около стола строгий, подтянутый, каким его привыкли видеть окружающие. И все-таки случись кому войти в это время в кабинет сразу ощутил бы он перемену. Слишком неподвижен хозяин кабинета, слишком пристален взгляд его, устремленный на пачку листов синеватой бумаги.
Ровные строчки, мелкие четкие буквы. Нет сомнений - это рукопись, переписанная набело. "Новые начала геометрии". Тщательность рисунка заглавных букв на первой странице утверждает: огромный труд закончен.
"Дело всей жизни", - говорят суровые глаза, которые, казалось, одни живут на застывшем, окаменелом от страшного напряжения лице.
Никто не нарушает молчания. С глубоким вздохом Лобачевский подошел к закрытому окну и, как это делал в минуты сильного напряжения, прислонился лбом к холодному стеклу.
- Да, - кивнул он своему отражению и, повернувшись, опустился на диван.
Сейчас необходим был Симонов, единственный, кто в полной мере оценил бы значение труда, заложенного в этой рукописи. Но вот уже два года с лишком длилось его путешествие по далеким странам, а Лобачевскому сейчас, как никогда, нужен был надежный друг и собеседник. Богословы, медики, ботаники - многие ученые коллеги университета поражали его неспособностью перейти границы своих специальных знаний, возвыситься до широких научных обобщений. Друг-естествоиспытатель - вот кого ему недоставало. "Истина рождается в споре", - вспоминал он старое изречение. Но споров, больших и серьезных вести было не с кем.
Вечером 21 августа пришел конец ожиданию. Симонов приехал, но, к сожалению, не один. С ним, как гром среди ясного неба, в Казань пожаловал, впервые за шесть лет сам попечитель учебного округа Магницкий.
На следующее утро была назначена встреча всех преподавателей и студентов с его превосходительстом. Попечитель явился в университет в полной парадной форме - с широкой орденской лентой через плечо. Новый актовый зал сиял до зеркального блеска натертым паркетом и хрустальными люстрами. Студенты в темно-синих однобортных мундирах, при шпагах на черных муаровых лентах застыли ровными рядами. У каждого треугольная шляпа на согнутой под прямым углом левой руке. Ученые и чиновники университета "имели счастье" представиться его превосходительству и были приняты милостиво. Попечитель соизволил также осмотреть новую университетскую церковь и прочие помещения главного здания, с мощными колоннами, всего лишь неделю назад полностью отстроенного и "приведенного к совершенной отделке". Затем состоялся не менее торжественный прием представителей городской и губернской знати. Магницкий был со всеми любезен и при случае не упускал возможности помянуть о своих дружеских отношениях с могущественным Аракчеевым.
Лобачевский при этом не присутствовал: сославшись на головную боль, он до самого вечера просидел в своем кабинете за книгами. Когда же церемониал, разыгранный Магницким, был завершен, оделся и, прихватив драгоценную рукопись, поспешил на квартиру Симонова.
Тот сидел на софе и, завидев друга, стремительно поднялся ему навстречу. Они обнялись и так стояли молча, не в силах произнести ни слова.
- Соскучился я по тебе, Николя! - воскликнул наконец хозяин. - Ей-богу, соскучился. Ну, а ты, огонь попрежнему? Садись, рассказывай. Как живешь? Алексей?
Матушка?.. У меня для тебя новостей гора! - И, повернувшись к двери, он крикнул: - Вина! Самбго лучшего, французского. И фрукты. Живо!
- Постой, постой, - смеялся Лобачевский. - Ты чтото из похода горячей меня вернулся. У меня тоже есть новости. Но сперва дай послушать.
Симонов согласился. Ему не терпелось удивить своего друга рассказами. Но сначала надо выпить. Вино, проворно внесенное служителем, действительно было превосходным.
- Из Петербурга мы с профессором Купфером выехали 11 июня 1823 года, начал Симонов. - Были в Кенигсберге, в Дрездене, в Праге. И везде посещали обсерватории, все научные учреждения. Хватались там за малейшие возможности узнать как можно больше. Изумительное путешествие!
Симонов поднял бокал вина и посмотрел его на свет.
- Чистый рубин!
Затем покосился на Лобачевского. Но тот уже отставил свой наполовину опорожненный бокал и неторопливо распутывал одной рукой завязки принесенной им синей папки.
Симонов тоже отставил вино.
- В Саксонии даже знаменитые Фрейербергские рудники осмотрели, продолжал он. - И осмотрели наиподробнейше. Ибо кто может предугадать, не будут ли эти сведения для государства нашего полезны.
Лобачевский наклонил голову, соглашаясь, но с некоторым нетерпением; тесемки уже были развязаны. Симонов, не заметив этого, продолжал:
- И вот, наконец, Вена. И, знаешь ли, кто меня встретил?..Ну, разумеется, Литтров! Наш дорогой Литтров, директор Венской обсерватории. Такой же, не переменился.
И представь! Скучает по Казани. Две недели, пока мы там были, то и дело расспрашивал о Казанском университете. Кто над чем работает и кто как живет. А уж помощь оказал неоценимую: с лучшими мастерами нас познакомил, сам уговорил и, чтобы все приборы нам были сделаны в срок и лучшего качества.
Лобачевский признался:
- Мы его тоже не забываем...
Но воспоминания увлекли Симонова дальше.
- Париж, Николя! Не буду сейчас и пытаться передать содержание лекций, кои довелось мне там прослушать. Назову только имена: барон Гумбольдт, Араго, Фурье, Пуассон, Ампер, Бувар, Лежандр, и то еще список не полный, столько было встречено славных ученых... При опытах и наблюдениях присутствовал самолично. В Париже издали мой математический этюд и некоторые наблюдения, сделанные в кругосветном плавании. От барона Гумбольдта имел рекомендательные письма к итальянским и немецким ученым тоже не малой известности.
Время близилось к полуночи, но друзья этого не замечали. Симонов то садился, то вставал и прохаживался по кабинету, увлеченный потоком воспоминаний.
- Из Парижа все приборы для нашего университета быстро были направлены в Петербург. А венские заказы задерживались. Мне об этом печалиться нужды не было:
в ожидании, как свободный путешественник, посетил я Женеву, Милан, Турин, Флоренцию, Рим, Неаполь и через Венецию и Триест вернулся к Литтрову, там все было готово. И мало того: милейший Литтров самолично подверг испытанию качество заказанных инструментов: полуденный круг, универсальный инструмент Рейхенбаха и прочее. Все оказалось наилучшего качества... Да, вот еще, тебе сюрприз оттуда...
Симонов подошел к столу, вынул из портфеля два томика в бумажном переплете и протянул их Лобачевскому.
- Тебе, Николя. Милый наш Литтров передал свой новый труд и сердечный привет.
Лобачевский проворно встал и почтительно, двумя руками принял подарок.
- "Populate Astronomie" ["Популярная астрономия" (нем,)], - прочитал он вполголоса.
Ниже - аккуратным немецким почерком написано:
"Herrn Prof. Lobatschewski von seinem alien guten Freund.
Ich wunsche herzlich dass es Ihnen immer recht gut sein moge.
3. VI. 1825. Wien. I. I. Littrow" ["Г-ну профессору Лобачевскому от старого доброго друга.
Я сердечно желаю, чтобы Вам всегда жилось хорошо. 3.VI.1825.
Вена. И. И. Литтров" (нем.)].
Лобачевский долго смотрел на знакомый почерк своего учителя.
Тишину прервал Симонов.
- Вот науки отец, которого должны мы взять за образец, - улыбнулся он, перефразируя слова Чацкого.
- Читал? - оживился Лобачевский, положив книги на соседний стол. - Где удалось? В Петербурге?
- Да. У Салтыковых читали.
- И с Грибоедовым познакомился?
- Нет, не пришлось. Он у Ермолова, на Кавказе.
А что? Значит, и здесь "Горе от ума" известно?
- Как же. В списках по рукам ходит... У нас ведь, знаешь, и в искусстве-то вольного слова не терпят.
Но Симонов уже вернулся к заграничным впечатлениям.
- Здесь Грибоедова тайком читают, а в Париже в литературных и музыкальных салонах - такая свобода мысли! Кого я только не встречал там: Стендаль, Пикар, Паэр, Вейгль, Клементи, Россини. Оперные театры повсюду, а в Италии, казалось, сам воздух поет. А скрипач Паганини!
Слыхал? Твой тезка, Никколо. Прямо-таки волшебник!
Слушая игру его, я впервые почувствовал, какой неведомый и дивный мир будущего живет в настоящем. Стендаль в своей книге называет Паганини первой скрипкой Италии, если не величайшим скрипачом всего мира.
Часы пробили два раза.
Лобачевский поднялся.
- Пора, - сказал он. - Я принес тебе свою работу. Но говорить о ней пока рано. Сначала прочти, подумай. И не торопись. Для меня это сейчас очень важно...
- Да, да, - рассеянно кивнул Симонов и ловко перебросил папку на стол, не раскрыв ее и не прочитав заглавия. - Кстати, - сказал он у порога, Магницкий заметил твое отсутствие на сегодняшнем приеме. Распорядился установить неусыпное наблюдение за нравственностью профессора Лобачевского, зараженного излишним высокоумием и гордостью... Постой, постой, - расхохотался он, заметив, что Лобачевский гневно повернулся к нему. - Ты еще не все дослушал: наблюдение возложено им на твоего покорного слугу. А посему не откажи, посоветуй оному Лобачевскому быть в словах осторожным и в делах осмотрительным. Особенно когда придется выздороветь и к его превосходительству явиться...
- Но я не хочу его видеть.
- Придется, Николя, - вздохнул Симонов и, крепко пожав руку, сам проводил его до крыльца.
Лобачевский шел домой задумавшись. Да, он рад был удаче, выпавшей на долю друга. Но сам друг, казалось ему, в чем-то изменился... Барон Гумбольдт... Почему, рассказывая об этом великом ученом, он прежде всего вспомнил его титул?.. И рукопись, не развернутая, небрежно брошенная им на стол... Что бы это значило?
На следующее утро, так и не явившись к его превосходительству попечителю "засвидетельствовать свое почтение", Лобачевский, точно в назначенное время, вошел в математическую аудиторию университета. Согласно расписанию он должен был читать лекцию по геометрии. У студентов его лекции почти всегда вызывали живой интерес.
Но эта лекция была не просто интересной: она показалась необычайной.
- Господа, - заявил Лобачевский, - всем известно, что в геометрии теория параллельных до сих пор оставалась несовершенной. Тщетные старания со времен Евклида заставили меня подозревать, что в самих понятиях еще не заключается той истины, которую хотели доказать ученые.
Подобно другим физическим законам, проверить ее могут лишь опыты: каковы, например, астрономические наблюдения...
В коридоре послышались шаги. Стены коридора отозвались гулом, который усиливался по мере их приближения.
Дверь аудитории наконец распахнулась: на пороге стоял Магницкий, из-за плеча которого выглядывали ректор Фукс и временно исполняющий обязанности директора - Никольский.
Студенты поспешно встали.
- Здравствуйте, господа, - сухо проговорил Магницкий. Ответив на поклон Лобачевского небрежным кивком, он подошел к мягкому креслу около кафедры и, важно усаживаясь, проронил: - Прошу вас, продолжайте, господин Лобачевский.
В аудитории сохранялось полное молчание. Но вот Лобачевский поднял голову.
- Садитесь, господа, - сказал он спокойно, будто ничего не произошло. Итак, главное, к чему пришел я с предположением зависимости линий от углов, допускает существование геометрии в более обширном смысле, чем представил ее нам Евклид. В этом пространном виде я даю науке название Воображаемой геометрии, в которую как частный случай входит геометрия употребительная. Потому Воображаемая, что существование ее в природе пока не доказано... Пока!
Последнее слово прозвучало как вызов. Так оно и было всеми понято. Притихшие студенты незаметно, искоса посматривали на бледное лицо Магницкого.
Лобачевский продолжал:
- Да, новая геометрия существует пока лишь в нашем воображении. Мы знаем, что в науке ни одна физическая теория не возникала сразу в совершенном виде. Лаплас прав: успехи достигаются только теми учеными, в которых мы находим счастливое сочетание большой строгости в мышлении, тщательности в опытах и наблюдениях с могучей силой воображения. Ибо в падении яблока увидел необычное лишь один человек - Исаак Ньютон.
Лобачевский посмотрел на студентов. Они застыли.
Карандаши не шуршат по бумаге. Все только слушают. Но слышат ли?
- Приближаясь к незнакомому городу, - снова заговорил он, - мы сначала угадываем, словно в тумане, лишь общие контуры зданий. Ближе, ближе, и вот уже все большие подробности открываются нашему взору. Не так ли обстоит дело и с Воображаемой геометрией: все яснее видится она моему взору, вот уже и крайние улицы предстают в моем воображении. Мы уже, вооруженные телескопами, стоим у порога Вселенной. С помощью микроскопа начинаем постигать великую тайну и другого мира, по крайней малости своей доселе бывшего сокрытым.
И в мире этом, безмерно малом, возможно, действуют свои законы, равно как и в неизмеримых просторах Вселенной.
Так пока воображение прокладывает путь науке...
Аудитория замерла. Рядом с Никольским появился его секретарь и, стоя, что-то поспешно записывал.
- Если бы открытие мое не принесло другой пользы, кроме пополнения недостатка в начальном учении, - смягчил свою речь Николай Иванович, - то, по крайней мере, внимание, какое постоянно заслуживал этот предмет, обязывает уже меня к изложению более подробному. Начну с разбора теорий, доныне существующих. Однако приступим к этому после перерыва, - договорил он и, сойдя с кафедры, направился к Магницкому.
Тот величественно поднялся и ждал, опираясь на спинку директорского кресла.
- Как сегодня ваше здоровье, господин профессор? - осведомился он, легким наклоном головы отвечая на поклон Лобачевского.
- Благодарю, ваше превосходительство, сегодня чувствую себя несколько лучше.
- Господин Лобачевский, пройдемте в кабинет, - пригласил Магницкий и несколько посторонился, как бы уступая дорогу.
Молча вышли в полутемный коридор, откуда вели двери в комнаты.
- Господин Лобачевский, - начал попечитель еще более торжественно, когда вошли они в профессорскую, - осмотрев столь великолепные здания, под вашим руководством воздвигнутые, получил отменное удовольствие. К сожалению, того же не могу сказать о только что мною выслушанной лекции вашей. Сия лекция исполнена была дерзостных мыслей и в корне противоречит божественному откровению. Вы слышите? Про-ти-во-ре-чит, - подчеркнул он, слегка постукивая кончиками пальцев по спинке стула и как бы усиливая тем впечатление от сказанного.
Лобачевский слушал молча. Рука его на мгновение потянулась к привычному для нее месту - за бортом сюртука, но тут же опустилась вниз.
- Единственно пользы вашей ради, - продолжал Магницкий, - советую вам, господин Лобачевский, посещать лекции вашего друга профессора Симонова. Он первый из наших астрономов рассматривает свою науку с единственно правильной точки зрения, искореняя в умах слушателей пагубные мысли, противные священному писанию. Известно, что иные авторы распространяют заблуждение, высказанное в "Механике небесной", представляя мироздание подобным некоей машине, раз навсегда созданной и заведенной. Сия пагубная мечта составляет основание новейших философских систем, допускающих эфирный материализм. Не так ли?.. Вы, господин Лобачевский, тоже в стремлении к славе знаменитого математика переходите границы, указанные священным писанием. Вы...
Негодование помешало Магницкому продолжать. Пальцы его не переставали барабанить по спинке стула.
- Помните, - внезапно повысив голос, предупредил попечитель и резко толкнул от себя стул, - преуспеяние вате по службе отныне будет зависеть от вас, и я сам беру на себя должное о том наблюдение. А вы, господин ректор, - повернулся он к Фуксу, - до сих пор не соизволили мне представить на текущий год конспекты лекций профессоров и адъюнктов. Уверен, вам придется горько раскаяться в столь легкомысленном небрежении...
Дрожащими губами Фукс, видимо, попытался что-то сказать, но только еще ниже опустил голову. Это смягчило Магницкого, на лице его даже появилась некоторая благосклонность.
Дверь кабинета раскрылась, и на пороге показался любимец студентов сторож Валидка-Сатурн [Прозвище "Сатурн" намекало на специальность солдатаинвалида извещать время занятий]. Старик уже слегка взмахнул рукой с медным колокольчиком, но, увидев Магницкого, моментально вытянулся "во фрунт".
Колокольчик, прижатый к боку, отрывисто звякнул и умолк.
- Виноват, ваше превосходительство, студенты ждут.
Я подумал было...
Но попечитель быстро вышел, ни с кем не прощаясь. За ним, так же стремительно, двинулись Фукс и Никольский.
Дед Валидка еле успел посторониться.
* * *
Закончив занятия в университете, Лобачевский решил прогуляться. Незаметно дошел до Гостиного двора и, как всегда, заглянул в университетскую книжную лавку. Книгопродавец Егор Андреев, хорошо знавший профессора, поспешно разложил на прилавке груду новых и подержанных книг. Пока Николай Иванович просматривал их, ктото сказал ему:
- Не угодно ли вашей милости?
Лобачевский обернулся. Мальчик-приказчик почтительно протягивал ему книгу большого формата.
- "Разговоры Лукиана Самосатского [Выдающийся мыслитель древности, родился около 125 г. н. э], переложенные с греческого языка на российский Иоанном Сидоровским...
Третий том, 1784-й год, Санкт-Петербург". Посмотрим...
"Разговоры богов..." - Николай Иванович рассеянно перелистывал книгу, дошел до 452-й страницы, готовясь уже вернуть ее на прилавок, но следующая страница привлекла его внимание. - "Истинные повести"? Что-то не помню... Да, я беру эту книгу.
Обратный путь занял меньше времени: удовольствие, ожидаемое от знакомства с новой книгой, невольно торопило его домой.
Наконец любимое кресло у письменного стола, острый нож диковинной формы - подарок Симонова - с шорохом легко разрезает страницы, фантазия повести увлекает, ожидаемые неприятности по службе отдаляются, отходят на задний план...
- "Носимые семь дней и семь ночей по небу увидели мы в восьмой день некую великую землю, блистательную, шарообразную и великий свет издающую..."
Короткий осенний день клонился к вечеру. Придвинув кресло к самому окну, Лобачевский продолжал чтение:
- Царь Ендимион воззрел на нас и, заключая по одежде нашей: "Вы пришельцы! - сказал. - Эллины?.. Некогда собрав бедных людей в царстве своем, я вознамерился устроить новое поселение в планете пустой и никем не обитаемой..."
Сумерки сгустились. Прасковья Александровна внесла свечи в тяжелых подсвечниках.
- Николаша, тебе чай подать? Угощу сегодня свежим вареньем.
- А я вас, маменька, угощу изумительной повестью Лукиана. Садитесь-ка и слушайте, я вам прочитаю... Или, может, вы сами, как, помните, в Макарьеве?
- Хорошо, Николаша! - Прасковья Александровна даже разрумянилась: не часто выдавались такие радостные вечера с вечно занятым сыном.
Лобачевский придвинул ей кресло и протянул раскрытую книгу.
- Начинайте отсюда. Вам станет понятно, а что но поймете - объясню. Чай отложим. И глаза мои отдохнут.
Прасковья Александровна переставила подсвечник поближе и, сняв нагар, начала читать вздрагивающим от волнения голосом:
- "Одежда у богатых стеклянная, мягкая, у бедных же - тканая, из меди. Планета сия весьма изобилует медью, из которой ткут они с присовокуплением некоторого количества воды по примеру шерсти..."
Николай Иванович слушал, закрыв глаза. Так он делал всегда, когда хотел, чтобы ничто не отвлекало его. Не заметил он, как вошел в кабинет Алексей и через плечо матери заглянул в книжку.
- "...Видел я в царском дворе и другое чудо, - продолжала читать Прасковья Александровна. - В кладезе не весьма глубоком положено зеркало. Если кто подойдет к сему кладезю, слышит все вещаемое на земле нашей. Когда же воззрит в самое зеркало, видит в нем все города и все народы так равно, будто бы стоял подле их самих. Все время видел я всех сродников моих, знаемых, и все мое отечество. Но видели ли и они меня тогда взаимно, не могу сказать..."
- Ерупдовина это! - послышался хриплый голос брата.
Лобачевский, вздрогнув, быстро поднялся.
- Ты, Алеша?
- Как видишь.
- Опять?
- Ежели нет в жизни цели, какое же в ней удовольствие, - ответил заплетающимся языком Алексей.
Прасковья Александровна уронила книгу на пол и, закрыв глаза рукой, отвернулась.
- Алеша, - подошел к нему Лобачевский. - Перестань. Кончай безобразную жизнь, уходи с фабрики. Зачем наше имя позоришь?
- Братец, - развел руками Алексей. - Спасти меня хочешь? Или честь фамилии? Черт с ней, с фамилией. ПолРоссии пьяными ходят, о фамилии не заботятся. Кругом одно свинство. - Нетвердыми шагами он заметался по комнате, спотыкаясь и продолжая несвязно обвинять всех подряд.
Николай стоял около кресла матери и молча следил за братом. В этой жалкой, бесцельно мечущейся по комнате фигуре виделся ему то маленький мальчик, робкий и тихий гимназистик, то мрачный, всех избегающий студент и, наконец, желчный, раздражительный адъюнкт, отчаявшийся найти цель в жизни. Уж не он ли, старший брат, виноват в этом? Достаточно ли уделял ему внимания? Быть может, если бы меньше думал о будущем и больше о настоящем, брат его был бы теперь человеком...
- Да, ученые ведь не об устройстве жизни заботятся, - продолжал в это время рассуждать Алексей. - В науку прячутся, как улитки в свою скорлупу. Астрономические треугольники приятнее изучать, чем за разъяснение жизни приниматься.
Прасковья Александровна всплеснула руками:
- Алексей, сейчас же извинись! Или я...
Но грохот опрокинутого стула не дал е& договорить. Алексей, торопливо поднимая стул, бормотал сконфуженно:
- Прости, брат! И вы, маменька. Забылся... До тебя, Николай, мне далеко, не достать. Я человек пропащий. Темно вокруг, черно.
Лобачевский обнял брата и посадил в свое кресло.
- Пока не поздно, Алеша, вернись...
Но в эту минуту в открытых дверях кабинета появился Хальфин, в синем профессорском сюртуке с высоким воротником, при белом атласном шарфе.
- Сидите, сидите! - Он предупреждающе поднял руку. - Я на минутку...
- Не вздумайте уходить, Ибрагим Исхакович! Обижусь. - Прасковья Александровна поспешно встала с кресла и, протягивая Хальфину руку, договорила: - Сейчас будет чай готов, угощу вареньем.
- Спорить не приходится, татарская пословица говорит: гость - ишак хозяина, - улыбнулся Хальфин.
Уже выходя из кабинета, Прасковья Александровна предупредила:
- Только, чур, не читать без меня.
Хальфин поднял книгу и посмотрел на Лобачевского.
- Что это?..
- "Истинные повести" Лукиана. Сюжет фантастический, но в сказке проглядывает зерно истины. Вот посмотрите, что пишет он в своем предисловии.
- "По долговременном и внимательном чтении и размышлении успокаивать ум свой и делать рассуждение свое способнейшим и бодрственнейшим к трудам будущим..."
На этом Хальфин прервал чтение.
- Да, слышал об этом Лукиане Самосатском, но читать его не приходилось. О чем он пишет?
- О путешествии в будущее, - с увлечением начал рассказывать Лобачевский. - Он и его товарищи семь суток носились на своем корабле по небу, на восьмой день пристали к большому круглому острову, сиявшему в пространстве. Оттуда увидели наш аемной шар - с его морями, реками, лесами, городами, похожими на муравейники... Это поразительное сочетание научного предвидения с бесконечной верой человека в свои силы...
Продолжая говорить о повести Лукиана, все перешли в столовую, где уже весело шумел сверкающий самовар.
Прасковья Александровна протянула гостю стакан чаю, пододвинула ему хлебницу, полную сухариков, и синюю вазочку с вареньем.
- Попробуйте, Ибрагим Исхакович.
- С удовольствием, - отозвался Хальфин. - Пить превосходный чай, вести беседу за столом и жить надеждами, что может быть приятнее?.. Кажется мне, Лукиан, так увлеченно писавший эту повесть, не может ошибаться.
- Безусловно, в своих догадках он прав, - оживился Лобачевский. - Если пчела и муравей такие изумительные вещи проделывают, неужели же и человек - самое организованное существо - не сможет познать глубокие тайны природы, сделать чудесные открытия, - Помолчав, он добавил: - Подобно тому, как человек стал повелителем всех морей, сначала с помощью весельного судна, затем - колесного парохода, он станет также и повелителем небесной стихии. Люди будут летать по воздуху, в мировом пространстве...
- Ах, неужели это сбудется?.. Людям летать, как ласточкам, - вздохнула Прасковья Александровна, прислушиваясь к разговору.
Алексей поморщился.
- Но дойдут ли до этого, - мрачно заметил он. - Чтобы не было горя и зла, чтобы жизнь их была наслаждением.
- Непременно! - заверил Николай. - Иначе я не могу представить будущее человечества. Потребуются десятки, а может быть, и сотни лет, когда люди окончательно прозреют и сам труд на земле сделается для них истинным наслаждением...
- Ну! - прервал его Алексей. - Заветная мечта всех чудаков, таких, как ты, Николай.
- Только я никогда не был одиноким, как ты. Меня всегда сопровождали две музы, поддерживая в трудную минуту, - похвалился Лобачевский. - Слева Евтерпа - муза поэзии, справа - муза науки Урания.
- Ах, да! Я ведь и забыл: ты же писал стихи. Поэт и математик!..
В передней хлопнула дверь, послышались твердые, быстрые шаги. Дверь открылась, и вошел Симонов, как всегда спокойный, сияющий. В руках у него заветная папка с "Новыми началами геометрии". Оп бросил беглый взгляд на мужчин и, улыбаясь, подошел к Прасковье Александровне.
- Принимаете гостей?
- Принимаем! - весело сказала хозяйка, пожимая белую холеную руку гостя. - Все же пожаловал, гордец! А то как вернулся из визитации, и носу не покажет. Я уж думала, совсем высоко залетел - голова закружилась.
- Что вы, что вы, матушка Прасковья Александровна, как можно забыть своих друзей!
- То-то мне. Прошу к столу. Чай, знаю, любите вы крепкий.
Пожав руки мужчинам, Симонов сел на стул рядом с хозяйкой и, взяв на столе книгу, начал ее перелистывать.
- Мне пора! - поднялся Хальфин. - Зашел к вам на минутку, а просидел больше часа. Благодарю вас, Прасковья Александровна, за угощение. До скорого свидания!
Лобачевский тоже встал, проводил Хальфина в переднюю и вместе с ним вышел на крыльцо. Улица была пуста,- фонари горели тускло. Где-то стучали колеса по неровной:
булыжной мостовой. Над городом простерлось темно-синее, глубокое небо, сиявшее яркими, трепещущими звездами.
- Вот! - улыбнулся Лобачевский, указывая на звезды. - Смотрите, сколько их, этих солнц, вокруг которых вращаются недоступные нашему зрению шарики, такие же крохотные, как наша планета. Меня поражает: сколька пространственных форм, неведомых человеку, таит в себе мировое пространство! Когда-то в ярком свете разума и точного познания откроет оно людям свою тайну, и мы вступим во Вселенную.
- Да поможет нам аллах и ваша новая геометрия! - весело сказал Хальфин.
Лобачевский поклонился. Дружеская шутка напомнила ему о синей папке с рукописью, и он, попрощавшись, быстро вернулся в столовую.
Симонов, перелистывая книгу Лукиана, оживленно беседовал о чем-то с Прасковьей Александровной. Алексея в комнате уже не было.
- Ну, Ваня, хотел бы я... твое впечатление... - замялся Лобачевский и, не докончив, глянул на мать. - Маменька, извините, прервал вашу интересную беседу...
- Пустяки, Николаша! Сейчас я скажу разогреть самовар. - Она поспешно поднялась и вышла из комнаты.
Симонов покосился на рукопись.
- Я все прочел, перечитал и продумал, - начал он. - Да, Николя, твое оригинальное допущение, что сумма углов прямолинейного треугольника меньше двух прямых, приводит к своеобразной геометрии, отличной от ныне употребительной. Ты развил ее превосходно. Все мои старания отыскать в твоей Воображаемой геометрии непоследовательность и логическое противоречие остались бесплодными. Ничего не скажешь, ты сделал изумительный по смелости ход конем...
Брови Лобачевского сурово сдвинулись.
- Ход - чем?
Симонов улыбнулся.
- Помнишь, на товарищеском ужине после твоей первой профессорской лекции горячий спор о происхождении исходных допущений в геометрии? спросил он. - Так вот. Сидевший тогда за шахматной доской Петр Сергеевич между прочим заметил: если бы мы приписали коню какоелибо иное правило передвижения, то изменился бы не только ход коня, но и вся извечная система шахматной игры.
То же самое и в геометрии, - сказал он. - Вспоминаешь?..
Лобачевский не отвечал, перелистывая свою рукопись.
- Кондырев словно предугадал тобою измышленное... - Симонов щелкнул портсигаром и закурил. - Подобно Евклиду, Николя, ты придумал по своему усмотрению новый постулат и на нем обосновал все дальнейшее. Возникает новый мир, удивительный, однако... совсем невероятный. Изумительна смелость мышления твоего, дерзнувшего на исследование, при коем само внутреннее чувство наше противится допустимости первоначального предположения. Дерзнуть и не отступить перед выводами, как это сделал ты...
Наступила пауза, которую никто не нарушил хотя бы малейшим движением. Прасковья Александровна, появившаяся в дверях, отступила и тихо закрыла за собою дверь.
- Однако... - Симонов повернулся на съуле, - что, если это самое предположение лишь пустая геометрическая фантазия, дерзкая игра воображения под видом философических рассуждений? Ты сам признаешься в том, что существование твоей геометрии в природе доказано быть не может и пока для измерений в практике нет ей применения. К тому же не менее ясно и противоречие ее любым достоверным истинам... Истинам, - повторил Симонов, все более оживляясь, - Ты, Николя, натуралист, изучение природы подменил, к сожалению, словесной игрой метафизиков. Но, знаешь ли, одно дело играть с геометрией, совсем другое - сверять ее с природой.
Щеки Лобачевского порозовели, рука потянулась к рукописи, лежавшей теперь на коленях Симонова, но тот не заметил этого.
- Ты сам, в бытность еще магистром, говорил не раз"
что природный рассудок лучше, чем напускная мудрость, - продолжал он, выпустив колечко дыма. - Что же случилось теперь с тобой за годы нашей разлуки? Дай же, дай возможность услышать подтверждения твоих мыслей. Факты нужны. Факты, а не рассуждения.
Лобачевский помолчал.
- Пока нет их, - сказал он тихо. - Но будут. Развитиенауки...
- Так, - перебил его Симонов. - Но в таком случае,, что же нас обязывает принимать новые удивительные представления взамен твердо установленных? Пусть опыт и наблюдения доставят нам доказательства, тогда - пожалуйста...
Лобачевский поднялся. Наблюдавший за полетом к потолку второго колечка, Симонов не заметил, как побелели пальцы друга, сжимавшие спинку стула.
- Наблюдения. Опыт, - невесело усмехнулся Лобачевский. - Однако не нужно ли предварительно иметь предположение, дабы опытами было что нам доказать или отвергнуть? У геометров две тысячи лет назад уже имелись понятия - "сфера" и "плоскость". Не потому ли Эратосфен смог доказать, что Земля наша сферична, и даже определить ее размеры? Для решения вопроса, каково же пространство, то, в котором и звезды нашего Млечного Пути, и иные галактики расположены, следует сначала рассмотреть различные математические возможности. Только совершив это, можно потом исследовать: какая из них имеет место в действительности.
Симонов упрямо тряхнул головой.
- Но чувства наши, наша интуиция... не говорят лет они, что правильна геометрия мудреца Евклида? Не должны ли мы доверять своим глазам?
- Свои глаза показывают нам лошадь, вдали находятцуюся, меньше маленькой собачки, той, которая стоит к нам ближе. Разумно ли в таком случае на свидетельство собственных глаз полагаться?
- Ты не шутишь?
- До шуток ли мне? Принятое в старой геометрии предположение, что сумма трех углов прямолинейного треугольника постоянна и равна двум прямым, не есть необходимое следствие наших понятий о пространстве. Один опыт может подтвердить истину этого предположения, - в этом ты, Ваня, безусловно, прав. И оттого сильнее мое огорчение. Ибо правду ощущаю всем разумом, а вот опытами доказать ничего не могу. Выдвинув свое допущение вместо пятого постулата, я сразу расстался навсегда с евклидовым пространством, ибо в нем допущение такое невозможно.
- Я не понимаю, - пожал плечами Симонов, - зачем зке нужно расставаться нам с евклидовым пространством - таким естественным и понятным, таким привычным еще с гимназических лет? Что может быть проще и удобнее?
- Это лишь кажется... Как постулируется Евклидом пространство? Безграничная, по всем направлениям однообразная пустота. Зияющая пропасть.
- Другого понимания пространства естествознание пока не знает. Сам Ньютон...
- Знаю. Вымысел! - сурово прервал его Лобачевский. - Мнение, что Солнце, удаленное от нас на девяносто два миллиона миль, может действовать на Землю прямо через пустоту, без посредства какой-либо промежуточной среды, мнение такое для меня кажется полным абсурдом.
Лобачевский уже не стоял на месте, он ходил по комнате, временами останавливался перед Симоновым, энергичным взмахом руки подчеркивая свою мысль.
- Пространство существует не само по себе, в своем абсолютном, так сказать, величественном одиночестве. Оно теснейшим образом связано с движущейся материей. После чего в уме пашем не может быть никакого противоречия, когда мы допускаем, что некоторые силы в природе следуют одной, а другие - своей особой геометрии... Да-да, не одна геометрия, с которой мы смирились. Впрочем, пусть это всего лишь чистое предположение, для подтверждения которого надобно поискать других убедительных доводов. Но в том, однако ж, нельзя сомневаться, что силы все производят одни: движение, скорость, массу, время, даже расстояния и углы. С этими силами все находится в тесной связи...
- Минутку, минутку, Николя! - не слушая дальше, перебил Симонов. Хорошо, что напомнил об углах и расстояниях. Если я правильно понял, коренное свойство, которым отличается твое воображаемое пространство от евклидова, - это однозначная связь отрезка и угла, а именно:
чем больше стороны треугольника, тем меньше сумма его углов. Так ведь?
- Так.
- Но это противоречит здравому смыслу, - продолжал Симонов. Противоречит принципу однородности, требующему, чтобы правая и левая части уравнения всегда были величинами или одинаковой размерности, или отвлеченными. В твоем уравнении, связывающем каждый отрезок в пространстве с одним, вполне определенным углом, длина отрезка - величина линейная, ее можно измерять сантиметрами, вершками, а вот угол - отвлеченная величина, устанавливаемая отношением части окружности - дуги - ко всей окружности в целом. Значит, взаимозависимость между углом и отрезком противоестественна...
- Но разве нет в самой природе подобных внешне разнородных связей? воскликнул Лобачевский и сам же ответил: - Некоторые случаи говорят уже в пользу такого мнения: величина притягательной силы, например, выражается массою, разделенной на квадрат расстояния. Для расстояния нуль это выражение, собственно говоря, ничего не представляет. Надо начинать с какого-нибудь большого или малого, но всегда действительного расстояния, и тогда лишь сила появляется. Теперь спрашивается, как же расстояние производит силу эту? Как эта связь между двумя столь разнородными предметами существует в природе?
Вероятно, этого мы не скоро постигнем. Но когда верно, что силы зависят от расстояния, то линии могут быть в зависимости с углами. По крайней мере разнородность в обоих случаях одинакова. Мы познаем одну зависимость из опытов, а другую при недостатке наблюдений должны предполагать умственно либо за пределами видимого мира, либо в тесной сфере сверхмалых протяжений - в мире атома...
Лобачевский говорил, все более увлекаясь. Не замечал он, что Симонов слушал его менее внимательно. Опустившись на стул, тот снова занялся колечками дыма, и губы его временами складывались в почти явную усмешку.
- Н-да, все-таки ты веришь в применение твоей мнимой геометрии хотя бы в далеком будущем, - протянул он, старательно подчеркивая слово "мнимой", и вдруг весело расхохотался. - Так вот почему тебя заинтересовали сказки Лукиана!
Лобачевский, шагая по комнате, остановился так резко, будто наткнулся на препятствие. Губы его вздрагивали, тонкие ноздри трепетали - казалось, он задыхается.
- Довольно. Ты, мой старый друг, принижаешь дело моей жизни. Сказки Лукиана? Да, его "Истинные повести"
указывают на грядущее торжество моей воображаемой геометрии. Гипотеза, еще не имеющая силы воплощения, но уже нашедшая отражение в космосе. Да, я стою как бы на грани нового познания. Мучительная раздвоенность. Во мне встреча настоящего и будущего. Но пока еще в борении...
Оба задумались.
"Как это случилось? - удивлялся Лобачевский. - Друг, самый умный и чуткий человек в университете. И я потерял его"...
"Истинный ученый, - думал Симонов. - Но что говорит он... Это же невозможно слышать из уст геометра. Все неправы, он один прав. Как мог он додуматься? Верит ли сам в это? Вряд ли..."
- Ты... - начал было Симонов, но дверь в столовую открылась, вошла Прасковья Александровна.
- Давайте-ка чай пить, у меня самовар уже два раза убежать собирался.
- Да, вернемся на грешную землю, - с облегчением вздохнул Симонов.
- Вернемся, - кивнул ему Лобачевский.
Разговор для них был столь мучителен, что сейчас им стало немного легче, хотя и понимали оба: возврата к прежнему не будет.
* * *
В России назревали тревожные события.
В первых числах декабря дошли до Казани отголоски ноябрьских вестей, полученных в Петербурге из далекого Приазовья: царь тяжело болен в Таганроге.
"Царь умирает", - шелестела Казань. Вести были не такие, чтобы можно было передавать их свободно: в русской империи смерть самодержца - крупное событие, возможно, изменение всей политики... Но что же об этом известно в самом Петербурге? Уж не скрывают ли там правды? Каждые два-три дня в столицу по распоряжению губернатора неслись верховые и... не возвращались.
Только в середине декабря стало наконец известно: царь Александр Первый умер еще в ноябре, и, поскольку детей у него не было, сенат уже принес присягу брату его, Константину Павловичу. Войска и население так же спешно были приведены к присяге новому царю, как вдруг новый, совсем необычайный слух появился в Казани: Константин Павлович задолго до смерти царя отказался от прав на престол, и наследником стал его младший брат Николай.
Лобачевский пристально следил за этими событиями - еще бы: с новым самодержцем можно было ждать коренных изменений. Уж не подумать ли о представлении "Новых начал" в совет университета? Смена царствования; в такой момент, пожалуй, Магницкому и его приспешникам достаточно будет хлопот и волнений, поэтому "низвержение незыблемых устоев геометрии" может пройти незамеченным.
Но Лобачевский решил не рисковать, ибо хорошо помнил каждое слово из письма попечителя директору Казанского университета:
"Ежели профессор Лобачевский не очувствовался от моего с ним обращения после буйства, перед зерцалом сделанного, и многих нарушений должного почтения к начальству... ежели неуместная и поистине смешная гордость его не дорожит и самою честью его звания, то чем надеетесь Вы вылечить сию болезнь душ слабых, когда единственное от нее лекарство - вера отвергнуто? Невзирая на совершенную уверенность, что не пройдет и года без того, чтобы профессор Лобачевский не сделал нового соблазна своей дерзостью, своеволием и нарушением наших инструкций, я забываю сие дело... За всеми поступками его будет учинен особый надзор".
Зловеще и недвусмысленно. Кто знает, как сложилась бы судьба Лобачевского, если бы не случился неожиданный и плачевный для Магницкого с его компанией оборот событий: министром просвещения был назначен адмирал Шишков. Почва под ногами всемогущего попечителя Казанского учебного округа зашаталась. Неожиданная смерть Александра, "высокого покровителя", довершила его крушение.
Магницкий внезапно появился в Казани. Но как? Незаметно. Где блистательная свита угодников и подлиз? Где волнение и хлопоты в университете? Слух - и совершенно правдивый - немедленно разнесся по городу: Магницкий, высланный из Петербурга, доставлен в Казань офицером фельдъегерской службы.
Лобачевскому сообщил об этом бывший ректор, изгнанный из университета в свое время тем же Магницким, ныне казанский губернский прокурор, Гавриил Ильич Солпцев. Они сидели в кабинете прокурора: Солнцев пригласил Николая Ивановича, пообещав рассказать кое-что интересное. "Только не для всех ушей, - добавил он лукаво. - Садитесь поудобней. Вам сигару или трубку? Да, привезли раба божьего, песенка его, видно, спета".
- Неожиданно, что и говорить, - продолжал Гавриил Ильич, предварительно удостоверившись, что их беседа никем не подслушивается. - Однако, Николай Иванович, под наистрожайшим секретом сообщу вам о более поразительных событиях. - Проворно вскочив, он опять открыл дверь, заглянул в коридор и вернулся к своему креслу. - В Петербурге восстание, - шепнул, наклонившись к Лобачевскому. - Царь Николай Павлович назначил, как бы это выразить, переприсягу, новую присягу, ему самому. На четырнадцатое декабря. Представляете? Присяга Константину - раз. Присяга Николаю - два. Так? А между присягами что? Междуцарствование, милостивый государь. Да-с.
Офицеры тайного общества, именуемого Северным, решили воспользоваться этим. Намерены были в день присяги силами воинских частей гарнизона Петербургского свергнуть монаршую власть, освободить крестьян от крепостного состояния и Россию сделать республикой. Однако же, - тут Солнцев, откинувшись в кресле, строго посмотрел на Лобачевского и сделал паузу. - Однако же, - повторил он раздельно, - верные трону войска тотчас окружили восставших и, стреляя по ним из орудий, принудили к сдаче...
Невероятно! Немыслимо!
Лобачевский сидел неподвижно, крепко сжимая руками подлокотники мягкого кресла.
- Сенатская площадь, набережная Невы, прилегающие улицы трупами покрыты были, трупами, - продолжал рассказывать Солнцев. - Теперь еще казни будут. Инструкции самые строгие. Новый государь характером крут, ограничения власти не потерпит, не то что... Ухо надо держать востро, а язык на привязи... Вам, Николай Иванович, сообщил доверительно. Все. Давайте о другом побеседуем.
- А за что Магницкий выслан? - поинтересовался Лобачевский.
- Ну, как же! - воскликнул Солнцев. - Хитер, хитер, а просчитался. Да еще как! Поторопился! Будущему царю Константину послание направил, самое верноподданническое. И докладную записку, в которой о персоне великого князя Николая Павловича отозвался весьма пренебрежительно. А записка-то попала не по адресу - как раз Николаю, в его собственные руки. - Солнцев захохотал так заразительно, что и Лобачевский не стерпел - засмеялся. Результат известен. Магницкий выслан, и уже приказано срочно произвести ревизию, проверку его деятельности, а также состояния, в которое привел он Казанский университет. Следствие поручено вести отставному генерал-майору Желтухину и... - Гавриил Ильич поклонился, - вашему покорному слуге...
Через полчаса Лобачевский был дома, в своем кабинете. Мерные шаги его из угла в угол слышались до глубокой ночи. Потом он присел к столу, и в памятной тетради его появилась короткая запись:
"Да, счастливейшие дни России впереди. Мы видели зарю, их предвестницу..."
А пока, спустя неделю, в газетах было напечатано сообщение о событиях четырнадцатого декабря. В нем говорилось:
"Виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость... Праведный суд вскоре свершится над преступными участниками бывших беспорядков"...
Однако "беспорядки" продолжались. На юге восстал Черниговский полк; душа и организатор восстания - Сергей Муравьев-Апостол был захвачен только тяжелораненым. Ближе к весне Лобачевский узнал и другие имена "государственных преступников".
Он то и дело шептал могучие строки Рылеева:
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителен народа.
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Он спрашивал себя: не с них ли следует взять пример?
У пего своя дорога, нелегкая, но пора и ему начать действовать. Пора представить дело своей жизни, свою новую геометрию на суд ученых.
И Лобачевский пишет:
"В Отделение физико-математических наук.
Препровождаю сочинение мое под названием "Exposition succinte des principes de la Geometrie avec une demonstration rigoureuse du theoreme des paralleles" ["Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных линиях"].
Желаю знать мнение о сем ученых, моих сотоварищей, и если оно будет выгодно, то прошу покорнейше представленное мною сочинение принять в составление ученых записок физико-математического отделения, в каком намерении я и предпочел писать на французском языке, так как предполагалось записки издавать на сем языке, сделавшемся ныне общим между учеными.
Профессор Н. Лобачевский.
Казань. 1826 года, февраля 6".
* * *
Лобачевский должен был читать свой доклад на расширенном заседании факультета в полдень одиннадцатого февраля. День выдался вьюжный, сумрачный. В математической аудитории зажгли свечи.
Николай Иванович пришел пораньше, за четверть часа, но в первом ряду, возле кафедры, уже сидели пять или шесть профессоров. Среди них - ректор Фукс. Посмеиваясь, он оживленно рассказывал что-то по-немецки своему соседу, адъюнкт-профессору Хальфину. Судя по словам, какие донеслись до Лобачевского, темой разговора была не геометрия, а какая-то романтическая история.
Лобачевский поклонился. Ректор ответил вежливо, не прерывая рассказа. Хальфин приложил правую ладонь к груди, кивком головы указав место рядом.
Показался и новый декан факультета прЪфессор Симонов. Прижимая локтем папку, шел он к председательскому столу, со всеми здоровался, улыбался каждому. За ним вошли его постоянные советники - физик профессор Купфер и математик Брашман. Зал наполнился народом.
Вот наконец вошел и секретарь отделения, адъюнкт Петр Михайлович Васильев; на ходу бормоча извинения, оп поспешил к своему столику. Симонов, недовольно покачав головой, открывает заседание и предоставляет слово докладчику.
"Держитесь, друг", - шепчет Хальфин.
Лобачевский поднялся на кафедру и поправил густые волосы. Говорить начал он спокойно, когда же услышал шуршание бумаги на председательском столе, остановился и взглянул на Симонова. Тот рисовал карандашом какие-то фигурки. Очнувшись, он посмотрел на докладчика и быстро перевернул свой рисунок. В этот момент раскрылась дверь и показался профессор философии Сергеев, фаворит Магницкого. Поглаживая длинную черную бороду, он остановился в раздумье: заходить или нет. Но кто-то услужливо предложил ему свой стул; грузно шагая и не заботясь о шуме, который вызвало его появление, профессор пересек зал и сел на другой свободный стул возле Кондырева.
- Господа, - повысил голос Лобачевский, - трудность понятий увеличивается по мере их приближения к начальным истинам в природе; так же, как возрастает она в другом направлении, к той границе, куда стремится ум за новыми познаниями...
Он посмотрел на слушателей, надеясь увидеть пытливые заинтересованные взгляды. Но их не было. Ученые рассеянно смотрели по сторонам, а те, немногие, кто глядел на докладчика, ухмылялись: "Ну, ну, послушаем, что же ты намудрил там"...
Лобачевский продолжал:
- В геометрии нашел я несовершенства, которые причиной того, что эта наука до сих пор не вышла ни на шаг за пределы того состояния, в каком она перешла к нам от Евклида. К этим несовершенствам отношу я неясность в первых понятиях о геометрических величинах, способы, которыми представляем измерение величин, и, наконец, важный пробел в теории параллельных линий, восполнение коего математиками было тщетным... Здесь намерен я изъяснить, каким образом думаю пополнить такие пропуски в геометрии. Изложение всех моих исследований в надлежащей связи потребовало бы слишком много места и представления совершенно в новом виде всей науки [Английский геометр Клиффорд писал впоследствии: "...чем Коперник был для Птолемея, тем Лобачевский - для Евклида.
Между Коперником и Лобачевским существует любопытная параллель. Коперник и Лобачевский - оба славяне по происхождению. Каждый из них произвел революцию в научных идеях, воззрениях, и обе эти революции имеют одно и то же значение.
Причина их громадного значения заключается в том, что они суть революции в нашем понимании космоса".[lobach05.gif То есть не имея возможности доказать это в пределах самой геометрии].
Последние слова докладчика наконец-то растормошили сонный зал: все насторожились. Как? В столь тревожное время решиться на такой отчаянный шаг - попытаться разрушить основы установленного порядка? Профессор Сергеев даже крякнул от удивления.
- Чтобы не утомлять вас, господа, - продолжал тем временем Лобачевский, - множеством таких предложений, коих доказательства не представляют затруднений, я привожу здесь только те из них, знание которых необходимо для последующего...
К несовершенству в теории параллельных надобно было причислять определение самой параллельности. Однако ж несовершенство нисколько не зависело, как подозревал еще Лежандр, от недостатка в определении прямой линии, ни даже от тех недостатков, прибавлю, которые скрывались в первых понятиях. Дело в том, что Евклид, не будучи в состоянии дать удовлетворительное доказательство, допускал в употребительной геометрии тот частный случай, когда две параллельные должны быть вместе перпендикулярами к одной прямой. Однако наука не может быть произвольным следствием одного частного случая! - убежденно заявил докладчик. - Поэтому должна существовать общая геометрическая система с полной теорией параллельных...
Тут Лобачевский сошел с кафедры и, подойдя к черной доске, взял остро заточенный кусок мела.
- Все прямые линии, - говорил он, и линии словно сами ложились на доску под его искусной рукой, - выходящие в некоторой плоскости из одной точки, могут быть по отношению к некоторой заданной прямой той же плоскости разделены на два класса, именно на пересекающие ее и непересекающие. Граничная линия одного и другого класса этих линий называется параллельной заданной линии.
lobach04.gif
Из точки А опустим на прямую В С перпендикуляр AD, к которому, в свою очередь, восставим перпендикуляр АЕ.
В прямом угле EAD линии, выходящие из точки А, либо все встречают прямую DC, как, например, AF, либо же некоторые, подобно перпендикуляру АЕ, не встречают DC.
[Это допущение Лобачевского может показаться невероятным.
"Попробуйте продолжить прямые ДС и АН, они пересекутся тут же на листке бумаги!" - скажет читатель. Да, пересекутся на обычной (привычной нам) евклидовой плоскости. Но, выдвинув свой постулат, Лобачевский тем самым открыл существование пространства с другими свойствами. "Плоскость" в этом новом, неекклидовом пространстве вовсе не плоская. У нее есть кривизна.
Да, кривизна, ибо само пространство Лобачевского обладает кривизной. В частном - предельном случае, когда радиус кривизны становится равным бесконечности, пространство Лобачевского переходит в "плоское" (нулевой кривизны) пространство Евклида.
Следовательно, геометрия последнего есть лишь частный (предельный) случай геометрии Лобачевского.
Только недавно, спустя почти полтора столетия после открытия неевклидовой геометрии, на основе общей теории относительности Эйнштейна, астрономия установила, что реальное пространство Вселенной действительно обладает кривизной и его геометрия отлична от евклидовой. Величина радиуса кривизны космического пространства оказывается переменной, принимающей различные значения в зависимости от структуры полей тяготения тех или иных его участков.
Таким образом, начерченные на листке бумаги (то есть в евклидовой плоскости) параллельные Лобачевского имеют чисто условный вид, и поэтому, конечно, они пересекутся.
Чтобы не нарушить интуиции, выработанной евклидовой геометрией, можем изобразить указанный чертеж в несколько ином виде.] He зная, есть ли перпендикуляр АЕ единственная прямая, которая не встречается с DC, будем считать возможным, что существуют и другие линии, например AG, которые не встречаются с DC, сколько бы мы их ни продолжали. При переходе от пересекающих линии AF к непересекающим AG мы должны встретить линии АН параллельную DC2, - граничную линию, - по одну сторону которой ни одна линия AG не встречает DC, между тем как по другую сторону каждая линия AF пересекает линию DC. Угол HAD между параллелью АН и перпендикуляром AD называется углом параллельности; мы будем здесь обозначать его через П(Р) при AD = p [Это обозначение основано на том, что величина угла параллельности непостоянна: она меняется в зависимости от длины перпендикуляра АД. Когда длина перпендикуляра, уменьшаясь, стремится к нулю, угол параллельности, возрастая, стремится к 90°, а когда перпендикуляр уходит в бесконечность, этот угол становится равным нулю. Следовательно, в геометрии Лобачевского имеет место взаимозависимость угла и отрезка, что представляет самый существенный момент.].
Если П(р) есть прямой угол [То есть в случае геометрии Евклида], то продолжение АЕ' перпендикуляра АЕ также будет параллельно продолжению DB линии DC. Кроме параллели ЕЕ', все другие прямые при достаточном продолжении в обе стороны должны пересекать линию В С.
Если П(р) " 1/2 п [То есть в случае неевклидовой геометрии], то по другую сторону перпендикуляра AD под тем же углом DAK=П(Р) будет проходить еще одна линия А К, параллельная продолжению DB линии DC; таким образом, при этом допущении мы должны отличать еще сторону параллельности [Иными словами, прямая АН считается параллельной прямой ВС в сторону ДС, а прямая АК - параллельной той же прямой в сторону ДВ. Это получает еще более точное выражение, если говорить только о лучах, а не прямых: луч АН параллелен лучу ВС, а луч АК параллелен лучу С В; вместе с тем через точку А, лежащую вне луча ВС, во всяком случае (то есть как в евклидовой, так в неевклидовой геометриях) проходит один и только один параллельный ему луч AH]...
Сообразно этому при предположении П(р)= 1/2П линии могут быть только пересекающими или параллельными; если же принять, что П(Р)" 1/2П , то нужно допустить две параллели, одну по одну сторону перпендикуляра, другую по другую его сторону; кроме того, между остальными линиями нужно различать пересекающие и непересекающие: нк; при одном, так и при другом предположении признаком параллелизма служит то, что линия становится пересекающей при малейшем отклонении в ту сторону, где лежит параллель; таким образом, если АН параллельна DC, то каждая линия AF, сколь бы мал ни был угол HAF, пересекает ДС... Параллельность уже рассматривается во всей обширности [Таким образом, Лобачевский изменил само понимание параллелизма. Параллельными линиями Евклид называет такие, которые находятся в одной плоскости и, при неограниченном продолжении их, не пересекаются. Получается, что непересекающиеся и параллельные - одно и то же. Не так у Лобачевского. Из всех непересекающих данную прямую он выбирает лишь две крайне прямые линии и называет их параллельными. Все остальные прямые не пересекающие данную, он не считает параллельными данной (в настоящее время в математической литературе их обычно называют сверхпараллельными или расходящимися).
Аксиома параллельных Лобачевского в связи с этим получает уточнение и может быть сформулирована: если дана прямая ВС и не лежащая на ней точка А, то через точку А в плоскости ABC можно провести две прямые, параллельные данной прямой СВ (на чертеже это - прямые АН и АН; прямая ЕЕ' - евклидова параллель)] и служит основанием геометрии в самом общем виде, которой я дал название "Воображаемой геометрии".
Последние два слова, сказанные отчетливо, прозвучали как вызов. Лобачевский умолк и пристально всмотрелся в лица слушателей. Выражение этих лиц не обещало хорошего. Симонов явно скучал, развлекаясь обломком гусиного пера как зубочисткой. Никольский усиленно кивал головой и пожимал плечами, стремясь выразить согласие с чем-то, что нашептывал ему Брашман. Фукс, опираясь руками на широко расставленные колени, думал о чем-то своем, даже не стараясь прислушаться к докладу. Профессор химии Дунаев, небрежно перевалившись, что-то нашептывал сидевшему рядом розовощекому Купферу.
Николаю Ивановичу вдруг вспомнилась поговорка Дунаева, с которой начинал он обычно свой курс лекций по химии: "Алхимия, господа, есть мать химии. Дочь не виновата, что мать ее глуповата..."
Вот сейчас, в эту минуту, рождается новая наука. Но мать ее не глупая и невежественная алхимия, а мудрая геометрия, давно покорившая весь мир, царствующая в нем более двух тысячелетий. И все-таки "Воображаемая геометрия" дерзает встать рядом с матерью, а завтра, может быть, скажет, что и переросла ее. Завтра...
Но пока что Лобачевский, создатель этой новой геометрии, видел с кафедры лишь холодные недоверчивые взгляды сидящих перед ним людей - тех, кто его слушал: физиков, математиков, астрономов, философов.
А говорил он вещи, которые на самом деле странно было в то время услышать из уст ученого. Сумма углов треугольника всегда меньше двух прямых, утверждал он, причем, по мере бесконечного возрастания всех сторон треугольника, эта сумма стремится к нулю. Попробуйте представить себе треугольник, сумма углов которого ничему не равна! Подобных треугольников, как и вообще подобных фигур, существовать не может. В этой геометрии отсутствуют точные прямоугольники, даже квадраты...
- Да что ж это, Николай Иванович? - вскочил Никольский. - Государи мои! - обратился он к окружающим. - Я понимать отказываюсь.
- Нечего возмущаться, Григорий Борисович, - с иронией заметил Сергеев, - успокойтесь. Ведь геометрия уважаемого Николая Ивановича всего лишь воображаемая!
Чего только не может представить нам воображение, особливо горячее! Почему бы не вообразить, например, черное белым, круглое четырехугольным.
В зале засмеялись.
- Григорий Борисович!.. Петр Сергеевич! - Ударом кулака по столу Симонов призвал их к порядку. - Господа, свое суждение о новой геометрии будете высказывать после.. Прошу! - он обернулся к Николаю Ивановичу.
Лобачевский стиснул челюсти так, что виски побелели.
Он понял: продолжать не следует. Глухая, непробиваемая стена стояла между ним и людьми, сидящими в этом сумрачном зале. Никто не понимал его и не хотел понять.
Слова о необычайном и сложном, почти фантастическом строении мира, эти слова, сказанные впервые на земле, были обращены к глухим. И что удивительно, среди коллег никому в данную минуту не пришла в голову простая мысль: ведь Лобачевский истинный математик - это всем известно и всеми признано; а раз так, может быть, и то, что сейчас он говорил им звонким от волнения голосом, вовсе не является бредом? Возможно, в этом есть какой-то ими еще не понятый смысл, и об этом стоит подумать?
- Я сказал все, господин председатель, - произнес Лобачевский, и голос его прозвучал сурово.
Симонов на какую-то секунду растерялся, не зная, что предпринять.
- Та-а-акс, - протянул он. - Господа, кто бы хотел высказать свои соображения?
Ответом было гнетущее молчание. Сидели, потупив глаза: боялся каждый, как бы не встретиться взглядом с Лобачевским.
- Господа! - снова заговорил Симонов. - Полагаю нужным составить комиссию, коей и перепоручить глубокое изучение доклада уважаемого Николая Ивановича.
Это предложение сразу же поддержал ректор.
- Полагаю то же, - сказал он, - и предлагаю в оную комиссию Ивана Михайловича, Александра Яковлевича и Николая Дмитриевича.
Так и решили: Симонову, Купферу и Брашману рассмотреть "Сжатое изложение начал" и представить отзыв о нем отделению.
Лобачевский, ни с кем не прощаясь, направился к выходу Никто не сделал попытки задержать его. Вскоре, одевпшсь и выйдя на улицу, он почувствовал себя совсем опустошенным. Только тупая боль где-то глубоко в сердце напоминала, что свершилось нечто ужасное.
Вьюга все еще бушевала.
Снег снег вокруг... Исчезали и выплывали снова быстролетные кони с развевающимися по ветру длинными гривами с отчаянно заливистым звоном бубенцов.
Придерживая руками шапку, чтобы ветер не сорвал ее с головы Лобачевский долго смотрел на проносившиеся мимо тройки, слушал звон бубенцов, и казалось ему, что вон там, исчезая в снежной пыли, проносятся перед ним его детство и юность... Вспомнился Нижний... Сергеи Степанович дома, в окружении ребят. "Вам, дорогие, предстоит укротить и запрячь природу, как горячего коня, для службы человечеству, - говорит он с увлечением.- Тогда лишь тот кто сейчас беден и слаб, станет богатым и сильным Все это вам даст наука. И прежде всего математика, развитие которой тесно связано с процветанием государСТВИ снова это щемящее чувство: "Ничего не поняли! Неужели все провалилось? Неужели новая геометрия останется без отклика? Неужели столько лет затрачено впустую?
"Да нет же! - уговаривал он себя. - Воображаемая геометрия опередила свое время. Только надо прояснить ее и сделать понятной каждому..."
Пересекая улицу, Лобачевский увидел на дороге подкову: она лежала шипами кверху, стало быть, к счастью!
И до блеска натертая, сияла в снегу. Серебряная.
"Геометрия! - вспомнил он полузабытые строчки давно им задуманного стихотворения. - Из твоего вечно цветущего сада, подобно пчеле, буду мед собирать своему народу! Лишь только в тебе я найду свое счастье".
Лобачевский медленно шел навстречу ветру, окутанный вихрем снежинок, похожих на рой белых пчел. Когда буран разыгрался, он прибавил шагу: впереди сквозь 6V лесые космы вьюги в саду светилось покрытое черной сеткой метущихся ветвей окно его рабочего кабинета.
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА.
(Эпилог)
"Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней в красном поле изображены шестиугольная из двух золотых треугольников составленная звезда и летящая вверх пчела, а в нижней в голубом поле стрела и серебряная подкова, шипами вверх обращенная. Щит увенчан дворянским шлемом и короною с тремя на оной страусовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенный золотом".
(Описание фамильного герба Н. И. Лобачевского в жалованной грамоте, выданной ему на дворянское достоинство 29 апреля 1838 года, за успехи по службе и выдающиеся заслуги в науке.)


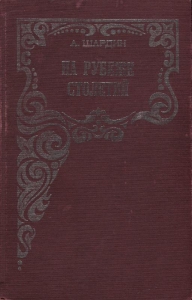

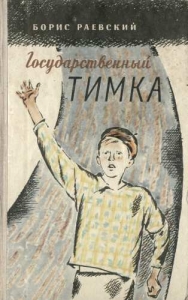


Комментарии к книге «Серебряная подкова», Джавад Тарджеманов
Всего 0 комментариев